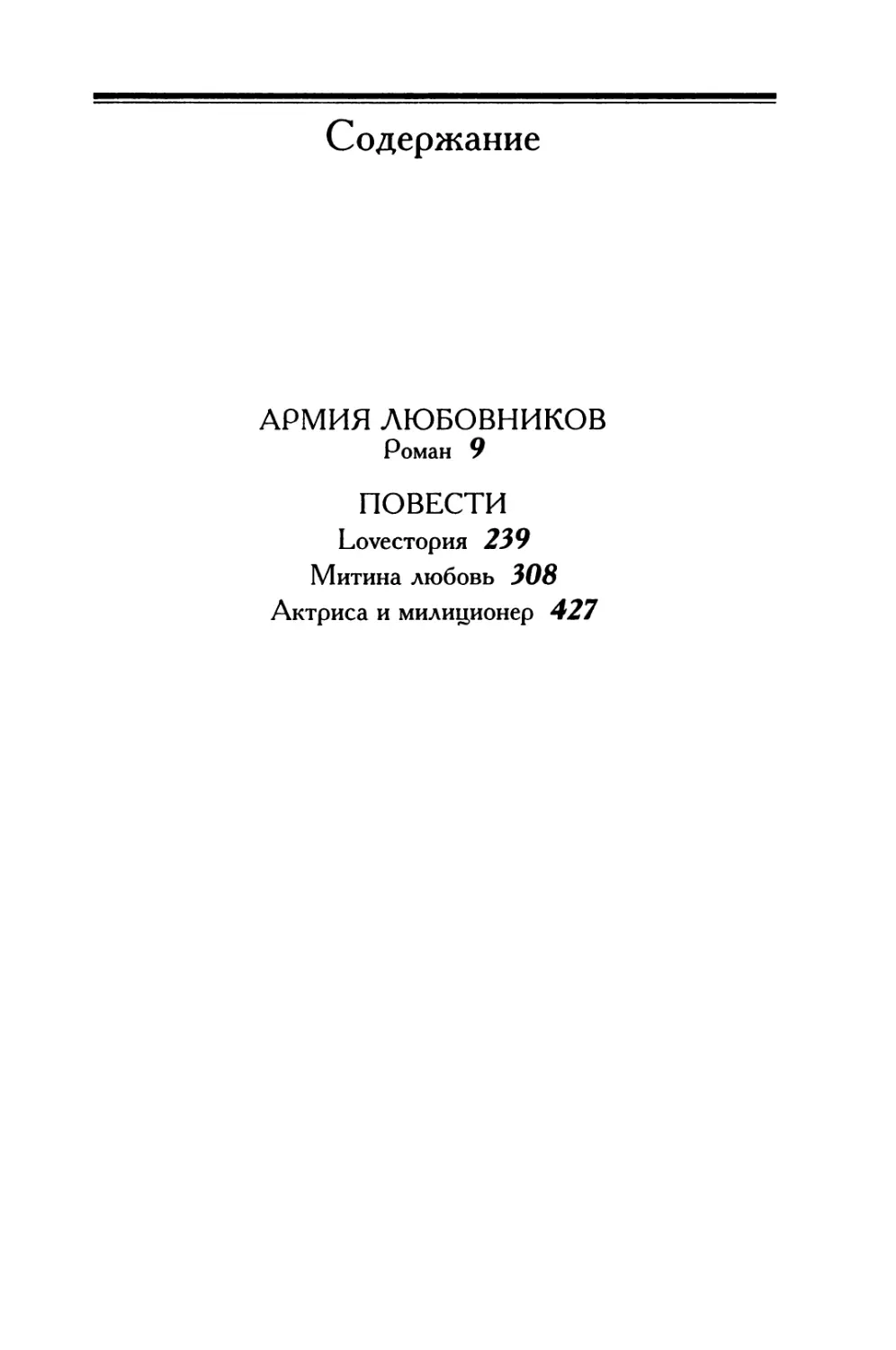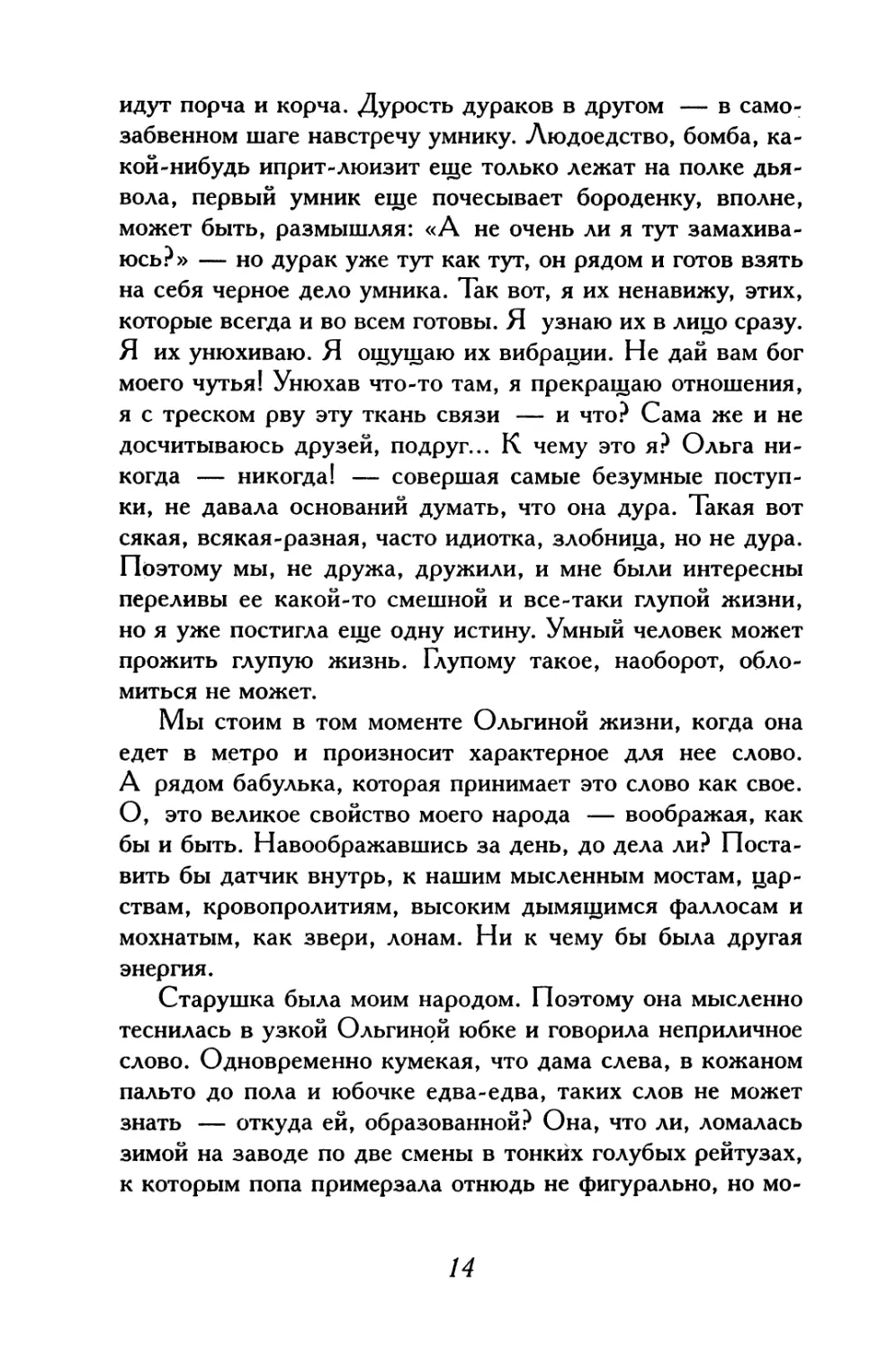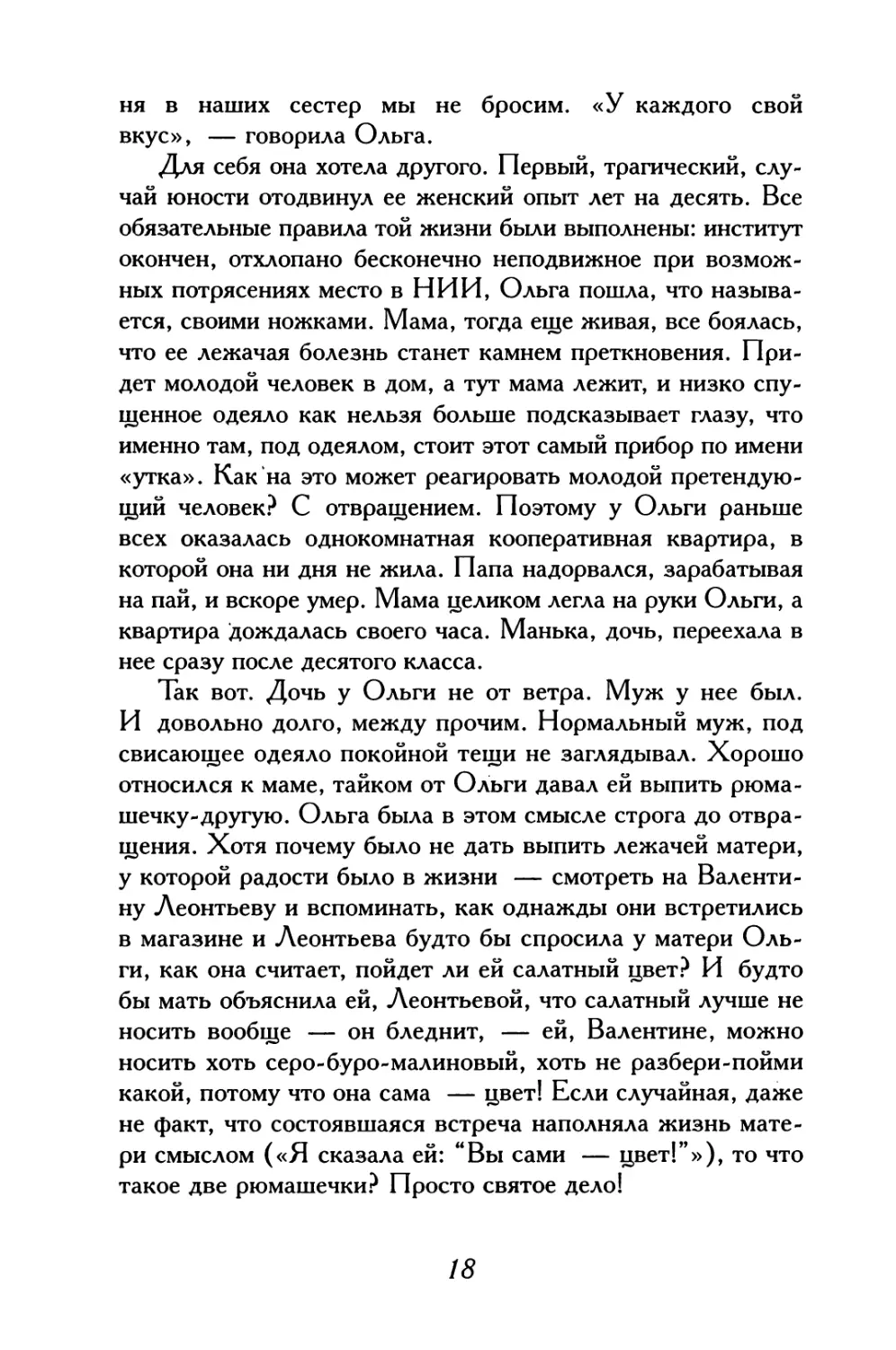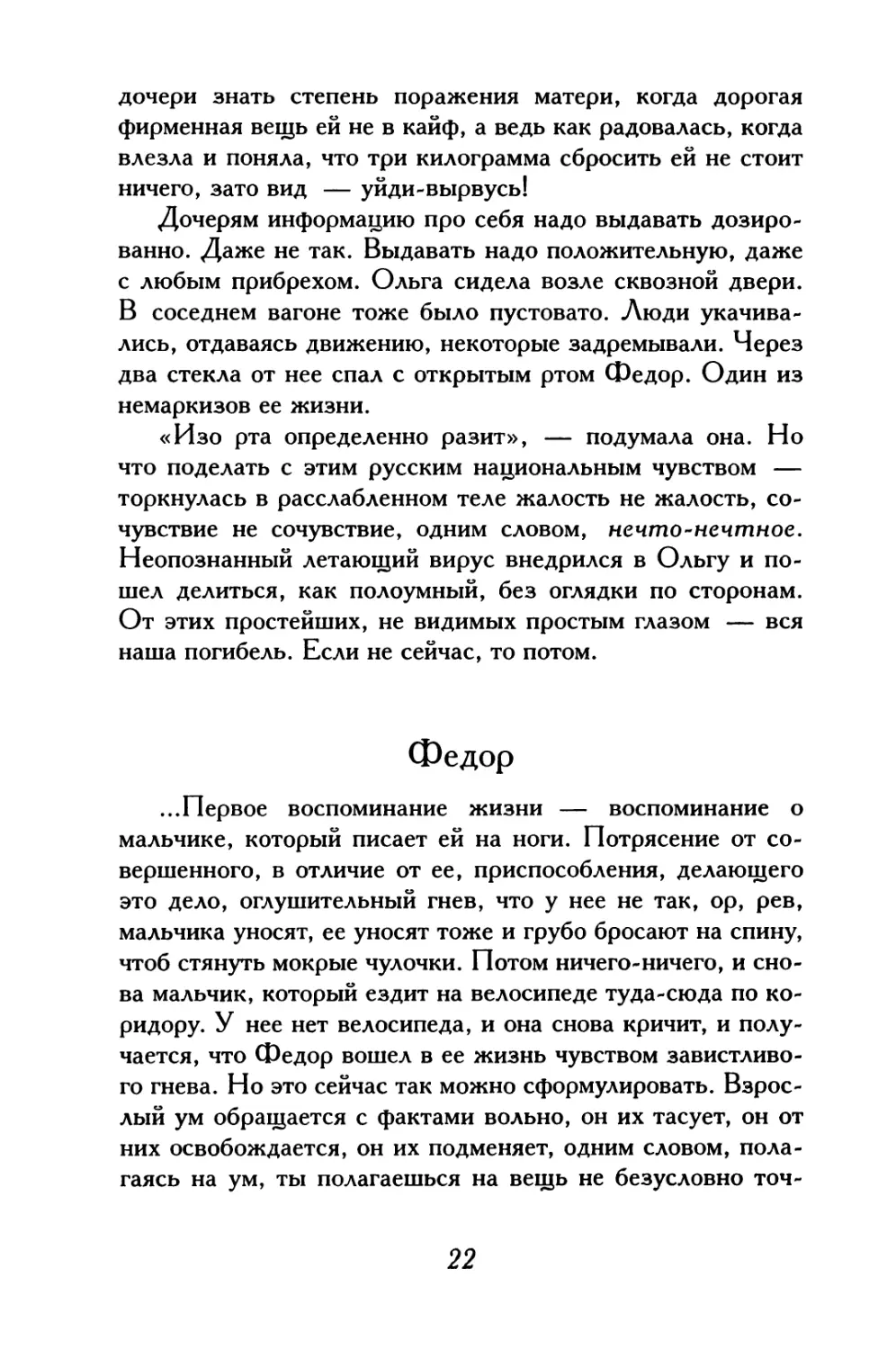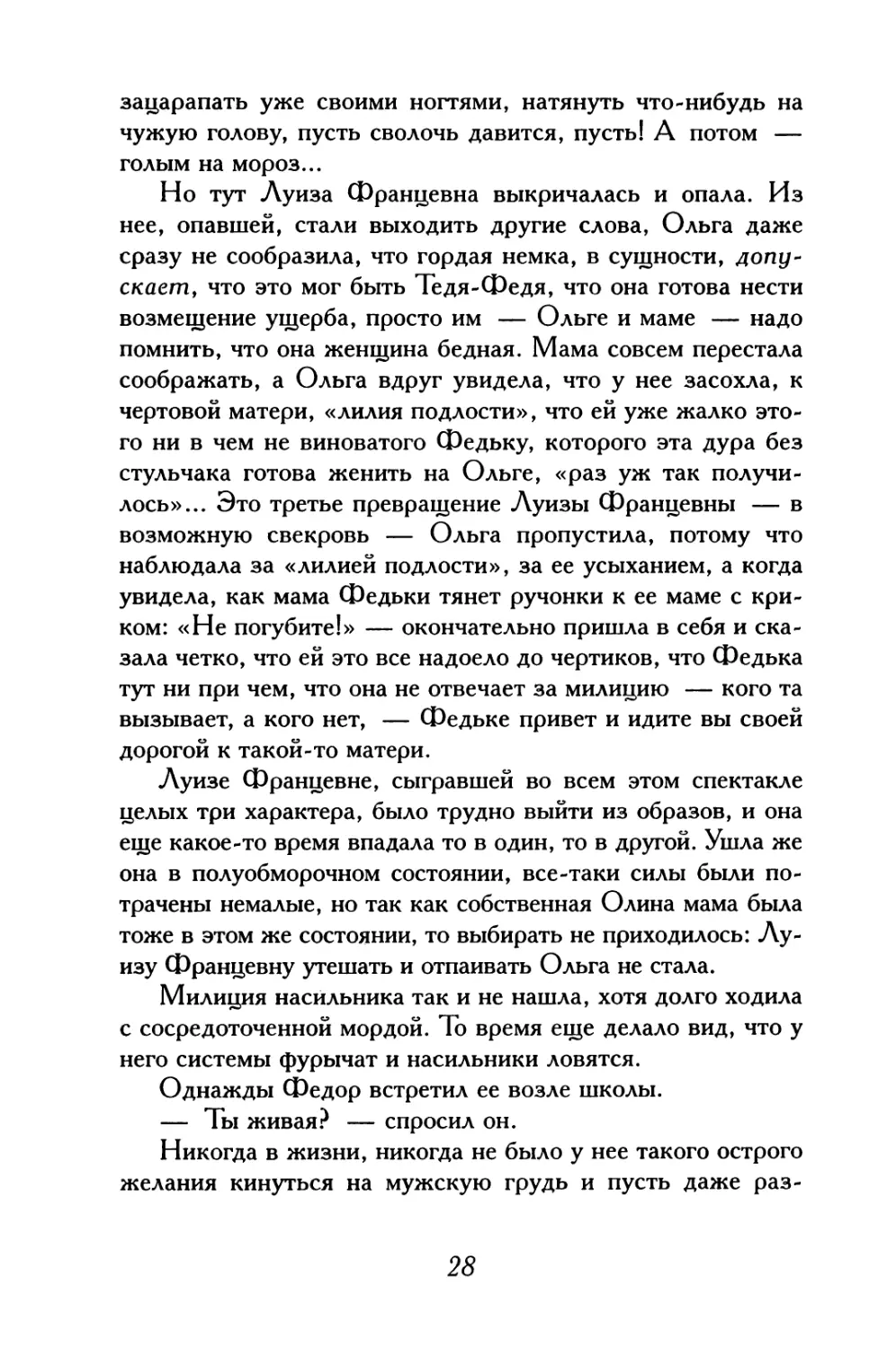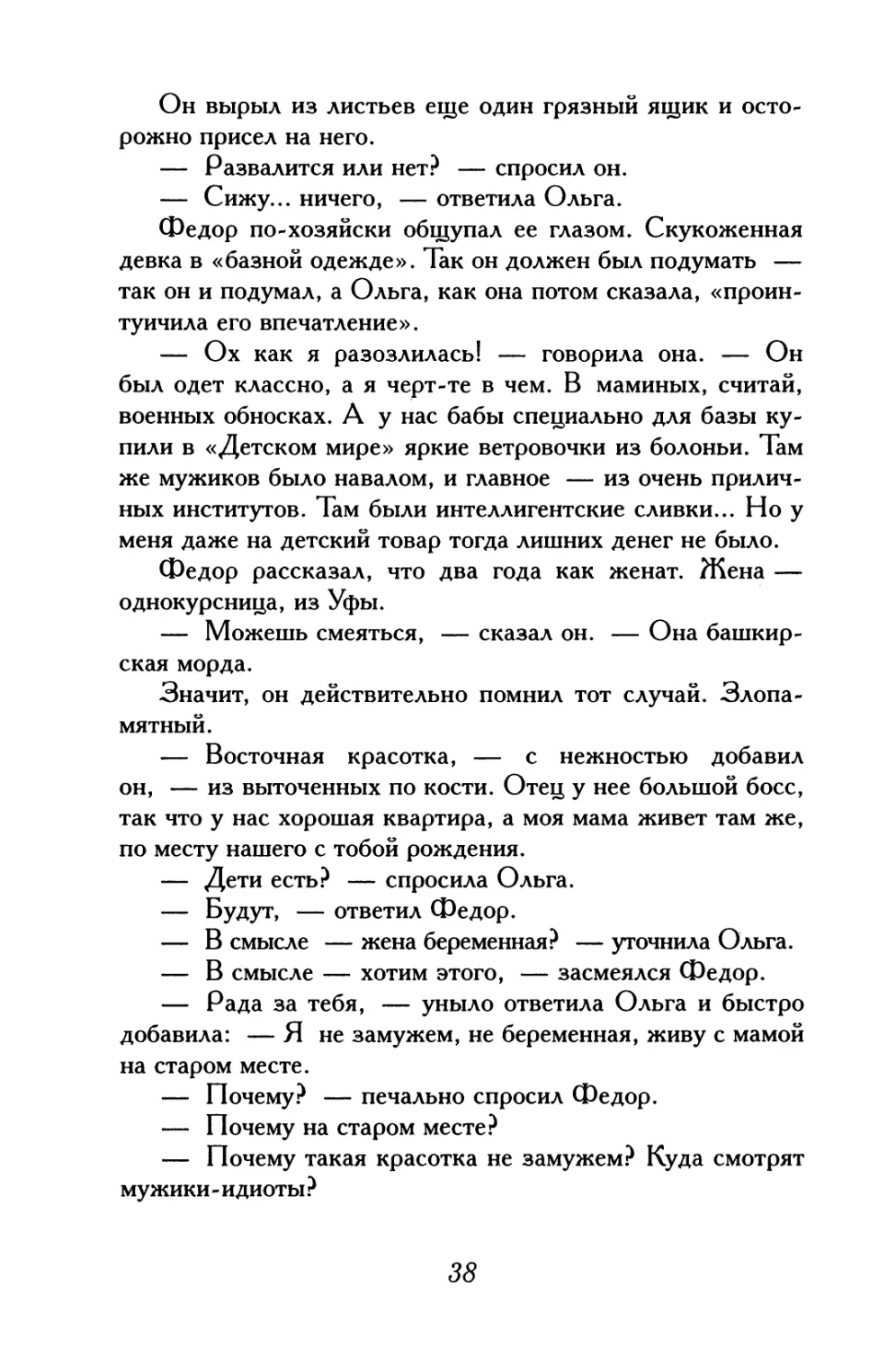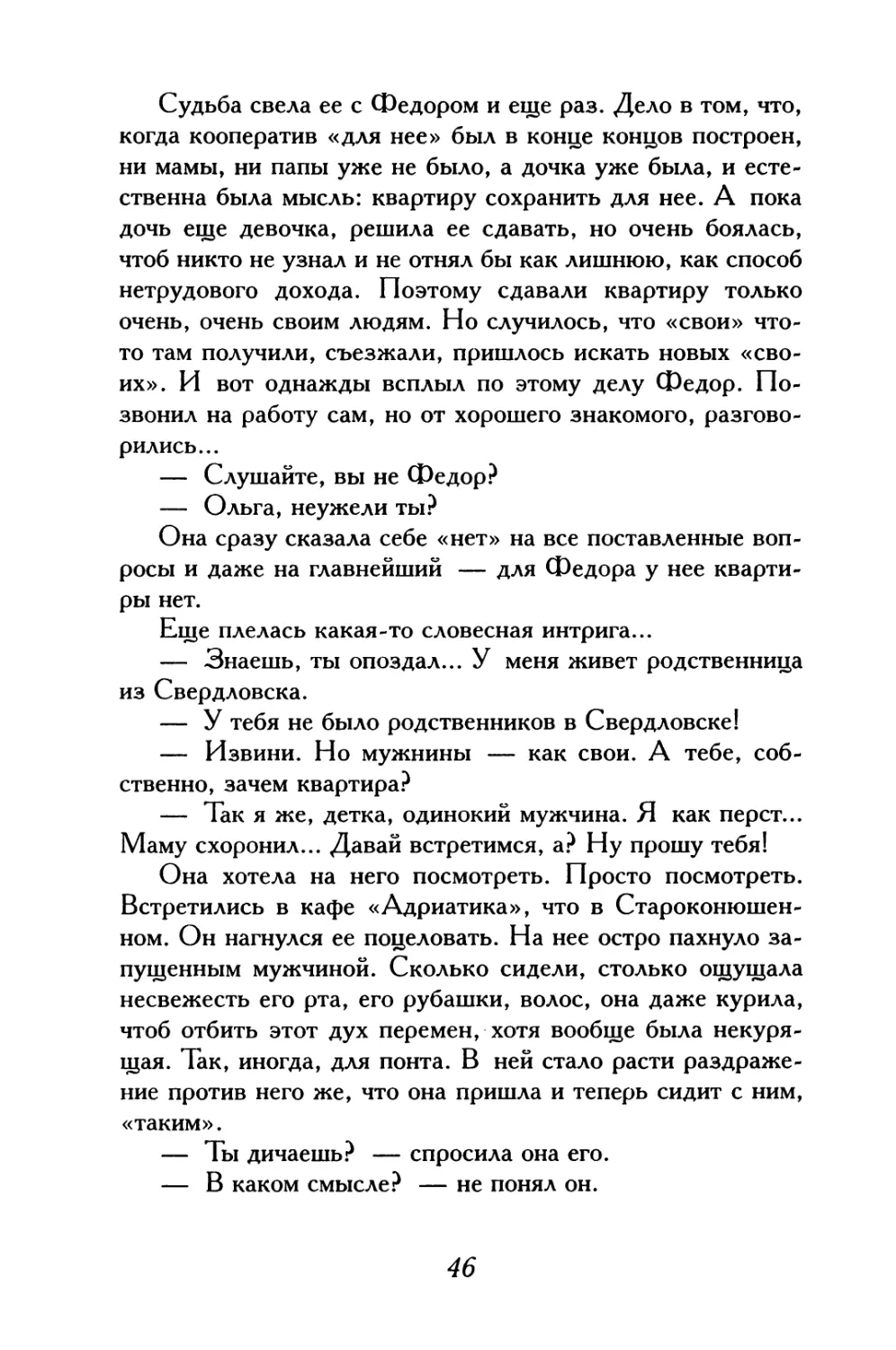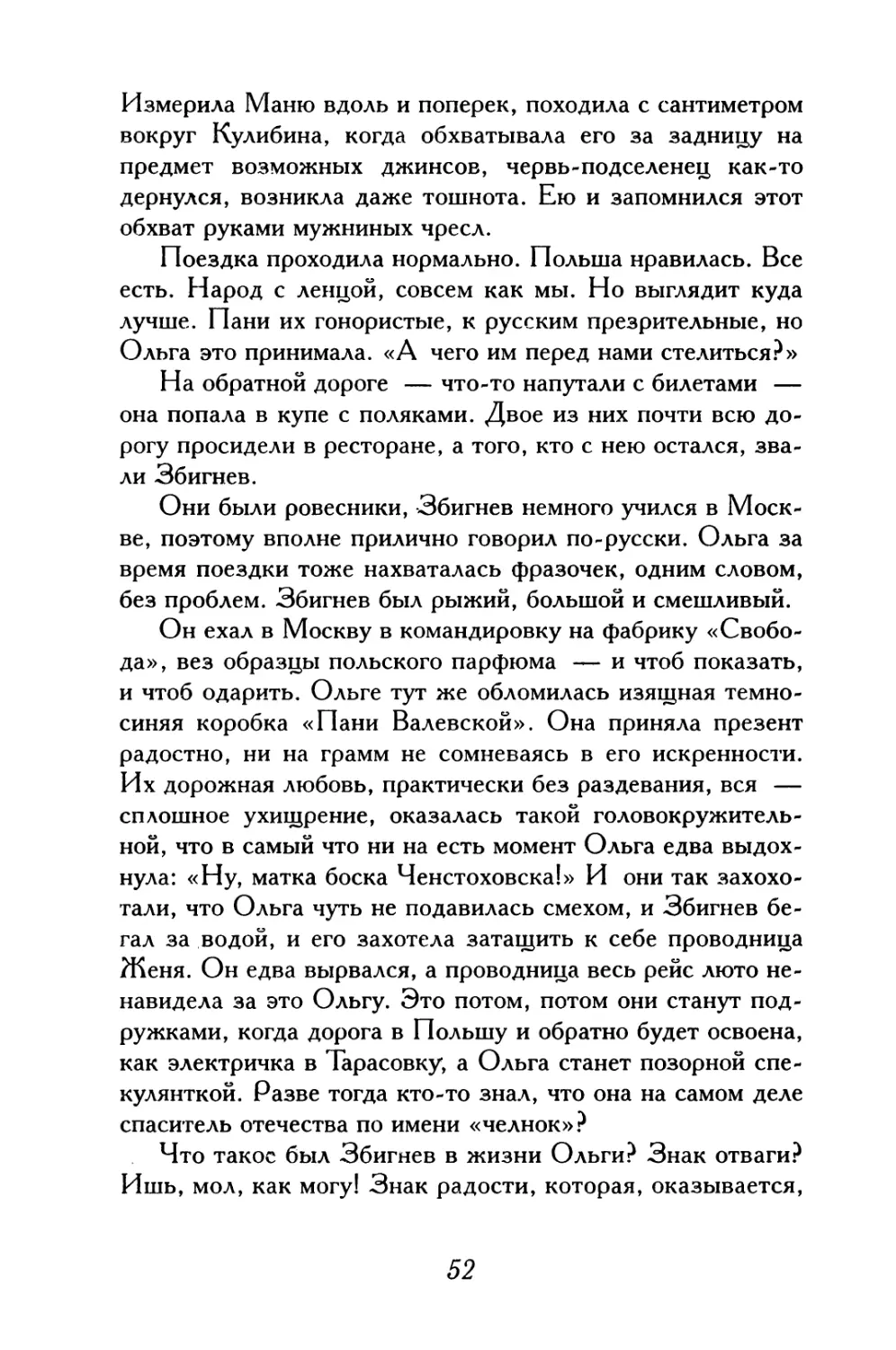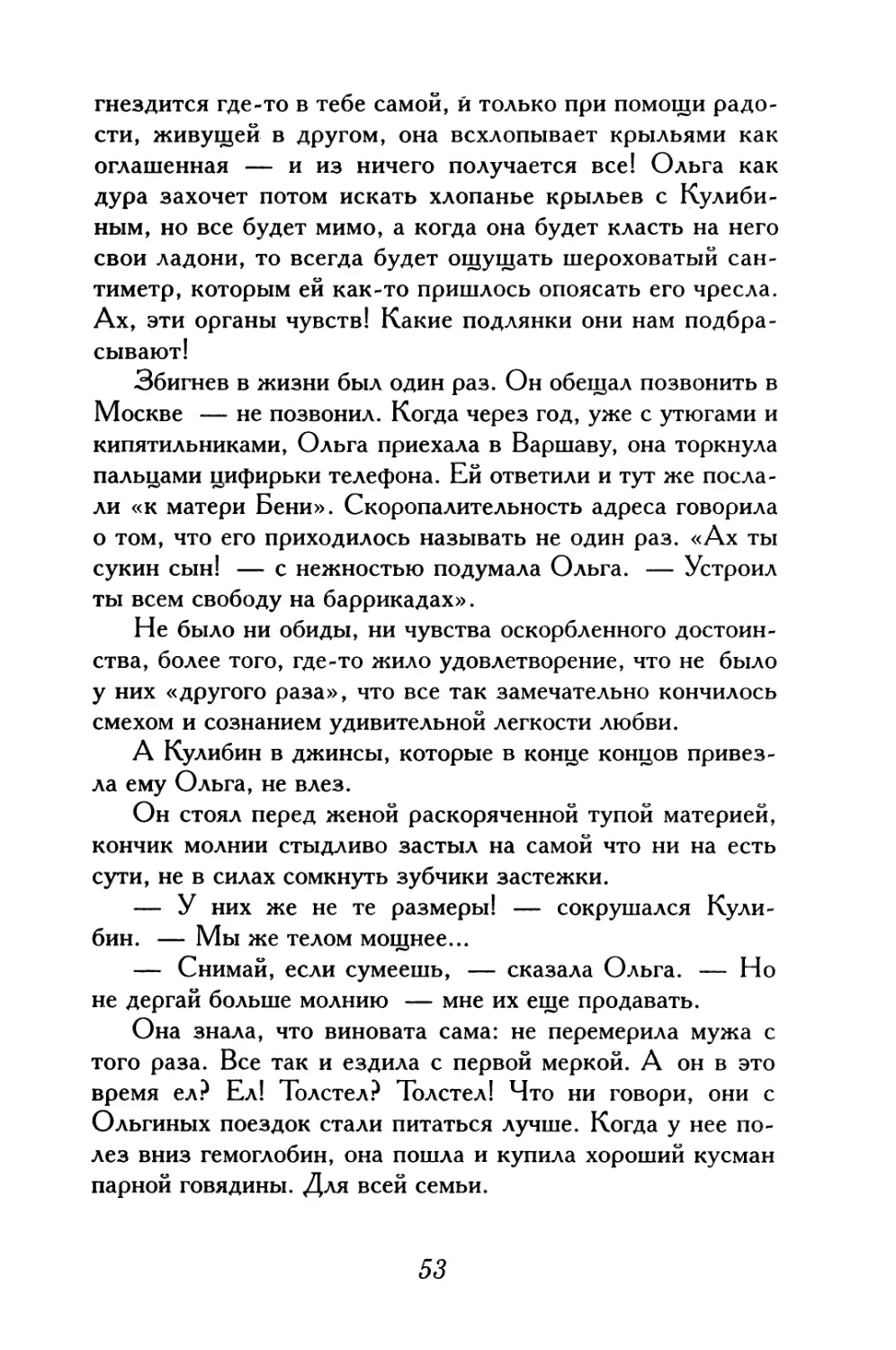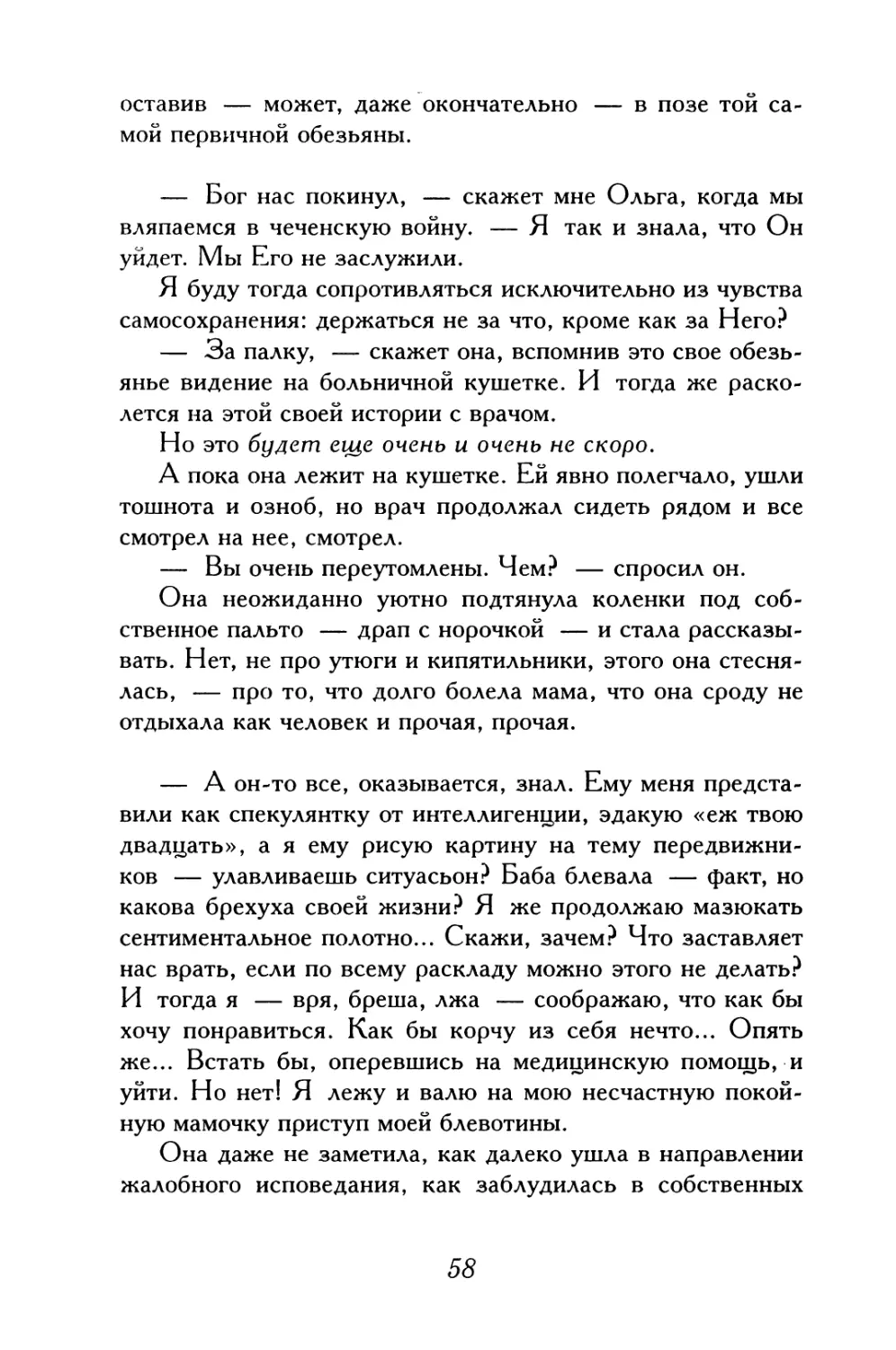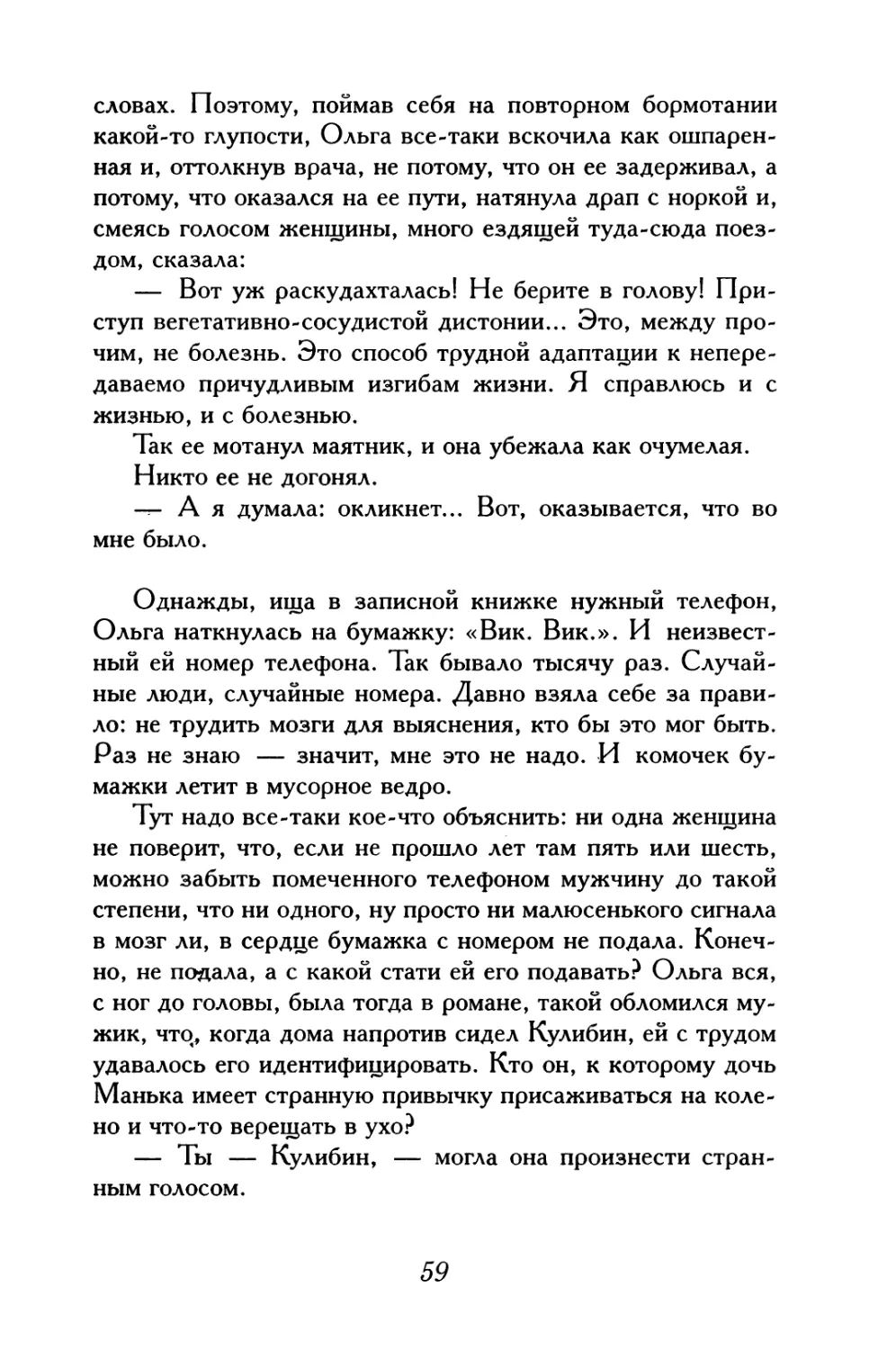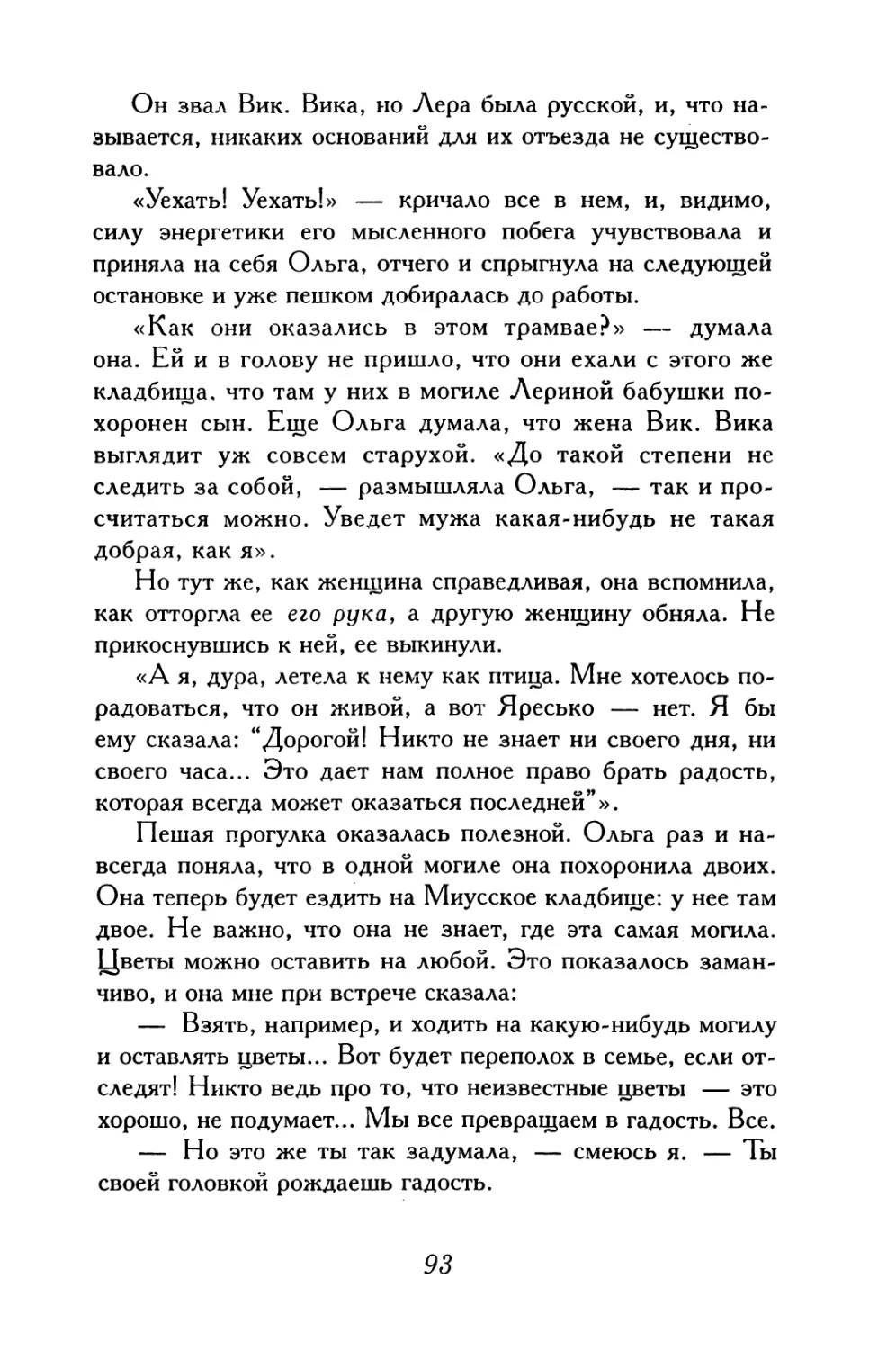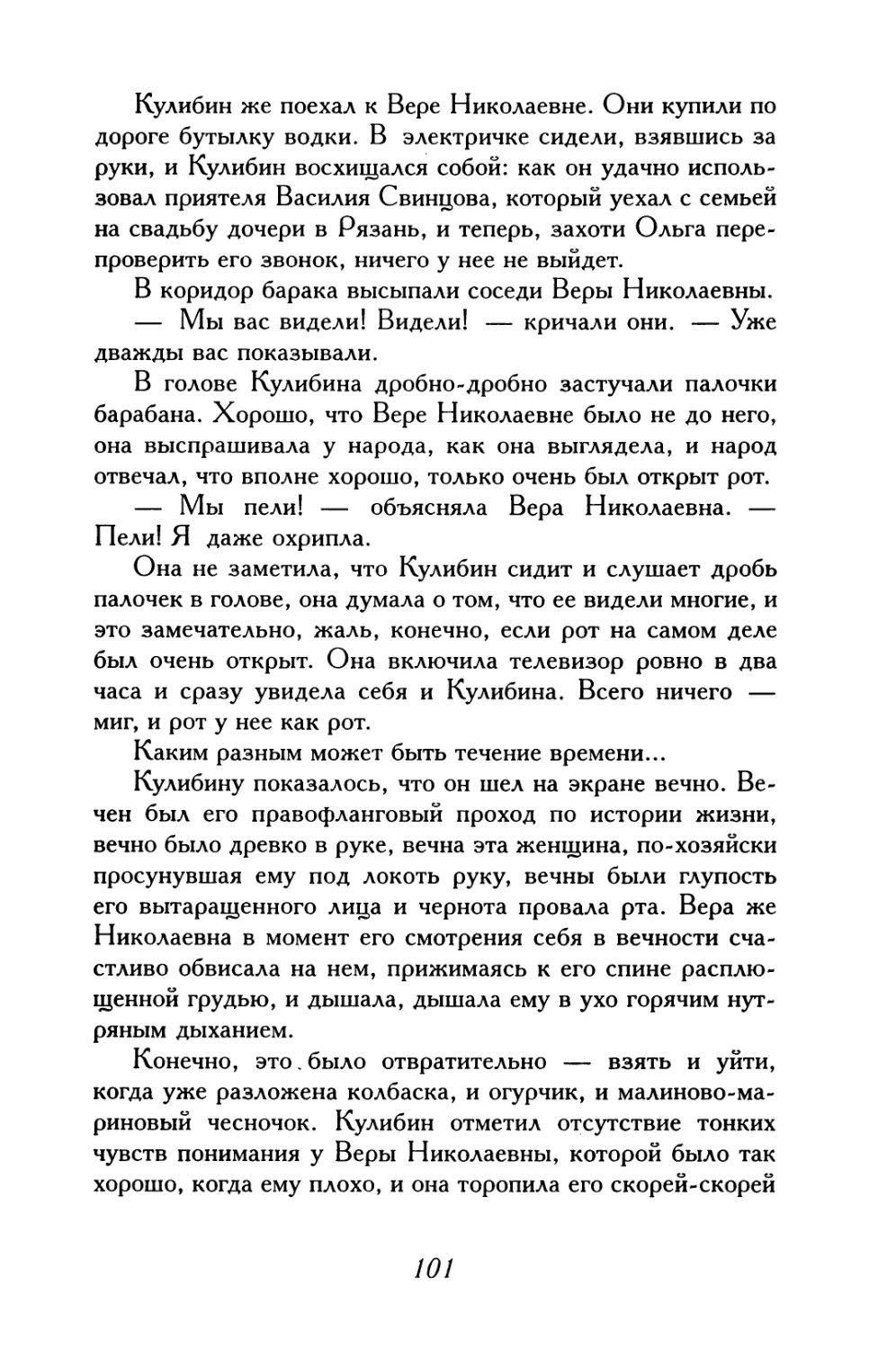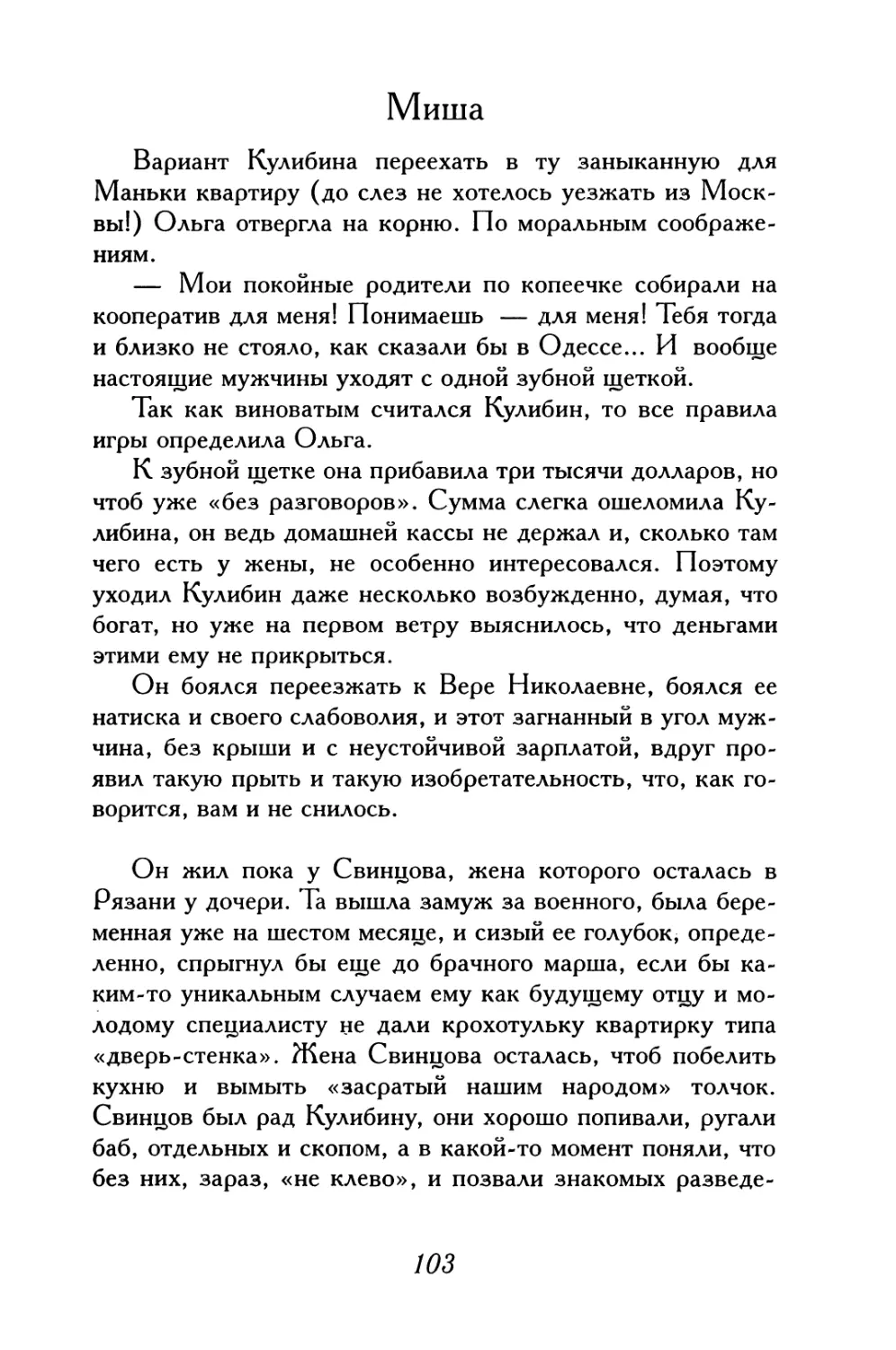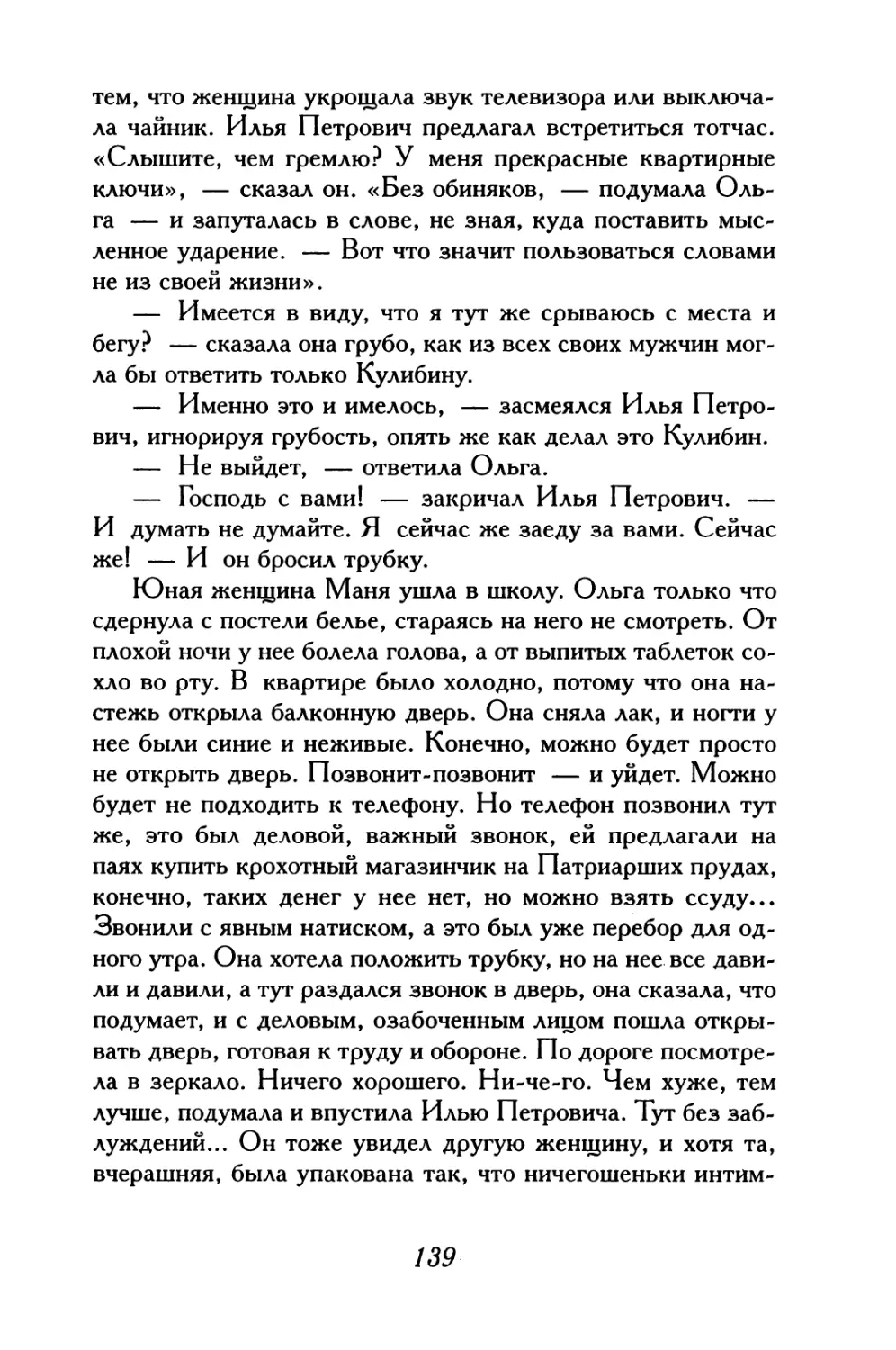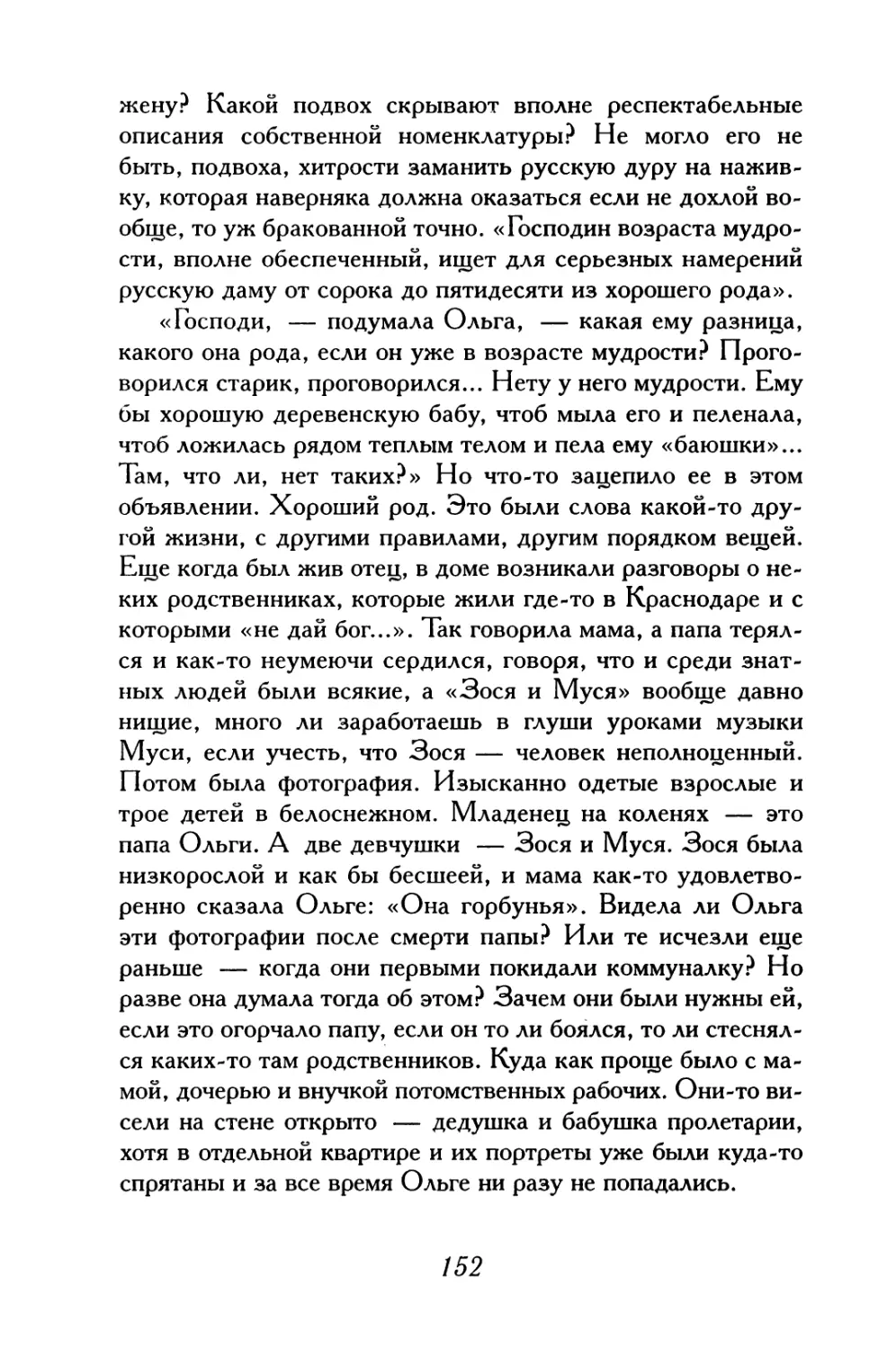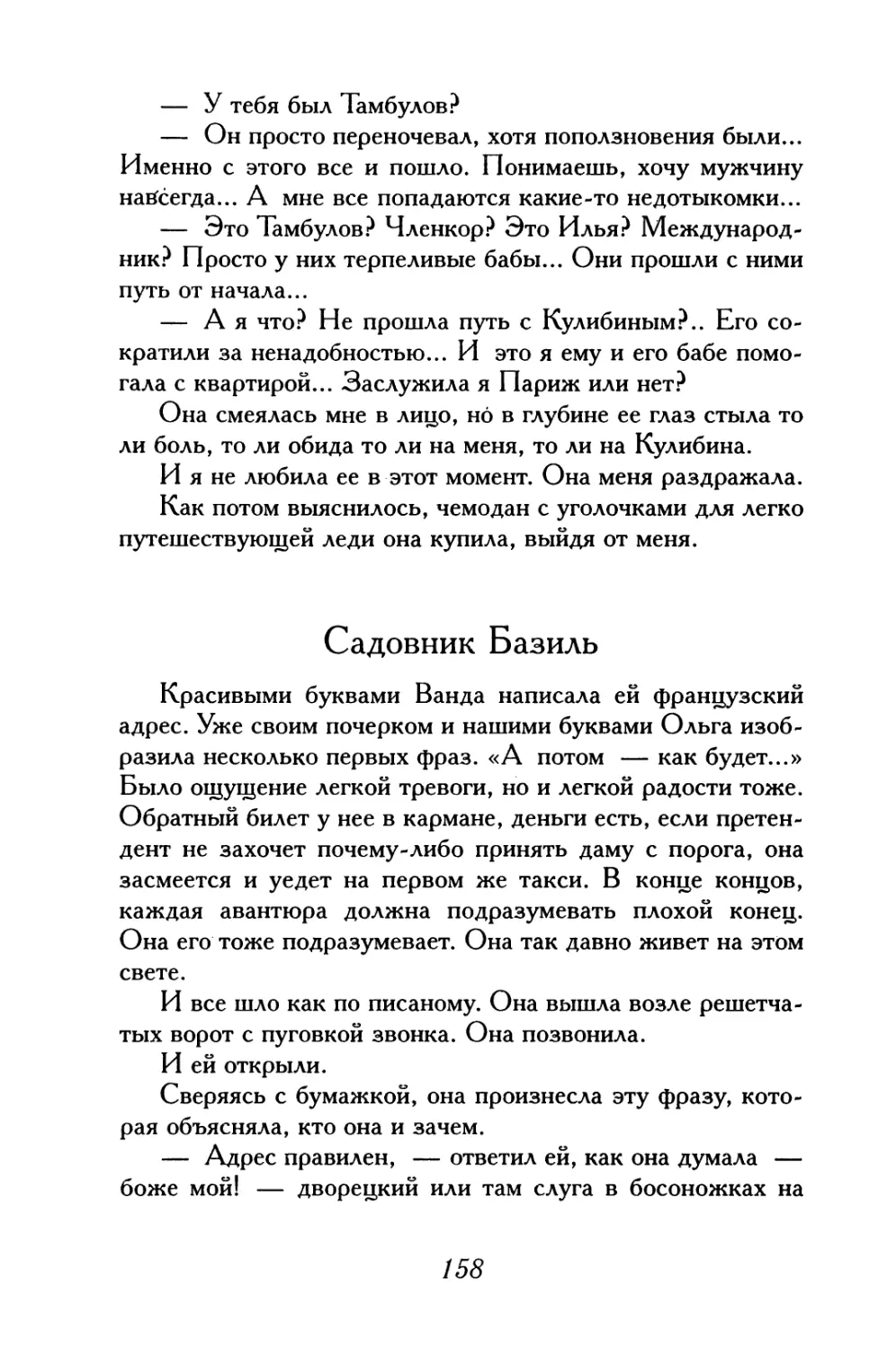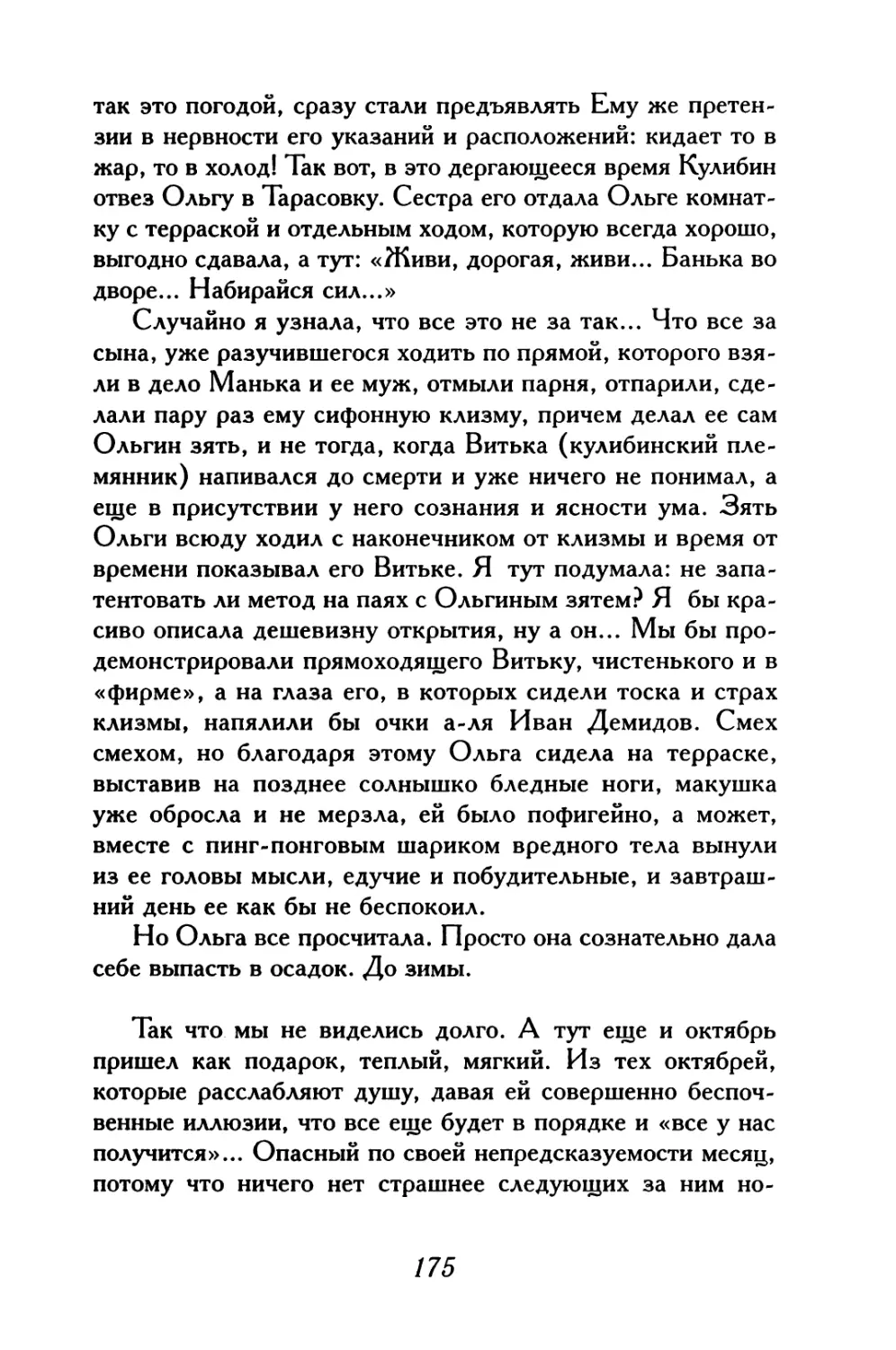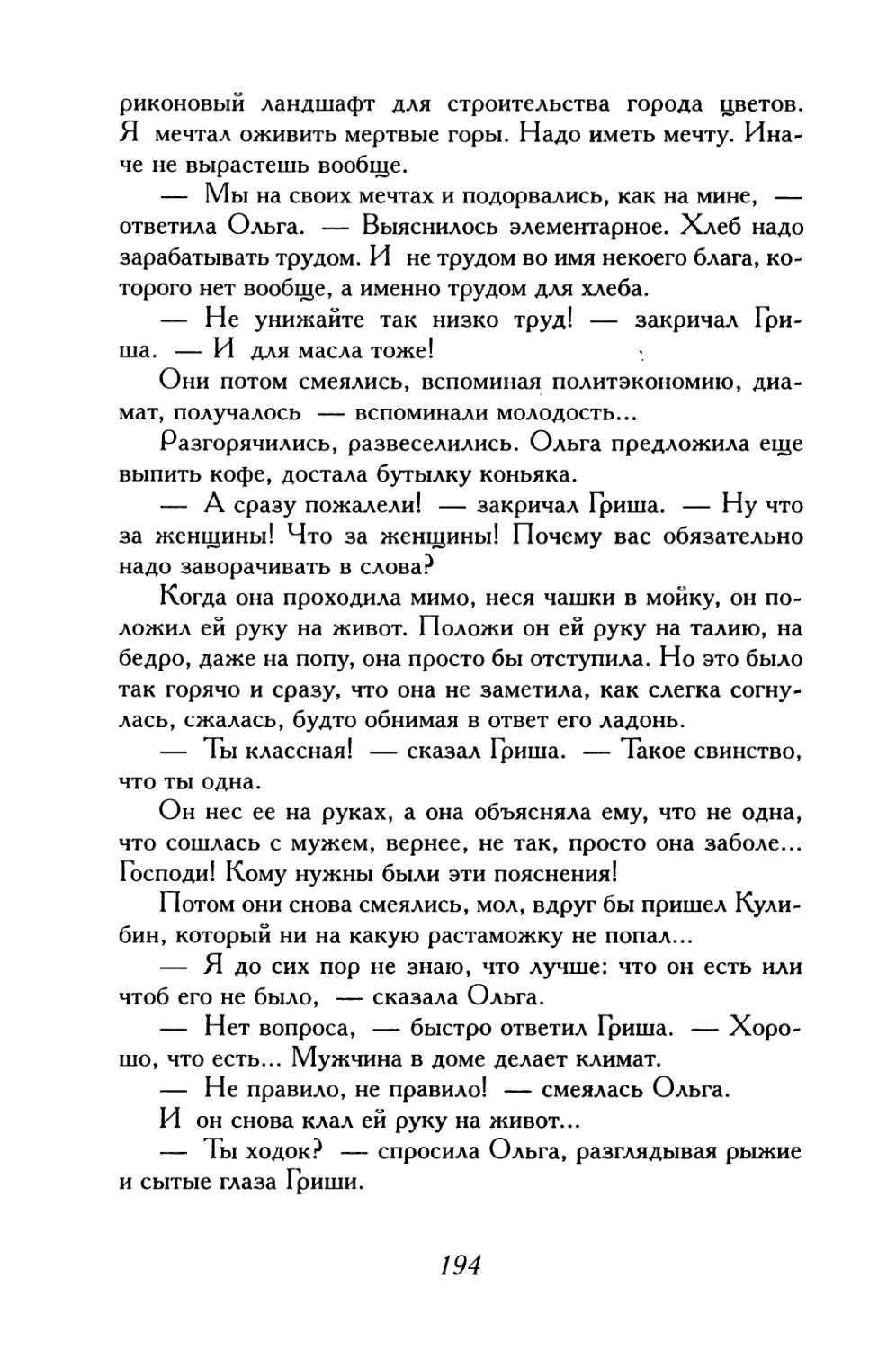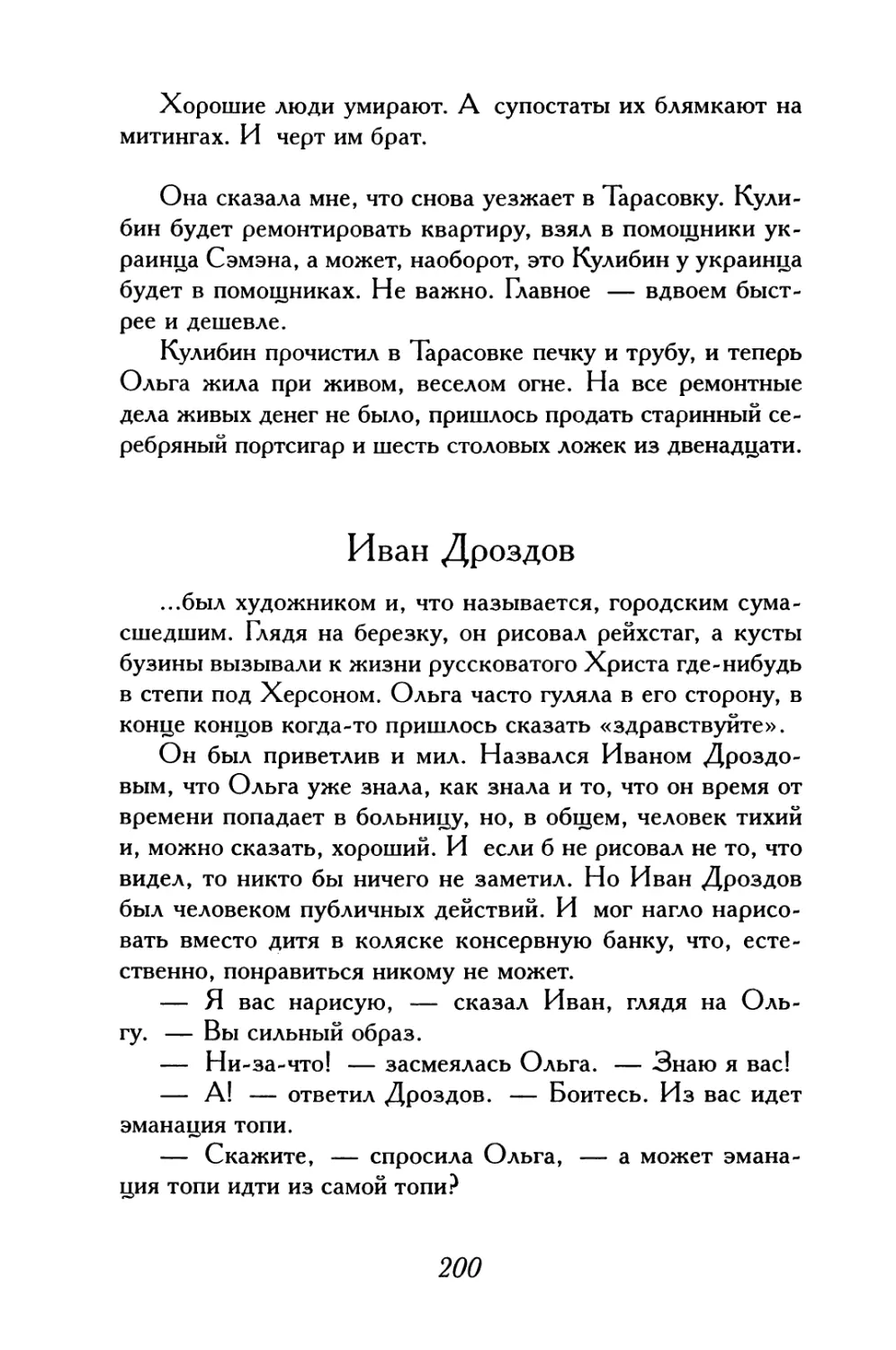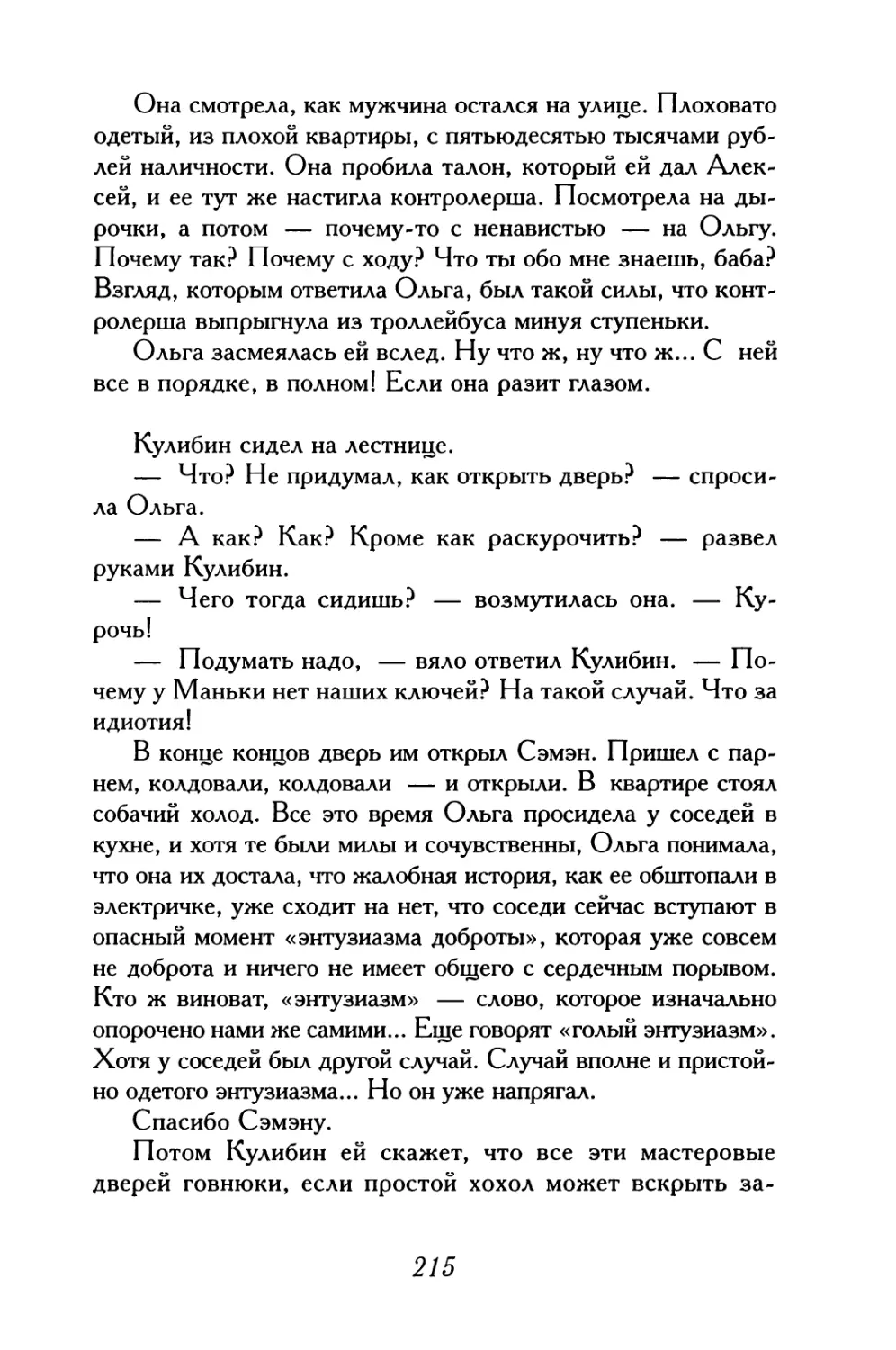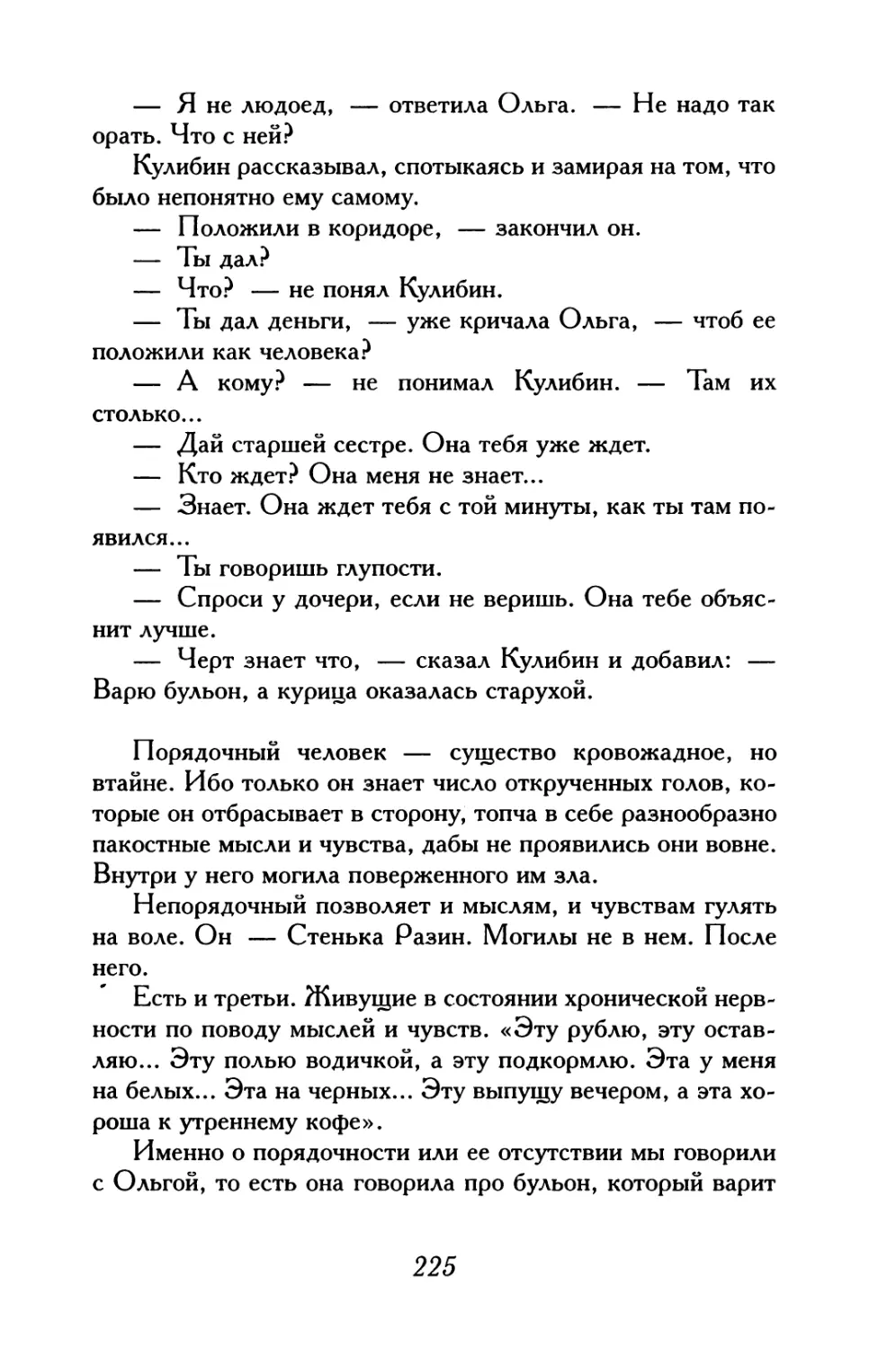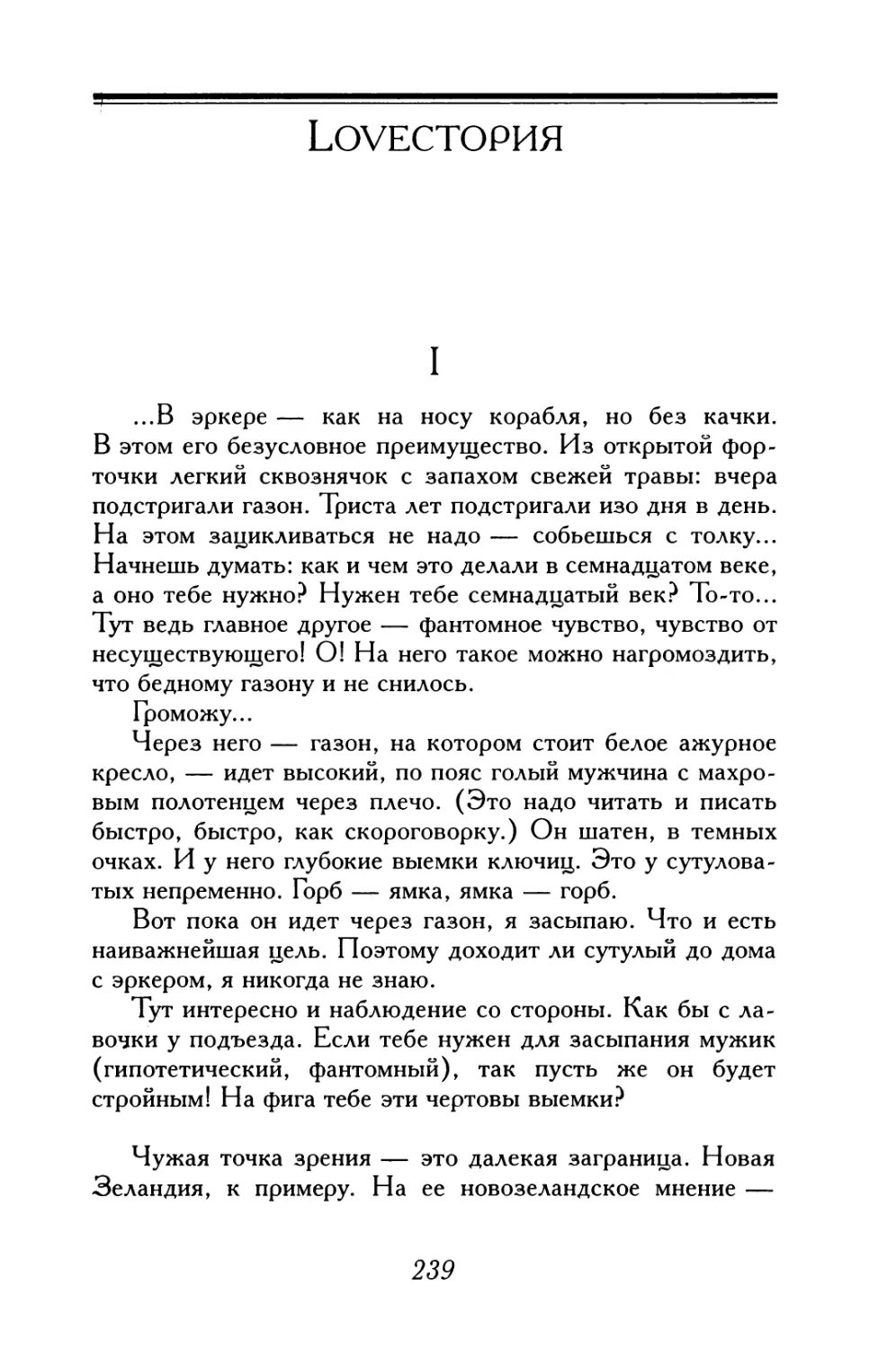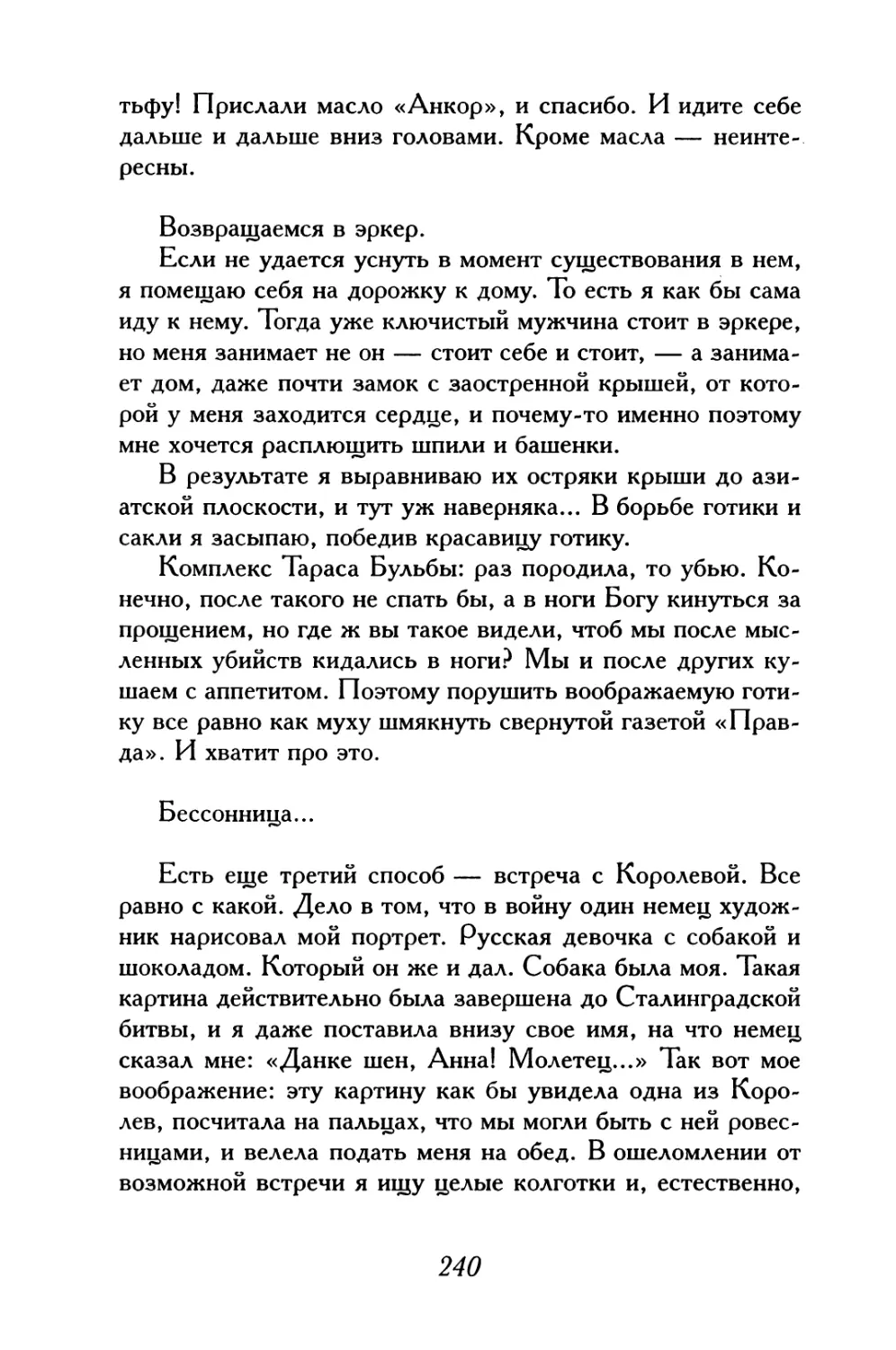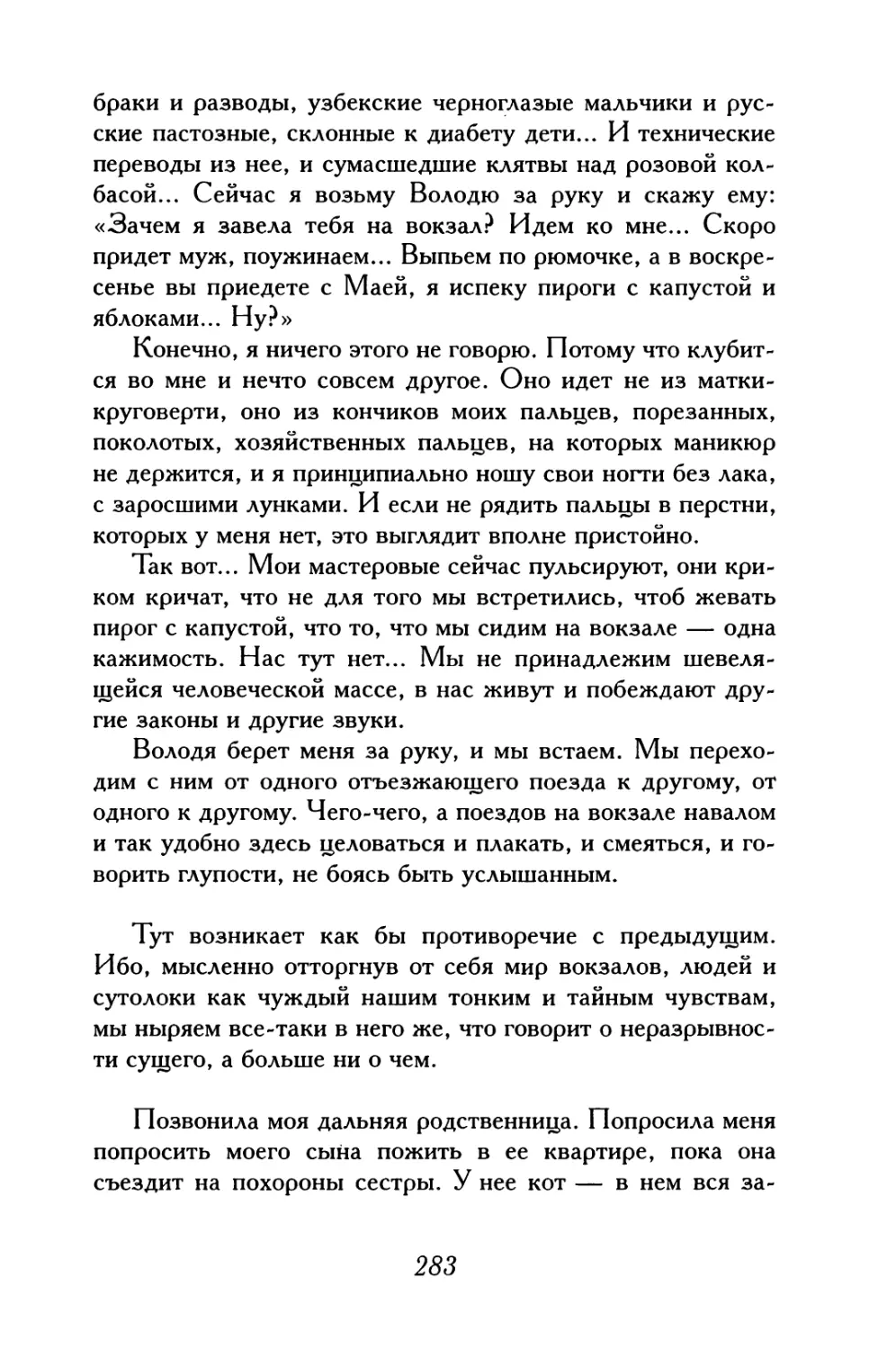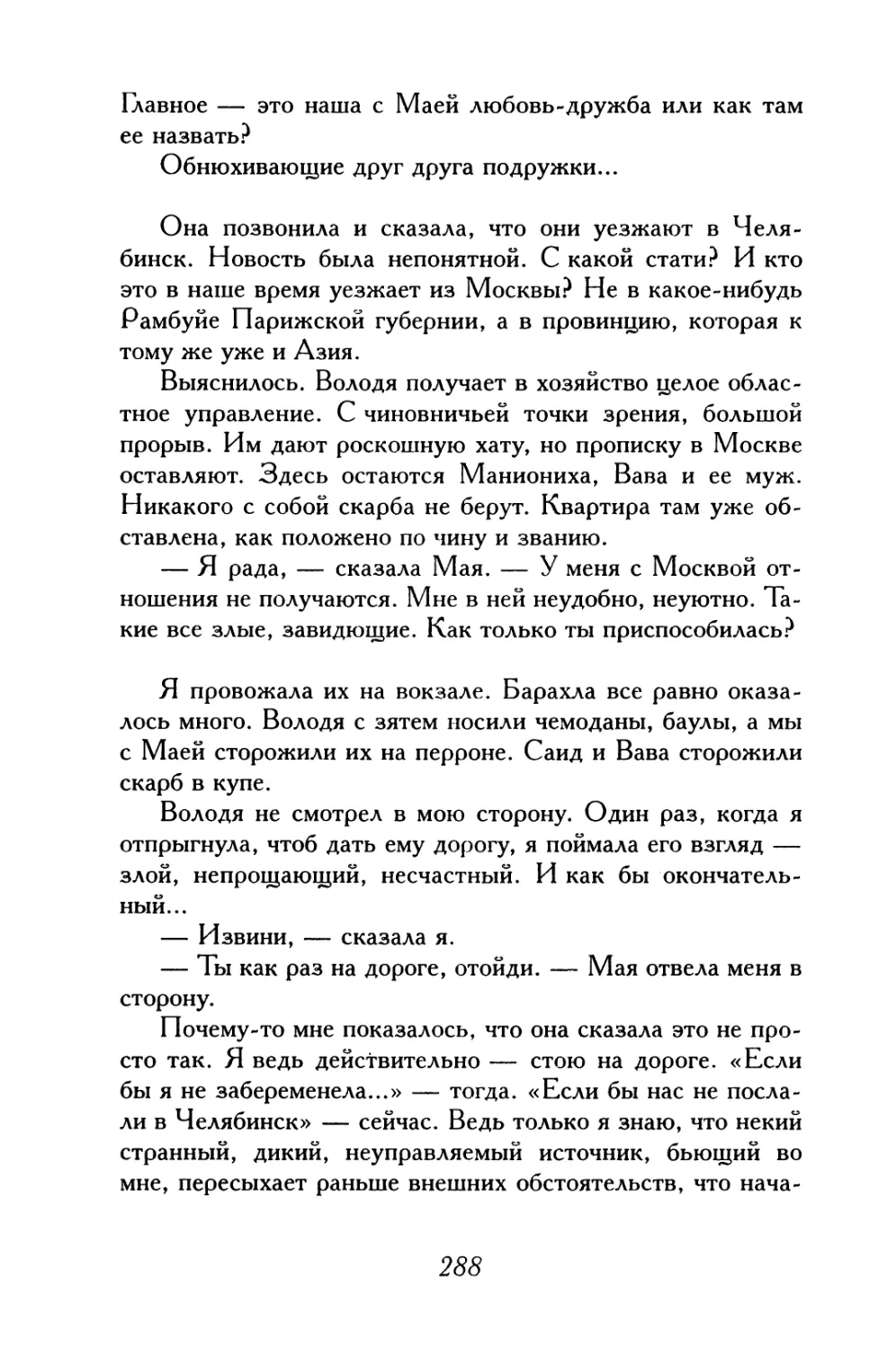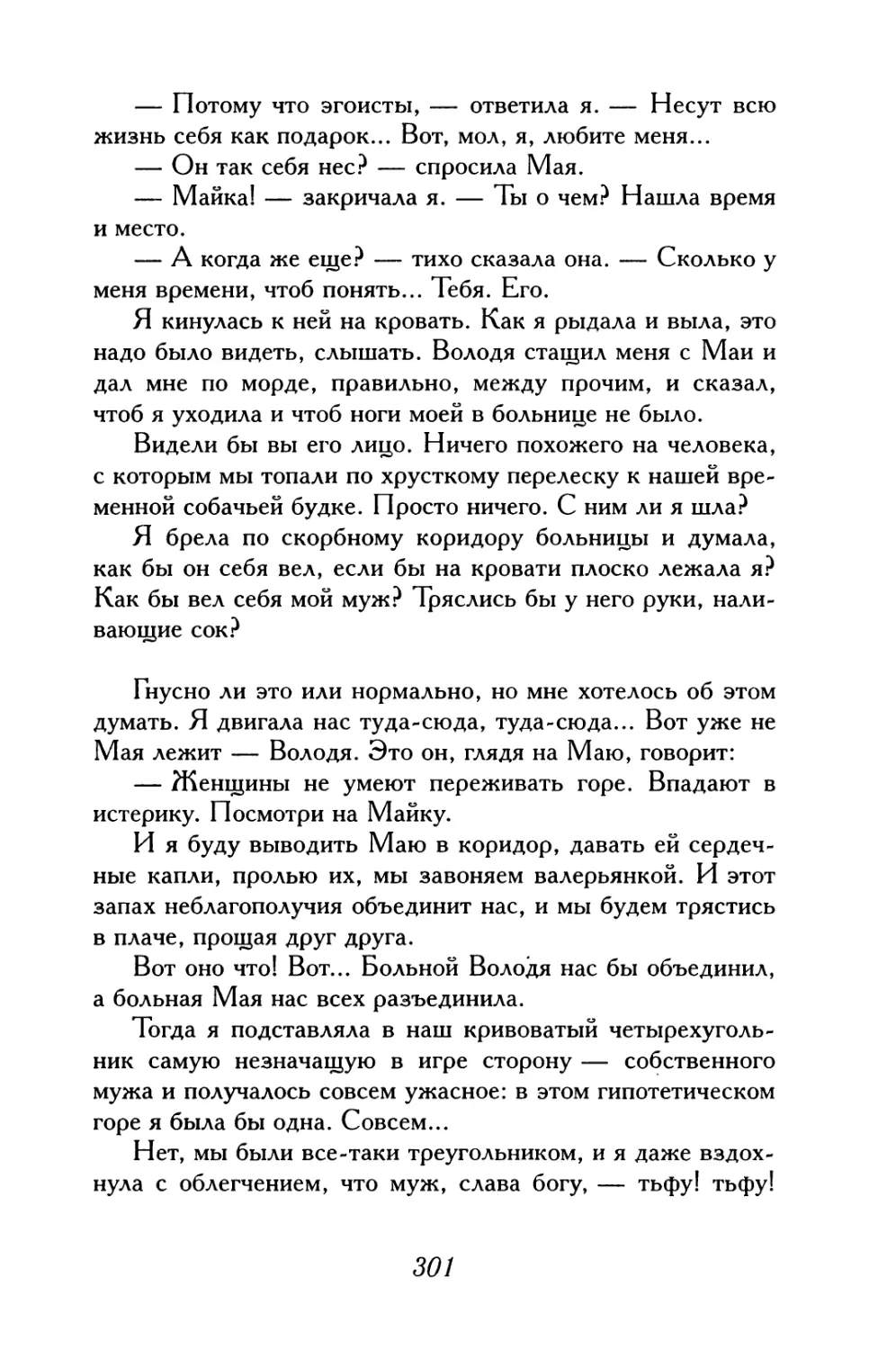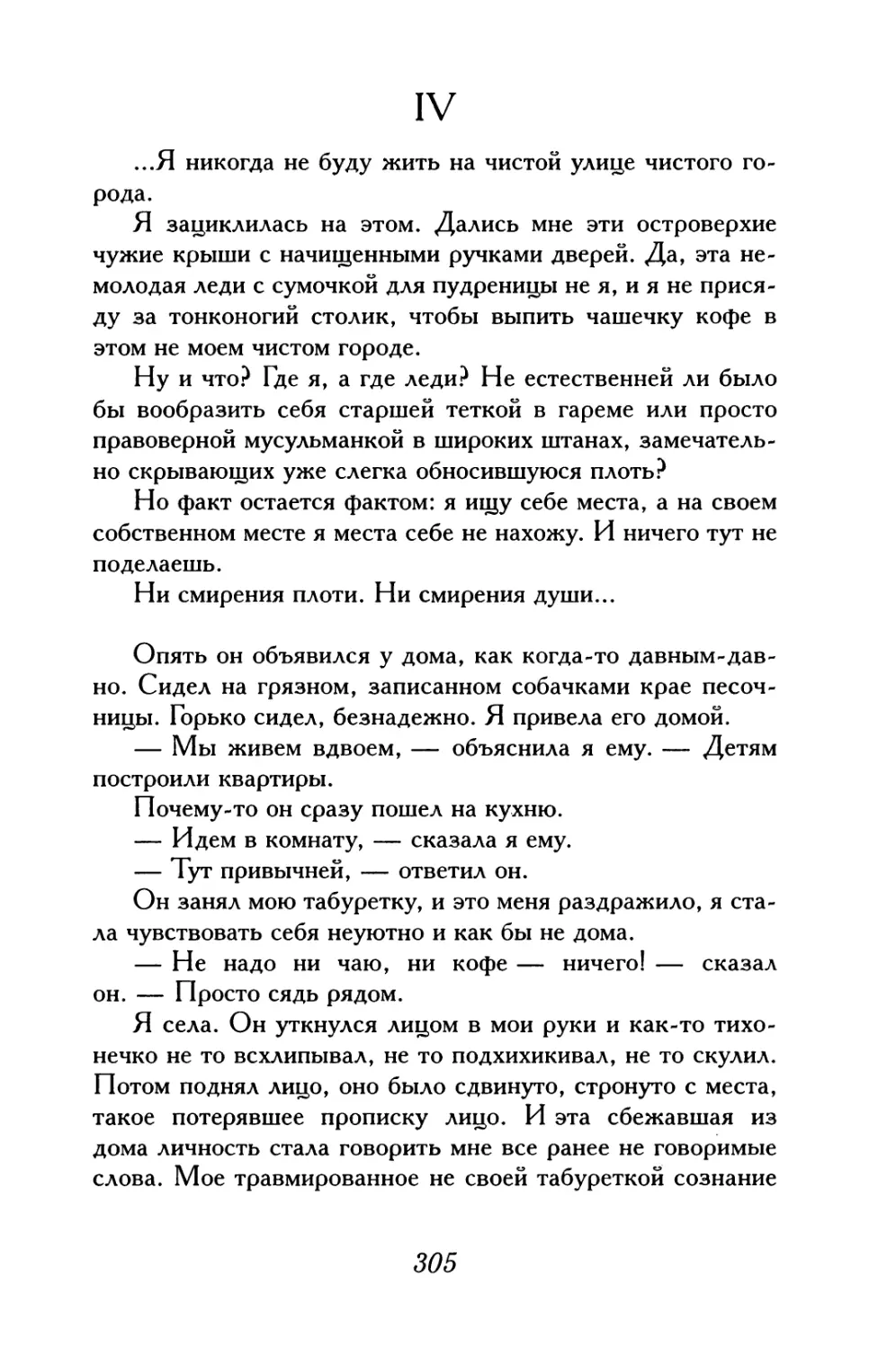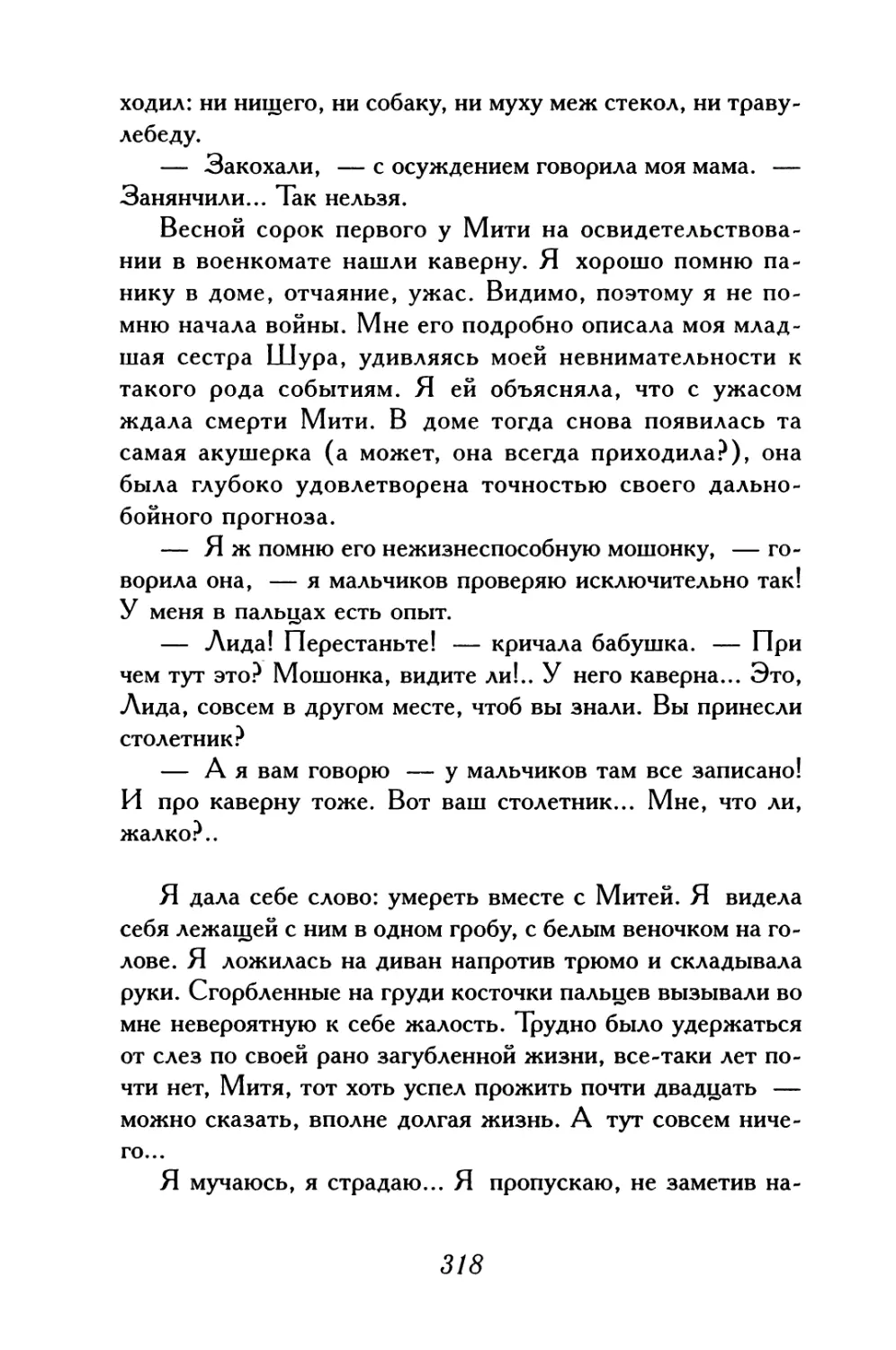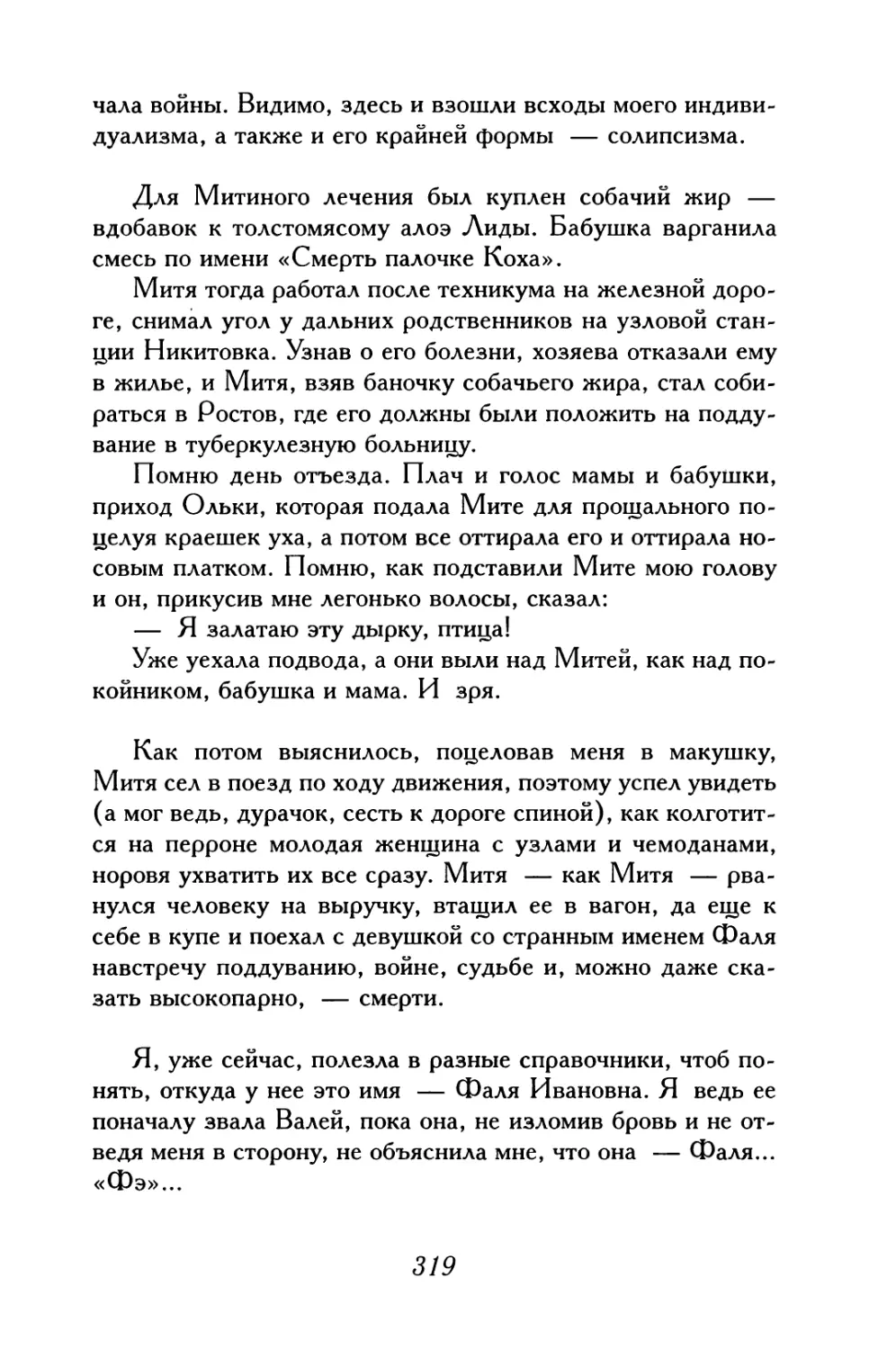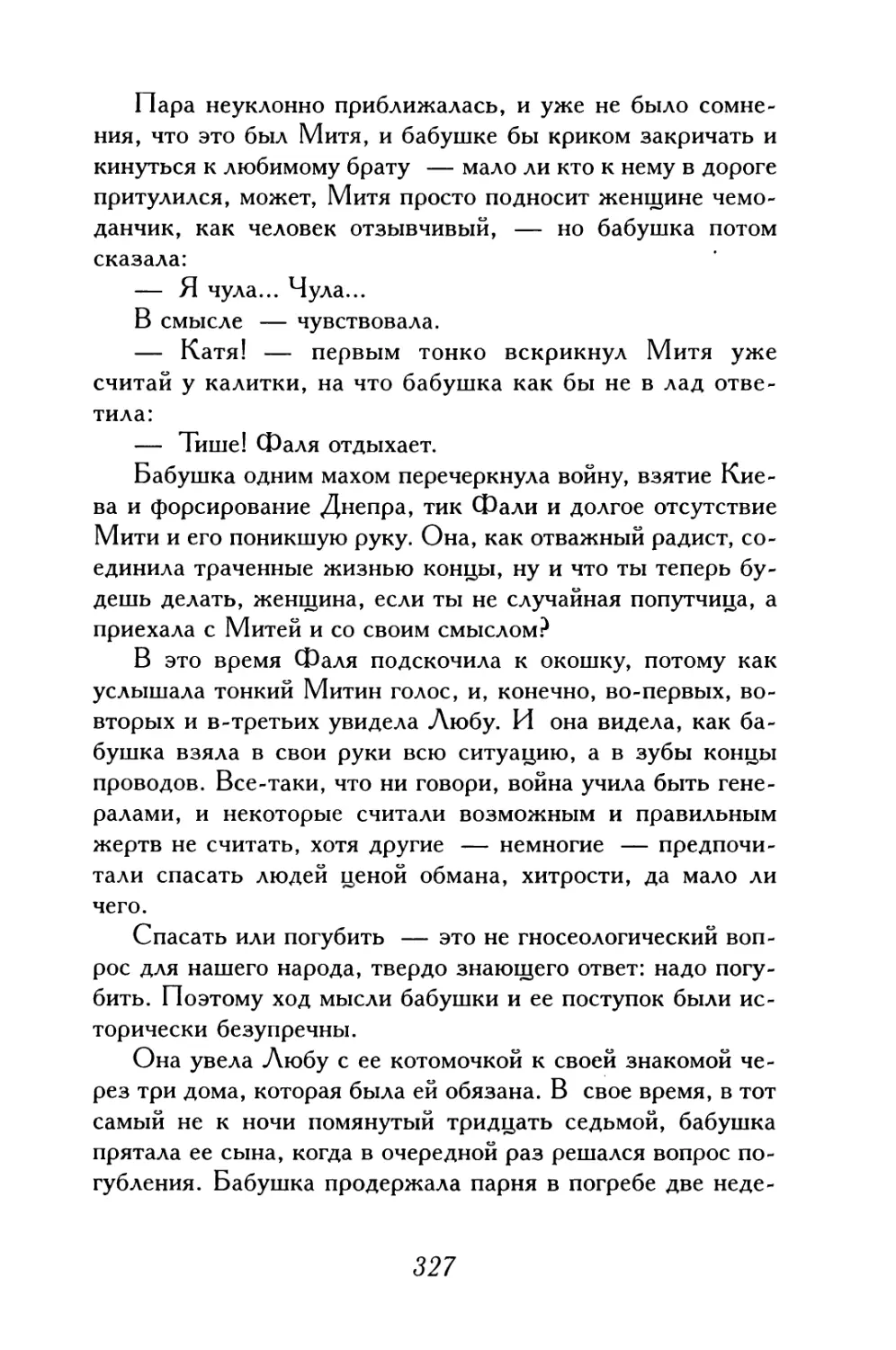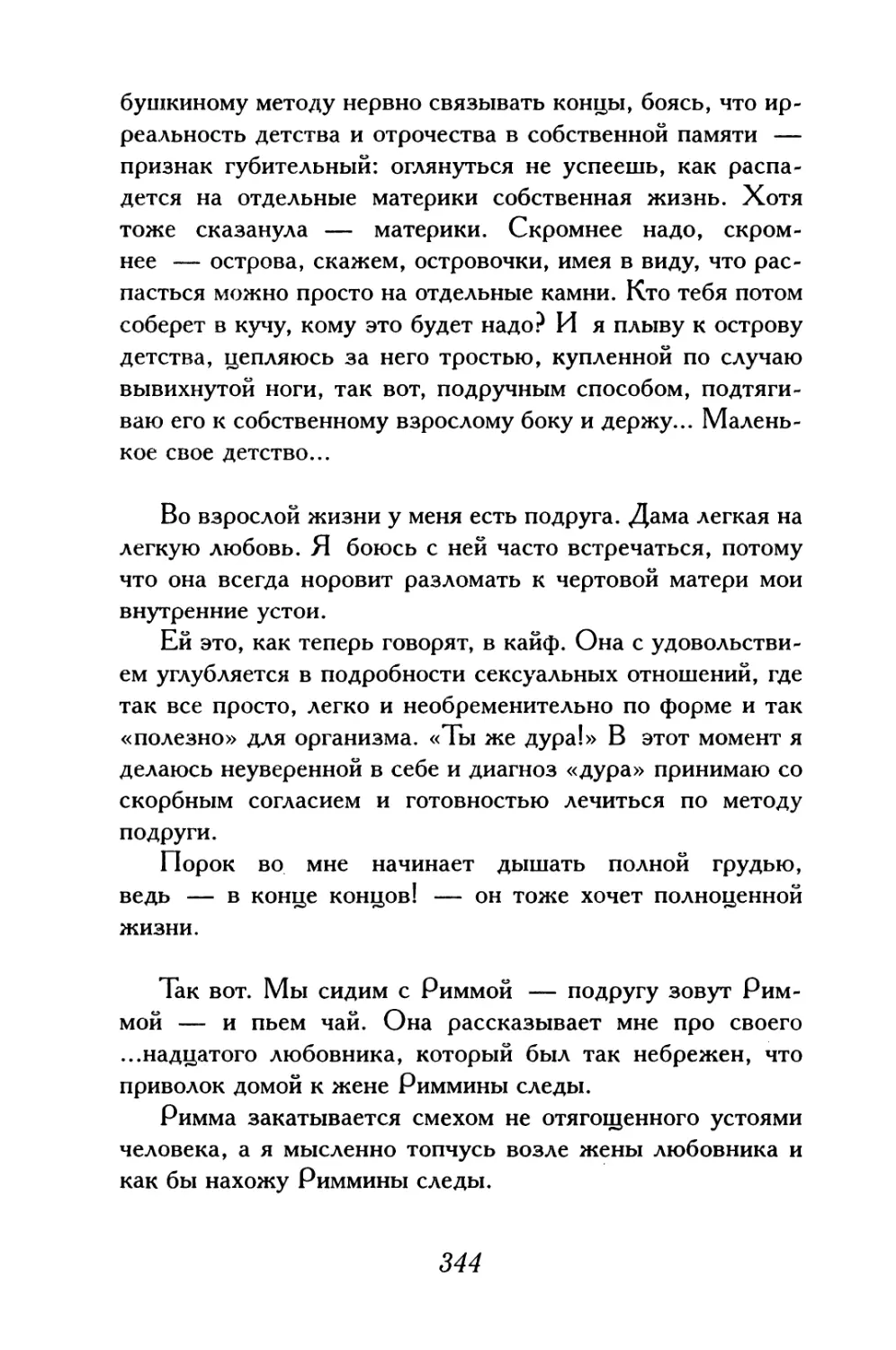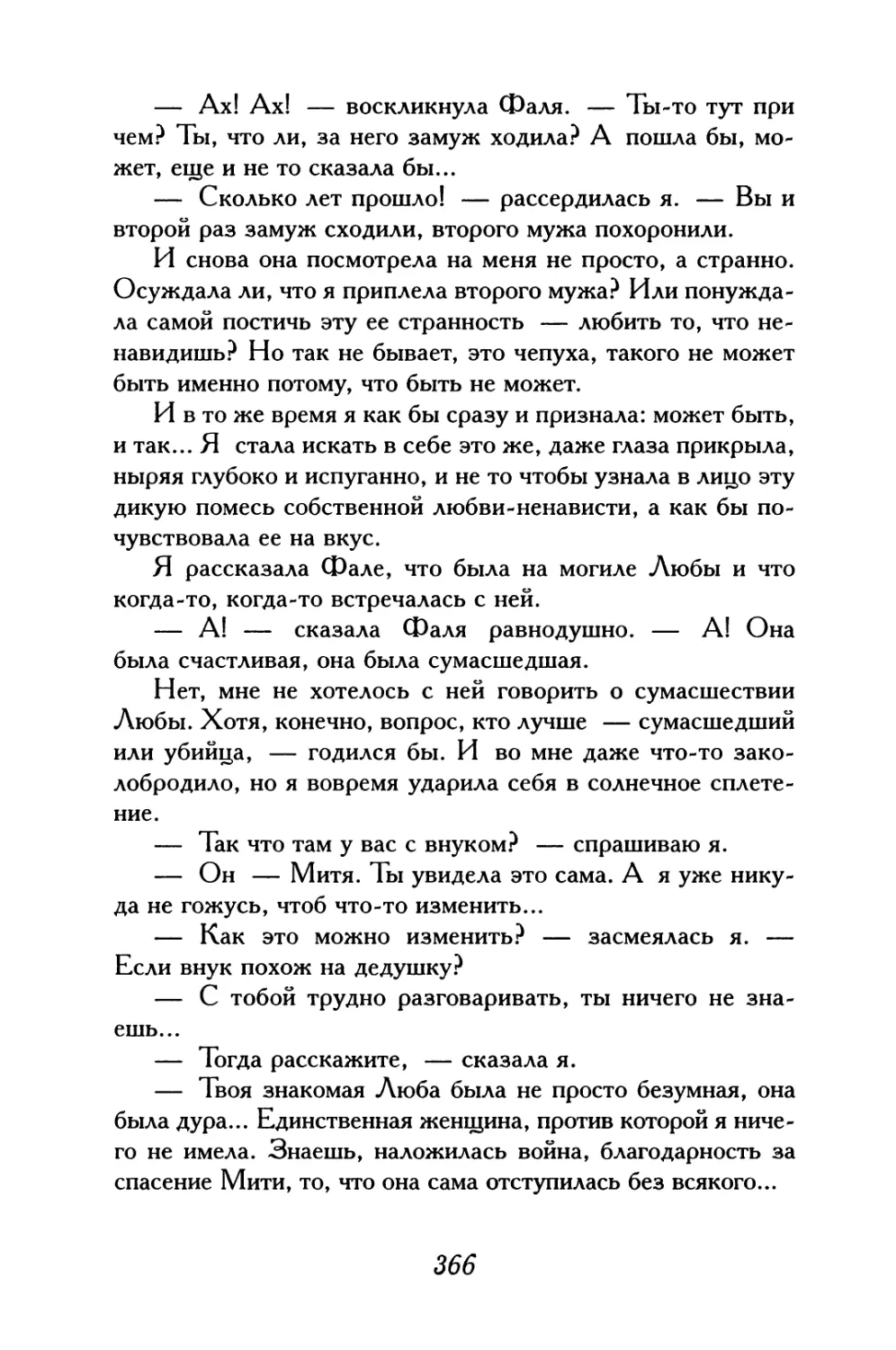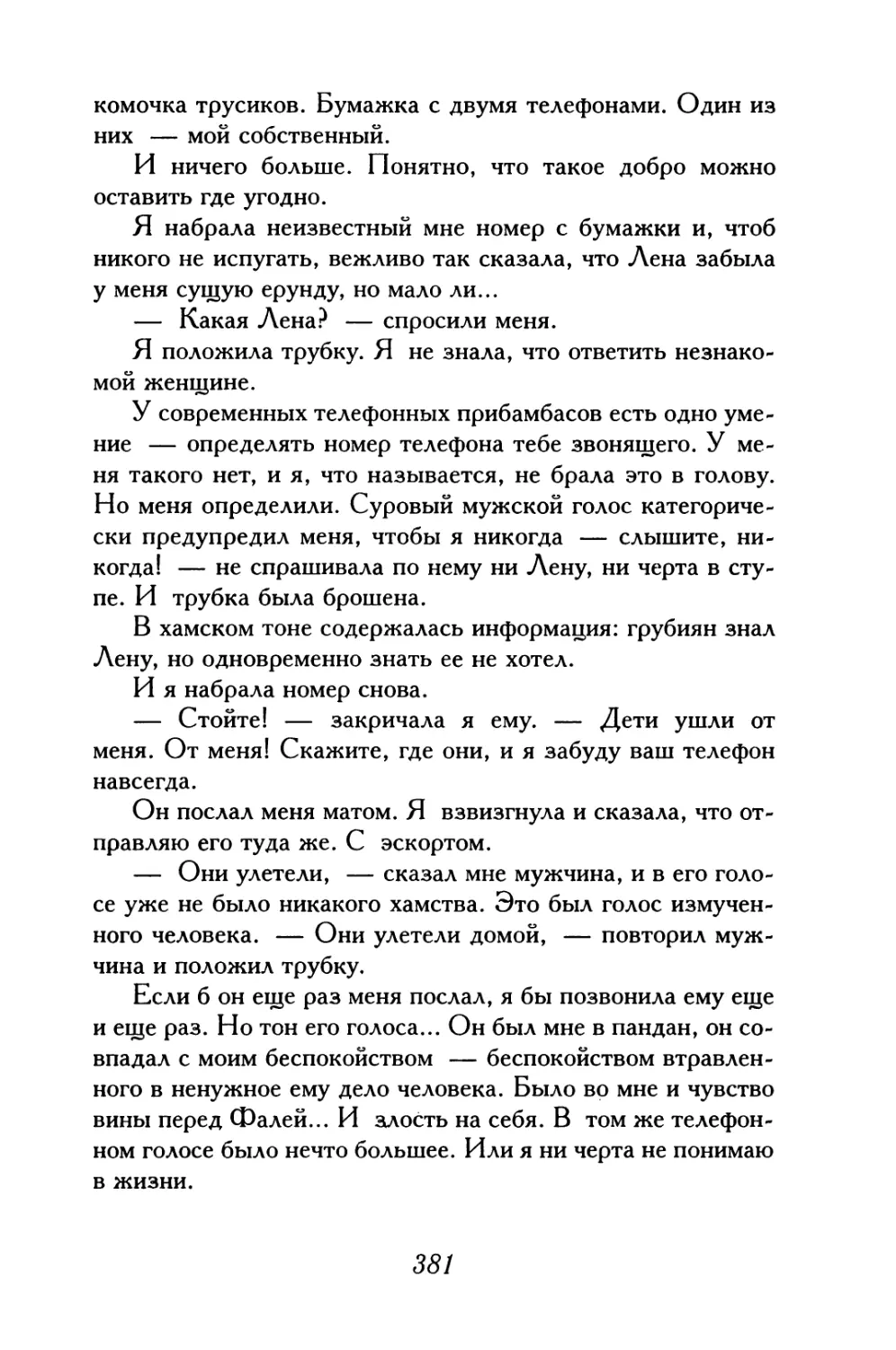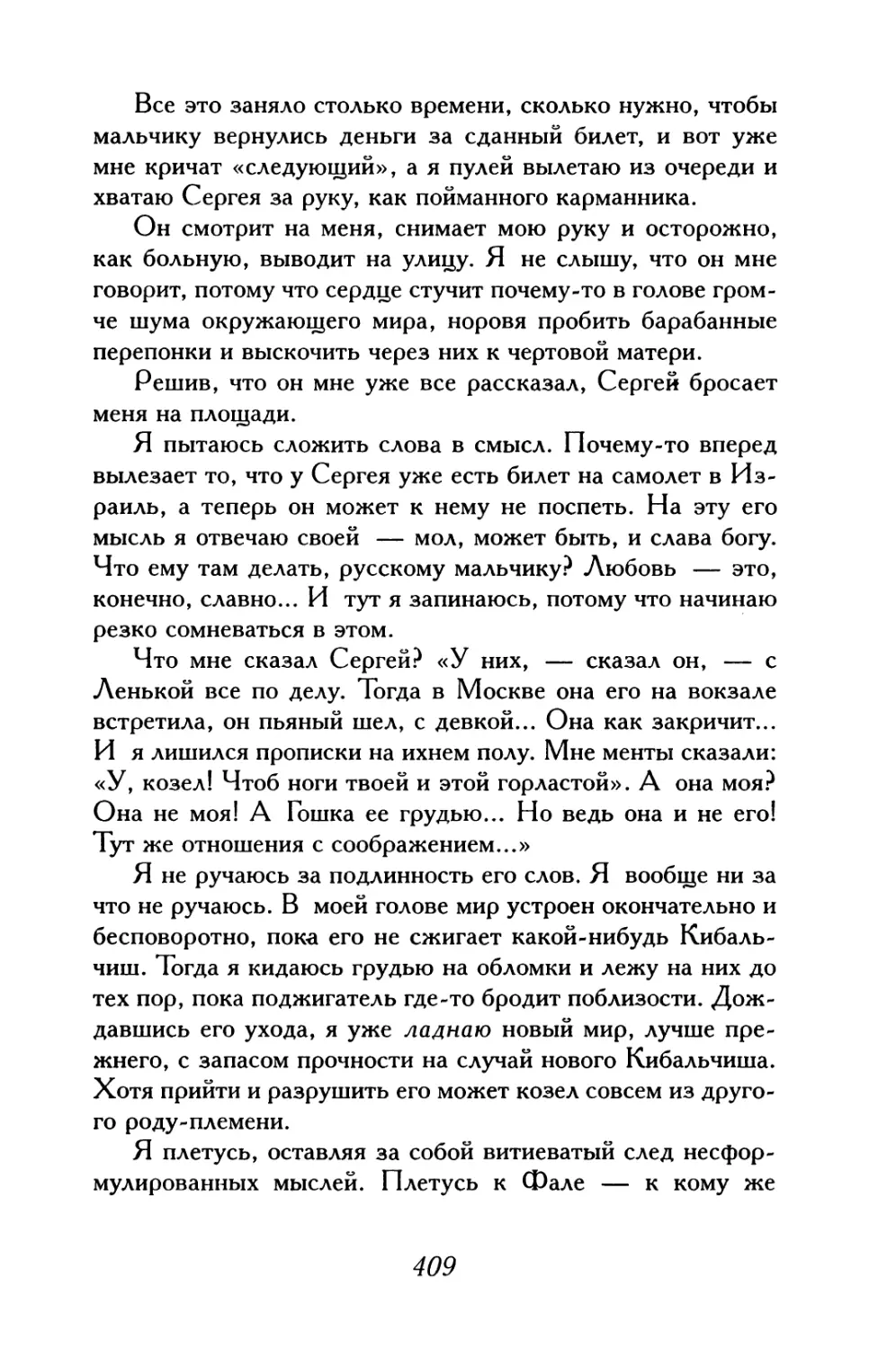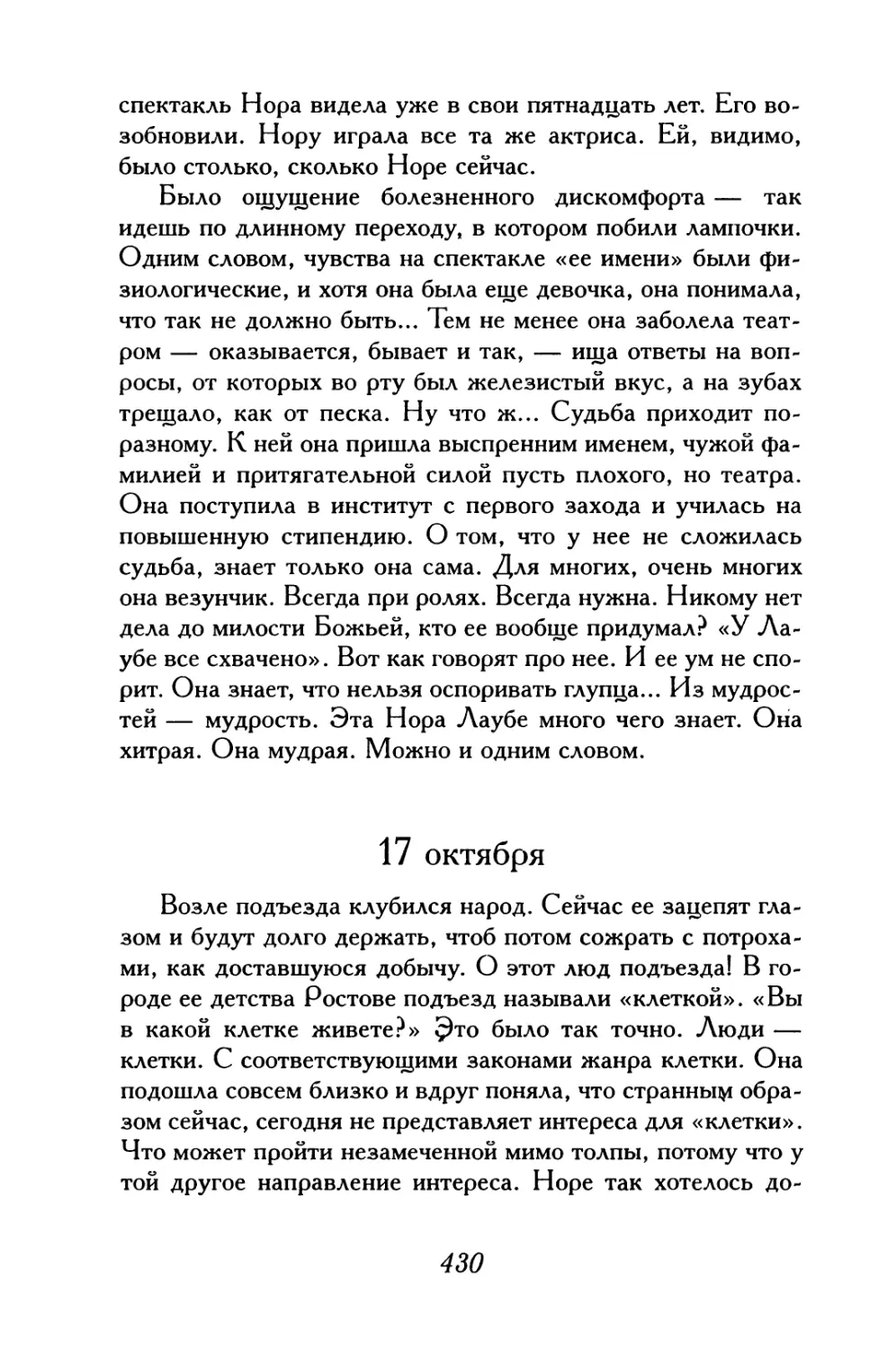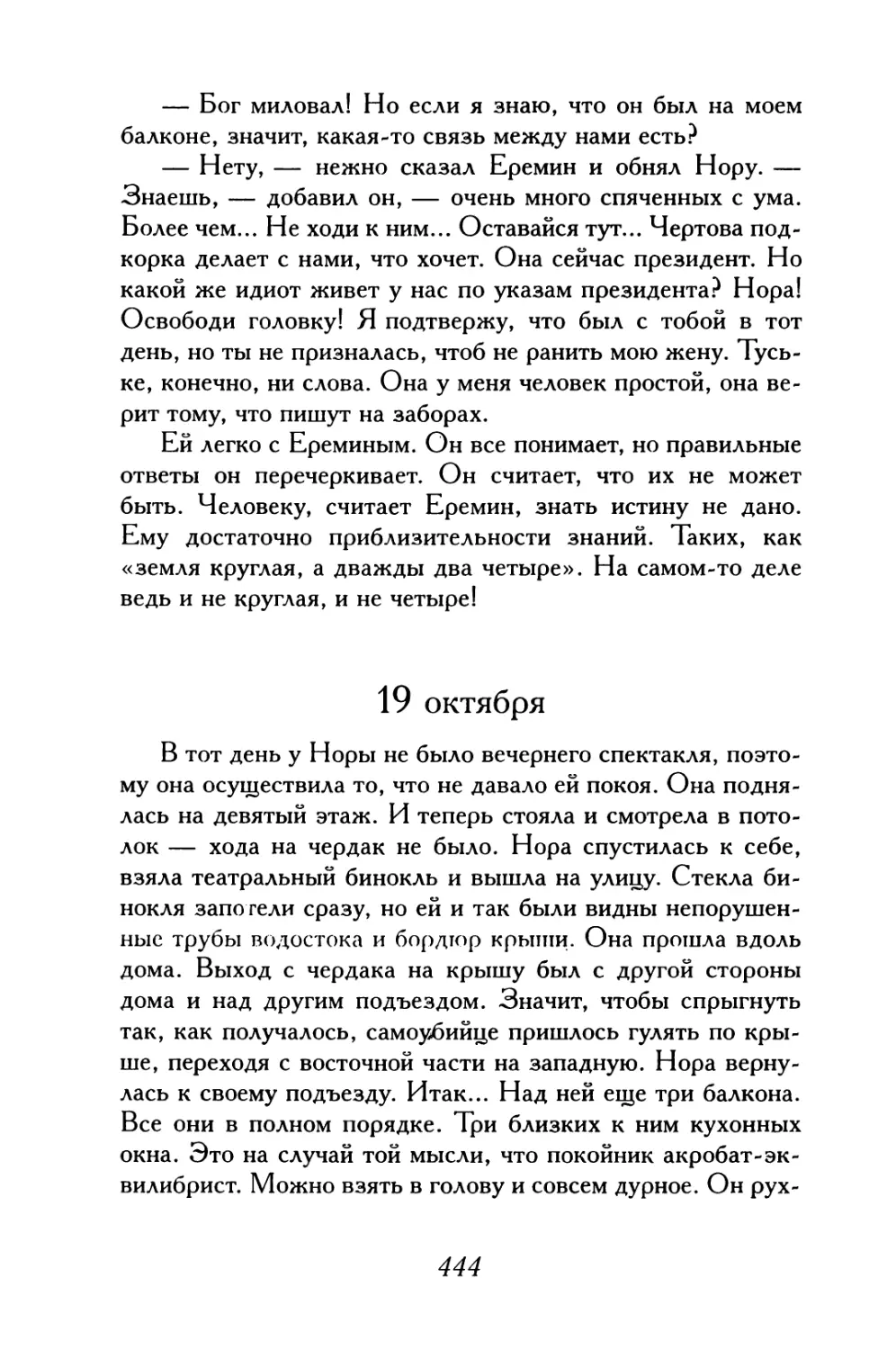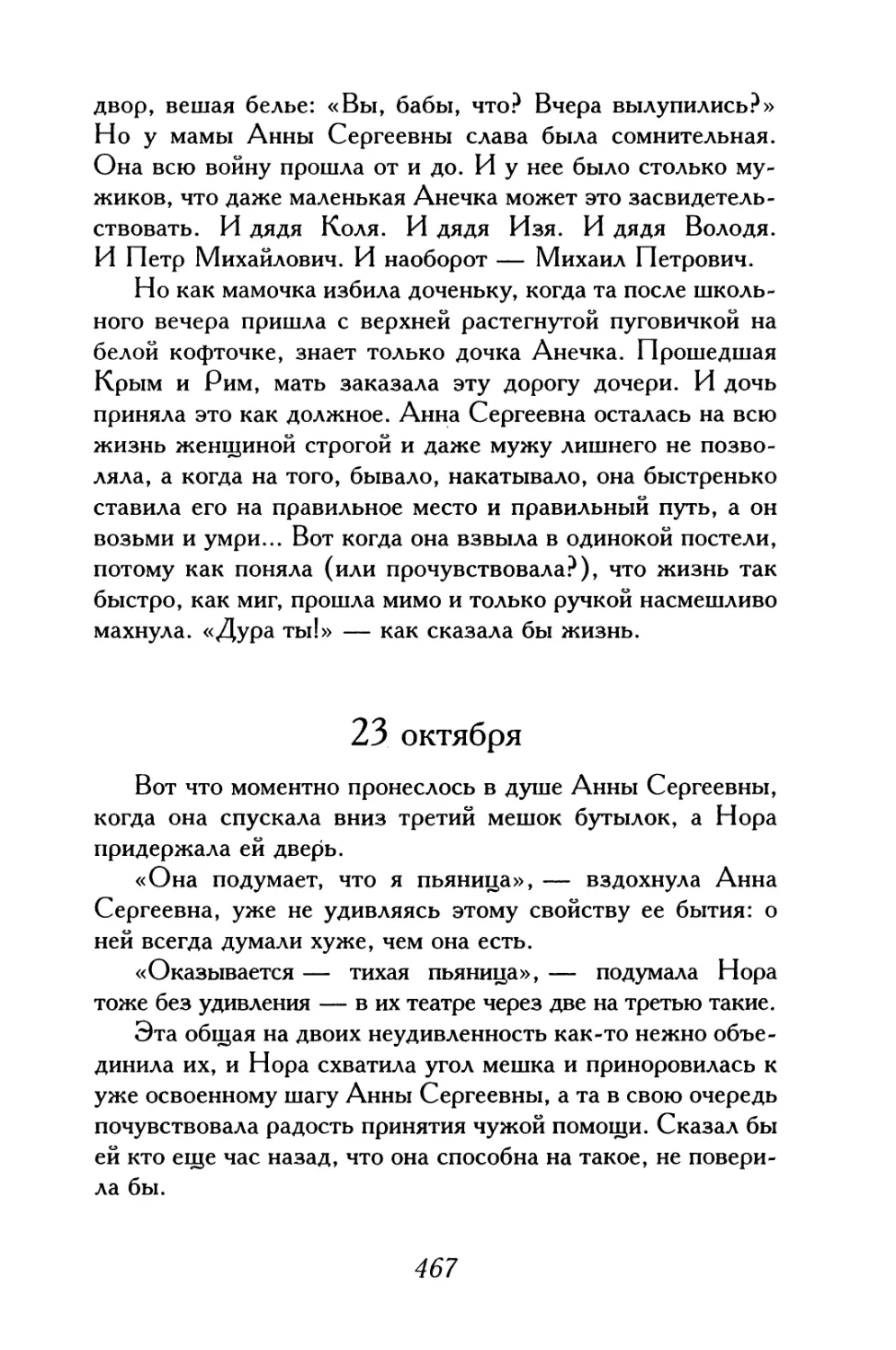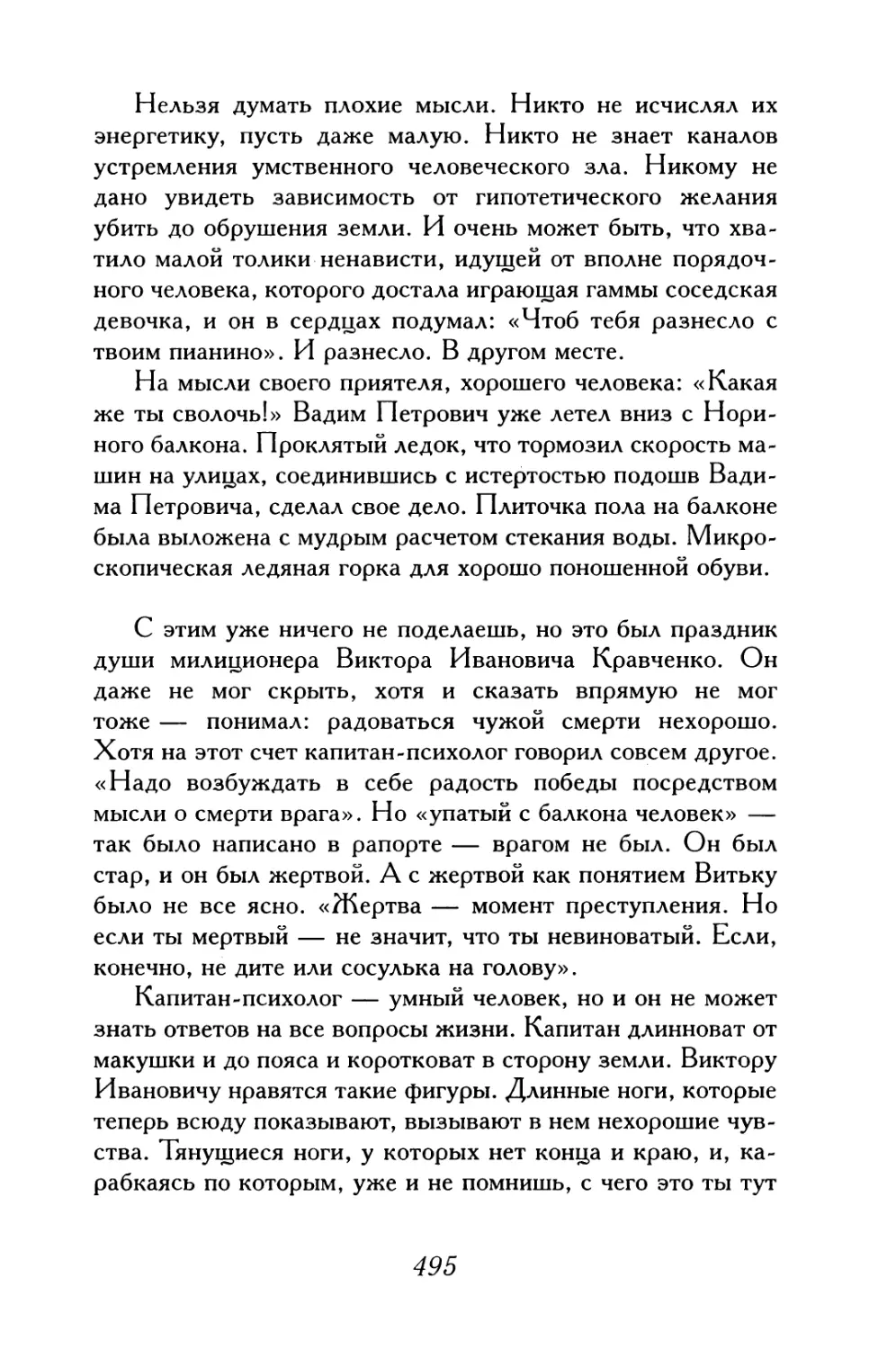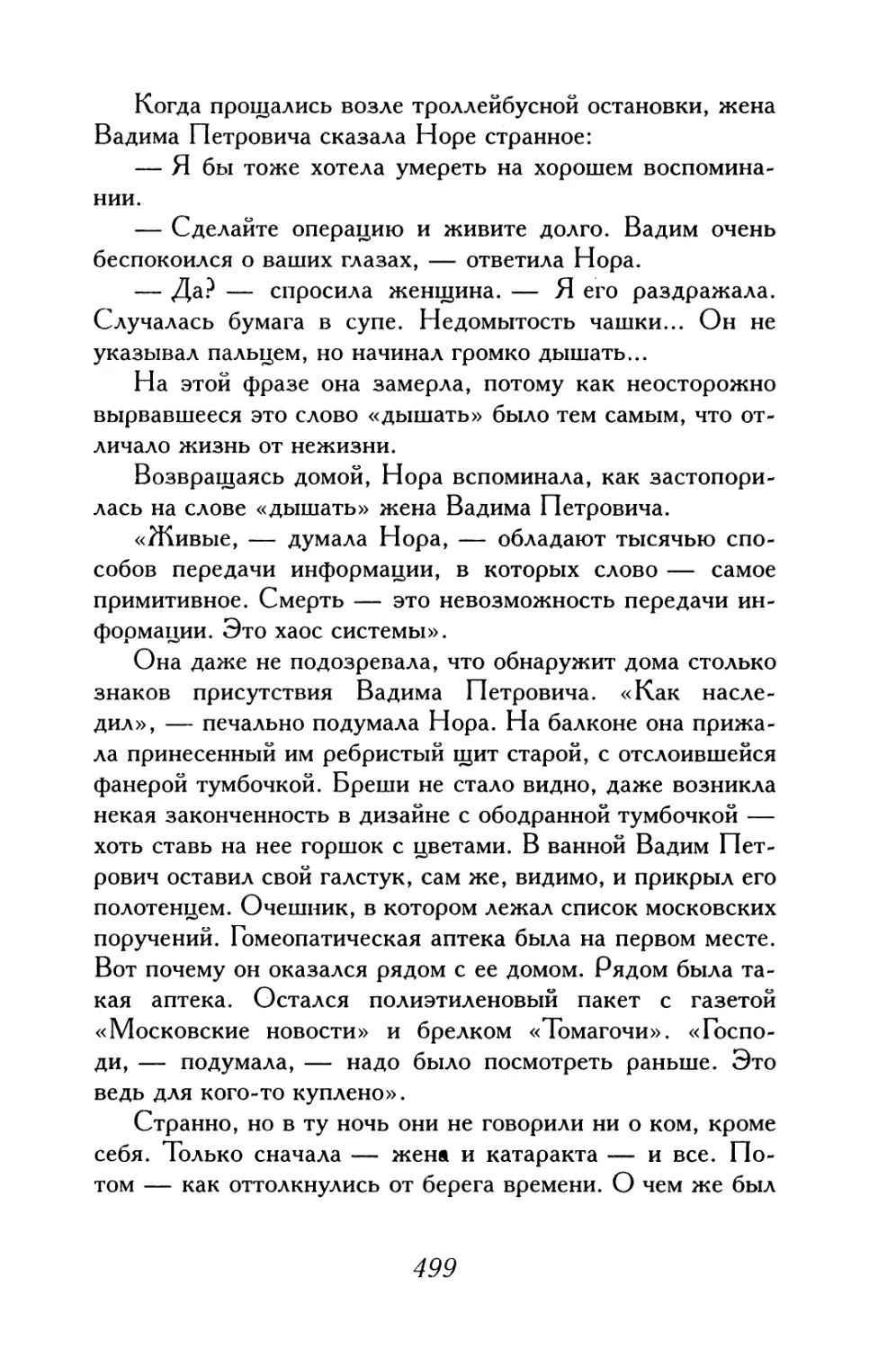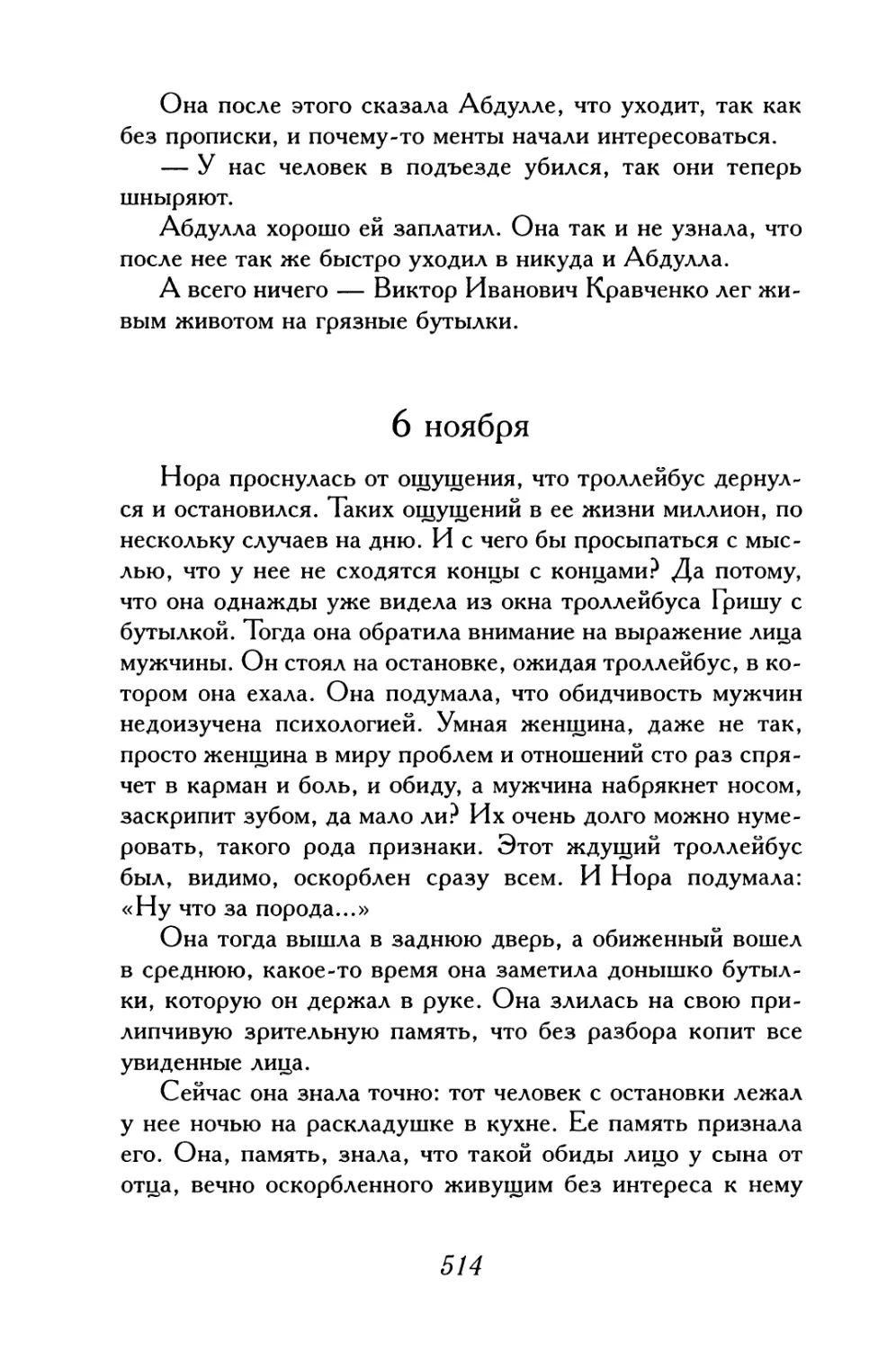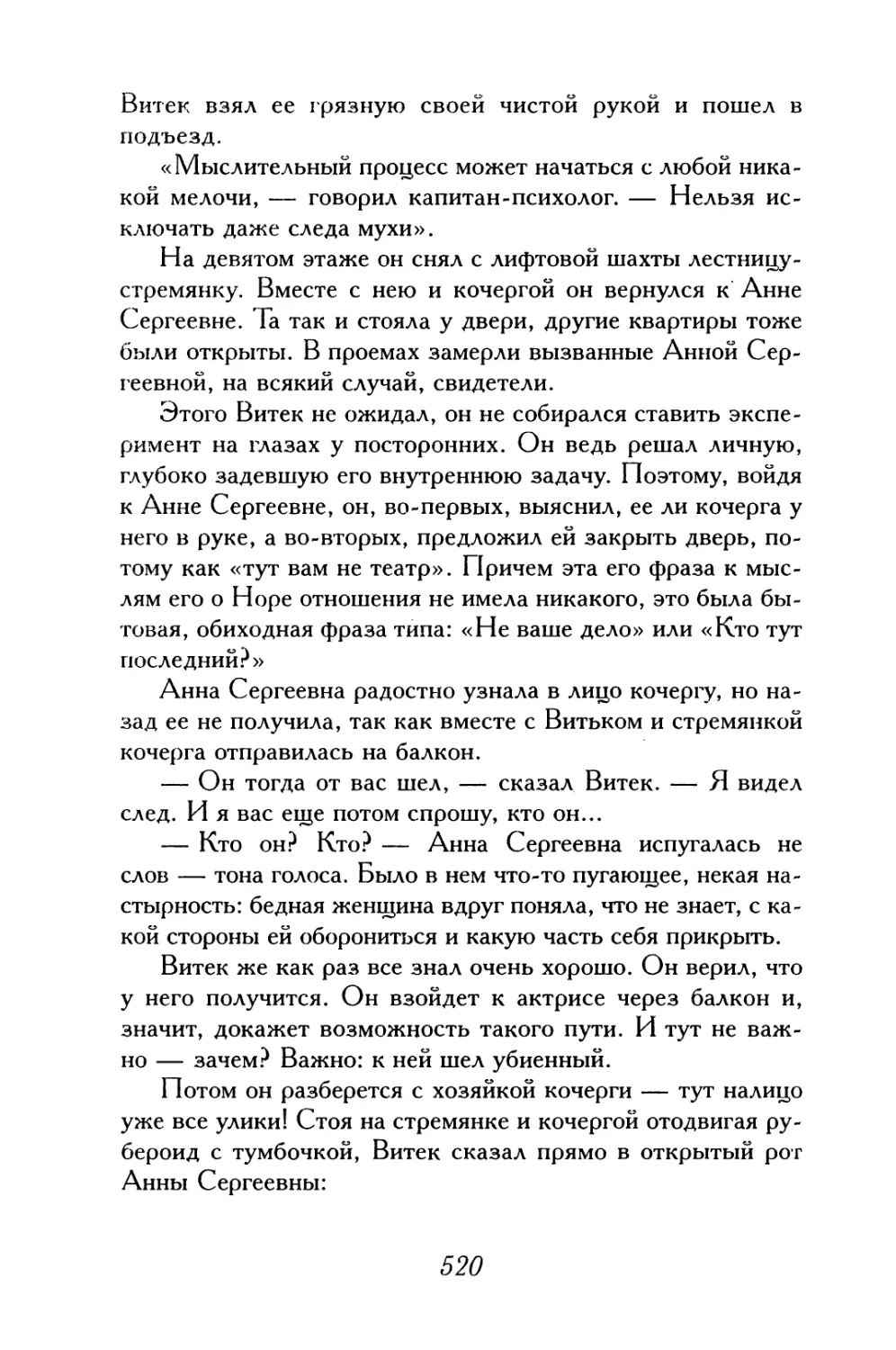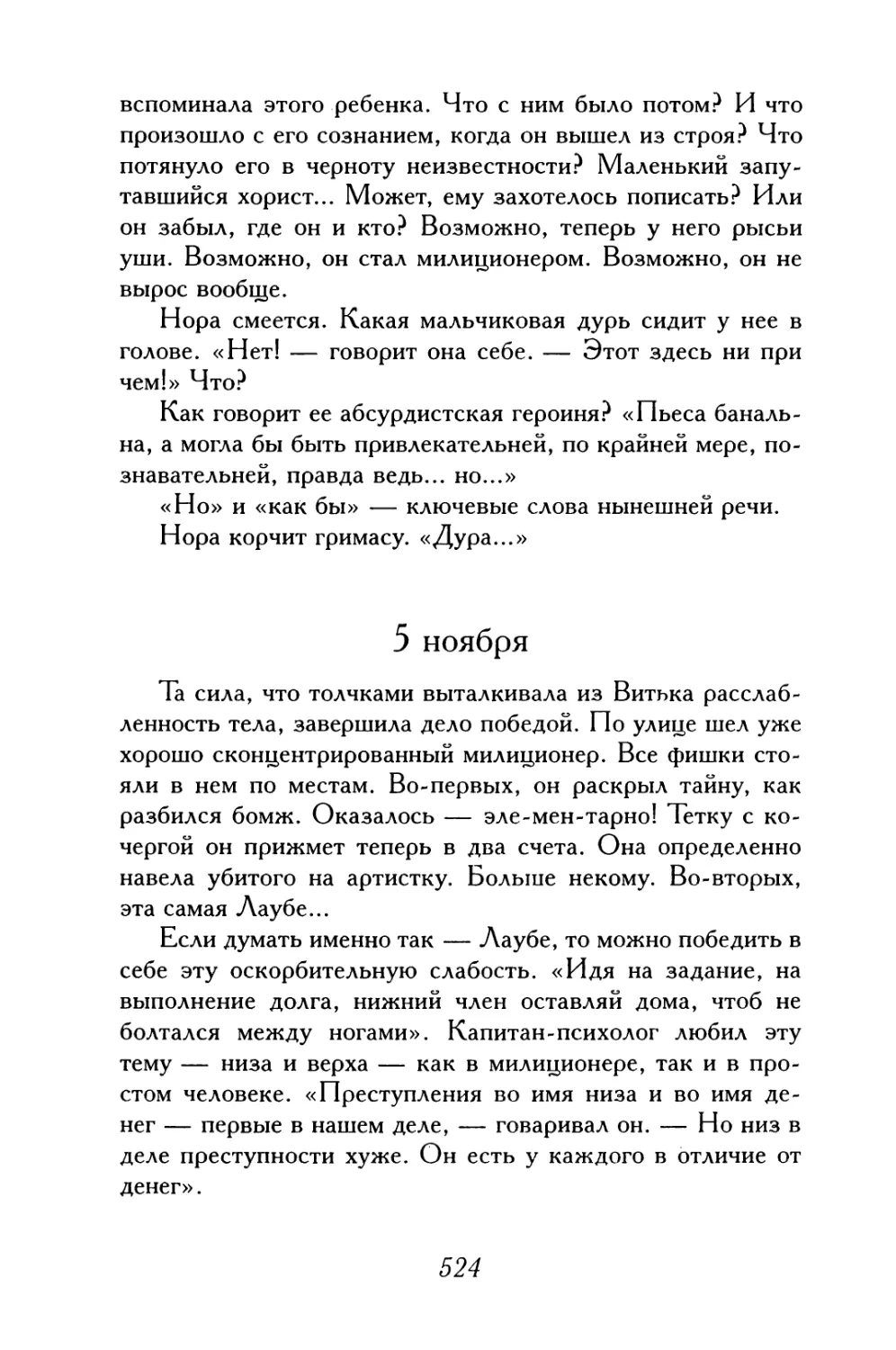Автор: Щербакова Г.
Теги: язык языкознание лингвистика литература художественная литература повести роман
ISBN: 5-264-00586-9
Год: 2001
Текст
ГАЛИНА
АРМИЯ
ЛЮБОВНИКОВ
РОМАН, ПОВЕСТИ
МОСКВА «ВАГРИУС» 2001
УДК 882-3
ББК 84Р7
Щ61
Дизайн Евгения Вельчинского
Охраняггся законом РФ
О!» АНГОРСКОМ ПРАВЕ.
Восшюизведш ihe
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕН! ЮГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.
Любые поныгки
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
ISBN 5-264-00586-9
© Издательство «ВАГРИУС», 2001
© Г.Щербакова, автор, 2001
Содержание
АРМИЯ ЛЮБОВНИКОВ
Роман 9
ПОВЕСТИ
Ьоуестория 239
Митина любовь 308
Актриса и милиционер 427
АРМИЯ
ЛЮБОВНИКОВ
РОМАН
С некоторых пор я жду телефонного звонка. Ожидание
почему-то всегда настигает меня у раковины, когда я выко¬
выриваю из стока чаинки, невероятно раздражающие
мужа. Я никогда не достигну совершенства в очищении
системы стоков, но именно в момент стремления к нему я
остро хочу, чтоб она мне позвонила.
Хочу услышать ее голос, в котором так рядышком жи¬
вут нахрапец и насмешка над ним же. Сначала она спро¬
сит, звонит ли Шурик. На этом меня легко подзавести:
Шурик не звонит. Те заграничные деньги, на которые он
живет далеко-далече, дороже наших. Я это понимаю, что
не мешает мне обижаться.
Тут, глядя одним глазом «Санта-Барбару», я вдруг об¬
наружила: такого понятия, как обидеться, у тамошних ге¬
роев как бы и нет. Они обходятся без него легко и просто,
как мы без личных адвокатов. Может, острое чувство оби¬
ды и есть наша защита, когда никакой другой нет. Впро¬
чем, я ведь не о том. Я о том, какой первый вопрос она
мне задаст, если позвонит. Десять лет тому назад она спра¬
шивала, как «проявляется» молодая невестка и правда ли,
что я ее так уж люблю, или придуряюсь, чтоб выглядеть
лучше других. У нее всегда вопросы с этой... подъ...кой.
Прости меня, господи! Двадцать лет назад она спрашива¬
ла, какие у сына размеры... Первые джинсы для него при¬
везла мне она. Венгерские, за 80 рэ, остальным — за 120.
Теперь вот канула. «Слава богу, — говорит муж, —
что у тебя с ней общего?»
9
В эти минуты я вижу его насквозь, потому что знаю: он
говорит так, чтоб потрафить мне.
На белом свете всего три человека, которые были оза¬
бочены этим — потрафлять мне. Дедушка, считавший,
что я самая умная, бабушка — что я самая красивая, и
муж, который всегда доказывает мне, что люди, огорчаю¬
щие меня или, не дай бог, меня ненавидящие, принадлежат
к той породе, с коей порядочные рядом не стоят. Где я —
где она? В смысле — та порода.
На всю жизнь всего три безоглядных, абсолютных
моих защитника. Много это или мало?
У меня долго не было квартиры. Еще дольше — денег.
Бывало, не было работы, удача приходила нервно-спора¬
дически, я теряла друзей и переставала любить близких.
— У вас очень сильная защита, — удивленно сказала
мне одна экстрасенстка, волею судеб оказавшаяся у меня
дома.
Она, специалист по прочности газовых котлов — в
этот момент я, возможно, прохожу у нее по разряду мел¬
ких котлов, — с интересом смотрит на меня, ожидая пояс¬
нений. Ей любопытна природа моей охраны. Но как я ей
скажу? Как я скажу про слова дедушки и бабушки, кото¬
рые живут до сих пор, никуда не делись, хотя их самих уже
нет более тридцати лет?
Я к тому, что понимаю логику мужа: он видит это мое
напряженное ожидание звонка и по-своему пытается мне
помочь.
Да, у меня с ней ничего общего, она — другая приро¬
да, у нее иначе течет кровь, иначе кудри вьются. Мы даже
не подруги...
Мы больше, потому что я ее соглядатай. Подсмотрщик.
Вампир-теоретик. Я прожила с ней то, чего мне не дано
было по определению: бодливой корове Бог рог не дает.
В сущности, она — это я. Только рогатая.
...Чужие жизни хорошо заключаются в сферу. Переби¬
рая пальцами шар бытия чужой жизни, ее можно наблю-
10
дать со всем возможным бесстыдством. Ведь Гомер не тас¬
кал за Ахилла его щит и Карамзин не шептал в ухо Эрасту,
какая он сволочь. Сфера, она и есть сфера. Ты тут, а они
там. Лев Николаевич, сладострастник, носил при себе
лупу, пряча ее от Софьи Андреевны в кармашке исподней
рубахи. Не было кармашков? А откуда вы знаете? Вы так
же точно не знаете про это, как я знаю. Просто чувствую:
вот он подносит лупу к глазу, чтоб разглядеть короткую
губку маленькой княгини. Вот он плачет от умиления и
страдает, что она у него скоро умрет. С этим — увы! —
уже ничего не поделаешь. Потому как блохой скачет эта
глазастая девчонка Наташка, а Андрей еще женат. Жалко
княгинюшку, но графинюшка — такая прелесть, но ведь
красавцы и умницы, как Болконский, даже на очень боль¬
шой роман бывают в единственном числе. А тут еще вой¬
на... И Пьер такой замечательный. Вот и плачет Лев Ни¬
колаевич, приставив лупу к глазу и любуясь в последний
раз короткой губешкой. Не жить ей, не жить...
Мне тоже хочется тихонечко мизинцем тронуть вспо¬
тевшую губку умирающей княгини. «Зачем ты так сде¬
лал? — скажу я старику с лупой. — Зачем ты их погубил
всех, лучших?»
Но мне уже некогда. Я уже иду внутрь собственной
истории, внутрь сферы, мне предстоит счастье мять и ти¬
скать своих персонажей, и больше всего достанется тем,
кто попадается мне «на раз».
Мне всегда жалко расставаться со случайными людь¬
ми, которые толкутся на обочинах сюжетов. Как, напри¬
мер, эта старушонка, что присела помочиться за огромным
щитом рекламы, на котором Синди Кроуфорд смачно —
из-з-зюм! — выпячивает накрашенные губки. Ни ста¬
рушка, ни Синди о существовании друг друга ничего не
знали. Могла ли Синди присесть пописать в людном месте
возле метро, прикрывшись самой собой? Могла ли старуш¬
ка вообразить биде этой фанерной «страхолюдины»? Это
11
ж какая у нее жизнь, думает старушка, если она на такую
работу — отпячивать губки — согласна? Да она бы смо¬
лоду и за сто рублей не стала этого делать.
Я покидаю ее с сожалением. Мне хотелось бы еще по¬
торчать тут, за щитом. Ноя уже вошла в сюжет... Грубова¬
то, скажем, но как умею... Я вошла в сюжет — вошла в
метро... Мне надо догнать ту, что мне не звонит. Она едет
от Киевского вокзала, и ей сейчас очень хочется подвзо-
рвать этот чертов мир. Поэтому она стоит у сквозной две¬
ри и матерится.
«Такая х...я!» — бормочет она и оглядывается, не слы¬
шал ли кто. Слышали... Бабулька, что сидит рядом —
о ней я как раз и говорила, — распахнула на нее старые,
уже не отсвечивающие глазки, но, встретив вполне при¬
стойный взгляд Ольги, стушевалась и даже, видимо, реши¬
ла, что неприличное слово родилось в голове у нее самой
(так с ней бывало), бабулька даже виновато ерзнула и про¬
шептала: «Господи, прости!» Ольга же никаких прощений
сроду ни у кого не просила, тем более за вырвавшееся сло¬
во. Слово это — из ряда тех обиходных, которые всегда
во рту и могут определять все что угодно: еду, настроение,
нового знакомого, погоду, обстановку в стране, отношение
к Думе там или войне. Спятишь, пока будешь искать дру¬
гое, адекватное, а это всегда между зубами, в ложбиночке
между пломбой и костью, живым и мертвым — где же
еще ему обретаться?
Я знакома с Ольгой сто лет и получила ее, так сказать,
со всем ее словарным запасом жизни. В нем намешано все.
А у кого не намешано? Давно приметила: отсутствие
выбора, одинаковость среды рождают в душе несчастного
человека тайный плюрализм такой гремучей смеси, что до
самовозгорания шаг. В нас во всех, пуристах и ханжах,
всегда достаточно б...а, а наша щедрость до дури непри¬
нужденно перерастает в такую копеечность, что для опи¬
сания ее требуется особый случай.
12
Так и Ольга. Природное целомудрие вспороли в ней
без анестезии, и она его давно «за доблесть не держит».
«Знаешь, это что?» — сказала она мне, когда мы только-
только стали принюхиваться друг к другу. Между прочим,
в прямом смысле слова: она возила из Польши косметику,
а Посполитую снабжала утюгами и кипятильниками.
Судьба свела нас на духах «Быть может»$До французско¬
го парфюма у страны тогда не доросли ноги, а зелененький
флакончик за рубль двадцать был народу по силам. Но он
был редок в продаже. Так вот, еще тогда она мне сказала:
«Таких правильных девочек, какой я была, жизнь выполо¬
ла в первую очередь. Теперь я баба грубая».
Ей было самое то — по нежному и красивому буты¬
лочным стеклом. «Меня знаешь, как первый раз трахнули?
Зашивать пришлось. А знаешь, кто? Инструктор райкома
комсомола. Я тогда в президиуме сидела, херувим такой с
бантиками... Кстати, ты не объяснишь, почему херувим на¬
чинается с хера? Им и кончается, между прочим... Я инст¬
руктора не выдала, но уже по другой своей дури — идео¬
логической. Я как бы не могла опорочить святое... Улавли¬
ваешь степень идиотизма? Степень сдвига? Решили, что
на меня напал маньяк. Его стали ловить, а я путалась в по¬
казаниях, кретинка такая».
Мне всегда была неприятна ее абсолютная откровен¬
ность. И я бы приняла за основу ею же брошенное слово
«дура», но это была неправда* Ольга была умная баба,
острая, быстро соображающая, точная в оценках. И одно¬
временно она бывала идиоткой без конца и краю, от Пари¬
жа до Находки, что называется.
Я терпеть не могу дураков. Это на самом деле недоста¬
ток, а никакая не доблесть, жизнь сто раз подсказывала
мне, что набитый дурак — не самое большое зло на земле,
что самое большое зло вспухает как раз в той компании,
где гнездятся, хлопая крыльями, умники. Это они завари¬
вают кашу, они придумывают идеи, от которых по земле
13
идут порча и корча. Дурость дураков в другом — в само¬
забвенном шаге навстречу умнику. Людоедство, бомба, ка¬
кой-нибудь иприт-люизит еще только лежат на полке дья¬
вола, первый умник еще почесывает бороденку, вполне,
может быть, размышляя: «А не очень ли я тут замахива¬
юсь?» — но дурак уже тут как тут, он рядом и готов взять
на себя черное дело умника. Так вот, я их ненавижу, этих,
которые всегда и во всем готовы. Я узнаю их в лицо сразу.
Я их унюхиваю. Я ощущаю их вибрации. Не дай вам бог
моего чутья! Унюхав что-то там, я прекращаю отношения,
я с треском рву эту ткань связи — и что? Сама же и не
досчитываюсь друзей, подруг... К чему это я? Ольга ни¬
когда — никогда! — совершая самые безумные поступ¬
ки, не давала оснований думать, что она дура. Такая вот
сякая, всякая-разная, часто идиотка, злобница, но не дура.
Поэтому мы, не дружа, дружили, и мне были интересны
переливы ее какой-то смешной и все-таки глупой жизни,
но я уже постигла еще одну истину. Умный человек может
прожить глупую жизнь. Глупому такое, наоборот, обло¬
миться не может.
Мы стоим в том моменте Ольгиной жизни, когда она
едет в метро и произносит характерное для нее слово.
А рядом бабулька, которая принимает это слово как свое.
О, это великое свойство моего народа — воображая, как
бы и быть. Навоображавшись за день, до дела ли? Поста¬
вить бы датчик внутрь, к нашим мысленным мостам, цар¬
ствам, кровопролитиям, высоким дымящимся фаллосам и
мохнатым, как звери, лонам. Ни к чему бы была другая
энергия.
Старушка была моим народом. Поэтому она мысленно
теснилась в узкой Ольгиной юбке и говорила неприличное
слово. Одновременно кумекая, что дама слева, в кожаном
пальто до пола и юбочке едва-едва, таких слов не может
знать — откуда ей, образованной? Она, что ли, ломалась
зимой на заводе по две смены в тонких голубых рейтузах,
к которым попа примерзала отнюдь не фигурально, но мо-
14
лодой тогда бабульке они так нравились, шелковые эти
штаны пятьдесят второго размера — какой был у нее, она
не знала, сроду по номерам ей ничего не покупалось. Вот с
тех рейтуз у нее, бабульки, цистит, проклятущая болезнь,
когда писать хочется часто-часто, и по всей ее жизни от
этого одни разочарования. Вот она и сказала: «х...я» —
она, эта, в запахе счастья, таких слов не знает.
То же самое о бабульке думала и Ольга. Вот, мол, из
нее, Ольги, жабы просто выпрыгивают, а эти божьи оду¬
ванчики, по многу раз видевшие Ленина в гробу, но не ве¬
рящие в его смерть, доживают свой век в нищете и дико¬
сти — и тем не менее чисто. От старушки пахнет простым
хозяйственным мылом и, как ни странно, чем-то еще и до¬
рогим. Ольга, чтоб не зацикливаться на этом, решила, что
пахнет святостью. Бабулька же — это к запаху — про¬
сто-напросто ехала от ворот кондитерской фабрики, где де¬
шево продавали шоколадный лом. Вот он и пах из ее сум¬
ки, как ему и положено, дорого. Перебитый жизнью шоко¬
лад. Даже у шоколада случаются разные судьбы.
Ольга думала свою мысль.
...Две недели назад она тоже ехала в метро, только к
вокзалу, а не от него. И у нее тогда был новый чемодан с
очень стильными металлическими углами. Она на эти углы
просто запала, когда увидела в магазине. Представила, как
понесет его носильщик, а она будет небрежно так на него
не смотреть, ибо не на «трех вокзалах» это произойдет,
где глаз нельзя спускать с носильщика, а лучше вообще бе¬
жать следом за ним, контролируя его постоянным касанием
вещей. Она так и ехала до самой Варшавы, практически не
слезая с нижней полки, где лежал чемодан, в туалет ходила
ограниченное число раз и так расстроила желудок, что, не
будь по дороге Варшавы, практически своего родного го¬
рода, в котором поймут твои проблемы, неизвестно, чем бы
это кончилось. Ванда же дала какие-то таблетки, ее не¬
множко покрутило в кишках, и все прошло. Ванда — спец
15
по лекарствам, отправляет их в Союз, извиняюсь, в Рос¬
сию, но не через Ольгу. Другой у нее канал. Ванда в курсе
всей Ольгиной жизни — от и до. Она, можно сказать, с
младых ногтей знала и ее маму-инвалида, и дочку-акселе-
ратку. Идиллическое было время, просто другая эпоха!
Дочка у Ольги всегда была хорошо одета, а у мамы в тум¬
бочке лежали лекарства от всего. Частично Ванда просто
дарила их Ольге.
Сейчас дочка, слава богу, хорошо замужем, у зятя ди¬
коватый (продает спортсменов) бизнес с Испанией, мама
умерла, царство ей небесное, умерла практически без про¬
блем для окружающих, что есть высшая степень святости
жизни, потому как... Тут и объяснять не нужно. По ны¬
нешним временам умирать надо мгновенно: раз — и ты
готов, по типу действия СВЧ. Или что там у нас первое по
скорости... Сейчас до фига замечательных вещей. Они
должны помочь людям жить быстро, но и научить умирать
на слове «раз». Мама-покойница откуда-то знала это
сама, умница такая.
Но вернемся к чемодану. Ольга купила этот, с уголоч¬
ками, потому что была#идея (будь она проклята!), что от
них, отпадных уголков, ее мир начнет строиться заново,
по какой-то другой схеме. Как строит Москву Лужков?
Дом-коробка, дом-коробка, а он (или кто у него там?)
придумывает к коробке зеленую крышу теремком, встав¬
ляет в нее пистон-шпиль. Пришпандоривает к дому
крыльцо с козырьком под цвет крыши, опять же пистон-
шпиль, и глядишь — нелепый дом как бы взыграл. Те¬
перь человеческий пример. Всю жизнь ты ходил в корич¬
невом немарком пальто, а потом раздухариваешься и
покупаешь бежевое с воротником хомутиком и с пугови¬
цами, которые вполне могли бы работать маленькими
блюдечками. И пошли вы все! Вот и Ольга, оттолкнув¬
шись от Лужкова и чемодана, взяла и нарисовала новую
схему собственной жизни. Дочь в замуже, мама в могиле,
и лет ей всего ничего, она даже еще при менструации, ко-
16
торая приходит как часы. Разве не время новой крыши,
шпиля и прочих излишеств яркого цвета? К тому же...
Это существенно...
Время это расцвечено не только шпилями там и сям, не
только перетаскиванием с места на место Поклонной горы
скульптуры, посвященной горю — она как бы не в пандан
идее времени, — но и другими чудными вещами. Напри¬
мер, желанием стать князем там или графом. Просто так,
потому что хочется! Одной милой моему сердцу даме за
заслуги в науке дали такой титул, напрочь обойдя факт
биографии, что батя ее, царство ему небесное, был бойцом
на мясокомбинате. Я, увы, не вегетарианка, я ем братьев
моих меньших. И понимаю: кто-то должен обслуживать
мои хищные потребности. Должны быть для этого бойцы-
убийцы. Но чтоб приставили к этому делу князя! Милая
моему сердцу дама тоже смеется над фактом своего княже¬
ства. «Это ведь так, — говорит она. — Понарошку». Но
штуковину с гербом на стену все-таки повесила, и гля¬
дишь — через какое-то небыстрое время мои внуки будут
называть ее внуков «вашеством» или кем там еще... Мне
что, жалко? Что, внуки сами не разберутся? Но помните, я
как бы уже намекала... Умный только придумывает па¬
кость... Шаг вперед всегда делает дурак.
Мы с Ольгой обсмеяли все эти «из грязи в князи» дав¬
но и со вкусом. Наши отношения претерпели многое за
время великих перемен. Польша перестала быть Клондай¬
ком спекулянтов, мир стал куда шире и соблазнительней.
К примеру, взыграла Турция. Египет перестал быть кар¬
тинкой с пирамидой. Ольга уже могла себе позволить не
таскать тюки, но совсем не таскать тоже было нельзя: ин¬
ститут, где она была вечным мэнээсом, сгорел синим пла¬
менем, а хотелось и то, и се... Какие ее годы? Хотя выйти
замуж немолодой женщине — дело практически безна¬
дежное, если ты не просто ищешь штаны в квартиру. Есть
такие, что именно это и ищут: чтоб мычала, бурчала, сопе¬
ла другая природа. И мы с Ольгой даже решили, что кам-
17
ня в наших сестер мы не бросим. «У каждого свой
вкус», — говорила Ольга.
Для себя она хотела другого. Первый, трагический, слу¬
чай юности отодвинул ее женский опыт лет на десять. Все
обязательные правила той жизни были выполнены: институт
окончен, отхлопано бесконечно неподвижное при возмож¬
ных потрясениях место в НИИ, Ольга пошла, что называ¬
ется, своими ножками. Мама, тогда еще живая, все боялась,
что ее лежачая болезнь станет камнем преткновения. При¬
дет молодой человек в дом, а тут мама лежит, и низко спу¬
щенное одеяло как нельзя больше подсказывает глазу, что
именно там, под одеялом, стоит этот самый прибор по имени
«утка». Как на это может реагировать молодой претендую¬
щий человек? С отвращением. Поэтому у Ольги раньше
всех оказалась однокомнатная кооперативная квартира, в
которой она ни дня не жила. Папа надорвался, зарабатывая
на пай, и вскоре умер. Мама целиком легла на руки Ольги, а
квартира дождалась своего часа. Манька, дочь, переехала в
нее сразу после десятого класса.
Так вот. Дочь у Ольги не от ветра. Муж у нее был.
И довольно долго, между прочим. Нормальный муж, под
свисающее одеяло покойной тещи не заглядывал. Хорошо
относился к маме, тайком от Ольги давал ей выпить рюма-
шечку-другую. Ольга была в этом смысле строга до отвра¬
щения. Хотя почему было не дать выпить лежачей матери,
у которой радости было в жизни — смотреть на Валенти¬
ну Леонтьеву и вспоминать, как однажды они встретились
в магазине и Леонтьева будто бы спросила у матери Оль¬
ги, как она считает, пойдет ли ей салатный цвет? И будто
бы мать объяснила ей, Леонтьевой, что салатный лучше не
носить вообще — он бледнит, — ей, Валентине, можно
носить хоть серо-буро-малиновый, хоть не разбери-пойми
какой, потому что она сама — цвет! Если случайная, даже
не факт, что состоявшаяся встреча наполняла жизнь мате¬
ри смыслом («Я сказала ей: “Вы сами — цвет!”»), то что
такое две рюмашечки? Просто святое дело!
18
Дальше пойдет идеология. Хорошо бы о ней написать
не словами, а какими-нибудь кружочками, потому что букв
жалко, но куда ж без них? Разошлась Ольга с мужем, по¬
тому что в момент каких-то важных первых выборов
вспомнила себя в белом воротничке и того потного гада в
лакированных ботинках. В результате пошли они с мужем
на разные собрания. Правда, он ей сказал: «Ну, хочешь, я
пойду с тобой, хочешь?» Но это уже не имело значения.
Он ведь по сути своей инстинктивно выбрал то, откуда она
также инстинктивно бежала. Сработала автоматика, кото¬
рая, как известно, — бездуховная дура, но поди ж ты,
действует безошибочно.
Однажды, сидя перед телевизором, Ольга потеряла со¬
знание, не надолго, на чуть-чуть, но когда «вернулась»,
ощутила такую жаркую, такую лютую ненависть, что по¬
звонила мне.
— Слушай, — сказала, — быстро расскажи анек¬
дот. Только не думай, сразу...
— Встречаются Сталин и Зюганов...
Она бросила трубку.
Потом перезвонила и сказала:
— Извини, я хотела про чукчу. Про евреев. Что, про
них анекдоты кончились?
Мы поговорили на эту тему. Какие мы дуры, что не
вышли за евреев и они нас не увезли подальше от этой
земли. Вялый получился разговор, без энергетики — ну,
не вышли, ну, не увезли... Такие две уже неподъемные тет¬
ки, которым, как тому петуху, все одно: догонять ли кури¬
цу для... или чтоб просто согреться. И второе даже пред¬
почтительнее, раз уже возникает в голове как возможный
вариант. О! За тайностью мотивов очень и очень надо
послеживать.
Но Ольга все-таки попробовала выйти замуж за грани¬
цу, почему и чемодан возник. Это не было принципом: за
границу, и только. Просто случай шел ей в руки. Черным
по белому было написано, что некий немолодой и вдовый,
19
как бы из маркизов, обеспеченный так, чтоб не брать в го¬
лову проблему мыла, свечей и керосина, жаждет любви
славянки-блондинки без детей, не выше сорока пяти лет.
«Только идиот будет придираться к разнице», — подума¬
ла Ольга.
Ключевое слово «маркиз» попало не просто в сердце,
что там сердце! Оно здоровущее, в него попасть — раз
плюнуть. Слово попало в сущность невидимую, в некое
средостение молекулы, выполняющей одну из самых не¬
благодарных задач: молекула эта отвечала в нас за все тай¬
ные притязания. Шпили, консоли, витые лестницы, специ¬
альные вилки для рыбы, шляпы с пером, выдернутым из
задницы павлина. (Боже, как им не жалко птиц!) И мно¬
гие другие деликатные разности, которых я могу и не
знать. Я не Ольга, и хотя у меня самой притязаний вагон
и маленькая тележка, в меня бы слово «маркиз» сроду не
влетело, а в Ольгину молекулу — просто с первого по¬
падания.
Вот почему мы коснулись этой дуромании: встрять в
князья там или графья, откопать в прошлом беленькую ко¬
сточку ноги, такой из себя нежной, слабой, не раздавлен¬
ной весом жизни, чтоб и во тьме она тебе светила, если
больше нечему.
Я сколько угодно могу изгаляться над слабостями сво¬
его народа, если бы одновременно не работал во мне про¬
цесс удовольствия постижения его тайны. И того всемир¬
ного удивления, какое мы вызываем у народов, менее
изысканных по составу молекул. В один и тот же день,
когда нам показали побежденные до основания Самаш¬
ки — что ни говори, упоительная победа! — мы увидели
и другое: французские вышивальщицы на белоснежном по¬
лотне наволочек нежной кириллицей — для нас! — иго¬
лочкой выковыривали слова «Спокойной ночи!». В один и
тот же день мы являли миру наше непобедимое умение
спать на сырой земле и укрываться чувалом (Самашки) и
жажду чего-то невообразимо красивого.
20
Я понимаю, что разные головы припадали к земле и
подушке в этих двух случаях, но это были русские головы,
что называется, из одной и той же школы, с одной и той же
улицы.
Но однажды их постигает великое разочарование во
всеобщем мироустройстве. Такое уже с народом бывало и
раньше. И в этот раз замечательный с виду был строй,
так радостно во все стороны дымили трубы, так справед¬
ливо делили тебе половину, а мне — вторую, но настал
момент усталости человеческого металла, и котлован сча¬
стья пришлось срочно засыпать... Остается вопрос. Куда
делось разочарование? Я принципиально не хочу прыгать
в глубину этого трагического чувства, оно велико. И мне
не вынырнуть из него. Я — про мастериц, в которых
вдруг откликнулось великое пролетарское разочарование.
И они стали вышивать этому народу непонятные им сло¬
ва. Другие же, оборотистые, стали рисовать гербы и сим¬
волы крепости рода, которые как бы выпрямляли разоча¬
рованного человека, давали ему новый ключ: ищи, голуб¬
чик Буратино, деревянная твоя башка, свою дверь в стене,
ищи. Маленькую и железную. Может, и вскроешь.
В это же время бомбили Самашки.
Я к тому, что хотя клев Ольги на что-то эдакое и пока¬
зался мне идиотским, но снисхождения и понимания он у
меня заслуживал. Ра-зо-ча-ро-ва-ние. Ну все в ее жизни
было, все! Маркиза — скажем! — не было.
Бабулька — ах, как она мне дорога! — то ли приеха¬
ла к месту, то ли вышла по малой нужде цистита. Рядом
никто не сел, и Ольга распласталась вольно, не вбирая
тела в тугую кучку, не выстраивая ног строго по линии
красоты. Она их даже слегка расставила, ощущая радость
освобождения. Обиженно треснула по шву узенькая юбоч¬
ка для молоденькой барышни, которую Ольга побеждала
как классового врага. «Выброшу к чертовой матери!» —
подумала она о юбке теперь. Конечно, есть дочь, но зачем
21
дочери знать степень поражения матери, когда дорогая
фирменная вещь ей не в кайф, а ведь как радовалась, когда
влезла и поняла, что три килограмма сбросить ей не стоит
ничего, зато вид — уйди-вырвусь!
Дочерям информацию про себя надо выдавать дозиро-
ванно. Даже не так. Выдавать надо положительную, даже
с любым прибрехом. Ольга сидела возле сквозной двери.
В соседнем вагоне тоже было пустовато. Люди укачива¬
лись, отдаваясь движению, некоторые задремывали. Через
два стекла от нее спал с открытым ртом Федор. Один из
немаркизов ее жизни.
«Изо рта определенно разит», — подумала она. Но
что поделать с этим русским национальным чувством —
торкнулась в расслабленном теле жалость не жалость, со¬
чувствие не сочувствие, одним словом, нечто-нечтное.
Неопознанный летающий вирус внедрился в Ольгу и по¬
шел делиться, как полоумный, без оглядки по сторонам.
От этих простейших, не видимых простым глазом — вся
наша погибель. Если не сейчас, то потом.
...Первое воспоминание жизни — воспоминание о
мальчике, который писает ей на ноги. Потрясение от со¬
вершенного, в отличие от ее, приспособления, делающего
это дело, оглушительный гнев, что у нее не так, ор, рев,
мальчика уносят, ее уносят тоже и грубо бросают на спину,
чтоб стянуть мокрые чулочки. Потом ничего-ничего, и сно¬
ва мальчик, который ездит на велосипеде туда-сюда по ко¬
ридору. У нее нет велосипеда, и она снова кричит, и полу¬
чается, что Федор вошел в ее жизнь чувством завистливо¬
го гнева. Но это сейчас так можно сформулировать. Взрос¬
лый ум обращается с фактами вольно, он их тасует, он от
них освобождается, он их подменяет, одним словом, пола¬
гаясь на ум, ты полагаешься на вещь не безусловно точ-
22
ную — ум химичит будь здоров. А тогда, в детстве, ни¬
чего подобного быть не могло. Слезы непринужденно пе¬
реходили в смех, зависть — в подельчивость, они прожи¬
ли с Федькой долгую счастливую коридорную жизнь, сей¬
час вспоминаешь — одна радость. Хорошее надо держать
в резервации, и холить его, и нежить. Высаживать хорошее
в грунт жизни — дело глупое и бесполезное. Хорошее до
ничего растворяется в жизненной массе, оно не дает чи¬
стых побегов, оно забывает себя, оно доверчиво притули-
вается к чему ни попадя, глядишь — у него уже и лицо не
то, и походка, и пахнет оно дерьмецом, а с таких начина¬
лось фиалок!
Через много лет, встретившись после детства с Федо¬
ром, Ольга с порога кинулась понимать и любить его, как
тогда, раньше... И чем кончилось?
У Федора была мама, которая осталась в памяти съем¬
ным сиденьем для унитаза, зажатым под мышкой. Мама
выхаживала по коридору туда-сюда, такая опрятная, под¬
тянутая дама. «Ей бы веер из перьев в руки, а не этот де¬
ревянный круг», — думала уже впоследствии Ольга, ког¬
да прошлое стало распадаться на отдельные части, и эти
части несли в себе нечто противоположное друг другу, тог¬
да как не в распадке оно, прошлое, являло собой вполне
цельное целое.
Мама Федора звала сына Тедди, сама называлась Лу¬
изой Францевной, тем, что была из немок, гордилась, а
это было время, когда от войны мы отъехали совсем неда¬
леко и народ еще люто ненавидел фрицев и не признавал
за немцем права быть гордым, поэтому можно себе пред¬
ставить общий коммунальный настрой. Но все обходилось!
Вот в чем главный результат — все обходилось без тяже¬
лых для квартиры последствий. И гордая немка, и во всем
виноватые евреи, и лишенные всяких национальных амби¬
ций великороссы, и примкнувшие к ним со своей украин¬
ской спесью хохлы, и имеющие задний ум татары, и пыл-
23
кий осетин чечеточник — все они в некую минуту разби¬
вали в сердцах лампочку Ильича на кухне, опрокидывали
со стены велосипед, сдергивали с веревки белье ближнего
врага данной минуты, а потом замирялись, сплачиваясь на
объединяющей всех нелюбви к врагам дальним — амери¬
канцам там или безродным космополитам. К евреям, само
собой. Ольге приятно было думать, что ее коммуналка «не
сдала никого». Что Михаил Ваныч "Гришин, исполняя в их
братстве определенные обязанности, ограничивался стро¬
гими беседами в неработающей ванной, приспособленной
жильцами для склада вышедших на пенсию вещей. Ваныч
включал свет в уборной и под сенью желто-светящегося
окошка — в бывшей ванной сроду не было лампочки —
вел свой сущностный разговор, а мог ведь и не вести, но он
предпочитал жечь электричество, чем «жечь человека»...
Все это давало основание Ольге уже в другие времена
защищать свой народ от излишних поклепов. Не будь до¬
статочного количества Ванычей, кричала она, интуитивно
переходя к философским категориям необходимого и до¬
статочного, народа не было бы вообще. Но он есть, следо¬
вательно... «Не каждый второй сволочь, и даже не каждый
третий там или пятый... Нас в квартире было двадцать
семь человек, и все выжили». Тут Ольга лукавила, ибо
вела только послевоенный счет: до войны в коммуналке
жили сорок два человека. Но вправе ли мы судить то, чего
не видели, вернее, не так... Если мы не судим того, что не
видели, наша совесть вполне может не исторгать крик. Ее
там не было.
Все это к тому, что Луиза Францевна существовала в
квартире защищенно, хотя любима не была. А вот Тедди
был обожаем, ему за красоту и детскую лукавость проща¬
лось практически все. И самым большим горем детства
Ольги было получение их семьей отдельной квартиры.
Мама тогда уже начала болеть, у нее было какое-то редкое
заболевание, при котором в организме постепенно умирает
все. Такой была медицинская справка! Папе одному из
24
первых на заводе дали на основании ее отдельную кварти¬
ру. Ольга цеплялась за дверной косяк и кричала благим
матом, не желая покидать старую комнату, и народ смот¬
рел на нее как на ненормальную. Поглощенные естествен¬
ным чувством зависти к такому счастью, как отдельная и
практически недостижимая квартира, люди были даже
раздражены криком девочки, и кто-то сказал: «Ишь какая
растет артистка!» — имея в виду, что Ольга нарочно зака¬
тила концерт прощания, а на самом-то деле тоже внутри
себя рада, но придуряется, «дает гастроль».
— Подари Олечке что-нибудь на память, — сказала
Луиза Францевна сыну.
Сиденье от унитаза уютно пряталось у нее под мыш¬
кой, как ему и полагалось, и вообще все люди были, как
всегда, замечательно привычными, только вот в семье Оли
случилось горе отличия. Мама в летнюю пору стояла в
зимнем пальто, спинки кровати были связаны рваными
детскими чулочками, в выварке лежала завернутая в мами¬
ну юбку хрустальная люстра. «Единственный дорогой
предмет», — так говорила мама.
Пришел лучезарный Тедди и вручил Оле безухого
слона. «На всю жизнь», — сказал он ей. Она его выки¬
нула через десять лет, после встречи на городской комсо¬
мольской конференции. Тот день пометил всю ее жизнь
цветом боли и ненависти. Слон радости в ней уже не по¬
мещался.
Надо же! Это был первый год без папы. Она потом ду¬
мала, случайно или нет произошло так, что уход папы, лю¬
бимого, драгоценного мужчины в доме, ознаменовал окон¬
чательное отсутствие порядочных мужиков. И вообще, и в
ее жизни. Папа как бы вывел за собой всю приличную
рать, но тогда что за жестокость с его стороны? Или она
сама, рать — хорошие дядьки, — кинулась сломя голову
в возникшую с уходом папы брешь, ушла за заводилой?
Но это более поздние Ольгины мысли. Тогда была просто
постоянная печаль. Острота горя прошла, как ни странно,
25
довольно быстро, а вот печаль с утра до вечера растяну¬
лась, считай, на всю жизнь.
Значит, комсомольская конференция. Это уже потом,
потом... У мамы тогда был хороший период, и она сама по¬
шла в булочную и галантерею. Галантерея была на втором
этаже, и мама стеснялась медленно карабкаться по сту¬
пенькам, вцепившись в перила. Но так хотелось добрести
до парфюмерии и попялиться на разные разности, вот тог¬
да она и высмотрела в соседнем отсеке кружевце, тоню¬
сенькое, белюсенькое и с загибом кончиков. Мама купила
его для Ольгиной формы, под шейку и на рукава. И имен¬
но на конференцию эту красоту пришила. Оля понравилась
себе, что-то было в ней, что-то было в кружавчиках, во
всяком случае, в груди ее возник радостный холодок впер¬
вые после смерти папы.
В фойе дворца, куда они все собрались, ее дернул за
рукав здоровенный парень, она отпрянула, потому что не
признавала этой манеры — дергать себя чужими руками,
а парень возьми и скажи:
— Если ты не Олька, то тогда извини.
Странный подход. Она — Олька, и именно она это
извинить не может, но ее остановили его слова, что-то дав¬
нее и хорошее настигло и сказало: сообрази своей головой,
дура. И голова сообразила.
— Тедди! — закричала она тоненько.
— Замолкни, — засмеялся Тедди, — я Федя, Фе¬
денька, Федюнчик.
Они ходили по фойе едва не в обнимку, вернее, совсем
в обнимку, иначе с чего бы этой вожатой ее школы заши¬
петь ей в ухо: «Ты думаешь, как себя ведешь?» А как она
себя вела?
Но оказалось все не так просто. Потому как в обнимку
с Федей ее увидел и инструктор райкома Юрий Петрович,
и у него возникли, можно сказать, законные основания
пригласить ее после говорящей части конференции в штаб
и защелкнуть за собой дверь.
26
— Ходит такая цыпочка-давалочка — и мимо
меня, — говорил он, закидывая ей подол на голову.
Он легко закинулся, подол, мама гордилась кроем юбки
Ольгиной формы-двенадцатиклинки — уже и забыли, что
это такое, а мама хранила выкройку своей мамы еще из до-
войны. Трухлявая такая выкройка, сто раз подклеенная, но
маме очень дорогая. Знала бы ты, мамочка...
Пока она давилась собственной юбкой, стесняясь не то
что крикнуть, а просто подать по-собачьи голос, Юрий
Петрович царапал ей кожу плохо остриженными ногтями.
Вместо того чтобы двинуть его коленкой, Ольга тупо раз¬
мышляла о том, что это правда: быть можно дельным че¬
ловеком и думать о красе ногтей. И еще ее посетили дру¬
гие странные мысли — нет ли у нее дурного запаха, — в
общем, ее рвали, терзали, а она кусала кружавчики и дума¬
ла черт знает о чем, отчего потом и была десять лет в сту¬
поре, так как считала: она тогда не сопротивлялась, значит,
как бы дала согласие. Разрешила. Правда, медицинское
обследование обнаружило совсем другое: при согласии не
бывает множественных травм, вплоть до прикушенного до
крови языка, к которому прилипли белые нитки кружева.
Но об этом как-нибудь потом... Мы ведь сейчас о Фе¬
доре. Его тогда вызывали в милицию, так как именно на
него показала вожатая. Вечером к ним в дом влетела Луи¬
за Францевна, а они с мамой были как замороженные.
Ольга не могла сразу, как теперь говорят, врубиться в Лу¬
изу Францевну, кто она и зачем, а когда поняла, спросила:
«А где ваш... этот... стульчак?» Тут уже все пошло до са¬
мых небес! И пока Луиза Францевна орала на маму —
разве можно было сообразить такое, если выдвинуть из
прошлого старый ее образ, — в Ольге проклюнулась и
стала расцветать «лилия подлости». Почему лилия? Но
Ольге думалось так: во мне расцветает «лилия подлости».
Просто в какой-то миг крика Францевны и стекленения
глаз мамы Ольга решила: «А пусть это будет Тедди!
Пусть будет он!» Так радостно было уничтожить кого-то,
27
зацарапать уже своими ногтями, натянуть что-нибудь на
чужую голову, пусть сволочь давится, пусть! А потом —
голым на мороз...
Но тут Луиза Францевна выкричалась и опала. Из
нее, опавшей, стали выходить другие слова, Ольга даже
сразу не сообразила, что гордая немка, в сущности, допу¬
скает, что это мог быть Тедя-Федя, что она готова нести
возмещение ущерба, просто им — Ольге и маме — надо
помнить, что она женщина бедная. Мама совсем перестала
соображать, а Ольга вдруг увидела, что у нее засохла, к
чертовой матери, «лилия подлости», что ей уже жалко это¬
го ни в чем не виноватого Федьку, которого эта дура без
стульчака готова женить на Ольге, «раз уж так получи¬
лось»... Это третье превращение Луизы Францевны — в
возможную свекровь — Ольга пропустила, потому что
наблюдала за «лилией подлости», за ее усыханием, а когда
увидела, как мама Федьки тянет ручонки к ее маме с кри¬
ком: «Не погубите!» — окончательно пришла в себя и ска¬
зала четко, что ей это все надоело до чертиков, что Федька
тут ни при чем, что она не отвечает за милицию — кого та
вызывает, а кого нет, — Федьке привет и идите вы своей
дорогой к такой-то матери.
Луизе Францевне, сыгравшей во всем этом спектакле
целых три характера, было трудно выйти из образов, и она
еще какое-то время впадала то в один, то в другой. Ушла же
она в полуобморочном состоянии, все-таки силы были по¬
трачены немалые, но так как собственная Олина мама была
тоже в этом же состоянии, то выбирать не приходилось: Лу¬
изу Францевну утешать и отпаивать Ольга не стала.
Милиция насильника так и не нашла, хотя долго ходила
с сосредоточенной мордой. То время еще делало вид, что у
него системы фурычат и насильники ловятся.
Однажды Федор встретил ее возле школы.
— Ты живая? — спросил он.
Никогда в жизни, никогда не было у нее такого острого
желания кинуться на мужскую грудь и пусть даже раз-
28
биться. Но так близко была школа и так возможна была у
окна страж-вожатая, что Ольга сделала все наоборот.
— А пошел ты... — процедила она сквозь зубы.
И почему-то добавила: — Немецкая твоя морда...
Эту историю Ольга рассказывала довольно часто, и,
будь она постарше, мысль о раннем склерозе не была бы
неуместной. А уж о каком-то особом свойстве памяти —
тем более. Причуд ведь на свете куча мала. У меня есть
приятель, у которого тоже «заедает память».
Рассказываю по случаю, потому что «немецкая морда»
Ольги временами меня доставала.
Так вот приятель. Приходит, садится, будто радуется
встрече. Ждет вопросов о себе. Это, в конце концов, неиз¬
бежно: ведь он для того и пришел, чтоб рассказать о себе.
Политика там, Пушкин или эмиссия денег иссякают мгно¬
венно. Пушкин — потому, что сколько же можно. Това¬
ры, цены и русский демократизм — по причине их низко-
сти для нашей встречи.
— Ну как твои дела? — обреченно спрашиваю я.
— Был у главного... Спрашиваю... Когда будете пла¬
тить? Тот стоит, смотрит в окно. «Последняя туча рассеян¬
ной бури... — говорит. А потом: — Зарплата? Но ты же
голосовал за Ельцина? За этот порядок? Иди, он по¬
даст. ..»
Приятель громко смеется, и изо рта его летят крошки и
брызги, я отслеживаю их полет, чтобы потом пройтись по
ним тряпкой.
— ...Последняя туча рассеянной бури? Зарплата? Ты
же голосовал за Ельцина?
И снова обвал изо рта, в котором дрожит мощный, в
рытвинах язык. Я беру тряпку.
— ...Последняя туча рассеянной бури? — радостно
кричит он в третий раз, а я знаю: будет четвертый и пятый,
до бесконечности... Его надо обрубить или заткнуть ему
рот этой самой тряпкой, но я такая в этот момент медлен-
29
ная, такая осевшая на дно... Ну, в общем, в конце концов я
встряхиваюсь и начинаю вытирать стол.
— Как здоровье жены? — внедряюсь я в тучу, зар¬
плату и Ельцина. Приятель адекватен, мы непринужденно
переходим к жене, будто только что не крутились в воронке.
Я рассказываю этот случай как еще один признак на¬
шей болезни — скрытого паралича, который давно в нас
поселился и водит по кругу мыслей ли, поступков... Так и
живем...
Вот и Ольга сто семнадцать раз рассказывала мне, как
обозвала Федора «немецкой мордой».
На этом все и кончилось в тот период времени, когда
была жива еще ее мама, когда существовали неотъемлемой
частью школы пионервожатые, многие из них были при¬
чудливыми существами, сотканными из необразованности,
энтузиазма и практически обязательного гормонального
дисбаланса или как там назвать это их пребывание в неко¬
ем усредненном, как правило, роде.
Ольга тогда почти десять лет жила с ощущением, что
умрет от одного прикосновения мужчины. «Немецкая мор¬
да» обрубила в ней женское желание «припасть» — или
как это называется? — к другой природе.
В эти годы у мамы сильно обострилась болезнь. При
отце Ольга не подозревала, что у всякой болезни большой
спектр составных. Что аптека, лекарства, градусник и мок¬
рое полотенце на голову — бутончики болезни, за кото¬
рыми след в след идут пеленки, прокладки, судна. Что все
это плохо пахнет и еще хуже выветривается. При папе она
этого не знала, теперь же этому надо было учиться. Тут
надо сказать одну вещь. Живи Ольга нормальной, не из¬
насилованной жизнью, еще неизвестно, как бы у нее полу¬
чилось с маминой болезнью. Ведь у очень многих не полу¬
чается. Родных матушек скидывают в богадельни по при¬
чине аммиачных паров не с ощущением разрыва сердца, а с
полным сознанием, что с парами жить нельзя, а значит,
правильно скинуть родительницу.
30
Я иногда в транспорте разглядываю людей с этой точки
зрения: способен ли он или она ухаживать за близким? Не
за чужим, а именно за своим — очень близким?
Ах, как неутешительно выглядит картина, хотя и не без
случаев попадания пальцем в небо.
...Еду в долгом трамвае. Вламывается пьяная тетка.
Остановившись посередине, она внимательно смотрит на
нас всех, и мы ей не нравимся.
— Сволочи! — говорит она нам. — Суки вы! Сели и
едут... Ишь, с дитями... Рожают... бляди... Я щас вас всех
проверю... На вшивость! Снимайте, гады, шляпы! Буду
считать гниды...
Она примеряется к ближайшей женщине, та начинает
орать, за ней — другие, и выясняется, что это — наш
ор — и было целью пьяной бабы. Она просто заходится от
восторга, видя наши рты и глаза. Она просто радостно присе¬
дает от зрелища нас. Все так поглощены собственным возму¬
щением, что она почти незаметно выскакивает из трамвая, а
мы еще долго толчем тему «пьяных стерв», из-за которых мы
недосчитываем на ниве жизни Толстых и Чеховых, каждый
из нас на ничтожности этой тетки становится выше, лучше.
Не все ли равно, что подставить себе под ноги, чтоб взор-
лить? И тут в транспортном заторе, пока трамвай стоит, к
нам по-домашнему, как из соседней комнаты, выходит води¬
тель, тоже простая тетка, в теплом исподнем, торчащем из-
под юбки на случай сквозняков из передней двери.
— Раззявили варежки! — говорит она со странной
беззлобной ненавистью.
Ненависть эта изначальна. Она как числитель жизни,
крупный такой числитель, не два плюс три. И делится
этот числитель на некий знаменатель икс — то ли на ко¬
личество народа в стране, то ли на дни в году, а может, во¬
обще на число, которому еще не назначили имя. В резуль¬
тате деления и рождается, вернее, не рождается, а выпада¬
ет в сухой осадок экстракт злобы. Чистое вещество.
31
— Орете тут! — говорит водительница нам. —
А эта пьяная из конца в конец три раза в неделю ездит к
парализованной подруге убирать и убираться, потому как
трезвые родственники ее бросили, а подруга осталась. Она
после ее говнов обязательно напивается. Туда едет тихая,
смирная, а назад — буянит...
Отдаю себе полный отчет: я тоже не мать Тереза...
Ольга же... Ольга... В свои шестнадцать она приняла
на себя и боль, и аммиачные пары, и все вытекающее, и
было это у нее естественно, как и должно быть у людей хо¬
роших. Но ничего сподвижнического на ее лице сроду бы
никто не прочел. Я видела ее фотографии тех лет. Сцеп¬
ленные губы, холодные глаза и обхват себя руками. Стран¬
ная жесткая поза. Уже потом Ольга сама нет-нет, а вспом¬
нит какие-то знаки судьбы, которые были уже тогда. Зна¬
ки судьбы женщины — это знаки мужчин. Казалось,
ничего подобного в смысле интереса умственного или там
физического и близко не было, но знаки были.
— Были, — говорила она мне. — Еще какие!
Однажды иду по улице, а я ходила всегда очень быстро,
без этой манеры вразвалочку, откуда у меня время!
И вот иду, а под ноги мне летит мяч, детский. Я его взя¬
ла рукой, не стала пинать, рядом дорога. Взяла и огляды¬
ваюсь... И вдруг понимаю, что никого нет... Никаких де¬
тей... А я чего-то стою, жду... Проехал какой-то парень
на велосипеде... Кто-то снизу, под согнутый локоть, на
меня посмотрел. Я подумала: «Боже мой!» И все. По¬
ложила мяч возле урны и пошла, а это «Боже мой!» душу
ломит, ломит... Я его лица не видела. Он же меня пере¬
гонял, просто взгляд под локоть на дуру, что стоит с дет¬
ским мячом.
Скажете: в коконе трепыхалась женщина, нормальные
дела. Конечно, нормальные, какие же еще? Но и ненор¬
мальные тоже.
За ней стал ухаживать пожилой человек...
32
Семен Евсеич
Сосед по площадке случился в результате обменов. Ря¬
дом жила колготливая женщина, стремящаяся к совершен¬
ству места жительства. Она хотела иметь «окна на цер¬
ковь» и «утопать в деревьях». В конце концов она где-то
«утопла», а рядом появился старый — лет около соро¬
ка — еврей с нездоровой мамой. Параллелизм обратил на
себя внимание, хотя еврейская мама была еще вполне со¬
хранная и регулярно ходила «в концерты».
Они, Семен Евсеич и Ольга, смущаясь, вешали на ар¬
хитектурно объединенном балконе женские причиндалы, и
он сказал, что его маме пять лет тому сделали операцию на
сердце, это большой срок, и теперь «дело как бы... Вы по¬
нимаете?.. Времени чуть. У вас самой тоже тяжелый слу¬
чай...». Они стряхивали с маминых рейтуз капли воды и
цепляли их прищепками.
Ольгу почему-то охватил нервный озноб. «С головы
до ног, — говорила она. — А косточка на мизинце поче¬
му-то встала дыбом. Это ты не поверишь... Но он, мизи¬
нец, как бы поднялся... Восстал... Когда я теперь слышу,
как говорят: «Сравнил жопу с пальцем», — я не смеюсь
ни на миг. Так бывает. На свете бывает все!»
Семен же Евсеич на Ольгу обратил внимание по-глу-
бокому. Его можно было понять. Из-за больной мамы в
мужья он не ходил ни разу. Он был хороший еврейский
сын. Одновременно он был и математик по профессии.
На работе в столе у него лежала «кривая его собственной
жизни». Кривая — это грубо. Лучше сказать — «изо¬
бара». Можно даже сказать это с большой буквы. Как
испанское имя. Так вот, на ней, на этой «кривой Изоба¬
ре», мамина жизнь неумолимо кончалась, но его жизнь,
жизнь Семена Евсеича, тоже переставала плавно подни¬
маться вверх, а как бы начинала неуправляемое скольже¬
ние вниз. Еще не рывком, не обвалом, но тем не менее.
Семен Евсеич знал о роли женщины в жизни мужчины и
33
даже о роли молодой женщины в жизни мужчины с «опа¬
дающей Изобарой».
Ольга была шансом, который трудно переоценить. Об¬
щий балкон, практическая привязанность к дому, как и у
него, и великолепная перспектива ломануть стену между
квартирами. «И даже пусть они живут», — великодушно
решил Семен Евсеич о болящих матерях.
Ольга дома повозилась с мизинцем, пока не положила
его на место. Но с этой минуты в ее сердце стало раскру¬
чиваться отвращение к Семену Евсеичу. Странная вещь!
Все достоинства соседа: стирка женских трусов, аккурат¬
ное вынесение мусора, опрятность квартиры и половика
перед дверью — все легло как бы поперек сознания Оль¬
ги. И тем сильнее, чем активней шло ухаживание: «я ку¬
пил вам говяжью печень, с вас рубль шестьдесят, но не бе¬
рите в голову, отдадите потом», «я и на вас захватил хлоп¬
ковую вату, взяли манеру делать ее из химии, а она же
близко к телу и вызывает аллергию», «я починил вам по¬
чтовый ящик, вы видели, как эти негодяи подростки по¬
кривили у вас дверцу?» — и так далее до бесконечности,
помощь в мелких, средних и крупных домашних делах,
когда надо передвинуть мебель или навесить шкафчик в
кухне.
Семен Евсеич действовал способом захвата жизненно¬
го пространства вокруг Ольги. Чтоб куда она ни огляну¬
лась, а он уже был, он уже занимал там место. Это была
великая и, можно сказать, беспроигрышная стратегия.
В конце концов чему-чему, а искусству захвата чужого
нас учили хорошо.
А однажды мама сказала Ольге, что евреи — самые
лучшие мужья на свете и это, мол, известно всем.
«Ты к чему?» — спросила Ольга, потому что ей и в
дурном сне не могло присниться, что говяжья печенка и
выправленный почтовый ящик значат больше самих себя.
— Я была в этом смысле полная дура, — говорила
Ольга. — Он мне был неприятен этой своей угодливо-
34
стью, но я себя корила, что плохо отношусь к хорошему.
И еще... Мне всегда было стыдно за антисемитизм наших
людей. Я могла за него бить морду, поэтому, если мне не
нравился отдельный еврей, я делила это свое отношение на
два, на четыре, на шесть, на восемь. Делила, а не множи¬
ла, понимаешь? Я потом поняла, что это тоже стыдно по
отношению к тем же чукчам. Но я так медленно развива¬
лась!
Одним словом, вязь добрососедства тянулась и тяну¬
лась, больные мамы пили общие чаи, но тут стали вспухать
первые случаи эмиграции. И Семен Евсеич одним из пер¬
вых получил вызов откуда надо. И с ним письмо от даль¬
них, но действительных родственников, которые обещали
маме еще одну сердечную операцию и всякие другие радо¬
сти медицины.
Трудно бросать завоеванное. Все-таки так много было
потрачено сил и даже обстукана стена легким молоточком
на предмет проверки пролегания в ней электрических про¬
водов. Семен Евсеич надел вельветовый пиджак, редкость
по тем временам, и пришел к Ольге с глобальным разгово¬
ром.
— Если б ты знала, как я захотела уехать, — расска¬
зывала, она мне. — Я не слышала, что он там лопотал, я
просто замерла от мысли, что можно все это послать к ебе-
нематери и начать, как бы заново родившись. Я и в мыс¬
лях не допускала, что можно уехать без мамы. Я, значит,
замерла, а потом поняла суть. Маму он предлагал взять
потом. Когда мы там пустим корни, а пока... Ну, дальше у
него был вычерченный план по времени и месту. Маму
примут за квартиру в хорошую богадельню с обслуживани¬
ем. Телевизор, холодильник у него были наиновейшие —
все это ей в богадельню... плюс библиотека поэзии, плюс
ковер три на четыре и прочая, прочая... Представляешь?
А мне так хочется уехать! Так хочется! Ну просто спазм, и
все тут! Даже ощущение, что уже лечу и что свободна, что
как птица и что ни одна нитка ко мне из прошлого не при-
35
липла. Миг сладкой мечты... А потом — крупная реали¬
зация действительности... Вельветовый пиджак там и про¬
чая. Знаешь, какая была вежливая? Как ангел у входа в
рай... Они там ведь вежливые, как считаешь? Или правед¬
ники тоже могут надоесть до чертиков? Могут! Могут!
Я представила, как они не дуром прут... Которые хоро¬
шие... Все такие на постном масле, с зашитыми гениталия¬
ми, чтоб ненароком не проявились... Но я была вежлива,
это точно. Я поблагодарила и сказала, что как он никогда
бы не бросил свою маму, так и я учусь у него жить... В та¬
ком духе. Он сказал, что еще не вечер — а это правда
был день — и он вернется к разговору. Но он не вернул¬
ся. Никогда больше...
Много позже я сказала ей:
— Не с этого ли случая ты начала торить дорогу за
границу, будто бы за парфюмом, а на самом деле...
Ольга посмотрела серьезно, а потом покачала головой.
— Нет. Ни разу в Польше никакого желания остаться
там навсегда не возникало. Но это же понятно... когда тор¬
гуешь утюгами, какие могут быть мысли? Утюжьи... И во¬
обще Польша — продолжение отечества и всего с ним
связанного.
— Даже на слово «шляхтич» не западала? У меня,
например, от него в душе радостный щекоток...
— Ты украинка. Какую-нибудь твою прабабку трах¬
нул поганый лях. В тебе живет воспоминание удоволь¬
ствия. А я баба русская, у меня другие манки.
Федор
То было время осенних посылов на овощные базы.
В тот раз отдирали верхний гнилой капустный лист. Коча¬
ны хряпали в руках, осклизлые, вонючие, а потом вдруг
раз — делались беленькими, крепенькими, и возникало
36
даже удовольствие, вроде ты сам рождал капусту. Правда,
сплошь и рядом случалось, что чистенькие бурты, не вос¬
требованные жизнью, снова начинали чернеть, мокнуть и
вонять, и тогда приходили новые люди и снова обдирали
кочан, и бывало, еще что-то оставалось на кочерыжке для
следующего захода. Это называлось «всенародной помо¬
щью в решении продовольственной проблемы».
А однажды по зелено-черной жиже прошел Федор —
«немецкая морда». Он был в высоких резиновых сапогах
под самое, самое то место, и это выглядело классно, не¬
смотря, так сказать, на окружающую действительность.
При небольшом усилии можно было вообразить, что носи¬
тель высоких сапог не инженер-оборонщик на поприще со¬
циалистического добывания продуктов, а некий рыбак-по-
морец, идущий к своему баркасу там или шлюпу, в котором
серебряно выгибает спину красавица рыба для красавицы
жены. Белое море, белая рыба й белое тело женщины.
Петров-Водкин. Альбинос.
Сапоги остановились рядышком. Невозможно было не
поднять голову на эту картину. То ли потому, что у нее слу¬
чилась острая эмоциональная реакция на резиновые отво¬
роты, которые существовали выше ее, сидящей на овощной
таре типа ящика, но сразу вспомнилось то чувство, когда
она так хотела удариться 6 мужскую грудь... Опять же и
теперь ноги Федора вызывали совсем не духовные жела¬
ния. Что неудивительно. Ведь в сапогах шел не любимый
писатель Ольги Юрий Трифонов, которого она только что
переплела, вырвав из «Нового мира». Шел бы Трифо¬
нов — у нее случилось бы смятение в голове. А шел Фе¬
дор — смятение было другого рода. Поэтому хамство как
способ защиты от себя самой было уже за зубами и воз¬
буждало язык, но нельзя же, в конце концов, бездарно по¬
вторять саму себя!
— Привет! — сказала она обреченно.
— Ну и слава богу! — ответил Федор. — А то я
иду и думаю: как ты меня обзовешь в этот раз?
37
Он вырыл из листьев еще один грязный ящик и осто¬
рожно присел на него.
— Развалится или нет? — спросил он.
— Сижу... ничего, — ответила Ольга.
Федор по-хозяйски общупал ее глазом. Скукоженная
девка в «базной одежде». Так он должен был подумать —
так он и подумал, а Ольга, как она потом сказала, «проин-
туичила его впечатление».
— Ох как я разозлилась! — говорила она. — Он
был одет классно, а я черт-те в чем. В маминых, считай,
военных обносках. А у нас бабы специально для базы ку¬
пили в «Детском мире» яркие ветровочки из болоньи. Там
же мужиков было навалом, и главное — из очень прилич¬
ных институтов. Там были интеллигентские сливки... Но у
меня даже на детский товар тогда лишних денег не было.
Федор рассказал, что два года как женат. Жена —
однокурсница, из Уфы.
— Можешь смеяться, — сказал он. — Она башкир¬
ская морда.
Значит, он действительно помнил тот случай. Злопа¬
мятный.
— Восточная красотка, — с нежностью добавил
он, — из выточенных по кости. Отец у нее большой босс,
так что у нас хорошая квартира, а моя мама живет там же,
по месту нашего с тобой рождения.
— Дети есть? — спросила Ольга.
— Будут, — ответил Федор.
— В смысле — жена беременная? — уточнила Ольга.
— В смысле — хотим этого, — засмеялся Федор.
— Рада за тебя, — уныло ответила Ольга и быстро
добавила: — Я не замужем, не беременная, живу с мамой
на старом месте.
— Почему? — печально спросил Федор.
— Почему на старом месте?
— Почему такая красотка не замужем? Куда смотрят
мужики - идиоты ?
38
Что-то у нее в душе развязалось и отомкнулось, но ей
стало как-то легко и спокойно, и она посмотрела на Федо¬
ра прямо и увидела его глаза, большие, серые, сочувству¬
ющие, но не оскорбилась чужой жалостью, а приняла ее
как дружбу, как протянутую руку и даже немножечко как
любовь.
— Я сама определила все словом «немножечко». Мог¬
ла другим, но у меня тогда была до пола занижена само¬
оценка.
В тот год был невиданный урожай капусты. Это было
очередное бедствие для страны. Капуста гнила, разлага¬
лась, овощные базы требовали ученых и студентов, хряпа¬
ли в их руках кочаны, так и не узнав, для чего кучно нали¬
вались на природе. Именно в тот год капусты в стране хва¬
тило едва до марта, подтверждая главный тезис социализ¬
ма: при нем все может быть бедствием, а урожай особенно.
Их капустный роман был страстным, нежным и обре¬
ченным. Они были как спустившиеся с разных гор тузем¬
цы, которым надлежало вернуться точно ко времени к сво¬
им народам. Вопрос об «остаться» как бы и не возникал,
даже на уровне идеи. Просто случилось то самое «немнож¬
ко».
Был некий казус. Ольга оказалась девственницей.
В тот ее трагический случай она была прилично травмиро¬
вана, и щедрые врачи заштопали ее, что называется, до
основания, гордясь собой, но сказать Ольге об этом забы¬
ли или не посчитали нужным, а может, сказали маме, а она
постеснялась передать Ольге — поди разберись сейчас с
этой старой и уже никому не интересной пришитой дев¬
ственностью.
Но Федора этот деликатный момент несколько обеску¬
ражил: за что его тогда таскали по милициям? К тому же
Ольге как-никак двадцать четыре года, странновато все
это, чтоб не сказать больше... С другой же стороны, у
Федора возникло и некоторое чувство удовлетворения де¬
ятельностью первопроходца или кого там еще...
39
Ольга была смущена другим. В свое время она всерьез
была заморочена мыслью, что ей придется когда-то перед
кем-то «объясняться». Это отравило ей всю раннюю
юность, когда она думала о себе как о человеке порченом.
Получается, зря морочила себе голову. Но, в общем, они
потом с Федором обсмеяли эту историю, и он был и
остался единственным мужчиной, которому она рассказа¬
ла, как тогда все было... Из женщин была я.
Юрий Петрович
Классный парень был, классный!
Потом она поняла, что находилась под впечатлением
общественного мнения. Он был, так сказать, назначенным
любимцем. Конечно, интересен первый вскрик по этому
поводу, но поди вычлени его теперь из всего. Но еще до
вступления в комсомол Ольга знала: в райкоме такой ин¬
структор, что одна десятиклассница из-за него чуть не от¬
равилась — выпила какую-то гадость, но, слава богу, га¬
дость оказалась слабее жизни. Потом, после всего, у Оль¬
ги было непреодолимое желание найти ту дуру и узнать,
что с нею случилось на самом деле и отчего она пила нека¬
чественный уксус. Нашла. Дура работала в паспортном от¬
деле, поэтому Ольга просто-напросто набрела на нее, ког¬
да пришла пора получать паспорт. Дура была накрашена
так, что хотелось или отвернуться, или хотя бы прикрыть
глаза, потому что возникало чувство сверхвпечатления.
Это «сверх» почему-то сразу освободило Ольгу от жела¬
ния что-то узнавать, выспрашивать. Что бы там ни было
на самом деле с этой сверхдевицей, Ольге стало безраз¬
лично, скучно, ее состояние души не могло пересекаться с
состоянием души крашеной. Не могло — и все. Ольга за¬
полнила нужные бланки и ушла. Когда уже была в дверях,
услышала: «А эта пионеруважатая еще работает?» —
«Работает», — ответила Ольга. «Вот сука». Разве не по-
40
вод для продолжения — или начала? — разговора! Оль¬
га ведь теми же словами думала о вожатой! Но инерция от¬
торжения, случившаяся с начала встречи, оказалась силь¬
нее. Ольга потопталась у двери и ушла.
Надо начать с того, что на эту самую долбаную кон¬
ференцию Ольга не должна была попасть по причине свое¬
го индифферентного отношения к общественной деятель¬
ности. Ей было не до нее, мама тогда была совсем плоха, и
однажды Ольга вдруг ясно увидела, что мамы может не
стать. Она тогда отодвинула локтем школьные дела и стол¬
биком подсчитала, на что ей придется жить. Достраивалась
однокомнатная кооперативная квартира «для нее». Поду¬
малось, что надо будет от нее отказаться, вернуть сума¬
сшедший пай — шестьсот рублей — и разделить его на
полтора года, чтоб кончить школу. «Вот эти деньги стол¬
биком, — рассказывала потом Ольга, — были моим пер¬
вым экономическим образованием. Я не считала себя бед¬
ной, как церковная мышь... Отнюдь, как сказал бы теперь
сын Тимура. Но ощущение собственной жалкости откуда-
то взялось. Не от возможного голодания, а от самого стол¬
бика арифметики».
Она была поглощена этим возможным будущим одино¬
чеством и еще странным открытием: трудные случаи из
жизни других ей не помогают. Несчастье других в про¬
шлом и настоящем, вот это «посмотри на них», ее не уте¬
шает. «Я открыла в себе эгоизм волка. И сказала: я одна
себе друг, товарищ и брат. Ты же помнишь, как это висело
на всех стенах: «Человек человеку...» А я, тогда еще ма¬
ленькая дурочка, почувствовала: что-то тут не то... Какая-
то излишность... Мы же народ с перебором...»
Так вот, она тогда была поглощена всем этим, а ее —
звериную эгоистку — взяли и послали на конференцию.
Было школьное собрание, чего-то там провозглашали, си¬
дел в президиуме Юрий Петрович и щупал девчонок гла¬
зом, рядом с ним мелко суетилась вожатая. А когда все
кончилось, Ольга ни с того ни с сего оказалась в списке
41
делегатов. Почему-то этому обрадовалась мама, даже на
ноги встала и купила в галантерее кружавчики.
Она хорошо помнит, как после конференции глашатаи
скликали разные группы делегатов и все сбивались в цве¬
тастые кучки по интересам. Но у Ольги на этом празднике
энтузиазма интереса не было. Она уже собиралась ухо¬
дить, но хотела высмотреть Федора, когда возник перед
ней Юрий Петрович.
— Ну как? — сказал он. — Ищешь своего друга?
Такое мнение было ей совсем ни к чему! Она Тедди сто
лет не знала, какой он ей друг?
— Да вы что? — закричала она. — Мы ж из одной
квартиры!
— У! — ответил Юрий Петрович. — У! Мы все из
одной квартиры! Мы все одна большая семья! — И он
взял ее за локоток и повел. Они шли мимо каких-то стен¬
дов и прислоненных к стене транспарантов, обвисших без
натяжения руками и ветром, в красном материале призы¬
вов и лозунгов мелькнуло лицо вожатой. Ольге показа¬
лось, что вожатая ее ненавидит. Стало почему-то еще
обидней.
Юрий Петрович открыл дверь, на которой было написа¬
но «Штаб». Это была странная комната-сейф, зарешечен¬
ная и даже как бы с металлическими стенами. Замок за спи¬
ной щелкнул громко, а ключ еще какое-то время позванивал
брелоком. Она слушала это «дзинь-блям-дан» — или как
еще передать звук брелока в полутемной комнате по имени
«штаб»? — а чужая рука нырнула ей под платье.
Полное отупение, полное...
В сущности, с его стороны совсем не требовалось рвать
ее зубами. Это она поймет потом и возненавидит свою пол¬
ную покорность. И всегда будет вспоминать лицо вожа¬
той, мелькнувшее в красных тряпках. Почему она, видя, с
кем шла Ольга, так подло оговорила Федора?
— Знаешь, — говорила через много лет Ольга, — в
какой-то момент им стало мало комсомольцев-доброволь-
42
цев... Реки вспять — это оттуда же... Ломать через коле¬
но... Хоть что... Хоть природу, хоть бабу.
Странно, но я не спрашивала ее, почему она тогда не
заорала. Дело в том, что я знала почему. Я и в себе ощу¬
щала это: стыдную, идущую из потрохов покорность. Ни¬
кто про меня этого не скажет. Я для всех «крутое яйцо».
Но я-то сама знаю! Я знаю, как умирает сопротивление,
как оно сходит на нет, и в покорстве своем начинаешь
жаждать только одного — тайности стыдного твоего по-
корства! Поэтому я буду последней, кто бросит в Ольгу
камень за то, что она тогда не выдала Юрия Петровича.
Она не выдала себя. И маньяк очень хорошо нарисовался
в такой ситуации. На кого еще так легко свалить собствен¬
ную трусость?
А Юрий Петрович все-таки однажды подзалетел.
В том же «штабе». Девчонка «устроила ему слезы с завы¬
ванием», на которое сбежались дружинники. Они стали
молотить в дверь, Юрий Петрович вышел им навстречу и
мрачно сказал, что «разбирается с тяжелым случаем». Но
пленочка, так сказать, проявилась... Куда-то он потом дел¬
ся, на девочку навесили психоз, родителям вручили что-то
ценное по лотерее. Только во время перестройки вновь
мелькнул светлый облик Юрия Петровича в сугубо пат¬
риотических колоннах, и Ольга, будучи абсолютно равно¬
душной ко всем и всяким политическим баталиям —
«а пошли они все!» — сказала мне тогда: «Мне все рав¬
но, за кого... Но я точно знаю, против кого...» Надо же
случиться такой глупости, что собственный муж оказался
идейным союзником Юрия Петровича.
— Ну как тебе это нравится? — спросила она. —
Мне наплевать на политику, но жить я с ним не буду. Та¬
кое внутри! Боюсь сказать — в душе. Хочется думать,
что в ней нет такой гадости. Но близко к душе — точно.
Я не хочу тех людей, скажем, предсердием и желудоч¬
ком. Пусть даже эти хуже. Вот такая я зараза.
Мы за это выпили вермут со льдом.
43
— Господи! — сказала Ольга. — Завоевали бы нас,
что ли, приличные инопланетяне... Не дадим мы себе ладу,
не дадим...
Как раз кончался утюговый бизнес. Жизнь требовала
нового семени.
Федор
Однажды, когда искали очередное «где?», Федор при¬
вел ее в старую квартиру — Луиза Францевна ездила в
тот день к подруге в Одинцово. Старушки традиционно
каждый год собирались на день рождения Рашида Бейбу-
това, которого слепо всю жизнь любила одна из них. Про¬
шедшие Крым и Рим пожилые советские дамы именно в
этот день отдавались исключительно любви, в какой уж
раз разглядывая фотографии «сладкого мусульманина».
Подруге однажды в жизни обломилось «счастье поцелуя»,
когда она, вскарабкавшись на сцену, сумела из рук в руки
передать кумиру букет. Она снова — какой уж год —
говорила о запахе Рашида Меджитовича, не каком-нибудь
примитивно шипровом (других тогда не знали), а волшеб¬
ном, сказочном «запахе мужчины», который ей удалось
унюхать, когда великий певец торкнулся носом в ее угрева¬
тую щечку. Никто из подруг не замечал, что чем дальше
оставался во времени эпизод, тем круче был поцелуй и
сильнее запах. Каждая, замирая, ждала окончательного
конца этой единственной встречи.
Луиза Францевна уехала, набрав кучу таблеток от дав¬
ления, сухой торт и баночку спрятанного на этот случай
клубничного варенья.
Старая квартира оглушила Ольгу затхлой тишиной.
Она тихо обошла все службы, покрашенные извечным ку¬
бовым цветом.
В комнате Луизы Францевны за шкафом висело зна¬
менитое сиденье для унитаза, прикрытое половинкой ста-
44
ренькой косынки в корабликах и облачках. Другая поло¬
винка лежала под телевизором. Это была трогательная по¬
пытка дизайна, правда, слова тогда этого не было, просто
рвалась косыночка на две части, чтоб в комнате «было
со вкусом». Под сенью Луизы Францевны у Ольги слу¬
чилось то ощущение счастья, ради которого двое сбегаются
вместе...
Они лежали на спине и смотрели на выцветшие кораб¬
лики и облака. Ольге было до слез жалко Федора. Каково
ему «теперь» возвращаться домой, ведь не «халам-балам»
то, что у них было на двоих? Не халам-балам? Она ждала
и боялась, какие у него случатся первые слова.
— Откуда мне было знать, что для него все случаи
одинаковые? Он ничего не понял, и меня он не заметил как
отдельную там, особенную. И что мне было делать со сво¬
им ощущением? Оно-то у меня было поделенным, разде¬
ленным, не знаю, как назвать... Одним словом, мне был
нужен именно он. А я ему как бы и нет... На этом все и
кончилось... Еще пару раз где-то встретились, но я вся за¬
жалась, а у него что-то там не заладилось на работе. Рас¬
плевались... Вполне по-мирному.
Ольга тут врала. И я бы на ее месте врала тоже. При¬
пала она к Федору прилично. Все тогда сошлось: освобож¬
дение от памяти Юрия Петровича (будь он проклят!),
родственность, которая так была ей дорога, даже те старые
неприятности с милицией сыграли свою положительную
роль, а некоторая виноватость Ольги была очень тут кста¬
ти, и, наконец, любовь под сенью унитазного сиденьица
оказалась просто небесной, так что все слова Ольги на
тему «расплевались» были полуправдой, если не вообще
ложью.
Однажды она даже не выдержала и пошла посмот¬
реть на Федорову жену. Мне она об этом просто прого¬
ворилась, описывая сапоги башкирской женщины. От¬
куда она могла о них знать? Значит, ходила. Значит,
смотрела.
45
Судьба свела ее с Федором и еще раз. Дело в том, что,
когда кооператив «для нее» был в конце концов построен,
ни мамы, ни папы уже не было, а дочка уже была, и есте¬
ственна была мысль: квартиру сохранить для нее. А пока
дочь еще девочка, решила ее сдавать, но очень боялась,
чтоб никто не узнал и не отнял бы как лишнюю, как способ
нетрудового дохода. Поэтому сдавали квартиру только
очень, очень своим людям. Но случилось, что «свои» что-
то там получили, съезжали, пришлось искать новых «сво¬
их». И вот однажды всплыл по этому делу Федор. По¬
звонил на работу сам, но от хорошего знакомого, разгово¬
рились...
— Слушайте, вы не Федор?
— Ольга, неужели ты?
Она сразу сказала себе «нет» на все поставленные воп¬
росы и даже на главнейший — для Федора у нее кварти¬
ры нет.
Еще плелась какая-то словесная интрига...
— Знаешь, ты опоздал... У меня живет родственница
из Свердловска.
— У тебя не было родственников в Свердловске!
— Извини. Но мужнины — как свои. А тебе, соб¬
ственно, зачем квартира?
— Так я же, детка, одинокий мужчина. Я как перст...
Маму схоронил... Давай встретимся, а? Ну прошу тебя!
Она хотела на него посмотреть. Просто посмотреть.
Встретились в кафе «Адриатика», что в Староконюшен¬
ном. Он нагнулся ее поцеловать. На нее остро пахнуло за¬
пущенным мужчиной. Сколько сидели, столько ощущала
несвежесть его рта, его рубашки, волос, она даже курила,
чтоб отбить этот дух перемен, хотя вообще была некуря¬
щая. Так, иногда, для понта. В ней стало расти раздраже¬
ние против него же, что она пришла и теперь сидит с ним,
«таким».
— Ты дичаешь? — спросила она его.
— В каком смысле? — не понял он.
46
— Во всех.
— Брось! — обиделся он. — Я в порядке. Найду
хату — и тип-топ.
— А что у тебя случилось с твоей шамаханской цари-
цей?
— Это ты про кого?
Оказывается, с башкиркой он развелся еще тогда. Он
как бы даже намекнул, что из-за нее...
— Неужели? — засмеялась Ольга. — Так вот жи¬
вешь и ничего про себя не знаешь! А мне, может быть, ле¬
стно?
Он не так понял и положил руку ей на колено. Ее охва¬
тило чувство жалостливого отвращения. На какое-то время
она даже не отдернула ноги, а сидела замерев, «из вежли¬
вости» — скажет она мне через время, но потом отодви¬
нула ставшую какой -то тяжелой и чужой ногу.
— Мы это проехали, — засмеется она Федору. —
Так что у тебя с твоими женами?
— Ничего, — ответил он. — С первой не было де¬
тей... Со второй... У второй был ребенок от первого мужа.
Рос, рос и вырос в такого жлоба...
— Сколько ж ему лет?
— Пятнадцать... У него своя чашка. Своя ложка. Он
их выделил на полочке и накрывает марлей. Мать все это
блюдет, а я вечно эту марлю задеваю, сдвигаю с места. Да
ерунда все это! Ты мне лучше сдай квартиру... Прогони
родичей!
— Не получится, — сказала она.
Федор расплатился в кафе, но, когда она достала из су¬
мочки деньги и сказала, что платит за себя сама, деньги
взял спокойно, без всяких там «да что ты!», «обижаешь!».
Не обиделся, одним словом. А она — тоже идиотка —
деньги вынуть вынула, а рассчитывала на его «замашет ру¬
ками». Одним словом, они не совпали. Всю дорогу Ольга
думала: а не отодвинь я коленку, прорезалась бы в нем
мужская щедрость? Вопрос ответа не получил, и она ска-
47
зала себе: с ними (мужиками) у меня только отрицатель¬
ный опыт. Потом она поймет, что нельзя обстоятельствам
жизни давать определение. Какими бы они ни были, но,
существуя вне системы определений, существуя, так ска¬
зать, энтропически, в хаосе обстоятельств, факты еще име¬
ют шанс видоизмениться, выстроиться во вполне благопо¬
лучный клин ли, ряд, круг... Названные же, сформулиро¬
ванные, они как бы подчиняются команде определяющего
слова, и тут уже — без вариантов.
Определяющими словами были — отрицательный
опыт.
Пришла пора сказать об Ольгином муже, возникшем
после Федора. Значит, была осень капусты, потом, есте¬
ственно, зима, а с зимой — проблема сапог.
Кулибин
— Сапоги есть у Кулибина, — сказала ей сослуживи¬
ца. — Он привез из Германии, а бабам в его отделе не по¬
дошли. Девки мерили, приличные сапоги, но не ах...
— Я не знаю Кулибина, — сказала Ольга.
— Не знаешь Кулибина? Кого тогда ты знаешь? Чер¬
нявый такой, у него еще зуб на зуб налезает
— А! — сказала Ольга и решила: раз знаю зуб,
вполне могу сходить и спросить про сапоги. В лифте
встретились неожиданно, Кулибин как раз нес коробку.
В серой двенадцатиэтажной «свече» все друг друга знали
в лицо, Кулибин улыбнулся своим выпирающим, как бы
предварительным, зубом, Ольга в другой раз сделала бы
вид, что читает правила эвакуации из лифта, но тут... Ко¬
робка определяла линию поведения.
Господи, думаю я иногда и об Ольге, и о себе, как мы
жили! Как нами руководили мохеровые кофточки на пуго¬
вичках и без, кожаные перчатки, джинсовые юбки с кожа¬
ным лейблом. Сроду бы мы не стали ручкаться с N, но
48
поди ж ты... Шапка... По твоим деньгам и то, что надо, по
виду. И ты перся к N, неся на губах эту гадостную улыбку
соискателя дефицита. Сколь угодно можно внушать себе,
что все это ерунда и не шапкой определяется жизнь. Ко¬
нечно, не шапкой... Разве я о ней? Я об улыбке... Я об
униженной жалкости этих отношений...
К случаю Ольги это даже не имело отношения, разве
что к самому началу встречи в лифте. Потому что потом у
них как-то очень быстро все закрутилось на другом уров¬
не.-
Кулибин жил с сестрой и матерью в Тарасовке, на до¬
рогу тратил два часа в один конец, страстно мечтал пере¬
ехать в Москву, и, если говорить честно, не было это чем-
то неразрешимым. Мужчина он был вполне приличный и
по природе, и по социальному положению, у него были
спорадические женщины — а почему бы им не быть? Не¬
которые из них хватались за него обеими руками в расчете
на серьезные продолжения, но у Кулибина до сих пор что-
то там не срабатывало в ответ. Если говорить старорежим¬
ными словами, которые уже сейчас практически сошли на
нет, Кулибин был человек с понятиями и запросами. На
них, как мы узнаем впоследствии, он и подорвался, как са¬
пер на мине. Кулибин страстно хотел в Москву посред¬
ством женитьбы, но ему — идеалисту хренову — еще
нужно было эту женщину захотеть как телом, так и душой.
Такое многоканальное у него получалось желание.
Сапог Ольга не купила, они ей оказались велики даже
на шерстяной носок, но разговор завязался и как-то есте¬
ственно перекинулся из торгового плана в область тонких
вибраций. Тогда недавно умер Шукшин, и все говорили:
«Шукшин, Шукшин», — все интеллигентные люди как
бы сплотились в горе, что вообще у русских получается
куда лучше, чем сплочение в радости. Ольга и Кулибин
тоже сцепились на этой теме, что называется, отвели душу
в жалости, и им стало хорошо.
49
Кулибин был приглашен домой и познакомлен с мамой.
Его совершенно не смутило спущенное до полу одеяло на
маминой софе по имени «Ладья», он даже скумекал тайну
этого трюка по сокрытию «утки». «Скажите, пожалуйста,
какие устроили секреты!» — говорил потом Кулибин. Он
был нормально хороший мужчина, он понимал, что такое
лежачая болезнь и все проистекающие от нее обстоятель¬
ства. Он проникся сочувствием к Ольге и оценил качество
ее моральных принципов. Когда у них пошли объятия-по¬
целуи — а дело это, как правило, вечернее, — у него
пару раз случались накладки в виде опоздания на элект¬
ричку, но он не использовал это в целях давления на Оль¬
гу. Отношения развивались медленно и красиво, можно
сказать, на чистой дистиллированной воде.
Так что замужество Ольги было вполне по любви и
уважению. Кулибин оказался хорошей партией, а то, что он
в результате переехал в Москву и перестал мерзнуть в не¬
отапливаемых вагонах, так это уже просто приложение —
добавка к весьма и весьма удачному браку. Хотя само сло¬
восочетание нелепо.
Со временем выяснилось, что Кулибин — человек хо¬
зяйственный: в доме перестало капать, дуть и искрить.
Они теперь ездили на работу вместе, Ольга висла на его
руке, ей было приятно, что есть на ком и не надо сжимать¬
ся в собственном одиночестве. Кулибин посверкивал своим
«предварительным» зубом, вполне ощущая себя силой за¬
щиты и надежды.
Начало конца не имело ни вкуса, ни запаха, ни вида.
Когда потом, через годы, Ольга — в «чисто исследо¬
вательских целях», скажет она, — будет искать причину,
то так ничего и не найдет, потеряв клубочек, по которому
шла.
— Грубо говоря, — засмеется она, аккуратно облизы¬
вая край рюмки с шерри, — грубо говоря, моя дорогая, я
уперлась мордой в утюги и кипятильники. Кстати... Ты
знаешь, как пахнет Польша?
50
Збигнев
— Она пахнет бигосом и духами «Быть может». Надо
сказать, мне это поначалу даже нравилось. Потом, правда,
стало тошнить. Но уверяю тебя, это моя личная эндокри¬
нология — или как зовут то, что отвечает в нас за все
подспудное? Вегетатика? Серьезно? Не подозревала...
Я думала... татика — по грубой части... А я ведь про
флюиды тонкие, паутинные. Когда в один момент нечто
тебе нра... нра... а в другой — на фиг не нужно.
Дочь Маня уже ходила в школу, мамы уже не было.
В душе Ольги было томливо.
Странное ощущение червя внутри. Вначале даже чисто
физическое. Как будто кто-то в тебя внедрился, подсосал¬
ся и тянет из тебя соки. Выяснилось: у нее нехватка желе¬
за, анемия. Надо бороться за повышение гемоглобина.
Именно тогда Ольга поперлась в электрический мага¬
зин, много чего увидела и купила соковыжималку, чтобы
дрючить на ней морковку. Каждый день стакан сока, и не
меньше. Одна дама из их отдела, из тех, что были при¬
креплены к разным питательным кормушкам, сказала
Ольге:
— Для крови надо есть свежее парное мясо. С рынка.
А от моркови у тебя только моча улучшится.
Хорошо отреагировал на этот пассаж Кулибин. Он ска¬
зал Ольге:
— Ты покупай на рынке себе, а нам с Маней не давай.
Нам сгодится и магазинное.
— Два обеда, что ли, готовить?
— Ну, давай включай меня в процесс...
На том и кончилось. Попила лекарства, а к врачу боль¬
ше не пошла. Через какое-то время услышала, как снова
ворохнулся в ней старик червяк, ища жилу послабее.
Тут и случилась поездка в Польшу. Называлось: «по
обмену». Ее научили, что лучше там купить, имелось в
виду для себя, ничего другого в голове и близко не было.
51
Измерила Маню вдоль и поперек, походила с сантиметром
вокруг Кулибина, когда обхватывала его за задницу на
предмет возможных джинсов, червь-подселенец как-то
дернулся, возникла даже тошнота. Ею и запомнился этот
обхват руками мужниных чресл.
Поездка проходила нормально. Польша нравилась. Все
есть. Народ с ленцой, совсем как мы. Но выглядит куда
лучше. Пани их гонористые, к русским презрительные, но
Ольга это принимала. «А чего им перед нами стелиться?»
На обратной дороге — что-то напутали с билетами —
она попала в купе с поляками. Двое из них почти всю до¬
рогу просидели в ресторане, а того, кто с нею остался, зва¬
ли Збигнев.
Они были ровесники, Збигнев немного учился в Моск¬
ве, поэтому вполне прилично говорил по-русски. Ольга за
время поездки тоже нахваталась фразочек, одним словом,
без проблем. Збигнев был рыжий, большой и смешливый.
Он ехал в Москву в командировку на фабрику «Свобо¬
да», вез образцы польского парфюма — и чтоб показать,
и чтоб одарить. Ольге тут же обломилась изящная темно-
синяя коробка «Пани Валевской». Она приняла презент
радостно, ни на грамм не сомневаясь в его искренности.
Их дорожная любовь, практически без раздевания, вся —
сплошное ухищрение, оказалась такой головокружитель¬
ной, что в самый что ни на есть момент Ольга едва выдох¬
нула: «Ну, матка боска Ченстоховска!» И они так захохо¬
тали, что Ольга чуть не подавилась смехом, и Збигнев бе¬
гал за водой, и его захотела затащить к себе проводница
Женя. Он едва вырвался, а проводница весь рейс люто не¬
навидела за это Ольгу. Это потом, потом они станут под¬
ружками, когда дорога в Польшу и обратно будет освоена,
как электричка в Тарасовку, а Ольга станет позорной спе¬
кулянткой. Разве тогда кто-то знал, что она на самом деле
спаситель отечества по имени «челнок»?
Что такое был Збигнев в жизни Ольги? Знак отваги?
Ишь, мол, как могу! Знак радости, которая, оказывается,
52
гнездится где-то в тебе самой, й только при помощи радо¬
сти, живущей в другом, она всхлопывает крыльями как
оглашенная — и из ничего получается все! Ольга как
дура захочет потом искать хлопанье крыльев с Кулиби¬
ным, но все будет мимо, а когда она будет класть на него
свои ладони, то всегда будет ощущать шероховатый сан¬
тиметр, которым ей как-то пришлось опоясать его чресла.
Ах, эти органы чувств! Какие подлянки они нам подбра¬
сывают!
Збигнев в жизни был один раз. Он обещал позвонить в
Москве — не позвонил. Когда через год, уже с утюгами и
кипятильниками, Ольга приехала в Варшаву, она торкнула
пальцами цифирьки телефона. Ей ответили и тут же посла¬
ли «к матери Бени». Скоропалительность адреса говорила
о том, что его приходилось называть не один раз. «Ах ты
сукин сын! — с нежностью подумала Ольга. — Устроил
ты всем свободу на баррикадах».
Не было ни обиды, ни чувства оскорбленного достоин¬
ства, более того, где-то жило удовлетворение, что не было
у них «другого раза», что все так замечательно кончилось
смехом и сознанием удивительной легкости любви.
А Кулибин в джинсы, которые в конце концов привез¬
ла ему Ольга, не влез.
Он стоял перед женой раскоряченной тупой материей,
кончик молнии стыдливо застыл на самой что ни на есть
сути, не в силах сомкнуть зубчики застежки.
— У них же не те размеры! — сокрушался Кули¬
бин. — Мы же телом мощнее...
— Снимай, если сумеешь, — сказала Ольга. — Но
не дергай больше молнию — мне их еще продавать.
Она знала, что виновата сама: не перемерила мужа с
того раза. Все так и ездила с первой меркой. А он в это
время ел? Ел! Толстел? Толстел! Что ни говори, они с
Ольгиных поездок стали питаться лучше. Когда у нее по¬
лез вниз гемоглобин, она пошла и купила хороший кусман
парной говядины. Для всей семьи.
53
Вик. Вик.
Чем отличаются тридцать шесть лет от сорока шести?
Ощущением, что тридцать шесть — это почти конец, тог¬
да как сорок шесть — самое начало. Ольга широко, с
помпой отгуляла тридцать пять, потом у нее опять случи¬
лось падение гемоглобина, горстями глотала ферроплекс и
засыпала на ходу. Ей посоветовали хорошего специалиста
именно по этой части, назвали таксу, Ольга дернула пле¬
чом: «Хапуга!» Это было не так, такса как такса. Но у нее
было время плохих ощущений. Почему-то стал страшить
возраст, годы казались длинными и плоскими, в компании
ей однажды дали на вскидку тридцать семь, после чего она
хлопнула дверью и ушла. Дома уставилась в зеркало, и оно
ей не польстило. Более того, именно в тот вечер оно исхит¬
рилось показать все завтрашние изъяны, как скоро потечет
у нее подбородок, вон уже сейчас вовсю прокладывается
русло будущего обвала. Мощно проявится и «собачья ста¬
рость»: черные канавки от углов рта станут рытвинами,
безнадежно глубокими оврагами, молодись не молодись,
они нагло прокричат про твои годы. Ольга грубо взяла
себя за щеки и оттянула кожу к ушам. В таком виде она
стала похожа на маму в гробу: в маме без следа исчезла
мягкость, округлость лица, а кость победно выпятилась.
Ольга даже заплакала над мамой, жалея не просто утрату.
Утрату лица. Что ж ты, товарищ Смерть, так выпираешь,
если уже все равно победила и взяла верх? Могла бы оста¬
вить на прощание хоть толику живого, а ты уж прибралась
так прибралась... С полной, можно сказать, окончатель¬
ностью.
Ольга вообразила себе болезнь и от дурных мыслей со¬
всем поплохела. Все виделось как бы на излете, было жал¬
ко себя, Маньку, дурака Кулибина. Господи! За что?
Одним словом, пришлось идти к врачу-хапуге. Он на¬
значил ей довольно позднее время, поликлиника чернела
окнами, пахло хлоркой мокрых полов. Она поднялась на
54
второй этаж, шла по коридору, и ей было не по себе от без¬
людья, закрытых дверей и погашенных лампочек.
Доктор ждал ее, разговаривая по телефону. Он кивнул
на стул — садитесь, мол, не стойте, — но продолжал об¬
щаться, и ей хочешь не хочешь пришлось слушать советы,
которые он давал по телефону.
Это был еще тот разговор.
Доктор почти весело предлагал выкинуть к чертовой
матери все лекарства — и «начать жить!». Это он повто¬
рил много раз, каждый раз интонируя по-разному. То упор
делался на то, что надо начать. «Е-мое! — говорил
он. — Сколько же можно! Ведь уже тридцатник! Начи¬
най! Начинай! Действуй!» То это выглядело как бы с дру¬
гого края: «Жить надо! Жить! В совокупность этого поня¬
тия болезнь заложена как составная. Поэтому живи спо¬
койно, болезнь сама уйдет, когда надо. Она не дурей
тебя».
— Я уже все поняла, — сказала ему Ольга, когда
врач положил трубку и брезгливо вытер ладонь белоснеж¬
ным носовым платком. — Надо подождать, когда болезнь
уйдет.
Он посмотрел на нее какими-то вымученными глазами,
потом тяжело вздохнул и сказал, что называется, не по
делу:
— Вы ели когда-нибудь яблоки с мороза? Чтоб зубы
стыли? Я люблю. Из холодильника такие не получаются.
Они там вятые.
— Вялые, — поправила Ольга.
— Ну да, а я как сказал?
— Неправильно, — раздраженно ответила она.
И пожалела, что пришла.
Потом все было как у людей. Расспрашивал, слушал,
мерил давление, разглядывал анализы, клал на кушетку и
пальпировал живот. Она отметила, что у него теплые и
нежные руки. Пальцы осторожно помяли низ живота.
«У гинеколога давно были?» Скажи она «давно», свалил
55
«там
бы все на это, но она умная, она была «недавно» —
у меня все нормально».
— Ну и славно. — Врач пошел мыть руки, и ей пока¬
залось, что делал он это долго и брезгливо, как после теле¬
фонной трубки.
«Не знает, что сказать, — думала Ольга. — Что они
вообще могут знать? Как можно заглянуть вовнутрь и ви¬
деть то, что там затаилось? Как? Сейчас навыпишет кучу
таблеток, посоветует делать зарядку. Господи, зачем я,
дура, пришла?»
Доктор сел, запахивая на себе куцый халатик.
— Вы инженер? — спросил он.
— В общем, да. В НИИ.
— Понятно, — устало ответил он. — Каждый день
одно и то же... Одно и то же... Так?
Ольга хотела сказать, что не совсем так, что есть еще
утюги и кипятильники, и поездки в Польшу, и многообра¬
зие жизни вокруг самой поездки, отнюдь не одно и то же,
отнюдь. Но ведь это его не касается, абсолютно!
— Как у всех, так и у меня, — ответила она.
Он кивнул и стал выписывать рецепты.
Она взяла бумажки, положила на стол конверт. Врач
раскачивался на стуле, а Ольгу все наполнял гнев. За что?
За что? За что он берет с нее деньги? Ей говорили, что он
диагност, каких мало, ей говорили, что к нему не попасть...
А она одна-одинешенька в пахнущей хлоркой клинике с
погашенными окнами, и не толпится в коридоре хворый
люд в последней надежде именно к этому доктору. Это
она, идиотка, приперлась — Дунька с мыльного завода,
как говорила их соседка еще по коммуналке. Господи, сто
лет ее не вспоминала, а тут просто услышала это презри¬
тельно-протяжное, с напевом, с окрасочкой: «Ду-у-унь-ка!
С мы-ы-ыль-на-ва за-а-а-во-да явил-а-ась не запыли-ла-
а-ась»...
Это я. Сказала о себе Ольга.
— Что вы? — спросил врач.
56
И вот это произнесенное, как оказалось, вслух слово и
то, что она не заметила собственного говорения, сотворило
с ней какую-то внутреннюю гадость, которая, отвратно
шипя, устремилась к горлу. Ольга едва успела сделать не
то шаг, не то бросок к раковине, и из нее пошло это нечто,
пенящееся, коричневое. Каким-то сторонним умом она по¬
думала: хорошо, что это не случилось в метро. Могли бы
загрести в вытрезвитель, у нас не разбираются. И еще она
отвергла само существование врача, хотя он и стоял рядом,
и держал за плечи, и говорил глупые слова о том, что надо
успокоиться. А то она этого не знает! Она успокаивается,
счастье какое — раковина, можно смывать после себя га¬
дость и не оставлять следов. Потом она в ознобе лежала на
кушетке, и он ее укрыл ее же пальто и дал ей глотнуть ка¬
кую-то жидкость, которая осадила в ней муть, и, в общем,
ей сразу стало почти хорошо. Вставай и иди, чего разлежи¬
ваться, ну, сблеванула от злости, от психа, тоже мне —
повод распластываться. И она стала подыматься, а он
прижал ее к кушетке, как непокорливое дитя. Поди разбе¬
рись, из чего что... Но из легкой, нежной тяжести его рук
пошла разматываться в ней такая слабость, и даже возник¬
ла ни на чем не основанная мысль, что все у нее будет хо¬
рошо, независимо от нее, а зависимо от чего-то большего,
от кого-то главного. Она подумала: «Если бы был Бог...»
Но мысль показалась дикой, ибо это было совсем другое
время, с другой логикой, в основе которой стояла выпрям¬
ленная, с палкой в руке обезьяна. Это она, размахивая
этой самой палкой, сбила с дерева банан исключительно
для себя и родила производительные силы и производ¬
ственные отношения. «Неужели? — неожиданно подума¬
ла повергнутая Ольга. — Неужели Его нет?»
Но разговор о проникновении в сознание Бога — не о
проявлении Бога в себе, до этого нам не дойти, — мы
начнем с нею много позже, когда сама эта тема выродится
вконец, потому что каждый начнет ее лапать немытыми
руками, и умственный наш Бог спрячется от нас напрочь,
57
оставив — может, даже окончательно — в позе той са¬
мой первичной обезьяны.
— Бог нас покинул, — скажет мне Ольга, когда мы
вляпаемся в чеченскую войну. — Я так и знала, что Он
уйдет. Мы Его не заслужили.
Я буду тогда сопротивляться исключительно из чувства
самосохранения: держаться не за что, кроме как за Него?
— За палку, — скажет она, вспомнив это свое обезь¬
янье видение на больничной кушетке. И тогда же раско¬
лется на этой своей истории с врачом.
Но это будет еще очень и очень не скоро.
А пока она лежит на кушетке. Ей явно полегчало, ушли
тошнота и озноб, но врач продолжал сидеть рядом и все
смотрел на нее, смотрел.
— Вы очень переутомлены. Чем? — спросил он.
Она неожиданно уютно подтянула коленки под соб¬
ственное пальто — драп с норочкой — и стала рассказы¬
вать. Нет, не про утюги и кипятильники, этого она стесня¬
лась, — про то, что долго болела мама, что она сроду не
отдыхала как человек и прочая, прочая.
— А он-то все, оказывается, знал. Ему меня предста¬
вили как спекулянтку от интеллигенции, эдакую «еж твою
двадцать», а я ему рисую картину на тему передвижни¬
ков — улавливаешь ситуасьон? Баба блевала — факт, но
какова брехуха своей жизни? Я же продолжаю мазюкать
сентиментальное полотно... Скажи, зачем? Что заставляет
нас врать, если по всему раскладу можно этого не делать?
И тогда я — вря, бреша, лжа — соображаю, что как бы
хочу понравиться. Как бы корчу из себя нечто... Опять
же... Встать бы, оперевшись на медицинскую помощь, и
уйти. Но нет! Я лежу и валю на мою несчастную покой¬
ную мамочку приступ моей блевотины.
Она даже не заметила, как далеко ушла в направлении
жалобного исповедания, как заблудилась в собственных
58
словах. Поэтому, поймав себя на повторном бормотании
какой-то глупости, Ольга все-таки вскочила как ошпарен¬
ная и, оттолкнув врача, не потому, что он ее задерживал, а
потому, что оказался на ее пути, натянула драп с норкой и,
смеясь голосом женщины, много ездящей туда-сюда поез¬
дом, сказала:
— Вот уж раскудахталась! Не берите в голову! При¬
ступ вегетативно-сосудистой дистонии... Это, между про¬
чим, не болезнь. Это способ трудной адаптации к непере¬
даваемо причудливым изгибам жизни. Я справлюсь и с
жизнью, и с болезнью.
Так ее мотанул маятник, и она убежала как очумелая.
Никто ее не догонял.
-т- А я думала: окликнет... Вот, оказывается, что во
мне было.
Однажды, ища в записной книжке нужный телефон,
Ольга наткнулась на бумажку: «Вик. Вик.». И неизвест¬
ный ей номер телефона. Так бывало тысячу раз. Случай¬
ные люди, случайные номера. Давно взяла себе за прави¬
ло: не трудить мозги для выяснения, кто бы это мог быть.
Раз не знаю — значит, мне это не надо. И комочек бу¬
мажки летит в мусорное ведро.
Тут надо все-таки кое-что объяснить: ни одна женщина
не поверит, что, если не прошло лет там пять или шесть,
можно забыть помеченного телефоном мужчину до такой
степени, что ни одного, ну просто ни малюсенького сигнала
в мозг ли, в сердце бумажка с номером не подала. Конеч¬
но, не подала, а с какой стати ей его подавать? Ольга вся,
с ног до головы, была тогда в романе, такой обломился му¬
жик, что, когда дома напротив сидел Кулибин, ей с трудом
удавалось его идентифицировать. Кто он, к которому дочь
Манька имеет странную привычку присаживаться на коле¬
но и что-то верещать в ухо?
— Ты — Кулибин, — могла она произнести стран¬
ным голосом.
59
— Так точно, гражданин начальник, — ответствовал
ни в чем не повинный Кулибин, ибо до идеологически про¬
тивоположных демонстраций еще предстояло жить и жить.
Но если сейчас подумать, в них ли было дело, если еще за¬
долго-задолго Ольга сумрачно задумывалась: а кто это у
меня расшатывает в кухне табуретку?
Мистер Икс
Но это так. Для изящности. Фамилия у него была за¬
мечательная. Членов. Очень гордый, между прочим, чело¬
век: на все предложения сменить фамилию или хотя бы
вставить в нее лишнюю букву — Челенов, к примеру, или
Чуленов — он заходился таким историческим патриотиз¬
мом, он так давил на всех генеалогией, будь она проклята,
что в результате стал за это уважаем, чтим и даже подвер¬
гнут подражанию. Его шофер Иван Срачица тоже стал
гордиться своей фамилией, хотя оснований не было ника¬
ких. Он был обыкновенный прол Срачица, без родовитых
доблестей, и у него буквально по определению было пятеро
детей, как и полагается быть у прола обыкновенного. Но
он по примеру начальника взрастил в себе фамильную гор¬
дость.
Роман начался как курортный. Ольга купила путевку в
цековский санаторий, медицинскую карту выправила по
всем правилам. «Я еду подлечиться, а не на блядки».
У Кулибина родилось параллельное предложение: поехать
дикарем, чтоб «колошматиться в море вместе», Ольга
даже на секунду задумалась: а нет ли в этом здравого
смысла? Какие-никакие экскурсии, терренкуры, к тому же
Кулибин — человек по жизни необременительный и при¬
вычный, но все уперлось в дочь. У той как раз начались
фокусы гормонального характера: вдруг ни с того ни с сего
стала выходить ночью на балкон и часами там стояла,
Ольга ей устроила крик, в стенку постучали соседи, Маня
60
заявила, что имеет право стоять, ходить и лежать когда и
где хочет, а если кому-то это не нравится — его пробле¬
мы. Имелось в виду — Ольгины. И глаз был у Маньки
наглый, недобрый, как бы даже не родственный. Куда ж ее
оставлять — такую? Тем более что с отцом у них отноше¬
ния проще: поорут друг на друга как ненормальные — и
помирятся в момент. Не то что с матерью.
Кулибин остался сторожить развитие гормональных про¬
цессов, а Ольга, сделав легкую химию, мотнулась на юга.
В первый же день она мордой ударилась в иерархию.
Ее поселили с женой какого-то дальнесибирского райко-
мыча. В палате, окнами смотрящей на козьфек подъезда.
Море было с другой стороны, горы — с третьей, у них
же — козырек с птичьим говном, на который можно было
ступить прямо с лоджии. Соседка Валя была женщина
смирная и тихая, знающая свое место в жизни и очень за
него благодарная. Второй этаж ее не смущал — она боя¬
лась лифта. С моря могло дуть и прострелить — тоже не¬
мало, горы ей были ни к чему, а утренний шумок убегаю¬
щих на пробежки отдыхающих ее не беспокоил — Валя
все равно просыпалась рано-рано и из деликатности лежа¬
ла чуркой, дожидаясь, когда встанет Ольга.
Первые дни ушли на раздражение. Ольгины умелость
и хватка здесь были не прохонже. Это Валя перед ней ста¬
новилась на цыпочки, это для Вали она была и москвичка,
и модница, ну еще и для стайки токующих лжехолостяков.
Но в ее карте не было номенклатурных зерен, что в этом
месте выклевывалось прежде всего. «И черт с вами!» —
решила Ольга, перелезая туда-сюда из контрастных чанов
с водой, ездя на Мацесту и крутя велотренажеры. Дней
через пять она почувствовала от всего этого такую тоску,
что дала Вале уговорить себя сходить на танцы.
Ну и что? Худые, пузатые, плешивые и чубатые, они
терлись об нее в танго и вальсе, с неудовольствием перехо¬
дя в бесконтактный танец. Но хоть бы один! Хоть бы
один...
61
Однажды смирная Валя пришла много позже ее и с
трусиками в сумочке. Забыла, провинциальная дуреха,
стаскивая с себя платье, что сразу осталась ни в чем,
взвизгнула по-собачьи, глядя в открытые Ольгины глаза,
залопотала что-то о голом ночном купании, но Ольга ми¬
лостиво отпустила ей грехи.
— Да перестань! — сказала. — Лучше скажи, сто¬
ило того? Париж стоил мессы?
Валя застопорилась в осмыслении слов, узнав в лицо
только Париж по сочинению «Собор Парижской Богома¬
тери», но вопрос сам по себе не дошел.
— А? — переспросила она.
— Ну... дядька был на уровне?
— Ой! — тихонечко взвизгнула Валя. — Да мы
так... Дурачились... Несерьезно же...
— Успокойся и спи, — сказала Ольга.
Сама же спать не могла. Думалось про это, желание
было острым и оскорбительным, как насилие. Как то наси¬
лие, что было в ее жизни, оно тогда тоже началось с остро¬
го желания, только у другого человека, и он счел себя
вправе поступить так, как хотело его желание. «Какая
дурь! — подумала Ольга. — При чем тут та сволочь?
Как я могу сравнивать?»
— В человеке столько зверя, сколько он его в себя до¬
пустит, — сказала она, вернувшись из санатория.
Блестяще-золотистая, с облупленным кончиком носа, с
горяче-молочным дыханием, она задрала юбку, чтобы про¬
демонстрировать полоску кожи под кромочкой трусиков.
Золото бедер просто слепило.
— Я допустила в себя зверя, сколько его влезло, и
урчу теперь над суповой косточкой. Он — профессор
Членов. Его мозги ценятся в валюте, но и остальное —
тоже высший разряд. У нас не совсем совпали сроки. Он
приехал на десять дней позже. Счастье, что у меня как раз
кончились месячные. Скажу главное. Буду разбивать се¬
мью. Так это на языке протокола?
62
И она исчезла с моих глаз надолго, иногда я вспомина¬
ла ее, тянулась позвонить, но ведь то, что меня интересова¬
ло, не расскажешь с телефона — ни с домашнего, ни с ра¬
бочего.
Зато в газетах попалась фамилия профессора. Как вы¬
яснилось, главного специалиста по загниванию капитализ¬
ма и соответственно расцвету противоположной ему фор¬
мации. Интересно, подумала я, как ему Ольгин способ до¬
бывания денег — не осквернит ли он чистого источника
идеи в его валютной головке?
На самом деле мне было не до них. Мы переезжали.
Нам дали наконец отдельную двухкомнатную квартиру,
мы врезали замки, натягивали струны, циклевали полы.
Замерев на пороге остро пахнущей лаком своей квартиры,
я думала, что в моей стране квартира и отдельный бачок
будут посильнее «материализма и эмпириокритицизма»,
взятых вместе с автором.
— Закройте, пожалуйста, дверь, у детей аллергия на
лак, — услышала я тихий голос, а потом увидела соседку,
владелицу огромной четырехкомнатной квартиры. Только в
нашем подъезде были такие, и еще до вселения люди при¬
ходили смотреть хоромы, которые просто по определению
никому полагаться не могли. И вот теперь я видела милую
молодую женщину в заваленном узлами коридоре и с вы¬
водком детишек.
«Боже мой! — подумал мозг, траченный коммунал¬
кой. — Многодетные!»
Представились крик, плач, стук мяча об стену и все,
что полагается и что может себе представить человек при
словах «многодетная семья». У меня не было умиления по
поводу многодетности. Я не знала, что делать с един¬
ственным сыном, обожаемым, но растущим куда-то резко
в сторону, нарушая красоту семейного древа. Но это дру¬
гая история, может быть, когда-нибудь я перескочу на нее,
и тогда мало не покажется, пока же я стою и оплакиваю
63
собственное квартирное счастье, которое так недавно еще
держала, обхватив его по метражу.
Поставим на этом точку. Дети соседей никогда нам не
мешали жить, их скромность и тихость хорошо подпитали
мой стыд, и я уже много лет замаливаю грех той своей
гневливости, которая случилась в первый день встречи.
И люблю свою соседку Оксану, хорошая женщина, дай
ей бог здоровья.
Теперь же я должна сообщить главное. Это у них была
фамилия Срачица. А хозяин был шофером. Ничего друго¬
го я не знала.
Клубочек начал распускаться с кофточки.
Позвонила Ольга, сказала, что есть пара-тройка стиль¬
ных вещей, надо бы мне посмотреть. Мы поиздержались
на процессе переезда, и я ответила, что — пас. Но Ольга
настаивала, мол, есть кофточка с брачком, совсем недоро¬
гая, но «с изыском». Муж сказал, что все равно ему пред¬
стоит тратиться на мой день рождения, так что «иди и
купи». «Надо еще посмотреть», — ответила я.
Так мы и встретились через полгода после курортного
лета. Ольга выглядела как никогда, даже лучше, чем в зо¬
лотом загаре. Она похудела, стала суше, заметней пролег¬
ли легкие морщинки у глаз, рта, на шее, но парадокс был в
том, что ей все это шло. И как бы выяснилось: молодость
с ее соком — не ее время, а ее время то, что уже тронуто
холодом, морозцем, что на пороге увядания.
Я не решилась ей это сказать. Упоминание морщин
даже в самом комплиментарном контексте — дело опас¬
ное. Я ее похвалила за вид и стать и, конечно же, в пер¬
вую очередь спросила, как у нее дела с этим... как его...
Я запамятовала фамилию и чуть было не ляпнула что-то
еще более непристойное, чем то, что носил неизвестный
мне господин с валютными мозгами. Надо же, как мне за¬
помнилось это определение.
— Я ему дала срок, — сказала Ольга. — Но я уже
знаю, что его продлю. Он этого как раз еще не знает, дер-
64
гается... Плохо быть умной. И видеть завтрашний день.
В него надо вступать слепо. А я понимаю, чем он риску¬
ет, если разойдется резко, неделикатно. Сгорит, как
швед... У него тесть — шишка в МИДе, мадам, между
прочим, тоже не пальцем сделана — в Институте между¬
народных, сын — на выходе в дипломатические сферы.
Отец сейчас дернет поплавок — и у него вся жизнь со¬
рвется. Ия, — поясняет Ольга, — получу не сильного
мужика со всем, что при нем, а раненого сокола, которого
надо будет всю жизнь лечить, а он меня в это время будет
драть когтем.
— Большое красивое чувство требует жертв, — на¬
смешливо сказала я. — Или оно не очень большое?
— Стала бы я печься о маленьком! — ответила Оль¬
га. — Он мой мужик! Мой. Понимаешь, по размеру, по
запаху и вкусу. Тут без сомнений. А я — его женщина.
У него тоже нет сомнений. Мы как ключик и замочек.
(Это было то давнее время, когда еще не было шлягера
«Зайка моя» и сопоставление типа «я твоя рвота — ты
мой тазик» не казалось пошлым, так сказать, по определе¬
нию. «Ключик-замочек! Ишь ты», — подумала я.)
Сейчас я думаю другое. Когда бежишь для прыжка, ча¬
сто сам не знаешь, каким он будет. Прыжком ли в длину, в
высоту или с крыши. Знать это не дано.
Ольга сказала, что встречаются они на явочной кварти¬
ре. Есть такая для полуофициальных, приватных встреч
нужных людей. Иногда едут на дачу к его приятелю, если
есть гарантия, что никто не возникнет.
— Много приходится делать уточнений! — смеется
Ольга. — Шпионам не снилось...
— А как Кулибин?
— А что Кулибин? Я волну раньше времени не
гоню... Скажу, когда придет пора... Она не пришла. Я те¬
бе сказала, что я ему продлеваю срок?
— Но он пока этого не знает, — смеюсь я. — Ты и
тут шпион.
65
— Чтоб не сбавлял скорости, — уточняет Ольга, —
а не по вредности.
Потом из пакета и выплыла кофточка. Такая вся из
себя «фэ». Левая половина — синяя, правая — красная,
а пуговички наоборот, и отвороты у рукавов наоборотные.
Крой — само собой, классный, ткань мягкая, одним сло¬
вом — два слова.
— Смотри, брак, — говорит Ольга и показывает
шов: чуть перекошенный, потом резковато выпрямлен¬
ный, но бок явно поддернут. Пока не видишь — ничего,
а когда уже знаешь, глаз как бы только в это место и
смотрит.
— Надень...
Но я не хотела. Не то что большая привереда — с чего
бы это? Беру что есть. Тут же был изъян на вещи стиль¬
ной, красивой, ну, в общем... осетрина второй свежести.
Мерить я не стала.
А через несколько дней звонит в дверь Оксана. Про-
сит взаймы пару яиц для салата, у них гости, и на ней эта
кофточка. Именно эта, потому что некоторая скособочен-
ность налицо.
— Откуда эта прелесть? — спрашиваю я.
— Правда здорово? — говорит она и вертится передо
мной, а когда останавливается, я вижу на ее лице некото¬
рое смятение. Я уже знаю свою соседку. Она не просто не
умеет врать или даже что-то скрывать — а уметь это
надо, — она «заболевает лицом» от необходимости что-то
соврать или скрыть. Лицо ее как бы начинает дробиться,
идти рябью, суетиться, оно становится растерянно-глупым,
чтоб не сказать дурным. Единственное лечение для
лица — тут же сказать, выпалить правду и спастись.
К примеру.
— В подъезде написал мой Миша, — говорит она.
Это на мой вскрик, что опять какая-то сволочь помочилась
возле лифта. И не объяснишь ей, дурехе, что пятилетний
Миша, конечно, свое дело сделал, но не мог он один на-
66
прудить такую лужу, что на подмогу ему пришел мощный
мочевой пузырь, не чета детскому, не добежавшему...
— Это правда, — говорит Оксана, здоровея ли¬
цом. — Я его уже выпорола.
Сейчас ей надо ответить, откуда у нее кофточка. Я по¬
лучу чистую правду, хотя суетливость Оксаниного лица
показывает, что именно ее говорить ей не следует.
— Ваня возит Членова. Знаете? А у Членова есть
любовница. Это она мне продала, — скороговорит
она. — Так неудобно про это говорить... Но в жизни ведь
всякое бывает, правда? Такое вот горе Марье Гавриловне...
И она уносит яички, оставляя меня в презабавнейшем
состоянии случайного соглядатая известного события, но
как бы с другой стороны. Вид спереди. Вид сзади. Вид со
стороны Марьи Гавриловны.
Об окончательной и сокрушительной победе жены мне
тоже сообщила Оксана. Уже было лето. Оксана выгулива¬
ла свой выводок, а я, что называется, шла мимо. Оксана
всегда выходила гулять с большой сумкой, в ней лежали
цветные тряпки, из которых она споро лепила то детские
игрушки, то причудливые коллажи, скорость ее творчества
была удивительной — два-три переброса тряпочек, два-
три стежка, вложенная внутрь щепочка, взятая с земли,
вставленный в середину лист — и полный балдеж. На
тебя уже смотрит дитя в капоре с такой удивительностью
выражения, что начинаешь его слушаться, а дитя, лукавая
тряпочка, сочувствует тебе, но как бы и презирает тоже.
На этот раз в руках Оксаны были куски той самой
кофточки.
— Пошла пятном после первой же стирки, — объяс¬
няет Оксана. — А еще импорт. Но я, знаете, даже
рада... Ведь это очень важно, из чьих рук вещь. Я же вам
говорила...
— Оксана! Ерунда! Все наши вещи залапаны таким
количеством рук, что ничего личностного...
67
— Один плохой человек подержит — и хоть вы¬
брось...
Она брезгливо достала линялые кусочки, а потом радо¬
стно сказала:
— И с ней как с кофточкой...
— С кем — с ней? — почему-то испугалась я.
— Михаил Петрович порвал с этой женщиной, —
как-то гордо сказала Оксана, как будто была в этом и ее
заслуга, ее толика протеста против безобразий, когда за
здорово живешь ходят по земле особенные особы, а кто-то
нормальный, простой страдай?!
Надо было отыскать Ольгу. На работе сказали, что она
болеет, дома — что ее нету, вот и думай, где может нахо¬
диться болеющая женщина. Все ли знаешь, Оксана?
Но Оксана знала все, потому что Ольга позвонила
сама и вполне здоровым голосом сказала, что прогуливает
по липовому бюллетеню и может ко мне приехать с бутыл¬
кой английского шерри.
— Годится?
— Все, кроме места встречи, — ответила я. — Зна¬
ешь, кто у меня живет под боком? Кто моя любимая сосед¬
ка? Жена шофера твоего хахаля.
— Ну и какие проблемы? — непонимающе спросила
Ольга. — Что, я поэтому не могу к тебе прийти?
— Можешь... Но лучше не надо. Я не говорила ей,
что знаю тебя.
— Ты участвовала в холопьих пересудах?
— Не хами! — закричала я. — Я ни в чем не уча¬
ствовала. Я слушала. А кофточка твоя, слиняла за раз,
кто ж такое простит?
— Ну и черт с ней! Ладно, приходи сама... Я не хоте¬
ла звать, потому что слегка завшивела домом. Такой у меня
бардак. А руки не подымаются...
— Я не знаю, — сказала мне Ольга, когда мы уже
выпили по маленькой, — но у мейя такое чувство, что он
68
все просчитал на машине. Она — я, я — она... Плюс —
минус... И я машине проиграла. Хотя кто ее знает. Ему
могли прищемить яйца в какой-нибудь инстанции. Тебе
когда-нибудь щемили яйца? Говорят, это больно. У них
это самое нежное место. Слаба на передок — говорят про
нашу сестру... Ни хрена подобного! Это про них. А мо¬
жет, и совсем третье. И он с самого начала не брал меня в
голову на большой срок. А я возьми и нажми посильнее...
Хотя можно было играть в эту игру еще лет сто... Ноя
проявилась, как говорится, всеми своими желаниями. Он и
спрыгнул как ошпаренный... Знаешь, что у меня внутри?
Эти, как их... Геркуланум и Помпеи. Если не понимаешь
древнего — тогда считай меня Ашхабадом. А если и это¬
го не понимаешь, то мне, подруга, жить не хочется. Плохо¬
го не воображай. Я, конечно, буду жить, потому что у
меня очень сильна энергия выживания. Я вся в дерьме и
навозе, а энергия во мне фурычит, как электростанция...
Уже показывает мне какие-то виды будущего, как бы не¬
возможного совсем, но и возможного тоже. Так что я вы¬
живу, хотя такого мужика, если отвлечься от его преда¬
тельства... у меня не было, нет и не будет. Но отвлечься
никак нельзя. Такой казус. Не предал бы он меня, предал
бы жену... Жизнь ставит перед человеком выбор не добра
и зла, а исключительно двух зол. Это же мы придумали: из
двух — меньшее... Мы все люди зла.
Должна сказать, что смотреть на нее в тот день было
страшно. У нее все время дергалось веко, и она прикрыва¬
ла глаз ладонью, и я видела ее ногти, неухоженные ногти...
Она сама протянула мне руки и сказала:
— Видишь, какие ногти и пальцы? С этим ничего
нельзя поделать: они такие не потому, что я их не мою.
Они теперь изначально такие. Тру щеткой, а через две ми¬
нуты — грязь.
Я сама столкнулась с этим много-много позже. У меня
тоже пачкались пальцы и чернели ногти, когда я похорони¬
ла маму.
Бедные наши говорящие руки...
69
Вик. Вик.
Она позвонила ему сама. И он узнал ее сразу. Стало
приятно. Хотелось думать о неизгладимости впечатления.
Конечно, идти к врачу в полной боевой раскраске глупова¬
то. Для этого случая годятся бледность, красные веки и
дрожание губ. Незаменима тут и тахикардия, слившаяся в
экстазе с аритмией, и, как бантик на коробке, пучочек по¬
никших волос, стянутых черной резинкой, — ну нет у че¬
ловека сил взбить себе прическу.
Ольга выбрала серединный путь: еще не конец света,
но уже и не его апофеоз. Окраска волос была в легкую се¬
дину, слабые локоны чуть-чуть сбрызнуты лаком, чтоб не
развалиться совсем. Что касается тахикардии, мы ею не
управляем, ее явление — дело случая или настоящей бо¬
лезни. Но такого Ольга в голову не брала.
Все было как тогда. Манжетка давления, холодок сте¬
тоскопа, белая раковина в углу с четвертушкой мокрого хо¬
зяйственного мыла. Не богачи мы тут, в поликлинике, го¬
ворило как бы мыло. Его руки им не пахли, запах сам по
себе внедрился в нос и щекотал, щекотал воображение.
Это теперь с ней сплошь и рядом. Вывеска аптеки может
так ударить валокордином, а венгерская курица в целлофа¬
не, стоит ее развернуть, вовсю громыхнет паленым пером.
Но ведь это психиатрия, при чем тут терапевт, если у нее
головка сбрендила?
Будоражила раковина. Придется ли к ней бежать или
обойдется? Посторонность мыслей отвлекала от главно¬
го — зачем пришла? — ив какую-то секунду Ольга же¬
стко сформулировала: «Если я думаю черт-те о чем, не так
уж я и больна».
— По-моему, я блажу, — сказала она врачу. —
И вы так думаете... Ну, подгнила слегка женщина, так
ведь весна, авитаминоз... Я налягу на лимоны... И вооб¬
ще у меня анемия с детства... — Она стала перечислять
все, что ела и пила при малокровии.
70
Потом они сидели друг против друга, он выписывал ре¬
цепты, а она оглаживала в сумочке конверт.
«Сейчас уйду, но зачем приходила — не знаю, — ду¬
мала Ольга. — Нет рецепта, чтоб его вернуть».
— Меня бросил любовник, и в этом все дело, — ска¬
зала она с некоторым вызовом, будто хотела унизить док¬
тора в его бездарном незнании сути вещей. — Седуксен
возвращает мужиков? Или настойка пустырника?
— Возвращает, — ответил врач. — Вы успокоитесь,
сделаете прическу, избавитесь от истерического тона —
сам прибежит.
— Значит, вы совсем дурак, — тихо сказала Оль¬
га, — если думаете, что я рухнула из-за человека, которо¬
го такой дешевкой приманить можно. Извините за «дура¬
ка», не обижайтесь. С меня сейчас нечего взять.
Она рассказала ему все. Когда она с неожиданной для
себя самой гордостью произнесла: «Меня победила систе¬
ма. Со мной соперничала она, а не женщина», — врач не
то что засмеялся, но, в общем, был к нему близко, к смеху.
Широкой ладонью он закрыл рот, но ведь Ольга не сума¬
сшедшая, видела, как он спасался, «чтоб не заржать мне в
лицо», скажет она мне потом. Очень не скоро, между про¬
чим.
Но тут надо разобраться в этом жесте прикрытия.
В сущности, неэтичном с точки зрения деонтологии.
Долга должного. Не имеет права смеяться доктор, какую
бы чухню ни принес ему в клюве больной. Он больной,
раз сидит на приеме, даже если он здоровее тебя во сто
крат. Почему же этот квалифицированный и платный
смеется за собственной ладошкой? Дело в том, что у
Виктора Викторовича был неизлечимо больной лежачий
сын, была жена, которая забросила ради него профессию,
себя, мужа, чтоб та маленькая жизнь, которая досталась
ее ребенку, была доверху наполнена одной ее материн¬
ской любовью, раз уж никаких других радостей у него не
71
будет никогда. Мальчику было восемнадцать, они его
уже брили, но над его кроватью висели погремушки, за
которыми он внимательно следил странными, нездешни¬
ми глазами с огромными, почти нечеловеческими ресни¬
цами.
Им говорили, что он не жилец и протянет от силы три-
четыре года. Прошлой весной они получили на его имя по¬
вестку из военкомата. Сначала они с женой решили, что
повестка ему, Виктору Викторовичу, всполошились, пошли
выяснять. Оказалось — сыну. С тех пор повестки прихо¬
дят почти каждый месяц. Ни справки, ни скандал с воен¬
коматом не могут найти того человека в погонах, который
методично шлет им эти бумажки.
— Ваше бы упорство да в мирных целях, — сказал
Виктор Викторович какому-то очередному майору.
— В каком смысле? — спросил майор. — Вы тут не
выражайтесь. Мы работаем по системе.
Майор сказал правду. Повестки все идут. Просто с тех
пор они выбрасывают их сразу, а Виктор Викторович,
укрывая по вечерам большое, мощное тело сына, думает,
что система, о которой говорил майор, не такая и дура, ей
издавна велено отслеживать наличие мужской плоти, чтоб
потом бездарно и жадно поглотить ее, система ждет подво¬
ха — «укрытия мужского мяса», и не зря, между прочим:
столько лет спасать от нее твое дитя — дело не просто
святое, а, можно сказать, богоугодное. Система тоже не
дура — бдит возле всякого лежащего тела: вдруг оно —
Илья Муромец и валяется не по болезни, а по легендарной
русской лени?
А тут — на тебе. Пришла еще одна «жертва систе¬
мы». Обломился и валится на тебя кусок какой-то вселен¬
ской дури, успевай только уворачиваться.
Сме£ за ладошкой у Виктора Викторовича был
нервный и злой. И он решил, что даму эту с теплым и
мягким животом он больше не примет. Ему в клинике идут
навстречу, разрешая иногда «задерживаться» после основ-
72
ного приема, его тут жалеют, но сексуально озабоченных
истеричек он принимать не будет. Это не его профиль.
Он написал на бумаге телефон и имя-отчество своего
приятеля, который подрабатывал как раз на сексуальных
неврозах номенклатурных баб и заведующих магазинами.
— Это хороший специалист, — сказал Вик. Вик.
Ольге. — Вам нужен невропатолог.
— Брошенные бабы у вас проходят по невропатоло¬
гии? — свирепо спросила Ольга. — А почему не по хи¬
рургии? Чтоб им зашивали одно зудящее место? Эх вы!
Сдуру разболталась, а вы меня коленкой...
Она встала и быстро пошла к двери. Но то ли резко
встала, то ли быстро пошла, но посреди комнаты Ольга
грохнулась на пол.
Кулибин
Надо было к нему вернуться. Он ведь тоже человек, а
не хвост собачий. Человек с выпирающим зубом и огруз¬
невшими чреслами к тому времени весьма осыпался голов¬
кой и имел довольно противную привычку укладывать
единственную подросшую прядь волос поперек колена го¬
ловы. А-ля Лукашенко, что из Белоруссии. Нетоварность
вида Кулибина бросалась в глаза сразу, а добротными
шмотками еще больше подчеркивалась. Такая была казуи¬
стика. Есть тип людей, у которых чем проще и грубее их
одеяние, тем они как бы наряднее. Ну надо, надо им тор¬
чать в тряпках естественно. Ведь гармония — дама хоть и
алгебраическая, но тем не менее нет-нет, а взбрыкнет со¬
вершенством в несимметричных, косоглазых, вытянутых
шеями барышнях Модильяни. В них не то что нет алгеб¬
ры, а даже арифметикой не пахло. Зато каковы! Женщины
НИИ все равно любили Кулибина за несочЕтаемость ка¬
кой-нибудь гавайской рубашки и русского сеченого волоса,
положенного поперек. Антигармония или что там еще жила
73
и царствовала в этом мужике из Тарасовки, который уже
давным-давно жил в Москве, не переставая радоваться
своему счастью ездить в теплом метро, любил без памяти
дочь Маньку и без конца удивлялся собственной жене, ко¬
торую когда-то взял без затруднения. Если бы у современ¬
ного человека было личное время, в которое можно было
бы войти пустым и голым и остаться так хоть на пять ми¬
нут, то, может, без сброшенного хлама жизни у этого голо¬
го наступало бы озарение мыслью ли, чувством ли или что
там еще у нас по разряду тонких и невидимых материй?
И тогда нагой Кулибин наверняка ошеломился^бы, что
давно-давно он только и делает, что удивляется своей
жене, и успел дойти до того самого места, на котором гвоз¬
дями приколочено: «Меня ничем уже не удивить».
Кулибин был потрясен ее коммерческими способностя¬
ми — утюги-кипятильники-парфюм-кофточки. Но это
было вначале. Он дрожал за нее, боялся, что ее схватят,
разоблачат и посадят в тюрьму, потому что — как же мо¬
жет быть иначе? Потом он удивился, когда понял, что у
его жены — видимо! — есть другие мужчины. Его охва¬
тила даже не ревность, что было бы естественно, у него
случилось удивленное непонимание — зачем? Она тряс¬
лась над ним, если он заболевал. Она была в курсе его ра¬
боты и всего, что с ней связано. Когда одна дама из разве¬
денок два раза подряд пристроилась за ним с подносом в
столовой, Ольга устроила не то что скандал, а, скажем,
легкую выволочку, и Кулибин просто потек от проявления
таких ее чувств. В его голове, на ее внутренней стороне,
что округляет пыхкающий и фосфоресцирующий мозг,
были приколочены, как во всяком деловом помещении,
кроме уже упомянутого главные, истины жизни. Это было
правильное использование внутренней части, черепа —
иначе зачем оно? Простые, им самим читанные или при¬
шедшие сами по себе истины избавляли вещество мозга от
решения глупых задач. Зачем ему биться нервными волок¬
нами, если давно известно: ревнует — значит, любит. Или
74
там: не бойся того, чего боишься. Или вообще поперечное
принятому: мертвые срам имут.
Последняя мысль-истина для понимания Кулибина
особенно важна.
Надо сказать, что Кулибин был хорошим человеком.
Ну просто хорошим, и все. Он сам придумал сложноватую
для охвата мысль про мертвых. С поры, с момента микро¬
инфаркта, который настиг его в тридцать два года, когда
он за полгода похоронил родителей и потерял живую сест¬
ру. Живая сестра сказала ему, когда они шли с кладбища,
что тарасовский домик принадлежит ей, и только ей, и не¬
чего ему рот на него разевать. Кулибину даже в голову по¬
добное не могло вспрыгнуть. Зачем ему тарасовская даль,
если у него хорошие жилищные условия и до работы ровно
семнадцать минут? Но сестра смотрела на него таким то¬
чечным взглядом, что у него кольнуло в подреберье, но,
правда, сразу и отпустило, а вот взгляд сестры запечатался
в нем раз и навсегда. Взгляд алчной ненависти. За что?!
Ведь они так любили друг друга. Он подписал ей все бума¬
ги, сестра кинулась к нему на грудь, заревела, сказала, что
боялась, вдруг придется с ним судиться. И хотя правда
полностью на ее стороне, его мадам наняла бы нужных ад¬
вокатов — а у нее, у сестры, откуда деньги?
Он гладил сестру по спине, но это была не его сестра и
это была чужая спина. Так он время от времени оглаживает
их хамку вахтершу, когда ее кто-то хорошо отметелит за
грубость и беспардонность и та начинает выть от обиды на
весь вестибюль. Вот тогда и посылают Кулибина, и он об¬
нимает сволочь бабу, похлопывая ее по мощной округлой
спине, и вахтерша примиряется с жестокостью жизни от
неискренней кулибинской ласки.
Неверующий человек, Кулибин боялся умереть так,
чтоб там ему было стыдно за бесцельно прожитые годы.
Бодрая комсомольская цитата в его мозгу имела вот такой
странноватый поворот. Он был уверен, что все дурное пе¬
рейдет с ним туда у но способа исправить что-то там уже
75
не будет. Никогда и ни за что. Не ада боялся Кулибин, он
в него как раз не верил, он боялся срама, который с пол¬
ным на то основанием — его же срам — ляжет с ним в
гроб и останется с ним навсегда.
Кулибин много думал над словом «навсегда», но оно не
давалось ему ни в разумении, ни в ощущении.
В семье о глубинных процессах внутреннего мира Ку¬
либина не знали, разве что Маньке доставались сказки-
присказки, имеющие педагогический смысл больше для са¬
мого отца, чем для дочери.
Кулибин всегда учуивал Ольгины измены, учуивал те¬
лом. Но она засыпала тем не менее все так же — в лож-
биночке его плеча, перекинув на его живот согнутую в ко¬
лене горячую ногу.
И он прощал. Прощал, успокоенный этой позицией как
основой мироздания и семьи.
Утром он хотел поймать в Ольгиных глазах отблеск
греха, но его и близко там не было. Деловая, хозяйствен¬
ная, она, стоя на коленках, отрезала наметившийся обтреп
его брюк, а через два дня приносила новые штаны. Это она
первая заметила его микроинфаркт и устроила его в луч¬
шую больницу и носила ему такие деликатесы, что есть их
при народе было неудобно, хотя народ был, что называет¬
ся, без удивления насчет икры там и другого. Кулибин же
скармливал деликатесы старухе няньке, злющей бабе, ко¬
торая ни разу ему даже спасибо за это не сказала, а банки-
склянки хватала грубо и кидала громко в безразмерный
карманище, сидящий поперек ее широкого, как просторы
родины чудесной, живота. Эдакая нянька-кенгуру.
Больные с куда меньшим чувством подельчивости до¬
кладывали Ольге о глупостях доброты Кулибина, но она
хорошо отбривала всех. «Бхли ему это нравится — зна¬
чит, на пользу. А раз на пользу — пусть хоть свиньям
все скормит».
Вывод у контингента был один: у этой бабы деньги не
считаны. Откуда они? Кулибин начал бояться такого инте-
76
реса, но, слава богу, дело пошло на поправку. Кулибин вер¬
нулся домой и так странно этому обрадовался: стал прижи¬
маться к дверям и стенам — ему казалось, что от них в
него вливается сила. Ольга же поимела тогда очередной
приступ анемии, и летом Кулибин откипятил ей с отбелива¬
телем все белье для поездки на юг, чем вызвал Ольгин
смех. Она не собиралась ехать в кипяченых тряпках, она
накупила новые. И Кулибин подумал: «А-а-а...»
Человека по фамилии Членов он тоже унюхал. И надо
сказать, первый раз в жизни он почувствовал, что дело
швах. И хотя Ольга по-прежнему клала ему голову в лож¬
бинку и перекидывала на него согнутую ногу, все было так,
да не так.
И тут — одно к одному — его избрали в партком, а
время началось разноцветное и интересное. Если бы не
Ольга — она стала вся как струна, вся сжалась и одно¬
временно вытянулась вверх, — Кулибин, может быть, и
встрял в новую, возникающую жизнь или хотя бы рассмот¬
рел, к чему она. Но он был весь в сугубо личных делах, он
все ждал, когда натянутость в Ольге в конце концов лоп¬
нет к чертовой матери. Вот тогда он соберет их по кусоч¬
кам и сошьет в спокойном виде, потому что это он как раз
умеет, у него иголочка в пальцах держится, как там роди¬
лась. Хотя по закону натянутости Ольга может вылететь
из тетивы — только ее и видели. Тогда и иголочка-уме-
лочка, и ниточка-помощница будут ему без надобности.
Кулибин сидел на заседаниях парткома, на которых то
одобрял рубку виноградной лозы и создание кооперативов,
то поощрял индивидуально-трудовую деятельность, а то
осуждал все это. При осуждении особенно много было
крика — крика от страха, что все как один начнут, к при¬
меру, индивидуальничать и застынет в домне чугун, а в
мартене — сталь. И все это застывшее вызывало ужас у
их секретаря, глупой, но очень эмоциональной тетки, кото¬
рая однажды уписалась от счастья, когда ей давали какую-
то медаль. Она выхватила медаль и рванула бечь, но потом
77
честно все рассказала, так как это было то эмоциональное
счастье, в котором признаться не стыдно.
— От страха ни за что не побегу! — говорила
она. — А от радости — слабею...
В общем, хорошая женщина, она старалась для людей,
водила их в походы, сбивала в хоры, объясняла суть иду¬
щих перемен.
А ему, Кулибину, было тогда хоть бы что. Сидит пень
пнем и думает об Ольге. Однажды его вызвали в школу не
потому, что у Маньки были плохие дела. Завезли целую
машину прибамбасов для физического кабинета — тогда
это еще делалось по плану, — ну и позвали отцов на раз-
груз. Кто сможет? Кулибин смог. Натаскался от души, за¬
быв про инфаркт. Потом отцы скинулись и дернули с
устатку прямо на ящиках, закрыв дверь класса ножкой
стула. И так получилось, что физичка сидела с ним на од¬
ном ящике и он невольно ощущал ее тугой бок, даже не
бок, а то, что ниже, их сближенная позиция на ящике оп¬
ределялась гвоздочками по краям, и надо было устрем¬
ляться в серединку, чтоб ненароком не порвать штаны.
Сидели, что называется, без задней мысли, а после
второй или там третьей расслабленное тело почувствовало
присутствие другой, противоположно желанной, природы.
Кулибин никогда не был мастаком по этой части, глаз его
не загорался, видя в метро высоко торчащие попки, к кото¬
рым он вполне мог притронуться брюхом — и никто не
придал бы этому значения... Толпа и не то кушает. Кули¬
бин же всегда делал глубокий вздох, чтоб ликвидировать
саму возможность прикосновений, если рядом возникало
что-то эдакое. На чужое он не зарился и жен, дев, сную¬
щих вокруг него не желал. Когда же возникали такого
рода проблемы виде жалобного письма про измену или
грубой анонимки про разврат, Кулибин всегда воздержи¬
вался от осуждения; помнил и жалел женскую природу, ту,
какая была у Анны Карениной, мадам Бовари, Катерины
из «Грозы»: с женщинами — даже очень хорошими —
78
случается всякое. И с мужчинами тоже, правда, литера¬
турных аргументов в голове Кулибина не всплывало.
«Я мало читаю», — осуждал он себя.
— Ты беспринципный, — говорила ему после таких
парткомов эмоционально писающая парторг.
— Ну что ж поделаешь! — отвечал Кулибин. — Ка¬
кой есть.
Время насчет моральных устоев было уже весьма и
весьма вегетарианским, так что можно было позволять
себе вольности и откровения типа: «Я такой!»
Но вернемся к сидению на ящике. Кулибин пытался, не
глядя на физичку, вспомнить ее лицо. Но не мог. Бок ее
так раскочегарился, что Кулибина охватил неприличный
жар, как какого-нибудь малолетку. Когда же все выпили и
встали, Кулибин боковым зрением увидел такой призыв за
стеклами очков физички, что сам себе отменил все запре¬
ты. «Позовет — пойду», — сказал он себе.
Он потолкался на школьном крыльце, ожидая, когда
уйдут другие отцы, которые подбивали его продолжить в
«стекляшке» хорошо начатое дело, но Кулибин постучал по
циферблату, мол, время, братцы, время...
Он еще не знал, что придется переться на электричке
до Дмитрова. Когда она вышла с тремя набитыми пакета¬
ми, его «я помогу!» было таким естественным и мужским.
В электричке Кулибин осознал глупость своего поступ¬
ка, хмель потихоньку иссякал, организм обретал обычную,
не романтическую, форму, вот только глаза Веры Никола¬
евны, стоящей рядом, продолжали оставаться горячечно-
зовущими, хотя Кулибину и приходила в голову мысль: не
стекла ли отсвечивают таким странным образом, создавая
оптическую заморочку?
Вера Николаевна жила в двухэтажном каменном бара¬
ке, обреченном крепостью кладки на долгую жизнь. Возле
обитой дерматином двери стояла тумбочка, на которую они
поставили пакеты, пока Вера Николаевна слепо ковыря¬
лась с ключами. Видимо, это было обычное дело, потому
79
что из комнаты напротив Кулибин услышал, что «опять эта
слепая курица не может попасть в замок», из другой, что
рядом, кто-то пискнул: «Верка пришла», а третья дверь
открылась, и молодая женщина с ребенком на руках радо¬
стно сообщила: «Нам дали смотровой! Сходишь с
нами?» — «Как здорово! — ответила Вера Николаевна,
наконец открывая дверь. — Я потом к тебе зайду, все
расскажешь. Через час».
Кулибин как-то очень объемно, даже, скажем, про¬
странственно ощутил количество времени под названием
«час» и с этим вступил в комнату.
Через час и пять минут он уже шел к электричке. Было
бы просто замечательно, если бы не хотелось есть. Две не¬
привычки сделали голод почти невыносимым — непри¬
вычка выпивать среди бела дня, и не по чуть-чуть, а впол¬
не достаточно: у Веры Николаевны оказалась початой бу¬
тылка молдавского коньяка, а из еды были одни сушки.
Вторая непривычка — любовь в полпятого: ни то ни се.
Ни ночь, ни день, а так — сумерки ноября. Он постес¬
нялся сказать, что голоден. То, что между ними случилось,
как-то трудно было назвать поводом попросить поесть.
Ведь тогда продукт не лежал на каждом углу, его даже в
магазинах не было, поэтому домой Кулибин добрел совсем
злой и снова — в который раз! — оценил Ольгу, у кото¬
рой всегда в холодильнике все было, и такого позора, как
сушки, допустить она не могла, что называется, по опреде¬
лению.
Сытый Кулибин, когда стал перебирать подробности
случившегося, поймал себя на желании вернуться к Вере
Николаевне, чтоб разглядеть все повнимательней и попри¬
стальней. Можно сказать, что любовь к подробностям и
легла в основание всего последующего.
К моменту, когда Ольга рухнула в кабинете у врача, у
Кулибина географически неудобный роман с учительницей
80
физики шел вовсю. Вера Николаевна грузила на эту те¬
лежку большие надежды, тихонечко расшатывая брачный
корвет. Почему, спросите, корвет? По кочану, отвечу я.
У нее на буфете стоял макет кораблика, подаренный ей
поклонником из далекого прошлого, на нем сбоку было на¬
писано нечто несгибаемое в смысле чувств, а где он теперь,
тот поклонник? Воистину — поматросил и бросил. А ко¬
раблик остался, Вера Николаевна не выбросила его из-за
страстной надписи, которая возбуждала возникающих в ее
жизни мужчин, а Вера Николаевна дергала плечиком, вы¬
ражая мысль, что нечеловеческая любовь к ней — дело не
случайное.
Ей думалось, что в случае с Кулибиным ей повезет, что
еще чуть-чуть — и однажды он останется у нее навсегда...
Вот в момент этой ее мысли и рухнула на пол Ольга, и,
не ведая того, Вера Николаевна отлетела от своей мечты
так далеко, что обратной дороги — казалось! — уже
было не найти.
Вик. Вик.
«Скорая помощь» находилась с торца поликлиники.
Врачи ходили друг к другу через маленькую дверь в стене
уборной, которой пользовались технички. Вик. Вик. не то
что не мог привести Ольгу в чувство — нет, но это был
«частный случай», что называется, не дай бог, поэтому он
«гукнул» соседей. Так говорил их главврач, разбирая жало¬
бы болящих на врачующих.
«Ну, не соображаешь мыслью, гукни соседей!» —
кричал он.
Но принято это не было именно из-за главного. Его не
любили и знали его медицинскую цену. Тем не менее знали
и другое: случись у кого неприятности масштабные по ли¬
нии партийной или политической, дурковатый по профес¬
сии и жизни главврач надевал все свои ордена и медали,
81
прочищал горло настоем зверобоя и шел выручать челове¬
ка. И случая не было, чтоб не выручил. Но первый день
благодарности сменялся вторым, когда вместо нее энцефа¬
литно внедрялась мысль, что ничего ему, главврачу, не сто¬
ило помочь, потому как он сам из тех, на кого кричит зве¬
робойным горлом. Все они там шакалы.
Но это, как говорится, к делу отношения не имеет, хотя
именно с его подачи подхалтуривал Вик. Вик. и с его же
совета побежал к соседям, положив Ольгу на кушетку.
Ее освидетельствовали лучшим образом. Сняли кардио¬
грамму, обстучали, обслушали, обсмотрели не без интере¬
са.
— Нерь-вы, — сказал молодой ординатор. — Но
ведь обморок давно атавизм. Советские дамы не млеют.
Другая природа.
Ольга все это слушала и слышала, просто не открывала
глаз.
«Вот гад!» — подумала она.
— Знаете, как мужчины на вас смотрели? А вы из-за
какого-то там падаете...
— Млею, — тихо сказала Ольга. — Это правда.
И то, что он сволочь, — правда тоже.
Он пошел ее проводить.
— Я могла взять такси, — рассказывала потом Оль¬
га, — но он настаивал проводить, а я не была уверена, что
у него есть деньги.
— Но ты же ему заплатила!
— Видишь ли... Получалось, что мои же деньги он на
меня бы истратил. Я ведь уже знала, что у него в семье.
Мне как раз накануне рассказали про эти повестки из во¬
енкомата. В общем, под ручку, как шерочка с машерочкой,
мы двинулись в метро. И он был так внимателен на эска¬
латоре, так осторожен на ступеньках, что я подумала: черт
возьми, на меня же бабы зыркают с полной на то зави¬
стью. Они ж не знают ситуацию. Они видят, как можно
82
обхаживать подругу в таком оглашенном месте. И не так,
как эти тинейджеры, что у всех на виду лезут друг другу
между ног, а по какой-то совсем другой формуле. И мне
влетело в голову — а если бы это было по-настоящему?
Не из медицинской вежливости? А по чувству? Мне надо
было вылечиться от этого гада Членова, и я поняла, что
нашла противоядие.
Она все сделала, как хотела. Это она была любовником
в их отношениях. Это она подгоняла такси к концу его де¬
журства. Очень хотелось одеть Вик. Вика, чтоб с ног до
головы стал новенький, но этого было делать нельзя. Раз¬
ве что накормить как следует, правда, и тут случился кон¬
фуз. Вик. Вик. принес домой запах хорошей еды, и жена
замерла в прихожей, прислушиваясь к шелесту молекул
аромата, которые миллионно погибали в чужой среде, и вот
эту их смерть унюхала жена и была ошеломлена этим пре¬
красным нечто, которое опадало на болоньевые плащи, на
ососулившуюся искусственную шубу, на сто раз чиненную
обувь...
— Какой-то дивный запах ты принес с холода... Так
однажды пахла Пасха, когда она совпала с маем...
Жена ушла на кухню, и Вик. Вик. увидел ее спину с уз¬
лом клеенчатого фартука, которого она никогда не снимала.
Узел на нем был вечен, и жена надевала его через голову.
Сквозь тонкую кофточку просвечивал лифчик, и Вик. Вик.
видел перекрученную лямку. Во всем облике жены была
какая-то окончательность, завершенность судьбы. Ее
нельзя было вообразить в другой одежде, ее нельзя было
представить идущей в другом жизненном пространстве,
кроме как пространстве коридора. К тому же она очень
долго проходила эти четыре шага до кухни, в этом была
некая сверхзадача, чтоб в замедленный ход времени он,
Вик. Вик., успел увидеть спину и лямку и они — эти
две — должны ему что-то сказать. На повороте в дверь
кухни жена привычным жестом поправила бюстгальтер,
83
движение сначала ножом скользнуло по Вик. Вику, а по¬
том он ощутил резиновый обхват вокруг собственной гру¬
ди. Он дернулся, спасаясь от жесткого объятия, но понял:
деваться некуда.
Вик. Вик. отказался от встречи, когда Ольга позвонила
в следующий раз, и та долго сидела, замерев над аппара¬
том. Ей уже была в тягость эта благотворительно-любов¬
ная связь, она приносила душевное утешение, но тело ее
оставалось равнодушным. Все было как с Кулибиным, хотя
последнее время, с того момента, как ей поплохело в каби¬
нете Вик. Вика, Кулибин только что на уши не становился
ради нее. И тут Ольга заметила некоторые новшества в
поведении мужа и с интересом подумала: «Неужели?» Но,
занятая другим «бедным мужчиной», Кулибина из головы
выбросила. А муж тогда старался. Очень. Ему тоже надо¬
ело ездить в Дмитров и разглядывать пыльный корвет. Он
устал от его застывших парусов.
Так удачно, вовремя закружилась у Ольги голова, Ку-
либин был многословен, объясняя Вере Николаевне ситуа¬
цию по телефону. Та даже посочувствовала болящей.
Упасть на ровном месте — дело и опасное, и нелепое.
С ней был подобный случай на улице, и она успела уви¬
деть «рожи», на которых был смех, а никакое не сострада¬
ние. Через несколько дней Вера Николаевна как бы между
делом спросила у дочери Кулибина, как здоровье ее мамы.
Манька вытаращила глаза и сказала: «Нормально.
А что?»
Вера Николаевна страдала зло, ненавидяще и созда¬
вала в мозгу картины обстоятельств, когда побитой соба¬
кой вернется к ней Кулибин, но у нее уже будет Настоя¬
щий Человек, который возьмет его за воротник, припод¬
нимет и... бросит. Шмяканье Кулибина о землю было для
Веры Николаевны звуком небесным и божественным.
Вера Николаевна была женщиной мстительной и горди¬
лась этим.
84
Полковник Яресько
Каждый раз, когда Они умирали, она была в отъезде, и
каждый раз ее контрагенты начинали нервничать, взвин¬
чивать цену и вели себя так, будто она не сто лет своя в
доску, а малолетка-энтузиастка, вышедшая на тропу спе¬
куляции впервые.
Отягчающими жизнь покойниками были Брежнев, Ан¬
дропов и Черненко.
— Что у вас теперь будет? — каждый раз спрашива¬
ла Ванда. — Какую еще нам ждать от вас свинью?
Ольга давно изжила чувство патриотизма, блескучесть
которого многими принимается за дорогой товар. Она уже
хорошо знала степень нелюбви и поляков, и венгров, и
немцев к матушке своей родине и считала, что так нам всем
и надо. Они за водочкой сто раз переговорили с Вандой о
свойстве русских — требовать от мира не по заслугам че¬
сти. Но они же и простили им это самомнение, они доду¬
мались, что каждый немец неплох, пока его не позвал Гит¬
лер, и каждый русский вполне подходящ, пока на него не
напялили идею, и поляк тоже ничего из себя лях, только
когда ему дают жить по естеству его природы.
Исторические смерти будоражили Польшу, от России
ждали больших безобразий. К этому времени Ольга уже
накопила денежку и держала ее грамотно, не в сберкассе
там или под плинтусом, она покупала старинные подсвеч¬
ники (некая близость к утюгам и кипятильникам по перво¬
родной сути — огня), слегка озеленевших амуров и пси¬
хей, мелкий художественный товар из восемнадцатого
века, века товарного совершенства, толпился у нее в сер¬
ванте и на стеллажах. Открытость и пыльность дорогих
вещей делали свое дело: никто Ольгино «барахло» ценно¬
стью не считал. Потом она скажет: «Я знала. Я чувство¬
вала. Я просыпалась утром с мыслью: надо идти на Ки¬
ровскую. И шла. А там лампадочка. Вещь бесценная,
но куда ее в нашу жизнь?.. Это идиоты думают, что неку-
85
да, а я думаю другое: Андропов закроет границы, к тому
идет, а я проживу на этой лампадке два года, чтоб семья
не заметила издержек политики».
Так вот... Когда случались державные смерти, Ольга бы¬
стро собирала манатки и возвращалась домой. И дважды ее
путь пересекся с полковником Яресько, военным снабжен¬
цем, который замечательно устроился, объезжая владения
Варшавского Договора, и тоже нервничал, когда от Колон¬
ного зала до Мавзолея плыл траурный лафет-марафет и ста¬
рики политбюрошники в застывшем безмыслии совершали
этот единственный пеший проход в своей жизни.
Яресько был очень тороплив, если не сказать — сует¬
лив. Всякое предварительное разглядывание, говорение
полагающихся слов, использование рук, ну, скажем, для
нежности — все это в боевом арсенале полковника отсут¬
ствовало напрочь. Единственный способ любви — брезг¬
ливое опадание и слово «пардон», которое с трудом вытас¬
кивалось из горла сквозь сцепленные зубы. Когда это слу¬
чилось в СВ в первый раз, Ольга была просто оскорблена.
«Сволочь солдафон», — подумала она вслед выскочивше¬
му из купе Яресько. Но потом он пришел снова. И все по¬
вторил. «Чистой воды изнасилование, — философски ду¬
мала она. — Мне есть с чем сравнивать». Она вспомнила
себя ту, дурочку безмозглую, которую за здорово живешь
можно было завести в уголок и сделать что хочешь. Сей¬
час, через — через сколько же лет? — через двадцать с
лишним с ней, поступали так же. И когда Яресько сделал
это в третий раз, то они слились в одно, эти два мужчины,
прошлый и настоящий, и она напряглась и с какой-то оше¬
ломившей ее ненавистью ответила им как бы двум сразу.
Она была свирепа, сильна, агрессивна, она взяла верх, она
их победила к чертовой матери, потому что это было ее
удовольствие, ее страсть, ее насилие.
— Я перешла с ним в новое качество, — ответила
мне Ольга, когда я спросила, что ее, умную бабу, связыва¬
ет с туповатым полковником.
86
— Знаешь, — ответила она, — всякое было...
И любовью это называлось... И партнерством... И бла¬
готворительностью... И браком, между прочим, тоже...
Но самый кайф — полное порабощение.
— Тебе мужа совсем уж мало?
— Порабощение, чтоб ты знала, — процесс сексу¬
ально обоюдный. У русских женщин он доведен до совер¬
шенства. Нам всякое насилие в кайф. Мы потом это лю¬
бим описывать — счастье гвоздя, забитого по самую
шляпку. А наши войны? Чтоб друг друга прикладом,
ближний бой — это же оргазм! Ну такие мы! Такие! Мы
счастливы, когда нас имеют, как хотят... И только ждем
момента ответить тем же. Я это поняла, и мне стало легче.
Надо знать свою природу.
Их роман с Яресько длился долго. Полковник не
знал, что был у Ольги параллельщиком, что вопрос о
его единственности никогда у нее не стоял, он этого не
знал и был ей верен (жена, естественно, не в счет).
Яресько погиб в Афганистане, хотя как хорошо все там
начиналось. Дубленки, ковры, а по заказу Ольги —
причудливые кальяны, тонкошеие кувшины, пахнущие
из горла сокрушительным восточным духом. Но под¬
стрелили Яресько. На войне такое бывает. Ольга ходи¬
ла на панихиду в клуб, постояла в сторонке, жену по¬
койного поддерживал под локоток слегка пастозный
старлей. Было в этой паре что-то внепохоронное, как бы
они тут, но как бы и где-то далеко-далече. «Ты был ро¬
гат, мой друг, — грустно подумала Ольга. — Но ведь
это справедливо. Не так ли?»
На Миусское кладбище она не поехала.
С какой стати решила съездить туда на девятый день,
не знает сама. Скорей всего, близость кладбища к ее рабо¬
те, едва проклюнувшаяся зелень листочков, которые едва-
едва носиком раздвинули мать-почку и замерли от маня¬
щей неуютности мира.
87
— Как хорошо сейчас на кладбище! — сказала Ольге
ее подруга по службе: дома ни разу друг у друга не были, а
на работе — не разлей вода. У Ольги на самом краешке
перекидника было написано: «9 дн.». Она подумала: может,
взять подругу? В конце концов, та многое про нее знала, но
вот об Яреське — нет. Через час, сославшись, что ей поза¬
рез надо уйти, Ольга прыгнула в трамвай и через семь ми¬
нут была на кладбище. Она не знала последнего места пол¬
ковника на земле. Она рассчитывала, что достаточное коли¬
чество людей и венков обозначат ей это место.
На кладбище было хорошо. И пахло странно — рож¬
дением. «Как интересно!» — подумала Ольга. Хотелось
как-то оформить словами мысль, даже подумалось, что
будь она поэтом... Но тут же стало смешно, потому что ни¬
чего смешнее — она поэт — вообразить было невозмож¬
но. Ольга читала только романы про жизнь и любовь, а су¬
ществование поэзии всегда вызывало у нее сомнение в ее
необходимости. Ей хватало ума не вылезать с этим своим
сомнением прилюдно, но она очень удивилась, когда ее
родная дочь Манька раздобыла где-то «Поэзию вагантов»
и исчеркала ее пометками. Ольга надела очки, свои первые
очки, от которых отбивалась до последней минуты. Неин¬
тересно стало сразу, а совсем скучно через три страницы.
«Или она у меня очень умная, или я у себя очень
дура», — подумала Ольга. Но первое как-то никак еще в
жизни не обозначилось, а со вторым было все в порядке.
«Она живет в бархатном ларце: ни сквозняка, ни ветра.
Вырастет балдой неприспособленной, а я возьми и помри».
Так сформулировался итог попытки познать средневековье.
Почему-то вспомнилось, как она рожала Маньку, каким
беспомощным оказалось в этом деле ее тело, как оно не по¬
могало девчонке выйти в белый свет и на нее орали сразу и
врач, и сестра, орали, что она кобыла бестолковая. «Я тебе
говорю — ходи! Ходи по-большому!» — «То есть?» —
пугалась Ольга. «Она кретинка! — радостно кричала сест¬
ра. — Она же полная кретинка. Как ей еще объяснить?»
88
Ольга отвернула голову, чтоб не видеть насмешки, из¬
девательства над собой, и из окошка на нее пахнуло духом
почек, живой земли, как бы будущностью всего сущего, и у
нее пошла первая настоящая схватка.
Поэтому теперь на кладбище, когда моментно скольз¬
нула мысль о поэзии, что было полной для нее дичью,
Ольга вспомнила тот сквознячок рождения Маньки.
Ольга шла по тропинке бодро, можно сказать, даже ве¬
село, потому что живая, благослови ее, господи, Манька
победила покойного, царство ему небесное, Яреську —
разве могло быть иначе? Собственно, она даже искать мо¬
гилу его не стала, прошла сквозь старенькое кладбище и
повернула назад. Уже на выходе стало неудобно перед по¬
койным полковником, который дал ей в жизни некое же¬
стокое знание природы вещей, но ему самому это не очень
помогло: порабощал, порабощал, а прилетела из-за угла
пуля-дура — и где ты теперь, мудрец Яресько? В каких
пределах?
Можно сказать, что на трамвайную остановку Ольга
вышла в состоянии философской приподнятости и легко
вскочила в уже отходящий полупустой трамвай. Она уви¬
дела его сразу. Вик. Викича. «Боже мой! — подумала
она. — Как я ему рада!» И она пошла к нему через пу¬
стой вагон с полной готовностью послужить ему верой и
правдой и даже еще чем-нибудь не столь величественным,
пока он тут, на земле, в отличие от бедного Яреськи, кото¬
рому она уже ничем помочь не может...
Вик. Вик.
Они с женой долго ждали трамвая. У нее замерзли
ноги. «Ты немножко потопай, — говорил он жене, — по¬
топай». И жена топала. Его охватывал ужас от этих не-
очеловеченных ее движений. Он боялся слов, которые сто¬
яли на выходе его мысли. «Как заводная». Он боялся ос-
59
корбить ее даже тайным знанием ее неприсутствия в этом
мире. Она ведь так старалась присутствовать.
Двадцать минут стояния на еще холодном весеннем
ветру возле Миусского кладбища могли плохо кончиться
для Леры. После смерти сына — он подавился пуговицей,
которую исхитрился откусить на собственной рубашке,
пока жена полоскала в ванной его белье, — с ней все хуже
и хуже. Освобождение от калеки сына — а это и было
освобождение в самом чистом понимании слова — стало
для нее укором, что она не уследила за ним. «Если бы он
умер своей смертью», — повторяла она бесконечно. «Он
своей, — отвечал Вик. Вик. — Его никто пальцем не
тронул». Она затихала на этой формулировке, которую он
придумал не с первого раза, и как бы мягчела, оживлялась,
но потом, будто кто-то грубой силой оттаскивал ее от жиз¬
ни, кричала: «Это я! Это я! Где были мои глаза?» Одно¬
временно она готовила еду, стирала мужу рубашки, разго¬
варивала с людьми, только замедленность, сомнамбулизм
движений говорили, что все с ней плохо, что болезнь как
некая неизменная данность, видимо, должна существовать
в их доме довеку, потому что кто-то там на распределении
судьбы пометил им такую карту.
Ольгу он увидел сразу, как только она выскочила из
ворот кладбища и птицей полетела к трамваю.
Вот это самое... птицей... полоснуло от плеча до паха.
Но оказалось еще страшнее: птица летела к нему. Раз¬
двинув стены вагона, аннигилировав крышу, птица на ров¬
ных крыльях планировала прямо в раздвинутое болью мес¬
то. Вик. Вик. обхватил жену за плечи и силой прижал ее
голову к себе. И случилось моментально-мгновенное из¬
менение траектории полета. Дунуло только ветром от кры¬
льев. «Слава богу! — подумал Вик. Вик., прижимая к
себе жену. — Не хватало ей еще этого...»
Связь с Ольгой была в его жизни фактом не просто
странным, а, скажем, экзотическим. Его приятелю на
тридцатилетие какой-то идиот подарил петуха, красивую
90
когтистую птицу, которая не могла оценить ни собственно¬
го предназначения, ни грубого юмора людей, а потом —
оказалось! — не могла вообще оценить человеческого от¬
ношения к себе. Птица гадила, больно клевалась, рвала
когтями окружающую действительность, побуждая всех к
здоровой мысли сделать из нее бульон, но какой же уважа¬
ющий себя интеллигент с Чеховым на полке пойдет на это?
Пришлось ехать на электричке, спрыгивать на деревен¬
ском просторе, а потом в ногах валяться у удивленных лю¬
дей, чтоб взяли петуха Христа ради. Но народ такого дара
почему-то принять не хотел. Взял петуха какой-то мужик,
подозрительно одиноко существовавший на улице и как бы
не тяготеющий ни к одному из домов. В придачу к петуху
он попросил всего ничего — святой человек! — деньги на
поллитру, что и были ему положены в карман после того,
как петух был всучен в руки.
— Он у меня еще помастачит, — приговаривал му¬
жик, — он того... дело молодое... еще встрепенется...
Конечно, сравнивать Ольгу с петухом не просто нелов¬
ко, а даже как-то оскорбительно для женщины, тем более
что Вик. Вик. о петухе не думал, в его нынешнем состоя¬
нии петух как таковой — последнее, что могло бы прийти
ему в голову. Просто волею судеб я знаю эту историю с
петухом, поскольку была на дне дарения и там познакоми¬
лась с Вик. Виком и Лерой. Говорят, через семь своих зна¬
комых можно выйти хоть на Тэтчер, хоть на Папу Римско¬
го. А теперь — через Интернет, я допускаю, можно вый¬
ти и раньше. Но я знала Вик. Вика, вернее, я больше знала
Леру. Если вспомнить мою соседку Оксану Срачицу, то
можно подумать, не искусственно ли я натягиваю нити. Не
искусственно. Я широко и просторно живу в своих челове¬
ческих связях и всего больше ценю связи простые, случай¬
ные, неделовые. На их уровне вязь людских переплетений
видна лучше. Мы перезванивались с Лерой, которая об
Ольге понятия не имела, и пару раз я дарила Лере духи
«Цан-цан» из Ольгиного базара.
91
— Они тебе нравятся? — удивлялась Ольга.
— Моей знакомой нравятся, — отвечала я, а Ольга
делала лицо фигой. «Цан-цан» котировку имел низкую.
Но надо вернуться в трамвай. Вик. Вик. чувствовал
присутствие Ольги где-то в конце «червяка», а глазами ви¬
дел сбитый набок серенький Лерин платочек. Изнутри
толчками подымались ненависть, гнев на жизнь, судьбу,
что раскорячилась над ними. Благодаря Ольге (или не
благодаря? Это спорный вопрос) он знал о другом уровне
достатка, о другой женской одежде и другой еде. Поли¬
клиника, «скорая», что за ее стеной, приятели из «ящи¬
ков», НИИ, соседи-учителя жили все одинаково. При¬
крепляясь к каким-то магазинам, помнили, как «Отче
наш», часы отоваривания, по цепочке передавали друг дру¬
гу неожиданно возникающие дефицитные вещи — крос¬
совки там или сапоги на «манке». С Ольгой он будто
съездил в Болгарию, на Золотые пески. Но что делать?
Разовые картинки счастья не подходили ему просто по
определению. Где-то оставалась Лера, и он не просто по¬
мнил об этом, он ощущал ее отсутствие как временную ам¬
путацию ноги там или руки. Сейчас, в трамвае, в присут¬
ствии двух случившихся в его жизни женщин, Вик. Вик.
думал, что надо бежать из этой страны. Он ненавидит ее,
ненавидит за все. За этот оскорбляющий платочек жены,
которой так шли шляпки, но к старенькому деми в очередь
за яичками разве наденешь что-нибудь, кроме платочка?
Они сейчас в связи со смертью сына и болезнью Леры в
долгах по маковку, а впереди жизнь, которая может ока¬
заться длинной, как этот трамвай, в котором он едет, и та¬
кой же уныло-безлюдной...
В Америке у Вик. Вика жил брат, тоже врач. Брат
уехал туда «на лучшем способе передвижения тех лет —
жене-еврейке», через два года доказал свою квалифика¬
цию, через три — купил дом... Никакой не Нуреев там
или Барышников. Обыкновенный честный отоларинголог
хорошей выучки.
92
Он звал Вик. Вика, но Лера была русской, и, что на¬
зывается, никаких оснований для их отъезда не существо¬
вало.
«Уехать! Уехать!» — кричало все в нем, и, видимо,
силу энергетики его мысленного побега учувствовала и
приняла на себя Ольга, отчего и спрыгнула на следующей
остановке и уже пешком добиралась до работы.
«Как они оказались в этом трамвае?» — думала
она. Ей и в голову не пришло, что они ехали с этого же
кладбища, что там у них в могиле Лериной бабушки по¬
хоронен сын. Еще Ольга думала, что жена Вик. Вика
выглядит уж совсем старухой. «До такой степени не
следить за собой, — размышляла Ольга, — так и про¬
считаться можно. Уведет мужа какая-нибудь не такая
добрая, как я».
Но тут же, как женщина справедливая, она вспомнила,
как отторгла ее его рука, а другую женщину обняла. Не
прикоснувшись к ней, ее выкинули.
«А я, дура, летела к нему как птица. Мне хотелось по¬
радоваться, что он живой, а вот Яресько — нет. Я бы
ему сказала: “Дорогой! Никто не знает ни своего дня, ни
своего часа... Это дает нам полное право брать радость,
которая всегда может оказаться последней”».
Пешая прогулка оказалась полезной. Ольга раз и на¬
всегда поняла, что в одной могиле она похоронила двоих.
Она теперь будет ездить на Миусское кладбище: у нее там
двое. Не важно, что она не знает, где эта самая могила.
Цветы можно оставить на любой. Это показалось заман¬
чиво, и она мне при встрече сказала:
— Взять, например, и ходить на какую-нибудь могилу
и оставлять цветы... Вот будет переполох в семье, если от¬
следят! Никто ведь про то, что неизвестные цветы — это
хорошо, не подумает... Мы все превращаем в гадость. Все.
— Но это же ты так задумала, — смеюсь я. — Ты
своей головкой рождаешь гадость.
93
— Нет, — отвечает она. — Я рождаю цветы.
А людей просто хорошо знаю.
Началось время перемен, и рухнул Дом, который пост¬
роил Джек-потрошитель. То, что мы под ясным небом ока¬
зались товаром не лучшего качества, это уже другая исто¬
рия. Хотя чему тут удивляться? Каков был дом, таковы
были и люди в нем.
Мое сугубо местное мировоззрение очень обогащала
мотающаяся по Европам Ольга. Она смотрела на все как
бы извне и объясняла мне, провинциалке Земли, что слу¬
чившееся освобождение от нас в близлежащих городах и
странах и есть главное в процессе, который пошел...
Но мне тогда было достаточно моей московской радо¬
сти, хотя за поляков я радовалась тоже. Митинги были на¬
шей Сорбонной, газеты — Кембриджем, а плакаты —
греко-латинской академией. Мы отшелушивали с себя
струпья бывшей ненавистной системы, как выясняется, для
того, чтобы нарастить струпья новой.
Ольга же была розово-загорелая, хорошо пахла, даже
хотела открыть бутик. Этим словом назывался магазинчик.
Откуда мне было это знать? Нас закружило время, и я
стала отставать в грамоте. Бу-тик. Правда, потом Ольга
отказалась от этой идеи, продолжая жить старым спосо¬
бом: привозила товар, а потом растыкивала его по магази¬
нам. Пяток подруг были у нее на подхвате, чтоб ей не за¬
свечиваться всюду. Подруги все как одна были учительни¬
цами школы, куда на гребне превращений Ольга перешла
из своего НИИ. Она учила детей странноватому предмету
по имени ТРУД: девочки вдоль и поперек прострачивали
нескончаемую простыню, мальчики капали в их швейные
машинки масло. Школе тогда было ни до чего, а до Ольги¬
ных уроков — тем более. Поэтому, если труд был послед¬
ним в расписании, Ольга просто отправляла всех домой.
Времени у нее было много, она больше не заставляла квар¬
тиру тонкошеими кувшинами и бульдожками нэцкэ — в
94
обиход, в жизнь вошел доллар. Ольга мне его продемонст¬
рировала. У Вашингтона лицо простой рязанской кресть¬
янки. Это помешало мне проникнуться нужным чувством.
Однажды у нее зазвонил телефон.
Семен Евсеич
— Кто говорит? — кричала Ольга в шипяще-шеле¬
стящую трубку. Она не любила непонятных звонков, как
не-опознанные летающие объекты. Как-то ночью, про¬
снувшись от беспокойства, она увидела в окне светящийся
диск и закричала.
Пока Кулибин вставал, диск исчез. Осталось ощуще¬
ние тревоги и неуверенности: было или не было?
Мы тогда зарастали коростой из свалившихся на голову
полузнаний: лозоходцы, киллеры, телекинез, реинкарна¬
ция. Мы поедали это пополам с демократическими посту¬
латами, и многих уже пучйло.
Так вот, явно живая телефонная трубка, хотя голоса
нет, могла обозначать, к примеру, звонок из параллельного
мира или с того света...
Если Семена Евсеича — помните соседа по площадке,
который высмотрел в Ольге подходящую жену, а потом
быстро переиграл ее на более подходящую страну? —
считать посланцем чужих миров, то да. Это был он. Меж¬
ду прочим, к тому времени Ольга уже дважды летала в
Израиль, была разочарована качеством еврейских тряпок:
все абы как, швы не заделаны, мохрят, у нее, имеющей ре¬
номе европейского поставщика, было чувство зряшных по¬
ездок. Там, конечно, приятно, тепло, сытно, но бабы ходят
кто в чем, толстые, шумные, веселые не по делу.
Когда выяснилось, что Семен Евсеич хочет встретить¬
ся, встал вопрос, говорить или не говорить, что она была в
Израиле и в Хайфе была, где он живет, но мысль его ра¬
зыскать ей и в голову не приходила. С какой стати?
95
Семен Евсеич пришел к ним домой, поквакал возле
бывшей своей двери в соседнюю квартиру: ах-ах, как дав¬
но и как вчера это было...
Ольга представила ему Маньку, у которой в тот день
была менструация и она была злая как черт. А Кулибин
был как раз очень рад, потому что Ольга купила водку и
коньяк, и он все не мог решить, к чему ему припасть, чтоб
не мешать это вместе. Кулибин пил всегда одно.
— Мой бывший жених был разочарован, — расска¬
зывала мне Ольга. — Он ведь какую меня знал? Затур¬
канную перезревшую девицу, которая сушила на балконе
много женских трусов с выжелтевшей мотней. А девица
возьми и вырасти без его благословения. Он же помнит,
как у меня было дома. Ну и сейчас... Стол я поставила
будь здоров. И красная, и черная, евреи на икру падкие.
Знаешь этот анекдот про них? «Никто так не любит икра,
как я люблю икра». Я ему сказала: «Ешьте от пуза».
В общем, я ему показала, что мы живем тут вполне, хотя
спроси меня, зачем я выпендривалась перед плешивым
козлом?
Кулибину гость понравился. Когда Семен Евсеич
хмельно признался, что когда-то по молодости лет имел на
Ольгу виды, Кулибин понимающе ответил, что каждый хо¬
тел бы держать в стойле такую женщину.
Ольга в кухне готовила чай и слышала «этот юмор».
После той истории, когда ее размазал по стенке Членов, ей
ведь пришлось снова осознавать свой брак как некое
устойчивое прибежище, которое хочешь не хочешь, а
охраняет тебя в этой жизни или, скажем мягче, поддержи¬
вает, когда тебе дают в морду... Но сейчас, глядя на мужа
из кухни через муть дверного стекла и через всю длину ко¬
ридора, видя его дважды — живым и отраженным в зер¬
кале, — она, поражаясь этой его «обратное™», испытала
к отражению Кулибина острую и какую-то деловую нена¬
висть. «Этого мне не надо», — сказала она вслух, и это
был Кулибин. (Или его Зазеркалье?)
96
Если бы Семену Евсеичу достали билет в Большой те¬
атр, если бы этот день был субботой, если бы по дороге он
встретил на улице своего бывшего сослуживца, который
растворился в Москве без осадка, а он его так искал, так
искал, если, наконец, Семена Евсеича не насмерть, а так,
слегка, толкнула машина и «скорая» отвезла его в Склиф
смазать йодом — если бы все это возможное имело место
и он не пришел бы в гости к Ольге, то не было бы у нее
этого взгляда через сапожок коридора и не было бы зазер-
кального Кулибина.
С зеркалом вообще все неясно. Что оно есть? Просто
отражающая поверхность? Тогда почему там все-таки не
так, как здесь? Почему тебя может ошеломить твое соб¬
ственное явление в нем, ибо обязательно окажется, что
ты — там совсем не тот, что ты — тут, и надо будет
быстро-быстро прибрать свое неожиданное лицо, чтоб об¬
наружить привычную выпученность глаз и по правилам яв¬
ления зеркалу отставленные губы.
Зеркальный Кулибин был более пьян и более глуп. Об¬
хватив себя левой рукой, он скреб над лопаткой — там у
него возбуждался нейродермит от спиртного. И эти его
пальцы, теребящие рубашку и тело под ней, они... как бы
это сказать? Они завершили круг. Ольга не заметила, как
побежала по нему, кругу, снова и снова, и это было как в
детстве на карусели: сначала мама с папой у оградки, по¬
том мороженщица, будочка у входа на карусель, шпиль
входа в парк, тетка с ребенком и криком: «Смотри, детка,
лошадка!», солнце в глаза — и снова мама с папой, моро¬
женщица...
«Ну... С этой карусели я слезу», — подумала Ольга,
неся чашки и блюдца. Евсеич смотрел на нее плотоядно¬
пьяно, а Кулибин был сморщен лицом в борьбе с нейродер¬
митом.
Уходя, Семен Евсеич старательно написал адрес на ив¬
рите, вырисовывая каждую буковку во всех подробностях.
97
«Он что? Не знает, что на почте в ходу латынь?» — по¬
думала Ольга, а потом сообразила, что Семен Евсеич та¬
ким образом демонстрировал знание неведомого языка, он
не то что хвастался им, он подчеркивал свою отдель¬
ность, свое существование в мире другого языка. Вы, мол,
все тут и тут, а я, мол, и тут и там...
— А по-китайски не умеете? — ехидно спросила
Ольга.
— У них снизу вверх, — серьезно ответил Семен Ев¬
сеич. И получалось, что все дело только в направлении:
слева направо, снизу вверх. Только в направлении!
«Умный дурак», — подумала Ольга.
После ухода гостя Кулибин был вполне хорош: он от¬
странил Ольгу от посуды, все вымыл, прошелся по полу
мокрой тряпкой, отчитал Маньку за невымытую после
себя ванну, но, дурачок, не знал, что все это уже не имело
значения.
Даже их ночные объятия с женой. Та в этот момент ду¬
мала, как сделать все наименее травматично для всех.
И для сопящего Кулибина в первую очередь. Теперь, ког¬
да все было решено, она его даже жалела.
Кулибин
Кулибина назначили правофланговым на демонстрации
Седьмого ноября.
В профком, куда его позвали, на главном месте сидел
бывший парторг, которого Кулибин всегда терпеть не мог.
— Ну что, нравится тебе это время? — спросил тот
сразу, до «здрассте», пока Кулибин медленной своей мыс¬
лью постигал существование бывшего партбосса в черном
кресле как в своем. Институт разрушился почти до основа¬
ния, деньги тем, кто в нем еще оставался, платили едва-
едва, поэтому вопрос парторга о нравится не нравится
смысла как бы не имел: что он, Кулибин, идиот, чтоб ему
98
нравилось плохое? И пока он подгонял слова к выходу,
парторг сказал раньше:
— Тебе, конечно, проще. У тебя жена бэзнэсмэн. —
Он так именно сказал, припадая на неправильную глас¬
ную. — Тебе проще. Ты можешь и не быть семье кор¬
мильцем. При такой-то жене и я бы, может, тут не сидел.
А другие? У которых от и до?
Капкан сработал. Аполитичный Кулибин, вполне при¬
нимающий новые идеи и новые времена, взял в руки древ¬
ко во имя защиты тех, кому хуже, чем ему. Чтоб дистанци¬
роваться в глазах людей от Ольги как источника своего
благополучия.
Он ушел утром тихо, хотя Ольга уже не спала и слы¬
шала выскальзывание мужа из квартиры. «Куда это
он?» — подумала она.
На Октябрьской площади было красно и ухал барабан.
Кулибин даже взволновался, а тут еще к нему кинулась
женщина, и он узнал в ней Веру Николаевну.
— Сколько лет, сколько зим! — пропела она, и Кули¬
бин вдруг ни с того ни с сего почувствовал смятение в теле.
«Это от духовой музыки, — подумал он. — Она меня
возбуждает». Трубы и тромбоны как раз пели вразнотык,
железно бряцали тарелки, у женщины на отвороте алел бант,
а некоторые уже завертелись в вальсе «Амурские волны».
Молодые лета стояли рядом и подмигивали Кулибину.
Он обхватил Веру Николаевну, вспоминая подробности
ее географии, корвет под потолком, запах ее постели, и
ощутил острое желание оказаться в ней.
Когда Ольга включила телевизор, прямо на нее с рас¬
крытым ртом шел ее собственный муж, а на его руке висе¬
ла баба, висела по-хозяйски, как виснут на мужчине, кото¬
рого знают вдоль и поперек, и хотя песня была, видимо,
патриотическая, а флаг в руке Кулибина — красный, под¬
спудное, тайное в них было ярче. Это точно.
Казалось бы, замечательно! Вы этого хотели, мадам...
Но откровенность открытых ртов, это шагание в ногу... Ну
99
и сволочь же ты, Кулибин. И она вспомнила, как он на
цыпочках покидал дом.
Уязвимой была и идеологическая деталь: чего ж это ты,
муж, не рассказываешь жене о своих партийных пристра¬
стиях? Ты что, не знаешь, что Ольга этих коммуняк на дух
не выносит?
Одним словом, хочешь засветиться — иди в право¬
фланговые. Непременно попадешь в телевизор.
Может, это и не стало бы концом их семейной жизни,
может, и отплевался бы Кулибин от телевизионной картин¬
ки, тем более что на тот момент он и виноватым еще не
был, но он же сам все и испортил.
— Олюнь! — позвонил он. — Я у Васьки Свинцо-
ва. Он попросил меня помочь с гаражом. Я забыл тебе
сказать вчера. К вечеру буду...
Смешно, но она не знала, что сказать. То, что она за¬
плакала, было для нее неожиданнее всего... С какой ста¬
ти? С чего бы это? Но она размазывала по лицу слезы, а
тут возьми и объявись по телефону я. Я тоже видела Ку¬
либина и была оскорблена его пребыванием в тех рядах.
Женщины я просто не заметила. Слепая оказалась. Но,
как выяснилось, еще и глухая. Слез в голосе Ольги не
учуяла.
— Ты чего за мужем не следишь? — закричала я,
имея в виду исключительно мировоззренческие вещи.
Она ответила мне, что ничего не видела. А я слышала
в трубку, что у нее включено то же самое. Слава богу, у
меня хватило ума не уличать ее во лжи. В конце концов,
это не мое дело. Хотя, повторяю, женщины рядом я не по¬
мнила. Та общность строя была для меня вне сексуально¬
сти, я отказывала ей даже в этом. Уродливость собственно¬
го максимализма была мне сладка, что говорит о том, что
разницы между правыми и левыми нет. Одним миром ма¬
заны... Но не обо мне речь...
Ольга потом скажет, что она солгала, потому что ей
надо было «все переварить самой».
100
Кулибин же поехал к Вере Николаевне. Они купили по
дороге бутылку водки. В электричке сидели, взявшись за
руки, и Кулибин восхищался собой: как он удачно исполь¬
зовал приятеля Василия Свинцова, который уехал с семьей
на свадьбу дочери в Рязань, и теперь, захоти Ольга пере¬
проверить его звонок, ничего у нее не выйдет.
В коридор барака высыпали соседи Веры Николаевны.
— Мы вас видели! Видели! — кричали они. — Уже
дважды вас показывали.
В голове Кулибина дробно-дробно застучали палочки
барабана. Хорошо, что Вере Николаевне было не до него,
она выспрашивала у народа, как она выглядела, и народ
отвечал, что вполне хорошо, только очень был открыт рот.
— Мы пели! — объясняла Вера Николаевна. —
Пели! Я даже охрипла.
Она не заметила, что Кулибин сидит и слушает дробь
палочек в голове, она думала о том, что ее видели многие, и
это замечательно, жаль, конечно, если рот на самом деле
был очень открыт. Она включила телевизор ровно в два
часа и сразу увидела себя и Кулибина. Всего ничего —
миг, и рот у нее как рот.
Каким разным может быть течение времени...
Кулибину показалось, что он шел на экране вечно. Ве¬
чен был его правофланговый проход по истории жизни,
вечно было древко в руке, вечна эта женщина, по-хозяйски
просунувшая ему под локоть руку, вечны были глупость
его вытаращенного лица и чернота провала рта. Вера же
Николаевна в момент его смотрения себя в вечности сча¬
стливо обвисала на нем, прижимаясь к его спине расплю¬
щенной грудью, и дышала, дышала ему в ухо горячим нут¬
ряным дыханием.
Конечно, это. было отвратительно — взять и уйти,
когда уже разложена колбаска, и огурчик, и малиново-ма-
риновый чесночок. Кулибин отметил отсутствие тонких
чувств понимания у Веры Николаевны, которой было так
хорошо, когда ему плохо, и она торопила его скорей-скорей
101
все съесть и выпить, чтобы перейти к главному действию.
В защиту Веры Николаевны надо сказать, что она не име¬
ла мужчины после Кулибина. До него к ней иногда приез¬
жал физкультурник их школы, добрый и хороший дядька,
но, как и полагается, выпивоха. Когда она осталась одна,
без Кулибина, то как-то пригласила физкультурника «по¬
пить чайку». Физкультурник, как человек честный, отвел
ее в сторону и сказал:
— Вер! Я приду, но если без этих дел. Мой совсем
не годится, в полной отключке.
Конечно, Вера Николаевна не стала настаивать на при¬
глашении. Он все понял правильно и спросил:
— А куда делся твой мужичок?
— Был, да сплыл, — ответила Вера Николаевна.
Сейчас, кружась вокруг стола, она каким-то ...надца-
тым чувством поняла, что у нее сегодня шанс как никогда:
еще раз шесть покажут их по телевизору — и какое же
надо иметь отсутствие гордости у жены Кулибина, чтоб
стерпеть это?! Она должна его выгнать, должна!! Иначе
она, Вера Николаевна, просто перестанет ее уважать. Вера
Николаевна напрягла своим желанием космические силы,
чтоб они повели себя грамотно и оставили ей Кулибина на¬
совсем как единственный вариант в ее жизни. Она ему се¬
годня докажет — после еды, — что и она у него тот же
самый вариант. Она ему сегодня выдаст по полной эроти¬
ческой программе.
Кулибин же возьми и подумай о том, что если Ольга их
видела, то опять придется ездить на электричке, а он так от¬
вык от этого. И вообще он любит свой дом, и дочь Маньку,
и Ольгу любит; дураком надо быть — не любить в наше
время такую жену. Кулибин привстал, чтоб рвануть, но дру¬
гая женщина положила ему на плечи руки и сказала:
— Не дергайся! Часом позже, часом раньше. И вооб¬
ще у тебя сегодня получилась рулетка.
И Кулибин отдался на волю игры случая и Веры Нико¬
лаевны.
102
Миша
Вариант Кулибина переехать в ту заныканную для
Маньки квартиру (до слез не хотелось уезжать из Моск¬
вы!) Ольга отвергла на корню. По моральным соображе¬
ниям.
— Мои покойные родители по копеечке собирали на
кооператив для меня! Понимаешь — для меня! Тебя тогда
и близко не стояло, как сказали бы в Одессе... И вообще
настоящие мужчины уходят с одной зубной щеткой.
Так как виноватым считался Кулибин, то все правила
игры определила Ольга.
К зубной щетке она прибавила три тысячи долларов, но
чтоб уже «без разговоров». Сумма слегка ошеломила Ку¬
либина, он ведь домашней кассы не держал и, сколько там
чего есть у жены, не особенно интересовался. Поэтому
уходил Кулибин даже несколько возбужденно, думая, что
богат, но уже на первом ветру выяснилось, что деньгами
этими ему не прикрыться.
Он боялся переезжать к Вере Николаевне, боялся ее
натиска и своего слабоволия, и этот загнанный в угол муж¬
чина, без крыши и с неустойчивой зарплатой, вдруг про¬
явил такую прыть и такую изобретательность, что, как го¬
ворится, вам и не снилось.
Он жил пока у Свинцова, жена которого осталась в
Рязани у дочери. Та вышла замуж за военного, была бере¬
менная уже на шестом месяце, и сизый ее голубок, опреде¬
ленно, спрыгнул бы еще до брачного марша, если бы ка¬
ким-то уникальным случаем ему как будущему отцу и мо¬
лодому специалисту не дали крохотульку квартирку типа
«дверь-стенка». Жена Свинцова осталась, чтоб побелить
кухню и вымыть «засратый нашим народом» толчок.
Свинцов был рад Кулибину, они хорошо попивали, ругали
баб, отдельных и скопом, а в какой-то момент поняли, что
без них, зараз, «не клево», и позвали знакомых разведе-
103
нок. Кулибин присматривался к двум дамам, из которых он
должен был выбрать свою, но «присматривался» — не то
слово, которое годилось в этом случае. Кулибин вел глубо¬
кое дознание и понял страшную для себя вещь: дамы, кру¬
тясь при новорусском капитализме, давно поняли, что
мужчина для процесса выживания — балласт. У него нет
скорости, сообразительности, оперативности, гибкости
ума, и вообще он, мужчина, нужен на раз, не больше.
Узнав все это, Кулибин на кухне сказал Свинцову, что ему
все равно какая, поскольку никакая не годится.
Он стал читать разные объявления, обдумывал вариант
суда с Ольгой, но от этой мысли ему делалось неловко. Он
стал бывать на выставках и один раз днем ходил в зал Чай¬
ковского. Неожиданно выяснилось, что это доставляет ему
радость, именно в интеллигентном месте утихает в сердце
горькая мысль, что почти на старости лет он остался без кола
и двора, что скоро возвращается жена Свинцова и надо ис¬
кать, куда приткнуться. В картинной галерее возле какой-ни¬
будь картины типа «Переход синего цвета в красный» ему де¬
лалось уютно и отпускало сердце. Но это еще был старый Ку¬
либин, Кулибин-созерцатель, а не действователь, и перехода
одного в другое в нем самом еще видно не было. Кулибин был
беременен действием, но срок был еще мал.
Однажды он позвонил домой, и трубку взяла Манька.
— Пап! Ну, ты как? — сочувственно спросила она.
— Да ничего, дочь, — ответил он. — Честно скажу:
скучаю по вам.
— Брось это дело! — сказала Манька. — У нас те¬
перь живет Миша. Знаешь, сколько ему лет? Двадцать
пять. У нас тут такой сексодром, что уши вянут.
— Я тебя заберу! — сказал Кулибин наобум Лаза¬
ря. — Вот устроюсь — и заберу.
Манька всхлипнула в трубку, и беременность Кулибина
пошла в рост.
Мишу я знала раньше Ольги. Он рос у меня на глазах,
потому что был пасынком моей институтской подруги.
104
Я ее познакомила с Ольгой на предмет импортного барах¬
лишка. Мы судачили друг о друге, но это не мешало нам
уже много лет нет-нет и собираться «на троих». Подругу
звали Кира, она отбила у своей знакомой мужа, тот ока¬
зался остервенелым отцом и с ходу отбил у растерявшейся
и рухнувшей от свалившегося на нее предательства жены
пятилетнего сына. Кира уже через месяц горько жалела
обо всем содеянном, но деваться было некуда. Жена мужа
попала в психушку — Мишин папа перестарался. Кира
так и не смогла привязаться к мальчику, рассчитывала на
его возвращение к матери, потому и не рожала сама. Но
сволочь время! Оно летит так оглашенно, что, пока она
туда-сюда «корректировала свою неадекватность к мужу и
пасынку», лечась у разного рода сенсов, ушли, как и не
были, годы. Брак был неинтересный, скучный. Отец с сы¬
ном так и не приросли к женщине, которая прожила жизнь
в ожидании, что проснется — а она одна-одинешенька, и
станет ей вольно-превольно. Случилось другое. Умер муж.
Кира осталась с глазу на глаз с Мишкой, и оба они не уви¬
дели себя в глазу другого.
В тот день Кира то ли послала зачем-то Мишу к Оль¬
ге, то ли Ольга о чем-то ее попросила, но высокий краси¬
вый молодой мужчина переступил порог женщины, кото¬
рая только-только оформила развод, ощутив при этом не
желанное освобождение от опостылевшего Кулибина, а
тревогу и даже страх. Дело в том, что очередь из мужчин к
Ольгиному сердцу не встала. Она тогда посмотрела в зер¬
кало и увидела, что сорок один год сидит в ней всеми свои¬
ми месяцами и неделями, время впечаталось в нее со вку¬
сом, смачно, обвисло на уголочках рта, набрякло под глаза¬
ми, подбородок вообще сдался времени без боя, безволь¬
ный пленник лет.
В этот ее момент и появился Миша.
— Боже! Как ты вырос!
Он называл ее «тетя Оля». И меня он называл тетей.
А вот Киру он называл Кирой, и это было предметом на-
105
ших рассуждений. Мы приходили к выводу, что Кира была
подсознательно выведена ребенком из пределов родствен¬
ности, тогда как мы почему-то, скорей всего назло, стали
его тетями.
Так вот, в тот день, день прихода, Миша сразу назвал
Ольгу Ольгой. Это был хороший ход, тем более что он
был интуитивным, а значит, сердечным и нерасчетливым.
Неумственным.
— Знаешь, — рассказывала мне Ольга, — я хотела
его поправить, шутейно так, но не стала. Передо мной сто¬
ял взрослый мужчина, и он — понимаешь, он сам! — оп¬
ределял характер взаимоотношений с женщиной. И хоть я
тогда была на себя не похожа, тетей — извини! — я ему
все-таки еще не была.
— А что было дальше?
— Все, — ответила Ольга. — Все, что полагается,
когда мужчина делает выбор.
У меня были на этот счет сомнения. Сомнения относи¬
тельно первого шага Миши. Я предполагала Ольгину
инициативу. Я ведь помнила, как Мишка сидел у меня
на коленях, а я его высаживала на горшок и подтирала
ему попку, мне трудно было представить, чтобы он мог
взять меня сегодняшнюю на руки и отнести на кровать,
ну разве что я рухну при нем в гипертоническом кризе.
Я давно знаю: представлять себя в ситуации другого —
дело сколь увлекательное («И тогда я встала на ее ме¬
сто!»), столь и бесполезное для понимания другого («Ну,
встала... На чужом месте ты находишь самого себя»).
Вся штука, что никаких плодов знания подмена «я» на
«он — она» не дает. Мы ведь так упоительно индивиду¬
ально совершаем все наши немыслимые глупости. Даль¬
ше — почти парадокс: случай чужой глупости кажется
нам тем более невероятным, чем скорее мы к нему при¬
ближаемся по подспудно-подкожному порыву. Когда мы
говорим: «Я бы ни за что!» — то скорей всего мы посту-
106
пим еще пуще. Так что я сцепила зубы и не произнесла
никаких заклинающих слов.
Хотя вся последующая информация подтверждала, что
Ольга не врала.
— Ты бы видела меня тогда! — говорила Ольга. —
На мне же лица не было!
— А остальное было? — спрашиваю я.
— Не хами. Было. Он так нежно и долго меня разде¬
вал.
Тут нужна и Кирина версия:
— Я с ним уже не разговаривала месяца полтора. Его
мать давно жила дома, в больнице ее обучили макраме, и
она делала его на продажу. По субботам стояла в Измай¬
ловском парке. Это давало ей неплохой заработок, и она не
бедствовала. Я предлагала Михаилу переехать к ней. Он
работал в умирающем от истощения литературном журнале
и, в сущности, ел из моего холодильника. Он нахамил мне.
Сказал, что, как законопослушный человек, живет по ме¬
сту прописки. Я с ужасом думала, что он может со време¬
нем привести девку, жениться, родить ребенка, а меня они
потом удавят моими же колготками. Ну хоть трави его пер¬
вой! Но девок он не водил, это точно. Пропадал на время,
и я молилась, чтоб не возвращался. Но он.возвращался,
загаживал мне ванну, лежа в ней после своих игрищ часа
по два. Теперь я понимаю: он тоже искал выход. А выход
в его случае — обеспеченная женщина. Но когда я его по¬
сылала к Ольге, ее я и в дурном сне не видела в качестве
той самой нужной женщины. Разве что Маньку. Девчонка
подрастала, шестнадцать лет... Самое то, чтоб трахнуть ее
капитально, с прицелом.
Не знаю, что клубилось в Мишкиной голове, когда
дверь ему открыла тетя Оля. Она была самой удачливой,
самой приспособленной и, что там говорить, самой яркой
женщиной, если нас всех поставить в ряд: маму-макра-
мистку, сволочь мачеху, затюканных жизнью родительниц
его приятелей, коллег по работе, филологических дам, бе-
107
зупречных в искусстве мата внутри стилистики языка, но
до чего ж бездарных при более тесном, но бессловесном
приближении. Я сама вполне хороша для этого списка и
становлюсь в него с честной печалью.
Я представляю все так: Ольга открыла дверь, и умный
глазастый Михаил увидел все и сразу — он увидел момент
разрушения женщины. Она ведь только-только от зеркала.
Она провела инвентаризацию собственных доспехов и по¬
няла, что они слегка износились и торчат из нее всеми
ржавыми углами и вот-вот придавят совсем.
Миша — умница такой! — увидел за секунду момент
ее полного падения и понял — или знал? — как подхва¬
тить ее в этот момент.
Если я принимаю эту версию, то в чем я тогда подозре¬
ваю Ольгу, в каком таком лукавстве? Просто мне каза¬
лось, что между тем, как она, потрясенная собой, открыла
дверь, и тем, как он, потрясенный ею, подставил руки,
было еще нечто.
Было. Могло быть. Пустяк, он даже не стоил разгово¬
ра. Однажды Ольга пригласила нас с мужем в театр —
как я понимаю, остались невостребованными чьи-то биле¬
ты, — я ухватилась за них, уже забыла, как это делает¬
ся — «ходить в театр», она была с Манькой, без
Миши — щадила впечатлительность моего мужа, он ведь
старорежимный, считал ее разрушительницей всех и вся¬
ческих основ существования, у которой понятия «хорошо»
и «дурно» пребывают в хаотическом объятии, когда не
поймешь, где, что и почем. Поэтому мой муж существовал
отдельно от нашей дружбы, и информацию о жизни Ольги
я выдавала ему дозированно, капельным методом.
Так вот, в фойе она пошла нам навстречу, красивая,
элегантная... Подойдя к мужу, она позволила себе почти
интимный жест — чуть оттянула узел его галстука вниз.
Конечно, мой дурак тут же водрузил его на место, не дав
даже паузы на то, чтобы отделить друг от друга эти два
движения. А Ольга ведь так старалась подружиться с
108
ним, она как бы освобождала его мужскую глупую шею от
застоя, от петли, она давала ей волю... Мой благоверный
ее зова к свободе не принял.
Теперь вернемся к Мише. Когда она открыла ему
дверь — я так себе представляю — и он переступил по¬
рог, она тоже каким-то образом дала ему волю. И клас¬
сный, замечательный зеленый знак Мишей был понят и
принят.
Это был период Ольгиного расцвета. Счастье исторг-
нуло из нее наконец память о Членове как о человеке, ко¬
торый «он, и только он». В этом освободившемся месте ее
души вырос развесистый куст бузины, который, как гово¬
рят, хорош для чистки больших медных тазов, потерявших
в наше время смысл предназначения. Боже, как отврати¬
тельно я язвлю! Как даю повод говорить о мелкой женской
зависти!
Миша покинул Кирины пределы, та быстренько выпи¬
сала его, подарив паспортистке шикарный набор блестя¬
щих кастрюль. Паспортистка была так счастлива, что чест¬
но спросила, не надо ли выписать еще кого. Или, наоборот,
прописать. Кира сообщила об этом Мишке, тот ругнулся.
Ольга же сказала: «Успокойся. Она права. Тебе надо про¬
писаться к матери». Она и устроила это все в три дня, по¬
бывав у Мишиной матери-макромистки. Там она увидела
замечательные работы, цены которым слабая умом худож¬
ница не знала. Ольга скупила у нее все оптом, надавала ей
указаний, получалось, что она — благодетельница. И сы¬
на, и матери, и Киры. Кстати, Михаил с ее подачи плавно
снялся с дрейфа в литературном журнале и пошел на курсы
менеджмента или как это называется... За курсы тоже
платила Ольга, но ей было не жалко. Ей было хорошо.
Она сходила к очень дорогой гадалке, которая «знает
все», та предсказала ей восемьдесят два года жизни, тяже¬
лую операцию в шестьдесят, после чего глубокое взаимное
чувство, потерю этого человека в ее семьдесят, но все это
109
было уже фэнтези... Ольга слушала и смеялась, чем рас¬
сердила гадалку. На вопрос о Мише гадалка была менее
щедра в подробностях, из чего Ольга сделала вывод, что с
ним у нее не очень надежно. Но странное дело: печали там
или тем более скорби не возникло. «Никаких навсегда, —
сказала она мне. — Считай, что я вышла погулять на лу¬
жок. Я сейчас разнузданная лошадь».
С захватывающим интересом наблюдала за романом
матери Манька, что даже несколько обескураживало Оль¬
гу. Такого полного приятия ситуации она не ожидала, гото¬
вилась к обороне там или душещипательному разговору, ан
нет... Ничего не потребовалось. Дочь ходила с ехидной
мордой, играла с Мишей в «дурака», вечерами они вместе
смотрели телик — вполне глупая семейная жизнь, кото¬
рая, как говорят умники, и есть самая устойчивая.
Однажды пришел Кулибин. Он не удивился Михаилу,
он все знал, но, когда тот полез в холодильник как свой и
прямо возле него на коленке отрезал себе кусок колбасы, а
потом об штаны вытер пальцы, Кулибин перевел глаза с
матери на дочь: дочь была в прыщиках, тогда как мать
блестела чистейшей отдрессированной кожей, — вот тут
Кулибин не выдержал и сказал:
— Ну, вы даете стране угля...
Ему стало жалко своего диванного места, своей кухон¬
ной табуреточки, вообще этого дома, который еще вчера
был и его домом, а не домом этого молодого козла, поеда¬
ющего колбасу.
Он посмотрел на Ольгу и сказал уверенно, хотя как бы
между прочим:
— Надо дать объявление на размен квартиры.
— Но мы ведь договорились, — ответила Ольга,
тоже уверенно и тоже между прочим.
— Не получается, Оля, — честно сказал Кули¬
бин. — Деньги я тебе верну. Я не много истратил. Если
хочешь, я заберу с собой Маньку. Тебе ведь, должно быть,
110
не очень ловко жить вместе с таким жеребчиком и поло¬
возрелой девицей? Да и ей... Да и мне...
— Ищи себе однокомнатку, недорогую, скажешь,
сколько просят...
— Ты это поднимешь? — удивился Кулибин.
— Не твое дело. Ищи.
Тогда у Ольги еще не было машины, хотя деньги на нее
лежали.
У нее был страх перед рулем, мотором, дорогой. С этим
надо было что-то делать, и была, была мысль — приспосо¬
бить Мишу водилой. Она была уже совсем, совсем близка к
тому, чтобы сказать ему: «Получи-ка права». Сейчас же,
после ухода Кулибина, который пришел за какими-то свои¬
ми бебехами, она этой своей мысли дала отставку.
А ночью проснулась с тревогой в душе. Она вдруг по¬
няла, что все у нее не то и не так и что тянуть эту связь
себе дороже. За курсы его заплачено, вот окончит их,
устроится на хорошее место — и пусть идет в одиночное
плавание. Кулибину же надо помочь с квартирой. Когда
она это сделает, будет свободна и покойна: ей ведь жить
долго — до восьмидесяти двух — и можно никуда не то¬
ропиться. Но в душе что-то саднило, першило, пришлось
встать и выпить таблетку седуксена. Когда вернулась и
легла, Миша даже не пошевелился. Вспомнился Кулибин,
который всегда просыпался на ее ночные вставания, он
всегда догадывался, что она пьет таблетку, тогда он обни¬
мал ее и бормотал ей какие-то слова не слова, а так, вы¬
дохи сочувствия и понимания. Получалось, что ей нужен
такой, как Кулибин, но именно он ей не нужен, вот он при¬
ходил, сидел, что-то говорил, а она думала, что к его впе¬
редсмотрящему зубу так и не привыкла. Она помнила его
своими губами, и это было не то воспоминание, которое хо¬
чется оставить на всю жизнь... Уснула Ольга с мыслью,
что Кулибин ей не нужен, ну а если уж очень запонадобит-
ся, то ведь стоит только свистнуть! В это она верила свя¬
то, как в свои восемьдесят два.
111
Кулибин
Он честно искал квартиру. Ездил смотреть, встречался
с хозяевами, входил в разного рода цепочки обменов и
продаж, на работе дела не было, так что можно было поис¬
ку отдаться целиком.
Кулибин увидел огромное количество женщин продаю¬
щих и не менее огромное — покупающих. Они все обме¬
нивались друг с другом телефонами, и он даже не заметил,
как вошел в азарт. Это был совершенно новый мир отно¬
шений, в нем чуть иначе разговаривали, здесь спокойно,
без придыхания назывались большие суммы денег, и хотя у
Кулибина было две тысячи четыреста восемьдесят пять
долларов и зарплата, не выданная ему уже за четыре меся¬
ца, у слышанных сумм была куда большая аура. Кулибин
вдруг однажды сказал себе: «А я мог бы стать авантюри¬
стом, если б захотел», — но тут же понял, что это неправ¬
да. Даже очень бегающий по адресам Кулибин все равно
был по-советски ленив. И снова, в который раз, он с ува¬
жением подумал об Ольге. Вот она — что хотела, то и
могла. И пришла злость на тот праздник и на Веру Нико¬
лаевну, с которых начались его проблемы.
Вне всякой логики, даже можно сказать — вопреки
ей, Кулибин купил торг «Птичье молоко» и поехал в
Дмитров.
Веры Николаевны не было дома. Соседка Люся, суще¬
ство гадостное, сообщила ему, что «Верка в бане, надо же
сходить хоть раз в месяц. А то гремит тазом, как какая-
нибудь инвалидка».
«Надо уйти», — подумал Кулибин — и ушел бы, но
на него обрушились воспоминания детства: как он ходил в
баню с матерью и сестрой, а одна тетка подняла визг, когда
вдруг заметила его вздыбившийся кончик, а он его просто
почесал, тело всегда начинало чесаться в предбаннике, ви¬
димо, предвкушая горячую воду.
112
С тех пор мать его отправляла в мужское отделение,
прося кого-нибудь из знакомых потереть ему спину. Но,
как правило, мужики, раздевшись, тут же забывали о нем,
и он мылся как мог, как получалось. После бани дома все¬
гда пили чай, с медленным затягиванием жидкости в рот.
В руке у Кулибина было «Птичье молоко». Он вдруг
подумал, что может устроить радость Вере Николаевне.
В ее жизни может случиться такой же хороший чай.
А тут и она сама появилась на дорожке к дому, белея пре¬
словутым тазом, который всегда стоял у нее в углу, при¬
жавшись к дивану.
Вера Николаевна прошла мимо Кулибина, как мимо
стенки. Ну что угодно! Что угодно! Но такого он не ожи¬
дал.
— Вер! — сказал сразу овиноватившийся Кули¬
бин. — Вер! Я чаю хочу с тортом.
Она повернулась к нему и сказала весь текст, выучен¬
ный наизусть. Что он оказался подлецом, тогда как ему так
много было доверено. Что пусть он идет к своей спеку¬
лянтке, как бы иначе их сейчас ни называли. Смысл один:
есть на свете и получше его, с которыми понимание и чув¬
ство и все такое...
— Возьми торт! — перебил Кулибин. — И можешь
его выбросить.
— Ладно. Зайди на минутку, — как-то вдруг враз
поменяв температуру слов, сказала Вера Николаевна.
Она раздевалась медленно, и в комнате запахло баней,
и это был хороший дух, располагающий к дружбе, а не к
сваре.
За чаем мокроволосая и простецкая Вера сказала, что
есть человек, у которого серьезные намерения. Он овдо¬
вел, остался мальчик, играет в шахматы, серьезный, не то
что нынешние. Конечно, мальчик живет у дедушки и ба¬
бушки, кто ж его отдаст, но отец есть отец. Прийти там в
гости или сходить в музей. Вера Николаевна к нему пере¬
езжает в Москву, у него огромная квартира в центре. Ку-
113
либина просто затошнило от этих новостей, но не потому,
что ему было противно, а от возбуждения нервной систе¬
мы, которая так остро восприняла успехи в жизни быв¬
шей пассии. Откуда было знать кулибинской нервной си¬
стеме, что вторую половину своего рассказа, начиная с
овдовения, Вера Николаевна просто намечтала. Тем бо¬
лее что жена ее поклонника на самом деле была на грани
и держалась только на уколах. Мальчик тоже существо¬
вал и правда находился у бабушки. Вадим Петрович при¬
водил Веру Николаевну к себе пару раз после манифеста¬
ций. Однажды она у него помылась в ванне, и он дал ей
огромное полотенце, в которое она завернулась, как дитя.
Очень сексуальным получилось последующее ее развора¬
чивание, и Вадим Петрович достойно оценил ее тугой не-
рожалый живот, втянутый в пупочную ямку. Именно раз¬
ворачивание и внимательное оглядывание ее доспехов
вызвало у Веры Николаевны рождение мечты. С чего бы
иначе так присматриваться к самой что ни на есть
сути — пупку? Но жена тем не менее была еще жива, а
на последней манифестации Вадима Петровича не было,
хотя Вера Николаевна и становилась на цыпочки и даже
подпрыгивала на носках.
После чая Кулибин было поднялся, чтобы уйти, но
Вера Николаевна тяжело вздохнула и сказала:
— Да ладно тебе... Раз сам пришел...
Этого уже Кулибин не понимал и, хотя, конечно,
остался, потом даже как бы мстил этому неизвестному Ва¬
диму Петровичу, которого не знал и знать не хотел.
Уже после всего, отдыхая, Вера Николаевна рассказала
Кулибину, что ее московская тетка переписала на нее одно¬
комнатную квартиру, а сама уехала на Украину. Конечно,
не за так переписала, а пришлось продать садовый уча¬
сток, но это только полцены, сейчас вот надо кому-то про¬
дать эту комнату, хотя польститься на барак дураков нет,
расчет только на беженцев, вот завтра придут — из Тад¬
жикистана.
114
У Кулибина же в голове сидела информация о трехком¬
натной квартире, где — этого он, конечно, не знал —
Веру Николаевну заворачивают в большие полотенца.
А оказывается, у нее есть и однокомнатная квартира! Ве¬
зет же некоторым! Он прямо так и сказал:
— Ты однокомнатную продай мне! Ты же переедешь в
трехкомнатную. Сколько тебе за нее надо?
Жизнь тысячу раз доказывала человечеству невыгод¬
ность вранья, и тем не менее каждый отдельный человек
врет как сивый мерин и потом непременно напарывается на
собственную брехню собственным же брюхом.
Заегозилась Вера Николаевна, занервничала, подня¬
лась было, но Кулибин опрокинул ее на подушку и поло¬
жил сверху ногу для страховки, чтоб не дергалась, а дала
ответ.
В результате Кулибин остался ночевать. Это была пер¬
вая ночевка с Верой Николаевной, и то, что она не возра¬
жала, давало надежду, что он ее уломает. Она же думала о
другом: Вадим Петрович, конечно, разворачивал на ней
полотенце, но никаких гарантий при этом не давал. Кули¬
бин тоже не давал, но он сейчас в шахе и мате, и тут, как
говорится, возможны варианты.
Утро, которое, как известно, мудренее, выдало такой
проект: Кулибин добавляет нужную сумму, деньги от про¬
дажи комнаты пойдут на мебель, потому что у тетки одна
рухлядь, и они поженятся. Потому что у них — чувство.
Чувство родилось ночью, пока они спали, первой просну¬
лась женщина и подумала, что ей нравится просыпаться с
мужчиной, конечно, она этого никому не скажет, но у нее в
первый раз дошло до такого момента. Все ее возлюблен¬
ные всегда уходили до ночи.
Кулибин же остался. Проснувшись в общем тепле, он
вспомнил Ольгу, ее отдельность последнее их время в соб¬
ственном одеяле, ее гнев, когда он посягал на ее террито¬
рию, подумал, что, в сущности, он человек простой и ему
115
нужна безыскусность семейных отношений, и нечего тут
мудрить. Где это он будет искать себе другую женщину, да
еще с квартирой, если есть готовая, почти своя, вполне об¬
разованная женщина-физик, с корветом на шкафу и плана¬
ми на мебель.
Они повернулись друг к другу и так родственно и тепло
обнялись, что о чем там говорить еще. В «барачные
услуги» Кулибин шел уже спокойно, как к себе домой,
Вера Николаевна мимолетно вспомнила Вадима Петрови¬
ча и неприятную ей привычку грызть ногти — они у него
были обкусаны до крови, а он все рвал и рвал бахрому за¬
усениц.
Будем считать, что жизнь Кулибина устроилась счаст¬
ливей, чем можно было ожидать для нашего времени. Оль¬
га добавила деньги, она была обескуражена тем, каким до¬
вольным выглядел бывший муж. Ольга даже пристала к
Маньке, чтоб та ей поподробней описала «мачеху». Мань-
ка же верещала от счастья, что с физикой у нее теперь бу¬
дет о’кей, одной заботой меньше, а что касается самой
Веры Николаевны...
— Ну, мам... Она баржа... По определению...
— Что это значит? — спросила Ольга.
— Баржа, и все. Посмотри в словаре.
Ольга нарушила наши правила не приходить ко мне,
заведенные еще в эпоху Членова, и явилась совсем уж не
по правилам — без звонка.
— Слушай, — сказала я, — так не делается.
Я на ходу убирала что-то ненужное и лежащее не там,
но она махнула на меня рукой.
— Брось! Я пришла, а ты мне объясни. Почему я
страдаю оттого, что он женился? Где были мои карие очи?
Почему они не увидели такого варианта?
Я ей сказала, где они были. Ольга с невероятным инте¬
ресом выслушала перечень своих интересов на стороне,
куда и были обращены ее очи.
116
— Какой прискорбный реестр! — сказала она на¬
смешливо. — Фантастика! Ни один не лучше Кулибина.
Членов? А что Членов... Я так капитально его забыла,
что даже плохо помню его лицо... Вот странно... Именно
его помню хуже всех. С чего бы это?
— Со старания забыть...
— Тогда бы помнила замечательно. Это же типичный
случай «не думай про обезьяну».
— Он разошелся с женой, — сказала я. — Те связи,
которые были так важны в прошлые времена, тю-тю...
— Откуда знаешь?
— От соседей. Оксана Срачица ведет репортаж. Чле¬
нов твой взял за себя соплюшку, лет двадцати.
— Потянуло на молодое мясо... А вот Кулибина нет!
Взял ровню. Старую деву. Называется «баржа». Я им
приплачивала за покупку квартиры.
— Тебе ничего не стоило его вернуть. Выставила бы за
дверь молодое мясо по имени Миша, повинилась бы — и
все было бы, как было...
— Мишку я выставила еще раньше. Это была дурь.
Кулибин мне тоже не нужен. Это я по душевной пако¬
сти — ни тебе, ни мне — говорю. Мне нужен солидный
мужчина. Профессор какой-нибудь. Банкир. Граф, нако¬
нец. У меня ведь все есть... Я в полном порядке. Но я, к
сожалению, не феминистка. Мне надо приклонять голову
на широкую и уважаемую грудь. Даже секс — черт с ним!
Я хочу респектабельности и целования ручки.
— Сама не знаешь, чего хочешь...
— Высшей пробы хочу. Чтоб даже в самый что ни на
есть момент не возникало легкого отвращения от суще¬
ствования физиологии.
— А куда ты, живая, от нее денешься...
— Не знаю... Но хочу князя по этому делу.
— Их сейчас как собак... Купи себе титул и тусуйся.
— Давай лучше выпьем, — сказала Ольга. — За
счастье Кулибина. В конце концов, он отец Маньки. За-
117
чем ушел, дурак? Потерпел бы чуток... Нет, вру! Он мне
не нужен... И никто на сегодня не нужен... Я объявляю
пост... Буду молиться и вынашивать в сердце образ... Как
Агафья Тихоновна или как ее там...
Свалился, как снег с карниза. Дальний родственник
по линии отца. Ольга смутно помнила его матушку, кото¬
рая приезжала с Урала, когда она была девчонкой, неве¬
роятно окала и говорила: «Ложьте, ложьте». Именно это
слово она употребляла чаще других — а может, его не¬
правильность так врезалась в память? Поэтому, когда
раздался телефонный звонок и некто сказал, что он Вася
Тамбулов, Ольга чуть не сказала ему: «Ложьте, ложь¬
те», — засмеялась, смех естественным путем организо¬
вал радушие, гостеприимство, и Вася, как теперь говорят,
нарисовался.
Это был большой бородатый дядька в больших мятых
вещах, от него пахло хорошим одеколоном, который был
использован не раз-два, а уже вошел в природу тела, в
нитки вещей. Это было приятно и неожиданно. Оказа¬
лось, что он замдиректора большого института, которого
нет ни в одном справочнике, что сам он уже сто лет член¬
кор, что в Москве бывает часто, но первый раз останав¬
ливается частным образом — на гостиницу у института
нет денег.
Он был необременительный гость: уходил рано, воз¬
вращался поздно, от Ольгиной стряпни отказывался по
причине какого-то своего порядка еды. Вечерами они раз¬
говаривали. Его интересовало, как выкручивается в этой
жизни Ольга, платят ли учительницам зарплату вовремя.
Он рассматривал дорогие безделушки, что стояли в сер¬
ванте, хорошие картины, которые она давным-давно купи¬
ла у одного теперь успешного художника, который был в
118
свое время полунищим и стоймя стоял на морозе в Битце,
чтобы продать хоть что-нибудь. Ольга покупала тогда ин¬
туитивно, завороженная мистическими сюжетами, явлени¬
ями фей и гномов, а больше всего солнцем, которое поче¬
му-то существовало на картинах в образе луны. Странный
лунно-солнечный свет был почти вязким, но не мешал
принцессам и принцам быть легкими и воздушными.
В этом была некая странность и неправильность, но она-
то и завораживала. Были случаи, когда ее просили проте¬
реть картину, подозревая на ней густоту пыли, хотя это
была густота света.
Тамбулов разглядывал все тщательно и тоже провел по
картине пальцем.
— Здесь отсутствует притяжение земли, а есть притя¬
жение света. Но это не свет солнца...
— Луны, — сказала Ольга.
— И не луны... Видите точку слева? Свет идет отту¬
да... Вы чувствуете? Движение цвета?
— Я просто люблю эти картинки. Я их не анализи¬
рую. Мне с ними тепло, и все. Это выше анализа.
— Это вы скажите детям в школе, когда покажете им
«Троицу» или «Сикстинскую мадонну». Пусть они их по¬
чувствуют...
Ольга ответила, что в школе сначала учила детей стро¬
чить простыни, а сейчас занимается тем, что спасает школу
от нищеты: достает мел, реактивы, контурные карты и
прочую дребедень. Она сама не знает, зачем это ей, пото¬
му что давно живет не с официальной работы, что она то,
что теперь называется «челнок», но даже уже и не «чел¬
нок». Им она была, когда это называлось спекуляцией.
Сейчас на нее работают трое-четверо молодых и здоровых,
а она все определяет по магазинам. Ее «негры» очень бы¬
стро становятся самостоятельными и уходят в одиночное
плавание, но всегда кто-то начинает и кому-то надо идти в
поход в первый раз.
— В своем деле я бандерша.
119
Ольга поймала себя на том, что зачем-то мажет себя
дегтем. Или чем помечали позорников? Так вот, она рас¬
сказывает постороннему человеку то, о чем умный бы про¬
молчал, а она — нате вам, нате!
Но дело было сделано, Тамбулов стоял и раскачивался
на носках, серьезный такой. Членкор.
— Очень интересно, — сказал он. — Купеческое,
торговая жилка оказались в нас ближе всего к выходу.
Хотя ломали через колено именно это. Вот и вы, дама мо¬
сковского разлива, с высшим образованием, а стали тор¬
гашкой...
— Замолчите! — закричала Ольга.
— Да не обижайтесь! — засмеялся Тамбулов. —
Мне нравится моя мысль. Она безоценочна. Я вас не
только не осуждаю. Я вас приветствую и думаю, не
возьмете ли вы под свой патронаж мою дочь. Сидит безра¬
ботная и расчесывает себя до крови. При том, что никаких
особых талантов нет. Ну, инженер. Это же так... Слово из
семи букв.
— Ну знаете! — засмеялась Ольга. — Вслух меня
никто так не анализировал. Слушайте, давайте выпьем.
Этот разговор в сухую не идет.
— Давайте, — ответил Тамбулов. — Но я человек
грубый, я пью водку, и чем она хуже, тем мне лучше.
— Просто вы не пробовали хорошего.
— О женщина! Вы не знаете, чем поили раньше за¬
крытых лауреатов. Такие коньяки, такие вина! Я отведал
всего — и белого, и красного, и зеленого. И скажу вам:
«сучок» выше всех марок.
— Не держу, — сказала Ольга, выставляя «Крем¬
левскую». — Я девушка деликатная, уж извините.
Она сама наливала, и налила сразу много. На секунду
до того она притормозила, выбирая рюмки, и выбрала
объемные чешские стаканчики.
«Я хочу его споить», — пришла мысль. Пришла — и
осталась.
120
Как мгновенно он понял ее маневр. А она поняла, что
он понял, и на этой сумятице взаимных разгадываний и
могла начаться их игра.
Но пришла Манька, увидела возбужденную мать и по¬
веселевшего гостя, хмыкнула, схватила со стола кусок кол¬
басы и исчезла в комнате.
— Ее ждет квартира, — сказала Ольга как бы о
главном. — Еще мои родители для меня построили коопе¬
ратив. Кончит школу — и пусть переезжает. Я устала от
материнства.
Тамбулов молчал. Имея дочь, он наверняка мог бы вы¬
сказать свои соображения на тему усталости от родитель¬
ского бремени, хотя кто его знает! Может, он и не подо¬
зревал об этой усталости. Половина нашей сильной поло¬
вины понятия не имеет о родительской усталости как тако¬
вой, потому что никогда на этот счет не напрягалась. Но
Тамбулов молчал все-таки совсем по другой причине. Он
не хотел знать. Он не хотел, чтоб его напрягали чужими
проблемами. Как хорошо плеснула ему в стакан эта даль¬
няя родственница, как, призадумавшись, вынула из сер¬
ванта именно эту тару. Он заметил ее замирание у полки.
И он ее не понял бы, достань она хрустальные рюмочки.
И, пожалуй, завернул бы ее назад: раз уж идет питие, то
это дело обоюдное, поэтому он сказал бы: «Мне, хозяйка,
баночку поширше и повыше», — и был бы прав, раз она
сама предложила выпить. Так вот... Все шло путем, пока
Ольга не сказала это отвратительное ему слово «устала».
Сам Тамбулов усталости не знал. Он мог вырубиться, как
рубильник, на двадцатом часе труднейшей работы, выру¬
биться, уснуть на месте, откинув назад голову и сотрясая
лабораторию храпом, и его сотоварищи могли в этот
момент отплясывать жигу, стрелять петардами, щекотать
его в носу кисточкой бритвенного прибора — он только
отфыркивался и продолжал спать ровно столько, сколько
требовала природа его усталости. Это русский вариант
трудолюбия, который всегда аврал и натиск и никогда си-
121
стема, но что тут поделаешь? Тамбулов не захотел бы
поменять свое естество ни на какое другое. Ему было ком¬
фортно в своем теле, таком, каким оно было. Если он слы¬
шал от человека: «Я устал», то отвечал мгновенно: «От¬
дохни». И не продолжал разговора на эту тему, считая ее
исчерпанной. Усталость, как свойство иррациональное и
тонкое, которое есть повод общения и излияния души
душе, была ему непонятна. Конечно, будучи крупным уче-
ным-теоретиком, он мог хотя бы один раз взять в голову
то, что сейчас называют синдромом хронической усталос¬
ти, взять в голову и хотя бы пять минут подумать об этом
предмете. Но Тамбулов очень удивился бы, предложи ему
кто это. Можно с уверенностью сказать, что Тамбулов был
грубо сделанным человеком, но он был именно такой. Хотя
себе нравился, другим — тоже, а тех, которые его терпеть
не могли, он просто в упор не видел.
Нашла к кому податься бедная Ольга с ее жаждой
участия. И тем не менее своей вымуштрованной жиз¬
нью интуицией она учуяла, что между тем, как вошла
Манька и схватила кусок колбасы, и тем, как она за¬
крыла за собой дверь, что-то произошло в таинстве под¬
спудных отношений с Тамбуловым. Так хорошо, душев¬
но, без напряга плыли они друг к другу, а потом возьми
и разминись.
Они выпили еще, и она поняла, что ей уже чересчур, а
ему — как с гуся, только чуть припухли веки и голос при¬
сел на басы.
Но дальше дело не пошло. Ольга опять подумала, что,
не будь Маньки, можно было бы попробовать порулить
дальше, но при взрослой дочери — как? Когда жил в
доме Кулибин, все было просто. Родители в маленькой
комнатке, дочь — в проходной. Потом Манька захватила
маленькую, а Ольга переехала на диван. Миша опять все
порушил, и Манька, поскуливая, вернулась в проходную.
Сейчас Тамбулов ляжет в проходной, она пойдет спать к
дочери.
122
Ольга постелила Тамбулову и ушла к Маньке. Дочь
спала, укрывшись с головой. Когда была маленькой, Ольга
вставала к ней ночью и откапывала дочкин нос. Сейчас
уже не откапывает. Привыкла. Но, видимо, оттого, что
выпили, взыграли старые чувства, пошла стаскивать с
Манькиного лица одеяло, та фыркнула, уцепившись за его
конец, защищая нору. Ольга наклонилась поцеловать дитя,
на нее пахнуло родным духом, но Ольга материнским чув¬
ством уловила и другое: ее дитя, ее младенец был суще¬
ством весьма женским. Манька уже цвела другим цветом,
горячим и пряным, это не мог перебить запах жвачки, вы¬
сосанной до основания и прилепившейся к рубашке. Что
такое это резиновое баловство в сравнении с буйством
природы, которая назло и нагло всем и вся пахла откровен¬
ным желанием.
Ольга подумала, что для одной маленькой комнаты
слишком много «женского», что надо всерьез заняться той
припасенной квартирой и летом, сразу после школы, пусть
девица живет самостоятельно, потому что потому... Когда
строили кооператив, казалось, что это у черта на рогах,
сейчас там метро рядом с домом.
Почему-то уверенно думалось, что, не будь Маньки, у
них бы с Тамбуловым случилось. Не могло не случиться.
Она на цыпочках пошла в уборную и увидела, что Тамбу-
лов сидит на кухне и читает какую-то книжку, смешно ото¬
двинув ее почти на вытянутые руки, а очки у него сдвину¬
лись на кончик носа. Еще тот видок для членкора!
— Не спится? — спросила она.
— Забавная книжонка, — ответил он. — «Коллек¬
ционер» называется. Идея абсолютного обладания.
В сущности, весьма распространенный человеческий грех.
Вы не читали?
— Нет, — ответила Ольга.
— У вас будет возможность это сделать. Я взял ее у
вас с полки...
Стало неловко, хотя с какой стати?
123
— Я так устаю, — сказала Ольга.
— Отдохните, — ответил Тамбулов в один выдох.
В ванной Ольга долго смотрела в зеркало. Никогда не
красавица, она была довольна природой, которая дала ей в
износ именно это тело. Она благодарила его за то, что оно
не было вялым, что оно умело приспосабливаться к погоде,
оно было податливым к переменам стиля... Она уже давно
хорошо, стильно одевалась, убедившись, что фигура ее
универсальна, а недостатки — широкие плечи, слабо вы¬
раженная талия и тяжеловатые ноги — искупаются высо¬
ким ростом, длинной шеей и стремительностью походки.
Кстати, стремительность родилась нуждой и необходимо¬
стью многое успеть, ведь в детстве она была такая непово¬
ротливая квашня.
Сейчас же, всматриваясь в свое лицо и будучи вполне
довольной и им, она все-.таки подумала: никогда ее статей
было недостаточно, чтоб сразу «на нее запасть». Даже
одетая в самое что ни на есть, она обязательно должна
была пускать в оборот себя внутреннюю. Ей просто необ¬
ходимо было и заговорить. Она раскрывала рот, и тогда
она (другая часть человечества) начинала ее видеть.
В этом была своя игра, своя интрига, она любила, помол¬
чав и выждав, вставить словцо, засмеяться...
— И тогда, — говорила она, — мужская природа
начинала меня инвентаризировать, у них уже взбухали же¬
лезы и бежала слюна... Они, как собаки, идут на мой го¬
лос.
Я ее не перебивала. У нее не было чарующего голоса,
голоса как зов. Не на его звук делалась стойка, а именно
на разговор, речь... Движение ее ума. На то, как она вяза¬
ла слова, как ловко под языком сидели у нее стебные, как
говорят теперь, фразочки. С ней было интересно...
Но вот сейчас, у зеркала, Ольга подумала: «А Там-
булову со мной малоинтересно». Его она не может уди¬
вить, даже разговор о купечестве она толком не смогла
124
поддержать, а тут еще эта чертова книга, которой она не
читала, потому что вообще последнее время читала мало.
Это когда-то был запой. Тогда все читали «Новый мир» и
«Иностранку», и она тогда была в курсе всего и побежда¬
ла в знании Членова, а Вик. Вика — в оригинальности
оценок. Сейчас не то... Затребовалась другая доблесть.
Читать ничего не хочется, как будто иссякла, кончилась
та жизнь, что вырабатывала радость листания страниц...
Но разве так бывает? Разве такое кончаемо? Но так
есть... А этот, в кухне... Вытянул из себя руки на всю
длину, шевелит губами... У него, значит, жила не иссяк¬
ла.
Что-то в этих мыслях будоражило Ольгу, беспокоило...
Конечность каких-то живых желаний? Но книга — разве
желание? ?Келание — это то, что держит ее у зеркала,
когда она морочит себе голову черт-те чем, а на самом деле
ей нужен большой тяжелый Тамбулов, нужен и по низкой,
плотской причине, и по высокой тоже... Конечно, членкор,
конечно, потому... Так хорошо бы вплыть в новую жизнь с
мужчиной такого ранга и задним числом отомстить
всем — и этому пижону и трусу Членову, и чистоплюю
Вик. Вику, мелочевку она не считает... Хотелось завер¬
шить все хорошим аккордом и успокоиться. У нее есть
деньги, есть ценности, наступит лето, и она отделит Мань-
ку, и как было бы хорошо, если бы Тамбулов был тут и по
вечерам держал на вытянутых руках книжки, а у нее было
бы право прийти и сесть между книгой и ним и ощутить,
как умный членкор начнет перебазировать свою энергию с
мозговых клеток к иным... И это будет хорошо!
«Я сейчас это сделаю! — сказала себе Ольга. —
Манька ночью не встает».
И она стремительно вошла в кухню в прозрачном хала¬
тике, вся такая «горящая до любви».
— Что? — спросил Тамбулов, глядя на нее поверх оч¬
ков, но тут же все понял и, как ни странно, не удивился. —
Закройте дверь! — сказал он ей.
125
Потом они что-то ели из холодильника, а у нее почему-
то дрожали руки. Это вместо расслабленной радости?
— Знаешь, что он мне сказал? Что уже не чаял такого
рода расслабухи в Москве. Это раньше, когда они приле¬
тали на своих самолетах, «ящичные академики», и их по¬
мещали в закрытых гостиницах, девочек им подавали,
можно сказать, на блюде. И он мне говорит: «Я жене во-
обще-то верен...» Чувствуешь, какая пакость? Он верен.
Но великодержавное блядство было как бы на десерт, а
значит, по большому счету несчитово. Он меня по попе по¬
гладил, мол, умница... Сама пришла. Я сдержалась и ду¬
маю: «Пусть будет так». Конечно, про верность жене он
зря... Развел трах и жену на разные планеты — и как бы
так и надо. А руки у меня трясутся, трясутся...
Потом Ольга лежала на раскладушке и слышала через
тоненькую дверь могучий храп Тамбулова. На душе было
тоскливо. Ну, хорошо... Будет еще завтра, послезавтра.
Дастся ли ей развернуть к себе Тамбулова так, чтоб сооб¬
разил он своей ученой головой, что она у него не «на тре¬
тье», что он с ней изменяет жене, изменяет не в общем
блудливом кодле командированных, а вполне индивиду¬
ально, а значит, сознательно. Почему-то она думала, что
когда он осознает это, когда он ее выделит и почувствует,
то тогда и произойдет определение факта измены, а дальше
надо будет закрепить это дело, освободив его от паутины
угрызений (это она столько раз проходила, но теперь, ка¬
жется, знает, на какую нажать кнопку, чтоб выключить
стыдливый мотор к чертовой матери).
Утром Манька собиралась быстро и в упор не увидела
сдвинутости кухонной мебели. Сама Ольга аж ахнула,
узрев это с утра, а Маньке хоть бы что. И тогда Ольга
подумала одну из своих любимых мыслей о том, как звучит
жизнь. Она звучит так, что смолоду она невероятно гром¬
ка, в том грохоте мыслей и чувств, которым живет молодое
дурило, в упор не видно и не слышно тихой или утихающей
жизни старших. Наверное, тут подошли бы толкования о
126
вибрациях, но это слишком. Ольга думает проще: громкая
жизнь молодых заглушает им жизнь, как они говорят,
предков. Вот Ольга и Тамбулов сдвинули стол и табуретки
и сорвали случайно шторку с двух крючков, а Манька
вошла, ногой поправила табуретки, боком двинула стол, на
шторку не глянула, ах, дитя ты мое, дитя, ты еще не зна¬
ешь, как быстро приходит утихание.
К вечеру Ольга была готова на все сто. Чтоб и водоч¬
ка, и закусочка, и сама. Он пришел раньше времени, она
успела нарисовать один глаз. Конфузно встречать гостя, на
которого поставлено все, одноглазой, пришлось голый и
блеклый глаз прикрыть ладошкой. Тамбулов влетел как ве¬
тер, сказал, что его ждет машина, что Москва расстара¬
лась и нашла им какую-то дачу и теперь они все туда едут,
спасибо ей за кров и дом, и вообще, даст бог, увидимся,
бардак конечен, как и все в живой природе, но это так здо¬
рово, что они собираются своим кругом, уже года четы¬
ре — или пять? — не виделись. Две минуты — и он
уже «с чемоданчиком на выход», на пороге затормозил на
ней взглядом. «Глаз болит? — спросил, и даже как бы со¬
чувственно. — Промойте крепким чаем».
И все! Даже руки не подал. Отсалютовал двумя паль¬
цами к виску.
— Дочке кланяйтесь! — Это уже с лестницы, сквозь
топот убегания.
Ольга посмотрела на себя одним накрашенным мерт¬
вым глазом, сняла ладонь и увидела другой, который морг¬
нул, как виноватый, неоправленный, с легкой краснотой
век, умученных карандашом. Глаз.
Шипело в чугунке мясо по-монастырски. Обалденная
еда для радости. Водочка в морозильнике мягко лежала на
пакете с клюквой.
Сначала она тщательно вымыла лицо. Когда вошла в
кухню, там уже пахло подгоревшим мясом. Выключила
конфорку. Потом пошла и легла на спину, без подушки. На
потолке был старый след от убитого комара. След Кулиби-
127
на. Их тогда налетела тьма, и они их били, били... А этот,
особенно настырно жужжащий, нагло отдыхал на потолке.
И Кулибин ткнул в него еще маминой палочкой, с которой
та ходила. Палочка так и продолжала уже сто лет висеть в
прихожей. Самое удивительное, что Кулибин попал в упо¬
енного собственной недосягаемостью зверя. И на потолке
отпечатались резиновый кружок палки и ничтожное кома¬
риное тело. Оттирала его потом со стола кусочком ваты в
пудре. Но до конца не оттерла, след следа остался. Сейчас
со спины был почти хорошо видны круг и иероглиф мерт¬
вого тела.
Ольге было стыдно так, что хоть из окна... За вчераш¬
нее, за сегодняшнее. Она чувствовала полный разлад в той
системе, которая отвечала за координацию ее отношений с
мужчинами. С ней нельзя так поступать! Но можно
сколько угодно нагнетать в себе самой самоуважение,
иероглиф комара пищал о другом. В отношениях с мужчи¬
нами она всегда была дурей себя самой. Всегда. Ей всегда
казалось лучше, правильней брать отношения в свои руки,
быть, так сказать, водилой — ну и что? В результате все
ее романы кончались ничем. Они уходили у нее из рук,
мужчины. И те, которых она хотела удержать, и те, кого
она отпускала без сожаления. Никто не пытался что-то
сделать обратное, обхватить ее руками-ногами и сказать:
«Нет!!!» Даже муж Кулибин, казалось бы... Даже Миша.
Она только чуть плечом повела, и он тут же: «Я понял...
Меня уже тут нет...» Любил ли ее хоть один до задыхания,
до того, чтоб через все... Иероглиф ответил: «Нет!»
С этим она у меня и объявилась. Без лица, без лихих
одежек, такая вся в простоте и безысходности. Женщина
из толпы. У меня как раз сидела Оксана Срачица. Она
показывала мне панно, сделанное целиком из поношенных,
что на выброс, детских колготок. Панно было сюр. При¬
чудливая тварь смотрела на меня одним большим глазом-
пяткой в бахроме ниток. Некто.
128
Было не понять, как старый чулочно-носочный матери¬
ал смог сказать о тебе самом больше, чем ты сам про себя
знаешь. Перед приходом Ольги я сказала Оксане, что
иметь в доме такого соглядатая, как этот чулочный зверь,
просто опасно для здоровья.
— Да что вы! — ответила она. — Это же Мотя. Он
хороший.
Ольга же вцепилась в панно намертво.
— Сколько оно стоит? — спросила она.
— Я не продаю, его дети любят, — ответила Оксана.
В отказе ее было слишком много чувства.
— Чего хотят ваши дети? — Ольга держала Мотю за
ту его часть, которая уже не была глазом, а была как бы
шеей, но одновременно и деревом, на котором он пребы¬
вал. Вообще Мотя мог быть деревом с глазом, равно как и
левой стороной птицы, но не в том смысле, что правой
было не видно, а в том, что это была законченная «левая
птица», но если настаивать на дереве, то дерево как раз
было «правым». Хотя где вы видели правые деревья?
— Я могу исполнить какую-нибудь мечту ваших де¬
тей, — настаивала Ольга, но Оксана вытащила из ее рук
«шею дерева» и сказала тихо: «Да что вы!» И улизнула из
квартиры не то смущенная, не то оскорбленная, не то испу¬
ганная «этой женщиной».
— Деньги ей не нужны! — возмутилась Ольга. —
Это же надо!
— Что с тобой? — спросила я. — Где твое лицо?
Видимо, то, что она так сильно отвлеклась на Мотю,
сбило ее с толку, она даже чуть поежилась в своем теле,
ища то, с чем она ко мне шла.
— Скажи, — резко спросила она, — вот ты живешь
со своим почти сорок лет... Это можно назвать любо¬
вью — или это уже совсем другое?..
Так я и стану ей говорить о себе. Нет на земле такого
человека, с которым я бы стала обсуждать саму себя и
129
свои чувства к кому бы то ни было. Моя душа — это
мой строго охраняемый загон. Я тут и пристрелить на
кордоне могу, если что... Я и сама лишний раз не лезу
туда с ревизией. Я ей верю, моей душе. Она у меня де¬
вочка умная. Когда я по человеческой подлости сотворю
какую-нибудь гадость, она мне устроит такой тайфун, та¬
кое торнадо, что мало не покажется. Ну что я могу ска¬
зать? Мои отношения с мужем — они под ее юрисдик¬
цией. Любовь не любовь, я не знаю, что это... Но это у
меня неговоримо...
Ольга ждала ответа на вопрос, а я пошла включать
чайник. Вернувшись, я сказала:
— Когда-то попробовав, я отвергла измену как не
подходящий для меня способ жизни... Даже если он ра¬
дость...
— Ну понятно, — перебила она меня. — Ты у нас
поэтому хорошая. Я же ничего не отвергла... Я вполне по
этому делу... И потому плохая... Я тут даже не спорю...
Зачем пришла? Забыла... А! Вот это... Оскорбительно
или нет признаться, что мужики у меня не держатся, или
так мне и надо?
— Чего ты хочешь? — спросила я, когда она мне все
рассказала. — Ты сама предлагаешь необременительность
отношений. Пришла, дверь закрыла... Какого ты ждала от
этого навара?
— Значит, сама виновата, — ответила она. — А сра¬
зить я по-женски уже не могу? Ну, посмотри на меня и ска¬
жи! Так, чтоб после меня уже никого не захотелось?
— Еще в древних книгах сказано, что вода сия есть
одинакова на вкус из всех источников. Ну что ты как ма¬
ленькая!.. К тебе грамотный пришел, книжки читает на
ночь... Это же не Миша, у которого по молодости лет каж¬
дый день солнцестояние. Просчиталась ты с членкором...
Тебе что, так не терпелось?
— Да, — ответила она. — Не в том смысле! Мне
хочется причалить...
130
— У тебя еще времени уйма. Ты еще и родить мо¬
жешь...
— Нет, — ответила она. — Нет. Хотя на самом
деле мне нагадали длинную жизнь. Ты права. Время еще
есть. Но меня так это заело... Мясо приготовила. Такое
на мне было белье. Сейчас ведь можно купить что хо¬
чешь. Маньку спровадила к отцу, у того день рождения,
и они с молодой купили гарнитур. На мои денежки, меж¬
ду прочим... Маньке нравится у них бывать. Новая но¬
вость... Я потом целый вечер лежала и смотрела в пото¬
лок... Ни одного звонка, ни одного... Даже встала прове¬
рить, работает ли телефон. И поняла: муж нужен именно
для таких случаев. Когда ты никому, никому не нужна, он
выходит из соседней комнаты. Пузыри на коленях, воло-
сята на голове реденькие, такой никому не нужный, но
свой. Так?
— Так, — ответила я. — Тут есть ключевое слово
«свой».
— А-а... — протянула Ольга. — Значит, мне это не
подходит. Значит, правильно, что Кулибин живет в другом
месте. Я маркиза хочу. Маркиза... Чтоб у него хватило
ума на элегантный уход, чтоб не стремглав... Черт знает
что! Лучше б я была фригидной, как в детстве. Такая хоро¬
шая, чистая независимость. И изнутри тебя ничего не
скребет.
Потом она стала просить меня уговорить Оксану Сра-
чицу продать ей Мотю, с Оксаны переметнулась на Чле¬
нова.
— Вот бы встретиться, чтоб гордо пройти мимо, —
сказала Ольга. — Тут фильм смотрела. Соплячка, лет
двадцати пяти, перечисляла тридцать своих любовников
очередному хахалю. И про каждого нашла доброе слово.
Даже такое: «язык крепкий». Во-первых, тридцать я бы
не вместила. А во-вторых... Знаешь... Каждый раз... Или
почти каждый... Мне хочется думать, что это навсегда...
Что за идиотка?
131
Илья Петрович
Ольга уволилась из школы. «Не стоит того, — сказала
она мне. — Времени занимает много, деньги смешные, а
здоровье уже не то». Она съездила в Париж, оделась как
куколка. Познакомилась там с одной русской дамой, кото¬
рая возила в Москву французский товар. Дама была широ¬
кого размаха, и Ольга почувствовала себя болонкой, бро¬
шенной на автобане. У дамы был муж — полный, сочно
налитой алжирец, выученный в Университете Лумумбы.
Он меланхолично и снисходительно позволял бойкой жене
себя содержать. Глядя на него, Ольга подумала, что мало
знает о Востоке. Так случилось, что католики ей как род¬
ные, но вот с мусульманами судьба не сводила, а их вокруг
как бы все больше и больше, и это, наверное, что-то зна¬
чит, а может, и не значит ничего. Но такой матовый, такой
лоснящийся, хорошо пахнущий и ничего не делающий араб
поколебал ее едва-едва успокоившуюся душу. Не то чтобы
ей захотелось такого же экзотического мужа, ни боже мой,
а то, что даже в Париже... Даже там деловая, хваткая рус¬
ская баба сама содержит эдакого пушистого ленивца, пото¬
му что... Других нет? Или такая уж сильная любовь, что
няньканье вполне перезрелого мужчины в радость?
В Париже пришла странная мысль: хорошо бы пра¬
вильно выйти замуж именно здесь... Чтоб было красиво и
под стать городу. И назло этой кормилице араба. Такое
красивое назло, которое возбуждает радость. Как тут не
подумать, что отрицательный опыт ничуть не хуже поло¬
жительного в контексте судьбы и жизни, если может
взбодрить разного рода идеи. Одним словом, плохое и хо¬
рошее — вещи абсолютно не категорические. Как смот¬
реть.
В обратном самолете он оказался рядом, аккуратнень¬
кий такой мужчина сорок шестого размера. Сидя Ольга не
могла сообразить его рост, потому что рост целиком зависит
132
от длины ног. Но когда ей понадобилось выйти и сосед
встал, то их глаза встретились точно на одном уровне. По¬
чему-то это ее взволновало. И это было непонятно именно
в связи с уровнем. Будь он выше, все было бы понятно. Но
она не такая уж высокая женщина по нынешним оглобле-
вым меркам, когда в бой идут стовосьмидесятисантиметро¬
вые, а других уже просят не беспокоиться. Тут же глаза в
глаза маленький мужчина, но почему-то вздрагивает серд¬
це. В туалете она провела ревизию внешности. Такая пре¬
лесть эти французские карандашики, только линией помо¬
гающие обрести форму. Она даже не стала подкрашивать
губы, сосед бы это заметил, а ей не нужно, чтоб он подумал
о ее ухищрениях. Силы же карандаша он не усечет, если он
не какой-нибудь там визажист — новая профессия этого
безумного времени. Ей даже рекомендовали одного, но она
пожалела доллары. Еще не тот случай, подумала, сама
справлюсь.
Соседа звали Илья Петрович. Они разошлись во вкусе
вин. Она любила красное и теплое, а он — белое и холод¬
ное, но уже к концу полета выяснилось, что нечего валять
дурака, оба они предпочитают хорошую водку и оба знают
свою меру. Разговор как-то тупо кружил именно вокруг га¬
строномии, и Ольга подумала: «Это не я офлажковала
тему. Я вполне могу и о другом». Потом она подумала, что
маленькие и худенькие мужчины, как правило, прожорли¬
вы. У нее таких не было. Так, может, и не надо? Но была
та встреча глаз на одном уровне, когда, в сущности, все и
началось, а это было еще когда — когда только ремни от¬
стегнули. В конце концов она не выдержала^ спросила, не
работает ли он в системе питания.
Илья Петрович засмеялся, и смеялся долго, даже при¬
бегнув к носовому платку, чистейшему и аккуратно сложен¬
ному. Отсмеявшись и тщательно вытерев все части лица,
которые могли взмокнуть, он сказал, что по профессии га¬
зетчик, что уже двадцать пять лет в печати и пишет в ос¬
новном об экономике, а поговорить о еде любит, потому как
133
тема не способна поссорить говорящих, а, наоборот, даже
при разнице вкусов очень сближает.
— Ну, не скажите! — засмеялась Ольга. — Не с
каждым заведешь разговор об устрицах и лангустах.
— А я о них молчу, — ответил Илья Петрович. —
Я не провокатор.
Ольга ждала, что он спросит, чем занимается она.
И она ему ответила бы: «Я челнок! Я ваша экономика!»
Но он не спросил, и это было плохо — показывало неглу-
бокость его интереса. Можно сказать, даже его поверхно¬
стность, потому что мы без своего дела все равно что голые.
Тут у Ольги все в голове смешалось, что даже вдруг поду¬
малось: а если у мужчины именно голый интерес, на какой
ляд ему ее профессия? Но это ее тоже не устраивало.
К концу полета они сидели молча, каждый молчал о своем,
уже как бы чувствовалось притяжение Земли и всех ее об¬
стоятельств, попробуй тут спастись от их голосов, громких,
настырных, тревожных, — одним словом, голосов Земли
и вцепившихся в нее человеков. Вцепившихся до черноты и
крови. Наверняка Земле не раз хотелось, чуть притормо¬
зив, сбросить с себя эту как бы мыслящую биомассу. Так
хотелось бы! Когда-нибудь она решится. И это будет же¬
стоко, но справедливо.
Тут трудно сказать, были ли это мысли Ольги, уловив¬
шей в небе вибрации Земли или Земля сама углядела в ил¬
люминаторе лицо одной из растерянных женщин, со стра¬
хом смотрящей вниз, на нее, Землю. Но было как было.
Мысль вошла в самолет, и люди притихли, сжались... Им
предстояла посадка. Встреча с Землей. И они ее боялись.
Уже ожидая выплывающие из преисподних глубин че¬
моданы, Илья Петрович спросил, встречает ли кто-нибудь
Ольгу. Хотелось сказать «да», это был бы правильный от¬
вет для благополучной женщины. И она даже заколеба¬
лась, не соврать ли.
— Увы! — ответила она. — Сейчас буду искать, с
кем бы спариться на машину. Одна боюсь.
134
— Спарьтесь со мной, — ответил Илья Петрович.
Хотя по маршруту удобней было бы забросить его на
Савеловский, а потом ее — в Марьину Рощу, но поехали
сначала к ней. Возле подъезда она попросила: «Поднимите
меня на этаж. Я боюсь одна в лифте». Уже возле двери она
протянула ему руку, готовясь сказать все причитающиеся
слова. Он взял ее руку, загнул к ладони ее пальцы, потом
притянул к себе. Поцелуй получился, можно сказать, юным
и страстным.
— Войду? — тихо спросил он.
— У меня дочь, — ответила она. — Она меня ждет.
— Больше никто не ждет?
Она ничего не сказала, потому что обиделась на вопрос,
ответ на который и так был ясен.
— Телефон, — сказал он.
Она назвала и увидела, что он не записывает, поняла,
что это так, соблюдение элементарного приличия после та¬
кого поцелуя. Но не будешь же настаивать на написании.
Совсем бездарно.
Илья Петрович со вкусом поцеловал ей ладонь и ушел,
а она стала открывать дверь: сейчас на шею кинется Мань-
ка, а потом пойдет потрошить чемодан... Но в квартире
было тихо. Конечно, первый час ночи, но как она могла
уснуть?
Бросив чемодан у порога, Ольга ринулась в спальню.
Уже открывая дверь, поняла, что делать этого не следова¬
ло. Еще с порога она учуяла чужой запах в доме, некую
кислость воздуха в прихожей, но объяснила его тем, что
Манька запустила квартиру, этого от нее вполне можно
ожидать. Так подумала и ринулась и дверь открыла, а могла
бы, идиотка с коридорными поцелуйчиками, сообразить все
хоть на секунду раньше.
Они сладко спали, обхватив друг друга руками, —
дочь и парень с не очень чистыми ногами и давно, видимо с
детства, неостригаемыми ногтями. Горел ночник. Светила
135
луна. На тумбочке стояла пустая бутылка от какого-то —
издали не прочесть — вина. Манька была голой и выгля¬
дела большой, вполне разработанной женщиной, никаких
там поджатых коленок и заломленных от смущения локот¬
ков. Вот парень с ней, тот как раз казался дебютантом по
некоторой жалкости позы плюс — опять же! — пятки и
ногти. Они даже не пошевелились от скрипа двери. Мань¬
ка сопела громко, с некоторым клокотанием в горле, а ее
возлюбленный подсвистывал ноздрей. Ольга закрыла
дверь и рухнула на диван. Не то чтобы ее это удивило и
возмутило... С тех пор как она унюхала запах зовущей
плоти в собственном дитяти, она уже была готова к этому.
Она пыталась сказать Маньке, что, если дойдет до дела,
надо быть осторожной... Но дочь крикнула, что учить уче¬
ного — только портить.
— Не смей говорить со мной об этом!
Ольге это даже понравилось. Это был хороший при¬
знак, «не говори» — значит, нет нужды. Почему она не
подумала о том, что дочь прошла уже эту школу и мать
припозднилась со своими поучениями? Но этого быть не
могло! Где? Когда? С кем?
Сейчас Ольга была потрясена тем, что дочь, зная о при¬
езде матери, сочла возможным таким образом ее встретить.
Что ее просто вынесли за скобки как величину малосуще¬
ственную, иначе как все объяснить? Ольга так и лежала в
темноте, настолько оглушенная, что не было сил раздеться,
умыться, внести из прихожей чемодан или там заорать бла¬
гим матом и сдернуть этого когтистого сопляка, сдернуть
так, чтоб он ударился затылком об пол (Ольга просто слы¬
шала этот звук хряснувшего черепа). Ее оправдают. Мань¬
ка несовершеннолетняя, а мать в аффекте.
Дочь вышла в уборную, теплая и сонная, она увидела
Ольгу, которую освещала полная луна.
— Ма, ты чего? — хрипло спросила Манька. — Ты
же должна была завтра!
136
Ольга включила торшер. Как же хороша была дочь в
этой своей молодой голости, стоит и светится, как Бог ее
создал. Почему-то это смягчило Ольгу, и, хотя мозг бунто¬
вал, душа как бы шепнула ему: «Пусть. Это уже случи¬
лось».
— Он кто? — спросила Ольга.
— Счас, — ответила Манька и побежала все-таки
сначала в уборную, громко поструилась, вернулась уже в
материном халате и села напротив в кресло. — Ты рухну¬
ла? — спросила она Ольгу, и в голосе ее были сердечие и
сочувствие. — Бедняжечка... Я правда думала, что завт¬
ра. Хотела все-все убрать... Чем это у нас кислым пахнет?
Хорошо было в Париже?
— Не возвращалась бы, — ответила Ольга, но поче¬
му-то вспомнила этого чертова араба с его сладким духом.
Полезли в голову мысли о сравнительности запахов.
«Я понимаю, — подумала Ольга. — Я боюсь с ней го¬
ворить про это. Хорошо бы мне пересидеть в кухне, чтоб
парень собрался и сгинул. Я бы выкинула белье и все за¬
была».
— Это Вовка, — сказала Манька. — Ты его зна¬
ешь... Он ушел после восьмого... Сейчас зарабатывает не¬
честным трудом на откос от армии.
— Что значит — нечестным? — спросила Ольга.
— Это я фигурально! Торгует чем бог пошлет... Еще у
него есть команда по дверям. Ставят металлические. Если
не наберет денег на откос, уедет в Питер на время, чтоб по¬
теряться... Там у него бабушка. Правда, она сбрендила на
Ленине и может Вовку не понять. Но Чечня — аргумент,
а Вовка все-таки внук. Он попридуряется перед ней... схо¬
дит на «Аврору» там или я не знаю куда. Мне его разбу¬
дить?
— Куда же ночью? — ответила Ольга. — Еще при¬
бьют... Угрызайся потом...
— У него пистолет, — сказала Манька. — Но, ко¬
нечно, пусть поспит. — И она спокойно так встала и
137
ушла, и Ольга вдруг поняла, что как-то плавно, почти без
толчков и вибраций, въехала в новую для себя ситуацию.
Она не задала дочери ни одного существенного вопроса.
Хотя бы такого: любит ли она Вовку? И давно ли у нее с
ним? И предохраняется ли она? Маня сбила ее с толку аб¬
солютно спокойным поведением, и Ольга подумала: «Это
же надо так! Случись такое со мной...» Она вспомнила, как
пришла тогда, в свой шестнадцатый год, как закричала с
порога дурным голосом, а мама, царство ей небесное, поня¬
ла все сразу, как будто ничего другого и не ожидала... Сча¬
стливая Манька. Где бы она ни нашла этого немытого Вов¬
ку, она сама его нашла. Почему-то думалось, что в их дет¬
ском романе водила Манька, а мальчишка — просто со¬
бачка на веревочке. Хотя кто его знает? А могла бы спро¬
сить, могла...
К утру Ольга уснула, стянув со спинки дивана плед.
Проснулась, когда дочь провожала идущего на цыпочках
Вовку. Сквозь ресницы, чтоб они не увидели, что она не
спит, обратила внимание: парень высок и строен, у него
красивые вьющиеся волосы и на боку правда болтался пи¬
столет. Уходил он тихо, по-кошачьи, а дочь осторожно за¬
крывала дверь. А чемоданы так и стояли нераскрытые в
прихожей. С чего она взяла, что Манька перво-наперво
кинется к ним? Она хорошо, со вкусом одевала дочь, но ба¬
рахольщицей та не стала. В ней была кулибинская кровь,
на которую Ольга злилась, а сейчас вдруг как бы увидела
иначе, и ей понравилось, что она в этой своей части папина
дочка.
Толчок, который произвела в жизни Ольги Маня, ока¬
зался все-таки посильнее, чем «Фауст» Гёте! Во всяком
случае, Илью Петровича из головы выдуло напрочь. По¬
этому, когда он позвонил уже утром, Ольга не сразу сооб¬
разила, кто он есть. Понял ли это Илья Петрович, уловив в
голосе Ольги заминку, неизвестно. Может, объяснил ее
138
тем, что женщина укрощала звук телевизора или выключа¬
ла чайник. Илья Петрович предлагал встретиться тотчас.
«Слышите, чем гремлю? У меня прекрасные квартирные
ключи», — сказал он. «Без обиняков, — подумала Оль¬
га — и запуталась в слове, не зная, куда поставить мыс¬
ленное ударение. — Вот что значит пользоваться словами
не из своей жизни».
— Имеется в виду, что я тут же срываюсь с места и
бегу? — сказала она грубо, как из всех своих мужчин мог¬
ла бы ответить только Кулибину.
— Именно это и имелось, — засмеялся Илья Петро¬
вич, игнорируя грубость, опять же как делал это Кулибин.
— Не выйдет, — ответила Ольга.
— Господь с вами! — закричал Илья Петрович. —
И думать не думайте. Я сейчас же заеду за вами. Сейчас
же! — И он бросил трубку.
Юная женщина Маня ушла в школу. Ольга только что
сдернула с постели белье, стараясь на него не смотреть. От
плохой ночи у нее болела голова, а от выпитых таблеток со¬
хло во рту. В квартире было холодно, потому что она на¬
стежь открыла балконную дверь. Она сняла лак, и ногти у
нее были синие и неживые. Конечно, можно будет просто
не открыть дверь. Позвонит-позвонит — и уйдет. Можно
будет не подходить к телефону. Но телефон позвонил тут
же, это был деловой, важный звонок, ей предлагали на
паях купить крохотный магазинчик на Патриарших прудах,
конечно, таких денег у нее нет, но можно взять ссуду...
Звонили с явным натиском, а это был уже перебор для од¬
ного утра. Она хотела положить трубку, но на нее все дави¬
ли и давили, а тут раздался звонок в дверь, она сказала, что
подумает, и с деловым, озабоченным лицом пошла откры¬
вать дверь, готовая к труду и обороне. По дороге посмотре¬
ла в зеркало. Ничего хорошего. Ни-че-го. Чем хуже, тем
лучше, подумала и впустила Илью Петровича. Тут без заб¬
луждений... Он тоже увидел другую женщину, и хотя та,
вчерашняя, была упакована так, что ничегошеньки интим-
139
ного не просматривалось, а эта, сегодняшняя, была почти
распахнута и отсутствие лифчика было выражено откро¬
венно, но это был тот самый случай, когда говорят: шел в
комнату — попал в другую. Пережить такое разочарова¬
ние в глазу мужчины было выше тех сил, которые износи¬
лись этой ночью, но это была бы не Ольга, если бы у нее не
было глубоко на случай войны спрятанного резерва.
Он ей на дух не был нужен, этот, будь он неладен, Илья
Петрович, но снести такой взгляд и учуять его мысль про
то, что он зря как идиот ездил за ключами и униженно их
клянчил — дело того не стоило, вот этого Ольга оставить
не могла.
— Проходите, — сказала она, — я сейчас.
В спальне она села на голый «после санации» матрац и
стала быстренько «собирать себя в кучку».
«Я напою его кофе, расскажу, что покупаю магазин.
Факт эффектный, себя окажет... На этом основании, сами
понимаете, мне, мол, не до ключей... Я вся в порыве энту¬
зиазма другого свойства, так что отложим, и прочее...»
Она соорудила на голове оранжевую чалму, спустив на
лоб завиток, надела брюки и широченный блузон, лицо
смазала кремом до той степени блеска, чтобы было видно:
да, это крем, он знак полного доверия к гостю. Даже, мож¬
но сказать, знак интимности. Французские карандаши¬
ки — vive la France! — сделали тонкую графическую ра¬
боту, но по мере готовности к роли деловой и уже с самого
утра привлекательной женщины Илья Петрович все даль¬
ше и дальше перемещался в мыслях Ольги в стан не по ран¬
гу берущих, в стан тех быстрых хлопотунов, от которых су¬
еты и тяжести куда больше, чем даже разового удоволь¬
ствия.
В свою очередь — надо думать, — и Илья Петрович
делал свои прикидки на разные повороты этой истории.
Во-первых, он отметил неоткрытые и стоящие на входе
чемоданы. Его мадам ночью распатронила его старенький
140
тряпочный чемоданишко еще до того, как он снял пальте-
цо.
Опять же... Лежат на диване скомканный плед и плю¬
шевая подушка с вогнутым внутрь углом. Кто-то здесь
спал без простыни? Без наволочки? И такой блистатель¬
но-яркий на толстом слое пыли паркета босой мужской
след.
Тут два варианта, думал Илья Петрович. Или у дамы
кто-то уже побывал — тогда, конечно, он с ключами пол¬
ный придурок. Или дочка дамы уже вполне взрослая да-
валка и это ее доброму молодцу пришлось рвать когти по
паркету. Пылищи-то в квартире, пылищи! Хотя, с другой
стороны, сразу понятно, что это пыль временная, что, как
правило, пыль тут гоняют мокрой тряпкой. Гоняет дама. Не
дочь. На стене фотография девочки лет семи. Это могло
быть снято и год тому, и десять.
Ольга вышла, и мысли Ильи Петровича провисли.
— Извините, — сказала Ольга, — моя свинюшка
запустила квартиру, и ей еще предстоит узнать, что я об
этом думаю. Идемте пить кофе, раз уж вы пришли. У меня
через час деловая встреча.
Они вошли в кухню. Раковина горбилась немытой по¬
судой, стол был липким от многажды пролитого на него
всего льющегося и протекающего. Ольга ругнулась вполне
выразительно, без скидки на присутствие гостя, очень бы¬
стро вымыла стол, положила на него яркую салфетку и
изящную вазу с веткой ковыля, которые были отставлены
на подоконник, видимо, молодым и порывистым народом,
жившим тут без нее. Ольга в кухне с тряпкой, веником,
чайником была быстра, но не суетлива, и если это слово во¬
обще применимо к женщине при исполнении хозяйствен¬
ных работ, она тут была куда элегантней, чем в самолете, а
про то, что она была сексуальней, и говорить нечего: чалма
цвета каротели просто ушибла впечатлительного человека
Илью Петровича.
141
Но Ольга же и осторожила его. Этой даме, понял он,
ключами перед носом не зазвенишь, и на диван с примятой
подушкой ее не потянешь.
— Невыразимая сила веника, — сказал вслух Илья
Петрович.
Ольга выпрямилась перед ним и посмотрела на него
гневно. Со злостью, сказать было бы мало.
— Вам это все идет делать, — уточнил Илья Петро¬
вич, разводя руками: мол, делать это все, кухонное.
— А вашей жене? — спросила Ольга. — Вашей
жене это идет?
Для Ильи Петровича это был лишний и даже, можно
сказать, бестактный вопрос.
Все многочисленные случайные и редкие не случайные
женщины как-то сговорились не спрашивать у него про
жену. Одна, правда, спросила, как, мол, Катя относится
«к твоему кобелизму». Это была не случайная женщина, а,
можно сказать, друг дома, и Илья Петрович тогда просто
вышел из себя. Он проорал что-то умное про мух и котле¬
ты, которым надлежит существовать по отдельности, и той,
не случайной, надо было бы замолкнуть, а она возьми и по¬
дыми с подушки свое большое и белое лицо, первоначаль¬
ный предмет его вожделения. Илье Петровичу безумно хо¬
телось взять лицо руками и мять его, и умять, мять и умять
до какой-то только ему известной, страстно желанной фор¬
мы. Вот тут, после лишнего вопроса, он это и сделал, за что
получил такой поддых, что минут десять откашливался и
готов был уже уйти восвояси, но дама попросила у него
прощения, объяснив свою резкость тем, что терпеть не мо¬
жет, когда ее трогают за лицо. Даже собственные малые
дети. Она, дурашка, так и не поняла причины прерванности
романа, и Илья Петрович даже одно время боялся, что она
от обиды на него ляпнет что-нибудь Кате. Слава богу, их,
военных, перевели на Дальний Восток, по этому случаю
была гулянка, и он, столкнувшись с бывшей дамой сердца,
сказал ей:
142
— Ну дай мне, дай мне еще раз потрогать твое лицо.
Ну стерпи секунду.
Странно, но она согласилась. И он взял в руки лицо,
взял нежно, в раме его пальцев глупо торчал нос с излишне
вычурными для русской женщины ноздрями, сближенные
глаза были глупыми, и в них почему-то светился страх.
Лицо хотелось уничтожить, но Илья Петрович умел вла¬
деть собой, он тяжело вздохнул от невозможности желан¬
ного разрушения и отпустил женщину.
— Фу! — сказала она. — Еще чуть, и я бы тебе дви¬
нула промеж ног.
Вот какая история ясно и мгновенно пронеслась перед
Ильей Петровичем, когда Ольга задала ему неправильный
вопрос о его жене.
— Моя жена... — ответил он. — Она хороший чело¬
век.
Ольга зашлась от смеха, потом дружески похлопала
Илью Петровича по плечу и сказала:
— Правильный ответ, дорогой товарищ! Так всегда и
отвечайте.
Он не обиделся. Наоборот, стало как-то даже хорошо и
просто.
Кофе он попьет. Ключами не воспользуется. Но, в об¬
щем, что-то в этой «неистории» есть. Он еще не знает что,
но есть. Это блестящее от крема лицо, чалма, движение по
кухне. Он как бы начал смотреть кино, а телевизор возьми
и сломайся. Обидно, конечно, зато какая удача для фанта¬
зии.
Они пили кофе и вспоминали Париж. Ольга рассказала
ему про араба, живущего за счет русской бабы, абсолютно
счастливой таким раскладом судьбы. Илья Петрович
вспомнил другое: у него есть в Париже приятель, наш, рус¬
ский, он работал где ни попадя, мечтая хорошо выдать за¬
муж свою жену, которая корпела в Люберцах на какой-то
совершенно неприличной работе — не то библиотекарем,
не то смотрителем захолустного музея-квартиры. Приятель
143
вызывал жену в Париж как сестру. И все норовил ее под¬
сунуть кому-нибудь в койку. Галка его так измаялась в сво¬
их Люберцах, что была согласна на все. Но желающих
«русского» не было. В конце концов он с женой порвал
окончательно, и с того момента у нее пошла сразу пруха.
Она написала какой-то роман с привидениями (девушка
оказалась образованной и начитанной) и стала издаваться
как оглашенная.
— Как ее фамилия? — спросила Ольга.
Илья Петрович назвал. Ольга видела книжки этой пи¬
сательницы, женщины неудачливой во Франции, но удач¬
ливой на прилавке.
— Ну ладно, — сказал Илья Петрович. — Я вас
задержал. Вам уже пора.
— Да ладно вам, — ответила Ольга. — Сегодня у
меня дела не будет.
То, что было потом, делом как-то называть не принято.
Другие тому определения. И зря. Илье Петровичу, снача¬
ла возбужденному, а потом сбитому с толку, а потом опять
срубленному чалмой и снова поверженному до уровня дру¬
жеской беседы, пришлось очень и очень сконцентрировать¬
ся, чтоб не упасть лицом в чистое белье, которое они вместе
в четыре руки стелили на разложенном диване.
— Да можно и так! — простодушно сказал Илья
Петрович.
— Еще чего? Мы что, малолетки?
Им было хорошо. Получилось, что все предыдущее —
Ольгина ночь, и его внутренние развороты туда-сюда, и
это хлопанье простыней — вызвало в них чувство почти
семейной устойчивой и давней связи. Будто с молодых лет
у них было и было, шло и шло.
У Ольги давно не было так покойно на душе. Илья мно¬
го ездил. Бывало, он из командировки сразу приезжал к
ней, и они жили несколько дней вполне семейно. Они не
таились от Маньки. Та, как ни странно, вовсю училась в
144
последнем классе, Вовка ее с горизонта исчез. Ольга не
знала, хорошо это или плохо. Видимо, не плохо, иначе
Манька бы страдала. Ольга решила привести в порядок ту
уже старую сдаваемую квартиру, чтоб дочь после школы
съехала сразу и начинала жить своей жизнью. Возник ре¬
монтник, во время их договора вошла Манька. Но это еще
ничего не значило.
— Ты на него рассчитываешь? — спросила Манька у
матери. — На Илью? Чтоб долго и счастливо?
— С чего ты взяла? — ответила Ольга.
Но Манька попала в точку. Мать именно на это и рас¬
считывала. Она стала больше бывать дома, бизнес ее шел
ровно и спокойно, она не хватала, как говорится, ртом и
ж... Отделит Маньку, выдаст замуж — и будет жить
скромно, но хорошо. И сделает так, чтоб Илья ушел от
своей жены, хорошего человека. Она съездила в поликли¬
нику, где та работала рентгенологом. По дороге туда ее му¬
чила смутная мысль не мысль, так, беспокойство. Потом
дошло. У нее уже так было. Давным-давно она уже ходила
смотреть чью-то жену. То, что не сразу вспомнилось чью,
снова вызвало беспокойство: она что — склеротичка? Но
потом так ясно увидела жену Федора. Господи, сколько же
лет тому назад это было? И вот она опять идет по тому же
делу. Ну так не ходи! — закричала она себе. Но как же не
ходить, если уже пришла? Дождалась, когда жена Ильи
выйдет в коридор, щурясь после темной комнаты. Жена
ненавидяще посмотрела на Ольгу.
— Вы записаны?
— Нет-нет... Я просто сижу, — ответила Ольга.
Жена ушла, но потом по дороге почему-то обернулась и
еще раз посмотрела на Ольгу. «Теперь запомнила, — по¬
думала та. — Ну и на здоровье».
Уже по дороге домой пришла мысль. Трезвая такая
мыслишка. Из умных. Что жена Ильи много ее моложе.
Лучше сложена. Что у нее интеллигентное лицо. Послед¬
нее Ольга очень ценила и всеми силами боролась с соб-
145
ственной нет-нет да проявляющейся с возрастом простова¬
тостью. Ей ведь не дай бог не приподнять на темечке воло¬
сы, не дай бог стянуть шею водолазкой. И уши ей надо
открывать, оттягивая мочки тяжелыми серьгами. Так она
борется с лицом, которое «за три рубля». Есть женщины с
породистой данностью. Ольга понимает: это лучше красо¬
ты. Поэтому приходится порабощать природу. Укрощенная
по-мичурински, она вполне сходит за ценный товар.
Илья слинял как-то незаметно. Не грубо, не раз-раз...
А с легкой постепенностью, которую, если у тебя голова
забита другими делами, вполне можно было бы не заме¬
тить... Уже вернулся с бегов Вовка, а у Маньки — ремонт¬
ник. Оглянуться не успели, как она окончила первый курс
филфака, абсолютно непонятный для Ольги выбор, а ре¬
монтник стал господином Левашовым и стал ездить на
джипе, летом они вместе укатили в Грецию и там обвенча¬
лись. И тут Ольга вдруг скумекала, что она уже куда
больше Пенелопа (в связи с Ильей), чем хотелось бы по
определению. Она позвонила ему на работу, ей сказали, что
он в командировке в Польше, а был разговор, что если ког¬
да туда поедет, то непременно выполнит одно Ольгино по¬
ручение... Правда, разговор был давний и между прочим...
Но все-таки стало неприятно.
После того посещения поликлиники, когда Ольга уви¬
дела жену Ильи, она не была уверена, что ей стоит делать
на него ставку. «За таких держатся», — подумала Оль¬
га, имея в виду жену Ильи. Каких таких, сформулировать
было трудно. Илья никогда не говорил о семье, хотя о чем
они только не говорили. А о Кулибине он знал просто все
в подробностях, вплоть до выпирающего зуба. И все-
таки расчет оставался. Расчет на случай, коими жизнь
наша проложена, как бьющаяся посуда бумагой в таре.
Мы все живем «в случаях», и совершенная дурь рассчи¬
тывать на полную сохранность посуды. Всегда есть мо¬
мент «боя».
146
Я невольно сыграла дурную роль в этой истории.
Я рассказала Ольге «историю из жизни».
Мой двоюродный брат, зануда, каких мало, женившись
тем не менее по страсти, поставил и фигурально, и прямо
между женой и миром железную, с металлическими крест-
накрест перехлестами дверь — на всякий там возможный,
гипотетический блуд, потому как единственная для себя
женщина была взята с ребенком. И моего брата беспокои¬
ла мысль, что если увести из стойла мог он... Бывают такие
вывороченные наизнанку умы.
Так вот, его, дурака, срубили под самый корешок. Он
ехал по делам в Питер с лаборанткой. Она сама пришла к
нему на верхнюю полку. «Не сбросишь же?» — сказала.
Потом был звонок жене, та закричала не своим голосом,
схватила дитя, и хотя на дверях был железный пере¬
хлест — только ее и видели.
— Это идея, — сказала Ольга.
— Это примитивная идея, — ответила я. — Для от¬
мороженных идиотов типа моего брата.
— Не скажи, — засмеялась она. — Есть тип лично¬
сти, для которого это самое оно.
Потом я поняла, что имелся в виду тип личности жены
Ильи. Щурящаяся на свет интеллигентка с высоким по¬
родистым станом тоже должна была вскрикнуть и убе¬
жать.
— Гордячек надо брать голыми руками, — сказала
вдруг Ольга. А я соображала все еще про жену брата, за¬
комплексованную и, между прочим, верующую — ну со¬
всем другой тип личности.
Потом... Потом... До меня дошло: та Ольга, что хотела
брать «гордячек голыми руками», стала уже другой жен¬
щиной. Привычная мне Ольга, как бы ни колошматила ее
жизнь, всегда была, ну, скажем, достаточно смиренна к об¬
стоятельствам судьбы и снисходительна к людям в этих об¬
стоятельствах.
147
Новая Ольга уже сдала на значок ГТО и была готова к
стрельбе по цели. То, что у нее ничего не вышло, было зна¬
ком, которого ни она не разгадала, ни я. А я ведь давно
пристально вглядывалась в ее жизнь, даже ощупывала то,
что не давалось в понимание глазу. Однажды она сказала,
что специально для меня «притырила» костюмчик для низ¬
корослой леди с проблемами веса. Я поехала к ней, нака¬
нуне у нее был Илья, его шелковый халат висел в ванной.
Я не удержалась, взяла его в руки. Знаете, как иногда не¬
что отскакивает от тебя, как чуждое: откроешь куда-то
дверь — и тут же хочется выйти, познакомишься с челове¬
ком — и бежишь исчезнуть, начинаешь читать книжку, а
она не просто не твоя с первой страницы — она не твоя
расположением слов в первом предложении. И это не воп¬
рос хорошего там или плохого, не вопрос вкуса, это иное.
Не твое. Так вот, мужской халат... Мне он был безразличен
или, скажем, нейтрален. Меня он не отторгал, хотя сроду в
моей ванной не висело ничего подобного. Но почему-то я
подумала, что Ольга купила не то своему хахалю, пардон,
бойфренду, что деньги задурили ей голову, а эти идиоты
мужики сроду не требовали женскими щедротами и даже
более того... Принимали их с детской жадностью.
Вошла и поселилась мысль о несовпадении. Костюмчик
для леди с несовременной фигурой был вполне хорош, но
именно потому, что было подчеркнуто, как он подойдет
именно мне, фигуристой не по нынешним временам, я его,
костюмчик, отпихнула ногой. Сама о себе я могу думать что
угодно, но, будьте любезны, остальные принимайте меня за
современно длинноноговытянутую, ни меньше ни больше,
если хотите иметь со мной дело. У каждого свои коники.
Такого слова ни в одном моем словаре не оказалось. По¬
смотрела. Но, ей-богу, оно не придумано. Это фокус, при¬
чуда...
Так вот, костюмчик я отвергла по причине своих причуд
(коников), взяла что-то совсем другое, вязаное и немодное,
и, видимо, из внутреннего моего раздражения выползли
148
слова, что нечего, мол, мужиков баловать дорогим и вооб¬
ще это не ее, Ольгин, стиль: бахрома, кисти и прочие при¬
чиндалы. Ждала ядовитого отпора, но она махнула рукой:
— Да знаю!
Время шло. Илья не появлялся. Как в воду канул.
Зато на ровном месте снова возник
Тамбулов
Он позвонил в дверь без всякой предварительной дого¬
воренности, а было это глубокой ночью... Что должна была
делать Ольга? Она испуганно сжалась в кровати и решила
на звонок не отвечать.
Но звонили настойчиво, так, что услышали соседи, они-
то и вышли, и соседка кричала: «Оля! Ты дома? Ты дома?
К тебе человек, Тамбулов. Ты его знаешь?»
«Знаю, но знать не хочу!» — подумала Ольга, идя к
двери. И открыла ее — ведьма ведьмой.
Тамбулов извиняться не стал. Он вел себя так, будто
ему рады, будто ему открыли на первый стук и не он вспо¬
лошил лестничную клетку. Такое умение держаться в рам¬
ках собственного сценария — прилетел, пришел, все
рады — сбило с толку Ольгину злость, которая уже впол¬
не оформилась в яркие слова, и всего делов — открой рот
и выпусти их. Но...
— Надо было позвонить, — только и сказала она
ему, по автоматизму гостеприимства включая чайник.
— Дочь не разбудил? — вдруг будто спохватился
Тамбулов, выходя из ванной.
— Она живет отдельно, — ответила Ольга.
— Класс! — сказал Тамбулов. — Тогда будем гу¬
лять.
Он достал бутылку коньяка, коробку конфет, орешки,
все это круглосуточно продавалось на углу Ольгиного дома,
149
поэтому ценности, кроме номинальной, дары не имели. Бо¬
лее того, Ольга знала, что коньяк этот, увешанный звезда¬
ми, — клоповья морилка, в округе это знали все, его дер¬
жали в расчете на такого вот ночного дурака. Конфеты
тоже были под стать —- дрек.
— А если бы меня не было дома? — спросила Оль¬
га. — Вы об этом подумали?
— Подумали, — засмеялся Тамбулов. — Таксист
меня должен был ждать ровно десять минут. Почему я и
был так настойчив... Куда-нибудь катанул...
— Куда? — Какой правды она добивалась, Ольга не
знала сама. Но как-то очень вживе представила себе, что
этот клоповный коньяк и гнусные конфеты могли сейчас
быть развернуты на другом столе, третьем, четвертом...
Конечно, можно пилюлю подсластить: начал-то он с нее...
Хотя откуда она знает?
Оказалось, это еще не все. Тамбулов взял ее в охапку и
сказал, что воспоминания об этой кухне у него наи... наи...
Поэтому не надо задавать глупых вопросов, куда и зачем...
Он здесь и тут.
— Идите к черту! — закричала она, вырываясь из
рук. — Это я решаю — здесь или там и с кем!
То, как он мгновенно отстал, было по-своему оскорби¬
тельно.
— Пардон, мадам, — сказал он. — Как говорится,
дело хозяйское.
Потом он долго читал перед сном, Ольга видела свет в
щели над дверью, он ее раздражал, как и скрип дивана в
соседней комнате и то, как громко там прочищался нос.
Ольга думала, какое это все свинство — явление Тамбуло-
ва и расчет на ее полную готовность. Но в какой-то момент
вдруг пришло сожаление об отсутствии у нее такой готов¬
ности, она затормозила на этом и вернулась к мысли о муж¬
чине навсегда у но как можно ставить этот вопрос, когда
тебе уже немало лет и любой «гипотетический навсегда» к
этому моменту уже есть чей-то навсегда, а значит, не то, не
150
то... Дважды там или трижды навсегда не бывает. Это ре-
никса. Чухня, фигня. Хотя разве не случается такое? Оль¬
га снова стала думать об Илье, о том, как все было хорошо,
а вот не заметила, как он был, был — и куда-то делся.
Утром Тамбулов встал рано, стопочкой сложил исполь¬
зованное белье, пришлось Ольге тоже встать, куда де¬
нешься, он уже стоял в коридоре, одетый на выход...
— Ни чаю? Ни кофе? — спросила она.
— Да нет, спасибо, — ответил он. — Мне надо ус¬
петь на электричку.
Ей хотелось сказать, что по утрам электрички ходят хо¬
рошо, мол, десять — пятнадцать минут роли не играют, но
получилось бы, что она его придерживает, а с какой стати?
— Ну, будьте! — сказал Тамбулов вполне благодар¬
ным голосом и чуть приостановился у порога, явно затруд¬
няясь с жестами: помахать ли там ей рукой, или поцеловать
ей же руку, или, как у нас принято, крепко ее пожать.
А может, дело было не в жестах, а в чем-то другом, может,
он хотел забрать непочатый коньяк или извиниться за вче¬
рашний нахрап?
— Ну, будьте! — повторил он без всяких жестов.
— Буду! — ответила Ольга, закрывая дверь.
Она долго стояла под душем, и ей все время казалось,
что звонит телефон. Но она знала, что это не так. Никто не
звонит. Просто у нее такая мания — слышать под душем
несуществующий звонок. Потом она пила кофе, отмечая
громкость собственных глотков. На подоконнике лежала
газета, оставленная Тамбуловым. Газета всяких объявле¬
ний, которых сейчас уйма и которых она не читает. Хотела
выбросить сразу, но газета была открыта на полосе брач¬
ных объявлений. Улыбающиеся иностранцы манили рус¬
ских женщин спортивными успехами, здоровым образом
жизни, любовью к животным и классической музыке. Ду¬
малось: с какой стати эти вполне кондиционные с виду му¬
жики — если они такие на самом деле — пользуются
этим не самым, скажем, элегантным способом приобрести
151
жену? Какой подвох скрывают вполне респектабельные
описания собственной номенклатуры? Не могло его не
быть, подвоха, хитрости заманить русскую дуру на нажив¬
ку, которая наверняка должна оказаться если не дохлой во¬
обще, то уж бракованной точно. «Господин возраста мудро¬
сти, вполне обеспеченный, ищет для серьезных намерений
русскую даму от сорока до пятидесяти из хорошего рода».
«Господи, — подумала Ольга, — какая ему разница,
какого она рода, если он уже в возрасте мудрости? Прого¬
ворился старик, проговорился... Нету у него мудрости. Ему
бы хорошую деревенскую бабу, чтоб мыла его и пеленала,
чтоб ложилась рядом теплым телом и пела ему «баюшки»...
Там, что ли, нет таких?» Но что-то зацепило ее в этом
объявлении. Хороший род. Это были слова какой-то дру¬
гой жизни, с другими правилами, другим порядком вещей.
Еще когда был жив отец, в доме возникали разговоры о не¬
ких родственниках, которые жили где-то в Краснодаре и с
которыми «не дай бог...». Так говорила мама, а папа терял¬
ся и как-то неумеючи сердился, говоря, что и среди знат¬
ных людей были всякие, а «Зося и Муся» вообще давно
нищие, много ли заработаешь в глуши уроками музыки
Муси, если учесть, что Зося — человек неполноценный.
Потом была фотография. Изысканно одетые взрослые и
трое детей в белоснежном. Младенец на коленях — это
папа Ольги. А две девчушки — Зося и Муся. Зося была
низкорослой и как бы бесшеей, и мама как-то удовлетво¬
ренно сказала Ольге: «Она горбунья». Видела ли Ольга
эти фотографии после смерти папы? Или те исчезли еще
раньше — когда они первыми покидали коммуналку? Но
разве она думала тогда об этом? Зачем они были нужны ей,
если это огорчало папу, если он то ли боялся, то ли стеснял¬
ся каких-то там родственников. Куда как проще было с ма¬
мой, дочерью и внучкой потомственных рабочих. Они-то ви¬
сели на стене открыто — дедушка и бабушка пролетарии,
хотя в отдельной квартире и их портреты уже были куда-то
спрятаны и за все время Ольге ни разу не попадались.
152
И тут на нее как нашло. У нее в квартире волею строи¬
тельных поворотов оказалась в коридоре ниша. Еще папа
разделил ее на две части и заделал двумя дверцами. За
нижней скрывалось все уборочно-помойное, а за верхней
стояли старые коробки и чемоданы. Ольга говорила:
«Уедет Манька, сделаю ремонт, распатроню нишу и уста¬
новлю в ней зеркало».
Сейчас же она тащила себе на голову чемоданы и ящи¬
ки, и на нее свалилась сбитая в комки шерстяная пыль вре¬
мени, хоть запускай веретено.
Оказывается, ничего никуда не делось. Первыми на¬
шлись бабушка и дедушка хорошего маминого происхожде¬
ния. Ольга с удивлением обнаружила, что Манька — одно
лицо со своей простоватой прабабкой. Просто невероятно,
что так бывает. Если учесть, что ни мама, ни она не имели с
ней ничего общего, то можно только развести руками над
удивительностью генетического кода, который с полным
соблюдением тайны творит свое темное дело наследия — и
ничего ты с ним не поделаешь и никогда его не предотвра¬
тишь. И проявилось это сейчас, в детстве Маньку считали
похожей на Кулибина. Глупости, никакого Кулибина и
близко не было, одна прабабка с тяжеловатым взглядом
широко поставленных глаз, как бы назначенных лучше ви¬
деть левые и правые просторы. Вообще в ящцках и чемода¬
нах была одна труха. Ее, Ольгины, куклы, стянутые резин¬
кой платежки, детские книжки-раскладки, заварные чай¬
ники без крышек и крышки сами по себе. А потом нашелся
старый сломанный альбом, практически пустой, но вот та
семейная фотография, где папа в белом, младенец, была.
Двадцать четвертый год. Сохранилась и отдельно фотогра¬
фия Муси, перед самой войной. «Дорогому брату от Муси.
Май 41 года». Следов Зоей не нашлось. Да и то! Станет ли
себя оставлять на память горбунья?
Больше ничего интересного не было. Никаких под¬
тверждений жизни сестер после войны, хотя ведь помнился
153
этот разговор об учительствовании. Значит, родители что-
то знали?
Ольга вглядывалась в лицо тетки. Нет, оно не прояви¬
лось ни в ней, ни в дочери. Совершенно отдельное лицо.
Было ли у этого лица продолжение? Как знать, может, где-
то живет родственник с ее, Ольгиной, родинкой под лопат¬
кой? Ничего не узнать, ничего...
Она взяла фотографии, все остальное грубо затолкала за
дверцу. Пока толкала, порушила глубинный слой этой семей¬
ной могилы, откуда-то сверху как-то лениво сполз риди¬
кюль. «Вот это да!» — подумала Ольга, забыв обо всем и
отдавая должное только этой роскошной старинной вещи, в
чем она знала толк. Он был вполне сохранен, этот ридикюль
с перламутровыми обхватами и изящным золотым шитьем по
вишневому бархату. В седине пыли он гляделся даже доро¬
же и знатнее. Рыская по комиссионкам, Ольга давно научи¬
лась определять ценность старых вещей по приглушенности
цвета, по этой «патине времени», которая и есть главное для
ловцов. Потому как очисти, отполируй — и вещи может не
стать. Время — самая изысканная штука, на него даже ду¬
нуть страшно, и Ольга не дула, она несла на вытянутых ру¬
ках ридикюль, думая о странностях наших порывов. Какого
черта полезла она в эту нишу? Что ее толкнуло? Она не по¬
мнила. Она раскрыла ридикюль.
Там было несколько писем из Краснодарского края.
В одном из них Муся сообщала, что «папу и маму по¬
смертно реабилитировали, но что с того? Как будто мы не
знали, что они ни в чем не виноваты? Хотя ты (имелся в
виду Ольгин отец) считал иначе. Тебе должно стать горько,
но я не буду тебя утешать... Ты должен прожить свою муку
сполна... Хотя, может, я, как всегда, преувеличиваю поло¬
жительную роль человеческого стыда...».
Видимо, отец ответил на это письмо. Судя по всейу, от¬
ветил глупо.
«Я не буду считать заводы, фабрики... — писала
Муся. — И даже победу, о которой ты пишешь так вы-
154
сокохудожественно, тоже считать не буду. Разве не мы
напали на финнов? У нас были хорошие мама и папа, и их
убили, как зверей. Тысяча заводов мне этого не оправда¬
ет. ..»
В последнем письме Муся писала, что «немножко боль¬
ше стало желающих учить детей музыке. Такие они стран¬
ные, эти дети. Они не слышат того, что играют. Мы бы хоте¬
ли с Зосей посмотреть на твою дочь. На фотографии она на
тебя совсем не похожа. Мы с Зосей часто разговариваем,
что будет со всеми этими детьми и твоей Олей потом. Поче¬
му-то их жалко. Им уже приготовлена плохая жизнь».
Были в ридикюле письма и от неизвестных Ольге лю¬
дей. Одно вообще странное, без конверта, без начала:
«...ли. Думаешь, все идет как надо, а оно возьми и встань
на голову. Конечно, в Москве все иначе, там у вас продают
макароны, но не в еде дело!!! Я питаюсь мелко. Но когда
живешь и ждешь, что может случиться любой бабах, то уже
нервы на концах истрепаны... Вы верите в коммунизм в
восьмидесятом? Я — нет... И хорошо, что не доживу до
этого года, мне ихнего не надо... Но в Москве все иначе,
вы там как Бог на небе, ничего не знаете, у вас макароны, а
мы так и ждем, так и ждем... Имею в виду плохого... Пере¬
числить хо...»
Буквы в письме — как спятивший табун. То все врозь,
то так сцеплены лбами, рогами, что не разорвать. И все
крупно, крупно, не письмо, а наскальная живопись.
Почему она, Ольга, не знала, не ведала ничего про ро¬
дительский мир? Это ее личное свойство — или так у всех
и родительская жизнь воспринимается детьми только с
точки зрения твоей, собственной? Она как бы прикладная,
она не сама по себе. Разве ее Маньку интересуют ее, Оль¬
гины, дела? Ее вот эти самые мысли врасплох, ее смятение,
все то, что, собственно, и составляет ее, Ольгу? А что ее
составляет?
/ Когда она потом начала этот разговор со мной, мне хо¬
телось послать ее к черту. Мне давно была в тягость ее ма-
155
нера предлагать мне обстоятельства своей жизни, небреж¬
но сбрасывая со счетов меня саму с моими обстоятельства¬
ми. То мое давнее любопытство к ней как к некой диковин¬
ке (по сравнению с собой) закончилось уже много лет тому.
Осталось только удивление этой беспардонностью перед
моей закрытой дверью. Вот она вошла. Вот села, закинув
красивую ногу, в самой что ни на есть эстетически рекомен¬
дованной позе. Вот она смотрит на меня ловко подкрашен¬
ными глазами, отмечая и мой затрапезный вид, и непорядок
на моем письменном столе, а значит, я только что из-за
него, и пыль на моем «антиквариате» семидесятых годов,
зеркально полированном, а потому так разоблачающем его
хозяйку, не удосужившуюся взять тряпку, и прочее, и про¬
чее... Я давно знаю этот ее цепкий взгляд налетчицы, ко¬
торой в секунду надо вычленить главное и самое ценное.
Выясняется — самое ценное в моем доме я сама. И она
останавливает свой взгляд на мне. Я выше моего дээспэш-
ного барахла. Во мне хотя бы кровь.
В три нитки идет вязь ее рассказа. Престарелый госпо¬
дин из Франции. Некоторая обнаруженная изысканность в
ее происхождении. (Дворяне, расстрелы, учительницы му¬
зыки и горбунья, как известно, горбун — к счастью.)
И тема возможной жизни в стране, где на голову не может
случиться любой «бабах».
— Чего ты боишься? — спросила я. — Потерять
цацки, цену которых у нас все равно никто еще понимать не
научился? У тебя же, по большому счету, ничего нет. Ни
дачи, ни машины. У тебя есть день на завтрашний и после¬
завтрашний день, а на три дня вперед у нас лучше вообще
не думать...
— Вот! Вот! — радостно ответила она. — Я про то же.
Я смотаюсь к этому престарелому.
— А Илья?
Так случалось не раз, что я застревала на уровне Ольги¬
ных позапрошлых мужчин, а Илья для меня был вообще
вчерашний.
156
— Несчитово, — ответила Ольга. — То есть я еще
не знаю точно. Может, он из командировок не вылезает.
Но что стоит в наше время слетать в Париж? Я даже не
так сделаю. Я еще заеду в Варшаву, надо с ними завязы¬
вать... А потом... Красиво так... Наведаюсь к «жениху»...
Ты как считаешь, идет мне этот оттенок волос или лучше
носить свои?
Смешно меня спрашивать. Скажи я ей, что мне нрави¬
лись ее настоящие волосы густого каштанового цвета, то
куда девать последний десяток лет, когда она каждый раз
была разная, и мне это тоже нравилось, и много раз я была
сама почти готова на нечто большее, чем простое подкра¬
шивание седины, но в последнюю минуту пугалась каких-
то странных, в сущности, иррациональных вещей... Не уй¬
дет ли с цветом волос что-то необычайно важное, чего я не
замечаю, имея, и могу осознать, только утратив? Я масте¬
рица усложнять вещи простые. Я выгибаю стенки рисо¬
ванных мной квадратов, но меня тут же раздражают и по¬
лучающиеся многоугольники. Я вытягиваю их до круга и
корчусь от отвращения. Мое любимое тело (или не
тело?) — лента Мёбиуса, самое странное из простейших
творений и самое простое из странных. Но поди ж ты! Ка¬
кой захлеб от путешествия по ленте без верха и низа.
Это не к тому, что на простой вопрос о том, как выкра¬
сить волосы, я нагромождаю нечто совсем другое: ты мне
про чепуху, а я тебе про ленту Мёбиуса. Хотя да, так имен¬
но и получается. Я противопоставляю. Я защищаю несча¬
стным Мёбиусом право на незыблемость жизни со старой
мебелью и полным отсутствием необходимости искать же¬
ниха в Париже. В этот злосчастный день у меня не хва¬
тило ума не противопоставлять и сравнивать, а просто,
выслушав, понять Ольгу — или не понять, но хотя бы
сделать вид. Что бы стоило мне сказать: «Ты хороша в лег¬
кой рыжине...» Я же сказала другое:
— Дойти до брачных объявлений — ну знаешь...
— Я не дошла. Тамбулов оставил газету на подоконнике.
157
— У тебя был Тамбулов?
— Он просто переночевал, хотя поползновения были...
Именно с этого все и пошло. Понимаешь, хочу мужчину
навсегда... А мне все попадаются какие-то недотыкомки...
— Это Тамбулов? Членкор? Это Илья? Международ¬
ник? Просто у них терпеливые бабы... Они прошли с ними
путь от начала...
— А я что? Не прошла путь с Кулибиным?.. Его со¬
кратили за ненадобностью... И это я ему и его бабе помо¬
гала с квартирой... Заслужила я Париж или нет?
Она смеялась мне в лицо, но в глубине ее глаз стыла то
ли боль, то ли обида то ли на меня, то ли на Кулибина.
И я не любила ее в этот момент. Она меня раздражала.
Как потом выяснилось, чемодан с уголочками для легко
путешествующей леди она купила, выйдя от меня.
Садовник Базиль
Красивыми буквами Ванда написала ей французский
адрес. Уже своим почерком и нашими буквами Ольга изоб¬
разила несколько первых фраз. «А потом — как будет...»
Было ощущение легкой тревоги, но и легкой радости тоже.
Обратный билет у нее в кармане, деньги есть, если претен¬
дент не захочет почему-либо принять даму с порога, она
засмеется и уедет на первом же такси. В конце концов,
каждая авантюра должна подразумевать плохой конец.
Она его тоже подразумевает. Она так давно живет на этом
свете.
И все шло как по писаному. Она вышла возле решетча¬
тых ворот с пуговкой звонка. Она позвонила.
И ей открыли.
Сверяясь с бумажкой, она произнесла эту фразу, кото¬
рая объясняла, кто она и зачем.
— Адрес правилен, — ответил ей, как она думала —
боже мой! — дворецкий или там слуга в босоножках на
158
босу ногу и в старых, но хорошего качества джинсах. —
Но ведь не было уговора приезжать без объявления вой¬
ны? Или?
Тут надо сказать, что русский, с хрипотцой, голос в мо¬
мент готовности Ольги к французской речи вдруг оказался
ей непонятен: она как бы не узнала его на слух.
— Заходите! — сказал этот предположительный слу¬
га, говорящий на странном, почему-то знакомом языке.
По тропинке, которой они шли, чемодан-люкс на коле¬
сиках не катился. Но идущий впереди мужчина никакого не
то что интереса помочь, а, казалось, даже крупиц знания,
что так полагается, не имел. Именно в этот момент — мо¬
мент волочения чемодана — произошло сложение кубиков
в узор.
Значит, она ехала-переехала несколько границ с бумаж¬
кой французской речи, а попала на тропу, где впереди идет
совершенно русское мурло, она тащит за ним свои вещи,
дом же остается резко справа, а ее вводят в эдакий плоско-
верхий сарай, на дверях которого висит забубенная зана¬
веска-кольчужка, пятьдесят тысяч рублей на любом мо¬
сковском базаре, еще и скинут тысчонок пять, если про¬
явить интерес к лежалому товару.
В домике было вполне опрятно, работал маленький те¬
левизор, на столе стояла чашка с недопитым кофе.
— Объясняю, — сказал мужчина, сев за стол и вы¬
пив одним глотком кофе. — Я садовник. Зовут Василий
Иванович. По-тутошнему — Базиль. Беженец. Живу на
птичьих правах. Хозяин мой... О господи! Его нету сейчас
дома, он гостит в Испании у сестры. И вообще он никого
не ждет... Это моя дурная затея с объявлением. Я ни на
что не рассчитывал, просто раскинул большую сеть на слу¬
чай... Вы просто свалились первая. Он дал мне отпускные,
но, так сказать, наоборот... Это он как бы в отпуске, а мне
дополнительные деньги за присмотр. Я пустил эти деньги
на объявления, где объяснял, на что гожусь... Могу зани¬
маться физкультурой со слабенькими детьми, я сам из
159
спортсменов. Могу сторожить загородные дома, могу же¬
ниться на женщине с крупным физическим недостатком,
условно — карлице, могу не жениться, а так... Мой хозя¬
ин — старик хороший и вполне сохранный. Он давно взял
в голову все продать и уехать к сестре, а я ему пустил вошь
в голову, что ему надо жениться на русской, которая умеет
быть благодарной и до смерти его будет кормить грудью.
Он не знает русского языка, но вот это понял — кормле¬
ние грудью. Он из «Нормандии — Неман», слышали та¬
кое? Ну и его в войну кто-то хорошо грудью покормил. Ее
звали Лиза. Я ему сказал: «Этих Лиз в России...» Он так
смеялся и, уезжая, сказал: «Большая русская грудь может
победить испанский интерес. Если, конечно, хороший
род...» Та его Лиза была дочерью врача и играла на пиани¬
но пальчиком. Ну вот я и «запустил дурочку». И вы тут
как тут... Больше никаких предложений на мои объявления
не было. Мне тут надо закрепиться. У меня в России сын
маленький остался. Ему пока от меня как от козла молока.
Но главное — его надо спасти от русской армии. Конечно,
я идиот, что говорю вам всю правду... Но это всегда дешев¬
ле, чем вранье. Вы на что клюнули? Нет, он, конечно, слав¬
ный старик, хороший дом и все такое. Дом, правда, закрыт
и поставлен на охрану, он мне не до конца доверяет, что
нормально, я считаю... Но есть лаз — старик понятия о
нем не имеет — через бывший винный погреб, я могу вам
предложить экскурсию, чтоб не считалось, что даром съез¬
дили.
Все это время Ольга тупо смотрела телевизор. После
тяжелого чемодана ее как бы слегка ударило в голову, и
сейчас там сумрак и метались серые тяжелые тени. Это
было не больно, но мучительно как-то иначе.
Она смотрела на мужчину, который сидел к ней впол¬
оборота, ей казалось, что она видит вокруг его головы
эфирное тело, но потом выяснилось, что все предметы име¬
ли размытый абрис, откуда-то из памяти вылезли слова
160
«отслоение сетчатки», и ее охватил страх тяжелой болезни,
которая могла ее настичь тут, в чужом садовом домике.
Страх поднял ее с места, и она сказала, как ей казалось,
что-то важное и грубое железным голосом, а на самом деле
слова едва разжали ей губы, и она упала бы, не будь рядом
человека, который уже так много ей рассказал про себя, что
ей лучше как бы и не знать. «Как глупо», — подумала она,
теряя сознание.
Ольга увидела перед собой потолок с легким подтеком,
напоминающим туповатый Кольский полуостров с пипоч-
кой мыса Святой Нос. В школе ее глаз всегда упирался по¬
чему-то в него. «Тупорылый остров» называла она его, но
пипочка смиряла с ним, пипочку, крохотную загогулинку,
она почему-то любила. Как будто создатель, сляпав полу¬
остров кое-как, бросил напоследок завиток, чтобы тупоры¬
лому было чем гордиться.
Она повернула голову туда-сюда, голова поворачива¬
лась, и никаких эфирных тел Ольгины глаза не видели.
Она попробовала встать, но мерзкая тошнота стала поды¬
маться к горлу, и снова ее обуял ужас болезни, но в дверях
возник мужчина и с порога закричал, чтоб она лежала, что
у нее зашкалило давление, но он сделал ей укол и ей просто
надо полежать. Делов!
— А лучше усните. Или вам пи-пи? Сейчас будет хо¬
теться, потому что укол мочегонный... Скажите, я вам по¬
дам.
Видимо, на этих словах она снова потеряла сознание от
ужаса, а когда пришла в себя, то действительно очень хоте¬
ла по-маленькому. Но голова была ясной, и когда она спус¬
тила ноги на пол, уже не было этой стремительной тошно¬
ты. Ольга дошла до двери, не оскорбляя себя стоящим -
горшком, на улице был уже почти вечер, роскошный воздух
сада ворвался в легкие так нагло, что пришлось закашлять¬
ся от захлеба, и он тут же возник, мужчина, и дальше было
161
совсем невероятно: он держал ее под мышки, а она долго
писала под куст роскошных роз. Почему-то не было стыд¬
но, а было ощущение покоя и защищенности, и хотя то по¬
лушарие, которое отвечает в нас за логику и анализ, уже
прочирикало ей, что это полная чушь — защищенность,
идущая от нищего и бездомного мужика, мечтающего о сто¬
рожевой работе, но как смешны эти потуги разума дикто¬
вать там, где царствовало простое, можно даже сказать,
травяное ощущение.
Базиль-Василий рассказал ей, что ухаживать за боль¬
ными он умеет давно, его бывшая жена — хроник с младых
ногтей, а когда она мужественно, через все запреты, родила
сына, то «дух из нее практически вышел». Он, Базиль, и
хозяина пользует сам: укол, массаж, клизма — это ему за¬
просто.
— Тогда вам цены нет, — тихо сказала ему Ольга.
Это были, в сущности, первые слова, которые она ему
сказала, если не считать французского бреда при встрече.
Потом он ее кормил. Отводил в туалетный сарайчик, где
были вода, душ и все прочее. Потом он делал ей укол.
«Я знаю, так надо. Два укола, а потом перейдем на таб¬
летки».
— Где будете спать вы? — спросила Ольга, когда ее
стало клонить ко сну.
— Будете сильно смеяться, — ответил он. — Нос
вами. Диван раздвигается широко. На полу я не могу. От
земли тянет, а у меня застужены почки.
— У меня нет, — ответила Ольга. — Постелите мне
на полу.
— Бросьте, — ответил Базиль. — Двум авантюри¬
стам самое место в одной постели. У меня два хороших
толстых одеяла.
Когда она легла, он велел повернуться на живот и нежно
и сильно промассировал ей шею. Потом подушечками
пальцев потер ей кожу на голове, это было волшебное ощу-
162
щение, и она уснула, забыв обо всем. Сквозь сон она слы¬
шала, как он укладывался рядом.
Проснулась она с ощущением полного здоровья и чув¬
ством непонятной радости. Пришлось еще раз слегка при¬
щучить логическое полушарие, взбрыкнувшее умственно¬
стью. На столе стоял стакан сока и лежал завернутый кру¬
ассан.
«С добрым утром! — гласила записка. — Надеюсь
быть скоро. Повесил гамак. Покачайтесь. В холодильнике
найдете еду, если задержусь».
Ольга медленно прошлась по саду, дошла до дома, явно
старинного и требующего ухода. Окна были плотно зашто¬
рены. Если бы у нее были силы, она определенно бы влезла
на карниз и заглянула в то боковое окно, в шторах которого
была щель. Но сил не было. Почему-то подумалось, что
она, если бы захотела, все-таки могла бы стать хозяйкой
этого дома, стать «той Лизой», которая осталась в памяти
старика. Но эта мысль как пришла, так и ушла. Ну не буду
я хозяйкой этого дома. И не надо. Возвращаясь к садово¬
му домику, Ольга увидела сохнущее на веревке мужское
белье — трусы, майки, носки. Все было хорошо отстирано
и аккуратно повешено, ничего не косило, ничего не свисало
абы как. Именно так вешает белье она сама, ненавидя не¬
брежность. Как он сказал: два авантюриста в одной посте¬
ли? Она спала как убитая, она не ощущала, не помнила
мужчины рядом. И сейчас ей почему-то стало обидно за
это. «Тебе просто полегчало, сволочь...» — подумала она
о себе беззлобно и весело.
Базиля все не было. Пришлось открывать холодильник,
чтоб сделать яичницу с помидором. Потом она легла и лег¬
ко уснула, а когда проснулась, уже начало смеркаться. Ее
охватило беспокойство. Что она будет делать, не приди са¬
довник? А случись с ним что, об этом ведь можно и не
узнать. Он человек без визы. Она открыла шкаф. Доку¬
менты лежали прямо сверху на полке. Взяла серпастый и
163
молоткастый. Василий Иванович Лариков. Родился 3 фев¬
раля 1933 года. Значит, моложе ее на семь лет. В паспорте
лежала фотография худенького мальчика, очень похожего
на отца. Только улыбка была не его. Совсем другая. Ольга
даже поискала на полке фотографию той, что дала мальчи¬
ку улыбку, но близко ничего не лежало, а рыться глубоко не
хотелось. Зачем ей это? Она ведь просто должна была
узнать, что человека, который держал ее вчера над травой,
зовут Василий Иванович Лариков.
Ольга пошла к воротам. Оказывается, они были закры¬
ты. Почему-то ее это не испугало, а, наоборот, успокоило.
Он придет, раз он ее запер. И тут она увидела, что он бе¬
жит по дороге. Как долго он бежит? Она ведь не знает тут
ничего, подъехала на такси. А где здесь метро или автобус,
она без понятия.
Василий увидел ее за решеткой.
— Не сердитесь, ради бога! Вы пили таблетки?
— Какие таблетки?
— Я оставил на холодильнике! Вы не открывали холо¬
дильника? Ничего не ели?
Она просто их не заметила. А под ними бумажку:
«Примите утром и днем по две штуки».
Не заметила.
А он уже шел к ней с аппаратом, изящная (не наша)
манжетка охватывала ей руку.
— Совсем неплохо, — сказал он. — Вы днем спали?
Погуляли в саду?
— И рылась в шкафу. Теперь я знаю, что вы Лариков
Василий Иванович. Я забеспокоилась. Думала: придется
искать. Кого?
— Ну, я ваш паспорт еще вчера посмотрел, Ольга
Алексеевна. Так что мы квиты.
Он стал готовить ужин, отказавшись от ее помощи. Ей
пришлось видеть его спину, но она уже поняла: у него что-
то случилось. Напряжен. Сосредоточен.
— Мое ли дело, — сказала Ольга, — спросить, ка¬
кую мысль вы думаете?
164
ответил он.
Сейчас сядем за
— Скажу, —
стол — и скажу.
...У него все устроилось. Его берут в семью под Пари¬
жем на ферму. Хозяева не настоящие фермеры, то есть не
кормятся с этого, просто, прожив долго в Алжире, верну¬
лись в страну, и по их деньгам оказался этот сельский дом.
Хозяин имеет хорошую военную пенсию, у него жена и
парализованная дочь.
— У нее мертвые ноги от детской травмы. У отца об¬
наружился рак в последней стадии, мать — по-русски бы
сказали: недотепа. Да, с двумя больными и на самом деле
справиться трудно. Приходит женщина, но это ненадежно.
Вопрос им надо решать капитально. Нужен мужчина вмес¬
то мужчины. Не на день-два, а, как говорится, на всю ос¬
тавшуюся жизнь. Мой хозяин меня рекомендовал. Это мой
крайний случай. И, наверное, единственный.
— Вы мне вчера проговорились про карлицу. Значит,
это был не треп?.. В сущности, вы уже все знали?
— Ну да, ну да... Карлица как образ несчастья. Хотя
сегодня мне уже стыдно за это слово. Девушка вполне хо¬
рошая... С достоинством...
— Вы на ней женитесь?
— Нет. Пока нет. Пока я буду ходить за стариком и, что
называется, вести хозяйство. Если мы подойдем, притремся
друг к другу... Тогда я даже смогу забрать сына. Жюли нра¬
вится, что у меня сын. А мне нравится, что ей это нравится.
Для меня это все. Поэтому я притрусь всеми костями.
— Странноватое строительство счастья, — сказала
Ольга.
— Но ведь вы тоже тут неспроста оказались, — отве¬
тил Василий.
Потом они погуляли по ночному саду, и он вел ее под
руку, чтоб она не споткнулась на темной дороге.
Она испытывала странные ощущения, хотя какая может
быть странность в держании за локоть, если тебе не пят-
765
надцать лет? О чем это я говорю? Пятнадцатилетние хо¬
дят в крутую обнимку. Так они утверждают свое сексуаль¬
ное право, идиоты. Они думают, что это окончательная
проблема. Хотя мало ли что я думаю по этому поводу. Мо¬
жет, мне завидно, может, я совершаю редкостный опыт вы¬
саживания себя, как бы пятнадцатилетней, в тутошний
грунт, и у меня лопаются, ломаются все попытки жизни от
незнания правил. У них ведь презерватив кладется в кар¬
ман допрежь желания. А как же? — скажут вам. Не бе¬
жать же за ним, когда практически уже поздно. Действи¬
тельно. Что я молочу, старая дура! И все-таки, все-таки...
Вот шла по саду, по Парижу женщина, приехавшая с
вполне конкретной целью... Ее вел под руку мужчина, ко¬
торый прищеплял трусы на бельевой веревке так, как при¬
щепляла она.
— Было так хорошо, что хотелось плакать, потому что
у тропинки был конец. Но, знаешь, я уже знала, что у меня
будет с ним ночь... — Так она скажет мне потом, когда
вернется, когда много чего произойдет невеселого, и я
вдруг пойму, что она меня уже не раздражает, что она мне
почти родная... Хотя нет, этому неожиданно взросшему в
сердце чувству я еще буду сопротивляться.
Они пили чай с конфетами-подушечками — дешевы¬
ми, одним словом. Ольга подумала, что она не сообразила
за эти два дня предложить за еду деньги. У нее ведь были
франки, и он их видел, если смотрел ее паспорт. Ладно, не
объела!
Потом они стали укладываться спать.
— Вы ложитесь, я пока выйду, — сказал Василий.
Она залезла под свое одеяло и зажмурила глаза. Пога¬
сив свет, мужчина лег рядом. Где-то залаяла собака. Фо¬
нарь возле садового домика ехидно высветил на потолке
«мысочек Кольского полуострова». Это первое, что она
увидела, открыв глаза. Так получилось, что они оба резко
повернулись друг к другу. Она — чтобы не смотреть на
потолок, он...
166
— Я хочу тебя видеть, — сказал Василий. — Ты
спи, а я буду на тебя смотреть.
— Еще чего! — ответила она, обнимая его за
шею. — Черт знает что высветит во мне твой фонарь.
Уже потом, засыпая, Ольга подумала, что видала муж¬
чин покруче, но такого бережного и нежного у нее не было
никогда. А оказывается, именно это ей позарезу... Она
сейчас ему об этом скажет, но она не успела, уснула. Утром
она растолкала его и сказала, что у нее хватит денег, чтоб
откосить его сына от армии. У нее хватит связей, чтоб уст¬
роить его в Москве на приличную работу. Что они поже¬
нятся и будут жить как люди. Что ее сюда привело само
провидение. Париж ей на фиг, так же как и ему на фиг
«карлица».
— Ты меня понимаешь? Понимаешь? — тормошила
она его, потому что он молчал, а это было неправильно и
делало ей больно.
— Не надо волноваться, — сказал он ей.
— Тогда скажи, что мы уедем вместе.
— Сначала я померю тебе давление. — Он встал, а
она закричала дурным голосом, что не даст ему это делать,
что пусть он вернется, ляжет рядом и поймет, что с ней все
в порядке, когда он с ней и любит ее.
Он вернулся и лег. И снова она подумала, что у нее не
было такой нежной нежности. Она обхватила его так, что
стало больно самой.
— Господи! — сказала она. — Ведь не требуется ни¬
каких доказательств!
Потом они пили чай, и Ольга, сделав последний глоток
и отодвинув чашку, сказала:
— Предлагаю считать разницу в возрасте моим физи¬
ческим недостатком. Считать меня карлицей. Идет?
И они оба долго смеялись, настолько долго, что стала
ясна вся неестественность этого смеха, как и сомнитель¬
ность повода.
167
— Значит, едем вместе? — на излете смеха нервно-
оптимистично спросила Ольга. — Я тебя беру в мужья и
усыновляю твоего сына. На чем поклясться?
Он начал говорить, а она до конца жизни будет думать,
что у мужчин, и только у них, «случается заворот мозгов».
Потому что, если тебя берет замуж женщина, при чем тут
прадед, которого разрубили на куски в двадцать девятом
свои же односельчане? И эта история уже с дедом, рас¬
стрелянным в тридцать восьмом? И с отцом, которого
убил туберкулез в сорок девятом, когда он после плена по¬
пал в плохие климатические условия Севера? И при чем
тут, что он сам едва-едва не попал в Афганистан? Не попал
же, спасибо гепатиту! Били в армии? А кого не били? Это
наши народные игры от самого Микулы Селяниновича или
кто там круче всех? Подумаешь, уехал, как только нача¬
лась чеченская война, но кончилась ведь! Ну, Грозный не¬
множко похож на Сталинград — тебе-то что, черт тебя
дери? Ты на этой земле кто, Иисус Христос? Сахаров? Так
чего ты торопишься за ними, ты же знаешь, где они?
«Я спасу твоего мальчика, спасу! Дурак, это совсем недо¬
рого стоит!»
— Придут те, которые не станут брать деньги! —
сказал он. — Это будут самые страшные.
— Идиот! Таких нет!
Получалось, что они все сказали друг другу.
— Сейчас, — говорила она мне, — самое время ос¬
корбиться за отечество, а его возненавидеть. Я ведь еще
при Сталине родилась, у меня те геночкгА А потом я вдруг
так обрадовалась, что у меня Манька. А потом так испуга¬
лась за зятя. Приехала, а мы тут уже всем объявили про пер¬
вый ядерный удар. Может, мы просто Гоги-Магоги?
— А это ты откуда знаешь? — засмеялась я.
— От верблюда. Мне Ванда показала место в Библии.
Оно уже после полыни... Я его простила за отвержение.
Слышишь это слово? Оно само пришло ко мне, ночью.
Точное слово. Я отверженная, как и все мы.
168
И тут она закричала, чтоб я не говорила ей про великих
писателей, про то, что нас Бог поцеловал в лоб.
— Мы даже это сумели преодолеть. И культуру, и
Божий поцелуй, и жалость к слабому — мы все давно пе¬
реработали в жестокость! Не знаешь, на когда намечен по¬
ход на Крым и Нарву?
Потом она плакала, и ей было плохо, но это было по¬
том... Пока же она еще была в Париже, которого в этот раз
так и не видела. Даже Эйфелева башня ей на глаза не попа¬
лась. До нее ль, голубчик, было...
Дома она первым делом позвонила Маньке. Та голосом
автоответчика попросила ее оставить свой номер, чтоб мож¬
но было «отзвонить, как только, так сразу...». Ольга бросила
трубку, не назвав себя. Почему-то перед глазами стояла су¬
етливая бабулька из метро, которая все норовила разглядеть
ее юбку. Подумалось нечто благотворительное: взять бы
бабку с собой, одеть бы ее с ног до головы, дать ей шелковое
белье... Ай! Ай! Ай! Что творится со спятившими с ума мыс¬
лями людей! Ведь именно о шелковых рейтузах думала тогда
и старуха с ломаным шоколадом. О том, какие они были
широкие и красивые, хотя разглядывались в кусок отбитого,
стоящего на батарее зеркала. Она, бабулька, тогда еще почти
девчонка, откуда-то знала, что не надо смотреть в отбитый
кусок зеркала, что это плохая примета, но рейтузы перевеси¬
ли опыт жизни, затвердевший в примете. Так и получилось.
Застудила она свои потроха до стыдности. В момент мыслей
Ольги о том, как она могла бы нарядить в шелка старуху, та
как раз присела за строительным вагончиком, и хоть на нее
смотрела полная жизни девятиэтажка, ей были безразличны
люди через стекла: она стеснялась только прямых глаз. По¬
том бабулька радостно убежала, и Ольгина благотворитель¬
ная мысль иссякла, а с ней почему-то ушли все силы и при¬
шла легкая затуманенность, почти как благословение.
В больницу Ольга попала только на третий день, пото¬
му что никто ее не хватился. На автоответчике она не от-
169
метилась, мне не позвонила, ее «негры» думали, что она
все еще в Париже или Варшаве... И нашел ее не кто
иной, как Кулибин. У него еще оставались ключи, и па¬
роль «охраны» он знал. В этот раз ему надо было забрать
свои старые вещи, которые давно узлом лежали на антре¬
солях. А тут случилось, что мужа сестры уволили и он
сколотил дачную шабашку. Старье для черной работы
было ему самое то. Сестра сказала: «Забери у Ольги. За¬
чем ей дерьмо?» Конечно, была резонная мысль — Оль¬
га могла поменять ключи. Но была и еще резонней — ме¬
таллическую дверь ставили еще при нем, в его последний
месяц. Ну кто ж начнет это неподъемное дело — менять
сейфовый замок? А Ольги как раз дома нет, так ему ска¬
зала Манька. И она же подтвердила, что ключи не меня¬
лись.
— Так я схожу за узлом, — не то просил разрешения,
не то ставил дочь в известность Кулибин.
Он и нашел Ольгу, и вызвал «неотложку», и отвез в
больницу, где его спросили: «Муж?» — «Муж», — отве¬
тил Кулибин.
Потом ему сказали просто и без всяких там экивоков:
«Она умрет».
Кулибин всполошился, стал орать («Коновалы!», «Как
вас земля держит!», «Я на вас в суд!» и прочее разное),
что было выслушано совершенно равнодушно, а санитарка,
торкнув его полным судном, сказала с чувством:
— Во дурак! Тебе же легче — говно не выносить.
Она ж у тебя теперь полная кукла...
Но Кулибин замахнулся на нее так, что ему пригрози¬
ли милицией. Тогда прямо с ординаторского телефона Ку¬
либин криком вызвал дочь, зятя. Позвонил еще какому-
то Ефимычу, какому-то приятелю Женьке, еще и еще
кому-то...
В этот же день Ольгу перевезли в другую больницу, а
на следующий день ей удалили опухоль в мозгу, вполне
170
операбельную и доброкачественную. В предыдущей боль¬
нице действительно были коновалы.
Я узнала эту историю, когда из безнадежной Ольга
стала вполне удовлетворительной. Я позвонила ей, потому
что, по всем расчетам, она должна была вернуться, а труб¬
ку взял Кулибин. Он тяжело дышал, рассказывая мне все,
так как одновременно мыл и чистил квартиру. «Надо Олю
забирать, каждый день ребятам ее больница влетает в ко¬
пеечку, у нас (у нас?! — я это отметила мгновенно) деньги
есть, но они на Олю. А зять оказался добрый парень!»
Кулибин ворчал, что квартира запущена, краны текут,
шпингалеты поотлетали...
— Все белье перекипятил, — сказал он. — Все-таки
она придет после такой сложной хирургии.
Наверняка я поняла одно: Кулибин вернулся.
Через три дня я позвонила снова.
И снова мне ответил он.
— Сейчас я поднесу ей телефон, — сказал он мне.
— Привет с того света! — сказала мне Ольга, и хоть
она хорохорилась, в ее голосе , внутреннем, подспудном,
было столько боли, что я сразу подумала: все много хуже.
Этот фокус с выписыванием из больницы тяжелобольных
всем известен: больница блюдет процент смертности, на го¬
лубом глазу выпихивая завтрашних покойников.
— Приходи, поокаем, — пригласила она.
Я позвонила Маньке.
— Да нет! — сказала она. — У нее все нормально!
Спасибо папе, что он успел ее найти.
— Он там теперь живет? — спросила я.
— Такие вот крышки-кастрюли, — засмеялась Мань-
ка. — Конечно, я ни за что не поручусь за будущее, но пока
отец лучше мамы родной. А меня — уж точно. Я бы так
не сумела. С моей матушкой какое же надо иметь терпение!
К вопросу о цветах или о том, как нам не впрок изоби¬
лие. Раньше мы все подчинялись сезону. И осенние хри-
171
зантемы летом не могли возникнуть как на базаре, так и в
нашей голове. Сейчас другое. В хозотсеках вагонов и са¬
молетов нежно, лилейно, как невесты в гробу, лежат цветы
из какого-нибудь богом забытого Парагвая. Откуда знаю?
Оттуда! В подъезде сдавали квартиру сиреневатому пара¬
гвайцу с ласковой улыбкой и коварными глазами. Он дарил
детям и девушкам цветочную некондицию (лом, бой, слом
или как это называется у цветов?), но потом дармовщинку
перехватили бойкие старухи для кладбищенских букетов.
Мне нравится обилие цветов в городе. Мне только
жаль, что я перестала понимать эту трогательную род¬
ственную зависимость возникновения бутона от нещедро-
сти моего солнца и плохой погоды моей земли. Я забываю
или не успеваю порадоваться моменту рождения сирени
(надо будет поменять цвет парагвайцу, сказать, что он фио¬
летовый), хотя, в сущности, это все равно... Изобилие пе¬
репутало времена года. Цветы летают, летают себе не в мой
сезон разнообразнейшие красавцы, и я радуюсь и печалюсь
одновременно, вместо того чтобы согласно переменам жиз¬
ни покупать в любое время длинношеие розы и для них же
разверзнутые вазы.
Короче, я не знала, какие цветы любит Ольга. Боялась
попасть впросак, принеся ей многозначительные ирисы или
политически опороченные гвоздики.
Ромашки. Белые, но смелые. Не полевые, а из Голлан¬
дии. Таким был мой выход из положения.
А могла бы сообразить, что на голове у нее белый бинт,
что Кулибин отстирал белье до невозможной белизны и
лицо самой Ольги было бело-голубым.
Огромная белость, огромная белость, огромная белость
одна на двоих. В общем, две дуры заревели.
И было о чем...
Ольга до копейки, до цента отдала деньги Маньке и ее
мужу, хотя те и кричали, что им не к спеху. «Негры» за
время ее болезни встали на свои ноги, и Ольга этому обра-
172
довалась. «Ответственность за других — это уже не по
мне». Однажды призналась, что держит неприкосновенной
одну сумму прописью — на взятку в военкомат.
— Мало ли что там у него может быть? Что мы знаем
о французах, если о себе не знаем ничего.
— А Кулибина тогда куда? Об землю?
Она смотрела на меня странным таким взглядом, что я
подумала: девушка оклемывается, девушка чистит амуни¬
цию, девушка услышала зов трубы.
— Не то, — засмеялась Ольга. — Просто сидит во
мне тщеславие: откосить его мальчишку. На! — сказать
ему. Не все подонки в России. На!
«Ну-ну, — подумала я. — Ну-ну...»
Кулибин же внедрился окончательно и бесповоротно.
Он даже успел перехватить и закрепить некоторых не¬
устойчивых «негров», которых переписал из Ольгиной за¬
писной книжки в свою. «Не пропадать же делу». Ольга
помогла ему устроиться ночным охранником в чистенький и
вылизанный русско-чей-то офис. Он уходил через две ночи
на третью. Отлично там высыпался. Однажды, неся Ольге
детективы из английской жизни — других ее душа не при¬
нимала, — я увидела в скверике возле их дома, как Кули¬
бин ругался с женщиной. Мне пришлось резко свернуть,
чтоб он меня не заметил, но я хорошо слышала, как он ска¬
зал: «В конце концов, Вера! У тебя целые и руки, и ноги.
А у нее из головы вынули почти пинг-понговый шарик.
Даже звери, в конце концов...»
Простой человек Кулибин всегда имел в голове простые
звериные сравнения: «Я тебе не собака», «Я тебе не ко¬
зел». Это меня окончательно успокоило: Кулибин оставал¬
ся с Ольгой как бы надолго. Это чтобы не сказать оконча¬
тельного слова «навсегда». Ибо как его скажешь после
слов Ольги о деньгах «на откос».
У Ольги отросли волосы и встали ежиком. Сзади — де¬
вочка девочкой. Но когда она поворачивалась, в глаза броса-
173
лись стрельчатые, какие-то просто декоративные морщины,
идущие от уголков глаз. Однажды я поймала себя на том, что
хочу вытереть эти будто карандашные побеги, сделанные
вчерне для будущего уже основательного грима, который и
явит миру ту «окончательную» Ольгу, у которой сегодня
«зябнет голова и от этого синеет кончик носа».
Фу-ты ну-ты... Я на десять лет старше ее, но не обря¬
жаю же себя в «окончательную» внешность. Наоборот!
Купила гибкие бигуди, делаю локон трубочкой, а потом
долго расчесываю до прямоты. Но не все сразу, господа, не
все сразу... Может, еще и оставлю локон, а может, подарю
бигуди соседке Оксане Срачице. Не помню, говорила я или
нет, но муж ее, шофер, уехал на заработки в Германию.
К ней ходит как домой мужик из кавказцев. Он мне нра¬
вится: воспитанный, носит, подпрыгивая, Оксаниных детей
на плечах. Он здесь тоже на заработках. Дома, в разбомб¬
ленном Гудермесе, дети-воронята ходят в том, из чего вы¬
росли дети Оксаны. В свою очередь, на ее детях — какая
интересная линия судеб! — европейские шмотки, но явно
второй носки. Если вообразить себе такой наворот, что муж
немецкой женщины, с детей которой одеваются мои ма¬
ленькие соседи, из каких-то там неведомых душевных по¬
сылов вляпался в наши кавказские дела и столуется у жены
нынешнего Оксаниного «примака», то всех их вместе мож¬
но назвать всадниками Апокалипсиса, и это будет почти
понятно простому человеку. Конечно, неизвестно, станет
ли он бояться больше Апокалипсиса или, совсем наоборот,
вдохновится такого рода переселением народов, но я не¬
брежно кидаю эту в одночасье возникшую мысль. Вдруг
прорастет?
Тряхнула плечиком матушка Земля — мы и посыпа¬
лись. А ведь матушка еще только плечиком тряхнула, Вал¬
даем вздрогнула.
В сентябре, когда уже не чаяли, стало наконец жарко, и
люди, абсолютно уверенные, что если чем нас Бог обидел,
174
так это погодой, сразу стали предъявлять Ему же претен¬
зии в нервности его указаний и расположений: кидает то в
жар, то в холод! Так вот, в это дергающееся время Кулибин
отвез Ольгу в Тарасовку. Сестра его отдала Ольге комнат¬
ку с терраской и отдельным ходом, которую всегда хорошо,
выгодно сдавала, а тут: «Живи, дорогая, живи... Банька во
дворе... Набирайся сил...»
Случайно я узнала, что все это не за так... Что все за
сына, уже разучившегося ходить по прямой, которого взя¬
ли в дело Манька и ее муж, отмыли парня, отпарили, сде¬
лали пару раз ему сифонную клизму, причем делал ее сам
Ольгин зять, и не тогда, когда Витька (кулибинский пле¬
мянник) напивался до смерти и уже ничего не понимал, а
еще в присутствии у него сознания и ясности ума. Зять
Ольги всюду ходил с наконечником от клизмы и время от
времени показывал его Витьке. Я тут подумала: не запа¬
тентовать ли метод на паях с Ольгиным зятем? Я бы кра¬
сиво описала дешевизну открытия, ну а он... Мы бы про¬
демонстрировали прямоходящего Витьку, чистенького и в
«фирме», а на глаза его, в которых сидели тоска и страх
клизмы, напялили бы очки а-ля Иван Демидов. Смех
смехом, но благодаря этому Ольга сидела на терраске,
выставив на позднее солнышко бледные ноги, макушка
уже обросла и не мерзла, ей было пофигейно, а может,
вместе с пинг-понговым шариком вредного тела вынули
из ее головы мысли, едучие и побудительные, и завтраш¬
ний день ее как бы не беспокоил.
Но Ольга все просчитала. Просто она сознательно дала
себе выпасть в осадок. До зимы.
Так что мы не виделись долго. А тут еще и октябрь
пришел как подарок, теплый, мягкий. Из тех октябрей,
которые расслабляют душу, давая ей совершенно беспоч¬
венные иллюзии, что все еще будет в порядке и «все у нас
получится»... Опасный по своей непредсказуемости месяц,
потому что ничего нет страшнее следующих за ним но-
175
ябрьских исторических разочарований и чувства глубокого
обмана. В общем, русского человека хорошая погода демо¬
рализует, непреходящая слякоть и гололед ему ближе по
природе его пессимизма. А до момента, чтоб превратить
холод в радость, как сделали, к примеру, финны и шведы,
нам еще триста лет брести, и все лесом...
Октябрь жался к ноге, лаская лицо и руки, и я даже
звонить не стала — была убеждена: Ольга греется в своей
Тарасовке.
Она позвонила сама и сказала, что уже две недели в
Москве, чувствует себя вполне, в больнице ее оглядели и
общупали, все нормально — тьфу-тьфу! — жизнь про¬
должается, «умереть на этот раз не обломилось».
Последние слова она сказала «в тоне юмора», но я те¬
перь гробовые шутки воспринимаю плохо: все могильно¬
покойницкое уже не было разговором «не про меня». Сна¬
ряды рвались считай что рядом.
Ольга прекрасно выглядела. Болезнь вытеснила то, что
всегда в ней проглядывало если не со второго взгляда, то с
третьего — точно. Простоватость. Или, как бы сказала
моя подруга, «предместьевость». Такая у нее взбухает аль¬
тернатива на «жлобскую речь». С одной стороны: «Ты чё,
в натуре?» И в ответ: «Это, господа, предместье». Я рас¬
ширила это понравившееся мне определение.
Так вот, из Ольги ушло предместье. Я сказала бы, что
она стала интеллигентней, если б точно знала, что сие сло¬
во означает. Вернее, я знаю другое: оно не означает уже
ничего. Слово-скорлупа, которому когда-то вдруг при¬
шлось заменить слова истинные и вечные: порядочность,
образованность, интеллект. И вот пришла другая пора, и
затрещала скорлупка грецкого ореха, в котором ничего...
Пус-то-та...
Ольга с ходу сказала, что не знает, как ей быть с Кули¬
биным.
176
Кулибин
С той минуты, как он нашел полумертвую Ольгу, отвез
в больницу, перевез в другую, еще до того, как ее положили
на операционный стол, а он вернулся в квартиру, разделся
до трусов и тут же уснул прямо в кресле, — так вот, с той
минуты, как он стал просыпаться, еще не понимая, где он...
Его настигли запахи. Запахи этой семьи и этого дома. Еще
не открыв глаза, Кулибин ощутил такую светлую радость,
которая бывает только в младенчестве. Мы ее не помним,
но случается, она возвращается к нам касанием ли, словом,
дуновением. И ты думаешь: «Господи! Вот оно... Бывает
же... Счастье...»
Когда он открыл глаза и понял происхождение чуда —
домой пришел, Кулибин сказал себе, что никогда больше он
из «этого воздуха» не тронется. Он не мастак разворачи¬
вать судьбу к себе лицом, она у него все норовит сбежать и
все к нему то задом, то боком, но тут ему дан шанс поко¬
рить эту верткую гадину. Все, что делал Кулибин дальше,
было подчинено одной цели — помириться с Ольгой, хотя
разве они ссорились? Тут возникла неточность в самой по¬
становке вопроса, а нужна была точность. Точность — это
его возвращение. Любой ценой.
Оправдывает ли цель средства? Скажем прямо. Нет,
нет и нет. Но в данном случае, случае Кулибина, все было
да, да и да. Он ухаживал за Ольгой так, как ни одна мама
не сумела бы это сделать, а уж Ольгина — тем более...
Царство ей небесное. Он любил и жалел ее, впервые в
жизни ощущая себя сильнее, надежнее... А потому и уве¬
реннее.
Тут интересно возвращение к вопросу, на который мы
как-то отвечали: знал ли Кулибин об Ольгиных романах?
Да, потому что надо быть идиотом, чтоб не учуять в жен¬
щине, своей, домашней, с которой спишь в одной кровати,
дух чужака, который она приносит с собой. И Кулибин его
чувствовал. Но было еще материалистическое образование,
177
принятое с детства как абсолютная истина. Оно дух отри¬
цало напрочь. Диамат требовал фактов. Так вот, Кулибин
каждый раз чуял, что Ольга приходила от другого, но фак¬
тов у него не было. И это его устраивало. Поэтому мало ли
что покажется... Некоторым кажутся летающие тарелки,
бабушки-покойницы в проемах дверей и прочая нематериа¬
листическая дребедень, в которую только позволь себе
вступить... И Кулибин не вступал.
Сейчас он похвалил себя за это, оценил собственную
давнюю предусмотрительность, поэтому ухаживать за быв¬
шей женой ему было приятно, и ничто лишнее это не омра¬
чало. Собственный же вираж в сторону Веры Николаевны
казался ему в этот момент полной дурью. И он мыл, чис¬
тил свой пахнущий как ему надо дом, он наполнял его своей
любовью, он ждал возвращения Ольги, как ждет любовник
молодой и далее по тексту.
Потом была Тарасовка. Он сидел на приступочке у ног
Ольги, которая жмурилась на солнце, гладил высокий свод
ее стопы, и она принимала ласку как должную, как есте¬
ственную от мужа.
Был разговор.
— Что ты сказал своей подруге?
— Разве непонятно? — ответил он.
Но как и во всем, и в этой истории есть свои и восток, и
запад, и прочие стороны, и даже некоторые промежуточ¬
ные типа юго-запада. С Верой Николаевной все было не
так-то просто.
Они ведь с ней только-только наладили быт, купили
стиральную машину-автомат, исполнили мечту Веры Ни¬
колаевны и повесили (сто лет про это она думала!) на окна
деревянные ламбрекены, которые тут же повысили в стату¬
се саму квартиру. Все шло у них хорошо. И Вера Никола¬
евна была вполне женщина, без всяких там раздражающих
привычек: посмаркивания перед сном, колупания в ногтях
или западающей вглубь после сидения юбки.
178
Но случилось просыпание в доме, где он жил раньше,
случились эти запахи... Получалось, что в жизни Кулибина
Ольга рухнула очень кстати.
Поэтому на вопрос Ольги, что ей делать с Кулибиным,
я закричала:
— Ты сошла с ума!
После чего мне и была рассказана ее парижская исто¬
рия, из которой мой мозг извлек только одно: Ольга уже
там была глубоко больна, но ей опять повезло с мужчиной,
который не обобрал, не бросил, не выкинул... А над травой
подержал.
Я, как всегда, зациклилась на своем, а Ольга все гово¬
рила и говорила о парижском садовнике...
— Такого никогда не было...
— Предъявить список? — ответила я. — Или сама
вспомнишь?
Это были не лучшие слова в моей жизни, я это поняла
тут же, сразу, а вот Ольга как бы и не поняла. Вернее, не
восприняла, не оскорбилась. Так и сидела, сосредоточенно
и отсутствующе, а потом тупо повторила:
■— Я не знаю, что делать с Кулибиным. Понимаешь?
Он из меня ушел совсем...
Я представила, как она бродит «в себе», ища фантом,
образ, формулу такого материального, такого мясистого
Кулибина, который сопит и кашляет рядом. Но! Какая это,
оказывается, малость —■ тело против пустоты.
Ну вот, я снова напоролась на это мистическое сло¬
во — «пустота». Какое самоигральное оно оказалось,
так захватнически заняло жаждущие новой пищи умы.
А тот суп оказался тяжел для брюха. И пучит, и пучит,
и пучит, и шар пустоты распирает тебя до момента взры¬
ва.
Да пошли вы все к черту, умники пустоты!
Передо мной сидит женщина, она ничего не знает про
это. Она ищет тело, плоть. Она хочет жить, ей нужен
179
мужчина... Пожалуйста! Мир наполнен ими по самую
кромку, и она руками на ощупь, глазами на взгляд, ушами
на слух... мечется. А Кулибин возьми и встань на дороге,
растопырив руки и ноги.
— Он тебя спас, — сказала я.
И вдруг испугалась. Это мое свойство — пугаться соб¬
ственных придумок. Вдруг она мне скажет: «А зачем?»
И мне придется выстраивать цепь доказательств, что жи¬
вая жизнь лучше мертвой смерти, но я все больше и больше
разучаюсь говорить о том, во что верю не до конца. Просто
я точно знаю, есть ситуации, когда уход лучше присут¬
ствия. Конечно, это не Ольгин случай, тоже мне драма —
аннигиляция очередного любовника. Сколько их уже было
«никогда таких»!.. Уличение же — одно из мерзейших дел
на земле. Хамское дитя...
В форточку влетела мелодия. Ольга напряглась, повер¬
нула голову к окну, пальцем отбивая ритм.
— Обожаю, — сказала она, когда музыка кончи¬
лась. — Не знаю что, но в душе возникает что-то такое...
Обещание счастья?
— Это группа «Армия любовников». Ты бы видела их!
Они мне своим видом просто напрочь перекрыли музыку.
Раньше тоже нравилось.
— Такая жизнь. Или видеть. Или слышать. Вместе не
получается. Зря ты мне сказала...
— Но ты же не видела их...
— Но ты же сказала...
— Забудь...
— Все! Теперь не забуду точно.
Мы засмеялись. Я была рада, что мы «ушли от Кули¬
бина»: мое ли дело — их отношения?
— Знаешь, — сказала Ольга, — меня все-таки рас¬
травила эта музыка. И я теперь скажу главное. Я хочу по¬
смотреть на его сына.
Я тупая. Я не сообразила сразу, о чьем сыне идет речь.
180
А когда сообразила, то стала еще тупее: ну зачем он ей ну¬
жен, чужой мальчик? Зачем?
Кулибин потихоньку прибирал к рукам разваливающий¬
ся Ольгин бизнес. Есть такой тип мужчин — они
исключительно хороши в ремонте. Не творцы, не создате¬
ли — чинильщики. Кулибин наполнялся «чувством глубо¬
кого удовлетворения», сам же смеялся над таким определе¬
нием, и если говорить совсем уж откровенно, был только
один момент, который смущал его в тот период, —
отсутствие полной близости с Ольгой. И не то чтобы Ку¬
либину это было позарез нужно, в свои пятьдесят с хвости¬
ком он уже был не большой ходок «по этому делу», и чтоб
тяготиться там плотью и маяться — нет, этого не было.
Он как раз думал другое: вдруг это надо Ольге? Он впол¬
не может без, а вдруг она не может? Тогда их отношения
прекратятся в любой момент, если кто-то другой... И Ку¬
либин оглядывался окрест, всматривался... Но горизонт
был пуст... А тут случилось Седьмое ноября, бывший
праздник, ему позвонили товарищи, с которыми он без
Ольги проводил эти дни. Он сказал, что жена нездорова,
так что простите меня, дружбаны. Дружбаны отсохли тут
же, но потом позвонила Вера Николаевна.
— Вера! Ну ты даешь! Ольга едва-едва ходит, а я по¬
бегу, да? Так по-твоему?
Вера засмеялась и сказала, что все бы так едва ходили,
видела она ее на улице. И вообще он, Кулибин, не человек,
а сволочь, так как предатель всего что ни на есть на свете...
Вера всхлипнула и положила трубку, Кулибину стало не¬
ловко и даже вспотели подмышки, но он взял себя в руки и
сказал себе, дураку, что никаких претензий к нему у этой
женщины быть не должно. Это благодаря ему она живет
теперь в Москве. И ее не сквозит в электричках. Он дал
ей все, что мог, но больше для нее у него ничего не
осталось. Все, что было отмерено именно для нее, кончи¬
лось. Эта мысль о мере заняла Кулибина, и он сказал вече-
181
ром Ольге осторожно так: думал, мол, и пришел к выводу,
что чувство к ней, Ольге, у него без меры, он это понял на
днях. Кулибин подошел к ней и обнял, а Ольга возьми и
скажи:
— Я как раз о другом. Я тебе, конечно, благодарна и
все такое, но если бы ты вернулся к своей жене... — Она
именно так и сказала! Именно так! И далее: он облегчил
бы ей, Ольге, жизнь своим уходом.
— Ты моя жена, — сказал Кулибин, реагируя лишь
на одно. Ремонтник, он чинил строение неправильных
слов.
— Посмотри свой паспорт, — засмеялась Ольга.
— Да при чем тут это! — закричал Кулибин.
Мир рушился, валился на голову, еще чуть — и трес¬
нет башка к чертовой матери. Женщина рядом раздвои¬
лась, даже слегка растроилась, Кулибин сжал ладонями
виски, потому что понял: умереть на таких словах он не
имеет права. Потому как это величайшая несправедли¬
вость, какую можно себе вообразить. И надо сказать, так
сильна была его обида, что она развернулась в Кулибине
гневом, а гнев, как известно, — энергия мощная, сердце
колотнулось, три Ольги соединились в одну, и этой одной
он влепил такую оплеуху, что женщина закачалась и рухну¬
ла, но не тут-то было ей упасть. Кулибин же и подхватил
ее, и уложил на диван, и принес холодное полотенце на
щеку и еще одно на грудь. Гнев не ушел, а отступил и колы¬
хался черным телом, давая дорогу чувствам другого поряд¬
ка. Когда же все примочки в первоначальном смысле этого
слова были сделаны, гнев отпихнул суетящееся милосердие
и стащил с Ольги шелковые французские штанишки, дабы
она наконец поняла, кто он, зачем пришел и почему оста¬
нется. Тут и навсегда.
— Ты сволочь! — кричала потом Ольга. — Я заса¬
жу тебя. Сейчас вызову милицию и заявлю об изнасилова¬
нии.
182
— Первый раз, что ли? — смеялся удовлетворенный
Кулибин. — С тобой только так и надо. Ну? Иди звони!
Мироздание трещало и покачивалось. Мироздание
дало течь...
Ольга злилась.
Конечно, мужчины устроили препаскудный мир, но
они сделали все то, что позволили им женщины. Так счи¬
тала Ольга. Женщины вполне подельницы во всей миро¬
вой гнуси. Всякий мужчина бывает голый, и всякий ло¬
жится с голой женщиной. И если она принимает его пос¬
ле того, как он разбомбил Грозный или умучил ребенка,
то, значит, она виновата в той же степени. Она приняла
его голого после всех безобразий, а значит, сыграла с ним
в унисон. А надо взять вину на себя. Чтоб голой с кем
попадя не ложиться.
Господи, что за множественное число! Ты одна. И это
тебя насилуют с какой-то непонятной периодичностью, и
это ты — независимо от времени на дворе — ведешь себя
всегда одинаково. Вот и не суди гололежащую. У каждой
из них была своя правда ли, неправда... Своя дурь... Свой
страх... И ничем не обоснованная надежда, что однажды
ударишься мордой о землю и обернешься царевной.
Великая русская мечта.
Удариться — вот ключевое слово.
Кулибин же съездил к Вере Николаевне и привез зим¬
ние вещи.
То, что потом Ольга все-таки пошла «посмотреть маль¬
чика», было не любопытством, не сердечным порывом, это
было признаком ее растерянности. Хотя, может быть, я ис¬
тончаю чувства гораздо более грубые. Ведь хочешь не хо¬
чешь, начинаешь — о! я писала уже об этом! — себя ста¬
вить на чужое место, и на этом не своем месте начинаешь
183
вещать свои слова. То есть роешь замечательную яму раз¬
деления в полной уверенности, что строишь мост.
Ольга спросила меня, что просит купить мой десятилет¬
ний внук, что такого эдакого. Я сказала про компьютер¬
ные игры.
— Нет, — ответила она, — это не то...
Какую «картину подарка» нарисовала себе Ольга, я не
знаю. Но она купила, Господи, прости ее, дуру, видеокаме¬
ру. Если учесть, что после болезни она весьма и весьма по¬
издержалась, если учесть, что попытки Кулибина наладить
дело еще не дали результатов, если учесть, что его зарабо¬
ток уходил в три дня, если учесть, что именно в этот момент
в работорговле зятя наступила некоторая заминка и Мань-
ка ей сказала: «Хорошо, что ты отдала нам деньги, мама...
Я уже отвыкла жить на рубли...»
Так вот, если все это учесть...
Но она пошла и купила видеокамеру и поперлась по ад¬
ресу, который высмотрела в паспорте Василия. Воистину
русская женщина живет не По разуму и правилу. Как и ее
праматерь, ее всегда ведет лукавый, чтоб потом, после все¬
го, у ангелов не было безработицы в восстановлении миро¬
порядка.
Ей открыла худенькая женщина — из тех, что никогда
не набирают веса при самой замечательной кормежке.
Внутренняя пожирательная печь оставляет на их лице на¬
лет сухого жара и еще фитилек огня в глазах, который все
время как бы норовит погаснуть, но моментами так сверка-
нет, что опалит...
Ольга пришла при полном параде. Огромная модная
шляпа могла войти в дверь только при особом наклоне голо¬
вы, что со всех точек зрения было чересчур...
Итак, с одной стороны — ситцевый халат и фитильки
в глазах, с другой — шляпа, несущая коробку с видеока¬
мерой.
Ольга с порога стала передавать привет из Парижа от
Василия и от него же подарок для мальчика, который она
184
должна вручить лично. И Ольга сделала попытку продви¬
нуться вперед с камерой, не замечая странного молчания
ситцевой женщины. Которая не просто не пригласила Оль¬
гу войти, а даже оперлась рукой о косяк двери, как бы заго¬
раживая Ольге вход. Другой же рукой она исхитрилась на¬
жать кнопку звонка соседней двери, и на пороге появился
парень с очень брюхатой таксой, залаявшей на Ольгу зло и
как-то по-человечески хрипато.
— Эдик! Постой, пожалуйста! — сказала женщи¬
на. — Я хочу понять, чего эта дама от меня хочет.
— Вы чего от нее хотите? — спросил Эдик.
— Господи! Да вы что? — нервно засмеялась Оль¬
га. — Я привезла подарок для Коли и привет от Василия.
Эдик и женщина переглянулись.
— Ничего себе! — сказал Эдик. — Я думал, это
только в газетах пишут.
— Что пишут?
В том месте, где когда-то у Ольги был шарик опухоли,
стало сильно пульсировать. Это было так неожиданно и
страшно, что ей стали безразличны женщина, Эдик, соба¬
ка, во рту мгновенно высохло до корочки, хотелось пить,
пить и пить... Видимо, она побледнела или страх изменил
ее победоносно-шляпный вид, но женщина сказала:
— Василий и Коля позавчера улетели. Вот почему я
вас не понимаю...
— Да, — сказала Ольга, — да... Я болела. Задер¬
жалась. Вы мне не дадите воды?
Женщина вынесла ей стакан, и Ольга жадно — бежа¬
ло по подбородку — выпила воду.
— Он ничего не говорил о подарке. Ни слова.
— Да, — сказала Ольга. — Да. Это я сама... Ладно,
извините. — Она пошла к лифту, но ее взял за локоть Эдик.
— Нет, мадам, вы уж объясните, что у вас в коробке.
— Не надо, — сказала женщина, — пусть уходит.
Ольга ладонью прижала кнопку вызова лифта. В голо¬
ве отпустило, просто «шарик» чуть-чуть повибрировал —
туда-сюда, туда-сюда.
185
— Ничего дурного в коробке нет, — сказала Оль¬
га. — Я сама придумала сделать подарок вашему сыну.
— Зайдите, — сказала женщина. — В конце кон¬
цов, я должна знать то, что касается моего мальчика.
— Я нужен, тетя Люба? — спросил Эдик.
— Спасибо, пока нет. Ты же дома?
— Я дома, — сказал Эдик, выразительно посмотрев
на Ольгу.
В квартире Ольга еще раз попросила пить. Она расска¬
зала, что в Париже ей поплохело, помог Василий, уже дома
ей сделали операцию, и она хотела отблагодарить Василия
подарком его сыну. Пока говорила, успокаивалась и даже
как бы оскорблялась, что ее не за ту приняли.
— Он ничего про вас не говорил, — сказала Люба.
— Он долго был здесь?
— Почти три недели... Пока то да се... Я многое под¬
готовила заранее для отъезда, но какой у нас в этом опыт?
То то нужно, то другое.
— Он беспокоился о сыне, — сказала Ольга. — Вы
остались одна?
— У меня девочка. От второго брака. Ей пять лет. Она
очень скучает без брата. Мы не ожидали, что будет так...
Муж настаивает родить еще... Хватит ли сил? Мне уже
тридцать семь... А если опять мальчик? Родить и думать,
что потом будет армия...
— Перестаньте! — сердито сказала Ольга. — Это
уже психиатрия.
— Да. Я понимаю. Это у меня от Васи. Хотя что я
говорю? У меня племянника привезли из Чечни без ног.
Сестра стала старухой в три дня. Девушка бросила.
Приятели не ходят. Стесняются своих живых ног.
Жизнь у сестры кончилась. Понимаете? Никому они не
нужны...
— Все никому не нужны, — прошептала Ольга.
«А он молотил мне про ее слабое здоровье. Что едва
родила сына... А она возьми и роди дочь... И еще родит...
186
Но другому... или третьему? Все друг друга дурят.
Все», — думала Ольга.
Она приехала ко мне. С видеокамерой и в этой не¬
суразной шляпе, сотворенной как бы в насмешку над
всей нашей жизнью. Шляпа отваливалась от головы, су¬
ществуя независимо, в реальности без безногих мальчи¬
ков войны, без маленьких девочек, братьев которых
спасают каким-то причудливым методом — «методом
карлицы».
Ольга грубо повесила шляпу на крючок, как какую-ни¬
будь полотняную панаму, бесценную на прополке картофе¬
ля. Потом она забыла ее, а я, после ухода обнаружив, долго
не знала, куда ее деть. Конечно, я ее примеряла. Идиотка.
В домашнем платье, которое когда-то было для работы, а
потом долго лежало как ничто, оно вернулось уже на кух¬
ню, старорежимное трикотажное платье, купленное в Ма¬
рьинском универмаге. Хорош был этот мой видок в утра¬
тившем все свои ценные свойства платье и сегодняшней
шляпе. Я тут же сбросила ее, но потом надевала снова и
снова, я их примиряла друг с другом, эти разные куски
жизни. И пусть шляпа не моя, она ведь не случайно оста¬
лась на моем крючке.
Вчерашний день съели пожиратели времени лонголье-
ры, пришли и щелкнули зубами. Вполне можно попла¬
кать... Но потом, вытерев слезы, обязательно надо приме¬
рить шляпу. Хотя если не можешь — не примеряй. Но
главное — не плачь! Вчерашнего дня нет. А завтра не бу¬
дет сегодняшнего. Крошечное сейчас. Такая почти матема¬
тически точная и такая — не наденешь на голову — фило¬
софия. Возможно, у нее есть имя...
Безвременная, в смысле вечно существующая, фантом¬
ная боль страны без ног, без рук и с одной-единственной
памятью — памятью боли?
187
Вот и Ольга. Она отмеряла три недели назад. Она по¬
лезла в календарь. Ну да... Это был вторник, когда в Моск¬
ву прилетел Василий. Интересно, что она тогда делала?
Она слегка запаршивела в те дни, которые проживала
как бы назад. Вот она, к примеру, в пятницу две недели тому.
Была целый день дома. Телефонный звонок, к которому она
не успела подбежать, так долго звонил. А у нее как раз на¬
бухал кофе. Надо было дождаться, когда шапочка пены под¬
нимется над краешком кофейника, чтоб успеть приподнять
его над огнем. Ну да... ну да... А телефон все звонил и зво¬
нил. А еще был вечер среды. Они с Кулибиным смотрели
детектив, и тоже был звонок, Кулибин со словами: «Надо
было отключить», — поднял трубку, но спрашивали кого-то
другого, Кулибин со злости так рванул шнур из розетки, что
оторвал штепсель. У них два дня телефон работал «на жи-
вульку», к ним было не дозвониться. И еще, и еще... Ольга
представляла Василия в телефонной будке, как он стучит по
аппарату кулаком. Потом пришла мысль: а где он ночевал?
Не у бывшей же жены... Кто у него здесь есть? Она решила,
что надо это узнать, и даже собралась ехать к ситцевой жен¬
щине, как вдруг поняла всю свою дурь... И то, что она пере¬
бирает дни, и то, что воображает телефонные будки... Какая
чушь! Ничего не было... Ни-че-го... Он приехал за сыном, и
он его забрал, психопат несчастный! Она откупила бы маль¬
чика без проблем за эту же несчастную видеокамеру. Она бы
такую нарисовала ему болезнь, что мало не показалось бы,
приди любые времена. В России надо уметь жить со всяки¬
ми временами. Такая мы страна, такой мы народ. Но живем
же, все по-своему, но и все вместе. И ничего нам не страш¬
но, потому что самое страшное мы заранее переживаем в го¬
лове, там у нас такие ужасы! Зато, когда приходят настоя¬
щие, ты уже их не боишься. Тебе в твоем внутреннем кино и
не такое показывали.
Короче, никуда Ольга не поехала, а тяжело вздохнула и
стала внимательно рассматривать себя в зеркале. Тут-то
188
она и увидела запаршивость, ругнула себя последними сло¬
вами, почти час лежала с питательной маской на лице... Ти¬
хое бессмысленное лежание. Мысли приходят секундные и
очень простые.
...вот возьмет и кончится бизнес у Манькиного мужа...
И что? Он половину слов ударяет неправильно...
...у Галины Вишневской такими тяжелыми были детство
и юность... Кто бы мог подумать... Выглядит на сорок...
...если Кулибин остается, надо бы устроить перестанов¬
ку... И купить ему наконец пальто. Сколько можно тас¬
кать куртки?..
...видеокамеру надо будет отвезти в Польшу... И вооб¬
ще туда поехать. Хочу в Краков!..
...ей говорили, что после операции может нарушиться
менструальный цикл... Ни хрена... Это теперь называют
критическими днями... Идиоты...
...говорят, хорошо в Финляндии... Но все дорого...
Мартти Ларни, «Четвертый позвонок». Думали, сатира...
...Кулибин суетится с «неграми». Он считает, что это
как комсомольская работа...
Лицо стянуто, особенно это чувствуется у щели рта.
Губы пульсировали, они одни жили на лице с маской, кото¬
рая ничем, ни капелюшечки не отличалось от посмертной.
Только губы продолжали набрякать почти сексуально.
А потом Ольга ударилась во все тяжкие.
Я позвонила ей и напомнила о шляпе.
— Выбрось ее, — сказала она. — Нельзя оставлять у
себя следы собственного поражения. Или носи на здоровье.
На тебя мое горе не перейдет. Это вот Маньке я бы не отдала.
— Продай ее. Она же дорогущая.
— Вот ты и продай, я к ней даже прикасаться не хочу.
Сейчас в шляпе ходит Оксана Срачица. Она как ее на¬
дела, так и забыла снять. С балкона я вижу, как она идет
189
по улице, и шляпа прикрывает их, ее и смуглявого спутника.
С балкона это смешно, а при встрече — нет. У Оксаны
природное, генетическое чувство красоты. Она победила
шляпу каким-то неуловимым изломом ее полей, легкой сби-
тостью набок, закрученной на ухе косой, такой всегда за¬
тылочной, а тут выставленной в пандан шляпе, которая тут
же стушевалась перед косой и стала самой собой. Шляпой.
Как-то очень к лицу шляпы оказался и Оксанин кавказец.
Он всем своим видом восхищался женщиной, с которой
шел, и выяснилось, что именно это было главным в истории
про шляпу, косу и Оксану.
Глупости я думала, размышляя о времени вчерашнем и
завтрашнем. Все не так, и все не то.
Я молю Бога о милости — малости.
Вон идет многодетная Оксана с многодетным чужим
мужем. Где-то в Германии ее муж греет бок дебелой немке.
И я так страстно хочу, чтобы муж этой немки нашел на
этой земле жену и детей Оксаниного кавалера. Только так
мы победим тех, кто убивает нас и разделяет. Мы будем со¬
здавать неразрывные кольца, несмотря на все проклятые
войны, и назло будем носить шляпы, которые нам к лицу во
все времена.
А Ольга ударилась во все тяжкие, потому что просто
выпала из кольца жизни.
Гриша Нейман
Он возник с подачи Ванды. Позвонила и просила пу¬
стить на пару дней хорошего дядьку. Ростовского «челно¬
ка».
— Это как же у вас нет машины? — первое, что он
спросил.
Потом он спросил: «Это как же у вас нет своего так¬
систа?» и «...как же нет маленькой квартиры под
склад?».
190
Ольга засмеялась и сказала, что всегда так жила, так
живет и собирается жить дальше.
— Вы много на этом теряете, — сказал Гриша.
Он очень долго был в ванной, так долго, что вызвал у
Ольги возмущение, хорошо, что хоть издавал звуки бурной
жизнедеятельности в воде, иначе пришлось бы стучать —
мало ли что?
Вышел он в кулибинском халате, хотя никто ему этого
не позволял.
— Я надел, — как о решенном сказал Гриша, идя
прямо к столу, как будто мог быть другой путь. Он жадно
стал есть курицу, которую Ольга уже три раза разогревала.
В общем, надо было уйти, чтоб не раздражаться гром¬
костью поглощения пищи и легким постаныванием от выса¬
сывания косточек. Ольга предусмотрительно положила на
стол нормальные матерчатые салфетки и была потрясена,
когда Гриша сладострастно обтер масленые пальцы прямо о
халат.
— Салфетка же! — закричала она.
— Спасибо, — сказал он. — Уже не надо.
Он засмеялся, видя ее растерянно-гневное лицо.
— Я такой и дома, — сказал он. — Жена стесняется
выпускать меня в люди. Такие все мелочи... Женщины во¬
обще существа мелочные... Вы тоже... Но и я хорош... Рас¬
слабился... Ванна... Курица... Вы оставьте мне ее на
ужин... Потом плесните на нее кипяточком, дайте загореть¬
ся, и ничего больше... Конечно, если еще ложка сметаны...
Вот видите! Я уже хочу ужинать... А я еще только обе¬
даю.
— Ну так доедайте, — раздраженно сказала Ольга.
— Но у вас же еще кофе? И вы купили бублики...
Дайте мне масла на них, а курица останется на ужин.
Я буду ждать ее нетерпеливо.
Ольга поставила масло, кофейник и ушла в спальню.
Там она посидела, задерживая выдох по системе Бутейко,
чтоб накопить в себе углекислый газ. Выясняется с течени-
191
ем времени, что он там — газ — самый нужный и каким-
то боком мы как бы тоже цветы в этой жизни. Она пустила
этого гостя к себе только ради Ванды. Значит, надо стер¬
петь.
Он появился в дверях спальни, довольный, сияющий.
— Квартира у вас ничего... Для одного человека.
И тут только Ольга поняла, что Ванда не в курсе того,
что Кулибин вернулся. Последний раз они виделись в Вар¬
шаве. Ольга тогда вся была настроена на Париж. Когда же
ехала обратно, не хотела даже звонить с вокзала, но в по¬
следнюю минуту все-таки набрала номер, и ей повезло: по¬
пала на автоответчик. Сказала бодро, что возвращается,
что съездила в общем и целом ничего. Но что Варшава не
хуже. Больше ничего Ванда об Ольге не знала, поэтому
Гришу Неймана она отправила к одинокой женщине. Тогда
можно вполне вообразить: Гриша представил себе мужской
халат как вещь ничейную. Или всеобщую.
Тут и позвонил Кулибин. Он сказал, что зять попросил
его съездить с ним на растаможку.
— Это дело может быть долгим, но ты не волнуйся.
Он меня привезет. Мужик появился?
— Очень даже, — ответила Ольга.
— Понял, — засмеялся Кулибин. — Отправь его в
Мавзолей или куда еще...
— Так и сделаю, — ответила Ольга.
— Пойдете в город? — спросила она Гришу.
— Да вы что? — закричал он. — Скажете еще — в
Мавзолей...
Ольга внимательно посмотрела на гостя. Слышать сло¬
ва Кулибина он не мог, но «на волне» они оказались одной.
— А я как раз хотела вас туда отправить. Вдруг захо¬
ронят вождя, будете потом жалеть...
— Я в нем был пять раз, — ответил Гриша. — Его
что? Переодели в новый костюм? Версаче или Труссарди?
— Теперь уже можно так шутить, — сказала Ольга.
— Так слава же Богу! — ответил Гриша.
' Он рассказал о своей жене-казачке, которая не хочет
уезжать в Израиль.
— Станичники меня просто прибьют, если что... Хоро¬
шие все люди, но за свое держатся ой-ёй-ёй. А их горе —
это значит не мое. Сыну уже подарили шашку, форму, дед
над ним квохчет, как та дура в перьях. Один у него внук, а
остальные девчонки. Я люблю сватов, хоть они в глубине
души антисемиты... Но меня пустили... Ничего плохого не
скажу... Я у них как еврей при губернаторе. Я ихний Бе¬
резовский. Ничего, да? Сам я, как и полагается, инженер...
Жена — учительница музыки. Флейтистка. Один ученик
за три года. Казачонку моему, кроме шашки, как понимае¬
те, и попить, и поесть надо, чтоб потом было чем покакать.
Вот и мотаюсь. Ванду я знаю давно. Она училась с моей
сестрой в Ростовском университете.
— Странно, — сказала Ольга. — Я не знала это¬
го. — Ей даже стало не по себе: никогда Ванда не говори¬
ла ей про университет в России. То, что она хорошо знала
русский, объясняла тем, что во время войны пришлось спа¬
саться вместе с русской семьей. Но про университет! Ни
слова.
«Полячка стеснялась ненужного образования, — ду¬
мала Ольга. — А инженер вот не стесняется. Чешет все
как есть».
Вот так, на ровном, можно сказать, месте, возникла у
них родственность.
— Сестра моя, — продолжал Гриша, — профессор в
Иерусалимском университете. Они там изучают славян¬
скую литературу. Ванде это — нож в самое сердце. У них
когда-то была одна тема, одни интересы. А где Ванда, где
сестра?
— Ванда, между прочим, в Варшаве, и с ней все в по¬
рядке, — почему-то рассердилась Ольга.
— Да! Да! — ответил Гриша. — Как будто можно
высоко вырасти с мечтой про купить-продать. Жена моя
училась флейте, а я мечтал использовать шахтерский тер-
193
риконовый ландшафт для строительства города цветов.
Я мечтал оживить мертвые горы. Надо иметь мечту. Ина¬
че не вырастешь вообще.
— Мы на своих мечтах и подорвались, как на мине, —
ответила Ольга. — Выяснилось элементарное. Хлеб надо
зарабатывать трудом. И не трудом во имя некоего блага, ко¬
торого нет вообще, а именно трудом для хлеба.
— Не унижайте так низко труд! — закричал Гри¬
ша. — И для масла тоже!
Они потом смеялись, вспоминая политэкономию, диа¬
мат, получалось — вспоминали молодость...
Разгорячились, развеселились. Ольга предложила еще
выпить кофе, достала бутылку коньяка.
— А сразу пожалели! — закричал Гриша. — Ну что
за женщины! Что за женщины! Почему вас обязательно
надо заворачивать в слова?
Когда она проходила мимо, неся чашки в мойку, он по¬
ложил ей руку на живот. Положи он ей руку на талию, на
бедро, даже на попу, она просто бы отступила. Но это было
так горячо и сразу, что она не заметила, как слегка согну¬
лась, сжалась, будто обнимая в ответ его ладонь.
— Ты классная! — сказал Гриша. — Такое свинство,
что ты одна.
Он нес ее на руках, а она объясняла ему, что не одна,
что сошлась с мужем, вернее, не так, просто она заболе...
Господи! Кому нужны были эти пояснения!
Потом они снова смеялись, мол, вдруг бы пришел Кули¬
бин, который ни на какую растаможку не попал...
— Я до сих пор не знаю, что лучше: что он есть или
чтоб его не было, — сказала Ольга.
— Нет вопроса, — быстро ответил Гриша. — Хоро¬
шо, что есть... Мужчина в доме делает климат.
— Не правило, не правило! — смеялась Ольга.
И он снова клал ей руку на живот...
— Ты ходок? — спросила Ольга, разглядывая рыжие
и сытые глаза Гриши.
194
— По-маленькому, — отвечал он. — Только когда
меня завоевывают.
— Я тебя завоевывала? — кричала Ольга. — Да я
ненавидела тебя. Как ты жрал! Как ты вытирал пальцы!
Фу! Вспомнить противно!
— Мы пошли с тобой по самому короткому пути. От
ненависти до любви.
— Ты меня ненавидел?!
— Я хитрый жид, — смеялся Гриша. — Я тебя раз¬
задорил.
Он уезжал поздним вечером. Кулибин еще не вернулся.
Они долго стояли обнявшись в коридоре.
— Приезжай еще, — просто сказала Ольга. —
Я так давно не смеялась.
Он прижал ее к себе. Потом она думала о том, что
мальчиков в России много. Один уже уехал «ценой карли¬
цы», зато другому, наоборот, купили шашку, а его мама иг¬
рает на флейте, и ей хоть бы хны... «Вот про хны я как раз
ничего не знаю», — остановила себя Ольга, а тут как раз
вернулся Кулибин, грязный, усталый, полез в ванну, вер¬
нулся и сказал:
— Халат мой почему-то воняет рыбой...
— Какой еще рыбой? — возмутилась Ольга. —
Рыбы и близко в доме нет!
— Значит, это у меня в носу, — сказал Кулибин. —
Такого на таможне насмотрелся. Где-то у нас был коньяк?
Налей полета...
Налила, подала, смотрела... Кулибин дышал носом, жуя
известную истории курицу, жевал очень громко. Это у нее
уже сегодня было.
«Сейчас скажу, чтоб Кулибин уезжал... Прямо сей¬
час... — думала Ольга. — Он мне не климат».
Она вошла в кухню и встала в дверях. Очень хорошо
видела себя со стороны. «Женщина в дверной раме. Порт¬
рет неизвестного художника». Так она думала об этом мо-
195
менте. И с юмором, но и как о некоем художественно за¬
вершенном произведении. Напряглась для прыжка-слова.
Но сказал Кулибин.
— Знаешь, — сказал он. — Ты меня не выдавай.
Маня почему-то не хочет, чтоб ты знала. Она беременная...
Дела у них хреновые в смысле денег. Я боюсь, как бы она
на аборт не пошла.
Как это выглядело со стороны? Сначала упала, рассыпа¬
лась рама картины, потом в ней, Ольге, сломалась поза, то
есть все полетело к чертовой матери: рука пальцами в карма¬
не, угол локтя, этот гонористый подбородок, который торчал
вверх... Все это рухнуло вниз, таща за собой примкнувшие к
подбородку скулы, надбровные дуги, пространство лба. «Го¬
ловка ее склонилась на тонкой шее» — вот какая теперь
была картина, а всего ничего — прошла минута.
Кулибин же думал: зло хороших денег в том, что оно
вышибает у людей память о возможности жить на деньги
обыкновенные.
— Жили же! — говорил Кулибин. — А тут у них
такие претензии. Рожать в Лондоне. Ты рожала в Лондо¬
не? Но какая-то Манькина одноклассница рожала именно
там. Вот и наши туда же. Если не в Лондоне, то нигде. По¬
нимаешь? Я нет. Я говорю: да я сам у тебя приму дитя!
По-чистому приму, я к тому времени выучу, как и что...
Это в смысле избежания стафилококка. Опять же... Пони¬
маешь, мать... Я лично считаю, что надо нам поменяться
квартирами. У нашей дуры еще и этот заскок. Рожать в
тесноту она не хочет. Пожалуй, тут я с ней согласен. Я как
вспомню это великое перенаселение народов в коммунал¬
ках... Да ты сама жила... Давай ты им предложи обмен, как
бы от себя... Маня тогда точно тебе признается и глупостей
не наделает... А я бы эту квартирку отремонтировал им
лучше всякого европейского. Е-мое! Жизнь, считай, про¬
шла, раз пошли внуки. Но вот штука! Не жалко жизни...
Как-то даже радостно.
196
Кулибин Ольгу не видел. Он рассказывал всю эту исто¬
рию газовой плитке или холодильнику, и хотя в его словах
содержалось обращение к Ольге, она понимала, что ее уча¬
стие в разговоре, в сущности, и необязательно: все решено
без нее, Кулибину доверена тайна, с ним как бы все обгово¬
рено, а она... Она просто мимо шла... Это состояние «вне
игры» было сильнее главной новости. Ее, гордую женщину,
не просто выпихнули из рамы-картины, не просто предла¬
гают съехать и с квартиры, Кулибин — добрый чело¬
век! — почти нежно подталкивал ее к обрыву жизни и —
сволочь такая! — предлагал радоваться завершению, так
сказать, биологического цикла.
— Налей, — сказала она Кулибину, протягивая чаш-
КУ‘
— Чайник холодный, — ответил Кулибин.
— Коньяку, идиот! — закричала Ольга. — Господи!
Коньяку!
Она выпила залпом. Почему-то сразу отяжелели ноги.
Вторую порцию она налила себе сама, Кулибин ходил в
туалет, и у нее загорелось в животе. В том самом месте,
куда Гриша клал свою ладонь. Она потянулась к бутылке во
второй раз (для Кулибина в первый), но он убрал коньяк.
— Успокойся, — сказал он, — тебе больше не надо.
Ольга понимала: не надо. Выпитое не добралось до го¬
ловы, оно разжигало ее снизу, и ей это было неприятно.
Будь это всепоглощающее желание, куда ни шло. Мужчи¬
на — вот он, какой-никакой... В наличии. Но это не было
желанием. Плоть горела без желания, а голова была бес¬
сильна мыслью.
— Ощущение дури и слабости, — рассказывала она
мне потом. — Бесчувственный мешок сердца вполне при¬
лично разгонял во мне кровь. И еще я думала, что никого
не люблю достаточно сильно. И мне все — все равно.
Можете перевозить меня куда хотите. Можете оставить.
Ужас безразличия.
197
Кулибин принес коробку с лекарствами и стал в ней
рыться.
— Скажи — что, я отвечу — где, — сказала Ольга.
— Нашел, — ответил Кулибин. — На, выпей. Успо¬
койся.
Значит, он рылся не для себя, для нее. Лениво захоте¬
лось швырнуть таблетки в помойку, в лицо Кулибину, в
форточку. Маленький дебош вполне годился бы к моменту.
Но для этого как минимум надо было бы помахать руками.
Сил же не было. Ольга выпила таблетки. Кулибин обнял ее
и отвел в спальню. Она уткнулась в подушку, столкнув с
места притаившийся в складке запах Гриши. «Жидовская
твоя морда, — вяло думала Ольга. — Зачем отдал маль¬
чика казакам? На флейте она у тебя играет, дура! А сыну
дарят шашку... Ей не на флейте надо чирикать, ей надо сту¬
чать по барабану... Хотя какое мое дело? Пусть делают что
хотят... Все по фигу!»
Кулибин укрыл ее стареньким детским заячьим пальте¬
цом. Им они укрывали Маньку, когда та хворала. Девочка
цеплялась пальчиками за ласковый мех и всегда хорошо за¬
сыпала.
Какая-то натянутая струна в Ольге не выдержала и то¬
ненько, деликатно лопнула. Ольга почувствовала, как
именно в это место устремилась боль и вышла через щель,
оставленную струной.
Она проснулась. Кулибин спал крепко и тихо. Она даже
тронула его рукой — теплый. Сходила куда надо, верну¬
лась, сна ни в одном глазу. «Ну и пусть рожает, это нор¬
мально... Я порадуюсь. Помогу. Все путем, все как у лю¬
дей».
Правильные мысли или, скажем, первые мысли... Но
в том-то и дело, что тут же выпархивали и вторые, и тре¬
тьи... Например, что ей делать с планом устройства соб¬
ственной жизни, жизни без Кулибина, с поисками главно¬
го в ней, потому что то, что было, — это как бы закон-
198
пившийся репетиционный процесс. Только сейчас она го¬
това к сольному концерту, сейчас она все знает и может, и
Манька это поймет, она не приставит, не посмеет приста¬
вить ее к пеленкам... Хотя, Господи, какие пеленки? Те¬
перь и понятия такого нет... Значит, и говорить не о чем...
Но разве она сейчас думает о дочери? Она о том, что в
план жизни надо внести коррективы. Вот рядом спит Ку¬
либин, спит крепко, и ему вряд ли снятся утюги... Кто-то
ей сказал, она тогда была еще молодая, что утюг во
сне — грех на совести. Правда, речь шла о тех, старых,
утюгах, которые разогревали на огне и к которым имели
прихватки. Ей же снились электрические, советские, тя¬
желые и ценные именно этим. Что есть грех в ее жизни?
То, что она лежит сейчас в одной постели с Кулибиным,
или то, что она хочет его из нее изгнать? Но как можно
решиться сейчас все менять, когда Манька в положении?
Тогда эта дура точно возьмет и изведет дитя. И у нее по¬
том начнется непроходимость труб, это то, что у Ольги
случилось после родового воспаления. Но она отказалась
лечиться, потому что благодаря непроходимости не бере¬
менела. Знакомая гинеколог сказала ей тогда, что «она
дождется», что все нелеченое «на старости лет взбрыки¬
вает». Слава Богу, у нее все в порядке, но-ведь еще и не
старость... Но почему-то тогда не страшно было за себя, а
сейчас за Маньку страшно, не надо ей больных труб, чтоб
она у меня была здоровенькая и крепенькая, она у меня
одна, хотя, конечно, и я у себя одна, но я баба могучая, я
еще той закалки, когда сначала было очень страшно, а по¬
том привыкли, а потом уже не страшно ничего, потому что
пугать уже нечем... Сталин был... Чернобыль был... Чеч¬
ня опять же... «Вы не пробовали их дустом?» Это такой
анекдот детства. А нынешние выросли нежными. Деньги
у них — доллары, родильный дом — Лондон, утюги —
«Мулинекс», чайники — «Тефаль». Прокладок развели,
как грязи. И все с крылышками, крылышками. Ангелы
вы наши!
199
Хорошие люди умирают. А супостаты их блямкают на
митингах. И черт им брат.
Она сказала мне, что снова уезжает в Тарасовку. Кули¬
бин будет ремонтировать квартиру, взял в помощники ук¬
раинца Сэмэна, а может, наоборот, это Кулибин у украинца
будет в помощниках. Не важно. Главное — вдвоем быст¬
рее и дешевле.
Кулибин прочистил в Тарасовке печку и трубу, и теперь
Ольга жила при живом, веселом огне. На все ремонтные
дела живых денег не было, пришлось продать старинный се¬
ребряный портсигар и шесть столовых ложек из двенадцати.
Иван Дроздов
...был художником и, что называется, городским сума¬
сшедшим. Глядя на березку, он рисовал рейхстаг, а кусты
бузины вызывали к жизни руссковатого Христа где-нибудь
в степи под Херсоном. Ольга часто гуляла в его сторону, в
конце концов когда-то пришлось сказать «здравствуйте».
Он был приветлив и мил. Назвался Иваном Дроздо¬
вым, что Ольга уже знала, как знала и то, что он время от
времени попадает в больницу, но, в общем, человек тихий
и, можно сказать, хороший. И если б не рисовал не то, что
видел, то никто бы ничего не заметил. Но Иван Дроздов
был человеком публичных действий. И мог нагло нарисо¬
вать вместо дитя в коляске консервную банку, что, есте¬
ственно, понравиться никому не может.
— Я вас нарисую, — сказал Иван, глядя на Оль¬
гу. — Вы сильный образ.
— Ни-за-что! — засмеялась Ольга. — Знаю я вас!
— А! — ответил Дроздов. — Боитесь. Из вас идет
эманация топи.
— Скажите, — спросила Ольга, — а может эмана¬
ция топи идти из самой топи?
200
— В России нет, — ответил Дроздов. — Здесь все
не то, что есть и кажется. Здесь во всем подмена. Мы все
живем с чужими сущностями. Поэтому ничего и не можем
понять...
— А я-то, — засмеялась Ольга, — думала о себе хо¬
рошо. Оказывается, топь, гадость такая...
— Кто вам сказал? Топь так же прекрасна, как Беш¬
тау, но имейте в виду, что Бештау вовсе не Бештау... Про¬
сто я объясняюсь вашим глупым языком.
Выяснилось, что говорить с Иваном Дроздовым интерес¬
но. Никогда не угадаешь ответа на самый простой вопрос.
— Иван, слышали? Сегодня утром электричка сбила
человека! — Это она ему днем, дойдя до его места, где он,
глядя на каменный дом какого-то генерала, рисовал старые
руки, держащие сито. — Такой ужас!
— Успокойтесь! — отвечал Иван. — Здесь элект¬
рички не ходят. И человек этот никогда не был им.
Ну что тут скажешь?
Однажды она помогла Ивану нести мольберт, потому
что какая-то бабка принесла и поставила у ног Ивана банку
с огурцами, толстыми и неаппетитными на вид.
— Отнесешь сестре, — сказала она ему.
Иван нес банку бережно, как живую, а Ольге достался
мольберт.
Он жил в теплой пристройке к большому аляповатому
дому. Сестра его вышла на крыльцо, и Ольга ей сказала,
что помогла Ивану донести вещи.
— Не делайте так никогда, — тихо сказала сест¬
ра. — Он мужчина неразбуженный. И нам это ни к
чему... Молодых я гоню просто палкой, а вы женщина не¬
молодая — я вам говорю словом.
Ольга почему-то испугалась и просто бежала со двора,
дома спросила у кулибинской сестры, а сколько лет этому
блаженному Ивану.
— Точно не скажу, но лет сорок пять — сорок семь...
Сталин был еще живой. Мы почему это помним? Когда он
201
умер, отец Ивана стал танцевать прямо на улице и дотанце¬
вался до инфаркта. И я тебе скажу, инфаркт этот был им
как подарок, потому что посадили бы как пить дать...
А родня его быстренько доставила в больницу, где он и от¬
дал Богу душу. Ивану тогда было года два...
С тех пор Ольга не ходила туда, где рисовал Иван
Дроздов, но думала о нем почему-то много. И больше все¬
го о том, что он неразбуженный. Это были плохие, стыд¬
ные мысли.
Прижавшись к штакетнику, она наблюдала как боль¬
шой и сильный мужчина время от времени нелепо и резко
«баламутил» руками, будто отгонял от себя то пространство
земли и воздуха, которые ему не годились для жизни. Так,
может, такого и надо разбудить? Простое святое дело?
Ольга зажмурилась, видя свой грех от начала и до кон¬
ца, она не знала, что так может быть — мысленно, у чу¬
жого забора, за притвором век. Когда раскрыла глаза, то
увидела лицо Ивана. Это было лицо идиота. Пришлось по¬
чти бежать. Потом уже легко представила, как по утрам
(или вечерам?) сестра приносит брату таблетки «для его
здоровья», как покорно он их запивает водой из алюминие¬
вой кружки со звоном цепи на ручке. Все существовало в
одном месиве: танцующий на улице сталинский мужик и
сын его, выросший видеть не то, что видят все, и эта гремя¬
щая кружка. Цепь... Ну что тут поделаешь? И еще банка
с огурцами, отвратительными с виду, которую Иван нес,
как сокровище.
Что на самом деле была эта банка? Какую она скрывала
сущность?
— Я, например, топь, —сказала Ольга, глядя на себя
в зеркало. — Сама в себе вязну. И это не есть полезно.
Надо с этим кончать.
На следующий день она снялась с места. Дома нашла
ремонт в самом что ни на есть кризисном положении, когда
разрушено все бывшее, стоявшее и державшее, а на новое
202
как бы уже и сил не осталось. Украинец, правда, суетился,
прикладывая к стене то те, то другие обои, а Кулибин про¬
сто рассыпался на составные: выглядел плохо, беспрерывно
сосал валидол и откашливался нехорошим, «сердечным»
кашлем.
Ольга вздохнула и отстранила его от работы.
— Езжай в Тарасовку, — сказала она, — отдышись.
Он сопротивлялся вяло, виновато. Ольга настояла на
своем, потому что украинец пообещал взять в дело земля¬
ка, который быстрый, который раз-раз...
Сэмэн-украинец
Он складывал деньги в разные кучки: сотня к сотне,
тысяча к тысяче. Это были высокие кучки. Низко, призе¬
мисто лежали «полстатычки» и «стотычки». Так он их на¬
зывал. Ему нравилось «щитать гроши».
— Я добрию, — говорил Сэмэн. — На душе робит-
ся тыхо.
К ночи Ольга перенесла матрац, на котором рядом с
Сэмэном спал Кулибин, в спальню. Дело в том, что мужчи¬
ны поставили в ноги на табуретку телевизор и смотрели его
с полу вместе. Лишать наемного рабочего удовольствия
Ольга не считала правильным, но именно в этот день шел
фильм, который она очень любила. «Осенний марафон».
В этом фильме она «перебывала» всеми: женой, любовни¬
цей, подругой по работе, дочерью, она перебывала даже
мужчинами. Очень нравился швед, не умеющий попасть в
десятку нашей жизни, хотя кто это умеет? Обожала Лео¬
нова в чужой куртке, с его знаменитым «хорошо сидим».
Но главное... Главное, в фильме был мужчина, которого иг¬
рал Басилашвили. Его Ольга люто ненавидела. Она просто
упивалась этой ненавистью, смотря фильм бесконечно и
получая от этой ненависти полное наслаждение. Кайф...
Хотя если разобраться... Если ты получаешь наслаждение
203
от ненависти... То что такое любовь? Не перепутаны ли их
сущности? Или сами слова — тьфу?
Ольга попросила Сэмэна поставить для нее кресло.
— Извини, — сказала она, — но я на этом фильме
оттягиваюсь.
— Розумию, — ответил Сэмэн. — Хорошо тоди
було житы. Можно було не робыть. И бабы были добри,
за це дило не бралы гроши.
Так он сказал, украинец, укладываясь на матрац у Оль¬
гиных ног.
...Уже шла музыка, уже они бежали — швед и русский,
а эта сволочь внедрил в голову свою дурацкую мысль, и она
червем вгрызалась в мозги, искала место, где поселиться
окончательно.
Фильм был испорчен. Осталось ощущение тоски от
ушедшей радости. Все раздражало, все! В каждом слове
чувствовалась фальшь, все были не там и не теми.
— Фу! — сказала Ольга, резко вставая. — Вы мне
испортили весь фильм.
— Я? — не понял Сэмэн. — А шо я такэ казав?
— Да ладно вам, досматривайте, если хотите. А я
пойду спать. Но скажу вам... Может, вы и не работали, а я
так всю жизнь не разгибалась.
— Лягайте со мной, — добродушно сказал Сэ¬
мэн. — Я буду вас прикрывать своим тилом, а на мэни
буде аж два одеяла.
Ольга засмеялась и как бы в шутку толкнула его ногой.
Он ее поймал, ногу. Жесткие пальцы стали мять ей стопу, а
она глупо стояла цаплей. Вырвавшись, она сказала... Госпо¬
ди, какую чепуху она сказала! Она сказала, что она «жен¬
щина дорогая... И вообще не по этому делу...».
— Якщо вы, — сказал украинец, — не по цему дилу,
то звидкиля вы знаете, шо вы дорога? Це вам тилькы ка¬
жется, це вы носытэ таку мысль...
— Дешевая, что ли? — засмеялась Ольга. — Ну и
хам же вы!
204
— Чого ж дэшэва? — ответил Сэмэн. — Вы жен¬
щина бэсплатна. Вы тикы за лябовь.
«Ты дурак, украинец, — думала она уже потом, засы¬
пая. — Даже не за лябовь. Вот оказывается за что... За
так...»
Все время хотелось ударить побольнее. Уязвить. Уни¬
зить. Очень продуктивная среда для совместного прожива¬
ния в процессе ремонта.
— Скажи, — спросила она его. Узенький серпик луны
подрагивал и зяб в рваных, ополоумевших от бега облаках.
Откуда он, небесный, мог знать, что должен был стать тем
самым серпом, что по яйцам? — Скажи, почему именно
вашего брата украинца так много было в полицаях? Так
много среди сверхсрочников? Что это у вас за призвание?
Он напрягся рядом, но молчал.
— Вы холопы. Прислужники. Вас немцы ставили у
печей... Именно вас...
— Я б и зараз встав, колы б тэбэ туды повэлы... —
тихо ответил Сэмэн:
— Исчерпывающе, — засмеялась Ольга.
— У москалив од вику така гра. Щитать катов у дру¬
гих народив. Своих бы перепысалы. Бумагы не хватэ.
— Что значит — считать котов?
— Кат — це палач. Ничого ты, баба, нэ знаешь. Ты,
баба, дура... Ты вэлыка дура, баба... Спы мовчкы...
— Ты со всеми хозяйками спишь, когда делаешь ре¬
монт? — спросила она его как-то.
— Як повезэ...
— Со мной, значит, повезло?
— Ты мэни нравишься, — серьезно ответил он. —
Я бы на тоби женився.
— Мне благодарить? —- засмеялась Ольга.
Почему-то стало приятно. Ненужный человек сказал
ненужные слова, а на душе потеплело. А то хотел в печь!
205
Но и она тоже... Хороша... Каждый народ наполовину че-
рен. Ни больше... Ни меньше...
Она никогда не спрашивала его о семье. Теперь спроси¬
ла. Он разведен. Остался хлопчик. У бывшей жены от ро¬
дителей есть все: и дом в Полтаве, и машина, и садовый
участок.
— Мужиков у ней, как алмазив в каменных пещерах.
Вона у меня видная, ноги выше головы. Чого разошлись?
От цего...
Ольга почувствовала жаркую черноту чужой трагедии,
ей захотелось сказать что-нибудь в утешение. Но вылезла
банальность про время, это кругом несчастное понятие, на
которое и без нее свалено столько всего.
— Извини, что сказала глупость. Но так трудно быва¬
ет удержаться.
— Це правда. Про врэмя, — ответил Сэмэн. —
Врэмя можно подэлыты на всих людей, тоди получается
маленькая цифирка, и тоди мы як бы ничого... А колы ум¬
ножить... Время на людей — тоди таке число, що пид ним
хряснешь. Зараз таке. Помножене на усих зразу.
«Это что-то очень специфически украинское, — поду¬
мала Ольга. — Что делить? Что множить?»
Но, видимо, Сэмэн и появился в ее жизни, чтоб пор¬
тить слова и прикладывать к жизни глупую арифметику.
Потом приехал Кулибин и сразу стал звонить Маньке,
выспрашивал, какие у нее анализы, кричал, что надо повы¬
шать гемоглобин. Ольга была смущена и обескуражена та¬
кой степенью заботы. Она сама только спрашивала дочь:
«Все нормально?» — «Нормально», — но чтоб узнавать
цифры! Потом Кулибин сказал: всем из квартиры надо
уйти, чтоб хорошо проветрилось, иначе «сдохнем, как тара¬
каны». Стали собираться кто куда, а Кулибин возьми и
скажи:
— Да! Совсем забыл. Такая история. Художник твой
повесился.
206
— Какой художник? — не поняла Ольга.
— Тарасовский. А картины свои гениальные принес
тебе. Сказал, что не знает твоего имени и отчества, чтоб со¬
ставить завещание, поэтому наследство привез в детской
коляске. Я посмотрел, по-моему, это халтура в чистом
виде... Но прибежала его сестра, чтоб все забрать, мы не
отдали. Он же сам привез!
— Господи! Да отдайте! — закричала Ольга. — Я с
ним всего ничего, раз поговорила и помогла отнести моль¬
берт. Отдайте — и думать нечего.
— А если он гений?
— Тем более отдайте!
— Ну-ну, — сказал Кулибин. — Ну-ну... Твои дела.
— Какая свинья? Ты видишь, какая свинья? — Это
она спрашивала меня, когда пришла в тот же день на время
«проветривания».
Свиньей она называла Кулибина, сто раз передразнивая
это его «ну-ну»...
Я же думала, что Кулибин уже обо всем этом забыл на¬
прочь, а именно Ольга побежит искать «кого-нибудь умно¬
го», чтоб глазом посмотрел на картинки, что это ее «отдай¬
те!» — абсолютно недозрелая эмоция, под ней сейчас ба¬
рахтаются чувства сильные и страстные, и я противно так
сказала, что да, конечно, надо отдать, кто она ему, но посо¬
ветовать родственникам оценить все, мало ли...
— Это уже их проблемы, — ответила Ольга.
Я ей не поверила.
— Сама поеду и отдам.
Она позвонила домой, трубку взял украинец.
— Скажи мужу, что я поехала в Тарасовку.
Видимо, он ей что-то сказал. Она вытаращила глаза:
— При чем тут ты?
— В школе все рисовали...
207
— Ну как хочешь... Встречаемся у расписания.
— Мой маляр — любитель искусств, — сказала
она. — Хочет глянуть...
— Зачем же первому встречному? — спросила я.
— Знала бы ты...
Она рассказала, что жила с ним это время, как старая
жена со старым мужем... «Лет сорок вместе». И еще
она мне сказала, что «любовь» теперь пишется «ля-
бовь».
— Не знала? — сказала она. — Так знай.
«Дура, — подумала я, — какая она все-таки дура».
Но подумала и о том, что у слова есть энергетика разру¬
шения. Тогда его лучше не употреблять, лучше совсем за¬
быть.
Лябовь...
Лябо...
Ля...
Слово было исковеркано самым стыдным образом.
Слово было изнасиловано изувером, и Ольга вдруг поняла,
что никогда больше она не сможет услышать так, как рань¬
ше, что это наглое, с раскрытой пастью «я» уже встало впе¬
реди всей азбуки и корячится, и крючится, находясь в Ра¬
дости Первого Лица и насильника тоже...
Я тоже запомнила это слово навсегда. Потом даже ре¬
шила, что ничего в нем страшного нет. В какой-нибудь
русской губернии вполне могут так говорить. Вообразила
себе деревню-брошенку. Легко, радостно побежало по ней
слово. Ах, эта неприкосновенность, это целомудрие речи,
уже порушенное, и иногда столь замечательно точно. Тут
слышу: «Он такой цепур голдовый». Переспросила: «Это
кто?» — «Ну, этот, что пальцы веером!» — «А! Как вы
сказали?» — «Цепур голдовый. Да понятно же, понят¬
но!.. Золотая цепь на шее там или еще где». — «На дубе
том...» — добавила я. «Ну, это уже грубость... Люди мо¬
гут обидеться».
208
Я уже ляблю лябовь... Из далекой, придуманной мною
деревеньки мне беззубо улыбаются бабки. «Ишо не то го¬
ворим, милка, ишо не то...»
Слово заслонило факты жизни. А они были таковы,
что Ольга ехала с Сэмэном в Тарасовку.
Он сказал ей, что душой млеет в подмосковном лесу.
Что он в нем, как в материнской утробе.
Тепло, нежно, влажно.
— Поэт ты наш, — смеялась Ольга. — Я же про
себя знаю другое. Я дитя бетона и асфальта. В лесу мне
холодно, в степи мне жарко... Моря я боюсь... Горы меня
подавляют... Мне нужны горячая вода с напором, теплый
сортир, огонек газа в любую минуту. Телефон, телевизор...
Но Сэмэн ее не слушал, он смотрел в окно, а она толь¬
ко-только приготовилась сказать ему, что так же страстно,
как лес, он любит грошики, но именно в лесу они как бы и
без надобности. Ежики и елки — все бесплатные... Но
смолчала. Как сказал этот щедрый на наследство Иван
Дроздов? Мы не те, какие есть на самом деле. В нас во
всех, к чертовой матери, перепутаны сущности...
«Ничего лично во мне не перепутано, — сказала себе
Ольга. — Я проживаю свою собственную жизнь».
Тогда почему ей так тоскливо и хочется выпрыгнуть из
электрички? А Сэмэн, наоборот, продолжает млеть, хотя
чего млеть-то? Кругом грязь и спятивший с ума дачник, ру¬
бящий лес налево и направо...
Приближалась Тарасовка.
Когда они подходили к дому, сестра Ивана Дроздова
вывозила со двора груженую коляску под конвоем милици¬
онера.
Увидев Ольгу, она благим матом стала на нее орать, и
никому бы мало не показалось. «Проститутка» и «спеку¬
лянтка» — это были самые деликатные слова ее речи.
Слова Ольги о том, что она приехала, чтоб все вернуть,
просто нельзя было услышать.
209
— Вы! Полицай! — закричал Сэмэн милиционе¬
ру. — Остановьте бабу!
Теперь пришлось отвечать за полицая. И не было дру¬
гого способа, как бежать в дом, где сестра Кулибина при¬
кладывала к лицу мокрое полотенце. Она с ненавистью по¬
смотрела на Ольгу и сказала, что всю жизнь жила с соседя¬
ми в ладу, а теперь вот такой скандал...
— Не надо брать чужого, — зло ответила Ольга.
— Это же ты! Ты! — кричала сестра. — Он тебе
привез свою мазню, я для тебя ее держала.
— Я же и виновата, — возмутилась Ольга, уходя со
двора.
— Як казала моя бабуня, — засмеялся Сэмэн, — и
на нашей вулици собака насэрэ.
Но на станцию он идти отказался, сказал, что раз при¬
ехал — то приехал. Он сходит к этой тетке. «Глянуть
надо...»
Алексей
Электрички в тот час отменялись одна за другой. Ольга
замерзла, а когда поезд все-таки подошел, он был забит
так, что она испугалась — не втиснется. Но ее хорошо
примяли сзади, и она все-таки попала в тамбур, остропах-
нущий и горячий. Закружилась голова, и она подумала:
«Не страшно. Тут я не упаду». Какое-то время ей даже ка¬
залось, что все-таки она теряла сознание, и в таком состоя¬
нии была протащена в вагон, там, прижатая к стенке, она
сумела даже ухватить глоток ветра из окна. В Мытищах ей
повезло сесть, и она, уже сев, снова как бы потеряла созна¬
ние, но тоже страшно не было. Там, в сумерках мысли, она
даже поговорила с Иваном Дроздовым, сказала ему, что о
нем думает: надо же сообразить привезти ей картины, кто
он ей, кто она ему? Он ей что-то объяснял, но в гаме людей
она плохо его понимала и стеснялась, что его дурь (а что
210
умного он может сказать?) могут слышать посторонние и
будут удивляться, что такая вполне приличная дама имеет
отношение к идиоту. Поэтому Ольга смущенно улыбалась
налево и направо, показывая этим, что она отдает полный
отчет в том, кто такой Иван Дроздов и где ему место.
В медпункте ей сунули в нос нашатырный спирт, голова
стала ясной и легкой, было некоторое недоумение, как она
сюда попала, но сразу все выяснилось: ее привел мужчи¬
на — «вот он!» — и она не первая сегодня, большой сбой
в расписании и все такое.
Мужчина спросил, куда ей ехать.
— Посадите меня в такси, — попросила она и стала
искать сумочку, но ее не было.
— У вас с собой ничего не было, — сказал мужчина.
Но она-то знала, что с ней была кожаная сумка с день¬
гами и ключами и с другой разной дребеденью. Ее втолкну¬
ли в тамбур, и она держала сумку буквально на груди.
— Поверьте, — мужчина как бы оправдывался, — я
внимательно посмотрел вокруг вас. Попутчики сказали, что
вы сели ни с чем.
— Я вам верю. Тогда дайте мне телефонный жетон.
Кулибина не было. Значит, квартира все еще проветри¬
вается. Позвонила Маньке — занято.
— Поедемте ко мне, я тут рядом, — решительно ска¬
зал мужчина. — От меня дозвонитесь, и за вами приедут.
Я зовусь Алексеем.
Они сели в трамвай и через десять минут были на Пере-
яславке, а через двадцать она сидела в кресле довольно об¬
шарпанной однокомнатки и ее поили чаем.
...Она вдруг четко вспомнила то свое состояние перед
щелью между электричкой и платформой: ей ее не перешаг¬
нуть. Было не просто предчувствие падения, было само па¬
дение, иначе как бы она знала шершавость бетонной плиты,
жар колес, разверстость земли, узость щели, которая по
мере падения в нее пахла все время по-разному, и где-то
глубоко-глубоко был сладко-пряный запах молозива —
211
Господи, она сто лет уже забыла это слово, а тут оно верну¬
лось. Нов этот момент ее дернули за руку, и она пересту¬
пила.
Она долго звонила. У дочери по-прежнему было заня¬
то. И дома никого. Была зла невероятно на всех. Хотя,
как выяснилось потом, история была проста и забубенна.
На телефонной линии, что к Маньке, произошла какая-то
поруха.
Изгнавший всех из квартиры Кулибин забыл свои клю¬
чи дома. У Сэмэна ключей не было. Случилась эдакая за¬
бавная всеобщая потерянность.
То, что она осталась ночевать у первого попавшегося,
то, что ее мозг оказался ленив и не придумал других вари¬
антов, а даже как бы обрадовался возможности не думать,
станет вопросом завтра. На тот же момент существования
нигде было самое то.
— Знаешь, — скажет мне потом Ольга, — я поняла
бомжей. Поняла неразборчивость их жизни. Тут как тут...
Не тут, так там... Без разницы. Когда не надо выбирать,
снимается почти вся тревога... Свобода выбора? Не морочь
мне голову. Это изыск! Это рюшик! И головная боль...
Счастье не в выборе. В его отсутствии.
Боже! Как я на нее кричала своим сохнущим от нервно¬
сти горлом, как я ее уличала! А она хотела от меня сочув¬
ствия. Ничего больше.
Кулибин же, несколько раз выходивший к автомату, ре¬
шил, что Ольга у кого-то из знакомых, а может, вообще ос¬
талась в Тарасовке. Он подумал, что, не дозвонившись до
Маньки, она сообразит позвонить в службу ремонта и ус¬
покоится. Ольга же решила, что Кулибин трясется над бе¬
ременной дочерью и ему неохота возвращаться в дух ре¬
монта. Конечно, был Сэмэн, который вернется... Ну так
пойдет куда-нибудь, жил же он где-то до них...
Лежа в чужом доме, на чужой простыне, Ольга думала,
что двадцать лет тому назад такое было невозможно просто
212
по определению. Десять лет тому назад она бы сто раз по¬
думала. Последнее время с ней только так и случается.
Даже если свои простыни, то мужчины на них совсем чу¬
жие.
«Я свободна от общественного мнения, — думала о
себе Ольга. — Из меня вырезали орган, который отвечал
за это». И она зависла над оставшейся в ней пустотой
(сгинь, проклятая!), в которой когда-то кишмя кишел
страх — страх зависимости от отношения к ней не просто
чужих, а чуждых ей людей. Все детство, вся молодость
были прошиты этими нитками. Ибо нет ничего более ядо¬
витого и злобного, чем то, что «люди скажут». Ведь никог¬
да не скажут хорошо, а плохое нанизают, как монисто,
длинное такое монисто, которое много раз можно обмотать
вокруг шеи, до состояния полного удушения. Сейчас она не
то что разорвала его — сейчас она близко не допустит к
себе эти дрожащие, скрюченные, злобные пальцы людей...
Ольга повернулась на бок, скрипя чужим диваном. «Вот
вам...» «Вот вам...»
Потом она провалилась в тяжелый сон, а когда просну¬
лась, была чернющая ночь и все уже выглядело совсем ина¬
че. Почему все время занято у дочери? Почему Кулибин не
вернулся домой? Почему она как дура поплелась за этим
громко спящим в кухне мужчиной, почему легла на этот об¬
шарпанный диван, до какого маразма можно дойти, если
потерять над собой волю...
Она тихо оделась и тихо вышла. На улице была ночь,
машин не было. Она выскочила навстречу первой попав¬
шейся, но та объехала ее, как объехала бы лежащую соба¬
ку или камень. А вторая даже набрала скорость, чтоб
проскочить мимо и не увидеть лица человека с протянутой
рукой. Третья, правда, проезжала тихо, и ее как раз рас¬
смотрели внимательно и, уже рассмотрев, припустили
дальше.
— Вас тут никто не возьмет. — Оказывается, он вы¬
шел за ней и наблюдал. Алексей.
213
— Им что, не нужны деньги? — возмутилась Ольга.
— Но у вас же их нет, — засмеялся Алексей.
— Но я ведь не сирота казанская, — кричала Оль¬
га. — Я с ума схожу, не случилось ли чего у дочери.
— Сходите с ума в доме, — сказал Алексей.
— Нет, я уеду, — кричала она. — Если вы такой
чуткий, дайте мне деньги. Я верну вам сегодня же.
Он протянул ей деньги. Она подошла к фонарю посмот¬
реть, сколько. Он дал ей бумажку в пятьдесят тысяч.
«За такие деньги меня никакой дурак не повезет к
Маньке! Он что? Этого не понимает?»
— Спасибо, — сказала она. Что он за человек, если
не понимает: ночью машины ездят за другие деньги! Они
нюхом чувствуют слабую платежность стоящей на дороге
женщины, вот и проскакивают мимо.
Пришлось возвращаться в дом. Ольга видела раздра¬
жение мужчины и то, как он сунул деньги в карман, а потом
ушел в кухню и, судя по звукам, рухнул на раскладушку
одетый, она же присела на краешек дивана, как будто сей¬
час встанет и уйдет, а было всего ничего — половина чет¬
вертого.
Утром телефон был починен. Манька прежде всего
спросила, сколько денег у нее было в украденной сумочке.
Узнав, цокнула зубом.
Алексей довел ее до троллейбуса. Они шли, она пыта¬
лась разглядеть его внимательней, потому что не помнила
его вчерашнего. В одной из подворотен возникло неверо¬
ятное желание отдаться этому случаю и вернуться в обшар¬
панную (при белом свете особенно) квартирку.
«Подворотня» тут ключевое слово, скажет она потом.
Просто место прохода, но не выхода. Но она-то уже знала,
что это не так. Другой ряд. Подворотня... Вор. Ледяные
капли за ворот. Воротило. Почему-то сюда же прибивалась
ворона.
214
Она смотрела, как мужчина остался на улице. Плоховато
одетый, из плохой квартиры, с пятьюдесятью тысячами руб¬
лей наличности. Она пробила талон, который ей дал Алек¬
сей, и ее тут же настигла контролерша. Посмотрела на ды¬
рочки, а потом — почему-то с ненавистью — на Ольгу.
Почему так? Почему с ходу? Что ты обо мне знаешь, баба?
Взгляд, которым ответила Ольга, был такой силы, что конт¬
ролерша выпрыгнула из троллейбуса минуя ступеньки.
Ольга засмеялась ей вслед. Ну что ж, ну что ж... С ней
все в порядке, в полном! Если она разит глазом.
Кулибин сидел на лестнице.
— Что? Не придумал, как открыть дверь? — спроси¬
ла Ольга.
— А как? Как? Кроме как раскурочить? — развел
руками Кулибин.
— Чего тогда сидишь? — возмутилась она. — Ку-
рочь!
— Подумать надо, — вяло ответил Кулибин. — По¬
чему у Маньки нет наших ключей? На такой случай. Что за
идиотия!
В конце концов дверь им открыл Сэмэн. Пришел с пар¬
нем, колдовали, колдовали — и открыли. В квартире стоял
собачий холод. Все это время Ольга просидела у соседей в
кухне, и хотя те были милы и сочувственны, Ольга понимала,
что она их достала, что жалобная история, как ее обштопали в
электричке, уже сходит на нет, что соседи сейчас вступают в
опасный момент «энтузиазма доброты», которая уже совсем
не доброта и ничего не имеет общего с сердечным порывом.
Кто ж виноват, «энтузиазм» — слово, которое изначально
опорочено нами же самими... Еще говорят «голый энтузиазм».
Хотя у соседей был другой случай. Случай вполне и пристой¬
но одетого энтузиазма... Но он уже напрягал.
Спасибо Сэмэну.
Потом Кулибин ей скажет, что все эти мастеровые
дверей говнюки, если простой хохол может вскрыть за-
215
мок. А посему, как только Сэмэн все закончит, надо бу¬
дет его, замок, сменить... Мало ли... Тем более что и ее
ключи украли... «У тебя в сумочке, случайно, не было ад¬
реса?»
— Успокойся, не было, — ответила она, хотя как раз
думала, что на случай какого-нибудь несчастья (тьфу!
тьфу! тьфу!) хорошо бы иметь при себе и адрес, и телефон,
и имя-отчество. Мало ли...
«Но я не думаю эту мысль, не думаю, — шептала
Ольга. — Просто надо быть предусмотрительной. Просто
для страховки»...
Они так намаялись с этой дверью, что Ольга напрочь
забыла спросить у Сэмэна: ну и что там за картины, стоило
смотреть?
Он расставил их по стенке. Четыре картинки. Ольга
сразу подошла к той, на которой черная земля отсвечивала
серебром. На земле росла трава, и у нее был надорвавший¬
ся вид. Как будто, истратив силы где-то в невидимом про¬
странстве на пребывание на свету и виду, сил у горемыки
травы уже не осталось. Она никла стебельком, с одной сто¬
роны, обреченно, а с другой — даже успокоенно, ибо про¬
шла весь путь до конца, явилась миру, поколыхалась на
ветру — и сейчас увянет. Земля же манила, ворожила
колдовским серебряным светом, хотя уже было ясно, что
это и не земля вовсе, одна кажимость, топь: шагни — и
поймешь, каково было траве.
— Другие цикавше, — сказал Сэмэн.
— О Господи! — закричала Ольга. — Живешь в
Москве, в русской семье, можешь говорить по-русски?
— Только ради тебя, — чистейше сказал Сэмэн, как
будто и не умел, припадая на тонюсенькое «и», перекаты¬
ваться на разлапистые, тягучие «э»: «Сэмэнэ-э! Дэ-э ты
й-е-е?» — Я хотел сказать, — говорил он, глядя на
Ольгу с насмешливой неприязнью, — что другие картин-
216
ки получше. Поинтересней. Это «Болото» хуже всех. Тут
просто колер хорош.
— Не болото. Топь, — поправила она. — Как тебе
удалось их заполучить?
— Что значит «заполучить»? Я купил их по десять
долларов за штуку. Я, конечно, их обобрал, но они такую
стойку сделали на доллар. Оказывается, есть еще люди,
которые в глаза его не видели...
— Можно подумать, что ты их много видел...
— Много не много, но я купил эти картинки и с них
чего-то наварю.
— Продай мне эту, —показала Ольга на «Топь». —
Между нами говоря, она мне и предназначалась. Так я ду¬
маю.
— Сто... — ответил Сэмэн.
— Ты спятил? — закричала Ольга. — Спятил?
— Нет, — засмеялся Сэмэн. — Это мое последнее
слово.
Кулибин пришел из ванной, где проверял, не каплет ли
вода. Посмотрел на картинки.
— Ванькины? — спросил. — Мода на сумасшед¬
ших. Ты знаешь, как он рисовал? Смотрел на красивейшие
пейзажи и рисовал ужас. Никогда я не мог понять: ужас
уже был в его голове или пейзаж превращался в ужас, ког¬
да он на него смотрел?
— Какая разница? — разозлилась Ольга.
— Никакой. Просто так, — ответил Кулибин.
— Я хочу купить вот эту...
— А кто продает?
— Я, — ответил Сэмэн.
— Ни хрена себе! — Кулибин стоял с раскрытым
ртом. — Ты-то при чем?
Пришлось дать необходимые пояснения.
— У него не покупай, — твердо сказал Кулибин. —
Я съезжу в Тарасовку. Поговорю с его сестрой — даром
отдаст.
217
— Идиот, — пробормотала Ольга. — Просто круг¬
лый... И закроем тему! Все!
Однажды раздался звонок. Ольга взяла трубку. Женщина
спрашивала Кулибина. Уже идя за ним, Ольга поняла: Вера
Николаевна. Стало неприятно, а тут еще Кулибин отвечал
как-то очень по-семейному: «Ты отодвинь коробку с антибио¬
тиками, в углу будет пластмассовый стакан. Там термометр...
А что, очень болит?.. Надо врача... Аллохол помнишь где?»
Кулибин был сердечен, внимателен. Каким он был с
ней. Но такого Кулибина в доме уже давно не было. Он
был раздражен, зол... Он мягчел, когда звонила Манька.
И вот теперь, когда позвонила эта женщина. Если бы не
работающий Сэмэн, она бы высказала свои наблюдения
сразу же... Но при чужом человеке...
— Это Вера, — сказал Кулибин Ольге, положив
трубку.
— Нетрудно было сообразить, — ответила Ольга.
— Не чужая ведь, — как-то растроганно, чуть не со
слезой вздохнул Кулибин, и это уже был перебор. Два¬
дцать два!
— Езжай к ней, раз не чужая, — тихо, но внятно до
противности сказала Ольга. — Я тебе давно это реко¬
мендую очень настоятельно.
Он как-то замер на этих словах, будто хотел их разгля¬
деть со всех сторон, будто впервые увидел и задумался над
нехитрым смыслом «езжай».
— Что ж, я как припадочный буду бегать туда-
сюда? — растерянно сказал он. — Это не дело...
— А кому это интересно, кроме нас с тобой?..
Он смотрел на нее тускло, и она поняла и посочувство¬
вала ему. Он не освободился от людского мнения, он нор¬
мально, как научила мама, стоит и ждет, что скажут люди.
И так и будет стоять. Вкопанный конь.
Не то чтобы она боялась, что Кулибин уйдет. «И слава
Богу, — кричала она себе, — и слава Богу. Жила без
218
него — и прекрасно». В то же время, в то же время...
Этот его тон в разговоре с крепкозадой и приземистой Ве¬
рой Николаевной разворачивал события совсем другой сто¬
роной, являл мысли странные. Например, о конечности
времени. Когда она лежала на хирургическом столе и ей го¬
товили наркоз, она подумала: вдруг... Вдруг то, что она
сейчас видит, — последнее? Последнее окно. Последние
люди. Последний мужчина, он же хирург. Последние при¬
косновения. Но ей тогда было безразлично, потому что ей
дали хорошее успокоительное, и она это знала, но, зная,
была убеждена, что возникшее чувство у нее совсем не хи¬
мической причины. Оно из нее самой, оно сущностное.
А потому и нестрашное. И даже с намеком радости, что
ли. Последнее тут — это надежда на первое там?
Сейчас же было другое: ощущение суженного и одино¬
кого времени. Никто не стоял рядом и не трогал за руку.
Последним был Кулибин, но и он уходил. Мог уйти.
... — Я не припадочный, — твердо повторил Кули¬
бин, расставляя в своем мире все по местам.
Нашел же слово-мерку, прошелся с ним туда-сюда и от¬
делился от припадочных. В нем в этот момент даже что-то
обрелось, он как бы стал шире собой, но одновременно и
ниже, хотя все это было Ольгино, умственное, а головенка,
скажем прямо, была слабенькая и пульсировала, пульсиро¬
вала.
После ремонта квартирка вся заиграла. Ольга сказала:
— Давай сделаем перестановку?
Кулибин посмотрел на нее осуждающе.
— Пусть сюда переезжают дети.
Ну да... Об этом они уже говорили...
— Сама позвони им и скажи...
— Но почему? Почему? — закричала она, чувствуя, как
время и пространство сжимались вокруг нее, и получалось:
Кулибин — человек и отец хороший, а она — сволочь.
219
Как раз ввалилась сама Манька, такая вся моднющая,
неозабоченная, хорошо отвязанная беременная.
— Клево, — сказала она, оглядывая квартиру. —
Но ума поломать стенки не хватило. Хоть бы посоветова¬
лись...
— Какие стенки тут можно ломать? — не понял Ку¬
либин.
— Да ладно вам, — засмеялась Манька, — вы люди
клеточные, суженные.
— Мы это для тебя, — вдруг в торжественной стойке
сказал Кулибин.
— О Господи! — закричала Манька. — Спятили,
что ли? Мы покупаем трехкомнатную. Недалеко от вас.
Ольга испытала огромное облегчение, она даже вы¬
дохнула так громко, что они уставились на нее — муж и
дочь.
— На какую гору идешь? — спросила Манька.
— Ни на какую, — ответила Ольга. Не объяснишь
же про суженное пространство-время и то, как оно сдави¬
ло, а сейчас — спасибо, доченька! — отпустило.
— На какие же это деньги? — ядовито-обиженно
спросил Кулибин, задетый ненужностью своей щедрости.
Так старался, так махал кисточкой — и зря.
— На свои, — ответила Манька. — Подвернулась
хорошая сделка. Да и наша однокомнатная сейчас в хоро¬
шей цене.
— Ну и слава богу, — сказала Ольга.
Нельзя человека лишать смысла жизни. Кулибин был
раздавлен поворотом событий, которые шли своим ходом и
не требовали его жертвы. И Ольга это поняла сразу и
даже посочувствовала Кулибину. Она-то давно не должник
и не жертва в этой жизни, но она ведь и начала свой путь
освобождения от этого не вчера. Хотя все это лишний па¬
фос, а Кулибина, дурачка, жалко. Сто лет она этого не де¬
лала, а тут подошла и обняла его.
220
— А я рада, — сказала она. — И за них, и за себя.
Что не надо сниматься с места.
Он был сбит с толку лаской жены. Надо же! Подошла и
обхватила руками, такое забытое им состояние. И он
шмыгнул носом, а Ольга подумала, что если им доживать
жизнь вместе, то надо приготовиться, что старик у нее бу¬
дет слезливый.
Сэмэн
С ним рассчитались, и он ушел, хотя явно надеялся на
прощальное застолье, грубовато намекая Ольге, что надо бы
для такого дела кой-чего прикупить. «Да пошел ты!» — по¬
думала Ольга. С того дня, как он отказался отдать или про¬
дать‘задешево картину Ивана Дроздова, она сказала: «Все!»
Он объявился, когда Кулибин был на работе, поздно
вечером. В хорошем костюме, с хорошей стрижкой, такой
весь не работяга, а чиновник иностранных дел.
— Пришел попрощаться, — сказал он по-русски, без
этих своих украинских фокусов.
— Какие нежности! — ответила Ольга.
Сэмэн оглядел квартиру, присвистнул, увидев морщин¬
ку на обоях, рукой провел по подоконнику, похвалил рас¬
становку мебели и, слегка поддернув брюки, сел в кресло.
Гость, черт его дери.
— Куда теперь? — спросила Ольга, чтоб что-нибудь
спросить, спросила, стоя у дверей комнаты, в полной готов¬
ности проводить и захлопнуть замок.
— Пока в Грецию. Отдохну. Потом вернусь сюда.
Есть хороший заказ.
С тем и ушел. Быстрым шагом первопроходца и прохо¬
димца.
Квартира лучилась чистотой. Хрустальные вазончики
отстреливались маленькими, но пронзительными гипербо-
221
лоидами света, фыр-фук во все стороны. Тяжелые шторы
висели истово, с высочайшим чувством самодовольства.
Кухня чванилась белизной, в трубах тоненько всхлипывала
вода, запертая кранами какой-то прямо-таки наглой красо¬
ты. Даже Манька сказала: «Сантехнику выбрали правиль¬
ную».
Кто меня любит на этой Земле?
Вот так упрешься мордой лица (теперь, оказывается,
говорят «кожей морды лица») — и думай мысль. Как ока¬
зывается, очень поперечно стоящую для думания мысль:
Кто тебя любит на этой Земле
«А никто! — сказала себе Ольга. — Никто!»
Размахивая во все стороны сумочкой, она торопилась в
парикмахерскую, к толстой и оплывшей армянке Розе, к
которой не шел новый клиент (Роза отталкивала неприят¬
ного вида животом, она время от времени подтягивала его
вверх со словами: «Опять, сволочь, сполз на колени»),
зато от клиентов старых отбоя у Розы не было. Розин жи¬
вот столько слышал и столько знал, он переваривал столько
слез и обид, что уже давно в гуманных целях выдавал вовне
исключительно благотворную энергию.
— Роза! — сказала Ольга, плюхаясь в кресло. —
Тебя кто-нибудь любит?
— Многа, — ответила Роза.
— Да ну тебя! — засмеялась Ольга. — Я ж не про
твою родню, которую ты всю жизнь кормишь. Я про муж¬
чину, для которого ты все на свете.
— Многа, — повторила Роза.
Ольга смотрела в зеркало и видела всклокоченную го¬
лову Розы. Крупный пористый нос не страдал комплек¬
сом неполноценности и был вполне самодостаточен, в го¬
лове такого носа не могли взбрыкнуть мысли об отделении
или переустройстве. Булькатые, каурые Розины глаза
222
смотрели с насмешливым равнодушием, которое стеночка
в стеночку рядом с презрением, но еще не оно, просто жи¬
вет рядом.
— Не понимаешь, — сказала Ольга. — Любили ли
тебя так, чтоб за тебя, ради тебя...
— Ты сама кого так любишь? — перебила ее Роза.
— А кого?! — возмутилась Ольга. — Такие разве
есть?
— Краситься будем? — спросила Роза, туго стягивая
на шее Ольги простыню. — Как обычно или перьями?
— Я передумала, — вдруг резко встала Ольга и по¬
шла к выходу. «Пусть она меня вернет, — молила она, —
пусть вернет... О Господи!»
— Следующий, — сказала Роза, встряхивая просты¬
ню, на которой тихо умирал след Ольгиной шеи.
Я тоже стриглась у Розы. Я могу представить ход ее
мыслей. Вот у нее большая разбросанная по миру семья и
коротконогий муж Самвел, который строит дачу знамени¬
той артистке и каждый раз задает Розе глупый вопрос:
разве человек может быть сразу и красивым и свиньей?
«Вах!»
Им хочется, чтоб их любили, могла подумать Роза сра¬
зу о всех русских женщинах, а чего ж сама не любишь как
человек? Как она любит своего наивного дурака, у которого
растет аденома.
Она сама делает ему массаж, потому что кто ж, кроме
нее, сделает как надо? Самвел, мой дорогой, единствен¬
ный, я тебя так люблю, дурака бестолкового, что мне не¬
когда думать, как ты меня любишь... А может, и не лю¬
бишь совсем, но вряд ли... Ты же плачешь мне в грудь, как
плачешь Богу... А эта женщина все время чего-то ждет, ни
разу не расстаравшись сама... Люди — дураки... Они ни¬
чего не поняли... Бедный Бог... Он с ними бьется головой
об стену... Люби, говорит он, и не спрашивай сдачу. Но это
им, видите ли, не подходит... Им дай сдачи. Они все начи¬
нают с конца.
223
Роза иногда проговаривалась: «Такая большая стра¬
на — и такие бестолковые в ней люди».
Кулибин же в тот день домой не пришел. Он все-таки
оказался припадочным и пошел к Вере Николаевне. Синяя
и обезвоженная, та сидела над тазиком, который был впол¬
не сух.
— Я его ставлю от страха, — сказала она.
— Врача вызывала? — спросил он.
— Тоже боюсь. — Вера Николаевна смотрела на Ку¬
либина таким нежным глазом, что тот сразу стал звонить и
кричать.
Смешно думать, будто крик у нас может быть каким-то
там аргументом, но, видимо, подтекст существовал не только
в литературных сочинениях, он может передаваться по про¬
водам и производить какие-то нужные действия. Приехал
участковый врач, который уже отъездил свое и собирался в
баню, но вот приехал, гневный, но и слегка чуткий. Он сам
вызвал «неотложку», Веру Николаевну отвезли в Боткин¬
скую больницу, положили в коридоре острой хирургии. Вера
Николаевна попросила Кулибина позвонить в школу и пере¬
числила, что ей нужно привезти. В тусклом ее взгляде не
было интереса ни к чему, и даже коридор был ею не воспри¬
нят никак, хотя рядом по его поводу визжала какая-то моло¬
дайка, с виду вполне здоровущая кобыла, но что мы знаем?
Кулибин звонил Ольге, хотел объяснить ситуацию —
ее не было дома. Потом он варил курицу, истово веруя в
силу бульона, — не будешь же этого делать в доме Ольги?
Конечно, когда Ольги не было и вечером, он забеспокоил¬
ся, но курица еще не уварилась, надо было ждать.
Он нашел Ольгу уже поздним вечером.
— Ты где? — спросила она.
— Понимаешь... — начал Кулибин.
— Понимаю, — ответила Ольга и положила трубку.
Он позвонил снова и закричал:
—: Она в больнице! В больнице!
224
— Я не людоед, — ответила Ольга. — Не надо так
орать. Что с ней?
Кулибин рассказывал, спотыкаясь и замирая на том, что
было непонятно ему самому.
— Положили в коридоре, — закончил он.
— Ты дал?
— Что? — не понял Кулибин.
— Ты дал деньги, — уже кричала Ольга, — чтоб ее
положили как человека?
— А кому? — не понимал Кулибин. — Там их
столько...
— Дай старшей сестре. Она тебя уже ждет.
— Кто ждет? Она меня не знает...
— Знает. Она ждет тебя с той минуты, как ты там по¬
явился...
— Ты говоришь глупости.
— Спроси у дочери, если не веришь. Она тебе объяс¬
нит лучше.
— Черт знает что, — сказал Кулибин и добавил: —
Варю бульон, а курица оказалась старухой.
Порядочный человек — существо кровожадное, но
втайне. Ибо только он знает число открученных голов, ко¬
торые он отбрасывает в сторону, топча в себе разнообразно
пакостные мысли и чувства, дабы не проявились они вовне.
Внутри у него могила поверженного им зла.
Непорядочный позволяет и мыслям, и чувствам гулять
на воле. Он — Стенька Разин. Могилы не в нем. После
него.
Есть и третьи. Живущие в состоянии хронической нерв¬
ности по поводу мыслей и чувств. «Эту рублю, эту остав¬
ляю... Эту полью водичкой, а эту подкормлю. Эта у меня
на белых... Эта на черных... Эту выпущу вечером, а эта хо¬
роша к утреннему кофе».
Именно о порядочности или ее отсутствии мы говорили
с Ольгой, то есть она говорила про бульон, который варит
225
Кулибин, а я как бы про умное... Она меня раздражала тем,
что, с одной стороны, задета таким вниманием Кулибина к
той женщине, с другой — этой своей готовностью ей же
чем-то помочь, как-то лучше устроить ее в больнице. И я
сказала ей, что ее добро — плохого корня.
Она посмотрела на меня «злыми глазауси». Я отчетли¬
во поняла, почувствовала: она сейчас от меня уйдет и боль¬
ше не придет никогда. Я как бы увидела истончавшуюся в
ней силу преодоления, которую всегда знала как могучую.
В ней не осталось духа борьбы даже на мои слабенькие,
чуждые ей мысли, и ей легче уйти от них к чертовой матери,
чтоб не вникать, не углубляться в эти «хорошие плохие
корни».
И я думаю. Пусть уходит. Я ничем ей не могу помочь,
даже помочь себе у меня не получается. Я только знаю,
что не надо ей пристраиваться к этому бульону.
Ольга встала и подошла к зеркалу, чтоб подкрасить губы.
Было странное несовпадение двух Ольг. Эта, стоящая
спиной, остро хотела уйти, она отторгала меня, не понимая,
с какой стати она тут и о чем ей со мной говорить. Спина
как бы уходила от меня навсегда. Тогда как отражение лица
в зеркале... О! Оно было совсем другим... На нем были
растерянность и печаль, которые надлежало скрыть при
помощи всего имеющегося косметического вооружения.
И тут я поняла, что за все годы, что мы с ней, дружа, не
дружили у наши отношения так срослись, а несовпадения
так совпали, что не уйти и не оторваться.
— Знаешь, — сказала она мне, — я иссякла. Не те
лица, не те слова. Все какое-то случайное... Могло быть, а
могло и не быть... А Кулибин меня просто доконал.
— Он и с тобой носился. Вспомни!
— Ну да, ну да... Все познается в предсмертье? Но
надо жить... Надо крутиться, а я замираю на ходу... Как
будто во мне что-то щелкает и говорит: «Не туда и не за
тем...» Хочется чего-то простого и устойчивого, как куб.
Скажи, куда мне кинуться?
226
— Не вздумай, — сказала я. — Куб у тебя есть. Его
зовут Кулибин.
— А! — сказала она тускло. — Лябовь...
Она собрала «негров» и убедилась, что они давно само¬
определились. Она вдруг поняла, что мир, в котором она
плавала как рыбка, изменил свои молекулы. В ее патрона¬
же никто и не нуждался. «Челнок» щелкал четко, туда-
сюда, туда-сюда. Ее помнили за добро первых уроков, но
тут уже шла академия. Ее охватила паника, и неизвестно,
куда бы она подалась, не приедь Ванда. Ванда открывала
здесь лавку. Ей надо было, чтоб кто-то ее держал. Ольга
поняла, что надо суметь скрыть от Ванды свое беспокой¬
ство. Надо напрячься и победить. Скрыла — ц победила.
Встретила Ванду с шиком, пустила ей пыль в глаза. При¬
шлось нанять шофера, чтоб быстро оказываться в разных
точках Москвы. С ходу, с лету она выходила на нужных
людей. Она видела, что одинаково нравится и налитым гу¬
стой, неподвижной кровью милиционерам, и уголовникам,
что ее разглядывают жадно, но и с опаской. Острая на
язык, она не выбирала выражений, а когда один милицей¬
ский чин набычил лоб на ее не самое изящное выражение,
она упредила его слова, которые он начал выжевывать:
«Бросьте, майор. Мы с вами не в музее, где говорят изящ¬
но. Вы знаете, что мне нужно, а я знаю, сколько это стоит.
Погладьте свой лобик, не выдавливайте на нем морщины
раздумий».
Хамство давалось ей легко, даже радостно. Сокрушать
мужчин безусловной быстротой и меткостью ума было при¬
ятно и наполняло энергией. С удивлением она обнаружила
в себе отсутствие женского интереса к партнерам дела.
«Что-то рано», — сказала она себе. Однажды высокий и
красивый налоговый инспектор положил ей руку на бедро,
когда они ехали в лифте. Она не отодвинулась, потому что
ей хотелось испробовать всю гамму чувств, которые ее
охватили. Да, это ее взволновало. Рука у инспектора была
227
широкая и заняла много места. Да, у нее сжались мускулы
живота, и надо было проследить за дыханием, которое
раньше всего могло выдать. Она укротила его, укротила
спазм мускулов, она повернула лицо к мужчине, и ей даже
не потребовалось слов, чтоб чужая рука соскользнула с
вполне поспелого ее тела. Конечно, она потом жалела!
И дурой себя называла, и истеричкой, но над всем и подо
всем было еще и нечто другое. Ощущение собственной сво¬
боды.
Она никогда и никому не призналась бы. Но ее оста¬
навливало умирание Веры Николаевны. Кулибин тетешкал
эту жену-нежену, и так получилось, что в день, когда он
работал, его подменила Ольга. Пришла вечером убрать-
прибрать, накормить... Вера Николаевна лежала, накачан¬
ная проме долом.
— А! — сказала тихо. — Это вы...
— Ну, ну, — ответила Ольга. — Пробьемся.
Глупее сказать трудно. Она дождалась, когда Вера Ни¬
колаевна уснет, пошла к дежурной сестре, сунула ей в кар¬
ман пятьдесят долларов.
— Слушайте, — сказала она, — пусть ей не будет
больно, ладно?
— Уже скоро, — ответила та, отглаживая в кармане
бумажку.
Возникло отвратительное чувство: она пожалела о
деньгах. Взяла и выбросила на ветер. Во-первых, не богач¬
ка, во-вторых, жалкость этой взятки, а в сущности, моль¬
бы. Не за Веру Николаевну, за себя.
Потом долго шла по коридору, шла, шла — и вдруг по¬
думала: «Как долго иду, а еще и половины не прошла».
Припустила, но ноги были нескорые, не гнулись в колен¬
ках, и больница, как боль, длилась, длилась, и эта, в кото¬
рой она пребывала сейчас, и та, что была в ее жизни почти
постоянной величиной.
Сначала мама. Боже мой! Она ведь была счастливица!
Потому что ее так любил папа. Ноющую, капризную, с
228
вечными претензиями, а он вокруг все хлопочет, хлопочет...
Ушел раньше. Но той папиной любви в доме хватило на¬
долго. Он заполнил ею пространство всей их жизни, и она,
Ольга, так естественно, как должное, восприняла груз хло¬
пот, и ни разу — ни разу! — не пришла в голову подлая
мысль, что тяжело, неприятно, надоело, противно. Не при¬
шла ни эта, никакая другая подобная мысль-гадина. Пото¬
му что папа высадил в доме такую любовь-преданность,
что другое в нем просто не росло.
Вспомнился Вик. Вик. с больным сыном. И ее, Ольги¬
ны, мысли, что такому сыну лучше умереть. Конечно, ей
хватило ума не ляпнуть это отцу, но разве мы говорим толь¬
ко словами? И она снова увидела, как тогда в трамвае Вик.
Вик. загородил от нее жену, просто завис над той телом,
чтоб она, Ольга, не дай Бог, не задела ее своим ветром.
Уже на улице Ольга крикнула себе, что нечего себя рас¬
чесывать, она сама никакая не могучая, пинг-понговый ша¬
рик из головы вынули, а то бабахалась оземь, как какая-
нибудь с падучей болезнью. А когда она выпрямлялась,
всегда рядом кто-то был. Значит, жалели, значит, любили.
Значит, она не обделена. Маму нес папа, но и ей вполне
обламывались мужская защита и поддержка, как только
надобилось — так и обламывались. И в этом было, безус¬
ловно, что-то ценное, но в этом, столь же безусловно, чего-
то не было. Она не понимала чего. Додумывать мысль до
конца — дело опасное: ненароком окажешься неизвестно
где. Не пей из копытца, не пей, не распутывай дурной клу¬
бок, не распутывай — вдруг назад не смотается? Вдруг
козленочком станешь?
И она остановила бег своей мысли. Не слабачка она
безмозглая, чтоб не удушить мысль.
Когда похоронили Веру Николаевну — тут делается
такой перепрыг во времени, незначительный по дням, но
битком набитый веществом, в сущности, эфемерным. «На¬
строение» называется.
229
Так вот, выяснилось, что в жизни по добыванию денег и
устройству похорон настроение занимает много места, хотя,
казалось бы... до него ли? Ну взять, к примеру, того же
Кулибина. Его легче всего взять, он рядом, он под рукой.
Вот он ляпнул: Вера, мол, любила его по-настоящему, лю¬
била — и все, и не надо никаких доказательств, потому
что любовь этого не требует. Она сама себя оказывает, а
доказательства — это уже признак как бы и лишний. До¬
казывать надо невидимое.
Видимое-невидимое надорвало душу. Мало того что
смерть сама по себе, даже чужая, тебя не касательная, даже
облегчающая существование остающимся, все равно так
нагнетается в жилы и ты частями непременно умираешь
сама. А тут еще заявления мужа о любви как бы уже быв¬
шей, прошедшей, но, оказывается, почему-то вдруг остав¬
шейся жить.
Мы сидим с ней на диване с ногами. Она — на моем
месте, где я поджимаюсь влево, а теперь из-за нее гнусь в
другую сторону, мне неудобно, и я злюсь, но не на нее —
на себя. Всегда ведь сама предлагаю всем: садись где хо¬
чешь. Зачем вру, если есть место, где я не хочу, чтоб кто-
нибудь сидел. Это место выено моим телом, моими поворо¬
тами, его нельзя занимать, произойдет ломка... Чего? От¬
куда я знаю? Может, жизненного эфира?.. Но мне нелов¬
ко. Бормочу: садись где хочешь...
Ольга рассказывает, что Кулибин остался жить в квар¬
тире Веры Николаевны. Конечно, это, в сущности, его
квартира, но добавляет: ее, Ольгины, деньги в нее вложе¬
ны...
Неправильность поступков мужчин — больная тема.
Перечисляет их все, подряд, вразброд. Все поступали не
по-человечески.
— Они вообще люди? — спрашивает она меня. —
Ну что ему (Кулибину) надо? Нет, ты не думай, что он мне
нужен... На фиг!.. Просто хочу понять... Я не дура...
230
Я могу понять трудные мысли... Поняла же я тогда путь
спасения при помощи карлицы... Всю меня трясло, но по¬
няла... Сына надо было увозить... Хотя нет, вру... Я спас¬
ла бы его здесь как миленького... Но сейчас мне как-то не¬
удобно даже перед зятем... Мы не обсуждаем эту тему, где
ночует Кулибин. Смешно же сказать — ночует у покойни¬
цы... Но странно, согласись? Даже если исходить из каких-
то там чувств... Человека-то нет, а я, прости Господи, жи¬
вая...
Мне неудобно сидеть на «чужой стороне». Сомлело
бедро. Я тихонько его щиплю — мертвое. У меня труд¬
ная задача: я, частично омертвелая, должна подтверждать
живость Ольги и ее совершенно справедливые претензии к
Кулибину.
...Было у мужика две жены. Одна длинная, другая по¬
короче. Он был между ними как бы врастяжку. Та, что по¬
короче, отдала Богу душу. Не стало второго конца у рас¬
тяжки. Куда по закону физики должен был примкнуть Ку¬
либин? Элементарный случай резинки. А он возьми и ока¬
жись в другом месте, пустом месте, что совершенно не¬
правильно, если поставить физический опыт.
Может, потому, что я омертвела уже всей ногой, мне
ближе Вера Николаевна.
Вообще мне вдруг все стало ясно. Никакие мы не твор¬
цы своего счастья. Это нам не дано. Мы просто прибиваем¬
ся к берегу, к которому нас несет, несет и — повезет —
вынесет. Мы всегда выбираем то, что требует меньше уси¬
лий, а за тем, где усилий не нужно совсем, мы готовы по¬
стоять и в очереди. Поэтому мы и живем плохо, потому что
взбивать молоко в сметану трудно.
Это никакого отношения не имеет к Ольге, она лихой
моряк и почти знает, куда причалить... Это не имеет отно¬
шения к Кулибину, потому что, по моей логике, ему легче
всего прибиться к Ольге. В конце концов, я и сама не щеп¬
ка, которую несет куда ни попадя.
231
С какой же стати я думаю о том, что никак не годится
случаю? Море, усилия, берег.
Не додуманные до конца мысли. У них замахренные
концы, по которым другим не распознать, откуда начинал¬
ся легкий бег ума и с чего это он обвис потом тряпочкой...
Забитое — или забытое? — в горле слово.
Что это? Что? О ком это я? О чем?
— Оставь его, — говорю я Ольге. — Он устал. Он
отлежится, а там Манька родит. Он восстанет на послед¬
ний решительный — поносить на плечах внука. Ты еще
потрепыхаешься, он уже нет... Это будет его последнее
дело.
— Какое неудобное место! — сказала она, спрыгивая
с дивана. — Ну да, Ну да...
Ее исторгли мои «эфирные изгибы». Она ходила по
комнате туда-сюда, босой ногой по полу, большой, трид¬
цать девятой, ногой со вспученными косточками пальцев.
От ее хода шевелилось павлинье перо, подаренное мне ею
же. Вообще-то я его всегда держала взаперти, меня смущал
перий глаз, в котором скрывалось не понятое мною содер¬
жание. Как правило, вещи даются мне в понимание, я с
ними лажу, они никогда не агрессивничают у меня в доме.
Но на перо у меня не хватало то ли образования, то ли
ума — мы с ним не ладили. Глаз смотрел на меня из каких-
то других, чуждых мне миров, я ему не нравилась, но ведь и
он мне не нравился... Красавец... Он как современные ли¬
тературные тексты, что существуют исключительно сами по
себе, просто как совокупность слов, повязанных с большим
или меньшим изяществом. В них не хочется войти, их не
хочется трогать, задом наперед они читаются с тем же ус¬
пехом... Павлинье перо я выставляю на вид, когда прихо¬
дит Ольга. Не хочу ее обидеть. Хотя она могла и забыть,
что когда-то его дарила.
Сейчас Ольга гнет хлипкую паркетную доску, а щу¬
пальца пера вздыхают в унисон ее бегу по кругу.
232
— Да! Я еще потрепыхаюсь, — сказала она мне и
поцеловала перо в глаз.
Поди ж ты, как знала, что оно у меня нецелованное.
Потом я была у нее. Она пригласила меня посмотреть
свеженькие итальянские костюмчики. Открыла дверь —
вся такая тонкая и звонкая. Я чуть было не ляпнула, с ка¬
кой, мол, стати на ней парад, но вовремя увидела Его.
Он сидел в кресле, широко расставив ноги, мощный и
молодой.
Ее сегодняшний мужчина. Такие тела чаще всего доста¬
ются военным, а раньше их сплошь и рядом носили партий¬
ные работники. У них всегда широко развернуты колени,
они никогда не ужимаются своей плотью, они знают: жен¬
щины обволокут их, сидящих в транспорте, осторожно, де¬
ликатно, по тайному молчаливому сговору сохраняющих
этот раздвинутый циркуль ног. Я поняла, учуяла всю без¬
надежность ее выбора.
Она хотела нас представить, но я перебила ее каким-то
намеренным словом, она посмотрела на меня пронзитель¬
но — и понимая, и гневаясь одновременно. Прибегла к
беспроигрышному. «Смотри, какая у меня хитрая стенка,
здесь у меня весь универмаг». Я оценила и ремонт, и но¬
вый ковер на полу, и телевизор с рекламного ролика, и бар¬
хат штор. Гордые кувшины на фоне белой стены выглядели,
как всегда, изысканно, на дне одного из них Ольга когда-то
прятала деньги. Избранник засобирался уходить. Я уви¬
дела, как в прихожей его рука скользнула в высокий Оль¬
гин юбочный разрез и где-то там пробежала пальцами.
Ольга чуть замерла, лодыжка затвердела, и открытые в
высокой босоножке пальцы ног сжались... в кулачок. Секс
явно собирался сыграть вступление, и я была тут некстати.
Зачем же звала?
Закрыв за игрецом дверь, она встала передо мной с вы¬
зовом, и я поняла: она знает, что я видела. Хотелось ей ото¬
мстить, сказать что-нибудь эдакое о молодой старости, ко-
233
торая может быть долго невидимой, если ее не прятать на¬
меренно, пусть лежит открыто. И она же может так полос¬
нуть по глазам, когда начинаешь ухищряться. Ноя смолча¬
ла.
— Кто он? — спросила я.
— Классный мужик. Из Татарии... Все может быть...
— А что? Еще не было? — засмеялась я.
— Более чем, — ответила она. — Надо решать с се¬
мьей. Там такая идиотка жена...
Я засмеялась. Это случилось непроизвольно, как икота.
Я держала в руках самый мой любимый из Ольгиных кув¬
шинов — кубачинский. Я помню, как она сказала мне,
что больше не будет возить в Польшу утюги. Говорила и
разворачивала этот кувшин. «Дай его мне!» — попросила
я и взяла в руки тонкошеее, изломленное в восточной неге
чудо. Непостижимым образом похожее на утюг. Я пони¬
маю, что это чепуха. Я знаю, что для меня слово произ¬
несенное абсолютно формообразующе. Я из той странно¬
ватой категории людей, которые видят то, что слышат.
Интересно, каково бы мне было в мире немом? Как бы я
его постигала? Это вопрос на засыпку себе самой, той, что
засмеялась на слове «идиотка жена».
Мы с кувшином забыли, что мы тут не одни, что Ольга
слышит мой смех, а я, отсмеявшись спонтанно, забыла оп¬
ределить характер этого смеха. Видимо, он смеялся ядови¬
то... «О, засмейтесь, смехачи!» Я заметила, как второй
раз за маленькое время сжались Ольгины пальцы, теперь
уже на руке, сжались в кулак настоящий, не умственный.
«Сейчас она мне выдаст», — подумала я и даже ожидала
этого с некоторым нетерпением. Каково оно будет, ее сло¬
во? Про что? Про какую меня? Ту, что принимала ее безо¬
говорочно, или ту, что сейчас над ней смеется?
В кухне громкая капля выпала из крана. Я просто ви¬
дела ее набрякшую сферу, секундно отразившую кусочек
234
солнца, кусочек неба, кусочек дерева за окном, кусочек
мельтешения бытия, такого, в сущности, однообразного,
что капля брезгливо дернулась и упала навсегда.
Ольга еще продолжала стоять передо мной, интригуя
юбочным разрезом, и новой краской для волос «Велла! Вы
великолепны», и своим несказанным словом, но моя исто¬
рия о ней кончилась...
Жизнь, в сущности, вообще безнадежна. На ее выходе
известно, что... И поиски любви безнадежны, если на выхо¬
де прискорбный «треугольник мужчины». Но ведь каждому
свое. Мне не надо, а она будет трепыхаться до своих восьми¬
десяти двух... И будет еще много чего... Скоро, очень скоро
она не поборет женщину из Татарии, как не поборола ника¬
ких других раньше, даже покойницу Веру Николаевну. Бу¬
дет Кулибин возвращающийся-уходящий, будут роды у
Маньки и младенец, худенький и такой слабо пищащий, что
у нее разорвется сердце, но она его быстро-быстро сошьет
крупными стежками суровых ниток, потому что именно тогда
ей привезут партию французских платьев, сварганенных в
Корее, и этот странноватый товар с блескучими лейблами и
не очень качественной строчкой надо будет как-то трудоуст¬
роить, а именно в этот момент возникнет... Ах, Боже! Как
много всего заполняет жизнь по самую кромку, и живешь,
боясь расплескать, но что?! Что мы боимся расплескать?
И я ее кантую, свою дорогую подругу, кантую покрепче
от себя самой. В таком виде я могу разглядывать ее из да¬
лекого издали...
...Остается тайной — как она учуяла падение той по¬
следней капли? И мое ощущение ее падения? Бездарная со
всеми своими мужчинами, она хорошо понимала женщин.
С тех пор она мне больше не звонила...
Облегчение от отторжения нелепой и бурной природы
давно сменилось печалью. Мне не хватает Ольги. И я
смотрю на телефон, хотя хорошо помню ее номер.
235
Но сама я гожу. Тоже истинно российское состояние:
думать о природе бесконечного лукавства самого этого сло¬
ва «годить». Чем не занятие для пытливого ума!
Между прочим, синяки у немолодых леди сохраняются
дольше, чем у молодых. Это я к тому, что синеватый подтек
на бедре я регулярно набиваю углом стола, когда срываюсь
к телефону.
Я знаю формулу тоски. Ее вычислил великий таганро¬
жец. «Мисюсь, где ты?» — написал он. Беспроигрышный
способ для получения кома в горле.
Это Ольга-то — Мисюсь? — смеюсь над собой я.
«Но ничего не надо объяснять, если надо объяснять», —
сказал кто-то совсем из других времен.
Потому что если болит сердце по шалавой немолодой
подруге, которая где-то пропала в поисках окончательного
мужчины, а тебе хочется плакать и назвать ее Мисюсь, то
назови, заплачь и успокойся.
А к синяку приложи капустный лист...
ПОВЕСТИ
Lovectophh
I
...В эркере — как на носу корабля, но без качки.
В этом его безусловное преимущество. Из открытой фор¬
точки легкий сквознячок с запахом свежей травы: вчера
подстригали газон. Триста лет подстригали изо дня в день.
На этом зацикливаться не надо — собьешься с толку...
Начнешь думать: как и чем это делали в семнадцатом веке,
а оно тебе нужно? Нужен тебе семнадцатый век? То-то...
Тут ведь главное другое — фантомное чувство, чувство от
несуществующего! О! На него такое можно нагромоздить,
что бедному газону и не снилось.
Громожу...
Через него — газон, на котором стоит белое ажурное
кресло, — идет высокий, по пояс голый мужчина с махро¬
вым полотенцем через плечо. (Это надо читать и писать
быстро, быстро, как скороговорку.) Он шатен, в темных
очках. И у него глубокие выемки ключиц. Это у сутулова¬
тых непременно. Горб — ямка, ямка — горб.
Вот пока он идет через газон, я засыпаю. Что и есть
наиважнейшая цель. Поэтому доходит ли сутулый до дома
с эркером, я никогда не знаю.
Тут интересно и наблюдение со стороны. Как бы с ла¬
вочки у подъезда. Если тебе нужен для засыпания мужик
(гипотетический, фантомный), так пусть же он будет
стройным! На фига тебе эти чертовы выемки?
Чужая точка зрения — это далекая заграница. Новая
Зеландия, к примеру. На ее новозеландское мнение —
239
тьфу! Прислали масло «Анкор», и спасибо. И идите себе
дальше и дальше вниз головами. Кроме масла — неинте¬
ресны.
Возвращаемся в эркер.
Если не удается уснуть в момент существования в нем,
я помещаю себя на дорожку к дому. То есть я как бы сама
иду к нему. Тогда уже ключистый мужчина стоит в эркере,
но меня занимает не он — стоит себе и стоит, — а занима¬
ет дом, даже почти замок с заостренной крышей, от кото¬
рой у меня заходится сердце, и почему-то именно поэтому
мне хочется расплющить шпили и башенки.
В результате я выравниваю их остряки крыши до ази¬
атской плоскости, и тут уж наверняка... В борьбе готики и
сакли я засыпаю, победив красавицу готику.
Комплекс Тараса Бульбы: раз породила, то убью. Ко¬
нечно, после такого не спать бы, а в ноги Богу кинуться за
прощением, но где ж вы такое видели, чтоб мы после мыс¬
ленных убийств кидались в ноги? Мы и после других ку¬
шаем с аппетитом. Поэтому порушить воображаемую готи¬
ку все равно как муху шмякнуть свернутой газетой «Прав¬
да». И хватит про это.
Бессонница...
Есть еще третий способ — встреча с Королевой. Все
равно с какой. Дело в том, что в войну один немец худож¬
ник нарисовал мой портрет. Русская девочка с собакой и
шоколадом. Который он же и дал. Собака была моя. Такая
картина действительно была завершена до Сталинградской
битвы, и я даже поставила внизу свое имя, на что немец
сказал мне: «Данке шен, Анна! Молетец...» Так вот мое
воображение: эту картину как бы увидела одна из Коро¬
лев, посчитала на пальцах, что мы могли быть с ней ровес¬
ницами, и велела подать меня на обед. В ошеломлении от
возможной встречи я ищу целые колготки и, естественно,
240
засыпаю счастливой и утомленной. Надо сказать, что сама
картина немца по имени Вальтер (кажется) занимает меня
больше, чем Королева. Я так хорошо себя помню на ней:
худое, испуганно-любопытное, глазастое существо с двумя
неровными косичками. Холст. Масло, между прочим. Не
халам-балам.
Поэтому третий способ засыпания под названием
«Встреча с Королевой» популярностью у меня не пользу¬
ется. Хотя благодаря картине это самая реалистическая ис¬
тория. А вот эркер, газон — чистая выдумка, их не было
сроду. С сутулым мужчиной было неясно. Он был, и его
как бы не было.
Так с мужчинами бывает сплошь и рядом. Вот уж фан¬
томы так фантомы. Являются в костях, мясе и крови, цве¬
те, вкусе и запахе, а исчезают, как дым.
Но это я и вру тоже... Это проклятущая впадина клю¬
чиц... И еще запах... Запах мужчины, сидящего на полу и
завязывающего шнурки.
Идите вы к черту, современники победительных дезо¬
дорантов. Вы ничего не понимаете. Ни-че-го.
Долго и надежно срабатывали способы засыпания.
Ровно до того момента, как срабатывать перестали.
Однажды это ушло раз и навсегда. Все было как вче¬
ра — подушка, ночь, фонарь, аптека, но в подушке были
комки, ночь была серо-белесой, фонарь тускл, а в аптеке
не горело «т». И все это — комковатая подушка и безбук-
венная аптека — стояло насмерть, как у нас принято сто¬
ять, все держало мертвой хваткой. Пришло сознание: в эр¬
кер и к Королеве билеты кончились. Навсегда.
Я давно знаю: что бы там ни говорили материалисты,
мир вещей и звуков зависит только от меня. И если, не дай
Бог, на небе не взойдет луна или там припозднится по вре¬
мени, значит, заело что-то во мне. Ваше дело считать ина¬
че. Ваше дело подозревать, что мир фурычит не от меня, а
от вас. Или что он объективен и сам по себе. Ерунда.
241
Мои — небо, солнце, луна и аптека. Исключительно мои
подданные. Это я выбила цвет у буквы «т». Просто я не
люблю эту букву: тоска, трусость, тяжесть, труп, тлен.
Поэтому... Поэтому, когда рухнул эркер и Королева
каких-то там земель съехала от меня навсегда, я поняла,
что во мне случилась Большая Поломка.
Пришла подруга Валя и задала вопрос в лоб:
— Когда к тебе последний раз приставали на улице му¬
жики?
— Вчера, — сказала я.
— Врешь! — закричала она. — Врешь! К нам не при¬
стают! — И заплакала. — Зачем ты врешь?
Самое главное, я не врала: был какой-то эпизод, без¬
дарный, неинтересный, но с этого момента — момента
слез Вали, очень энергичной и деловой дамы, я начала ве¬
сти свой отсчет.
И очень скоро я обнаружила нечто. Как это бывает?
Идешь по улице, и незнакомый, совсем не твой мужчина
цепляет тебя взглядом. Молчаливое, даже некасательное
дело, но дивный миг пребывания в чужом глазу — как мо-
лодильное яблоко. Целый день ощущение уверенности,
силы, все ладится, горит в руках, а всего-то — тебя заце¬
пили глазом и чуть-чуть поносили в нем.
Моя Валя, которая раньше меня обнаружила эту утра¬
ту, кинулась на жизнь, как голодный хищник. Она разби¬
вала себе лицо о Париж и Лондон, приступом брала Рим,
с головой окуналась в Мертвое море, что было совершен¬
нейшей дурью, ибо щипало глаза. Но таким образом она
торила обратную тропу.
Легко сказать — торить тропу туда, откуда весь вы¬
шел. Хотя и сказать нелегко...
А Рим что? Он каменный, ему ничего не делается. Он
вечный. Но я скажу другое. Счастье, что мы не вечны и
пересыхаем. Потому что нет другого способа понять цену
жизни, как увидеть ее конец.
242
А эркер? Что такое был эркер? Это была тайная греш¬
ная молитва на ночь увлажнить пересыхающее лоно, это
была тайная мечта о любви.
Но, увы, и воображаемые эркеры трухлявы и конечны.
Конечно, можно конец сделать началом. Началом рассказа
о любви. О пребывании в глазу чужого мужчины. И бог с
ним — с Римом! Roma locuta, causa fenita. Гудбай, вечный.
Я о другом. О любви девочки, поедающей дармовой
немецкий шоколад, рассказанной самой девочкой, когда
она уже совсем выросла и стала мечтать о доме с эркером и
новом мужчине, а потом поняла, что ей это на дух не надо.
— Ты сошла с ума! — закричала подруга Валя. —
Как ты смеешь выбивать у нас табуретку из-под ног?
— Дура! — сказала я ей. — Я не выбиваю табуретку.
Я, наоборот, снимаю тебя с эшафота.
Но она хлопнула дверью и нашла какого-то ботаника,
невостребованного историей и женщиной. Она вымыла его
в шампуне и купила костюм в дорогом магазине. Ботаник
вскинулся душой и телом и решил — идиот, — что он со¬
здание нерукотворное, что он таким чисто пахнущим и ро¬
дился. Он посмотрел на мою подругу сквозь модные очки
и остался разочарован. Так и ушел от нее с дарованными
бебихами, а подругу пришлось срочно отправлять в Иеру¬
салим на моление. Она утыкала Стену плача просьбами о
любви, как млекопитающий броненосец, прошла по дороге
Христа и вернулась иссушенной, как фасолевый стручок.
— Бога нет, — сказала она. — Я не видела. Надеюсь,
ты не пишешь своего идиотского сочинения о нашем возра¬
сте? Это будет оскорбление нам всем. Американки после
пятидесяти только разговляются... Поздние сады — самое
то! А библейские дамы? Сколько им было? Мы против
них девчонки!
Наверняка я буду подвергнута...
Я подозреваю, нет, знаю точно — любовь по сути сво¬
ей беспола. Я помню свою первую детскую любовь — она
243
была к девочке. Я ведь не знала, что моя улица дурна и
грязна, что двухэтажный барак, выстроенный для шахте¬
ров напротив наших прикрытых сиренью хаток — урод¬
лив, что облепившие барак сараи некрасивы. Я не знала,
потому что не видела еще ничего другого. Провидение вы¬
садило меня на эту территорию и сказало: «Живи». Сам
процесс жизни оказался весьма интересным.
Поэтому я и не умерла, хотя за мной то и дело прихо¬
дили оттуда, и мама и бабушка отбивали меня от смерти
как могли. Выходя из очередной болезни, я опять и снова
ликовала, что ножки и ручки дрыгаются, глазки смотрят,
некрасивость окружающей меня действительности ну ни¬
как не задевала мое существо.
Пока я не увидела красоту.
Девочку-ровесницу, волею партийных передвижений
ее папы оказавшуюся на соседней улице, прикрытой на¬
шими домами от черного по сути и по цвету барака. Де¬
вочка в матроске с красивыми белокурыми волосами шла
за катившимся мячиком и встретила меня, босую, худую,
в цыпках и в одних ситцевых трусах, потому что носить
что-то над трусами нужно не было. И долго, между про¬
чим.
— Меня зовут Мая, — сказал она. — А тебя?
До сих пор сжимается сердце, когда я вспоминаю это
пронзившее меня обожание. Была бы у меня сила, я носила
бы Маю на руках, потому что земля была явно недостаточ¬
но хороша для ее туфелек. Я водила ее за ручку по нашим
колдобинам и выбоинам, хотя, как выяснилось, она была
старше меня на год. Я убирала с ее дороги камни и ногой
отбрасывала собачье дерьмо. Я подымала над ней ветки
сирени и усаживала на пенек, покрыв его чистым полотен¬
цем из комода. Засыпала я с мыслью, как отталкиваю ее в
тот страшный миг, когда она оказывается рядом с глубокой
ямой градирни, которая жила рядом с нами и была всегда
открыта. Уже сейчас думаю — почему никто из взрослых
не пытался ее прикрыть или огородить?
244
— Осторожно, градирня! — кричали родители, выпу¬
ская нас на улицу. Вот и вся техника безопасности.
То было раннею весной... Перед войной то было.
Поклонение мое длилось... Поспела война, а с ней и
эвакуация, которая случилась уже в июле или даже июне.
Начальство бежит скоро. Это нехитрое наблюдение у меня
с младых ногтей. Майна мама передавала шоферу чемода¬
ны прямо в распахнутые окна, сама же Маечка стояла на
крылечке с огромной куклой с закрывающимися глазами.
Такой куклы не было ни у кого из нас, и остающийся у
немцев детский народ, замерев, смотрел на красавицу как
бы в последний раз. Мы тщательно запечатлели ее в серд¬
це и были в этот момент тихие и сосредоточенные. Я же
смотрела на Майну руку, согнутую в локте, на рябинки
оспы на плече... Да плевала я на куклу! Я хотела одно¬
го — чтобы Майна мама взяла меня с собой. Я готова
была стать чемоданом, баулом, обшитой сверху вафельным
полотенцем корзиной... Чем угодно... Могла ли я знать,
что мое худенькое тело выбрасывает в космос такую энер¬
гию, что не считаться с ней просто уже нельзя. Ток срабо¬
тал, и я на всю жизнь оказалась приваренной к Мае. Бог,
смилостивившись, даровал мне неотделимость от обожае¬
мой подруги, дав от щедрот своих одну на двоих любовь к
мужчине.
Назовешь ли это даром небес?
Не сработало ли ведомство-антипод?
Мне бы тогда уйти с прощального крылечка, мне бы
впасть в очередную смертельную болезнь... Но несчастное
дитя было, к несчастью, здорово. Оно страстно желало и
таки вымолило свою судьбу.
Что было потом? Вспоминала ли я Маю? Не знаю, не
помню. То ли война оказалась достаточным отвлекающим
фактором, а может, я болела с горя, но в памяти совсем
245
другие воспоминания. Например, первая правильная лю¬
бовь — к мальчику, который мимо нас носил воду. Каж¬
дый раз, когда он передыхал с полными ведрами у нашего
забора, бабушка говорила ему: «Ты бы, Витя, брал коро¬
мысло». Но Витя, чуть приседая, хватался за дужки ведер
и упрямо качал головой. На коромыслах воду носили жен¬
щины, и только бабушкиной ядовитостью можно было
объяснить такое предложение мальчику. Естественно, я
его полюбила за муки таскания воды и за мужскую гор¬
дость.
Приход и уход немцев, возвращение людей из эвакуа¬
ции, конец войны, уроки «военного дела» в школе — тем
не менее! — «встать — лечь, встать — лечь», школьный
хор, где я тоненько выводила: «Ура-а-ал голубой, золо-о-
о-тою судьбой тебя-я-я наградила Росси-и-ия...» Потом
оказалось: навыла себе судьбу, занесло меня на голубой
Урал в самое что ни на есть время — кыштымский взрыв.
Но это другая история.
А однажды... Однажды летом, перед самым десятым
классом, по нашей улице прошла Мая. Помню себя в гама¬
ке под яблоней — мое любимое место, — из которого со¬
всем не видно окончательно зачерневший барак и спарен¬
ную с соседями уборную. Я примостила гамак одним кон¬
цом к яблоне, другим к летней кухне и из этой западни ви¬
дела только приятный глазу кусок улицы. Ветки жухлой в
августе сирени были тут кстати.
Итак, я в гамаке. Плачу. У меня на груди «Домби и
сын». Их всего три в природе, книги, над которыми я пла¬
кала, как говорили раньше, горючими слезами. Это «Дом¬
би» Диккенса, «Метель» Пушкина и «Обрыв» Гончарова.
И надо же тому быть, что Мая появилась именно в
плакучий момент. Хоть прошло больше десяти лет, я узна¬
ла ее сразу по не нашему фасону платья и по белым локо¬
нам, которые носить в школе не полагалось. Правда, я
как-то сразу сообразила, что она на год меня старше, а
значит, уже не ученица.
246
Мне бы взлететь из гамака, мне бы кинуться к ней, но,
видно, десять лет и в юности могут в момент отяжелить и
ноги, и сердце. Я слушаю, как ухает в груди, как меня за¬
тапливают счастье и нежность, я замираю, закрыв глаза,
пока не слышу насмешливый бабушкин голос:
— Ну где ты там, изба-читальня? Тут Мая приехала.
Что до войны тут жила...
Как будто мне надо было объяснять, кто она есть.
Я поднялась, остро ощущая все несовершенство собствен¬
ной природы. Костистые пальцы ног, худые длинноватые
руки, тонкую шею, которую я все время подозревала в на¬
личии кадыка, сеченые прямые волосы, заплетенные в две
невыразительные косички, смуглость кожи, никогда не
освещенную румянцем, которую мама раз и навсегда опре¬
делила как «плохой цвет лица». И на всем этот неказистом
теле еще более неказистый сарафанчик из старого мамино¬
го платья, рухнувшего в районе груди и рукавов. Такие но¬
шеные платья легко трансформировались в летние сара¬
фанчики для подрастающих дочерей. Дольше всего слу¬
жили подолы, превращаясь в юбочки для младших сестер,
потом в кухонные занавески, потом в ножные полотенца,
мешочки для крупы и, наконец, в тряпочки для пыли. Пре¬
бывание в роли тряпочек длится почти бесконечно. Приез¬
жая через много-много лет, я обязательно находила на
другой службе материю своей жизни. Наволочка на «ду¬
мочке» из выпускного платья. Абажурчик на сгоревшем
торшере из блузочки на первую зарплату.
...Как далеко может увести подол старого сарафана...
Если над ним замереть.
На негнущихся ногах я пошла навстречу Мае. Мне
страшно^ мне радостно, мир сдвинулся...
— О, какая ты! — сказала она с плохо скрытым жен¬
ским удовлетворением.
— Ни черта не ест! — прокомментировала бабуш¬
ка. — Одни семечки. А ты как была хорошенькая, так и
осталась.
247
Она посмотрела на меня, как бы пытаясь сравнить, и я
видела, что ей стало обидно за невыгодное сравнение.
Но я и тогда уже знала: так просто бабушка меня не
сдаст.
— Есть красота ранняя, а есть поздняя. У нашей дру¬
гая порода. Блондинки вянут быстро, ты это, Мая, по¬
мни...
И бабушка ушла, проведя легонько меня по лицу, — до
сих пор помню этот ее легкий ворожбливый жест. Помню,
что я рассмеялась и сказала радостно и естественно:
— Маечка! Я так тебе рада.
Она улыбнулась, как улыбалась в детстве, все во мне
перевернулось, хотелось снова и снова водить ее за ручку и
поднимать перед нею ветви.
— А знаешь, — сказала Мая, — я уже замужем.
Полтора месяца...
Оказывается, бабушка подслушивала. Потому что она
тут же выскочила из летней кухни и, размахивая полотен¬
цем, закричала:
— Нюра! (Это имя плохого ко мне отношения. Аню¬
та — это когда я в ее любви, Анеля — когда бабушка в
гневе, Нюся я — только по хозяйственной нужде.
Нюра — это конец света. Это когда я и дура, и неряха, и
хамка, и меня не то что любить нельзя, на меня смотреть
противно.) Нюра! Тебе сказано полы мыть или?..
Мне не было сказано. Мытье полов — дело тяжелое и
громоздкое, оно обговаривается заранее, и такое в нашем
доме не забудешь.
Бабушкин выпад был прозрачен, как капля росы: нече¬
го водиться с замужними. Дело в том, что к десятому клас¬
су уже случилась парочка историй, закончившихся браче-
ванием. Уму непостижимо, но в моей семье это вызывало
шок на неделю или месяц. Выскочить «раньше времени»
было в табели грехов самым страшным. Похоронить в дет¬
стве лучше. Мама и бабушка тут же проводили демаркаци-
248
онную линию, дабы я никогда и ни за что не могла пере¬
сечься с этими «распутными дурами», с этими «живущими
передком», с этими «так называемыми женами».
Между прочим, и не пересекалась. Сейчас я думаю —
как же так? Крохотный городок, всего ничего улиц и мага¬
зинов, куда же они девались, эти так называемые? Этот
почти мистический аспект имел простое житейское объяс¬
нение — мы не совпадали во времени. Пока я сидела в
школе, «живущие передком» шли в магазины и на базар,
стирали и вывешивали белье, мели двор, носили воду, а
когда мы — нормальные девочки — возвращались из
школы, они старались не выходить на улицу, потому что
сознавали греховность своего раннего замужества. Даже
самое счастье-рассчастье не могло поколебать сего. Таким
был устой.
Поэтому истошные крики бабушки в день прихода Маи
были мне понятны, хотя и стыдны. Одно ей оправдание —
она сбилась со счета. Она не знала, что Мая старше на год
и уже имеет права на другой образ жизни.
У Маи всю жизнь удивительное чутье на плохое к себе
отношение. Она его ухитряется уловить заранее, чтоб тут
же вмешаться и превратить плохое в хорошее. Это умение
сохранить вокруг себя баланс благожелательности, благо¬
расположенности у нее до сих пор.
— Я уже студентка, — говорит Мая моей бабушке. —
У меня серебряная медаль, поэтому я без экзаменов посту¬
пила сразу.
— Вот видишь, — сказала мне сбитая с главной мысли
бабушка. — Надо стремиться к медали.
Она еще постояла немного на крыльце, раздумывая,
как быть, если правила соблюдены, а порядка как бы и нет
и опасность соблазна идти не тем путем осталась. Бабушка
боится не просто так, она знает, чем это кончается. И я
тоже это знаю. В нашей семье было тайное преступление,
совершенное бабушкой. Ее самая младшая и самая умная
(такова легенда) дочь умерла после неудачного аборта, на
249
который бабушка ее отвела собственной рукой. Сонечка
только-только поступила в институт, пройдя откатку на
шахте и рабфак, чтоб изменить позорную графу «служа¬
щая» на «рабочая», и на первом же месяце учебы выскочи¬
ла замуж и забеременела. Я не помню всего этого, я тогда
только родилась, но мне рассказали, что мое уже суще¬
ствование было фактором в истории Сонечки отягощаю¬
щим. Боливар-дедушка вынести двоих-четверых дочек-
внучек не мог, не тот у него был оклад-жалованье. И по¬
этому все силы были брошены на образование хотя бы од¬
ной дочери, чтоб уж она... «Не погрязла», — говорила ба¬
бушка.
Сонечка умерла. Образ беременности некстати стал в
семье кошмаром посильнее, чем даже случившаяся потом
война. В войну мы остались живы, а беременность-смерть
сломала семье позвоночник: дедушка согнулся в три поги¬
бели, а бабушка расцвела экземой. Поэтому отношение к
ранним бракам было у нас непримиримым, жестоким, как
говорила уже мама, — вплоть до. Свою дочь я выдала за¬
муж в семнадцать лет, и это был мой ответ Чемберлену и
воспитанию. Но это потом, до этого еще жить и жить...
А пока мне самой столько, сколько через много лет будет
моей дочери, и я стою с обожаемой в младенчестве подру¬
гой и чувствую, что мое обожание никуда не делось, оно
жило во мне и ждало своего часа.
— Мы в старой нашей квартире, — сказала Мая.
Все стало на свои места. Последнее время мы все вре¬
мя слышали стук и грюк на соседней улице.
Дело в том, что еще в начале войны, вскоре после
отъезда семьи Маи в эвакуацию, их квартиру заняла некая
многодетная.
У бабушки — экстремистки в определениях — она
схлопотала короткое и брезгливое слово — тля. «Такая
тля». Бабушка раз и навсегда сделала тле окорот: мимо на¬
шего забора воду не носить, траву козе в наших пределах
не щипать, детей своих оглашенных на нашу улицу не пу-
250
скать. Тля, по имени Клавка, бабушкины правила, как ни
странно, приняла, что бабушкино сердце не смягчило. Ког¬
да мы узнали, что Клавку срочно выселяют в барак за бал¬
кой, место со всех точек зрения нехорошее, бабушка нело¬
гично прокомментировала:
— Она, конечно, тля, но так нельзя. Вон — и все...
Хотя можно подумать, я ждала от них другого.
Они — это власть. В нашей семье ее ненавидели и бо¬
ялись. Это как бы огонь и вода. Огонь-ненависть тут же
гасилась водой-страхом. Запах гари оставался и свиде¬
тельствовал... Вода всегда была в запасе, и, если быть до
конца честной, ее было гораздо больше, чем огнищ. Но это
к слову. Это бантик не в цвет на коробочке с историей о
совсем другом.
Мы узнали, что Маечкин папа приехал к нам началь¬
ствовать и ему — стук-грюк — перестраивали бывшую
хорошо поношенную Клавкиной семьей квартиру. В дом
велся водопровод, менялись рамы и двери, а когда чистили
сажу, то у ближайшей к дому соседки выстиранное белье
погибло напрочь. «Теперь даже сажу не умеют чи¬
стить», — удовлетворенно сказала бабушка.
Я хотела пригласить Маю в дом, но это было бы черес¬
чур смело. Я не была уверенной, что Мая поведет пра¬
вильный разговор. Ведь наличие бабушки поблизости с ее
бдительностью и страхом за все мои возможные для совер¬
шения глупые поступки — вещь сокрушительная, поэтому
я увела Маю от греха и от дома.
Мы гуляли по переулку, вдоль черного барака, туда-
сюда, и, если я точно соответствовала месту действия —
смуглая в черноту, в обносках, «с голодными и жадными
очами»,-часть, плоть этой унылой и пыльной улицы, где
без воды жухнут акация и сирень, а сморщенные их ли¬
сточки забиты шахтной пылью, как забиты и наши
поры, то вот Мая... Мая здесь выглядела так же, как
выглядела бы английская королева, случись в ее «ролс-
ройсе» поломка в районе Савеловского вокзала и ей бы,
251
венценосной, пришлось шагнуть из машины в жижу сне¬
га и грязи, а мы бы шли мимо, потому что — что нам
королева? Тоже мне событие... Тогда же молчал и смот¬
рел барак.
Мая рассказала, что муж ее — студент-железнодо¬
рожник — ищет сейчас им квартиру в Ростове, где они
будут учиться, что он у нее необыкновенный («Уви¬
дишь!»), что они сюда вернулись из-за близости к Росто¬
ву («Можно доехать за три часа на машине»), что, ко¬
нечно, она не собиралась замуж так рано («Были гранди¬
озные планы, но такие люди, как Володя («Увидишь!»),
встречаются раз на сто тысяч, а может, и миллион»). Он,
оказывается, приезжал в Среднюю Азию в гости к своей
тете на зимние каникулы («Она у нас преподавала исто¬
рию, совсем молоденькая»), мы познакомились, ну и...
(«Ты понимаешь...»).
— А что с учительницей истории?
Вот объясните мне, Христа ради, что мне эта учитель¬
ница? Почему из всех возможных, сидящих на кончике
языка вопросов я задала именно этот? Почему потянула из
клубка именно эту ниточку?
На это ответа нет. Хотя — наверное — именно так,
неожиданным секундным озарением, приходит к нам осте¬
режение из тех пределов, где все уже известно. Но человек
глуп и самоуверен. Ему бы затормозить на знаке, но он,
видите ли, знает, куда ему надо. У него, идиота, как бы
права вождения всюду. И он пришпоривает коня ли, вре¬
мя, судьбу, а то и все вместе сразу...
А ведь было остережение, было!
Это был день счастья — встреча с Маей. Стало безу¬
словным — получив медаль, я тоже поеду учиться в Ро¬
стов.
Мне не читалось, что было фактом удивительным, я ле¬
жала в своей полудетской кровати (к детским спинкам де¬
душка приладил сетку от взрослой кровати), лежала тихо и
252
умиротворенно, такое состояние потом переживется после
родов — освобождение, любовь и счастье.
Теперь надо рассказать о Встрече. Я несла в кошелке
хлеб к обеду, а они шли мне в лицо — Мая и Он. Высо¬
кий, белокурый, в очках. Ну что там говорить? Не счита¬
лись у нас очки атрибутом красоты и мужественности.
Как-то не годилось их носить парням, принижали их очки
в авторитете.
Я тут сделала остановку и полезла в ящик со старыми
фотографиями — ни одного парня в очках. Потом один
старый приятель мне рассказал, как он случайно, уже сту¬
дентом, надел очки своей сокурсницы и обалдел от увиден¬
ного: он, оказывается, не знал мира, хотя, как говорит,
вовсю в нем участвовал. «Я украл эти очки, — сказал
он. — Такие корявые, старушечьи, с металлическими дуж¬
ками... У меня развился комплекс вины за свое раньшее
«слепое» поведение. Дело даже не в том, что я не видел
грязи на себе и вокруг, что само по себе стыдно. Я был ос-
лепленно, самодовольно глуп. Это я понял мгновенно, уви¬
дев собственные жирные угри на коже».
Когда приятель мне это рассказывал, я уже вышла из
пещеры и мужчины в очках не казались мне физическими
уродами.
Но тогда, с кошелкой с хлебом, я еще несу в себе эстетику
моего барака напротив... Все мое детство он, черный и гряз¬
ный, торчал перед глазами, хотя беленькие занавесочки на на¬
ших окнах в его сторону всегда были задернуты. Бабушка
презирала барак, но, что делать, он часто был сильнее...
Мая познакомила нас. Конечно, я оробела и смутилась.
Это был первый «чужой муж» в моей жизни. У него была
твердая сухая ладонь, и он довольно крепко сжал мои
пальцы. Я нервно подумала, достаточно ли они у меня чи¬
сты и не пахнут ли чем-нибудь не тем. Я хотела быстрень¬
ко рассмотреть себя со стороны, но поняла, что опоздала.
253
Серые глаза за очками очень внимательно, с непонятным
мне удивлением ощупывали меня тщательно и бесстыдно.
Рядом с Маей подвергнуться такому обследованию равно
уничтожению. Но у меня ни гнева, ни протеста, а одно му¬
чительное моление: «За что?»
Они идут меня провожать. Я не знаю, как ставить
ноги. Я чувствую западающую между колен юбку. Она
простая, ситцевая, но как скребет по телу! При чем тут
юбка? Это друг о дружку царапаются мои ноги, неуклю¬
жие, худые, в стареньких маминых босоножках.
А тут еще дряхлая кошелка. Плетеная, с двумя ручка¬
ми... Их уже не носят даже у нас. Через сорок лет вернет¬
ся на них мода, как на русскую экзотику. Но ту, с бухан¬
кой хлеба, обтрюханную в очередях после войны, я прокля¬
ла на всю свою жизнь.
Необходимые уточнения.
Я была вполне бойкая девица.
Была остроязыка, конечно, при условии, что близко нет
мамы и бабушки.
Начитанность моя в миру была недосягаемой, и я могла
уболтать любой народ прочитанными (и выдуманными)
историями.
Я, как теперь говорят, все просекала быстро и умно, и
мне за мою прозорливость даже попадало. Никакие та¬
мошние деревенские хитрости не были тайной — я читала
их с листа.
У меня было два обожателя — из школы и ФЗУ, и я
подло играла с ними попеременно, считая это дело святым
и праведным.
Исходя из последнего, можно предположить, что не
столь никудышными были мои заплетающиеся ноги и про¬
чая география тела, бабушка с удовлетворением говорила,
что у меня не то что красивое (нет, нет!), а редкое лицо, на
котором «написан ум».
Я к чему? К тому, что не было основания робеть и те¬
ряться перед новым знакомым. Но случился удар судьбы,
254
и мы трое на крохотном пятачке пространства жизни были
выслежены и расстреляны каким-то переростком с крыль¬
ями, эдаким омоновцем неба, который обрадовался, что
одной стрелой попал сразу в троих. Возможно, ему грозили
неприятности за то, что он опустошил колчан не по делу,
играя с собратьями по крыльям — утками. Такие дурехи!
А ведь стрелы кладовщик выдавал по счету и теперь мог
спросить, куда дел, купидон-переросток, а тут такой
фарт — трое на солнцепеке, трое в рядочек, так и наниза-
лись, малахольные, на одну стрелу, как на шампур. Так
удобно для засовывания в огонь. Просто рационализатор
этот амур-омоновец: один выстрел, и получай отгул. Мож¬
но будет похамить не только с утками. Лебеди давно нары¬
ваются.
Но мы тогда еще не знали, что обречены. Мы плелись
по улице. Мая изящно дула в сарафанчиковый вырез («Та¬
кая жара, люди!»), Володя снял очки, белый, незагорелый
след от дужек полоснул, как бритва, я схватилась за
шею — она была чужая и вздрагивала.
Кто-то гнусно хихикнул в мареве жары.
А потом кончилось лето.
И снова был отъезд с Манного двора, на этот раз
счастливый, в маленький автобус укладываются широ¬
кий матрац, подушки, овальное зеркало, коробки с по¬
судой. «Кондоминиум», — говорит Майна мама чужое
слово.
Я — на подхвате. Что-то ношу, что-то вяжу, что-то
утрамбовываю. Во дворе еще остро пахнет краской после
ремонта, она еще и вовсю мажется, во всяком случае, у
меня, порывистой, все руки выгвазданы. Я отхожу в сто¬
ронку и пытаюсь оттереть пятно вьпйе локтя.
— Давай я, — говорит Володя, — тебе неудобно.
Он ведет меня в глубину двора, где торчит новенький
255
водопроводный кран специально для хозяйственного полива.
Володя снимает с крана шланг и начинает мне мыть руку.
Я пропадаю во времени и пространстве. Я понимаю: то,
что между нами происходит, не имеет никакого отношения к
«оттиранию пятна краски». Плечо, рука, вода совершают не¬
что такое, что самый крутой современный секс может быть
дисквалифицирован. Свершилось все, хотя, в сущности, не
случилось ничего. Я слышу его сбивающееся дыхание, его
пальцы, которые то гладят, то терзают мою несчастную, обе¬
зумевшую руку. Какими-то еще выжившими органами само¬
сохранения я чувствую: своей спиной он закрывает меня от
окон дома, прячет наш очевидный Богу грех, и я благодарна
ему своим умирающим сознанием, даже улыбаюсь ему за это
и вижу в распахнутом вороте рубашки глубокие впадины
ключиц. Я погибаю от желания тронуть их, и, кажется, я это
даже делаю другой, еще пока безгрешной рукой.
— Где ты взялась на мою голову? — говорит он мне.
А может, не говорит. Может, это говорю я. Или мы вме¬
сте? Или мне все это снится.
— Володя! — слышу я сквозь миры голос Маи. — Где
ты там?
Значит, она знает, что мы там, думаю я. Она умная,
моя любимая подруга. Она поняла сразу.
Он сжимает мне напоследок руку, плещет себе в лицо
холодную воду, убегает.
— Иду! — кричит он. — Я снимал шланг с крана.
Анька испачкалась в краске.
Мне кажется, я не уйду отсюда никуда. Я не заметила,
что весь подол у меня забрызган, ноги мокрые абсолютно и
мне холодно от ледяной воды.
Прибегает Мая, видит меня, смеется:
— Мокрая курица! Пойдем, папа налил на посошок.
Пойдем!
Так я и вступила мокрыми ногами в свое предательство.
Ничего не разверзлось, ничего. Мы стояли кучкой в столо-
256
вой, держа за тоненькие ножки рюмки с вишневой налив¬
кой. Папа говорил речь, мама шмыгала носом, Мая хихика¬
ла, мне же безумно хотелось лизнуть мое грешное неоттер-
тое пятно. Меня было как бы две. Одна — мокрая девочка,
хорошая подруга и другая — жадная, падкая на наслажде¬
ния, спятившая особь, о которой я до сих пор даже не подо¬
зревала. С ней надо было что-то делать. Вязать там или за¬
талкивать в погреб, она была опасна для окружающих. Спу¬
щенная с цепи, она готова была сожрать свою (свою!) стыд¬
ливую половину, становящуюся как бы наперекор ей.
Хорошо, что всем было не до меня. Хорошо, что Воло¬
дя, выпив наливку, вышел из комнаты, мне даже стало лег¬
че, и я смогла себя — другую — лягнуть.
Потом все пошли к машине. Стали целоваться, Володя
первым вошел в автобус и уже оттуда посмотрел на меня.
И я поняла, что его тоже два. Иначе зачем так радостно
взвизгивать моей порочной половине?
То, что он устраивает среди подушек место своей моло¬
дой жене, а моей любимой подруге, значения не имело.
Это было не считово.
На следующий день на моей руке проступили синяки.
— Кто это тебя так? — подозрительно спросила ба¬
бушка.
— Сама, — сказала я. — Оттирала пятно.
Вралось как пелось.
В школе было скучно и противно, и, если бы не необхо¬
димость получить медаль, даже не знаю, что бы я делала.
Необходимость же усаживала учить уроки и окорачивала
ту меня, другую, что расположилась во мне широко и на¬
долго. Из того крошечного пятиминутного фильма с рукой
и пятном в главной роли другая я намастырила многосе¬
рийный эротический фильм, который крутила беспрерыв¬
но. Что я себе только не воображала! Мама с удивлением
отметила, что за это лето я похорошела. Но я-то все про
себя знала. Все!
257
Мне даже не интересно было слушать комплименты,
так как в моей тайной жизни я слышала еще и не такое.
Думала ли я о Мае?
Она писала мне письма, говорила, что учиться ей скуч¬
но, что она не знает, зачем ей этот романо-германский фа¬
культет. Нет у нее тяги ни к языкам, ни к их народам.
Надо было идти в медицинский, но там химия... Она пи¬
сала, что ждет меня не дождется, что они с Володей найдут
для меня угол, может, даже у их соседки. Больше всего ей
в Ростове нравятся пончики с кремом, которые продают
возле гастронома, и солянка в кафе «Дружба». Володя мне
как бы посылал привет.
Я продолжала нежно любить Маю. В моем чувствова¬
нии они оба были разъединены до конца, до упора и нигде,
никак не пересекались. Меня бил колотун, когда я думала
о Володе и о том, что между нами случилось возле водо¬
проводной колонки. Однажды после школьного вечера
меня поцеловал очень хороший мальчик, который был
влюблен нежно и отстраненно.
Я сама протянула ему лицо, губы и была потрясена аб¬
солютным бесчувствием своего тела. Оно не вздрогнуло,
не заискрило, равнодушный орех мозга бесстрастно отме¬
тил запах зубной пасты, закисшую лунку глаза, вспухаю¬
щий прыщ на переносице и враз повлажневшие его ладони,
которые он украдкой вытер о собственные штаны.
Пришлось быстренько рвать когти.
Несмотря на все это, на весь мой немыслимый мыслен¬
ный грех, я любила Маю, а главное — никаких угрызений,
никаких...
Грешная любовь и верная дружба так нежно соседство¬
вали в сердце, так досыта напивались соков из одного ко¬
лодца, что, возможно, это и было то самое слово, которое
говорилось в нашем доме в ситуациях экстремальной без¬
нравственности: разврат. Произнося его, мама и бабушка
делались выше ростом и как бы каменней. Столь же не-
258
примиримо тонкогубыми они становились, когда речь шла
«о порядках». То же гневное побледнение, поднятый вверх
топориком подбородок и железная прямота спины.
В маленькой во мне это вызывало ужас.
...Нет! Сейчас во мне не было ужаса. Я не была раз¬
вратной, я не была предательницей... Истинность моей
любви определялась самым главным — отсутствием нена¬
висти, невозможностью ее пребывания во мне.
Но долго так жить нельзя. Бог милостив, он вовремя
дарует нам спасительную нелюбовь. Просто в биологиче¬
ских целях — для выживания. Но это сегодняшнее знание.
На октябрьские праздники Майн отец послал за ними в
Ростов машину.
В нашей семье этот праздник отмечался — см.
выше — твердой спиной. Бабушка утром говорила маме:
«Поставь графин на стол. Для блезира».
Брат бабушки был расстрелян, а сын сидел в тюрьме.
Брат дедушки был расстрелян тоже. Отец бабушки был
раскулачен и сослан. Ее мачеха спилась и приходила про¬
сить на пол-литра.
Таким был пейзаж эпохи. И я уже успела побывать с
бабушкой в Бутырке и поговорить с дядькой через решет -
КУ'
В моей жизни было два не подлежащих классификации
и нумерации факта.
Во время оккупации немцы открыли церковь в здании
старого храма со снесенной колокольней.
Естественно, в нем был склад. Вот в этой церкви-скла¬
де, похожей на пацана-новобранца с круглой бритой голо¬
вой — ощущение бритой головы тогдашнее, все мальчиш¬
ки были бритые наголо, — так вот там возродилось моле-
259
ние. Народу набивалось битком, и бабушка, взяв меня на
руки (пропустите с ребенком! пропустите с ребенком!), до¬
несла меня до главной иконы — не знаю какой — и сказа¬
ла: «Думай про хорошее и поцелуй ее».
Я поцеловала без мысли. Не смогла сформулировать
хорошее, чтоб его хватило на поцелуй. Сколько лет про¬
шло, но я осталась — как теперь говорят — человеком
неоцерковленным.
Моя Вера и мой Бог теряются в церкви, они в ней —
Господи, прости — глупеют. Я ничего не могу с этим поде¬
лать. Мои долгие и трудные разговоры с Богом, которые я
веду вне храма, в церкви мельчают и дробятся до соб¬
ственной ничтожности, и я ухожу, чтоб не сказать — убе¬
гаю. На какой-нибудь тихой лавочке Бог возвращается ко
мне и каждый раз говорит мне одно и то же: «Дура!» —
«Прости меня, — говорю я ему. — Я не умею вести себя
в храме». — «Ты много чего не умеешь», — смеется Бог.
«Ну, извини, тупые в жизни тоже нужны. Ты сам их за¬
чем-то придумал». — «Да ладно тебе... Верующий имеет
свидетельства в себе самом». — «Это кто сказал?» —
«Ну ты совсем... Это я тебе говорю!» — «Я должна на
кого-нибудь сослаться... Иначе нельзя. Что значит — ты?
А озвучил кто? Иов? Екклезиаст? Иезекииль?» — «Нет
на тебе креста!» — «Есть! Вот! Не золотой — простой...
Ты на самом деле считаешь, что верующий имеет свиде¬
тельство в себе самом?..»
Разговорчики, скажу я вам. Но я препираюсь с Ним
уже давно. Временами мы очень не устраиваем друг друга.
А все началось с разбежавшихся во все стороны мыслей в
церкви Голобритого Новобранца.
...такие Голые, Бритые и Стриженые церкви попада¬
лись мне сплошь и рядом в первый приезд в Москву на
свидание в Бутырку. Тоже факт без нумерации. Сам по
себе.
260
Бабушка сказала:
— Тебе там может захочется плакать. Так не надо. Ду¬
май о хорошем. Дядя Леня обязательно выйдет и покажет,
как надо играть Листа. У него такая техника, такие паль¬
цы...
У дядьки были расплющенные ногти, раздутые суста¬
вы, и я смотрела только на них...
А Листа он мне сыграл, вернувшись в пятьдесят ше¬
стом. Это был спотыкающийся на каждом шагу, старый,
астматический Лист.
Он давно впал в маразм, воображая, что остался музы¬
кантом. Он забыл ноты, путая белые и черные, не подо¬
зревал об этом, но это было прекрасно. Дядька вернулся.
У поздней дочери дядьки великолепные руки пианист¬
ки. Она играет Листа и думает, сколько купонов у нее ос¬
талось до зарплаты. Своими дивными пальцами она шьет
детям все, даже зимнее пальто. На исколотых подушечках
Лист вздрагивает и синкопирует. Этакий Лист-портняга.
Почему-то тут я плачу.
— Ты выросла! — прокричал мне дядька. — Стала
похожа на Ксению.
— Ксения умерла, — прокричала в ответ бабушка. —
Скоротечная чахотка.
Ксения — сестра отца, с которым мама развелась.
В доме не говорят о «той семье». Но что взять с заключен¬
ного? Он не в курсе, он вторгается словами, не соображая,
о чем можно говорить, а о чем нельзя. И я постигаю одно
из заурядных свойств тюрьмы: отставание от быстротеку¬
щей жизни.
Так вот октябрьские праздники в нашей семье — празд¬
ники, так сказать, условные и графинчик у нас — для бле¬
зира.
261
Но я жду Маю. Жду Володю. Они-то гости на самом
деле! Майна мама рассказала моей, что обязательно шьет к
этому празднику вещь. В этот раз у нее шерстяной костюм
с бархатной лиловой вставкой.
Мама смеется над дамами-начальницами: «У этих
шмар у всех будут платья с одинаковыми вставками».
Я старательно мою полы без предварительного напоми¬
нания мне об этом. Тру посыпанные содой доски веником,
залезаю в углы. Встряхиваю дорожки с комода и трюмо,
выдуваю пыль из бумажных выцветших роз.
Содой же полощу и «графин для блезира». Во всякой
бы другой семье могла получить поощрение за тщание.
В нашей же, прямоспинной, отмывание липкого от наливки
графинчика всколыхнуло совсем другое.
— Лучше бы решала задачки по математике. Тоже мне
нашла дело для девушки — мыть этот графин. Это ж куда
тебя ведет?
Бабушка проговорилась. Она назвала меня девушкой,
чего не было сроду. Я в семье девочка, девчонка, еще ре¬
бенок... Мой рост задерживают намеренно, с целью... Та¬
кова стратегия правильного воспитания.
Графин для блезира всколыхнул дидактические редуты.
В семье не слышно для меня прозвучал сигнал тревоги.
Мая и Володя ехали долго. Шофер по дороге разжи¬
вался вяленой рыбой, сухим вином, яблоками. В газике, в
котором они едут, вкусно пахнет. В этом запахе они при¬
едут завтра вечером.
Я узнала о моменте их приезда сразу. У меня из рук
выпала книга и остановилось сердце. Пришлось закаш¬
ляться, чтоб его пустить снова. Было десять вечера, тогда у
нас еще не было телевизора и спать мы ложились рано.
Дедушка ходил, проверял замки и запоры, закрывал став¬
ни, деревянным брусом задвигал калитку. Все по очереди,
обстоятельно ходили в уборную, бабушка последней задер¬
живалась на крыльце и тихонько молилась на Большую
262
Медведицу, которая по вечерам как раз располагалась на¬
против для удобства молящихся.
Я не ерничаю, я слышала эту молитву. Вообще-то ба¬
бушка молилась молча, взбрасывая для креста руку нечас¬
то и по-быстрому. Но иногда, иногда... Шевеление губ вы¬
давало тайный вскрик, и тогда возникали имена: дедушки,
дядьки, мамы... Мое...
С тех самых пор с Медведицей у меня отношения лич¬
ные, свойские. Я знаю место Ее на Небе, она знает мое на
земле. Это укрепляет мой шаг, а Алькор и Мицар мне под¬
мигивают. Мальчишки!
Мне позволялось читать долго, а значит, и выходить
позже других. Бабушка, уже лежа в кровати, полусонно
кричала мне из комнаты:
— Ключ поверни на два поворота! На два!
Так вот в десять часов из моих рук выпала книга и
остановилось сердце. «Выпей от кашля пертуссин, — ска¬
зала бабушка, — и сходи на ведро. Бегаешь, как полоум¬
ная, с голыми ногами».
— Мама, тише! — сказала моя мама своей маме из
другой комнаты. — Что за манера кричать среди ночи!
Я дождалась семейной тишины и, стараясь не шуметь,
вышла на крыльцо. Ноябрь стоял теплый, но вечерами уже
покалывало севером. Пахло холодным углем, который ку¬
чами стоял во всех дворах. Именно вечерами говорилось,
что пора пересыпать его в сарай, а то чуть-чуть и мороз
схватит. Долби его потом кайлом.
Я прошла по краю скрипучей кучи, набрав полные туф¬
ли штыба. Потом подошла к забору. Я знала эту доску и
отодвинула ее легко; она давно болталась на одном гвозде.
В узком проулке было темно, сюда выходили, почти каса¬
ясь друг друга, спины сараев.
Оказывается, мы оба шли с вытянутыми вперед в тем¬
ноте руками. Так и сомкнулись. Помню ощущение его ру¬
башки на щеке, запах пота и газика, ухающее сердце, за¬
мок рук на спине и что-то странное в моем подреберье,
263
пока сообразила: это я колочусь в ответ своим сердцем, ин¬
стинктивно ища лад и ритм. Я откуда-то знаю, что это
очень важно — лад и ритм.
По-моему, мы не сказали друг другу ни слова.
А утром они пришли вместе. Мая сияла и подарила мне
брошку: скарабея, беременного корявым рубином. Было
жалко паука, которого жестоко оттягивал вниз красно-кро¬
вавый камень. Паук крючился и, казалось, стонал от ноши.
Бабушка сказала мне в коридоре и тихо:
— Выбрось сейчас же. Не держи в руках. Мая — хо¬
рошая девочка, но без понятия. Кто ж такое дарит!
Володя вежливо, как бы в первый раз, пожал мне руку.
Это был не говорящий сердцу знак — знак дня и белого
света.
Мы пошли гулять. Мая рассказывала про преподавате¬
ля латыни, который доказывает, что у древних не было
звука «ц» и потому Цицерона надлежит считать Кикеро-
ном. Но что есть и другой латинист, который с этим не со¬
гласен, хотя какая это все чепуха ворошить мертвое и еще
над ним спорить. Подумать только, чем занимаются люди.
Дался ей этот латинист! Она кружила вокруг него, кру¬
жила как шахтный конь, ослепший от работы и старости и
знающий один путь по кругу... По кругу. Образы латинис-
тов-антиподов отчеканились в моем мозгу намертво. Я ни¬
когда их не видела, я вижу их до сих пор. Квадратнопле¬
чий, короткошеий Кикерон и сгорбленный, вглядывающий¬
ся в то, что под носками ботинок, его враг. Вскрикиваю¬
щий фальцетом первый и шепчущий басом второй. Вижу
нахально выставившую вперед коленку «К» и смущен¬
ность спущенного чулка «Ц».
— Кикерона зовут Модест. Редкое имя, — бесконечно
продолжает Мая. — А у Цицерона простое имя. Иван.
Мая чуяла. Или уже знала?
Даже через сорок лет я не знаю про это.
264
Они с Володей с пристрастием допрашивали меня: куда
все-таки я буду поступать? Я лопотала что-то про хими¬
ческий факультет (придумала на ходу), потому что бедная
моя голова ничем, кроме того, что я тоже поеду в Ростов,
занята не была. Через много-много лет дочь скажет мне:
«Ты всегда начинаешь не с главного. У тебя партизанская
манера идти к цели задами». Но даже через столетия ум¬
ная дочь мне не сможет объяснить меня самое. Был ком
чувств. И он, как и полагается кому, давил. И я плющи¬
лась под ним.
Вечером я опять была в проулке. Снова набрала пол¬
ные туфли угля и снова шла с вытянутыми вперед руками.
Накрапывал дождь, и мы передвинулись под стреху ка¬
кой-то крыши, и это полусознательное движение в сторо¬
ну, в прикрытие вдруг пронзительно осветило мне ситуа¬
цию. Как, обнявшись, мы прижимаемся к грязным доскам
сарая, как прокалывает мне плечо торчащий гвоздь. Одно¬
временность боли и наслаждения... Все в ослепительном
фокусе и — немо. И я через восторг понимаю про себя —
сволочь.
С этой минуты осознания — слово воистину было вна¬
чале — я начинаю поступать согласно определению. Я де¬
лаюсь ловка, изобретательна в своем желании ощущать
его, касаться его, даже тогда, когда рядом посторонние, а
главное, когда рядом Мая. Теперь я веду его в этой греш¬
ной игре. Я расстраиваюсь, расчетверяюсь так, что мое
плечо, колено, локоть всегда рядом с ним. Осень, холодно,
в ход игры идут платки, шали. Бог поселил нас в крошеч¬
ных, заставленных квартирах, и это оказывается счастьем.
Эти протискивания между столом и диваном, эта теснота
ног под бахромой тогдашних скатертей.
Моя любовь к Мае незаметно перешла в жалость к
слабому калеке. Между мной и Володей никогда ни слова
не было сказано о ней и о том, что будет потом... Это было
неважно, важно было другое: Маю нам послала судьба.
Мая наша сводница. Самой по себе ее как бы и нет.
265
Мы дружили, и ее шепотная речь про то, «как это бы¬
вает. Ты узнаешь! Узнаешь!», меня просто смешила. Я не
ревновала, потому что знала: она не способна была найти
его в кромешной темноте, а я находила. Мы вылезали из
угретых постелей среди ночи, шли с вытянутыми руками и
встречались всегда на одном и том же месте.
Через много лет я пролезла через дырку в заборе и при
белом свете посмотрела на место моей любви и греха.
Кошмар, должна вам сказать. Я уже не говорю, что
весь переулок был ощерен консервными банками, что сте¬
ны сараев были утыканы ржавыми шляпками расшатанных
гвоздей. В переулке плохо пахло. В нем воняло! В сущнос¬
ти, это была помойка. Можно только удивляться, как дол¬
го доверял человек самой бездарнейшей из философий,
будто материя первична. Она даже не вторична. Она почти
ничто. Нет, человек не заблудшая особь. Он хитрован,
лжец и притворщик. И небеса взирают на него не без ин¬
тереса, какой еще спектакль он отчебучит, все зная и отри¬
цая вслух свое знание.
Пройдясь по помоечному проулку своей первой любви,
я накрутила в своей голове приличный фарш. А надо ска¬
зать, что мои мысли всегда расширяют трещину и никогда
не скрепляют ее.
Прошли октябрьские праздники. Опять была машина,
в которую набивались продукты и зимние вещи. Проща¬
лись до студенческих каникул. Машина тронулась, но тут
же затормозила, выскочил Володя и со словами «Я забыл
документы!» ринулся в дом, по дороге задев меня грубо и
властно. Я поняла, что должна за ним идти. Майна мама
пошла к машине (как он мог знать, что она не пойдет за
ним искать то, что не пропадало, что спокойно лежало себе
в кармане), но все было, как было.
266
Мы оба вошли в дом, скрылись от глаз и здесь, под ве¬
шалкой, он впервые сказал: «Господи! Когда кончится твоя
школа! Я сойду с ума». Я отметила про себя, хотя когда
там было отмечать и сколько времени на это было отпуще¬
но, что напрасно он тянет на школу. Школа тут ни при
чем. Я могу ее не кончать. Но когда там говорить? Надо
было выбираться из вороха пальто и плащей и бежать на¬
зад, потрясая в руках портмоне, а мне идти следом и сме¬
яться над раззявой, который, оказывается, сунул бумаж¬
ник под хлебницу.
— Странно, — сказала Майна мама и посмотрела на
меня пронзительно и зло.
Машина уехала.
Мы остались у ворот.
— Анна! — сказала Майна мама. — Володя — жена¬
тый человек, а Мая — твоя лучшая подруга. Не так ли?
— Конечно, — ответила я.
Был ли мой взгляд на нее наглым? Или только лжи¬
вым? Или я сумела нарисовать на лице недоумение? Это
хорошо бы спросить у нее. Я же думала совсем о другом:
два месяца я не смогу его видеть. Я — идиотка, что не по¬
сеяла мысль о моем возможном приезде в Ростов на свои
школьные каникулы. Как же я могла прошляпить такой
ход?
— ...нехорошо, нескромно. Просто, что называется, на
глазах. — Это, оказывается, вещала Майна мама. Вещала
абсолютно справедливо, сколько подобных слов в другой
исторической эпохе говорила я своей дочери при сходных
обстоятельствах. Но это потом, а тогда... Голосом самой
искренности я говорю ей, Манной маме, что ей кажется
что-то не то...
— Поклянись! — говорит женщина.
— Клянусь! — отвечаю я, не колеблясь ни минуты, но
в клятвах, видимо, полагается колебаться, видимо, количе¬
ство пауз в этом торжественном акте столь же важно, а
может, и важнее самих слов. Логос-то он логос, да только
267
и ему нужен воздух вокруг, а может, даже вакуум, чтоб
слова могли туда-сюда поплавать, осознать себя и окреп¬
нуть не в толчее — в свободе. Я же выпалила, не оставив
зазоров: «Клянусь!»
— Фу! — гневно ответила Майна мама. — Бессовест¬
ная девка. Я скажу твоей матери.
Это была опасность. Это могло быть катастрофой.
Я поняла сразу: победить собственную маму мне будет
труднее, чем Майну. Значит, надо бороться с этой. Хоро¬
шо бы заплакать, обидеться, тут же и прощения попро¬
сить, то есть свалить в кучу все оружие, поднять руки и
сдаться на условиях победителя, но тут вступали в отноше¬
ния другие силы и чувства. Значит, надо было иначе...
Как?
— Вы хотите нас поссорить с Маей?
Еще секунду назад я не подозревала в себе такой под¬
лой и лукавой хитрости.
— Невелика потеря, — ответила она, но я почувство¬
вала, как она внутренне метнулась. Бедная женщина тоже
не все о себе знала.
— Спросите об этом у ^/1аи. — Я гордо пошла от во¬
рот, но стыд уже настиг меня.
И тут пришло очевидное: как бы что ни шло, у истории
этой нет хорошего конца. Я могу сейчас сколько угодно
удивляться не только способности и готовности быть пло¬
хой, но и прозорливости моего неопытного сознания.
Вспыхнувший же стыд секундно осветил длинный коридор
всей последующей жизни и нас троих, бредущих по нему
неразрывно, кучно, неосвобожденно... Ах, рвануть бы мне
тогда в сторону! Геть из коридора, геть! Но я уже вцепи¬
лась, вцепилась в собственное ярмо. Уже понимая, что это
ярмо, уже кляня его и одновременно ликуя: «Мое!»
А через неделю пришло письмо от Маи и Володи, где
черным по белому были написаны мои мысли. Приезжай
на школьные каникулы, посмотри университет. Хозяйка
268
квартиры пустит тебя на недельку за шкаф, где спит ее
дочь. Которая, в свою очередь, едет на каникулы в Моск¬
ву. Посмотреть тамошний университет. Так все замеча¬
тельно складывается. Рокировка!
Я поделилась буйной мечтой — пожить за шкафом —
с мамой и получила окорот.
— Где ж у нас деньги на такие экскурсии? Что ты себе
думаешь?
Но потом случилось непредвиденное: моя же мама
спросила Майну, не поедут ли они на машине после Ново¬
го года в Ростов? И не прихватили бы они Аньку, меня,
посмотреть университет?
— Пришло письмо от Володи и Маи, — сказала
моя, — они ее приглашают.
Я сто раз переспросила маму, кого назвала первым.
И мама сказала: Володю. Она сочла, что он — главный в
семье и так будет убедительней.
Майна мама ответила, что они в Ростов не едут. Но
даже если бы... Даже если бы...
— Вы что, не заметили, что ваша Анна совершенно не¬
прилично вешается на нашего Володю?
Мама сказала: нет и не будет на свете мужчины, на ко¬
торого ее Анна стала бы вешаться, тем более на их Воло¬
дю, который не подходит нам ни с какой стороны.
— У нас культурная семья, — ядовито сказала
мама, — и грамотная речь. Мы правильно ставим ударе¬
ния, а Володя ваш — просто тихий ужас. Что ни слово...
И вообще он не начитан. Он понятия не имеет, кто такой
Шеллер - Михайлов...
О этот Шеллер-Михайлов, мамин оселок. Покойник
много задолжал моей маме. Она извлекала его из-за вели¬
чественных спин классиков литературы и, встряхивая, ста¬
вила впереди всех. Посмел бы кто пикнуть. Наверное, ве¬
ликие были смущены этим не по росту первым, которым
распоряжается женщина из страшного времени. Дерзость
269
беспредельная, но мама поступала так! Я думаю, не имела
значения истинная ценность Александра Константинови¬
ча, скорей всего, мама подозревала, что он не Толстой или
Чехов, но она ценила в себе личное знание предмета. Зна¬
ние частности, редкости. У нас висела милая женская го¬
ловка в ярком расписном платке. Она действительно осве¬
щала наш унылый и тесный быт, а мама говорила: «Смот¬
ри, от лица — солнце. Никто не знает этого художника,
никто, а ему цены нет».
Мама цепляла нам на шеи странные банты, усаживала
за пианино, мы разрывали слова в поисках корня (что
люблю делать до сих пор) — и все это единого смысла
ради: извлечь нас из колонны, шеренги. Обозначить.
И этим оценить.
Вот почему был нужен Шеллер-Михайлов. Его зна¬
ние — выделяло.
Конечно, с этой точки зрения мой избранник интереса
представлять не мог. В нем не было отдельности. Он был
как все. Как все говорил. Как все держался. Не знал, не
ведал скромных писателей прошлого века. (Когда это мама
успела выяснить?)
Поэтому отпор Маиной маме был дан в полную меру,
как будто мама ждала, что придется давать отпор и подго¬
товилась заранее.
Не то было, когда она пришла домой. Она замахнулась
на меня козьим батогом, который висел на гвозде у крыль¬
ца. С тех самых пор, когда в войну держали коз.
Я не тронулась с места. Чего мама ждала, стоя с подня¬
той рукой? Крика? Испуга? Не дождалась. «Рятуйте!» —
закричала бабушка и встала между нами.
Тут хорошо бы поговорить о самом слове, которое игра¬
ло в этой ситуации роль Шеллера-Михайлова. Забытое,
не употребляемое, в сущности не нужное, ан было достано
и поставлено впереди. У нашей семьи филологическая эк¬
зема, которая передается по женской линии.
270
Мама передала бабушке «этот кошмарный разговор».
И, как я поняла, ничуть ее не удивила. Бабушка спала у
нас близко к двери, это она мне кричала про двойной пово¬
рот ключа, значит, знала, когда я выхожу и когда возвра¬
щаюсь.
На мамин вопль и крик бабушка только засмеялась.
— Не с того боку, — сказала она, — не с того боку,
эта придурошная Маниониха (У Маи фамилия Манионо-
ва, нигде никогда такую больше не встречала. Не от мани¬
оки же вспухло в Рязани семечко? Майн отец — кургузый
мужчина, вечно жмется в собственном теле, как в чужом, а
лицо у него плоское с долбленым русским глазом. Где ма¬
ниока, а где такой глаз?) цепляется. Это ее зять в нашу
дуру влюбился без памяти. Какие к нам претензии? Мы
интересные люди, а Манионовы хамье.
Здесь все было не так, все. По тем временам (да и по
этим тоже, что там говорить?) Мая была куда красивее,
эффектней, нарядней. И мать ее была не «Дунькой с
мыльного завода», а учительницей и, как потом выясни¬
лось, еще и поповской дочкой. Конечно, дело портил глу¬
поватый и чванный Маниока, пан из хамов, но ведь и на
нашем курятнике герба не висело.
Мама как-то жалко всхлипнула, видимо, таким образом
выходил из нее нерастраченный гнев, но сказала сквозь
всхлип твердо:
— Чтоб твоей ноги у них не было. А о поездке в Рос¬
тов забудь! Забудь навсегда.
Собственно, на этом и кончается первая и главная часть
этой истории, хотя обстоятельства еще случались, и доста¬
точно экзотические по тем временам. Меня, например, вы¬
зывали в райком комсомола. Ее звали Руфь, она ведала
школами и носила странные одежды — крепдешиновые
кофточки, перетянутые как бы портупеей. Руфь сказала,
что я могу «вылететь за аморальное поведение». Она
смотрела мне в глаза, и я видела мертвую глубину зрачка,
ведущую в странные нежилые пространства. Руфи бы не
271
смотреть, не отводя глаза, тогда бы сила слова была помо¬
гутней, зрачок же обессиливал слова, недееспособность
шелка и портупеи становились слишком очевидны. Даже
мне. Даже тогда. Почему-то вспоминалось, как она при¬
шла с фронта и ее подбрасывали вверх, открывая для обо¬
зрения синие рейтузы, как гордо ходила она вначале и как
потом стала предметом издевательств, как получил кое-кто
за это по рукам (наш сосед, между прочим, который ска¬
зал, что на войне Руфь была «Медхен Фюр Аллее», а те¬
перь «дырочку закоротило». Соседу пришлось срочно уез¬
жать, на что дедушка сказал: «Это его счастье».). Одним
словом, мне было Руфь жалко. Даже когда она пугала
меня, я была спокойна: это все слова. Она выполняет по¬
ручение Манионовых-старших. Правда, мои родные от¬
неслись к вызову Руфи гораздо серьезней. И дедушка, на¬
дев выходной пиджак, сходил в инстанцию выше. Уже в
райком партии, к своей старой знакомой. И пока он ходил,
бабушка трещала суставами пальцев, бормоча какие-то
странные слова, а потом села на ляду, а на ляду — крышку
подпола — женщины не садятся. Оттуда дуют ветры под¬
земелья и хватают женские органы одномоментно. Одна
дура посидела и все — болезни пошли одна за другой.
Ляда — это ляда. Но бабушка села и сказала: «Может не
иметь значения. Я же не знаю, вернется он или нет (имел¬
ся в виду дедушка). У них уже набрякало однажды до сте¬
пени развода...»
Бабушкину разлучницу, как и Руфь, знали все. Она
была огненно-рыжей, и бюст у нее начинался сразу от под¬
бородка. Ее боялись здоровенные начальники шахт и сек¬
ретари парткомов. Собственный муж боялся ее так, что его
даже вынимали из петли. Он преподавал у нас историю,
которую не знал совсем. Когда мы уличали его в незнании,
он терялся, краснел, говорил «извините» и выходил из
класса. Мы его любили за это «извините».
Дедушка, возможно, был единственным человеком, ко¬
торый не боялся Симы Францевны. Не боялся — и все.
272
Он знал — почему, и достаточно. Так что картина «бабушка
на ляде» имела глубокие психофизиологические корни.
Кстати, дедушка благополучно вернулся.
Ноя повторяю. Если с точки зрения количества собы¬
тий было как бы и много, то с точки зрения существа исто¬
рия кончилась значительно раньше последовавших за ней
драматических встреч. (Я и Руфь, Сима Францевна и де¬
душка, бабушка и ляда.)
Когда Мая и Володя приехали на зимние каникулы, не¬
ведомая сила уже не подымала меня и не вела в проулок.
Кончики моих пальцев ничего не искали, руки спокойно
лежали сверху на одеяле, и я говорила себе: «Смотри, вот
лежат руки... Они ничего не хотят...»
Мая не приходила ни разу. Володя, правда, поджидал
меня из школы, но там все и кончилось — так я тогда ду¬
мала. Я увидела его раньше, чем он увидел меня. Было де¬
лом двух шагов свернуть в другую улицу, обойти собствен¬
ный дом с тыла, а потом уже из окна, из-за занавески на¬
блюдать, как он меня, дурак, подкарауливает... Говорили,
что они с Маей уехали до конца срока каникул.
Весной я как бы влюбилась. Были некоторые поверхно¬
стные признаки. Перенос на руках через весенние грязи,
приглашение пообедать (была Пасха, но делали вид, что
празднично обедали в честь обязательного в ту пору вос¬
кресника), было стояние иод луной и взгляд на Медведи¬
цу. Нет, царственное созвездие не подмигивало. Ну что ж,
сказала я себе. Так гораздо лучше. Я свободна, и меня это
не плющит.
Мая летом родила девочку. Тихими вечерами было
слышно, как у Маниониных плачет младенец. Я готови¬
лась к вступительным экзаменам в Московский универси¬
тет под надсадный детский плач. Однажды в дверях вы¬
росла бабушка в длинной бумазеевой рубахе.
— Это ж кто так надрывается? — спросила она.
— Полагаю, Майна дочка.
273
Бабушка зачем-то вышла на крыльцо и посмотрела в
сторону манионинского дома.
Мне показалось? Или на самом деле возле расхлябан¬
ной доски в заборе мелькнула белая тенниска? Тогда плач
ли слышала моя бдительная бабушка, или она услышала то,
что предназначалось услышать мне, но у меня было уже
другое время и место. Напрасно трепетала в межзаборье
мужская рубашка: я ее не видела, я ее не слышала, я ее не
знала.
Девочку назвали Вавой. Викторией.
II
...Оглянуться не успели... А двадцати лет как не быва¬
ло. И я уже не я, а мать двоих детей, жена двух мужей —
последовательно, конечно. Здание, где я работаю, выходит
окнами на эстакаду. Дом, в котором я живу, смотрит на нее
же. На работу мне рукой подать. Это везение. Моя сослу¬
живица говорит, что транспорт — место накопления онко¬
логических клеток. Она ездит на электричке и потом два
часа приходит в себя: рисует глаза («Вытекли, сволочи,
вытекли!»), отрезает заусеницы, тупирует волосы, пьет
кофе из прочерневшей керамической чашки и говорит, го¬
ворит, говорит...
— ...И пусть он будет горбатый, пусть! А сказал
бы — вот тебе дом, деньги, я и никакой электрички... Не¬
навижу! Ненавижу! Тебя ненавижу, что близко жи¬
вешь! — Она поворачивает ко мне лицо с одним обрисо¬
ванным глазом. Зря она сказала, что они у нее вытекли.
Теперь я только это и вижу — серый влажный провал в
черно-зеленой раме. Когда она оформит и другой провал,
она пойдет по коридору, скликая охочих для перекура му¬
жиков и уж с ними наконец утешится, утишится, потешит¬
ся... Вернется ласковая, добрая, спокойная.
— Онанистка, — скажу я ей.
274
— Это безвредно, — ответит она. — Словоблудие и
рукосуйство.
— Рукоблудие и словосуйство, — бормочу я.
— Один хрен, — соглашается она.
И все-таки успокаивается она в крутом мужском дыму
и духе. Тему «надо бы любовника» мы давно обсудили.
Ей — надо, мне — нет. Я пережила развод, измену, скан¬
далы, слава богу, прибилась к берегу, но начинать опять и
снова?! К тому же «берег, к которому я прибилась», рабо¬
тает этажом ниже. Я делаю вид, что «всегда под контро¬
лем». На самом же деле все не так. Мой второй муж —
замечательный, но любовь с ревностью, подозрением —
это для него перебор. Лишнее он просто выносит за скобки
и не ревнует, не подозревает, не бледнеет лицом, когда
меня обнимают дольше положенного.
Иногда я от этого бешусь, иногда думаю высокопарно:
«Я не смогу обмануть такую веру».
На самом же деле, на самом... Я еще не знаю, что на
самом. У меня поступил в институт сын, моему ликованию
не было предела — так я боялась и ненавидела саму мысль
об армии. Мне очень хочется написать эссе «Я и армия».
Это не шутка — на самом деле. В моей искони, издревле
штатской со всех сторон семье было одно странное, не под¬
черкиваемое, чаще даже скрываемое свойство — мы все
плохо относились к военным. И к воинству как таковому.
В нашей семье мужчины служили строго по необходимости
(на войне, например), а женщинам в голову бы не пришло
бросать при виде коменданта головной платок. Более того.
Сколько себя помню — я всегда боялась военных, а если
еще с оружием — то бежала с таким ужасом, какой бывает
только во сне.
Поэтому я так нервничала в год поступления сына в
институт, хотя ни про какую дедовщину тогда еще и слы¬
хом не слыхивали.
Крепкий настой застоя. Максимальная концентрация.
Божественная пофигень.
275
Я постукиваю лодочкой под столом, я сочувствую еду¬
щим в троллейбусе и электричке. На своих легких ногах я
перехожу эстакаду, мне откроет дверь моя курносенькая и
глазастая дочь, я шлепну ее по спине, чтоб не сутулилась,
дура, мы вместе выгребем сумки, радуясь докторской кол¬
басе и бело-розовому зефиру, мы раскромсаем колбасу на
толстые куски и будем радостно чавкать под катушечное
шипение магнитофона.
— Письмо от бабули, — сказала дочка.
В письме была потрясающая новость. Мая и Володя,
оказывается, тоже живут в Москве. К ним переехала и
Маниониха. В этом месте письма буквы у мамы слегка
запрыгали и разбежались друг от друга, что показывало
мамину обиду: получается, что Маниониху ее дочь любила
больше, хотя та так и не удосужилась за всю жизнь прочи¬
тать Шеллера-Михайлова...
Надо сказать, что все связи были порваны, и, каза¬
лось, навсегда. Манионины давно уехали из нашего горо¬
да. Кто-то сообщил, что сам Манионин уже умер, прямо
на партконференции, на которую неожиданно заявился
человек из обкома. Сердце его раздулось и — лопнуло.
Он радости ли, от страха, от удивления... Любая версия
хороша для реконструкции и любая никуда не годится...
Ибо нет ничего на свете подлежащего единственному
толкованию, даже Бог наш всемогущий имеет столько
адептов, что, пожалуй, и лишку, хотя стали ли мы от это¬
го ближе к Нему?
Я знала, что Мая и ее семья долго жили в Средней
Азии, потом переехали куда-то на европейские юга, не то в
Краснодар, не то в Ставрополь. Мая — говорят — расхо¬
дилась с Володей на несколько лет и выходила замуж за
очень богатого узбека, но узбек то ли собирался, то ли
даже посягнул на красавицу падчерицу Ваву. Мая была
потрясена до глубины души. Неконструктивное состояние
276
повело ее на телеграф, и она вызвала откуда-то там теле¬
граммой отца Вавы. Тот примчался и решительно забрал
дочь, бывшую жену и маленького узбечонка, который уже
появился на белый свет. Володя — говорят — повел себя
выше уровня моря, у него к тому времени тоже лопнула,
как мыльный пузырь, семья и остался ребенок, так что
мальчик в тюбетейке был, можно сказать, справедливой
компенсацией. Им тогда — Мае, Володе, Ваве и узбечон-
ку — пришлось помыкаться, но тогда еще был жив Мани¬
ока, и он хорошо помог и с квартирой, и с работой, и ме¬
бель достал красивую по малой цене, и телевизор, холо¬
дильник и все остальное ввез, как чувствовал приближение
своей последней партконференции.
А теперь — оказывается — мы жили в одном городе.
И хотя Москва — такое место, что можно не встретиться
никогда, но ведь можно и встретиться?
— Что с тобой, мама? — спросила дочь.
— Оказывается, — засмеялась я, — в Москве живет
моя старая, старая любовь...
Я не сказала: живет подруга. Я сказала — любовь.
Хотя мама писала о Мае, о Манионихе... И ни слова о Во¬
лоде.
Меня заинтересовал и слегка возбудил мой собствен¬
ный поворот темы.
— Но ты же не бросишь папу? — Совсем недавно, в
год поступления сына в институт, дочь узнала, что ее отец
не отец ее обожаемого брата. Какая с ней была истерика!
Как она кричала на меня за то, что я лишила ребенка отца.
— Чем тебе не угодил папа? — возмущалась тогда я.
— Он ему не настоящий! — рыдала дочь. — Не на¬
стоящий.
Ладно, мы это проехали.
И вот тебе вопрос: не бросишь ли ты папу? Тринадца¬
тилетняя дура.
277
— Ты переела колбасы! — сказала я ей.
— Поклянись...
Кажется, я уже рассказывала об одной клятве в своей
жизни. Я вспомнила об этом тут же, вспомнила быстроту
той лжи.
И вот сейчас она смотрит на меня, дочь, за благополу¬
чие которой я отдам все... Как ей, испуганной дурочке,
сказать, что я ненавижу клятвы и что — бывало! — я в
них вру?
Но я стираю, как мел с доски, все это свое прошлое...
Не имеет значения! Другое время и совсем же другие об¬
стоятельства.
И я могу поклясться. Могу поклясться над зефиром и
колбасой. Я клянусь в том, во что верю — того, чего боит¬
ся моя дочь, не может случиться никогда! Это все равно
что клясться, что я не взойду на Эверест, не запишусь на
гладиаторский бой, не стану королем Испании. «Правда,
доченька, глупо?» Но она моя дочь, у нее на чужие потай¬
ные мысли чутье.
Я ведь грешно подумала о Володе, грешно. Кончики
моих пальцев вспомнили те старые нервные токи, которые
вели меня к нему. В них покалывало, а руки стыдно тряс¬
лись. Дочка сказала: «Ты не смотришь мне в глаза».
— Есть такой драматург, — закричала я. — Его фа¬
милия Ионеско. Он пишет абсурд. Люди у него превраща¬
ются в носорогов. Такая эпидемия. Ты, как он, заставля¬
ешь меня играть сумасшедшую пьесу. Всё! Пошутили, и
хватит.
-— Я буду за тобой следить! — сказала дочь.
Вот это было уже смешно. Как будто я не знала, как
можно улизнуть и ускользнуть, как будто я не знала зву¬
ков тончайшего, не слышимого никем клича, как будто бы
я не помнила силы этого зова...
Следить и удержать? Бедная моя девочка...
И пошла, пошла разматываться ниточка.
278
Красная ниточка с кровью. Я разучилась пользоваться
ножом и все пальцы носила в порезах. Я думала о себе —
той.
...У нас новая история. Тетя Володи. Та самая тетя, к
которой он ездил в Среднюю Азию и где набрел на Маю.
Она молодая, хорошенькая и живет у Маниоков. Случает¬
ся, мы встречаемся по дороге в школу и на мое «здрасьте»
она шевелит в ответ белыми тоненькими пальчиками. Такая
у нее манера.
Маниока ястребиным глазом оглядывает окрестности —
он ищет, кого бы куда переселить, чтоб дать комнату Мар-
гуле. Историчку звали Маргарита Ульяновна. Все об этом
знают. Все заискивают перед Маниокой. Все боятся.
В «домике из сарая» жили эвакуированные. Это звучит
не страшно — из сарая. Сарай из довойны дорогого стоил.
Этот был такой. Вот на его комнатухи особенно и погляды¬
вал Маниока. Теплый сарай. Вода во дворе. И они —
сродники — рядом.
Я не люблю Маргулю. Ненавижу ее пальцы.
На самом же деле ревную. К Мае Володю не ревную, а
к этой...
У меня никаких оснований. Никаких.
Это ревность из каких-то моих собственных начал. Но
какая разница?
И я борюсь с ней. Не с ревностью. С Маргулей. Она
смотрит на меня непонимающе. Тем лучше — думаю, —
что ты такая...
Когда в сараедоме освобождается комната — умирает
старуха, которую бросила на время дочь, возвращаясь в
Ленинград, но потом так и забыла за ней вернуться, — мы
классом переносим вещи Маргули. Я несу фотографию в
красивой рамке — она и Володя, головка к головке. «Як и
Ципа».
Любовь вышла из меня сильным носовым кровотече¬
нием. Пришлось даже вызывать врача. Я лежу бледная,
279
ослабевшая, пью гематоген, а бабушка рядом штопает нос¬
ки одним ей известным способом перекидывания ниток.
Густая получается дырочка, несносимая. Носок — в хлам,
а дырочка как новенькая. Стоит сама по себе — ни на чем.
Такая непобедимо заткнутая брешь...
Так вот... Бабушка!
— Хуже нет начинать жизнь на чужом горе. Знаешь,
как оно плачет за спиной? К нему ж возвращаться прихо¬
дится не раз и не два. Чужое, но тобой сотворенное горе,
оно как дитя малое, которое не вырастает. Старится, а не
вырастает. Свое изжить можно, чужое-твое никогда.
У нас в городе жил лилипут. У меня богатое воображе¬
ние. Я представила, что он всю жизнь идет за мной сле¬
дом. Лилипут-горе.
Как это называется в медицине? Регенерация и субсти¬
туция. Восстановление себя. Устранение повреждения. Из¬
гнание лилипута.
Я не хочу и не буду начинать жизнь с чужого горя, ко¬
торое плачет за спиной.
Искусство наложения. Портрета на портрет. Сегод¬
няшние щеки покроют с лихвой анемичные впадины той
девочки.
Поэтому не поручусь, что все было именно так. Носок
с бессмертной дыркой, кровь из носа до захлеба — это да.
Было...
Но отчего? Отчего ушла та любовь? Может, все про¬
сто. Маргуля пошевелила пальчиками и сказала: «Маечка
ждет ребенка...»
В ее глазах — страдание. Я злорадствую. Мне хорошо,
что ей плохо.
Я сообщаю новость дома.
— Слава Богу! — говорит бабушка и крестится широ¬
ко, размашисто. — Воистину, слава Тебе!
В глазах ее я вижу радость.
280
Я же понимаю, что продление Маниок в вечности к ее
радости не имеет никакого отношения.
Ты рано обрадовалась, бабушка... Так оказалось, что
рано... Какой это срок — двадцать лет?
— Мама! — возмутилась дочь. — Ты что? — Она за¬
метила, как я перед зеркалом подсмыкнула вверх юбку. —
Тебе это противопоказано. Ты низкорослая.
Порода женщин. Низкорослая, сильная. Выносливая в
работе. Хорошо носит тяжести. Незаменима в быту. Непри¬
хотлива в одежде и в питании. Такой я была вчера. Сегодня
я укоротила юбку. Я чувствовала себя молодой, длинноно¬
гой, весьма прихотливой и неуловимой для соглядатаев.
Я его увидела сразу. Он охаживал вокруг песочницы
возле моего подъезда. Спасибо дереву: я за него ухвати¬
лась. «Тебе не семнадцать, и он тебе никто».
Такими примитивными словами я хотела себя окоро¬
тить. Но, видимо, не очень хотела, если думала дурь —
семнадцать лет и никто. Тут все неправда.
Потому что...
Потому что ничто не прошло. Не «не проходит бес¬
следно», как поется в какой-то песне, а не проходит вооб¬
ще. И семнадцать лет живут и здравствуют во впавшей в
маразм старухе, а может, еще лучше здравствуют. Спроси¬
те старух, спросите! И в этом доказательство первичности
духа, его всемогущественной производительности. Что там
труха-материя!
Дряблеющее тело, седина и щелкающий присос. Чело¬
веку всегда одномоментно и семнадцать, и сорок, и шесть¬
десят девять... Если в тридцать восемь не умирает семнад¬
цатилетний восторг, то куда он денется потом!
Итак, я держусь за дерево, мне тридцатьвосемьсемнад-
цать, и я его разглядываю.
Он пополнел, моя мама сказала бы «возмужал». На
нем плащ, который я мечтала купить мужу, но именно на
281
мужнин плащ почему-то всегда не хватало денег. Раньше
Володя носил длинные волосы, и они у него разваливались
на две неровные половинки, оставляя кривоватый просвет.
Он злился на волосы и зачесывал их назад, прилагая к
этому слишком много характера. Он конфликтовал с воло¬
сами. Теперь он был коротко, до щетинки пострижен, и это
ему шло, молодило. И вообще, он был хорош собой...
Впрочем, это значения не имело. Он мог быть каким угод¬
но. Я это поняла и отпустила ветку дерева.
Мы сидели на вокзале, окруженные стронутым с места
миром.
Он рассказывал, что его перевели в министерство, дали
квартиру, которую он, не въезжая, поменял с хорошей до¬
платой на большую; надо было забирать овдовевшую тещу.
Теперь они живут огромным колхозом. Вавочка вышла за¬
муж (чего ты вскрикиваешь, дура, ведь прошло двадцать
лет!), привела мужа, мальчик хороший, из провинции, их
дом — единственное пристанище молодых. Саид, сын,
уже в третьем классе. «Это не мой сын, но, поверь, я их не
разделяю. Хотя в глаза бросается, он черненький и глаз у
него восточный. Ты знаешь нашу историю? У меня тоже
ведь есть сын... Живет со своей матерью в Болшево. По
воскресеньям я его забираю в наш кагал. Хороший ребе¬
нок, но моя бывшая его перекармливает. Доведет кретинка
до диабета. Мая работает в отделе технических переводов.
Так что, видишь, все при деле. О тебе знаю... Знаю, ка¬
жется, все...»
— Перестань, — смеюсь я, — все я и сама про себя не
знаю.
Во мне растут и развиваются два совершенно противо¬
положных чувства. Одно славненькое, родственное, вот
встретились земляки, соседи, можно сказать, и есть о чем
поговорить в круговерти вокзала, которая не просто оказа¬
лась рядом. Она — круговерть — как бы матка всей жиз¬
ни... Из нее движение поездов и товаров, но из нее же
282
браки и разводы, узбекские черноглазые мальчики и рус¬
ские пастозные, склонные к диабету дети... И технические
переводы из нее, и сумасшедшие клятвы над розовой кол¬
басой... Сейчас я возьму Володю за руку и скажу ему:
«Зачем я завела тебя на вокзал? Идем ко мне... Скоро
придет муж, поужинаем... Выпьем по рюмочке, а в воскре¬
сенье вы приедете с Маей, я испеку пироги с капустой и
яблоками... Ну?»
Конечно, я ничего этого не говорю. Потому что клубит¬
ся во мне и нечто совсем другое. Оно идет не из матки-
круговерти, оно из кончиков моих пальцев, порезанных,
поколотых, хозяйственных пальцев, на которых маникюр
не держится, и я принципиально ношу свои ногти без лака,
с заросшими лунками. И если не рядить пальцы в перстни,
которых у меня нет, это выглядит вполне пристойно.
Так вот... Мои мастеровые сейчас пульсируют, они кри¬
ком кричат, что не для того мы встретились, чтоб жевать
пирог с капустой, что то, что мы сидим на вокзале — одна
кажимость. Нас тут нет... Мы не принадлежим шевеля¬
щейся человеческой массе, в нас живут и побеждают дру¬
гие законы и другие звуки.
Володя берет меня за руку, и мы встаем. Мы перехо¬
дим с ним от одного отъезжающего поезда к другому, от
одного к другому. Чего-чего, а поездов на вокзале навалом
и так удобно здесь целоваться и плакать, и смеяться, и го¬
ворить глупости, не боясь быть услышанным.
Тут возникает как бы противоречие с предыдущим.
Ибо, мысленно отторгнув от себя мир вокзалов, людей и
сутолоки как чуждый нашим тонким и тайным чувствам,
мы ныряем все-таки в него же, что говорит о неразрывнос¬
ти сущего, а больше ни о чем.
Позвонила моя дальняя родственница. Попросила меня
попросить моего сына пожить в ее квартире, пока она
съездит на похороны сестры. У нее кот — в нем вся за-
283
гвоздка. Кормить, убирать и прочее. Я сказала: конечно-
конечно, и она привезла мне ключи.
Позвонил Володя, сказал, что у него ключ от номера в
гостинице и на меня заказан пропуск.
Два ключа в один день — это уже судьба, сказала я.
Гостиница мне показалась чересчур, и мы поехали кормить
кота.
Причудливое смещение правды и лжи. Дома я сказала,
что у меня ключи и я буду ездить кормить кота, хотя «тетя
Катя попросила пожить у нее тебя, сынок!». «Еще
чего!» — ответил сын. «Я так и думала», — ответила я.
Я «вернула» тетю Катю раньше срока, потому что че¬
рез три дня сын расчухал преимущества владения отдель¬
ной квартирой. «Где ты был раньше!» — сказала ему я. —
Она уже вернулась».
В эти же дни позвонила Мая.
Она застала меня поздним вечером — я долго кормила
кота.
Я ей обрадовалась. Нет, все-таки мир существует не
только в общей свалке. Если хочет, он может быть и па¬
раллельным. Мая захлебывалась словами, передавала мне
привет от мамы и от Володи: «Вот он только что вошел. —
В сторону: — Мама, накорми Володю!»
Мы с ним час тому назад съели курицу-гриль, запивая
ее «Алазанской долиной». Мои руки еще пахли курицей, а
нёбо держало сладковато-пряный вкус вина.
— Передавай ему привет! — кричу я.
Мы договариваемся встретиться. Спорим, у кого.
«Чтобы ты увидела маму, лучше у нас!» Зачем мне старая
Маниониха? Я ведь все помню, и я боюсь ее глаз, которые
посмотрят и увидят. Но в конце концов я смиряюсь, под¬
чиняюсь Мае. Мы назначаем день.
Как рассказать об этом единственном и последнем об¬
щем застолье? С чего начать?
284
Со сборов. Казалось бы, зачем уж так, если он меня
видел. Оказывается, одеваясь, я имею в виду старуху Ма-
ниониху. Мне надо что-то ей доказать... Что? Глупо... Без¬
дарно...
Я напряглась, как могла... Я выстирала мужа. Мы купи¬
ли бутылку коньяка и букет цветов. На бутылке был белый
аист, на аистов вниз головой были похожи белые каллы.
Дверь открыла Мая, и я поняла тщету всех своих
ухищрений. Конечно, она была лучше меня! Ей все шло.
Полнота, которая казалась легкой, летящей, старомодная
прическа «бабетта», уже чуть-чуть оплавившийся подбо¬
родок, вставной зуб слева, обнажившийся в сияющей
улыбке. Даже вены на ногах, голубоватые, ветвистые на
белоснежной теплой коже вызывали не сочувствие, а вос¬
хищение природой, которая и недостатки свои может так
лихо подать, что ахнешь. Я и ахнула, испытав чувства того
самого ребенка, которому еще неведомо деление полов и
причудливые притяжения именно знаков отличия. Я, дваж¬
ды рожавшая женщина, любила другую дважды рожав¬
шую женщину, и это не имело никакого отношения к друж¬
бе, потому что мне хотелось поцеловать синеватый завиток
вены под ее коленной чашечкой. Мы целуемся горячо,
страстно, от Маи пахнет свиными хрящиками домашнего
холодца.
Два неизвестных мне мужчины разговаривают рядом.
Я врубаюсь с трудом: на одном из них галстук моего мужа,
у другого короткая щетинка волос на голове. Они почему-
то смотрят на меня оба. И я почти готова им представиться
как незнакомка.
Но тут из недр квартиры выплывает Маниониха. За¬
чем она мне была нужна — не нужна? Что я о ней думала?
Не помню, не знаю...
Мы с ней тоже целуемся. От нее пахнет только что вы¬
питой валерьянкой. Бедная cfapyxa! Может, она тоже ду¬
мала обо мне и забыла что?
285
Объявился черноглазый мальчик, похожий на Мамла-
кат. Вава была точная копия своего имени. Ва-ва. Лени¬
вая, тягуче медлительная, мягкая. Интересно, а если бы с
детства ее звали Викой? Витой? Что получилось бы? Муж
ее был робок и вытирал рот через каждые пять минут. Кто
его так закомплексовал? Родители или белуга Вава? Мая
подкладывала ему лучшие кусочки, через шесть лет я буду
точно так же поступать со своим зятем, а раньше с невест¬
кой, которая потом припомнит мне все мои заискивания.
Но это когда еще будет, а пока мы под пристальным
оком Манионихи, которая, изучив лицо, костюм, галстук
моего мужа, вернулась к главному объекту исследова¬
ния — ко мне.
...Он ищет мою ногу под столом именно в тот момент,
когда Мая сбрасывает шерстяную кофточку — «такая ду¬
хота!» — и остается в легкой майке, я вижу ее красивые
голые руки, оспины, повлажневшие подмышки. Мне ка¬
жется, что я слышу, как они пахнут.
И тут эта прижимающая меня нога. Кажется, именно в
этот момент я подумала о спорадическом свойстве нашего
романа. На этот раз он уже кончился, как когда-то кон¬
чился на замахе на меня козьим батогом.
Я еще не знала всех толчковых проявлений этой стран¬
ной любви, но ногу я отодвинула категорически, И еще я
не дала поймать, зацепить меня взглядом, я сказала себе:
«Хватит. Мая значит для меня гораздо больше. Даже Ма-
ниониха значит больше».
Мне настолько ясен был конец истории (на тот мо¬
мент), что я испытала некоторое отвращение от попыток
вернуть меня туда, откуда я ушла навсегда (так казалось).
На следующий день по телефону я скажу ему резко и
прямо, а при встрече отпрыгну в сторону и вообще ляпну
хамство: «Мне что, с милицейским свистком теперь хо¬
дить?»
Все попытки Володи вернуть меня в его стойло, а их
много, только раззадоривали меня. Это же надо! И это с
286
ним я целовалась на всех платформах и бегала голая на гла¬
зах весьма удивленного кота, который однажды даже тяп¬
нул меня с противным таким, мяукающим отвращением.
Я еще тогда сказала Володе, что наше счастье — неумение
кота говорить. Он засмеялся. «Кастрат просто умирает от
зависти.» — «Почему кастрат?» — «Иначе он бы тебя
попытался отбить...»
Мы перезванивались с Маей, однажды вместе ходили
к спекулянтке блузками и косметикой из Польши. Как-то
пунктирно, осторожно рассказали мы друг другу о своих
других мужьях. Обе сказали про себя: дуры.
Мая хвалила Володю: все ей простил и мальчика лю¬
бит.
— А ты?
— Что я?
— Простила?
— За что? За тебя?
Я остолбенела. Она что — знает?!
— Он ведь тоже был женат, — сказала я то, что, соб¬
ственно, и имела в виду.
— А! Но ведь это у него случилось после моей исто¬
рии... Вот тогда — помнишь? — в наш первый год... Ког¬
да ты... Если бы я не забеременела, я бы от него ушла точ¬
но... Он тогда вел себя недостойно. Я виню его. Он был
старше, а ты была дурочка с переулочка и у тебя ведь ни¬
кого сроду не было... Так ведь? Но ты не думай! Это все
забыто навсегда, а тебя я люблю. Ты ушла от нас, а я ходи¬
ла и нюхала твой запах. Ты мне родная, Анька! Как Вав¬
ка... Странно, если подумать, но это правда.
— Это правда, — ответила я. — У меня тоже...
Мы даже повсхлипывали чуток.
Потом дома я вернулась к этому разговору. Значит, она
тогда знала. Знала сразу? Или ей правду в ухо вдула Ма-
ниониха? Или Володя покаялся? Не знаю... Все может
быть, все. Не буду же я спрашивать? Да и не это главное.
287
Главное — это наша с Маей любовь-дружба или как там
ее назвать?
Обнюхивающие друг друга подружки...
Она позвонила и сказала, что они уезжают в Челя¬
бинск. Новость была непонятной. С какой стати? И кто
это в наше время уезжает из Москвы? Не в какое-нибудь
Рамбуйе Парижской губернии, а в провинцию, которая к
тому же уже и Азия.
Выяснилось. Володя получает в хозяйство целое облас¬
тное управление. С чиновничьей точки зрения, большой
прорыв. Им дают роскошную хату, но прописку в Москве
оставляют. Здесь остаются Маниониха, Вава и ее муж.
Никакого с собой скарба не берут. Квартира там уже об¬
ставлена, как положено по чину и званию.
— Я рада, — сказала Мая. — У меня с Москвой от¬
ношения не получаются. Мне в ней неудобно, неуютно. Та¬
кие все злые, завидющие. Как только ты приспособилась?
Я провожала их на вокзале. Барахла все равно оказа¬
лось много. Володя с зятем носили чемоданы, баулы, а мы
с Маей сторожили их на перроне. Саид и Вава сторожили
скарб в купе.
Володя не смотрел в мою сторону. Один раз, когда я
отпрыгнула, чтоб дать ему дорогу, я поймала его взгляд —
злой, непрощающий, несчастный. И как бы окончатель¬
ный...
— Извини, — сказала я.
— Ты как раз на дороге, отойди. — Мая отвела меня в
сторону.
Почему-то мне показалось, что она сказала это не про¬
сто так. Я ведь действительно — стою на дороге. «Если
бы я не забеременела...» — тогда. «Если бы нас не посла¬
ли в Челябинск» — сейчас. Ведь только я знаю, что некий
странный, дикий, неуправляемый источник, бьющий во
мне, пересыхает раньше внешних обстоятельств, что нача-
288
ло и конец во мне самой, хотя даже от меня зависят весьма
условно.
Ноя покорно отхожу в сторону, как будто мы на самом
деле играем пьесу и жизнь на этой платформо-простран¬
ственной площадке. Пусть будет так, пусть...
Мне до слез жалко, что уезжает Мая. Никаких других
чувств у меня нет. И мне даже странно представить, что
они были.
Мая в платочке в горошек, завязанном под подбород¬
ком. Треугольник бледного лица. Возле губ подсыхающая
заеда. Глаза кажутся почему-то больше, ну да, от того, что
платочек унял щеки. Светлая челка на высоком лбу. И две
глубокие продольные морщины.
— У меня точно такие, — говорю я ей, открывая свой
лоб.
Она смотрит без всякого интереса.
— Вавка беременная, — говорит она вдруг. — Проси¬
ла тебе не говорить.
— Господи, почему? — обижаюсь я. — Я же могу по¬
мочь, если что...
— Товарищ не понимает, — насмешливо говорит
Мая. — Товарищ тупой.
— Это по молодости, — говорю я. — Стесняется еще,
молоденькая.
Мая смеется, и я вижу ее вставные зубы.
— Все! — кричит Володя из тамбура. — Майка, захо¬
ди в вагон. Тебя не зову, — говорит он мне, — там ни
сесть ни встать. Пока! — машет он рукой.
Я поворачиваюсь к Мае, она уже не смеется, она смот¬
рит на меня каким-то странным, жалеющим взглядом.
— Не надо, — говорю я ей, — не навсегда же расста¬
емся. В Москве у вас заложники. Вернетесь.
— Куда денемся? — вздыхает она.
Мы обнимаемся. Я ее выше. Мое объятие покрови¬
тельственнее.
289
— Не проговорись Вавке, что я тебе сказала про
нее, — просит Мая. — Мужу привет, ребяткам. Не бо¬
лей!
Из вагона выскакивает Вава.
— Мама! — кричит она. — Саид плачет, боится, что
ты отстанешь.
Мая кидается к вагону, потом спохватывается, быстро
целует Ваву, хлопает по спине робкого зятя, который норо¬
вит никому не попасть на глаза.
Из окна на меня смотрит Володя. Мне стыдно, что я
его не люблю. Совсем не люблю. Зачем это все было? Хо¬
рошо, что все так быстро и без потерь кончилось.
Поезд уплывает, я машу вслед, у меня вполне светлая
грусть, но тут я вдруг вижу, как стремительно уходит с
перрона Вава, властно взяв за руку мужа. Она уходит, как
бы не зная меня, я понимаю это по ее спине, по напряжен¬
ным икрам... Большая гривастая голова без «прощай»
скрывается в переходе. На тебе!
Значит, она в курсе... И Мая тоже. И это мне было
обращено ее насмешливое: «Товарищ не понимает». А я
молола всякую чушь... Тогда вполне можно допустить, что
и отъезд их не просто важная номенклатурная игра, а эле¬
ментарный побег. Что называется, от греха подальше... От
греха... От меня...
Я постарела на этом перроне на десять лет. Я просто
чувствовала, как иссыхает моя плоть, как морщится в без-
влажье, как засаливаются суставы, как твердеют и косте¬
неют ноги. Жизнь — мягкость и влажность, смерть —
твердость и сухость. Тонким, нежным, слабым вибрациям
пришли на смену тяжелые, грубые. Меня, не сходя с мес¬
та, перенесло в совсем другое тело, а износившееся рас¬
плылось лужицей и тут же высохло.
Примеряю новое тело как протез.
Вот тогда в первый раз я поднималась по лестнице с
хрустом в коленках.
290
Ill
Нет уж дней тех светлых...
Потемнело чисто поле...
Как зима катит в глаза.
Оглянуться не успели...
Внук тычется мне в грудь сморщенным носиком. Ла¬
почка ты моя... Хотя, читала, в каком-то диком племени
именно бабушка выкармливает внуков. Именно в этом со¬
стоит их предназначение, и соски их, закрытые смолоду,
расцветают, влажнеют и растворяются. Ничего себе, да?
Мы, женщины северной страны, уловили сигнал этого
племени, — по своей дикости, что ли? — но не поняли
его. Наши бабушки дают внукам закурить и выпить. Они
чувствуют — что-то надо дать. Не знают, что...
Нет, это не благо работать на расстоянии вытянутой
руки, если рука вытянута через эстакаду из трех уровней.
Каждый день я умираю на этих проклятых лестницах. На
них навсегда затвердел звук моих щелкающих суставов.
По его формуле меня восстановят инженеры и техники
Страшного суда. Надо же будет нас откуда-то соскребать,
меня соскребут с московской эстакады.
Да, все так. Как миг, пролетели пятнадцать лет. Что
было за это время? Все. Женитьба сына, хирургическое
вмешательство, замужество дочери, смерть мамы, взбрык
мужа, ошеломленного возникшими мужскими проблемами,
и поиск выхода в «открытом космосе». Комета, с которой
он столкнулся, была молода и слюнява, что было видно
только со стороны. Вблизи эти слюни были ему медовыми
устами. Я не оказалась на высоте, а растерялась, рассыпа¬
лась на составные. Спрашивается, с чего? Что я не знала,
как это бывает? Не знала, что в любовном деле нет пра¬
вил, нет логики, нет закона и порядка? Не я ли сама про¬
ходила в жизни через спорадическое самотрясение, когда
глохнут и слепнут все системы сохранения и жизнеобеспе-
291
чения, когда ты не то что разрушаешься стихией, а ты
сама — стихия. И черт тебе брат, друг и товарищ.
Как нам хватило ума и терпения пережить эту детскую
мужскую болезнь, сама не знаю. Что-то нас удержало на
грани, а скорее всего, у «медовых уст» не было терпения
ждать под часами времени поношенного кавалера. Девуш¬
ке хотелось всего сразу (нормально!) — и постельку, и ве¬
нец, частями ей не годилось. На самом пике этой истории я
совершила глупость: ляпнула про Володю. Дескать, и он, и
я на семьи не посягали. Было полное ощущение говорения
правды. Три дня я верила себе, как если бы я была Стали¬
ным. «Мы так вам верили, товарищ Сталин...» Меня спасло
это сравнение, филологический корень семьи вовремя пус¬
тил росток, и цитаточка пелену с глаз и смахнула. Семья,
разбомбив, как оккупант, собственный дом, сама и занялась
его восстановлением. На процессе подноса кирпичей и ра¬
створа склеились. Была даже радость второго захода, вто¬
рого обретения. Уже через год почти забылась девочка, хо¬
тевшая все и сразу. У нее было нелепое имя — Капа.
Мая и Володя продолжали жить в Челябинске. Манио-
ниха умерла. Последние годы она жила у них. Вава родила
двойню, выпихнула робкого десятка мужа и завела нового,
палец в рот не клади, тренера по теннису. Тогда еще теннис
не был игрой политически модной, в голове такого не дер¬
жали, но кто что знает? Может, тяжелое белое Вавино
тело улавливало пульсации будущего?
В Москву приехал учиться Саид. Он стал таким писа¬
ным красавцем, что к нему приставали на улице как жен¬
щины и девчонки, так и мужчины и режиссеры фильмов.
Странно, но он был хорошим, скромным мальчиком и оглу¬
шительности своей красоты стеснялся.
Мая приезжала в Москву часто, всегда звонила, иног¬
да приходила в гости. Каждый раз я жадно ее разгляды¬
вала. Вот она снимает пальто, блузка смялась, сдвину-
292
лась, Мая ладонью заталкивает ее в юбку, выпрямляет.
Она полнеет, моя подруга, животик тяготит тело, Мая
достает из рукава большой и легкий пуховый платок и
бросает на плечи. Платок скрывает помятости блузки, и
животик ныряет в концы платка. Мая не пользуется кос¬
метикой, какая есть — такая есть, поэтому она не кажет¬
ся моложе, но и старше не кажется тоже. Я знаю, потом
она выиграет. Нам, пленницам мазей и красок, помочь
будет все трудней, мы попадем в глухую зависимость от
румян и помады, от частого щелканья косметичкой у не¬
которых из нас, особо впечатлительных и эмоциональ¬
ных, начнется пальцевый тремор, отчего брови могут в
рисунке оказаться несимметричными, а губы выйти за
пределы... Всего этого конфуза у Маи не будет. И я
опять и снова преисполняюсь нежностью к ее какой-то
подкожной предусмотрительности. Я думаю: какая умни¬
ца. Но это не имеет никакой пользы для меня самой. Мне
как бы и не впрок. Возможно, встречайся мы чаще, я бы
в конце смогла сформулировать, что за странное чувство-
понятие я к ней испытываю всю жизнь, а может, оно ка¬
нуло бы при каждодневном употреблении. С тонкими
чувствами это сплошь и рядом.
А так... Раз в год-два меня окатывает нежность к под¬
руге и я думаю: туда, куда мы вернемся, когда окончатель¬
но износим кожу и кости, мы ведь вернемся без пола.
И моя любовь-нежность к Мае не потребует объяснений.
Я путаюсь в мыслях, обнимая ее огрузневшие плечи, вды¬
хая запах ее волос, какой-то странно-горяче-горький.
А тут она позвонила и сказала, что они вернулись в
Москву совсем.
— Тесновато, — пожаловалась Мая. — Мы с Воло¬
дей — люди избалованные. Последние годы каждый имел
спальню. А сейчас всюду живут близнецы, нам досталась
мамина комнатка, — помнишь ее? Угловушка... Володя
нервничает... И Вавиного мужа он так до сих пор и не вос-
293
принимает. Он не прав, абсолютно... У них такая с Вавкой
страсть...
Я пытаюсь представить Ваву в страсти. Полную, рых¬
лую, тяжелую...
Как-то неуверенно договариваемся с Маей, что надо
бы встретиться домами. Отметить возвращение.
— Обязательно! — говорит Мая.
— Да! Да! — говорю я.
Треп. Не больше. Стихийно, случайно, экспромтом —
еще может быть. Но чтоб перетирать бокалы и чистить
подносы, то нет. Как говорила моя покойная бабушка в по¬
добных ситуациях: «Цего не буде...»
Я не хочу и не буду видеть Володю.
Все эти чувства я износила. Я была на верху блажен¬
ства, но ведь и на краю бездны стояла тоже. Досыть, что
значит хватит. Но у меня именно «досыть». До сытости.
До тошноты от всех этих странностей любви.
И еще. Я боюсь...
Но вошь... Вошь-таки заползла в голову.
И как ловко! Как мастерски она преодолела санитар¬
ные кордоны, выстроив на своем пути ко мне эркер с от¬
крытыми на лужайку окнами и поставив меня в нем. Ну,
конечно, я все понимаю, я могу сама себя объяснить.
Днем, на улице, я видела, как двое бежали друг другу на¬
встречу. Видела ботики на согнутых ногах, когда он поднял
ее выше себя и у нее засмеялись волосы. Они кружились
вокруг ее головы, переливаясь всеми цветами радуги, и я
слышала их смех. Такое оглушительное счастье волос и бо¬
тиков, и его рук, которые ее подняли, и такой жар от них,
что меня, проходящую мимо, просто-напросто подпалило...
«У тебя уже этого не будет, — громко сказала сидящая на
мусорном баке ворона. — И нечего зариться климактери¬
ческим глазом». — «Ты не права, — ответила я ей. —
Я смотрю без зависти. Я смотрю с пониманием». — «Ста-
294
рая женщина не может на это смотреть без зависти». —
«Может!» — «Не может!»
Именно после этого вошь-ворона выстроила мне на по¬
гибель эркер. Я в нем стою, а Он — влажный, с полотен¬
цем через плечо, со смуглыми выемками над ключицами,
идет мне навстречу.
Она победила — это птицанасекомое.
Уже через малюсенькое, вполне помещающееся в ос¬
пинке поры время я поняла, чего хочу...
И пошло-поехало...
Можно ли назвать встречу случайной, если ты каждый
день ее видишь? Уже была смакетирована, выстроена и за¬
селена некая реальность. В ней существовали другие силы
притяжения и другая речь. Там не было суставного ревма¬
тизма и волосы не секлись от химии. Там на мне была ко¬
ротенькая шубка из песца и между нею и сапогами из луч¬
шей кожи были только ноги. Только! Там они у меня были
длинные-длинные — до ушей. На полях рукописей я рисо¬
вала это летящее себя.
Скажу так: я расчесала воспоминания. Сначала испод¬
воль, по чуть-чуть... Потом все больше и больше...
Кликуша накликала...
Я шла и думала: сейчас он выйдет из-за угла.
И он вышел.
Конечно, не так. Все грубее и проще, насколько грубее
и проще жизнь супротив умственных химер. А может, не в
жизни дело? Может, стареем не только мы? Может, наши
ангелы-амуры тоже начинают летать ниже по причине
одышки и ревматизма?
На базаре. Мы встретились на базаре. Над свеже-мер¬
твой петрушкой.
— Почем?
— Почем?
295
Наши руки столкнулись деньгами, и я их узнала —
пальцы и ладонь. Я потом очень удивилась, когда он снял
перчатки. Значит, пальцы его были одеты? Как же я их
узнала? Значит, опять это сумасшедшее нечто, которое ви¬
дит сквозь темноту и одежды? Но это «ля» второй октавы
уже сопровождается тахикардией. Я просто вижу свое сер¬
дце, оно дергается и даже взлетает. Оно — курица, кото¬
рой отрубили голову, но она еще не знает про это. Он же
обхватил меня и куда-то тащит, болтаются сумки, в них да¬
вятся яички. «Это бездарно», — думает моя отрубленная
голова.
Мы рухнули на какую-то скамейку возле трансформа¬
торной будки. Почему-то он ощупывает мое лицо, и я не
удивляюсь этому, как будто всю жизнь меня узнавали сле¬
пым методом, как будто в нашем случае он точнее и нет
вернее пути вернуть к жизни ту силу, что вела нас к месту
и времени, в переулке под свод переполненного и кренив¬
шегося жаром Ковша Медведицы. Когда его руки призна¬
ли меня, мы начинаем говорить слова. Оказывается, он
давно ходит на этот рынок: когда-то я сказала ему, что
кормлюсь с него. «Я боялся встретить тебя с мужем».
«Странное ощущение при слове «муж». На секунду я вы¬
хожу из ситуации прочь, становлюсь сторонней, как если
бы я смотрела кино, и думаю, что сидящая на скамейке не¬
молодая женщина в сапоге с незакрытой до упора молнией
на левой ноге выглядит глупо и неопрятно. Что всякие ка¬
сания ее при белом свете с плешивым мужчиной срамны и
надо что-то делать, что-то изменить, отодвинуть и попра¬
вить хотя бы направление отяжелевших ног, между кото¬
рыми обвисла сумка с яичницей-болтушкой. В слове
«муж» — три буквы. Коротенькое слово не сумело вынуть
меня из другой реальности. Брачные слова должны быть
длинными, тяжелыми, как цепи на воротах иностранных
посольств. Они должны уметь предотвращать или служить
способом по вытягиванию из...
Я делаю над собой усилие... А может, это делает цепь...
296
— Неужели ты думаешь... — говорю я ему голосом,
который не узнаю сама: какая-то сухая хрипотца и модуля¬
ции подлые, лживые, и я этим звуковым материалом вяжу
слова совсем из других пределов. — Неужели ты дума¬
ешь...
— Я не думаю, — говорит он. — Я счастлив тебя ви¬
деть. Ты поседела...
Неделю как мне надо было подкраситься... Это делает
мне муж. Зубной щеткой он мазюкает мне корни волос.
Каждый раз, сидя посередине кухни со стареньким хала¬
том на плечах, я думаю: а каково ему после этого обнимать
меня в постели? И что это я себе позволяю? Не дура же я?
Но приходит момент, и я возникаю перед ним с зубной
щеткой, и мы начинаем этот беззвучный разрушительный
процесс. «Ничего, ничего, — утешаю я себя, — я ему сре¬
заю мозоли».
Мозоли и щетки возвращают меня в место и время.
Я говорю Володе, что рада его видеть, что хорошо, что они
вернулись, спрашиваю, как у него с работой, как внуки.
Одним словом — я гунявлю. И просто вижу его превра¬
щение. Он грузнеет, тяжелеет... Можно ли сказать, что
глаза погасли с шипением? Или это будет чересчур? Но
чересчур и было... Предположим, я, вспомнив сексуально
невозбудительный процесс покраски волос, впала в уны¬
лый речитатив. Вернуло ли его это к месту действия — ба¬
зару — или в нем замкнулась собственная клемма, и он из
еще и еще вполне перешел сразу и без остатка в уже и уже
вполне?
В общем, приволок меня на лавку один мужчина, а си¬
дел совсем другой... Обмякший, огрузший, тухлый. И эта
моментальность перехода меня, можно сказать, доконала.
— Все мои яички побились, — сказала я, вынимая па¬
кет с болтушкой. Потом я встала и легкой походкой (ста¬
ралась!) отнесла пропавший продукт в мусорный контей¬
нер.
297
— Зачем же так? — закричал Володя. — Их же мож¬
но использовать в тесте! Или в омлете!..
А чего я ждала? Какого поворота любви?
Я шла от контейнера еще более легко, уже не прилагая
особых усилий, я шла и думала: это у меня кончилось на¬
всегда. Нашей страсти хватило на тактильную связь. Хо¬
рошо, что это обнаружилось по дороге, а не доведи Бог до
какой-нибудь квартиры с ключом.
Пути Господа неисповедимы. Хотя в данном случае на¬
верняка его упоминание всуе.
Но я вернулась к нему после выбрасывания яичек пря¬
мо в объятия, и пошло-поехало...
— Меня ты так просто не выбросишь, — сказал он.
— Это я тебя накликала, — ответила я. — Я только
не знала, с какой стороны ты явишься.
Наш пожилой грех был очень сладким и никогда таким
горьким. Во -первых, во-вторых и в-третьих, некуда было
деваться. Была какая-то полуброшенная дача без воды и
света, комната в коммуналке с часовой оплатой, мы брен¬
чали случайными ключами, и это была мелодия поражения.
Грех был похож на выброшенную на берег огромную меду¬
зу, которая плющилась, истекала, жалила, а на ее агонию
пялились случайные люди, а дети тыкали в нее палкой.
Мы свято верили в соблюдение тайны, хотя...
Хотя был между нами разговор: а не объявиться ли
всему миру и решить эту затянувшуюся проблему раз и на¬
всегда.
— Сколько нам осталось! — говорил Володя, когда
разговор этот возникал с его подачи.
С моей подачи возникали более экзотические мысли о
всеобщей последующей дружбе, я покрывалась липким
стыдом и уже не договаривала до конца.
Поиски выхода успехом увенчались: нам перестали по¬
падаться ключи и сквознячные дачи. Одним словом — ме¬
дуза на камнях высохла сама собой... Истекла...
298
За все эти два месяца и четыре встречи Мая из жизни
как бы ушла на время. Не звонила, не звала к спекулянтке,
я тоже не звонила, не предлагала новый детективчик.
У меня подросли волосы, и я с зубной щеткой в одной
руке и драным халатом в другой встала перед мужем, как
лист перед травой.
Деля волосы на пряди, муж с удовлетворением сказал:
— Ничто на земле не проходит бесследно. Ты стала се¬
дая бесповоротно.
Он оказался прав: ему на мою бедную голову не хвати¬
ло краски. Это была хорошая работа для лукавого Тома
Сойера: при помощи воды и грубых мазков разгонять не¬
выразимо каштановый цвет на всю возможную широту и
долготу. Осторожное капание на голову воды из чайни¬
ка — такой был дикий метод — и последующее ее стека-
ние по лицу и шее было вполне подходящей пыткой. Зато
и слезы, перемешавшись с водой и краской, достоянием
широкой гласности не стали.
Муж же... Мазюкал и мурлыкал. Бда-да-да-да, да,
бда-да-да...
Интересно, знала ли Мая? И на уровне каких хозяй¬
ственно-косметических дел объяснились они с Володей, и
было ли у них столь же по-домашнему непринужденно?
Не знаю. Мы перестали звонить друг другу.
Ваву я увидела по телевизору. Это было в тот не к
ночи будь помянутый день, когда мы все, утратив всякое
представление о добре и зле, возможном и должном,
смотрели по телевизору картину по названием «Явление
Русской Идиотии народу мира». Я имею в виду расстрел
Белого дома. Вавка стояла на мосту с двумя взрослыми
близнецами, ела мороженое и криками подбадривала бом¬
бардиров. Телекамеры взяли ее крупно и держали не¬
сколько секунд.
Я кинулась к телефону. Трубку сняла Мая.
299
— Их надо забрать оттуда! — кричала я. — Ты виде¬
ла, где они стоят?
— Я не смотрю, — ответила Мая. — Это не для моих
нервов. А чего ты так волнуешься? Ничего не будет. Это
ведь все нарочно. Цирк... — У Маи действительно был аб¬
солютно спокойный голос. Я бы, например, спятила, если б
знала, что мои дети там. Во мне плеснулся гнев. Какая наи¬
вная дура! Я просто задохнулась от гнева. Но — оказыва¬
ется — между вдохом и выдохом огромное расстояние, в
нем легко поместилось все наше общее с Маей время, не то,
в котором финская, отечественная, врачи, космополиты,
дыл, бур, убе, щур, целина, космос, сиськи-масиськи, жены
президентов в элегантном красном, хождение толпой шири¬
ной в проспект, крики свободы из таких глубин потрохов,
что собственная глубина кажется невероятной и в нее страш¬
но провалиться, бдения августа и похороны трех красивых
мальчиков, пустые прилавки и всюду старухи, старухи, ста¬
рухи с сигаретами, сигаретами, сигаретами, и крики, и сто¬
ны, и эти забитые туго ядра на распотеху миру... Ядра, ядра,
ядра... Несть им числа у несчастной России.
...где в этом мире мы с Маей? Но именно сейчас, когда
по дури плеснувший гнев, шипя, отполз, как побитая соба¬
ка, я дохожу своим свороченным умом, что все вышепере¬
численное гроша ломаного не стоит по сравнению с нами.
...двумя выросшими девочками, которых судьба зачем-
то связала в узел. Чтоб мы поняли... Что?
А потом Мае отрезали грудь и я приехала к ней на Ка-
ширку. Мая лежала плоско и улыбнулась мне, как в дет¬
стве. Доверчиво и радостно. Володя сидел рядом, и у него
тряслись руки. Во всяком случае, налить Мае стакан сока
он не сумел, махнул рукой, заплакал и вышел.
— Мужчины не умеют переживать горе, — сказала
Мая. — Ты заметила, что они несчастья воспринимают
как личную обиду?
300
— Потому что эгоисты, — ответила я. — Несут всю
жизнь себя как подарок... Вот, мол, я, любите меня...
— Он так себя нес? — спросила Мая.
— Майка! — закричала я. — Ты о чем? Нашла время
и место.
— А когда же еще? — тихо сказала она. — Сколько у
меня времени, чтоб понять... Тебя. Его.
Я кинулась к ней на кровать. Как я рыдала и выла, это
надо было видеть, слышать. Володя стащил меня с Маи и
дал мне по морде, правильно, между прочим, и сказал,
чтоб я уходила и чтоб ноги моей в больнице не было.
Видели бы вы его лицо. Ничего похожего на человека,
с которым мы топали по хрусткому перелеску к нашей вре¬
менной собачьей будке. Просто ничего. С ним ли я шла?
Я брела по скорбному коридору больницы и думала,
как бы он себя вел, если бы на кровати плоско лежала я?
Как бы вел себя мой муж? Тряслись бы у него руки, нали¬
вающие сок?
Гнусно ли это или нормально, но мне хотелось об этом
думать. Я двигала нас туда-сюда, туда-сюда... Вот уже не
Мая лежит — Володя. Это он, глядя на Маю, говорит:
— Женщины не умеют переживать горе. Впадают в
истерику. Посмотри на Майку.
И я буду выводить Маю в коридор, давать ей сердеч¬
ные капли, пролью их, мы завоняем валерьянкой. И этот
запах неблагополучия объединит нас, и мы будем трястись
в плаче, прощая друг друга.
Вот оно что! Вот... Больной Володя нас бы объединил,
а больная Мая нас всех разъединила.
Тогда я подставляла в наш кривоватый четырехуголь¬
ник самую незначащую в игре сторону — собственного
мужа и получалось совсем ужасное: в этом гипотетическом
горе я была бы одна. Совсем...
Нет, мы были все-таки треугольником, и я даже вздох¬
нула с облегчением, что муж, слава богу, — тьфу! тьфу!
301
тьфу! — здоров и не имеет к нам отношения. Спасибо
тебе, дорогой мой, мне есть куда прийти с побитой мордой.
Я виновата перед тобой, мне стыдно, а там мне не стыдно
и я не виновата. Там я в другом вареве и уже столько лет...
Мая позвонила сама, уже из дома, попросила принести
детективчик. Я выбрала три, самые, самые... Сделала свой
фирменный «наполеон», купила «орхидею в домике».
Я думала, что еще? Мне хотелось тратить на нее деньги,
ублажать...
Она хорошо выглядела. Выпавшие после химии волосы
подросли. Я вспомнила Анну Каренину, у нее тоже после
тяжелых родов волосы вылезали черной щеткой. Так напи¬
сал граф. Ему была неприятна Анна, грешнице полагалось
умереть, а она выжила. И ощетинилась.
С какой стати это вспомнилось тут, у Маи? Маи-без-
грешницы? Маи-страдалицы? Тут явно была путаница, и
путаница не только в моей голове. В голове — безусловно,
но была какая-то неправильность по большому счету. Ще¬
тинка так, намек, знак... Чего?
— Ты похожа на Анну Каренину, — сказала я Мае.
— Я похожа на свою послетифозную бабушку, — зас¬
меялась она. — У нас есть фотография.
Мая стала рассказывать про Саида, которому давно
пора жениться, а он ни в какую. «В нем стало проявляться
национальное, — сказала она. — Понимаешь?»
— Ну и что? — ответила я. — Что в этом дурного?
— Ничего, — вяло ответила Мая. — Просто чудно
будет, если он примет мусульманство.
Она стала мне рассказывать про мужа-узбека, какой
он был «очень восточный».
— С этим, понимаешь, ничего нельзя было сделать.
Ничего! Они внутри несут в себе это... Свое, главное...
Свою истину... Веру... А мы — нет... У нас истины нет.
— Тогда не мешай Саиду, — сказала я.
302
— Это неправильно, — рассердилась она. — Я ведь
его мать, и у меня тоже есть вера.
В какой-то из моих приходов Мая сказала, что знает,
от кого заразилась этой гадостью.
— Помнишь Маргулю? Когда она умирала от этого, я
была с ней.
— Но ведь... — бормочу я.
— Ну да! Не заразен! Брехня. Она три дня держала
меня за руку. Нарочно. Мстила. Я не знаю, в курсе ли ты
или нет. Но еще до меня, по самой, самой молодости у них с
Володей было. Представляешь себе тетю! И, когда мы с
ним познакомились, смехом его поддела... Вы, говорю, не
перепутали, что значит быть племянником и тетей? У вас,
мол, не заскок? Но у него и так все уже шло на нет...
К Маргуле... Тебе и в голову такое не могло прийти, правда?
Неправда, Мая, думаю я. Я все поняла еще до того,
как увидела саму Маргулю, а потом несла портрет, на ко¬
тором они головка к головке. Я все знала сразу.
— С ней справиться тогда было не шутка, — говорит
Мая. — Я даже не боялась, когда она переехала к моим
поближе... Атаки отомстила: держала руку три дня, а я
без понятия.
Не знаю, как себя вести: опровергать Маю или согла¬
шаться? Что лучше ей самой? Ведь Маргуле давно все
равно. Старая дева умерла молодой — в сорок лет. Умерла
в комнате домасарая, которую дал от щедрот тоже давно
покойный Маниока.
Как живой Мае лучше, так я ей и скажу.
— Плюнь, — говорю. — Ничего у Маргули не выш¬
ло. У тебя все в порядке. Подумаешь, операция! Как
ты — мильен.
Мы примеряем протез. Тяжелый, он как бы перелива¬
ется в руках.
Мая даже зарозовела от обретения формы и стала со¬
всем молодой и хорошенькой. Мне хотелось ее обнять,
303
утешить. Но пришла Вава и широко, расплывчато села на
диване. И разговор пошел ни про что... И уйти оказалось
легко.
А во дворе я встретила Володю и увидела, как он плохо
встрепенулся. Ощетинился.
— Мая хорошо выглядит, — сказала я.
Он переложил сумку из руки в руку. У меня даже воз¬
никло нелепое чувство, что он снова собирается дать мне
по морде затекшей от тяжести ладонью. И я поймала себя
на том, что у меня уже есть опыт такого рода, и я даже
развернула лицо так, чтоб смягчить удар, чтоб ладонь точ¬
но пришлась на мягкое, на щеку.
Можно пережить пощечину и не получив ее. Это был
тот самый случай. Я шла домой, и у меня горело лицо.
Только добравшись до родных железяк эстакады и уцепив¬
шись за них, я поняла главное: вина и грех возложены на
меня. Вернее, не так. Вину и грех выбросили мне вслед,
быстренько захлопнув дверь. Собирай, кукушечка, свои
бебехи и отвали. У людей большие и красивые чувства —
болезнь, смерть, мусульманство, — а ты просто мимо шла,
побирушка... Ну вот и иди дальше... Моя покойная бабуш¬
ка кричала с крыльца нищенкам: «Нечего подать! Нече¬
го!»
Благословенны трижды эстакадные кривые лестницы.
Пока то да се... Пока вверх и вниз... Пока отщелкали ко¬
ленки...
Я приняла свою вину. Ладно. Пусть. Справлюсь. Ту¬
пым ножом, как по сырому и теплому мясу, я отрезала их
всех... Отторгла и вышла из собственной крови. А они
уплывали, уплывали... На легком фантомном острове —
Володя, Мая, Вава, Саид, Маниониха, близнецы, Маргу-
ля, дольше всех виделась Майна голова со щетинкой во¬
лос. Гудбай, Америка, тебя я не увижу больше никогда.
Мне хотелось заплакать, но не получилось. Все-таки я
не плакса, это точно.
304
IV
...Я никогда не буду жить на чистой улице чистого го¬
рода.
Я зациклилась на этом. Дались мне эти островерхие
чужие крыши с начищенными ручками дверей. Да, эта не¬
молодая леди с сумочкой для пудреницы не я, и я не прися¬
ду за тонконогий столик, чтобы выпить чашечку кофе в
этом не моем чистом городе.
Ну и что? Где я, а где леди? Не естественней ли было
бы вообразить себя старшей теткой в гареме или просто
правоверной мусульманкой в широких штанах, замечатель¬
но скрывающих уже слегка обносившуюся плоть?
Но факт остается фактом: я ищу себе места, а на своем
собственном месте я места себе не нахожу. И ничего тут не
поделаешь.
Ни смирения плоти. Ни смирения души...
Опять он объявился у дома, как когда-то давным-дав¬
но. Сидел на грязном, записанном собачками крае песоч¬
ницы. Горько сидел, безнадежно. Я привела его домой.
— Мы живем вдвоем, — объяснила я ему. — Детям
построили квартиры.
Почему-то он сразу пошел на кухню.
— Идем в комнату, — сказала я ему.
— Тут привычней, — ответил он.
Он занял мою табуретку, и это меня раздражило, я ста¬
ла чувствовать себя неуютно и как бы не дома.
— Не надо ни чаю, ни кофе — ничего! — сказал
он. — Просто сядь рядом.
Я села. Он уткнулся лицом в мои руки и как-то тихо¬
нечко не то всхлипывал, не то подхихикивал, не то скулил.
Потом поднял лицо, оно было сдвинуто, стронуто с места,
такое потерявшее прописку лицо. И эта сбежавшая из
дома личность стала говорить мне все ранее не говоримые
слова. Мое травмированное не своей табуреткой сознание
305
выдало мне для потехи мысль — хорошо бы ему онеметь
на этот трагический случай в кухне. За столько лет я на¬
училась находить его руками, распознавать в темноте, я
его чуяла. При чем же тут слова и вообще весь вербальный
мир? В этом мире были мои мужья, дети, я и сама в нем
существовала. Вплоть до сумасшедшего Зова. Так бездар¬
но это формулировать, а он пытается, пытается, скрипя на
моей любимой табуретке.
— Заткнись! — кричу я ему. — Заткнись!
Тогда он хочет исправить ситуацию другим путем...
Мы сидим с ним как два пораженца на поле брани. И я
не добра, и не великодушна, и не хочу и не могу его уте¬
шать и успокаивать на фоне руин. Он сам нарушил прави¬
ла нашей любви и пусть теперь отвечает, пусть. Я слушаю
жалкую речь про то и се и жду момента, когда предложе¬
ние уйти будет для него не таким обидным.
Но я затянула время, я его передержала... Он начал
про Маю. Про то, что она стала чувствовать себя хуже,
это, видимо, даже не связано с операцией, просто воз¬
раст, но раздражительна, плаксива... Знаю ли я, что
Саид принял-таки мусульманство и живет теперь отдель¬
но, потому что наше питание... «Мая ведь все делает из
свинины».
Я не хочу их свинины, их исламского сына, не хочу ни¬
чего знать про Ваву, близнецов и преуспевающего тренера
по теннису. Я не хочу и про Маю. Не хочу от него...
— Я не хочу, чтобы ты мне говорил про Маю.
— Но вы же подруги! — удивляется он.
— Подруги, подруги, — говорю. — Но ты лучше ухо¬
ди.
— Когда мы встретимся еще? Я же должен реабилити¬
роваться.
— Не должен, — отвечаю я. — Никто из нас никому
не должен.
306
Он уходит нелепо. Не может в наклон завязать шнур¬
ки, приседает, — от напряжения у него отрывается на
штанах пуговица, куда-то закатывается, мы ползаем по
прихожей, ищем. Глупо... Бездарно...
Когда он ушел, я открыла окна. Но он долго не ухо¬
дил — его запах. Запах неуверенного в себе мужчины, за¬
пах нервного пота, запах приседаний, вдохов и выдохов
над шнурками.
Я выстудила комнату. Занавески ходили туда-сюда, и у
меня закружилась голова. Просто парус, корабль и качка!
Разматывай эту идею, дура, разматывай. Вообрази еще,
что ты плывешь в островерхий город с чистыми улицами и
надраенными ручками дверей. Ты там живешь... Там у тебя
эркер... Ты в нем стоишь, а он идет к тебе по газону, кото¬
рому триста лет...
...Идет в последний раз...
Митина любовь
...бесстыдность чистейшей невинности...
И. Бунин
Не про нас... Мимо...
Однажды я рассказала своему приятелю, что времена¬
ми, ни с того ни с сего, на ровном, можно сказать, месте у
рукописи начинают заворачиваться углы. Я объяснила
приятелю, как я выравниваю их своим рабочим локтем, вы¬
равниваю и держу, а уголки потом сворачиваются уже не
просто так, а со свистом...
— Это тебе, дуре, знак, что все цивилизованные лите¬
раторы давно перешли на компьютер. Углы у нее, видите
ли, свистят.
И он сделал специфический жест у виска.
Я стала выяснять все про компьютеры — где, как и
почем. Но одновременно продолжала держать локтем угол
живой и горячей рукописи. Это была повесть про учитель¬
ницу географии, которая все мое детство лезла мне в глаза
сухими шершавыми пальцами, чтоб заглянуть под веки, а
потом, клацнув зубом, объясняла маме бесспорность моего
не долголетия.
Учительница пахла свежеоструганными досками, а это
было для меня тогда запахом гроба. Хоронили прадедушку,
во дворе стояла крышка и остро пахла, как мучительница
географии. Одним словом, мы обе, прикасаясь друг к дру¬
гу, содержали в себе некую информацию о смерти другого.
Но если ее положение в мире по отношению к моему позво¬
ляло ей говорить, что «дитё недолговечно», то обреченное
дитё сказать ей про запах гроба не могло. У дитя были
строгие понятия, что можно говорить, а что нельзя.
308
На уроках в пятом классе учительница рассказывала
нам, что степь — истинная степь в географическом смыс¬
ле слова — способна скрыть травой идущих по ней в рост
высоких мужчину и женщину. Малолетки, мы перемигива¬
лись, хихикали, и в нас рождалось сомнение — дева ли
наша географичка, именуясь старой девой?
Вот про нее, горемычную деву-недеву, и была руко¬
пись, углы которой завернулись, и я подумала: компьютер.
Приятель прав — нельзя оставаться такой позавчераш¬
ней. Я даже кассеты в видак вставляю задом наперед. И я
положила на уголок рукописи кусок чароита, который
однажды нашла на дороге. Шла, шла, а под ногами — фи¬
олетовый камень-чудо. «Возьми меня!» — сказал камень.
А потом узналось — чароит с сибирской речки Чары.
Как он попался мне на тротуаре в Москве? Но, взяв его в
руки, чтоб прищемить угол, я поняла: не зря заворачивает¬
ся рукопись. Отпусти ее дрейфовать в прибрежных водах
фантазии, кто знает, может, обернется дева-географичка
русалочкой и я найду ее, выброшенную на берег, лапочку
мою хвостатую, и расскажу про ту самую расступившуюся
степь.
И тут меня пронзило. Как же я буду понимать глубин¬
ные подмигивания компьютера и скумекаю, что он мне за¬
ворачивает уголочки? Поэтому мне нужен на столе камень,
не важно, чароит он или какая каменная дворняга, но имен¬
но камень, а не диод с триодом, с которыми нет у меня об¬
щего языка, хоть застрелись. Даже лампочка Ильича мила
мне, когда служит иначе — когда сидит в носке и сверкает
в дырке... Мне хорошо с ней и уютно...
По всему тому, исходя из каменьев, степей и дырок в
носке, я отвергла компьютер как предмет мне лично не
подходящий. Одновременно я отвергла евроремонт и при¬
вычку есть лягушек в Париже. Ладно им всем! Един¬
ственное, что я могу сделать, — вдеть для понта в одно
ухо серьгу. Но это тоже по обстоятельствам... Если уж
очень приспичит.
309
А пока я отодвинула рукопись с завернутыми углами и
вынесла принадлежащие ей вещи.
...Тетрадь по географии для пятого класса. Она, гуляю¬
щая по полю учительница, почему-то любила письменные
работы. Например, мы писали сочинение про город Кёниг¬
сберг. Чтоб вы знали — это Калининград с 1946 года.
Но писалось сочинение в сорок седьмом, и именно про Кё¬
нигсберг и о князе Радзивилле, и я получила двойку, пото¬
му что дважды написала Кёнинсберг. Двойка была больше
самого сочинения... Страстная, злая... Как напоморде. От¬
куда я могла знать, что географичка родом из тех краев и
переименование ее возмутило, как бы отняв у нее вкус и
запах детства. Отняли же у меня сейчас Украину... Мне,
конечно, нравится ее самостийность, я ею горжусь, но меня
напрягают малые с ружьем на ее границе. Ну, не люблю я
ружье. И с ним этот оксюморон — «мирная цель». На
границе я себя ощущаю.
В общем, стала я выкидывать географический скарб —
и мало не показалось...
В возникшей пустоте гуляло, как хотело, эхо... Мне
кто-то умный сказал, а я поверила, что природа не терпит
пустоты, поэтому я стала ждать наполнения, чтоб в пустоте
что-то завязалось. Вот тогда и появился в доме бидон, ко¬
торый стоит у меня на подоконнике и в котором зелёно под¬
кисает вода на случай отключения московского водопрово¬
да.
1
Я тогда тащилась по улице, а навстречу мне шла моя
собственная дочь с этим самым бидоном. Во-первых, тут
все совершенная фантастика, хотя все абсолютно достовер¬
но. Я тащилась в старом смысле этого слова, в смысле
еле-еле шла, едва передвигая ноги, а не пребывала в состо¬
янии восторга (кайфа) или наслаждения. Я тащилась от
310
усталости и обострения болезни коленной чашечки, а на¬
встречу мне шла дочь. Красивая, молодая, раскрепощен¬
ная, а в руке несла бидон.
Надо ли описывать бидон? Не надо. Он известен.
Соединить в одно целое бидон и элегантную женщину в
легких летящих одеждах, вкусно пахнущую то ли «пленэ-
тюдом», то ли «проктер энд гемблом», невозможно, но это
все невозможное идет мне навстречу. Пока я совмещаю в
голове несовместимое, моя дочь с партизанским гиком ки¬
дается ко мне и всучивает мне бидон. Я понимаю, что де¬
вочка давно несла в себе мысль о несоответствии себя и би¬
дона, и вручение мне бидона было идеальным выходом из
положения: все-таки, что ни говори, он мне личил больше.
Или там хорошо в меня вписался.
Вот в этот момент — допускаю — и началось свора¬
чивание страниц на моем столе.
Недавно некий ведущий в телевизоре благостно-про¬
тивным голосом объяснил нам, дуракам, что неправда, что
стихи растут из сора, у него лично не так... Подтверждаю.
Они, эти чудики, растут и из бидонов, и из больных коле¬
нок, они не ведают стыда ни от чего, потому что сам про¬
цесс рождения для них свят. Да ну его, ведущего... Глав¬
ное — другое. Я стою и уже держу бидон.
— Ты знаешь, — кричит мне дочь, — у метро его
продавала такая хрупкая, интеллигентная, печальная ба¬
бушка. Я отдала ей за него пятьдесят тысяч. Конечно, я
переплатила. Но ты ведь меня понимаешь? Да?
Я молчу. Я слышу, как на шестнадцатом этаже моего
жилья утихает эхо. И еще~я перевожу пятьдесят тысяч на
старые цены.
Это тяжелое заболевание — считать на несуществую¬
щие деньги, подавать тысячу и ждать сдачу, как с десяти.
Я понимаю, как они заходятся, придумщики нового сче¬
та, глядя на наши трясущиеся пальцы. Мы — как та бата¬
рея Тушина, про которую им хочется забыть.
311
С этим чувством я покупала билет в Ростов, где живет
моя сестра Шура. Одна дама из Минкульта давным-давно
объясняла мне научную силу «зигзага», петли в сторону.
Когда все вываливалось из рук, мол, самое время купить
билет. Я дала отбой панике и пошла покупать. У Шуры
поспел день рождения, у меня душевный и всяческий кри¬
зис, черт знает что может получиться из коктейля нервов и
радости.
Было еще одно. Полтора года назад, «до заворачивания
углов», произошла трагедия, в которую я была глупо вляпа¬
на. Слова плохие, нетрагедийные, но ничего не поделаешь,
именно так и было. Временами я винила ту беду за свои
последующие неудачи, а потом била себя по башке за свин¬
ство таких мыслей.
Поездкой к Шуре я хотела изжить этот грех и просто
убедиться, что жизнь идет своим чередом.
Поездка случилась тихая до противности. Разговоры
переговорили быстро, пошли по новой, к старому никто не
возвращался, а когда уже в пятый раз стали мусолить под¬
лость коммунистов и свинство демократов, я поняла: надо
бечь, чтоб не взрастить раздражение уже к Шуре, которую
я нежно люблю, и не виновата она, что я нагрузила род¬
ственную поездку к ней подспудной задачей, а теперь, как
дура, жду незнамо чего.
Тут и позвонила Фаля.
Полтора года тому мы с ней попрощались навсегда. Во
всяком случае, я была в этом уверена. После такого горя,
думала я, старуха не выживет. Хотя все это чепуха. Люди
живут странно: они могут пройти через невозможные поте¬
ри, а могут не пережить хамство соседа. В этой жизни ко¬
личество горя не аргумент ни для чего...
Тем более что количество его и степень не имеют
определения. Сразу скажу — смерть отдельного человека
312
в тройку претендентов на лидерство по горю могла бы и не
выйти. Ну что тут сделаешь? Такие мы.
— Сходи, — сказала Шура, — а то будет звонить и
канючить...
Что-то во мне торкнулось, как будто ворохнулась живу¬
щая внутри птица. Но тут же все усмирилось, я вполне мог¬
ла объяснить торканье причудами того полушария, которое
отвечает за дурь и фантазию.
Была неловкость в том, что сама я Фале звонить не со¬
биралась. Это говорит дурно обо мне, и только. Хотя и хо¬
тела посмотреть на то, «как стало». «Нечестно поступа¬
ешь», — сказала бы моя маленькая внучка. Так она опре¬
деляет сверхплохое.
Нечестно.
— Господи! — говорит Шура. — Ну ничему нас
жизнь не учит! Ничему! Иди уж к ней, иди! Ну что мы за
неучи такие проклятые! Что мы за идиоты?
Митя начинается с этого ключевого слова.
Со слова бабушки:
— Митя, ты идиот!
Было у него замечательное качество: он покупал на
базаре самое-пресамое не то — исключительно из чув¬
ства жалости к продавцу. Он приносил траченные жуками
листья щавеля, червивые яблоки, тапки, сшитые на одну
ногу, картины, нарисованные на еще неизвестном челове¬
честву материале, он покупал рассыпающиеся мониста —
одним словом, все, что было «на тебе, Боже, что мне не
гоже».
— Такая старенькая бабуля, — оправдывался он.
После чего моя бабушка произносила безнадежное:
— Идиот ты, Митя! Круглый!
То, что в моей дочери однажды вдруг взбрыкнул дяди
Митин ген и она купила ненужный бидон, вся ошеломи-
313
тельность такой возможности, конечно, отбросила меня на
десятки лет назад.
— Знаешь, — сказала я, — у тебя был родственник,
который очень хорошо бы тебя понял. Митя... Да я, по-мо¬
ему, тебе рассказывала...
Дочь делает поворот кругом.
— Мама! — кричит она. — Я забыла. Мне в дру¬
гую сторону!
Ну конечно... Она «сдала» мне бидон. А мои истории
ей даром не нужны.
Я его несу. Я несу бидон, как беременность... Время
расступилось... Я запросто вошла во вчерашние воды. Ка¬
кой дурак сказал, что это невозможно?
Моя мама пикантная женщина. Она рисует себе на ле¬
вой щеке мушку. Отупленный огрызок черного карандаша
лежит в саше. Я подставляю табуретку, достаю карандаш
и рисую на щеке нечто черное и жирное. Потом беру пома¬
ду и щиро, от души малюю себе рот. (Из меня так и прут
украинизмы детства, которые можно вырвать только с кро¬
вью. Так вот, «щиро» — это щедро, если хотите — жир¬
но.) Оторваться от такой красоты невозможно, и я увели¬
чиваю ее в объеме. И понимаю невозможность остано¬
виться, ибо красоты никогда не может быть достаточно.
Потом это во мне и осталось: все, что я делаю в первый
раз, я делаю «густо намазанным». Первую увиденную
дыню я съела одна — не могла удержаться. И ненавижу с
тех пор дыни. Когда-нибудь я напишу «Историю первого
раза». Но это я сделаю потом, а пока я на табуретке и нече¬
ловечески прекрасна. Глаз от себя не оторвать. Такую кра¬
соту нельзя таить, ее надо предъявить человечеству.
Счастливо выдохнув, я слезаю с табуретки и иду в
люди.
На крылечке стоит вусмерть выкрашенное дитя. Я ви¬
жу восторг (или ужас?) мамы и бабушки и то, как они с
314
криком бегут ко мне, а наперерез им бросается Митя. Он
хватает меня за руки, сажает на плечи и уносит вдаль.
Я получаю главный женский опыт. Сверхсчастье — быть
красивой и уносимой на руках мужчиной.
Как все помнится! Как чувствуется! Я знаю точно:
женское в девочке есть сразу.
В конце сада стоит ржавая бочка с дождевой водой.
Митя подносит меня к водяному зеркалу: в нем я выгляжу
еще лучше! Я смотрю, замерев от восторга, а Митя мне
шепчет, что надо умыться, чтоб не украл упырь, он на кра¬
соту падкий, хорошенькие девочки — это ему самый ци-
мес.
«Цимес» я понимаю. Поднеся деревянную ложку ко
рту с борщевой жижей, бабушка причмокивает и говорит:
«Цимес!» Так и упырь причмокнет, глядя на меня.
Я замираю над строчкой. Я должна разобраться. Зво¬
ню одной из своих умных подруг:
— Слушай, а цимес — это что?
— Изюм, — отвечает она.
Она у меня девушка без сомнений, поэтому ее надо обя¬
зательно перепроверять. Звоню другой.
— Курага, — отвечает другая, очень осведомленная в
искусствах и науках.
То-то и плохо. Осведомленные врут больше всех.
— Выпаренный сок цитрусовых, — говорит третья,
тоже из горнего мира литератур.
Я нажимаю на виски. «Виски! — говорю я им. — Тут
что-то не так...» — «Конечно, — вспоминают виски. —
Цимес — что-то совсем нелепое».
Ночью мне приснилась морковка, желтая, корявая, с
невкусной зеленоватой сердцевиной. «Я — то самое сло¬
во!» — сказала она. И это была правда.
К чему этот пируэт? К тому, что ни бабушка, ни Митя
тоже не знали про морковку. Что лишний раз доказывает,
что все мы — чертовы идеалисты и наше глупое сознание
315
придумывает, что хочет, и часто то, чего на свете нет вооб¬
ще. Этим мы и отличаемся. Я даже подозреваю, что пла¬
тье датскому королю шили русские заезжие портные.
И они видели это платье, видели, черт возьми, на самом
деле! А датский мальчик как раз был из местных, и у него
был другой глаз, совсем другой. Дамский глаз. Он бы сро¬
ду не дал старому слову нового содержания, сроду!
Ну да ладно... Просто грешно было не объясниться на¬
конец по поводу слова «цимес».
А теперь едем дальше, то есть совсем наоборот: вперед
назад!
Мы с Митей взбаламучивали воду в бочке в четыре
руки, мы смывали мою неземную красоту, чтоб не доста¬
лась она упырю. Носовым платком Митя довершает пре¬
вращение красоты в обыкновенность, вытирая разводы по¬
мады под моим носом. Потом смотрит на пропащий платок
и говорит:
— Ты свидетель! Это не то, что люди подумают!
Я понимаю: они подумают про Ольку.,
Олька, большая, рыжая, делает уколы и пахнет болью.
Возможно, она упырь... А Митя не догадывается. Я тут
же начинаю плакать, а он качает меня на руках:
— Птица ты моя, птица...
В меня входит тоненькая игла — опыт женского счас¬
тья: утешающий, любящий мужчина.
Митя — странный, вневременной человек.
Он родился у старой, сорокапятилетней женщины, моей
прабабушки, которая была убеждена, что у нее «краски
ушли», то есть кончилась менструация. Она считала, что
полнеет по этой причине. Что живот у нее «возрастной».
А Митя возьми и выбулькни. К этому времени моя ба¬
бушка носила младшую мамину сестру Зою. Бабушка была
в напряженных отношениях со своей матерью, потому что
та в сумятице двадцатых годов, будучи уже пожилой да-
316
мой, спрыгнула с семейного поезда к молодому маркшейде¬
ру, потом ободранной кошкой вернулась в стойло, муж при¬
нял ее кротко и радостно, но моя бабушка никогда не могла
ей этого простить. Митя родился много позже истории с
маркшейдером, след его давно остыл, но старую беремен¬
ность матери — своей матери — бабушка каким-то при¬
чудливым образом связывала с ее грехом. «Все должно
быть в свой час, но идиот может сбить свое время», — го¬
ворила она.
Митя — результат сбитого времени.
У пожилой матери не было молока, бабушка, родившая
тетю Зою, кормила сразу двух младенцев. Собственная дочь
и это «черт-те что». Маленькэ, худенькэ, страшненькэ...
Головку Митя не держал, вес не набирал, глазками не
лупал... Знакомая акушерка, взяв Митю за мошонку, ска¬
зала, что он вообще неполноценный. «Нема, — сказа¬
ла, — в йом мужеского».
Я думаю, эти слова — как и слово «идиот» — были
ключевыми. Откуда нам знать, как запускается в нас мотор
выживания, но ключ где-то есть, обязательно есть! Некие
силы, которые клубились возле хилого тельца и отвечали за
«быть или не быть», были оскорблены этим хамским хвата¬
нием ребенка за деликатное место. А если тебе — в смыс¬
ле акушерке — залезть под юбку и смыкнутъ за шерсть,
хорошо тебе будет? Возмутительно так обращаться с мла¬
денцем! И они — силы! — сделали что-то только им из¬
вестное и раскочегарили Митину печку. Хлопчик пошел в
рост, бабушка, уверенная, что сила была в ее молоке, полю¬
била свое творение нечеловеческой любовью и уже не¬
сколько критически смотрела на свою собственную дочь,
которая оказалась неспособной употребить на пользу заме¬
чательное кормление. И коротконога. И «агу-агу» только
с третьего раза понимает. И вообще...
А Митя так и рос у двух матерей. Перекормленный лю¬
бовью, он сам раздавал ее направо и налево, никого не об-
317
ходил: ни нищего, ни собаку, ни муху меж стекол, ни траву-
лебеду.
— Закохали, — с осуждением говорила моя мама. —
Занянчили... Так нельзя.
Весной сорок первого у Мити на освидетельствова¬
нии в военкомате нашли каверну. Я хорошо помню па¬
нику в доме, отчаяние, ужас. Видимо, поэтому я не по¬
мню начала войны. Мне его подробно описала моя млад¬
шая сестра Шура, удивляясь моей невнимательности к
такого рода событиям. Я ей объясняла, что с ужасом
ждала смерти Мити. В доме тогда снова появилась та
самая акушерка (а может, она всегда приходила?), она
была глубоко удовлетворена точностью своего дально¬
бойного прогноза.
— Я ж помню его нежизнеспособную мошонку, — го¬
ворила она, — я мальчиков проверяю исключительно так!
У меня в пальцах есть опыт.
— Лида! Перестаньте! — кричала бабушка. — При
чем тут это? Мошонка, видите ли!.. У него каверна... Это,
Лида, совсем в другом месте, чтоб вы знали. Вы принесли
столетник?
— А я вам говорю — у мальчиков там все записано!
И про каверну тоже. Вот ваш столетник... Мне, что ли,
жалко?..
Я дала себе слово: умереть вместе с Митей. Я видела
себя лежащей с ним в одном гробу, с белым веночком на го¬
лове. Я ложилась на диван напротив трюмо и складывала
руки. Сгорбленные на груди косточки пальцев вызывали во
мне невероятную к себе жалость. Трудно было удержаться
от слез по своей рано загубленной жизни, все-таки лет по¬
чти нет, Митя, тот хоть успел прожить почти двадцать —
можно сказать, вполне долгая жизнь. А тут совсем ниче¬
го...
Я мучаюсь, я страдаю... Я пропускаю, не заметив на-
318
чала войны. Видимо, здесь и взошли всходы моего индиви¬
дуализма, а также и его крайней формы — солипсизма.
Для Митиного лечения был куплен собачий жир —
вдобавок к толстомясому алоэ Аиды. Бабушка варганила
смесь по имени «Смерть палочке Коха».
Митя тогда работал после техникума на железной доро¬
ге, снимал угол у дальних родственников на узловой стан¬
ции Никитовка. Узнав о его болезни, хозяева отказали ему
в жилье, и Митя, взяв баночку собачьего жира, стал соби¬
раться в Ростов, где его должны были положить на подду¬
вание в туберкулезную больницу.
Помню день отъезда. Плач и голос мамы и бабушки,
приход Ольки, которая подала Мите для прощального по¬
целуя краешек уха, а потом все оттирала его и оттирала но¬
совым платком. Помню, как подставили Мите мою голову
и он, прикусив мне легонько волосы, сказал:
— Я залатаю эту дырку, птица!
Уже уехала подвода, а они выли над Митей, как над по¬
койником, бабушка и мама. И зря.
Как потом выяснилось, поцеловав меня в макушку,
Митя сел в поезд по ходу движения, поэтому успел увидеть
(а мог ведь, дурачок, сесть к дороге спиной), как колготит¬
ся на перроне молодая женщина с узлами и чемоданами,
норовя ухватить их все сразу. Митя — как Митя — рва¬
нулся человеку на выручку, втащил ее в вагон, да еще к
себе в купе и поехал с девушкой со странным именем Фаля
навстречу поддуванию, войне, судьбе и, можно даже ска¬
зать высокопарно, — смерти.
Я, уже сейчас, полезла в разные справочники, чтоб по¬
нять, откуда у нее это имя — Фаля Ивановна. Я ведь ее
поначалу звала Валей, пока она, не изломив бровь и не от¬
ведя меня в сторону, не объяснила мне, что она — Фаля...
«Фэ»...
319
Я почувствовала ее раздражение не только в изломлен¬
ной брови, но и в наклоне ее прямой спины ко мне. Откуда
ей, Фале, было знать, какой необыкновенной красавицей
казалась она мне, как мечтала я, выросши, быть на нее по¬
хожей, как заворачивала я свои прямые лохмы за уши, чтоб
обузить свое скуластое лицо, как втягивала внутрь щеки и
стучала себя по челюсти: это же надо иметь такие широкие
зубы! Тогда как у Ф(Фэ!)али во рту росли белоснежные
дынные семечки, мелкие, продолговатые и такие плотнень¬
кие, что не заковыряешь никакой спичкой. Когда я бывала
одна, я училась четко произносить букву «Фэ», чтоб даже
в быстрой речи она ненароком не выскочила из меня вэ-
звуком.
Но все это было потом... А пока мама и бабушка бегут
навстречу почтальонше, как только та покажется в конце
улицы. Причем бегут вдвоем.
Потом, через годы, мама мне объяснила, что они обе
ждали плохих известий и как бы хотели (каждая в отдель¬
ности) принять удар на себя.
Но писем не было.
А однажды ночью в калитку застучали, и это было уже
окончательно плохо, хуже не бывает, потому что ночью
приходят только телеграммы.
— Господи! Господи! — шептала бабушка.
— Матерь Божая, спаси и сохрани! — шептала мама.
Обе часто крестились. Сестра Шура смотрела на все
громадными глазищами, в которых не было ни страха, ни
любопытства, а нечто неведомое, нечто устойчивое, кото¬
рое потом, через многие годы, я назову равнодушием при¬
ятия судьбы, она оскорбится, а я начну оправдываться.
«Ты же ничему не удивляешься!» — скажу я ей. «Потому
что я и так знаю!» — ответит она.
Отдаю ей должное: она действительно много знает за¬
ранее.
Мы услышали с улицы крики, но это были крики жиз¬
ни. В дом вошли Митя и женщина.
320
— Прошу любить и жаловать! — сказал Митя. —
Моя жена Фаля.
Подробности были сногсшибательные. Фаля — врач.
Каверна на рентгене не проявляется. Поэтому пока воздер¬
жались от поддувания, лечат медикаментозно, а Фаля хоть
и хирург, но контролирует.
Тут у меня полная путаница со временем. Шура гово¬
рит, что война уже шла и Фаля как раз собиралась на
фронт. У меня все сбито, потому что я помню только ра¬
дость возвращения Мити. Только.
То, что Фаля была врачом, определило легкость вхож¬
дения ее в нашу семью. Врачей у нас не было. Были кулаки,
пожарники, горные инженеры, химики-технологи, модист¬
ки, бухгалтера, учительницы, было отродье — четверою¬
родная содержанка, которая, к радости семьи, умерла
рано, — были верстальщики газет, домохозяйки, музы¬
канты и даже инструктор райкома. Врачей не было, и это,
на взгляд бабушки, было признаком недостаточной успеш¬
ности рода. «Случись что...» — вздыхала бабушка. Дип¬
лом врача перевесил немаловажную деталь — Фаля была
старше Мити на восемь лет.
Видимо, все-таки уже была война. Хирургам полага¬
лось отправляться на фронт, а стоящие на учете в тубдис¬
пансере и нужные тылу железнодорожники, естественно,
оставались на местах, то есть в тылу.
Но в нашем случае слово «тыл» смысла не имело. Мы
были оккупированы сразу.
После женитьбы Митя жил в Ростове, который несколь¬
ко раз переходил из рук в руки, и была в этом не военная
хитрость, как у Кутузова, а нормальная человеческая не¬
рвность, она же дурь. Люди ненавидели немцев, но, когда
возвращались наши, чувства подчас возникали аналогичные.
Но это а пропо. Невеселое наблюдение над много стреляю¬
щим и много убиваемым народом. Он мечется. Он меченый.
Как потом узналось, Митю в Ростове три раза ставили
к стенке. Один раз немцы, два раза наши. То, что его не
321
убили, чистая мистика. Немцы прострелили ему левую
руку, он упал, а окончательной, как теперь принято гово¬
рить, зачистки сделано не было. А еще немцы! Свои во
второй Митин раз стрельнули поверх голов — такие же
случайные были стрельцы, как и те, что стояли возле стен¬
ки, — а в третий раз пуля прямехонько попала в первую
немецкую дырку, еще путем не зажившую. Митя снопом
рухнул, и его даже чуть не закопали: от болевого шока он
был мертвей мертвого. Но там поблизости случилась жен¬
щина... Она и выходила Митю стихийно, без медицинской
грамоты, отчего левая рука у Мити плетью висела всю его
оставшуюся жизнь, совсем мертвая рука, но как бы и жи¬
вая тоже.
Фаля приехала к нам уже в конце войны. Ее демобилизо¬
вали по ранению. Она не нашла в Ростове Мити, соседи ска¬
зали, что его расстреляли, не соврали, между прочим, — от¬
куда им было знать про траекторию полета пули-убийцы и
существование близких к могилам сердобольных женщин?
Фаля кинулась лицом в подушки, прокричала в них криком и
поехала к нам, узнать, как мы и что...
Теперь уже кричала в подушки бабушка, которая про
Митю не знала ни сном ни духом и почему-то держала в
своей голове возможность Митиной эвакуации: все-таки
человек всю жизнь стоял как бы близко к паровозу. Когда
все обрыдались и откричали и сели обедать, только тут об¬
ратили внимание на то, что у Фали нервный тик на правой
половине лица, что уголок ее рта навсегда закрепился в
ехидной усмешке, затрудняя общение с ней. На общем со¬
брании семьи, устроенном бабушкой возле уборной, нам
всем было приказано не обращать внимания на мимику
Фалиного лица, закрывать на нее глаза, а только слушать.
Одним словом, при виде Фали нам рекомендовалось вре¬
менно ослепнуть.
Мама возмутилась:
— Мы что, недоумки, что надо это объяснять?
322
На что бабушка ответила:
— Мы запустили детей, они растут без понятий. Осо¬
бенно ты, — и бабушка ткнула в меня пальцем.
Так все и наложилось: на выражение лица Фали моя
детская обида на бабушку. Я ведь была хорошая девочка
и, между прочим, с понятиями, я для Фали букву «Фэ»
учила как ненормальная — за что же меня так? Неизвест¬
но, какие бы из этого выросли букеты, если бы не случи¬
лось то, что случилось.
Дальше пойдет рассказ про то, чего я доподлинно ни
знать, ни видеть не могла. Может ли быть достаточным
основанием для достоверности узенькая прорезь для пуго¬
вички на Митиной манжете, которую он не мог победить
сам и попросил меня помочь. Я так старалась, пропихивая
пуговичку, что у меня замокрело под носом, а Митя сказал:
— Никто уже не скажет, что ты не тужилась в труде.
Сопли — сильный аргумент...
— Ничего смешного, — обиделась я. — Тебе что?
Некому дырочки разрезать?
Я к тому времени уже «прошла войну» и стала языкатая
не по годам, что как раз и не нравилось бабушке. Она же не
знала, что я научилась и другому — не ляпать с бухты-ба¬
рахты, хотя Мите, как своему, я могла намекнуть, что не
все в его жизни складно, если пуговичка в дырочку не про¬
лезает. Я ведь выросла в семье, где соблюдались такие ме¬
лочи. У меня до сих пор ими полна голова, и я не могу без
отвращения смотреть, как пьют «из горлГа» прямо на ули¬
це. Даже на пропол картошки собирали в беленькую хус-
точку железные кружки для воды — по числу копающих.
Это же надо, какие аристократы долбаные! Пили ведь из
мутного ручья, но каждый из своей кружки.
Вспоминаю еще случай с Митей того же времени.
Митя стоял возле уже поминаемой ржавой бочки и как-
то печально баламутил воду, а я не удержалась и погладила
его бессильно поникшую руку...
323
— Знаешь, птица, она у меня совсем мертвая, зачем я
ее ношу?
— Вылечат, — тоненько пропищала я. — Под салю¬
том всех вождей — вылечат.
— Ну разве что под салютом, — и он мокрой живой
рукой прижал меня к себе, и в меня вошло его горе. Поче¬
му-то я сразу поняла: не в руке дело. И вообще не про нее
речь.
Вот на основании узкой пуговичной прорези и Митиной
частичной мертвости я рисую, как это могло быть.
...Однажды, проснувшись совсем в другом месте, Митя
застегнул пуговичку на недвижной левой манжете и пошел
к своей новой женщине — подруге-спасительнице, —
чтоб она оформила ему правую манжету. Пока та вталкива¬
ла пуговичку в узковатую прорезь, Митя вздохнул и ска¬
зал:
— Надо бы съездить к Кате. — (Бабушке.) — Жи¬
вые ли?
— Езжай, — сказала женщина. — Знать надо...
Она стояла и сопела близко, эта женщина, которая на¬
шла его присыпанного и остановилась — а сколько людей
прошло до нее мимо? Эта же затормозила, а потом сходила
за тачкой и привезла его к себе, и раздела догола во дворе,
и смыла с него шлангом человеческую и нечеловеческую
грязь, а потом, уже в байковом одеяле, внесла в дом и по¬
ложила прямо у порога, потому что на большее ее не хвати¬
ло, внутри у нее вроде как что-то хряпнуло, и она подумала:
«Это у меня произошло опущение матки».
Конечно, у Мити была жена Фаля. Она сражалась на
фронте за жизнь наших раненых солдат. Что там говорить,
какое может быть сравнение — жена-врач-воин и просто
женщина с опущенной маткой. У Мити была бабушкина
выучка в отношении к образованию вообще и к медицин¬
скому в частности. Но вы же помните, что выбирал Митя
на базаре?
324
В «момент пуговички» Митя, считайте, и сделал свой
окончательный выбор. Поэтому следующая его фраза —
«поедем вместе» — и легла в основание трагедии.
Люба — женщину звали Люба — поняла, что значат
эти слова. То, что он у нее год как живет, значения не имело
и не играло. Многие жили не там и не с тем, с кем положе¬
но. Это свойство войны — перебуровить все к чертовой
матери, чтоб потом долгие годы метаться и искать, искать и
метаться. А потом этим гордиться. Мы по гордости —
первые на земле. Я помечу это место и вернусь к нему по¬
том. Надо будет написать негордую статью о гордости.
Как, например, Емелька Пугачев гулял со своим воинством
по просторам родины чудесной, столько народу перемоло¬
тил, но нам тогда позарез надо было тешить гордость и
чего-то оттяпать у турок. Кровь лилась из сотен дырок, и
изнутри, и снаружи. Опять же Чечня... Шахтеры голода¬
ют, пенсионеры ходят в кастрюлях на голове, но мы ведь
еще не все чеченские дома разбомбили, чтоб было потом
чем гордиться.
Что-то меня заносит в сторону, а не надо. Надо пере¬
ступить через кровь. Надо возвращаться к месту и дей¬
ствию.
Дом Мити и Фали в Ростове был разбомблен, хотя
именно их квартира пострадала меньше других. Но Митя,
оставаясь у Любы, упирал именно на то, что дом разбомб¬
лен, а то, что квартира цела, он как бы опускал. Пусть там
кто-то живет, пусть. Такое время, когда человек яко наг,
яко благ, а у него ведь и крыша, и Люба. Что он, алчный
какой-нибудь, чтоб хватать и хватать?
Кстати, так все и было. Люди захватили Митину квар¬
тиру, но не те, у которых ничего не было, а совсем другие.
И поездка к нам на самом деле была вторым Фалиным де¬
лом, а первым было освобождение захваченной территории,
что Фаля и сделала вполне профессионально. Война, она
все-таки закаляет характер.
325
Но опять вернемся к «моменту пуговички». Люба как
раз это сделала, всунула ее в дырочку, а Митя сказал «по¬
едем вместе», что было равносильно «давай поженимся»,
иначе чего это ради тащить ее к родне? Надо сказать, что у
Любы были правильные понятия, и она спросила Митю, не
стыдно ли это при существовании жены. Видимо, конечно,
не этими словами сказала Люба, а как-то иначе, но важна
суть. Мысль Любы о Фале. И Митя, добрая душа,
возьми и ляпни:
— Чует мое сердце — погибла она, — сказал он. —
Ну ни одной же строчечки за всю войну, а мы ведь уже
Киев обратно взяли, из двадцати четырех орудий салют
был. Не из двенадцати. Столица ведь...
Митя и потом много говорил про взятие Киева, сидит-
сидит, а потом ни с того ни с сего... Что-то его беспокоило,
саднило в этом вопросе, я теперь думаю, это пошло с того
момента, когда он осознал, что — Господи, прости! — он
как бы бессознательно хочет, чтоб Фали не было, а была
Люба, не вообще, а в его жизни, но мысль эта подлая не
давала покоя совести, и на язык выползал Киев как сигнал
этой самой едучей совести.
Они с Любой сели в рабочий поезд — существовали
тогда такие местные поездочки, что, коптя и чадя, бегали
между городками и деревеньками, выполняя воистину ра¬
бочую миссию коммуникации.
И вот они уже идут по нашей улице, как шерочка с ма¬
шерочкой, а бабушка стоит возле калитки, глаза под ко¬
зырьком ладони, стоит и думает: что это за чужая пара
прется со стороны станции в нашем направлении? Ну, вче¬
ра к нам приехала Фаля, это понятно, а к кому же эти
двое?
Потом бабушка говорила, что она Митю узнала сразу,
но вырвала с корнем эту мысль, потому как Фаля вчера
рассказала про расстрел и сегодня лежала на диване,
укрытая пуховым платком, и только-только как задремала.
Этот ведь шел с бабой.
326
Пара неуклонно приближалась, и уже не было сомне¬
ния, что это был Митя, и бабушке бы криком закричать и
кинуться к любимому брату — мало ли кто к нему в дороге
притулился, может, Митя просто подносит женщине чемо¬
данчик, как человек отзывчивый, — но бабушка потом
сказала:
— Я чула... Чула...
В смысле — чувствовала.
— Катя! — первым тонко вскрикнул Митя уже
считай у калитки, на что бабушка как бы не в лад отве¬
тила:
— Тише! Фаля отдыхает.
Бабушка одним махом перечеркнула войну, взятие Кие¬
ва и форсирование Днепра, тик Фали и долгое отсутствие
Мити и его поникшую руку. Она, как отважный радист, со¬
единила траченные жизнью концы, ну и что ты теперь бу¬
дешь делать, женщина, если ты не случайная попутчица, а
приехала с Митей и со своим смыслом?
В это время Фаля подскочила к окошку, потому как
услышала тонкий Митин голос, и, конечно, во-первых, во-
вторых и в-третьих увидела Любу. И она видела, как ба¬
бушка взяла в свои руки всю ситуацию, а в зубы концы
проводов. Все-таки, что ни говори, война учила быть гене¬
ралами, и некоторые считали возможным и правильным
жертв не считать, хотя другие — немногие — предпочи¬
тали спасать людей ценой обмана, хитрости, да мало ли
чего.
Спасать или погубить — это не гносеологический воп¬
рос для нашего народа, твердо знающего ответ: надо погу¬
бить. Поэтому ход мысли бабушки и ее поступок были ис¬
торически безупречны.
Она увела Любу с ее котомочкой к своей знакомой че¬
рез три дома, которая была ей обязана. В свое время, в тот
самый не к ночи помянутый тридцать седьмой, бабушка
прятала ее сына, когда в очередной раз решался вопрос по-
губления. Бабушка продержала парня в погребе две неде-
327
ли, а потом ночью вывезла его на бричке, как мусор, набро¬
сав сверху живого тела какие-то банки и тряпки.
— Иди к жене! — громко сказала бабушка Мите,
продолжая держать во рту концы искрящихся прово¬
дов. — Иди, она с ума сойдет от радости.
Услышав это, Фаля прыгнула на диван и зажмурила
глаза, готовясь к изображению радостного сумасшествия, а
Любу как под конвоем отвели к Митрофановне.
— А до тэбэ гости! — закричала ей бабушка на всю
улицу. — Шукают тэбэ. — Это чтоб всем-всем-всем
объяснить явление чужого человека.
Ведь еще война, еще половина народа потеряна, кто ж
не поверит, что кто-то кого-то ищет и, случается, находит.
— Я потом приду, — сказала она Любе, у которой от
ужаса и стыда снова схватило в животе, она согнулась пря¬
мо до земли, до самых пахучих цветочков Митрофановны.
В нашем же доме были крики радости и удивления, и
Митя плакал горючими слезами, увидев, как током бьется
Фалина щека и как в ехидном уголке рта взбивается пенкой
слюна.
Фаля не призналась, что видела в окне женщину,
остальные не признались тем более.
Так как именно я толклась в центре событий, мне было
повторено особо: женщина — Митина попутчица, она
племянница Митрофановны. Беженка.
Мите и Фале было постелено на большой кровати, на
которой после смерти дедушки никто не спал. Бабушка тог¬
да сразу ушла на деревянный топчан в кухню, мои родители
хотели было занять главное и лучшее место в доме, но ба¬
бушка их окоротила.
Завязался конфликт между бабушкой и мамой, и уже
теперь я думаю: а с чего это она, бабушка, так упиралась?
Зачем ей надо было сохранять парадную кровать под бе¬
лым марселевым одеялом и с пышными подушками,
укрытыми тюлевой накидкой? Что в этом было? И чего в
328
этом не было? Я не знаю ответа. Но было как было: для
Мити и Фали одеяло было сдернуто.
Очень пригодилась для вязи отношений в первый мо¬
мент Митина бесполезная рука. Вокруг нее очень хорошо
клубился разговор, и в какой-то момент у Мити от всеоб¬
щего к нему сочувствия, видимо, с души спало. Выйдя по¬
курить на крыльцо, он с глубоким чувством сказал мне:
— Все-таки, птица, она инвалид лица.
И я поняла: Митя сходил на базар и сделал выбор.
В ту ночь мы не спали все, потому что бывшая в долгом
неупотреблении кровать так бесстыдно скрипела и квакала,
так ухала и ахала, что бабушка забрала меня к себе в кух¬
ню, и поэтому я знаю, что ночью она уходила. Вернулась
холодная и мокрая, так как прошел дождик, но бабушка
даже не заметила этого, потому что так и рухнула рядом со
мной. Ночь высвечивала ее профиль, совсем не монетный,
не римский, а вполне, вполне наш, отечественный, и я слы¬
шала, именно слышала, как у нее болит и мается душа. Мне
хотелось ее защитить, и я думала — как? Ну как? Приду¬
мала: надо, чтобы уехала Фаля. Навсегда.
Почему в моем детском мозгу возник именно этот вари¬
ант решения проблемы, не знаю, не ведаю. Я ведь когда-
то хотела быть похожей на нее, я училась четко произно¬
сить букву «Фэ», мне и потом было ее жалко, жалко ее
красоты, но такую я уже не могла ее любить, потому что я
человек неважный, я «на внешнюю красоту падкая, не ин¬
тересуюсь внутренним содержанием, мне бы лишь сверка¬
ло». Так объясняла мне меня бабушка.
Но Фаля не уехала. Они решили погостить и гостили.
Не знаю, когда исчезла от Митрофановны беженка, но как
собирались на это деньги, знаю. Это по тем временам был
трудный вопрос, и я думаю, именно тогда бабушка лиши¬
лась двубортного синего драпового пальто, к которому все
прилипало, но почему-то это объяснялось высоким каче¬
ством материи.
329
Истинному как бы полагалось быть плоховатым. Это
только искусственное с виду «ах!», но надо же понимать
суть вещей. Взять хотя бы человека... И человека брали.
На его конкретном примере — некрасивый, сутулый, шта¬
ны в латках — делалось обобщение: добрый, отзывчивый,
скромный. Чем хуже, тем лучше — такой была проистека¬
ющая из жизненных наблюдений мысль.
И шилось коричневое платье, и из жидких сеченых во¬
лос плелись мышиные коски — ах, какая скромная девоч¬
ка, любо-дорого посмотреть. Не то что...
Вспомнилось, и защемило, и шандарахнуло — такой я
и осталась, чего уж там делать вид, что не так...
Митя объяснил Фале свое отсутствие в собственной, не
разбомбленной врагами квартире в Ростове. Контузией
объяснил и пребывание в бессознательности у каких-то
стариков, которые открыли ему душу, как родному сыну.
В сущности, почти правда. Просто Любу повысили в
возрасте, чине и звании и удвоили ее количество. Но не¬
ужели во время такой войны кто-то будет проверять под¬
робности?
А потом они уехали. Бабушка широко перекрестилась,
как только они исчезли за поворотом.
— Ты думаешь, из этого выйдет толк? — спросила ее
мама. — По-моему Фалька что-то унюхала. Митя ведь
изнутри подраненный...
— Ничего, — сказала бабушка. — Загоется. Та ему
не пара. Я с ней поговорила. Она даже семилетки не име¬
ет.
— Ты считаешь не на те деньги, — закричала мама.
И я знала, что ее крик был оттого, что мама сама недоучка,
по бабушкиным понятиям.
Кончилась война, и как-то без передышки наступила
голодуха. Нас подкармливал Митя — привозил вяленую
330
рыбу, после которой до барабанного живота мы все налива¬
лись водою.
А Митя как раз выглядел хорошо.
— Ты справный, — с удовлетворением говорила ба¬
бушка.
Митю все еще держали на учете по туберкулезу, но больше
для порядка. Было даже взято под сомнение существование
довоенной каверны. Бабушка объясняла все это наличием ме¬
дика в семье. Видимо, бабушке нужен был сильный оправда¬
тельный аргумент ее генеральского подвига тогда, ночью.
Аргумент был. Справность Мити.
Правда, был и контраргумент.
Отсутствие в отбитой в бою семье ребенка. Тут-то и
возникала арифметика. Восемь лет разницы плюс война да¬
вали в окончательном итоге вполне приличный возраст,
когда уже как бы не рожают. Но бабушка тут же вспомина¬
ла свою грешную мать — получалось, что у Фали есть еще
запас времени.
Вот когда нам пригождаются «отдельные случаи», те,
что из ряда вон. Осуждаемая в одно историческое время, в
другое историческое прабабка стала примером и, можно
сказать, стимулом.
Это было время, когда семья затаила мысль. Не против
Мити — ни боже мой! слишком он был любим, — а про¬
тив обстоятельств жизни вокруг него, кои были, куда ни
верти, обстоятельствами женщин.
— Еще бы! — в какой уж раз возмущалась бабуш¬
ка. — Идет, а он лежит. Наверняка там были и другие
подраненные, но эта ведь не подвиг совершала, чтоб одно¬
го за другим вытащить, эта взяла нашего дурака, потому
что у него на лице написано: вей из меня веревки.
Бабушка боялась близкого расстояния от Ростова до
того места. Тем более что Митя опять работал на железной
дороге, а значит, всегда был при паровозе.
— Этих линий проложили без ума, будь они прокля¬
ты! — шептала бабушка.
331
Железнодорожный прогресс ложился поперек представ¬
лений бабушки о Митином благополучии. Пройдет много-
много лет, и я с некоторым отвращением буду смотреть на
блики цветомузыки в темной комнате дочери и буду гнусно
подозревать ее компанию во всех смертных. И о Скрябине в
такие минуты я думаю, что он провокатор. С него пошло-
поехало. Блики, блики... Блики... Моргание жизни...
Но надо вернуться во вчерашнюю воду...
Та послевоенная голодуха была для нашей семьи даже
потяжелее войны. Нет, никто не умер, слабое не выдержа¬
ло в другом месте.
Молочная сестра Мити Зоя, которая была в роду как
бы существом несколько бракованным, возьми и уйди в
баптисты. Задумчивая, не очень способная в учении, бояз¬
ливая с мужчинами женщина расцвела в обретенном брат¬
стве как цветок.
Еще до войны бабушка устроила ее в швейную мастер¬
скую в другом городе. Это было трудное, но для семьи
необходимое решение — отделить недоброкачественный
побег от подрастающего. Я и Шура были причиной отде¬
ления Зои. Мы не могли у нее научиться ничему хорошему,
потому как Зоя читать не читала, чуток заговаривалась
и — что там говорить — была дурковата. А дети такие
впечатлительные и из всего переймут именно дурь.
Бабушка ездила к Зое каждую неделю, платила за ком¬
нату, которую та снимала у старухи, жившей исключитель¬
но с огорода, и деньги, даваемые ей из рук в руки, казались
почти дармовыми, потому как комнатка за занавеской
цены, на ее взгляд, не имела.
Зачем нам нужна Зоя?
Зоя — знак некоего «другого ума», который возьми и
проявись в здоровом, нормальном роду. Если за фокусами
природы надо послеживать и изучать их, то фокусы прови¬
дения должно принимать безропотно. Мы еще не дожили
332
до еврейской мудрости благодарить Бога за посланный тебе
или твоим близким «другой ум», но не дожили — так не
дожили. Я подозреваю, что евреи тоже горюют по поводу
бракованного дитяти, но делают вид радости. Наша чер¬
това фанаберия мешает нам поступать столь же разумно.
И хотя бы делать вид.
Но вернемся к Зое, которая примкнула к баптистам, за¬
пела тоненьким высоким голосом, слетала вместе с ним на
небко, а когда вернулась, то оказалась счастливой.
Другой ум. Другое счастье.
Конечно, был и оставался путь пойти на баптистов вой¬
ной, дивиденды по тем временам могли быть приличные, но
бабушка увидела счастье в не замутненном суетой глазе до¬
чери и стала его охранять. И счастье. И баптистов.
Вот и пригодился Митин паровоз. Бегала от Ростова
«кукушечка» прямиком к Зое. И попросила бабушка
Митю приезжать к ней и среди недели, чтоб в сумме полу¬
чилось два контрольных посещения. И из головы у нее
вон, что бежал паровозик «мымо гребли, мымо млына», что
в переводе означает — мимо места, где Митю однажды
недострелили и где по-прежнему жила некая особа.
Бабушка как бы напрочь забыла те свои мысли о непра¬
вильности проложения дорог. Опять и снова возникает
думка о нашей внутренней изворотливости, о том, что мыс¬
лим мы то так, то эдак, не угрызаясь внутренней противо¬
речивостью. А может, все дело в том, что Митя жил дале¬
ко и, по слухам, хорошо, и воспоминания о женщине Любе
мутнели и мутнели в памяти. Так думала бабушка.
И между прочим — зря...
Митя сошел-таки с поезда и пошел по степи, которая
вполне могла скрыть идущих по ней мужчину и женщину.
Но пока еще Митя шел один...
В тот день, а может, близко к нему лежащий Фаля по¬
шла к гинекологу, потому что у нее были перебои и мазня.
333
Фаля, дама образованная, конечно, сразу подумала про
плохое. Мите она ничего не сказала, к гинекологу вошла
прямо в медицинском халате, решительно, без всяких там
цирлих-манирлих.
— Я прошла через бои, — сказала она, взбираясь на
дыбу.
Гинеколог, пожилая еврейка, потерявшая всю свою се¬
мью, потому что не успела ее вывести из Кременчуга, бой
как таковой не считала самым большим несчастьем в жиз¬
ни. Несчастье, когда деток малых везут в душегубках, —
вот несчастье, которому нет равных. А теперь ей уже не
родить никогда в жизни, хотя — казалось бы — она так
близко стоит к месту, где за началом человечества послежи¬
вают. Поэтому эта, в халате, из хирургии, могла не гово¬
рить слова «прошла бои» — нашла чем испугать. Но, гля¬
дя в глубины Фали, отнюдь уже не сочные и малоплодо¬
родные, эта зазнавшаяся в своем горе женщина вдруг ис¬
пытала толчок и последующее трясение всего организма.
Она увидела завязь жизни там, где, по ее разумению, ее
уже быть не могло. Быстрый профессиональный глаз за¬
помнил год рождения Фали на медицинской карте и то, что
между ними был всего год разницы.
Тут надо остановиться и оглянуться. Та библейская
Сарра, которая начала рожальное дело в годы, до которых
у нас не доживают, конечно же, была выдумкой истории.
Даже сильно, можно сказать, истово верующие вряд ли
воспринимают это всерьез. На всякий случай прости меня,
Господи! Прости... Ну, не ведаю, не ведаю, что молочу...
Гак вот, та Сарра была нонсенс и для гинекологши. Мою
прабабушку она не знала. Светлана же Сталина была еще
молодая, еще любила папу, и ей на ум не могло прийти, что
она родит, пусть не как Сарра, но все равно под пятьдесят
и от американца. То было время женщин войны, которые
сорок лет считали нормальным концом бабьей жизни. Ко¬
нечно, шпалы были еще не все положены, их предстояло
334
таскать не перетаскать, и на это женщины оставались впол¬
не и вполне гожие, что ярко, одним махом показала Нонна
Мордюкова в фильме «Русский проект», взяла да и сказа¬
ла, какие мы есть. Теперь долби, искусство, долби в другом
месте. Тут уже скошено. Или добыто. Одним словом, пус¬
то.
Вернемся в гинекологическое кресло — главное место
действия.
— Вы беременны, — пронзительно сказала врач. —
И вам немедленно надо лечь на сохранение.
Потом они обе поплакали, пациентка и врач. Одна о
том, что случилось, другая о том, чего нет и вряд ли будет.
Хотя именно сейчас у врача возникла мысль: может, не
надо так уж отбиваться от вдового начальника орса, а ис¬
пользовать его как шанс? В конце концов, чем она хуже
этой?
Фаля легла в больницу сразу, не помыв даже дома по¬
суду и не дождавшись Мити, который где-то гам что-то
инспектировал.
А Митя как раз шел по дороге и думал, что если во дво¬
ре у Любы будет мужской след, то он пройдет мимо, и все.
Другое же будет дело, если следа не обнаружится. Тогда он
стукнет в окошко там или в дверь, куда потянется рука.
Но разобраться было трудно. Двор был в порядке. Те
женщины не только клали шпалы, они ставили печки, руби¬
ли дрова и поправляли покос дверей. Они все умели, и в
этом было спасение страны и ее же извечное горе.
Вернувшийся с войны мужик, удивленный скорбно¬
стью и безрадостностью пейзажа всей жизни, находил
единственное утешение в магазине, в котором весьма часто
не было ничего, но водка на родине была всегда. Как бере¬
за. Тут выплывает из тумана мысль. А не будь наши жен¬
щины ломовыми лошадьми и забрось они чепец за мельни¬
цу с криком: «А не желаю я класть шпалы! У меня для
этого тело нежное, и я не допущу его гнобить!» — так вот,
335
закричи они так, пошел бы процесс или не пошел? Пришли
бы мы к полному одичанию или иванушки наши сподоби¬
лись бы? Мысль эта грешная, потому как замахивается на
саму основу первооснов, что чревато, как говорится... По¬
этому уйдем подальше от выплывающих из тумана мыслей
и идей.
Женщины деревни выстрелили глазом в Митю, кото¬
рый вальяжно, как какой-нибудь интеллигент в шляпе,
прошагал по улице сначала в одну сторону, потом в другую,
потом опять в первую и наконец толкнул калитку Любки,
бабы, ломанной любовью и предательством.
Рассказывали так.
...Поехала она на погляд к родным парня, которого вы¬
нула из мертвой кучи людей, а те ее и на порог не пустили.
Там была подлая старая сука (моя бабушка!). Она и вынес¬
ла Любке мятые в жмене гроши — это, мол, тебе спасибо,
но мордой ты для нас не вышла, мы все из ученого роду-
племени, у нас за столом не едят из одной миски, а ты вся
из себя рубль двадцать, и кожа у тебя тресканая. И будто
старая сука (моя бабушка!), показала Любке свои белые
руки, по которым вилась-бежала голубая жилка... Ну ка¬
кие у тебя, женщина, могут быть преимущества супротив
нашей венозной крови?
Митя тогда переступил не только порог Любы, он пере¬
ступил легенду одним, что называется, махом.
На всю деревню закричала женщина дикой счастливой
горлицей, не имеющей понятия о тайности греха.
Так оно и пошло: жизнь в два ряда. Одна — наполнен¬
ная смыслом сохранения ребенка и другая — смыслом,
предшествующим по природе первому. Конечно, Фаля по¬
теряла бдительность относительно Мити, а за ним водилось
всякое-разное. То какой-нибудь хромоногой поможет войти
в трамвай, а дальше возникает необходимость помочь вый-
336
ти. В трамвае это важный момент. Глядишь, и припозднил¬
ся... А то еще был случай: красавица глухонемая. Вернее,
красавица левым боком, потому что правый был слегка
обожжен в детстве, от детского испуга и глухота, и теперь
по правой стороне лица женщина спускала каштановые во¬
лосы, что модным тогда не было и осуждалось народом, ко¬
торый считал: какая есть, такая и живи. Правильным счи¬
талось горб носить честно. Так вот, Митя прошел бы и не
глянул на красоту, а как увидел мятую щеку, двинул следом.
Извращенец, по-нынешнему. И еще были разные некон¬
диционные женщины, хотя кто их считал? Впрочем, Фаля
считала.
Но тут в отделении на сохранении она про все это забы¬
ла. Она думала, что ей очень повезло в том смысле, что ре¬
беночек родится, когда ей полных будет тридцать девять, а
то, что до сорока всего месяц, то это уже не ваше собачье
дело.
Ее регулярно навещала еврейка-гинеколог — оказыва¬
ется, ее звали Саррой, бывают же такие совпадения. Сарра
уже вошла в близкий контакт с начальником орса и ждала
счастья начала новой жизни, где уже не будет душегубок и
мученической смерти детей. Так как в дальнейшем нам это
не понадобится, скажем сразу: Сарра родила девочку, на¬
звала ее Светланой — в знак светлости задуманной жиз¬
ни, а не в честь дочери Сталина.
Когда волею судеб мы коснемся еврейской темы — а
без этого нам не обойтись, — Сарры уже не будет в жи¬
вых. Она умрет далеко отсюда — умрет в тот момент, ког¬
да по телевизору скажут, что взорвался рейсовый автобус в
Тель-Авиве. Саррина семья не ездила этим автобусом, и
вообще они жили в Беер-Шеве, но не по той дороге побе¬
жала в мозгу старой женщины страшная информация, при¬
чудливым образом она столкнулась со старой душегубкой
той прошлой войны, и Сарра стала оплакивать своих детей
и внуков, которые радостно бибикали на полу. Но она не
признала их, живых, а признала тех, мертвых.
337
И тут что хочешь, то и думай... Проще, конечно, не ду¬
мать. Что нам Сарра? Наши нервы крепче. Свое живое на
чужое мертвое в нашей голове вряд ли подменится.
А пока мы находимся на этапе сохранения беременнос¬
ти и даже отсутствия ее у Сарры, и я с чистой совестью
могу их оставить в этом состоянии и перейти к Мите, люби¬
мому Мите и его молочной сестре Зое.
Естественно подумать, что, срубив во второй раз Любу,
Митя напрочь забудет про Зою. Другой бы забыл — не
Митя. Он совмещал любовь и родственность как мог, как
получалось.
А получалось скверно. Специфические органы однаж¬
ды ночью пришли и взяли всех баптистов. Всех, кроме
Зои, на которой у них была пометка «не в себе». Навер¬
ное, не этими словами, какими-то другими, им свойствен¬
ными, но факт остается фактом: Зоя осталась на этой зем¬
ле одна. Не имело значения, что была жива еще бабушка,
были сестра и другие родственники. Она их всех любила,
но не с ними летела на небко. Когда-то ей объяснили в об¬
щине, что на месте всякой порушенной церкви остается
ангел, который не уйдет с поста, пока хоть одна живая
душа будет помнить «камень церкви». Зоя осталась с ан¬
гелом, отказавшись от всех, а бабушка в ту пору впала в
болезнь, которая перемещалась с одного органа на другой,
с одного на другой, врачи говорили: старость, ну кто ее
победит!
По всему по этому пас Зою один Митя. И случалось,
привозил ее на паровозе к Любе. И Зоя первая усмотрела
«животик для ребеночка» — у Мити тогда глаз был замы-
лен «животиком Фали».
Зоя кудахтала над Любой, вырывая из ее рук то ведро,
то топор, она забегала вперед, норовя сделать все Любины
тяжелые дела. Митя разрывался на части, не знаю, что он
себе думал, но, когда мы встретились в последний раз, лег-
338
кий Митя как бы висел на своей мертвой руке, и она, мерт¬
вая, как бы им руководила.
Он тогда приезжал к нам редко, являлся всегда неожи¬
данно. Врасплохи были радостными, шумными, а этот пос¬
ледний очень разгневил бабушку. Митя явился утром, что
противоречило железнодорожному расписанию, которое
знали у нас все, ибо по нему жили и умирали. Я слышала,
как голосила наша соседка над умирающей матерью:
— Мамочка моя родненькая, не уходите раньше вре¬
мени. Поезд через Магдалиновку уже прошел, я его гудок
слышала. Вася же мне не простит, что я вас не удержала!
— А может, это гудел встречный? — возвращалась
из тонких материй родненькая мамочка. И лицо ее, уже
совсем тамошнее, при слове гудел делалось совсем тутош¬
ним.
Так что приспичит умереть — попроси побибикать па¬
ровозный гудок. Встанешь как миленький. И не таких
мертвых подымал.
Поэтому явление Мити не по расписанию сразу обна¬
жало для бабушки его порочную сущность: его где-то но¬
сили черти. Кажется, я уже рассказывала о женщине, ко¬
торая с опаской подставляла Мите ухо для прощания, когда
он был помечен туберкулезом. Но это ж когда было! Про¬
шла целая война и послевойна. Девушка Оля выросла в
крупную и гордую своей полнотой женщину. Тогда так
было. Большой небеременный живот носили с достоин¬
ством, валиком подбородка чванились, и я помню только
одно ограничение в деле полноты — высокая холка, загри¬
вок. Относительно этого было особое мнение: некрасиво.
Все нынешние топ-модели не нашли бы себе — в те вре¬
мена — даже завалященького мужика в околотке. Народ
бы просто брезговал мосластыми ногами до ушей, он бы за¬
шелся от смеха, глядя на какую-нибудь Евангелисту или на
эту черненькую африканочку с глазками-пуговицами. Раз¬
ве на сисечках Клавочки Шиффер отдохнул бы мой народ
глазом? Но ставить ее рядом с Олей смысла не имело. Оля
339
по тем временам была самое то. Большая, упругая, и загри-
вочек был в норме и не тяжелил шею. С Митей у них дав¬
но ничего не было, с той самой дотуберкулезной поры.
У Оли был здоровяк муж: когда они шли по улице, мери¬
диан под ними прогибался, поскольку мысленная линия —
очень слабая вещь.
Но тут ехали Митя и Оля вместе на «кукушке», чисто
случайно, «ах, ах...». Разговорились, и узнал Митя, что,
если человек с виду здоровяк, это еще ничего не означает...
Вот он, Митя, был сопля соплей... Более того, туберкулез¬
ник, но — «ты помнишь, Митя?» — Митя начинал вся¬
кого человека жалеть сразу, даже не с жалобного слова —
с открытого рта. А тут у женщины такое горе. И он пошел
за Олей, не думая в тот момент о беременной жене, о горя¬
чечной Любе и всех других, потому что в этот момент он
слушал и чувствовал Олю. Одним словом, Митя припозд¬
нился ровно на рабочую смену...
Бабушка взяла огромное блюдо — правда, с трещин¬
кой — и грохнула его об пол.
Так вот, последняя наша встреча.
Я сдаю экзамены на аттестат. Жму на медаль. Митя
щекочет мне веточкой под носом.
— Да брось ты эту чертову книжку. Ты ж давно все
знаешь...
— Митя! — говорю я. — Отстань. Иди к Шурке.
— Шура меня не любит, — отвечает Митя. — А мне
интересно с женщиной, которая меня любит.
— Мы не женщины, — говорю я строго. — Не мели
своим языком.
— Еще какие! — смеется Митя. — Вы были жен¬
щинами, еще когда я держал вас над травой.
— Фу! — злюсь я.
— Ты знаешь, какая ты женщина? Я тебе сейчас ска¬
жу... Тебе с нашим братом будет трудно, потому что ты... ну
как тебе сказать?.. Ждешь от нас больших впечатлений.
Ты, птица, воображай помене мозгами... У тебя вся глав-
340
ная жизнь проходит в голове. Кто ж это за мыслью поспе¬
ет? Ты слышишь своего Митю, птица? Я когда-нибудь
желал тебе плохого? Ослобони головку, птица, оставь ей
цифирь. Я ж люблю тебя.
Ну что было мне сказать, что я его люблю тоже, что бы
мне попросить: объясни подробней, Митя! Как мне жить?
И как быть, если я уже «прожила» в головке всю свою
жизнь и даже не один раз умирала? Но в моей самодоста¬
точной башке клубится совсем другое, и я вместо нужного,
важного гоню от себя Митю.
Он уходит, а я смотрю ему в спину, меня наотмашь бьет,
валит с ног какая-то необъяснимая тревога не тревога, боль
не боль, печаль не печаль. Митя крутит лопатками, повора¬
чивается ко мне:
— Ну, ты прямо навылет смотришь...
Так он и стоит передо мной, весь как бы повисший на
собственной мертвой руке. «Какая дурь», — думает моя
дурья башка.
— Не отвлекай меня, — бурчу я.
— Ах ты, птица моя! — говорит Митя. — Вот умру,
плакать будешь, а уж я посмеюсь...
Ни с одним человеком на земле нельзя было говорить
на эти темы: что есть там и есть ли оно? Мое атеистиче¬
ское сознание вообще не допускало этих мыслей, а Митя
толкал меня к ним. Болела бабушка и на всякий случай го¬
товилась умирать.
— Перестань! — кричала мама.
— Узелок лежит слева на верхней полке... Сходишь к
Мокеевне, чтоб надо мной почитала, когда буду лежать...
Денег она не возьмет, дашь продуктами... Там у меня в
узелке шоколадка, это для нее... Тапочки купишь у Леши-
механика — он шьет смертные.
— Как будешь давать нам указания оттуда? — смеет¬
ся Митя. — В каком виде?
— Не буду, — отвечает бабушка. — Мне наконец
будет все равно. Вот рай-то!
341
Я ловлю эти слова — все равно. Они и есть смерть.
Безразличие. Бесчувствие. Безмыслие. Ничего страшнее
вообразить нельзя.
— Ладно, ладно, — говорит Митя бабушке, а смот¬
рит на меня. — Указания будешь давать мне. Во сне.
Приснишься к утречку, чтоб я не забыл до вставания, что
мне передать живому народу. Я аккуратно все исполню.
— Ты-то? — улыбается бабушка.
— Только к ней не приходи, — тычет Митя в меня
пальцем. — Она у нас гордое тело. Она дух не признает.
— Сейчас нельзя признавать, не то время, — говорит
бабушка и уже подымается с подушки, уже ищет ногами
тапки. И как-то это по-дурному завязывается в голове:
духа нет, значит, вся надежда на тело, а значит, ищи тапки,
встань и иди!
Вполне атеистическая цепь — на мой взгляд, и я смот¬
рю на Митю победительно.
Нет, Митя, никакого духа нет! Человек состоит из кле¬
ток... Я поперхаюсь мысленно на этом слове. Я не люб¬
лю его, это какая-то изначальная очень личная нелюбовь к
звуку, букве этого слова. Но это я обдумаю когда-нибудь
потом, сейчас же я торжествую в своем материализме, а
Митя мне печально говорит:
— Птица! Иногда ты бываешь забубенной дурой.
Бываю. Сейчас я это знаю точно.
А потом Митя умер.
А до того... До того... У него от Фали родился живой
сын Георгий, в просторечии Ежик, а от Любы попозже —
мертвая дочь. И в той деревне уже стали жить две женщи¬
ны с «другим умом» — Зоя и Люба. Душа Мити рвалась
на части между живым, мертвым и «другим», и каза¬
лось — вот-вот не выдержит.
Мне это написала в письме мама. Главным в письме
была Зоя, которую забрала потом бабушка. «...И что те-
342
перь с ней делать, доча? Она совсем чудная, и от людей
бывает неудобно». Бабушка пыталась пристроить ее в
швейную мастерскую, но народ оказался не способным
принять человека, который нитку тянет с певучим звуком, а
с пуговицами разговаривает. Народ смеялся над Зоей, но
той это было, как говорится, без разницы, более того, Зоя
любила смех вокруг себя, она считала, что смехом разгова¬
ривают в нас ангелы. Но дело было не только в смехе. На¬
род оскорблялся наличием в своей среде причудливого су¬
щества, непохожего на других, существа, не ведающего
зла. Это очень раздражало народ, потому что заматереть
во зле значило для него выжить. Еще слыхом не слыхивали
про выгодность добра. Была другая истина, которую пере¬
давали изустно, — добро недолговечно. Ну посмотри
вокруг, посмотри! Кто на войне остался в земле? А кто
цветет и пахнет? Пришлось Зою перевозить в колхоз, к
бабушкиным сродникам, там ее приспособили в птичницы,
где она и умерла быстренько и легко, потому что в ней про¬
сто кончилась жизнь. Это все уже было без меня, я даже
письмами в этом не участвовала, своя собственная бурная
жизнь была куда громче и звончее, а Зою я просто плохо
знала. Именно от меня и Шуры отделили этот недоброка¬
чественный побег, чтоб, не дай бог, не перешла зараза.
Так вот, умер Митя.
Хоронить его ездила бабушка, вернулась лицом черная
и сказала:
— Она его убила...
И все. Дальше занавес.
2
Уже давно нет бабушки. Я живу совсем другой жиз¬
нью, она по вкусу, по цвету, по запаху настолько отличает¬
ся от той моей детской, что временами я начинаю по ба-
343
бушкиному методу нервно связывать концы, боясь, что ир¬
реальность детства и отрочества в собственной памяти —
признак губительный: оглянуться не успеешь, как распа¬
дется на отдельные материки собственная жизнь. Хотя
тоже сказанула — материки. Скромнее надо, скром¬
нее — острова, скажем, островочки, имея в виду, что рас¬
пасться можно просто на отдельные камни. Кто тебя потом
соберет в кучу, кому это будет надо? И я плыву к острову
детства, цепляюсь за него тростью, купленной по случаю
вывихнутой ноги, так вот, подручным способом, подтяги¬
ваю его к собственному взрослому боку и держу... Малень¬
кое свое детство...
Во взрослой жизни у меня есть подруга. Дама легкая на
легкую любовь. Я боюсь с ней часто встречаться, потому
что она всегда норовит разломать к чертовой матери мои
внутренние устои.
Ей это, как теперь говорят, в кайф. Она с удовольстви¬
ем углубляется в подробности сексуальных отношений, где
так все просто, легко и необременительно по форме и так
«полезно» для организма. «Ты же дура!» В этот момент я
делаюсь неуверенной в себе и диагноз «дура» принимаю со
скорбным согласием и готовностью лечиться по методу
подруги.
Порок во мне начинает дышать полной грудью,
ведь — в конце концов! — он тоже хочет полноценной
жизни.
Так вот. Мы сидим с Риммой — подругу зовут Рим¬
мой — и пьем чай. Она рассказывает мне про своего
...надцатого любовника, который был так небрежен, что
приволок домой к жене Риммины следы.
Римма закатывается смехом не отягощенного устоями
человека, а я мысленно топчусь возле жены любовника и
как бы нахожу Риммины следы.
344
Мне бы чавкать в пандан с подругой, которую я знаю и
почти люблю, вместо того чтобы глотать слезы с женой лю¬
бовника, о которой я до этой секунды вообще не слышала,
Ан нет. Глотаю...
Мы не вдвоем. В кресле с огромным количеством по¬
душек сидит Риммина бабушка. Она идиллически вяжет,
но в разговоре присутствует. Во всяком случае, на ее ста¬
рой мордахе написано: похождения внучки ей для здоровья
полезны. Она бы сама так поступила, не будь этих черто¬
вых подушек на ее пути.
В какой-то момент, когда Римма уже сказала, а я еще
не нашлась, что ответить, старушка подняла свое печеное
яблочко и, хихикая, проблямкала:
— Ты, Римка, допрыгаешься. У меня была в Ростове
приятельница, так она за «амур налево» мужа отравила.
А потом замечательно его похоронила, с таким почетом.
— А! Брось, баба Леля! — отмахнулась Римма. —
Кто это сегодня берет в голову «амур налево»? Ну, даст
жена по морде... И сама сходит в этом же направлении...
— Фаля была не такая, — с чувством сказала баба
Леля.
Нельзя давать людям редкие имена. Нельзя до такой
степени их обозначивать. Если бы я была все-таки птица,
как называл меня Митя, то я бы, наверное, тонко вскрик¬
нула в небе. Но я сидела на широком и теплом стуле, меня
разморил чай с вареньем, и я уже расстегнула верхнюю пу¬
говичку на юбке. Какая там я птица! Разве что курица.
— Фаля? — говорю я. — Я знаю одну Фалю. Она
врач?
—■ Всю жизнь просидела в горздраве, — отвечает
баба Леля. — У нее, по-моему, и образования-то нет.
Я-то точно знаю, что образование было! Моя бабушка
такую промашку не допустила бы. Диплом был ею освиде¬
тельствован тактильно и зрительно.
345
— Откуда ты можешь ее знать? — спрашивает меня
баба Леля.
— Да она как бы мне родственница, — смеюсь я.
— Не вздумай написать ей, что я тебе сказала! — го¬
ворит баба Леля. — В конце концов, может быть, это и
сплетня. Римма! Дай мне Вотчала.
Запахло валерьянкой, вода побежала по старому подбо¬
родку, я несу полотенце. Старушку явно взволновали лю¬
бовь и смерть.
Старая ворона нагляделась на дурь и мерзость челове¬
чества, но помнит, что в ее вороньей юности человечий ре¬
бенок подлечил ей сломанное крыло. И хоть она, ворона,
давно без иллюзий, но дитя помнит... Скажем так... Пото¬
му и подсочувствует этим двуногим и неуклюжим...
Митя — такова официальная версия — умер в боль¬
нице от кишечной колики. Боли были такие, что хоть кара¬
ул кричи, что он и делал. Лечила его будто бы сама Фаля,
не отходила от него ни днем ни ночью, все ею восхищались
и говорили о ней исключительно в превосходной степени.
Но ведь бабушка сказала тогда: «Она его убила».
Естественно, моя мама сразу потребовала у бабушки
объяснений, и та ответила, что ей это сказала Зоя.
— Нашла кого слушать! — закричала мама. — Заб¬
рать ее надо от Любки. Она нам никто!
Вот это было по существу. Кто-кому-кто в иерархии че¬
ловеческих связей имело в нашей семье большое значение.
Входящие в нее сразу получали особый статус. За этим
уровнем стоял близкий и маленький круг друзей, потом
круг друзей друзей, крепость связи с ядром-семьей все ис¬
тончалась и истончалась, в конце концов переходя в бес¬
форменную массу просто людей, плавающих в мире безот¬
носительно к нам.
Когда мама говорила: «Она тебе никто», то это был су¬
ровый диагноз. Те годы, когда я набирала свой опыт уже
346
вне семьи, я боролась с внедренной в меня иерархией.
Я готовила себя к жизни, где буду любить людей более ох-
ватно, невзирая на глупости в виде «родственник — не
родственник». Я была стихийным интернационалистом и
космополитом, и мне казалось правильным дальних любить
больше, чем ближних. Молодая дура думала, что она идет
трудным человеколюбивым путем, а когда она, дура, спох¬
ватилась, то поняла, что самое трудное — любить близ¬
ких. Они, как никто, исхитряются своими словами и делами
подорвать твою любовь к ним. Откуда было знать, что
путь через раздражение и возмущение и есть путь испыта¬
ния любви. Новозеландец, папуас или мужик из соседнего
подъезда сроду не раздражит тебя так, как родной брат или
сестра.
К моменту чаепития у Риммы я была практически сво¬
бодна и от категоричности мамы, и от собственной необъят¬
ной любви к людям. Я была никто по отношению к очень
многим старым привязанностям. Но Митя и Фаля... Это не
подлежало селекции и саднило.
И вошь в голову была запущена.
Я вспоминала приезды Фали к нам с сыном, ее все¬
гда встречали радушно, мальчика ласкали, но бабушка в
эти приезды всегда была несколько другой, чем обычно.
Собственно, я знаю как бы двух бабушек: бабушка как
она есть и та, что бывала, когда приезжала Фаля. Эта
вторая ходила со втянутым животом, глаз ее был цепким,
она снимала косынку, которую вообще-то не снимала ни¬
когда, завязывая ее узлом на затылке, — тут же, при
Фале, она ходила простоволосая, время от времени быс¬
трой рукой проводила круглым гребешком по волосам,
но не до самого конца, а оставляя гребешок где-то по до¬
роге в спутанности серебряных кудрей. И еще бабушка
в «дни Фали» не прибегала, как у нас принято, к крас¬
ному словцу «ридной мовы». В доме стоял высокий
стиль русского языка.
347
— Будь любезна, убери за собой, — говорила она мне.
Потом Фаля уезжала, а бабушка закрывала ставни в
комнате и ложилась на диван, прикрыв за собой двери. По¬
чему-то я боялась этих ее уходов от нас всех. Я норовила
заглянуть в комнату и слышала оттуда тихое:
— Геть!
Вчера она мне сказала: «Иди вон!» «Геть» — это дело
на поправку, это уже нормальная температура и выход из
кризиса.
Когда я окончила школу и во весь могучий рост встал
вопрос, куда ехать учиться дальше, возникла идея — не
поехать ли мне в Ростов к Фале? Бабушка сняла косынку,
провела до упора гребешком и сказала:
— Нет.
Потом, через много лет, я пересеклась с Фалей. Она
приехала одна, без сына, который отдыхал где-то в Анапе.
Как выяснилось, Фаля засобиралась замуж за преподава¬
теля техникума, вдовца.
— Дети есть? — спросила бабушка.
— Нету, — ответила Фаля.
— Слава тебе, Господи, — сказала бабушка и широко
перекрестилась.
— Ну зачем же так? — обиделась Фаля. — Я ни¬
чего против детей не имею. Я могла бы выйти и на детей.
— Никому не надо чужое горе, — сказала — теперь
уже — мама. — Так что на самом деле слава богу, что без
детей.
Вечером Фаля подошла ко мне в палисадник, села на¬
против на чурбачок. У нее было спокойное лицо, нервный
тик за все эти годы прошел, и я уже не помнила, на пра¬
вильном ли месте стоит у нее уголок рта. Мне нравилась ее
прическа — гладкие, зачесанные на прямой пробор волосы
сзади были затянуты красивым узлом.
— Как бежит время, — сказала Фаля. — Ежику
уже семнадцать. Ты уже, извини, баба... А еще недавно
была черной, как галка, девчонкой в цыпках...
348
— Да не было у меня цыпок, — смеюсь я. — Это у
Шурки были.
— Тебя Митя очень любил, — сказала она. — Даже
девочку хотел... Из-за тебя...
У меня сжалось сердце. Я этого не знала.
— Расскажите, как он умер, — попросила я, — я
толком так и не знаю.
— Не хочу, — ответила Фаля. — Не хочу о смер¬
ти... — Она отвернулась и стала смотреть куда-то в сторо¬
ну, я посмотрела, куда, — ничего там не было, дощатая
стенка угольного сарая. Давным-давно он горел, и, когда я
смотрела на него, в ноздрях возникал запах того пожара.
Я думаю о материальности памяти. Я уже не та девочка,
что отрицает дух, я уже продвинулась в этом направлении;
конечно, сознание вполне еще сумеречное, но нет-нет, а
что-то начинает мигать. Ведь пожар был когда! Я же
смотрю на уже старые новые доски, а в носу у меня щип¬
лет!
— Лучше Мити я не знала человека, — говорю я
Фале. Она резко поворачивается ко мне. И мы смотрим
глаза в глаза.
Есть что-то в пересечении наших взглядов, есть. Но
разве это можно продать или купить? Или предъявить как
свидетельство? Мы обе бурно выдыхаем это необъяснимое
нечто. И даже как бы радуемся, что мы тут и что во дворе
пахнет жареными синенькими.
С Фалей связан стремительный, невозможный по воз¬
расту бег мамы по улице от дома. Потом она плетется
назад, в руке у нее головной платок, она прижимает его к
носу, и он у нее уже весь кровавый, но мама довольна: со¬
суд — благодарение Богу — лопнул в носу.
— Это даже полезно, — говорит она мне. — У ме¬
ня есть знакомая гипертоничка, так она просит мужа, ког¬
да у нее болит голова, дать ей по морде. Лопается сосуд в
носу, и давление в голове уменьшается. Запомни это на
будущее.
349
При чем тут Фаля? А при том, что она забыла свою
косметичку, и мама хотела догнать ее на автобусной оста¬
новке.
— Она привезла мне сильное лекарство, неудобно не
взять, — говорит мама. Потом открывает заслонку печки.
Заполошенно, не понимая, за что им такое, горят разно¬
цветные таблетки. — А косметичка ей пригодится.
Польская...
Занавес...
Сегодня у меня уже началось будущее, о котором меня
предупреждала мама.
— Можешь мне дать по морде в профилактических це¬
лях? — спрашиваю я у мужа. Он начинает криком кричать
(а так смирный) о моей темноте, темноте моего рода (он зна¬
ет эту историю с неизвестной и чужой теткой из маминой
жизни), он начинает листать справочник, где у него уже де¬
сять лет записан телефон специалиста по сосудам и всему со¬
путствующему, мы входим в хороший ступор, и я горстями
глотаю разноцветную (чтоб ей сгореть!) химию, через час ту¬
пею, чуманею, мне всё — всё равно, и из вязкого равноду¬
шия выползает тонкая, изящная змея. Она тычется в меня
своей красивой головкой и шипит: «По морде было бы луч¬
ше, дорогая моя... Зачем ты вышла за этого чистоплюя, ко¬
торый не может это сделать? Помнишь, у тебя был знако¬
мый горняк? Он еще хотел тебя пристрелить, когда ты от
него вильнула. Ты помнишь его карабин?»
Поскреби чуток семейные истории, открой старый
шкаф, вывезенный на дачу и уже там давно пребывающий
не в комнате, а в сарае, открой створку — и тебе на голову
свалится карабин ли, скелет ли... Одним словом, в чем-то
мы вполне англичане.
Вернувшись от Риммы, я, что называется, взяла себе в
голову Митю и его смерть. Мне как раз предстояла поезд¬
ка в Ростов на серебряную свадьбу Шуры.
350
На этой свадьбе тогда круто замешались один крими¬
нальный и два любовных сюжета. Про один я как-то уже
рассказывала — это когда сватья увела свата на глазах гу¬
ляющего народа. Два сюжета пребывают в анабиозе.
Но тогда у меня была другая цель. Фаля. Она тоже
должна была быть на свадьбе вместе с Ежиком и его же¬
ной. Сестра, сидючи над ведерной кастрюлей, в которую
нервно шлепалась толстая, неэкономно снятая картофель¬
ная кожура, рассказывала:
— Я ее в гробу видела, эту свадьбу. Чему радоваться?
Что у меня за всю жизнь нет ни одной вещи, которая для
меня у понимаешь, сделана, для меня лично...
— У меня тоже нет, — говорю я ей.
— Не перебивай, — кричит она. — При чем тут ты?
Это же моя свадьба! Это же я подвожу итоги. На своей
подведешь свои. Я бы сроду не пошла на эти траты, но
родня, будь она проклята. Сволочи, помнят срок. У этой
Фальки все записано — кто, когда и с кем. Там и твой
срок есть...
— Знаешь, — говорю я, — мне бы хотелось съез¬
дить на могилу Мити.
Сестра распахивает на меня свои огромные глазищи.
Серо-зеленые, с желтой подпалиной, на голубоватом ябло¬
ке. Всю жизнь они тревожны и прекрасны. Я не знаю глаз
более нервных и возбуждающих... Хотя кого возбуждать?
Меня? Так меня возбуждает даже косынка на ее бигу-
дях — такой от нее ко мне идет ток. И не берите в голову
дурное. Это вибрации верхних чакр, они идут поверх голов,
а потому моя красавица и умница сестра дожила до своей
серебряной свадьбы как бы вне мужского рода, который
весь с вибрациями низкими и грубыми. Ах, Господи ты мой,
ты сам-то мужчина? Можешь ли ты понять несовершен¬
ство слепленного тобой человека? Ты понимаешь, как нам
трудно с ним? Конечно, Господи, у тебя есть оправдание.
Ты на нем учился творению, а нас ты лепил уже с некото¬
рым опытом. И мы — если настаивать на ребре —- все-
55/
таки сделаны из культурной материи. Ты же старался де¬
лать ребра? Ты их гнул, сгибал? Но Адам у тебя не полу¬
чился, и не вали с больной головы на здоровую. Змей про¬
сто мимо шел...
— Ты помнишь этот слух, — говорю я сестре, — что
Фаля отравила Митю?
— А ты помнишь Митю? — отвечает мне сестра. —
Ты помнишь, какой он был?
— Замечательный! — кричу я. — Он был замеча¬
тельный.
— Еще бы! Потаскун всех времен и народов.
Одним словом, идти на могилу Мити сестра отказалась.
А вот Фаля радостно согласилась.
Могила была что надо. Ухоженная, с белоснежным над¬
гробием, с провисающими чугунными цепями. Летний сад,
а не могила. Тут росли не случайные одуванчики, а высокой
породы цветы, и трава была выстрижена ровненько по все¬
му периметру, а вокруг лавочки хорошего дерева лежал не¬
жный песок, такой чистый и промытый, как будто он не
русский песок с ближнего карьера, а песок-иностранец.
Одним словом, придраться не к чему.
— Я его очень любила, — сказала я Фале.
— Его любили дети, собаки и женщины, — засмея¬
лась Фаля.
Фаля пригласила меня в гости. Она жила в старой квар¬
тире, отказавшись переезжать в первые пятиэтажки хру¬
щевского разлива. На второй этаж вела деревянная лестни¬
ца, кончающаяся широким общим балконом. Здесь густо
пахло коммунальным бытом: ведрами, керосином, хозяй¬
ственным мылом, селедкой и жареными семечками. В са¬
мой же квартире Фале не пахло ничем, здесь была стериль¬
ная, как бы не помеченная человеком атмосфера. Хотя в
кресле-качалке как раз сидел человек и смотрел на нас яс¬
ными голубыми глазами.
352
— Знакомьтесь, — сказала Фаля. — Мой муж.
Митина внучатая племянница.
— Сергей Давыдович, — почему-то хохотнул Фалин
муж.
Я поняла, что это у него такая манера — прокладывать
слова легким смехом. По профессии он был учителем мате¬
матики, по призванию — учителем литературы. В тот
день он читал «Пушкинский календарь» 1937 года, выпу¬
щенный к столетию гибели поэта.
Потом я поняла, как это было замечательно. Пушкин
нас «развел» с Фалей. Не то чтобы я готовилась задавать
ей обескураживающие вопросы, совсем нет. На тот момент
мир в моей голове был устроен окончательно и бесповорот¬
но, и в этом мире Фаля была у меня виноватой. Другое
дело, что устройство в голове обладало свойством самораз¬
рушения. Моргнут реснички — и нету мира. Стройте, ма¬
дам, с нуля, если вам не надоел этот сизифов труд. Но на
тот момент, на тот... Фаля была убийцей, и так было кста¬
ти, что этот ее новый, хотя уже и старый и, скорее всего,
окончательный, муж разворачивал в мою сторону пушкинс¬
кие легкие наброски, и я думала, что вселенная напрасно
воображает о своем вселенстве, не она тут главная. Росчерк
пера, небрежная линия локона — и у тебя равновесие,
дама вселенная, а так черт его знает.
Фаля же работала в этот момент исключительно грубы¬
ми мазками. Она выставляла на стол графинчики с какими-
то густыми напитками от ярко-красного до ярко-зеленого
цвета, они уже внесли в комнату дух полыни, чеснока,
свеклы.
Фаля объясняла мне содержание настоек на травах,
корнеплодах, листьях и ветках. Моя бывшая родственница
не искала в этом деле легких путей, она была стихийна в
этой своей страсти купажей и вытяжек. Зеленый штофик,
особенно торчащий на столе, являл собой экстракт из хвои,
пах оглушительно елово-сосново, но каким был на вкус —
не знаю. У меня странным образом спазмировалось горло,
353
и я под предлогом повышенного давления пила воду, кото¬
рую сама и наливала из чайника.
К счастью, Фаля не была из тех хозяек, которые с гро¬
хотом садятся гостю на лицо. Не хочет гость — не надо.
Сами съедим. Они с мужем с аппетитом вкушали как си¬
нее, так и розовое, а я пила воду и заедала ее тщательно
освобожденной от костей селедкой.
Такая дура! Ничего не попробовала.
Потом мы смотрели альбом. Я невежливо переворачи¬
вала страницы жизни Фали мне не интересные. Я искала
нужное мне время.
И снова она угадала мои мысли, принесла старый, с пу¬
говичкой, в котором белыми зонтиками и шляпками, шну¬
рованными сапожками смотрело на меня детство Фали,
стремительно перешедшее в полосатые блузоны и косыноч¬
ки по самые брови. Прошло и это, и вот уже Фаля — мед¬
сестра, а вот уже веселые предвоенные сборы, а вот и Митя
проклюнулся, тощенький наш недотепа Митя.
Была их общая фотография после войны, головка к го¬
ловке.
— Я тут беременная, — сказала Фаля.
Но вид беременный был у Мити. Раздобревший, осоло¬
вевший.
— Такого Митю я помню плохо, — сказала я.
— Было, — ответила Фаля. — Одно время он очень
поправился. После войны. А уже перед смертью много ел.
Жадничал.
Встрял Сергей Давыдович. Он знал случай:
— У одной старой знакомой мне дамы перед финаль¬
ным маршем Шопена стали набухать соски. — Сергей
Давыдович рассыпался в смехе, но потом сконцентриро¬
вался для рассказа. — И даже возникла — понимае¬
те? — тяга... Буквально за несколько дней до смерти. Вы
понимаете, что я имею в виду?
— Она что? Стала про это говорить — про соски и
тягу? — Фаля безусловно рассердилась.
354
— Зачем говорить? Она вела дневник. Это моя тетя...
— Фу! Какая гадость! — воскликнула Фаля. — На¬
шел что рассказать. К Мите это не имеет никакого отно¬
шения. Митя на головку был здоров.
Но что я увидела? Я увидела в Фалиных глазах гнев,
который ну никак нельзя было отнести к Сергею Давыдо¬
вичу. Скорее уж к его тете с возбужденными сосками, но
тетя-то тут при чем?
Я перевернула лист альбома. В уголочек для фотогра¬
фий был всунут рассыпающийся старый конверт, на кото¬
ром было написано: «Дмитрий».
Я сочла возможным его открыть.
Профсоюзная карточка. Членский билет ДОСАРМа.
Читательский. Мелкие фотки для документов. Справки.
Об уплатах, сдачах анализов, о наличии и отсутствии, о по¬
лагающемся и не имеющем права быть. Одна просто пре¬
лесть: «Гражданка Юрченко Любовь Кирилловна прошла
проверку на ящур. Дана для мясобойни». И лиловое чер¬
нильное пятно. Ничего не понять, но четко видно —
Мясницкий район.
В этом районе жили родители мужа Шуры. Шура об¬
радовалась, что из-за меня может не ехать туда в очередное
воскресенье, а я возьми и скажи, что охотно съездила бы с
ними. Сто лет не была в деревне.
— Когда еще выпадет случай?
Действительно, когда тебя еще занесет в Мясницкий
район? По вероятности попадания это почти как Париж
там, Лондон... Но мне как раз туда не надо! Мне как раз
надо в Мясницкий район, к Юрченко Л.К., проверявшей
на ящур свою корову.
Отдайся на волю воде. Она приведет тебя куда надо.
Не исключено, что в омут. В сущности, это право воды.
Оказывается, Люба Юрченко всю свою жизнь жила
наискосок от свекрови моей драгоценной Шуры. Зара
Акоповна, свекровь, большая, шумная, бородатая армянка,
355
даже смутно помнила Митю. Шура отвергала это начисто.
Во-первых, этого не могло быть, потому что «эта старая
дура» забыла, что во время войны ее тут не было. Она
была в Нахичевани.
Но Зара возьми и скажи, что помнит и девушку, у кото¬
рой были «не все дома». По воскресеньям она носила на
голове веночек, а куда делась, не помнит...
Шура наступила мне на ногу. «Ага! — подумала я. —
Ты все знаешь, просто не хочешь говорить... Хорошо, не
буду...»
Зару же остановить было невозможно.
— Хватит, — резко обрезала ее Шура. — Ну
сколько можно? Такую бы память да в мирных целях!
— Ты так хочешь? Ладно! Пусть! Я сейчас возьму и
выну свою память! — кричала Зара Шуре. — Ты этого
хочешь, этого? Я все для тебя сделаю, потому что делаю
это не для тебя, а для сына! Для этого я вынимаю свои моз¬
ги вместе с памятью. Я выбрасываю их в помойное ведро.
Вместе с вашим дядей или кто он вам есть, будь он проклят
на том свете, если ты из-за него со мной ссоришься. Так
вот. Я не видела его, не видела, какой он из себя худой,
как последняя стадия туберкулеза. Я не видела и не знаю,
что эта женщина, которая напротив, сначала была с ним
счастливая, а потом из нее вышел дух... Все! Кончено! Все
в помойном ведре!
— Я же не говорю, — резко отвечала ей Шура, —
что не было какого-то мужчины и что из кого-то не выхо¬
дил дух. Я про фантазии моей дуры сестры. Она всю
жизнь наворачивает в своей голове такие сюжеты, что
можно подумать, ей больше нечего делать.
— Я выбросила мозги в ведро, — гордо отвечала
Зара, — я выбросила туда имя Митя и закончила тему.
Хотя почему не пойти и не спросить правду, я не знаю...
Две минуты — и решение вопроса. Она сейчас в разуме.
— Нечего вытаскивать покойников из их могил, —
твердо отвечает Шура.
356
— Хорошо! Хорошо! — кричит Зара. — Это мое
пожелание тоже в помойном ведре! Ты можешь быть до¬
вольна, я подчиняюсь тебе, как ваш Иванушка-дурачок.
И она уходит от нас обиженная, а мне неловко, что это
из-за меня. Приехала и устроила. Не хватало мне чужих
скандалов, хотя, видит Бог, я не понимаю, что уж такого в
моем любопытстве?
— Ладно, — отвечает Шура. — В конце концов,
это наша история... Если уж приехала — сходи.
Я бурно не соглашаюсь. Зачем это мне надо, кричу я.
Зачем? Просто взбрело в голову. Моча ударила, — по¬
мнишь, Шура, как говорила бабушка о дурных делах: уда¬
рила моча.
— Но ударила же, — печально говорит Шура.
— Ну прям! — возмущаюсь я и иду.
Я уже иду... Я уже на другой стороне улицы. Я от¬
крываю калитку и топчу тропинку, посыпанную желтым-
прежелтым песком-иностранцем.
Мне вслед что-то кричит Шура.
Что-то Зара.
Залаяли собаки, захлопали двери. А что вы хотели: я
ведь на самом деле на всю деревню ворошу покойников.
Она не подготовила меня, Зара, к встрече с Л. Юрчен¬
ко. Надо было сказать, какая она старуха, какая она лунь,
как высохла ее плоть. Я нервно считаю ее года. Ну, при¬
близительно, исходя из всего... И нахожу, что ей еще нет
шестидесяти. Странное ощущение, что она не была моло¬
дой никогда. И мне не за что ухватиться, чтобы войти в ее
далекое-далекое и подсмотреть.
— Вы меня извините, — говорю я. — Я из семьи
Мити.
Она открыла дверь, приглашая меня войти. На стене
висел увеличенный с фотографии на паспорте портрет
Мити. Сразу после войны они тучами ходили — увеличи¬
тели портретов. У меня есть собственный, тайком от мамы
357
заказанный бабушкой. Я на нем школьница, с белым гоф¬
рированным бантом под шеей. «Художники» на свой вкус
вздыбили мне волосы на темечке и дотошно выписали
улыбку. Она у меня виновато-нахальная, как сказала ба¬
бушка: «Ты тут себе на уме». Был сделан и портрет Шуры.
Маляры от фотографии нарисовали ей круглые глаза, они
так старались передать их огромность, что явно перебор¬
щили, получились не глаза, а пуговицы для тяжелого зим¬
него пальто, мощные пуговицы, которым надлежит дер¬
жать стеганые полы.
Бабушка спрятала Шурин портрет глубоко в комод.
Сейчас он у меня дома, и Шура мне на нем нравится. Ведь
она на самом деле держатель всего и вся, так что мастеро¬
вые не так уж были и не правы.
Я поразилась Митиной молодости на портрете. Навер¬
ное, это случилось от потрясения старостью женщины, от
сравнения, наконец, с собственной уже неюностью. Митя
был на портрете лукав, как будто предвидел этот мой при¬
ход через время.
— Как ваше отчество? — спросила я.
— Меня зовут Любой, — ответила женщина. —
Отчество я сроду не носила.
— Я помню, как вы приезжали к нам с Митей, —
сказала я. — Бабушка ходила к вам в дождь ночью.
— Откупалась, — ответила Люба.
— Вы можете мне это рассказать? — спросила я.
— А что рассказывать? Ваша бабушка сказала, что
вернулась с фронта его жена контуженая. А я, мол, кровь с
молоком. И найду другого.
— Понятно, — улыбнулась я. Делался упор на осно¬
вополагающую Митину черту. — А что было потом?
— А потом она его отравила.
Я сказала ей, что моя сестра Шура осуждает меня за
то, что вторгаюсь в прошлое, что живая жизнь, по ее мне¬
нию, не любит, когда возвращаются назад и перекапывают
ее русло.
358
— Я с ней согласна, — ответила Люба.
Она говорила глядя через мое плечо, как будто именно
за мной стоял ее собеседник, ему, не мне, предназначались
странные движения пальцев, мелкие, изящные, будто она
перебирала ноты на округлом инструменте, лежащем у нее
на коленях.
— ...Это сейчас автобус, — говорила она. — А тог¬
да ехали на «кукушке». И пешком. Он только приедет —
и сразу надо обратно. Мы иногда с ним прямо на приступах
в хату любились... Не было времени, чтоб в доме и как у
людей.
...Я его далеко провожала...
...Иногда мы с ним сворачивали в кусточки и любились
уже на каменной земле. Видите? — Люба в одну секунду
подняла кофту, повернулась, и я увидела под лифчиком
кривой, плохо зашитый шрам. — Это я напоролась на
стекло. Митю посадила на машину, сама иду, а с меня
кровь кап-кап... Зашла к Вале, нашей медсестре, она уви¬
дела, как закричит...
Я ее успокоила, сказала, что живучая и боли не боюсь.
Она мне скобки поставила, у нее остались от коровы, когда
та распорахала проволокой себе вымя...
...Хорошо зажило, быстро, правда, спину сильно стяну¬
ло, и я стала дергаться... Мне все время хотелось кожу
спрямить...
...Но ничего... Привыкла...
...Митя, правда, когда увидел, просто зашелся. У него
случился испуг на «если бы...». Ну не случилось же...
...С тех пор я брала с собой в поле одеяльце, оно и сей¬
час живое. Не могу выкинуть. Оно пахнет Митей и ржа¬
ным холодком.
...А может, это мне кажется? Митя особенно пах. Он
курил хорошие папиросы, «Казбек». И пах хорошо. Чис¬
той водой... Знаешь, — страстно сказала она собеседнику
за моим плечом, — знаешь...
359
Меня всю как бы размазали по стеклу, лишив формы и
содержания. Я ведь не умею говорить на такие темы, в
моем лексиконе просто не было слов про это. Но в меня
впивались слова о ржаном Митином холодке, о запахе чи¬
стой воды, все это смущало не фактом существования, а
фактом говорения. Женщина же торопилась вспоминать
Митю страстно, подробно. Чувственно... И лицо у нее
при этом было странное — напряженное, дрожащее...
Она как бы была в той лесополосе, посаженной держав¬
ным повелением против ветров, а оказалось, для греха...
Для греха!
Люба все говорила, и я не могла уйти. Сколько это мог¬
ло продолжаться — ее воспоминание и мое нетерпеливое
смущение.
Я остановила ее:
— Извините, Люба...
— А... а... а... — последним звуком кончилась жен¬
щина. — А... а... а... На чем она себя перекусила?
— Извините, — повторила я. — Меня, наверное,
потеряли...
Одним словом, я бежала суетно, стараясь не зацепить
ее глазом. Когда ненароком зацепила, передо мной стояла
старая, заплетенная морщинами старуха, играющая на ок¬
руглом инструменте.
Зара зажала меня своим большим горячим телом в
уголке летней кухни.
— Ну? — спросила она.
— Узнала некоторые натуралистические подробности.
Все-таки, — сказала я с чувством, — даже подруге я та¬
кого не скажу!
Зара выпустила меня из жарких объятий, и в этом ее
отпускании я ощутила презрение. Меня это царапнуло.
«Мясниковское сестринство, — подумала я. — Они за¬
одно просто по факту прописки».
360
Ведь Зара мне нравилась, мне хотелось, чтоб я ей
тоже... А она меня, считай, оттолкнула.
Шура же упорно меня ни о чем не спрашивала.
Когда уезжали, Люба стояла на крыльце, от него бежа¬
ла желтая дорожка песка, и я подумала, что песок не такая
уж редкость на этой земле, даже если он чисто вымыт.
Я не собиралась больше встречаться с Фалей, но она
сама пришла на вокзал меня проводить. Вручила донской
джентльменский набор. Бутылочку «Пухляковского»,
рыбца и домашнее варенье из райских яблок. Это было
мило с ее стороны, но смутило: я ведь к ней приходила без
гостинцев и даже прощаться не собиралась, ан на тебе...
Получалось, она — щедрее...
— Жаль, — сказала я, — что я так и не увидела
Ежика.
Фаля промолчала.
Время стремительно ссыпалось в одну ему известную
щель. Так работает грохот, отделяя мелкое от крупного,
одновременно подтачивая большое. Смысл грохота —
спустить к чертовой матери все и затихнуть в пустоте.
Я замечаю собственное трясение, знаю, к чему это —
к выходу, выходу! Великое бессилие быть перед могуще¬
ством кануть...
Умерла жаркая Зара. Шура подумала-подумала и оста¬
вила себе Зарин дом. Теперь туда ходил рейсовый автобус,
Зарино подворье обозвали «дачей». Шура написала:
«Приезжай! Так завязался виноград, что в августе не будем
знать, куда его девать». Я сумела вырваться только в сен¬
тябре...
Эта женщина, Люба, поди совсем-совсем старуха, если
вообще жива. Да и Фаля тоже. Сестра никогда о ней не
писала, да я никогда и не спрашивала... Ежик... Уже вполне
пожилой господин... И нахлынуло это старое, далекое, все
в запахах и вкусе, как вчерашнее. А живее всех живых —
Митя...
361
«Митя! — говорю ему я. — Я уже старше тебя почти
вдвое! Как тебе эта хохма?» — «Не бери, птица, в баш¬
ку, — смеется он. — Вся жизнь — сплошная кажи¬
мость...»
Все придумываю... Все... Что я вообще могу знать о
Мите истинного? Но, видимо, это свойство породы — за¬
ронить в душу другого семечко, и уже этот другой холит и
нежит это чужое в себе диво. Митя во мне высадил сад.
Пала ли я в кого семечком? Проросла ли?
Шура прямо с вокзала повезла меня в деревню.
— В городе все равно нет воды. Набираем ванну с
ночи, так и живем.
Шура в моих глазах изменяется скачками. Кажется, со¬
всем недавно я ее видела светлой седоватой шатенкой. Сей¬
час она седая полностью и, что называется, с вызовом.
С вызовом тем, кто колготится с краской и пергидролью.
Мне она нравится в этом своем вызове; интересно, знает ли
она, догадывается, как я ее люблю? Она скажет на это:
«Я стараюсь без этого обойтись. Нежность — скоропор¬
тящийся продукт. Мы — сестры. Это не любовь, это
судьба».
В доме Зары остался ее дух. Я сказала это Шуре.
— Вот несчастье, — ответила она, — я держу в доме
сквозняк, держу!
— Да нет же! — кричу я. — Я не о запахе. Я о
духе.
— Я человек неверующий, — отвечает Шура. —
А запах есть. Пахнет старой армянкой. И ничего тут не
поделаешь. Внедрилось в стены. Нужен капитальный ре¬
монт. Но ты знаешь, откуда у моего руки растут...
Наискосок, на месте Любиного домишки, двухэтажный
кирпичный бастион. Спросить?
— А эта... Люба... Что с ней?
Шура пожимает плечами:
362
— Понятия не имею.
Вижу, что врет. Но я только с поезда, я только пересту¬
пила порог, для меня стоит целое блюдо оглушительно пах¬
нущей «Изабеллы». Я чуманею от одного натюрморта.
— Как там Фаля? — спрашиваю я, но это уже после
обеда, когда нет сил двигаться, как не было их отказаться
от вкуснот, и надо встать и идти куда-нибудь, идти, чтоб
победить в себе то, чего больше всего хочется, — лежать и
лежать.
— Я у тебя спросила про Фалю, — лениво повто¬
ряю я.
— Да ну ее, — машет рукой Шура. — Старая ведь¬
ма. Просила тебя зайти.
Только на второй день пошла я прогуляться к дому-бас¬
тиону. Румяная молодайка с откровенным деревенским лю¬
бопытством тут же возникла у калитки.
— Ищете кого или так? — спросила она, жадно ощу¬
пывая мой неказистый, но неместный наряд. — Эта юбка
у вас китайская? Они говнисто шьют, но материя без хи¬
мии...
Нечего стесняться задавать вопросы, и я задаю:
— На этом месте когда-то жила моя знакомая. Люба
Юрченко.
— Она уже давно умерла, мы подворье оформляли как
ничейное... У нее ж ни родни, никого...
— А где ее похоронили?
— На кладбище, где ж еще? Не в мавзолее же... На
дальнем склоне. Но точно я не знаю. Что на дальнем —
знаю... Армянка покойная к ней ходила, а потом криком
кричала за свои больные ноги. Это ж сначала вниз, а потом
вверх. У нас же не жгут, всех в землю... Прямо горе...
Людям же строиться хочется, а места нету. Все захватили
мертвые.
— Это у нас-то места нет? — засмеялась я.
— Получается! — вскрикнула молодайка. — Стоймя
бы уж ставили покойников, как евреи... Или, на крайность,
363
сидьмя... А то ж навытяжку... В длину... Это ж большой
получается метраж.
Румяная женщина... Просто прелесть... Русская краса¬
вица... Наше достояние... Ну что ей на все это сказать?
— Спасибо, — говорю я. — Я схожу на кладбище.
— Убедитесь сами! — кричит она мне вслед. — Убе¬
дитесь!
Я с трудом нашла могилу Любы; собственно, я не на¬
шла и уже уходила, но шли мужики-копатели, поддатые,
добрые, они и показали место. И даже сказали какие-то
слова, что, мол, вполне хорошая была старуха, ну, с легким
прибабахом, так кто сейчас без него? Нормальных нет —
ваще\
— Я, например, — сказал один, — я, например, ку-
рей не ем. У меня сразу возникает в голове замечание, что
это как бы я сам... Ничего смешного! Я ж понимаю, что
дурь, а в момент еды не понимаю... А вот Коля... Коля бо¬
ится летать на самолете. Правда, ему не.приходилось... Но
мало ли... Но он боится... И у вас тоже есть свое, просто
можете не признаться... Чего это ради, скажете вы, я буду
им признаваться? Кто они мне? Правильно я говорю или
нет?
— Правильно, — засмеялась я. Потом я пожала их
каменные, грязные лапы, что их очень расположило ко мне,
и они даже предложили помянуть бабку Любу, если я вы¬
делю соответствующие средства. Я развела пустыми рука¬
ми, на «говенной юбке» карманчик тоже не оттопыривался,
взять с меня было нечего, кроме душевного разговора. Но
он, кажется, тоже иссяк, а на подъеме возникли люди с
цветами, солидные люди, не то что я, мужички мои шустро
пошли им наперерез.
Люба умерла уже пять лет как. Могилка ее была про¬
ста — холмик с конусом и крестик на нем шапочкой.
Я оборвала сорную траву, которая забивала стихийные ро¬
машки, удивилась собственной печали, объяснила ее тем,
что как бы пришла к собственной могиле, ведь как всякий
364
колокол звонит по тебе, так и чужие холмики стоят тебя до-
жидаючи. Ну как тут не запечалишься?
Возвращаясь, решила, что к живой Фале схожу тоже.
Это будет справедливо.
Попала я к ней накануне самого отъезда, все мои мысли
были уже дома, и я пришла к ней, ведя себя силой. Я зна¬
ла, что сын ее, Ежик, часто бывает в Москве, но не заходит
же! Шура сказала, что муж Фали умер от инфаркта, что
Фаля живет одна, не ладит с невесткой и балует деньгами
внука.
Она была суха и стара, майор медицинской службы. Но
обслуживала себя сама. В крохотной квартирке ее было
опрятно, на подоконнике вовсю цвели разные цветы.
— Из-за них поменялась на первый этаж, — сказала
она, — на первом всегда хватает напора воды.
Я спросила ее про внука. Фаля отогнула уголхкатерти и
достала фотографию, запаянную в целлофан. Она что, все¬
гда держит ее на столе или специально для меня положила,
чтоб не искать долго? Я надела очки и повернулась к све¬
ту.
На меня смотрел Митя.
— О Господи! — прошептала я. — О Господи!
— То-то! — ответила Фаля со странным удовлетво¬
рением. Она взяла у меня фотографию и сказала с ирони¬
ей: — Родился, и все пошло по новой...
— Что пошло? — тихо спросила я.
— Все, — ответила Фаля. — Такая ядовитая оказа¬
лась генетика... — Она посмотрела на меня с легким от¬
вращением. — Ты не знаешь, почему мне выпало любить
их без памяти? Не знаешь, за что мне этот крест — лю¬
бить то, что я ненавижу? А? Никто не знает... Этот, что на
небесах, ставит на мне эксперимент?
— Да бросьте, Фаля! — говорю я. — Митя был
чудный, его любить — счастье, а если у вас внук в него,
так это ж такое везение. Для меня Митя...
365
— Ах! Ах! — воскликнула Фаля. — Ты-то тут при
чем? Ты, что ли, за него замуж ходила? А пошла бы, мо¬
жет, еще и не то сказала бы...
— Сколько лет прошло! — рассердилась я. — Вы и
второй раз замуж сходили, второго мужа похоронили.
И снова она посмотрела на меня не просто, а странно.
Осуждала ли, что я приплела второго мужа? Или понужда¬
ла самой постичь эту ее странность — любить то, что не¬
навидишь? Но так не бывает, это чепуха, такого не может
быть именно потому, что быть не может.
И в то же время я как бы сразу и признала: может быть,
и так... Я стала искать в себе это же, даже глаза прикрыла,
ныряя глубоко и испуганно, и не то чтобы узнала в лицо эту
дикую помесь собственной любви-ненависти, а как бы по¬
чувствовала ее на вкус.
Я рассказала Фале, что была на могиле Любы и что
когда-то, когда-то встречалась с ней.
— А! — сказала Фаля равнодушно. — А! Она
была счастливая, она была сумасшедшая.
Нет, мне не хотелось с ней говорить о сумасшествии
Любы. Хотя, конечно, вопрос, кто лучше — сумасшедший
или убийца, — годился бы. И во мне даже что-то зако¬
лобродило, но я вовремя ударила себя в солнечное сплете¬
ние.
— Так что там у вас с внуком? — спрашиваю я.
— Он — Митя. Ты увидела это сама. А я уже нику¬
да не гожусь, чтоб что-то изменить...
— Как это можно изменить? — засмеялась я. —
Если внук похож на дедушку?
— С тобой трудно разговаривать, ты ничего не зна¬
ешь...
— Тогда расскажите, — сказала я.
— Твоя знакомая Люба была не просто безумная, она
была дура... Единственная женщина, против которой я ниче¬
го не имела. Знаешь, наложилась война, благодарность за
спасение Мити, то, что она сама отступилась без всякого...
366
— Со всяким, — сказала я. — Бабушка продала
свое пальто.
— А я — военный трофей... Привезла из Германии
хирургический инструментарий... Цены ему не было, а
сбыла его за бесценок... Чтоб Люба купила корову. Она
тогда и тронулась, увидела столько денег, а у нее их сроду
не было... Никаких... Вообще... Я их ей на стол вывалила
и говорю: выбирай — Митя или деньги. Она как закри¬
чит. И стала сметать их в подол. Потом, когда Митя на¬
шел ее по новой, он уже от нее отказаться не мог из жалос¬
ти... Ездил вроде тайком, а на самом деле у всех на виду.
Народ на меня пальцем показывал: вон идет беременная
дура, от которой муж бегает к ненормальной. Но у меня на
Любу зла не было, а вот против Мити стало запекаться.
Потом у него завелась инструкторша из райкома. Хромая
по природе: нога у нее была короче. На высокой левой по¬
дошве ходила. Других я пропускаю — мелочи... Всех
увечных на тело и на голову. Инструкторша же вонзилась в
Митю всем, чем могла. Я устроила Мите бенц. Тогда он
мне и сказал, что это у него не блядство, а глубочайшая жа¬
лость, до «сжимания сердца» к женщине, «которую Бог
обделил».
— Так что мне? — кричала я £му. — Глаз себе выко¬
лоть, чтоб ты пристал к месту?
А он мне:
— Ничего тебе не надо, Фалечка! Ты войной битая...
Это пуще...
Получалось, я проходила у него как инвалид войны.
Но мы тогда как бы и помирились. И я стала думать,
что это есть такое. Может, извращение? Брать то, что
хуже... Из жалости к этому худшему?..
И я простила ему райкомовку на толстой подошве, тем
более ее взяли на какие-то партийные курсы в Москву.
И знаешь, она после Мити очень хорошо вышла там за¬
муж. Дурак мой радовался: «Она, — говорит, — ничем
других женщин не хуже».
367
Знаешь, на чем я рухнула? На старухе, которая была
старше его на двадцать лет. Такая великолепная бабка, из
бывших аристократок. Манишки, лорнеты там всякие,
пузо, прилипшее к позвоночнику, копытки в походке в сто¬
рону, как у балерины. Там не то что изъяна, там малюсень¬
кого брака не было. Только возраст... За пятьдесят... Ты
вот сейчас в свои годы побежишь за мужиком, если он тебе
кончик из штанов покажет? А они с Митей сразу нашли
общий язык. Тут уже надо мной пошел общий смех. Имен¬
но надо мной, потому что ему все шло в масть... Его как все
любили, так и любили. Ему все было можно, а я — дура,
последняя в ряду. Вот тогда я и стала желать ему смерти.
А он возьми и заболей. И я даже виноватиться стала,
что болезнь у него по моему вызову. Слух тогда и пошел...
Ты же знаешь, что такое слух. Ваша сумасшедшая Зоя
просто кричала на всю улицу, будто Митя потом приходил
к ней и сказал.
Не буду врать... В конце концов случилось великое
облегчение. Великое. Я теперь точно знала, где он лежит и
что я всегда найду его на этом месте. Большое счастье для
женщины, у которой долгогуляющий муж... Награда, мож¬
но сказать... Но я, дура старая, забыла, чей у меня внук.
А теперь хоть караул кричи... Ты мне нужна...
3
Теперь главное — вдеть в ухо серьгу. И повернуться
этим помеченным ухом ко времени в расчете на то, что ча¬
совой, который стоит на вахте, в сумраке ночи не обратит
внимания на остальное: на мое вчерашнее, отяжелевшее
тело, на скарб всяческих разностей, которые я волоку с со¬
бой (женщина-волокуша), на всю мою нетутошность... Ча¬
совой должен клюнуть на серьгу...
В сущности, это главное — обмануть их раньше, чем они
выкинут меня из своего времени с моим вчерашним днем.
368
Мне надо найти в Москве Митиного внука Егора, ко¬
торый бросил университет, вынул из бабушкиного тресну¬
того кувшина заначку, отложенную ему же, дураку, на
джинсовый жилет с восемью карманами, не считая лож¬
ных, и исчез, оставив записку: «Уехал в Москву».
— Найди его, — сказала Фаля. — Вот тебе список
людей, у которых он может возникнуть.
Никто не обязан помнить подробности, которыми автор
обременил читателя в начале сочинения. Поэтому смею на¬
мекнуть на бидон, что стоит у меня на подоконнике. Мож¬
но в связи с бидоном вспомнить и мою вкусно пахнущую
дочь, в которой летуче проявился дяди Митин ген, но так
же легко и слинял. Так случается — входит в нас что-то
чудное, взбаламучивает внутренний порядок вещей и исче¬
зает, оставляя ощущение тоски, когда ты раззявил свою ва¬
режку на одно, а тем временем что-то другое — нужное,
важное — щекотнуло тебя легким перышком и исчезло.
Одним словом, сейчас как раз время бидона. Это сейчас
мне надо найти в Москве Митиного внука и вернуть его
бабушке, которая, что бы там ни говорили злые языки, не
убивала его дедушку, а просто люто ненавидела в нем то,
что любила. Так она сказала сама.
Время бидона — время распада всех связей, а род¬
ственных в первую голову. Давным-давно, охая над каким-
то очередным неожиданным разводом, я услышала от своей
подруги:
— Чего ты кряхтишь? Ну не выдерживает семья дав¬
ления системы, ну нет у нее на это сил!
И я вижу эту семью-бубочку, по которой катается-ва¬
ляется Система. Ну, закатись в щель, лапочка, ну, схоро¬
нись, где можешь, от колес времени.
Уже нет той системы, а семья-бубочка все трещит и тре¬
щит под ногами... Я думаю про этот треск и хруст в связи с
самой собой. Я не хочу искать Егора. На Мите кончилась
моя история. Я положила цветочки на его могилу. Я выр-
369
вала траву на могиле блаженной Любы. Я сделала больше,
чем, казалось, могло вместить мое сердце: я почти полюби¬
ла Фалю. Во всяком случае, поняла ее. Я сделала это за
маму, за бабушку, за всех, кто горячо, до крови, жил в том,
Митином времени.
Сейчас же мне нужно, чтоб кто-то понял меня в этом
моем нежелании связывать семейные концы.
Тогда зачем же я вдела в ухо серьгу?
Не хочу, а делаю? Или во мне этот вчерашний принцип
подает сигнал, что я как бы отвечаю за все?.. Господи, за
себя бы ответить, с собой бы разобраться.
Не буду искать Егора. Не буду. Он мне никто. Я не
видела его ни разу в жизни. Он стрельнул в меня глазом с
фотографии, ну и что? Мало ли...
Я меняю воду в бидоне, вода из крана бежит чуть-чуть,
обмелела Москва, выползла наружу грязными боками. Так
напоказ, распластанно лежишь после родов, ждешь, когда
подметут тебя синькой-зеленкой. И тебе до того все рав¬
но, до того пофигейно, что это можно принять за умиротво¬
рение и покой, но это не то... Просто вся вышла...
Не буду я никого искать. Не буду. Не в том я возрасте.
А однажды мне позвонили в дверь. И во весь могучий
рост встал главный вопрос современности: открывать или
не открывать? У меня нет глазка, и я кричу через защиту
убогих — дерматин и дээспэ. Я кричу тонко и пугающе:
— Кто там?
— Тетя! Это я. Егор. Ваш родственник...
Только дураки думают, что так не бывает. Только так и
бывает. В сущности, всегда случается то, чего ты ждешь.
И нет ничего сильнее тайных помыслов, ибо они-то сбыва¬
ются непременно. Я это давно знаю, поэтому боюсь пло¬
хих мыслей, которые в одночасье могут пронзить тебя на¬
сквозь до момента наслаждения. Эти мысли из самой твоей
требухи, которую ты вовсю окутал, спрятал воспитанием и
«понятиями». Требуха же без понятий. Зато она все про
370
тебя знает лучше, чем ты сам. И она готовит тебе на взлет
подлое желание, от которого ты, конечно, немедленно отре¬
чешься, но какой же рыбицей оно в тебе всплеснет, каким
всполохом взыграет, как покажет тебе твою же рожу, с
виду такого порядочного, такого хорошего человека. Бойся
требухи, в тебе лежащей.
Голос мальчика Егора за дверью, конечно, не тот слу¬
чай. Он из других, внутренних сигналов, которые назовем
«последней каплей». Ты сомневаешься, прикидываешь, хи¬
мичишь с весами жизни, ты, как плохой ученик, подгоня¬
ешь ответ — вот тогда и капает на тебя последняя тяжелая
капля... И ты делаешь то, что делаешь.
Явление Егора мне.
Я открываю дверь и заполошенно, забыв, кто я и где,
кричу:
— Митя-я-я!
Ведь была проделана фотографическая подготовка, уже
была явлена мне в доме Фали карточка.
— Митя! Митя! — кричу я, обнимая мальчика. Время
встало с ног на голову, и это я его сейчас понесу на руках,
как нес меня когда-то его дедушка к кадке с водой и назы¬
вал птицей.
Он покровительственно, но и нежно гладит меня по
плечу.
— Я Егор, тетя. Вам кажется. Я на деда не похож...
Я совсем другой...
— Заходи, — говорю я ему. — Я чуток спятила.
— А Ленке можно?
Она стоит возле лифта, девочка с рюкзачком. Такая
точно приезжала ко мне из Питтсбурга. У нее было семи¬
нарское задание — познакомиться с разными московски¬
ми филологическими людьми. Она положила на коленку
тетрадочку и стала записывать за мной открывание моего
рта. Я поняла, что самый большой ее враг — бойкость
моей речи, и пошла ей навстречу.
371
— У нас де-мо-кра-ти-чес-кие пе-ре-ме-ны. Пе-ре-
ме-на — это ког-да од-но ме-ня-ет-ся на дру-гое. На-
при-мер. Ши-ло на мы-ло.
Дальше пришлось объяснять ей уникальную неповтори¬
мость такого рода перемен-обмена, так сказать, нашу рус¬
скую ментальность, будь она проклята.
Девочка знания схватывает на лету.
— Достоевский! — кричит она, уловив где-то слы¬
шанное, что у русских-де не как у остальных.
Самое то. Шило, мыло и Достоевский. Я попала в зы¬
бучие пески. Спастись от объяснений русскости перемен
можно, только покормив ребенка. И я ее кормлю чем бог
послал. Ест с аппетитом. Потрясение — подсолнечная
халва нецивилизованным куском, шматом.
— Ковыряй! — говорю я Джейн.
— Ко-вы-ряй? — спрашивает она.
Я показываю, что это значит.
— О! — восклицает американочка.
Мы постигаем друг друга, ковыряясь в тунгусском ме¬
теорите полтавской халвы. Тень Достоевского обиженно
отступает.
Иди отсюда! — говорю я тени. Ты через раз сидишь в
кухнях, где русские объясняют жадному до всего американ¬
цу твою суть. Дай нам просто поесть халвы. Видишь, де¬
вочке нравится ко-вы-рять.
Достоевский, как человек культурный, линяет, а тетра¬
дочку с записями мы больше не открываем.
Так вот, Ленка у лифта — чистая питтсбургская
Джейн.
— Заходи, Джейн! — говорю я ей.
— Я Егор, а она Лена, — ласково поправляет меня
мальчик.
— Кто вас разберет? — отвечаю я.
Сначала они вдвоем толкутся в ванной... Ладно...
Пусть... Я, конечно, не понимаю, почему нельзя вымыть
372
руки по очереди, но у меня в ухе серьга. Она у меня ре¬
транслятор с «ихнего» на «мой». Серьга говорит: «Если
они останутся ночевать, стели вместе... У них так приня¬
то... И не спрашивай паспорта...» О Боже! Серьга, ты
спятила...
Они вышли из ванной с мокрыми чубчиками. Я гремлю
в кухне и рассказываю им про Джейн. Ту часть, что про
халву. И другую...
Дело в том, что с Джейн связана не только халва. Ког¬
да девочка маленьким гребешочком расчесывала свои
слабенькие волосики, уже собираясь уходить, взыграла
сентиментальность моей природы, которую я старательно
прячу, потому как стыжусь. Видите, как я написала? Гре-
бешочек, волосики... Это уже сыпь, и полагается прини¬
мать меры. И я гикнула что-то бодрое в виде «пламенно¬
го привета родителям». Девочка повернула ко мне свою
дитячью сытую мордочку (сыпь!) и сказала, что папа и
мама ее украинцы, что мама — «пароходская девочка»,
родилась в сорок пятом у родителей, которых угнали в
Германию, а они потом после войны развернулись, так
сказать, в сторону Америки. «Откуда же твоя мама?» —
спросила я. «Друшбовка», — ответила девочка. А когда
она ушла, я, моя чашки, скумекала, что нет никакой
Друшбовки, а есть Дружковка. Делают там посуду, и от
моих родных мест это рукой подать. Через «Друшбовку»
бегал тот самый паровозик, что возил Митю к Любе.
В «Друшбовке» жили какие-то дядья со стороны дедуш¬
ки, и всех их, в отличие от нас, сильно помолотила война.
Семьи почти не осталось. И хоть ничего я не знаю про
угнанных в Германию барышень из этого рода, можно ли
считать случайным такого рода попадание? Или глобаль¬
ная подлунная связь людей и земель не бывает просто
так, а дана нам для осмысления чего-то важного по от¬
дельности?
Эту недалеко закопанную мысль я и предъявила детям,
усаживая их за стол и гремя чашками.
373
— Вот из этой чашки она пила, — говорю я и смеюсь
над многозначительностью фразы. Не так надо было. Ина¬
че. Вот вам, ребята, чашки, из которых кто только не пил.
— А адрес у вас есть? — спрашивает Лена. — Ну,
если вам поехать или кому... Они вам там поставят?
— Не сомневаюсь, — быстро отвечаю я. — Просто
ни на грамм не сомневаюсь.
Но девочка сбила меня с панталыку. История для нача¬
ла чаепития как-то опасно крутнулась, разворачиваясь со¬
всем к другому. К ненавистной мне теме «трех хлебцев».
— Три' чашки, три хлебца — и гуд бай! — объясняла
мне тамошнее гостеприимство одна бурно путешеству¬
ющая подруга. И я ей, как Ленин, втолковывала о двух
культурах угощенья и приема — не плохой и хорошей, а
разных по происхождению.
Ни боже мой! Я и слова не сказала про это нынешним
своим гостям. Ни слова. Я выныривала из ситуации при
помощи неохватного нашенского любопытства.
— А что вы тут делаете? В Москве?
— Да так, — сказал Митя.
— Да так, — ответила Лена.
— Ну и хорошо, — согласилась я с этим как бы отве¬
том. — Давайте пить чай...
Я кормлю их. Митя ест жадно, хорошо — голоден! —
Лена же ковыряется и не ест ничего.
— Я не ем некошерного, — говорит она мне, прямо
глядя в глаза.
— Господи Иисусе! — кричу я. — Откуда же я зна¬
ла. Ты такая верующая?
— Да нет, — смеется Митя. — Это она так.
— Ничего себе так, — отвечает Лена, и встает из-за
*
стола, и приносит пачечку печенья, на котором черным по
Целому написано «Юбилейное».
— Оно кошерное, — говорит она.
Ладно. Пусть. Возможно, кондитерская фабрика уже
приняла иудаизм. Не мне их судить там или восторгаться.
374
На мне серьга. Я учусь не удивляться. Но неужели де¬
вочка — еврейка? И я пялюсь на ее высокие калмыцкие
скулы, на утопленные под крутыми надбровьями серые
блескучие глаза, на всю ее русскую «самость», которая уж
если есть — то есть, всплеснет, взбрыкнет, но проявится-
объявится непременно. С другой стороны, все может
быть... Полукровка, в которой победило одно начало, в
следующем поколении победит другое.
И вообще — не мое дело. Разберетесь, мадам, с вашей
собственной верой, которую вы во взрослом виде заглотну¬
ли до поперха, до задыхания, а пока приходили в себя, не
заметили, как церковь, куда тайком приходили плакать и
стыдиться, стала толковищем, где уже не поплачешь, пото¬
му что обтопчут.
Последнее время я хожу в церковь только в дни поми¬
новения. Я ищу в храме самое одинокое место, потому что
боюсь людских пересечений, ибо не нахожу в церкви благо¬
дати. И мне — к несчастью — не встретился священник,
которому я захотела бы исповедаться. У меня с Богом лич¬
ные, можно сказать, приватные отношения. «Бог! — кри¬
чу я ему поверх голов его клевретов. — Я желала сегодня
позора для русской армии в Чечне. Вчера и третьего дня я
желала того же. Может, мне честнее уйти к чеченам и при¬
нять магометанство?» — «Не морочь мне голову, — от¬
вечает Бог. — От твоих криков поверх голов у меня поме¬
хи... Хочешь к чеченам — уходи. Я-то тут при чем?» —
«Но как же? — говорю. — Я ведь православная!» —
«По этому вопросу — к попу Евдокиму». — «Не надо
мне твоего Евдокима. Что он — умней меня?» — «Ну,
тогда к Чубайсу». И я слышу Его смех.
Я захлопываю дверь в небо. Не хочешь разговари¬
вать — не надо. Но или я буду орать тебе непосредствен¬
но, или уйду в одичание. Нет для меня подходящего Евдо¬
кима Чубайса. Нет — и все.
Поэтому не мне судить этих пришлых чужих детей.
Прости, Господи, мою нищету и скудоумие перед малыми.
Они, как сказала бы бабушка, дратуют меня.
375
Я — хороший для этого объект. Можно сказать, сума¬
сшедшая в отказе. Это значит, что все считают меня нор¬
мальной, но я-то знаю...
На уголочке кухонного стола девочка щиплет печенье.
Указательным пальчиком цепляет с блюдечка крошки. Хо¬
чет же есть, балда! Хочет! Но терпит. И я не знаю, какая
степень голода собьет ее с толку.
Кроме высоких, можно сказать, божественных вопро¬
сов остаются низкие, бытовня, одним словом.
— Как у вас с ночевкой? — спрашиваю я.
— Можно, мы придем?
— Можно.
— Тогда мы придем.
Они сматываются по-быстрому, оставив мне два во¬
проса: не знаю, когда придут, и не знаю, как им стелить,
чтоб поступить грамотно.
В моем коридоре остается маленький рюкзачок. Я хо¬
жу вокруг этого овеществленного события и думаю: позво¬
нить Фале и сказать, что Митя нашелся? Или?
И выбираю или.
Я удивляюсь себе самой. Получается, что этим самым я
беру на себя всю эту историю и все последующие за ней,
пренебрегая тем, что где-то беспокоятся родители Мити, и,
может, в этот момент у матери Мити плохо с сердцем, и она
стучит горлышком флакончика от валокордина по ребру
стакана, а капли, как всегда бывает в этом случае, торопясь
на волю, устраивают у выхода затор... Что бы ей, сердеч¬
ной Митиной маме, перестать трясти рукой, а усмириться...
Но колотится, колотится флакончик.
Что-то меня в этих каплях, в тайном моем молении,
чтоб они накапались спокойно и точно в стакан мамы
Мити, сбивает с мысли.
Собственной дочери я выдала — по телефону — ин¬
формацию дозированно: мальчик и девочка остановились
проездом. Мальчик — наш дальний родственник.
376
— Ты когда-нибудь усвоишь понятие прайвести? —
закричала на меня дочь.
— По буквам, — попросила я.
— Нет, давай лучше я объясню на пальцах! — закри¬
чала на меня дочь. — Тебе не одолеть грамоты.
— И все-таки я буду постигать смысл по буквам, —
сказала я. — Целиком мне его не заглотнуть.
— Спрашиваю: надолго нашествие? — не унимается
дочь.
— Пока не кончится «Юбилейное» печенье, — отве¬
тила я и положила трубку. Пусть злится, пусть. Но ведь
много она слушать не захочет: по ее мнению, я всегда сооб¬
щаю много лишних подробностей, но как быть, если жизнь
только из них и состоит? Одна только смерть освобождает
от лишнего. Приходится выбирать — малу кучу лишнего
жизни либо сухое отработанное вещество смерти. Это я так
бы ей сказала, если бы моя дочь меня спросила. Но она не
спросила. Возможно, она тут же забыла о мальчике и де¬
вочке, как о чем-то лишнем...
А прайвести, моя дорогая, или как там это пишется,
идеальное выражение смерти. Торжество отделения.
Вечером они пришли уже втроем. Привели с собой
мальчика Сережу с серьгой в ухе. Моя мысленная серьга
звякнула в знак приветствия.
Сережа был совершенно раскован и сел на пол.
— Я же живу на вокзале, — объяснил он. — И сплю
на полу. У меня на жопе может быть всякое. Зачем же я вам
буду это переносить на диван?
— Может, помоешься? — предложила я.
— Телом я чистый, — ответил он. — Меня вокзаль¬
ные мойщики из шланга по утрам поливают. Такое шикар¬
ное получается шарко, будь здоров!
— Твои-то хоть родители знают, где ты? — спросила
я. — Митины вон не знают.
377
— Митя — это я, — пояснил Егор. — Тете так
нравится.
— Ты просто вылитый дедушка, — говорю я.
— Вот горе! — вздыхает Митя. — Я другого де¬
душку знаю. Того я даже на фотографии не помню.
— Ну, не ври! — говорю я. — У вас есть альбом.
— Может, и есть... Там много всяких родственников.
Разве упомнишь?
Сережа ночевать не собирается. Он дорожит вокзаль¬
ным местом. Уяснив это, я оставляю детей одних в комнате.
У мужа ночное дежурство, и я освобождена от потребно¬
сти оправдывать перед ним ситуацию. Дети говорят гром¬
ко, и я все слышу. Есть некая Вика и ее бабушка, которая
умрет тут же, как только Вика решит спрыгнуть с самолета.
— Не умрет, — говорит Лена. — Эти вечно умира¬
ющие старухи живее всех живых.
«Жестокая девочка», — думаю я себе.
— А если умрет? — говорит чистый телом Сере¬
жа. — Вика ж себе этого не простит.
— Человечество давно вымерло бы, если бы считало
себя виноватым за тех, кто умирает. — Это опять девочка.
«Митина девочка», — сигналит мне сердце.
— Надо сделать обманный ход, — предлагает
Митя. — Что-то повесить им на уши... У тети (у ме¬
ня) — муж врач. Попросим какую-нибудь болезнь напро¬
кат.
— Ну и кто ж Вику одну тут оставит? — отвечает
Сережа. — Ее здоровье застраховано всеми банками и си¬
нагогами. Я ей предлагаю простое дело: я за тобой поеду.
Я даже согласен, пусть мне сделают чик-чик...
— Привет! — кричит Лена. — Не стоит хера.
— Уехать охота, —* говорит Сережа. — Если она на
мне женится, то мы сгоняем в Израиль, а оттуда куда-ни¬
будь подальше...
— Ты дурак! — кричит Лена. — Оттуда никуда.
Сейчас здесь возможностей больше. И учат тут лучше.
Это стопроцентно.
378
Я успокаиваюсь. Все просто. У Сережи проблемы с
отъезжающей в Израиль девочкой, но он мне — никто,
значит, я про это не думаю. У отъезжающих евреев девоч¬
ка Мити взяла поносить «кошерность». Или для экзотики.
Или просто так. Но она мне тоже никто. И я не буду брать
в голову ее проблемы.
Мальчик же Митя — он мне как раз кто... Но он мне
нравится. У него хороший аппетит и хороший нрав.
В сущности, все замечательно. Я не люблю оставаться
дома одна ночью, не люблю и не буду. Рядом будут дышать
дети.
Дети ушли провожать Сережу и не вернулись.
Рюкзачок увяло лежал на домашних тапках моего мужа.
Из глубины памяти вышли и встали все ночи страхов
моей жизни. Оказывается, их набралось приличное количе¬
ство у немолодой женщины, которая не была, не состояла,
не привлекалась.
Очень хотелось, сосредоточившись на собственном
страдании, этих детишек переплюнуть. В смысле — мне
бы ваши заботы. Не такое видела, не такое чувствовала, не
в такое вляпывалась.
Я пыталась высадиться в свои собственные шестнад¬
цать — семнадцать лет. У меня тогда тоже была поездка
в Москву к тете на каникулы. Я спала на гипотенузе девя¬
тиметровой комнаты, а на катетах спали тетя и ее домра¬
ботница. Треугольники «квартиры» являли собой гостиную,
столовую, прихожую и кладовку сразу. Я лежала поперек
и осмысляла тетин принцип: девушка, окончившая институт
с отличием, обязана иметь домработницу. Иначе зачем про¬
ливать чернила? Она не была мне родной теткой, она была
ростком совсем другой ветви рода, в котором ценились со¬
всем другие вещи. Наличие домработницы, ежегодная по¬
ездка на курорт, строгое неукоснительное ношение туфель
на высоком каблуке, невозможность иметь ничего общего с
мужчинами «из простых» и др., и пр. Я спала на гипотену-
379
зе, ногами к домработнице Стюре. Уже не сообразить,
сколько ей лет, но она до сих пор живет в той самой гипоте-
нузной комнате, которую ей щедро оставила тетка, когда
наконец нашла мужчину «не из простых», а из высокопар¬
тийных, и переехала в режим, при котором Стюра как дол¬
жность полагалась по штату. Но эта, что спала на катете,
не годилась, требовалась другая выучка. Царство небесное
им всем. И дяде, и тете. Они погибли в автокатастрофе, а
вот Стюра все еще жива, и я хожу к ней на Пасху. Она хо¬
рошо помнит прошлое, и чем давнее история, тем она ее по¬
мнит лучше. Каждый раз она напоминает мне, что у меня
были деревенские пятки, которые она наблюдала из своей
постели целую неделю. Господи! Каким же забитым и глу¬
пым существом я тогда была. Я туда-сюда ездила на метро
и с тех пор, можно сказать, наизусть знаю старые станции.
Я соврала тетке, что была в Мавзолее, — я там не была.
Ни тогда, ни потом. Но сказала, что была, и даже приняла
соответствующее выражение.
Так вот... Это единственная вольность моих шестна¬
дцати лет.
Летали ли тогда туда-сюда девочки с рюкзачками?
Вряд ли... Но если что и было, оно не могло в меня попасть
и существовало в другом пространстве, в другой системе
координат, где гипотенузы и катеты просто иначе выглядят.
И ты их сроду не узнаешь в лицо, явись они тебе.
А тут... Пришли дети, а потом исчезли, оставив мне
беспокойство. Но если они готовы запросто перемещаться
по частям света, то что им Москва? Сидят где-нибудь на
полу Курского вокзала, завтра их помоют из шланга.
А потом, глядишь, они смоют эту воду в Средиземном
море.
Дети не пришли ночью. Не пришли на следующий день.
И на следующую ночь.
Я полезла в рюкзачок.
Початая пачка печенья. Майка с буквами неведомой
мне азбуки. Детектив на английском. Карта Москвы. Два
380
комочка трусиков. Бумажка с двумя телефонами. Один из
них — мой собственный.
И ничего больше. Понятно, что такое добро можно
оставить где угодно.
Я набрала неизвестный мне номер с бумажки и, чтоб
никого не испугать, вежливо так сказала, что Лена забыла
у меня сущую ерунду, но мало ли...
— Какая Лена? — спросили меня.
Я положила трубку. Я не знала, что ответить незнако¬
мой женщине.
У современных телефонных прибамбасов есть одно уме¬
ние — определять номер телефона тебе звонящего. У ме¬
ня такого нет, и я, что называется, не брала это в голову.
Но меня определили. Суровый мужской голос категориче¬
ски предупредил меня, чтобы я никогда — слышите, ни¬
когда! — не спрашивала по нему ни Лену, ни черта в сту¬
пе. И трубка была брошена.
В хамском тоне содержалась информация: грубиян знал
Лену, но одновременно знать ее не хотел.
И я набрала номер снова.
— Стойте! — закричала я ему. — Дети ушли от
меня. От меня! Скажите, где они, и я забуду ваш телефон
навсегда.
Он послал меня матом. Я взвизгнула и сказала, что от¬
правляю его туда же. С эскортом.
— Они улетели, — сказал мне мужчина, и в его голо¬
се уже не было никакого хамства. Это был голос измучен¬
ного человека. — Они улетели домой, — повторил муж¬
чина и положил трубку.
Если б он еще раз меня послал, я бы позвонила ему еще
и еще раз. Но тон его голоса... Он был мне в пандан, он со¬
впадал с моим беспокойством — беспокойством втравлен¬
ного в ненужное ему дело человека. Было во мне и чувство
вины перед Фалей... И злость на себя. В том же телефон¬
ном голосе было нечто большее. Или я ни черта не понимаю
в жизни.
381
Я сидела над рюкзачком, эдакая клуша, побившая по
дури собственные яйца. И думала плохое о молодых. «Ка¬
кие сволочи! — думала. — Как в анекдоте: ни мне
здрасьте, ни тебе спасибо. И дочь у меня такая же. Прай-
вести! Прайвести! Лучше бы научилась настоящий борщ
варить, а то разгоняет по кастрюле эту чертову “Галину
Бланку”...».
Я сунула рюкзачок на антресоли. В эту жизнь я уже не
прорасту. Но я ведь всегда это знала.
Будь здоров, новый Митя! Вряд ли свидимся...
Неожиданный звонок настиг меня через несколько
дней. Звонил мужчина с тем странным голосом горя и раз¬
дражения. Я подумала: ишь, запомнил телефон. Но тут же
себя окоротила. Его телефон я помнила тоже.
— Знаете, — сказал он, — я хотел бы с вами встре¬
титься. Только давайте точно определим место. Самое про¬
стое место. Памятник Пушкину...
Он представился Михаилом Сергеевичем и почему-то
сильно за это извинялся.
— Ну и что? — сказала я. — У меня маму звали
Надеждой Константиновной.
Я приготовилась к рассмеянию, но фокус не удался.
Михаил Сергеевич сокрушенно покачал головой, сочув¬
ствуя моему несчастью.
«Ну что ж, — подумала я, — люди всякие нужны,
люди всякие важны...» Я ждала главного: зачем? В конце
концов, прервав скорбно-странную паузу по поводу фа¬
тальности имен и отчеств, я сказала:
— Я вас слушаю, Михаил Сергеевич.
— Видите ли, — сказал он. — Я не знал, что вы
родственница Жоры. Я был груб, а у вас ведь естествен¬
ное беспокойство.
Он кашлянул как-то в сторону, прикрываясь рукавом, а
я подумала: что-то не то и не так. Как — не знаю, но так
382
не поперхаются взрослые мужики, если они невиноватые и
непросящие. Грубость по телефону, увы, не повод для
вины, а просить ему меня как бы не о чем.
Но дальше стало хлеще. Он стал подробно рассказы¬
вать, как они учились вместе с Ежиком. Как потерялись во
времени, а потом нашлись. Ездили вместе в Болгарию, ког¬
да дети были еще маленькие. Планировали общую Турцию
уже в наше время, но случилась беда. У жены Михаила
Сергеевича Тани обнаружили рак и срочно положили на
операцию. Таня оказалась духом слабой и сдалась болезни
без всякого сопротивления. «Готовность умереть номер
один, — так назвал это Михаил Сергеевич, — хотя слу¬
чай по медицине заурядный, она, что ли, первая будет жить
с грудным протезом?»
Вот тут и позвонил им Жорка. Спросил, не примут ли
они на недельку Егора. Конечно, надо было сказать все как
есть, но Таня взяла клятву: никому не говорить о ее болез¬
ни. Такой бзик. Своих мальчишек — «у меня двое, восем¬
надцать и десять» — он отправил к своим родителям в
Кинешму. Из Павлодара приехала теща. «Приехала с
воем. Надо было выгнать сразу, для Тани мать — проти¬
вопоказание».
Но теща тут же решила, увидев, что Михаил Сергеевич
как бы и не рад ей, что у него кто-то есть. Потому, мол, и
детей отправил. Получалось, что Егору как бы и неплохо
приехать в такой ситуации.
Теща ночью пошла дежурить в больницу, Тане делали
первый сеанс химии. У Михаила Сергеевича от всего была
такая депрессия, что он слинял к приятелю, жена которого
уехала на дачу. Они хорошо погудели вдвоем, два затас¬
канных жизнью мужика, а Егор возьми и приведи каких-то
девок — или девку, он не в курсе. Утром те ушли, а следы
женского пребывания оставили — волосы в ванной, еще
какую-то херню, которую вынюхала вернувшаяся из боль¬
ницы теща. Михаил же Сергеевич пришел утром от прияте¬
ля и лег, как срубленное дерево. Оправдаться не смог.
383
«Я лежал на диване с этими самыми чужими кудрями.
В запахах дезодорантов я ничего не смыслю. Они мне на
один вкус». Теща же — надо же, какой сволочизм ситуа¬
ции! — товаровед как раз по парфюмерии. Она все «вы¬
нюхала» и бегом к Тане.
— Она что, сошла с ума? — спросила я.
— Нет, — ответил Михаил Сергеевич, — у нее
смысл жизни — доказывать всем и каждому свою право¬
ту. По любому вопросу, даже не требующему доказа¬
тельств. Солнце идет с востока, потому что она так знает.
Каждый раз объясняет: не забывай, солнце идет с востока,
у вас по утрам будет жарко. То, что напротив нас стоит вы¬
соченная башня и мы солнца не видим вообще, — не важ¬
но. Я, по ее знанию, — ходок и хитрован. Она все время
ругает Таню, что та мне верит, тогда как у меня на лице на¬
писано. Но у нее никогда не было ни одной зацепки, чтоб
доказать наконец свою правоту. А тут — на тебе! Я по¬
бежал за ней в больницу, она меня стала позорить на весь
этаж. «Женщины, — кричала она, — вы тут теряете свое
тело, а эти кобельеро на ваших же постелях! Женщины!»
Самое невероятное, что все там ржали как кони. Меня
это просто потрясло. Несчастные, перевязанные, умираю¬
щие, ждущие своего часа бабы хохотали, как на концерте
Хазанова. Все! Кроме Тани. Таня решила, что смеются над
ней. В общем, это так больно и страшно, что попадись мне
этот сопляк, я бы его удушил. Потом позвонили вы.
Оставим в стороне естественный вопрос: зачем мне это
нужно? Чужое подробное горе. Ну с какой, скажите, ста¬
ти?.. Об этом типе людей, ввергающих вас в варево неизве¬
стных жизней, я так много знаю, что пора бы и поделиться,
что я и сделаю со временем непременно. Я буду изгаляться
над чужими печалями, и вы не дождетесь моего нежного
сердца. Сейчас же... Сейчас... Что-то было не так.
Половинки не сходились. Дети, которые были у
меня, — приличные негодяи, так как исчезли, не сказав
«до свиданья», но вообразить оргию с ними я тоже не мог-
384
ла. Михаила Сергеевича особенно заинтересовала «кошер-
ность» Лены.
— Все сожрали, — сказал он. — И спали они друг
с дружкой, точно. Теща не знает, а я позже нашел презер¬
ватив. Полный под завязочку.
— Давайте без подробностей, — сказала я. —
Я дама старорежимная.
— Вот и теща мне кричит: «В наше время! В наше
время!»
Мир без оттенков. Если ты не умеешь непринужденно с
первым попавшим мужчиной говорить о контрацепции, то
ты дура райкомовка, у которой очень часто половое разви¬
тие заменяли чужие персоналки. О, как они обогащали
скудный личный опыт! Как беспредельно расширяли гори¬
зонты возможностей невозможного наслаждения.
— Куда мы с вами пойдем дальше? — спросила я и
добавила свое: — Это не похоже на Митю.
— Какого еще Митю? — не понял Михаил Сергее¬
вич, и я вдруг почувствовала, что ему безумно, невероятно
хочется, чтоб все это оказалось недоразумением. Ведь мог
же случиться испорченный телефон и мы имеем дело с раз¬
ными мальчиками.
Не было мальчика. Не было девочки. Не было тещи.
Не было операции. Нету меня... Как мне хотелось подыг¬
рать ему, облегчить груз, и я сказала:
— У вас своих проблем полно. В конце концов, маль¬
чик взрослый, если у него, как вы говорите, под завязочку...
Это я дернула себя за серьгу, о которой, считай, забыла.
И потом, мне как-то не нравилось быть в глазах мужчины,
пусть даже чужого, тещей. Нечего, господа хорошие, нече¬
го! Не сбросите с моста!
— Проблем, конечно, более чем... Таня совсем плоха,
она умирает не от операции — от характера, от испуга...
— Но ведь есть чего испугаться, — сказала я.
Мы шли вместе по Страстному, хотя все уже было как
бы сказано. Я не знаю, о чем думал Михаил Сергеевич, я
385
знаю, что я думала о себе. В конце концов, даже если ты
думаешь о рыженькой дочери Клинтона, это все равно о
себе. У тебя, мол, дочь куда красивее, но с дурным харак-
тером, что есть справедливое возмездие за красоту. А не¬
казистые — они чаще добрые, вот ты сама (в смысле я) ни
то ни се. Это совсем плохо, так как не на что опереться в
себе самой...
Впереди маячил рыбный магазин, и я мысленно уже
была в нем, уже купила живую рыбу и уже готовила ужин.
— Я зайду в рыбный. — Я произнесла это категори¬
чески, как и должно говорить о важном — моменте покуп¬
ки пищи.
Я выхожу с полиэтиленовым пакетом, в котором отча¬
янно бьются за жизнь карпы. Всегда, всегда... Суп для жи¬
вого из чьей-то смерти. Ну так выпусти их, дура! Если та¬
кая добрая! Куда? На землю! Михаил же Сергеевич все
идет и идет за мной следом, уже вниз к яме Трубной, где
стоит мальчик со шпагой, долженствующий изображать
остервенелость в нашей всегдашней борьбе. Мы безгранич¬
ны в своей свирепости ее изображения. А вот этот легкий
мальчик — нет. Его просмотрели, и он утешает меня в
скорби по поводу гибели карпов и возвращает меня к Мите.
То есть к Егору. Но все равно к Мите.
Потому что без всяких на то оснований я утверждаюсь
в мысли: ночью в квартире Михаила Сергеевича моих де¬
тей не было.
Это не объяснить словами. Но как это говорится...
У первого впечатления второго шанса нет. Так вот — у
меня был внук Мити... Ну, не способен он сожрать всю
еду и бросить под диван презерватив. У него на это нет
природы. Он — другое дерево.
— Скажите, — спрашиваю я Михаила Сергееви¬
ча, — я запамятовала: вашему старшему сыну сколько?
— Уже восемнадцать, — отвечает он. — Здоровен¬
ный амбал.
— Он у вас где?
386
— В Кинешме.
— Кинешма — это раз плюнуть...
— В каком смысле?..
— Во всех, — говорю я.
Он плохо соображает, этот всю жизнь подозреваемый
мужчина. Просто совсем тупой. Но я не буду ему подска¬
зывать. Тупые, как правило, драчливы — двинуть может.
Я дернула серьгу, ах, умна, ты, мать, сил нет...
— Звоните, если что, — сказала я ему и пошла по пе¬
ресеченной местности бульвара к метро. Я уходила катего¬
рически, не оставляя возможности идти за собой.
Дальше было так...
Позвонила какая-то женщина и сказала, что если я хочу
передать Шуре лекарство, то она уезжает вечером. Поезд,
платформа, вагон... Зовут ее Мария Ивановна, она полная,
на голове парик пятьдесят восьмого размера.
— Хорошо. Спасибо. Я приду, — ответила я, удив¬
ляясь опознавательным знакам. Стала бы я о себе такое?
Что-нибудь элегантное набуровила бы — типа «на мне
косыночка беж и книга Мандельштама (Кристи, Лимоно¬
ва, Волкогонова, Губермана, Христопродавенко)» в зави¬
симости от уровня элегантности. Эта же — «Я полная, и
на мне парик», просто апофеоз самодостаточности.
Она стояла — большая на зеленом фоне вагона, над
париком трепетали оконные занавесочки поезда. Рядом,
как свой, родной, а не как попутчик, стоял мальчик Сергей
из той самой детской компании. Ростовским женщинам не
надо задавать вопросов. Они сами скажут. Их просто надо
слушать.
— В вашей чертовой Москве, — сказала эта, — ва¬
рится беспорядок для всей страны. Я бы закрыла к такой-
то маме эту кастрюлю раз и навсегда. Я привезла ребенка
(тычок в сторону Сергея), чтоб ему оформили визу в Изра¬
иль. Я поправилась кил на десять — это точно, потому
что на нервной почве я много ем. Я должна все время же¬
вать, чтобы выжить, так у меня реагирует на стресс не-
387
рвная система. А потом опять и снова, но уже билеты на
самолет, и каждая тварь хочет на лапу. Но ребенок не умеет
дать. Он не обучен этому. Он уже почти знает буквы, но
еще не читает. Что называется, еле-еле... Но теперь они
мне там, на своем Сионе, уже не скажут, что я не помогла.
Ребенок им расскажет, как я полнела на глазах народных
масс. Эти люди... Они что — спятили? Их там всех ждут
или? Наш случай особый. У нас любовный роман. Ромео и
Джульетта. Дети выросли вместе, а сволочь жизнь разво¬
дит их по разным странам. Барышня — моя племянница, а
его мама— (тычок в Сергея) — моя заведующая. Я де¬
лаю хорошо сразу двум семьям и себе тоже, хотя знаю: не
делай добра — не получишь зла. Но это правило для
очень умных, а я деловая... Я знаю и вашу сестру, она у
нас в ателье шила пальто еще тогда, когда это делали и для
простого народа. С тех пор здороваемся, как люди, а поче¬
му нет, если живем рядом?.. Вы старшая сестра? Все равно
видно, хотя вы и очень стараетесь выглядеть на меньшее...
А мне сколько дадите? Я знаю, дадите пятьдесят, думая,
что мне шестьдесят, а мне тридцать восемь... Можете не
проверять. Вы передаете лекарство, не знаю какое, но у нас
за деньги все есть... Сейчас сядем и поедем. Мне молодой
человек уступил нижнюю полку, я не успела рта открыть.
Разумный эгоист. Он понял, что толчком вагона меня мо¬
жет сверху сбросить... Он увидел и все сразу понял, гов¬
нюк такой... Можно же было как-то красиво, не сразу, не с
перепуга...
— Ты меня узнаешь? — спросила я Сергея, когда го¬
ворящая машина отвлеклась на роскошный чемодан, про¬
плывающий мимо на колесиках.
— Так вот же нет! — воскликнул Сергей. — Смотрю
на вас, а вспомнить не могу, где я вас видел!
— У меня дома, Сережа, — сказала я. — Ты был с
Митей, то есть Егором, и Леной. Они пошли тебя прово¬
жать и не вернулись...
— О! — закричал Сергей. — Точно!
388
— Так куда вы тогда делись?
— Мы с Гошкой остались на вокзале. Кайфом посиде¬
ли... А Ленка ушла к знакомому.
Мария Ивановна уже внимательно нас слушала, но мне
нужно было задать еще один вопрос:
— Сергей! Вы ночевали когда-нибудь в квартире не¬
коего Михаила Сергеевича?
— Я лично? Никогда... Я же вам говорил, что жил на
вокзале. А на другой день мы вдруг поняли, что зря сидим
в Москве... И рванули назад.
— Идиоты малолетние, — с нежностью сказала Ма¬
рия Ивановна. — Недоумки. Расскажи про своего при¬
ятеля.
— Да ладно, — грубо ответил Сережа. — Кому это
надо?
— Дурачок! — добродушно сказала Мария Иванов¬
на. — Опыт — он что? Рассказанные случаи. Так вот
случай. Один малохольный парень взял за себя чужую бе¬
ременную. Ничего особенного, если не считать родителей
малохольного.
Я смотрю на Сережу. Он смотрит в небо. В небе само¬
летный след. Нежное кружево скорости и силы.
— Я его знаю? — спрашиваю я Сережу.
— Ну! — отвечает он.
— А ее?
Сережа смеется.
В осадке осталась малость. Оказывается, Фаля патро¬
нирует Митю и Лену.
Шура сломала ногу. Конечно, она меня ни о чем не про¬
сила, сломай она шею — не просила бы тоже. В ее пред¬
ставлении так выглядит гордость. Это только кажется, что
у понятия есть строгое определение. Ничего себе...
Я поехала, хотя не звали.
389
Потом я поняла, что та половица, за которую зацепи¬
лась носком Шура, вздыбилась не случайно. Великий ма¬
гистр пасьянса человеческих отношений нажал легким ка¬
санием ноту, ответственную за состояние деревянных полов
в квартирах. Пробежала легкая дрожь по паркетам мира,
брезгливо перекинулась на досочный настил, и, невидимая
глазу, выгнулась нужная спинка доски.
Я должна была приехать.
В Ростов я еду мимо родных своих мест. В окно зале¬
тает мой воздух. Он надул мои легкие первым криком, и те¬
перь, где бы я ни была, я всегда улавливаю горечь угля, ра¬
створенного в густом настое кукурузного поля, и сухой
треснутой корочки земли. Тут ничего не поделаешь. Из них
сложена формула моей крови.
Зачем я ломлюсь в дверь, открытую лучшим афористом
мира, который давно сказал про дым Отечества? Ужас
сколько людей знает это наизусть. Вопрос в другом: помог¬
ла ли кому мудрость другого?
Все знание было выдано нам сразу и оптом. Считай, за¬
даром. Но подлость в том, что дармовой товар для человека
не ценен. И каждый сам приобретает знание по дорогой
цене. Купит — и удивляется: «Так у меня ж такое в гарде¬
робе сто лет лежало!» И сравнивает и додумывается до
простой мысли: если это уже однажды выбросили, так, мо¬
жет, оно вообще ни к чему? И все по новой.
Интересно, кто победит? Бесстрастное знание или уп¬
рямый человек?
Куда ведет меня внутренний голос-придурок? Не хва¬
тало мне впасть в разъяснение сути вещей, которую я сама
не знаю, а только тщусь понять. Мне ведь предстоит рас¬
сказывать дальше историю, спровоцированную той самой
дурой половицей.
Шура была мне рада, но тщательно скрывала свою ра¬
дость. Еще, мол, чего!
390
Я стала ей рассказывать про Митю-Егора, но Шура
резко меня остановила.
— Не хочу знать! — сказала она. — Зачем мне чу¬
жие люди?
— Но ты же смотришь сериалы, — засмеялась я. —
Куда чужее...
— Это кино, — сердито сказала Шура. — Ия за¬
ранее знаю, что все придумано. А ты мне будешь сочинять
про людей живых, запутаешься, собьешь с толку... — По¬
том она как-то странно замолчала, как будто забыла мысль.
Но нет, не забыла... — Не вмешивайся в жизнь людей...
— Так не бывает, — засмеялась я, — мы только
этим и занимаемся.
— А я не хочу, — твердо сказала Шура.
Я сказала ей, что никакая это не доблесть, что во вме¬
шательстве состоит половина человеческого общения, а
оно, как известно, — радость, и ничего тут не поделаешь,
вмешиваться — значит любить и не быть равнодушным...
Ну, в общем, победить меня в слове не так-то просто. Тем
не менее я не рассказала ей ни про Михаила Сергеевича
(а очень хотелось), ни про говорливую Марию Ивановну,
которая если уж вмешивается, то вмешивается... Спросила
про Фалю, как там старуха.
— Позвони, — сказала Шура. — Она знает, что ты
приехала.
Фаля сказала:
— Приходи...
Когда я засобиралась, Шура усмехнулась:
— Она переживет нас всех.
В квартире Фали не было никаких следов ни внука, ни
чужой девчонки. Ничто не было сдвинуто, стронуто с наси¬
женного места, что само по себе чудно, если сюда приходят
молодые. Фаля поставила чайник. Пока она стояла повер¬
нувшись к плите, я увидела проплешину у нее на затылке,
увидела, как искривилась ее спина и усохли лодыжки. Как
391
теперь со мной бывает, чужая старость царапнула остро,
как мороз с тепла. «Ты на входе в нее, дорогая, — сказала
я себе, — оттого и щиплет».
— Как Ежик? Как Митя? — спросила я.
Она развернулась быстро, и это ей что-то стоило: я уви¬
дела, как боль отразилась у нее на лице.
— Какой еще Митя? — прошептала она.
— О Господи, прости! — засмеялась я. — Он так на
него похож, Егор, что я мысленно называю его Митей.
— С чего ты взяла? — ответила Фаля. — Дмитрий
был пустой человек, бабник, Егор, слава богу, другой...
— А как Лена? — спросила я.
— Какая Лена? — рассердилась Фаля. — Опять
путаешь. Лена была у Мити... Его последняя историческая
находка... У Егора нет никакой Лены. Ты не пьешь ноот¬
ропил? Тебе надо, такие заскоки памяти.
Фаля ничего не знала. Что ж мне тогда молотила эта
дура Мария Ивановна на вокзале? Но там ведь был и
мальчик этот, Сергей. Заскок у меня с памятью? Или у них
с разумом? Или мне морочит голову Фаля? Но на несдви-
нутость предметов с места я ведь сама обратила внимание.
— Значит, я что-то путаю, — пробормотала я. —
Но в Москве Егорушка что-то говорил о какой-то Лене,
ну, я и взяла в голову...
— Он из Москвы тогда быстро вернулся, — сказала
она. — И деньги вернул. Но я ему этого не простила. Что
взял без спроса. Так ему и сказала. Не прощу. Говоришь,
Лена? Нет, такой девочки не знаю.
— Значит, я в маразме, — отвечаю я, а Фаля идет к
раковине, и я понимаю, что так она прячет свое лицо... Мне
бы сейчас туда, в мойку, чтоб увидеть, какую тайну скры¬
вает старая женщина. Пусть даже не тайну... Хотя бы эмо¬
цию...
Но не дождалась. Фаля вернулась за стол бесстрастной
и вконец усталой.
392
Я задала приличествующие случаю вопросы о здоровье,
о Ежике. Фаля сказала, что Ежик весь ушел в строитель¬
ство домика на шести сотках, «опростел», «видела бы ты
его ногти», жена его в новую жизнь вписалась хорошо,
«кто бы мог подумать, что финансово-экономический —
самый тот институт, который следовало кончать. Сейчас
она на каком-то важном съезде предпринимателей в Пе¬
тербурге».
— Закапывают коммунизм, — закончила она, и я не
могла понять, чего в этих словах больше — издевки, удов¬
летворения или скорби. А может, это была триада чувств,
старуха передо мной сидела не простая.
— А чем занимается Егор?
— Валяет дурака. У нас уговор, он звонит мне в один¬
надцать вечера... Чтоб я знала, что он дома...
«Как будто, — подумала я, — нельзя позвонить с
другого телефона».
Фаля засмеялась:
— Я не идиотка. Не думай. Время от времени я его
проверяю. Звоню и говорю, что забыла что-то сказать...
Возвращаясь от Фали, я тщетно пыталась найти рабо¬
тающий телефонный автомат. Не нашла. Пришлось идти на
почту. Я хотела позвонить Мите. Я хотела его увидеть.
В конце концов, я имела на это право как невольная соуча¬
стница не совсем ясных мне обстоятельств.
Возле междугородних кабин стояла «кошерная» девоч¬
ка Лена. Хотя на ней было балахоновое платье, которое
вполне сюр, бурые, неровные пятна на лбу и по всему окру-
жью лица не оставляли сомнений: она была беременна.
Тягучая тоска-жалость накрыла меня всю без остатка.
Наверное, там, в ней, тоске-жалости, я даже повыла и по¬
плакала над всем беременным миром сразу. Я ведь давно
не прихожу в умиление от туго обтянутых, или скрытых в
пышных, от самой груди, складках, или спрятанных в мод¬
ные стильные беременные одежды животов-домиков...
Каждый раз... Каждый!.. Я боюсь... Как сказала бы моя
393
умная дочь — у меня невроз навязчивых состояний.
И, видимо, это правда. Я боюсь за них, беспомощных,
обезоруженных своим положением женщин. Идиотия на¬
шей жизни, русский вариант жестокости может осиротить
их младенцев, и те будут царапаться и пробираться сами с
каким-нибудь конопатым повелителем мух.
Это конспективно, приблизительно, что я могу сказать
о беременной нашей земле.
Я отрыдала свое в своем личном «бункере», потом раз¬
двинула его стены и подошла к девочке в пятнах.
— Привет, Лена! Ты меня помнишь? Ты забыла у
меня рюкзачок.
Девочка заметалась на крохотном пространстве, кото¬
рое занимала она вместе со всей той будущей жизнью, ко¬
торую я успела уже оплакать. Но сейчас, «в людях», я
была уже другой, во мне набрякли чувства и мысли челове¬
ка общественного, социального, даже, можно сказать, за¬
щитника полей, детей и пашен. А также кокошников, буб¬
нов и мацы.
— Здравствуйте! — тихо ответила Лена.
— А я как раз хотела звонить Мите, извини, Егору,
чтоб узнать, как вы тут. Вы так неприлично тогда смылись,
что, не будь я доброй тетей...
— Да, — тихо сказала Лена. — Неудобно получи¬
лось, извините... — Она кинулась к освободившейся ка¬
бине и так громко закричала кому-то, что он должен при¬
ехать, должен, что она за себя не отвечает...
Вышла из кабины вся серая, скукоженная, ей явно было
нехорошо, и я просто подхватила ее на руки.
Потом мы сидели на лавочке в каком-то дворе, и я была
тем самым «попутчиком в поезде», которому легче расска¬
зать все-про-все, чем родной маме. Да нет! Маме это, как
правило, вообще не рассказывают.
...С Гошкой (моим Митей, как я поняла) она дружила в
школе, но именно дружила, потому что он без памяти был
394
влюблен в одну дуру, которая приехала из Чечни, он за нее
делал все письменные, а она вся была как замороженная
рыба, и ей не нужны были ни школа, ни Гошка, вообще
никто, у нее все погибли, и она, можно сказать, умом тро¬
нулась. Но дядя у нее — крутой, он приказал учителям ее
учить, иначе обещал подорвать школу. Ее ненавидели за
эту угрозу, хотя не она же грозила. И ее родителей убили
мы же! От всего этого она была как треска в холодильнике,
а Гошка на нее дул горячим ртом.
Вскоре эта Лия поехала на каникулы, и ее убили, Гошка
ездил хоронить, вернулся нечеловеком. И она, Лена, его
так жалела, так жалела, как раненую собаку. «Это много
сильнее, чем жалеть людей», — уточнила девочка.
Потом приехал Ленька, его друг. Они таскались втро¬
ем, но Гошка часто линял, раз — и нету его. А Ленина
мать после скоропостижной смерти мужа ушла работать в
круглосуточный магазин на вокзале. У них там в подсобке
койка, и бывшие женщины НИИ спали на ней по очереди,
благодаря судьбу за везение: НИИ горели синим пламе¬
нем.
Однажды они остались одни дома, Гошка куда-то
смылся, а Ленька ей сказал: «Хочешь, проведем экскур¬
сию не выходя из дома?»
Ну, не то чтобы она была бестолочь и не интересовалась
и не ведала про это. Но ей с детства внушили, что случится
такое, «когда сольются две реки». У покойного папы была
теория рек, которые из разных мест, из разных дырочек
земли, через камни, грязь и преграды устремляются как не¬
нормальные понятия не имея куда. Но этого по их слабому
водянистому уму они не ведают. На самом деле есть закон
встреч и слияний. «Ну, это скучно», — перекусила тему
Лена, хотя мне как раз нравился ход мыслей незнакомого
мне мертвого папы, они — мысли — были чем-то похожи
на изыски моего не всегда могучего ума, который вечно но¬
ровит понять глубину океана, опуская в него палец... Но
Лена вела меня, своего случайного попутчика, дальше и
395
дальше от своего хитроумного папы, нарисовавшего перед
дочерью сокрушительно бегущие потоки, которых ей над¬
лежит дождаться.
И девочка вдруг увидела их как бы вживе — неспрос¬
та же принес в Ростов свои воды Ленька. Может, это са¬
мое то и есть? Пока она колготилась своим умом над извеч¬
ной задачей, что делать, если с нее стаскивают джинсы и
майку, и можно ли так сразу, Ленька смог. Экскурсия
внутрь человека оказалась достаточно приятной. Ей опи¬
сывали такие боли, такие крови, а тут — говорить не сто¬
ило.
Все остальное время они только и делали, что искали с
Ленькой место, прячась от Гошки.
Ленка ходила слегка ошалелая от новых ощущений, но,
если бы кто-нибудь назвал это любовью, удивилась бы от
всей души. Что она, не знала, что от этого бывают дети?
Знала. Но Ленька сказал, что он осторожен. «Ты же ви¬
дишь?» — показывал он. Когда он уезжал, то приглашал
ее в гости и вообще. До нее не сразу дошло, что у нее дол¬
гая задержка. У нее такое бывало, какая-то дисфункция
яичников, но тут уже был явный перебор. Она решила по¬
ехать в Москву как бы в гости, а на самом деле обсудить с
Ленькой, как ей быть, потому что была уверена, что сде¬
ланное двумя и принадлежит двоим, а один не имеет права
голоса. Перед отъездом она позвонила Гошке.
Что ее дернуло ему рассказать, сразу не сообразишь.
Не исключено, что довольно похабное чувство: а что, па¬
рень, хочешь знать, какие у меня проблемы? Не слабее
твоих... В конце концов, у тебя была Смерть, а у меня
Жизнь... Одно за другое...
У него же именно так в голове и зацепилось. Жизнь за
Смерть. И он сказал: «Я с тобой еду. Я Леньке, если
что...» Если что? Ей поворот, о котором предупреждает са¬
мая дурная учительница и самая бестолковая мать, был из¬
вестен. Но это — она, дура, так думала — не про нее.
Совсем как мать, которая кричала на похоронах отца, еще
396
будучи инженером-электриком: «Я думала, так бывает с
другими!» И даже ей, Ленке, было неудобно за этот крик:
она что, мать, воображала себе бессмертие? И еще раз
мать покричала о том, что «думала — так бывает с други¬
ми», когда перешла в торговлю. Сейчас она уже не та. Сме¬
лая и ни черта не боится. Ленка проходила этот же путь —
выдавливания из себя идеализма. Первый опыт был с
Ленькой, который, узнав, что есть что, сразу смотался из
Москвы.
Если бы не Гошка, она бы просто не знала, что делать.
Москва — город чужой, но это в каком-то смысле лучше,
никто тебя не знает, ни одна собака. Хотя почему — соба¬
ка? Кошки в незнакомом месте еще чернее... Как раз у нее
началось это... Как оно называется, когда мутит от всего?
— Токсикоз, — говорю я.
Лена кивает головой и объясняет мне, что тогда, когда
они ко мне приходили, ей совсем было плохо, а она возьми
и вспомни кошерность. Как раз накануне им про нее плел
Сережка.
— Ловко придумала, — сказала я ей и испугалась,
что спугнула (пуг-пуг!) ее, что она встанет и уйдет, ну и
как мне тогда быть? И, видно, у девочки был этот порыв,
был. Я знаю это выражение глаз — у дочери, у детей
моих приятелей, просто у едущих со мной в метро моло¬
дых, когда они, отвлекшись от себя, увидят меня, — так
вот, у них из глубины зрачка материализуется безнадеж¬
ность. Ну что, мол, будто говорят они мне, доковыляла?
И как тебе там? Я не думаю, что они сравнивают свои
года с «моим богатством», — я, что ли, это делала смо¬
лоду? Здесь не то. Я могу прицепить серьгу, могу даже
две, могу напялить на себя металлические браслеты, я их
всегда любила. Но слив старой крови уже произошел.
И они, имея в жилах какой-то неведомый мне состав,
смотрят на носителей старой, забубенной крови с чув¬
ством безнадежности и тоскливой жалости. Так смотрят
на повешенную кошку.
397
Хотя черт его знает!.. Я ведь рассказываю историю,
которая — кто ее знает? — может и опровергнуть мои же
умственные экзерсисы.
Это (оказывается!) такая прелесть — плюрализм в
одной башке. Хрен вам — шизофрения! Я же не знала в
свои онегинские годы, что у простого хлеба может быть
куда больше модификаций, чем белый и черный. А тут хо¬
ровод мыслей одна другой веселей... И хочется всеми ими
обладать, как какому-нибудь насильнику из епархии Серб¬
ского.
Они правильно на меня смотрят — с безнадежностью.
Я ведь их люблю без взаимности.
Ленка же думала-думала, думала-думала. Даже вот
сейчас звонила Леньке, хотя какой в этом уже смысл? Они
с Гошкой расписались, отдав бывшей однокласснице, рабо¬
тающей в загсе, золотое колечко с аметистом, которое ку¬
пила ей мать на свой первый продавщицкий заработок.
— В общем, все, — сказала она тускло.
— Девочка моя! — говорю я ей. — Знает ли мама?
— Вы что! Она меня убьет, — отвечает Лена. —
Я иногда становлюсь на просвет — в упор не видит.
— Не говори ерунды!
— Да нет... Не убьет, конечно. Но так будет противно,
так противно... А когда узнают Гошкины скелеты, эти точ¬
но могут убить...
Хотя идея зарегистрироваться — Гошкина. Он против
незаконнорожденности. «Человека делают двое. Про¬
черк — это как бы уродство». Лена с ним не спорила. Ей
так было легче. «В коцце концов, столько про это снято
кино. В «Санта-Барбаре» все дети не от своих отцов».
Я ее обнимаю и смеюсь. Вот оно! Сбылось! Искусство
слилось в экстазе с жизнью. Потом смеюсь и плачу. Потом
плачу и захожусь гневом. Захожусь гневом и... — о Госпо¬
ди! — хочу ударить кого-нибудь по голове. Дарить —
398
это я, стесняясь, прикрываю другое слово... Окончатель¬
ное...
— Менталитет, — шепчу я, — это совокупность.
Лена бежит в кусточки, а у меня на подоле остается не-
досформулированный менталитет. Он крючится и вертится,
скользкая такая и мокрая тварь, не возьмешь руками... Его
надо доформулировать, срочно надо, но как я могу это сде¬
лать под рвотные спазмы девочки?
Я сбрасываю его с колен.
Мне легко оставить за скобками мою истинную цель при¬
езда — Шуру. Потому что, хотя я и делала все, что поло¬
жено делать в случае поломанной ноги, я делала это автома¬
тически. Она упрямо не хотела ничего знать ни о Фале, ни о
ее внуке, а когда я, не выдержав, закричала, что хотя бы из
жалости ко мне она могла бы выслушать, Шура ответила:
— Я все знаю. И подозреваю, что все всё знают, даже
Фаля. Просто все заинтересованные люди ждут, когда
ишак сдохнет.
— Какой ишак? — не поняла я.
— Султанов, — засмеялась Шура. — С чего ты
взяла, что на тебе лежит какая-то ответственность? Они
уже взрослые. Трахаются. Так это теперь называется?
Гнусное какое слово. Все слова про это теперь гнусные.
Хуже матерных.
— Жалко ребят, — говорю я.
— А мне нет, — отвечает Шура. — Случается толь¬
ко то, что должно случиться.
— Откуда ты все знаешь?
— Господи! — ответила Шура. — Девчонка, что их
расписала, дочь медсестры, которая накладывала мне гипс.
Она рассказывала историю громко, на всю операционную...
Там народу было человек семь... Фалю там многие еще по¬
мнят по работе в горздраве и не любят до сих пор. Она
была крутая начальница... Вот сказала — и споткнулась...
Правильно ли я употребила слово «крутой»? Его теперь
через раз произносят.
399
— Смысл-то тот же, — отвечаю я.
— Тот же? — удивляется Шура. — Не морочь голо¬
ву, не такая я идиотка. Так вот... Людям, знающим Фалю,
нравится, что у нее внук оказался кретином. Во-первых,
никакой не стыд в наше время родить без мужа. Они затя¬
нули с абортом. Но если есть медицинские показания, вы¬
нут и готового младенца. Я тебя уверяю. Мы за ценой не
постоим.
— У тебя нет детей...
Господи, ну никогда, никогда в жизни я не могла, не
смела коснуться этой стороны жизни моей сестры. Что же
это случилось, что сложились слова во фразу, что бездар¬
ные мышцы сделали свое дело и воробей, эта маленькая
сволочь, вылете л — не поймаешь.
— У меня нет детей, потому что все вмешались, —
спокойно сказала она. — Вот я тебя и прошу — уйди от
этого.
Шурин грех был очень ранним, по старым временам.
Она была в девятом классе. Угрюмая, недружелюбная де¬
вочка жила столь отъединенно и замкнуто, что заподозрить
ее в чем-то было просто невозможно. Это я, что называет¬
ся, ходила на грани, это я могла в одну секунду стать «по¬
зором» семьи, это у меня мозги были «не туда» повернуты.
Шура смотрела строго в нужном направлении. Я никогда
не могла понять, что связало молчаливую девочку из хоро¬
шей семьи и немолодого фотографа — ему тогда было лет
тридцать. Не больше. Он был хром от рождения, но безус¬
ловно красив лицом и улыбкой. Был он невероятно беден,
даже по тем временам, а физический недостаток не давал
ему возможности развернуться в профессии и обслуживать
в районном масштабе свадьбы, выпускные вечера и голых
младенцев. Он жил наискосок от нас, у бабки, которая тор¬
говала семечками. Мы с Шурой ходили к ней с самодель¬
ными кулечками: старуха умела жарить семечки как никто.
Это было баловство, потому что мешок семечек стоял у нас
400
в летней кухне — просей как следует и жарь сколько хо¬
чешь. Но ни у кого из нас это не получалось. Мы их пере¬
жаривали, недожаривали, сжигали совсем, была даже при¬
думана теория неинтеллигентности самого процесса, кото¬
рый как бы отторгал нашу семью. Никто не заметил, как
Шура повадилась ходить с кулечком. Спохватились, когда,
припадая на ногу, в дом пришел фотограф и сказал, что лю¬
бит Шуру и хочет жениться на ней.
Помню, как он стоит в дверях, отмахивается рукой от
мухи, и все. Как его выгнали, как кричала Шура, как тай¬
ком явилась в дом известная всем абортичка, как шторили
окна и кипятили инструментарий убийства, как Шура едва
не умерла, и тайком пришел уже другой врач, и мама ходи¬
ла с синяками на руке от перевязки жгутом — она давала
Шуре кровь... Когда кончился весь этот ужас, я мертво
уснула, а когда проснулась — Шура уже стояла на ногах и
смотрела в окно. Фотограф грузил на хилую бричку свое
барахлишко, в котором доминировал новенький, с иголоч¬
ки, штатив. У Шуры было совсем бескровное, белое, как
лист бумаги, по которой я сейчас пишу эти буквы, лицо, и
по нему текли какие-то мелкие частые слезы.
«А! — подумала я со сна. — Хорошо, что он уезжает.
Разве он пара Шуре?»
— Дура! — сказала я ей сиплым со сна голосом. —
Нашла о ком плакать!
Я так хочу верить, что она тогда меня не услышала.
Ведь она даже не пошевелилась.
Итак, все всё знают и ждут смерти ишака. Знать бы
еще в лицо этого ишака. Я наполняю емкости водой,
пользуясь моментом, что она поднялась на четвертый этаж.
Думаю мысль: ни в Ростове-на-Дону, ни в Волгограде на
Волге нет воды. В Донбассе проблемы с углем на зиму.
Почему живущий на этой земле человек не видит иронию
такой своей судьбы? Почему не слышит небесного хора про
нас, в котором тенора ангелов сливаются с басами чертей,
401
и, может, это единственный случай, когда они против нас
заодно: ну никому мы не нравимся, никому. Ни воде, ни
земле. Бидоны и кастрюли набраны, у меня мокрый подол,
и я уже достаточно расчесала себя. Как всегда бывает в
этом случае, вместо того чтобы помолиться Богу хотя бы
как умею, хватаю телефонную трубку.
Фаля берет ее мгновенно. Значит, сидела ждала.
Меня? Кого?
— Фаля! — говорю я ей. — Давайте не делать вид.
Я все знаю про Лену и Гошу и, хотя мне это совершенно не
нужно, считаю, что им надо помочь.
— Не надо делать то, что не считаешь нужным, —
отвечает Фаля.
— Нет! — кричу я. — Я плохо выразилась... Мне
как бы лично...
— Общественная деятельность кончилась, — смеется
Фаля, и я вижу, как дрожит ее рука, щеки, подбородок, я
почти ощущаю движение ее старой плоти, тогда как я в этот
момент вполне каменная баба.
— Успокойся, — говорит Фаля, — у Егора есть ро¬
дители. У Лены мать. Они совершеннолетние. А ты чело¬
век в этом деле случайный...
— Не было бы беды, — бормочу я.
— Она уже случилась, — отвечает Фаля. — Больше
куда уж...
Потом она меня спрашивает про Шуру. Я отвечаю про
нее и про воду, которой надо запасаться, потом иду к
Шуре. Она подрубливает кухонные полотенца. Когда-то
купленный впрок рулон вафельной ткани наконец таки пу¬
щен в ход. Шура подрубливает полотенца для меня. Мате¬
рия вся изжелтела, в придавленных местах остались тем¬
ные полосы.
— Ну и что? — говорит Шура. — Для посуды самое
то.
Я чуть не ляпнула ей про соседку по площадке, которая,
увидев в моей сумке туалетную бумагу, сказала все и сразу:
402
— Взяли моду подтираться мягким и белым. Раньше
такого и в заводе не было, а люди были куда здоровее. Пе¬
ренимаем у американцев черт-те что... И слабеем духом и
телом от нежностей...
Она сверлила меня и сверлила своим острым и злым
глазом, а я думала: может, она права? «В войне, — гова¬
ривал покойный Лев Николаевич Гумилев, — побеждает
тот, кто умеет спать на земле». Тогда действительно неж¬
ности ни к чему... Для нас ведь война — дело святое.
«Як попереду танцювагь», — сказала бы моя бабушка.
Вот и пятьдесят метров вафли были куплены Шурой не
просто так... На случай... А случай у нас один — война, а
потом разруха. И где-то есть уже наша могилка — могил¬
ка неизвестной мне девочки Лии. Ее кровь перетекла в
нашу, война стала как бы семейным горем. Самое время
подрубливагь полотенца, самое время...
— Я же говорила тебе: не вмешивайся. — Шура пе¬
рекусывает нитку. — Пусть все идет само собой.
А само собой было так. Я встретила на улице Митю.
— Митя! — закричала я, а мальчик, естественно, не
обернулся. — Господи! Егор, — поправилась я.
Он остановился и смотрел на меня виновато-рассер¬
женно.
— Тетя! — сказал он. — Мы тогда так нехорошо от
вас ушли, вы, наверное, беспокоились...
— Да ладно, — ответила я. — Прошло-проехало...
Егор! Гоша... — Ия замолчала.
В общем, меня это не касалось. Из времени, в котором
я учила слова, что за все про все в ответе, я выпала. Имен¬
но с моей стороны у времени был рваный край, куда следом
за мной вываливались все мои бебехи — где они теперь?
Зачем же я лезу со своим «надо так и эдак»? В каком еще
под- или надпространстве я потом очухаюсь?
Я знаю, как выглядит несовпадение во времени. Моя
дочь щелкает пальцами то слева плеча, то справа.
403
«Мама! — говорит она. — Смотри сюда! Ты где?» —
«Я тут, доченька!» — «Ты не тут!» В каком-то кино ви¬
дела, как приводят в чувство потерявшего сознание. Зна¬
чит, и я выгляжу так.
Что мне сказать мальчику, которого я дернула за рукав?
Какие такие советы я могу дать и можно ли вообще давать
советы, если у тебя их не спрашивают? Мы ведь живем со¬
всем в другой эпохе, страна советов была до того.
— Я просто рада тебя видеть, — сказала я. — Лена
тебе говорила, как мы встретились на почте?
— На почте, — повторил Митя. — А что она дела¬
ла на почте?
— Митя! — воскликнула я. — А что делают на по¬
чте?
— Много чего... — ответил он. — Она звонила в
Москву?
— Митя! — начинаю я.
— Да перестаньте вы называть меня Митей! — кри¬
чит он. — Не знаю я вашего Митю! Меня другой дед вос¬
питал, а про этого остались одни анекдоты, и они мне не в
кайф. От него, как я знаю, всем было плохо, а вы —
Митя! Митя! Оскорбительно даже!
— Господи! — теряюсь я. — О чем ты говоришь?
Это лучший человек, которого я знаю. Лучший в нашем
роду, и я просто была счастлива увидеть, как вы похожи.
Но ты, конечно, извини, Егор, у тебя свое имя... Это у
меня непроизвольно...
Он смотрит на меня оторопело.
Еще бы! Наворотила слов. Лучший в роду. Вот он сей¬
час спросит — чем? Конечно, я объясню... Что, я не знаю
чем?
Я ему скажу: «Взять за себя чужую беременную мог
только Митя. Он всегда брал порченое... Прикинь на себя
его костюм».
Но я молчу. Мне стыдно слов, которые я придумала.
Во-первых, я ничего подобного не знаю за Митей. Во-вто-
404
рых, обозвать беременную порченой — срам, в-третьих,
«примерь костюм» — гадость и пошлость вообще. Это из
того скарба, который я потеряла, вываливаясь из времени.
— Мне о нем никто ничего не рассказывал, кроме
того, что он был бабник и трус. От войны прятался, а ба¬
бушка, между прочим, прошла почти всю, и ее хорошо по-
колошматило. Вы меня извините, тетя, но я бегу.
— Иди, Е-гор, — сказала я. — И-ди.
— Так тебе и надо, — сказала Шура. — Сидит в
тебе этот проклятущий ген семьи — во все лапами, лапа¬
ми...
— Что я сделала? Что? — кричала я.
— Ты всю жизнь ставишь на божничку этого приду-
рочного дядю Митю. Сообрази, за что?! За то, что он ни
одной своей бабе не принес счастья? Что всегда брал, что
плохо лежит? А плохо лежали девки с изъяном, несча¬
стные... Порченые...
Вот оно — вдругорядь за последний час выскочило это
слово. Как будто, не распрямившись толком в моей глотке,
оно наконец нашло другую, поподатливей, и выпорхнуло,
хлопая мокрыми крыльями.
— Мне в нем это как раз нравилось, — сказала я. —
Кто еще мог одарить обделенную? Пожалеть некрасивую?
Я, например, сроду бы не смогла...
— Вот именно.
И тут до меня дошло. Шура... Ведь Шура любила ка¬
леку, Шура... Так и вижу этот новенький штатив на брич¬
ке. Митя, где ты был тогда? Где ты сейчас?
— Прости, Шура, — сказала я. — Я не права.
Действительно, не мое это дело.
— А! — спокойно ответила Шура. — Ты вспомнила
Марка. Его звали Марк. Так я ничего о нем и не знаю.
Сейчас вот сама без ноги... Очень о нем думается. И на
сердце так хорошо-хорошо, как в раннем детстве. Но это
только из большого далека видно... Как было хорошо.
405
А тогда — не дай бог! И до сих пор не знаю — это пра¬
вильно, что я выжила, или нет?
— Грех говоришь, — плачу я. И ухожу проверять
воду.
Вечером с Шуриным мужем мы трясем на улице поло¬
вики: это задание Шуры, она не верит в пылесос. Мама
моя не верила в стиральную машину и до последнего дня
своего кипятила белье в цинковом баке, терла его на доске,
а перед глажкой накручивала простыни на палку, «рубель»,
и стучала ими по столу так, что в буфете вызванивали ча¬
шечки и рюмочки и, бывало, валились, хрупкие, набок, не
приемля такой силы труда.
Во что-то не верю и я...
На обратной дороге Шурин муж говорит мне сквозь
толщу половика на его плече:
— Шура думает плохую мысль... Узнай, какую...
— Наоборот, — отвечаю я, — она мне сказала, что
вспоминает детство и ей от этого хорошо.
— Не верь, — говорит он. — Не верь. Она думает,
что я ей не тот муж.
— Господи! — смеюсь я. — Думаешь, я иногда о
своем не думаю так же? Или он обо мне? Мысли, ведь
они — пришли-ушли. А по жизни мы уже давно одно це¬
лое.
— Узнай, — говорит несчастный, открывая дверь. —
Узнай.
— Он нервничает, — сказала я Шуре, — боится
твоих мыслей.
— Еще бы! — ответила. — Мысли для него —
НЛО.
— Нет! — кричит Левон, входя в комнату. — Нет!
Думаешь, я не хочу сесть и додумать все до конца? Дума¬
ешь, в моей голове нет вопросов? Думаешь, там же нет от-
406
ветов? И думаешь, я не смог бы сплести из них парочку?
Но нельзя... Нельзя создавать головой страшное...
Я вижу — на беспристрастном Шурином лице тенью
проскакивает интерес. Она подымает на мужа свои удиви¬
тельные глаза, а тот уже жмется в дверном проеме, норовя
исчезнуть, провалиться от взгляда женщины, которую бо¬
готворит, а слова сказать не смеет. Сколько лет вместе —
и не смеет. Потому как думает, что нет и не может быть
слов вровень с тем, что он чувствует, а тут еще этот все-
таки чужой язык, эти фразы, которые так плохо слепляют¬
ся и так стыдно разваливаются на глазах.
— Левон! — говорит Шура. — Звонили Бибиковы.
Просили отвезти шифер на дачу. Помоги, дорогой!
Левон делает какие-то странные движения: то ли хочет
допрыгнуть до притолоки, то ли сорвать к чертовой матери,
то ли расширить пространство и простор проема, а потом и
преодолеть его. С какими-то непонятными армянскими
горловыми звуками он выскакивает из квартиры.
— Не смей опровергать, — говорю я Шуре, — но
тебе везет в любви.
На следующий день мы с Левоном возили Шуру в
больницу: ей меняли гипс. Я смотрела, как распеленали
синюю, мятую, какую-то неживую ногу, почему-то дума¬
лось плохое: о свойстве человека отмирать частями. Уме¬
реть ногой. Ухом. Локтем. Сердцем. Душой. Думалось пе¬
чально о самой себе. Знаю ли я, чем мертва сама? Что во
мне давно не фурычит? И способна ли я буду осознать
собственное отмирание? Одним словом, мысленно я под¬
крадывалась к идее мгновенной смерти как большому бла¬
гу, чем умирание частями, даже если это единственный спо¬
соб продолжения жизни, тысячу раз проклятой и от этого
еще более божественной.
На обратной дороге Шура сказала, что, пожалуй, мне
пора возвращаться, а то Николай (мой муж) на нее затаит¬
ся.
407
Я сказала, что возьму обратный билет на пятницу.
Был вторник.
Удивительная сила слова! Стоило только назвать
день — пятница — и я ощутила запах своего дома, звук
его телефонного звонка, услышала в трубке слегка раз¬
драженный голос дочери: «Ну и что? Ты утолила род¬
ственный зуд?» Гадости она говорит, как правило, с поро¬
га. Потом лапочка лапочкой, а сначала — непременный
укус. Такой у нее способ защиты. Как она это называ¬
ет — прайвести?
Помогая Шуре войти в квартиру, усаживая ее в кресло,
я уже отсутствовала в ее доме и в этом городе. Я наполня¬
лась «собой», и было радостно возвращаться к надоевше¬
му, вдруг оборотившемуся главным.
— Уже уехала? — насмешливо спросила Шура.
— От тебя не скроешься, — засмеялась я.
Это был очень тихий вторник.
А в среду утром я поехала за билетами и встала в оче¬
редь. Он меня оттолкнул у самого окошка. Я напрочь за¬
была его имя. Я помнила, что один раз он сидел у меня на
полу, а другой раз маячил на фоне зеленого вагона. Он не
видел меня, он сдавал билет на поезд и кричал. Я дернула
его за рукав, и какое-то время мы бездарно и тупо смотрели
друг на друга.
— А! — сказал он. — Извините. Я не знал, что вы
тоже сдаете билет.
— Я покупаю, — засмеялась я.
— А как же похороны? — спросил он.
— Какие похороны? — не поняла я и даже еще не ис¬
пугалась самого слова.
— Егора, — как-то грубо ответил мальчик, и я
вспомнила, что его зовут Сергей. Теперь мне оставалось
понять, кто же такой Егор. Не Митя же... Это бы я уже
знала. Плохие новости дошли бы сразу. Значит, это неиз¬
вестный мне Егор. Теперь это модное имя.
408
Все это заняло столько времени, сколько нужно, чтобы
мальчику вернулись деньги за сданный билет, и вот уже
мне кричат «следующий», а я пулей вылетаю из очереди и
хватаю Сергея за руку, как пойманного карманника.
Он смотрит на меня, снимает мою руку и осторожно,
как больную, выводит на улицу. Я не слышу, что он мне
говорит, потому что сердце стучит почему-то в голове гром¬
че шума окружающего мира, норовя пробить барабанные
перепонки и выскочить через них к чертовой матери.
Решив, что он мне уже все рассказал, Сергей бросает
меня на площади.
Я пытаюсь сложить слова в смысл. Почему-то вперед
вылезает то, что у Сергея уже есть билет на самолет в Из¬
раиль, а теперь он может к нему не поспеть. На эту его
мысль я отвечаю своей — мол, может быть, и слава богу.
Что ему там делать, русскому мальчику? Любовь — это,
конечно, славно... И тут я запинаюсь, потому что начинаю
резко сомневаться в этом.
Что мне сказал Сергей? «У них, — сказал он, — с
Ленькой все по делу. Тогда в Москве она его на вокзале
встретила, он пьяный шел, с девкой... Она как закричит...
И я лишился прописки на ихнем полу. Мне менты сказали:
«У, козел! Чтоб ноги твоей и этой горластой». А она моя?
Она не моя! А Гошка ее грудью... Но ведь она и не его!
Тут же отношения с соображением...»
Я не ручаюсь за подлинность его слов. Я вообще ни за
что не ручаюсь. В моей голове мир устроен окончательно и
бесповоротно, пока его не сжигает какой-нибудь Кибаль-
чиш. Тогда я кидаюсь грудью на обломки и лежу на них до
тех пор, пока поджигатель где-то бродит поблизости. Дож¬
давшись его ухода, я уже ладнаю новый мир, лучше пре¬
жнего, с запасом прочности на случай нового Кибальчиша.
Хотя прийти и разрушить его может козел совсем из друго¬
го роду-племени.
Я плетусь, оставляя за собой витиеватый след несфор¬
мулированных мыслей. Плетусь к Фале — к кому же
409
еще? На звонок никто не отвечает. Я звоню во все сосед¬
ние двери. Только из одной детский голос ответил, что
мамы нет дома.
Шура спокойно спит на диване, в кухне под толстым
полотенцем сохраняется тепло супа. Как тихо, мирно...
Я несу телефон в кухню и закрываю дверь.
— Алло! — бормочу я. — Алло!
— Вы насчет похорон? — Голос чужой, посторон¬
ний. — В пятницу, в двенадцать часов...
Я кладу трубку. Я не знаю, где живет Ежик. Ни разу у
него не была. Телефон я нашла в Шурином блокноте.
— Ты пришла? — Голос у сестры теплый со сна. —
Тебе дали нижнюю полку?
Я вхожу с телефоном.
— Шура! — говорю я. — Случилось самое плохое с
Фалиным внуком. — Отстраняйся от беды! Отстраняйся!
Она тебе чужая, не своя. Своя — это совсем другое, другая
связь. Шура мальчика вообще ни разу не видела, а я так...
Походя... — Похороны в пятницу. Но отвечают чужие...
У нее странный взгляд, у Шуры, — хорошо запако¬
ванный гнев. Гнев для далекой доставки. Через время и
расстояния. Для такого содержания нужен четкий адрес,
чтоб не ошибиться во вручении. Кому?
Митя погиб, нарушив правила перехода: трамвай —
спереди, автобус — сзади. Или наоборот, не помню. Про¬
сто шел, а его сбили, потому что не там щел. Такая вот неге¬
роическая смерть. Почему-то много говорилось о его осто¬
рожности, что он не лихач какой, а пешеход совсем даже
аккуратный, строго по>зебре там или с угла на угол по зна¬
ку. В какой-то момент мне показалось, что говорят только
об этом — о правилах перехода. Просто какой-то семинар
ГАИ при затянутых зеркалах.
Я увидела его на кладбище. Он стоял рядом с Ежиком.
Я смотрела как раз на Ежика, седого, загорелого, совер-
410
шенно не похожего ни на отца, ни на мать. Ну, не росли в
нашем огороде с таким Туповатым строем лица! Я отхлес¬
тала себя по щекам, что смела в такой час думать черт-те
что, а он возьми и повернись, человек, стоящий рядом с
Ежиком. Повернулся и кивнул мне головой. Как раз нача¬
лось прощание, и я сделала шаг назад, чтоб пропустить лю¬
дей ближе к гробу. Сама я не хотела, не могла видеть мерт¬
вого Митю и была рада, что церковная бумажка на лбу
прячет его лицо. Здесь ведь не ждут от меня бурного выра¬
жения горя, я чужая, я могу стоять в стороне, даже Левон
ближе, он тут рабочая сила. Но если я — чужая, дальняя,
то кто этот, что кивнул мне как своей, а теперь держит за
локоток каких-то ближних к нему женщин?
Ах вот это кто, вдруг ясно и просто вспомнилось мне.
Это же Михаил Сергеевич. Друг Ежика. Хороший, види¬
мо, друг, если все бросил и прилетел. Но я уже поняла, что
не в этом правда.
Когда был моден кубик Рубика и страна остервенело
его крутила, я заранее знала: у меня он не сложится ни¬
когда. Так и было. А однажды сидела просто так, даже
смотрела телевизор, а он возьми и сложись в моих руках
как бы без моего участия, сам по себе. И потому, что это
было абсолютно случайно и не было моей заслугой, я тут
же раскрутила его в обратную сторону. Что-то подобное
было и сейчас, хотя я понимаю всю глупость такой анало¬
гии.
Но все сложилось. И мне уже было неважно видеть
Лену, которую за плечи вел какой-то парень, неважно.
Михаил Сергеевич — и кубик получился.
Я хотела пробиться к Фале, но ее впихнули в машину,
где уже гнездились какие-то тетки, пришлось несколько
раз хлопать дверцей машины, чтобы умять Фалин бок. Ка¬
кая-то дама в черном гипюре пронзительно объясняла всем
желающим, где будут поминки и каким транспортом лучше
туда доехать. Автобуса не хватило, потому что было много
молодежи. Дама сетовала на детей. Кто, мол, знал...
411
Меня даже пронзило сочувствие к этой даме, инструк¬
тору похорон. На кого же ей еще сетовать? На стари¬
ков — бесполезно, да их и мало было, на свое поколе¬
ние — глупо, сама находишься в нем. Конечно, молодые,
дети! Не знают правил, идут под колеса, а потом хорони их.
У нее на лице было написано: свинство.
— Шура! — сказала я дома. — Не надо про похоро¬
ны. Не хочу!
— Ну и не надо, — ответила Шура.
Позвали Левона пить чай, разговаривали про разное,
Левон все смотрел на нас своими огромными, горячими,
«булькатыми», как сказала бы бабушка, глазами, потом не
выдержал и закричал: «Ну что вы за народ! Что за народ!»
— Тебе покрепче? — спросила его Шура. — Говори
сразу, а то я заварку разбавлю.
В поезде мне, как оказалось, досталась нижняя полка
двухместного купе, прижатого к туалету. Он оглушительно
ощущался. Пришла проводница и сказала, что я буду ехать
одна, так как вторая полка сломана, ее не продают, поэтому
она у них для хозяйственных нужд, и хорошо бы мне не за¬
пираться до ночи, пока то да се. Преимущества одиноче¬
ства просто исчезали на глазах. Я провякала что-то про
служебные помещения, на что языкатая проводница отве¬
тила мне коротко и просто, что это не мое, так сказать, со¬
бачье... Она даже постояла в дверях, рассчитывая подать,
если понадобится, еще одну убойную реплику, все в ней
просто дрожало от нетерпеливой злости ума, я сообразила
это и смолчала. Пришлось ей уносить свои слова под язы¬
ком, на кого-то они, определенно, опрокинутся.
Когда уже разнесли белье и люди успокоились на не до¬
лгое время ожидания чая, в проеме купе возник Михаил
Сергеевич.
— Мы едем в соседнем вагоне, — сказал он. —
Я видел, как вы садились. Я войду?
412
Куда я могла деться?
— Такая история, — вздохнул он, аккуратно садясь
на одеяло. — А я думал, что мы с вами никогда не встре¬
тимся.
— Кто же думал? — ответила я. — Как здоровье
вашей жены?
— Вы знаете, — радостно сказал он, — хорошо. Что
называется, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Когда она узнала про отношения Лены и нашего сына, она
настояла, чтоб они были вместе и чтоб ребенок рождался у
нас. Она сказала, что хочет видеть рождение и рост новой
жизни, что это для нее важно. Она просто заставила нас с
сыном поехать и забрать Лену, она совсем другая стала, на¬
полненная смыслом. Мы присмотрели детям квартиру на
первом этаже в нашем же доме, квартира не ах, но по день¬
гам. Ленина мать дает половину, половину мы. Будут жить
и отдельно, и на глазах. Куда лучше? Жена просто воспря¬
ла. Мечтает о внуке... Мы договорились не рассказывать
ей про фиктивный брак и смерть... Знаете, чтоб не заро¬
нить плохих мыслей. Я этого мальчика знаю, он был безо¬
бидный, хороший... Абсолютно... Мой сын, конечно, по¬
шляк. Они теперь все такие. Свобода. Доступность. Если
бы не случай с женой и ее верой в выздоровление при помо¬
щи новой жизни, то я бы еще очень и очень подумал насчет
этой Лены. Мать — торговый работник на вокзале. То-се.
Одним словом... Отец — скоропостижно. Этот ее брак с
Егором... В сущности, нашла дурашку... Хотя названивала
нам каждый день, просто безумие какое-то. Но, может, это
все на нервной почве, дурочка ведь молоденькая.
Мне хотелось выдернуть из-под него край малинового
железнодорожного, но в данный момент моего одеяла и
сказануть ему такое, чтоб он пулей выскочил.
Но я проклокотала что-то неразборчивое.
— Этот мальчик... Я понимаю, он ваш родственник...
Но согласитесь... Поступок наивный, глупый... И потом...
Вы знаете? Он препятствовал! Он кричал на Леонида,
413
хамски кричал... Я боялся, еще немного — и мой развер¬
нется назад. Он мне ведь по дороге в Ростов сказал прямо:
«Мне, отец, это на фиг... Я не отрицаю, но мне это на
фиг...» Лена, правда, умница, она сразу перешла на нашу
сторону и очень толково сказала Егору: «Так правильно, а с
тобой неправильно». Странный мальчик, странный... Ко¬
нечно, неудобно и не к месту спрашивать... Но как вы счи¬
таете, он был здоров психически? Я что-то такое слы¬
шал... По чьей-то линии...
— По моей линии, — сказала я. — Это у нас побег
другого ума.
— Побег? Побег ума? — Он смотрел так ясно и не¬
доуменно, что, существуй в моем организме смех, я бы уже
давно дала ему волю.
— Да нет, я неудачно выразилась... Просто за нами
водится выбирать не то и не тех...
— Это понятно, — закивал Михаил Сергеевич. —
Такое случается даже при полной здравости.
Я же думала про Зою. Про то, как она осталась одна с
ангелом у камня церкви. Как летала на небко... Даже уди¬
вительно, как по ниточке-волосочку карабкается к нам про¬
шлое... Бабушка так уж норовила отделить ее от нас, чтоб,
не дай бог, не перешло безумие... Перешло, бабушка, пере¬
шло. Во всяком случае, так считает следующий по времени
народ. Выследил-таки другой ум мальчонку, летающего на
небко, и забрал к себе.
— Я рада, что все для вас хорошо кончилось, — ска¬
зала я, определяя окончательность разговора.
— Да, конечно, — ответил Михаил Сергеевич. —
Хотя, конечно, мальчика очень жалко. Один ребенок, ужас¬
но... Я им посоветовал круиз. Теперь это доступно, а мы на¬
род неизбалованный, нам хоть что покажи — интересно.
Когда он ушел, пришлось выпить горсть таблеток: от
головы, от души и от сердца. Тройной коктейль выживания
простого русского человека. Хоть что выпить, хоть что по¬
смотреть.
414
Совсем к ночи, когда проводница сказала, что я уже
могу запираться и я так и поступила, кто-то поскребся в
дверь. Я открыла, и она стремительно прошла мимо меня,
как бы предупреждая возможность протеста с моей сторо¬
ны. Ворвалась и села. Лена. Меня только-только стал про¬
бирать «коктейль», благословенная тупость накрыла ват¬
ным одеялом выпрыгивающие некстати мысли, приятно
было осознавать мощь науки химии непосредственно в сво¬
ем теле.
Она плакала. Вернее, даже выла, уткнувшись носом в
мою подушку, которую она грубо стащила с места.
Я вспомнила, как она валяла у меня ваньку в первую
нашу встречу, притворяясь иудейкой. А я тогда пялилась
на ее поднятые скулки и пыталась вычислить процент ее
еврейства. В другой раз она рассказывала мне историю
своего греха, а я воображала себя случайным, но необходи¬
мым попутчиком ее жизни. Сейчас она слюнявит мою по¬
душку, будучи одновременно родительницей и спаситель¬
ницей женщины, которая в одно историческое время непре¬
менно спрятала бы от нее сына, а в другое — сына за ней
же послала. И, в сущности, жизнь Мити все время висела
на волоске желаний и страстей совершенно посторонних
женщин. Я отливаю в домашнюю кружечку чай из недопи¬
того стакана, я гигиенически мыслю, что негоже совать де¬
вочке свой питый стакан, я выколупливаю из гнездышка
желтые горошинки сухой валерьянки, соображая, что фено-
зепам, которым спасаюсь сама, девочке не годится, потому
как девочка беременная. Когда она все сглотнула вместе со
слезами, она сказала:
— А что, у женщины есть другой способ отплатить?
Ну, за добро там или за подвезти? Есть? Я ему сказала:
ты должен это сделать, потому что я не хочу быть тебе обя¬
зана. Мне даже хочется с тобой... Я представляю — Дру¬
гой какой... Надо было бы его упрашивать? А этот развер¬
нулся и ушел... Сволочь такая... И не говорите, — крича¬
ла она на меня, — что его уже нет! Откуда вы знаете?
415
Я его ощущаю, понимаете, ощущаю... Как будто он меня
трогает. Хоть он ко мне пальцем не прикоснулся! Псих он,
псих! На дух мне такого не надо! Ленька, конечно, гад, но
он живой гад, в полном смысле этого слова. От него вкус и
запах. Живой Ванька-дурак лучше мертвого Ивана-царе-
вича. Так и знайте! Это я умно сказала. А он развернулся и
ушел. — Лена швыряет в меня комканую подушку, она
громко втягивает в себя сопли, она задвигает дверь так, как
будто задвигает вагон, поезд, всех едущих в нем, всех — к
чертовой матери.
Ну что тебе стоило, Митя, стянуть с нее трусики? Де¬
вяносто девять из ста поступили бы так же, а потом, ширк¬
нув молнией, убежали бы живые и невредимые. Мир был
бы больше на целого тебя, Митя. Ее приставание, его...
Что? Отвращение? Хотя нет... Какое отвращение? Может,
именно в этот момент он ее и любил, распахнутую, с пятна¬
ми на лице и расплющенным ртом. Любил и бежал от не¬
совпадения чувств, мыслей и обстоятельств, которые были
вразнотык?
Потому что голая женщина, как голая правда, возникнув
без вашего желания, — аргумент сильный, но и противный.
Ты или распнись пред ней, или уж беги сломя голову. У маль¬
чика заколотилось сердце, и он бежал, не зная правил.
Потому как был Егор по природе Митя.
Или все было не так и не то?
Не знаю.
В Москве они перегнали меня в тоннеле. Михаил Сер¬
геевич сделал мне рукой небрежно так — пока, мол,
пока... Лена притормозила.
— Я вам наплела вчера... Не верьте мне... Все было не
так...
Утром все не так, девочка, все не так. Утро — время
забывания.
Она скользнула глазом мимо меня, красивый рот был
слегка сбит набок, как тогда, когда она морочила мне голо¬
ву в первую нашу встречу.
416
— Твой рюкзачок все еще у меня, — сказала я ей
вслед.
Она, не повернувшись, махнула рукой. Делов! Рюкза¬
чок...
Интересен был разворот в мою сторону Леньки. Он де¬
монстрировал мне замену жизни. Смотри, тетка! Вот я,
всклокоченный, невыспавшийся, набрякший весь, от нача¬
ла до конца... Я хочу есть, пить, в уборную... Хочу Лен¬
ку... Других хочу тоже... Я густой мужчина... Очень муж¬
чина и очень густой...
На финал он пнул ногой вокзальную тумбу. Просто так,
для движения молодой крови и чтоб знала... Но в этом не
было зла. Была природа.
Дома я трогаю предметы. Стулья и кастрюли. Чайник
еще теплый. Я наливаю в чашку пойло. Рука дрожит, как
при абстиненции. Я нутром, кожей чувствую, что меня по¬
стигла неудача. Зачем-то с бухты-барахты я бросила на по¬
луслове почти законченную вещь и кинулась рассказывать
другую. Надо, кстати, поменять воду в бидоне, с которого
все пошло... Ведь все было нормально... Пока я не вдела
эту проклятую серьгу в ухо.
Я их не знаю... Они не даются мне в ощущении, эти
мальчики и девочки, которых я взялась строгать без зна¬
ния предмета. Старый дурак папа Карло мечтал о сыне,
хоть каком, хоть деревянном, я тоже мечтала хотя бы по¬
нять. Не получилось... Вынимайте, мадам, серьгу. Это
поколение живет мимо вас, не замайте его абстинентными
пальцами.
Мою дно бидона. Пальцы мазюкают теплоту и мяг¬
кость осадка. Интересно, кто та старушка, что всучила
моей дочери бидон? На какой метле улетела старая ведьма,
смеясь над молодой дурочкой? Может, это правильный
путь — обдурить и посмеяться над всеми?
Звонок у меня пронзительный, как бы для очень задум¬
чивого глухого. Я не знаю, как насчет физики, но лично я
417
вижу, как звук высекает свет в квартире. Как бы для глухо¬
го, но зрячего.
— Кто там? — кричу я в старый дерматин, ибо нико¬
го не жду и никем не предупреждена.
— Это я, тетя! Бабушка дала мне ваш адрес.
Я открываю дверь.
— Митя! — кричу я. — Живой!
— То есть? — спрашивает мальчик и недоуменно
смотрит на номер квартиры. — Я — Егор.
— Это все равно, — отвечаю я. — Хотя нет! Нет!
Ты — Егор! Я запомню, ты — Егор. Я больше не со¬
бьюсь.
— Я с Леной. Можно?
Она смотрит на меня из-за его спины, девочка с рюк¬
зачком и сбитым в сторону ртом.
Я поняла, Господи! Ты даешь им шанс?.. Чтобы они все
иначе... Или чтоб я?
Падает на обувь рюкзачок. Дети идут в ванную. Где-то
далеко смеется плач.
...Над мо-е-ю го-о-ло-во-о-ю...
Ты спятила, женщина. Спятила. Звенело у тебя в голове.
Я тогда покаталась-повалялась в постели, но, как гова¬
ривал один мудрый старик, молодой организм до поры до
времени свое берет.
Прошло полтора года. И я вот иду к Фале. Вот я уже
вошла. Я на нее смотрю.
4
Ей уже сильно за семьдесят, но в ней всегда хороши
были прямая спина и красивые кисти рук, которые артрит
победить не мог.
Комнатку, в которой она меня принимала, я знала, она
была крошечной, но на этот раз почему-то оказалась и ко-
418
соватой, однако мой глаз уперся в ее юбку, которую я по¬
мнила уже лет двадцать. Синюю, шевиотовую... Когда
Фаля села закинув ногу на ногу, я увидела, что изнутри она
обужена, грубо, методом загиба, считай, на две ладони.
Сейчас юбка крутилась у нее на поясе и явно требовала
уменьшения.
Я подумала, что ей не много осталось, что она как бы
иссыхает. Но грех гневить Бога, возраст вполне порядоч¬
ный, более «двух Пушкиных»... Чего же еще? Мысль, ко¬
нечно, гнусная, и, отловив ее в последний момент, я прищу¬
чила ее. Потому что этих «нехороших мыслей» за жизнь
накопилось столько, что, не научись я откручивать им шеи,
мою бы они развернули еще неизвестно куда.
— Ты мне нужна, — сказала Фаля. — Со мной не¬
порядок.
Что приходит в голову прежде всего? Нащупано у
себя нечто. Опять же мозговые явления: кажется, что
выскочил газ-свет, ан нет. Или наоборот: выключил и бе¬
гаешь проверять живой ладонью. Недержание, несваре¬
ние... Наконец, фобии. Мании. О Господи! С этим у
нас — о’кей!
Вот что подумалось, когда Фаля сказала про непоря¬
док. А тут еще юбка, обуженная на две ладони.
... — То, что это про мою смерть, это понятно... —
продолжала Фаля. — Як ней готова. Но они приходят и
приходят. Видишь, я уже не передвигаю стулья... Они сто¬
ят так, как те садятся.
Действительно, именно стулья стояли странно, вызвав
во мне ощущение косоватости комнаты.
— Каждый раз это на ясном уме, — говорит мне
Фаля, — я в этот момент что-то делаю, вытираю стол там
или гоняюсь за молью. Много моли... Я плюнула, но есть
такие настырные... Будто изгаляются над тобой... Но не об
этом речь. Я что-то делаю, и приходит соседка в салопе.
Слушай внимательно. Приходит и просит попить.
419
...Воду соседка пьет запрокинув голову, без глотков,
будто вливает в воронку. Некрасивый вид... Но главное не
это. Главное, у нас никогда не было с ней ничего общего,
даже имени ее я не знала, только фамилию. Храмцова. Со¬
седка Храмцова из пятьдесят шестой.
Так вот... Влив в себя воду — бокал на триста грам¬
мов — и не вытерев капель с подбородка, водяным ртом
Храмцова проблямкивает:
— Мою дочь попутал дьявол. Она крестилась по пояс
голая. В вафельном полотенце. Скажите, что мне теперь
делать? Как быть с комсомольским билетом и грамотами
ЦК?
Я предлагаю Храмцовой прежде всего снять салоп. От
него пахнет прибитой дождем старой пылью.
— Разденьтесь у себя дома и приходите, поговорим.
На слове «у себя» делаю ударение. Не развешивать же
мокредь в прихожей? В моей кубатуре и так дышать не¬
чем. Воздух доходит только до шейной ямочки и выпрыги¬
вает назад, как шарик. Но не будешь же объяснять этой
Храмцовой: моим легким вреден ваш салоп.
— Хорошо, — говорит соседка, — сейчас разденусь и
приду.
Она уходит, оставив дверь открытой, а я мою трехсот-
граммовый бокал. Место, которого касались губы Храмцо¬
вой, тру содой. Я очень верю в заразность психических бо¬
лезней. Иначе не объяснить их количество. Долго поливаю
«место губ» кипятком.
Потом стою в дверях и жду, когда Храмцова разденется,
снимет этот старорежимный салоп — никто уже сто лет та¬
ких не носит, откуда только он у нее — и придет разговари¬
вать. Но соседка не идет. Тогда я иду к ней сама и звоню в
дверь: вдруг с ней что случилось? Дверь не открыли. Я по¬
вернула ручку и вошла — квартира была пустой. Возникла
мысль о балконе. Но дверь на балкон была не просто закры¬
та — она была заклеена широким серым пластырем. Поче¬
му-то возникла жалость к этой несчастной щели.
420
Я вернулась в коридор, удивляясь, что, запечатав дверь
балконную, Храмцова входную держит открытой. Это в
наше-то время!
И вот я снова у себя в квартире и снова удивляюсь этой
Храмцовой. Куда она исчезла? А тут она снова появилась.
Опять же в мокром салопе и с теми же словами:
— Попить воды...
Точно так же влила в себя, как через воронку, воду. Так
же водяным ртом проблямкала:
— Мою дочь попутал дьявол. Она крестилась по пояс
голая. В вафельном полотенце. Скажите, что мне делать?
С комсомольским билетом и грамотами ЦК?
Я ей снова сказала, что прежде всего надо раздеться...
И началось по новой. Я пошла к ней и во второй раз
испытала жалость к балконной щели, которую стягивает
пластырь...
Значит, теперь в мокром салопе должна появиться
Храмцова и попросить пить... Уже в третий раз.
Надо закрыть дверь и позвонить сыну, чтоб рассказать,
какая из-за Храмцовой стряслась глупая история, но, поду¬
мала, Храмцова за дверью может услышать разговор и
поймет, как к ней относятся, в частности к этому ее салопу
и неприятной манере вливать в себя воду без глотков. Надо
отложить звонок на потом, когда эта безумная Храмцова
угомонится и перестанет туда-сюда бегать.
Я не заметила, сколько так просидела в темноте, во вся¬
ком случае, вечер кончился, это точно. Наступила ночь.
И такая, что я удивилась звездности неба. И не в том
смысле, что звезд много и что они большие-маленькие, го¬
лубые там или зеленые, а в том, что я как бы знала, кто из
них мужчина или женщина, кто старик, а кто молодой, и
даже пристрастия каждой звезды были определены. На¬
пример, были такие, что морщились от неудовольствия.
Были и подхихикивающие.
Звезды так взволновались, что я вышла на балкон:
вдруг это ложный эффект и его дало стекло окна? Когда
421
уже вышла, сообразила — у меня не было балкона.
Я ведь живу на первом этаже. И там я вспомнила или по¬
няла, что Храмцова умерла уже давно. Я сюда въехала, а
через неделю Храмцову вынесли ногами вперед. Мы даже
не были знакомы, а что соседка по фамилии Храмцова, так
это я узнала, потому что были выборы и какие-то ребята
пришли проверять списки. И я им сказала: «В пятьдесят
шестой женщина умерла». И парень, веселый такой, ска¬
зал: «Вот и замечательно. Баба с возу... Значит, вычеркнем
Храмцову навсегда...»
А тут вижу: стоит в дверях моя мама. На ней серое пла¬
тье рубашечного покроя. Такого в ее время не было. На шее
бусы каких-то красных необработанных камней, сроду та¬
ких не видела.
— Где ты нашла этот битый кирпич? — спросила я
маму. — Это натуральное или подделка?
— Подделки кончились, — сказала мама. — Ты ве¬
дешь себя глупо.
Я пошла с ней в эту вот комнату, тут как бы сидели го¬
сти.
— Это твой отец, — сказала мама, показывая на не¬
известного мне мужчину. — Он сидел на твоем месте.
— Откуда ж мне его знать, — засмеялась я, — если
он пропал без вести, когда мне было три года.
Потом смотрю — Митя. Улыбается, он же сроду при¬
ветливый. А рядом с ним Гоша. И вся ваша родня.
Я только собираюсь их спросить, как все исчезают...
Я не помню уже, сколько раз так было. Уже нет страха,
а одно ожидание звонка Храмцовой. Уходят они тоже все¬
гда в тот момент, когда я раскрываю рот. Раскрываю, а
моль между ладонями. Бью.
— Вы, Фаля, — смеюсь я, — просто задремываете
на ходу... Такое случается...
— А стулья? Ты на них посмотри. Так может расста¬
вить нормальный человек?
422
«Конечно, не может, — про себя думаю я. — Ты сама
произнесла это слово. Ты, Фаля, тихо пятишься с ума...
Ничего удивительного — старость, одиночество и горе».
Я думаю, что надо позвонить Ежику и рассказать, что
мать выходит на несуществующий балкон.
— Не вздумай, — читает мои мысли Фаля. — Не
хватало, чтоб он меня возненавидел. Сейчас он раздража¬
ется на расстоянии, а ты ему задашь задачу. Устраивать в
больницу, то да се.
Только в хорошем чтиве я приму ходящих в салопе при¬
зраков. В жизни — увольте. Обвисшую юбку — это да,
пойму. Этот чертов загиб в две ладони внутри ее. Это ужа¬
сающее убывание тела, самоуничтожение плоти, мечущейся
между вкривь и вкось расставленных стульев.
Болезнь, тяжелая болезнь... Ежу видно, а сыну Ежику
нет. Такая вот невольно лингвистическая получилась фигу¬
ра.
Зачем меня позвала Фаля, зачем? Что я должна сде¬
лать? Что? Разогнать ее призраков?
— Ничего не надо, — впопад отвечает Фаля. — Ты
просто должна знать. Храмцова приходит из-за Мити.
— Но Митя тоже ведь там, — говорю я. — Могли
бы между собой разобраться. — Такой у меня юмор.
Мне не нравится разговор, мне он неловок. Быть напо¬
ловину ненормальной нельзя, как нельзя быть наполовину
беременной. А тут именно случай половины. Здравая
часть Фали ведает мне о нездравости, одновременно пред¬
лагая мне эту нездравость считать нормой.
— Мне надо разобраться с прошлым, — говорит
Фаля. — Чтоб не бегать туда-сюда, как Храмцова. Надо
рассказать о Мите. Ты ведь в курсе, какой он был бабник?
Весь народ был в курсе...
— А вы его бабе покупали корову, — смеюсь я.
— Ты знаешь?
— Вы сами мне рассказали...
423
— Не помню, — отвечает Шаля. — Не помню, что
рассказала... А я тебе рассказала, как он умер?
— От колики...
— Понятно... Не от колики. От моей руки.
— Шаля! Не берите на себя грех. Вам это кажется. Вы
поверили в то, чего не было...
— Не было?
Она замирает, и я вижу, что она не то что растеряна и
сбита с толку, а потрясена чем-то другим, куда более важ¬
ным...
— А про веночки я говорила?
— Какие веночки?
— Слава богу, — сердито говорит она. — Как ты не
понимаешь, что меня сейчас не надо сбивать с пути. Не де¬
лай этого.
...Меня тогда добили веночки из одуванчиков. Ты их
когда-нибудь плела? Руки от них делаются черные и лип¬
кие. Я это помню. Значит, так... Я еду... Ах да... Надо
объяснить. Я взяла служебную машину как бы для инс¬
пекции... Шофер был грек. Или армянин? Молодой па¬
рень. Сильный. Жара. Он потел. Я это помню до сих пор
ноздрями — крепкий мужской пот, от которого у меня
кружилась голова. Но заметь, это важная деталь: я не от¬
крывала окно. Я это вдыхала.
И продолжала после паузы:
— Больше всего на свете я боюсь, что, когда буду уми¬
рать, ляпну в бессознанье про это... Уходящая старуха
ведь может что-то вспомнить — слово там, имя, дей¬
ствие... И прохрипит остающимся стыдную тайную мысль,
с которой жила всю жизнь. Это ж какой случится позор!
«Ах вот оно что! — ду}лаю я. — Она страхует себя от
возможной болтливости, когда ослабеет мозг. Говори,
Шаля, говори. Я тебя пойму. Я у тебя одна. Но ты права:
проговориться о себе страшно».
— ...Вот мы, значит, едем. Медленно так, будто боим¬
ся курей подавить. А на крыльце сидят две Офелии в ве-
424
ночках и поют «Виють витры, виють буйни...». У Любы
голос — тонкий бисер, а у Зои — контральто, бархат.
И они, значит, как бы вышивают песню. Я говорю шофе¬
ру: «Остановись, чтоб не видели... Хорошо поют». Встали,
а тут выходит Митя с тазом и начинает развешивать одной
рукой своей полотенца. Эти с песней сорвались и давай ему
помогать. Такой полоумный коллективный труд. Я говорю
шоферу: «Поехали». И до сих пор гоняю мысль: Митя сам
одной рукой стирал или уже после них вешал? И так мне
стало... Не передать... Когда уже не понимаешь ни кто ты,
ни зачем... Только вот запах мужчины в машине... Он один
от жизни... И я сказала греку... Или армянину: «Остано¬
вись». Это уже в чистом поле.
Вот этой остановки — не баб! — я Мите уже про¬
стить не смогла. Я не знала, что я такая. Что это может
во мне возникнуть и я сама позову мужчину. И буду звать
потом. Я все боялась, чтоб он не стал говорить, мне было
бы это не пережить, но он молчал. Всегда. Ты хочешь спро¬
сить, как все было?
— Нет, — ответила я, — какое это уже имеет значе¬
ние?
— Так и было. Еще с войны у меня был порошок.
А он тогда мучился болью.
— Я вам не судья, — пробормотала я Фале. — Да и
никто вам не судья. Как говорится, за давностью лет...
И тут Фаля заплакала. Она плакала тихо, по-старуше¬
чьи, застенчиво сморкаясь и аккуратно подтирая нос, губы и
проверяя потом сухими пальцами кожу лица и стесняясь сво¬
ей возможной неопрятности. Во всех этих ее движениях,
мелких и частых, была не просто чистоплотность, а деликат¬
ность, желание не задеть другого своим видом и обликом.
Она уснула как-то сразу, мгновенно, а я, грешница, бо¬
ялась, что, высказавшись, она не захочет возвращаться и
найдет во сне дверь в другие пределы. И что мне тогда де¬
лать? Но она проснулась, стала извиняться, а я засуетилась
уходить.
425
Мы обнялись с ней на прощанье, и я поняла, что я люб¬
лю эту старуху, получалось, что и она любит меня. Иначе...
С чего бы нам так оплакивать друг друга?
Когда вышла, слышала, как Фаля тяжело двигает сту¬
лья. А я вот не сообразила это сделать.
Я рассказала все Шуре. Кроме армянина-грека.
— Тоже мне новость, — ответила Шура. — Мы на-
род-убивец, это давно известно.
— Во мне нет осуждения, — сказала я. — Еще не¬
известно, случись мне на дороге две Офелии в веночках и
случись в кармане порошок.
— Кстати... — ответила Шура. — Этого не знает
никто... Мой дурак Левон давным-давно был в нее влюб¬
лен. Он тогда шоферил в горздраве. Любовь снизу вверх.
Понимаешь? Но она этого не заметила, она вообще его не
запомнила. А он все стеснялся потом с нею встречаться.
Его просто колотун бил. Смешно, правда? Левон и Фаля...
Хорошо, что мне всегда это было до звезды...
426
Актриса и милиционер
7 ноября
«Рассказать бы кому...» — думала она.
В тот вечер в метро продавали запаянные в целлофан
орхидеи. Белые с красноватым узором лепестки страстно,
распахнуто стояли на узком черном стебле. Продавщица из
новообращенных инженерок сразу стала их навязывать.
Пришлось уйти, уйти противно-торопливо. Так уходишь от
стыда. Дурного запаха. Хамства. Хотя какое хамство?
Сплошная доброжелательность. Обнять бы инженерку-
оборонщицу, что училась на отлично сбивать американские
ракеты, и прошептать ей в ухо: «Извините, у меня на орхи¬
деи нет денег...» Но дело это рисковое. Оборонщица могла
бы закричать в ответ, что да, понимает, что было время,
когда она сама каждый год ездила в санаторий ЦК им.
Фабрициуса, а теперь вот — на! Торгует цветами. «Это,
по-вашему, что?»
Поэтому она и уходит быстро-быстро...
В метро сквозило, и хотелось быстрей оказаться дома.
Между прочим, Вадим был оборонщик. И оба-два ее
мужа. Они ушли от нее навсегда. Сегодня девять дней Ва¬
диму. Ей даже не с кем его помянуть. С томагочи. «Зве¬
рек» попищит, а она поплачет. «Ах, — думает она, — рас¬
сказать бы кому...»
Она ищет глазами лицо в толпе, которая станет потом
«лицом томагочи». Но сегодня день цветов. Много их —
чересчур! Больше всего гвоздик. Боже! Она совсем забы¬
ла. Сегодня же праздник. Зря из-за него тянут на гвозди-
427
ки. Красивый, ни в чем не повинный цветок. Она чувствует
сейчас любовь к гвоздикам. «За общность судьбы», —
смеется. Надо бы купить гвоздичку и ее сделать «лицом
томагочи», когда они будут поминать Вадима.
Но смешно сказать. У нее в кармане только проездной.
Последние деньги она истратила на лосьон «Деним» для
юного мальчика, милиционера, который спас ее от самой
себя и вернул ей слезы.
Кому бы рассказать...
Она не была актрисой милостью Божьей.
Ах, эта милость Божья! Вправе ли мы роптать на ее не¬
довес? Но когда прожито больше, чем осталось, такие вещи
про себя уже пора бывает знать. Хотя она это знала давно.
«Милость Божья, — думала она, — дар. А мне просто от¬
мерено». Как щепоть для посола. Она у нее точнехонькая.
«Вот этого у меня не отнять!» — смеется ее встрепанный ум.
Обычно она в ладу с ним, но временами!.. Как же он подвел
ее за последнее время, как подвел! Дурак ты, мой ум!
Рассказать бы кому...
17 октября
В тот день она ехала после пробы в шальной антрепри¬
зе — в одной такой она уже репетировала, где у нее была
третья по значимости роль. Главную должна была играть ее
землячка. Они из одного южного городка, более того —
они из одной школы. Уже много лет они делают вид, что не
знали друг друга раньше. Вот и на показе их «познакоми¬
ли». «Ах» — «ах»! Читали маленькую сценку. Она, как
всегда у нее, сразу с полной выкладкой, а землячка пута¬
лась в словах, соплях и ударениях, а потом вообще загундо-
сила, пришлось ей капать в нос, убирать со стола скатерть
из синтетического плюша как возможного аллергена, ис¬
кать супрастин.
428
Актриса милостью Божьей, — а такой была земляч¬
ка — может такое себе позволить. У милостью Божьих
иначе кровь брызжет, иначе кудри вьются.
В конце концов читку отменили. Она тогда ехала домой
с чувством глубокого удовлетворения. Землячка была про¬
тивная, а у нее есть работа. Это главное. А раз есть глав¬
ное, можно позволить себе скулёж. Это ее свойство. Она
ропщет именно в момент глубокого удовлетворения. Так
она ворожит, так боится спугнуть удачу.
К пятидесяти она уже чуть ближе, чем к сорока, и умри
она завтра — ни у кого от горя не оборвется сердце.
(У нее — увы! — к тому же не льстивый к себе ум.) Даже
ее редкое имя Нора Лаубе забудется в миг по причине не-
русскости его природы. Ее никогда не считали еврейкой
только потому, что славянская кладка не оставляла никаких
надежд антисемитам. Даже те, кто искал в ней немку или
прибалтийку, понимали, что такой высокий лоб и слегка
«утопленные» серые глаза бывают только у среднерусского
разлива. Проклятая и неизбежная националистическая че¬
пуха! Нора родом «из югов», где крови намешано не ска¬
зать сколько, а фамилия Лаубе досталась ей от мужа, с ко¬
торым она прожила два молодых своих года. Он был рус¬
ский, русский, русский.
Этот Лаубе-муж очень искал хоть в четвертом от себя
колене что-нибудь годящееся для эмиграции. Искал, но так
и не нашел, женился после Норы на какой-то приблудной
американке, нескладной, глупой, но какое это имело значе¬
ние? Взнуздал широкую спину болыиестопой барышни из
Айдахо и прыгнул. А Нора осталась носить эту фамилию,
которая вызывала нездоровые вопросы у траченного комп¬
лексом неполноценности населения. Имя же ей дала теат¬
ралка мама в честь ибсеновской Норы. Потрясший маму
429
спектакль Нора видела уже в свои пятнадцать лет. Его во¬
зобновили. Нору играла все та же актриса. Ей, видимо,
было столько, сколько Норе сейчас.
Было ощущение болезненного дискомфорта — так
идешь по длинному переходу, в котором побили лампочки.
Одним словом, чувства на спектакле «ее имени» были фи¬
зиологические, и хотя она была еще девочка, она понимала,
что так не должно быть... Тем не менее она заболела теат¬
ром — оказывается, бывает и так, — ища ответы на воп¬
росы, от которых во рту был железистый вкус, а на зубах
трещало, как от песка. Ну что ж... Судьба приходит по-
разному. К ней она пришла выспренним именем, чужой фа¬
милией и притягательной силой пусть плохого, но театра.
Она поступила в институт с первого захода и училась на
повышенную стипендию. О том, что у нее не сложилась
судьба, знает только она сама. Для многих, очень многих
она везунчик. Всегда при ролях. Всегда нужна. Никому нет
дела до милости Божьей, кто ее вообще придумал? «У Ла-
убе все схвачено». Вот как говорят про нее. И ее ум не спо¬
рит. Она знает, что нельзя оспоривать глупца... Из мудрос¬
тей — мудрость. Эта Нора Лаубе много чего знает. Она
хитрая. Она мудрая. Можно и одним словом.
17 октября
Возле подъезда клубился народ. Сейчас ее зацепят гла¬
зом и будут долго держать, чтоб потом сожрать с потроха¬
ми, как доставшуюся добычу. О этот люд подъезда! В го¬
роде ее детства Ростове подъезд называли «клеткой». «Вы
в какой клетке живете?» $)то было так точно. Люди —
клетки. С соответствующими законами жанра клетки. Она
подошла совсем близко и вдруг поняла, что странньщ обра¬
зом сейчас, сегодня не представляет интереса для «клетки».
Что может пройти незамеченной мимо толпы, потому что у
той другое направление интереса. Норе так хотелось до-
430
мой, к джину с тоником, что она почти минула их всех, но
что-то ярко полосатое, почему-то известное ей, остановило
ее взгляд. На земле лицом вниз, сжимая в руках махровое
полотенце, лежал человек и весь дрожал, как будто бы че¬
ловек рыдал в это самое полотенце. Был хорошо виден
странно заросший затылок с неправильным направлением
волос.
— Что с ним? — спосила Нора.
Даже для ответа люди не повернулись к ней — так при¬
тягательна была эта чужая дрожь.
— Упал с балкона, — сказали ей.
— Или скинули, — расширялась картина знаний.
— Или сам, — восхищался народ широтой возможнос¬
тей смерти.
— Могло под ним и обломиться...
Нора подняла голову и увидела бесконечность свесив¬
шихся с балконов и окон голов. Некоторые головы были
так лихи, что подтягивали к себе уже все туловище, и это
выглядело жутко на виду у лежащего. Без капли страха и
ужаса. Но головы отважно нависали — им было по фигу
чужое падение, но получалось, что — и свое тоже.
— С какого этажа? — спросила Нора.
— Неизвестно, — ответила толпа. — Может, и с кры¬
ши.
Но тут подъехали «скорая» и милиция, и Нора первой
вбежала в лифт, не дожидаясь, когда народ начнет расса¬
сываться. Уже в лифте она подумала: «Человек не мог
упасть с крыши. Под ним было полосатое полотенце, точно
такое, как у нее самой сохнет на балконе».
Ее охватила паника, и она просто бежала к двери, кото¬
рая была у нее просто дверью из ДСП, которую выдавли¬
вают хорошим плечом за раз. Такое уже случалось, когда
она потеряла ключи и пришлось звать соседа. Тот пораска-
чивался на месте туда-сюда, сюда-туда — и дверь под ним
хрустнула жалобно и беспомощно. Пришлось купить дру¬
гую дверь у этого же соседа, который обзавелся металли-
431
ческой. Может, он и ломал Норину дверь с надеждой, что
понадобится другая? Его предыдущая дверь лежала под
диваном и раздражала жену, но сосед — как знал! — тер¬
пеливо ждал какого-нибудь подходящего случая. И — на
тебе! Дождался и продал старую дверь. Норина связка
пропорола тонкую подкладку кармана, и ключи брякнули,
когда она вдавливалась в троллейбус. В конце концов ва¬
гончик тронулся — ключи осталися. Была целая история,
как она возвращалась к этому месту, но вам когда-нибудь
удавалось найти то, к чему вы возвращались? ...Вот и Нора
ключей не нашла.
Сейчас дверь (бывшая соседская) была цела, и замки
на ней все были на месте. Дома пахло домом, без чужачих
примесей. Мысль снова вернулась к этому человеку на зем¬
ле, и Нора пошла на балкон, чтоб, как все, «свеситься и
посмотреть».
Ограда ее балкона была сбита и погнута, бельевая ве¬
ревка сорвана, с оставшейся прищепкой валялись на бетоне
трусики, лифчик зацепился за штырь ограды.
Полотенца не было.
Невероятно, но факт. Человек упал с ее балкона. Ка¬
ким-то непостижимым образом он попал на него, согнул пе¬
рила, сорвал белье. Нора посмотрела вверх. Из кухонных
окон, что были выше, свисали головы, они были безмятеж¬
ны и наслаждались смертью.
В доме девять этажей. Ее — шестой.
«Сейчас придет милиция, — подумала она. — Значит,
не надо пить джин». Ведь ей предстоит давать показания.
Объяснять, как, не входя в квартиру, человек оказался на
ее балконе. Что ему было ну>$но на нем? Ведь не мог же он
залететь туда, падая?
Нора вымыла руки и стала ждать.
К ней никто не пришел.
Вечером, собираясь в театр, она подумала, что это по
меньшей мере странно... Горячие следы там и прочая, про-
432
чая... Но тот человек на земле дрожал. Возможно, он ос¬
тался жив и сам объяснил, как под ним оказалось ее поло¬
тенце. Тогда ей как минимум должны были бы это объяс¬
нить. Большое махровое полотенце, почти простыня, поло¬
са желтая, потом зеленая, потом оранжевая и снова жел¬
тая... Хорошее полотенце. Норе его жалко.
На улице она посмотрела на то место. Смятый газончик.
Сломанные ветки тополя. Из подъезда вышла женщина со
второго этажа. Она, как и Нора, жила в однокомнатной
квартире и все время ждала, когда ее убьют. Она первая в
подъезде (клетке!) поставила металлическую дверь и за¬
стеклила балкон, а на окнах сделала решетки. Но от всего
этого бояться стала еще пуще, ибо квартира с такими при-
бамбасами неизбежно становилась ценней, а значит, убить
ее было все завлекательней. Ее звали Люся, и она работала
кассиршей в аптеке.
— Видели, у нас тут с крыши спрыгнул? — спросила
Люся.
— С крыши? — опять задала свой вопрос Нора.
— У него на чердаке было место. Матрац и даже сто¬
лик... Вот несчастные люди с девятого этажа, вот несчаст¬
ные. Мог ведь их поубивать! — Люсе нравилась грозящая
другим опасность. Даже жаль, что «разбойника» нет, хоро¬
шо бы он попугал девятиэтажников, как ее пугает улица.
Хорошо, чтобы что-то случилось с другими. Ужас вокруг
странным образом успокаивал Люсю, придавая этим как
бы большую крепость ее замкам и решеткам. Но так мгно¬
венно кончилась замечательная история. Человек разбился,
а милиция тут же нашла, откуда он выпал...
Люся смотрела на Нору и думала, что хорошо бы и с
этой артисткой что-нибудь случилось — нет, она к ней,
можно сказать, даже хорошо относится, но если выбирать,
то пусть убьют артистку. Какой от них прок людям? Не
сеют, не пашут, не пробивают в кассе лекарства. Люся
смотрит на Нору, Нора смотрит на Люсю.
433
«Какая сука! — думает Нора. — какая сука!»
И разошлись. В тот вечер Нора играла Наталью в
«Трех сестрах». Она всегда не любила эту роль, хотя ей го¬
ворили, что она у нее лучшая. Ну да! Ну да! Наталья —
фальшивая обезьяна. Обезьянство обезьянски обезьянное.
«Бобик!», «Софочка!» Фу...
В финале, говоря последние по пьесе Натальины слова
«Велю срубить эту еловую аллею... Потом этот клен...
Велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах...»,
увидела глаза актера, игравшего Кулыгина, и так закричала
«Молчать!», что тот реплику «Разошлась!» сказал как бы
не по пьесе, а по жизни. Это она, Нора, разошлась, тут
финал, когда тут сейчас сестры будут высевать во все сто¬
роны разумное, доброе, вечное, а она Нора—Наталья как
будто забыла, что она тут не главная. Натянула на себя
одеяло и закончила пьесу тем, что сказала всем: «Мол¬
чать!», хотя столько-то других слов и такие туда-сюда ми¬
зансцены.
Но теперь все так торопятся, что никто, кроме напарни¬
ка, не заметил ее разрушений. Не пришлось, оправдыва¬
ясь, объяснять, что с ее балкона разбился человек, что ник¬
то про это ничего не знает, хотя у милиции есть улика —
ярко-оранжево-зелено-желтое ее, Норино, полотенце.
Она рассказала все Еремину (Кулыгину), с которым не
то дружила, не то крутила роман, одним словом — имела
отношения, в которых можно рассказать то, что не всем
скажешь.
— Знаешь, — сказал Еремин, — перво-наперво почи¬
ни перила, а потом сразу забудь. В милицию не ходи ни в
коем разе. Это последнее место на земле, куда надлежит
идти человеку. Даже при несчастье, даже при горе... Вер¬
нее, при них — тем более. Сию организацию обойди дру¬
гой улицей.
— Но он был на моем балконе!
— А тебя при этом не было дома. Тебя, как говорится,
там не стояло.
434
— Если так подходить... — возмутилась Нора.
Но Еремин перебил.
— Не взвывай! Только так и подходить. Заруби на
носу. Милиция. ФСБ. ОМОН. Армия. Прокуратура. Ад¬
вокатура. Суд. Что там еще? Беги их! Они — враги. По
определению. По назначению. По памяти крови и сути сво¬
ей.
— Окстись, — сказала Нора. — Я без иллюзий, но не
до такой же степени!
— До бесконечности степеней, — ответил Еремин. —
Пока не умрет тот последний из них, кто уверен, что имеет
над тобой право.
— Ванька! — засмеялась Нора. — Так тебя ж надо
выдвигать в Думу.
— Я чистоплотный, — сказал Еремин. — А ты, Лау-
бе, теряешь свой знак качества. Ты, Норка, читаешь совет¬
ские детективы.
— Нет, нет и нет... Неграмотная я...
Но всю дорогу из театра она продолжала этот разговор
с Ереминым, а когда пришла, то, несмотря на ночь, позво¬
нила в милицию, что хочет завтра видеть участкового по
поводу... Тут она запуталась в определении, замекала и по¬
ложила трубку.
Ночью ей снился сон. Она меняется квартирой с Лю¬
сей, и та требует приплату, что с ее второго этажа лучше
виден упавший. «Смотри! Смотри!» Люся тащит ее на свой
балкон, и Нора хорошо видит затылок мужчины, заросший
густо, по-женски. «Бомжи не ходят в парикмахер¬
скую», — думает она. «Отсюда и вши, — читает ее мысли
Люся. — Но до второго этажа они не дойдут. У вшей сла¬
бые конечности».
На этом она проснулась. «Затылок, — подумала. —
Я его почему-то знаю». «Дура, — ответила себе же. —
Такую кудлатую голову носит, например, их прима. Вечные
неприятности с париком. Они ей малы, и прима по-кресть-
435
янски натягивает парик на уши. И делается похожа на мо¬
роженщицу у театра. Та тоже тянет на уши шапку из песцо¬
вых хвостов... А потом делает этот странный дерг бедра¬
ми — туда-сюда... И вороватый взгляд во все стороны —
видели? Не видели? Что я крутанулась вокруг оси?» Нора
не раз приспосабливала жесты мороженщицы к своим ро¬
лям. Очень годилось, очень... Пластика времени... Подер¬
гивание и растягивание. Загнанный в неудобные одежки
совок. Человек не в своем размере. Совершенство урод¬
ства. Господи, сколько про это думалось! «Эта Лаубе свих¬
нется мозгами!»
Так вот... Затылок... «Я знаю этот затылок в лицо», —
подумала она снова.
18 октября
Милиционер пришел сам. Надо же! Именно накануне у
них в участке опробовали телефон-определитель, он сраба¬
тывал через два раза на третий, но ее звонок был как раз
третьим. Участковый пришел в их подъезд по вызову: се¬
мейная драка в квартире шестнадцать. Звонили из семна¬
дцатой — у них от шума вырубился свет. Участкового зва¬
ли Витей — нет, конечно, он был Виктор Иванович Крав¬
ченко, но на самом деле все-таки Витя, даже, скорей, Ви¬
тек. Он приехал из Ярославской деревни, где работал ме¬
хаником. Но тут механизмы кончились, председатель все
пустил по миру, а то, что осталось, «уже не подлежало
ремонту». Эти слова Витя прочитал в акте по списанию
механизмов, и они вошли в него одним словом: «непод-
лежалоремонту». Теперь Витек работал в милиции, жил в
общежитии и не переставал удивляться разности жизней
там — в деревне и тут — в столице. Конечно, он бывал в
Москве, и не раз, в мавзолее бывал, на ВДНХ, ездил
туда-сюда на водном трамвае, в метро познакомился с де¬
вушкой из Белоруссии, тоже деревенской, они стали писать
436
друг другу письма, а потом почта «накрылась медным та¬
зом». Жаль девушку. Такая беленькая-беленькая. Ресницы
такие редкие-редкие, но длинные-длинные. Существую¬
щие как бы сами по себе, они очень волновали Витю. Он
старался положить этому конец, так как не любил, когда в
душе что-то тянет. И он даже написал ей, что «нашу друж¬
бу нельзя считать действительной, ибо никак»... После¬
дние два слова повергли его в такое сердцебиение, что
письмо пришлось порвать, но «ибоникак» (тоже пишется и
звучит вместе) почему-то в нем осело на дно и стало там
(где? где осело?) укореняться.
Но это когда было! Он тогда приезжал в Москву гос¬
тем, а сейчас он тут замечательно работал, жил в хорошей
теплой комнате с таким же, как он, милиционером из Там¬
бова. Ничего парень, только очень тяжел духом ног. Витя
старался держать форточку открытой — ибоникак.
Так вот... Он позвонил Норе в девять утра, откуда ему
было знать, что в такое время артистки еще не встают, это
не их час. Но он ведь понятия не имел, что она артистка.
Знал бы — сроду не пришел.
Нора едва запахнула халат и впустила Витька. Пока
поворачивался ключ, он громко сглотнул сопли и сделал
выражение приветливости при помощи растягивания губ.
«Улыбайте свое лицо», — учил их капитан-психолог на
краткосрочных курсах. Москва тогда напрягалась к юби¬
лею, и это было важно — не отпугивать лицом милиции
страну людей.
Дальше все полетело к чертовой матери. Нора открыла
дверь. А когда она это делала, то всегда рисовалась на
фоне афиши кино, где еще в младые годы сыграла малень¬
кую, но пикантную роль легконравной женщины, которая
во времена строгие позволяла себе, заголив ногу, застеги¬
вать чулок (дело происходило до войны и до колготок) в
самой что ни на есть близости к табуированному месту.
Длинные Норины ноги толкали сюжет кино в опасном на¬
правлении, и тем не менее это было снято и показано! И в
437
чем и есть главный ужас искусства — осталось навсегда.
Недавно фильм демонстрировали по телевизору, и, конеч¬
но, никто ничего не заметил, тоже мне новость: три секун¬
ды паха и кромки трусов. Даже детям это уже давно можно
смотреть. Но Витя, человек по природе здоровый и не ис¬
порченный душевно, был — по кино — очень на стороне
мужчины, которого эта женщина без понятий волокла к
себе грубо и без всяких яких. Он остро пережил этот мо¬
мент насилия над мужским полом и момент его потрясения
нечеловечески красивой ногой, ведущей простого человека
в самую глубь порока.
А тут возьми и откройся дверь, и Нора стоит в халате,
по скорости одевания не тщательно запахнутом, и даже
где-то чуть выше колена белеется то самое тело, и можно
всякое подумать, опять же афиша не оставляет сомнения,
что он видит то, что видит, а потом Витек наконец подыма¬
ет глаза на Нору.
«Надо убрать эту чертову афишу», — думает Нора,
глядя, как странно меняется лицо парня. От обалдения до
еще раз обалдения. «Да, милый, да! У тебя есть другой
способ жизни, кроме как старение?» Норе думалось, что
это его потрясло. Ее сегодняшний возраст.
— Участковый уполномоченный Виктор Иванович
Кравченко, — прохрипел Витя.
— Заходи, Иванович, гостем будешь, — насмешливо
сказала Нора.
Был момент приседания милиционера от еще одного
крайнего потрясения. На диване лежало постельное белье,
и было оно в шахматную клетку. На квадратиках были
изображены фигуры, и они как бы лежа играли партию.
Вите даже показалось, что королю шах — для точности
знания надо было бы распрямить простыню, примятую те¬
лом женщины. Вот на этом он слегка и присел, чудак-ми¬
лиционер, выпускник самых краткосрочных в мире курсов.
«У\ыбайте свое лицо!»
438
— В кухню! — сказала Нора, закрывая дверь в комна¬
ту. — Вы пришли очень рано. Да... Рано... Это по поводу
случая в подъезде?
— Я по поводу вашего звонка, — строго сказал Витя.
— А! — засмеялась Нора. — Вычислили...
Витя не понял. Ему сказали: «Был сигнал с такого-то
номера. Будешь в доме — проверь». Лично он ничего не
вычислял.
— Дело в том, — сказала Нора, — что тот человек
сломал мне балкон, и под ним было мое полотенце. Это
можно как-то объяснить?
— Можно, — ответил Витя. — Произошло задевание
ногой.
Нора смотрела на молодое, плохо выбритое лицо. Угри
на лбу и на крыльях носа. Дурацки выстриженные виски.
След тугого воротничка на молодой белой шее. Странно не¬
жной. Разве милиционеру гоже иметь нежную шею? Гость
же тщательно скрывал несогласие с миром вокруг, то есть с
кухней, ее Нориной кухней. «Несогласие побеждает в нем
интерес, — думает Нора. — Очень смешной».
— Вы из каких краев? — спросила она.
— Мы ярославские, — ответил Витя.
«Правильный ответ, — подумала Нора. — Если бы я
спросила: «Ты из каких краев?», он бы ответил: «Я ярос¬
лавский». Единственное и множественное число у него не
путаются.
— Так вот... — сказала она. — Он не мог задеть ногой
полотенце.
— Кто? — спросил Витя. Он не поспевал за Нориной
мыслью. Ей интересно то одно, то другое, но ведь сам он
думает о третьем. Вот он сейчас был в шестнадцатой квар¬
тире, там не было никакой разницы с тем, что он знает про
квартиры вообще. Диван. Стенка. Табуретки в кухне. По¬
ловик. Еще зеркало. В семнадцатой, правда, у него немно¬
го завернулись мозги. Трехэтажная кровать. Купе, одним
словом. Он ехал из Ярославля на третьей полке. Противно.
439
На спине — как в гробу, на боку — как в блиндаже. Сем¬
надцатая ему не понравилась отношением к соседям. Если
на каждый вскрик звать милицию...
«Есть люди отрицательного ума, — объяснял им капи¬
тан-психолог, — им все не нравится. Они желают жить на
земном шаре в одиночестве. Только они и земной шар.
С ними надо по жесткому закону. Есть и заблужденцы.
Вот тут нужна чуткость сердца. Это контингент нашего
поля зрения».
Витя не знает, что думать об этой кухне. Он не знает,
как быть с женщиной, которая со стороны лица, тихо гово¬
ря, старая, а со стороны ноги, а также виденного кино, вы¬
зывает в нем некоторое дрожание сосудов. А он этого не
любит. (См. историю с девушкой из Белоруссии, которая
отрастила каждую ресничку по отдельности, как будто на¬
рочно, чтоб смущать людей. Капитан-психолог говорил:
«Надо всегда идти от правила нормы»).
— Меня зовут Нора, — сказала Нора, и Витя под¬
прыгнул на стуле, потому как два слова сошлись и удари¬
лись лоб в лоб.
Норма и Нора.
Что за имя? Он не слышал никогда. Он путался в бук¬
вах, не имеющих для него смысла. И он разгневался. Но
так сказать, это все равно что назвать па-де-де из всемир¬
но известного балета Минкуса «Дон Кихот» словами «два
притопа — три прихлопа». Гнев Вити был пупырчато-ро¬
зовым и начинал взбухать над левой бровью. Мама, не ве¬
дая про рождение гнева, говорила: «Что-то тебя укусило,
сынок. Потри солью». Одновременно... Одновременно ему
хотелось что-то заломати. В детстве он ломал карандаши,
на краткосрочной учебе —шариковые ручки. Капитан-
психолог говорил, что это «нормальная разрядка электри¬
ческого тока в нервах. Такой способ лучше, чем в глаз».
На столе у Норы лежал, горя не знал, кристаллик мор¬
ской соли — Нора пользовалась ею. Витя раздавил его
ногтем большого пальца, как вшу какую-нибудь, и его сра-
440
зу отпустило. У женщины же высоко вспрыгнули брови и
стали «домиком». Таким было взбухание Нориного гнева.
Она схватила цветастую тряпку и протерла это место на
столе, место касания соли и ногтя.
— Я поняла, — сказала Нора, — вы не в курсе. Так
ведь? Откуда человек упал?.. Кто он?.. А может, его сбро¬
сили? Задевание ногой!.. Это ж надо! Вы себе представля¬
ете, как нужно махать ногами, когда летишь умирать?
Витя растерялся. Он представил себе физику и свобод¬
ное падение тела. Он как бы вышел во двор, расположился
возле трансформаторной будки, приложил ко лбу ладонь
козырьком и стал видеть. Размахивания ногами не было.
А потому все балконные перила оставались целы. А эти —
на шестом — почему-то надо чинить.
Невинные, не тронутые игрой ума мозги Вити напряг¬
лись и с губ сорвался так сказать результат такого неожи¬
данного процесса.
— Значит, он был у вас, — сказал Витя, удивляясь но¬
вой модуляции голоса — откуда, блин? И для страховки
покидающих его сил он схватился за планшет и резко по¬
вернул его с бока на живот.
И хотя это был планшет — не кобура, сама эта рез¬
кость жеста не то чтобы напугала Нору — кого пугаться,
люди? — но привела ее к очень естественному и абсолютно
правильному выводу: она идиотка. Потому что только пол¬
ный ... (вышеупомянутое слово) будет так подставляться
нашей милиции, которая никогда сроду никого не уберегла,
ничего не раскрыла и давно существует в образе анекдота:
«Милиционеры! На посадку деревьев готовьсь! Зеле¬
ным — вверх! Зеленым — вверх!» Вот и перед ней сейчас
точно такое «садило» — из всех возможных и невозмож¬
ных вариантов он выщелкнул одно: сама позвала — сама
виновата.
— Не было его у меня, — с ненавистью, несколько из¬
лишней для весьма слабого случая, сказала Нора. — У ме¬
ня был закрыт балкон, и в квартире все осталось в порядке.
441
— А кто это засвидетельствует? — грамотно спросил
Витя, удивляясь складности ведения разговора и тому, что
он напрочь забыл уходящую в бесконечную высь ногу ар¬
тистки, а вот пожилую женщину, наоборот, иден-ти-фи-ци-
рует хорошо. Пожилая, халат нараспашку и провокация в
расчете на слабость его молодости.
— Нет, — ответила Нора, — я была одна, когда при¬
шла домой.
Она тут же пожалела об этом. Надо было соврать —
сказать, что с ней был Еремин. Тот бы не колебался ни се¬
кунды, ему лжесвидетельствовать — хлебом не корми. Ко¬
нечно, он бы ее выручил.
— Я вам сказала то, что есть... Мне показалось, это
для вас важно...
— Конечно, конечно, — ответил Витя. — Разрешите
осмотреть балкон.
С тех пор как она обнаружила сломанные перила, Нора
на балкон не выходила. В тот же день, когда она все увиде¬
ла, она остро ощутила притягательность этого слома. Ее
балкон теперь легко покидался, и хотя она считала, что аб¬
солютно лишена всякого рода маний, это неожиданно прон¬
зившее чувство легкости последнего шага повергло ее в до¬
селе неизведанное состояние. Нет, не так... Веданное...
Получая роль в спектакле, она всегда знала, какой должна
быть интонация, какой голос должен быть у первой фразы
на репетиции. Но никогда не придурялась перед режиссе¬
ром, играя с ним и сама с собой долго и нудно, пока хватало
куражу, проигрывая все ложные пути. А потом... Вдруг в
одночасье взять и произнести реплику так, как то надо!
Она делала все сразу, лишая себя удовольствия от репети¬
ции.
Так вот, веданным изначально было и движение вниз, с
балкона, стоило только чуть-чуть приподнять ногу.
«Но я никогда такого не хотела, ■— смятенно думала
Нора. — Это просто страх высоты. Притягательность без¬
дны...»
442
Витя тоже смотрел вниз. И ему тоже было страшно.
Это был нормальный страх живого тела. Просто «страшно,
аж жуть» — и все тут.
Потом он потрогал обвисшие веревки, сырые и холод¬
ные. На бетоне так и лежали прищепки. Некоторые были
сломаны, видимо, те, что держали толстое полотенце. Но
это знала только Нора, а для Вити наблюдение над при¬
щепками было высшей математикой сыска. И она была
лишней, математика, потому что и так все ясно. Человек
упал отсюда, а значит, он тут был. У этой женщины.
— Другого способа попасть на балкон, как через квар¬
тиру, нету, — сказал он. — Нету.
— Что, разве нельзя на него спуститься с крыши, с
верхнего этажа? — возмутилась Нора. — Или подняться
с пятого? Вы это проверяли?
— Проверим, — ответил Витя.
Нора закрыла за ним дверь и выругалась черным ма¬
том. Господи! Зачем она в это ввязалась? Ведь у милиции
есть такая замечательная версия про бомжа на чердаке. Все
объясняет и снимает все вопросы. Какого же еще рожна!
В душе в тот самый секундно неприятный момент, когда
она поворачивала кран на холодную воду, она опять увиде¬
ла затылок погибшего, увидела неправильность растущих
волос, делающих странный густой поворот, она ощутила
эти волосы рукой, и ее пальцы как бы разгладили крутой
серповидный завиток. Боже! Что за чушь? Ничего подоб¬
ного с нею не было!
— О! — сказал ей Еремин. — С полным тебя приеха-
лом! Признайся, женщина, ты бросала своих младенцев в
мусоропровод? У тебя же типичный синдром Кручининой!
— Еремин! Я знаю эту голову наощупь! А детей в му¬
соропровод не бросала.
— Ты про затылок сказала милиционеру?
443
— Бог миловал! Но если я знаю, что он был на моем
балконе, значит, какая-то связь между нами есть?
— Нету, — нежно сказал Еремин и обнял Нору. —
Знаешь, — добавил он, — очень много спяченных с ума.
Более чем... Не ходи к ним... Оставайся тут... Чертова под¬
корка делает с нами, что хочет. Она сейчас президент. Но
какой же идиот живет у нас по указам президента? Нора!
Освободи головку! Я подтвержу, что был с тобой в тот
день, но ты не призналась, чтоб не ранить мою жену. Тусь-
ке, конечно, ни слова. Она у меня человек простой, она ве¬
рит тому, что пишут на заборах.
Ей легко с Ереминым. Он все понимает, но правильные
ответы он перечеркивает. Он считает, что их не может
быть. Человеку, считает Еремин, знать истину не дано.
Ему достаточно приблизительности знаний. Таких, как
«земля круглая, а дважды два четыре». На самом-то деле
ведь и не круглая, и не четыре!
19 октября
В тот день у Норы не было вечернего спектакля, поэто¬
му она осуществила то, что не давало ей покоя. Она подня¬
лась на девятый этаж. И теперь стояла и смотрела в пото¬
лок — хода на чердак не было. Нора спустилась к себе,
взяла театральный бинокль и вышла на улицу. Стекла би¬
нокля запотели сразу, но ей и так были видны непорушен-
ныс трубы водостока и бордюр крыши. Она прошла вдоль
дома. Выход с чердака на крышу был с другой стороны
дома и над другим подъездом. Значит, чтобы спрыгнуть
так, как получалось, самоубийце пришлось гулять по кры¬
ше, переходя с восточной части на западную. Нора верну¬
лась к своему подъезду. Итак... Над ней еще три балкона.
Все они в полном порядке. Три близких к ним кухонных
окна. Это на случай той мысли, что покойник акробат-эк¬
вилибрист. Можно взять в голову и совсем дурное. Он рух-
444
нул, карабкаясь к ней с пятого этажа. Но и тут еще один
аккуратный балкон.
Нора не знала, что за ней следит Люся со второго эта¬
жа. Что у той все оборвалось внутри, когда она увидела в
руках артистки бинокль. Люся даже за сердце схватилась,
так у нее там рвануло. Если представить мозг Люси как
заброшенный и отключенный от воды фонтан «Дружба на¬
родов», что на ВДНХ, то сейчас как раз случилось неожи¬
данное включение. И трубы с хрипом и писком ударили
струями, и Люся практически все поняла про жизнь. Она
поняла, что надо спасаться в деревню и питаться исключи¬
тельно своим. Потому что верить в городе нельзя никому.
Ни людям, ни магазинам. Основополагающая мысль —
идея требовала подтверждений, и Люся как была в войлоч¬
ных тапках, так и ринулась вниз, чтоб окончательно засту¬
кать артистку за этим подсудным делом разглядывания чу¬
жих окон в бинокль.
Они столкнулись у лифта, и Нора сказала: «Здрав¬
ствуйте!» Потом она вошла в лифт и спросила: «Вы не еде¬
те?» Люся, вся подпаленная изнутри, не то что растеря¬
лась, просто ее сразила Норина наглость: «Вы не едете?»
Во-первых, она на второй этаж не ездит никогда; во-вто¬
рых, ты видишь, я тебя застукала, я поймала тебя с полич¬
ным биноклем, я все про тебя поняла, а ты мне как ни в чем
не бывало: «Здравствуйте! Вы не едете?»
— На улице сыро, — сказала Нора, нажимая кнопку и
глядя на войлочные тапки. И вознеслась.
Мемория
Нора жила в этой квартире уже больше десяти лет. С ума
сойти! Казалось, что все еще новоселка, таким острым
было тогда вселение. Первое время она просто не видела
людей, а потом уже привыкла их не видеть. Это на старой
квартире было соседское братство, ну и чем кончилось?
445
В этом подъезде она знала людей только в лицо и то про
них, что приходило само собой. Вот эта придурошная тетка,
которая работает в аптеке. Она сидит в кассе с поджатыми
губами и не признает никого. Ей кажется, что этим она
утверждает себя в мире. Такой же поджатостью губ (наци¬
ональное свойство) закрепляет свое место и журналистка с
седьмого. Сроду бы ей, Норе, не догадаться, что та журна¬
листка — персона известная. Ей по судьбе написано было
распрямить плечи и выплюнуть изо рта мундштук или что
там так крепко приходиться сжимать до смертной сцеплен-
ности губ.
Ах, это разнотравье человеческих типов! И такие, и
эдакие... По цвету и запаху, по манере сморкаться и гово¬
рить, по тому, как вьется волос...
«У меня уже так было, — думает Нора, — когда жила
с Николаем и смотрела, как он спит, то мне казалось, что я
знала другого мужчину, который спал точно так же, запро¬
кинув назад голову, отчего в сладости сна открывался рот и
из него шли попискивающие стоны. Такой способ спать мо¬
жет быть только у одного мужчины, имея в виду женщину
и число ее мужчин. ...Ей же виделся другой, как бы ею зна-
емый. Потом, потом... Уже после их развода мама сказала,
как странно спал ее, Норин, дедушка. Могла она это ви¬
деть?* Могла. Ей было пять лет, когда дедушка умер. Полу¬
чалось, что в случае с Николаем не было никакой мисти¬
ческой памяти. Сплошной грубый материализм запомина¬
ния, а потом забвения. До какого-то случая жизни.
Но если было раз, если у нее есть привычка заклады¬
вать знание и видение в самый что ни на есть под памяти,
то значит и ищи в нем? Сбивал с толку Николай. Она дав¬
но не думала о нем, мо^ет, пять лет, а может, два часа.
Они познакомились в Челябинске, где театр был на гас¬
тролях. Прошло два года, как большеступая перенесла на
своей спине первого мужа Норы в Айдахо. Он уже успел
прислать ей гостинец — платочек в крапинку и туалетную
446
воду «Чарли». Сейчас ее всюду, как грязи, тогда же она
долго не знала, как с ней быть, потому что была уверена:
вода мужская, просто Лаубе никогда ни в чем таком не раз¬
бирался, здесь он дарил ей духи «Кремль» с тяжелым, при¬
бивающим к земле духом, собственно очень даже соответ¬
ствующим названию. Так вот «Чарли» стоял полнехонек, а
у них гастроли в Челябинске, у нее роли в каждом спектак¬
ле, а подруга — химик из города Шевченко — пишет:
«Тебе надо сублимировать случай с твоим неудачным бра¬
ком. Возгори в творчестве».
Видели бы вы эту подругу. Такая вся мелкосерая ба¬
рышня с пробором не посередине и не сбоку, а где-то меж¬
ду. Отличница и собиратель взносов. Но только она могла
написать такое: «Возгори и сублимация».
В сущности, лучшего человека в жизни Норы не было.
Узналось это много позже, когда подруга разбилась на са¬
молете, выиграв какую-то дурацкую турпутевку в лотерею.
Через какое-то время Нора почувствовала: задыхается без
писем со словами: «Критика — сублимация бездарности.
Но ты знай: не от каждого можно обидеться. Роди ребен¬
ка. Я чувствую, что театр не может сублимировать твое
женское начало».
Нора бросала эти письма со словами, что «эта кретинка
могла бы выучить хотя бы еще одно слово». А кретинка
возьми и разбейся... Но это потом, потом... А пока она на
гастролях в Челябинске...
Она тогда играла как оглашенная. И еще не думала о
себе, что она не актриса милостью Божьей. Она вообще
тогда ни о чем таком не думала. Переходила из роли в роль,
казалось — так надо, не видела вокруг себя зависти и не¬
нависти, даже не так. Видеть видела, просто она инстинк¬
тивно переходила на другую сторону улицы, и если бы тог¬
да, двадцать с лишним лет тому, были говоримы слова «мо¬
лилась кротко за врагов», то да... Молилась. Было именно
то. Душа ее была щедра, а ум пребывал в анабиозе.
447
Так вот... Николай попал в их актерскую тусовку, по
тому времени — вечеринку, из инженеров-радиотехников.
Была там компания молодых ленинградцев, эдакие физи¬
ки-лирики, что сосредоточенно поглощали симфоническую
музыку, театр, джаз, передавали друг другу ротапринтного
Булгакова и жили черт-те где и черт-те как в смысле быто¬
вом.
«Не хочу! — кричит себе Нора. — Не хочу про это
вспоминать!»
Крутой получился роман. Из тех, о которых говорят в
народе: «А знаешь...», «А слышал...» У Николая были де¬
вочки-близнецы пяти лет, а жена его ходила беременная
третьим.
Мозг Норы стал просыпаться, когда она увидела, какой
красавицей была эта женщина. То ли Лопухина, то ли бот-
тичеллиевская Флора, то ли мадонна Литта, ну, в общем,
этого ряда. Не меньше. Вторым потрясением была доброта
этой Лопухиной — Флоры. Как она их кормила, когда они
заваливались к ним ночью, как споро двигалась со своим
уже большим животом и все пеклась о Норе, что у той
очень уж торчат ключицы. Она даже трогала их красивым
пальцем, несчастные Норины кости. Жалела. Совершен¬
ная, сокрушалась о несовершенстве тварного мира. Надо
ли говорить, что Шурочка была глупа как пробка? Или все
просматривается и так? Это ведь только у Проктера и Гем-
бла в одном флаконе сразу все — с человеками так не бы¬
вает. Обязательно чего-нибудь будет недоложено боже¬
ственно справедливо.
Вот тогда, разглядывая в зеркале обцелованные Нико¬
лаем свои худые плечи, Норе много чего увиделось в зерка¬
ле и про себя, и про других.
Шура родила Гришу уже осенью, когда театр отдыхал
на югах. Нора же тайком от всех жила в деревне под Челя¬
бинском — туда ходил рейсовый автобус, и Николай при-
448
езжал к ней среди недели. В свой библиотечный день.
В сущности, у них тогда было всего три среды, а в четвер¬
тую — родился Гриша. Трое детей — это не мало, а много.
Это просто невероятное количество, которое по сути гораз¬
до больше своего математического выражения.
Нора вернулась в Москву. У театра в тот год было
тридцатилетие, и им выделили пять квартир. Грандиозный
подарок властей имел под собой простую и старую как мир
причину. Сын директора театра женился на дочери одного
из горкомычей. Дочь писала дипломную работу по их спек¬
таклям. Ну дальше — дело родственное. Нора и старая ак¬
триса из репрессированных в окаянное время получили ма¬
ленькую двухкомнатную квартиру на двоих. Каждый счи¬
тал своим долгом сказать Норе, как ей повезло: актрисе
уже за семьдесят, она скоро непременно освободит пло¬
щадь, ты понимаешь, Нора, какой у тебя счастливый слу¬
чай? «Я в этот период защитила докторскую диссертацию
по знанию людей и жизни, и мне за нее дали Нобелев-
ку», — думала Нора.
Интересно, что старой несчастной актрисе говорили по¬
чти то же самое и советовали тщательно следить за своими
продуктами и питьем. Мало ли, мол...
Но женщины поладили. И старая сиделица оказалась
хорошей «наперсницей разврата». Когда в Москву приле¬
тал Николай, вот уж не надо было делать вид, что знакомо¬
му негде остановиться. Голые, они пробегали в ванную, а
старуха старалась держать в этот момент дверь открытой.
«Норочка! Оставьте мне хотя бы радость видеть любовь!»
А потом произошло невероятное. Красавица Шурочка
с тремя детьми ушла к овдовевшему ректору института. Он
перенес ее на руках через порог большой барской кварти¬
ры, следом вбежали дети, захватчики пространств. Старый
молодой боготворил свою жену так, что та даже стеснялась.
Конечно, ей было «жалко Колю», но что поделать? Что?
И Шурочка разводила руками над таинственностью жиз-
449
ни, в которой — о, как правильно учили в школе! — всегда
есть место подвигам. Именно так она рассматривала слу¬
чившееся с нею. «Разве легко уходить от молодого к пожи¬
лому? — спрашивала ясноокая. — Не каждый решится...
Но я так нужна была Иван Иванычу».
«Какая хитрая сволочь, — думала уже Нора, потому
что не было у нее чувства освобождения и радости: у Нико¬
лая после всех этих дел случился инфаркт, а где Челя¬
бинск — где Москва?
Когда приятели, и Шурочка, между прочим, вытащили
Николая из болезни и он приехал в Москву, он стал совсем
другим. Уже не было «голых перегонков» по квартире, он
сидел в кресле у окна и молчал, и Нора думала, что зря он
приехал. Все кончилось.
Расставались уже навсегда, а получилось на полгода.
У каждого обстоятельства есть свой срок. Кончился
срок инфаркта, кончился срок ощущения потери детей.
Никуда они не делись, Шурочка с удовольствием давала
их «поносить на ручках». И потом даже возник момент
(время других обстоятельств), когда у Николая оказыва¬
лись причины не бежать к детям, боясь их потерять. Ма¬
донна Литта и это понимала. Это был какой-то научно-
фантастический развод, в котором нормальному человеку
становилось противно от количества добра и справедливо¬
сти.
Потом была командировка в Москву, встретились и
снова очуманели. И снова старая артистка приоткрывала
дверь, и что она думала в тот момент — бог весть, но что-
то такое очень возбудительное, потому что однажды она
все-таки умерла. Случило^, видимо, спазм, а она не сочла
возможным звать к себе на помощь Нору в момент ее люб¬
ви. Чтобы не потерять комнату, они поженились быстро,
практически без церемоний. А надо было, надо — это вы¬
яснилось потом — поцеремониться. Хотя это сейчас так
думается: как только квартирка и прописка встали на пер-
450
вый план, будто подрубился сук. Но что это за сук, если его
легко сломать абсолютно естественными вещами.
Нет, все дело было в Москве. Она отторгла чужака
Николая, из которого так и «перла провинциальность».
Ей это объяснили лучшие подруги. Все ничего, мол,
Нора, но прет... Еще бы кто-нибудь объяснил, что это та¬
кое. Николай ведь и умен, и образован, и профессионал
будь здоров... Правда, не хам... Наивен в оценках людей
и событий... Доверчив, как вылеченная дворняга... Вска¬
кивает с места при виде старших, женщин и детей... Ка¬
кая воспитанность, Норка! Это комплекс неполноценнос¬
ти.
Николай становился самим собой, только когда уезжал
в Челябинск. Потом это стало легким маразмом: настоящие
люди там. Там! Оглянуться не успела, как обнаружила: жи¬
вет с ненавистником Москвы. «Здесь, — говорил он
ей, — живут не люди. Здесь живут монстровичи. Это та¬
кая национальность.
Она смеялась. «Тогда ты шовинист!» «Да! — говорил
он. — Россию надо отделить от Москвы».
Так все было глупо и бездарно. Провалить любовь в
злобу по поводу московских нравов, Коля, ты что? Вот и
то... Он вернулся в Челябинск, через год вернулся к ней...
Так и было. Он защитил диссертацию в Челябинске, но ее
не утвердил московский ВАК, он поссорился с ВАКом,
сказал, что никогда больше... И долго не приезжал.
Тогда же у него начался тик... Все время дергалось веко.
Он похудел, а она боялась, не рак ли...
Однажды он не приехал никогда. То есть потом, по¬
том... Но сначала не приехал, не позвонил. Она позвонила
сама. Он говорил с ней голосом автоответчика. «Не надо
мучить друг друга», — сказала она. «Да!» — закричал он,
будто то ли прозрел, то ли увидел заветный берег.
Не разводились года три. Но какое это имело значе¬
ние? Очереди на ее руку и сердце «не стояло». Конечно,
ударилась во все тяжкие, как же иначе выживешь?
451
А потом вдруг ей на голову свалилась Шурочка с сы¬
ном Гришей. Показать его глазникам. Николай написал
записку, просил принять бывшую жену и сына! Фло¬
ра — Лопухина была по-прежнему хороша, и пятьдесят
четвертый размер ей шел еще больше, чем сорок
восьмой.
Гриша... Уснул на диванчике, смежив закапанные атро¬
пином глаза. Шурочка ушла на Калининский — «погла¬
зеть».
Мальчик спал, как отец, запрокинув голову и высвис¬
тывая что-то свое. Норе показалось, что ему так лежать
нездорово. Она подошла и повернула его на бок, ее ладонь
обхватила его затылок. Густой, почти шерстяной. Пальцы
огладили крутую, неправильно лежащую косую прядь...
19 октября
...Кажется, она закричала. Ей показалось, что она в той
старой квартире, и стоит сделать несколько шагов, как она
очутится у того диванчика с мальчиком. Шаги даже были
сделаны, умственные шаги, которые проконтролировал
здравый смысл, сказав: «Назад!»
Не было ни капли сомнений. Ни капли. Тот затылок и
этот, вспоминаемый, были... — как это теперь учат в шко¬
ле? — конгруэнтны. Она не сразу выучила это слово, но
дочь Еремина, когда ее некуда было деть, учила уроки у
нее в уборной. «Боже! — думала Нора. — Чем им не уго¬
дило слово “равны”?»
Но если это был Гриша, то как он здесь оказался?
Она давно поменяла кзартиру. Болела мама, нужны
были деньги, большие деньги. Ее квартира в центре высоко
котировалась по сравнению с этой, привокзальной и непре¬
стижной.
Сейчас она ее даже любит. В ее стенах нет больных вос¬
поминаний. В них живет сильная независимая женщина,
452
которая не является актрисой милостью Божьей, но живет
так разумно и грамотно, что...
...что с ее балкона падает человек, который мог быть
(или был?) сыном человека... Фу, фу, сплошное че-че...
Мог быть сыном Коли, царство ему небесное, который
умер три года тому назад в своем возлюбленном Челябин¬
ске. Ей написала об этом Шурочка. Мадонна Литта уже
была гроссмамой, пестовала внучек и престарелого Иван
Иваныча, а «Коля умер от прободной язвы, просто залил¬
ся кровью». Он был женат, имел дочь. И вот это почему-
то оказалось самым горьким. Нора так хотела ребенка, а
он так хотел вернуться в Челябинск. Желания не совпали,
город победил. Ну не дичь ли? А вот третья женщина
взяла и родила девочку. Интересно, сколько ей сейчас
лет?
Надо было с чего-то начинать. И Нора позвонила в
Челябинск. «Я буду осторожна», — сказала она себе.
Ей ответила женщина. Видимо, одна из дочерей Шу¬
рочки. Она сказала, что мама с Иван Иванычем практи¬
чески постоянно живут за городом. Телефона у них там нет.
Да, все здоровы, слава богу. Гриша? Он в Москве. У него
нет пока постоянного места жилья и работы, но есть один
телефон. Вам дать? Позвоните Грише. Передавайте от нас
привет. И пусть дает о себе знать. Я вас помню, тетя Нора!
Нора набрала номер. Ей сказали, что Гриши нет, уехал в
Обнинск, будет завтра.
20 октября
Витек проснулся от чего-то неприятного. Уже светлело,
но часок-полтора у него еще были, а вот подняло...
На него смотрели сырые, мягкие, мятые тесной обувью
ступни сержанта Поливоды. Тот всегда оставлял ступни на
453
свободе, падая на койку. Одновременно до задыхания пря¬
ча голову под одеяло.
Самостоятельность жизнедеятельности ступней Поли¬
воды всегда поражала Витька, внушая ему даже некоторый
мистический ужас перед жизнью части, отдельно взятой от
целого. Вот так у него самого отдельно живет ноготь ми¬
зинца на левой руке, надламываясь всегда в одном и том же
месте. Надломившись, ноготь сдергивает заусеницу, кото¬
рая после этого пучится гноем, и майся потом с нею, майся.
Хорошо сейчас, когда чистая работа, а раньше с железяка¬
ми, ржавчиной, маслом, когда что-то чиня, не попадаешь в
зазор, а сволочь-ноготь будто тащит за собой руку именно
туда, где ее прищучит заевшая деталь. Ноготь с набрякшей
болью заусеницей имел от Витька полное самоопределение.
Вот и ступни Поливоды. Они цвели и пахли, как им хо¬
телось. Они были волглыми и стыдными. Они вызывали
ненависть к укутанному Поливоде, который ничего плохого
Витьку не делал, а даже, можно сказать, любил младшего
по возрасту. Вчера он оставил ему на ужин кусок итальян¬
ской пиццы, которую Витя не переносил ни на вид, ни на
вкус. Откуда это было знать Поливоде? Он ел все. А Витя
как раз был разборчив в еде, он не понимал новомодной
целлофановой пищи. Она в него не шла. Не хватало зубов,
чтоб ее пережевать, не хватало слюны, чтоб смягчить и
сглотнуть.
Так думал в то раннее утро милиционер, хотя ни о чем
таком он не думал и не признал бы за свои мысли, выра¬
женные строчкой слов. Просто в голове его было сразу все:
ступни, пицца, ноготь, машинное масло и злость, что из-за
духа товарища Поливоды пришлось проснуться раньше.
Но стоило Витьку встать и открыть форточку, как ветер
выдул из его головы побеги незначительных размышлений,
а на их место пришла главная, можно сказать, сущностная
задача для ума: найти доказательства, что неизвестного
миру бомжа столкнула или довела до падения артистка
Нора Ааубе, которая звонком в милицию хотела запутать
454
ясное как дважды два дело. Он видел такой фильм по теле¬
визору: там преступник все время помогает придурковато¬
му детективу — на, мол, смотри, что я тебе показываю; на,
мол, слушай, что я тебе скажу, — и придурковатый поли¬
цейский за все благодарил, прямо кланялся, но это была с
его стороны хитрость.
Правда, когда Витек сказал в милиции, что этот бомж,
что шандарахнулся такого-то числа, мог и не сам... Ему
сказали, что дело закрыто, и нечего возникать — никто са¬
моубийцу не ищет, никому он не нужен, и надо быть идио¬
том (слышь, Витя, это к тебе лично!), чтоб искать на пус¬
том месте деньги. Займись лучше криминогенной обстанов¬
кой в районе спортивной школы. Замечательный совет.
Школа стоит рядом с домом Лаубе. Вроде как нарочно.
Витя удачно появился во дворе: артистка как раз бежа¬
ла на работу. У него слегка ворохнулось сердце от ее широ¬
кого и легкого шага и возникла неясная мысль о том, что
длинные ноги совсем не то или не совсем то, что подразу¬
мевается в похабном разговоре. «Ноги, которые до шеи, —
туговато скрипнул мозгами Витя, — играют другое значе¬
ние. Это точно, именно так: другое значение. Они умеют
ходить красиво и быстро. Взять, к примеру, циркуль...»
— Здравствуйте, — вежливо поздоровался Витек с
Норой.
Та не сразу сообразила, кто он.
После того как она вчера узнала, что Гриша жив и здо¬
ров, она выбросила эту историю с падением из головы. Она
потом перезвонила той женщине, что сказала ей, где Гриша,
еще раз и оставила свой номер: «Скажите ему: пусть позво¬
нит тете Норе». Она не уточнила — Лаубе, — чтоб не
засветиться. Пусть не первого, но второго ряда она актри¬
сой была, ее могли знать. Теперь в голове осталась починка
перил, потому что с той минуты, как ее стала затягивать
балконная дыра, она на него не выходит. Все дело те¬
перь — в деньгах. Во сколько ей обойдется этот чужой
смертельный полет. В конце концов версия размахивающих
455
в падении ног не хуже всякой другой, если другой нет вооб¬
ще. И она не видела никогда падающих с крыши людей, в
кино падают куклы.
— Все у вас в порядке, Виктор Иванович? Служба
идет? — ответила Нора на «здравствуйте», когда сообра¬
зила, кто перед ней.
— У меня находится вопрос, — скрипнул Витек.
— О нет! — закричала Нора. — Нет! Только не сей¬
час. Я буду дома в три. Приходите, если что нужно...
И она умчалась, пользуясь своим совершенным сред¬
ством передвижения. Снова Витя смотрел ей вслед, и снова
смутные какие-то идеи возникали на пересечении его изви¬
лин. Так встречаются иногда на перекрестке дорог люди,
один на машине, другой на кобыле, третий вообще пехом и
с собакой, столкнутся моментно — и разойдутся в разные
стороны, и думай потом, думай, что это было? С чего это
они сошлись? Так и дороги извилин — хотя про это извест¬
но куда меньше, — но название им придумано хорошее,
вкусное и одновременно красивое. Как имя женщины. Из¬
вилина. Можно Иза. Можно Валя. У него была знакомая
Валя. Из Белоруссии. У нее были длинные отдельные во¬
лосины ресниц, и его от них брала оторопь.
Витя шел в подъезд Норы и знал — зачем.
Нора же... Нора...
В троллейбусе она вдруг поняла странное: есть, значит,
два одинаковых затылка? У Гриши, который в Обнинске, и
у самоубиенного мужчины? А откуда она знает, что их не
четыре или восемь. И вообще, с чего она взяла косую
прядь и прочее? Бомж. Нечесаный и немытый. Она и ви¬
дела его на расстоянии, она ведь даже зевак не пересекла,
чтоб подойти поближе. Просто бросила взгляд. И, между
прочим, сначала на полотенце. Это потом уже... Творче¬
ский процесс мысли стал заворачивать в это полотенце
черт-те что. Сообрази своей головой, женщина, с какой
стати мальчик Гриша, которого ты когда-то подержала в
456
руках, выросши во взрослого дядьку, мог оказаться на тво¬
ем балконе? К тебе, Лаубе, пришел климакс и постучал в
дверь. «Это я, — сказал он. — Климакс. Я к вам пришел
навеки поселиться. У вас будет жизнь с идиотом, но это со¬
всем не то, про что написано в одноименном сочинении.
Я не буду вас убивать на самом деле. Но умственные убий¬
ства я вам дам посмотреть непременно. Я буду вас ими
смущать. Я у вас затейливый климакс».
«Слава богу, — подумала Нора, — что у меня все в по¬
рядке с чувством юмора».
Молодой, подающий надежды режиссер все-таки сбил
случайную команду для постановки Ионеско. Такое теперь
сплошь и рядом, деньги и успех — без гарантий, но кто
может себе сегодня позволить отказаться от работы?
Хотя Нора давно знает: великий абсурдист хорош для
очень благополучной жизни. Именно она, хорошо намани-
кюренная жизнь, жаждет выйти из самой себя, чтоб похо¬
дить по краю, полетать над бездной, снять с себя волосы,
обратиться в носорога с полной гарантией возвращения в
мир устойчивый и теплый. Но если ты постоянно живешь в
абсурде? Как играть абсурд, будучи его частью? Но все
равно Нора будет репетировать, воображая — вот где оно
нужно, воображение! — что ей возвращаться в мир нор¬
мальный. Надо создать в себе ощущение нормы. Чтоб не
запутаться окончательно.
Норма — это ее жизнь. Она разумная и пристойная.
Два одинаковых затылка, которые случились, — чепуха.
Затылок вообще вещь сложная для идентификации. Это вам
не подушечки пальцев, не капелька крови, даже не мочка
уха, которая может уродиться и такой, и эдакой. И спелой,
как ягода, и вытянутой, и плоской, и треугольно страстной, с
прилипшим кончиком, и широко-лопатистой, рассчитанной
на посадку любой клипсы, эдакая мочка-клумба.
Затылок же — вещь строгой штамповки. Интересно,
как начинал лепить человека Бог? С маленькой пятки или
457
круглого шара головы? Нора закрыла глаза, чтоб лучше
увидеть сидящего Творца, на коленях которого лежала все-
таки не пятка — голова Адама. Бог положил на затылок
руки и замер. Нора в подробностях видела Руки эти Обни-
мающесозидающие и круглую мужскую голову.
...Не было ли Господне замирание признаком сомнения и
неуверенности в начатой работе? Уже все было сделано. Свер¬
кали звезды на чисто-новеньком небе, зеленела трава-мурава,
все живое было лениво и нелюбопытно, потому что ему было
не страшно. В мире был такой покой, и та круглая болванка,
что лежала на коленях, еще могла стать оленем или сомом.
Мир не знал опасности, он был радостен, и Великому даже
показалось, что, пожалуй, хватит. Не испортить бы картину.
Нора широко открыла глаза. «Я богохульствую, —
сказала она себе. — Я Его наделяю своим сомнением...»
Троллейбус дергался на перекрестках, люди (создание Бо¬
жье?) были унылы и злы. Они опаздывали и вытягивали
шеи, вычисляя конец пробки. И еще они прятали друг от
друга глаза, потому как не хотели встречи на уровне глаз.
В их душах было переполнено и томливо. И они жаждали...
Выхода? Исхода? Конца? Нора думает: вот и она едет ре¬
петировать абсурд, увеличивая количество бессмысленного
на земле. И все идет именно так, а не иначе.
А тут еще возьми и случись знакомый неизвестный за¬
тылок. Пора было выходить. «Что-то похожее у меня уже
было, — думала Нора. — В чем-то таком я уже участво¬
вала».
Виктор Иванович Кравченко нажимал кнопку звонка
квартиры, что под Норой. Ему открыла женщина, лицо ко¬
торой было стерто жизнью практически до основания. То
есть нельзя думать, что не было носа, глаз и прочих выпук¬
ло-вогнутостей, но наличие их как бы не имело значения.
Наверное, целенькие горы тоже выглядели никак по срав¬
нению с разрушенным Спитаком. Никак — предпола¬
гаю — выглядит и Солнце дня смерти.
458
Вите такие лица не нравились, и хотя видел он их мил¬
лион, каждый раз что-то смутное начинало разворачивать¬
ся в его природе. На ровном месте он начинал обижаться
сразу на всех, и возникало ощущение тяжести под ложеч¬
кой, которое и спасало, переводя стрелку со смуты мыслей
на беспокойство пищеварения. Что несравненно понятней.
Вот и сейчас, глядя на женщину, открывшую ему дверь, он
решил, что жопка останкинской колбасы явно перележала в
холодильнике и напрасно он так уж все доедает. Надо
освобождаться от жадности деревенщины. «Ты ее помни,
но забудь», — учил его капитан-психолог.
— Ну и чего тебе надо? — спросила женщина, впуская
Витька в такую же, как сама, стертую квартиру.
— Я по поводу случая падения, — вежливо сказал
Витя.
— Меня тогда не было, — сказала женщина, — я сто¬
яла в очереди в собесе. Такая, как в войну за хлебом —
воздуха в коридоре нету, пустили бы уж газ, чтоб мы там и
полегли все разом.
— Нельзя так говорить, — сурово сказал Витя. —
Это негуманно. А кто-нибудь другой дома был?
— Кому ж быть? — спросила женщина. — Олька на
работе с утра.
— Ольга — это кто?
Женщина заполошилась, лицо как бы пошло рябью, по¬
том стало краснеть, потом все вместе — рябь и цвет — со¬
брались вкупе, и уже было ясно, что лучше от нее уйти, что
на смену стертости пришел гнев с ненавистью под ручку и
тут, как говаривал Витин дядька, уже хоть Стеньку об го¬
рох, хоть горох об Стеньку.
— Так куда ж ей деваться? — кричала женщина. —
Если нигде ничего? Кому на хрен нужна ваша прописка, если
полстраны живут нигде и не там? Скажите, пожалуйста!
Бомжа, проклятого пьяницу ему жалко, вопросы задавать не
лень. А я сама, считай, бомж! Вот продам квартиру Абдул-
459
ле, Олькиному хозяину, и кто я буду? Вот я тогда под ноги
тебе и прыгну, моя дорогая милицая, дать тебе нечего!
— Успокойтесь, гражданка, — вежливо сказал Витек,
потому что ни на грамм он на нее не рассердился, а даже
более того — внутри себя он ее поощрял в гневе и ненавис¬
ти. Капитан-психолог объяснял им, что чем больше из че¬
ловека выйдет криком, тем он будет дальше от «поступка
действием». «Шумные, они самые тихие», — говорил он
им. Понимай, как знаешь, но Витя понимал.
— Разрешите посмотреть ваш балкон, — спросил
Витя.
— Нашел, что смотреть, — тяжело вздохнув, уже сми¬
ренно ответила женщина.
Витя правильно понял смысл ее слов: смотреть было на
что...
Балкон был по колено завален бутылками и банками, их
уже не ставили, а клали, как ляжет. «Это все может посы¬
паться на головы людей, — подумал Витя, — щиты могут
не выдержать напора». Но тут же другая мысль вытолкну¬
ла первую, нахально закрыла за ней дверь. Вторая мысль
сказала: «Смотри, кто-то шел по этим грязным бутылкам в
направлении к левому углу балкона. Бутылки порушены
шагом, и грязь с них частично вытерта скорее всего штани¬
ной».
— Вы ходили по балкону? — спросил Витя.
И тут он увидел, какой могла быть женщина, если бы...
Он увидел ее первоначальный проект, задумку художника.
Она улыбнулась и, несмотря на то, что ей не удалось доно¬
сить до встречи с Витей все зубы, улыбка совершила пре¬
вращение. У женщины оказались серо-зеленые с рыжиной
по краю радужки глаза, у нее были две смешливые ямочки,
и хоть от них бежала вниз черная нитка морщины, это уже
не имело значения. Нитка была красивой. Женщина была
задумана в проекте, чтоб вот так, с ходу, потрясать неких
мужских милиционеров, вообразивших себя знатоками
жизни и сыска.
460
— По нему разве можно ходить? — смеялась женщи¬
на. — Я разрешаю попробовать.
Штанов было жалко, но он сделал этот непонятный шаг
в гремучую кучу — и надо же! Случилось то, чего он испу¬
гался сразу: отошел штырь от щита, и бутылки — две?
три? — выскользнули на волю. Боясь услышать снизу чей-
то смертный крик, Витя рухнул всем телом на бутылки, об¬
нимая и прижимая их к себе. Те, улепетнувшие, громко
звякнули на земле, прекратив свое существование, «но не
забрали жизнь других», — облегченно думал Витя, ощу¬
щая жирную грязь на себе почти как счастье.
— Идиот! — кричала женщина. — Вас таких по кон¬
курсу отбирают или за взятку? Что я теперь с этим буду
делать? Заткни дырку шампанским! Слышишь? Падает
только пиво!
Но Витя не слышал. Прямо под ним был след большой
ноги, и Витя испытывал сейчас просто любовь к нему, он
даже потрогал его рукой. Силу любви люди еще не измеря¬
ли, а те, которые пытались, внутренне были не уверены в
результатах своих замеров. Ну да, ну да... Говорили люди...
Знаем, знаем... Но от чего она нас защитила, любовь? Или
куда она нас привела? Конечно, как фактор размножения,
кто же спорит? Но чтобы что-то более весомое, чем созда¬
ние количества...
Тем более что все физические опыты, всякие там биото¬
ки и свечения тоже ничего такого особенного никогда и не
показывали. Да, любовь — это сладко, это волнительно,
как почему-то говорят старые актеры; клево и атас — гово¬
рят молодые придурки, а Витя, имея малый опыт в этом
тонком деле (оторопь перед пятью ресничками девушки-
белорусски и волнение от бесконечности ног актрисы Лау-
бе), отдался чувству любви к следу на балконе так самозаб¬
венно, так безоглядно, что был награжден еще одной ули¬
кой — куском кармана, который обвис на остряке бетона.
Сняв его с самой что ни на есть нежной осторожностью и
положив за пазуху — к карманам было не добраться, —
461
Витя занялся спасательными работами. Хозяйка квартиры
принесла ему доски от бывшей книжной полки, и Витя в
лежачем положении городил заслон шевелящимся под ним
бутылкам, горячим до побега.
Потом женщина («Зови меня, сынок, тетей Аней») чи¬
стила его со всех сторон и была в этот момент тоже близкой
к задуманному проекту, от нее в суете движений со щеткой
пахло как-то очень тепло и вкусно, и Витя, несколько запу¬
тавшийся в запахах городской жизни и уже не уверенный,
какой из них хорош, а какой дурен (он, например, на дух не
выносил запах одеколона «Деним», который когда-то взял
и купил по наводке рекламы), так вот тут с тетей Аней
было без вариантов — она пахла хорошо. И он удивился
этому, честно удивился, потому что по теории жизни некра¬
сивое не должно пахнуть хорошо. Когда тетя Аня (вообще -
то она Анна Сергеевна, и ему надо соблюдать правила.
«На интимные слова милиционер при исполнении подда¬
ваться не должен, — объяснял капитан-психолог. — Сло¬
во — вещь двояковыпуклая») открывала ему дверь, она
просто никуда не годилась ни на вкус, ни на цвет, потом эта
улыбка (берегись, Витек! Окружают!), а теперь вот за¬
пах... Хочется сесть и попросить чаю.
— Хочешь чаю, сынок?
— Я уже и так, — ответил Витя. — А мне еще в
спортивную школу. Но спросить обязан: он кто, тот, что
был на балконе и оставил следы?
— Ты оставил следы, — засмеялась тетя Аня (или
Анна Сергеевна).
— А вот это? — и Витя достал и предъявил карман.
— Что ж ты такую грязь на голой душе держишь? —
возмутилась женщина. — Ума у тебя минус ноль!
Она взяла кусок ткани и выбросила его в помойное ведро.
— Вы что? — закричал Витя, кидаясь спасать улику.
Но тетя Аня отодвинула его рукой и сняла с крючка ста¬
ренький пиджак. Карман у него был оторван.
462
— Я в нем балкон убираю. Но последний раз это было
уже года полтора как... Зацепилась, не помню за что... Да
он весь рваный... Видишь, локти... А подкладка так вооб¬
ще...
— И все-таки там есть след... — упрямо твердил Витя.
— Еще бы! Ты там уж походил и полежал! — Она сме¬
ялась и была красива, и хорошо пахла. И Витя окончатель¬
но понял, что его заманивают... Есть такие голоса. Как бы
птицы, а на самом деле совсем другое... Например. Птица-
выпь...
— Будем разбираться, — сказал Витя. Он бежал и ду¬
мал, что в одну замечательно открытую минуту у него было
все: след, карман, а потом — раз! — и ничего не осталось.
У кармана нашелся хозяин, а след мог быть чей угодно.
А то, что по бутылкам пройти без опасности для ходящих
по земле невозможно, в этом он убедился на собственном
дурном опыте. Витя представил, как он лежал на шампанс¬
ком и пиве, и весь аж загорелся. «Главное, — говорил ка¬
питан-психолог, — дурь своего ума нельзя показывать ни¬
кому» .
Надо соизмерять с окружающим силу своих телодвиже¬
ний. Вечером того же дня рванула из Москвы племянница
тети Ани — Ольга, рванула так, что растянула связки, и в
поезде, который ее уносил в южные широты, пришлось пе¬
ленать ногу полосками старой железнодорожной простыни,
которые дала ей проводница. Она же пустила Ольгу без
билета, все поняла сразу, без звука взяла деньги и сказала,
что вся наша милиция уже лет сто ловит не тех и не там.
Поэтому спасать от нее человека — дело святое. И на этих
словах проводница стала рвать простыню на полосы для
пеленания ноги.
На другой день закрылись две лавки с овощами, хозяи¬
ном которых был некий Абдулла. А всего ничего: безобид¬
ный милиционер пришел совсем по другому делу к женщи¬
не по имени Анна Сергеевна.
463
Что-то важное, а может, совсем пустяковое, но спугнул
Витя-милиционер, идя по намеченному плану. Из-за него в
человеческом толковище возникли суета и колыхание, но
так, на миг. Потом сомкнулись ряды людей и обстоя¬
тельств, и где она теперь, ненужная нам Оля с туго перевя¬
занной лодыжкой, которую она взгромоздила на ящик с яб¬
локами? И где Абдулла, принявший сигнал опасности, хотя
Витек понятия о нем не имел и не держал его в мыслях?
Витек шел своим одиночным путем, а капитан-психолог
много раз им повторял: «Одиночество — враг коллекти¬
визма и слаженности борьбы, а значит, хороший милицио¬
нер — враг одиночества».
22 октября
Она знала: абсурд ей не сыграть. Дурная репетиция.
Дурной режиссер. На нем вытянутый до колен свитер, под
который он поджимает ноги, сидя на стуле. Не человек, а
туловище Доуэля.
— Нора! — кричит. — Вы спите?
— «Господин старший инспектор прав. Всегда есть что
сказать, поскольку современный мир разлагается, то мо¬
жешь быть свидетелем разложения».
— Нора! Нора! Вы говорите это не мне! Не мне! И не
так!
— Я говорю их себе? — спрашивает Нора.
— Господи! Конечно, нет! Эти слова — ключ ко всему.
Каждый — свидетель. Каждый — участник.
— Разве Мадлен такая умная?
— При чем тут ум? — выскальзывает тонкими ногами
из-под свитера режиссер. — Она женщина. Она просто
знает... Отключи головку, Нора! Она сейчас у тебя лишняя...
«Какой кретин! — думает Нора. — Хотя именно кре¬
тины попадают в яблочко, не прицеливаясь».
464
— Головка снята, — отвечает Нора. — Иду на авто¬
пилоте.
Еремин жмет ей под столом ногу.
«Друг мой Еремин! Ты тоже кретин. Ты думаешь, что я
что-то из себя корчу? А мне просто скучно и хочется под-
взорвать все к чертовой матери. С моего балкона выпал ма¬
ленький мальчик. Его зовут Гриша... Правда, он уже вы¬
рос... Это неважно... Будем считать, что он все еще ма¬
ленький... «Бедняжка, в твоих глазах горит ужас всей зем¬
ли... Как ты бледен... Твои милые черты изменились...
Бедняжка, бедняжка!»
— Нора! Это не Островский! Что за завывание? У те¬
бя Ионеско, а не плач Ярославны, черт тебя дери!
— Прости меня! — Она возвращается из тумана, в ко¬
тором Ионеско машет ей полотенцем с балкона, а она несет
на руках мальчика с невероятно крутым завитком на затыл¬
ке. — Прости! Я действительно порю чушь...
23 октября
Анна Сергеевна, тетя Аня, ночью сносила на помойку
бутылки с балкона. Она ждала Ольку, но та смылась без до
свидания, такое теперь время — без человеческих понятий.
Раз — приехала. Раз — уехала. Анна Сергеевна не люби¬
ла это время, хотя и прошлое не любила тоже. Поэтому,
когда бабы сбивались в кучу, чтоб оттянуться в ненависти к
Чубайсу там или кому еще, она им тыкала в морду этого
полудурка «Сиськи-масиськи», и бабы говорили: «Да!
Тоже еще тот мудак». На круг получалось: других как бы и
не было. А значит, без гарантии и на завтра. Почему воз¬
никли бутылки? Потому что раньше их сдавали. Молочные
у нее всегда аж сверкали, когда она их выставляла на при¬
лавок. И бывало, что отмытостью этой она унижала других
хозяек, и тогда те отодвигались от мутной тары — как бы
не мои! А она, конечно, стерва, кто ж скажет другое, от-
465
лавливала отведенные в сторону глазки и говорила им гром¬
ко, до бутылочного звона, что бутылки надо мыть в двух
водах, что ее мама в свое время вообще старалась набить в
бутылку побольше кусочков из газет, и у нее — мамы —
тоже все сверкало. Когда это было! Теперь же она скиды¬
вает грязные бутылки в ночь.
Мемория
На третьей ходке Анна Сергеевна столкнулась с артис¬
ткой, что жила над нею. Она к ней относится без этого под¬
халимского сю-сю, которым обволакивают Нору в подъез¬
де. Но стоит той исчезнуть с глаз, такое вослед говорится,
что Анне Сергеевне хочется придушить баб каким-нибудь
особенно извращенным способом. Был случай в ее жизни.
Она — еще совсем девчонка. Замуж выходила девка из
соседнего барака. Гуляли во дворе широко, весело. Моче¬
вой пузырь наполнялся так быстро, что они, дети, не добе¬
гали до уборной, а присаживались за уголочками бараков
или помоек, чтоб не пропустить ничего из веселого действа.
А на следующий день — крик, шум, слезы... И исчез¬
новение жениха, то бишь уже мужа, раз и навсегда. Страш¬
ные и непонятные речи. Он ей, жене-невесте, предложил
такое! Бараки зашлись гневом. Она, дитя совсем, видела
тогда чудо: шевеление домов. И даже их вытягивание
вверх, как бы на носочках. Растягивание подъездов до вы¬
ражения ухмылки беззубого рта. Мигание оконных пере¬
плетов. Сморщивание крыш...
Теперь же, если раскрутить все назад, дела было на
копейку. Но кто тогда знал эти слова? Оральный — это
скорее орущий. По близости смысла. Секс же... Про него
слыхом не слыхивали. Та несчастная, которая изгнала из¬
вращенца, потом так и не вышла замуж, потому как сдви¬
нулась умом и стала дурно кричать при приближении муж¬
чины. Мама Анны Сергеевны объясняла громко, на весь
466
двор, вешая белье: «Вы, бабы, что? Вчера вылупились?»
Но у мамы Анны Сергеевны слава была сомнительная.
Она всю войну прошла от и до. И у нее было столько му¬
жиков, что даже маленькая Анечка может это засвидетель¬
ствовать. И дядя Коля. И дядя Изя. И дядя Володя.
И Петр Михайлович. И наоборот — Михаил Петрович.
Но как мамочка избила доченьку, когда та после школь¬
ного вечера пришла с верхней растегнутой пуговичкой на
белой кофточке, знает только дочка Анечка. Прошедшая
Крым и Рим, мать заказала эту дорогу дочери. И дочь
приняла это как должное. Анна Сергеевна осталась на всю
жизнь женщиной строгой и даже мужу лишнего не позво¬
ляла, а когда на того, бывало, накатывало, она быстренько
ставила его на правильное место и правильный путь, а он
возьми и умри... Вот когда она взвыла в одинокой постели,
потому как поняла (или прочувствовала?), что жизнь так
быстро, как миг, прошла мимо и только ручкой насмешливо
махнула. «Дура ты!» — как сказала бы жизнь.
23 октября
Вот что моментно пронеслось в душе Анны Сергеевны,
когда она спускала вниз третий мешок бутылок, а Нора
придержала ей дверь.
«Она подумает, что я пьяница», — вздохнула Анна
Сергеевна, уже не удивляясь этому свойству ее бытия: о
ней всегда думали хуже, чем она есть.
«Оказывается — тихая пьяница», — подумала Нора
тоже без удивления — в их театре через две на третью такие.
Эта общая на двоих неудивленность как-то нежно объе¬
динила их, и Нора схватила угол мешка и приноровилась к
уже освоенному шагу Анны Сергеевны, а та в свою очередь
почувствовала радость принятия чужой помощи. Сказал бы
ей кто еще час назад, что она способна на такое, не повери¬
ла бы.
467
Мы не знаем течений наших внутренних рек. Какая-ни¬
будь чепуха в виде мешочного угла так пронзит тайностью
жизни, что хоть плачь!
В лифте, уже возвращаясь, Анна Сергеевна, чтоб не
втягивать громко накопившиеся от устатку сопли, деликат¬
но провела под носом пальцем, отчего нарисовались усы, а
Нора достала платочек, пахнущий духами счастья, и вы¬
терла ей их, но тут как раз возник пятый этаж, и Анна Сер¬
геевна вышла.
Как там кричит Норина абсурдистская героиня? «Гло¬
тайте! Жуйте! Глотайте! Жуйте!» Ведь и на самом деле...
Нежная пряжа отношений... Что-то детское и сладкое...
Хочется сглотнуть. Надо пригласить эту женщину в театр.
Дадут ли ей хорошее место?
27 октября
Прошло не два дня, а четыре.
Нора снова позвонила по тому же московскому телефо-
ну.
Ей ответили, что Гриша еще не вернулся из Обнинска.
Никто не волновался. Человек мог задержаться. Дела,
проблемы... Она не имеет права пугать других своими стра¬
хами. Хватит с нее придурошного милиционера, который,
кажется, начинает ее подозревать. Она наняла мужиков
чинить балконные перила. Подогнала так, чтобы быть в
этот день дома, но в театре случилась беда. В одночасье
умерла актриса, не старая между прочим, заменили спек¬
такль, назначили утреннюю репетицию. Нора остро чув¬
ствовала эти моменты одинокости своей жизни — никого и
ничего.
Болеть одной она научилась, умела какую-никакую
мужскую работу, но тут нужен был просто свой человек,
который бы приглядывал за работягами, потому как —
мало ли что? Но попросить было некого. Сначала подумала
468
о Люсе со второго этажа, но тут же ее отвергла. Как поду¬
мала — так и отвергла, без достаточных оснований ни на
да, ни на нет.
Нора пошла к Анне Сергеевне. Так получалось, что
вроде ей и пойти больше не к кому, но это да, так и было...
Жила в подъезде знакомая учительница. По средам у нее
свободный день, и она в среду всегда спит долго, встанет,
попьет чаю и ложится снова, и главное — сразу засыпает.
Странновато, конечно, в эру хронической человеческой
бессонницы. Но именно из-за сонливости Нора ее отверг¬
ла. — Пусть спит, пусть.
Получалось, что кроме как к Анне Сергеевне идти и
некуда. У той в тот день было дежурство в диспетчерской.
Это от нее люди узнавали, что «все прорвало к чертовой
матери», что «во Владивостоке уже неделю не топят, а у
вас на сутки отключили — нежные очень», что «почем я
знаю?», что «бардак был, есть и будет, а с чего бы ему не
быть?» И так далее до бесконечности перемен в настрое¬
нии и кураже Анны Сергеевны. Но Норе она сказала:
«Какие дела, конечно, посижу, за нашим народом глаз и
глаз нужен, а то я не знаю?» Сама она тут же позвонила в
диспетчерскую и сказала, что не придет, пошли они все, у
нее мильон отгулов, пусть ищут замену, когда им нужно,
она всегда есть, а сейчас — ее нет. На хрен!
28 октября
Пока работяги возились на балконе, Анна Сергеевна
тупо сидела в кухне. В таком сиденье есть свой прок: где-
то что-то накапливается своим путем, без участия воли
там или всплесков мысли. Просто сидишь как дурак, а
процесс идет очень даже, может быть, и умный. Что-то к
чему-то прилепилось, что-то от чего-то отвалилось, тон¬
кая материя расслабилась, чтоб свернуться потом как ей
надо.
469
Через какое-то небольшое время Анна Сергеевна поня¬
ла, что ее страстное желание посмотреть, как живет артист¬
ка, вместо того чтобы доставить удовлетворение — вот,
мол, сижу, смотрю, оглядываю, ощупываю (мысленно, ко¬
нечно), — вызывает в ней ощущение злой печали. Вместо
того чтобы запоминать, как стоят у Ааубе чашки и какие
фигли-мигли прицеплены у нее к дверце холодильника, ее
накрыла и жмет ядовитая тоска, а понимания этому как бы
и нету...
Мужики же, чинители, повозившись часок, быстро со¬
скучились по свободе рук и ног и уже сообразили, что не
тот взяли сварочный аппарат, что нужен им абсолютно дру¬
гой, что они за ним сходят, а потом уж раз-раз... Только их
и видели.
Анна Сергеевна переместилась в комнату. Со стен на
нее смотрела Нора в образах. Нора — графиня, Нора —
испанка, Нора — ученый. Анна Сергеевна почувствовала
озноб от такой увековеченной жизни артиста, который —
получается — никогда сам, а всегда кто-то. Но тут на трю¬
мо в дешевенькой рамочке — Анна Сергеевна знает: в та¬
кой рамочке она тоже стоит у себя на серванте — она уви¬
дела молодую Нору в сарафане и с голым левым плечом.
Плечо было спелым, покатым и даже как бы влажным от
теплого дождя, но это уже воображение. Откуда можно уз¬
нать про дождь на черно-белой и померкшей фотографии?
Анна Сергеевна смотрит на Норино левое плечо. На пра¬
вом, как положено, широкая лямка, не тоненькая тюфель-
ка, чтоб абы не сполз лиф, а в целую пол-ладонь. Анна
Сергеевна носила такие же, когда ездила в деревню. Важна
была еще и высота кокетки сарафана, чтоб не дай бог не
вылезла бы подмышка с куском лифчика. Сплошь и рядом
лахудры носили такое. У Норы лямка сползла — значит,
он был широкий, вольный сарафан и лифчика на ней не
было во-об-ще.
Анну Сергеевну охватила такая болючая обида, что с
этим надо было что-то делать. Она вынула фотографию из
470
рамки и стала рассматривать ее на свет (тоже мне эксперт!)
и обнаружила, что та отрезана, что по ту самую левую кра¬
мольную Норину половину кто-то стоял. И это был муж¬
чина. Виднелся грубый локоть. Анна Сергеевна продолжи¬
ла локоть. Получалось, что это ее муж стоит в любимой
позе, сложив ладони на широком ремне. Он всегда так фо¬
тографировался: локти — в стороны, а руки — на ремне.
Глупая поза. Анна Сергеевна испытала гнев на покойника,
который и умер рано, и фотографироваться не мог, и никог¬
да ничего ей не сказал ни про ее плечи, ни про ночи. Как
грабитель, нападал на нее ночью, а если натыкался на тру¬
сики, то поворачивался спиной, прикрыв голову подушкой,
а она в этот момент чувствовала запах менструации как по¬
зор жизни. А баба уже была, не девочка.
Какое там левое плечо!
Она даже не заметила, что рвет фотографию Норы на
мелкие кусочки. Она испугалась, растерялась, клочки су¬
нула в карман, а рамку положила на самую верхнюю полку.
Потом она сидела и перетирала в прах то, что осталось от
старой фотографии.
Как это бывает с людьми: сделав ненароком дурное
кому-то, мы больше всего начинаем его же и ненавидеть.
Но кто ж признается в себе как источнике зла?
Анна Сергеевна обхватила себя руками от неловкости в
душе и мыслях. Опять же... Разве она за этим сюда при¬
шла? За собственным смятением?
Она же шла за любопытством, ей хотелось знать, как
это у тех, кто всегда при маникюре, кто носит разные обуви
в разные погоды на высоком каблуке? Ей хотелось знать,
как это, когда ты знаменитая и на тебя оглядываются, как?
Ноу нее по неизвестной причине случилось совсем другое
настроение. Совсем. И это было Анне Сергеевне неприят¬
но. Она прикрыла плотнее балконную дверь, твердо зная,
что чинильщики не возвращаются быстро, когда у них слу¬
чается неправильно взятый аппарат. Что они могут не вер¬
нуться совсем и что тогда будет делать эта Ааубе завтра?
471
Она-то, Анна Сергеевна, больше ни за что не останется,
потому что у нее от этой квартиры случилась душевная
крапивница, этого ей только не хватало.
Анна Сергеевна села в кресло, которое, по ее мнению,
стояло неправильно — на ее вкус, быть бы ему разверну¬
тым иначе, но какое ей дело! Села в неправильное кресло,
удрученно вздохнув, что все не так и не то. «Нет, — сказа¬
ла себе. — Я не хотела бы быть ею».
Это была, конечно, ложь-правда, но именно она срабо¬
тала динамитом.
У Норы было мрачное настроение. Кого попросить си¬
деть завтра? Наверняка балкон за день не починят, а у нее
никаких шансов освободиться. Хоть привози из Мытищ
тетку, но ее действительно надо привозить: у тетки бзик —
она не ездит на электричках, потому как в них нет туалета.
Она, тетка, должна твердо знать: если ей приспичит, убор¬
ная есть рядом. Нормальная старуха, но в этом безумная.
Куда бы ни шла, ни ехала, вопрос о туалете — первый.
Поэтому Нора раз в сто лет ездит к ней сама, а когда у нее
случаются премьеры, на которые нестыдно позвать, то она
берет машину и привозит родственницу. У тетки красивое
имя Василиса, но в коротком варианте не нашлось ничего,
кроме Васи, но это совсем уж гадость для барышни, и ее с
детства звали насморочно Бася, а теткин папа — Нора по¬
мнит старика, еще той внучки инженера-путейца, уже сто
лет покойника, так вот, папа этот ни к селу ни к городу все¬
гда так и добавлял: «Она у нас — Вася с насморком».
Уже нет никого из тех людей, но Бася — Вася с на¬
сморком — так и осталось. И в театре иногда Нору спра¬
шивали: «А эта твоя Вася с насморком жива?»
Так и останется она во времени: причудой отмечать рас¬
положение уборных и дурачьим приименем.
Нора решила поговорить с Ереминым, не расщедрится
ли он на машину в Мытищи? Но до того надо было погово¬
рить с теткой.
472
В перерыве она пошла к телефону, чтоб позвонить той,
но допрежь набрала свой номер. Анна Сергеевна отвечала
отрывисто и недружественно: мастера ушли за аппаратом.
Что она делает? Сидит.
«Ах ты, Боже мой! — подумала Нора. — А предложи
я ей деньги, как она отреагирует? Конечно, теперь все ина¬
че. Теперь денежки правят бал, но мы с ней другое поколе¬
ние... Мы еще помним, что люди помогали за так... По ду¬
шевному порыву»... Гнусность в том, что — Нора это дав¬
но поняла — появилась популяция промежуточных людей.
С ними хуже всего. Они мечутся меж временами, не зная,
какими им быть. Им хотелось бы сохранить вчерашний по¬
рыв в том чистом виде, когда они, как идиоты, перлись на
химические стройки, не беря в голову никакие возможные
осложнения для собственного здоровья. Но теперь к поры¬
ву надо присобачивать деньги. Получается уже не порыв.
Что-то другое. Вот тут и возникает злой и растерянный —
промежуточный человек. Хуже нет его, испуганного, нена¬
видящего поток чужого времени, лихо уносящего вперед
других. Спорых и скорых.
Нора позвонила тетке, но та отказалась сразу. «Нет,
Норочка, нет! Я невыездная. Теперь уже навсегда».
— Бася. Ты спятила! С чего бы это?
— Такое время. Нельзя уезжать далеко от дома.
«Я ее обольщу, — подумала Нора, имея в виду Анну
Сергеевну. Она подумала об этом в тот самый момент, ког¬
да Анна Сергеевна невероятно клокочущим от странной
гневности сердцем твердо решила: да никогда больше не
будет она нюхать чужие квартиры и рассматривать чужие
фотокарточки. Нечего ей делать в мире этих так называе¬
мых... Она честно прожила свою жизнь, зачем ей на старо¬
сти лет артистки, у которых все не как у людей? Заглянула
в ящик, а там шахматное белье. Анна Сергеевна очень дол¬
го перерабатывала в себе отношение к цветочкам на белье,
с трудом взошла на постельные пейзажи, но шахматы? Бе¬
лье — поняла она сейчас окончательно — должно быть
473
белым! Белым! Белым аж голубым, это когда оно на морозе
трепещет и надувается парусом. И вообще... Разве можно
определить на цветном белье степень его чистоты? Ее ба¬
бушка прощупывала простыни пальцами, слушая тонень¬
кий скрип отполосканной материи. А мама вешала белье на
самое что ни на есть солнце в центре двора, унижая барач¬
ный люд степенью собственной белизны и крахмальности.
Такими были предметы гордости. У Анны Сергеевны серд¬
це просто сжалось от воспоминаний о времени тех радос¬
тей. «Оральный секс!» — сказала она вдруг громко, и сло¬
ва заметались в комнате туда-сюда, эти стыдно основопо¬
лагающие время слова. Анна Сергеевна последила за их
полетом, как они слепо тычутся в предметы, потихоньку
теряя силу своей оригинальности. Возбужденная образом
оглашенных летающих слов, она как истинный волюнтарист
решила твердо: в комнате артистки этим словам и место.
В собственном же дому у Анны Сергеевны они бы — сло¬
ва — просто не взбухли бы и не взлетели.
Витя же шел путем зерна. Внедрялся и тужился пустить
росток. Правда, он этого не знал, ибо был бесконечно да¬
лек от формулировок, какими, к примеру, сыпал туда-сюда
капитан-психолог. У того просто отскакивало от зубов точ¬
ное выражение. Вчера он ему сказал: «Ты, Кравченко, бе¬
решь в голову больше, чем там может поместиться по объе¬
му черепа». Сказал и ушел, а Витя просто почувствовал,
как из ушей — кап, кап... Лишнее. Он тогда, действитель¬
но, такое себе вообразил, что на лице тут же отразилось и
было замечено тонким вниманием психолога.
Витя вдруг решил, что «упаденный человек» знал ка¬
кую-то страшную тайну Лаубе. Та могла быть курьером-
наркоманом, а могла передавать прямо со сцены шпион¬
скую информацию: идет налево — значит, ракеты подтя¬
нули к Калининграду, идет как бы в зал — значит,
начинается китайская стратегия. И вообще у нее, у Лаубе,
любовник вполне может быть крупным генералом, из тех,
474
которые ползают по карте мира, расставляя туда-сюда
стрелочки. Вот она и столкнула дурачка, который каким-то
образом все узнал, а он напоследок последним разумом
схватил полотенце, полосатое, как флаг. А флаг почти ро¬
дина. Витя аж вспотел от возникшей картины подвига, тог¬
да-то и случилось из ушей кап-кап...
Анна Сергеевна, отводя глаза, сказала Норе, что боль¬
ше «нет, не смогу посидеть», а эти, которые мастеровые,
так и не вернулись. Не надо было им давать аванс, это же
как дважды два.
— Спасибо, — ответила Нора. Она почувствовала, что
эта вечерняя Анна Сергеевна была не та, что утренняя.
Конечно, интересно бы знать, что случилось за это время,
но ей не до того... Главное она поняла сразу: ей соседку не
обольстить, стоит вся как в презервативе, — ни кусочка
живого тела, чтоб тронуть пальчиком.
— Спасибо вам, — сказала Нора достаточно вежливо,
все-таки актерство бесценно в случаях лицемерия. Потом
она вышла на балкон. Процесс починки, видимо, начинался
с окончательного разрушения. Балкон состоял теперь из
огромной зияющей дыры, которая заманивала, заманива¬
ла...
Нора подошла и потрясла ногой над пустотой, ощущая
ужас под ребрами, в кишках, и даже подумала о том, что
животный страх потому и животный, что он не в голове, не
в существующей над пропастью ноге, не в сердце, которое
даже как бы не убыстрило бег, а именно в животе, в его не-
мыслящей сути... Она вбежала в комнату, задвинула все
шпингалеты и зачем-то придвинула к балконной двери
кресло. Уже дома, в безопасности, она поняла: та степень
ужаса, которая выразилась в этом придвинутом кресле,
была равна двум страхам: ее собственному и тому, чужому,
предположительно Гришиному, для которого страх был
последней и окончательной эмоцией. Он же, страх, каким-
то образом остался на ее балконе, а значит, прав тот пар-
475
нишка-милиционер, который учувствовал его и решил: не¬
известный, оставивший страх, упал с ее балкона. У этой не¬
лепой и невозможной истории должно быть свое простое
объяснение, как есть оно у любой с виду запутанной зада¬
чи. Когда это выяснится, все скажут: «Какими же мы были
дураками, что не догадались сразу».
Нора набрала номер, который набирала уже не раз. Ей
снова сказали, что Гриша в Обнинске, правда, добавили:
чего-то он там застрял? Нора настойчиво стала узнавать,
нет ли у него еще кого в Москве, к кому он мог вернуться
из Обнинска? На что ей резонно ответили: «Так ведь он
человек холостой. Мало ли...» И там, где-то там, на другом
конце шнура, засмеялись найденному определению «холос¬
той, мало ли...».
Поверхностным сознанием Нора отметила про себя, что
ее, звонящую женщину, вполне могли принять за ту самую,
которая принадлежит этому «мало ли».
Ах, Гриша, Гриша... Каким беспомощным ты был, когда
тебе закапывали в глаза. Как ты терялся, а в растерянности
мгновенно засыпал. Счастливое свойство некоторых людей
уходить в сон как в спасение. Впасть бы нам всем в какой-
нибудь недельный анабиоз, чтоб проснуться с ясной голо¬
вой и чистым сердцем, без злости, зависти. Проснуться,
чтоб жить долго и счастливо... Боже, какая дурная сказка
взыграла в ней! Какое ей дело до всех? Ей бы разобраться
с собой, с этим балконным проломом, с простой житейской
проблемой: кого оставить в квартире, когда придут чиниль-
щики? А если они не придут? Если они взяли у кого-то уже
следующий аванс? Где их тогда искать? А после всего этого
надо идти и репетировать абсурд, который она не умеет иг¬
рать, он ей не поддается, оц выскальзывает из ее рук, и ре¬
жиссеру все время приходится выпрастывать ноги из-под
свитера, чтоб, приблизившись к ней на тонких цыплячьих
лапках, объяснять глубинную сущность парадокса.
Свет мой зеркальце! Скажи, почему мне так томливо и
тревожно? Я не ответственна за выросшего чужого ребен-
476
ка. В конце концов! Ты ничего о нем не знаешь. Может,
так ему и надо? Может, балкон написан ему свыше? И по¬
тому быть балкону. И быть свержению с него вниз. С по¬
лотенцем в руце. Ибо так тому... Аминь.
29 октября
Работяги не пришли. Она ждала их до последнего, по¬
том второпях надела не те сапоги, а на улице коварная, не
видимая глазу наледь. У поребрика разъехались ноги.
— Извините, — сказала, ухватившись за чей-то ру¬
кав. — Вы меня не подстрахуете?
«Вот как это происходит, — подумал в этот момент
Витя. Он охранял только что побитый и раскуроченный ки¬
оск и видел Нору, хватающую мужчину, — вот как!» В его
несильной голове мысли сначала разбежались во все сторо¬
ны, а потом столкнулись до красной крови. И Витя увидел
одновременно Нору Лаубе, египетскую Клеопатру, бары¬
ню из «Гермуму» и их сельскую библиотекаршу Таньку,
портящую мужиков каким-то особым способом, отчего они
после нее ходили притуманенными и ослабшими, что для
жизни не может годиться, потому как потому...
В каком-то розоватом свете Вите показалось, как этот,
который страхует артистку, летит с известного балкона с
ярким полотенцем в руках. Хорошо, что подъехала мили¬
цейская машина и от него потребовали «фактов по делу по¬
ломки киоска», а так куда бы увела Витю мысль?
Вадим Петрович знал этот покрасневший кончик носа,
который только один и краснел в холод, подчеркивая але¬
бастровые крылья переносицы. Он знал его и на вкус, этот
кончик солоновато-холодный, и как он выскальзывал из
его теплых губ, когда он его отогревал. Снизу лицо женщи¬
ны было скрыто кашне, сверху — огромными темными оч¬
ками. Но в покрасневшем кончике он ошибиться не мог.
477
Нора же, оперевшись на чужую руку, встала на твер¬
дое место, проклиная себя за то, что надела не те сапоги,
что в этих рискует сломать шею, а такси теперь недоступ¬
но, тем более если ты сдуру вносишь аванс за работу, ко¬
торую тебе никогда не сделают. Оттолкнувшись от руки
мужчины, она даже улыбнулась ему в глубины кашне. Это
неважно, что он этого не видел, — важно, что он знает:
улыбнулась — значит, перед Богом чиста. То же, что не
развернула для этого лицо, так ведь не тот случай. Всего
ничего — секундно подержалась рукой, чтоб помочь но¬
гам найти опору.
Вадим Петрович смотрел ей вслед. Он знал эту поход¬
ку. Так устремленно вперед не ходит никто.
Женщина уходила. Еще шаг, и она скроется в переход¬
ной яме...
— Нора... — сказал он. В сущности даже не сказал.
Прошептал.
И она остановилась. Так же быстро, как вперед, она те¬
перь шла назад, а потом на скользком месте, у того же по¬
ребрика, стала разглядывать Вадима Петровича живыми
глазами, сняв темные очки.
Он понял, что она не узнает его, что в ее осматрива¬
нии — сплошное непризнание, и ничего другого. Теперь,
без очков, с сеточкой морщин вокруг глаз, со слегка на¬
брякшими веками, она была той, которую он узнал бы не то
что по кончику носа — по ветряной оспинке, которая сиде¬
ла у нее над бровью; по жесткому волосу, что ни с того ни с
сего вырастал у нее на подбородке, и она тащила его пинце¬
том, а потом внимательно рассматривала на свет, пытаясь
понять природу его ращения. Он помнил вкус ее кожи, за¬
пах подмышек, выскобленных до голубизны. Он жалел все,
что она уничтожала на себе: и подбородочный волосок, и
все ее другие выбритые волосы; он печалился, когда она
изводила свой естественный цвет на какой-нибудь эдакий
новомодный. Смешно сказать, он много лет носил при себе
обломок ее зуба, когда она сломала его, грызя им куплен-
478
ные орехи. Ей тогда сделали новый зуб, не отличимый от
прежнего. Но он отличал. Он знал разницу.
А вот теперь она разглядывала его почти сто пятнадцать
часов, даже голову склонила к левому плечу — и ничего.
Ни одного сигнала памяти.
— Видимо, вы ошиблись, — сказала она глупо, можно
сказать, бездарно, потому что зачем же тогда она вернулась
на сказанное шепотом редкое свое имя? Не Катю же
окликнули, не Лену, не Машу, не Дашу... Коих пруд пру¬
ди... Нору.
Он же думал, как она смеялась: «Иванов! Как это жить
с такой фамилией, когда тебя легион?»
— «Но ведь живу!» — отвечал он.
Тут же, у поребрика, он ощутил себя эдакой «иванов¬
ской сплющенной массой» без начала и конца, не вычлени-
мой для идентификации.
Вот какая казуистика жизни: тебя могут не узнать в то
самое лицо, которое когда-то це-ло-ва-ли.
— Я Вадим, — сказал Вадим Петрович. — Бездарно
было не представиться сразу. Сколько лет прошло!
Столько уже и не живут.
Меньше всего он ожидал, что еще до того как он дого¬
ворит, она так обнимет его и так вожмется в его грудь, что
сердце сначала замрет, потом подпрыгнет на качеле систо¬
лы, потом ухнет вниз, и он начнет искать в кармане нитро¬
глицерин, потому как два инфаркта он уже имел за это вре¬
мя, которое обозначил: «столько не живут».
Это безусловное преувеличение. Потому что прошло
всего ничего — двадцать шесть лет, а даже в нашей лучшей
из всех стране, имеющей весьма низкий уровень, живут
пока еще, если взять на круг, несколько больше. Тут ведь
главное — пережить какие-то критические годы: тридцать
479
семь там, или сорок два, или критически-менструальные
дни страны — войны, революции, перестройки, а также
другие явления типа Чернобыль, «Нахимов», «Руслан».
Но зачем пенять на страну? Мы живем больше двадцати
шести. И спасибо ей.
Ровно столько лет тому театр Норы был на гастролях в
Ленинграде. Вадим был там в командировке, и они
жили — так, видимо, встали звезды — в одной гостинице.
Если идти по коридору от вперед смотрящей дежурной по
этажу, то Норина комната была третьей направо, а его —
третьей налево. Но это выяснилось потом, потом...
Сначала командировочный пошел в театр, куда можно
было попасть. В не самый престижный гастролирующий
московский театр. Билеты перед самым началом в кассе
были. Рубль пятьдесят штука. Давали «Двенадцатую
ночь», конечно, лучше бы что-нибудь другое, хотя что? Ре¬
пертуар нервно перемогался между Софроновым и Остро¬
вским с легкими перебежками в сторону Шекспира.
Но командировочный ходит в театр не для того, чтобы
что-то там смотреть. Вадим Петрович, например, идет,
чтоб не выпивать с собратьями-толкачами. Что невозмож¬
но сделать, оставаясь в номере. У него язва двенадцатипер¬
стной, но кому это объяснишь? Он, конечно, может рюмку,
две, но гостиничное пьянство — процесс безудержный,
страстный. В нем такая энергия смятения и тоски, что язва
просто не может идти в расчет по причине мелкости своей
природы. Он после театра еще и по улицам походит тихо и
неспешно, а в номер нырнет, как битый пес в подворотню, и
затаится там без всякой между прочим надежды, что его не
отловят где-нибудь часа в три ночи, чтобы задать глобаль¬
но-космический вопрос: как он насчет баб? Никакой про¬
блемы снять их нет, но Петрович (Михалыч, Кузьмич,
Иваныч) рассказал случай такой болезни, что проявляется
сразу и притом на лице, какая-то американская зараза, ви¬
димо, из Вьетнама, а может, еще из Кореи, какой-то поло¬
вой вирус, который косит белого мужчину как хочет, а жен-
480
щине хоть бы хны. Один вот так приехал из командировки,
а у него прямо на парткоме лицо пошло буквами.
Дичь, дичь, полная дичь... Но три часа ночи, ремни у
штанов на последнюю дырочку и такая сила хотения, что
даже страхи получить знаки на будущем парткоме — имею
в гробу! «Ты пойдешь с нами, Вадя, или?! Ты сука, Вадя,
сука... Ты не мужик, Вадя... Ты обосрался, ебена мать,
Вадя...» «Да, — скажет он, — да. Я такой!» Вот за это,
что он такой, они и пошлют его за бутылкой, потому что
если ты такой, то хотя бы выпей, сволочная твоя морда.
Другой альтернативы, скажут, нет! Или по опасным бабам,
или пьем по новой! Выбирай, Вадя, иначе на тебе опробуем
вьетнамское (корейское, китайское, мексиканское, негри¬
тянское) оружие. «Ты ляжешь, Вадя, первым! И даже не
сомневайся в нашей жестокости».
Вот почему он сидит вечерами в театре. Он видел «Две¬
надцатую ночь» несчетное число раз. Он видел Виол с тя¬
желыми ляжками и бойцовскими икрами ног, под которыми
гнулись половицы сцены. Видел Виол с ногами-спичками,
столь легкими и невозбуждающими, что думалось: «О Гос¬
поди! Зачем ты так нещедр?» Встречались и коротконогие
Виолы. У этих раструбы ботфортов щекотали им самое что
ни на есть тайное место, и эта потеха обуви и тела, бывало,
передавалась залу. Тут некрасивость производила тот эф¬
фект, которого актрисы с идеальными ногами не достигали,
и в этом гнездилась загадка победы природы над искусст¬
вом.
Нора была идеальной Виолой в смысле ног и ботфор¬
тов. И вообще спектакль был вполне: Эгьючик там, Маль-
волио вызывали нужный утробный смех.
Когда он совсем освоился в восприятии, вытеснив из
памяти всех предыдущих актрис, он понял, что ему нравит¬
ся эта Лаубе, интересно, кто она по национальности? Нем¬
ка? Прибалтийка? Красивый голос, из тех, что особенно
хороши в нижнем регистре. Мальчик из нее что надо...
Хотя и женское в ней, спрятавшись в мужской наряд,
481
очень даже возбуждает. Такого подарка от театра он, чест¬
но говоря, не ждал. За полтора рубля — и такие молодые
эмоции! Его тут недавно настигло сорокапятилетие. Жил-
жил и не заметил, как... Жена с чего-то вдруг засуетилась,
а до этого было, между прочим, и сорок, и тридцать пять...
Он понял: радостно-нервной возней вокруг его лет жена
как бы утвердила некий переход в другое его время. Она
его назвала, время, так: «Можно перестать себя расчесы¬
вать и сдирать струпья». Никогда до этого, никогда... они
не говорили про это — про расчесывание и струпья. Но
ведь несказанное, оно было в нем, было! Горе-злосчастье
неслучившегося, несовершенного, горе ушедшего как песок
времени. Вадим Петрович Иванов с нежным шуршанием
ссыпался, стекал в узкое горлышко никуда, и сколько там
его осталось в воронке жизни?
А тут — на тебе... Такое волнение от женщины-артист¬
ки. Существа других неведомых реальностей, существа,
принадлежащего, так сказать, всем сразу. И вот оно, суще¬
ство артистки, вызывает в нем совершенно частную, инди¬
видуальную мужскую нежность, до такой степени не поде¬
ленную со всеми, что даже удивительно присутствие других
людей слева и справа...
Надо ли говорить, что Вадим Петрович поперся к слу¬
жебному входу и вырос там под фонарным столбом? Надо
ли говорить, что незнаменитый театр такими «сырами» —
по-нынешнему фанатами — избалован не был, что под фо¬
нарем он был один — немолодой мужчина провинциально¬
го вида: в шапке из зайца, которую напялила на него жена,
потому как Ленинград — город сырости и туберкулеза.
Другой бы, может, и оспорил мотивацию уже неновой шап¬
ки, но он принял треух, как принимал от жены все по праву
младшего (хотя жена была моложе его на пять лет), а пото¬
му осведомленного о жизни меньше. Жена же знала прак¬
тически все: Ленинград — город туберкулеза. Одесса —
сифилиса. Москва — гастрита. Свердловск — аллергии.
Элиста — гепатита. Астрахань — дизентерии. Такой была
482
табель о болезнях его командировок. Поэтому в тот день
заячья ушанка под полной луной поблескивала основатель-
ной вытертостью, в день серпомесяца это могло и не обна¬
ружиться.
Они — ангелы — вышли компанией, и он пошел сле¬
дом. Они сели в троллейбус, и он вошел в него, тем более
что это был его троллейбус. Конечно, все сошли на одной
остановке, потому что он уже в дороге сообразил: скорее
всего артисты живут в его гостинице. Он не решился под¬
ниматься с ними в одном лифте, но когда он вышел на сво¬
ем этаже, она разговаривала с впередсмотрящей и на его
вежливое «добрый вечер!» улыбнулась вполне дружествен¬
но. А потом они шли вместе по коридору, и выяснилось,
что соседи. Вадим Петрович хотел сказать, что был на
спектакле, но растерялся, не знал, как оформить в слова то,
что спектакля он не видел, а видел и чувствовал только ее,
но его закол добило: будет ли правильным сообщить именно
это — уж очень признание может быть похоже на обман, а
что есть лесть, как не обман? — но сама мысль о возмож¬
ности обмана просто не помещалась в том человеке, кото¬
рый ломал ключ, чтоб открыть дверь.
Поэтому смолчал. Нора же отметила командировочную
затрапезность мужчины, которую видела миллион и тысячу
раз. Ее бывший муж Анатолий Лаубе был вполне таким же
и обрел товарный вид, только когда встретил мечту своей
жизни — болынеступую из Айдахо, и она сводила его в
«Березку», из которой вышел уже другой Лаубе, мгновен¬
но поднявшийся над несносимым румынским костюмом и
чешскими ботинками «товарища ЦЭБО», или как там его?
В ту ночь Вадим Петрович сам нашел гостиничный но¬
мер, где не спали его братья по крови, пьяно хрипя про бес¬
конечность бесконечных вопросов бытия.
— У тебя же язва? — вспомнил кто-то, кто еще что-то
помнил, когда Вадим Петрович налил себе в стакан.
— Сегодня это не имеет значения, — ответил он.
— Такое бывает, — поняли его.
483
Он стал ходить в театр каждый день. Если Нора Лаубе
не играла, он уходил сразу, до начала спектакля, прочитав
только программку.
Однажды он решился и, когда она вышла в компании
сотоварищей, отрезал ее от всех, вручив букетик — что там
говорить! — неказистых гвоздик — во-первых, других не
было; во-вторых, что называется «цветы были по сред¬
ствам».
Нора узнала его сразу, взяла под руку, и они поехали в
гостиницу следующим троллейбусом, не со всеми. Она рас¬
сказала ему, что сегодня утром подвернула ногу, что вся в
перебинтовке, что боится снять повязку, потому что не смо¬
жет наложить ее сама, придется заматывать ногу в поли¬
этиленовую штору из ванной, иначе как принять душ? Но
если она снимет штору, как принимать душ? «А говорите,
что нет безвыходных ситуаций!» — смеялась, потому что
как действительно снять штору?!
— Я вас забинтую, — сказал Вадим Петрович. —
Я этому обучился на сборах. Вот ведь! Считал дурьим де¬
лом, а могу вам помочь.
— Класс! — ответила Нора.
Процесс разматывания бинта, благоговейное держание
за пятку, терпковатый запах стопы, столь совершенной, что
он даже слегка оробел. Почему-то вспомнилось умиление
ножками дочери, когда она была маленькой, он тогда любил
целовать сгибы крохотных пальчиков и думать, какую кра¬
соту дает природа сразу, за так, а потом сама же начинает
ее корежить и уродовать. Норина же нога не подверглась
всепобеждающему превращению в некрасивость, и ему
страстно, просто до физической боли захотелось поцело¬
вать сгибы ее пальцев. Нойона резко поднялась и, прихра¬
мывая, пошла в ванную. «Бинты в тумбочке», — сказала
она ему.
Он прокатывал в ладонях бинт туда-сюда, туда-сюда,
слушая шум воды. Все мысли, чувства, ощущения собра¬
лись в комочек одного слова — «случилось». Жена, дети,
484
работа — все то, что составляло его, сейчас завертелось,
устремляясь к этому абсолютно забубенному, по сути, сло¬
ву. Могло бы и покрасивше назваться главное потрясение
мироздания.
Потом они пили чай, и рядом с пачкой рафинада на
журнальном столике лежала грамотно перебинтованная
Норина нога, а специалист по наложению повязки трогал
время от времени голую стопу, чтобы проверить (ха-ха!),
не пережал ли он ненароком какой сосуд и поступает ли
кровь в самые что ни на есть ничтожные и незначительные
капилляры.
— Не жмет? — спрашивал Вадим Петрович.
— Я млею, — смеялась Нора. — За мной так ухажи¬
вали в последний раз, когда мне было четыре года и у меня
была ветрянка. Видите след на лбу? Это я в страстях поче¬
сухи содрала струп.
Да будь она вся в рытвинах осп, да будь она слепа и
кривобока, да будь... Именно это хотелось крикнуть ей во
всю мочь. Он даже понимал: это «дурь любви», но хоте¬
лось именно таких доказательств. Доказательств криком.
Если уж нельзя как-то иначе.
Нора же, сидя тогда с совершенно чужим человеком, ду¬
мала другое. «Брехня, — думала она, — что любовь сама
себе награда. Любовь — боль. Сказала бы еще, боль, как в
родах, но не знает — не рожала. Но боль непременно, пото¬
му как страх. Потерять, не получить ответа, быть осмеян¬
ным, ненужным, наконец, перестать любить самой, что рав¬
носильно землетрясению, когда ничего не остается, даже
тверди под ногами. Ушедшая из жизни любовь может ока¬
заться пострашнее смерти, потому как смерть — просто
ничто, а ушедшая любовь — ничто, но с жизнью в придачу».
Именно тогда от нее уехал в Айдахо муж, и она еще не
успела его как следует разлюбить, чтоб перестать жалеть и
помнить.
Умная, она знала, что в конце концов все пройдет. Не
случай мадам Бовари там или Анны Карениной. Но глядя
485
на умиленного, потрясенного провинциала, который стес¬
няется оскорбить ее даже собственным глотком чая, а пото¬
му тянет кипяток трубочкой губ... Вот эти самые ошпарен¬
ные губы и сделали свое дело. Ее подкосила степень его
ожога.
Дальше все как у людей. Вадиму Петровичу ничего не
стоило продлить раз, а потом и еще, и еще командировку.
За ним сроду не числилось ничего подобного. Наоборот,
он всегда недобывал там, куда его посылали, всегда рвал¬
ся вернуться домой. Поэтому, когда он сослался на какие-
то проблемы, ему сказали: «Оставайся сколько надо».
Тогда же он попросил прислать и денег, ему их тоже пере¬
вели спокойно — то было время, когда деньги всегда
были в кассе и люди не подозревали, что им могут взять и
не заплатить. Как не подозревали ни об истинной стоимо¬
сти своей работы, ни о зависимости ее от того, нужна ли
она кому? Уже постарели и поумирали те, кто знал, что
деньги что-то значат в системе экономики. Люди иногда
вспоминали какие-то странные факты из жизни работника
и товара, но их было все меньше и меньше, а те, которые
стали потом монетаристами или как их там, были еще ок¬
тябрятами и носили всеобщего цвета мышиные пиджачки,
уравнивающие их потенциал со всеми остальными. Так
вот, то, что тогда называлось «деньгами», пришло по те¬
леграфу. Вадим Петрович купил себе новые носки, пото¬
му что стеснялся жениной штопки, не всегда совпадающей
с главным цветом. Опять же... Нитки того времени... Те,
что для штопки, были строго двух цветов — коричневого
и черного. Надо было быть большим пижоном, чтобы ку¬
пить себе серые маркие носки. Вадим Петрович гордо
взошел на эту гору.
Театр посмеивался над странно вспухшим романом.
Нора только-только отвергла ухаживания вполне респекта¬
бельного журналиста-международника. Такой весь из себя
Ять, чулочно-носочные проблемы жизни проходили на-
486
столько мимо него, что, если говорить правду, именно это и
остановило Нору, живущую среди вещей и людей так близ¬
ко, что подлетающий на облаке кавалер в чужом аромате
заставил Нору душевно напрячься.
Может, в случае с Вадимом Петровичем она пошла по
пути от противного?
Норе было уютно в руках этого знатока бинтования. Ей
было покойно. «Не надо держать спину», — объяснила
она все это одной старой актрисе, с которой можно было
пообсуждать случившийся роман. «Это ненадолго, — от¬
ветила та. — Даже среди простейших не выживают именно
те, кто не держит спины. А уж в нашем деле позволить
себе такое... Как только выпрямишься, так его и сбро¬
сишь»...
До этого не дошло полсекунды. Оканчивались гастро¬
ли, надо было ехать в Витебск, именно тогда спина как
раз и напряглась выпрямиться. Расставались горячо,
страстно, но слова Вадима Петровича, что он приедет в
Москву непременно-всенепременно, Нора покрыла поце¬
луем, и он, настроенный на нее и только на нее, уловил
торопливость ее губ, испытал ужас, но тут и поезд тронул¬
ся, а Нора еще на перроне — «быстрей, быстрей!», — и
вот она уже стоит на площадке с благодарно освобожден¬
ными глазами.
«Я свинья, — корила она себя, не отвечая на его пи¬
сьма. Но тут же утешилась: — Пусть так и думает. Ему же
будет легче, что я такая гадина».
Он никогда не думал о ней так. Он думал о ней по-дру¬
гому — страстно, нежно, продлевая и продлевая каждый
из прожитых тогда дней. Он натягивал, вытягивал эти нити
из прошлого, боялся их порвать, пока однажды все не по¬
рвалось само: тяжело, безнадежно заболела дочь. Смерть
назначила истинную цену жизни. Бились с женой, спасая
девочку, упустили сына... К тому времени, когда Вадим
Петрович и Нора встретились у поребрика под контроли-
487
рующе замечающим все взглядом милиционера Виктора
Кравченко, дочери уже много лет не было на свете, а сыну
было столько, сколько было Вадиму Петровичу в том Ле¬
нинграде. Жена готовилась к операции катаракты, и Вадим
Петрович специально приехал в институт Федорова, чтобы
показать все медицинские бумаги, а одновременно выяс¬
нить, сколько может стоить операция в Москве, все-таки
как никак, а центр этого дела.
29 октября
Договорились так. Нора возвращается домой в один¬
надцать часов. Пусть он ее ждет на этом же месте. «Это
мой дом, — и пальчиком в серый, грязный, безрадостный
торец. — Видишь, какой красавец!»
По торопливости, по рассеянности или по некоей потай¬
ной логике побуждений, но Нора не сказала номера своей
квартиры. Вадим Петрович, боясь ее пропустить, пришел
на час раньше. После дежурства, возвращаясь дорогой
мимо ларька, Витек увидел утреннего старика уже с буке¬
том, обернутым «юбочкой вверх». Витька давно напрягали
именно эти фасонные «юбочки» цветов: все в кружавчиках,
цветы обретали особый, специфический намек. Сам Витек
цветы никому никогда не дарил, но капитан-психолог
объяснял им, что «цветы есть момент спекуляции на влече¬
нии мужчины к женщине. Влечение не стыд. Это есте¬
ственный процесс».
Витя — в который уж раз! — подумал: как он прав,
капитан. Но и не прав тоже. Ибо нельзя назвать естествен¬
ным процессом то, что заставляет этого старика стоять на
сквозняке, прикрывая собственным телом «юбочку цве¬
тов».
— Не замерз, дед? — с подтекстом спросил Витя, ду¬
мая, что с этой актрисой ему еще ломать и ломать мозги. —
Спрашиваю, не замерз? — повторил он, на что действи-
488
тельно замерзший и неуслышавший Вадим Петрович отве
тил невпопад.
— Да вот! Жду...
Нора опоздала, потому что по первому ледку троллей¬
бусы скользили медленно. Она увидела Вадима Петровича
издали, на фоне унылого торца своего дома, маленький че¬
ловек боролся с ветром, был несчастен, а букет это еще и
подчеркивал.
— О господи! — сказала Нора, внутренне раздража¬
ясь на цветы. Зачем он их? — Идемте скорей!
Она представила, как он будет не знать, не уметь себя
вести, как ей предстоит наводить этот ненаучно-фантасти¬
ческий мост между временами и как ей это не нужно со¬
всем. Прошлого у них не было. Надо разговаривать о том,
что случилось вчера и сегодня.
— В Москве в командировке? — спросила она.
— О нет! — засмеялся Вадим Петрович. — Я уже не
работаю. Я тут частным образом...
Невероятная формулировка, взятая из другого времени.
Он это понял и растерялся, что такими здешними словами
скрывает проблему жениной катаракты, а значит, получа¬
ется, и ее самою. Стало стыдно, неловко перед ни в чем не
повинной женой, и он приготовился сказать все как есть, но
Нора стала рассказывать ему про «случай с балконом» и
про то, что ей кажется, она знает этого упавшего мужчину.
Нов словах получилось как-то неловко, неточно: ведь если
то, что ей вообразилось, правда, то она знала не мужчи¬
ну — ребенка. «У него от атропина были просто сумасшед¬
шие зрачки. А сам он становился вялым и сонным»... Это
Нора уже уточнила факты, а Вадим Петрович думал:
«Надо же, мы сближаемся при помощи офтальмологии.
Если бы я начал объяснять, зачем я здесь... Тоже были бы
глаза».
Рассказывая все вслух другому человеку, Нора вдруг
поняла, что с ней сыграло шутку воображение, что все ей
489
пригрезилось. Возможно, потому, что они репетируют аб¬
сурд. У нее не зря всегда было к нему боязливо брезгливое
отношение. Сегодня, например, она заколдобилась на фра¬
зе: «Я ведь никого не стесняю, я небольшого роста». Ска¬
зала режиссеру: «Это надо с иронией? Я ведь отнюдь не
маленькая». «Какая ирония? — закричал он, выскальзы¬
вая из свитера. — Это в пьесе самая психологическая фра¬
за. Это суть». «У вас все суть, — пробурчала она в от¬
вет. — Но у нас не радиоспектакль. Меня же видно!» —
«Вы что, на самом деле не понимаете?! Разве на самом
деле речь идет о росте?!» «Читаю! — закричала Нора. —
Читаю: «Я ведь никого не стесняю, я небольшого роста».
Хотя поняла все сама, но такая обуяла злость...
— Сама напридумала историю, — уже почти смеясь,
объясняла она Вадиму Петровичу. — Этот бывший маль¬
чик — сын моего второго мужа. Не дергайтесь, Вадим, я вас
прошу. Мы давно разошлись, а потом он умер. Ведь с того
Ленинграда двадцать пять лет прошло, не халам-балам, как
вы считаете? — А хотела ведь не касаться прошлого.
— Двадцать шесть, — ответил он.
Она сама обозначила память. И разве он виноват, что
слеза выкатилась из уголка глаза и застыла, чтоб ее приме¬
тили, под очечным ушком? Он повернул голову так, чтобы
она не увидела его старческой слабости. Но она заметила и
прижала его голову к себе. Вадим Петрович, траченный
жизнью инженер, подрабатывающий время от времени
ночным сторожем в поликлинике (выгодное для стариков
место, каждый был бы ему рад), давно забыл былые муж¬
ские молодецкие эмоции. Они ушли от него давно и спо¬
койно, как уходят выросшие дети, — уходят, оставляя чув¬
ство освобождения от милых, дорогих, но все-таки хлопот и
беспокойств. «Став импотентом, я испытал чувство глубо¬
чайшего облегчения». Так или почти так говаривал в какой-
то книжке Моэм. Вадим Петрович это запомнил и был рад,
что и у него потом оказалось так же, как у умного англича¬
нина.
490
Могла ли вспрыгнуть в голову мысль, что он не иссох и
не иссяк? Что заваленный хламом источник жив и фуры-
чит?
Он остался ночевать, напрочь забыв, что следовало бы
предупредить приятеля, у которого жил: откуда у него мог¬
ли быть деньги на гостиницу? Ведь сначала Вадим Петро¬
вич рассчитывал посидеть всего полчасика и уйти — для
него одиннадцать часов было временем поздним.
А теперь вот три часа ночи, и Нора лежит у него на
руке и рассказывает, как наняла рабочих починить ограду
балкона, как они взяли аванс — и с приветом, как трудно
найти было человека, чтоб посидел и покараулил квартиру,
пока работяги доламывали балкон.
— Пришла тут одна женщина из подъезда, а потом
ушла с поджатыми губами. Злюсь на нее невероятно! За
поджатость эту... С чего это она взъерошилась на меня?..
Ты заметил, как легко мы все входим в ненависть? Как в
дом родной. И как нам не дается сердечность. Участие. Я и
сама такая. Да и ты, наверное. Хотя про тебя не знаю.
Я ведь тебя вообще плохо знаю. Но ты мне кажешься
очень хорошим. По моей математике, это когда в человеке
добро и зло в одинаковой и постоянной пропорции, без воз¬
можности перевеса зла. С таким, как ты, хорошо перехо¬
дить бурные реки по шатким мосткам.
Он смеялся и целовал ее плечи.
30 октября
В пятом часу он уснул первым. Разомкнул на ней руки и
уснул, удивляясь и восхищаясь случившемуся.
Утром Вадим Петрович вспомнил позвонить приятелю,
но дома у того никого не оказалось. Куда ему было девать¬
ся? Нора сказала:
— Оставайся. Я съезжу в театр — обещали выдать
зарплату — и вернусь. А ты отдохни и расслабься.
491
Она поцеловала его так нежно, что из того же самого,
что и вчера, слезного канальца, опять выползла сумасшед¬
шая слезинка. Нора промокнула ее ладонью.
— Хочешь мне помочь, — сказала, — сходи за хле¬
бом. — Ключи звякнули на столе.
Он еще раз позвонил приятелю, потом еще и еще и стал
собираться за хлебом. Вчера было не до того, а сегодня он
обратил внимание на аскетизм Нориной кухни. Пакетик
майонеза. Баночка йогурта. Суп «Галина Бланка». Его
жена, женщина других правил, просто умерла бы от отчая¬
ния, не будь у нее в холодильнике суповой косточки и не
стынь в нем вилок капусты. Почему-то возникло чувство
раздражения на жену, вечно озабоченную проблемой обе¬
да, чтоб обязательно первое и хоть пустяк, но и второе —
сырничек там или колечко колбасы с горячим горошком...
«Да не морочь ты себе голову, — сердился он. — Сколько
нам надо?» Жена подслеповато хлопала глазами, но лицо ее
становилось твердым и упрямым.
Тут же, озирая скудную снедь Норы, Вадим Петрович
впустил в себя мысль, возможность которой еще вчера
была чудовищной. Он способен уйти от своей слепнущей
жены, организовав ей, конечно, операцию и последующий
уход, а потом остаться здесь, у Норы. Навсегда. На все
годы. Почему-то мысль, что думает про это Нора, придет
ли ей такое в голову, просто не думалась. Он смог бы. Он
сможет.
С этим новым, неведомым и очень возбуждающим чув¬
ством он и стал собираться за хлебом. Хотя допрежь вы¬
шел на балкон посмотреть, что там случилось у бедной де¬
вочки. Именно такими словами теперь думалось. «Бедной»
и «девочки».
Рваная рана ограды. Девочка ночью призналась, как
затягивает ее проем. Что однажды она даже потрясла ногой
над бездной, а потом вбежала в квартиру, будто за ней гна¬
лись. «Что-то надо делать, — удрученно думал Вадим
Петрович, — так это нельзя оставлять».
492
Выйдя на улицу, он первым делом пошел на помойку.
Вадим Петрович был старым и опытным помоечником.
Именно там он находил нужные в хозяйстве предметы. Те¬
левизор без начинки он отмыл и присобачил как ящик для
обуви. Он очищал чужие поддоны и решетки газовых плит
и заменял ими собственные, которые еще хуже. Хотя
очисть и выскобли он свое, домашнее... Но сидел в нем, си¬
дел этот помоечный пунктик, праправнук кладоискатель -
ства, и эту генетическую цепочку, как ту самую песню, «не
задушишь и не убьешь».
На одной из ближайших дворовых свалок Вадим Пет¬
рович нашел кусок ребристого материала, он потопал на
нем ногами — проверка на прочность, — кусок не дрог¬
нул, не согнулся, не треснул. Найти куски толстой проволо¬
ки было делом совсем простым. Конечно, он не знал, какие
у Норы инструменты, но надеялся нарыть что-нибудь ко¬
люще-протыкающее, в крайнем случае сгодились бы и про¬
стые ножницы. Так что возвращался Вадим Петрович,
правда, без хлеба, но достаточно обогащенный другим.
«Я сделаю все до ее прихода, а потом уже схожу за хле¬
бом», — думал он, радуясь ее радости, когда она увидит
залатанную дыру. Потом она, конечно, найдет честных ра¬
бочих и они заварят уже все как следует, но пока... Пока у
нее не будет этой страшной возможности подойти к краю.
У него закружилась голова от нежности к слабости девоч¬
ки, у которой для пищи одна-единственная «Галина Блан¬
ка», будь проклята эта курица-женщина во веки веков. Его
жена даже с катарактой куда более приспособлена к жизни,
и это была очень вдохновляющая мысль, если рисовать ту
перспективу, которую уже начинал мысленько видеть Ва¬
дим Петрович.
Ребристая штука по размеру плотно, даже с запасом
закрывала проем. «Как тут была», — восхищенно подумал
Вадим Петрович. У него даже выступил на ладонях пот,
хотя руки у него всегда были сухие и жестковатые. Но в
минуты крайнего волнения или потрясения он мокрел имен-
493
но ладонями. У каждого своя причуда. У знакомого Вадима
Петровича в таких же случаях текли неуемные и стыдные
сопли, а человек он был сухой и опрятный. Другой его при¬
ятель бежал от волнения в уборную по-большому и пару
раз даже не добегал, что совсем ужас. Но разве можно
предугадать потрясение? Разве знал он еще утром, что ему
придет в голову идея ремонта? А потом карта сама ляжет в
руки.
Перед тем как выйти на балкон и укрепить там все, Ва¬
дим Петрович подумал, что надо бы позвонить приятелю,
чтоб тот не думал плохого, но сейчас, когда в голове посе¬
лилась мысль о некоем другом будущем, почему-то не хоте¬
лось объяснять, где он... Слишком все серьезно, чтоб гово¬
рить об этом по телефону. Надо сесть за стол там, на ди¬
ван... Чтоб видеть глаза.
Именно в этот момент его приятель стоял у своего теле¬
фона и не знал, что ему думать. Вчера вечером звонила
жена Вадима, сказала, пусть возвращается домой и не мо¬
рочит голову с федоровским институтом. Она сама нашла
врача, в которого поверила сразу и решила, что он и только
он будет ее оперировать. И деньги он возьмет смешные,
потому что он дальний родственник их невестки (а они и не
знали!), но из тех дальних, что лучше ближних.
Вадима еще не было дома, но и время было десять с ми¬
нутами. Жена сказала, что позвонит завтра с утра. Вот и
позвонила. Пришлось что-то наплести. Приятель испугал¬
ся сказать женщине, что Вадим не пришел ночевать. Он
думал: «Мало ли?» Человек ежился у телефона, и мысли
плохие, очень плохие бились в его голове. «Какая же ты
сволочь, — думал приятель о Вадиме Петровиче, — если
у тебя все в порядке, а ты не объявляешься».
Пришла его жена. Старая и единственная.
— Не звонил? — спросила. И добавила: — Лично я
кобелизм исключаю. У него для этого дела в кармане вошь
на аркане. А за так теперь и прыщ не вскочит.
494
Нельзя думать плохие мысли. Никто не исчислял их
энергетику, пусть даже малую. Никто не знает каналов
устремления умственного человеческого зла. Никому не
дано увидеть зависимость от гипотетического желания
убить до обрушения земли. И очень может быть, что хва¬
тило малой толики ненависти, идущей от вполне порядоч¬
ного человека, которого достала играющая гаммы соседская
девочка, и он в сердцах подумал: «Чтоб тебя разнесло с
твоим пианино». И разнесло. В другом месте.
На мысли своего приятеля, хорошего человека: «Какая
же ты сволочь!» Вадим Петрович уже летел вниз с Нори¬
ного балкона. Проклятый ледок, что тормозил скорость ма¬
шин на улицах, соединившись с истертостью подошв Вади¬
ма Петровича, сделал свое дело. Плиточка пола на балконе
была выложена с мудрым расчетом стекания воды. Микро¬
скопическая ледяная горка для хорошо поношенной обуви.
С этим уже ничего не поделаешь, но это был праздник
души милиционера Виктора Ивановича Кравченко. Он
даже не мог скрыть, хотя и сказать впрямую не мог
тоже — понимал: радоваться чужой смерти нехорошо.
Хотя на этот счет капитан-психолог говорил совсем другое.
«Надо возбуждать в себе радость победы посредством
мысли о смерти врага». Но «упатый с балкона человек» —
так было написано в рапорте — врагом не был. Он был
стар, и он был жертвой. А с жертвой как понятием Витьку
было не все ясно. «Жертва — момент преступления. Но
если ты мертвый — не значит, что ты невиноватый. Если,
конечно, не дите или сосулька на голову».
Капитан-психолог — умный человек, но и он не может
знать ответов на все вопросы жизни. Капитан длинноват от
макушки и до пояса и коротковат в сторону земли. Виктору
Ивановичу нравятся такие фигуры. Длинные ноги, которые
теперь всюду показывают, вызывают в нем нехорошие чув¬
ства. Тянущиеся ноги, у которых нет конца и краю, и, ка¬
рабкаясь по которым, уже и не помнишь, с чего это ты тут
495
оказался. Получается, что тебя подчинила длина, и она
унижает и оскорбляет тебя высотой по сравнению с тобой.
Низкорослые люди были милиционеру Виктору Крав¬
ченко понятней и ближе. Они над ним не высились. Они
попадали с ним зрачок в зрачок.
1 ноября
К вопросу о зрачках.
В этих не было света. Совсем. «У нее же катаракта, —
объясняла себе Нора. — Надо с ней поделикатней».
Но как? Как? Нора провалилась в вину, как в пропасть.
С этим ничего нельзя было поделать. Вина и пропасть ста¬
ли данностью ее жизни. Можно ли к тому же оставаться
деликатным?
— Как это можно было самому починить? — спрашивал
тот приятель Вадима Петровича, которому Нора в конце кон¬
цов дозвонилась. Теперь он в присутствии мертвых зрачков
жены покойного бросал ей как поддержку вопрос о несостоя¬
тельности ума Вадима Петровича, желающего самостоятельно
заделать брешь в ее балконе. Ну зацепись, дура артистка, за
помощь, скажи что-нибудь типа: «Я ему говорила», «Я поня¬
тия не имела, что он задумал», «Мне и в голову не могло
взбрести»... Но все эти бездарные слова уже говорились ми¬
лиции, хотя даже тогда она уже знала: она их произносит «из
пропасти вины». Это сразу понял молодой мальчик, как его
там? Виктор Кравченко. Он наклонился над ней, над ее «ко¬
лодцем», куда она прибыла как бы навсегда, и смотрел на нее
сверху черным, все понявшим лицом.
— Я ушла. Он остался. Я попросила его купить хлеба.
Мы вечером заболтались. (Фу! Какое неправильное, стыд¬
ное слово накануне предсмертия. Когда ты уже взвешен на
весах...)
— Откуда он вас знал? — Естественно, женщина с ка¬
тарактой думала только об этом.
496
— Когда-то, когда-то... В Ленинграде мы жили в
одной гостинице. Знаете, как возникает командировочная
дружба...
— Да, я помню, — сказала женщина. И что-то мельк¬
нула в ее лице как воспоминание радости.
...В ее жизни тогда был голубой период. Надо же! По
какой-то цепочке продаж ей обломился голубой импортный
костюм из новомодного тогда кримплена. Воротник и кар¬
маны костюма были отделаны черной щеточкой бахромы.
Он так ей шел, этот наряд, что хотелось из него не выле¬
зать, а носить и носить без передышки. Но голубой цвет
маркий. Тогда она сказала: «Надо что-то купить еще голу¬
бое. На смену». И купила платье в бирюзу. Все тогда ре¬
шили, что у нее появился любовник. Другой уважительной
причины «наряжаться на ровном месте» люди не понимали.
А она как спятила. Купила еще и голубую шляпку-феску с
муаровым бантом-бабочкой на затылке. Лицо у нее тогда
как бы оформилось по правилам — стало тоньше, оваль¬
ней. У нее вдруг появилось ощущение собственной неизве¬
стной силы, она даже не скучала, что так долго нет мужа.
Ей было тогда с собой интересно.
Потом он приехал. Уставший и унылый. Он не заметил
ее голубую феску.
Сейчас это уже не имело никакого значения. Ни эта
артистка, ни этот несчастный балкон, ни даже смерть.
Ее, имевшую в жизни однажды голубое счастье, прижа¬
ло лицом к черному без края пространству... Хотя разве
можно прижаться к пространству? В него падают, в нем
растворяются, им поглощаются... Но нет. Ее именно
прижало...
Собственно, зря они пришли к этой актрисе. Она на са¬
мом деле ни в чем не виновата, хватило бы посмотреть мес¬
то, куда он упал, ее глупый муж, неспособный починить ба¬
чок или прибить ровненько плинтус. Но там, у подъезда, в
497
них было столько радостной ненависти, что пришлось бе¬
жать на шестой этаж в квартиру.
Актриса впустила их и заплакала. Странно, но она по¬
верила ее слезам, хотя тут же подумала: «Ну что такое ей
заплакать? Их же этому учат!»
Потом они уходили, а люди подъезда так и стояли у
дверей, прижатых камнем. Не похороны ведь, но все же
процессия из трех человек. Женщина подумала: «Это они
для меня. Оказывают внимание. Они не знают, что мне
уже все все равно». И она пошла со двора быстро-быстро,
пришлось ее хватать за локоть. Ведь почти слепая, в чужом
месте, как же можно бежать, глупая?
— Датушка, датушка, — сказала кассирша Люся со
второго этажа. Никогда еще чувство глубокого удовлетво¬
рения не переполняло ее так полно, так захлебывающе, что
хотелось даже делиться избытком, и она сняла длинную бе¬
лую нитку с юбки Анны Сергеевны и протянула ее, обвис¬
шую на пальце, самой хозяйке:
— Блондин к вам цепляется, мадам! Хотя по нынеш¬
ним временам лучше их не иметь. Всегда найдется какая-
нибудь подлая и сделает ему шире.
— Стой! — закричала Анна Сергеевна. — Такое горе,
а вы!
— Да? — насмешливо ответила Люся. — Да?
У женщин такое бывает: они проникают друг в друга
сразу, без препятствий, они считывают текст не то что с из¬
вилин — тоже мне трудность! — с загогулинки тонкой
вибрации, не взятой никаким аппаратом науки. А одна сес¬
тра на другую глаз бросила — и вся ты у нее как на ладони.
Люся и Анна Сергеевна несли в душе одну на двоих об¬
щую радость: свинство в виде прыжка с чужого балкона их
настичь не может. Они, слава богу, хоть и одинокие и у них
нет мужей, но не могут допустить к себе чужих и случай¬
ных. А дальше большими буквами следовало:
...не то, что некоторые.
498
Когда прощались возле троллейбусной остановки, жена
Вадима Петровича сказала Норе странное:
— Я бы тоже хотела умереть на хорошем воспомина¬
нии.
— Сделайте операцию и живите долго. Вадим очень
беспокоился о ваших глазах, — ответила Нора.
— Да? — спросила женщина. — Я его раздражала.
Случалась бумага в супе. Недомытость чашки... Он не
указывал пальцем, но начинал громко дышать...
На этой фразе она замерла, потому как неосторожно
вырвавшееся это слово «дышать» было тем самым, что от¬
личало жизнь от нежизни.
Возвращаясь домой, Нора вспоминала, как застопори¬
лась на слове «дышать» жена Вадима Петровича.
«Живые, — думала Нора, — обладают тысячью спо¬
собов передачи информации, в которых слово — самое
примитивное. Смерть — это невозможность передачи ин¬
формации. Это хаос системы».
Она даже не подозревала, что обнаружит дома столько
знаков присутствия Вадима Петровича. «Как насле¬
дил», — печально подумала Нора. На балконе она прижа¬
ла принесенный им ребристый щит старой, с отслоившейся
фанерой тумбочкой. Бреши не стало видно, даже возникла
некая законченность в дизайне с ободранной тумбочкой —
хоть ставь на нее горшок с цветами. В ванной Вадим Пет¬
рович оставил свой галстук, сам же, видимо, и прикрыл его
полотенцем. Очешник, в котором лежал список московских
поручений. Гомеопатическая аптека была на первом месте.
Вот почему он оказался рядом с ее домом. Рядом была та¬
кая аптека. Остался полиэтиленовый пакет с газетой
«Московские новости» и брелком «Томагочи». «Госпо¬
ди, — подумала, — надо было посмотреть раньше. Это
ведь для кого-то куплено».
Странно, но в ту ночь они не говорили ни о ком, кроме
себя. Только сначала — жена и катаракта — и все. По¬
том — как оттолкнулись от берега времени. О чем же был
499
разговор, если почти не спали? Нора стала вспоминать, на¬
бирался ворох чепухи. Вспоминали, как она тогда, давным-
давно, выходя на поклоны, зацепилась юбкой за шип розы,
которые получила другая артистка. Это были единственные
цветы от зрителей, и Вера Панина была очень этим горда,
хотя все знали: букет принес ее двоюродный брат, но Вера
так с ним — с букетом — крутнулась, что зацепила Нору и
поволокла за собой. Кто-то тут же придумал плохую при¬
мету — шип хорошо годился для всяких мрачных умствен¬
ных реконструкций. Но Вадим того времени предложил
другое толкование: роза утащила Нору. Это было время
Сент-Экзюпери и его Розы, от него могли идти только хо¬
рошие предзнаменования. И теперь можно сказать с уве¬
ренностью: тот шип ничего плохого не означал. Еще Вадим
Петрович вспоминал в ту ночь, как у него кончились чис¬
тые носки и рубашки — конечно, не самое романтичное
воспоминание для встречи после долгих лет, но ведь никто
еще не научился руководить взбрыками памяти, она ведет
себя как хочет. Но получалось, что именно носки и шипы
сделали свое дело. Нора сказала: «У меня уже сто лет не
было такой родственной близости, такого совпадения моле¬
кул». Они лежали обнявшись, у Вадима постанывало, по¬
хрипывало горло, а она думала: у него сердечное дыхание,
ему надо обследоваться, он себя запустил, и ей так сладко
было думать о нем с нежностью. А потом он соскользнулся
с балкона, потому что у их истории не могло быть продол¬
жения просто по определению. Не такие они люди... А ка¬
кие?
И еще Нора думала, что никто ей не предъявил счет за
потерю. Ни жена, ни друг-приятель. Как будто все зара¬
нее знали, что случится так, а не иначе, и виноватых не
будет. Но этот томагочи... Не доставленный неизвестно
кому. Он пищал ей все время, она не знала, что делать.
«Так я с ума сойду, — подумала Нора, — надо взять себя
в руки».
500
2 ноября
Вот из этих слов и надо понять, в каком она была состо¬
янии. Она даже не заметила, что подъезд ей объявил газа¬
ват. Иногда что-то бросалось в глаза: мертвое молчание
пассажиров в лифте — а какой до этого слышался щебет,
пока не раздвинется дверь. Обойденные мокрой тряпкой
пределы ее половика в коридоре. По первому разу это по¬
казалось смешным. Нора не принимала эти знаки, как зна¬
ки войны, как не принимала и подъезд как силу, ей проти¬
востоящую. Наоборот, люди всегда демонстрировали ей
низкопоклонство, если уж не любовь, во всяком случае с их
стороны было должное отношение, как к человеку не про¬
стой, а, скажем, изысканной профессии, эдакого штучного
товара их подъезда. Все как все, а она вот — артистка. Это
было данностью. Поэтому до Норы не доходили разные
другие знаки отношения, в голову она не могла их взять.
Однажды Люся со второго этажа, будучи человеком, у
которого мысль располагалась ближе всего к кончику язы¬
ка, а потому на нем и не удерживалась, сказала Норе тихо:
— Я бы на вашем месте постеснялась...
Сказала прямо возле лифта, прямо на смыкании дверей,
чтоб не дать Норе ни понять, ни переспросить.
Будь у Норы другое состояние души, она бы запросто мог¬
ла вставить ногу в притвор, и еще неизвестно, чье слово было
бы последним, но со дня падения Вадима Нора существовала
в некоем другом измерении. В нем главенствовал четкий вы¬
ход в ничто, хотя и задвинутый рифленой поверхностью. Но
это, выражаясь словами, а по жизни чувств ей все время было
зябко. Душевная мука выходила дрожью, ознобом, а однаж¬
ды она услышала странный звук, стала оглядываться — отку¬
да, что? Выяснилось: стучали зубы. Суховато, как стучат де¬
ревянные ложки, когда ложкари входят в раж.
Как-то встретила этого молодого милиционера. Забыла,
как звать. Он посмотрел на нее обличительно и громко втя¬
нул в себя детскую каплю, некстати обозначившуюся.
501
Она ушла с этим ощущением уличенно-обличенной. «На¬
шел, дурак, леди Макбет», — подумала Нора, но в душе ста¬
ло муторно: она чувствовала себя виноватой. Леди такое в го¬
лову не пришло бы. Вина виделась так: она слишком много
думала о Грише, бывшем мальчике с крутым завитком, кото¬
рый — возможно! — и был тем первым упавшим у ее подъез¬
да. Получилось: она сама создала проект смерти, умственный,
гипотетический. И живая жизнь просто обязана была нало¬
житься на ее чертеж. Нора думала, что позвонит еще раз по
тому телефону, который знал Гришу, и вот в этот момент Вик¬
тор Иванович Кравченко, дернув тонкой шеей, посмотрел на
нее так нехорошо. Дело в том, что накануне Виктор Иванович
впервые в жизни бил человека. Тип стоял за помойкой, что у
детской площадки, с приспущенными штанами, и белая его
плоть была столь стыдной и омерзительной, что, когда кулак
Виктора Ивановича попал в голое тело, противность мгновен¬
но поползла к локтю и выше и стала как бы захватывать его
всего, и тогда, ударяя в этого молчаливо терпящего боль типа,
Виктор Иванович стал стряхивать руку, как стряхиваешь тер¬
мометр. Бил и стряхивал. Бил и стряхивал. Но тут сбрасыва¬
лась не ртуть — отвращение.
Потом пришло упоительное чувство успокоения. Все в
Витьке размякло, расслабилось, каждой клеточке тела ста¬
ло вольно. Он смотрел, как убегает этот кретин, на ходу
застегивая штаны. Он ведь даже не пикнул, не издал даже
малейшего звука, что говорило о правильности и справед¬
ливости битья за помойкой. «Рукоприкладство — вещь не¬
допустимая, — говорил капитан-психолог. — Но жизнью
это не доказано».
Когда Нора прошла мимо, Витек обратил внимание на
тонкоту ее щиколок (имея в виду щиколотки). Он предста¬
вил их, обе две, в обхвате своих широких ладоней и как он
держит артистку вниз головой в балконную дырку и она
признается ему криком из сползших ей на голову одежд:
зачем она их погубила, двух мужиков, молодого и старого.
Она признается ему, будучи вниз головой, в преступлении,
502
и все потом поймут, что все было так самоочевидно, а уви¬
дел и понял он один. Витек так сцепил кулаки, что в них
ссочилась вода и даже, казалось, булькает... Виктор Ива¬
нович распластал ладонь — она была влажной, линии
судьбы переполнились живым соком и обратились в реки.
Особенно полноводной была та, что являла собой долгожи¬
тельство. С нее просто капало.
3 ноября
«Я ведь никого не стесняю... Я небольшого роста...»
Всегда был комплекс, что она вровень с мужчинами, ну не
так чтобы сильный комплекс — пришло ведь ее время,
время длинноногих, маленькая женщина, можно сказать,
потерялась среди женщин-дерев.
На этой же фразе — Нора это ощутила в ногах, как
они будто подломились для уменьшения — пришло ощу¬
щение (или осознание?): больше никогда никого не стесню.
Ростом. Телом. Количеством. Буду жить боком. Левым бо¬
ком вперед. Чтоб не задеть, не тронуть, не стеснить. Ре¬
жиссер стал орать, что не этого от нее хотел. Что не нужна
такая никакая, живущая боком, ему нужно ее притворство,
ее лукавство. Такова женщина! «Никого не стесню» надо
понимать как полную готовность стеснить любого до зады¬
хания, до смерти.
— Да? — удивилась Нора.
После репетиции Еремин сказал, что если она с ходу, с
разбега не заведет любовника, то спятит, что он это давно
видит — с тех самых пор, как начали репетировать, что ее
славное свойство не принимать роль всерьез, а просто на¬
девать, как костюм, ей изменило. Она ведет себя, как ма¬
лолетка-первогодка, выжигая себе стигмы. Кому это нуж¬
но, дура?
Что он понимал, Еремин? Тогда, когда был Ленинград
и Вадим Петрович, его еще в театре не было. Для него вся
503
случившаяся история заключалась в словах: «Старый иди¬
от взялся не за свое дело и рухнул. Конечно, жалко. Кто ж
говорит? Но ты, Нора, его в проем не толкала. Тебя вооб¬
ще дома не было». Как объяснишь про умственную дорогу,
которую она построила вниз и сама к ней примерилась.
5 ноября
Она бы спятила от чувства вины, но случилось неверо¬
ятное. Объявился Гриша.
Если бы она не разучилась к этому времени смеяться,
то да... Повод был. Он был практически лыс, этот новояв¬
ленный Гриша. У него не то что излома волос, а даже наме¬
ка, что излом такой мог быть, не возникало. Зато прояви¬
лись уши. Они были высоковаты для обычной архитектуры
головы, и Нора подумала: «Рысьи». Хотя нет, ничего по¬
добного. Уши как уши. Чуть вверх, но такими зигзагами
мелкой фурнитуры, и создается внешнее разнообразие
мира. До извивов тонкой материи еще добираться и доби¬
раться, а уши — они сразу. Здрассте вам!
К ушам прилагалась бутылка «Амаретто». Это-то со¬
единение и стало ее беспокоить. Но потом. Попозже...
— Я думал, думал, — объяснял себя Гриша, — но вод¬
ка — было бы грубо?
Он нашел ее по телефонному номеру, который дала ему
сестра из Челябинска, и знакомые, у которых он остано¬
вился.
— Вы меня искали. У вас что-то случилось? — спро¬
сил он прямо, не понимая, почему она сейчас плачет, и со¬
крушаясь о ходе времени; в его памяти Нора была красивой
молодой женщиной, от которой пахло духами. Эта же была
стара, и от нее просто разило мятной жвачкой. «Удивитель¬
но тонкий вкус. Зимняя свежесть».
Нора поняла, что ничего не сможет объяснить. Ни-че¬
го.
504
Гриша рассказывал о своем способе выживания. Он его
называл «моя метода». Маленькие услуги большим клиен¬
там. Нет, ничего криминального. Но кому охота мотаться,
чтоб получить достоверную информацию о том и сем? Не
ту, которую вложили в компьютерную башку, а ту, что на
самом деле проживает в Обнинске, а нужна позарез Челя¬
бинску. «Я почти шпион, — говорил Гриша. — Взять, к
примеру, кобальт...» «Я тебя умоляю, — смеялась
Нора, — давай не будем его брать. Скажи лучше... Тебе
нравится так жить?» «Вполне, — ответил Гриша. — Во-
первых, я свободен в выборе. Во-вторых...» На «вторых»
он замолчал, и Нора поняла, что есть только «во-первых»,
а процесс саморекламы «своей методы» у Гриши не отрабо¬
тан.
— Материально как? — спросила Нора.
— Свою штуку в месяц имею...
«А сколько это — штука?» — подумала Нора. Спро¬
сить было неловко. Теперь это не принято. Вполне может
быть, что они думают на разные «штуки». Но после того
как Гриша оказался живой, свести разговор к деньгам было
не то что противно, а разрушительно по отношению к со¬
стоянию ее радости. Мелкий свободный порученец Гриша
закрыл своим живым телом черный проем ее балкона, и
стало возможным думать, что смерть Вадима Петровича
действительно случайна, страшна, трагична, нб не ее рукой
вычерчена. И тот, первый, все-таки бомж, просто задел ее
перила, дурачок, не смог спроектировать траекторию паде¬
ния, потому как был пьяный, а то и хуже — накуренный
незнамо чем.
Жизнь на глазах побеждала смерть, случай что ни гово¬
ри уникальный, чтоб не сказать неправдоподобный. Но
ведь и Нора — человек странной профессии, в которой
главное не то, что есть на самом деле, а то, что надобно на¬
звать, изобразить главным... Нора удивилась бы, скажи ей
кто, что раньше она никогда сроду не забывалась в роли,
505
больше того — не верила, что так может быть у кого-то,
сейчас же вела себя в сущности непрофессионально. Вери¬
ла в чушь. И это уже второй раз. Первый, когда у нее на
репетиции укоротились ноги от произносимых слов, а сей¬
час вот — от присутствия Гриши. Ей уже близнится, что
вообще никто с ее балкона не разбивался. Просто недора¬
зумение. Раз Гриша тут.
Вот тут-то и стало быстро-быстро раскручиваться бес¬
покойство. Вдруг ясно, до деталей, увиделся поворот голо¬
вы с приподнятым ухом и донышко бутылки. И между ат-
ропинным мальчиком и этим лысоватым шпионом новой
экономики был еще один, которого она видела так четко и
ясно. Легко все свалить на свойства актерского глаза: он
уж высмотрит, он уже выковырнет. Издержки профессио¬
нальных накоплений. Склад забытых вещей. Но внутри
что-то бибикало.
Параллельно с этим пилось «Амаретто» — и выпилось.
И она сказала Грише, что раскладушка вымерена и впри¬
тык становится к кухонному окну, так что...
Гриша ответил, что может спать на любом данном ему
пространстве пола, раскладушка — это для его кочевой
жизни почти пять звездочек. Нора подумала, что, пожа¬
луй, представления о «штуке» у них одни и те же.
Она заснула крепко, как не спала уже много времени.
Виктор же Иванович Кравченко знал: у артистки ночу¬
ет мужчина.
У него странно вспотела спина: будто кто-то мокрым
пальцем поставил ему на ней точки и мокрота... Витек при¬
слонился к косяку двери и потерся.
— Чего это вы, как животное? — ядовито спросила
Анна Сергеевна. С той поры, как он грудью падал на ее
пустые бутылки, в результате чего сбежала Олька и от нее
ни слуху ни духу, Анна Сергеевна Витька не полюбила. Все
в ней завязалось в странный такой узел, а зачем ей это, за¬
чем? А получается — конца нет, вот опять явился — не
506
запылился милиционер и чешет спину об ее косяк, как ка¬
кая-нибудь собака.
— Разрешите выйти на ваш балкон, — сказал Виктор
Иванович, запомнив навсегда слово «животное». «По¬
мнить — не забыть, — говорил капитан-психолог, — это
не то что взлетело-вылетело. Выдвинь в голове ящик и по¬
ложи наблюдение».
«Положил», — подумал Витек.
Его приятно удивили убранность балкона и отсутствие
на нем новой опростанной тары. Он посмотрел снизу вверх
и представил след падения как след сдвинутого с места
мешка.
— Какое у вас мнение? — спросил Витек Анну Серге¬
евну.
— Мое мнение будет такое, — четко ответила женщи¬
на, — я на шахматы сроду бы не могла лечь спать. Значит,
мы с ней разные. Я из другого мяса... Но сегодня у нее уже
другой. Молодой. А времени прошло всего ничего...
В шахматы Виктор Иванович не врубился, но не пере¬
спросил, потому что за так, за здорово живешь получил
наиважнейшую информацию. Спина была уже мокрая вся,
он выскочил на свежий воздух и стал смотреть на Норины
окна, взобравшись на крышу трансформаторной будки.
5 ноября
Гриша лежал на неудобной и коротковатой раскладуш¬
ке, и ему было хорошо. Хорошо от неудобства тела. Что
коротко. Что провалились чресла. Что комковатая подуш¬
ка. Физике Гриши не нравилось все, зато — о Боже! —
как хорошо было в том нежном пространстве, которое раз¬
ные люди называют по-разному, а Гриша определял это ме¬
сто как «то, что кошки скребут», или попросту «скрибля».
Как всякий ленивый человек, Гриша любил словообразова¬
ния. Это занимало его и развлекало.
507
Последний месяц ему было ой как нехорошо. Он пото¬
му и сбежал в Обнинск, где у него была в запасе нежная
грудь, к которой в любое время припасть — не было про¬
блем. Грудь была вдовая, пожилая и даже собой не очень,
но для случаев побега лучше не сыщешь.
Возвращался он в Москву осторожно, опасливо, сразу
узнал, что его искала Нора, чуть было не сбежал снова, но
потом стал наводить справки...
12 октября
...Началось все с конфет. Девчонка торговала польской
«Коровкой», а у Гриши они — слабость. Девчонка оказа¬
лась болтливая, разрешила за так попробовать и маковые, и
ореховые.
— Вообще-то нельзя, — смеялась она. — Да ладно!
Абдулла меня любит.
— Кто ж такую не полюбит! — сказал Гриша, но
сказал так, для тонуса общения, потому что барышня
была не в его вкусе. Крепковата на вид, а Гриша ценил в
дамах ломкость и одновременно как бы и мягкость. Но
могли ли быть ломкими женщины, если они родились в
городе Пятихатки? Девчонка даже паспорт показала —
истинно Пятихатки, на фамилию внимания Гриша не об¬
ратил — зачем? А вот имя глазом выхватил — Ольга.
То да се. Живет девушка у тетки, но хочет снять жилье
(«Видишь объявление?»), потому что тетка — зануда:
никому не прийти, никому не уйти. «Я ей кто — крепос¬
тная?»
Гриша — мастер цеплять слово за слово. Почти подру¬
жились.
Через несколько дней подошел еще.
Возле Ольги стоял мужик из этих, приплюснутых жиз¬
нью, когда уже не стригутся и не бреются. Ольга шепнула:
«Земляк. Не может найти работу, а детей аж четверо. Со-
508
ображаешь степень?» И она незаметно покрутила пальцем
у виска. У Гриши детей не было, но он знал в жизни одну
историю, как его маму с тремя детьми увел от мужа боль¬
шой человек, воспитал их, а от родного папы как раз толку
не было. Тут не сразу сообразишь, где Пятихатки, а где
Гришина мама, но поди ж ты... В каком-то тонком Гриши¬
ном составе жило представление о Женщине-Подарке (пи¬
шется с большой буквы), которая не зависит от такой слу¬
чайности, как муж-неудачник. Подарок как эстафета пере¬
ходит к удачливым, ведя за собой детей, родственников и
остальные бебехи. Сам Гриша потому и не женился, что, с
одной стороны, он ждал такую же, а с другой же — ника¬
кой логики! — совершенно не хотел нести последующие
неудобства в виде чужих детей.
Гриша узнал, что звали земляка Ольги — Пава! Имен¬
но так его называла «коровница», уточняя: «Ну Павел он,
Павел! Но Пава! Я знаю почему? Так все зовут!» — судя
по всему, жена Павы Подарком, видимо, не была, если он
торчал в Москве, зарастая густым волосом. «Продай свой
скальп с кудрями!» — смехом предложил Гриша. Но Пава
не понял юмора, потому как не знал слова «скальп». А ког¬
да Гриша объяснил, ответил, что продал бы. Грише в тот
момент стало даже как-то неловко, и он стал рассказывать,
какие у него в детстве были волосы, не поверишь! Меховая
шапка! И где это все, где?
3 ноября
Могло ли ему тогда прийти в голову, что именно из-за
волос его будет искать Нора? Ведь Нора ему ничего не
сказала. И про разбитого Паву тоже. Хотя к теме волос
возвращалась. «У тебя был такой крутой завиток!» — «И
не говорите! — смеялся Гриша. — А ведь я еще, считайте,
мальчик. Ха-ха. Однажды увидел себя на старой фотогра¬
фии...»
509
Как говорила на все случаи жизни Норина гримерша:
«Переспать — еще не повод познакомиться». С какой ста¬
ти грузить на Гришу превратности собственной судьбы?
Поэтому Нора ничего ему не рассказала ни про бомжа, ни
про Вадима Петровича.
Гриша молчал тоже. Когда вышел на балкон и увидел
прижатый тумбочкой рубероид, подумал, надо бы ей заде¬
лать дырку, и даже осторожно — вообще! — сказал об
этом, но Нора просто закричала как полоумная: «Ни в
коем случае! Я уже договорилась!»
Крик ее был неадекватен необязательности его предло¬
жения. С чего бы?
Теперь он провисал в раскладушке, радуясь тому, что
история кончилась, и он в ней — как выяснилось — ни
сном ни духом.
...Ольга тогда сбежала. Так сказала ему вчера ее сосед¬
ка по лотку. Сбежал и Абдулла. Ольга ничего соседке не
сказала, а Абдулла сказал, что, когда близко подходит ми¬
лиция, надо уходить. И еще он сказал, что «боится белых
русских глаз». Конечно, милиция должна была появиться,
и у Норы в первую очередь, но она ничего про это. «А я
тебя тоже не спрошу! Не спрошу!» — внутри себя весело
кричал Гриша.
Хотя занимал вопрос: почему она ему звонила? Не
раньше, не позже, а именно в момент этой истории? Но от¬
вет был вполне складный.
— Знаешь, — сказала Нора. — Я ведь одна как
перст. Тебя вспомнила маленького. Как тебе закапывали
глаза. Какие крутые у тебя были волосы. Папу твоего...
Как все у нас было хорошо, а потом плохо...
— А балкон у вас почему сломан?
Это было даже элегантно с печали о себе перевести на
грубую материю перил.
— Он был хлипкий сразу. А зимой такие были сосуль¬
ки. Расшатали.
510
«Она думает так? Она не знает? Может, она даже не
слышала про то, что случилось? Артистка! Что с нее взять?
А перила на самом деле были на соплях. Пава только заце¬
пился за них кочергой — и абзац. Почему-то сорвалась и
веревка, и очень красиво летело полотенце».
17 октября
Тогда ведь как было. Ольга их пригласила к себе, пото¬
му что тетка утром ушла в собес, а оттуда должна была
уехать на сорок дней чьей-то кумы.
— Приходите, — сказала Ольга. — Я возьму отгул.
Пришли поврозь. Так, чтоб никто не видел и не донес
тетке. Ольга варила картошку, селедка лежала под щедрой
охапкой фиолетового лука. «Коровка» дыбилась на блю¬
дечке. Пава пришел пустой. Гриша взял «Монастырскую
избу», на что Ольга печально сказала:
— В какие-то веки отгул...
Как-то так сразу стало ясно, что был мужской расчет на
Ольгину бутылку.
Но та как отрезала.
— Я ставить не буду. Что принесли, то и ваше.
Поэтому было скучновато: ноль семь на три делится
сразу и без остатка.
— А бутылок нет, чтоб сдать? — спросил Пава. Ольга
аж зашлась от хохота. Сказала, что уже давно не пещерное
время, а бутылок, как грязи, на балконе только у таких
идиоток, как ее тетка. Лежат с тех еще пор, когда та жила
сыном, а он «гудел» прилично, а потом так удачно женился,
что теперь ни капли в рот, все время за рулем, но матери ни
копейки, рожай детей после этого. С нерожания и переки¬
нулся разговор на артистку, что живет сверху. Уже немоло¬
дая, а живота ноль — потому как никакая будущая сви¬
нья — сын или дочь — не растягивали ей стенки пуза, мо¬
лодец женщина, предусмотрела последствия.
511
— Небось богатая, раз одна, — сказал Пава.
— Естественно, — ответила Ольга, — всю жизнь жи¬
вет для себя — накопится.
Потом она показала журнал, где портрет артистки, и
Гриша прочел: «Нора Лаубе».
— Да я ж ее знаю! — закричал. — Идемте к ней в го¬
сти! Она была женой моего отца.
Такой возник азарт. Что уже забыв опаску — правда, к
счастью, никто им не встретился, — взбежали на этаж и
пцзвонили в дверь. Норы дома не было.
Бывает, опьяняет сама ситуация. Во всяком случае про¬
бежка туда-сюда. Занимательность Гришиной истории —
и такое пошло гулять у всех возбуждение, что естествен
был итог: надо купить бутылку и еще закуску, потому как
осталось две картошины и несколько вялых фиолетовых
колец.
С Павы взять было нечего. Решили по-честному: Гриша
идет за бутылкой, а Ольга — за колбасой. Паву в квартире
заперли. «К телефону не подходи». «Дверь не открывай».
— А это что? — спросил Пава.
— Кочерга, — ответила Ольга.
— Это я вижу. Зачем, если нет печки?
— Тетка открывает дверь с нею, — засмеялась Оль¬
га. — Специально привезла из деревни.
— Пава! — сказала Ольга уходя. — Руками ничего не
лапай. Ладно? У меня тетка очень приметливая.
Они разбежались в разные стороны: Ольга в гастро¬
ном, где дешевле, а Гриша по ее указке в «кристалловский»
магазинчик. «Принес «Избу», можно подумать, дети», —
сказала насмешливо.
С деньгами у Гриши было туговато, но он так возбудил¬
ся новостью, что Нора рядом и он к ней непременно нагря¬
нет, что по такому случаю решил не жмотиться. Пусть бу¬
дет самая лучшая водка с лучшим винтом.
Когда он возвращался, у подъезда уже толпились люди.
Он увидел Паву, полотенце, чуть в стороне валялась ко-
512
черга. Люди были так увлечены упавшим лежащим, что он
на глазах у всех отпнул кочергу ногой, а потом, когда ухо¬
дил совсем, отпнул ее еще раз. Он видел, как возвращается
Ольга, но уже знал, что встречаться с ней не будет, что он
уйдет отсюда навсегда и ни одна собака его здесь больше не
увидит. Гриша завернул за угол и исчез из жизни этого
дома, подъезда, Ольги и этой дурной, напрягшейся вожде¬
лением смерти толпы. В какой-то момент ожидания авто¬
буса он испытал просто лютую ненависть к Паве. А если
бы тому удалось попасть в квартиру к Норе и его застука¬
ли?.. Гришу всего просто выкрутило — так ясно он пред¬
ставил, как его потом вяжет милиция, а затем обвал всей
жизни, не сказать какой удачливой, но без всяких там яких.
Жизнь у него в полном согласии с требованием нормы,
пусть заниженной, приплюснутой временем, как у всех не
преуспевших, но и не рухнувших окончательно, как Пава.
А как у всех нормальных.
По дороге побега в Обнинск он представлял, как дур¬
ным голосом кричит у подъезда Ольга, как будет она его
ждать, как навалится на нее милиция (и на него, захо¬
чет, — тоже). «Не найдете, дорогие товарищи, не найде¬
те», — молился Гриша.
А все было совсем не так. Увидев Паву, а потом пролом
в балконе артистки, Ольга почти спокойно поднялась в
квартиру, выкинула к чертовой матери пустую бутылку
«Избы», на все повороты закрыла балкон, сокрушаясь над
тем, как шагал бедолага по бутылочному развалу. В школе
Пава был хороший гимнаст, черта выделывал на снарядах.
«Таких не берут в космонавты, — говорил их физкультур¬
ник, — такие идут в циркачи!» Так это ж когда было? Те¬
перь у него четверо детей. Уже не детей. Сирот. Ольга по¬
клялась, что никогда не скажет жене Павы, как он погиб.
Она понятия о нем не имеет. Ни разу в глаза не видела. Ни
разу. А сейчас она выйдет на работу.
Но следующий день принес неприятности. К тетке при¬
ходил милиционер.
513
Она после этого сказала Абдулле, что уходит, так как
без прописки, и почему-то менты начали интересоваться.
— У нас человек в подъезде убился, так они теперь
шныряют.
Абдулла хорошо ей заплатил. Она так и не узнала, что
после нее так же быстро уходил в никуда и Абдулла.
А всего ничего — Виктор Иванович Кравченко лег жи¬
вым животом на грязные бутылки.
6 ноября
Нора проснулась от ощущения, что троллейбус дернул¬
ся и остановился. Таких ощущений в ее жизни миллион, по
нескольку случаев на дню. И с чего бы просыпаться с мыс¬
лью, что у нее не сходятся концы с концами? Да потому,
что она однажды уже видела из окна троллейбуса Гришу с
бутылкой. Тогда она обратила внимание на выражение лица
мужчины. Он стоял на остановке, ожидая троллейбус, в ко¬
тором она ехала. Она подумала, что обидчивость мужчин
недоизучена психологией. Умная женщина, даже не так,
просто женщина в миру проблем и отношений сто раз спря¬
чет в карман и боль, и обиду, а мужчина набрякнет носом,
заскрипит зубом, да мало ли? Их очень долго можно нуме¬
ровать, такого рода признаки. Этот ждущий троллейбус
был, видимо, оскорблен сразу всем. И Нора подумала:
«Ну что за порода...»
Она тогда вышла в заднюю дверь, а обиженный вошел
в среднюю, какое-то время она заметила донышко бутыл¬
ки, которую он держал в руке. Она злилась на свою при¬
липчивую зрительную память, что без разбора копит все
увиденные лица.
Сейчас она знала точно: тот человек с остановки лежал
у нее ночью на раскладушке в кухне. Ее память признала
его. Она, память, знала, что такой обиды лицо у сына от
отца, вечно оскорбленного живущим без интереса к нему
514
человечеством. Память же тогда угодливо подсунула ей и
завиток на голове у мальчика, и она такое себе нагородила,
увидев затылок разбившегося бомжа. Все так...
Но почему все-таки не сходятся у нее концы с концами,
если так все складненько объясняет ум?
— Да потому что, значит, он был тут в тот день и тот
час, когда погиб несчастный! — сказала Нора вслух, а
Гриша во сне скрипнул раскладушкой, потому как был чу¬
ток.
Норе бы встать и сварить кофе, но как это сделаешь,
если кухня занята? Она лежала, громко распластав руки и
ноги, она беззвучным криком кричала тому Невидимому,
который, оказывается, все давно знал. «Почему ты не на¬
доумил?» — было в тишине крика.
Вчера Гриша ей сказал, что встанет рано и уйдет
тихо — у него нужная встреча. Это было вранье. Никакой
встречи — надо было застать приятеля дома, до работы,
потому как оставаться у Норы Гриша не хотел. А тут еще
мудрое утро первым словом снова спросило его как бы
между прочим: «А почему все-таки мадам не рассказала,
кто ей порушил перила?» Гриша не подозревал Нору в ка¬
ком-то злом умысле — Боже, сбавь! Но то, что такой са¬
моочевидный, можно сказать, просто публичный факт не
называется, то надо согласиться: в этом есть нечто остора-
живающее. Эдакое: я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что
ты знаешь — до бесконечности сокрытия...
Гриша оделся тихо, умылся бесшумно, когда шел к две¬
ри, увидел сидящую на диване Нору в облачении из шах¬
матной простыни. Вид, прямо скажем, жутковатый. Фи¬
гурки казались черными фальшивыми собачьими костями.
А Норино лицо, желтоватое, стекшее к подбородку, было
невероятно ярким на фоне черных по белому костей. Эда¬
кая яркость гепатита супротив яркости замерзшего в степи.
— Ты бывал раньше в этом доме? — спросила
Нора. — Если точно, семнадцатого октября?
515
— Я? — сказал Гриша. — Семнадцатого? Но ты же
мне звонила в тот день, я был в Обнинске!
Нора засмеялась. «Так попадаются малолетки, — по¬
думала она. — Он не может знать, в какой день я звони¬
ла... Тем более что это было не раз».
— Гриша, расскажи, как это было!
Странное у нее лицо. Она все знает, тогда зачем ей его
рассказ?
— Нора, о чем ты? — смеется Гриша. — О чем?
Я уже бегу! Клянусь Богом, я тут никогда не был, ничего
не видел, ничего не знаю! — А сам уже крутит в замке
ключ. Этого ему еще не хватало, тем более если Ольга сбе¬
жала и никто не подтвердит его слов о том, что он пошел
тогда за бутылкой. Нора, получается, его видела. Но что
она видела? Что?
— Ты стоял на нашей остановке, в руках у тебя была бу¬
тылка, у тебя было испуганное и злое лицо... Я шла и дума¬
ла: чье это лицо? Чье? Ты очень похож на своего отца. У не¬
го было такое же выражение, когда его не утвердил ВАК.
Что она сравнивает, идиотка?
Дверь наконец поддалась, и Гриша подумал, что именно
этой идиотке он мог рассказать все, что было на самом
деле. Если б она не соврала первая. Но она соврала. Все
вокруг растет из одного корня — лжи. Все врут налево и
направо. И он такой же. Денег на этом не наживает, но и
врагов тоже. С кочки на кочку, с кочки на кочку... Я иду по
ковру, ты идешь, пока врешь. Я — ты, он — она, вместе
целая страна...
— Нора! Я бегу! Закрой за мной.
Она идет к двери. Гепатит и фальшивые косточки.
— Гриша! Расскажи мне! Расскажи. Ты же знаешь.
— Целую вас, Нора! Ты такая фантазерка!
«Он знает, что случилось, — думает Нора, запирая за¬
мок. — Иначе зачем скрывать?»
«Черт знает, что она теперь навоображает, — думает
Гриша. — Еще решит, что я его скинул. Надо смываться
516
отсюда навсегда. В милицию она не пойдет... Из-за отца...
Какой никакой — я ей слегка пасынок. Зачем я пришел к
ней, дурак? Зачем?
Виктор Иванович Кравченко, стоящий у подъезда, не
оставил у Гриши сомнений в истинности именно этого умо¬
заключения.
5 ноября
Витек знал, что мужчина остался ночевать у артистки.
Когда он вернулся в общежитие после того, как у нее погас¬
ли окна, у него свело в желудке. Посидев без толку на тол¬
чке, он понял: болит не там. Пальцем он подавил себе жи¬
вот сверху вниз и с запада на восток. Боли как бы не было,
но одновременно она и была. Тогда он решил, что просто
голоден и надо поесть. В холодильнике стояло молоко и ле¬
жал кружок чайной колбасы. Он откусывал от круга и де¬
лал глотки прямо из пакета. Через пять минут пришли от¬
вращение и тошнота.
«Надо следить за пищеварением, — говорил капитан-
психолог, — камни кала могут способствовать неправиль¬
ности исходящих мыслей».
Витек лег на живот, дыша открытым ртом в подушку.
Отвращение сосредоточилось в бегущей слюне, но почему-
то стало легче мозгам. Он сумел заснуть как был, одетым,
лицом вниз, а когда проснулся, то уже знал, что будет де¬
лать. Он ее спросит по всем правилам, и пусть она ему от¬
ветит по ним же. Пришел со смены Поливода и стал разу¬
ваться. Слабым внутренностям Витька вид мокрых ступней
товарища был уже не под силу.
У подъезда артистки он столкнулся с выбегающим муж¬
чиной. Тем самым, которого он приметил вчера.
— Предъявите документы, — не своим голосом сказал
Витек, потому что не ожидал встречи — раз, а два — он
517
еще ни разу не требовал предъявить вот так, что называет¬
ся, на ровном месте.
У Гриши тряслись руки. Это было очень заметно и при¬
ятно сердцу милиционера. Хотя паспорт был как паспорт.
Прописан в Челябинске.
— Вы тут по какому делу? — спросил Витек.
— Был у знакомой. Проверьте. — Далее случился ка¬
зус. Гриша по нервности назвал номер квартиры Ольги.
Витек переписал данные и отпустил Гришу. Только у квар¬
тиры Норы он увидел, что ему назвали другую квартиру.
Этажом ниже. Витек сбежал вниз и изо всей силы позво¬
нил в дверь Анны Сергеевны.
Анна Сергеевна проснулась оттого, что сверху громко
хлопали дверью. Вечером у артистки долго не спали. Грохо¬
тали в кухне. Двигали мебель. Она собиралась, одевшись,
подняться и сказать той об этом.
С того дня, как Анна Сергеевна «пасла работяг» в
квартире Норы, она успела взрастить в душе приличного
веса ненависть. Конечно, формально все началось как бы с
шахматного белья, но Анна Сергеевна была воспитана в
понятиях и отдавала себе отчет: само по себе любое по¬
стельное белье не может быть причиной такого сильного
чувства. Но если бы только белье! У нее в ноздрях до сих
пор запах Нориной кухни, не едный, горелый, кофей¬
ный — что было бы понятно, — иной. Она ей сегодня ска¬
жет про ночные стуки-грюки, скажет прямо глядя в лицо.
Вот тут и позвонили в дверь.
Сколько времени прошло, как пропала ее кочерга, место
которой было у дверного проема! Она ее специально при¬
везла из деревни, взяла в брошенной избе, из которой люди
уволокли все что можно, но кочерга — предмет в хозяйстве
единичный: если у тебя уже есть одна, зачем тебе вторая?
Вот Анна Сергеевна и привезла никому не нужную вторую
в столицу и приставила к стеночке у самой двери. Идешь
открывать, а кочерга так складненько ложится в ладонь.
518
Наверняка ее куда-то затырила Ольга, но, зараза, уехала —
и ни слова, где ее теперь черти носят, в какие края подалась?
— Кто там? — громко закричала Анна Сергеевна, си¬
лой голоса возмещая отсутствие кочерги.
— Это участковый, — тихо ответил Витек.
Он был весьма обескуражен неправильностью номера
квартиры. Его охватил злой гнев, но капитан-психолог
учил: «Тем больше тише говори, чем больше громче у тебя
накопилось».
— Чего тебя с утра пораньше принесло? — спросила
Анна Сергеевна. — Кочерга куда-то задевалась, а то б я
тебе устроила сейчас ужас.
Слово ударилось об Витька и рассыпалось на буквы.
Он собирал их вместе, но получалось как в детской игре —
«агречок».
И тогда нарисовалась картинка: чья-то нога в линялой
джинсе отбрасывает кочергу. Он шел и думал: «Абсолютно
бессмысленный предмет для жизни в большом городе».
Его тогда подвезли по дороге. На происшествие. Он
вылез из машины, шел... А тут нога. Штанина. Движение
носком ботинка. Бряцанье. Тот самый день.
Витек бежал вниз, забыв о лифте.
Анна Сергеевна кричала ему вслед, забыв, что рано ут¬
ром на площадке не кричат.
Нора стояла в обмотанной простыне — сердитый крик
Анны Сергеевны вслед милиционеру совпал с ее внутренним
криком обо всем сразу: о Грише, который врал, о Вадиме,
который оставил томагочу, о бомже, который, видимо, не
бомж, потому что Гриша наверняка его знал, но Гриша бежал
от ее вопросов, едва не сломал дверной замок. «О Боже!
Боже! Прости меня!» — кричит Нора голосом Анны Серге¬
евны.
Удивительное — рядом. Отпнутая Гришей кочерга так
и лежала в канаве двора. Железяка она и есть железяка.
519
Витек взял ее грязную своей чистой рукой и пошел в
подъезд.
«Мыслительный процесс может начаться с любой ника¬
кой мелочи, — говорил капитан-психолог. — Нельзя ис¬
ключать даже следа мухи».
На девятом этаже он снял с лифтовой шахты лестницу-
стремянку. Вместе с нею и кочергой он вернулся к Анне
Сергеевне. Та так и стояла у двери, другие квартиры тоже
были открыты. В проемах замерли вызванные Анной Сер¬
геевной, на всякий случай, свидетели.
Этого Витек не ожидал, он не собирался ставить экспе¬
римент на глазах у посторонних. Он ведь решал личную,
глубоко задевшую его внутреннюю задачу. Поэтому, войдя
к Анне Сергеевне, он, во-первых, выяснил, ее ли кочерга у
него в руке, а во-вторых, предложил ей закрыть дверь, по¬
тому как «тут вам не театр». Причем эта его фраза к мыс¬
лям его о Норе отношения не имела никакого, это была бы¬
товая, обиходная фраза типа: «Не ваше дело» или «Кто тут
последний?»
Анна Сергеевна радостно узнала в лицо кочергу, но на¬
зад ее не получила, так как вместе с Витьком и стремянкой
кочерга отправилась на балкон.
— Он тогда от вас шел, — сказал Витек. — Я видел
след. И я вас еще потом спрошу, кто он...
— Кто он? Кто? — Анна Сергеевна испугалась не
слов — тона голоса. Было в нем что-то пугающее, некая на¬
стырность: бедная женщина вдруг поняла, что не знает, с ка¬
кой стороны ей оборониться и какую часть себя прикрыть.
Витек же как раз все знал очень хорошо. Он верил, что
у него получится. Он взойдет к актрисе через балкон и,
значит, докажет возможность такого пути. И тут не важ¬
но — зачем? Важно: к ней шел убиенный.
Потом он разберется с хозяйкой кочерги — тут налицо
уже все улики! Стоя на стремянке и кочергой отодвигая ру¬
бероид с тумбочкой, Витек сказал прямо в открытый рог
Анны Сергеевны:
520
— Кочерга служила зацепом в квартиру артистки. Но
ограда была на соплях.
Анна Сергеевна завыла жалобно и тонко, потому что
правда милиционера всегда была и есть выше правды про¬
стой женщины-пенсионерки, которой вовек не доказать,
что в ее дому сроду не было посторонних мужчин, охочих
до актрис.
Но кочерга, кочерга... Плач о непонятном выходил из
Анны Сергеевны жалобным вытьем. А чем же еще он мог
выходить?
Нора несла на балкон мокрое полотенце. Иссекла себя
горячими и холодными струями, а толку чуть. Шла в рас¬
пахнутом халате. «Сейчас схвачу воспаление легких, — ду¬
мала. И тут же: — А пусть! Пусть воспаление! Отчего-то
ведь умирать». Он вырос, как лист перед травой, — гор¬
дый, грязный и с кочергой.
Она не испугалась. Она заплакала. Мог ли Витек взять
себе в голову, что был третьим человеком на земле, способ¬
ным прослезить Нору на ровном месте и сразу. Первым
был Феллини. Вторым— Альбинони. Третьим оказался
Виктор Иванович Кравченко с кочергой и при исполнении.
Дальше история смутная. Ибо все не ясно. Могла бы Нора
кинуться на грудь Феллини, взойди он к ней через окно?
Но на грудь Витьку женщина кинулась. И было тут все
сразу: и понимание отваги милиционера, проделавшего
путь, который для другого оказался последним; и плач по
Вадиму и бессмысленности его смерти; и тревога-обида о
выросшем мальчике с рысьими ушами... Да мало ли...
Этот же был живой, теплый и грязный. Но главное —
живой!
И он, живой, проделал весь путь, чтоб объяснить, на¬
сколько она не виновата в том, что мертвый человек обни¬
мал ее полотенце.
Она так любила сейчас этого молоденького отважного
дуралея, который пришел снизу. И теперь можно никому
не говорить о Грише. Пусть его! И можно объясниться с
521
соседкой, этой запалившейся на нее неизвестно за что жен¬
щиной. Она поговорит с ней потом. Обязательно.
— Голубчик вы мой!
Стоя в полураспахнутом халате, Нора прижимала к
себе грязную форму Витька.
Витек же опустил глаза и увидел эти экранные белые
ноги, которые отделяла от него грубошерстная ткань шта¬
нов. Он перестал себя понимать. Каким-то бесшумным,
почти вкрадчивым движением он освободился от кочерги.
Облегченная рука взяла на себя руководство ситуацией.
Он не подозревал о ее храбрости: «Дурачок, ты ничего не
умеешь», — смеялась Нора. Для действующего в неизве¬
стной обстановке Витька это не имело значения. Пусть го¬
ворит, что хочет. Правда, другой Витек, тот, что остался
как бы в пределах кочерги, был сцеплен зубами и запоми¬
нал все слова женщины. Уже зная, для чего они ему приго¬
дятся.
— Какой ты запущенный, — смеялась Нора. — Да¬
вай я тебе вымою голову! — Еще она предлагала остричь
ему ногти, почистить лицо — «У тебя угри, мальчик!», —
сделать другую стрижку. Пусть говорит...
Расслабленный и опустошенный, он, казалось, уснул.
Но что-то сильное, мощное толчками снова рождалось в
нем...
Женщина поняла это неправильно и легко засмеялась
своей проницательности. Откуда ей было знать, что толч¬
ковая сила гнала его не к ней, а от нее. Витек видел дверь, в
которую он должен выйти. Там, за дверью, он поймет себя
лучше, да просто станет самим собой, чтоб никакая б...
Сказал ли он это вслух или просто громко подумал?
— Да остановись ты! ^— смеялась Нора. — Я не ем
молоденьких.
Народ подъезда был на месте. Народ ждал. Солирова¬
ла Анна Сергеевна. Она уже несколько раз повторила ис¬
торию про то, как не спала ночью, про шум и бряк «у этой».
522
Она объясняла, что милиция «не там ищет». С нею не спо¬
рили.
— Два случая с одного балкона, — кричала Анна Сер¬
геевна и показывала людям два пальца, как бы не веря в
силу слова произнесенного. — Два! — повторяла она. —
Два! — И осеняла толпу своим двуперстием.
— Разойдись! — сказал Виктор Иванович Кравченко,
увидев все сразу. Он произнес это слету, как первое попав¬
шееся, и попал в точку. Они отпрянули — шаг в сторону
сделал каждый. Только Анна Сергеевна не тронулась с мес¬
та. У нее занемела правая нога и стала совсем неживая. «Как
протез», — подумала она. И еще пальцы. Два вытянутых
вверх для убедительности пальца не сжимались. Она испуга¬
лась не этого, а того, что люди заметят! И она улыбнулась им
всем половиной лица, не понимая кошмара своей улыбки.
Нора поставила на место рубероид и прижала его тум¬
бочкой. Она видела людей внизу и уходящего милиционе¬
ра. «Не побоялся», — думала она о нем с нежностью.
И еще она думала, что, освободившись от несуществующей
вины, она сможет наконец оплакать Вадима. Раньше не
могла. У нее не получалось. Она поставила забытую кочер¬
гу у двери, чтоб, когда придет Виктор, не забыть отдать.
На слове «придет» Нора затормозила. Разве он нужен
ей, этот мальчик? Нет, ответила она, это я ему нужна. Он
такой запущенный. Он придет.
И тут она вспомнила еще одного мальчика, которого од¬
нажды всего миг видела по телевизору. Давным-давно,
когда были приняты пафосные концерты детей в честь
съездов партии. Стоял в приглушенном свете детский хор
на сцене и ждал взмаха дирижерской палочки. И вдруг из
первого его ряда вышел маленький мальчик и слепо, поша¬
тываясь, пошел в темноту зала. В последнюю секунду, уже
перед ямой оркестра, его перехватила выскочившая из-за
кулис женщина и унесла на руках. Не дрогнул хор. Не
вскричал зал. Не сбилось время концерта. Нора часто
523
вспоминала этого ребенка. Что с ним было потом? И что
произошло с его сознанием, когда он вышел из строя? Что
потянуло его в черноту неизвестности? Маленький запу¬
тавшийся хорист... Может, ему захотелось пописать? Или
он забыл, где он и кто? Возможно, теперь у него рысьи
уши. Возможно, он стал милиционером. Возможно, он не
вырос вообще.
Нора смеется. Какая мальчиковая дурь сидит у нее в
голове. «Нет! — говорит она себе. — Этот здесь ни при
чем!» Что?
Как говорит ее абсурдистская героиня? «Пьеса баналь¬
на, а могла бы быть привлекательней, по крайней мере, по¬
знавательней, правда ведь... но...»
«Но» и «как бы» — ключевые слова нынешней речи.
Нора корчит гримасу. «Дура...»
5 ноября
Та сила, что толчками выталкивала из Витька расслаб¬
ленность тела, завершила дело победой. По улице шел уже
хорошо сконцентрированный милиционер. Все фишки сто¬
яли в нем по местам. Во-первых, он раскрыл тайну, как
разбился бомж. Оказалось — эле-мен-тарно! Тетку с ко¬
чергой он прижмет теперь в два счета. Она определенно
навела убитого на артистку. Больше некому. Во-вторых,
эта самая Лаубе...
Если думать именно так — Лаубе, то можно победить в
себе эту оскорбительную слабость. «Идя на задание, на
выполнение долга, нижний член оставляй дома, чтоб не
болтался между ногами». Капитан-психолог любил эту
тему — низа и верха — как в милиционере, так и в про¬
стом человеке. «Преступления во имя низа и во имя де¬
нег — первые в нашем деле, — говаривал он. — Но низ в
деле преступности хуже. Он есть у каждого в отличие от
денег».
524
Витьку почему-то сейчас, когда он шел домой, все это
казалось каким-то глуповатым, что ли... Он вспомнил ка¬
питана, его клочковатые взлетевшие высоко вверх не по
правилам брови, и это пространство между бровями и гла¬
зами... Непонятное пространство, не обозначенное ника¬
ким словом. Не придумали люди слова? Или не сочли не¬
обходимым называть диковину в строительстве лица капи¬
тана? Но кто он такой, чтобы ломать мозги для называния
места на лбу начальника? Ладно, пусть... Пусть капитан не
силен в словах. И пусть даже глуповат, но суть он знает.
Ведь получается, он заранее предупредил, что наступит мо¬
мент и Витек ослабеет перед женщиной Лаубе. Это ж надо
иметь «такое фамилие!». Второй раз за последний час он
споткнулся на странности фамилии артистки и испытал
приближение открытия.
Первая его женщина — продавщица сельмага
Шура — в глаза не смотрела и отдавалась в подсобке с
легким отвращением к самому процессу. Не жалко, мол, на!
Когда на третий раз Витек заметил, что тело Шуры отве¬
чает ему, он больше не пришел. Это совпало с уходом в
армию, то да се. И Шура, скорее всего, не заметила, что
Витек больше не пришел не потому, что его забрили, а по
более тонкой причине. Потому что всхлипывать телом и
широко открывать глаза женщине ни в коем случае не сле¬
довало.
С тех пор так и пошло. Возникали тихие, безответные
тетки или равнодушные девчонки, выдувающие жвачные
пузыри. Девушка из Белоруссии была не такая, с ней у
Витька ничего и не случилось. Этим и еще в разнотык рас¬
тущими ресницами она и запомнилась.
Витек не верил в бога. Хотя временами бог беспокойно
задевал Витька. Его в жизни стало больше — целования,
рясы, заунывное пение. Витек хотел понять, зачем это лю¬
дям, если ни одного доказательства?! Ведь никакого бе-
525
зобразия Бог не остановил, ни от чего страшного не уберег?
Поэтому Витек, голова которого не вмещала существова¬
ния Бога, всегда радовался приметам его отсутствия. Ага,
ураган! Ага, дите в колодец провалилось! Ага, и СПИДа
дождались! Гак где ж Ты есть, когда Тебя нет?!
Получалось, что Дарвин ближе. И человек — живот¬
ное и от обезьяны — вне сомнений, глазом видно. Но если
уж надо продлевать человечество — пусть! Пусть это бу¬
дет. Он согласен. Но без обезьяньего шума. Тихо. Женщи¬
на под мужчиной должна быть как бы мертвой.
Эта Лаубе практически стояла перед ним голая. Она
сама, первая, прижалась к нему длинными ногами. Она ла¬
пала его. Она смеялась и подсказывала ему, что и как...
Она в этом участвовала без стыда!
Стоя под душем, Витек плакал, потому что не мог отде¬
латься от наваждения воспоминаний. Он боялся, что пой¬
дет к ней вечером. Он вспомнил, как стоял у ее дома тот
покойный старик с букетом «в юбочке». Витек понял, как
близок к такому же позору ожидания. «Лучше смерть», —
подумал он и испытал странное облегчение от возможности
выхода из всего этого при помощи смерти.
Он даже запел что-то вроде «Никогда, никогда я тебя
не забуду». Он слышал эту сладкую песню в кино, кино в
армии, ему понравилось.
Сейчас он пел без слов, мыча и высвистывая запомнив¬
шийся мотив.
Пусть она еще раз сделает с ним, что хочет. Эта Лаубе,
нерусский человек. Он позволит ей все ее умения.
Витек всхлипывает. Его организму жалко Лаубе. Ему
хочется ее трогать и нюхать. Но он не хочет быть живот¬
ным! У него есть понятия. И он ставит их впереди себя.
По телу бежит вода, и тело ему не подчиняется. Оно
живет своей жизнью, жизнью восторга. Оно просто рас¬
цветает на глазах у всех его понятий.
Витек кричит в отчаянии счастья.
526
7 ноября
Вечером он купил в киоске запаянный в целлофан цве¬
ток. Витек не стал спрашивать, как его звать, не гоже это.
У цветка была жирная головка, а по ней как бы разбегались
сосудики с кровью. Гнусным был желтый язык тычинки,
что подрагивала изнутри нагло неприлично. «В мозги лезет
одна похабель, — подумал Витек. — В конце концов око
за глаз — это справедливо», — скажет он капитану-пси-
хологу, когда придет его время говорить.
Пока же он идет, положив целлофановый цветок под
куртку. Он потому и куплен, хоть и дорогой, что незаметно
прячется на груди.
И еще потому... «Слышишь, капитан? Как я все пре¬
дусмотрел. Цветок на груди — мое алиби».
Когда он позволит Лаубе еще раз — всего один раз! —
тронуть себя, он столкнет ее с балкона, но так, что никто на
свете «не догадает его». Ибо милиционеры не покупают
цветы неизвестных названий. «Некоторым живым, — ска¬
жет Витек капитану-психологу, — полезно быть мертвы¬
ми».
И пусть капитан с ополоумевшими бровями найдет, что
ему на это ответить!
— Ну, — возможно, скажет он (он же не стерпит
смолчать), — ты прямо мыслишь, как существуешь:..
Галина Николлквнл Щкрилковл
Армия любовников
Выпускающий редактор С.Е.Сотникова.
Художественный редактор С.А.Виноградова.
Технолог С.С.Басипова.
Оператор компьютерной верстки А.В.Волков.
П. корректоры В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский
Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года.
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2:953000 — книги, брошюры.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 19.12.2000.
Формат 60х 90^/16. Гарнитура Антиква. Печать офсетная.
Объем 33 печ. л. Тираж 5 000 эКз. Изд. № 1607. Заказ № 68.
Издательство «ВАГРИУС». 129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1.
Интернет/Home page — htlp://www.vagrius.com; http://www.vagrius.ru
Электронная почта (E-Mail) — vagrius@vagrius.com
По вопросам оптовой покупки кн
«Издательской группы ACT» обращаться
Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Тел.; 215-43-38,215-01-01,215-55*
Книги «Издательской группы ACT»
можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140,
ACT — «Книги по почте»
Издание осуществлено
при техническом содействии
ООО «Издательство АСТ»
ОАО «Санкт-Петербургская типография № 6».
193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 10.
Телефон отдела маркетинга 271-35-42.
ISBN 5-264-00586-9
9
785264
005862
>