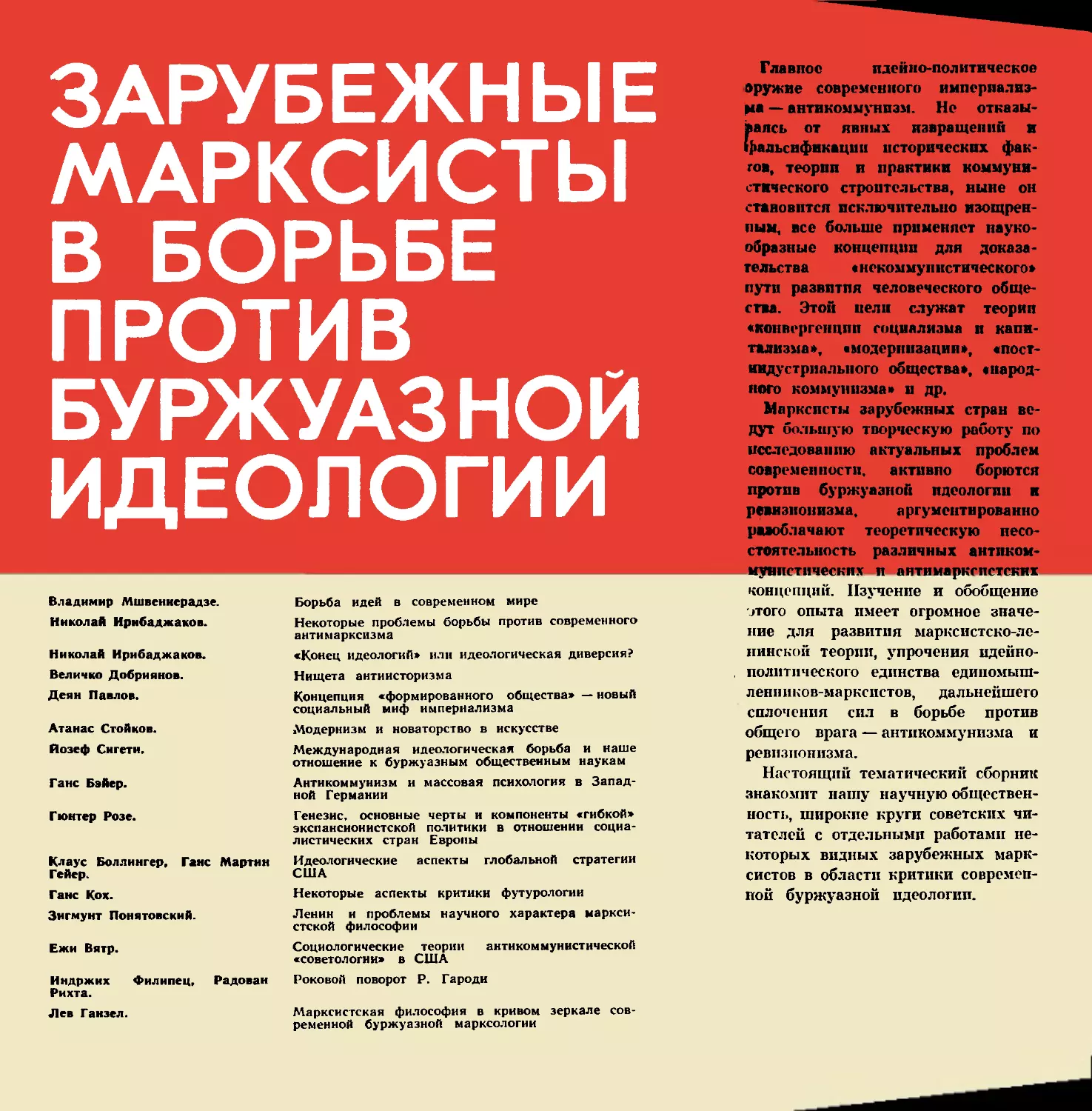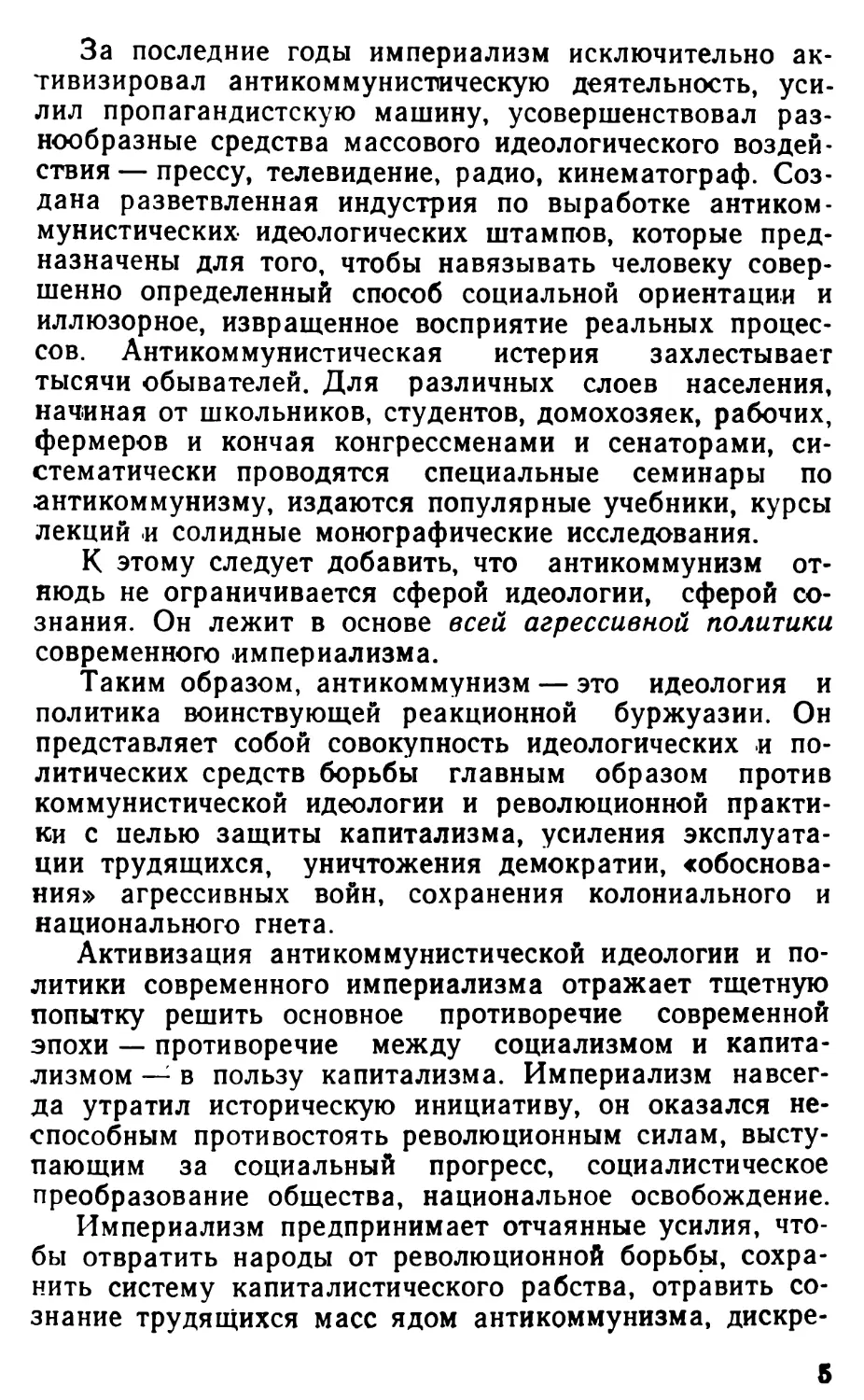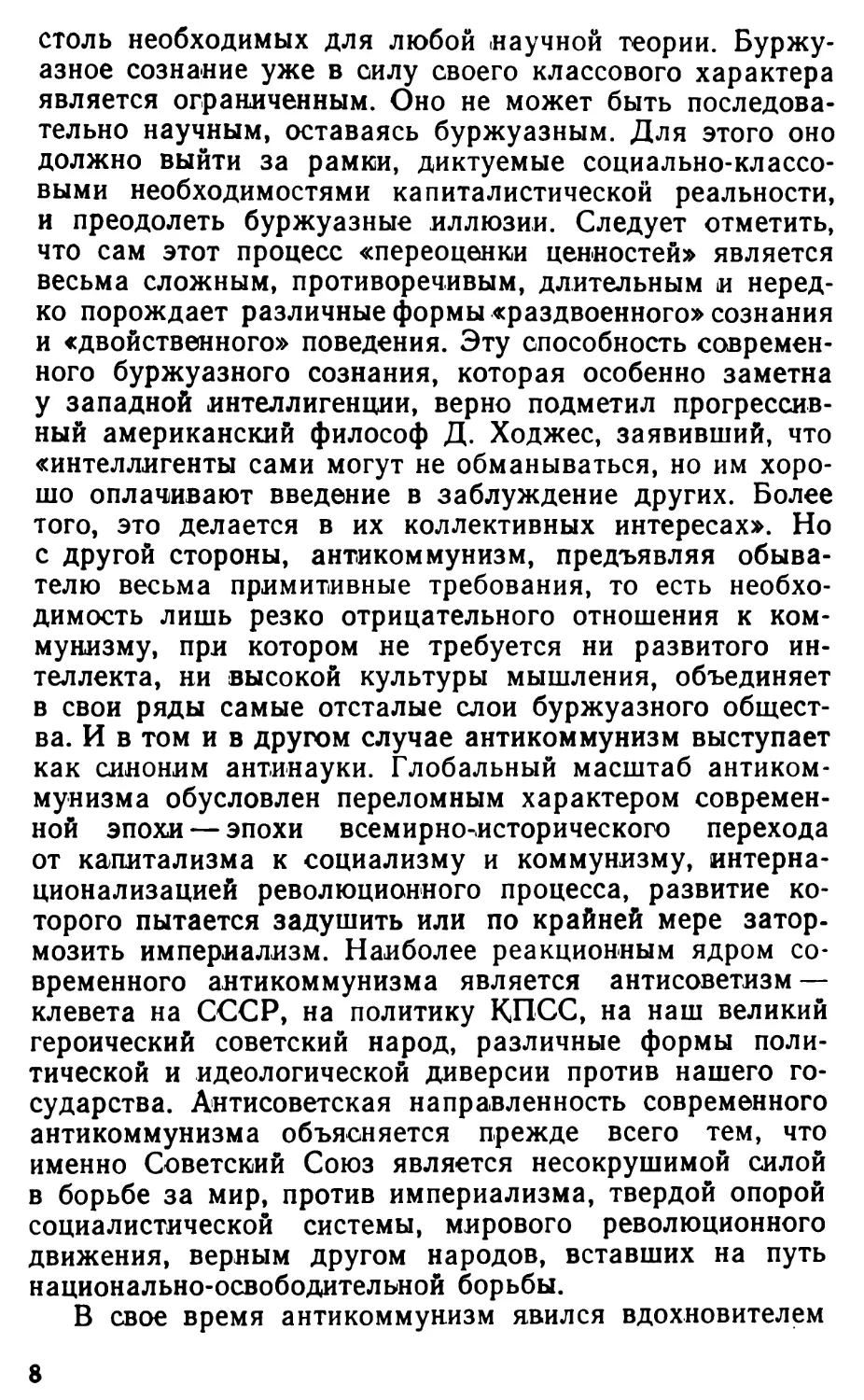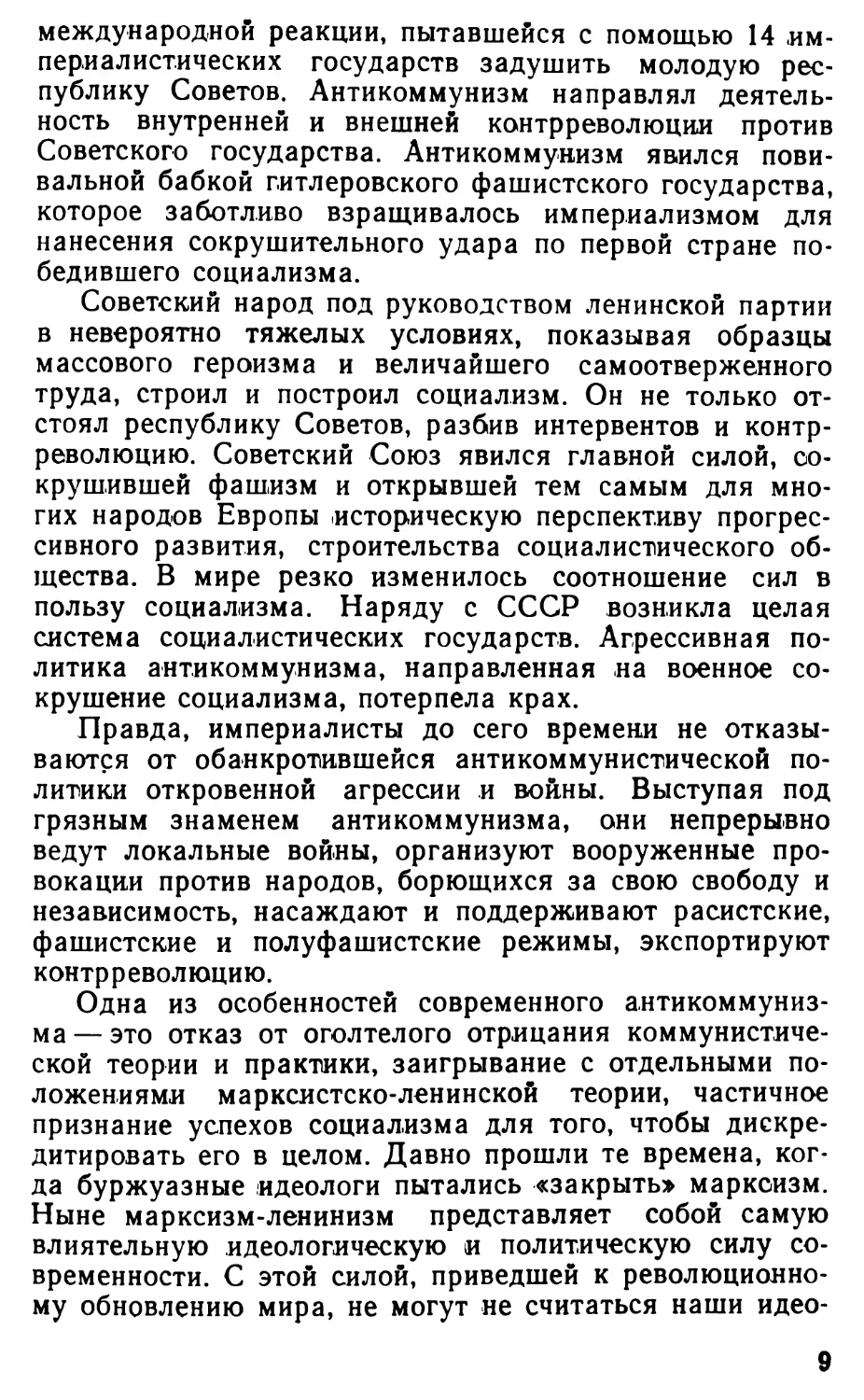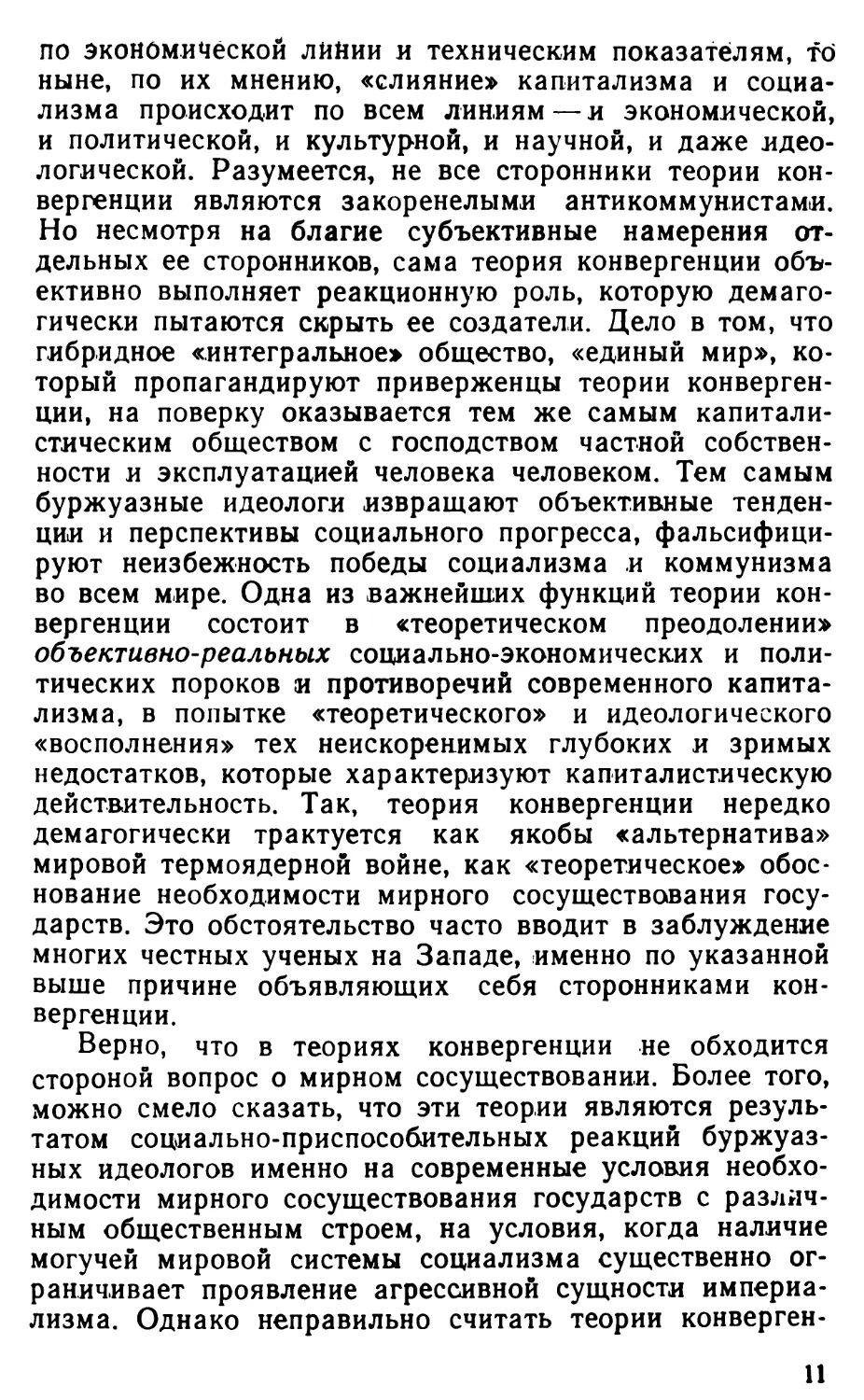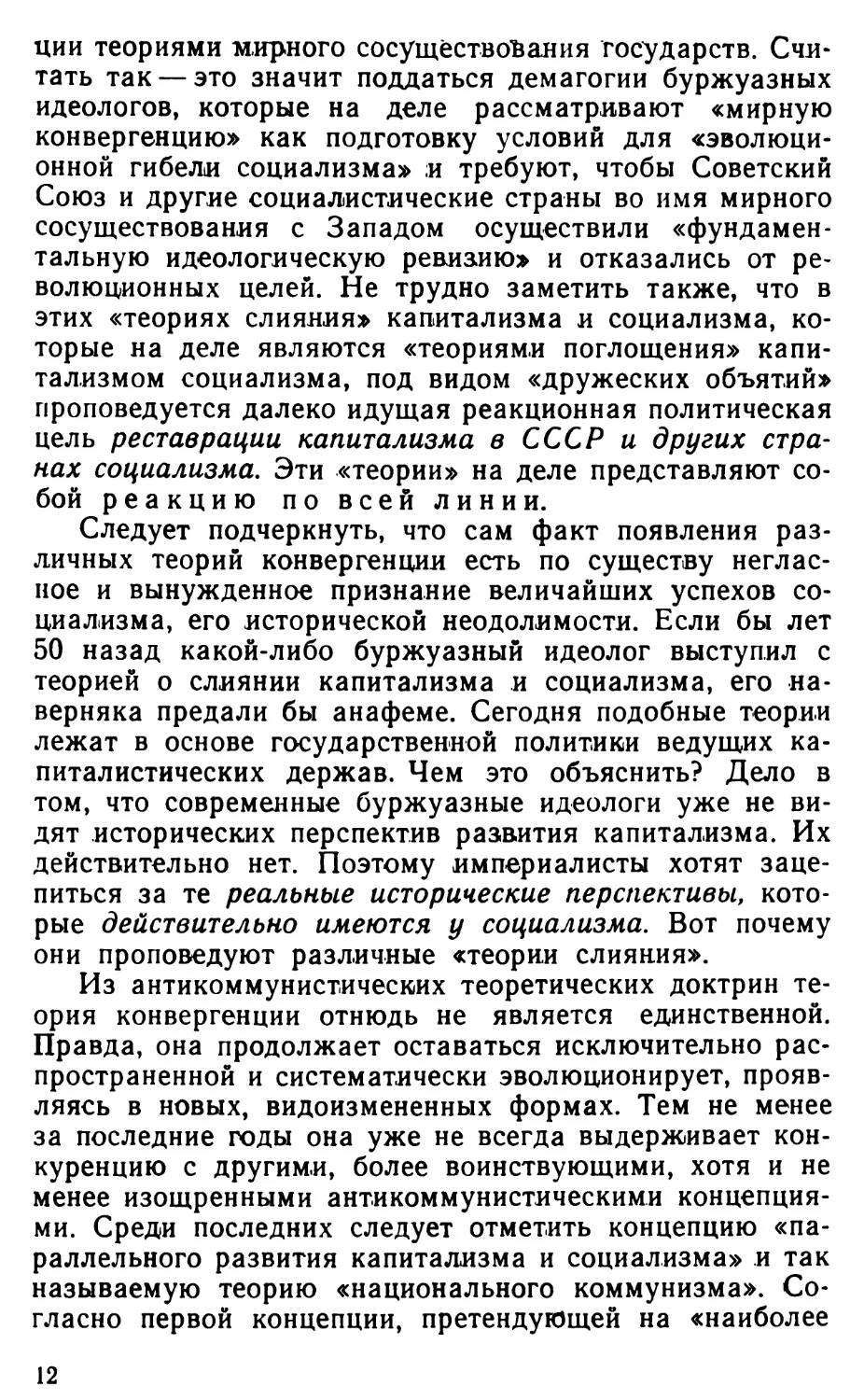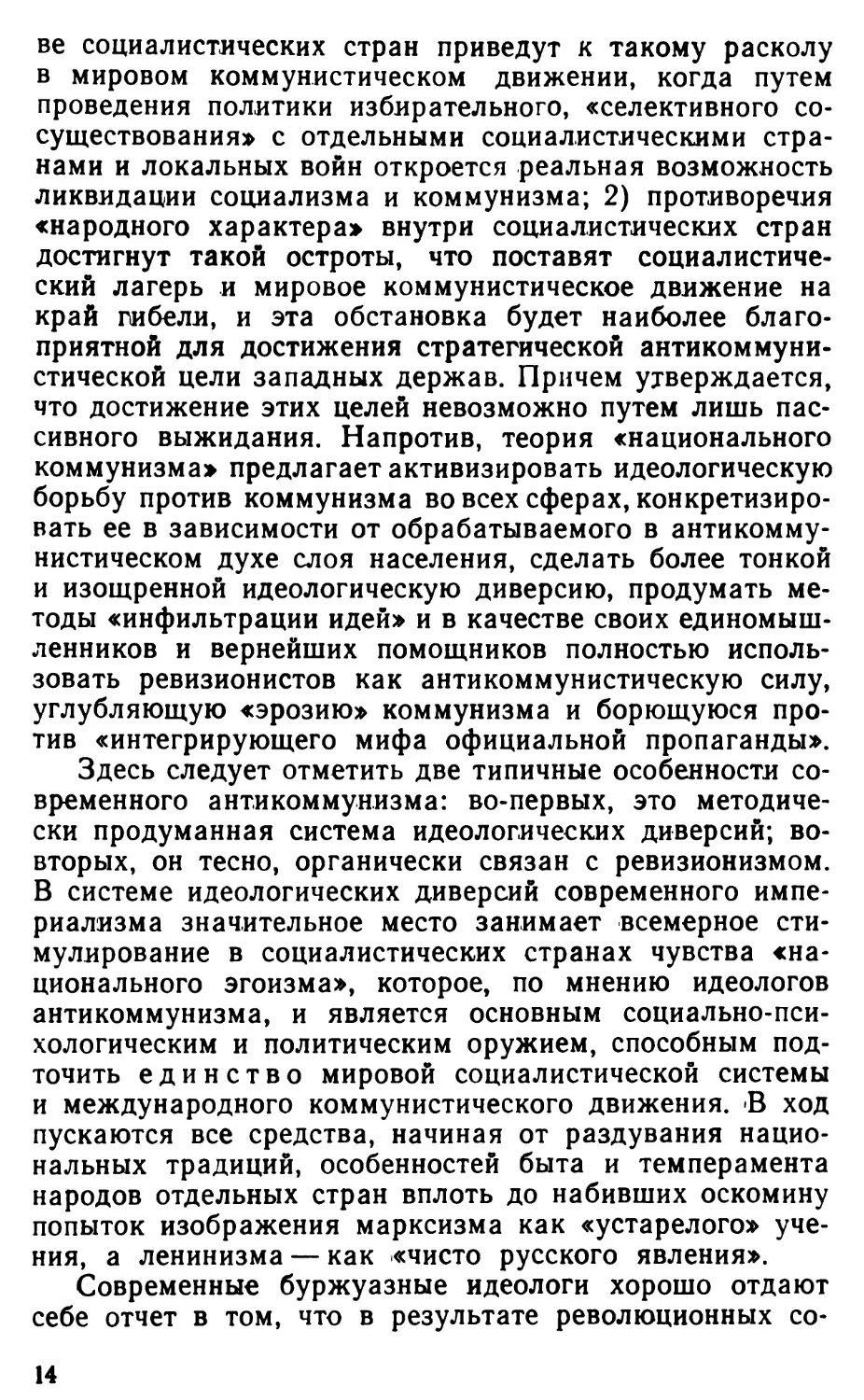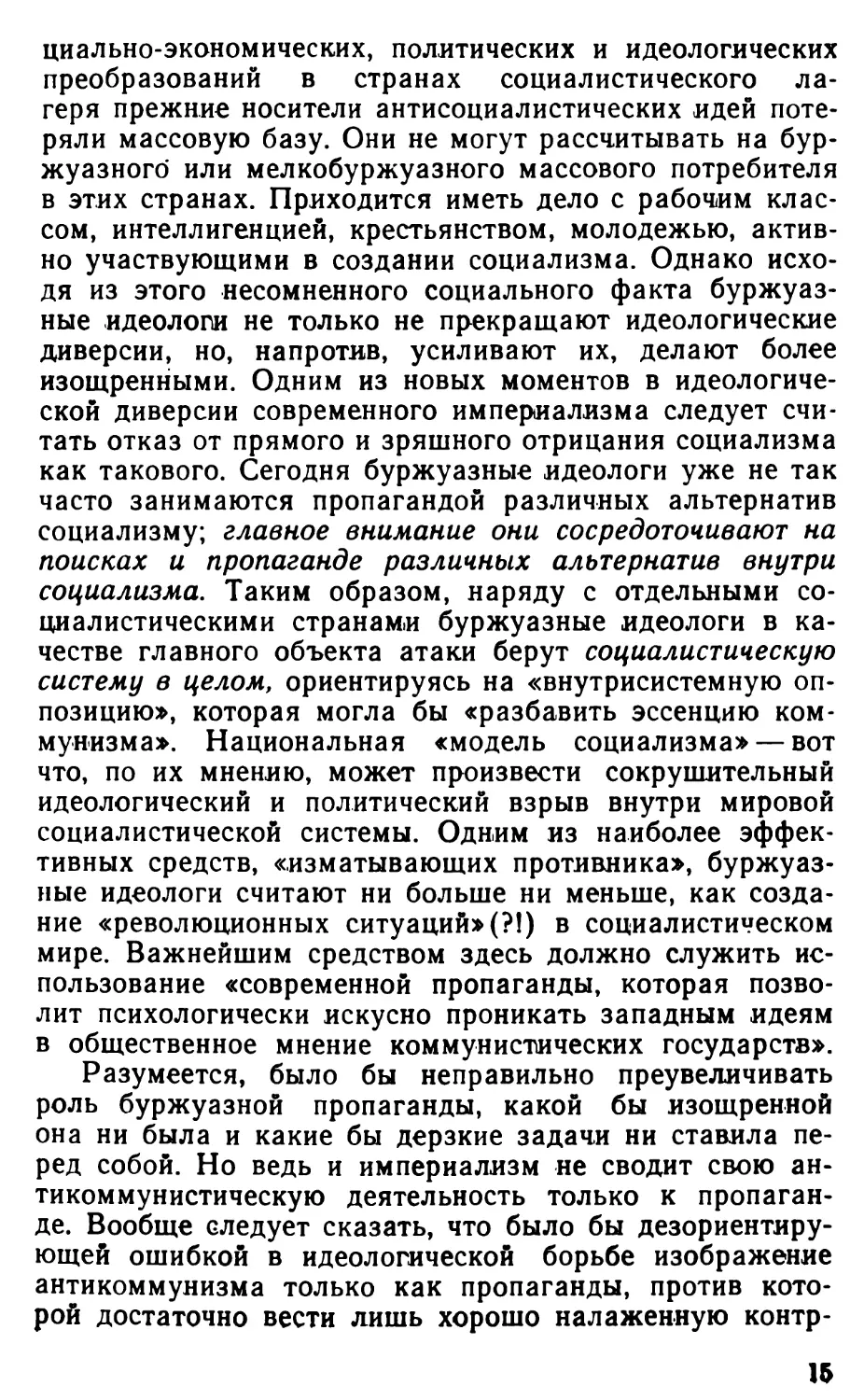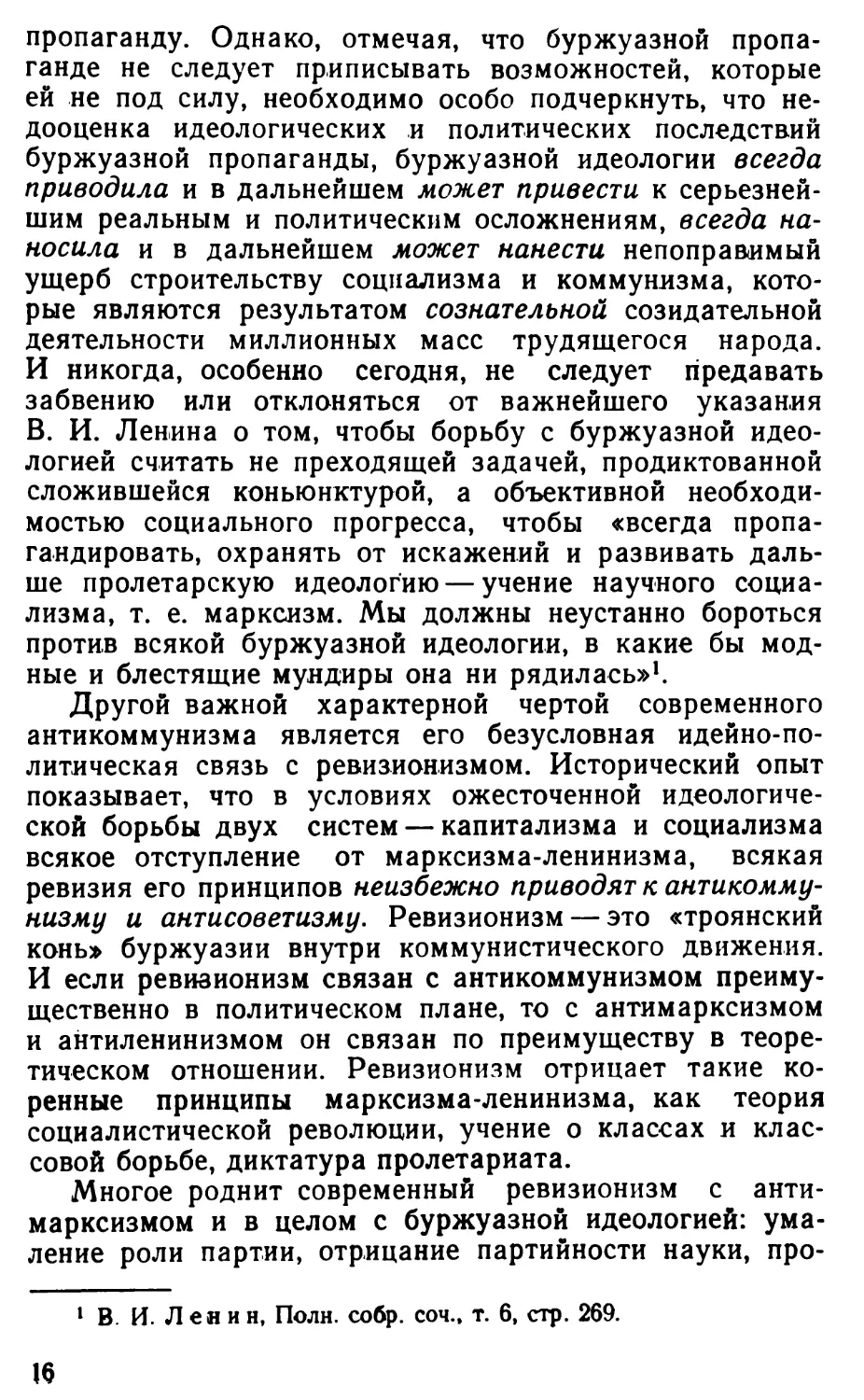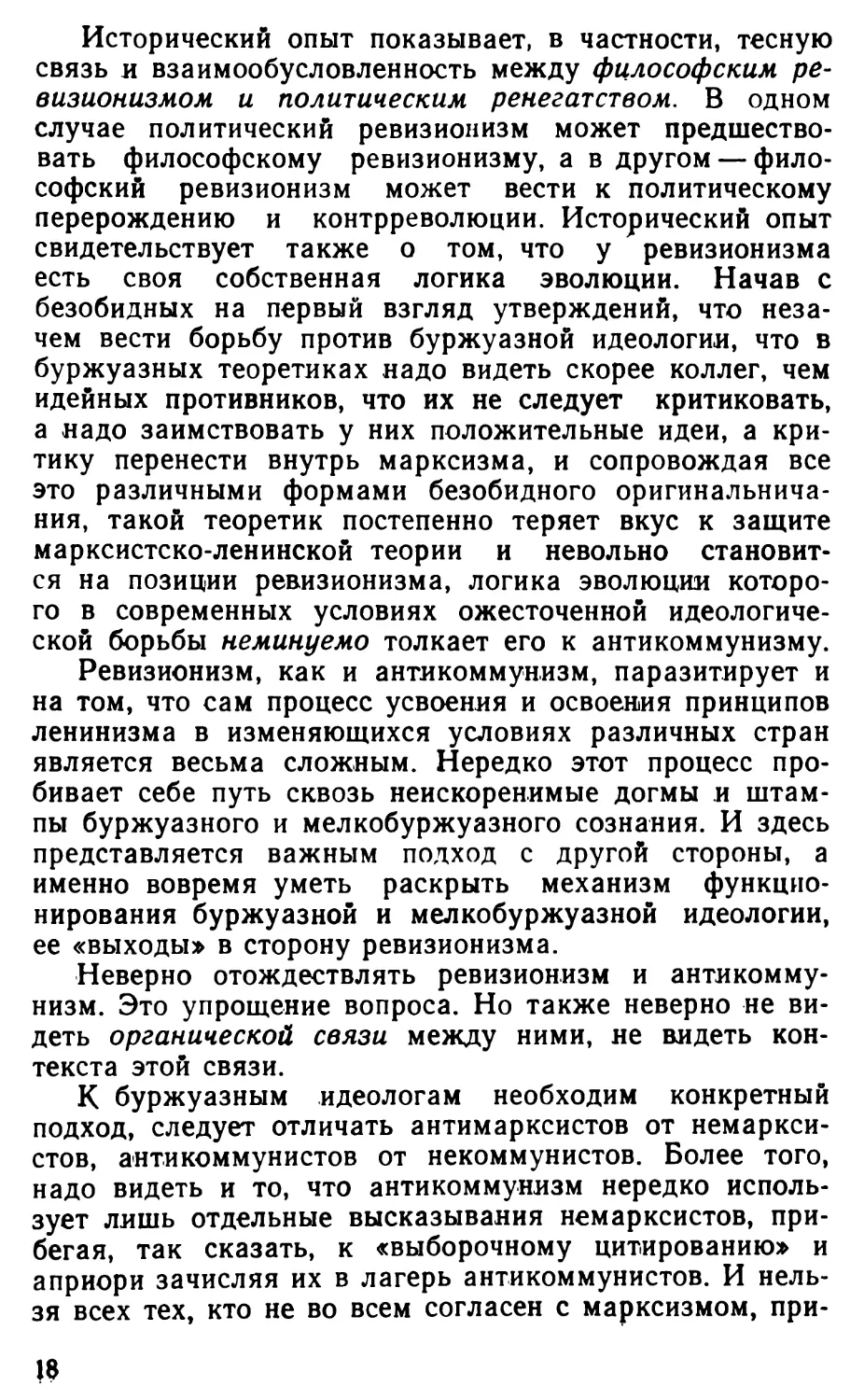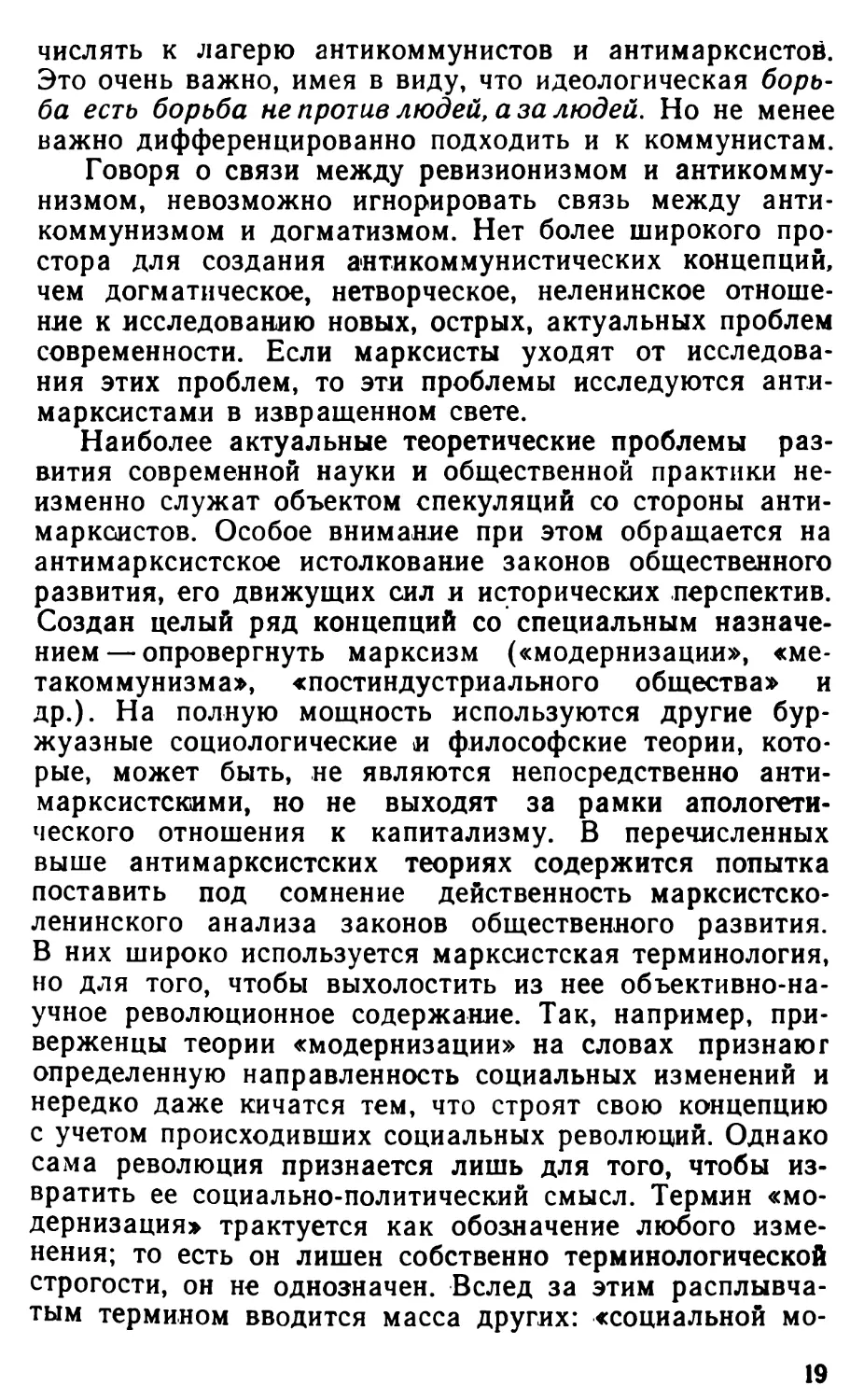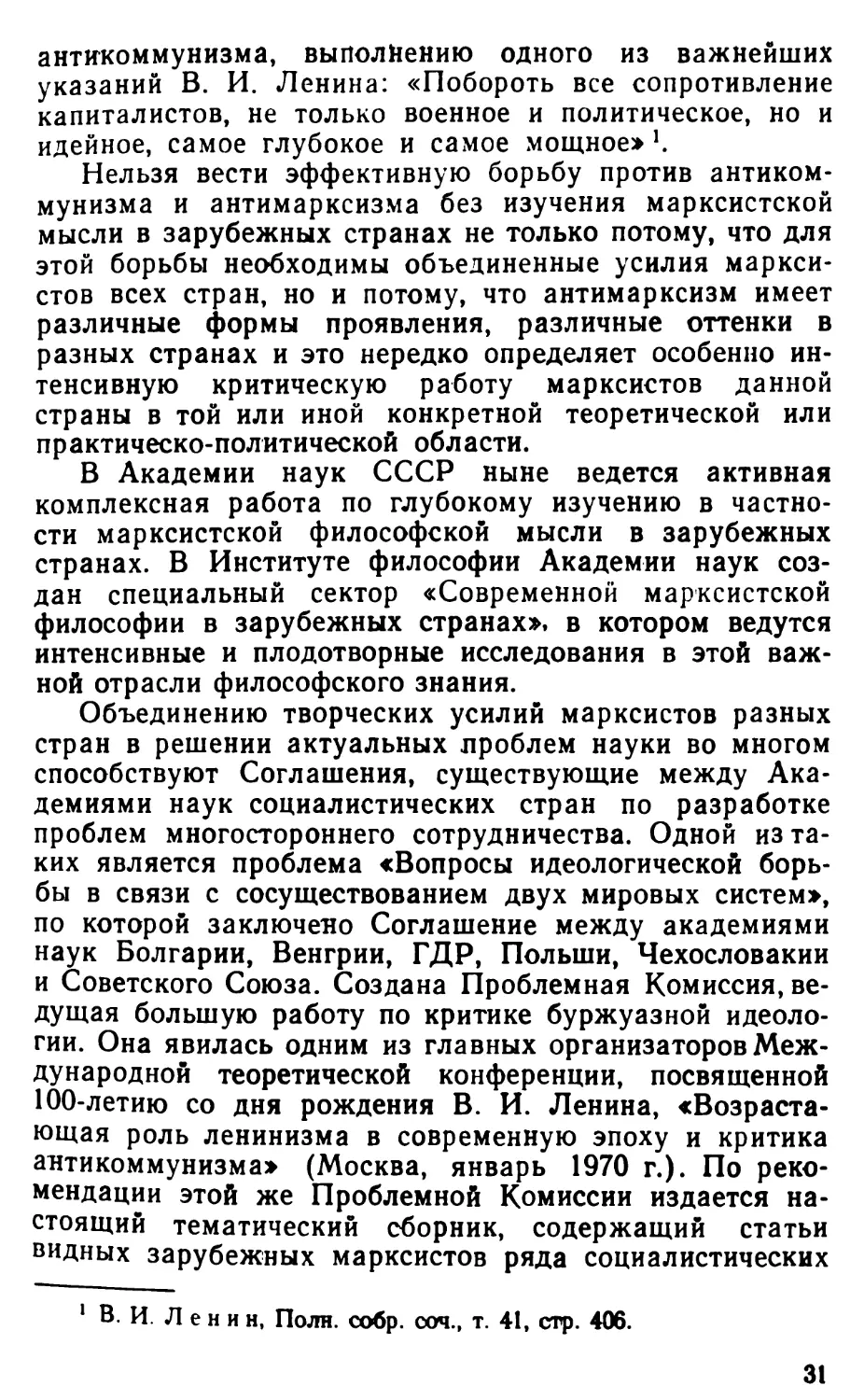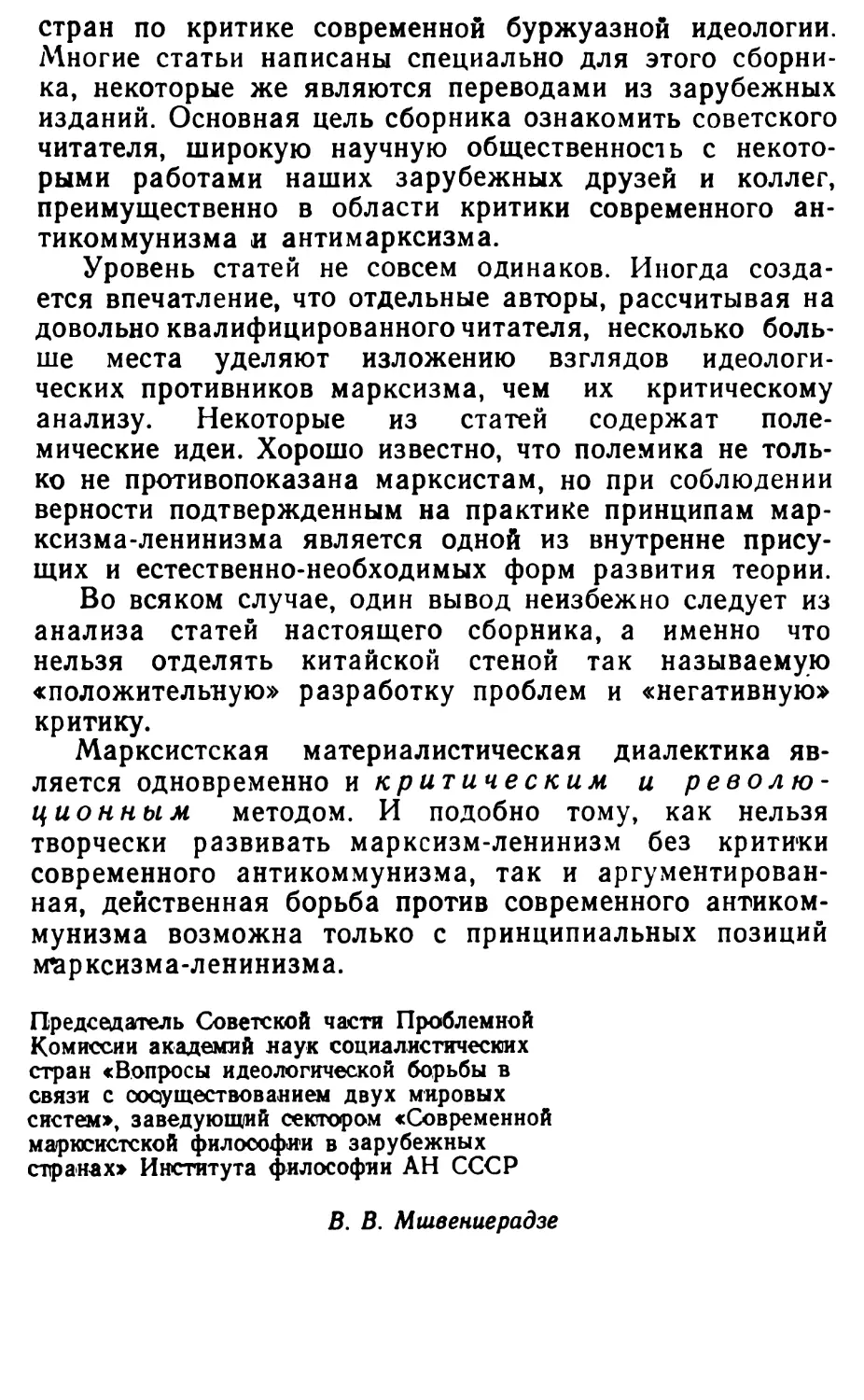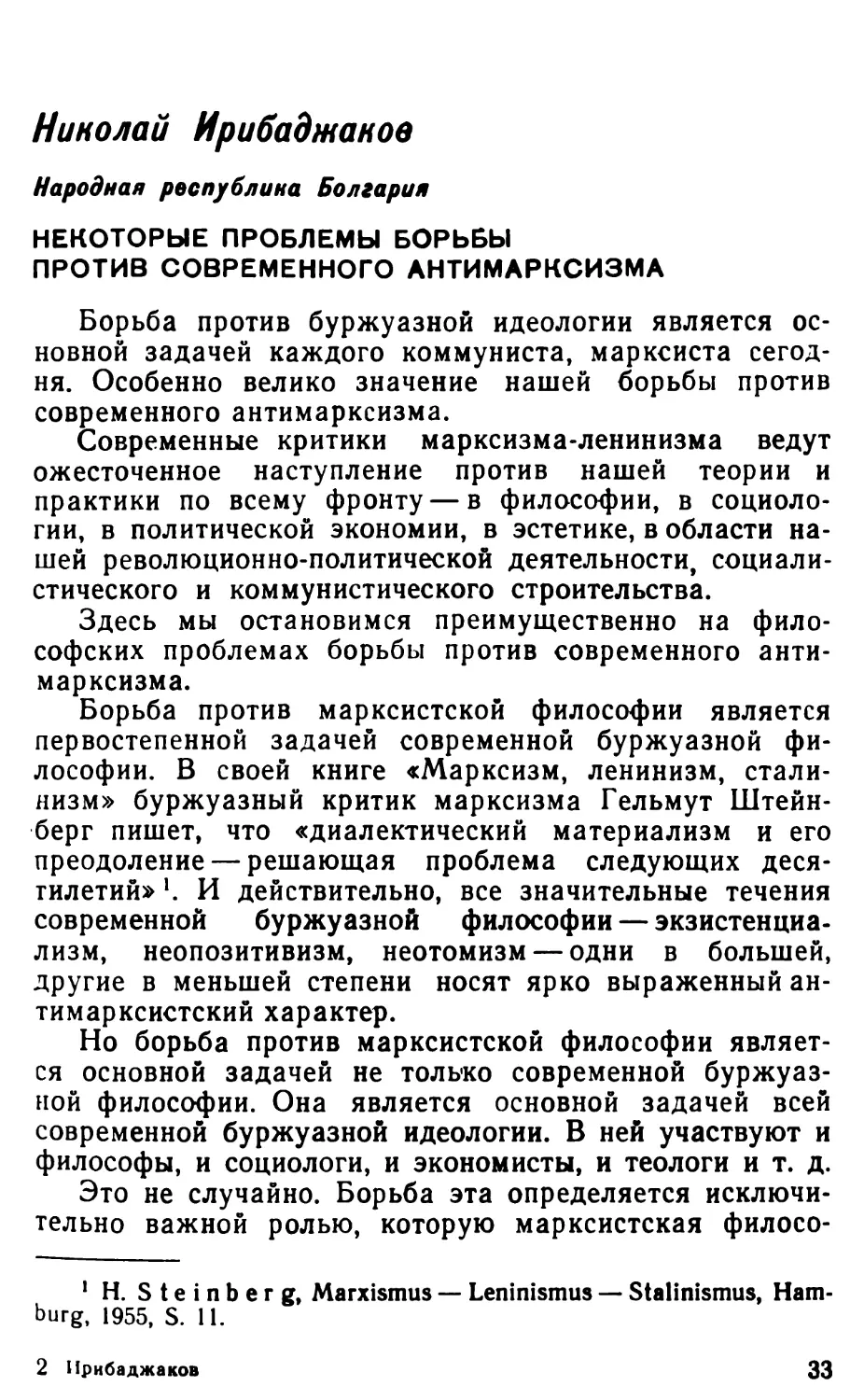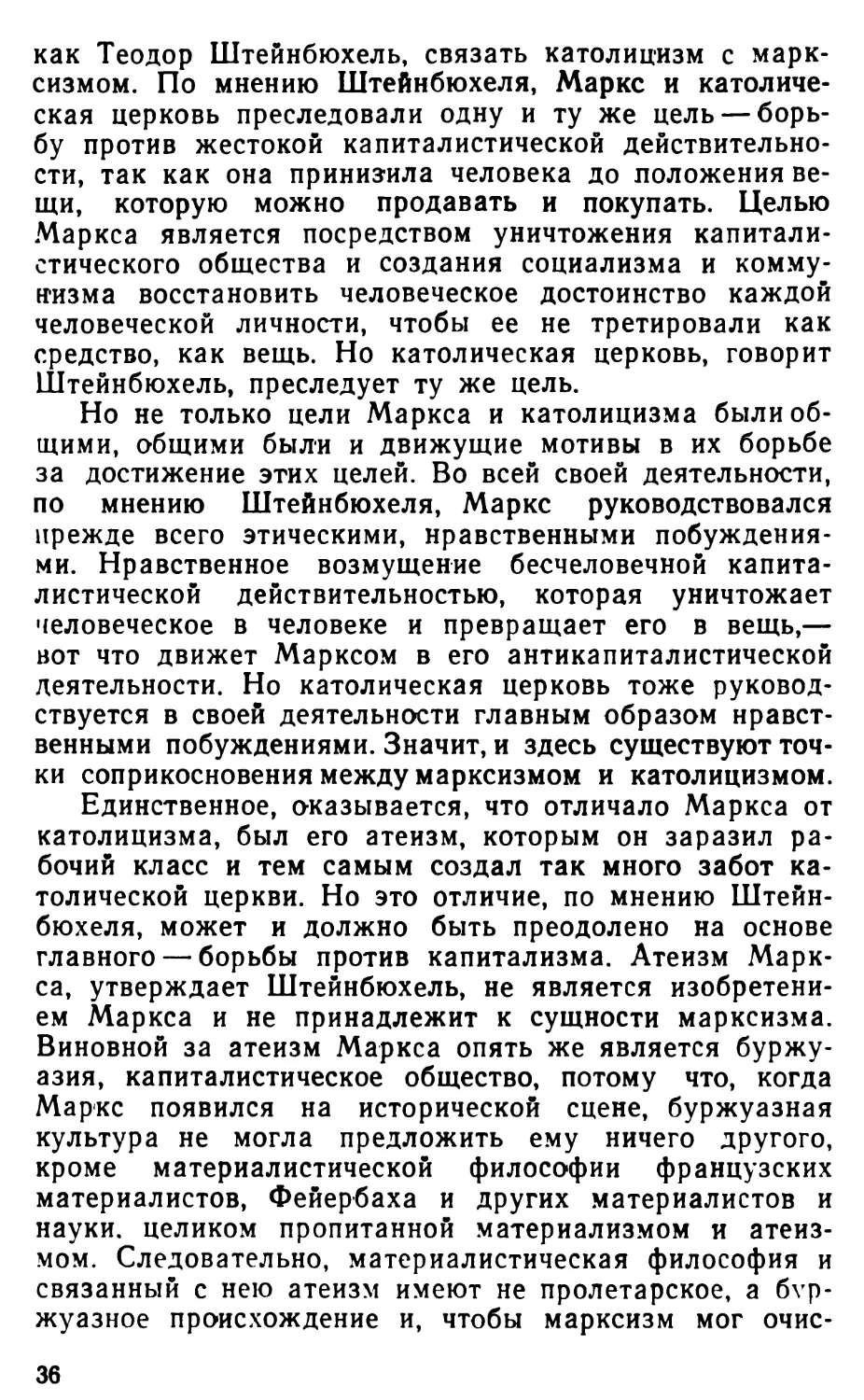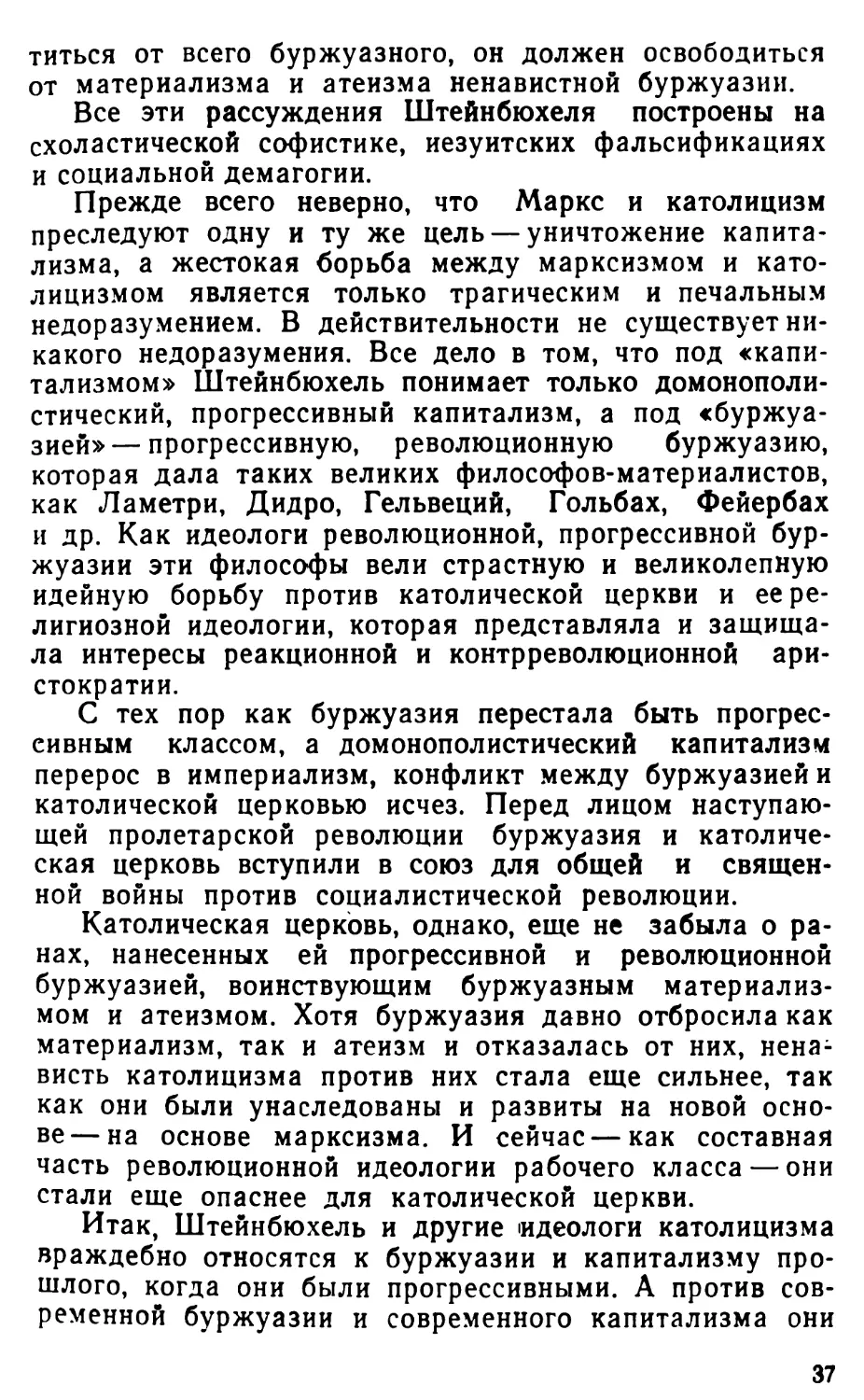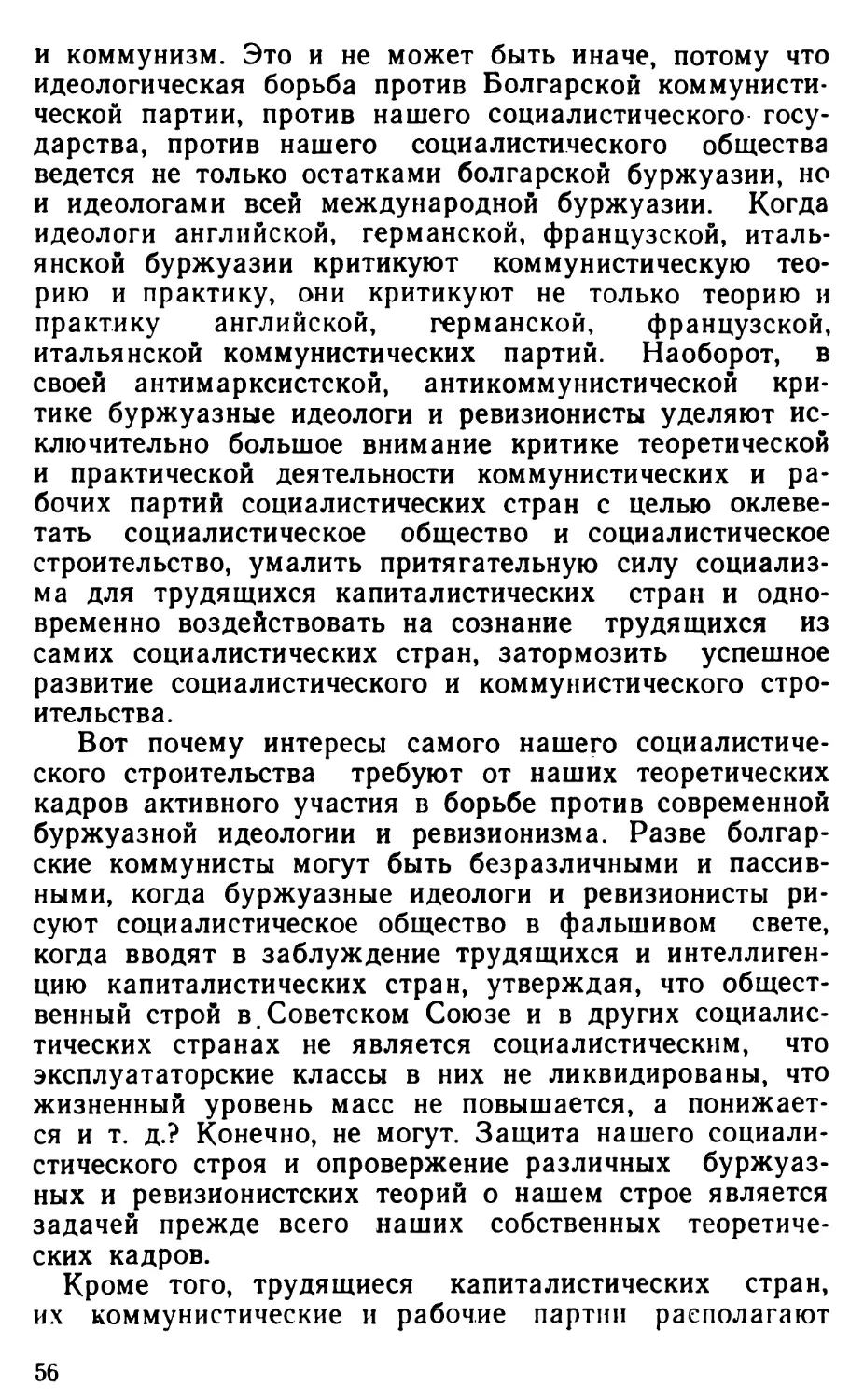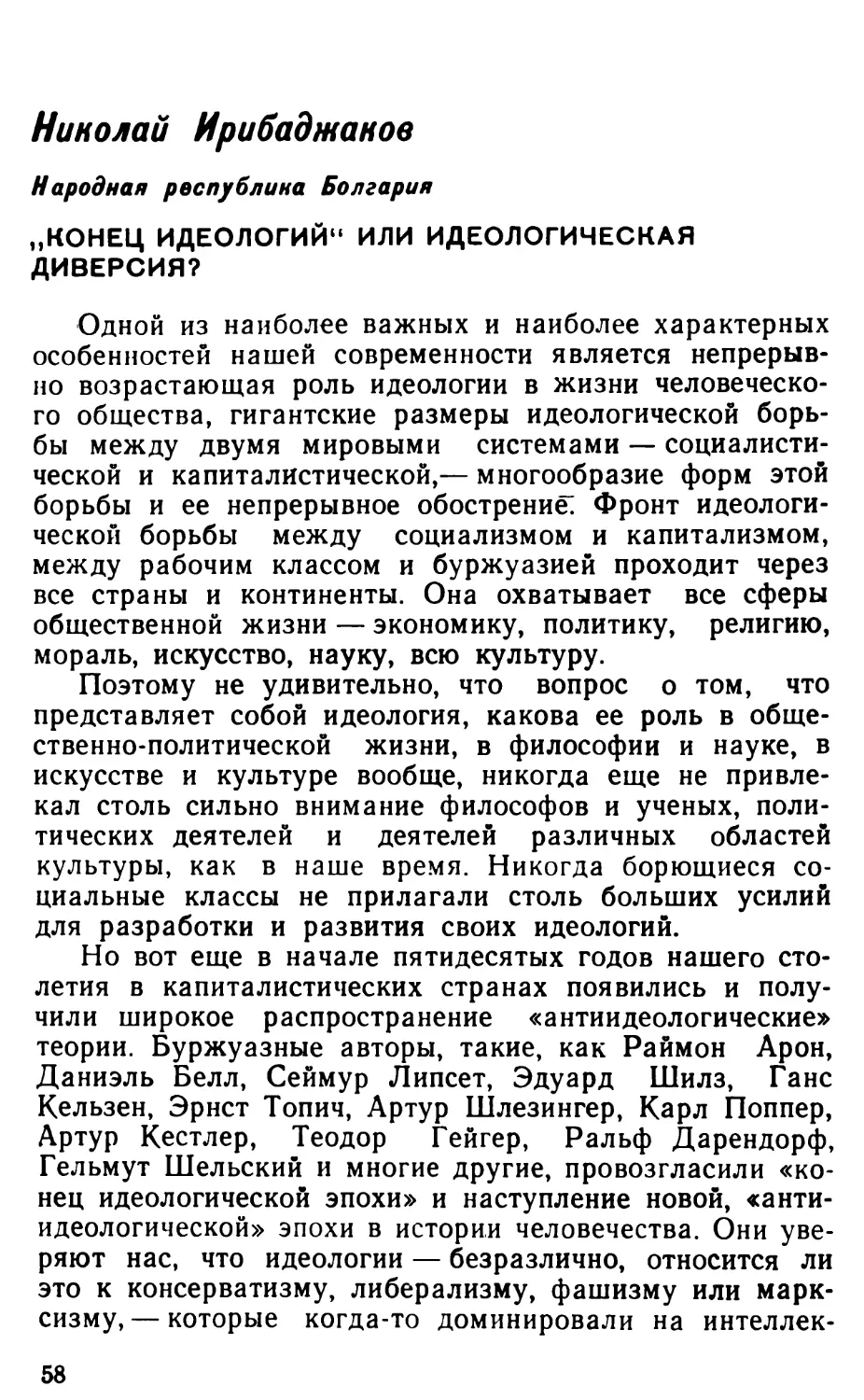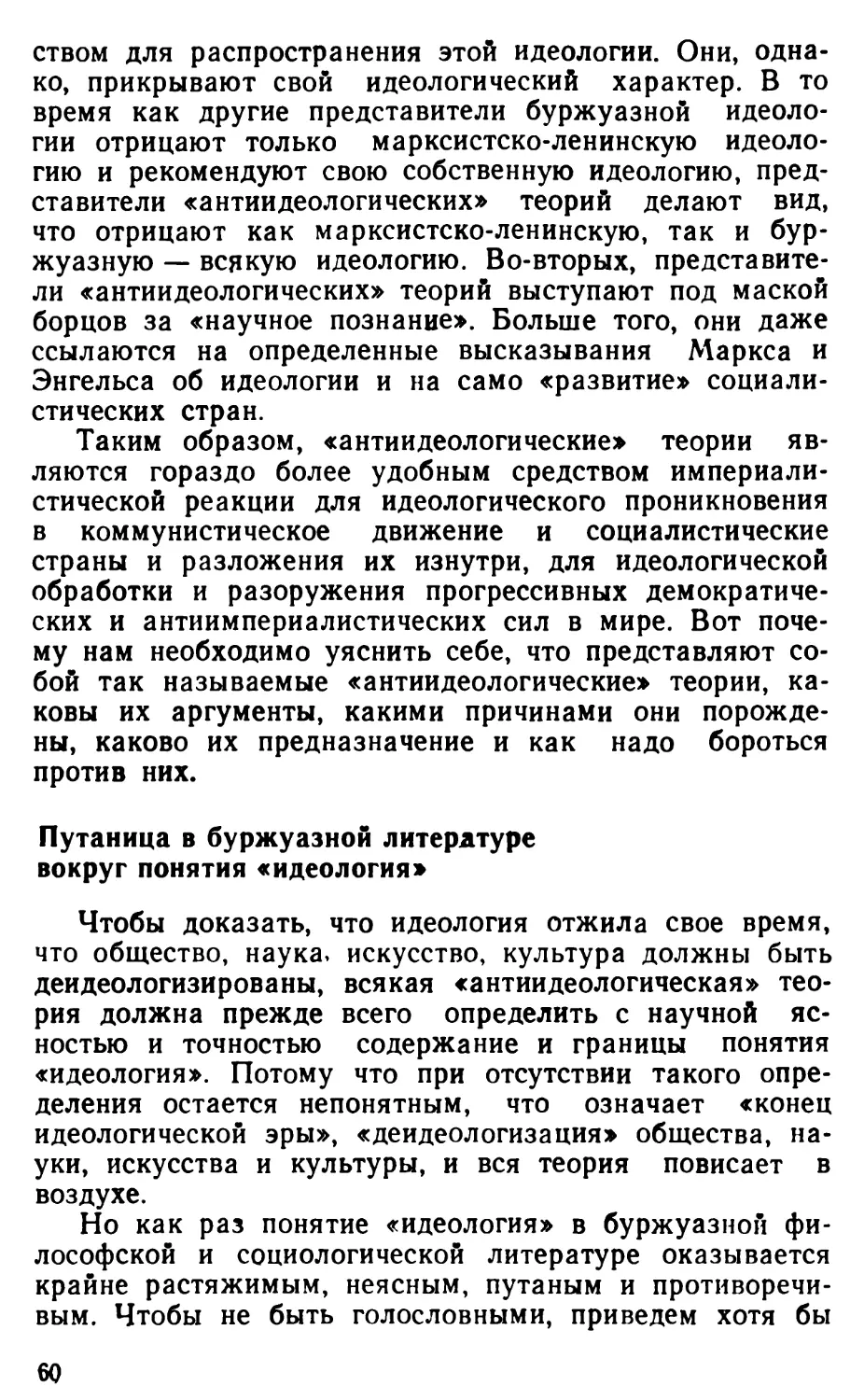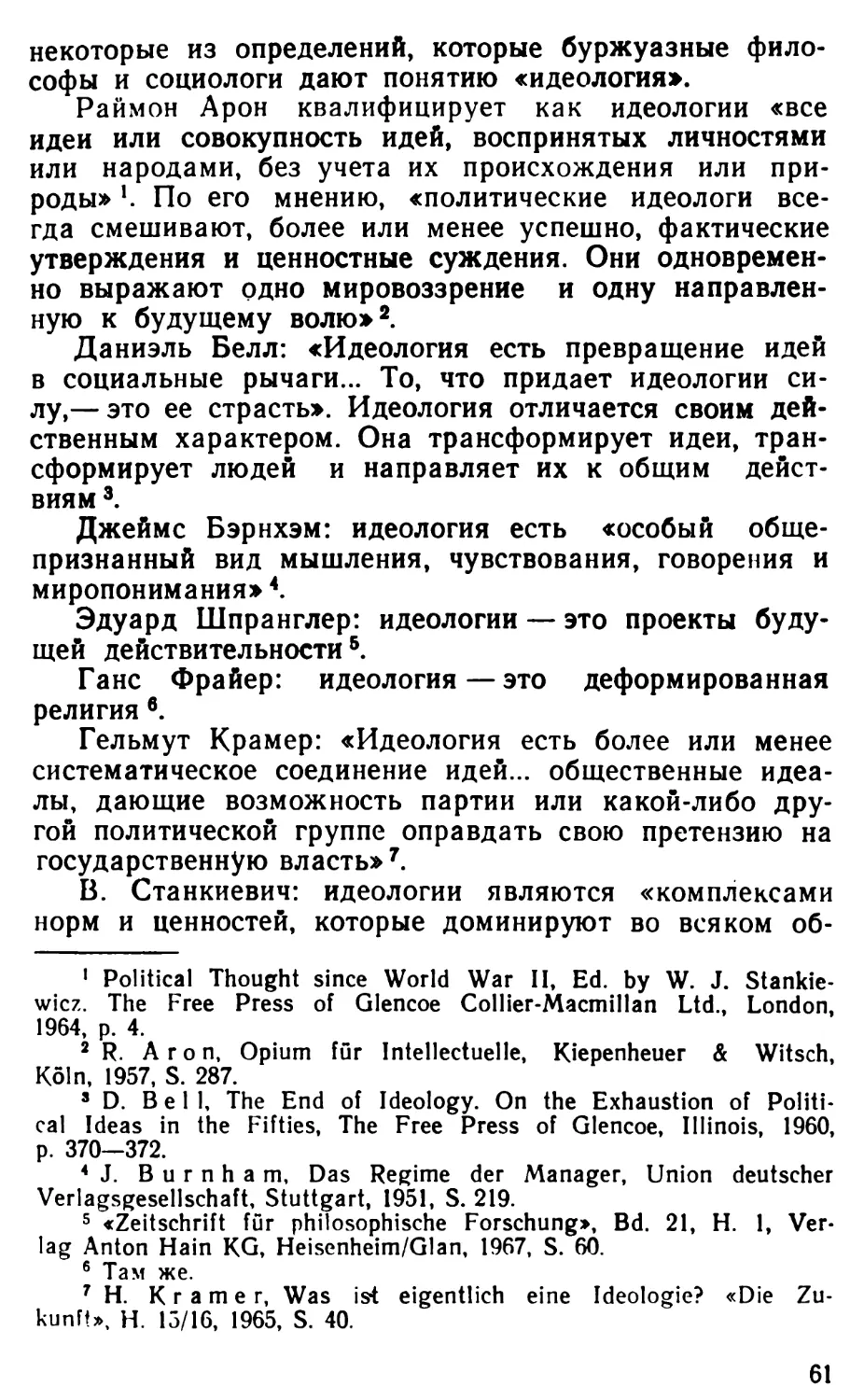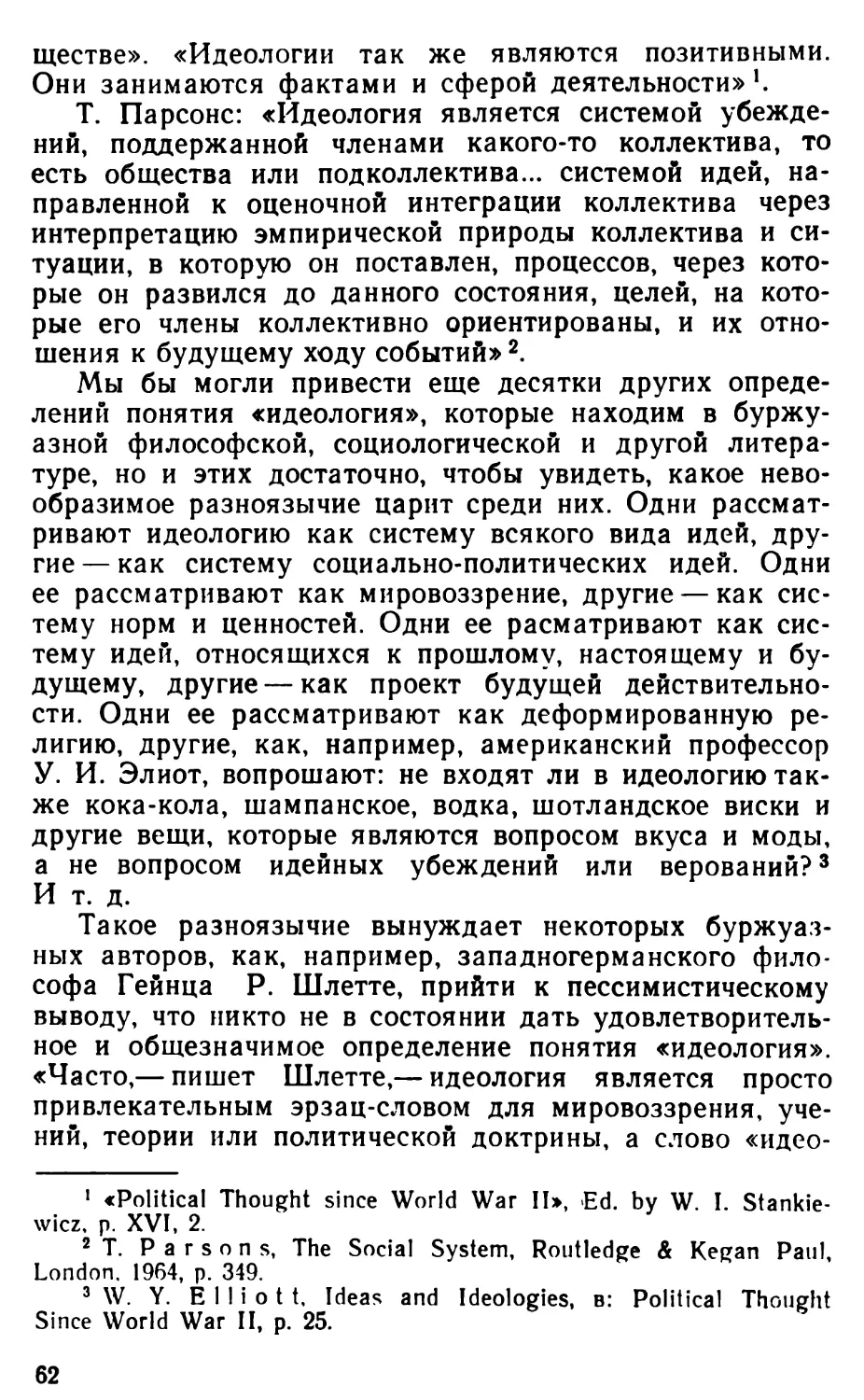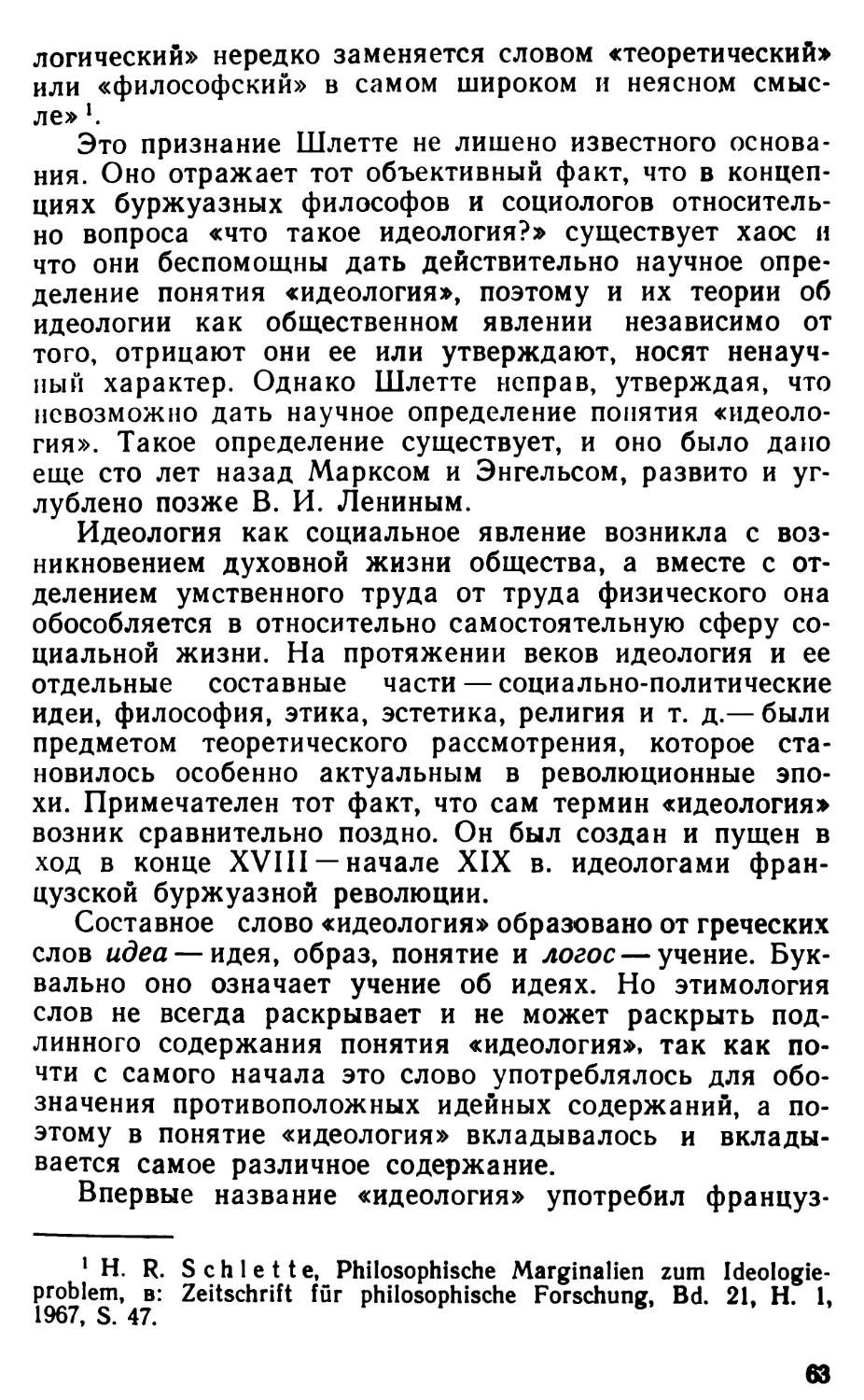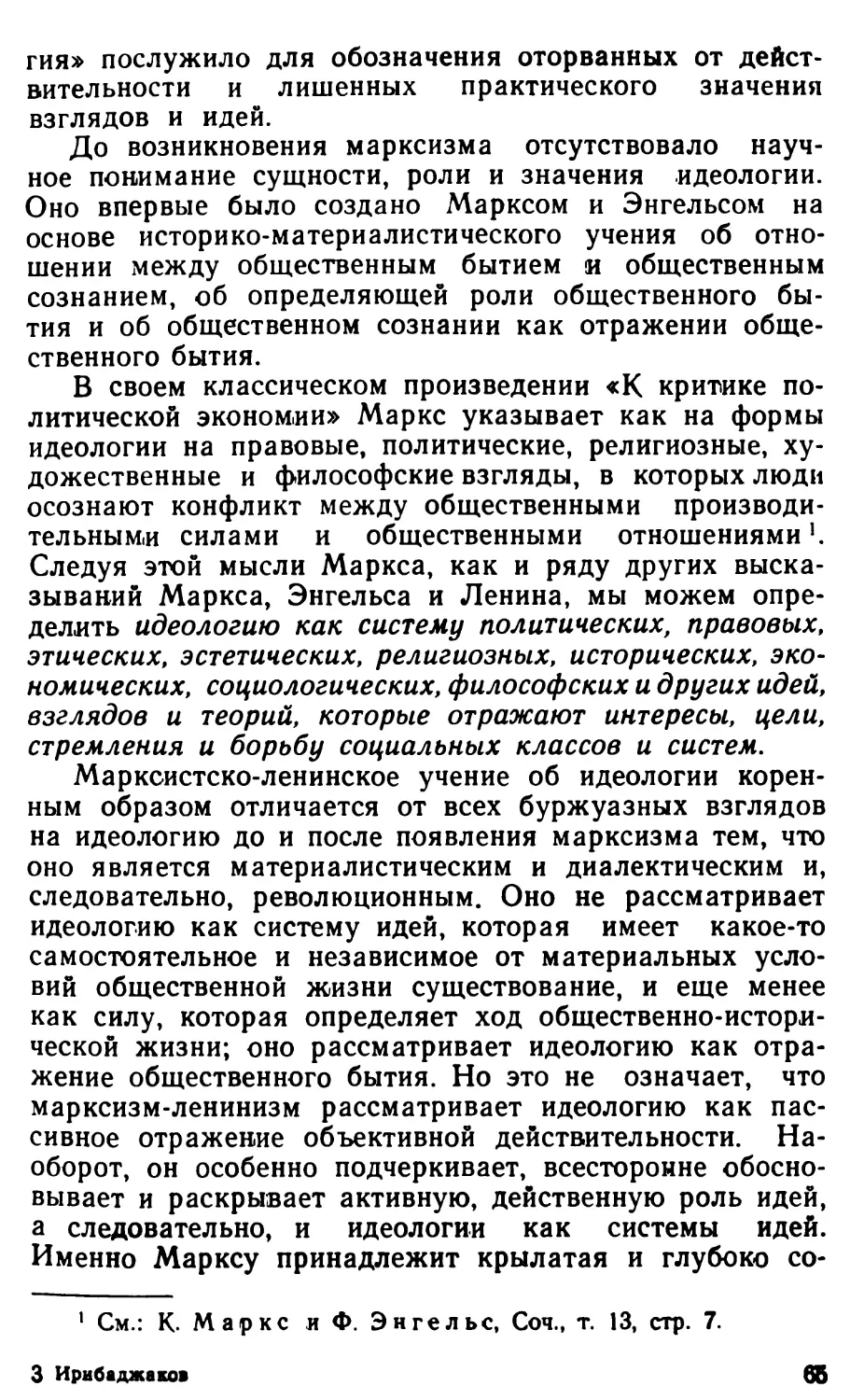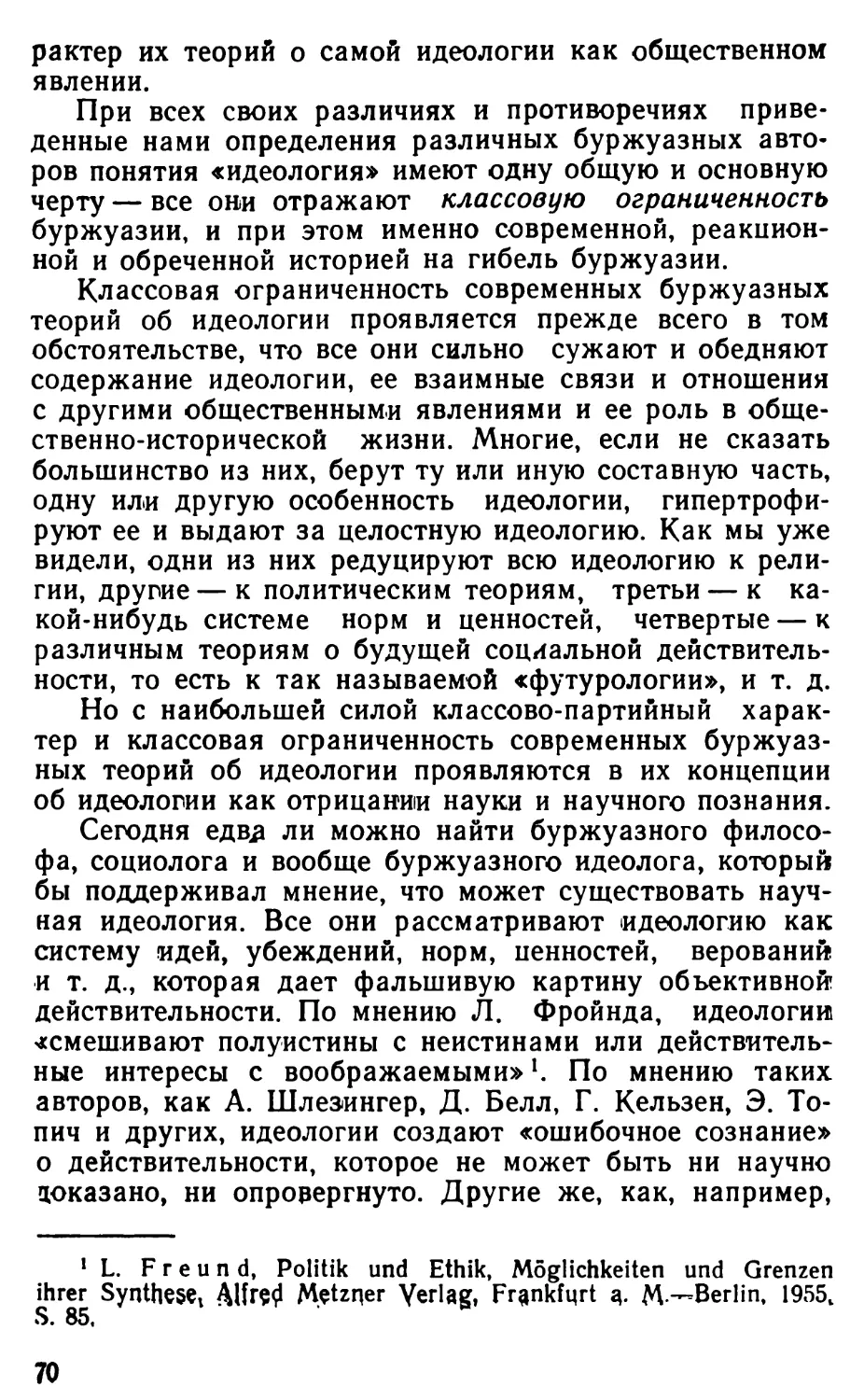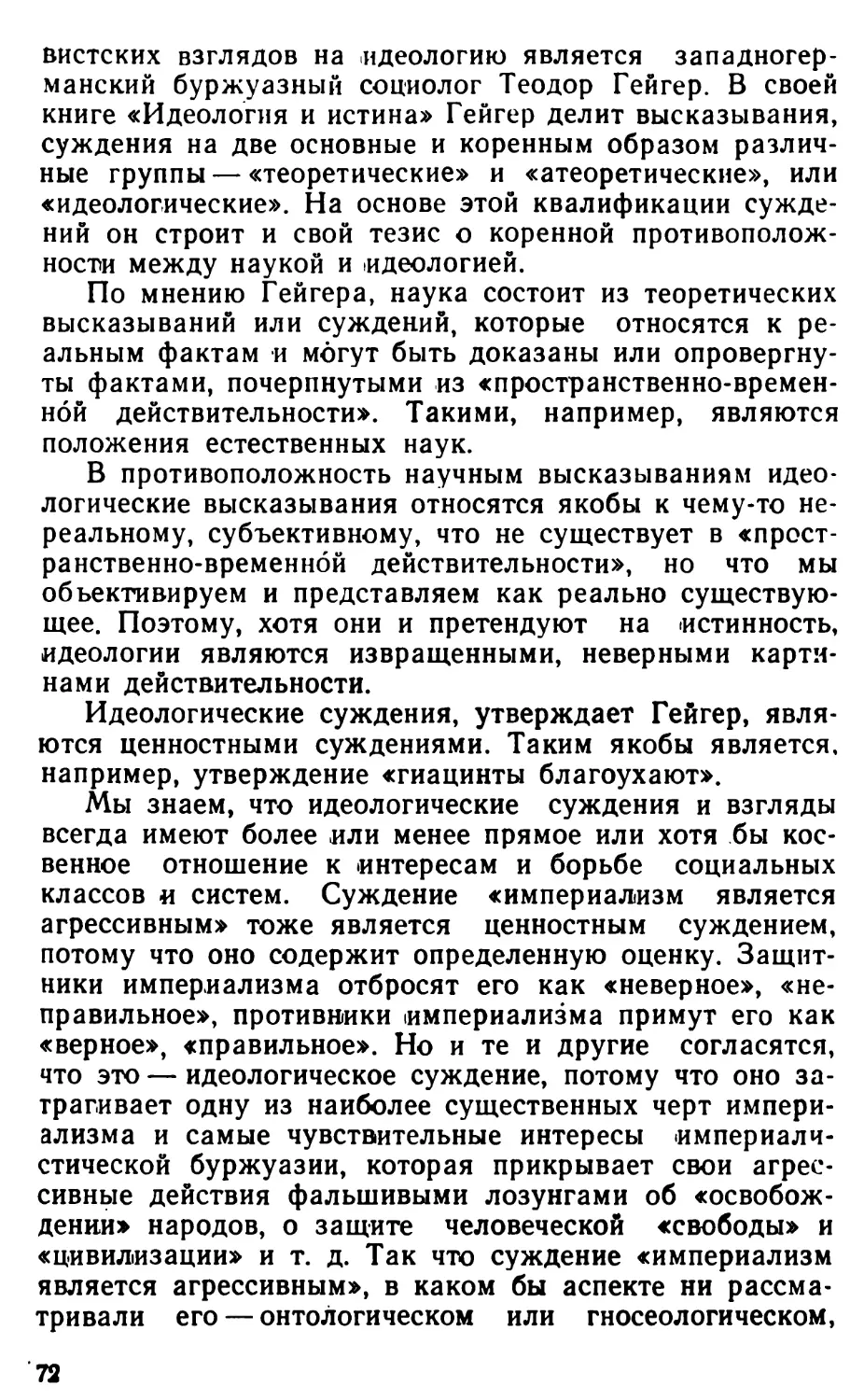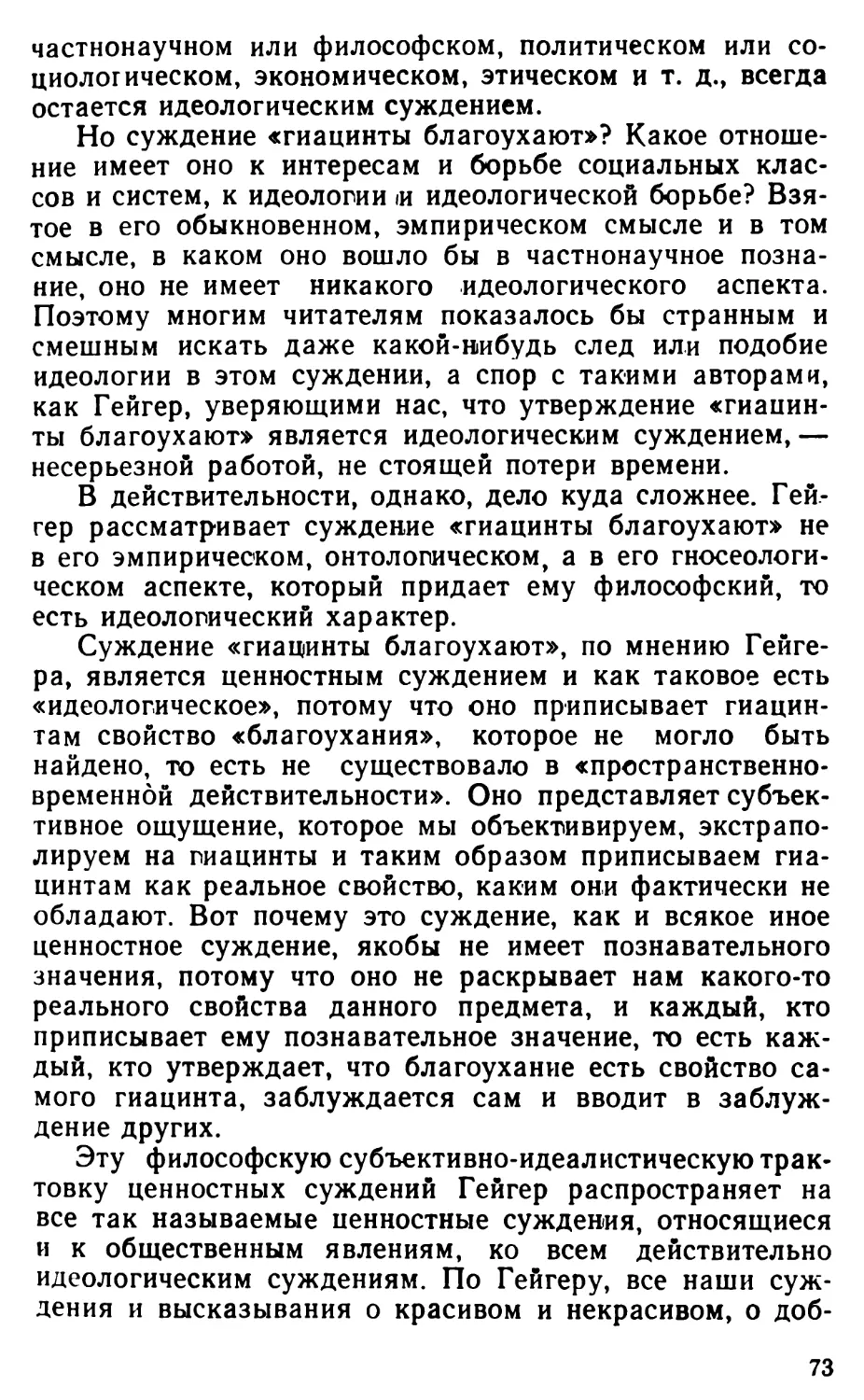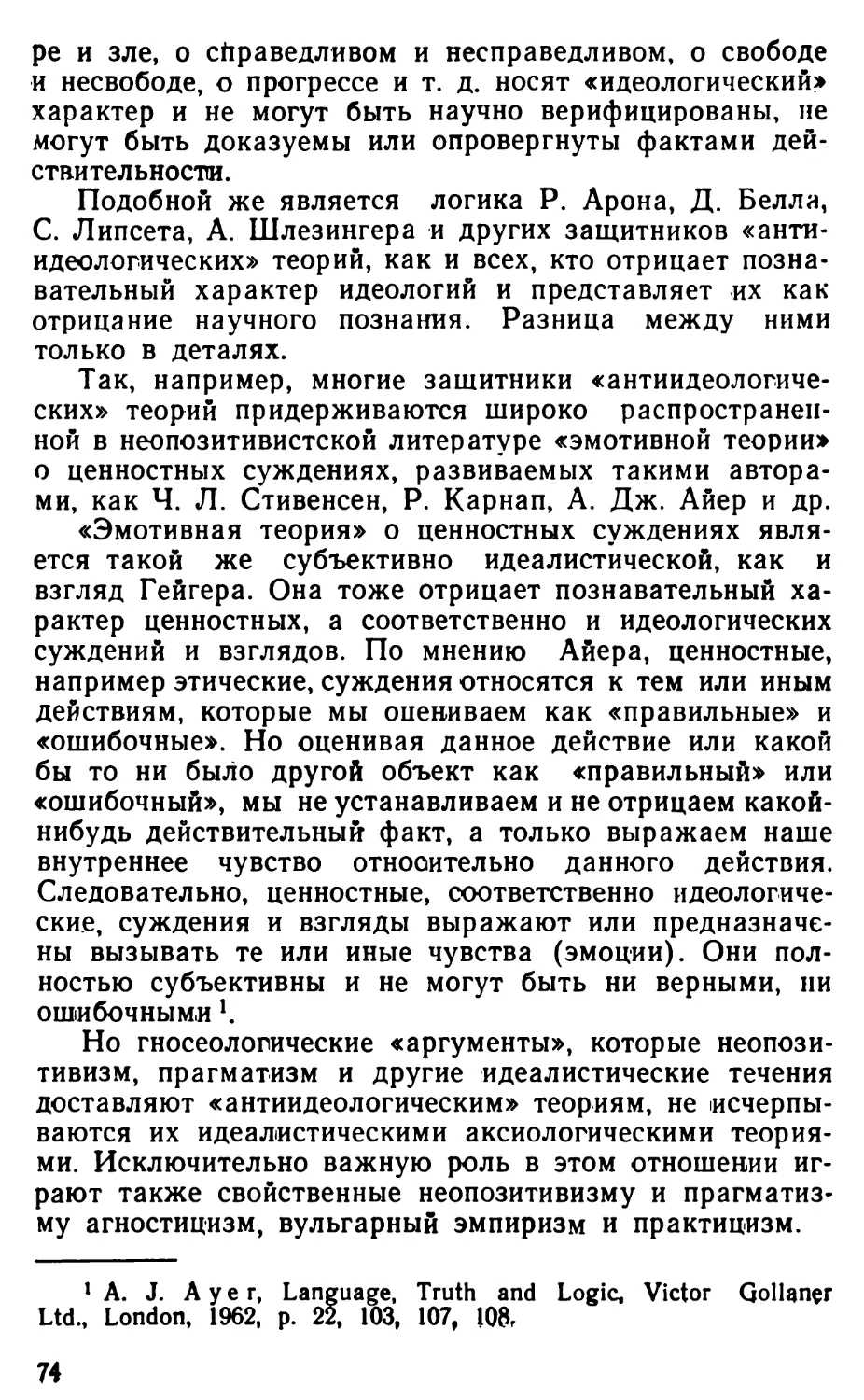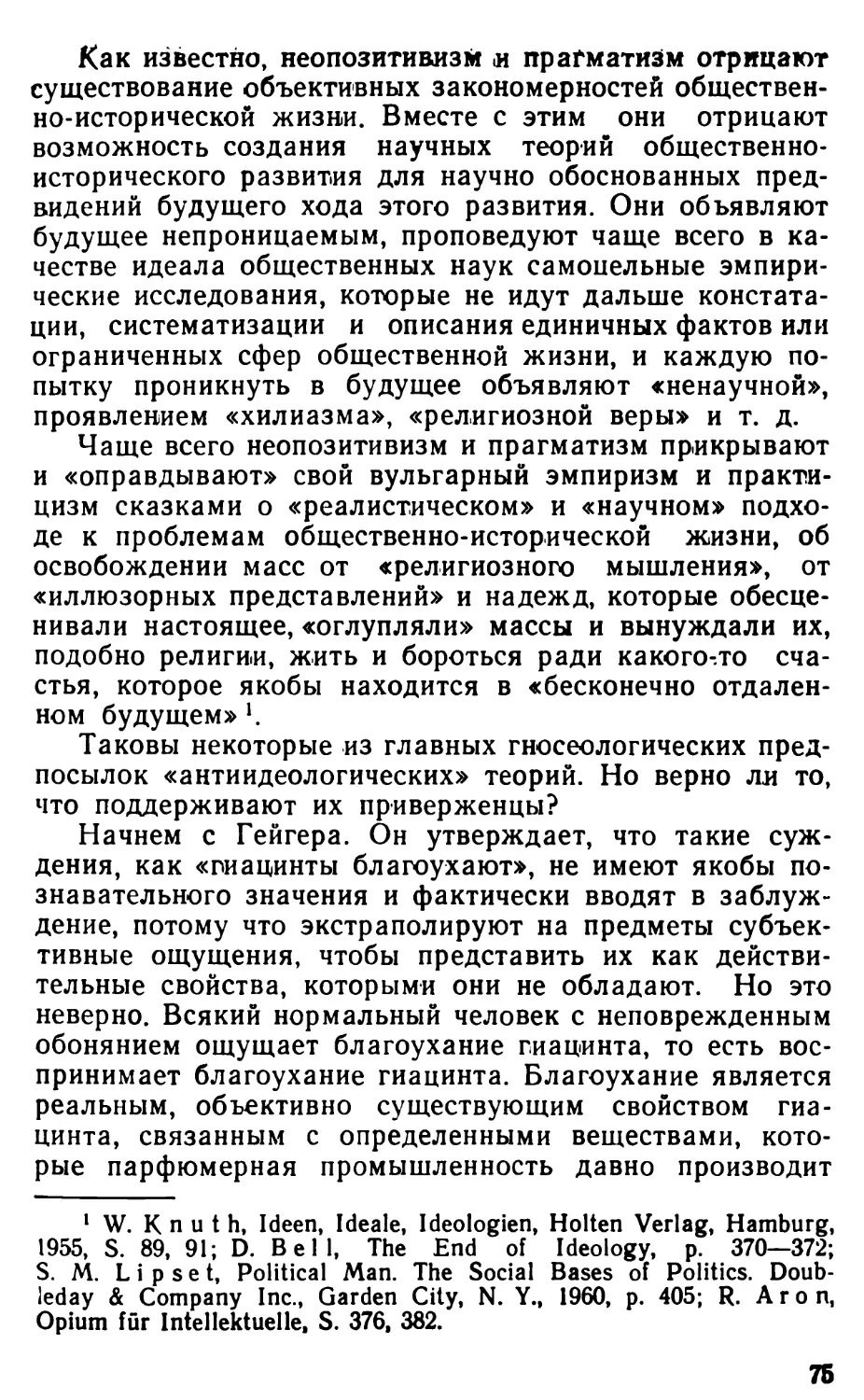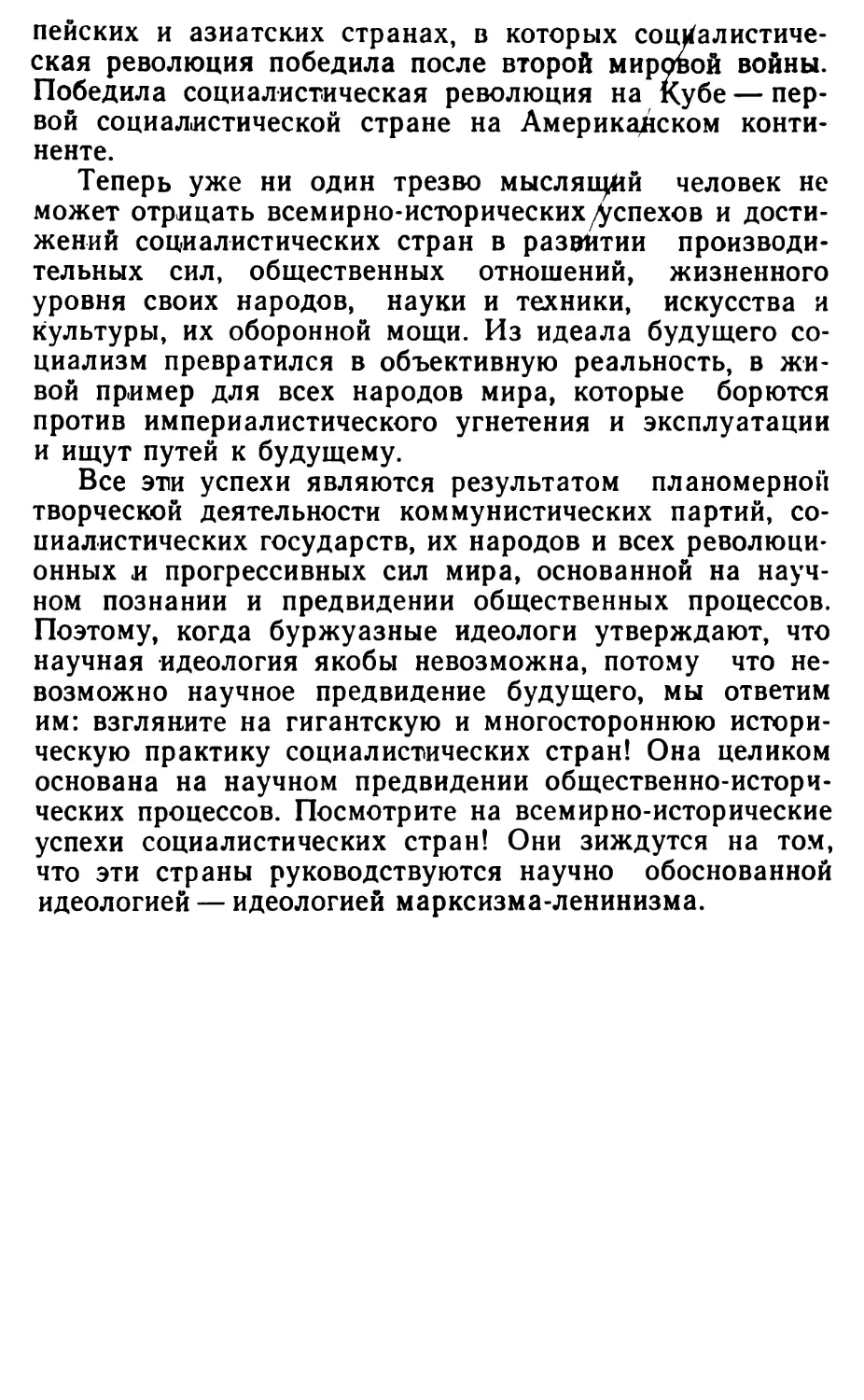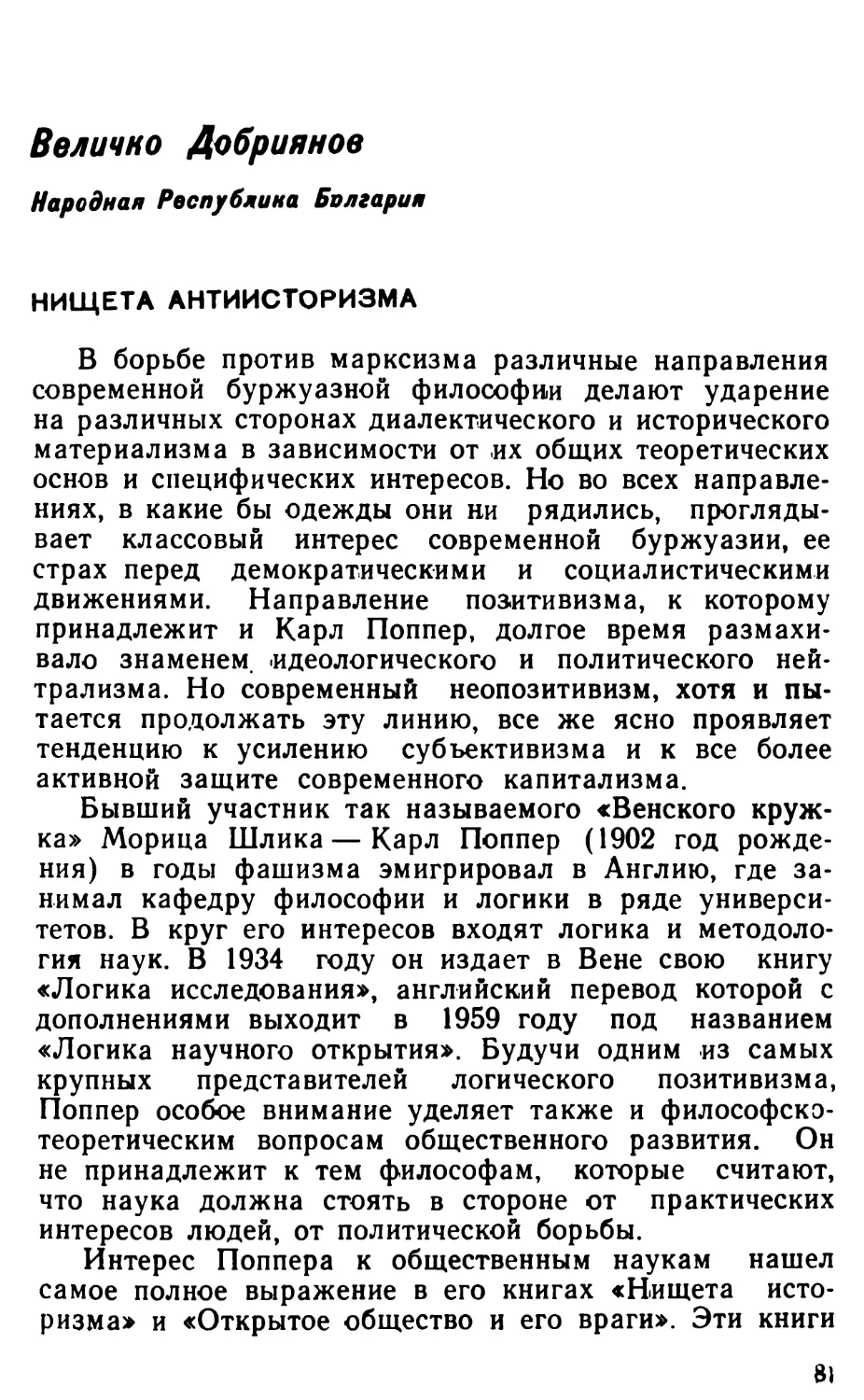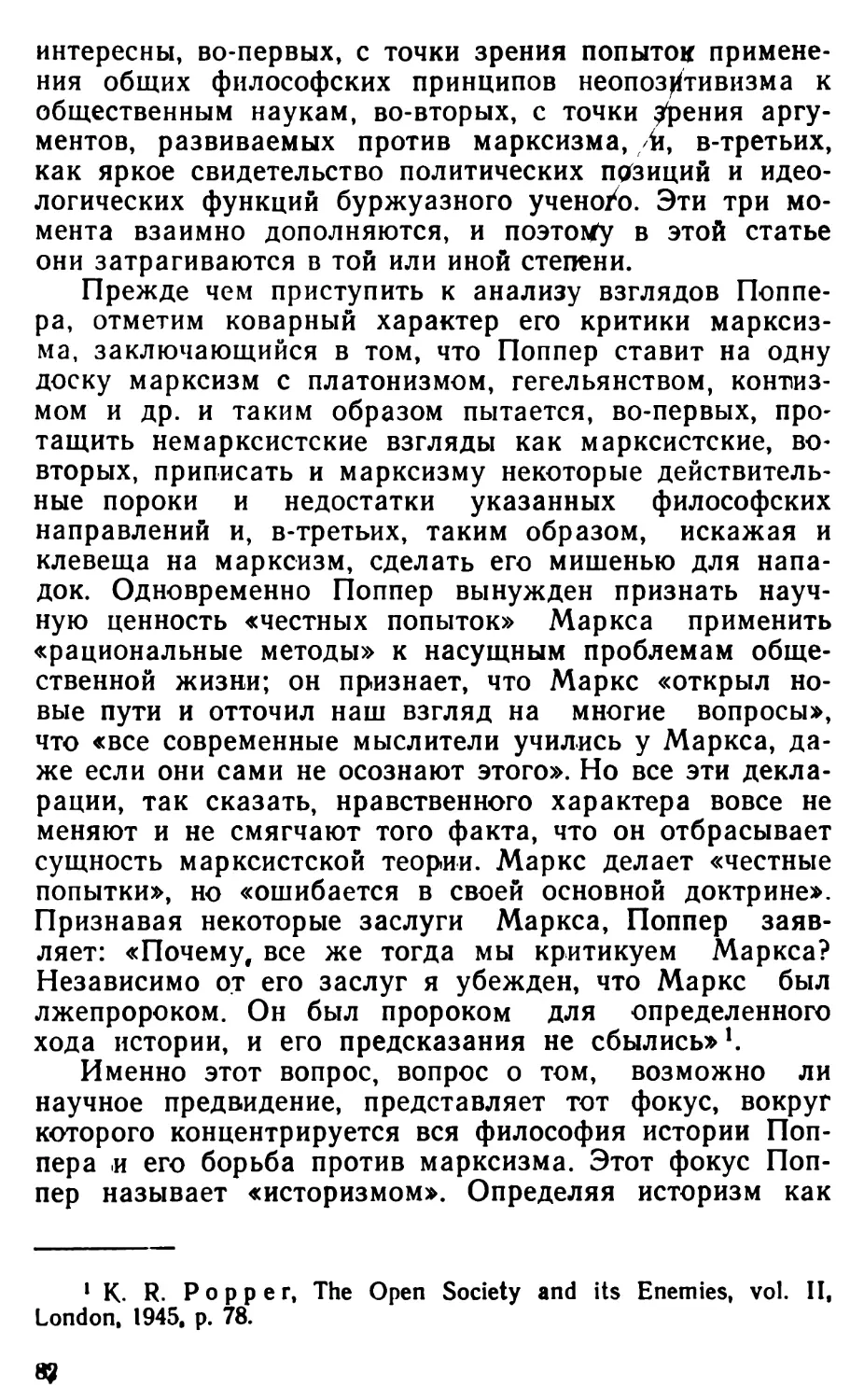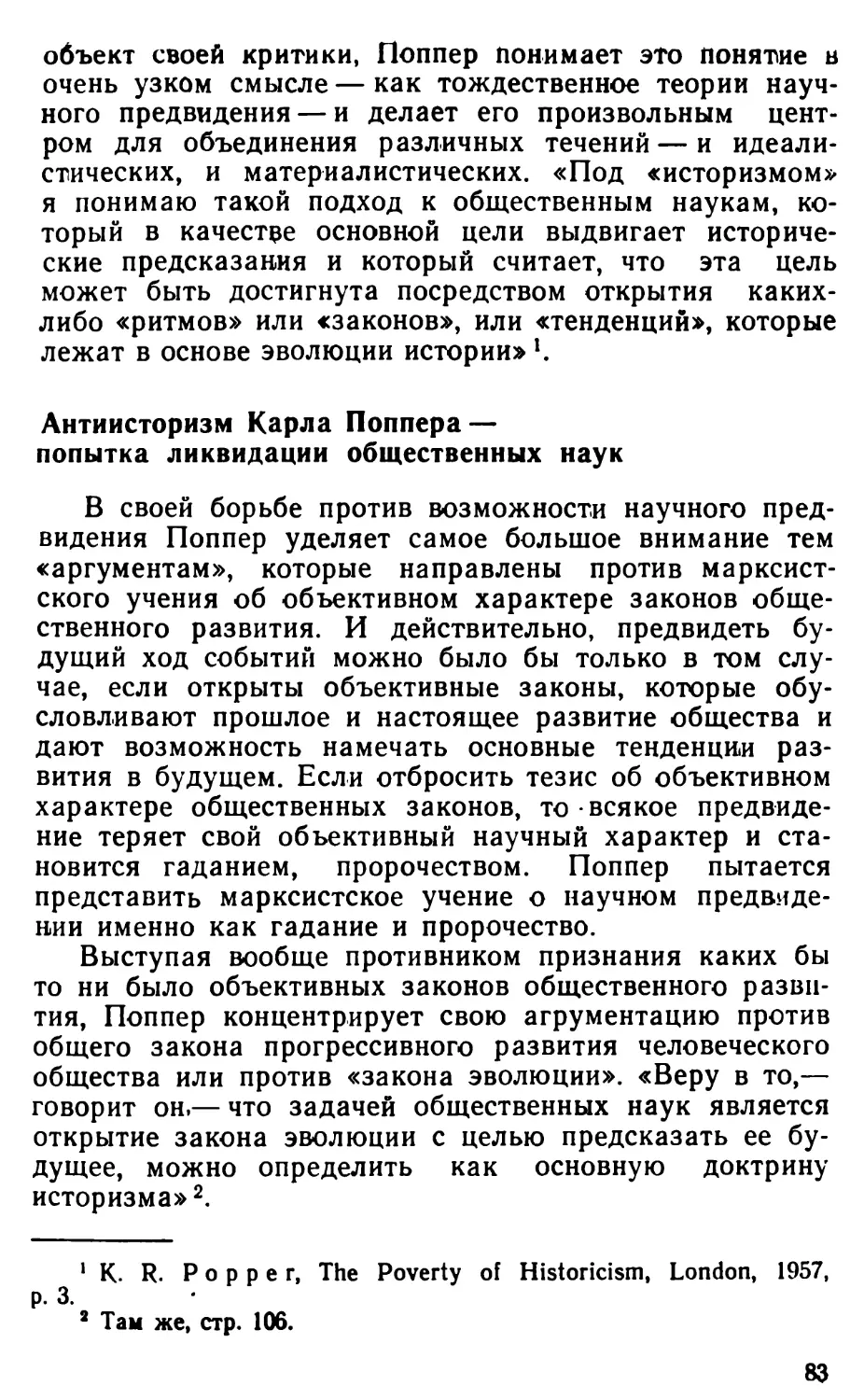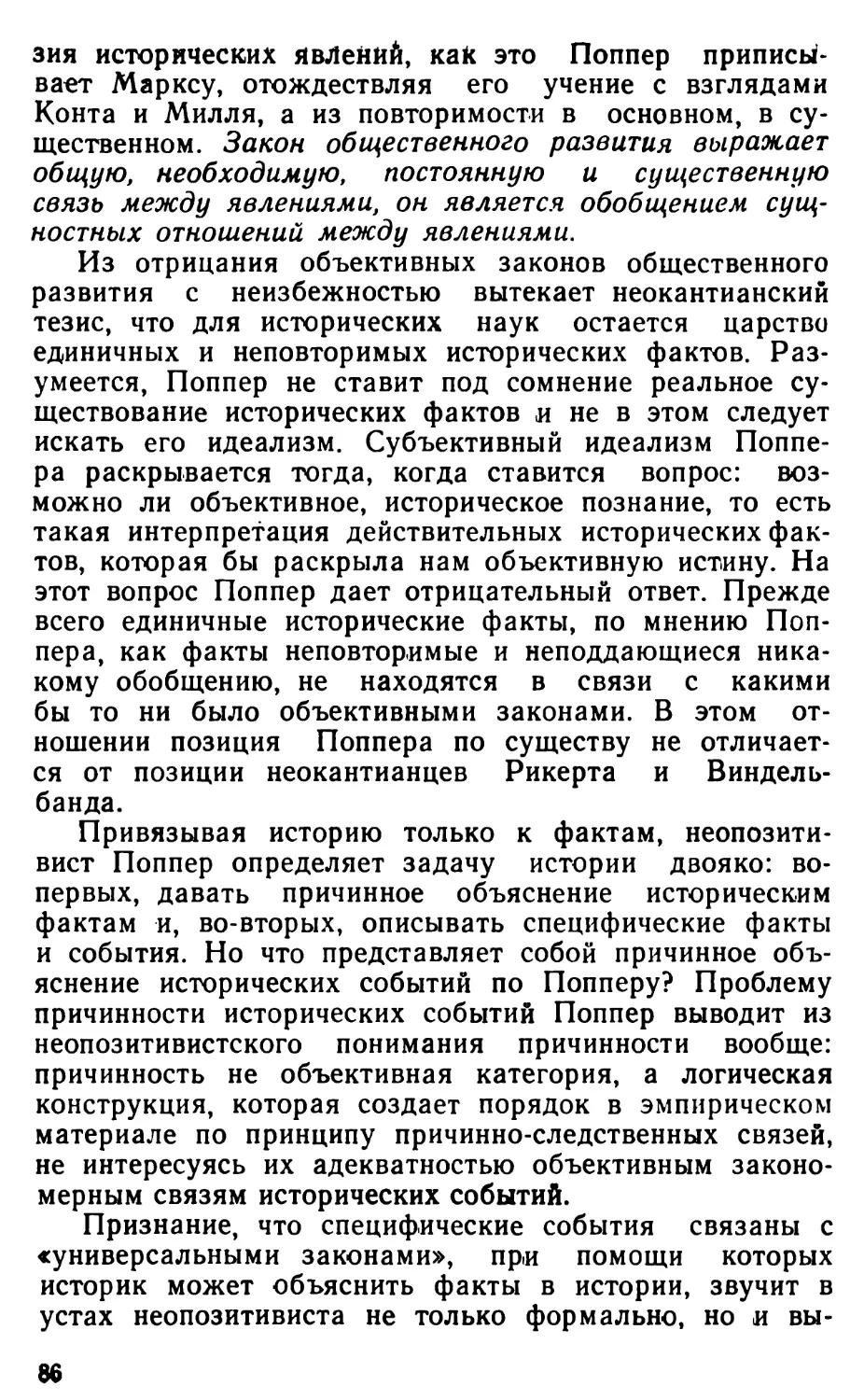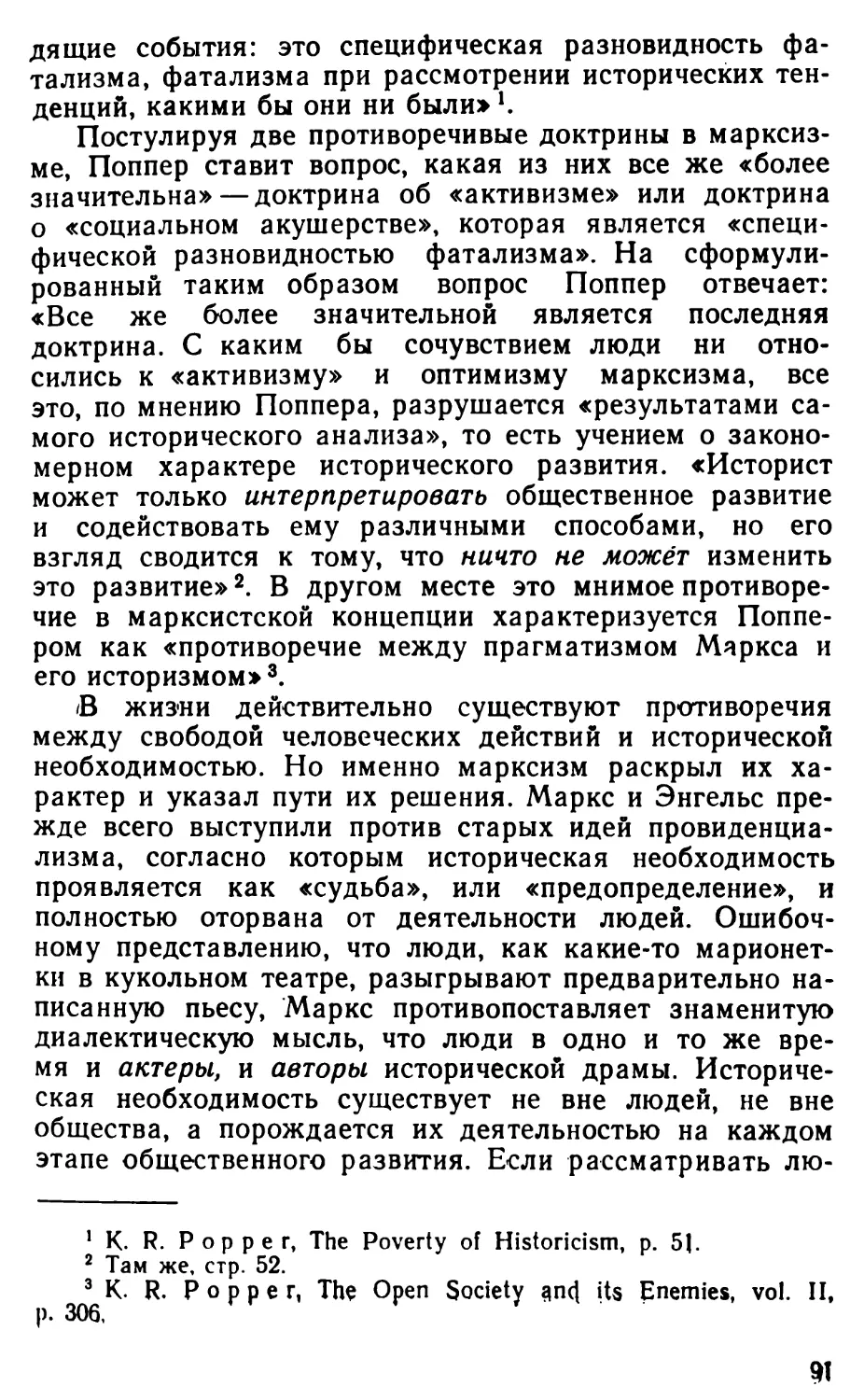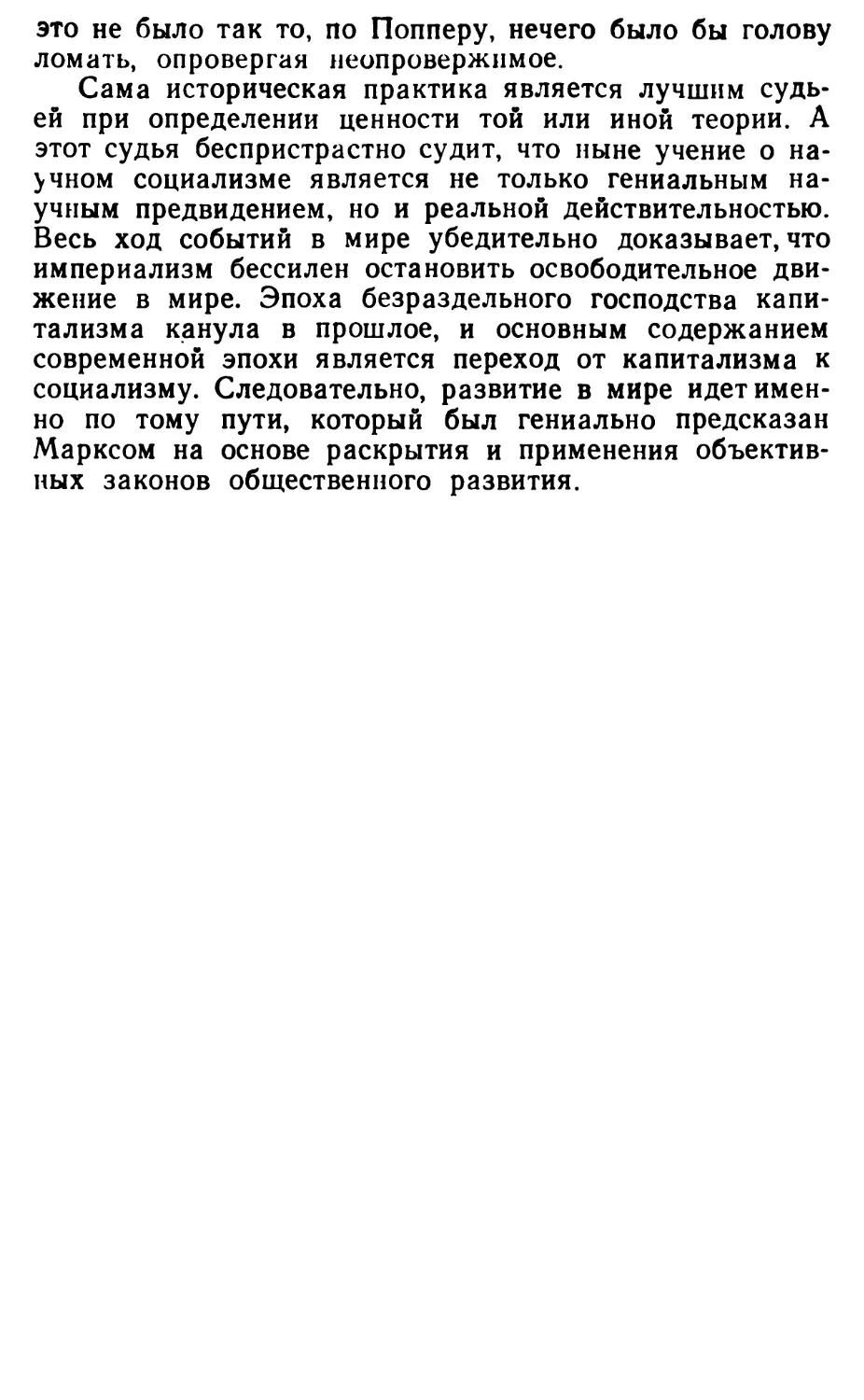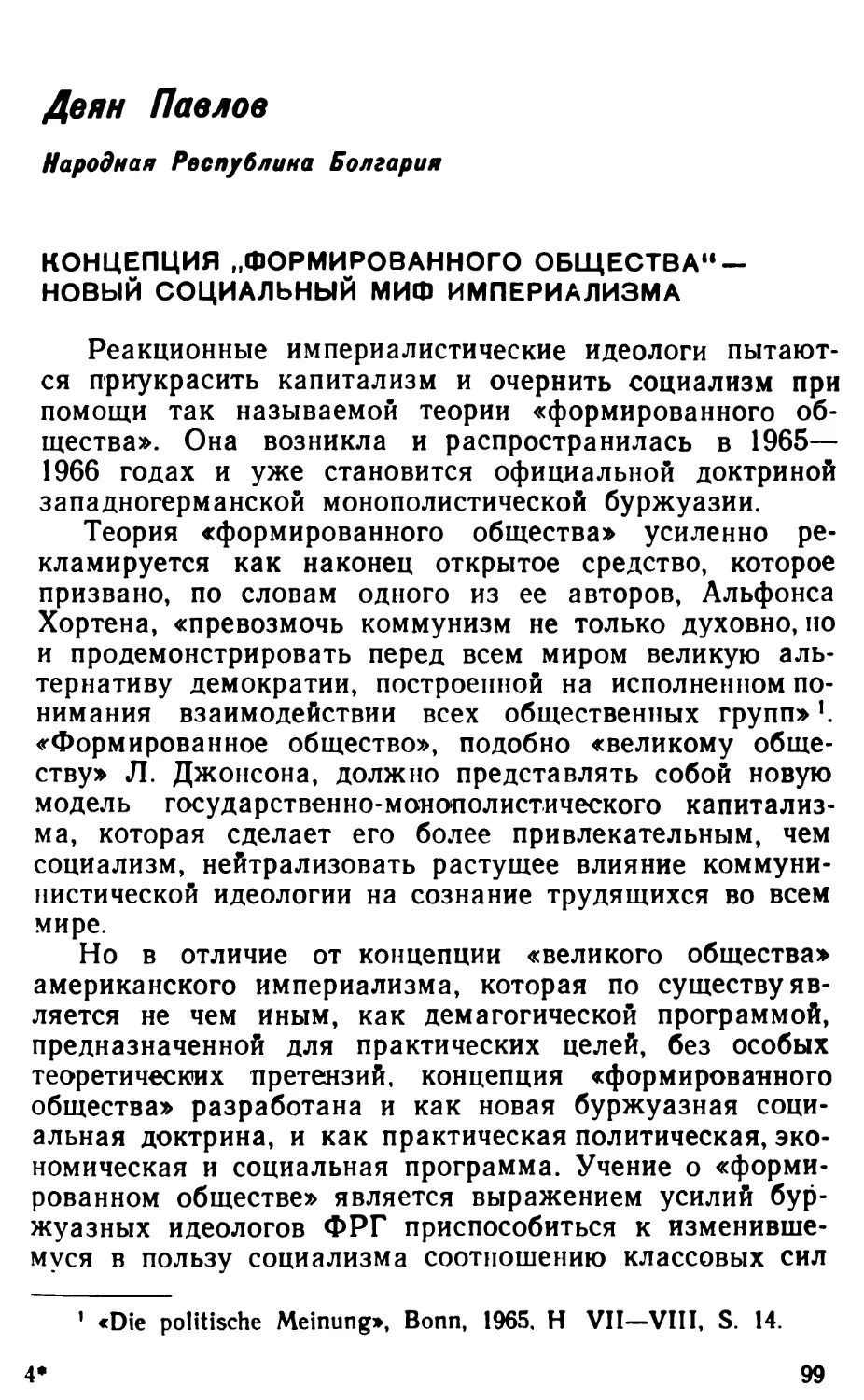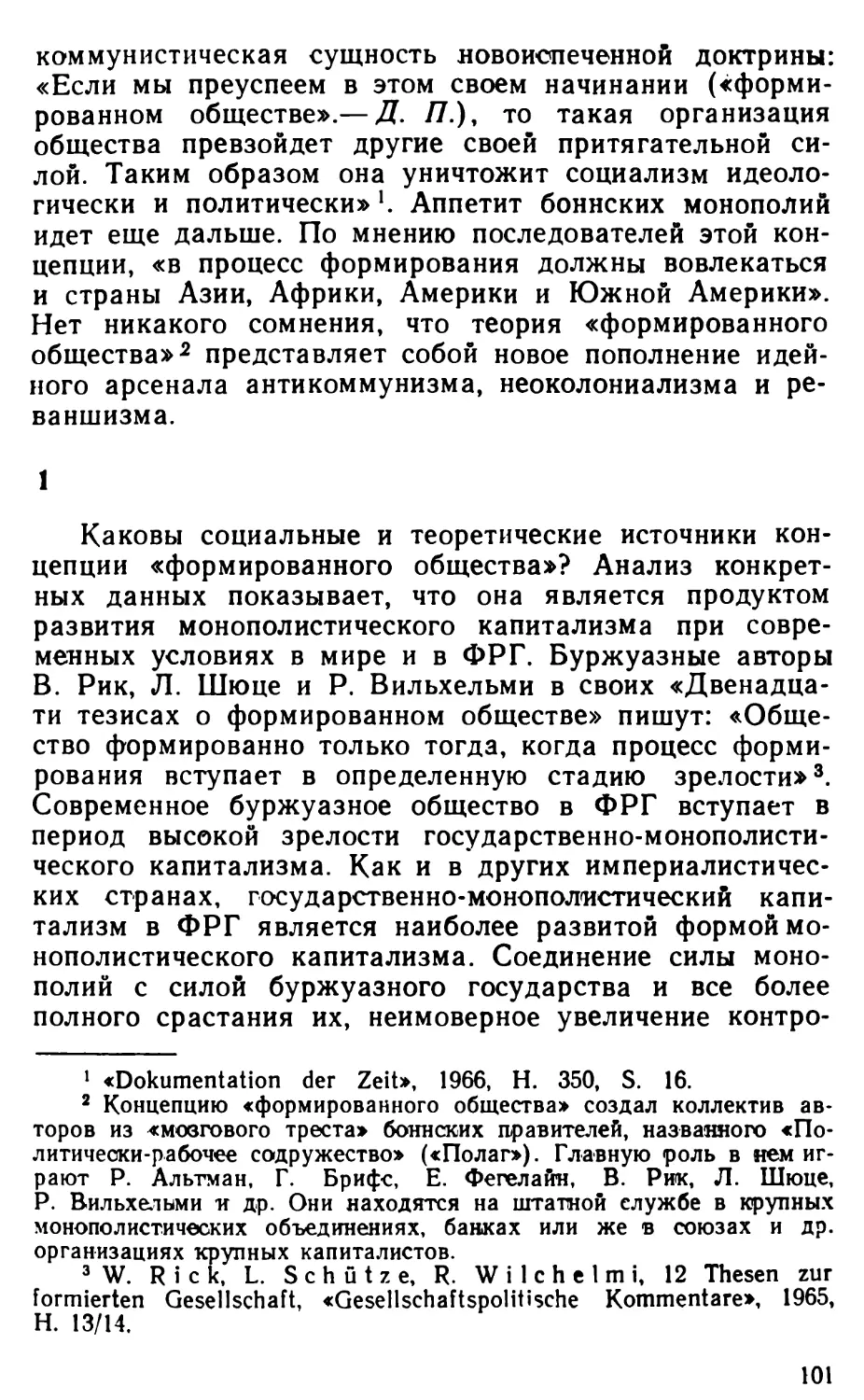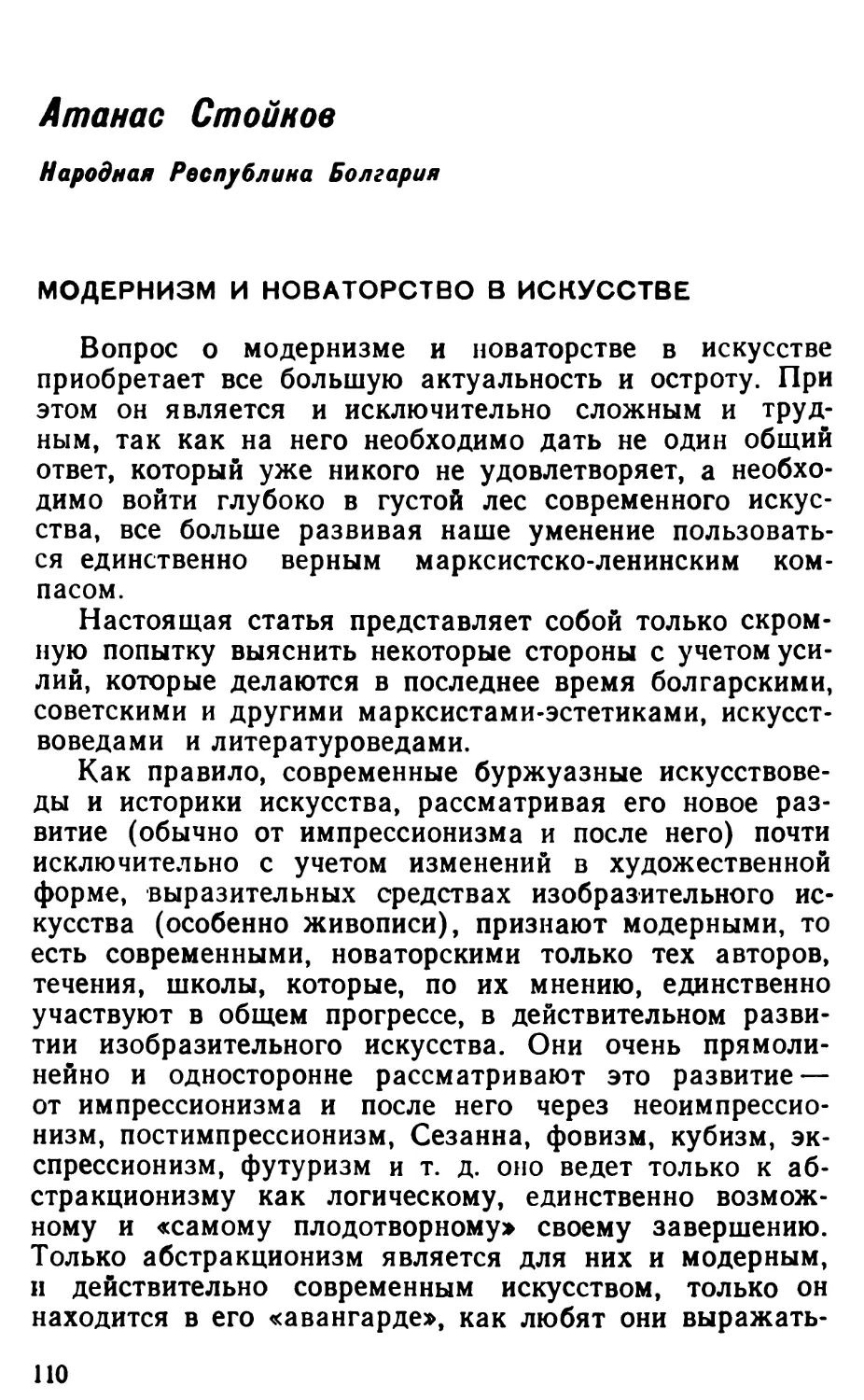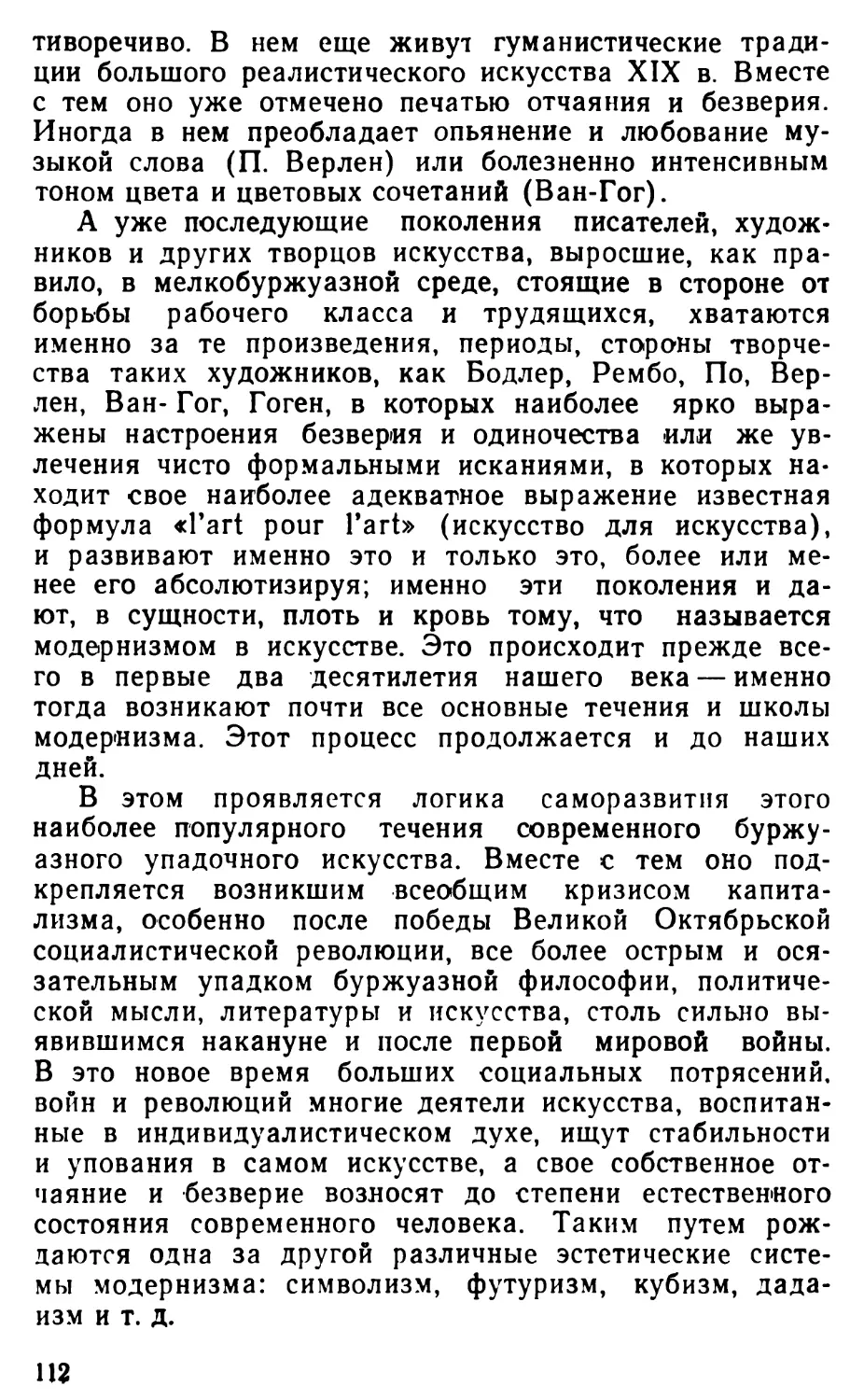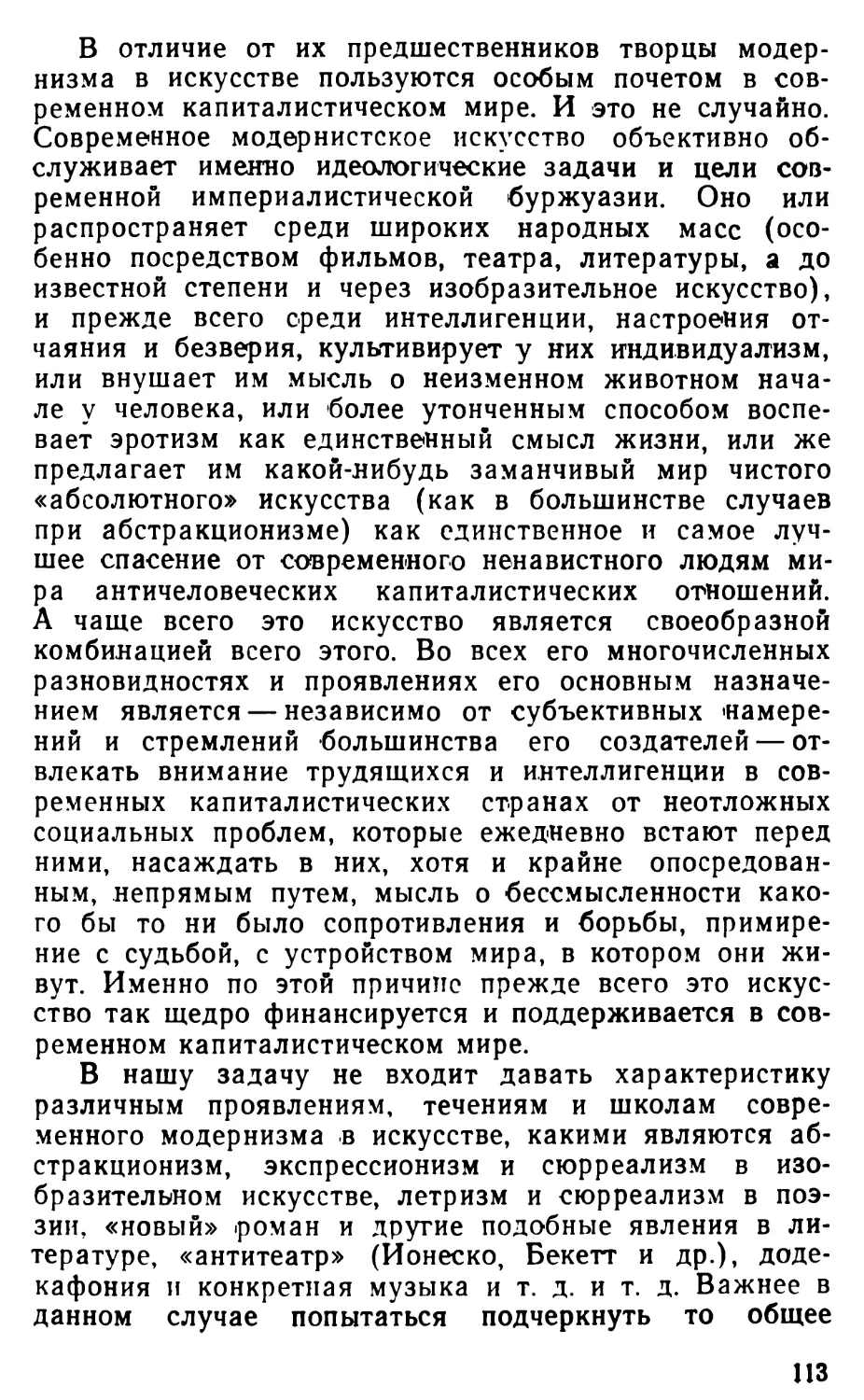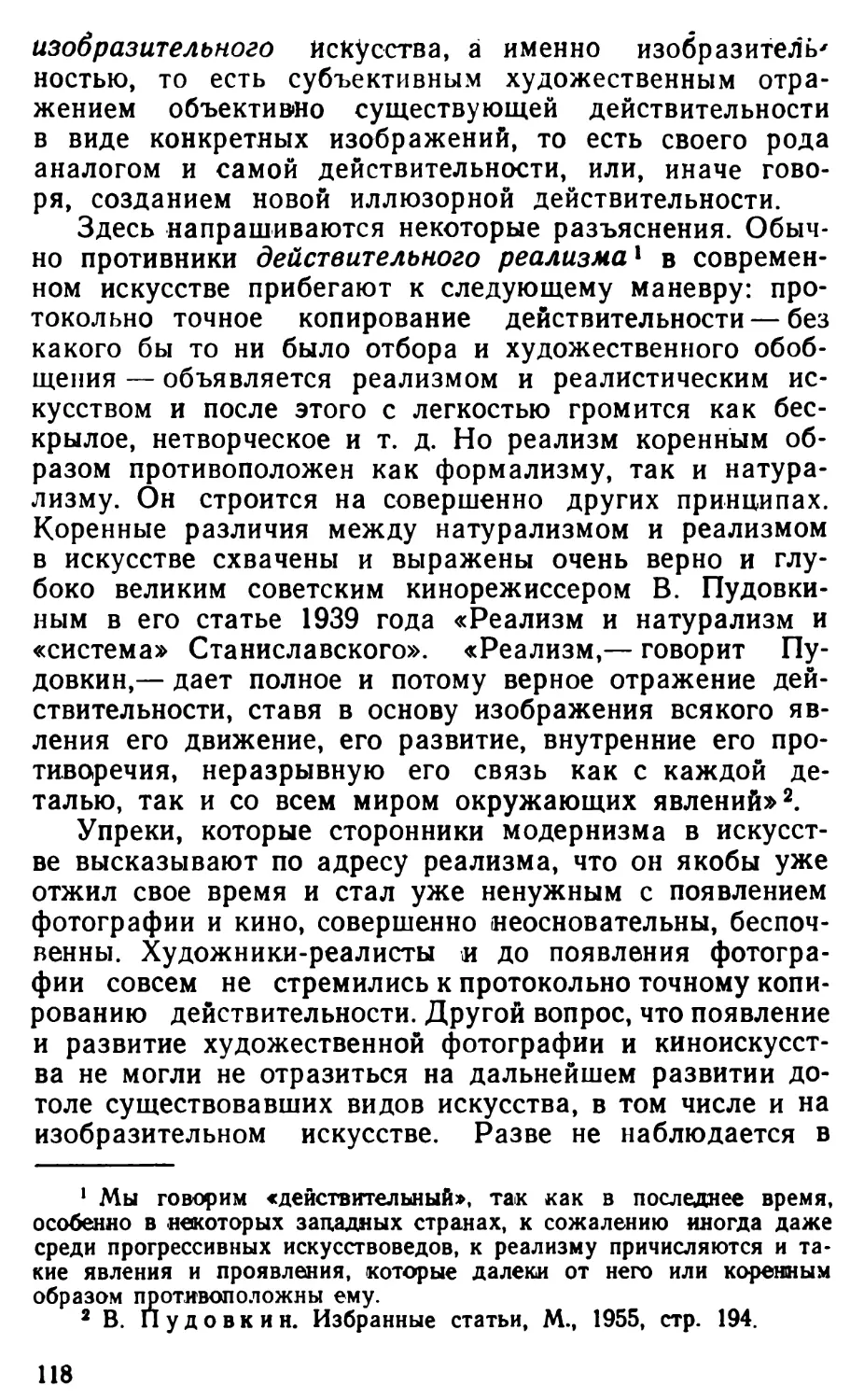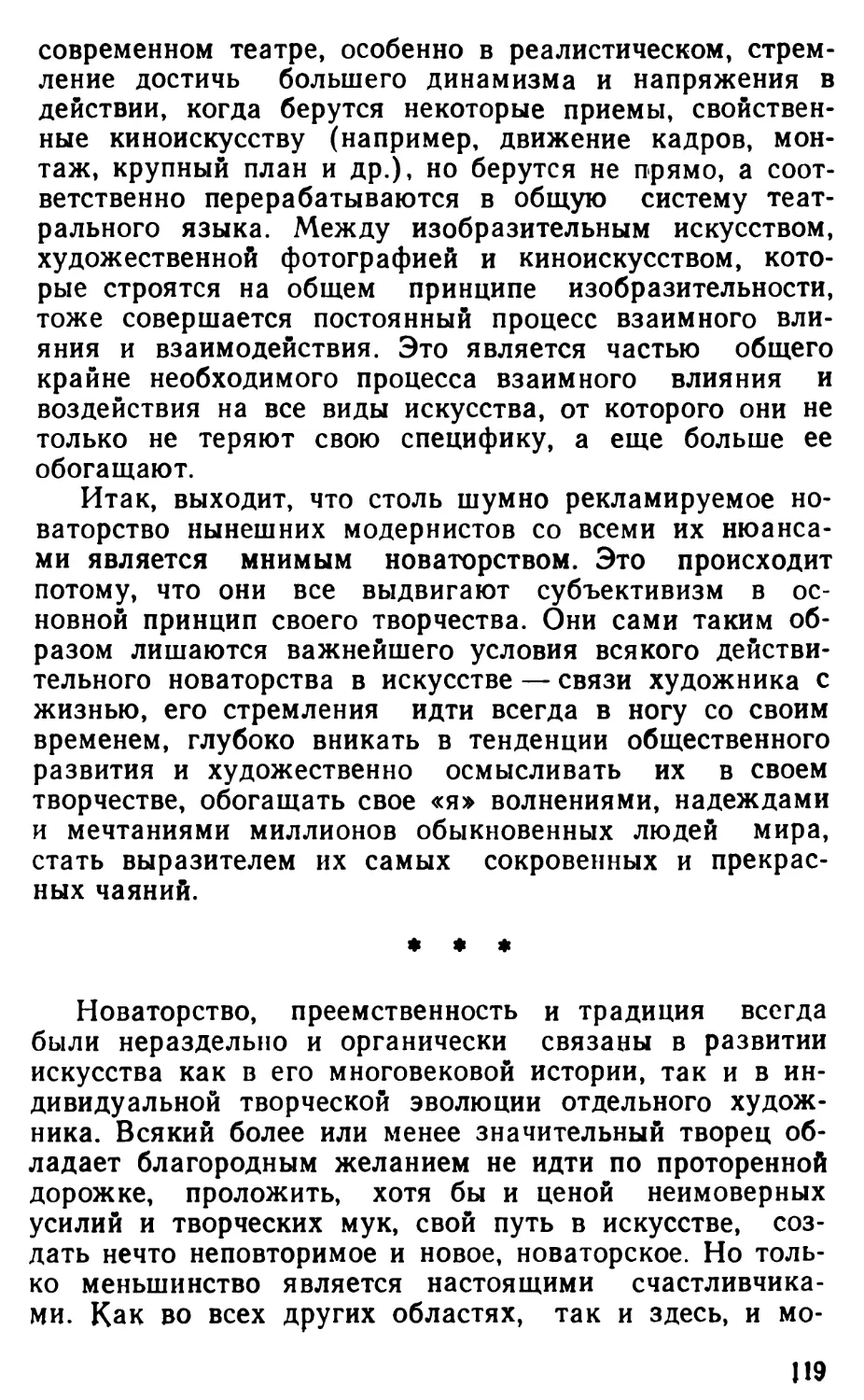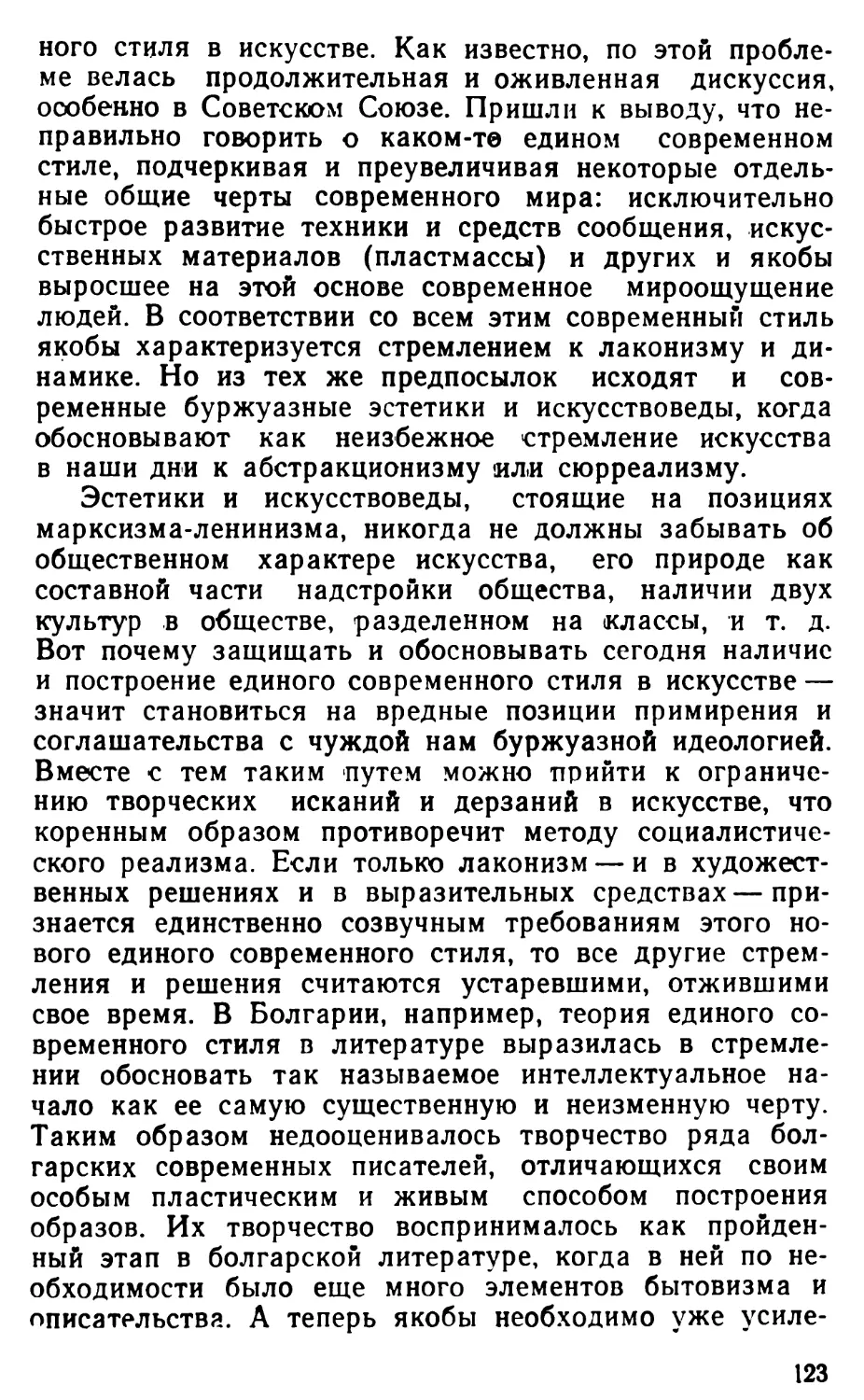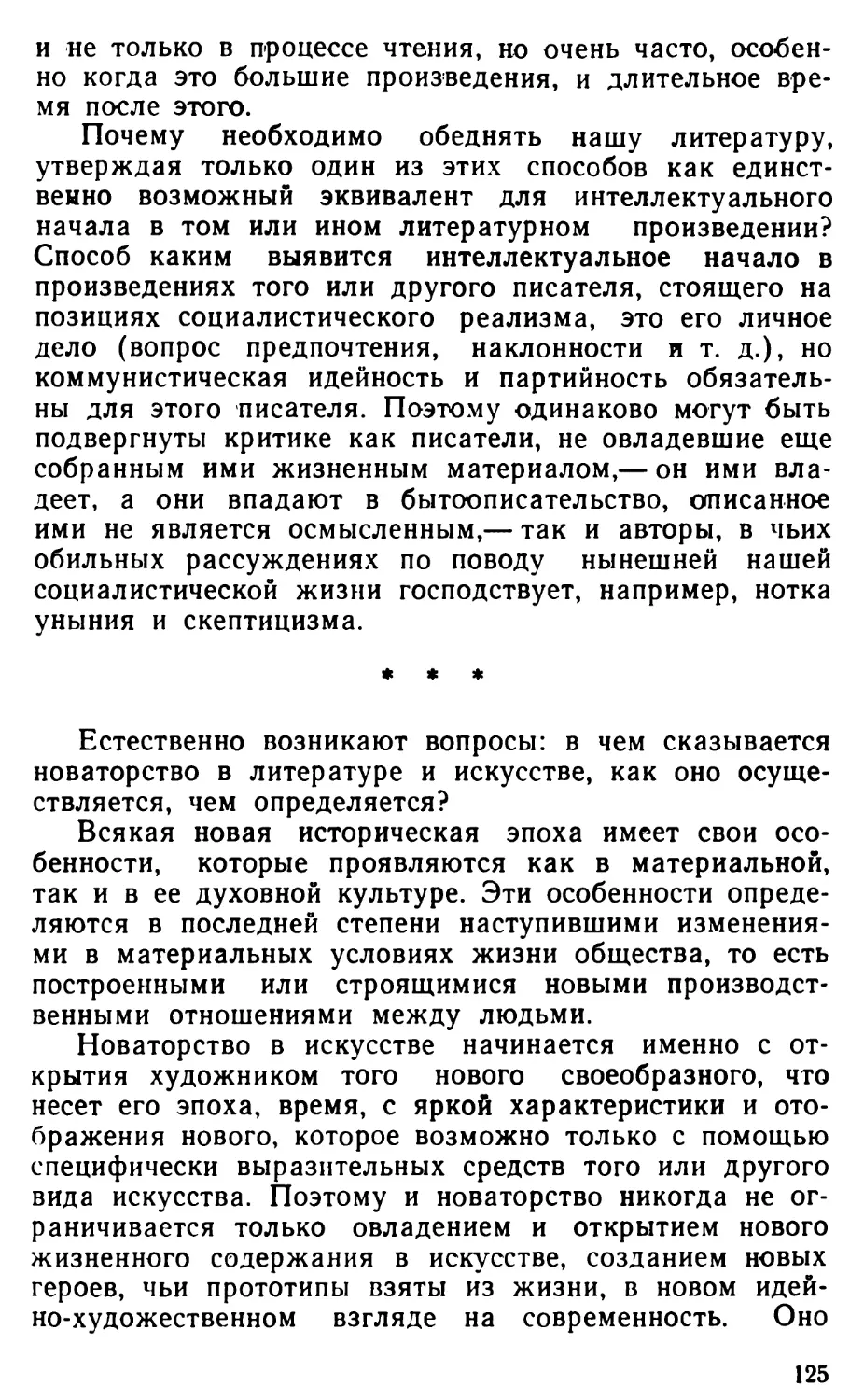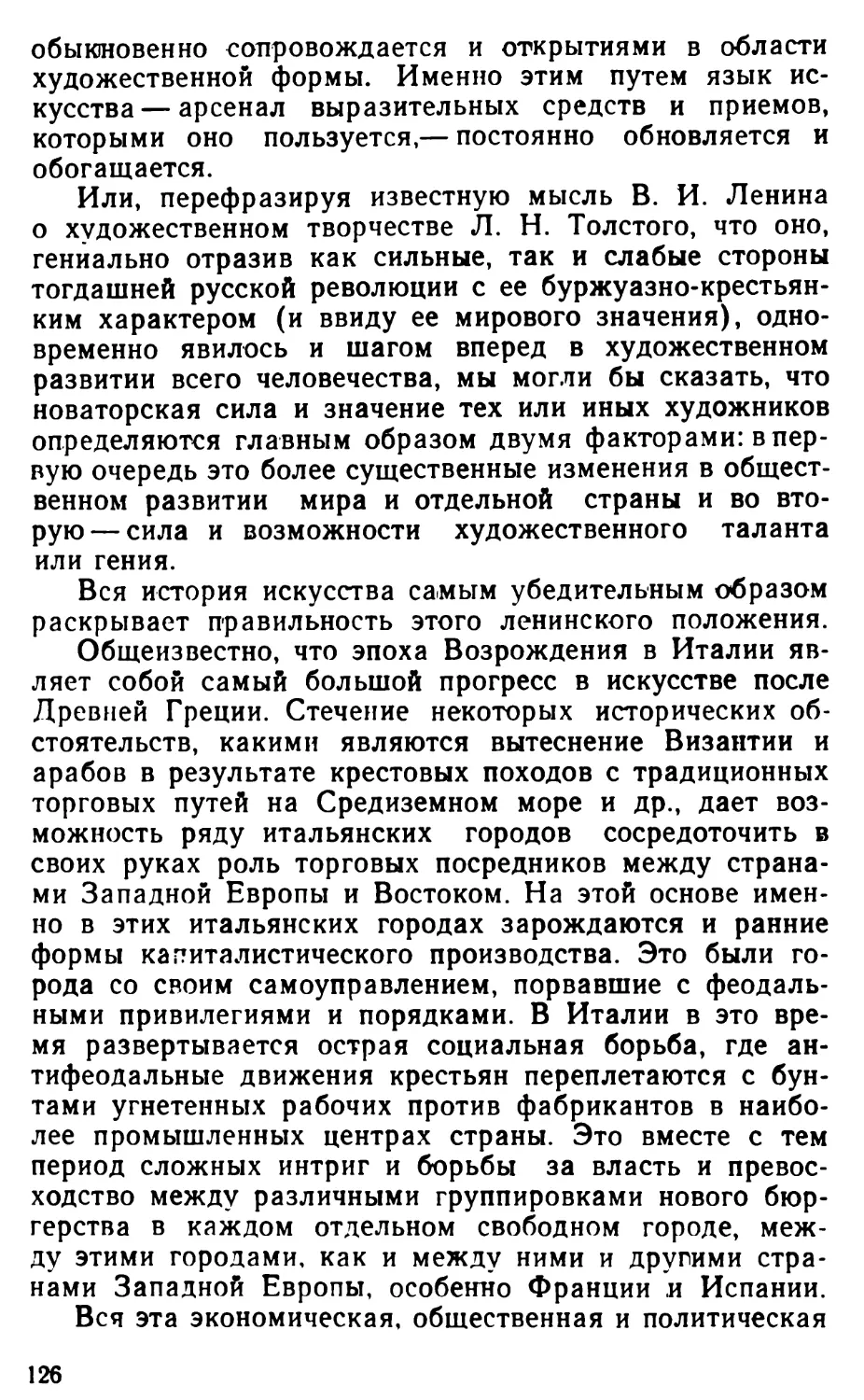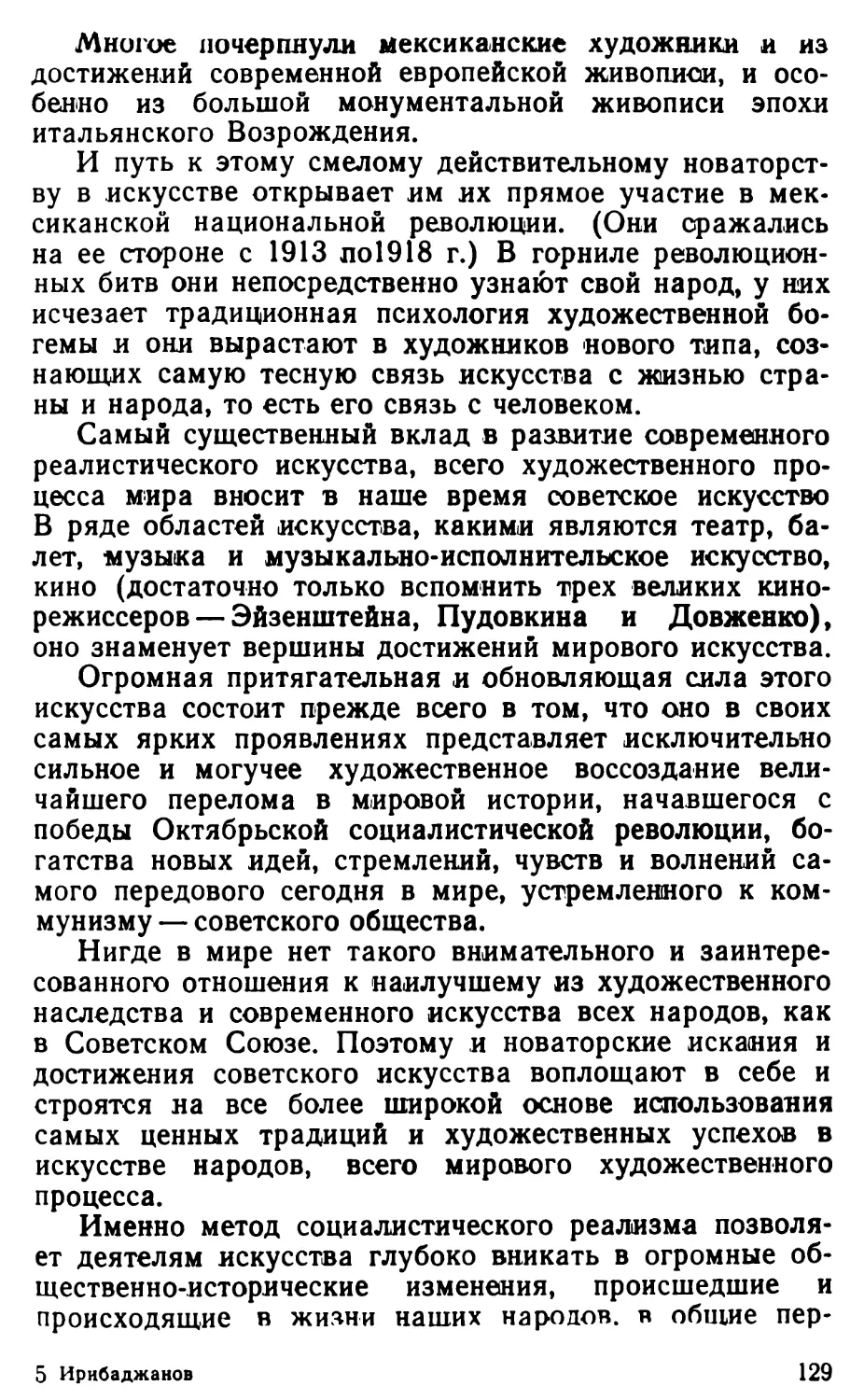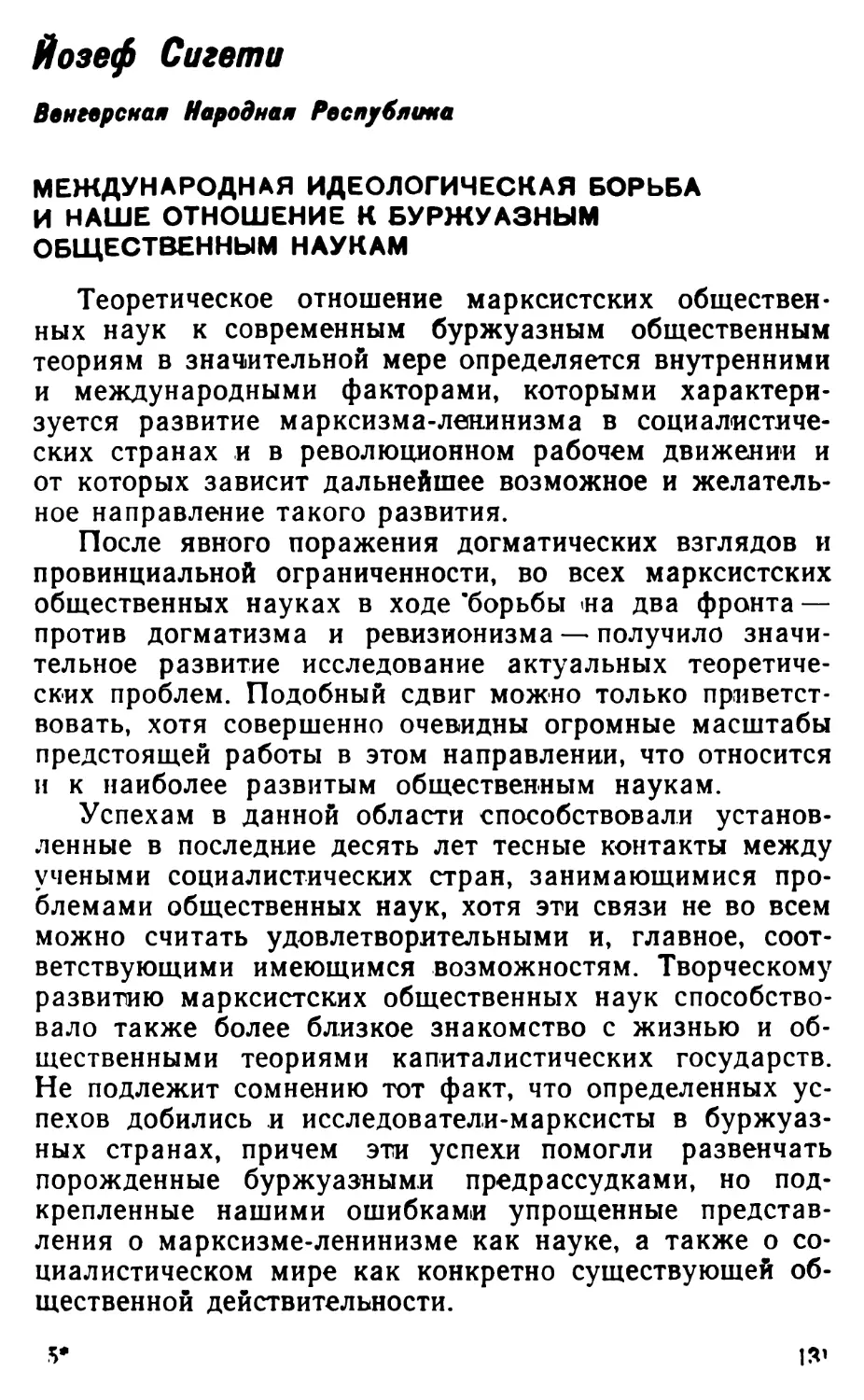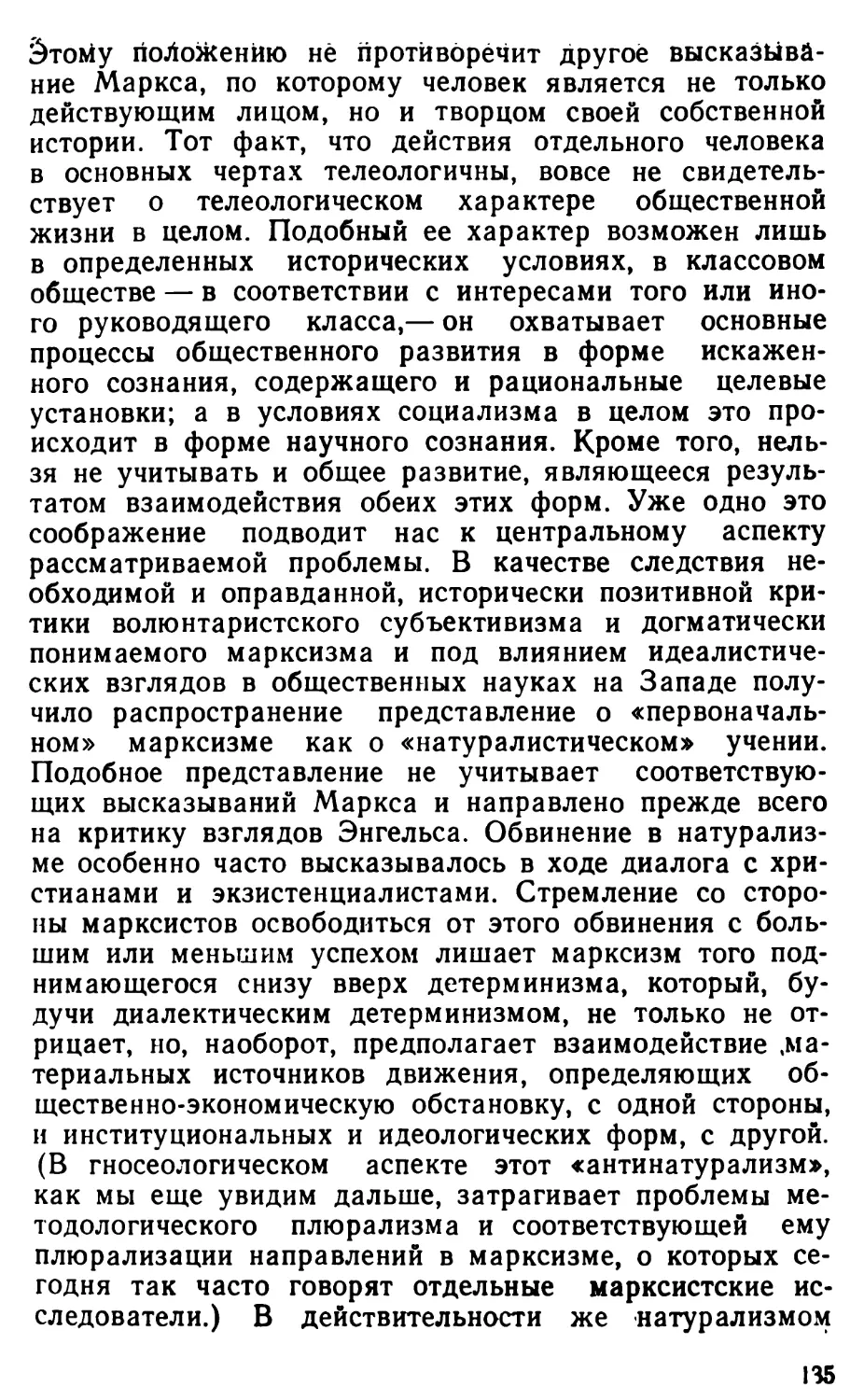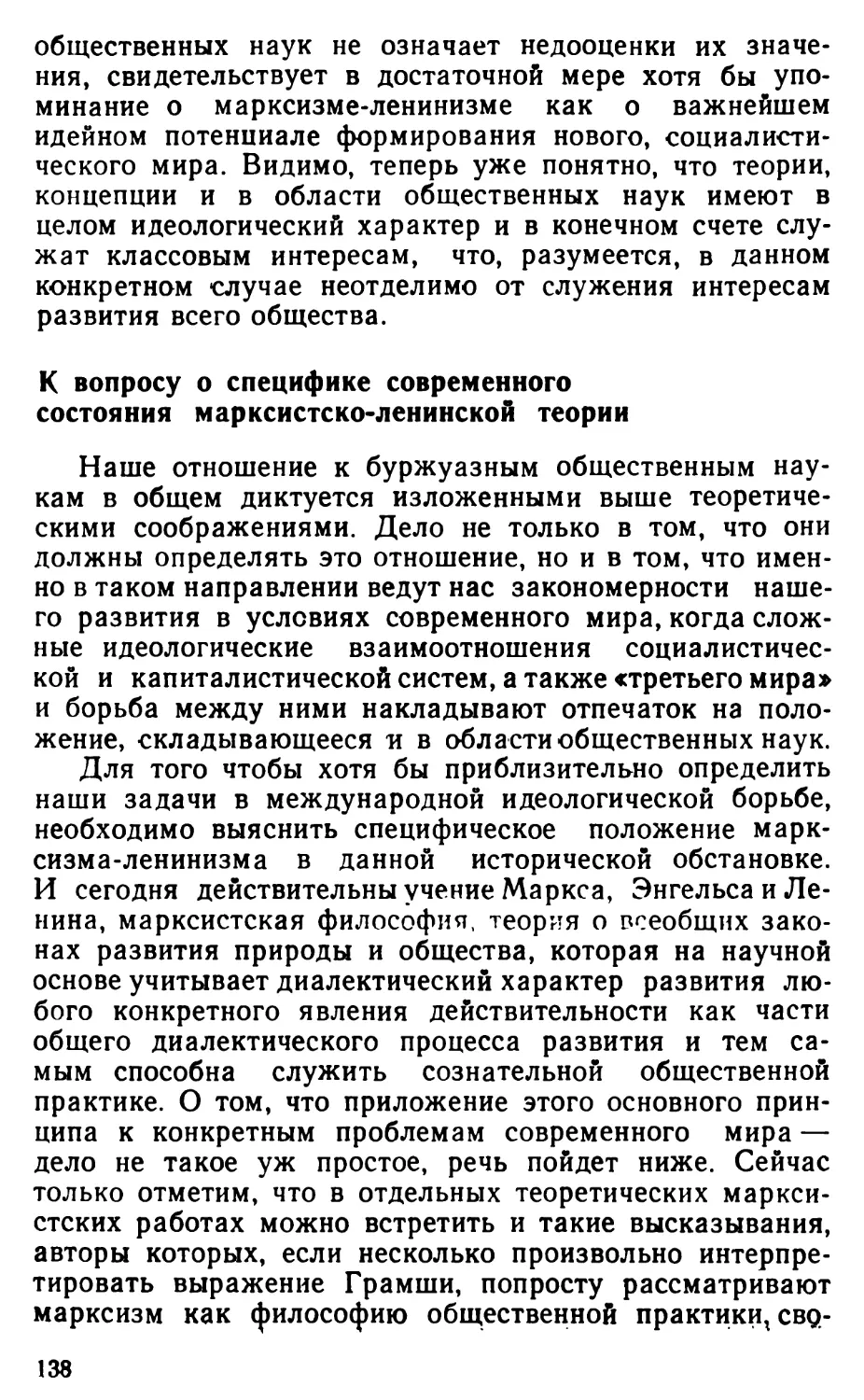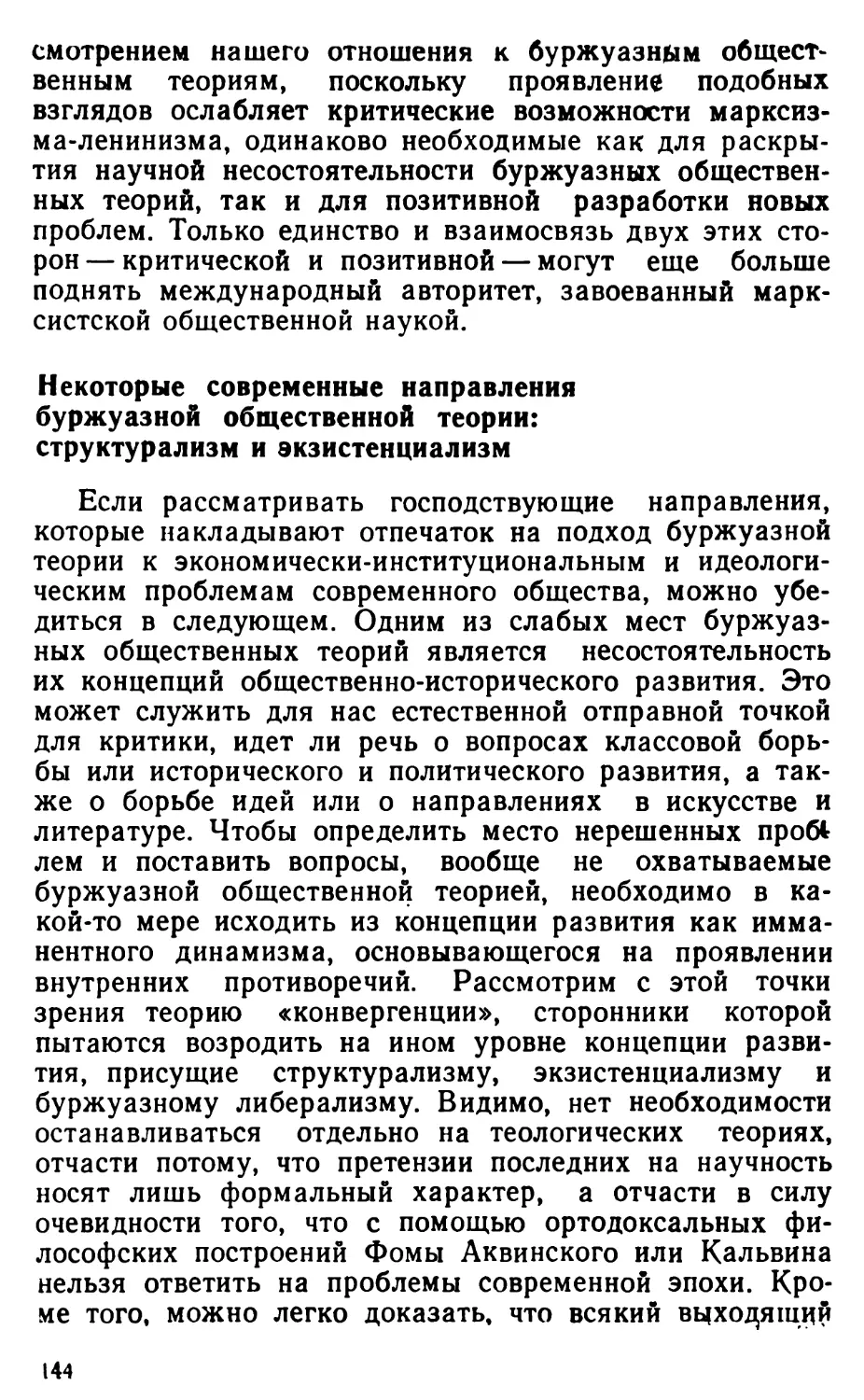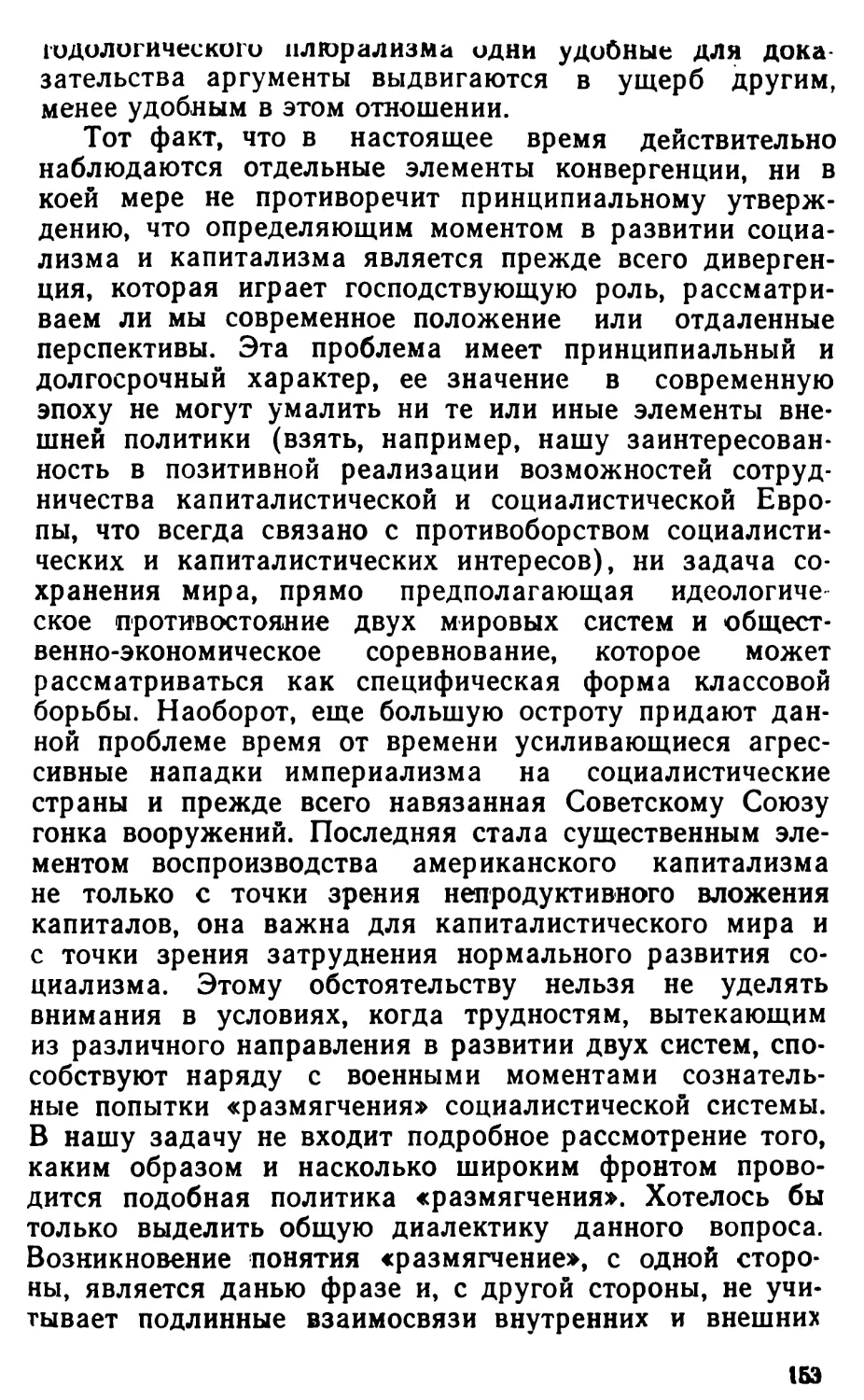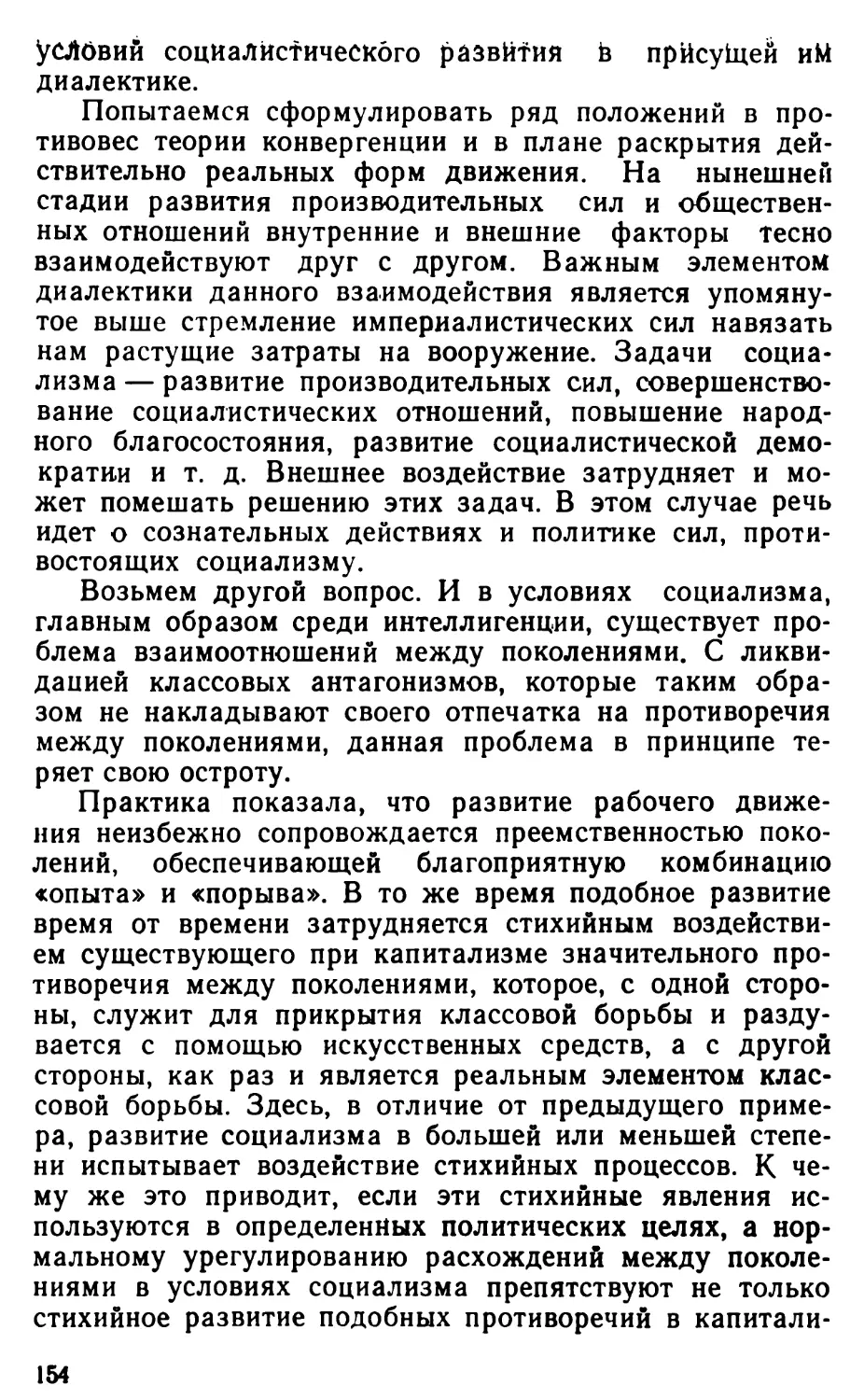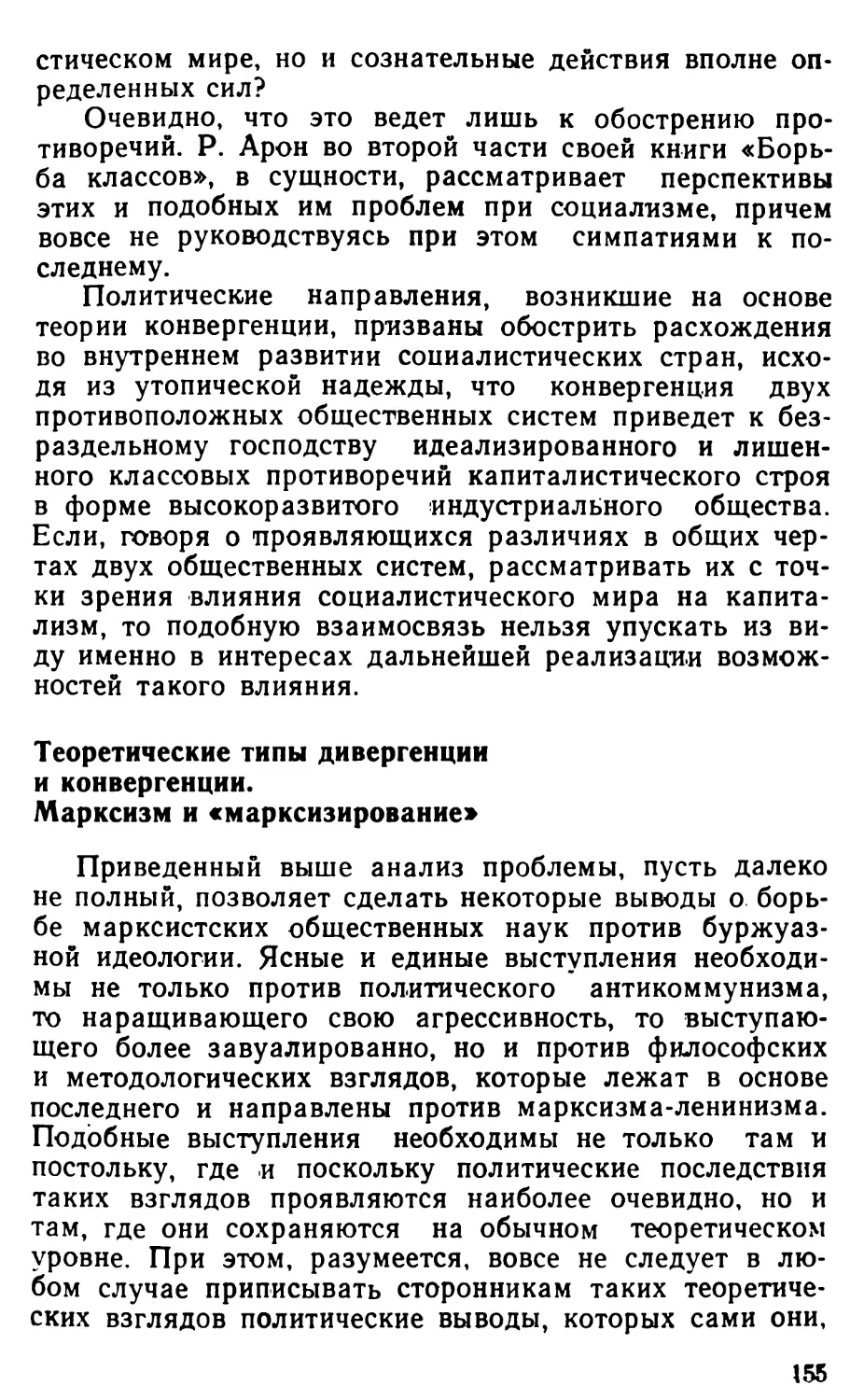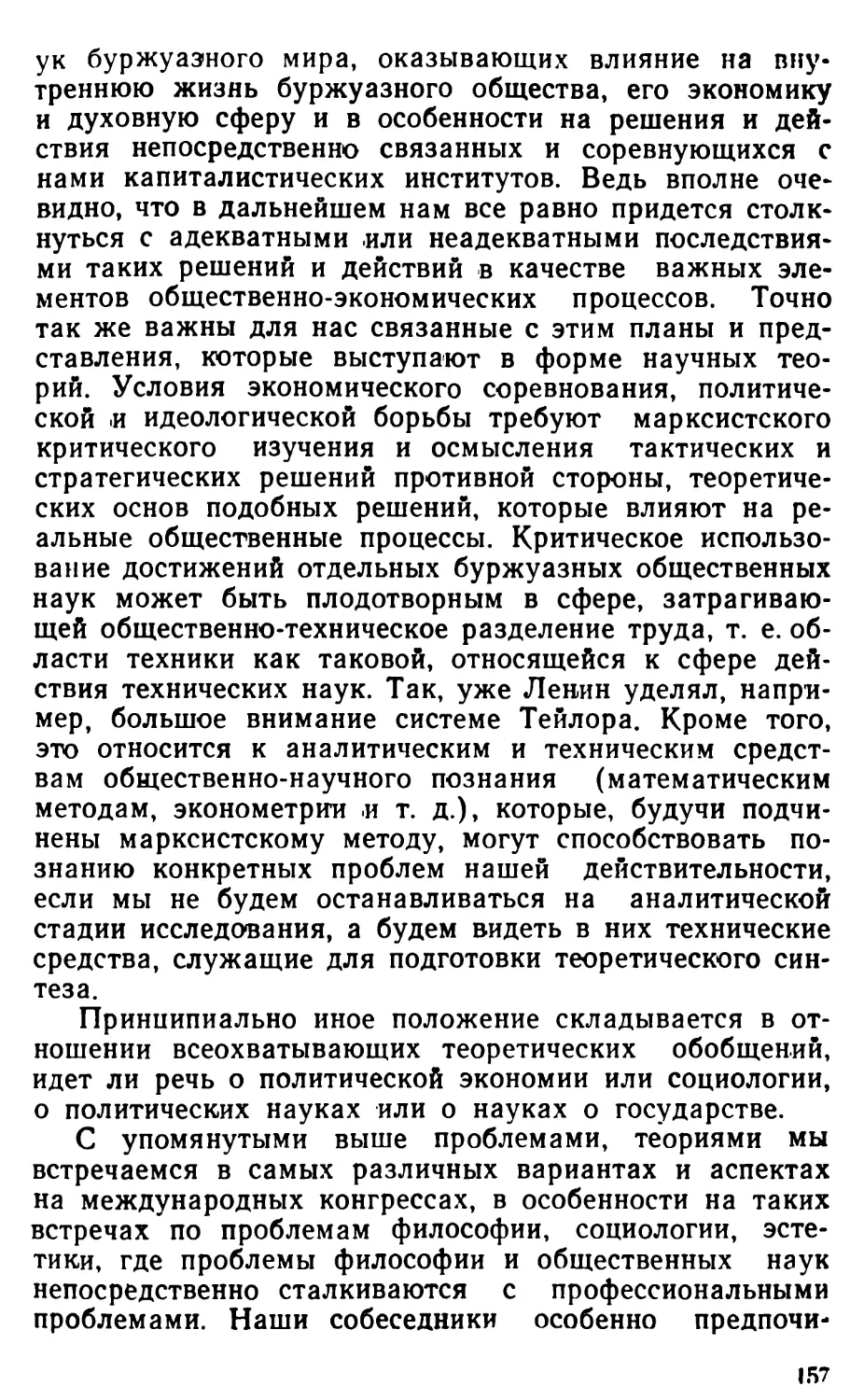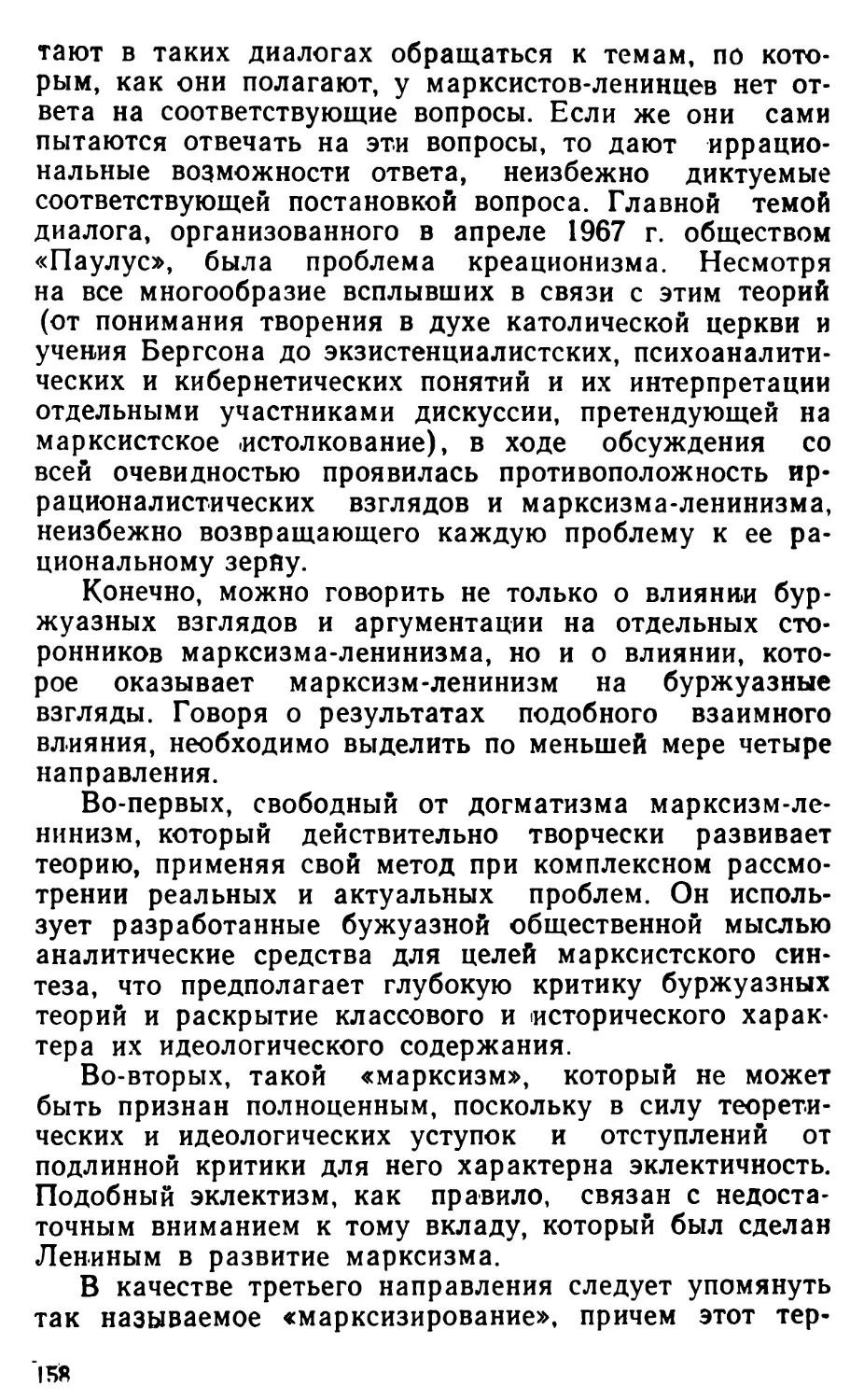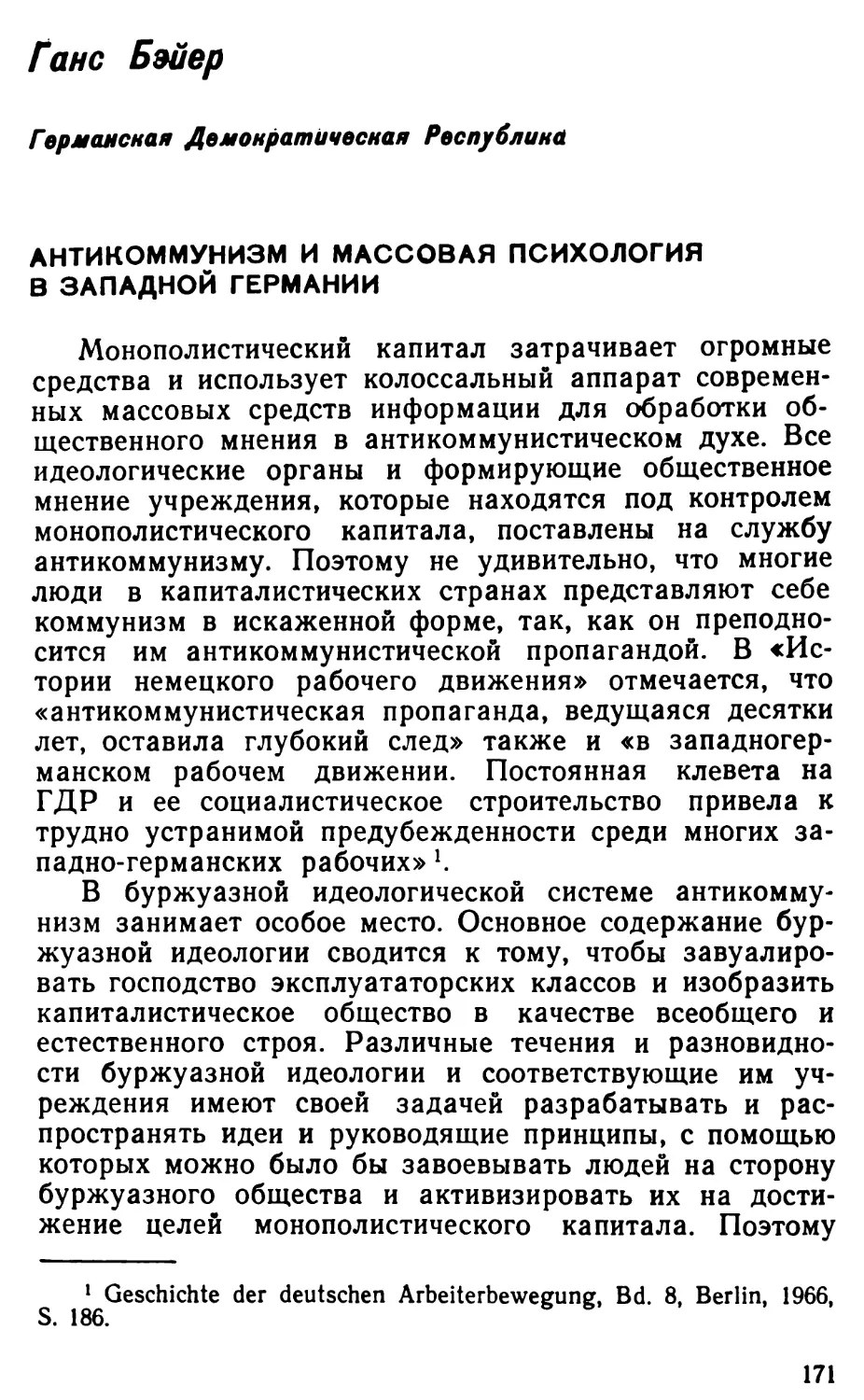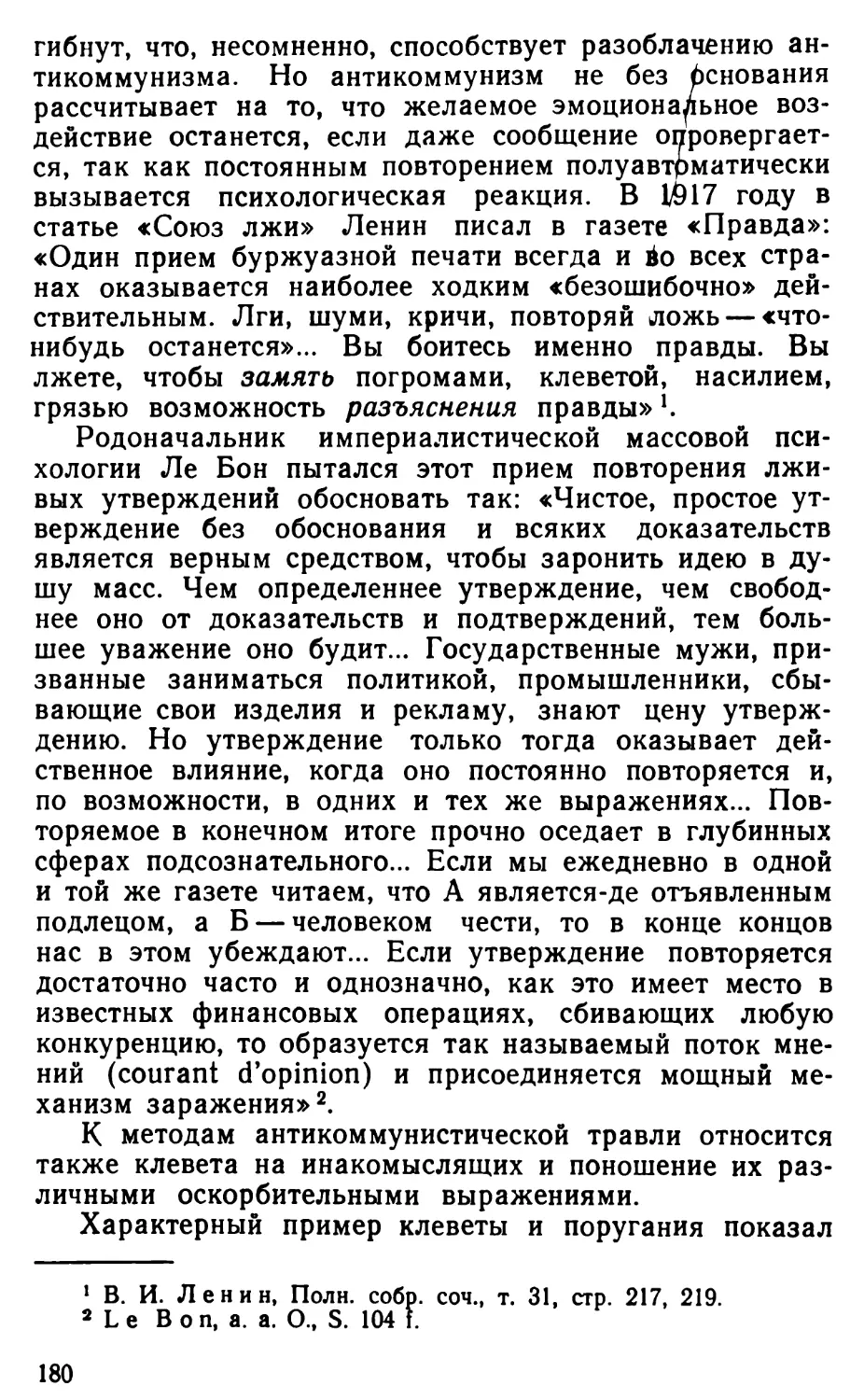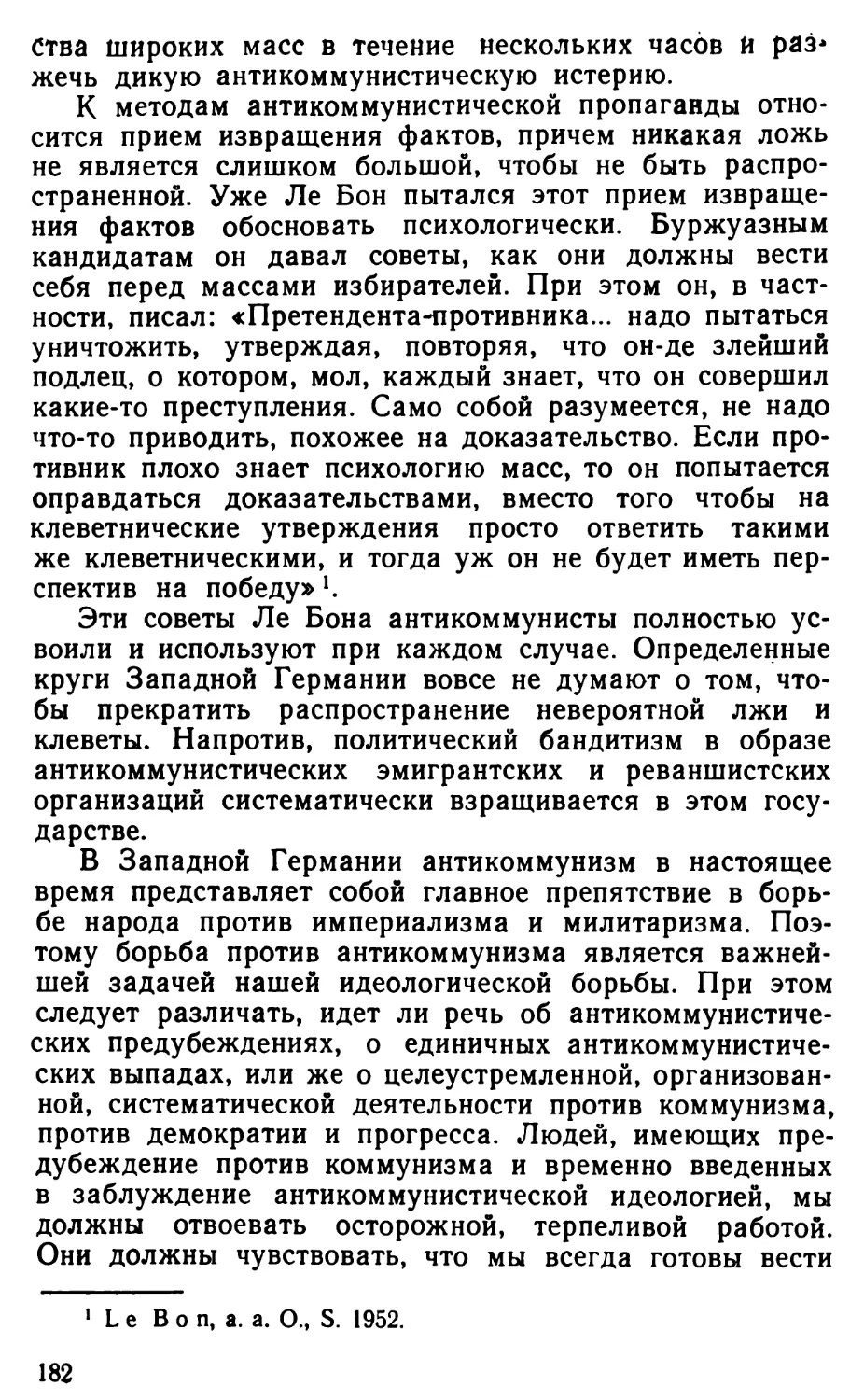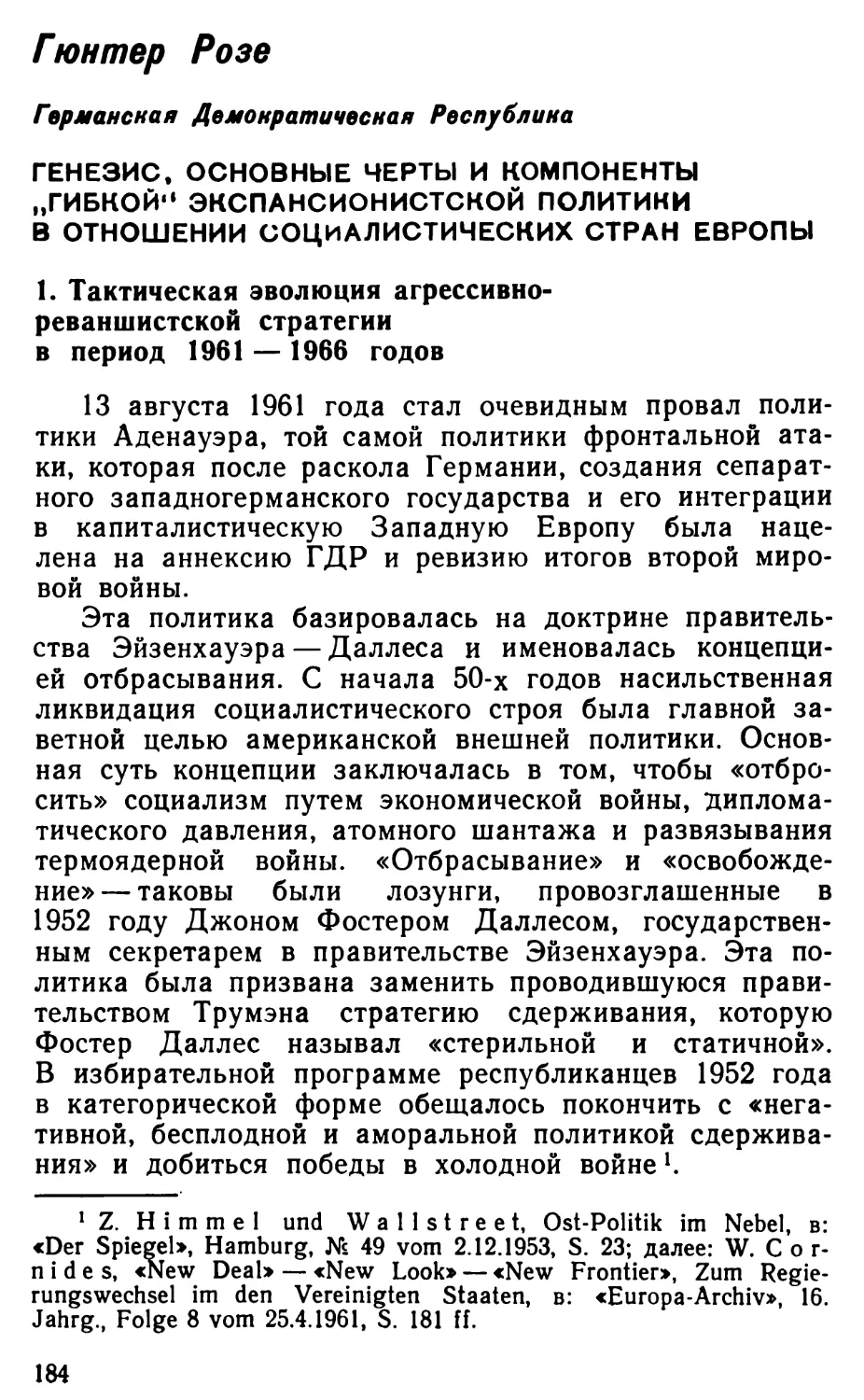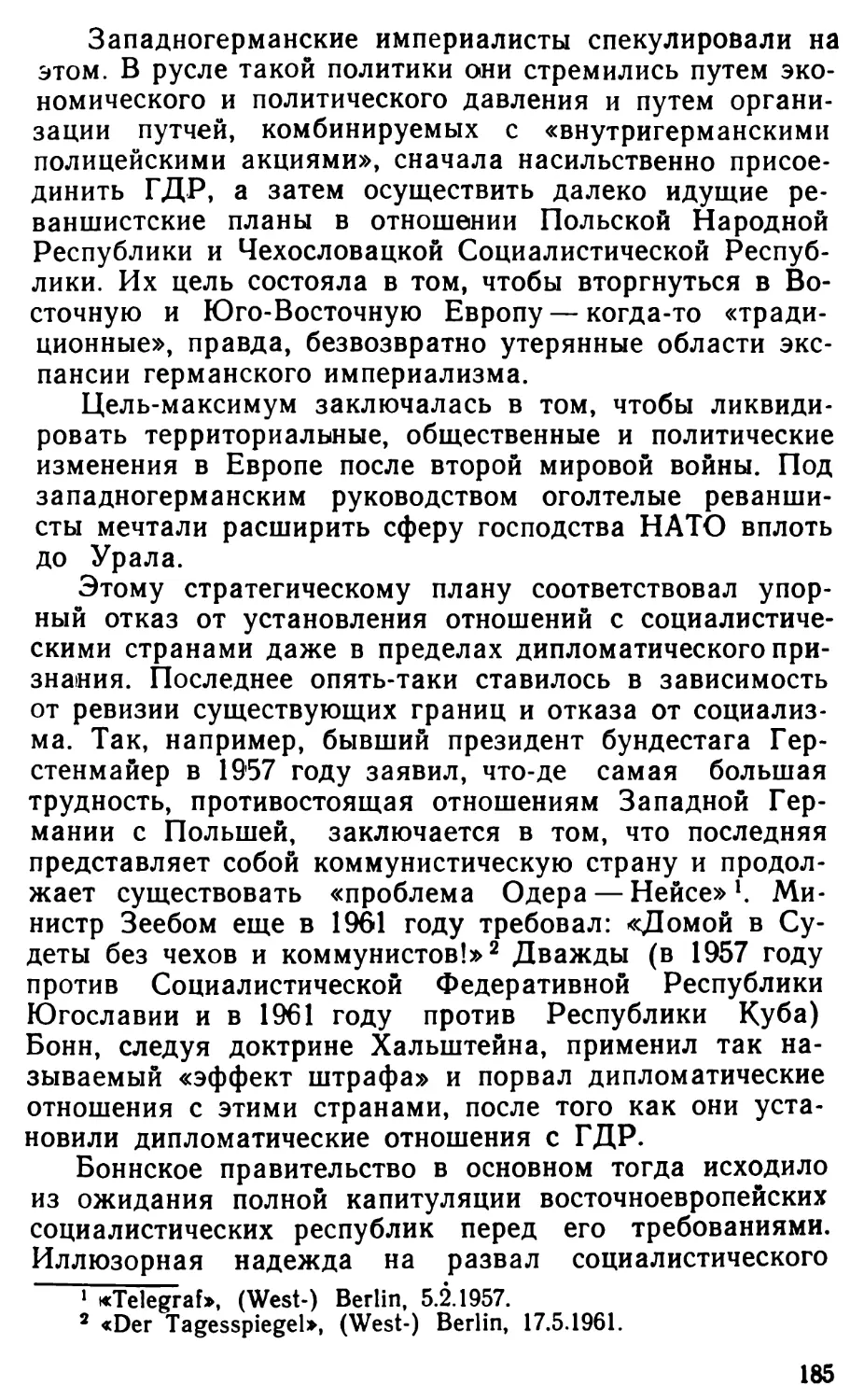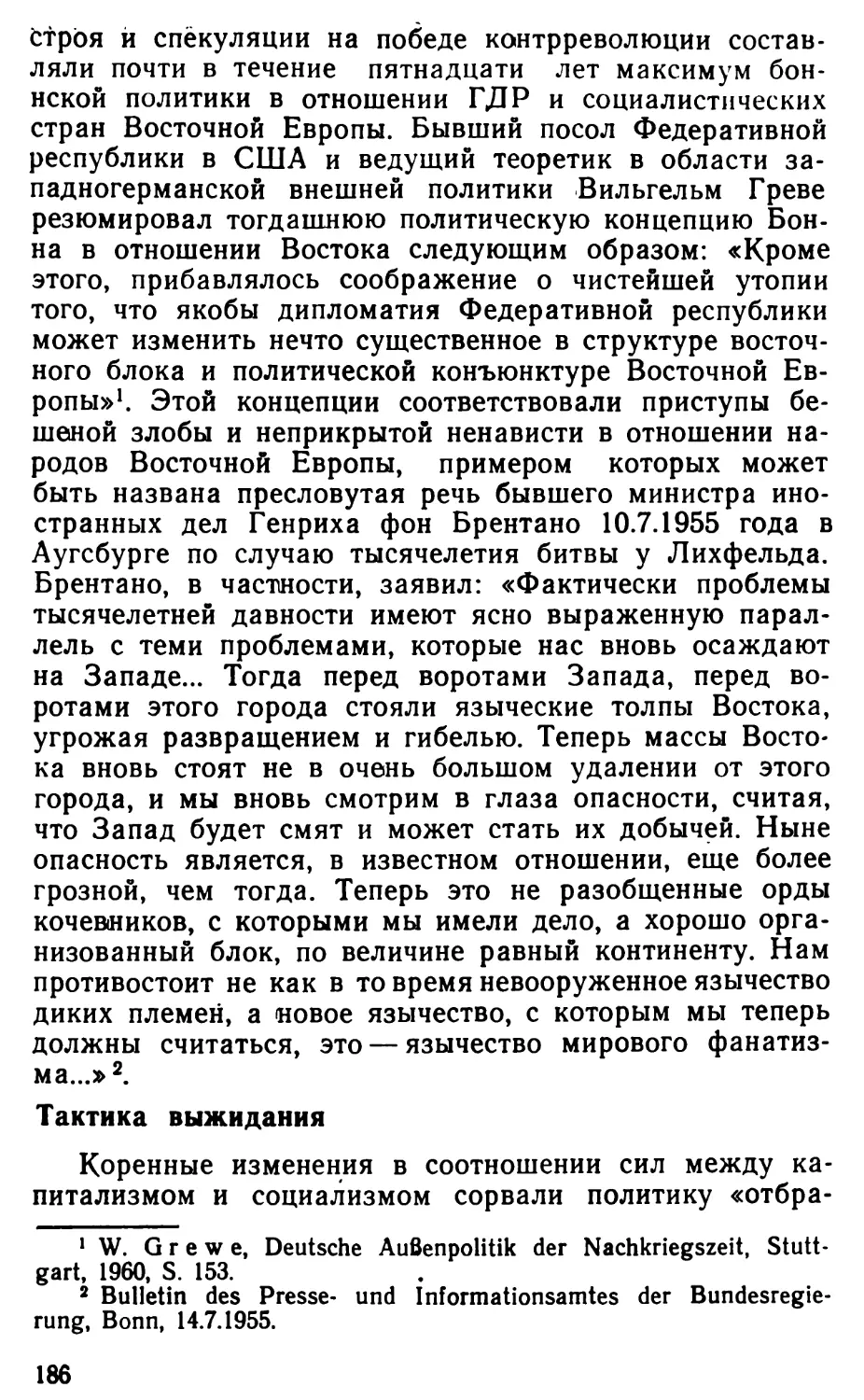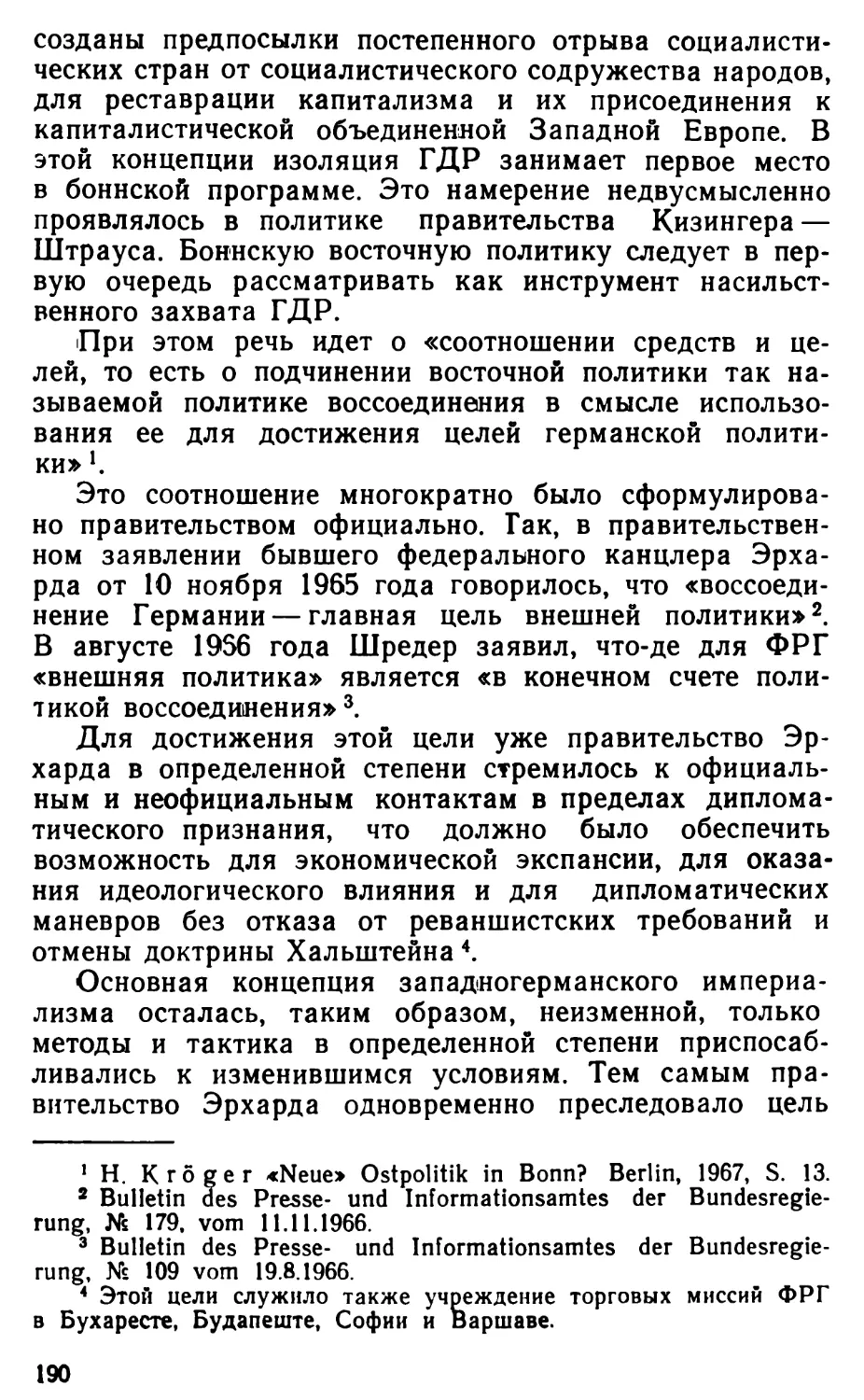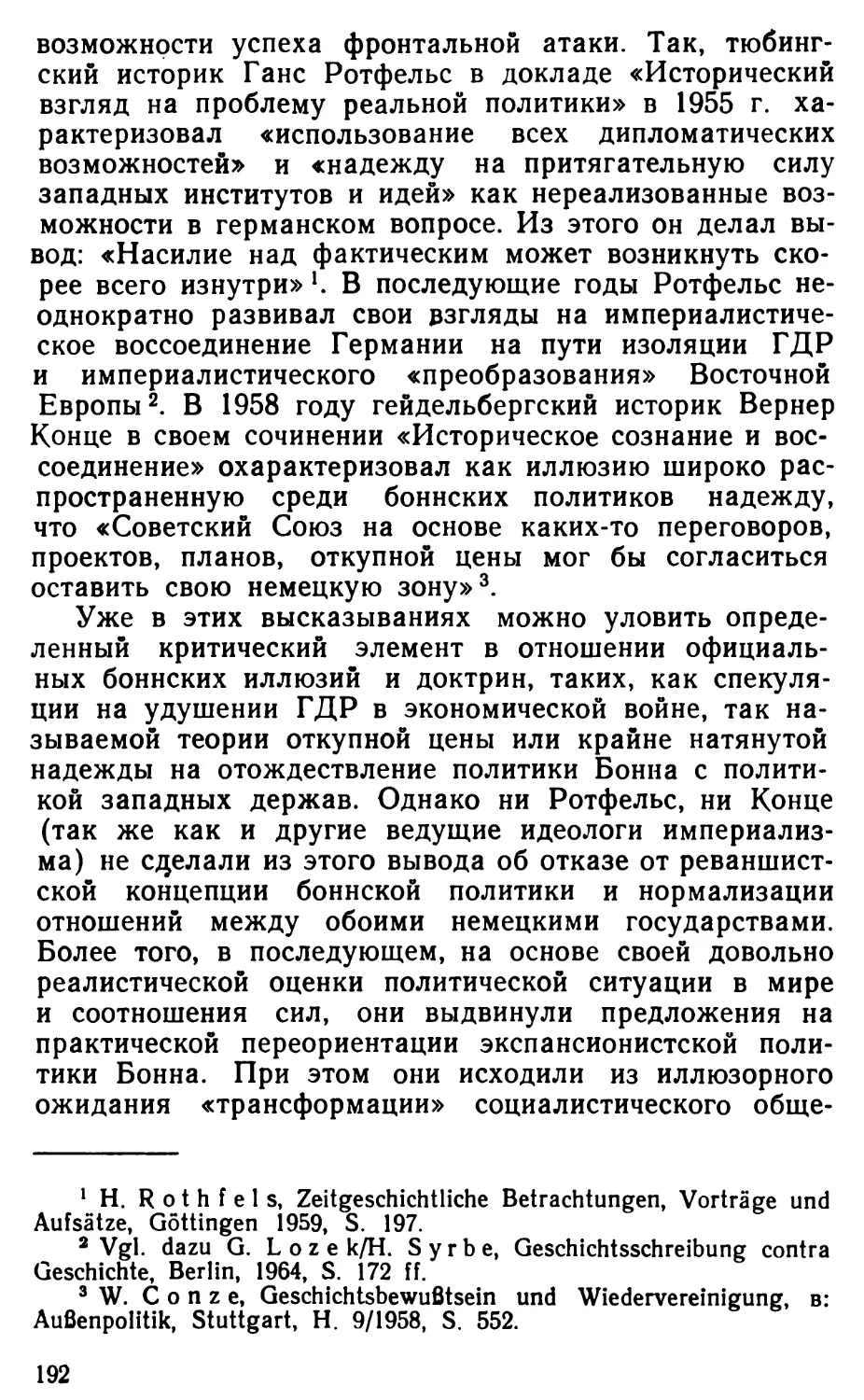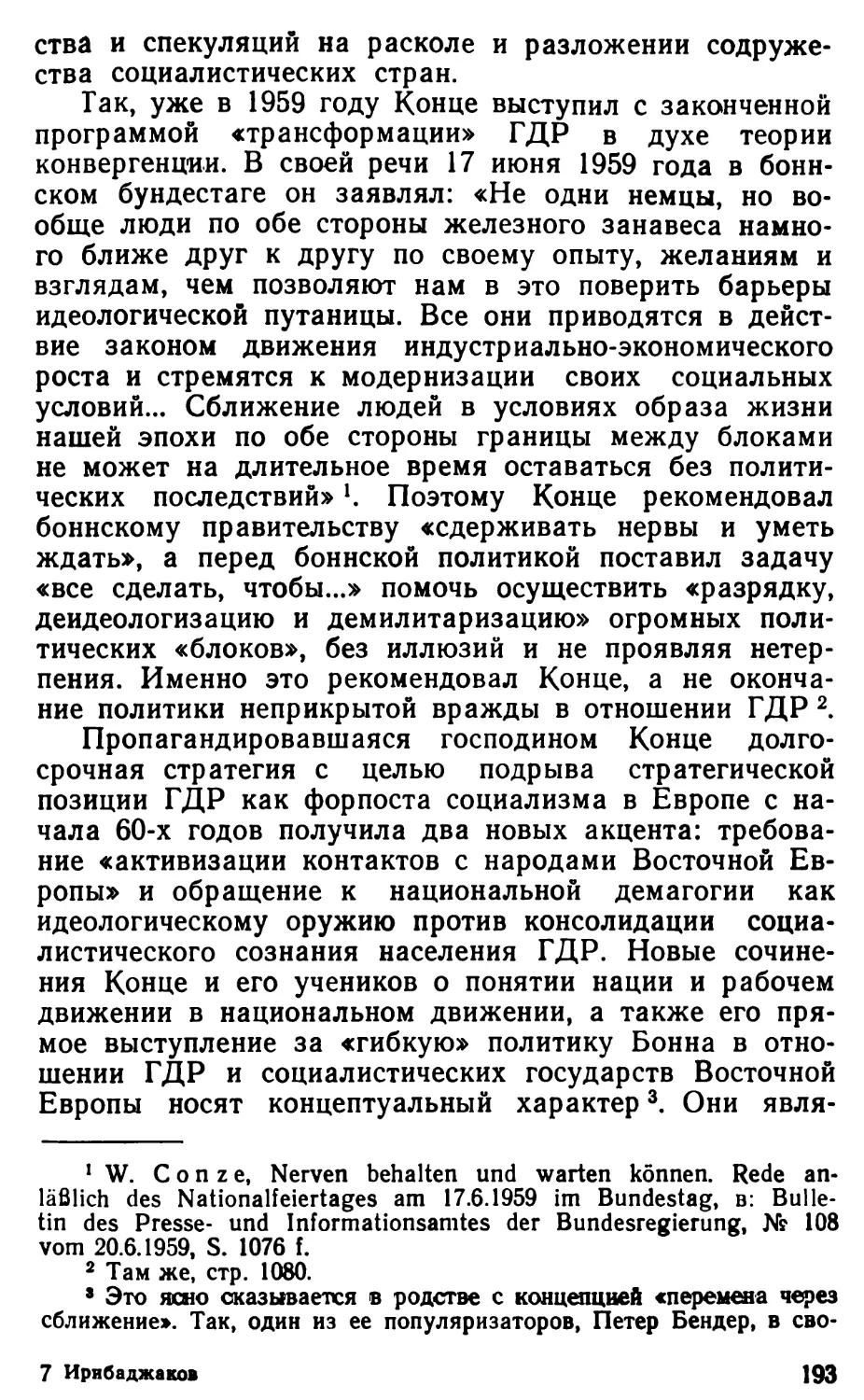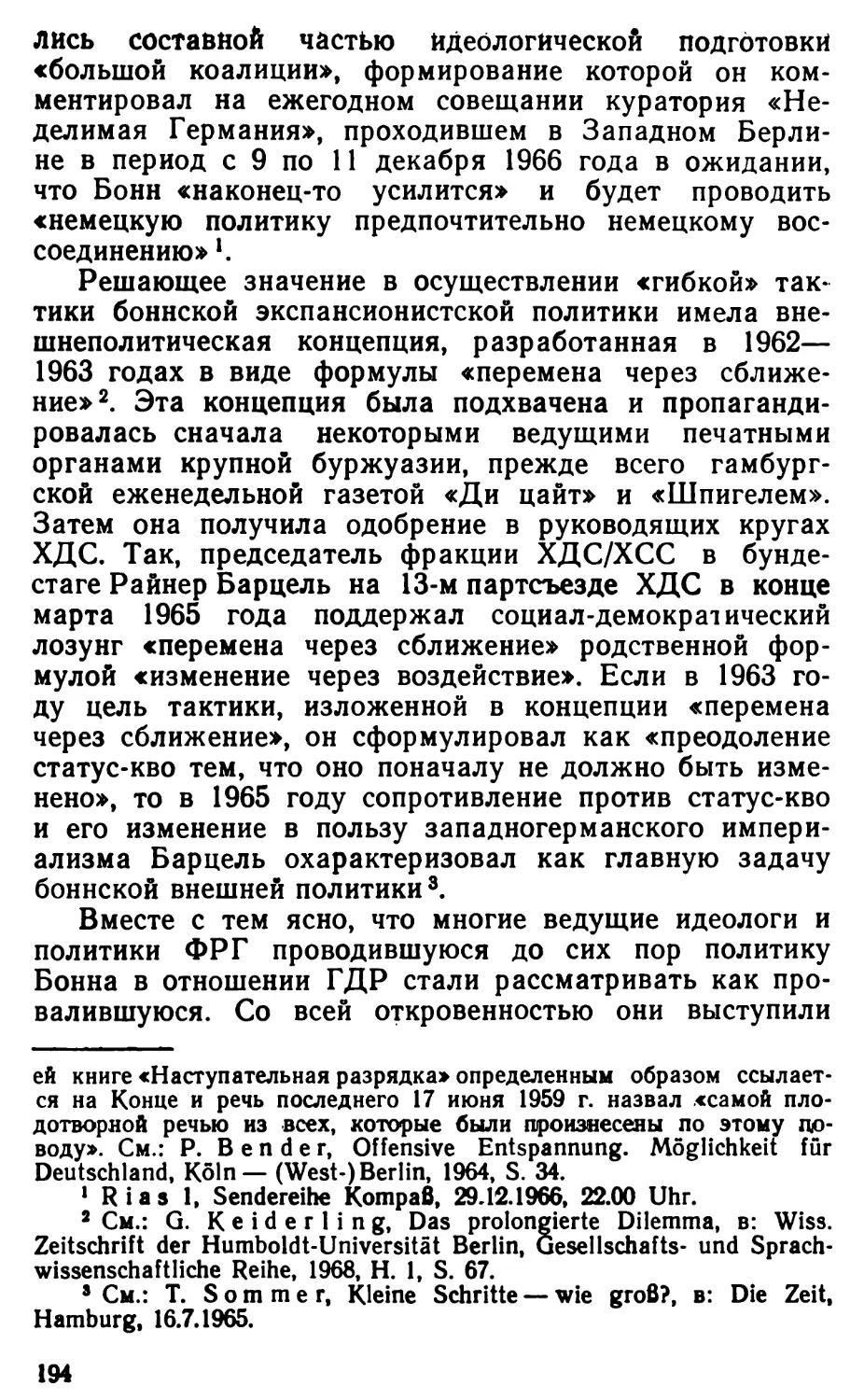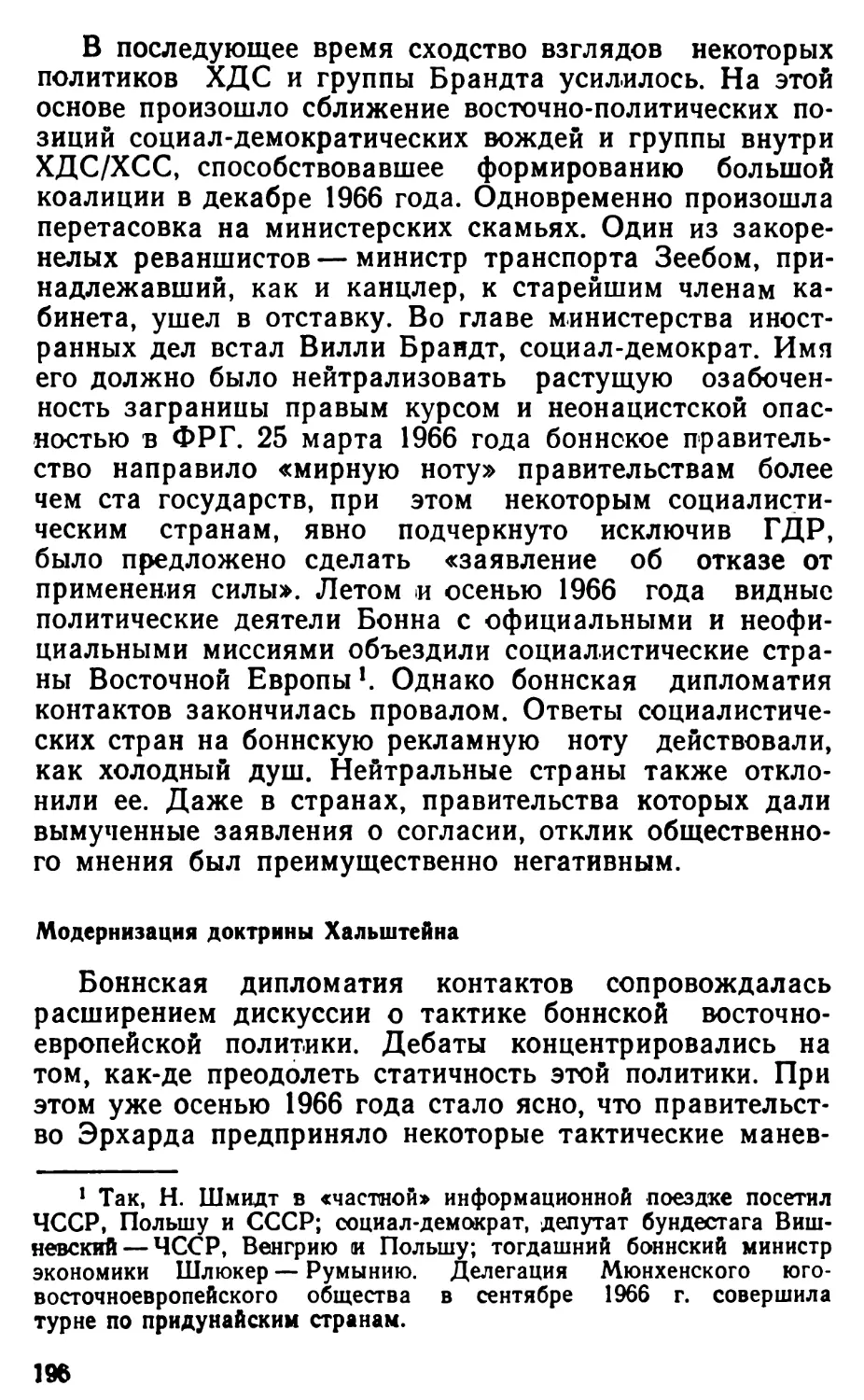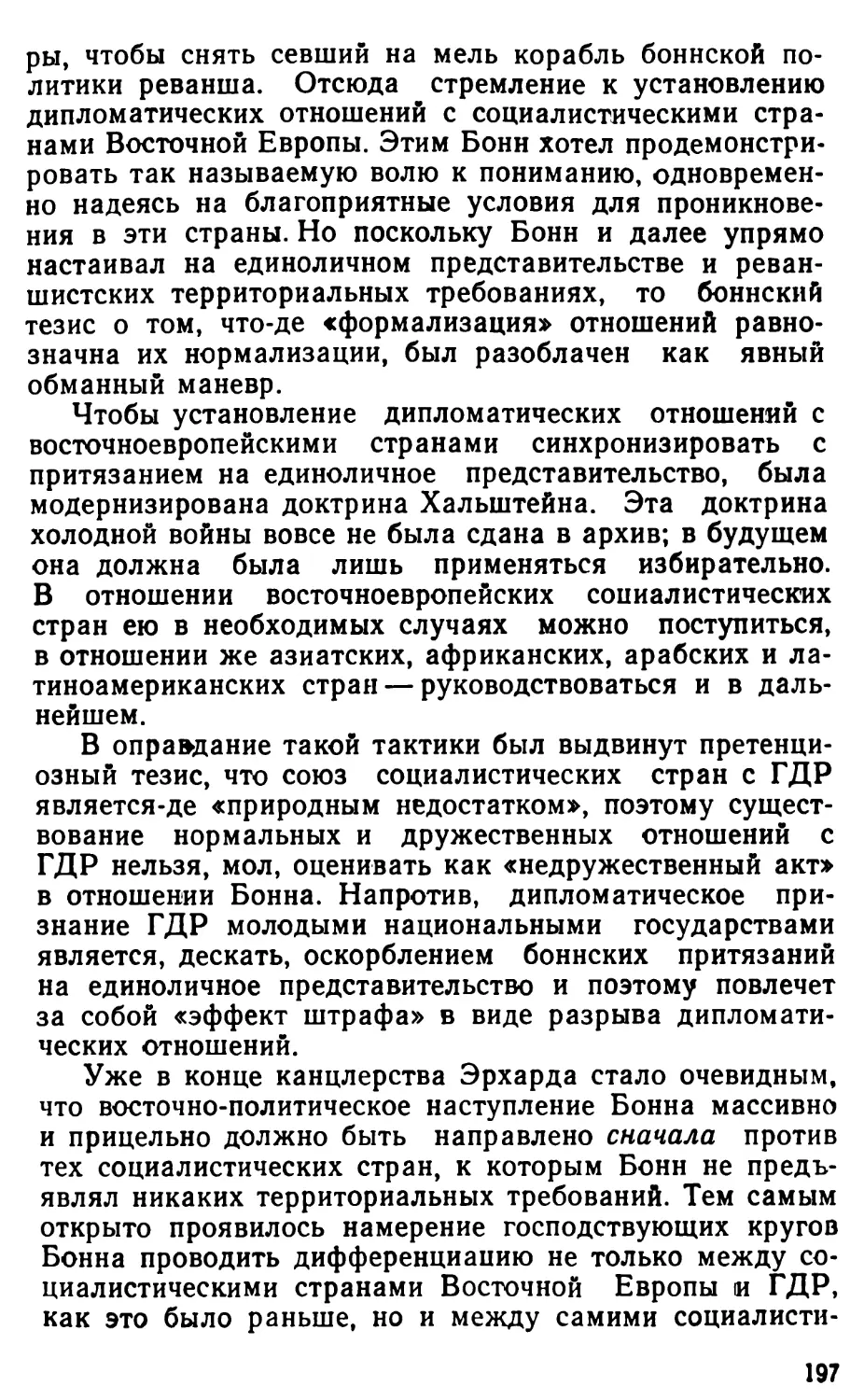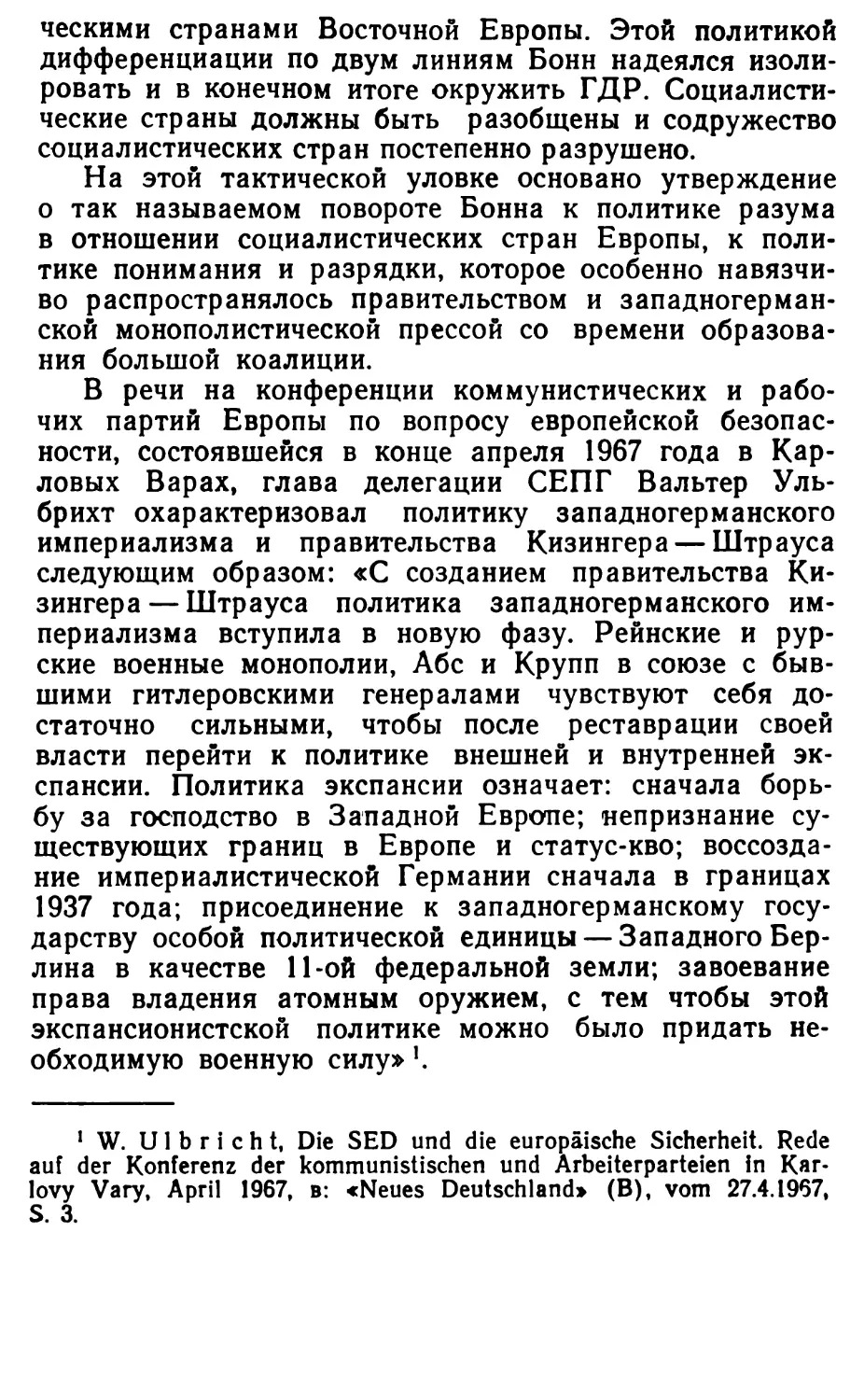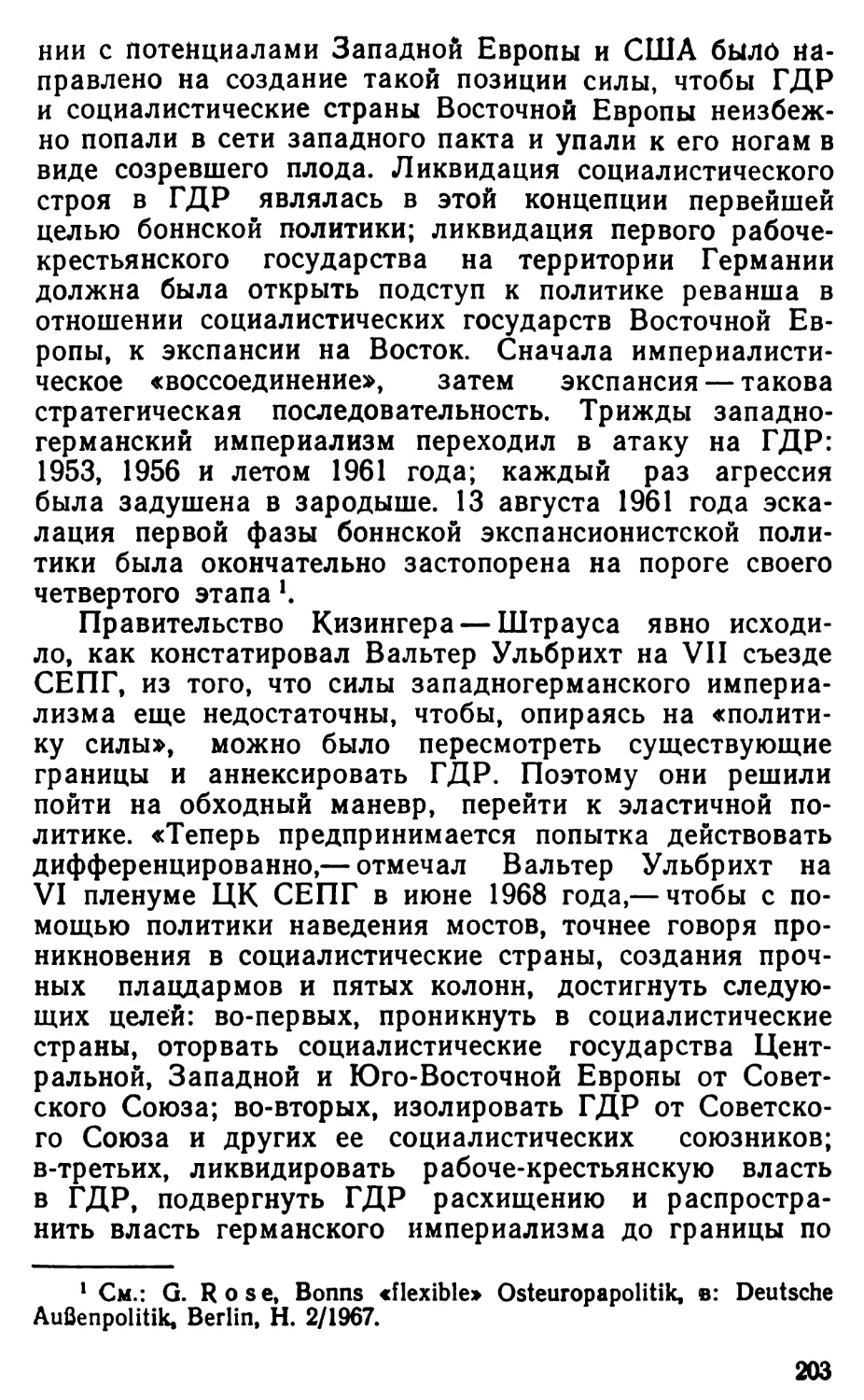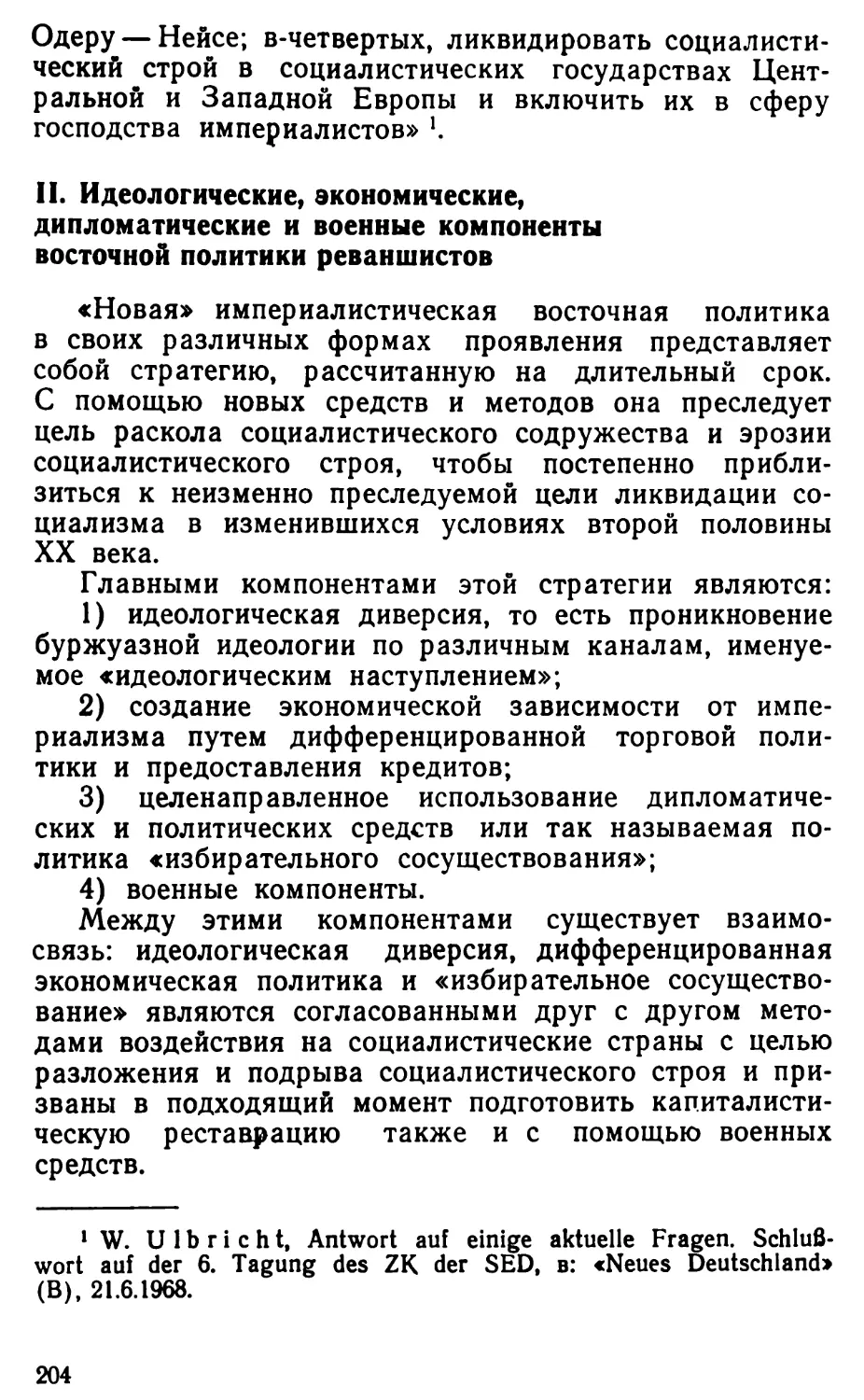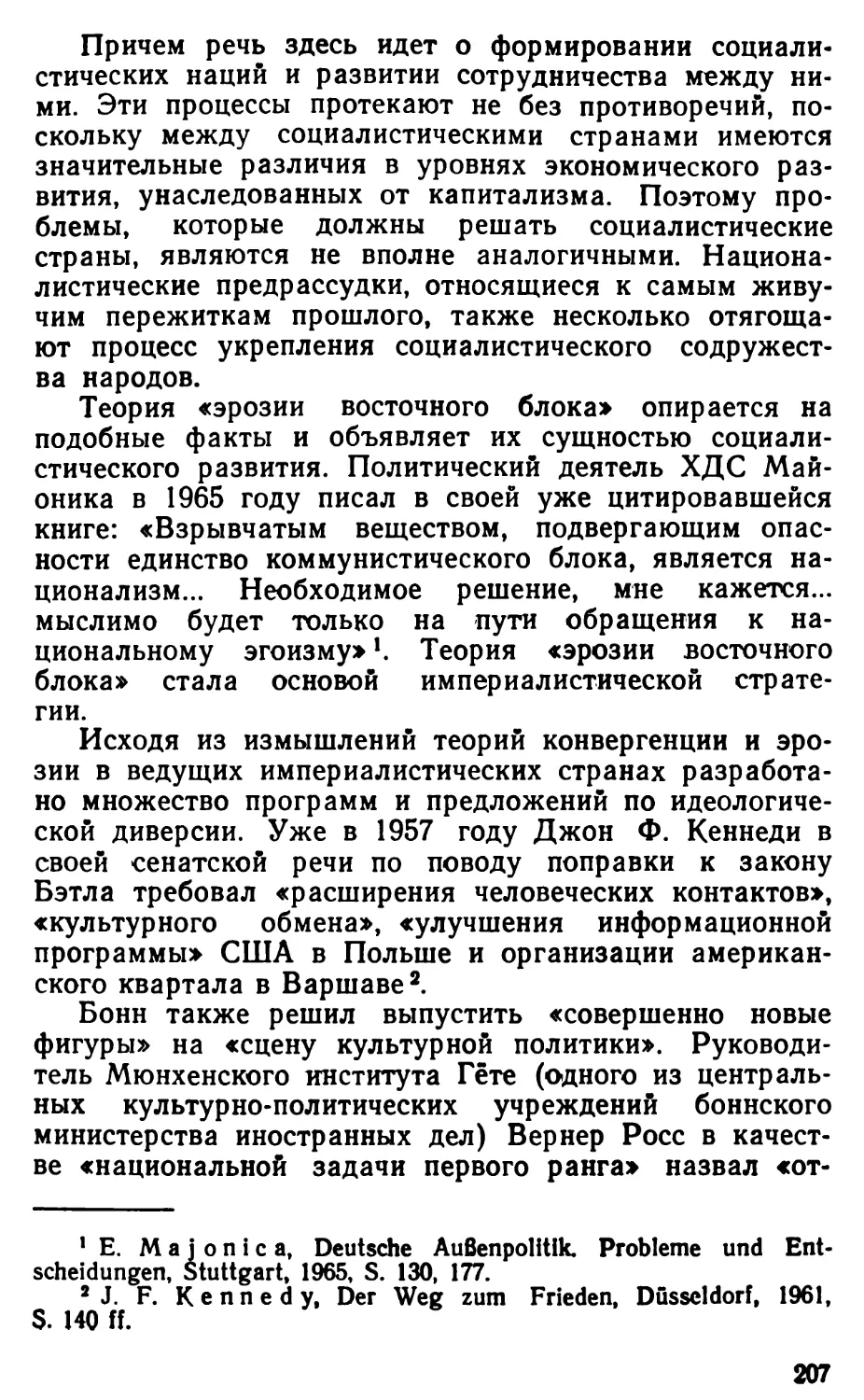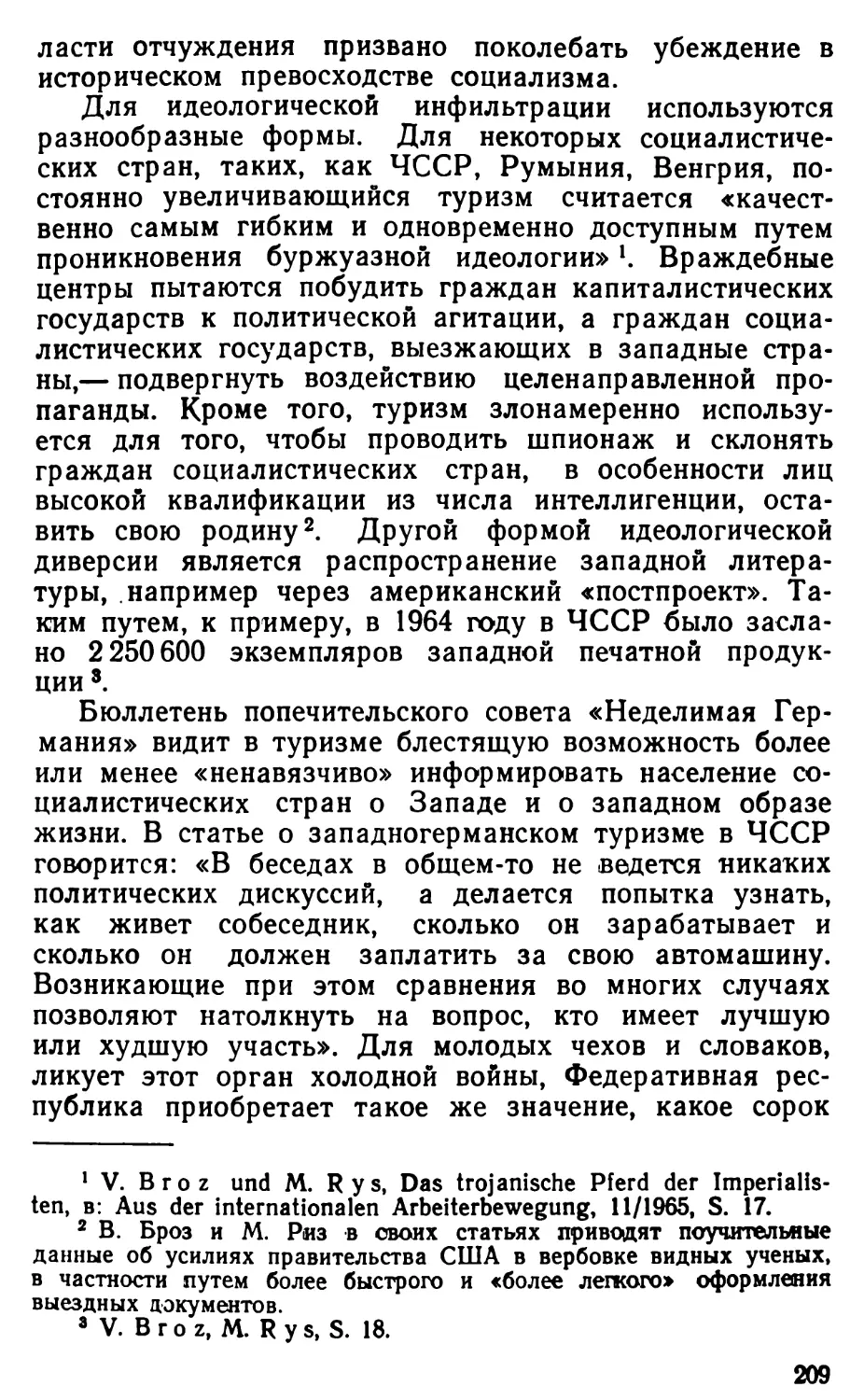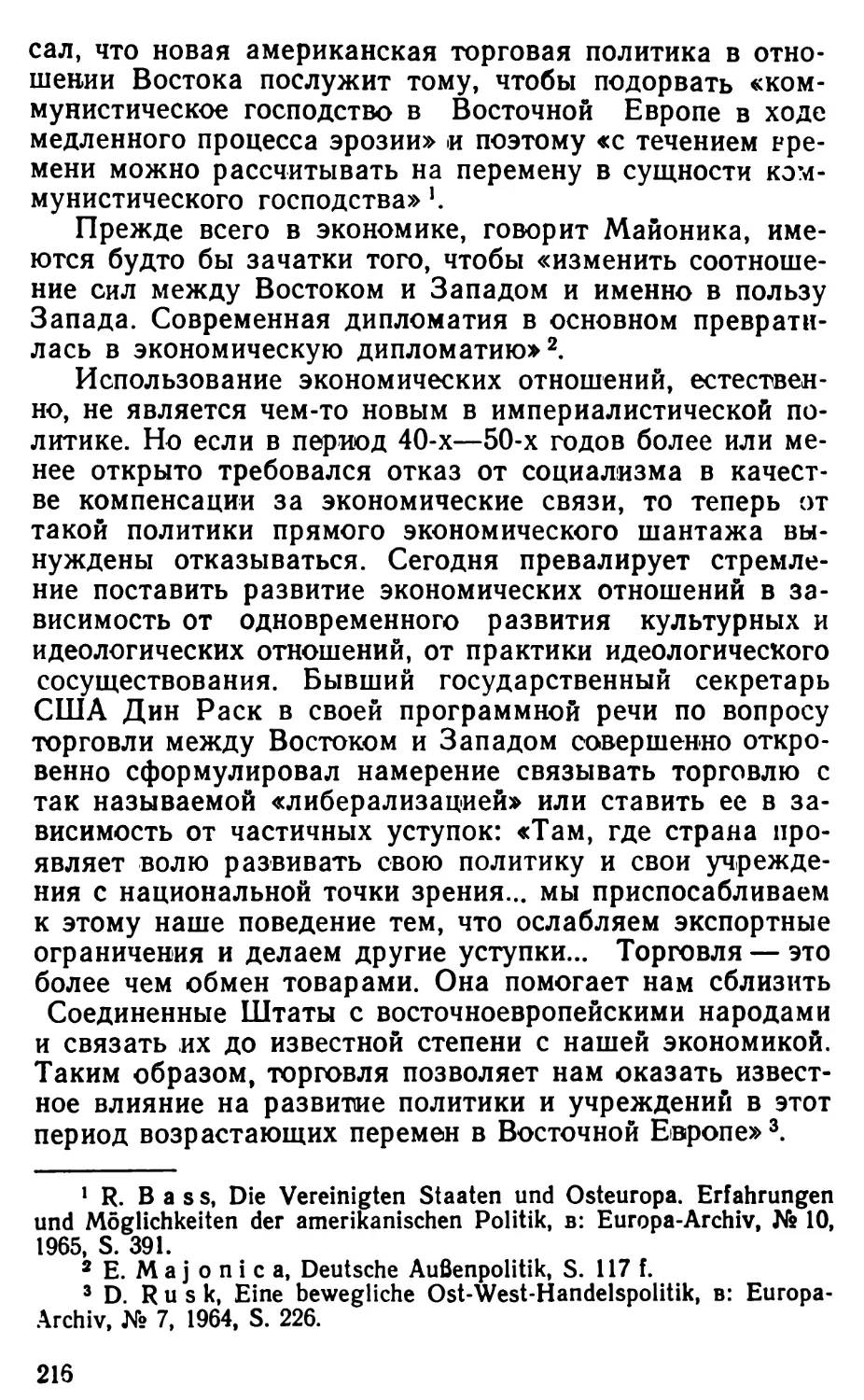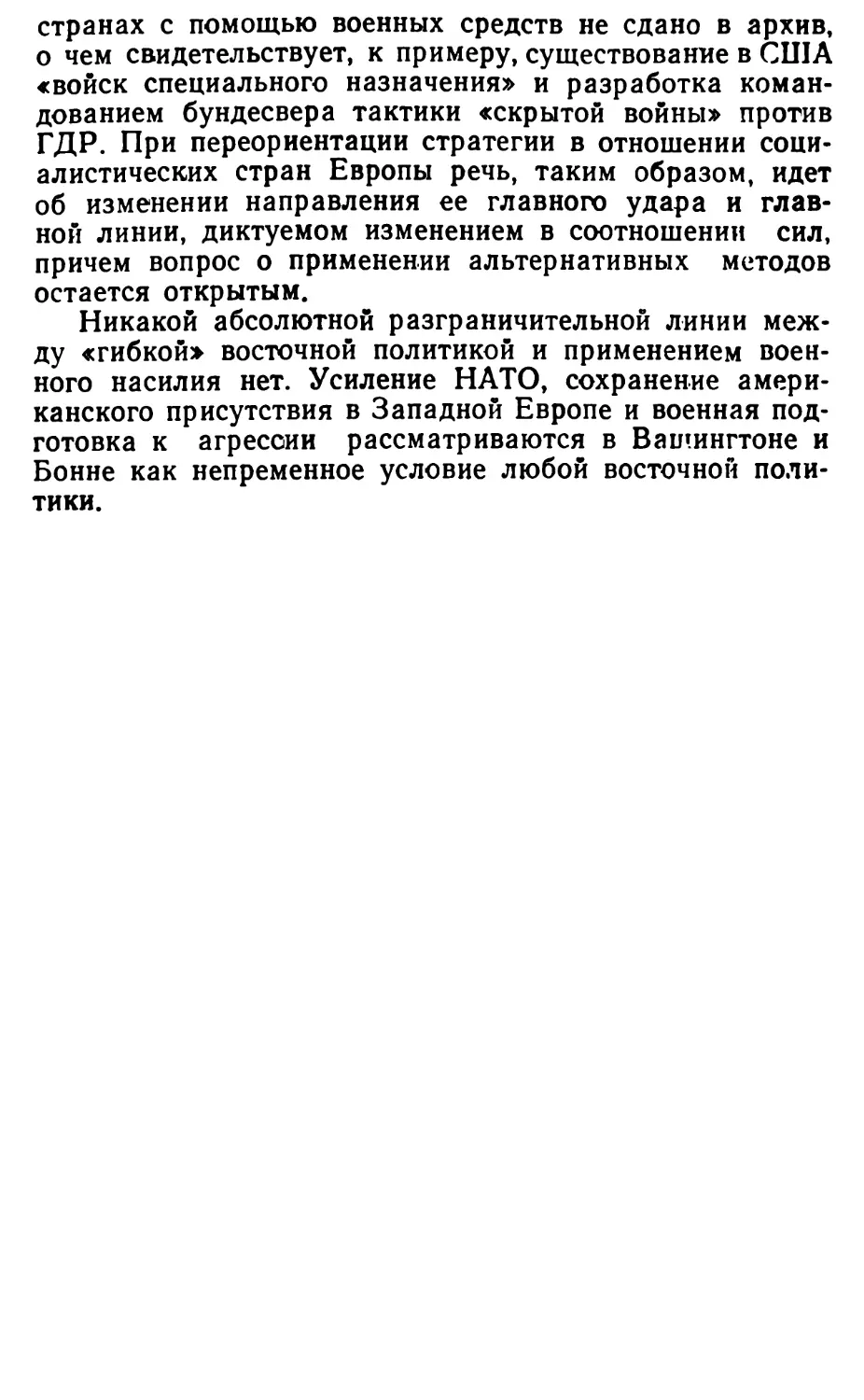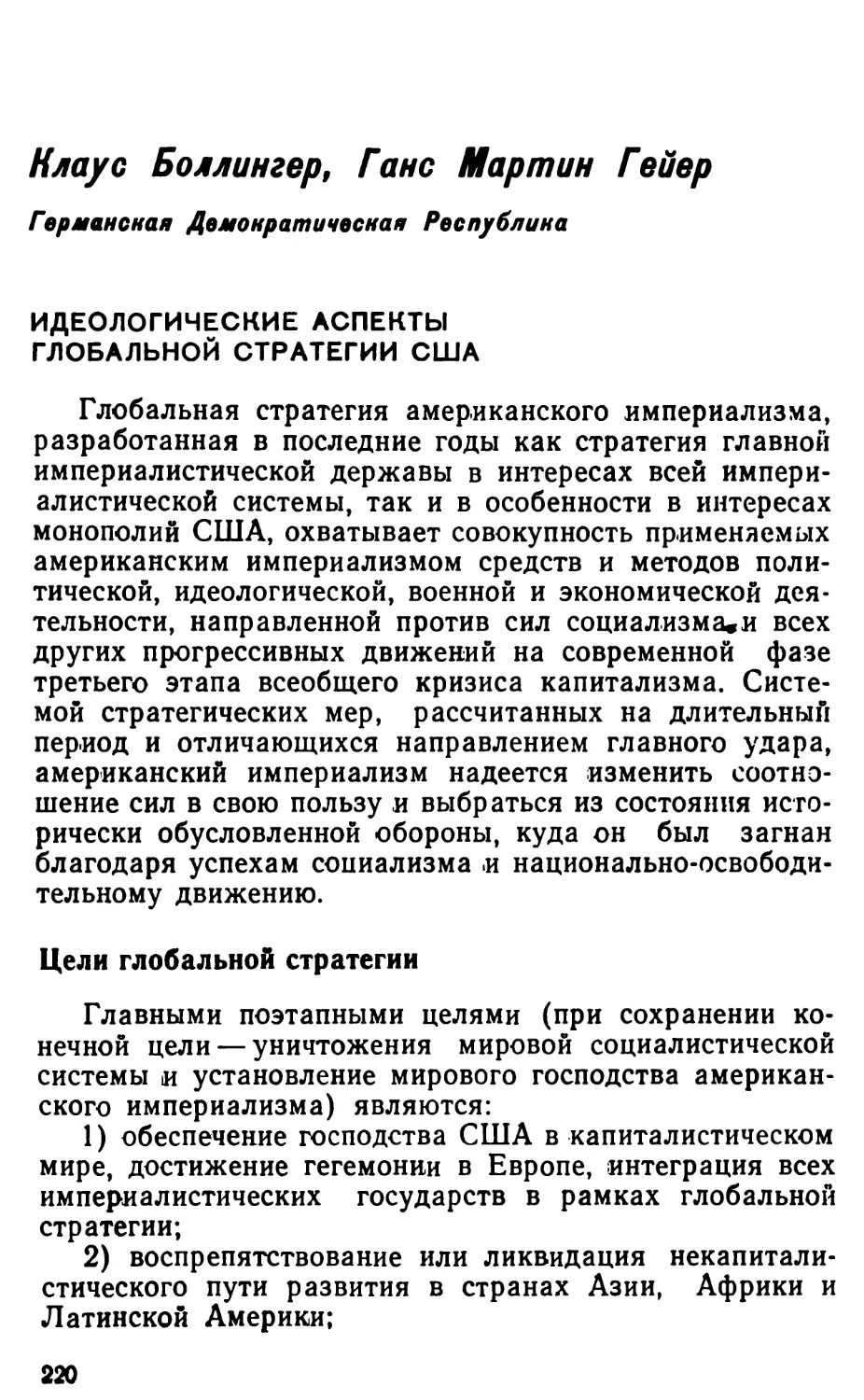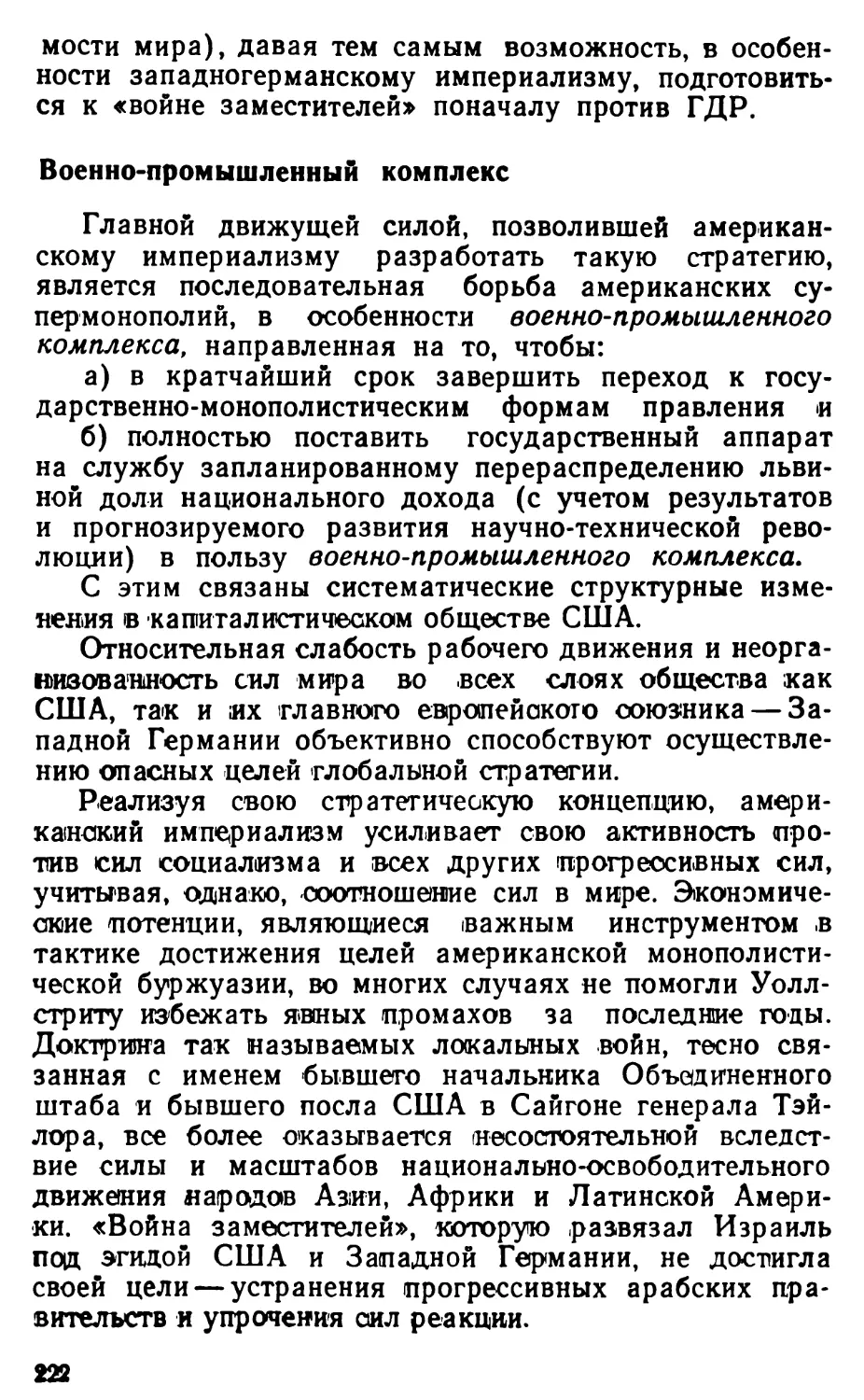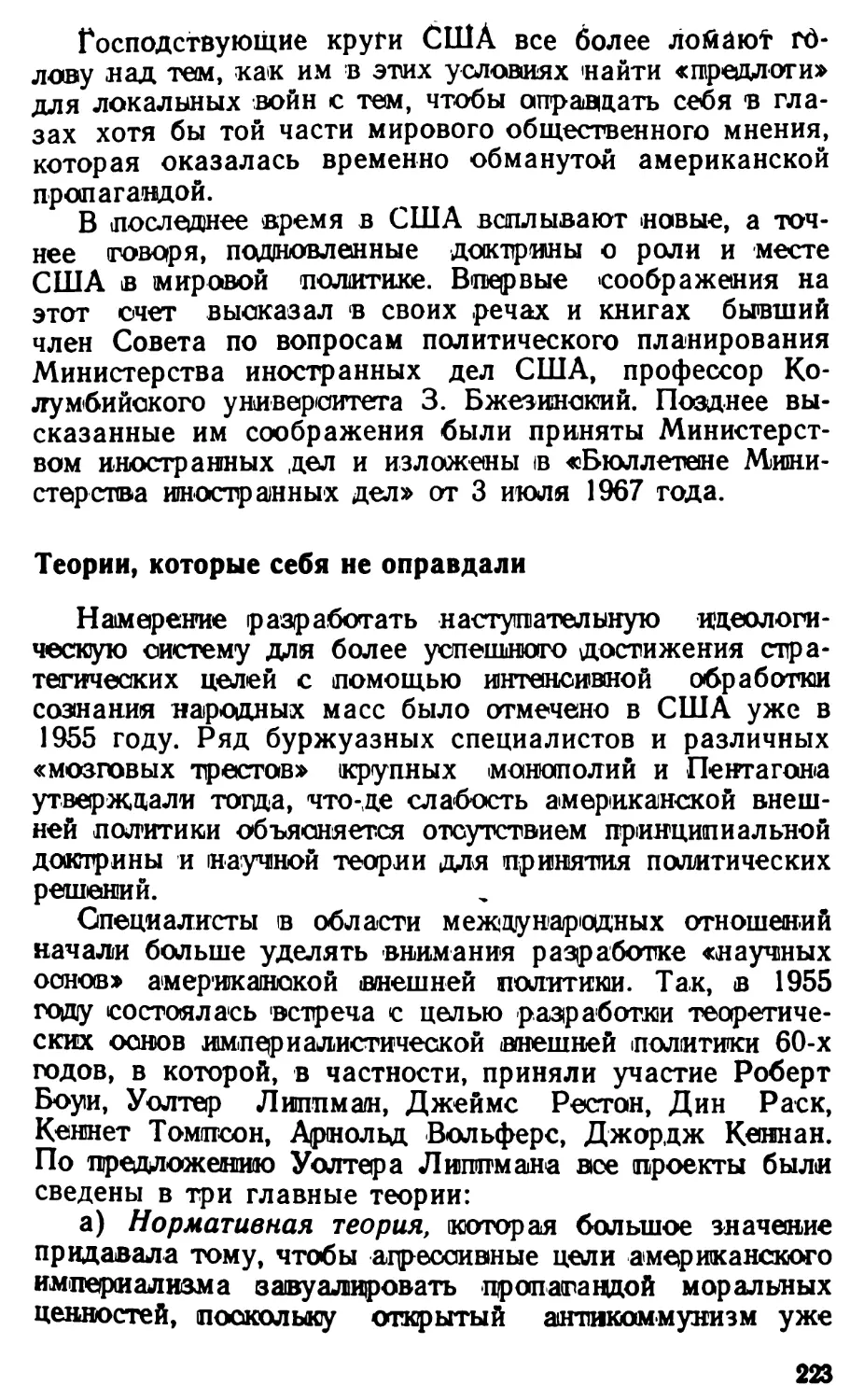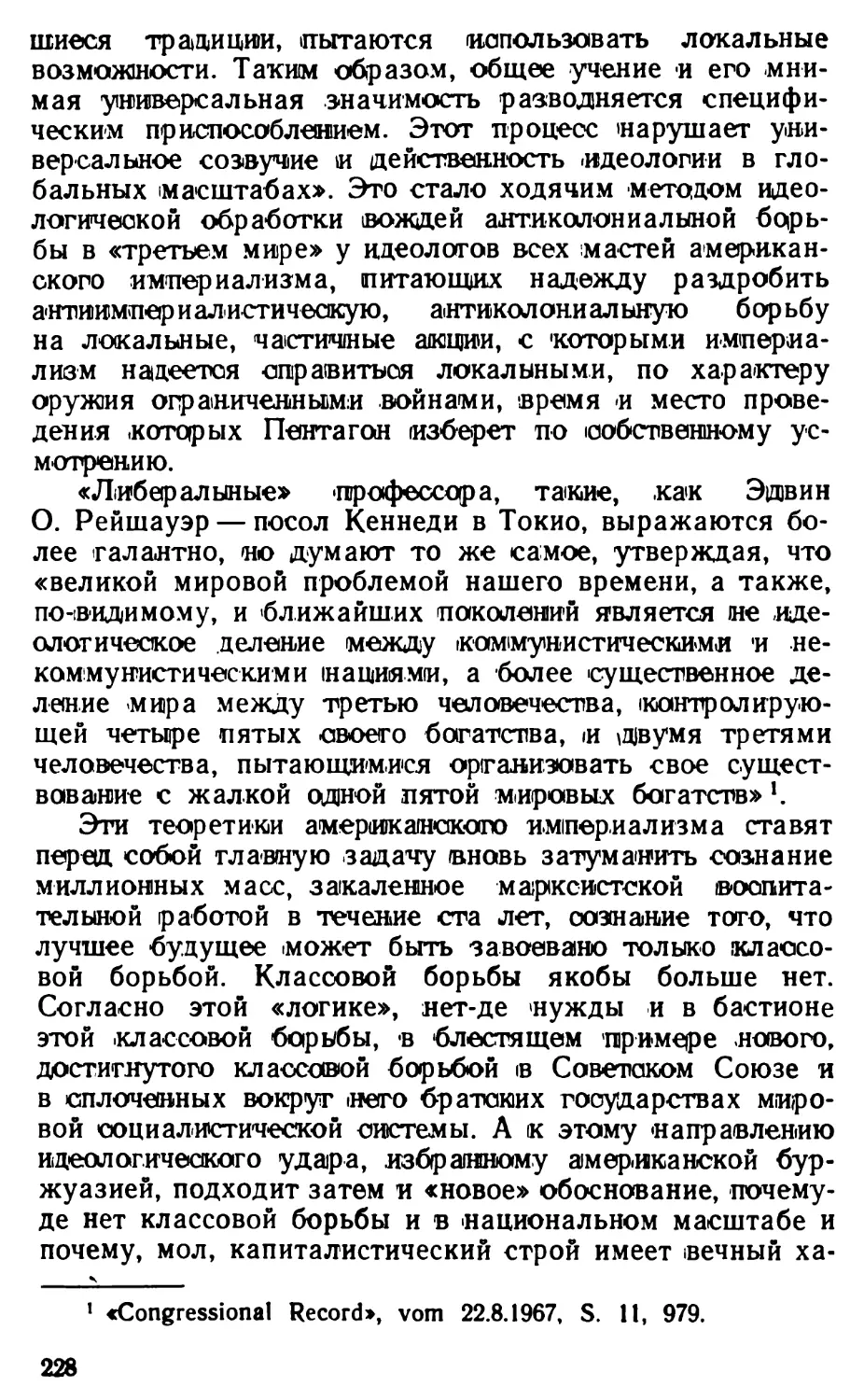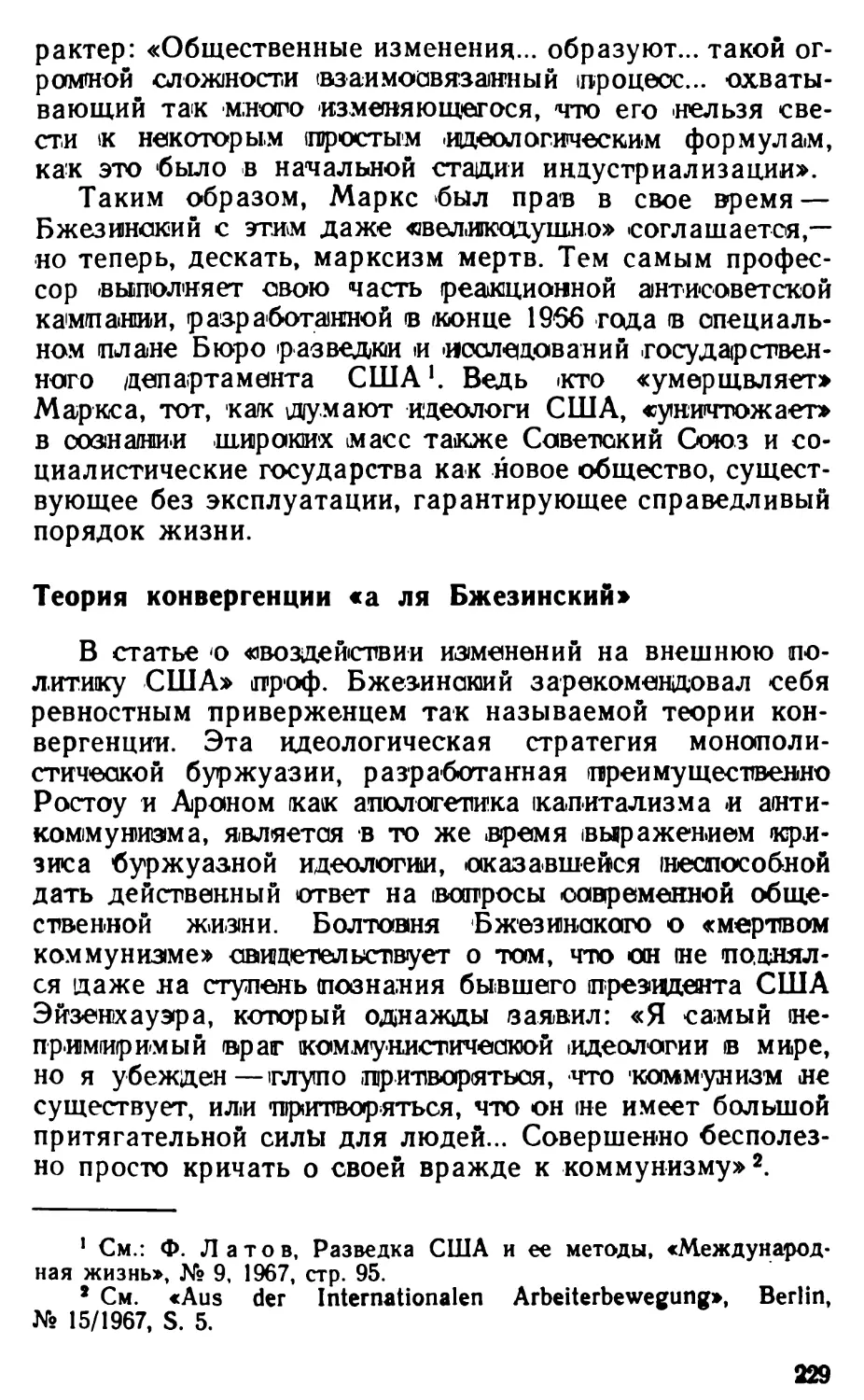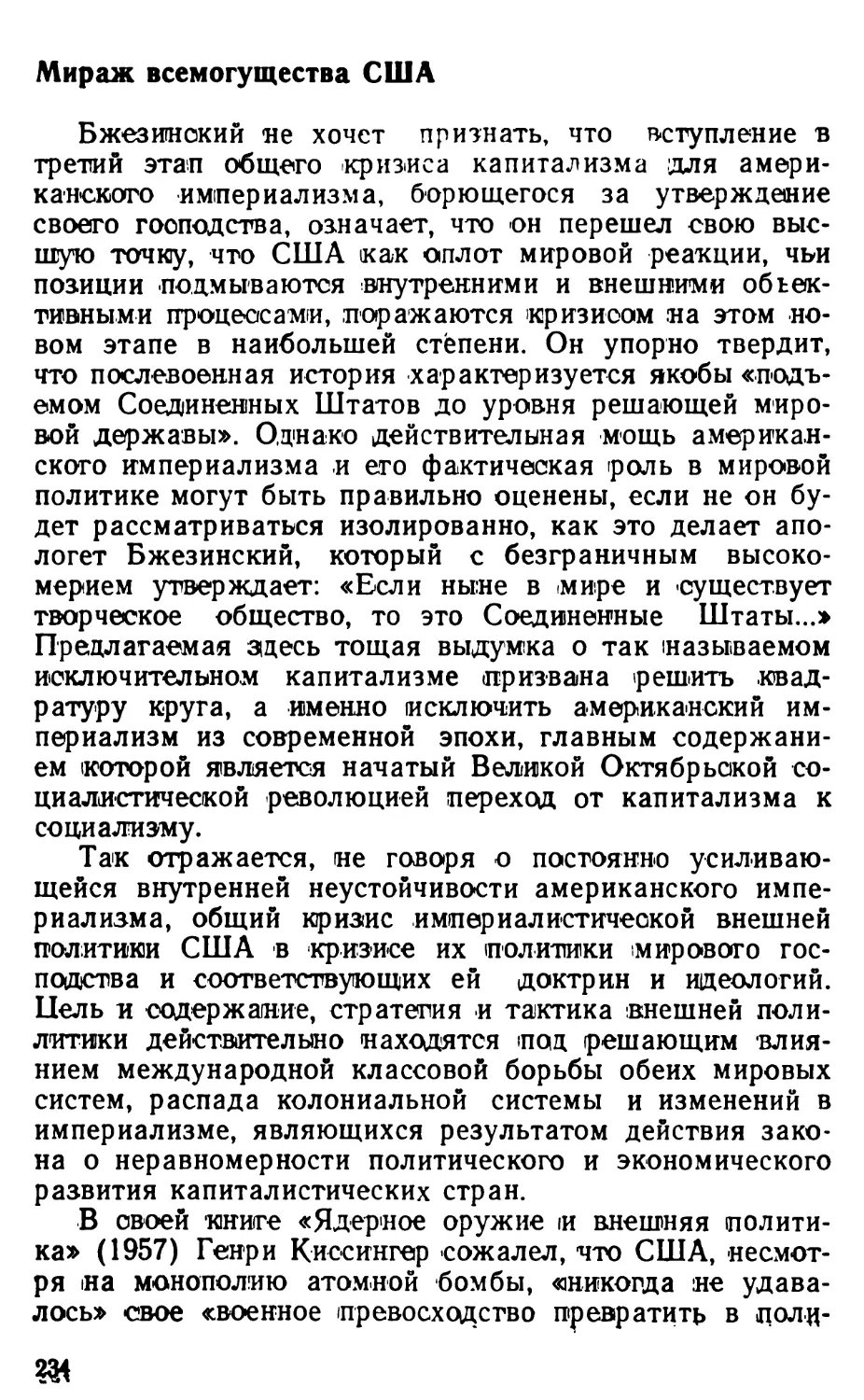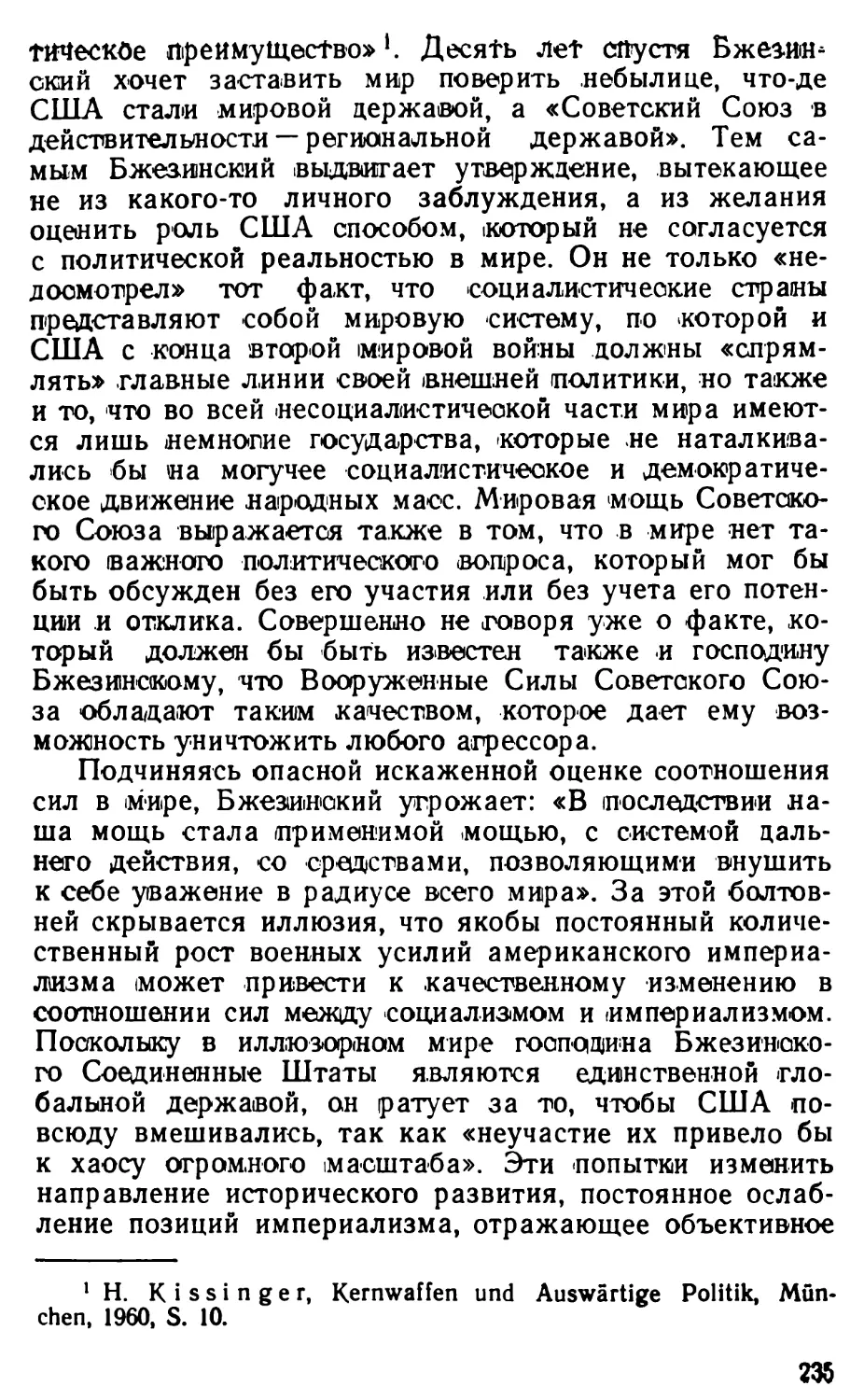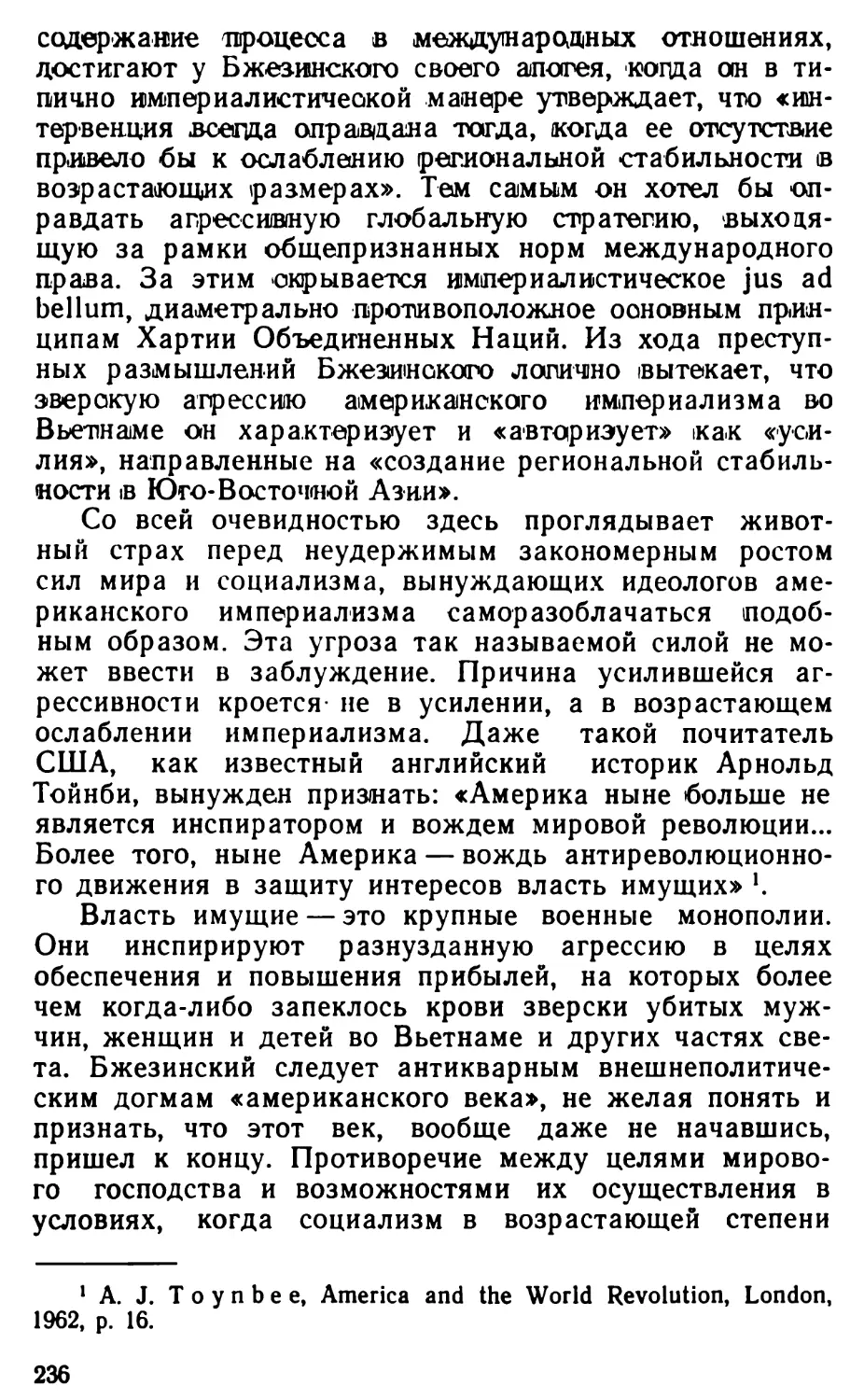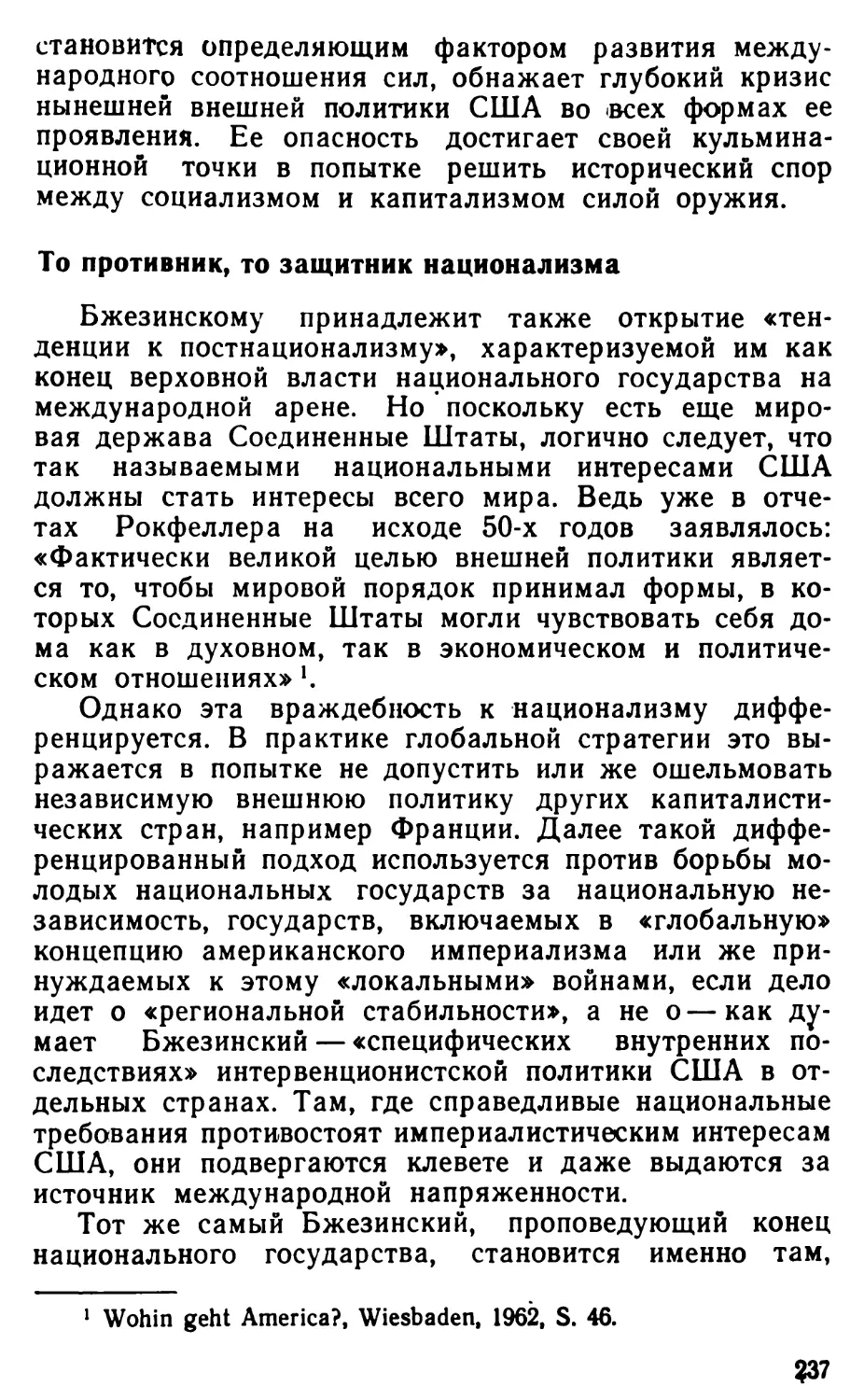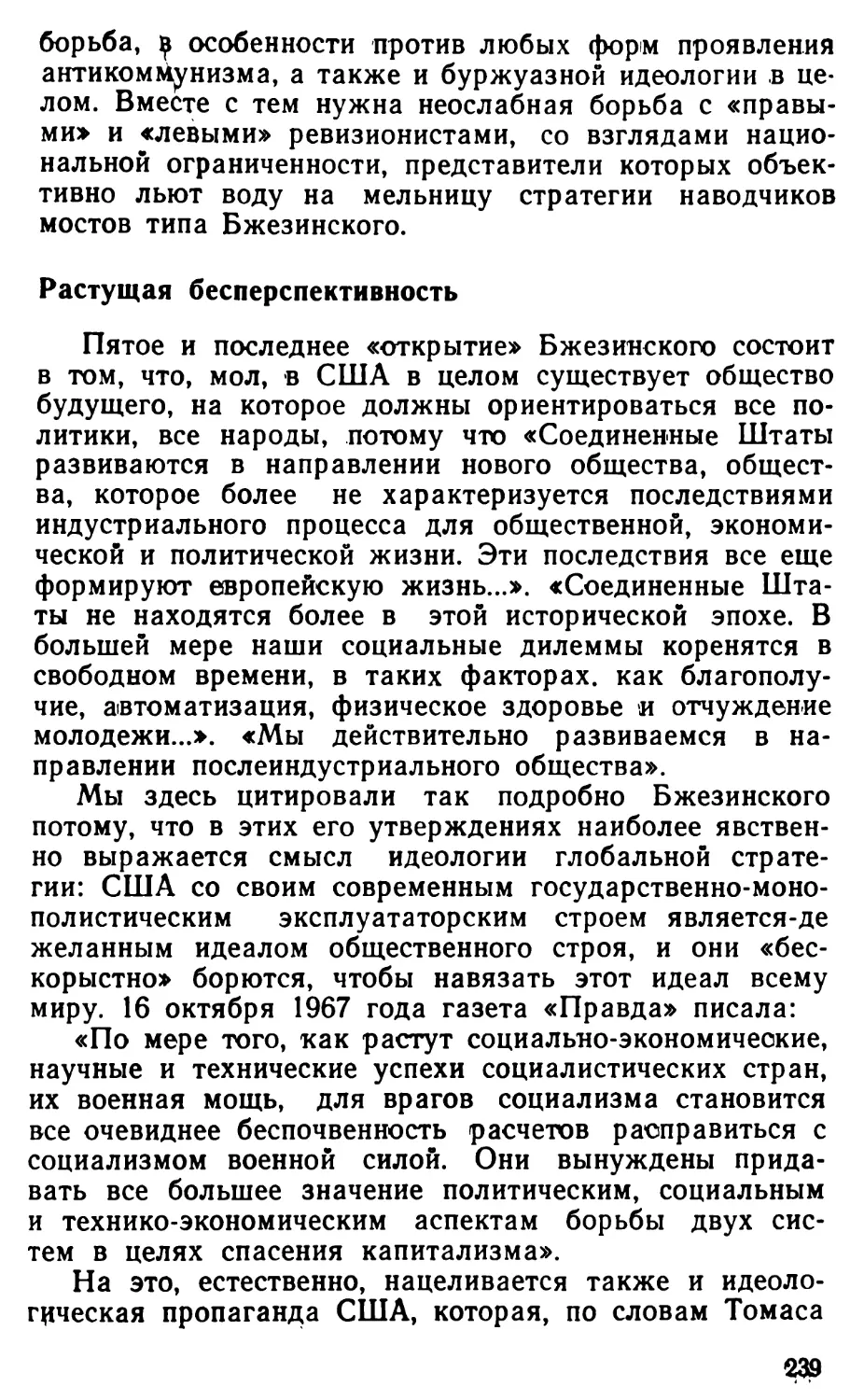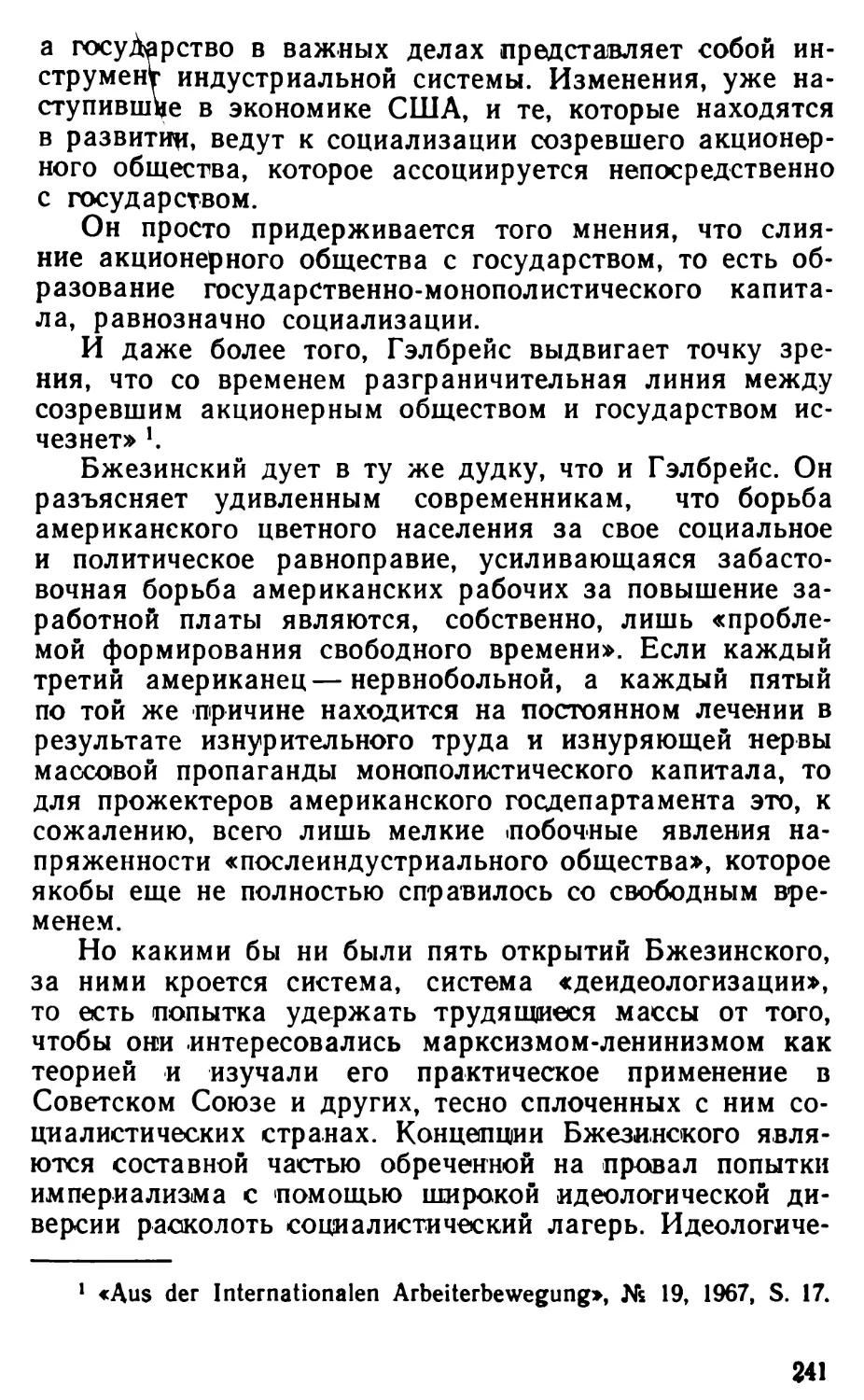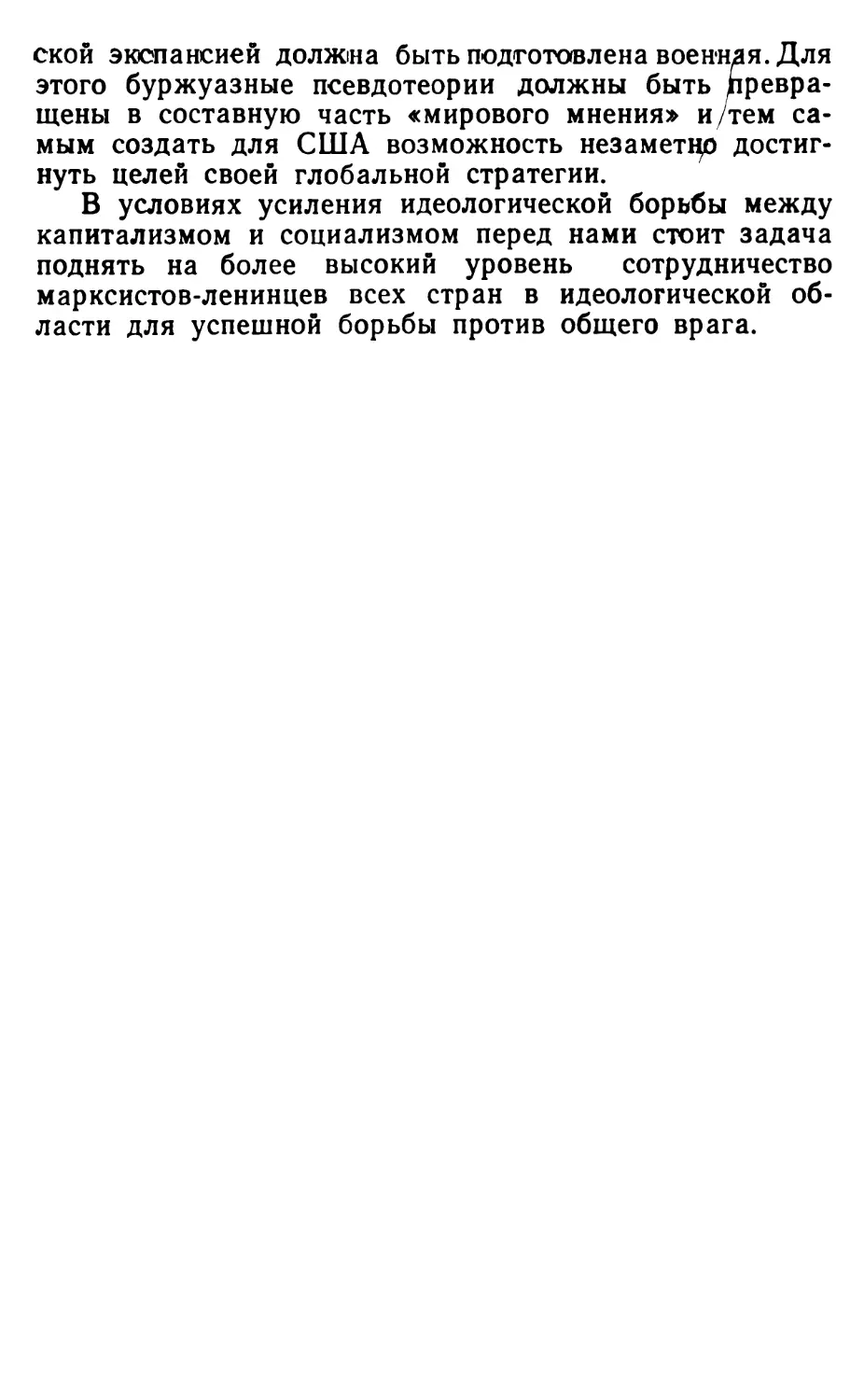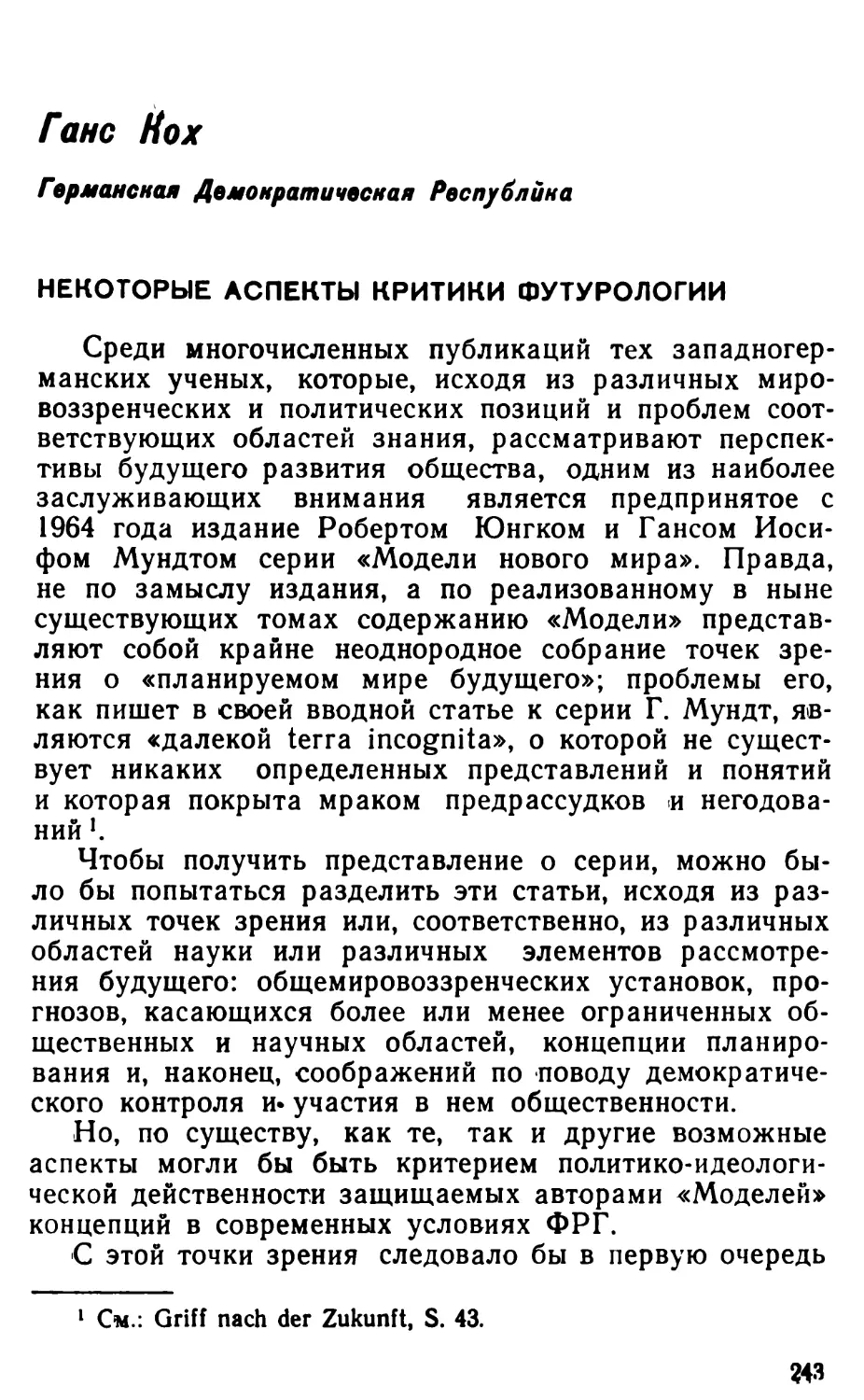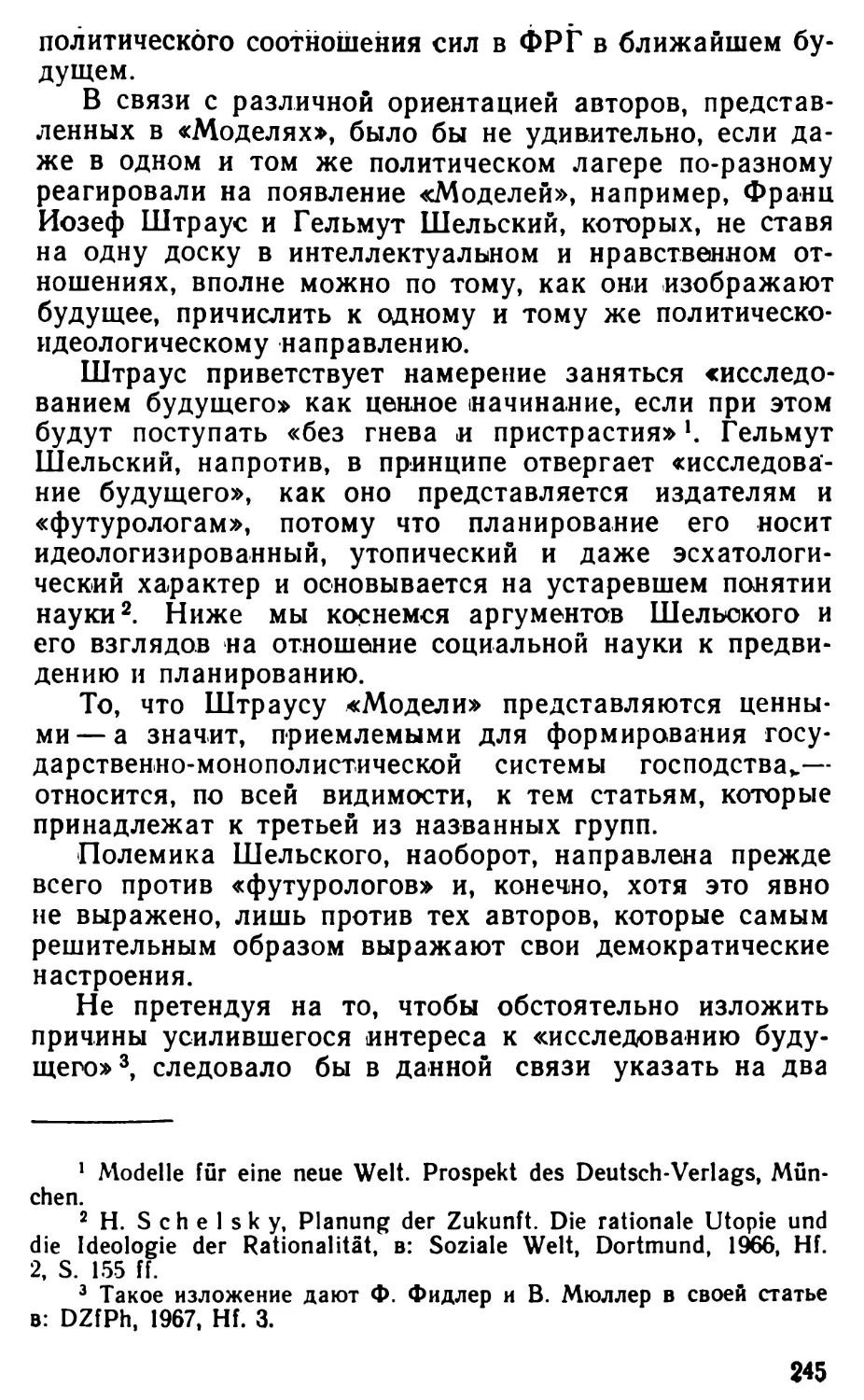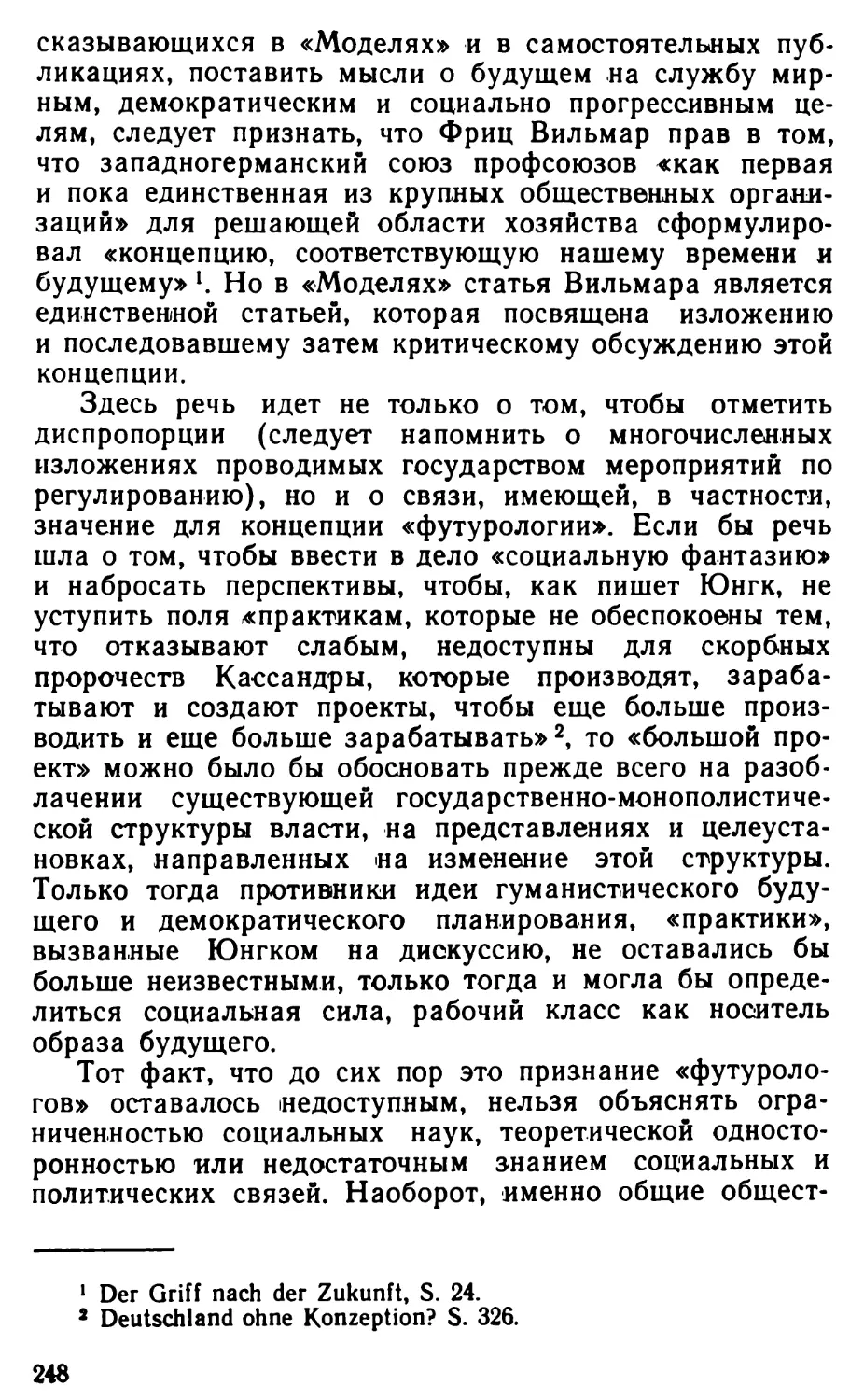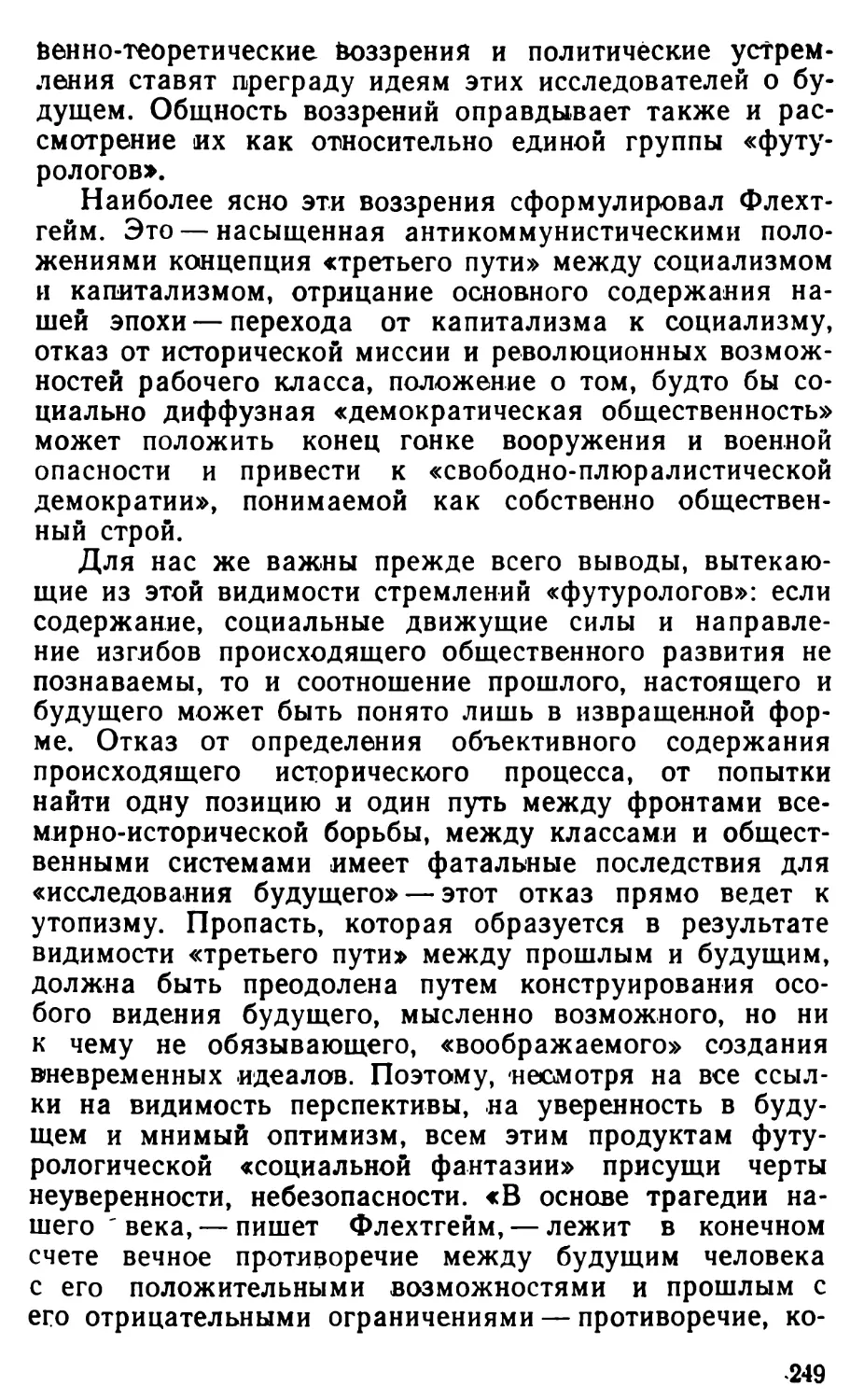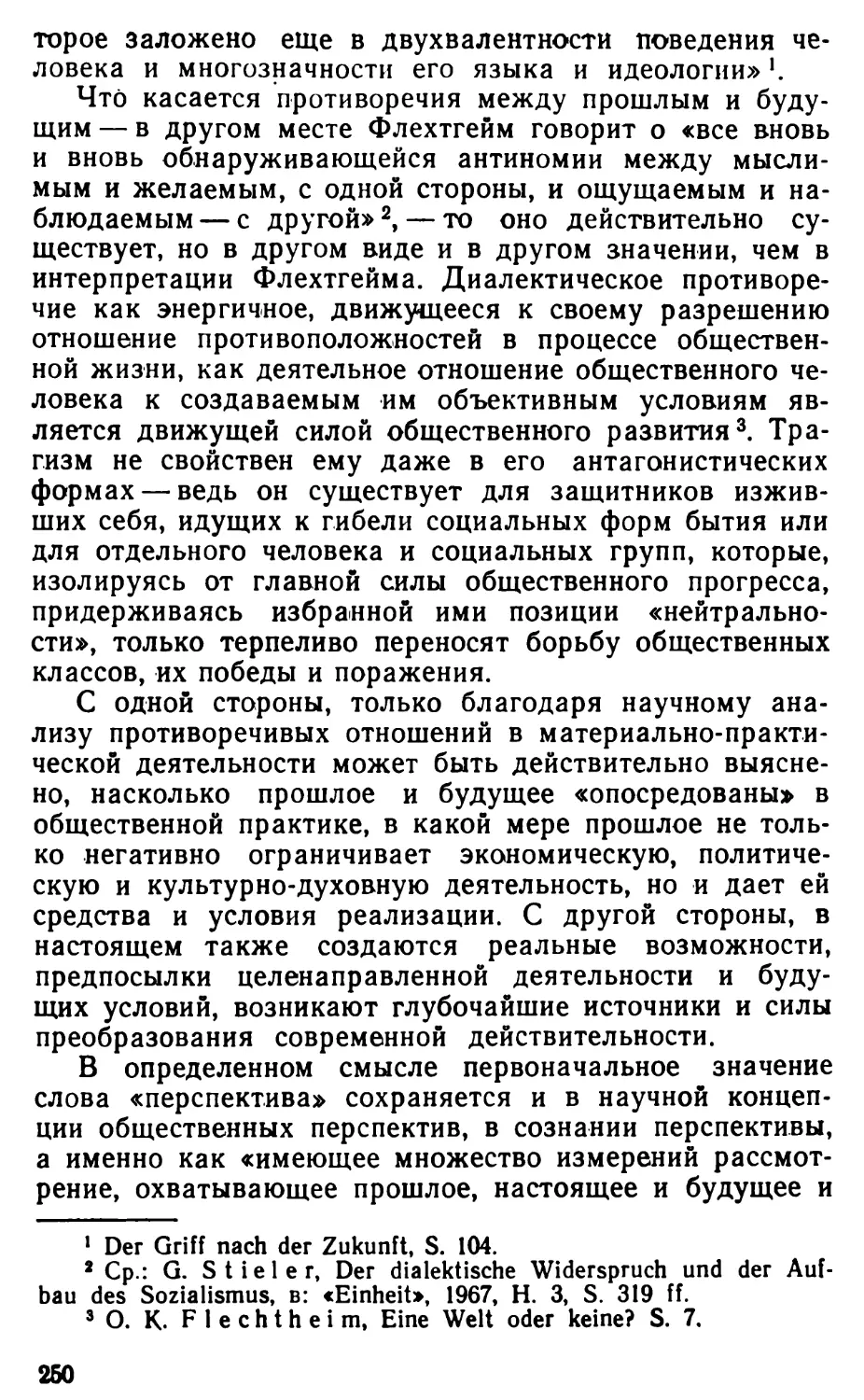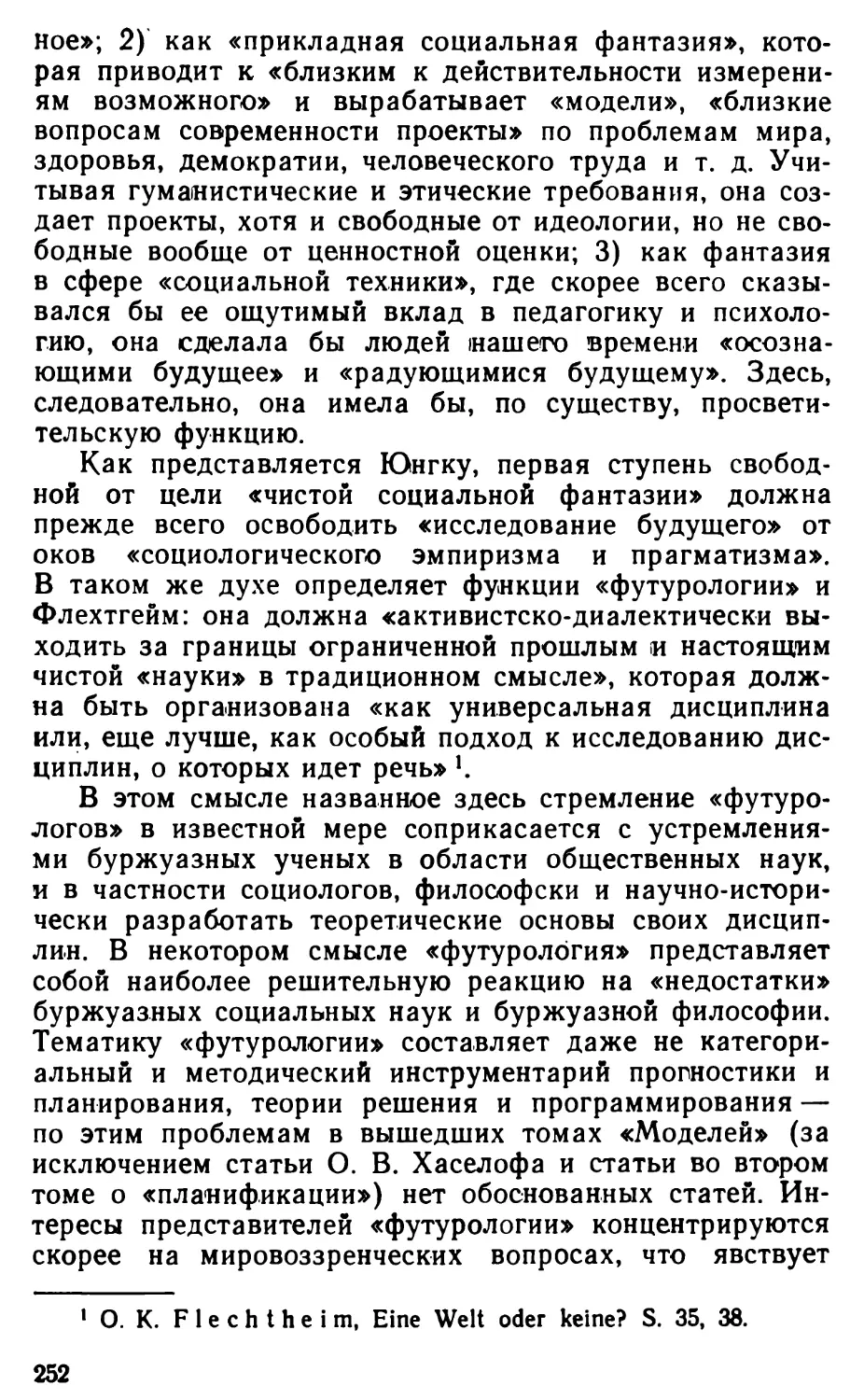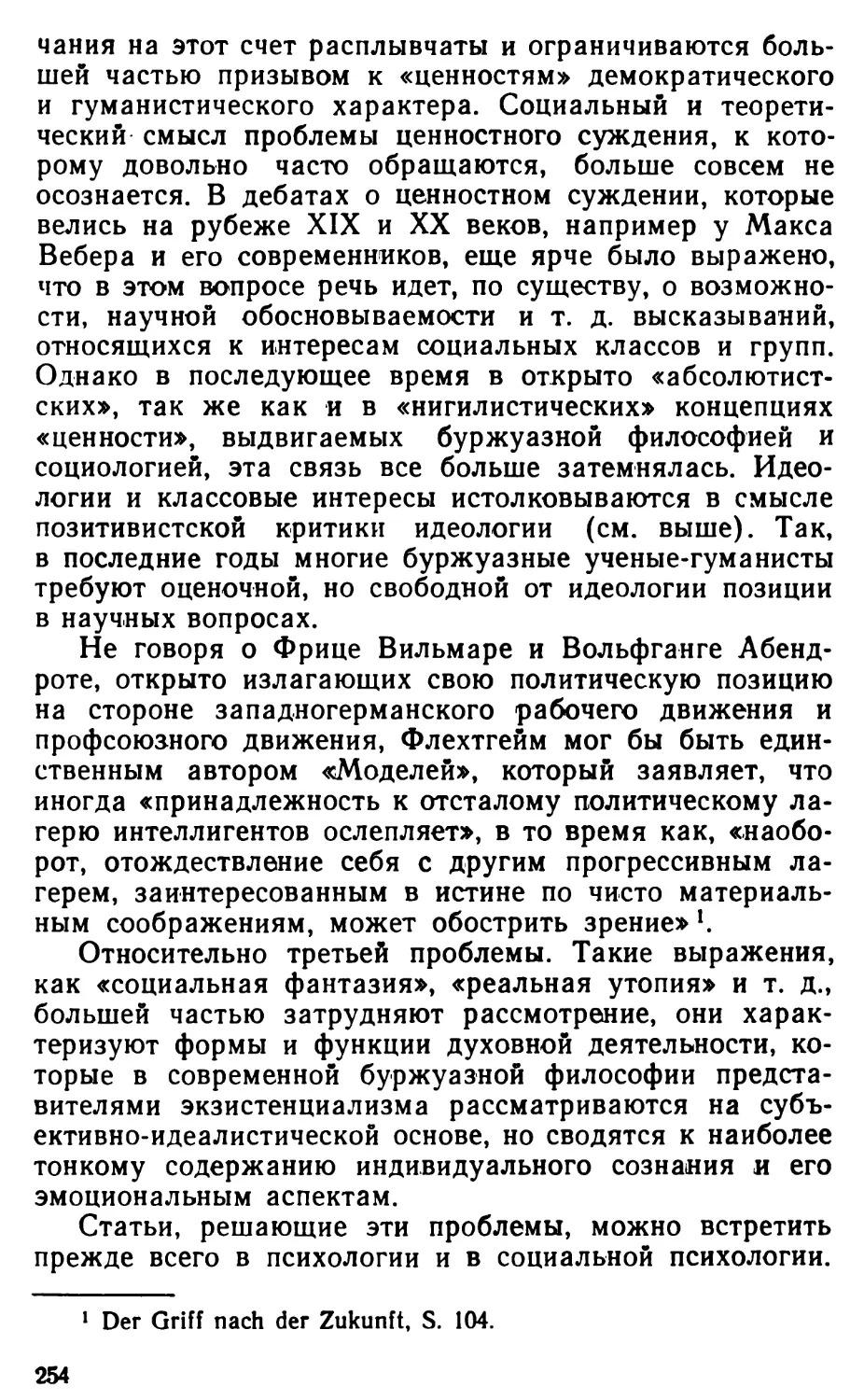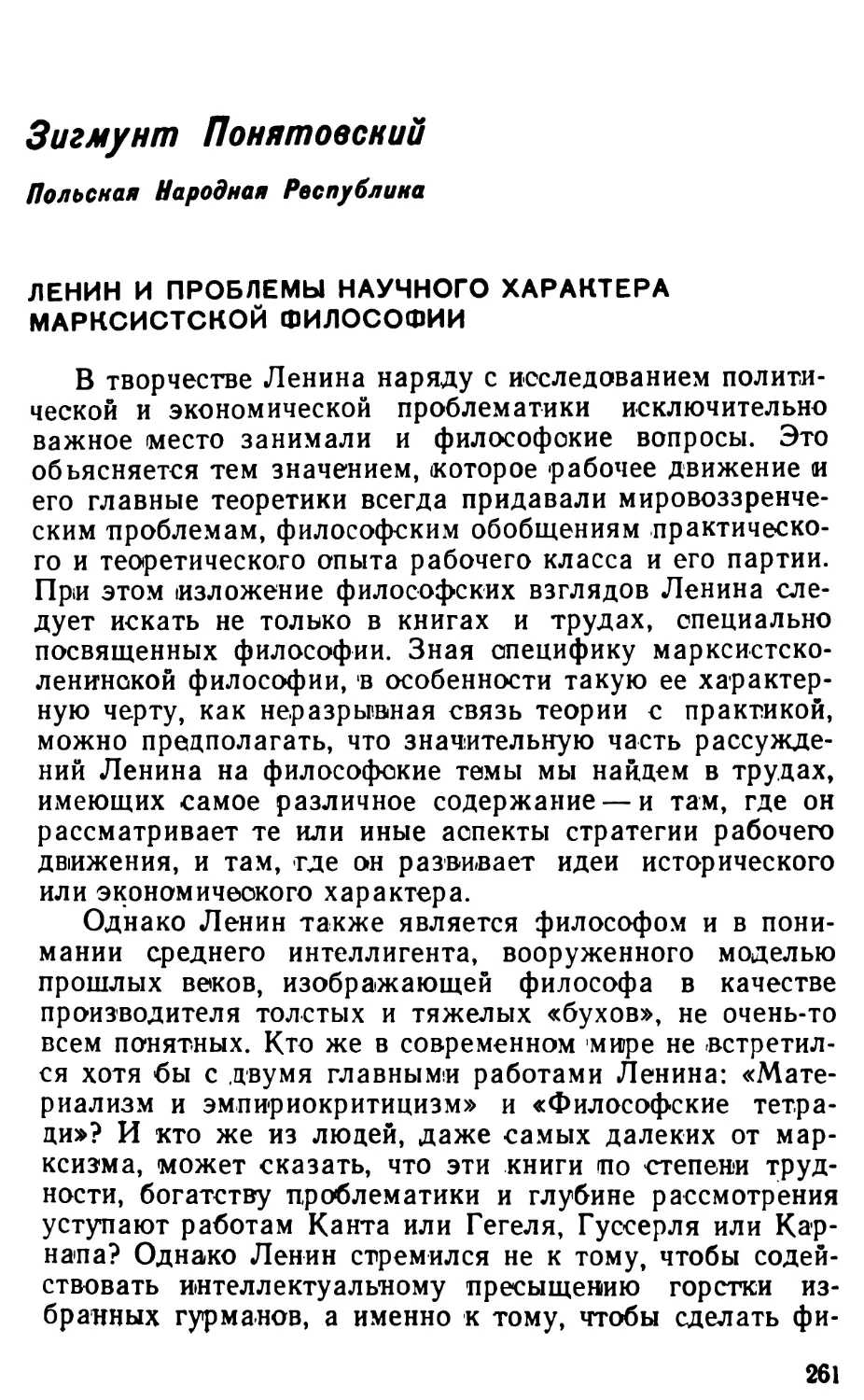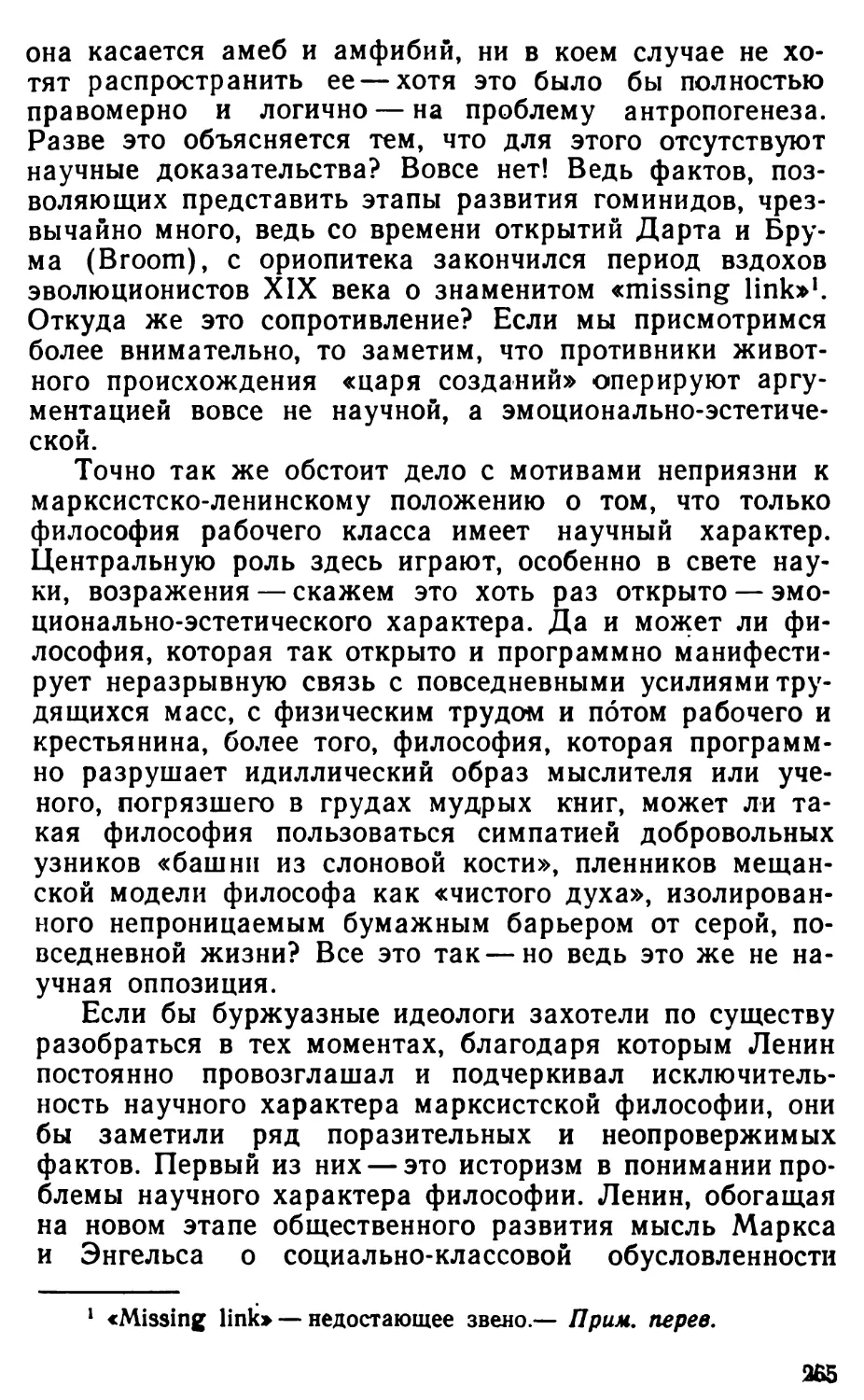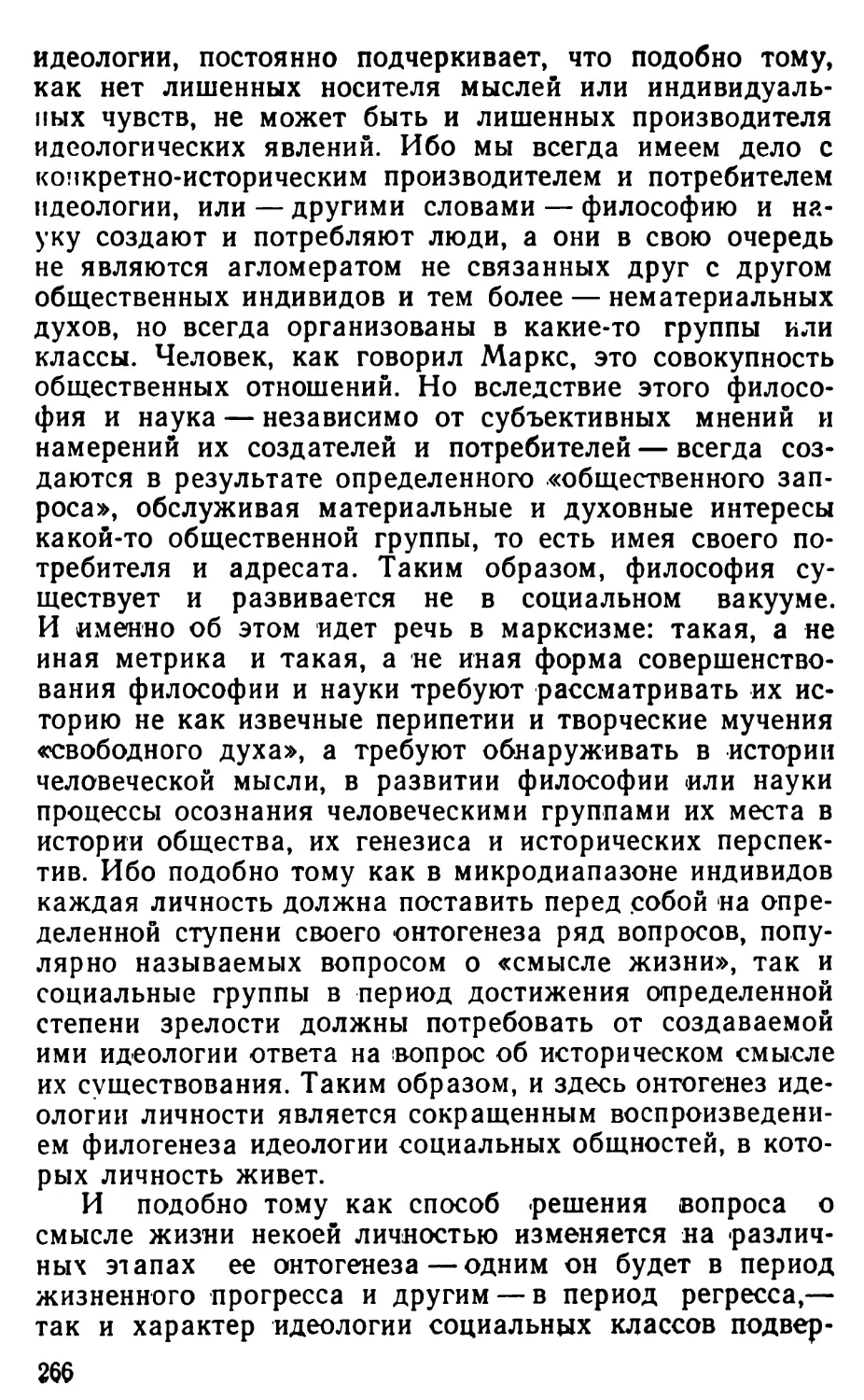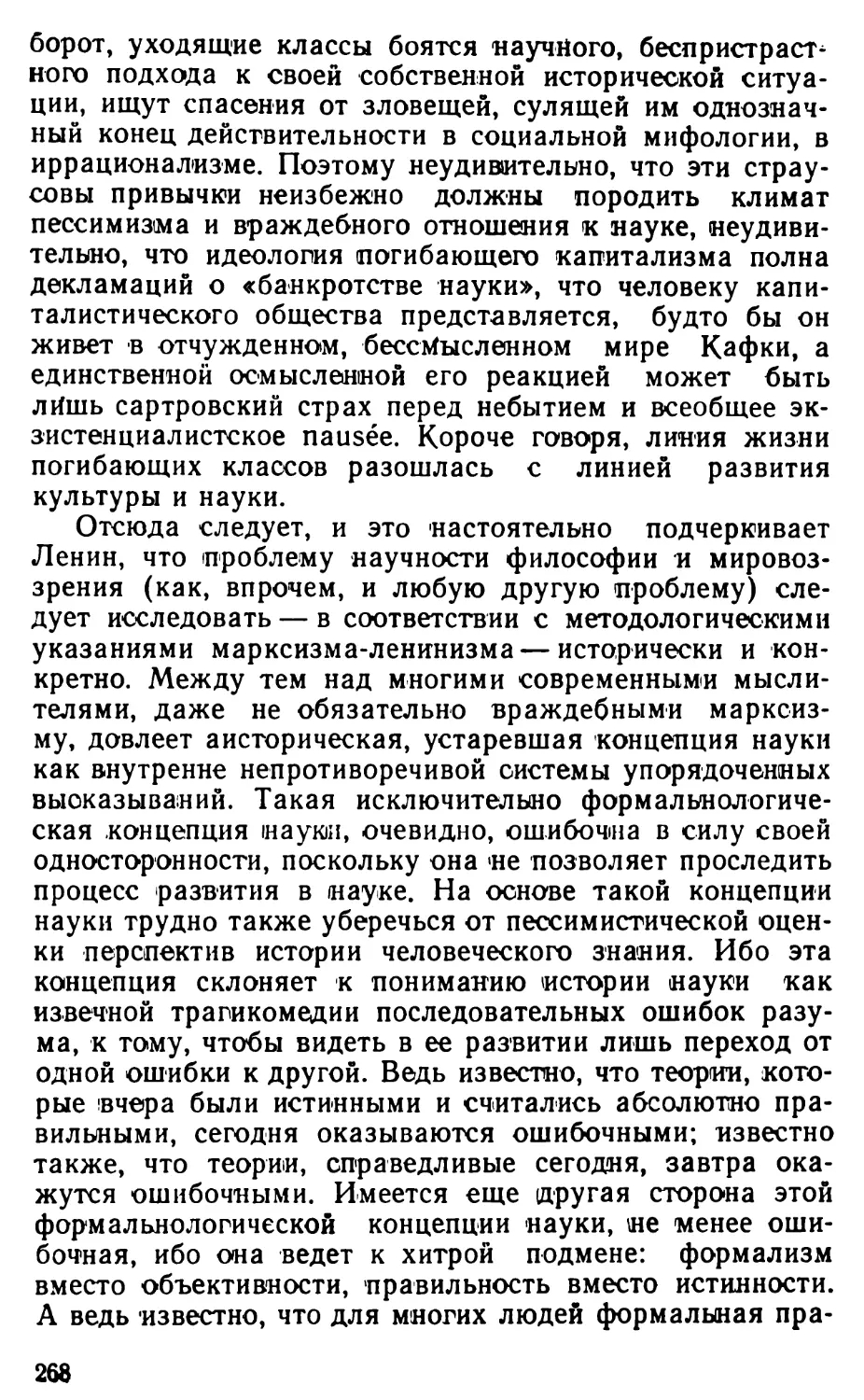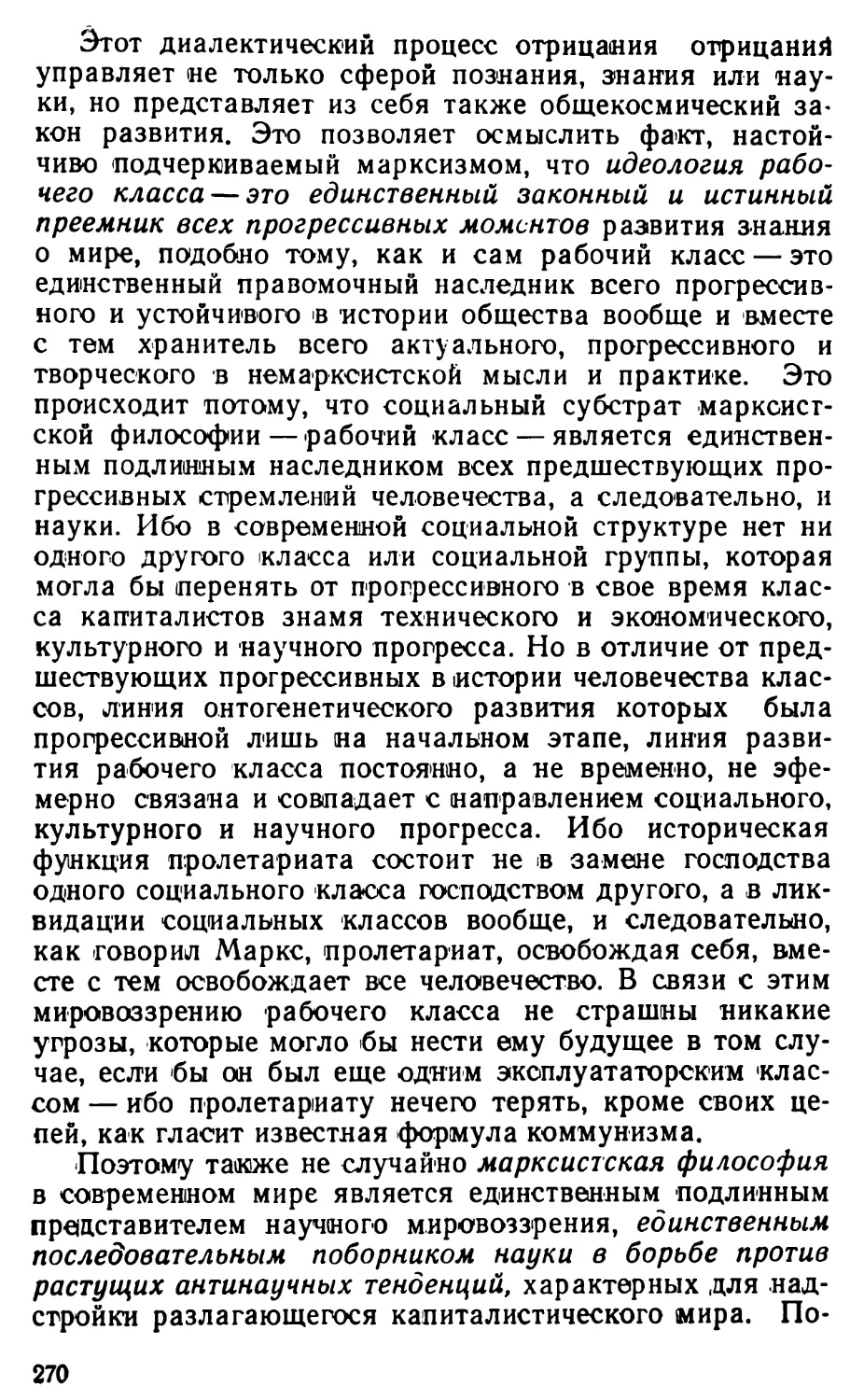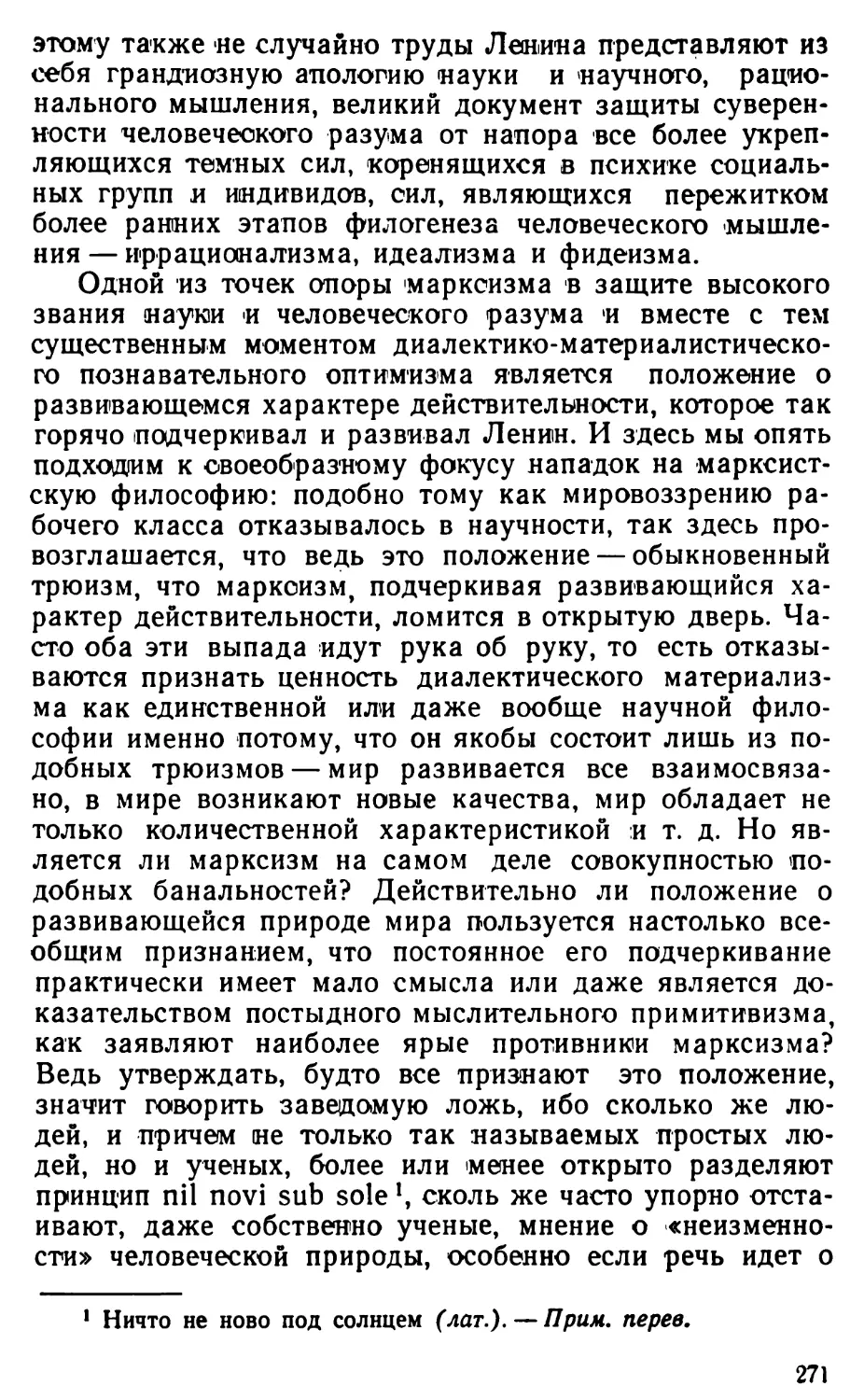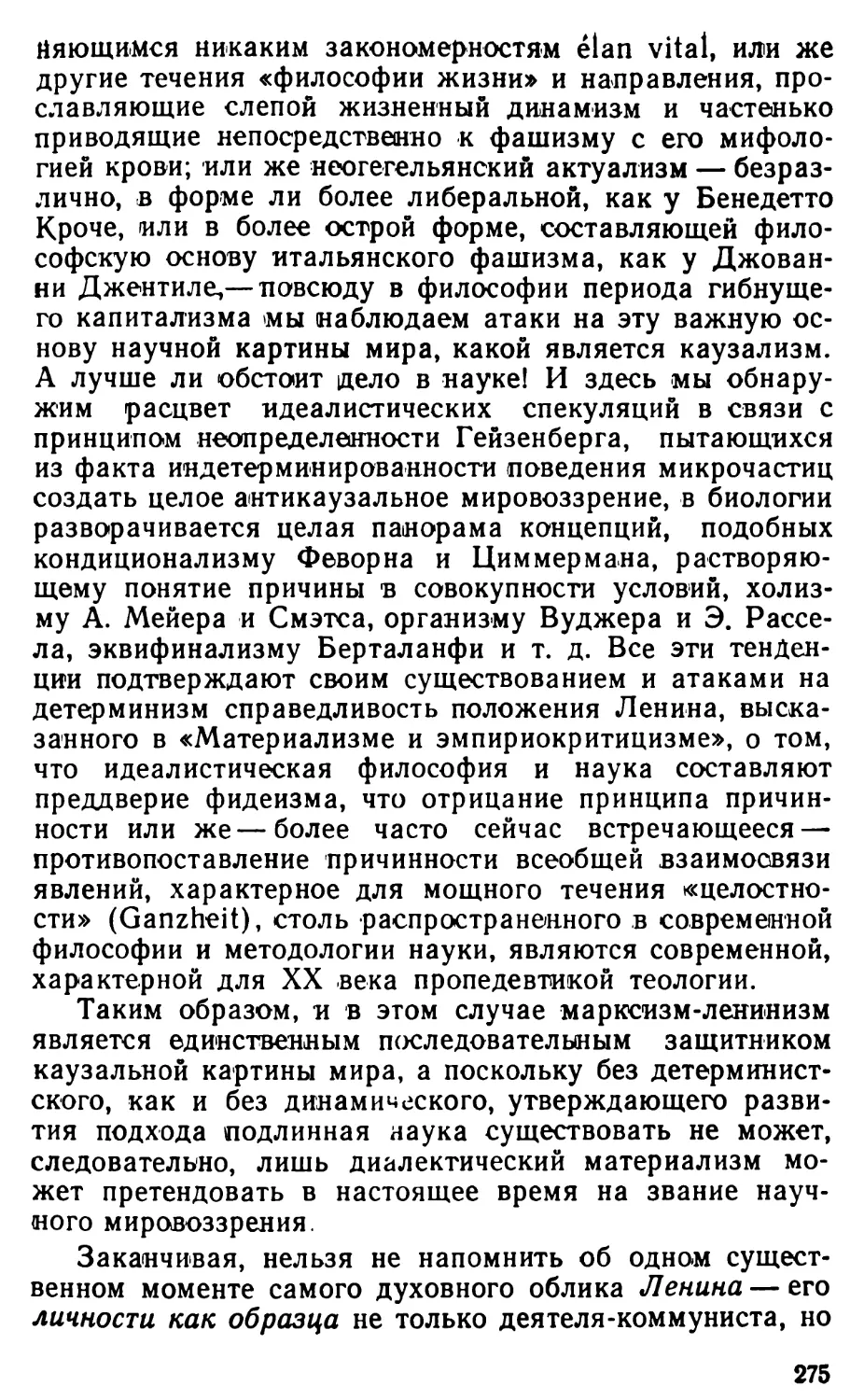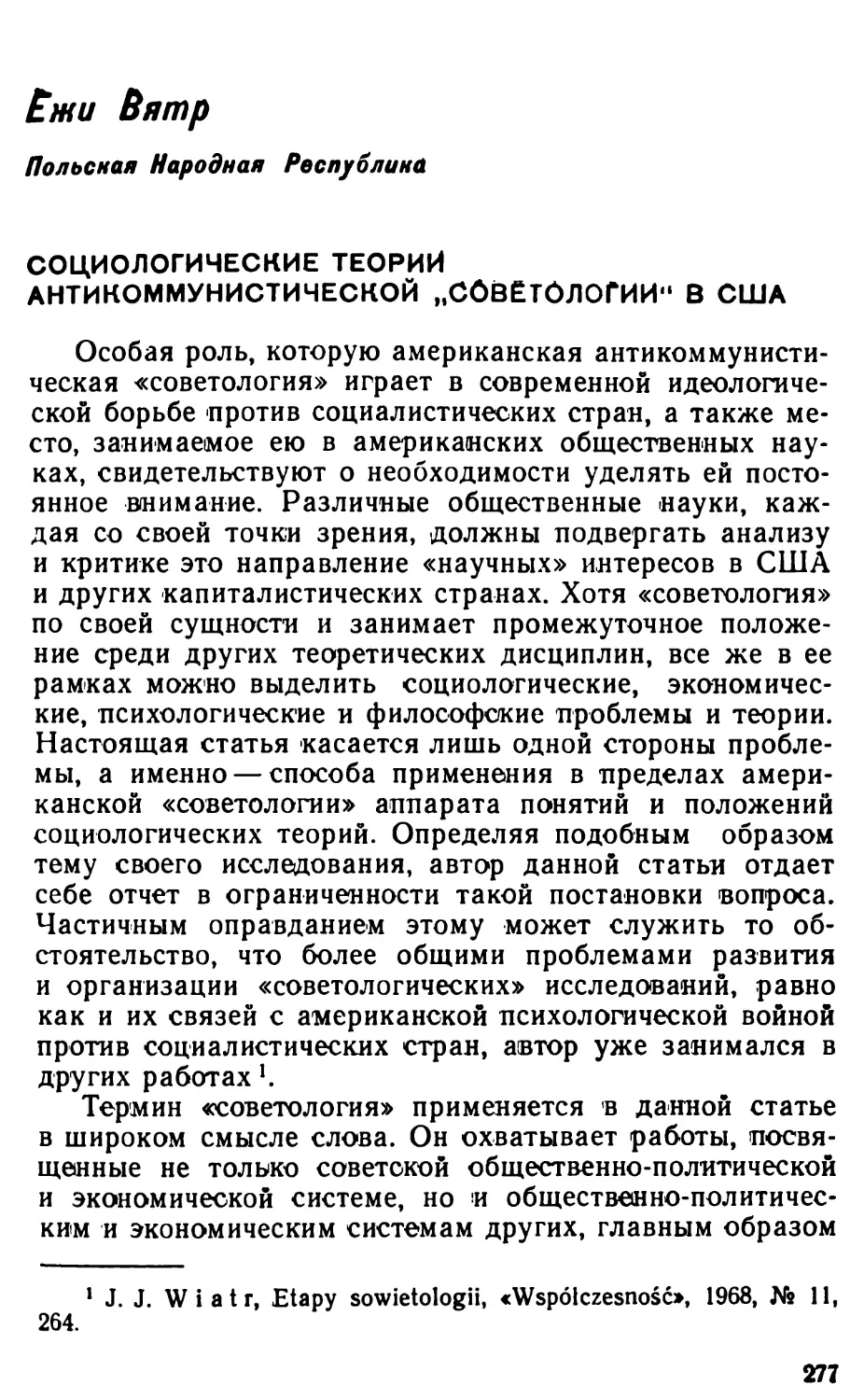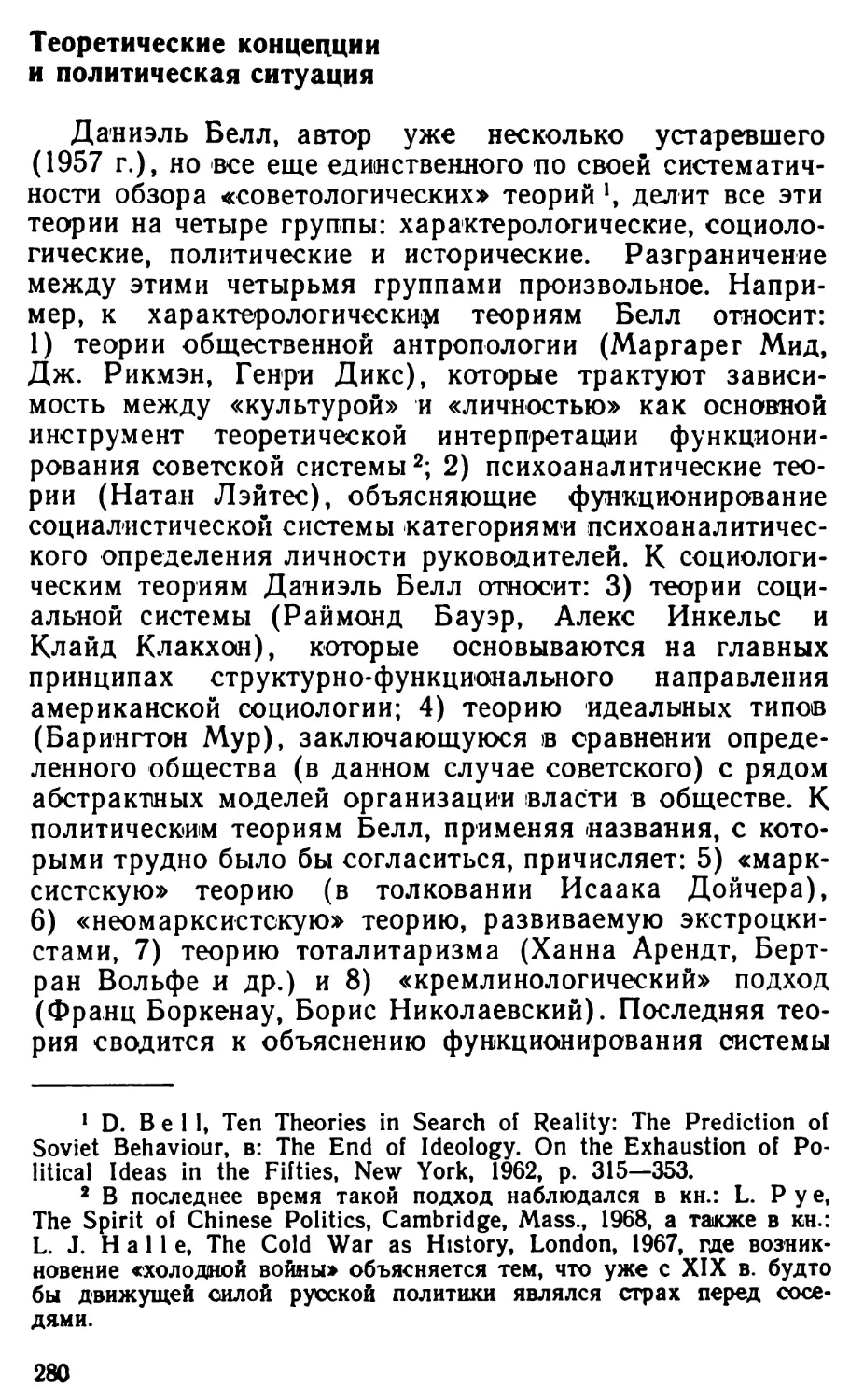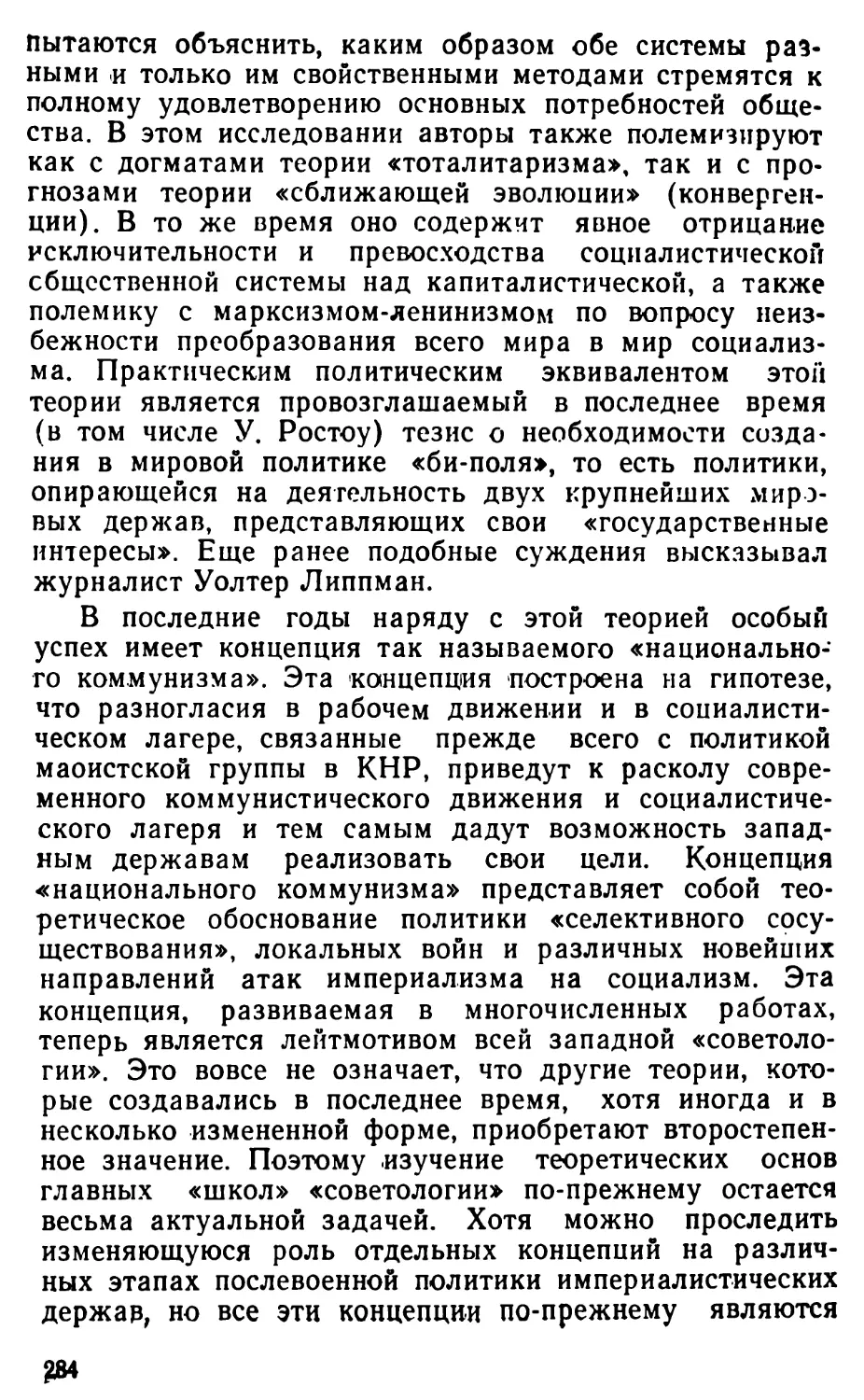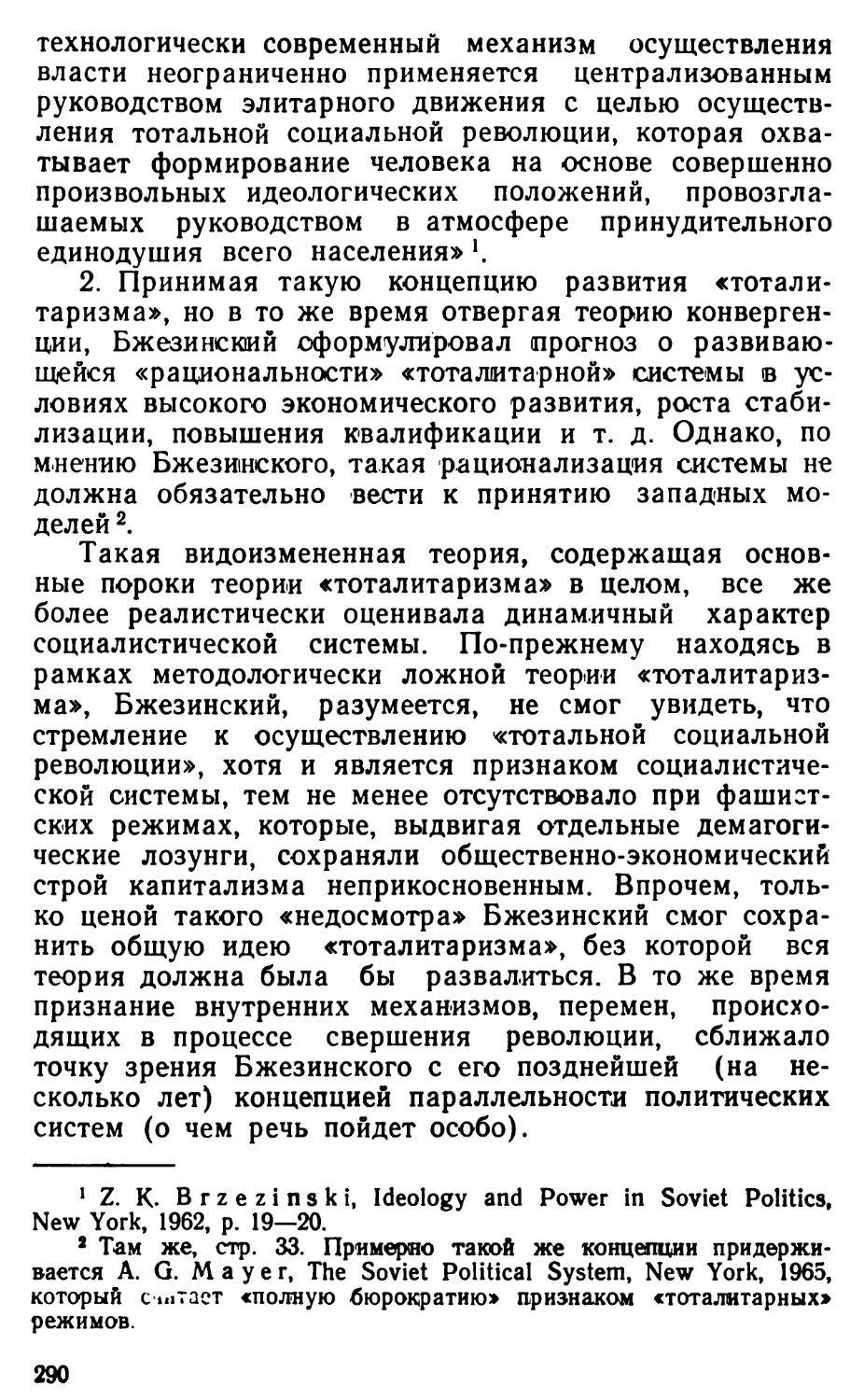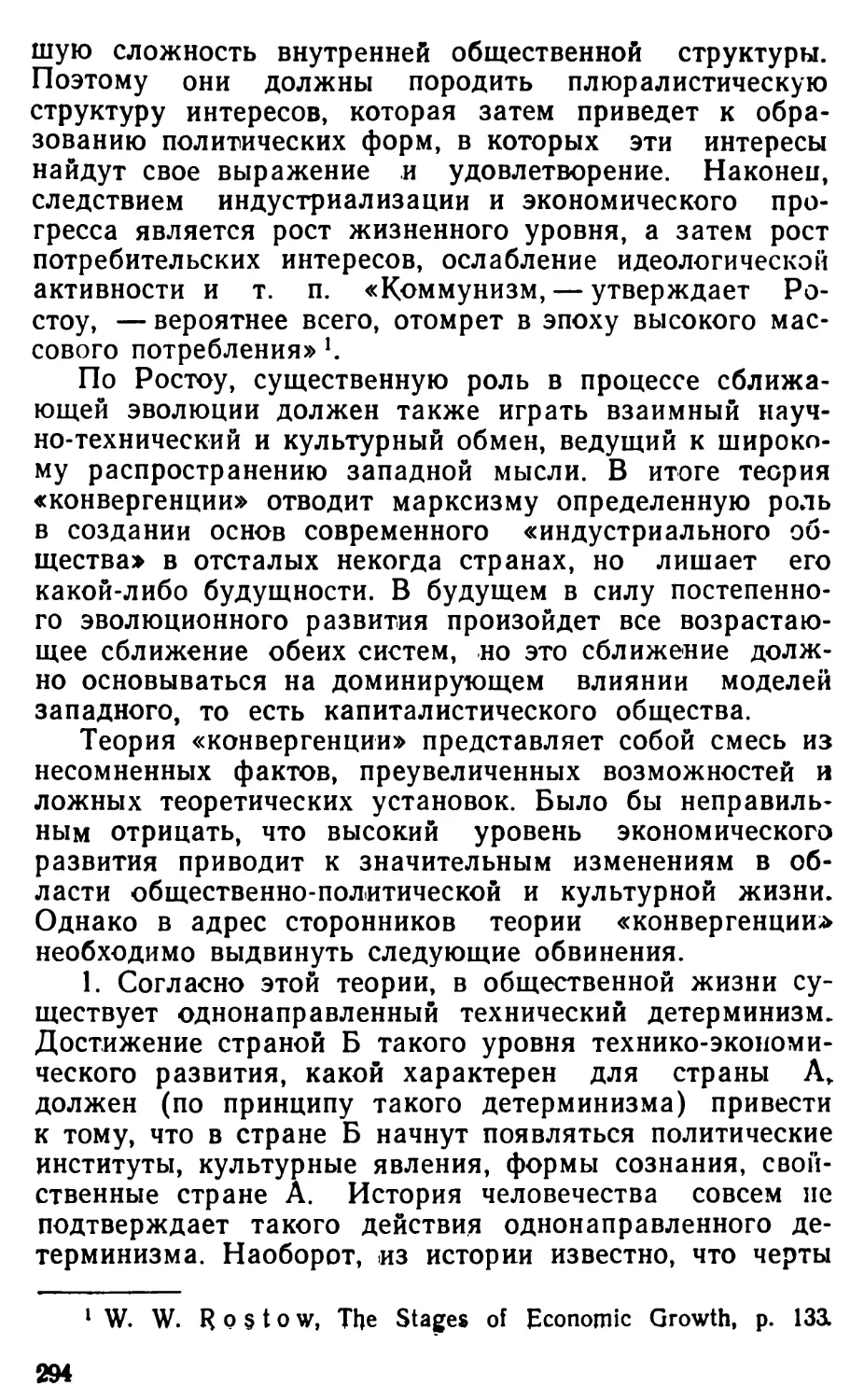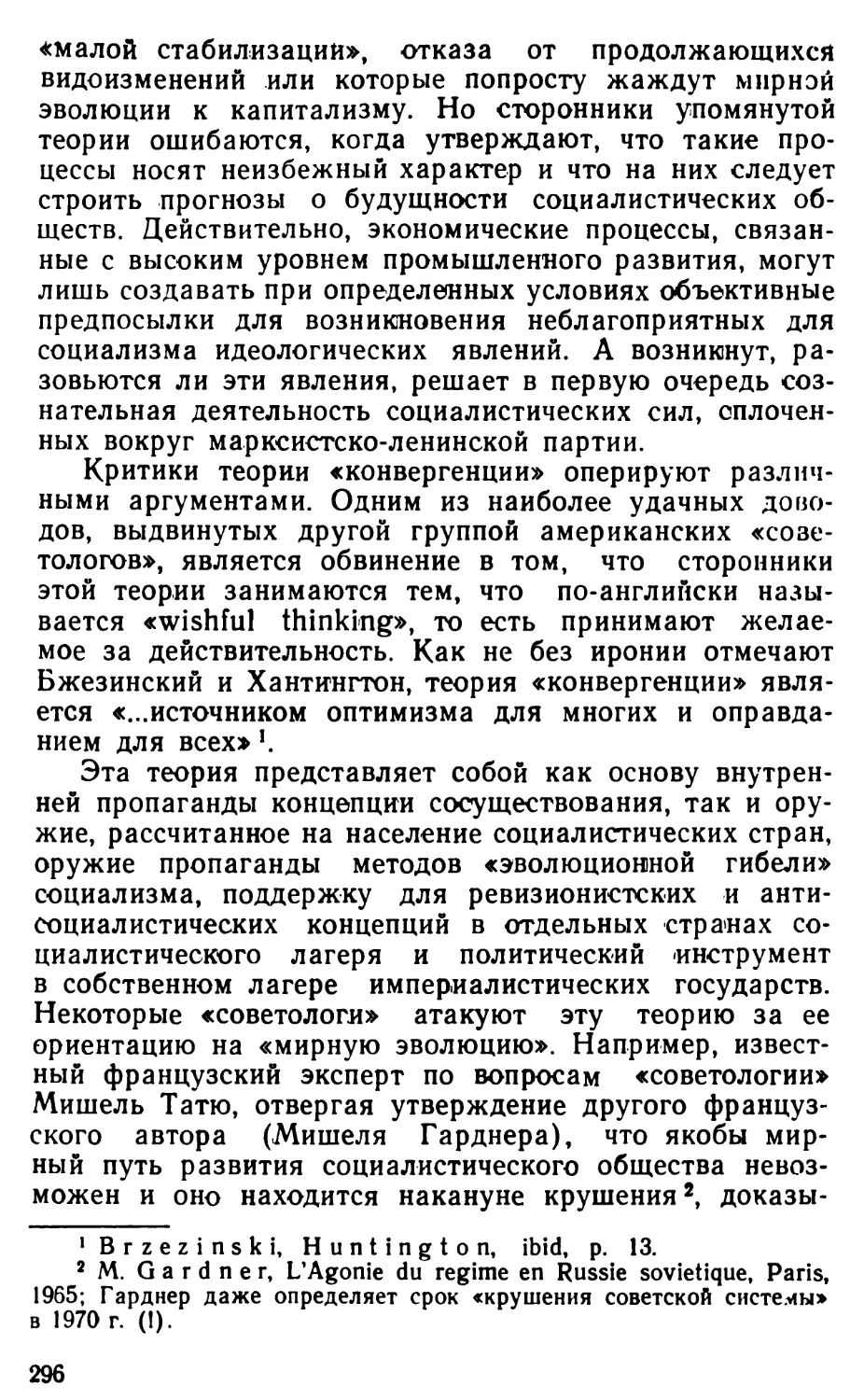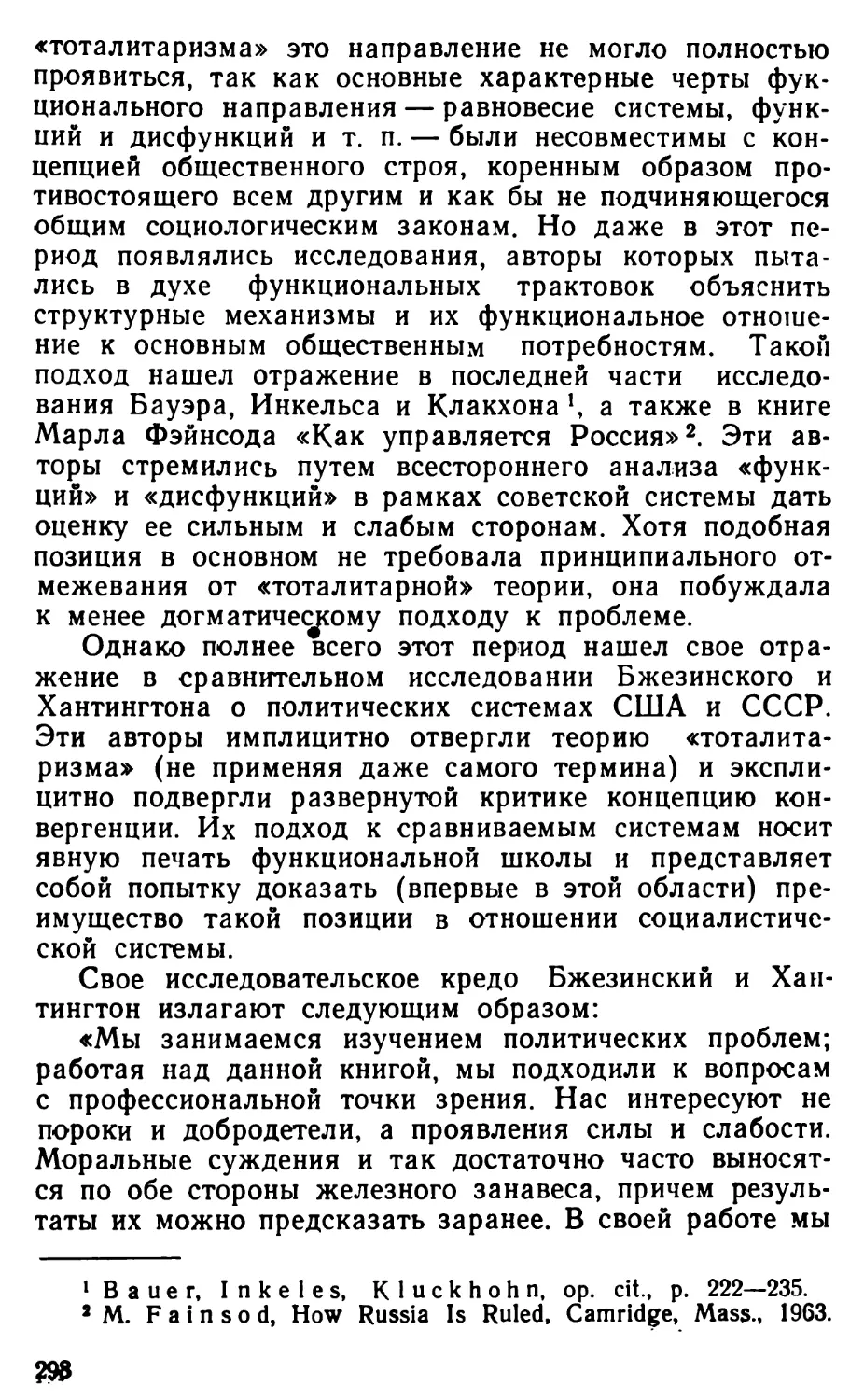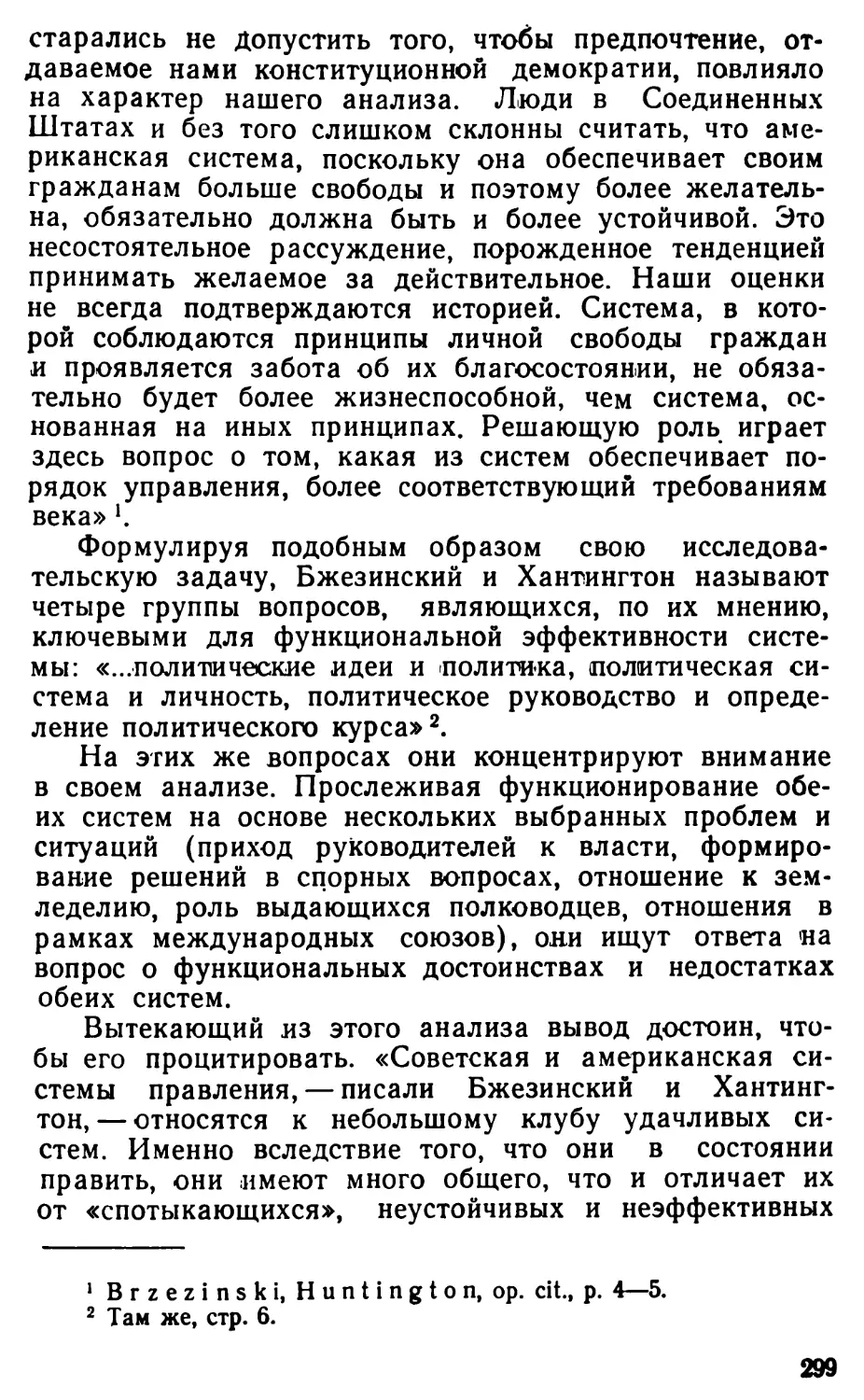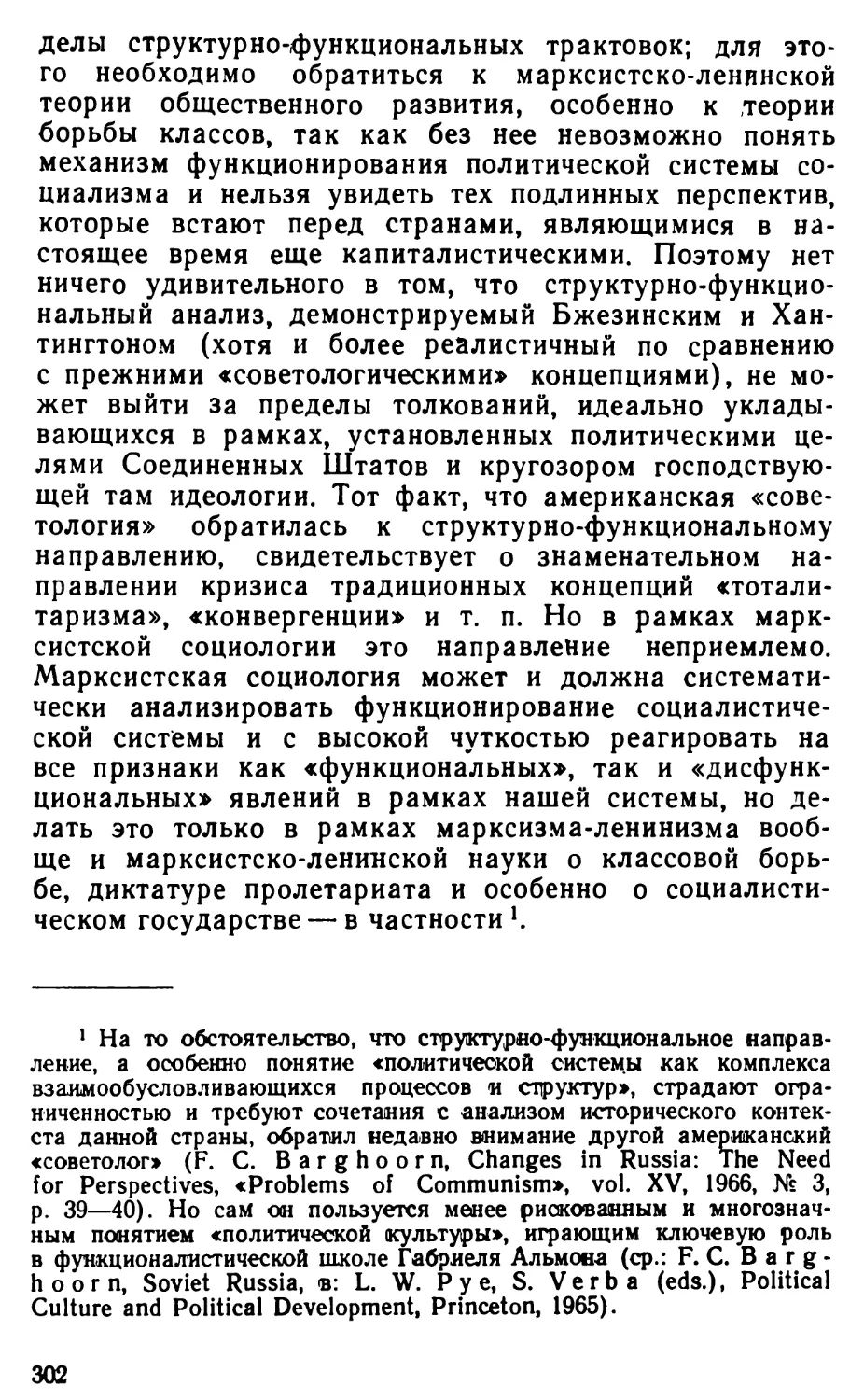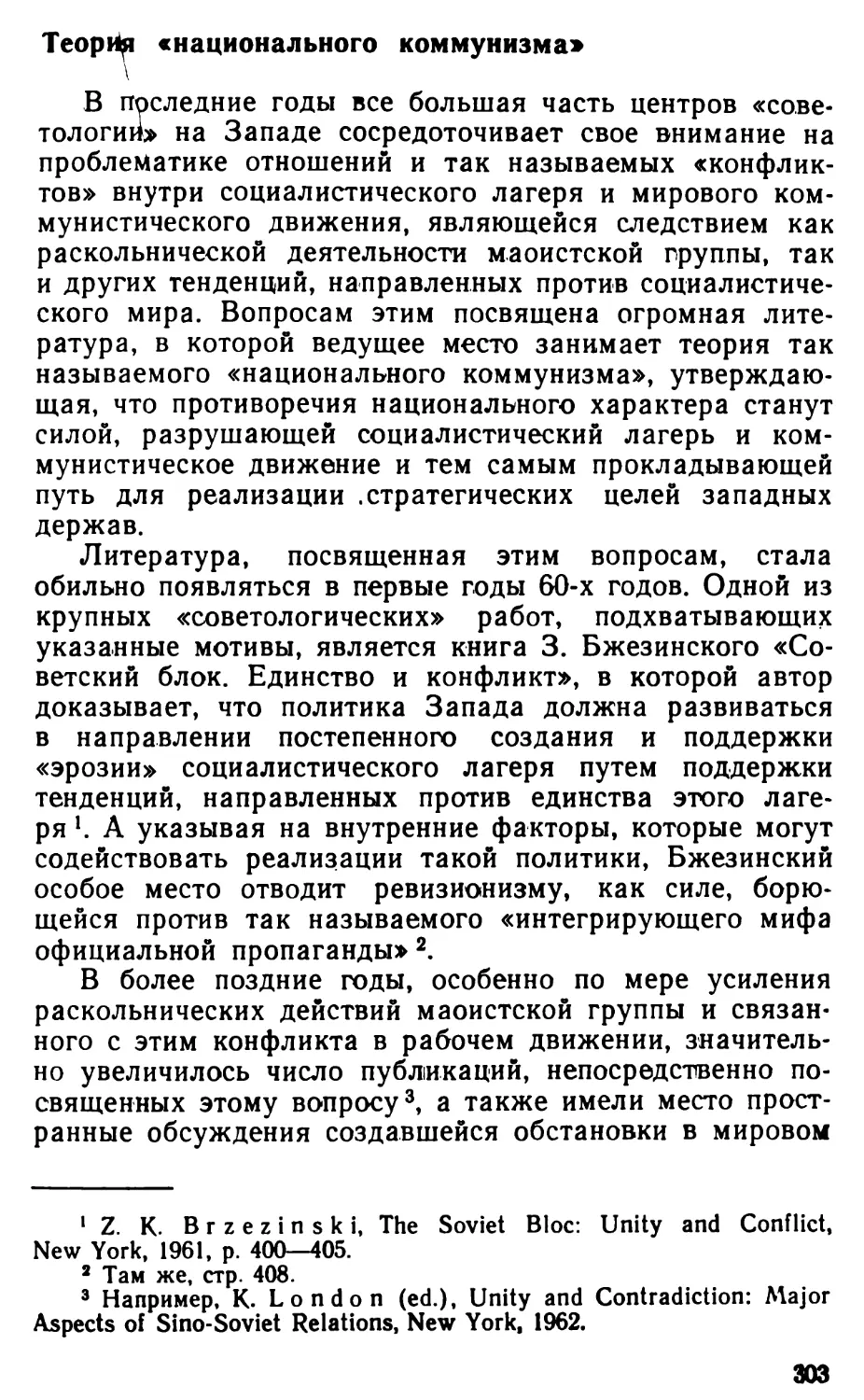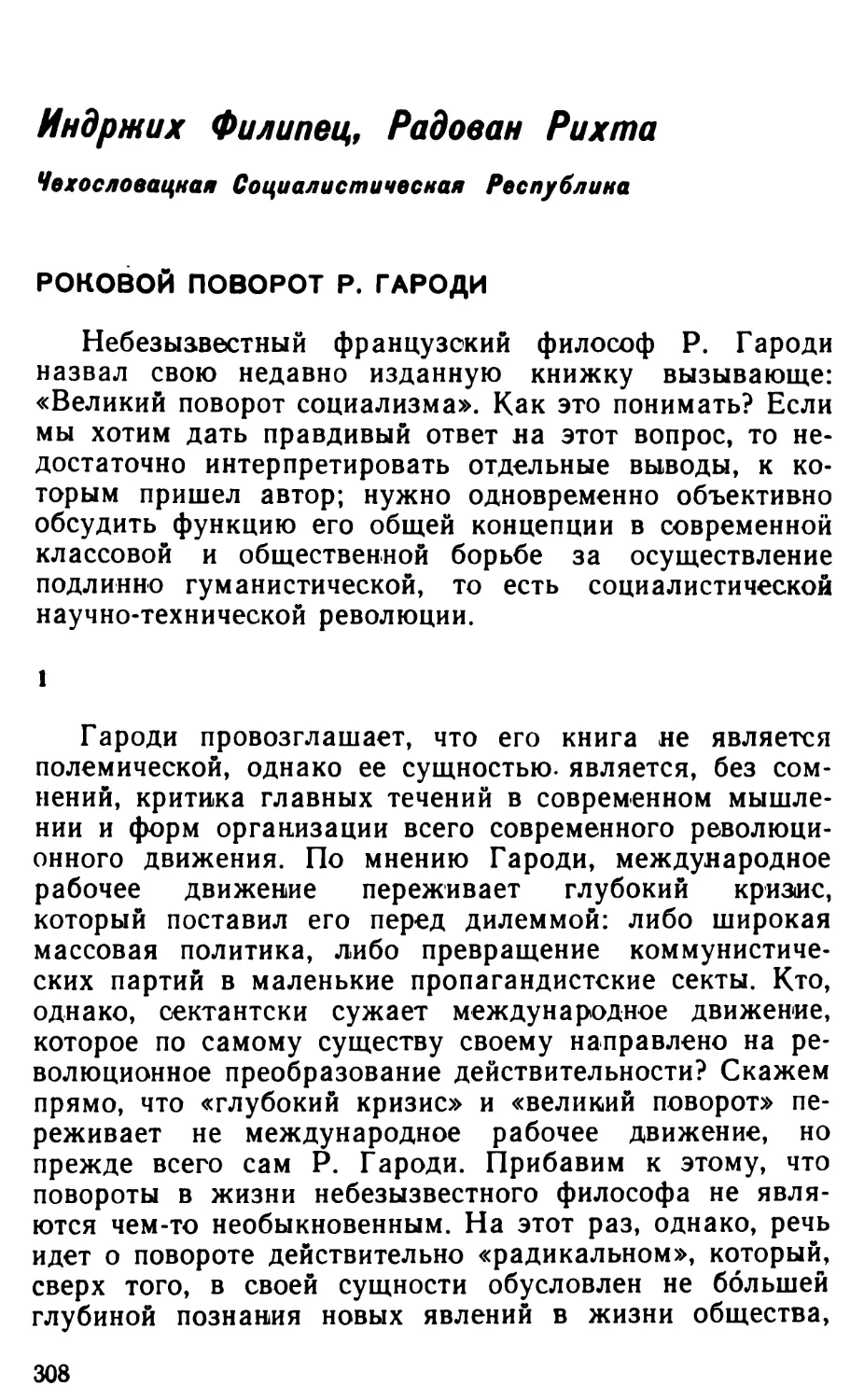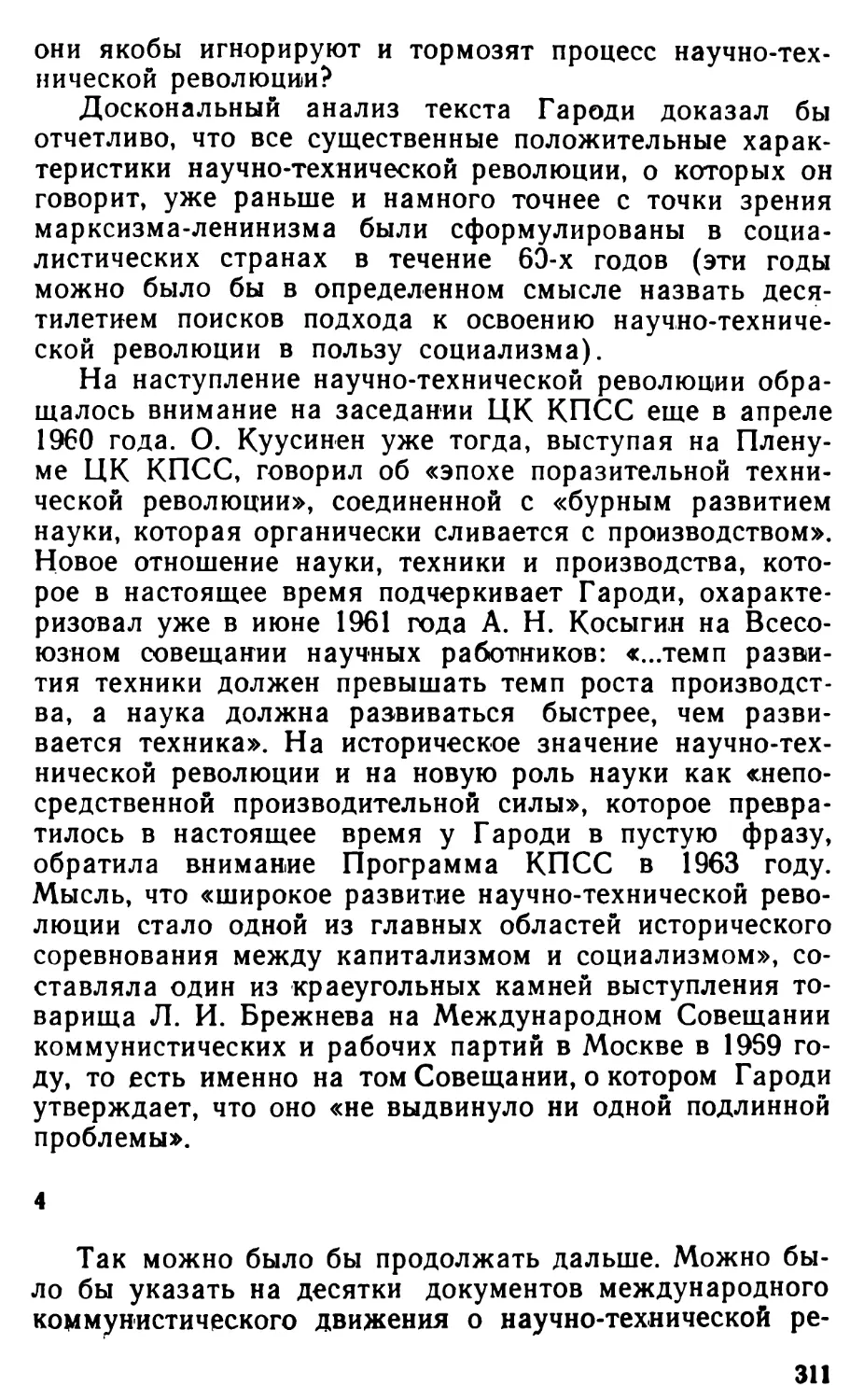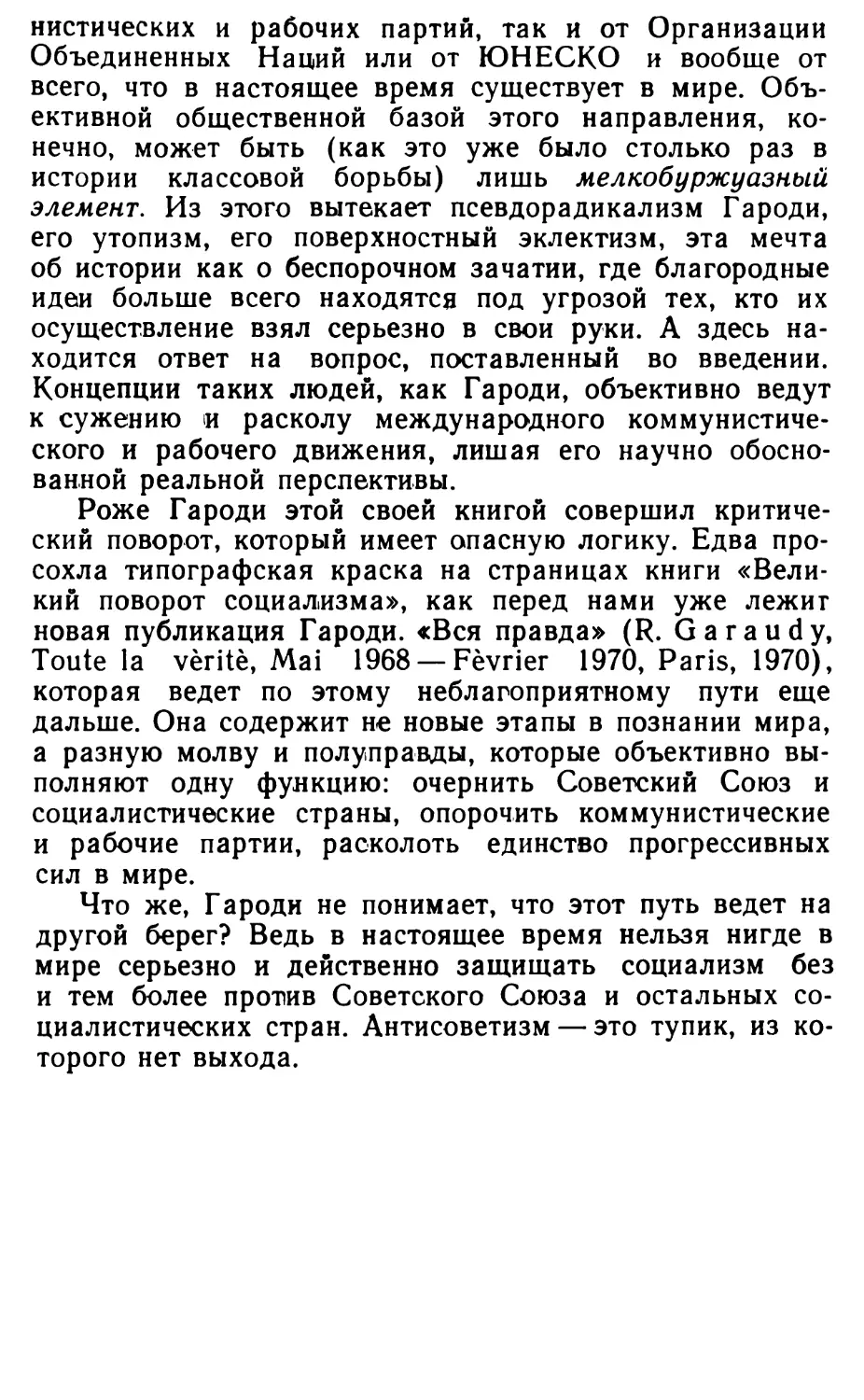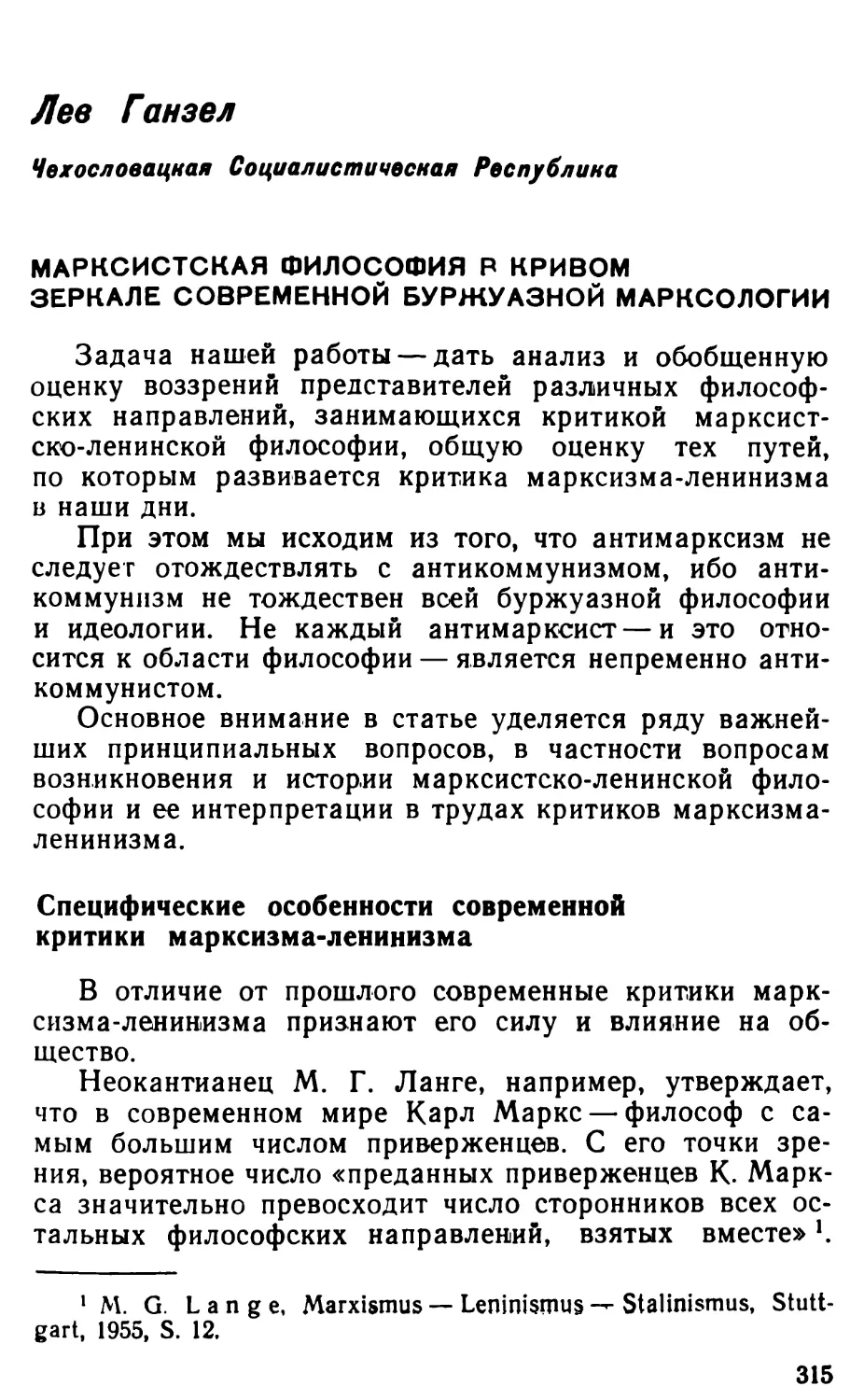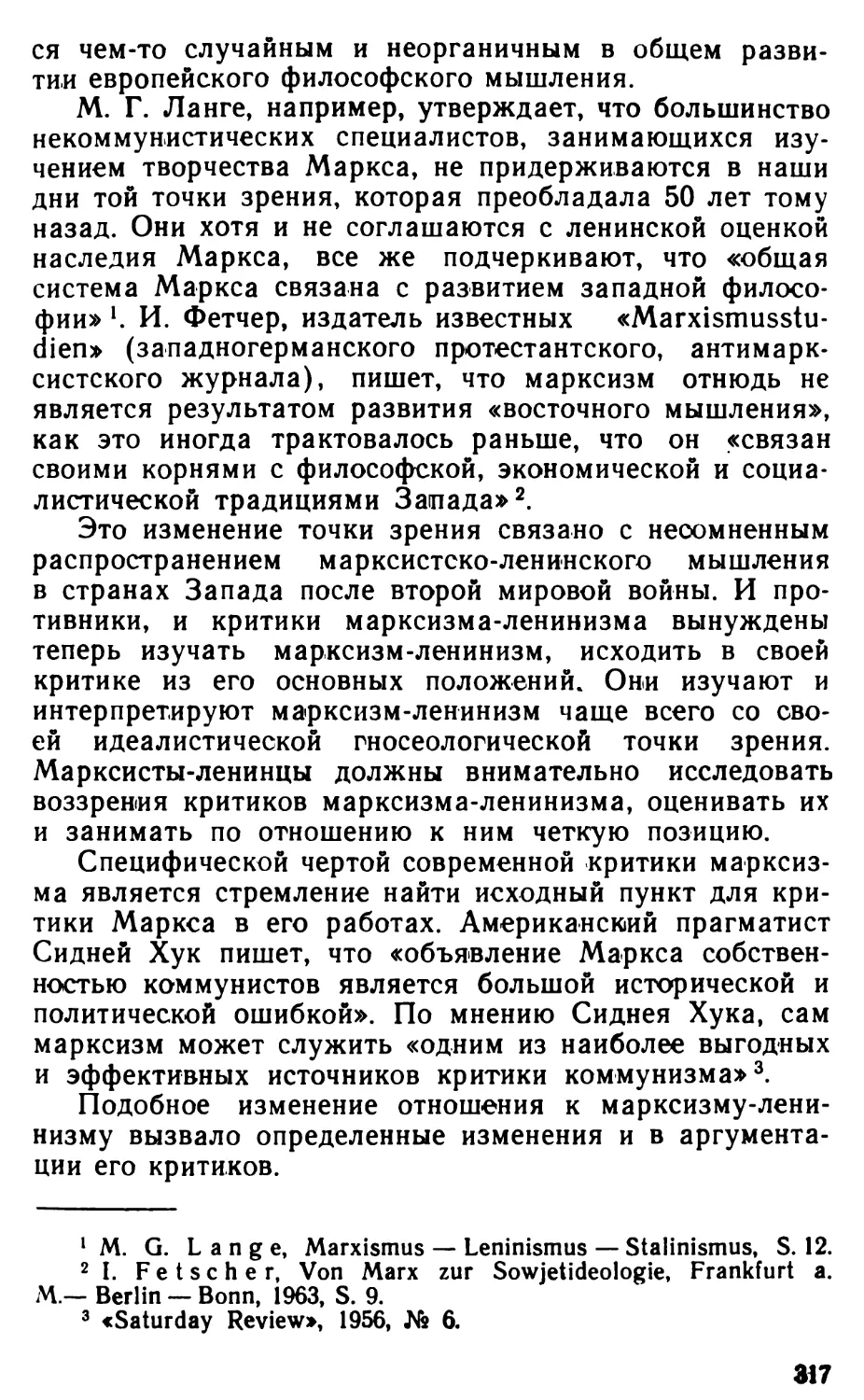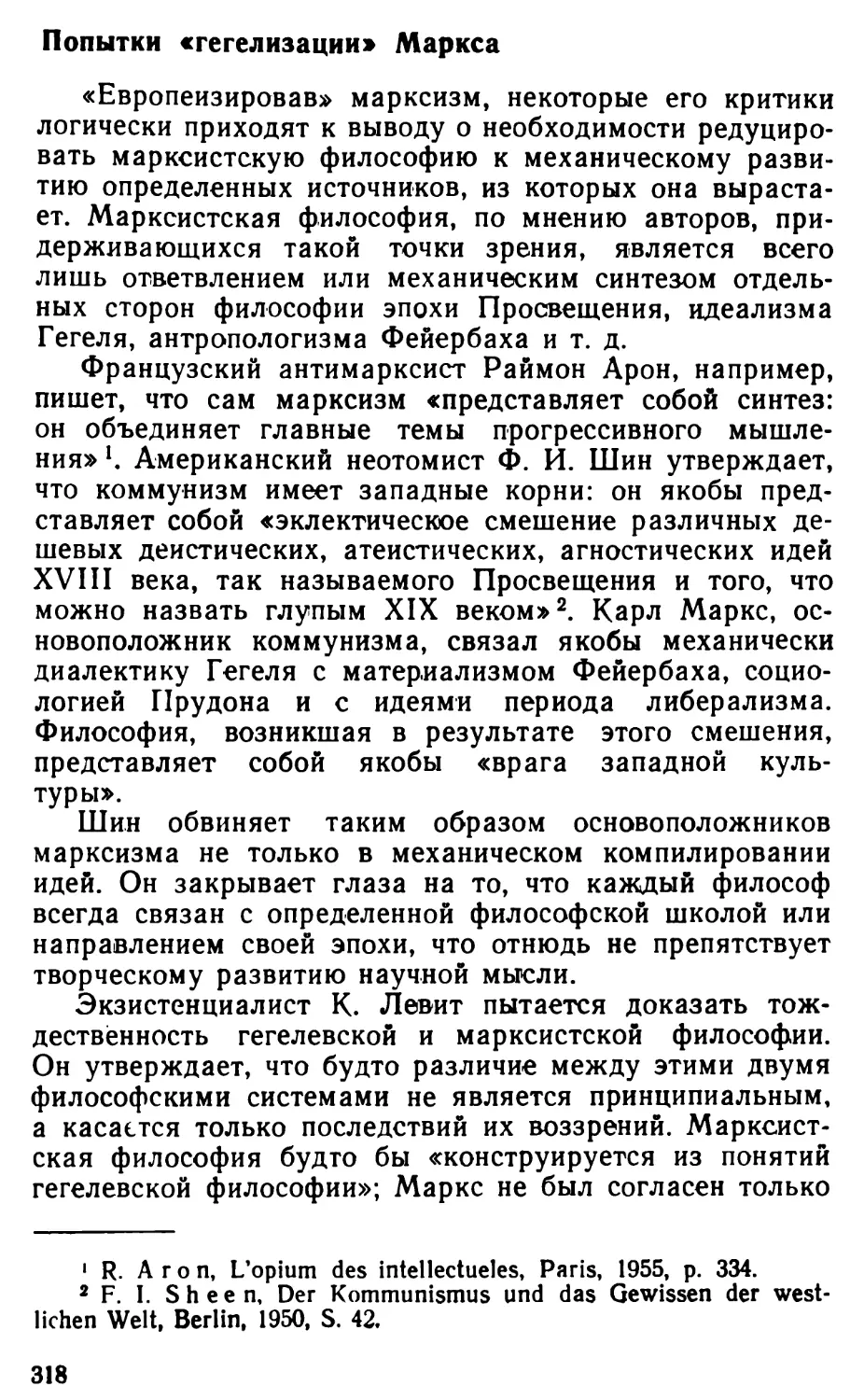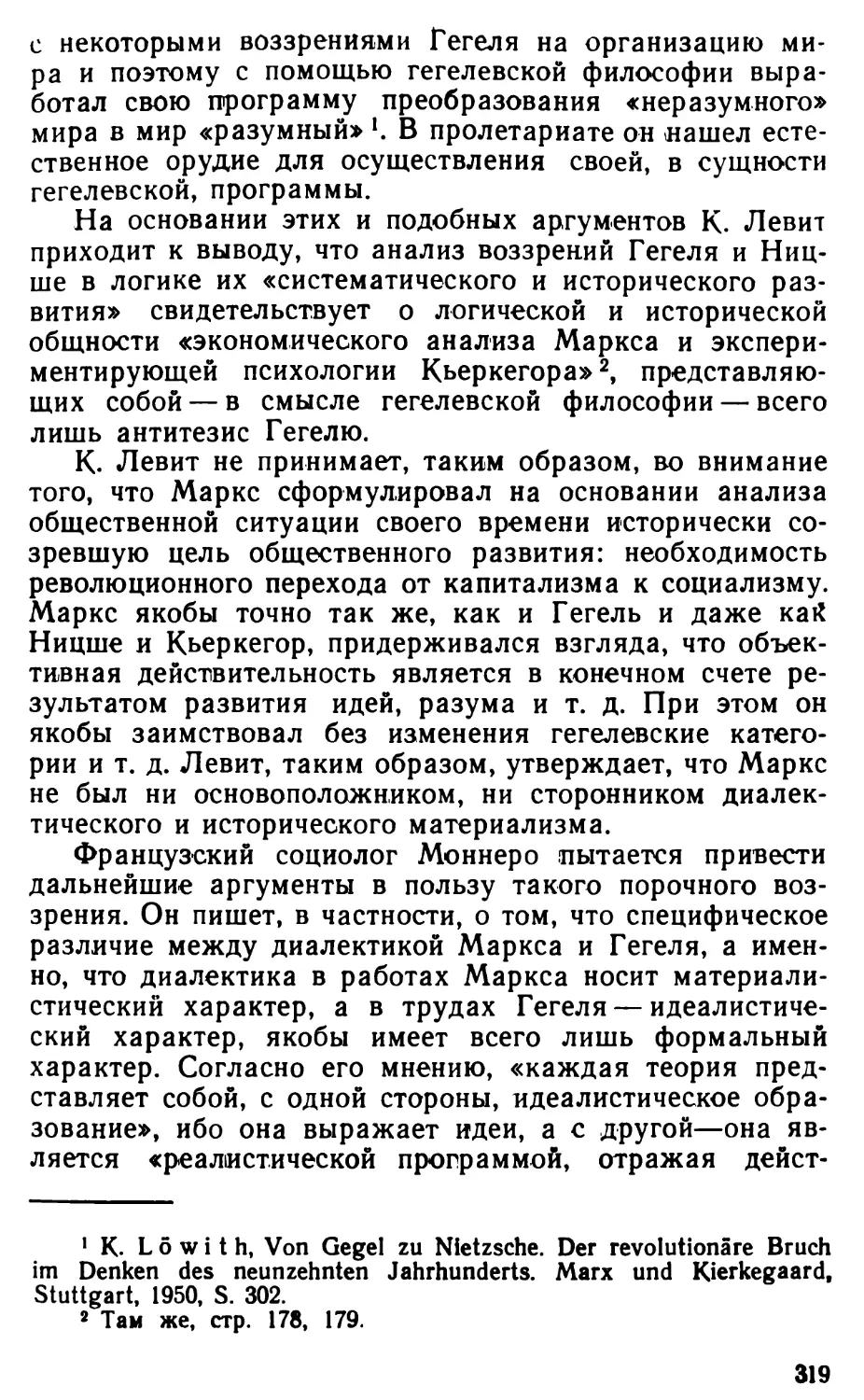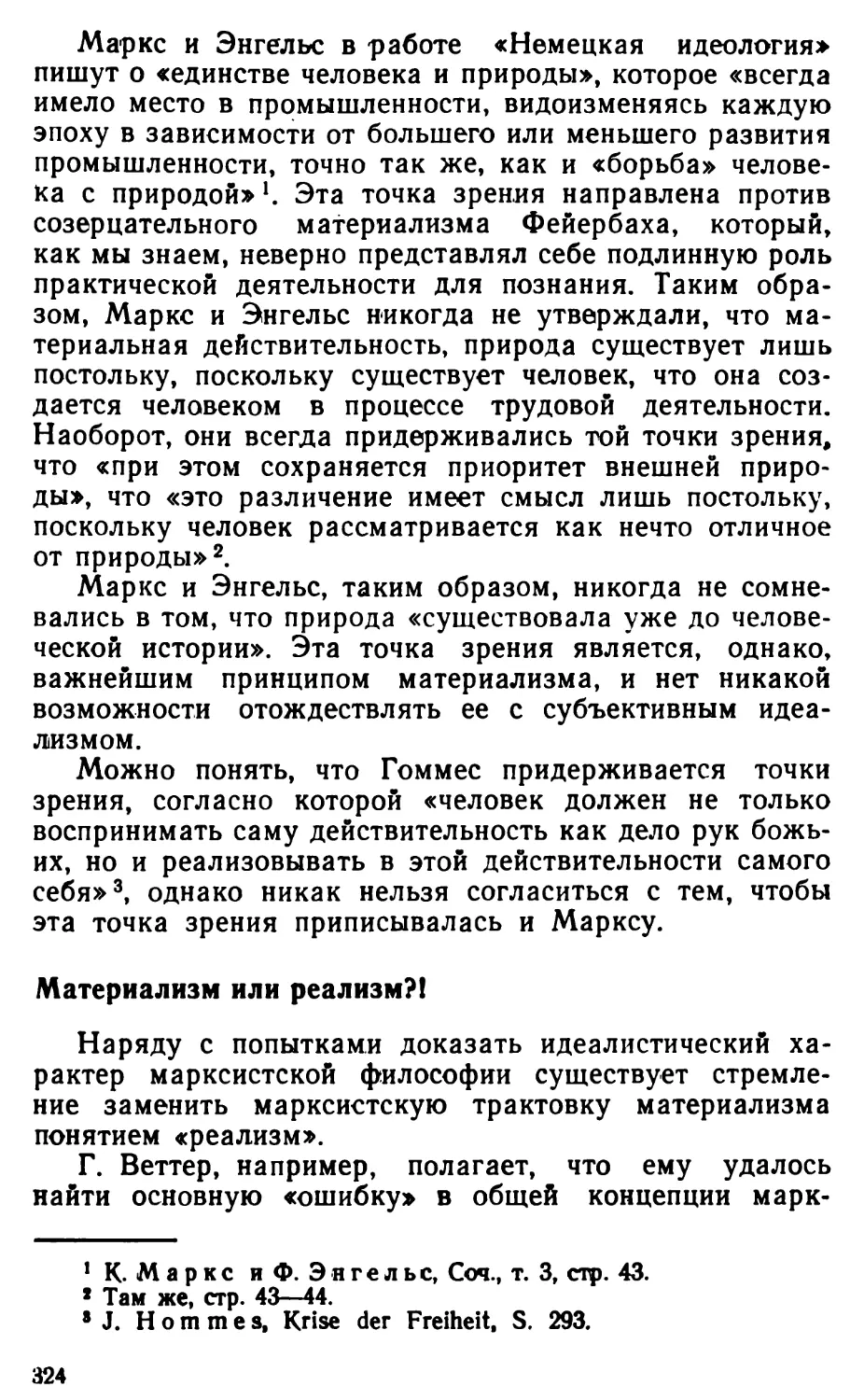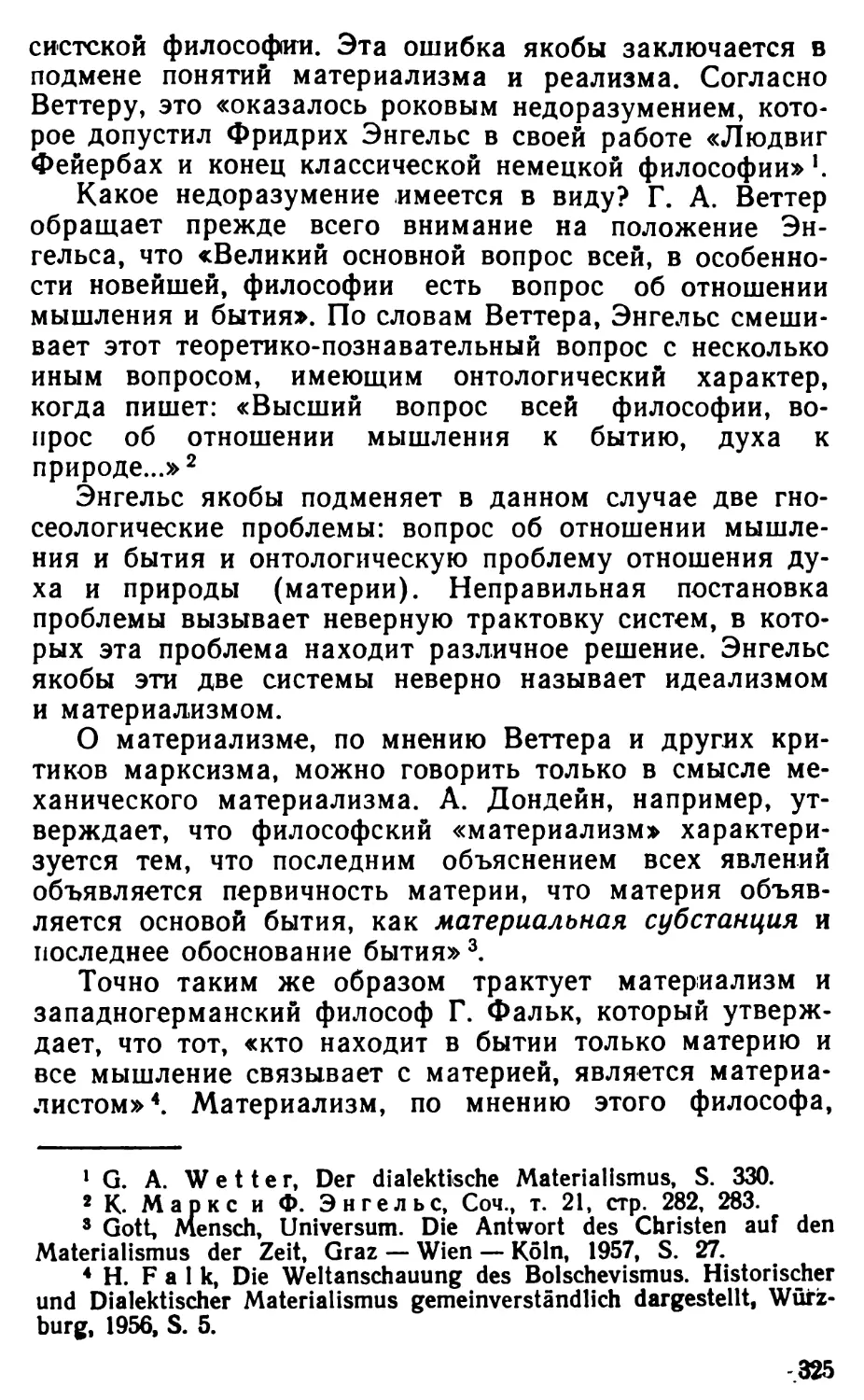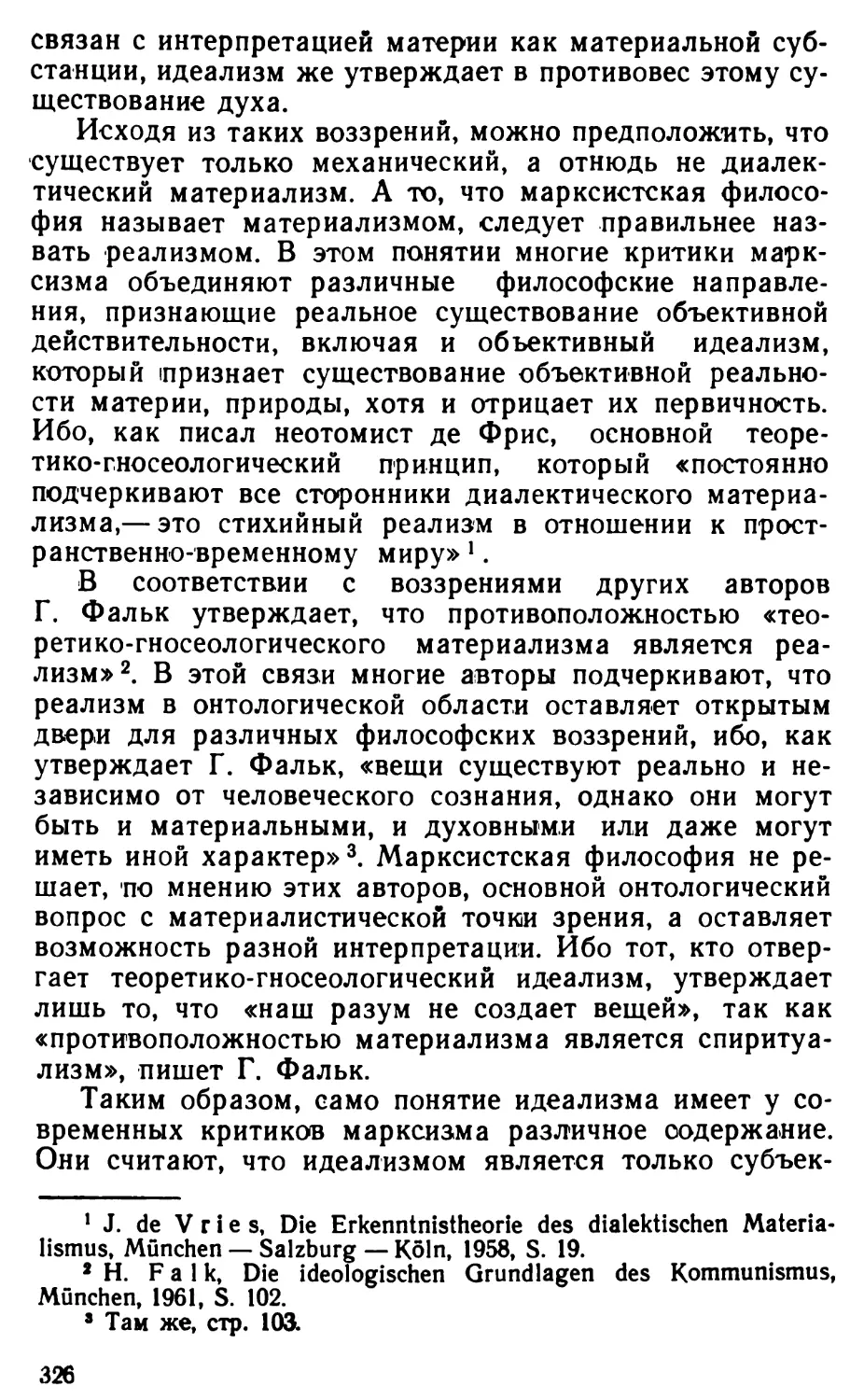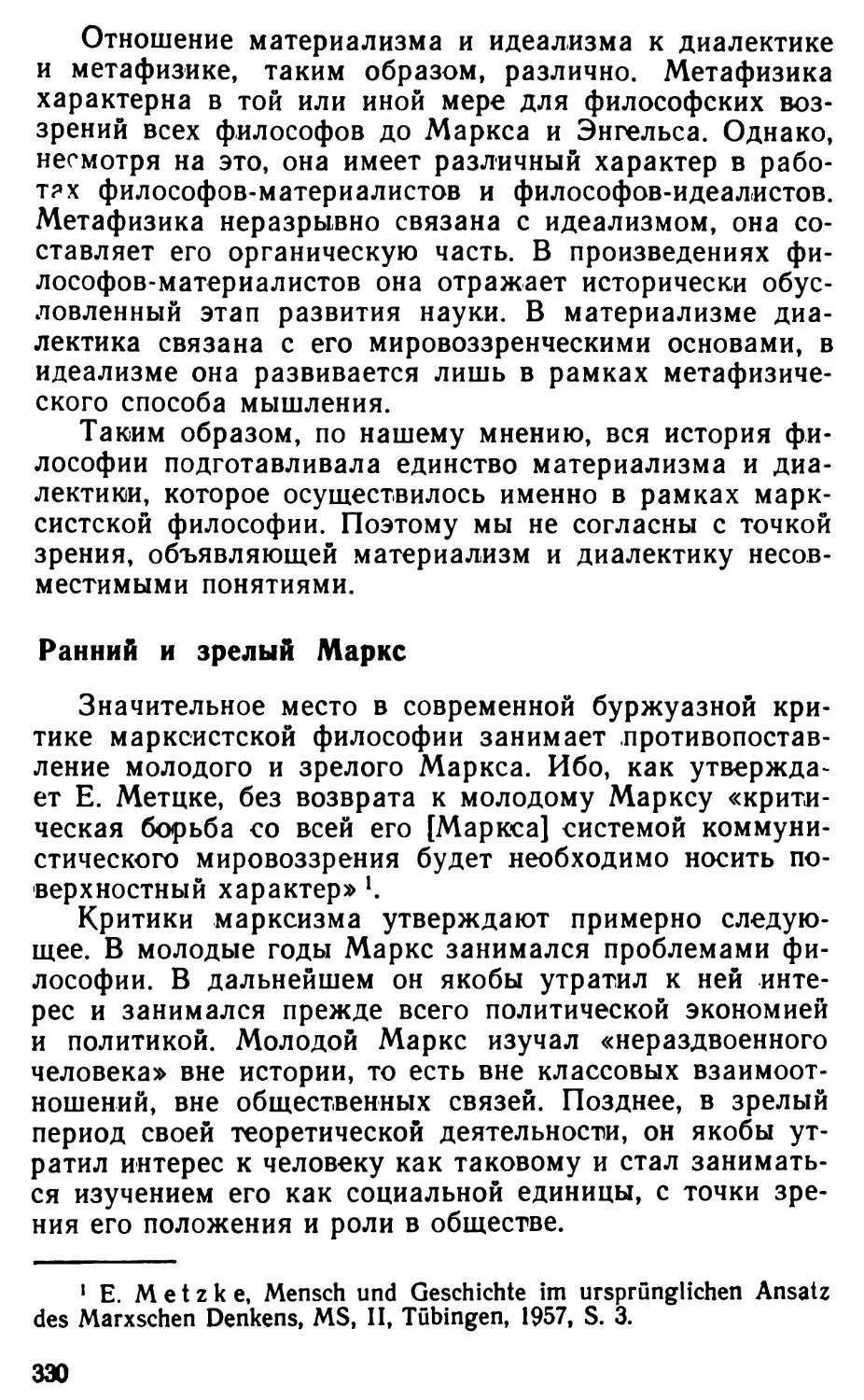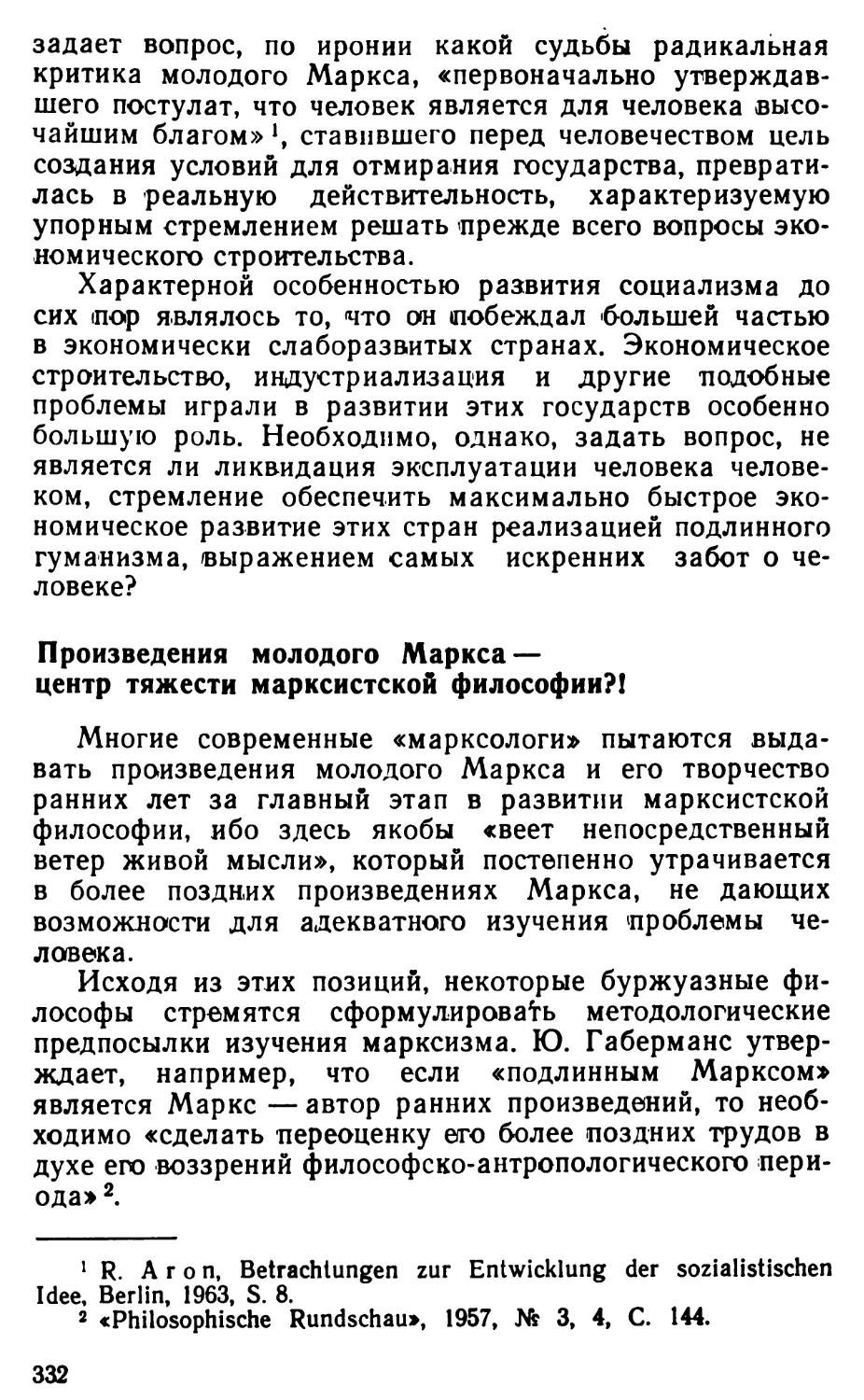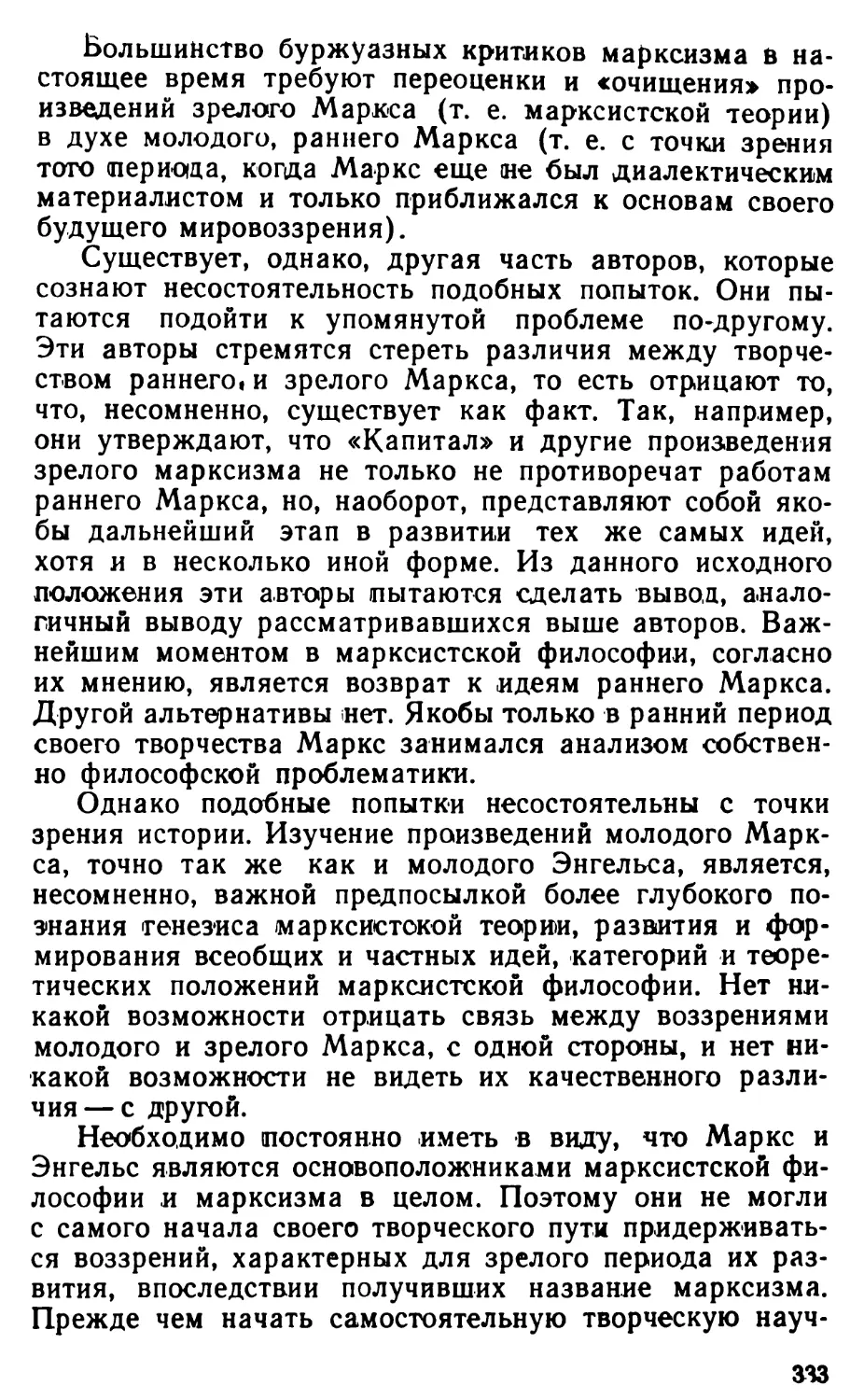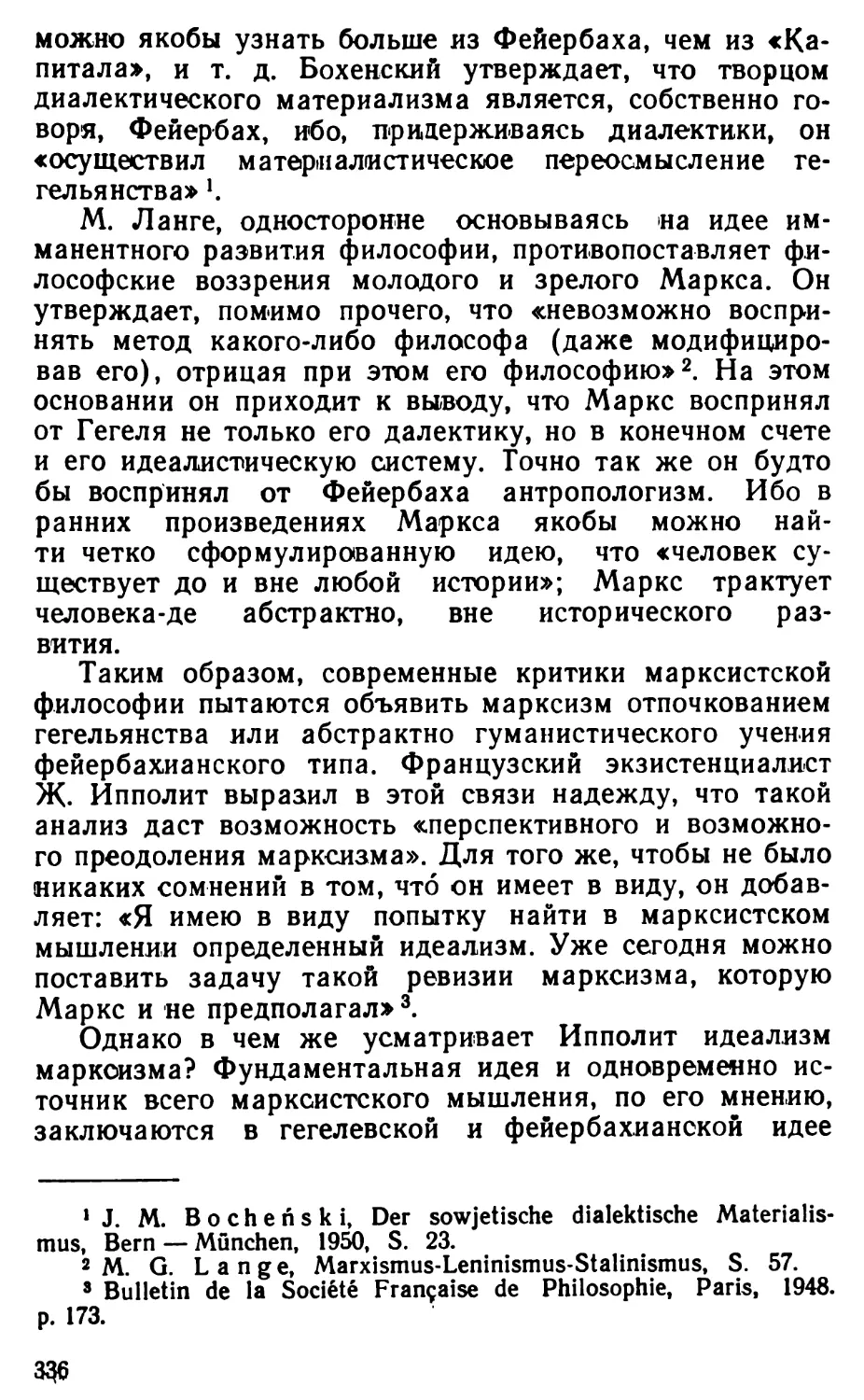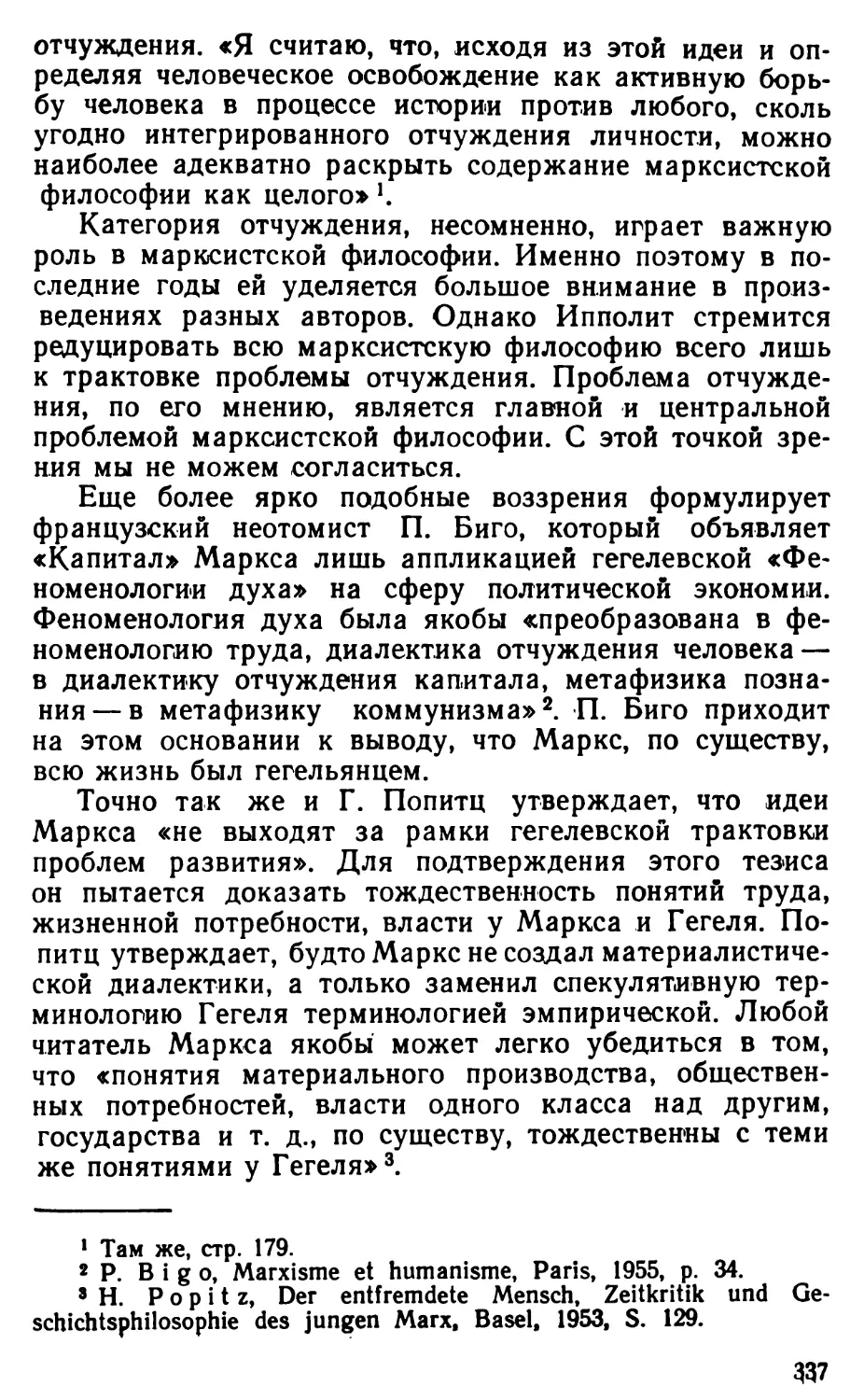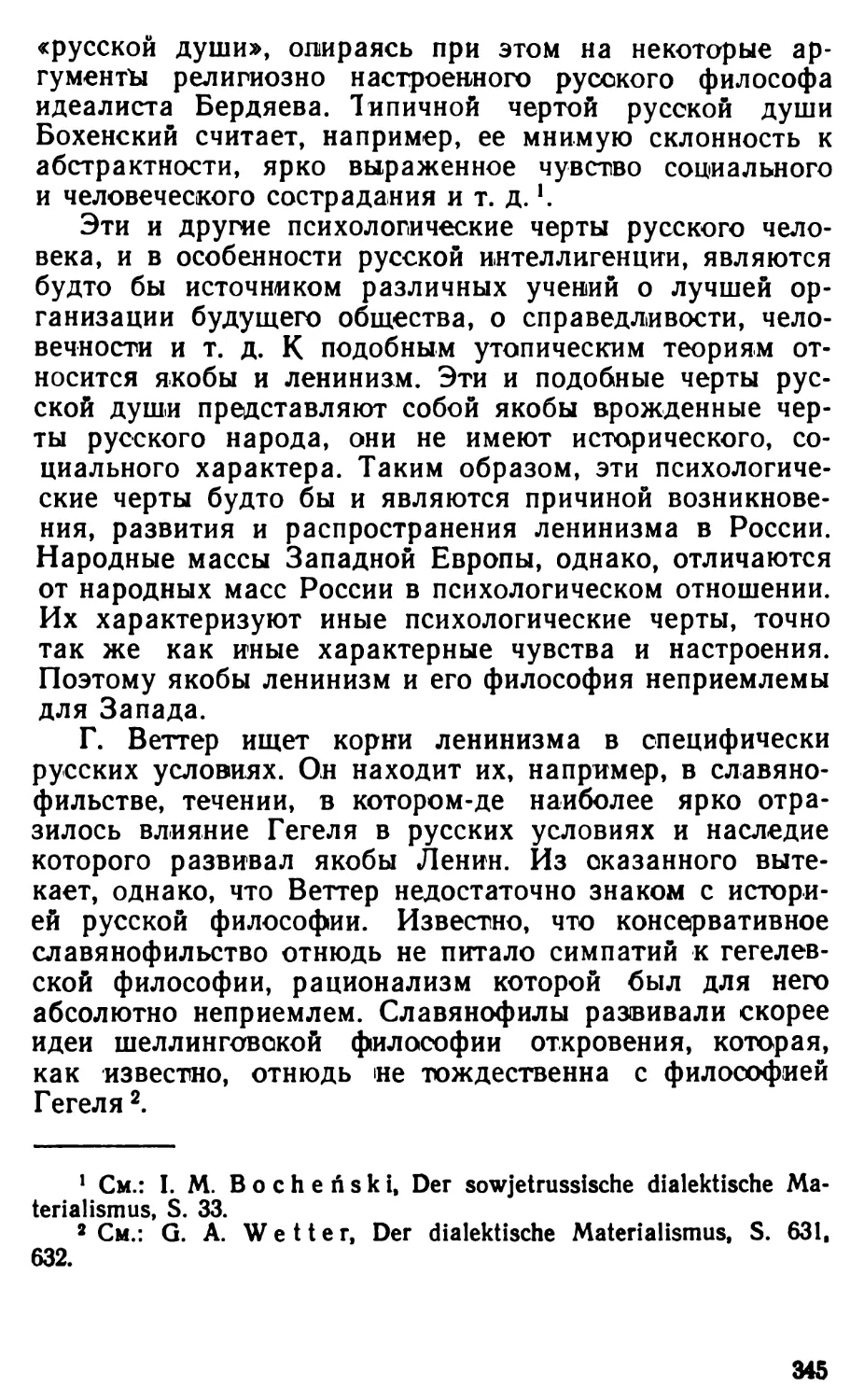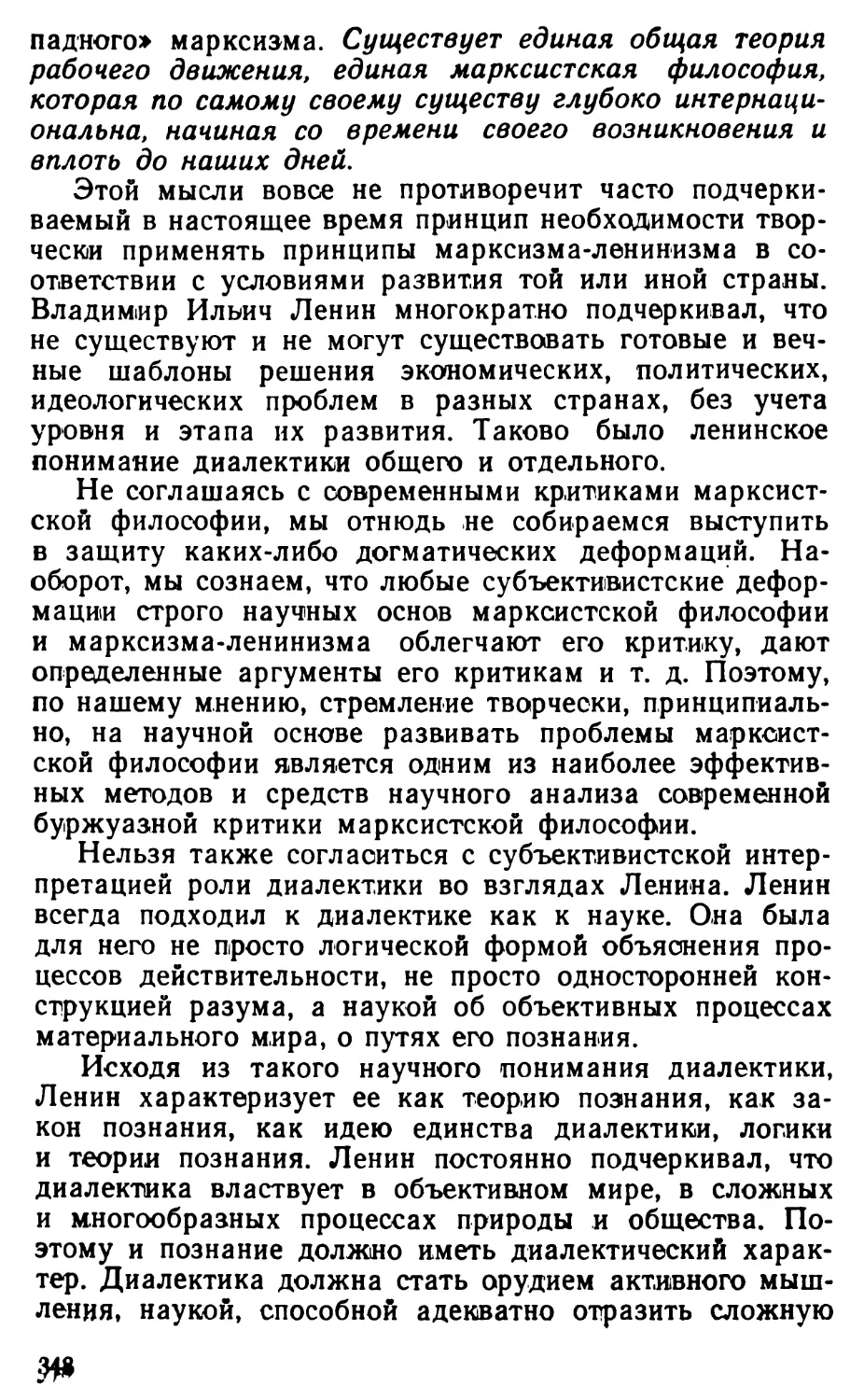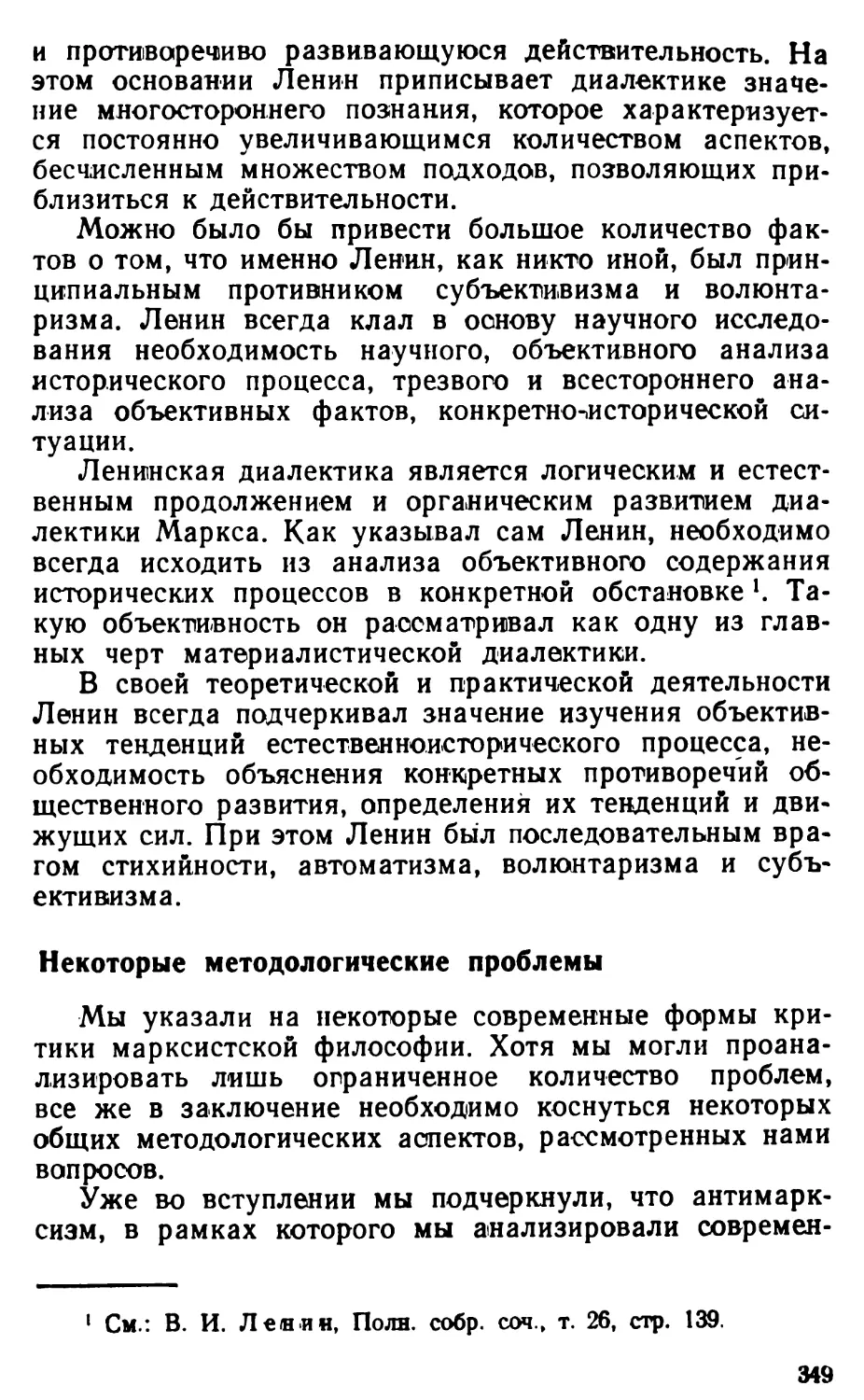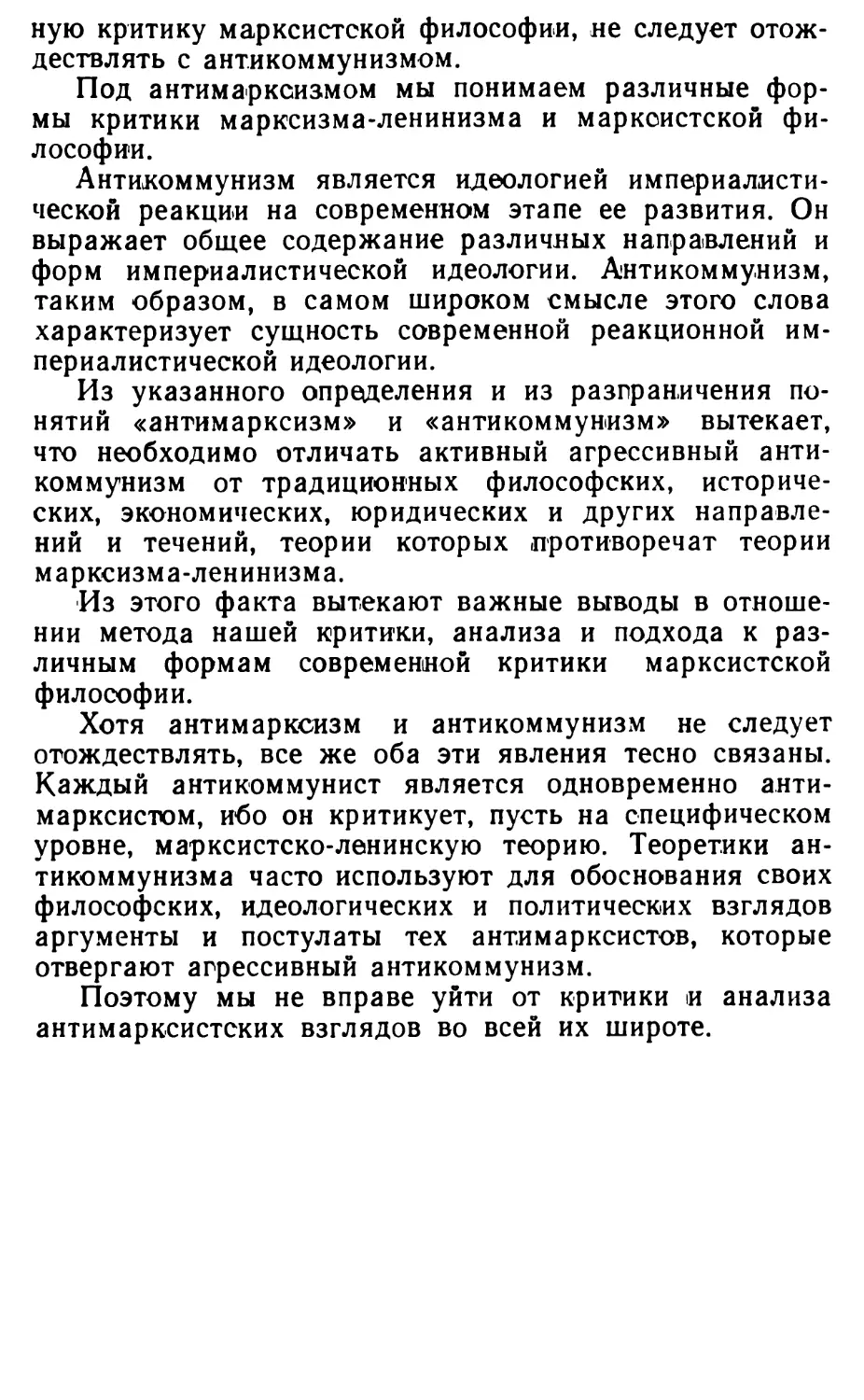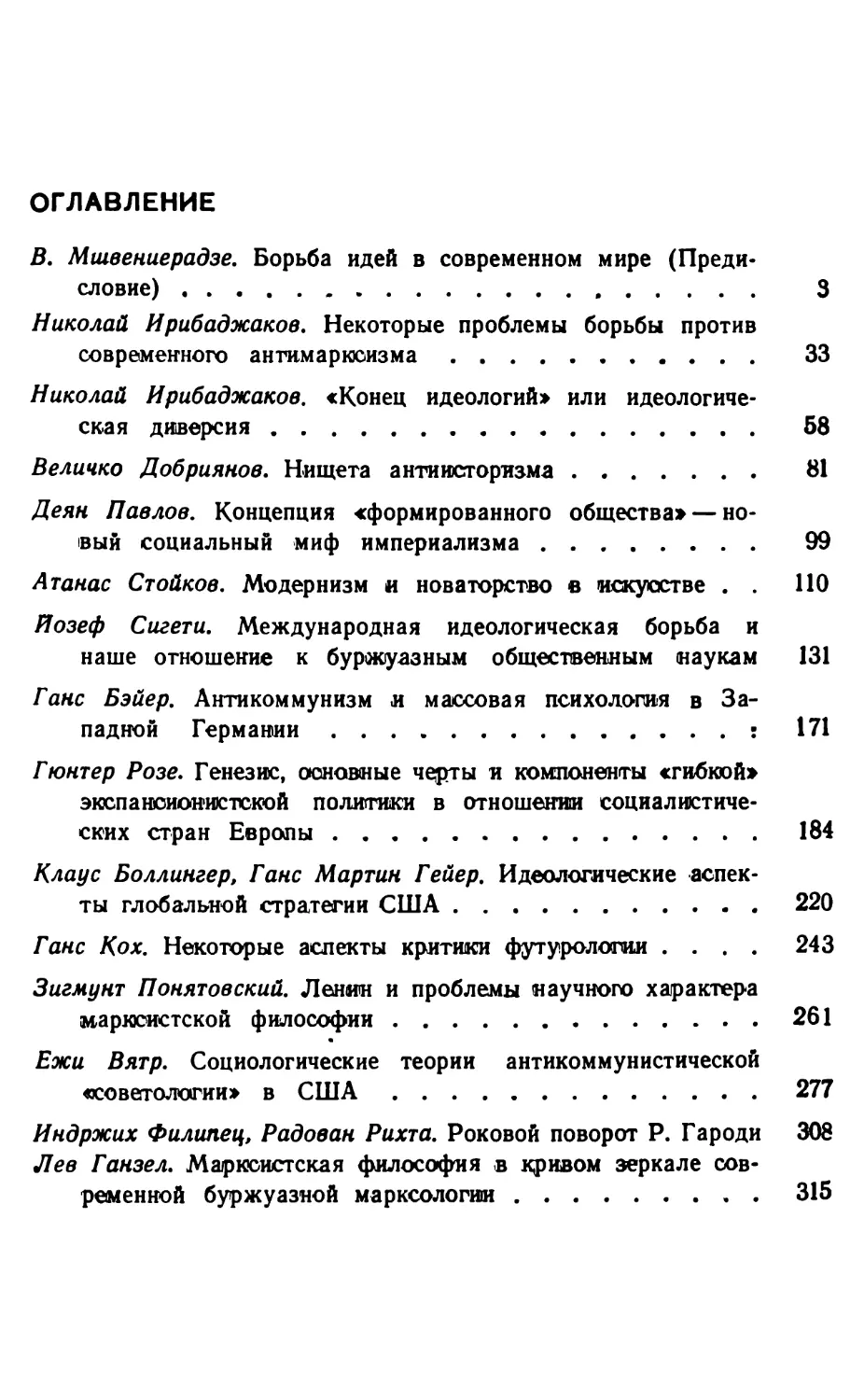Текст
ЗАРУБЕЖНЫЕ
МАРКСИСТЫ
В БОРЬБЕ
ПРОТИВ
БУРЖУАЗНОЙ
ИДЕОЛОГИИ
СБОРНИК ПЕРЕВОДОВ
РЕДАКЦИЯ И ПРЕДИСЛОВИЕ
ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК.
ПРОФЕССОРА В. В. МШВЕНИЕРАДЗЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО " ПРОГРЕСС "
МОСКВА 1971
В переводе участвовали:
Л. В. Васильев
3. В. Горлова
М. М. Гуренко
Д. Д. Николаев
А. Т. Савосин
Л. В. Ягодовский
Редакция литературы по вопросам философии и права
1-5-5
3—71
БОРЬБА ИДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Реальная ситуация в современном мире — это острая
борьба капитализма и социализма, выражающая
основное противоречие эпохи. В духовно-идеологической
области эта борьба находит свое отражение прежде всего
в ожесточенной борьбе между марксистско-ленинской
идеологией и идеологией буржуазной. И если влияние
марксизма-ленинизма растет изо дня в день, то
буржуазная идеология находится в тисках все
углубляющегося кризиса. Проявлением крайней степени деградации
современной буржуазной идеологии является
антикоммунизм.
Современная борьба идей создает потребность в
глубоком критическом анализе взглядов, концепций и
доктрин идеологических противников. И это не только и не
просто духовно-идеологическая потребность, но
потребность политическая и социальная.
Антикоммунизм, основным содержанием которого
является фальсификация марксизма-ленинизма,
клевета на теорию и практику строительства социализма и
коммунизма, извращение политики коммунистических
партий, был и остается главным идейно-политическим
оружием современного империализма. Это вовсе не
означает, что сам он при этом остается неизменным.
Напротив. Если до сравнительно недавнего времени его
главным оружием была грубая фальсификация фактов,
открытые идеологические диверсии, то ныне наряду с
указанными приемами он использует более изощренные
методы, охватывая почти все сферы политической и
государственной деятельности в капиталистических
странах, широкую область культуры. Антикоммунизм
поднят на уровень государственной политики и служит
основой идеологической и политической стратегии
современного империализма.
3
Сегодня, когда наряду с капиталистической системой
существует мировая система социализма,
навязывающая империалистам политику мирного сосуществования
государств с различным общественным строем,
антикоммунистическая идеология и политика претерпели
значительные изменения. При этом следует особо подчеркнуть,
что изменения эти идут в направлении все большего
обострения классовой борьбы между мировым
капитализмом и мировым социализмом, вызванного кризисом
капитализма и успехами теории и практики
коммунистического строительства. Процесс обострения классовой
борьбы является определенной закономерностью
современной эпохи. Этот закон открыл и
сформулировал В. И. Ленин, указывая, что капитализм «не
умирает сразу и тем более бешено сопротивляется, чем
ближе к смерти» !.
Раскрывая внутренний механизм действия этого
закона, В. И. Ленин подчеркивал: «Чем мы больше
побеждаем, тем больше капиталистические эксплуататоры
учатся объединяться и переходят в более решительное
наступление»2.
Эти слова В. И. Ленина исключительно актуально
звучат сегодня. Не сумев добиться победы над
коммунизмом в открытой борьбе, империалисты перенесли
центр своих антикоммунистических атак на подрыв
социализма и всего революционного движения изнутри.
Это, пожалуй, наиболее характерная черта классовой
стратегии империализма в наше время. При этом
первостепенное значение придается идеологической форме
классовой борьбы.
Антикоммунизм своим острием сегодня направлен
прежде всего против трех основных революционных сил
современности — мировой социалистической системы,
международного коммунистического движения,
национально-освободительной борьбы народов, — против их
единства. Он ведет свое наступление фронтально, в
глобальном масштабе, пытаясь не упустить из-под своего
тлетворного влияния ни один слой населения, ни
одно массовое движение, даже если оно носит по-сущест-
ву антиимпериалистический характер.
1 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 36, стр. 382.
2 Там же, т. 23, стр. 3.
4
За последние годы империализм исключительно
активизировал антикоммунистическую деятельность,
усилил пропагандистскую машину, усовершенствовал
разнообразные средства массового идеологического
воздействия— прессу, телевидение, радио, кинематограф.
Создана разветвленная индустрия по выработке
антикоммунистических идеологических штампов, которые
предназначены для того, чтобы навязывать человеку
совершенно определенный способ социальной ориентации и
иллюзорное, извращенное восприятие реальных
процессов. Антикоммунистическая истерия захлестывает
тысячи обывателей. Для различных слоев населения,
начиная от школьников, студентов, домохозяек, рабочих,
фермеров и кончая конгрессменами и сенаторами,
систематически проводятся специальные семинары по
антикоммунизму, издаются популярные учебники, курсы
лекций и солидные монографические исследования.
К этому следует добавить, что антикоммунизм
отнюдь не ограничивается сферой идеологии, сферой
сознания. Он лежит в основе всей агрессивной политики
современного империализма.
Таким образом, антикоммунизм — это идеология и
политика воинствующей реакционной буржуазии. Он
представляет собой совокупность идеологических и
политических средств борьбы главным образом против
коммунистической идеологии и революционной
практики с целью защиты капитализма, усиления
эксплуатации трудящихся, уничтожения демократии,
«обоснования» агрессивных войн, сохранения колониального и
национального гнета.
Активизация антикоммунистической идеологии и
политики современного империализма отражает тщетную
попытку решить основное противоречие современной
эпохи — противоречие между социализмом и
капитализмом — в пользу капитализма. Империализм
навсегда утратил историческую инициативу, он оказался
неспособным противостоять революционным силам,
выступающим за социальный прогресс, социалистическое
преобразование общества, национальное освобождение.
Империализм предпринимает отчаянные усилия,
чтобы отвратить народы от революционной борьбы,
сохранить систему капиталистического рабства, отравить
сознание трудящихся масс ядом антикоммунизма, дискре-
5
дитировать марксизм-ленинизм, оклеветать политику и
подлинные цели коммунистов. В этих усилиях
империалистической буржуазии следует различать прежде всего
две взаимосвязанные стороны, одна из которых
характеризует внешнюю политику империализма, а другая —
внутреннюю.
Антикоммунистическая направленность
внешнеполитического курса ведущих капиталистических стран, и
прежде всего США, выражается в разных формах —
создании пресловутых военных блоков, открытой агрессии
во Вьетнаме, Камбодже, ряде латиноамериканских
стран и стран Среднего Востока, в экспорте
идеологической и политической контрреволюции. Черное знамя
антикоммунизма нередко служит фиговым листком для
прикрытия агрессивной антидемократической
реакционной политики, особенно по отношению к развивающимся
странам. Когда в той или иной стране зреет решимость
народа к освобождению от колониального рабства, к
демократическим и культурным преобразованиям,
империалисты начинают истошно вопить о мнимой
«коммунистической угрозе» и под видом борьбы
против коммунизма пытаются задушить
национально-освободительные и демократические движения, ведут
агрессивные войны.
При этом для «теоретического» обоснования
агрессии, как правило, выдвигается какая-нибудь очередная
антикоммунистическая «доктрина» — «силовая»,
оправдывающая применение открытой силы, либо
наукообразно-дипломатическая концепция, рассчитанная на
идеологическую диверсию и подрыв коммунизма
изнутри. Таковы, например, «доктрина устрашения
коммунизма», «доктрина сдерживания», «освобождения» и др.
Ту же роль, но более изощренными методами
призваны сыграть различные теоретические концепции, в
которых буржуазные идеологи пытаются обосновать
некоммунистический или антикоммунистический путь
развития человеческого общества.
Что касается внутренней направленности
антикоммунистической политики современного империализма,
то она характеризуется некоторыми своеобразными
чертами,, важнейшей из которых является нагнетание
страха у народа мнимой коммунистической угрозой и
затем всесторонняя и полная эксплуатация этого стра-
6
ха по всем правилам системы выжимания пота.
Подавление забастовочного движения, разгром студенческих
демонстраций, преследование демократических сил,
травля коммунистов и другие реакционные акции
проводятся для того, чтобы отвратить трудящиеся массы
от революционной борьбы, прикрыть оголтелый расизм,
эксплуатацию человека человеком и, пытаясь
переложить ответственность с больной головы на здоровую,
изобразить реальные противоречия и пороки
капиталистического общества как «происки коммунистов».
Хорошо налаженная и весьма четко работающая огромная
пропагандистская машина ежедневно, ежечасно
отравляет ядом антикоммунизма сознание обывателя.
Не так давно в США вышла книга «Анатомия
антикоммунизма», написанная группой американских
авторов, которых никак невозможно заподозрить в каких-
либо симпатиях к коммунистам. Констатируя
обстановку антикоммунистической истерии в США, авторы
пишут, что «антикоммунизм стал американским образом
жизни, удостоверением на респектабельность». Авторы
подчеркивают также, что «антикоммунизм окрашивает
все аспекты американской политики. Он стал
бессознательной чертой мышления; он принимается почти без
споров». Нельзя не согласиться с авторами, когда они
отмечают, что, «как выяснилось, антикоммунизм стал
политической стратегией, которая борется не только с
коммунизмом, но также и с нейтрализмом и
демократической революцией. Он основан на антипатии к
социальным преобразованиям и защите существующего
положения вещей, он использует страх перед
коммунизмом в качестве прикрытия для консервативной, а
иногда и реакционной политики».
Возведение антикоммунизма в некий принцип
социального поведения приводит к весьма плачевным
последствиям. С одной стороны, он диктует определенную
ложноиллюзорную схему восприятия действительности,
через призму которой она отражается извращенно, и
тем самым препятствует разумной, объективной оценке
фактов, мешает созданию научного взгляда на
социальные процессы. Поэтому и различные
антикоммунистические теоретические концепции, по существу, лишены
реальной объективной перспективы, строго
методологического подхода и доказательной интерпретации фактов,
7
столь необходимых для любой .научной теории.
Буржуазное сознание уже в силу своего классового характера
является ограниченным. Оно не может быть
последовательно научным, оставаясь буржуазным. Для этого оно
должно выйти за рамки, диктуемые
социально-классовыми необходимостями капиталистической реальности,
и преодолеть буржуазные иллюзии. Следует отметить,
что сам этот процесс «переоценки ценностей» является
весьма сложным, противоречивым, длительным и
нередко порождает различные формы «раздвоенного» сознания
и «двойственного» поведения. Эту способность
современного буржуазного сознания, которая особенно заметна
у западной интеллигенции, верно подметил
прогрессивный американский философ Д. Ходжес, заявивший, что
«интеллигенты сами могут не обманываться, но им
хорошо оплачивают введение в заблуждение других. Более
того, это делается в их коллективных интересах». Но
с другой стороны, антикоммунизм, предъявляя
обывателю весьма примитивные требования, то есть
необходимость лишь резко отрицательного отношения к
коммунизму, при котором не требуется ни развитого
интеллекта, ни высокой культуры мышления, объединяет
в свои ряды самые отсталые слои буржуазного
общества. И в том и в другом случае антикоммунизм выступает
как синоним антинауки. Глобальный масштаб
антикоммунизма обусловлен переломным характером
современной эпохи — эпохи всемирно-исторического перехода
от капитализма к социализму и коммунизму,
интернационализацией революционного процесса, развитие
которого пытается задушить или по крайней мере
затормозить империализм. Наиболее реакционным ядром
современного антикоммунизма является антисоветизм —
клевета на СССР, на политику КПСС, на наш великий
героический советский народ, различные формы
политической и идеологической диверсии против нашего
государства. Антисоветская направленность современного
антикоммунизма объясняется прежде всего тем, что
именно Советский Союз является несокрушимой силой
в борьбе за мир, против империализма, твердой опорой
социалистической системы, мирового революционного
движения, верным другом народов, вставших на путь
национально-освободительной борьбы.
В свое время антикоммунизм явился вдохновителем
8
международной реакции, пытавшейся с помощью 14
.империалистических государств задушить молодую
республику Советов. Антикоммунизм направлял
деятельность внутренней и внешней контрреволюции против
Советского государства. Антикоммунизм явился
повивальной бабкой гитлеровского фашистского государства,
которое заботливо взращивалось империализмом для
нанесения сокрушительного удара по первой стране
победившего социализма.
Советский народ под руководством ленинской партии
в невероятно тяжелых условиях, показывая образцы
массового героизма и величайшего самоотверженного
труда, строил и построил социализм. Он не только
отстоял республику Советов, разбив интервентов и
контрреволюцию. Советский Союз явился главной силой,
сокрушившей фашизм и открывшей тем самым для
многих народов Европы историческую перспективу
прогрессивного развития, строительства социалистического
общества. В мире резко изменилось соотношение сил в
пользу социализма. Наряду с СССР возникла целая
система социалистических государств. Агрессивная
политика антикоммунизма, направленная на военное
сокрушение социализма, потерпела крах.
Правда, империалисты до сего времени не
отказываются от обанкротившейся антикоммунистической
политики откровенной агрессии и войны. Выступая под
грязным знаменем антикоммунизма, они непрерывно
ведут локальные войны, организуют вооруженные
провокации против народов, борющихся за свою свободу и
независимость, насаждают и поддерживают расистские,
фашистские и полуфашистские режимы, экспортируют
контрреволюцию.
Одна из особенностей современного
антикоммунизма— это отказ от оголтелого отрицания
коммунистической теории и практики, заигрывание с отдельными
положениями марксистско-ленинской теории, частичное
признание успехов социализма для того, чтобы
дискредитировать его в целом. Давно прошли те времена,
когда буржуазные идеологи пытались «закрыть» марксизм.
Ныне марксизм-ленинизм представляет собой самую
влиятельную идеологическую и политическую силу
современности. С этой силой, приведшей к
революционному обновлению мира, не могут не считаться наши идео-
9
логические противники. Приспосабливаясь к новым
условиям, они спекулируют на возросшем авторитете
марксистско-ленинской теории и пытаются
использовать в своих целях ее отдельные положения. В свое
время В. И. Ленин отмечал: «Диалектика истории такова,
что теоретическая победа марксизма заставляет его
врагов переодеваться марксистами»1. Сегодня, когда мы
являемся свидетелями не только теоретических побед
марксизма, но и величайшего практического триумфа
марксистско-ленинского учения, его растущего влияния
на миллионы людей во всех уголках земного шара,
буржуазные идеологи более чем когда-либо раньше
прикидываются «друзьями» марксизма-ленинизма. Среди
буржуазных идеологов появилась даже новая профессия —
«марксолог», «марксинер», «марксианист», «кремлено-
лог», «советолог». Эти «эксперты» и «знатоки»
марксистско-ленинской теории кичатся своим «объективным»
подходом, бессовестно извращают марксизм под видом
его «творческого» развития и при этом объявляют себя
чуть ли не единственными хранителями марксистского
учения в «чистом виде». Они пытаются перехватить
историческую инициативу у социализма, «отобрать»
марксизм у коммунистических партий, «усовершенствовать»
и «размягчить» его и тем самым лишить современный
рабочий класс, трудящиеся массы величайшего
духовного оружия сплочения своих рядов и успешной борьбы
за социальный прогресс. Именно этой цели служат
различные модные концепции «деидеологизации», в
которых «доказывается» необходимость «очистить»
марксизм от идеологии. Этой же цели служат новейшие
антикоммунистические «теории слияния» (конвергенции)
капитализма и социализма, в особенности США и
Советского Союза, в некий «единый мир». Согласно этим
широко распространенным в буржуазных странах теориям
конвергенции, у социализма и капитализма имеется
якобы больше общих черт, чем различий. Более того,
общих черт становится все больше, а различия
стираются, и идет, таким образом, процесс постепенного их
«слияния», «синтеза». Причем если лет десять назад,
когда эти теории еще только входили в моду,
.буржуазные идеологи проповедовали конвергенцию двух систем
1 В. И. Л е н ин, Поли. собр. соч., т. 23, стр. 3-
10
по экономической лййии и техническим показателям, fo
ныне, по их мнению, «слияние» капитализма и
социализма происходит по всем линиям—и экономической,
и политической, и культурной, и научной, и даже
идеологической. Разумеется, не все сторонники теории
конвергенции являются закоренелыми антикоммунистами.
Но несмотря на благие субъективные намерения
отдельных ее сторонников, сама теория конвергенции
объективно выполняет реакционную роль, которую
демагогически пытаются скрыть ее создатели. Цело в том, что
гибридное «интегральное» общество, «единый мир»,
который пропагандируют приверженцы теории
конвергенции, на поверку оказывается тем же самым
капиталистическим обществом с господством частной
собственности и эксплуатацией человека человеком. Тем самым
буржуазные идеологи извращают объективные
тенденции и перспективы социального прогресса,
фальсифицируют неизбежность победы социализма и коммунизма
во всем мире. Одна из важнейших функций теории
конвергенции состоит в «теоретическом преодолении»
объективно-реальных социально-экономических и
политических пороков и противоречий современного
капитализма, в попытке «теоретического» и идеологического
«восполнения» тех неискоренимых глубоких и зримых
недостатков, которые характеризуют капиталистическую
действительность. Так, теория конвергенции нередко
демагогически трактуется как якобы «альтернатива»
мировой термоядерной войне, как «теоретическое»
обоснование необходимости мирного сосуществования
государств. Это обстоятельство часто вводит в заблуждение
многих честных ученых на Западе, именно по указанной
выше причине объявляющих себя сторонниками
конвергенции.
Верно, что в теориях конвергенции не обходится
стороной вопрос о мирном сосуществовании. Более того,
можно смело сказать, что эти теории являются
результатом социально-приспособительных реакций
буржуазных идеологов именно на современные условия
необходимости мирного сосуществования государств с
различным общественным строем, на условия, когда наличие
могучей мировой системы социализма существенно
ограничивает проявление агрессивной сущности
империализма. Однако неправильно считать теории конверген-
11
ции теориями мирного сосуществования государств.
Считать так — это значит поддаться демагогии буржуазных
идеологов, которые на деле рассматривают «мирную
конвергенцию» как подготовку условий для
«эволюционной гибели социализма» и требуют, чтобы Советский
Союз и другие социалистические страны во имя мирного
сосуществования с Западом осуществили
«фундаментальную идеологическую ревиаию» и отказались от
революционных целей. Не трудно заметить также, что в
этих «теориях слияния» капитализма и социализма,
которые на деле являются «теориями поглощения»
капитализмом социализма, под видом «дружеских объятий»
проповедуется далеко идущая реакционная политическая
цель реставрации капитализма в СССР и других
странах социализма. Эти «теории» на деле представляют
собой реакцию по всей линии.
Следует подчеркнуть, что сам факт появления
различных теорий конвергенции есть по существу
негласное и вынужденное признание величайших успехов
социализма, его исторической неодолимости. Если бы лет
50 назад какой-либо буржуазный идеолог выступил с
теорией о слиянии капитализма и социализма, его
наверняка предали бы анафеме. Сегодня подобные теории
лежат в основе государственной политики ведущих
капиталистических держав. Чем это объяснить? Дело в
том, что современные буржуазные идеологи уже не
видят исторических перспектив развития капитализма. Их
действительно нет. Поэтому империалисты хотят
зацепиться за те реальные исторические перспективы,
которые действительно имеются у социализма. Вот почему
они проповедуют различные «теории слияния».
Из антикоммунистических теоретических доктрин
теория конвергенции отнюдь не является единственной.
Правда, она продолжает оставаться исключительно
распространенной и систематически эволюционирует,
проявляясь в новых, видоизмененных формах. Тем не менее
за последние годы она уже не всегда выдерживает
конкуренцию с другими, более воинствующими, хотя и не
менее изощренными антикоммунистическими
концепциями. Среди последних следует отметить концепцию
«параллельного развития капитализма и социализма» и так
называемую теорию «национального коммунизма».
Согласно первой концепции, претендующей на «наиболее
12
реалистическое» отражение действительности,
эволюционные линии капитализма и социализма основываются на
«балансировке сил», которая не дает возможности этим
линиям ни сблизиться, ни слишком разойтись, но
вынуждает к взаимному уважению государственных интересов.
Эта концепция примечательна тем, что содержит
полемику против «двух крайностей» в истолковании
расстановки политических потенций в современном мире —
против «утопической конвергенции» и против
догматической «доктрины тоталитаризма», согласно которой
коммунизм отождествляется с фашизмом.
Разумеется, теории конвергенции имеют множество
уязвимых мест даже с точки зрения буржуазного
сознания. Все более фальшивой выглядит «доктрина
тоталитаризма» с ее абсурдным основным тезисом о
тождестве фашизма и коммунизма. Наиболее ядовитым для
нее остается простой вопрос, простой и всем хорошо
известный факт: как и чем объяснить, что
«тоталитарный», коммунистический Советский Союз нанес
решающее поражение фашизму, а так называемые
нетоталитарные, «демократические» режимы не только взрастили
фашизм, но и сегодня попустительствуют (если не прямо
поощряют) усилению фашистских и неофашистских
тенденций в общественно-политической жизни?
Исчерпывающий ответ на этот вопрос дала история: коммунизм
и только коммунизм является абсолютным антиподом
фашизма.
За последние годы, однако, среди
антикоммунистических концепций на одно из первых мест выдвинулась
теория «национального коммунизма». Она наиболее
гротескно отражает основную стратегическую линию
современного империализма на перенесение фронта
идеологической борьбы в социалистические страны, подрыв
социализма изнутри, всемерное использование ревизионизма
и социал-реформизма, насаждение антисоветизма. Эта
теория пытается использовать трудности и разногласия,
имеющиеся сегодня в мировом коммунистическом
движении. Тем не менее действительная ее основа остается
крайне утопичной и фантастичной. Вместо учета
реальных тенденций современности представители теории
«национального коммунизма» выдают желаемое за
действительное, когда все свои рассуждения основывают на
двух главных допущениях: 1) разногласия в содружест-
13
ве социалистических стран приведут к такому расколу
в мировом коммунистическом движении, когда путем
проведения политики избирательного, «селективного
сосуществования» с отдельными социалистическими
странами и локальных войн откроется реальная возможность
ликвидации социализма и коммунизма; 2) противоречия
«народного характера» внутри социалистических стран
достигнут такой остроты, что поставят
социалистический лагерь и мировое коммунистическое движение на
край гибели, и эта обстановка будет наиболее
благоприятной для достижения стратегической
антикоммунистической цели западных держав. Причем утверждается,
что достижение этих целей невозможно путем лишь
пассивного выжидания. Напротив, теория «национального
коммунизма» предлагает активизировать идеологическую
борьбу против коммунизма во всех сферах,
конкретизировать ее в зависимости от обрабатываемого в
антикоммунистическом духе слоя населения, сделать более тонкой
и изощренной идеологическую диверсию, продумать
методы «инфильтрации идей» и в качестве своих
единомышленников и вернейших помощников полностью
использовать ревизионистов как антикоммунистическую силу,
углубляющую «эрозию» коммунизма и борющуюся
против «интегрирующего мифа официальной пропаганды».
Здесь следует отметить две типичные особенности
современного антикоммунизма: во-первых, это
методически продуманная система идеологических диверсий; во-
вторых, он тесно, органически связан с ревизионизмом.
В системе идеологических диверсий современного
империализма значительное место занимает всемерное
стимулирование в социалистических странах чувства
«национального эгоизма», которое, по мнению идеологов
антикоммунизма, и является основным
социально-психологическим и политическим оружием, способным
подточить единство мировой социалистической системы
и международного коммунистического движения. В ход
пускаются все средства, начиная от раздувания
национальных традиций, особенностей быта и темперамента
народов отдельных стран вплоть до набивших оскомину
попыток изображения марксизма как «устарелого»
учения, а ленинизма — как «чисто русского явления».
Современные буржуазные идеологи хорошо отдают
себе отчет в том, что в результате революционных со-
14
циально-экономических, политических и идеологических
преобразований в странах социалистического
лагеря прежние носители антисоциалистических идей
потеряли массовую базу. Они не могут рассчитывать на
буржуазного или мелкобуржуазного массового потребителя
в этих странах. Приходится иметь дело с рабочим
классом, интеллигенцией, крестьянством, молодежью,
активно участвующими в создании социализма. Однако
исходя из этого несомненного социального факта
буржуазные идеологи не только не прекращают идеологические
диверсии, но, напротив, усиливают их, делают более
изощренными. Одним из новых моментов в
идеологической диверсии современного империализма следует
считать отказ от прямого и зряшного отрицания социализма
как такового. Сегодня буржуазные идеологи уже не так
часто занимаются пропагандой различных альтернатив
социализму; главное внимание они сосредоточивают на
поисках и пропаганде различных альтернатив внутри
социализма. Таким образом, наряду с отдельными
социалистическими странами буржуазные идеологи в
качестве главного объекта атаки берут социалистическую
систему в целом, ориентируясь на «внутрисистемную
оппозицию», которая могла бы «разбавить эссенцию
коммунизма». Национальная «модель социализма» — вот
что, по их мнению, может произвести сокрушительный
идеологический и политический взрыв внутри мировой
социалистической системы. Одним из наиболее
эффективных средств, «изматывающих противника»,
буржуазные идеологи считают ни больше ни меньше, как
создание «революционных ситуаций»(?!) в социалистическом
мире. Важнейшим средством здесь должно служить
использование «современной пропаганды, которая
позволит психологически искусно проникать западным идеям
в общественное мнение коммунистических государств».
Разумеется, было бы неправильно преувеличивать
роль буржуазной пропаганды, какой бы изощренной
она ни была и какие бы дерзкие задачи ни ставила
перед собой. Но ведь и империализм не сводит свою
антикоммунистическую деятельность только к
пропаганде. Вообще следует сказать, что было бы
дезориентирующей ошибкой в идеологической борьбе изображение
антикоммунизма только как пропаганды, против
которой достаточно вести лишь хорошо налаженную контр-
15
пропаганду. Однако, отмечая, что буржуазной
пропаганде не следует приписывать возможностей, которые
ей не под силу, необходимо особо подчеркнуть, что
недооценка идеологических и политических последствий
буржуазной пропаганды, буржуазной идеологии всегда
приводила и в дальнейшем может привести к
серьезнейшим реальным и политическим осложнениям, всегда
наносила и в дальнейшем может нанести непоправимый
ущерб строительству социализма и коммунизма,
которые являются результатом сознательной созидательной
деятельности миллионных масс трудящегося народа.
И никогда, особенно сегодня, не следует предавать
забвению или отклоняться от важнейшего указания
В. И. Ленина о том, чтобы борьбу с буржуазной
идеологией считать не преходящей задачей, продиктованной
сложившейся конъюнктурой, а объективной
необходимостью социального прогресса, чтобы «всегда
пропагандировать, охранять от искажений и развивать
дальше пролетарскую идеологию — учение научного
социализма, т. е. марксизм. Мы должны неустанно бороться
против всякой буржуазной идеологии, в какие бы
модные и блестящие мундиры она ни рядилась»1.
Другой важной характерной чертой современного
антикоммунизма является его безусловная
идейно-политическая связь с ревизионизмом. Исторический опыт
показывает, что в условиях ожесточенной
идеологической борьбы двух систем — капитализма и социализма
всякое отступление от марксизма-ленинизма, всякая
ревизия его принципов неизбежно приводят к
антикоммунизму и антисоветизму. Ревизионизм — это «троянский
конь» буржуазии внутри коммунистического движения.
И если ревизионизм связан с антикоммунизмом
преимущественно в политическом плане, то с антимарксизмом
и антиленинизмом он связан по преимуществу в
теоретическом отношении. Ревизионизм отрицает такие
коренные принципы марксизма-ленинизма, как теория
социалистической революции, учение о классах и
классовой борьбе, диктатура пролетариата.
Многое роднит современный ревизионизм с
антимарксизмом и в целом с буржуазной идеологией:
умаление роли партии, отрицание партийности науки, про-
1 В. И. Л ен и н, Поли. собр. соч.. т. 6, стр. 269.
16
поведь «деидеологизации» нелепое противопоставление
взглядов «молодого Маркса» взглядам зрелого Маркса,
Маркса — Ленину, Энгельса — Марксу и Ленину,
субъективно-идеалистическая, волюнтаристская трактовка
практики, подмена проблем классовой борьбы и
реального гуманизма абстрактно-гуманистическими и антро-
пофилософскими рассуждениями, отрицание ведущей
роли рабочего класса в революционной борьбе и многое
другое.
Империалистическая буржуазия, пытаясь взорвать
марксизм изнутри, всячески стимулирует так
называемые «новомарксистские» тенденции, всемерно поощряет
противопоставление «новых левых» «старым левым».
Она стремится расколоть идейное единство
коммунистов. Этой цели служат также самоновейшие
пресловутые теории «плюрализма» марксизма-ленинизма,
согласно которым ставится под сомнение всеобщий,
интернациональный характер марксистско-ленинского учения,
его значение ограничивается лишь узкими
национальными рамками. Особую популярность среди
антикоммунистов, антимарксистов и ревизионистов в последнее
время приобрели различные «интерпретации» ленинизма и
поиски различных «моделей социализма», цель которых
состоит в нахождении и проповеди некоей антисоветской
«модели социализма», дискредитации всепобеждающего
учения великого Ленина путем изображения ленинизма
лишь как одного из «вариантов» марксизма. Подобные
попытки нелепого противопоставления Маркса Ленину
не новы. Они предпринимались ревизионистами, так
сказать, еще «старшего поколения» и, как показала
жизнь, потерпели полный крах. Нет сомнения, что та
же участь постигнет аналогичные попытки
новоявленных ревизионистов.
Вместе с тем для эффективной борьбы против
буржуазной идеологии следует неустанно и решительно
разоблачать связь между антикоммунизмом и
ревизионизмом, его оппортунистической сущностью. И здесь не
должно быть никаких компромиссов. В. И. Ленин
предупреждал коммунистов: «Опаснее всего в этом
отношении люди, не желающие понять, что борьба с
империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой
против оппортунизма, есть пустая и лживая фраза»1.
1 В. И. Л е rfto н,' ПолнГcotu|j M^i.v i. 2/, Ui|J.' 'ffh
"" 17
Исторический опыт показывает, в частности, тесную
связь и взаимообусловленность между философским
ревизионизмом и политическим ренегатством. В одном
случае политический ревизионизм может
предшествовать философскому ревизионизму, а в другом —
философский ревизионизм может вести к политическому
перерождению и контрреволюции. Исторический опыт
свидетельствует также о том, что у ревизионизма
есть своя собственная логика эволюции. Начав с
безобидных на первый взгляд утверждений, что
незачем вести борьбу против буржуазной идеологии, что в
буржуазных теоретиках надо видеть скорее коллег, чем
идейных противников, что их не следует критиковать,
а надо заимствовать у них положительные идеи, а
критику перенести внутрь марксизма, и сопровождая все
это различными формами безобидного оригинальнича-
ния, такой теоретик постепенно теряет вкус к защите
марксистско-ленинской теории и невольно
становится на позиции ревизионизма, логика эволюции
которого в современных условиях ожесточенной
идеологической борьбы неминуемо толкает его к антикоммунизму.
Ревизионизм, как и антикоммунизм, паразитирует и
на том, что сам процесс усвоения и освоения принципов
ленинизма в изменяющихся условиях различных стран
является весьма сложным. Нередко этот процесс
пробивает себе путь сквозь неискоренимые догмы и
штампы буржуазного и мелкобуржуазного сознания. И здесь
представляется важным подход с другой стороны, а
именно вовремя уметь раскрыть механизм
функционирования буржуазной и мелкобуржуазной идеологии,
ее «выходы» в сторону ревизионизма.
Неверно отождествлять ревизионизм и
антикоммунизм. Это упрощение вопроса. Но также неверно не
видеть органической связи между ними, не видеть
контекста этой связи.
К буржуазным идеологам необходим конкретный
подход, следует отличать антимарксистов от
немарксистов, антикоммунистов от некоммунистов. Более того,
надо видеть и то, что антикоммунизм нередко
использует лишь отдельные высказывания немарксистов,
прибегая, так сказать, к «выборочному цитированию» и
априори зачисляя их в лагерь антикоммунистов. И
нельзя всех тех, кто не во всем согласен с марксизмом, при-
18
числять к лагерю антикоммунистов и антимарксистов.
Это очень важно, имея в виду, что идеологическая
борьба есть борьба не против людей, а за людей. Но не менее
важно дифференцированно подходить и к коммунистам.
Говоря о связи между ревизионизмом и
антикоммунизмом, невозможно игнорировать связь между
антикоммунизмом и догматизмом. Нет более широкого
простора для создания антикоммунистических концепций,
чем догматическое, нетворческое, неленинское
отношение к исследованию новых, острых, актуальных проблем
современности. Если марксисты уходят от
исследования этих проблем, то эти проблемы исследуются
антимарксистами в извращенном свете.
Наиболее актуальные теоретические проблемы
развития современной науки и общественной практики
неизменно служат объектом спекуляций со стороны анти-
маркоистов. Особое внимание при этом обращается на
антимарксистское истолкование законов общественного
развития, его движущих сил и исторических перспектив.
Создан целый ряд концепций со специальным
назначением— опровергнуть марксизм («модернизации», «ме-
такоммунизма», «постиндустриального общества» и
др.). На полную мощность используются другие
буржуазные социологические и философские теории,
которые, может быть, не являются непосредственно
антимарксистскими, но не выходят за рамки
апологетического отношения к капитализму. В перечисленных
выше антимарксистских теориях содержится попытка
поставить под сомнение действенность марксистско-
ленинского анализа законов общественного развития.
В них широко используется марксистская терминология,
но для того, чтобы выхолостить из нее
объективно-научное революционное содержание. Так, например,
приверженцы теории «модернизации» на словах признают
определенную направленность социальных изменений и
нередко даже кичатся тем, что строят свою концепцию
с учетом происходивших социальных революций. Однако
сама революция признается лишь для того, чтобы
извратить ее социально-политический смысл. Термин
«модернизация» трактуется как обозначение любого
изменения; то есть он лишен собственно терминологической
строгости, он не однозначен. Вслед за этим
расплывчатым термином вводится масса других: «социальной мо-
19
билизации», «структурной дифференциации»,
«органического разделения труда» и т. п., которые в конечном
счете должны «доказать», что прежние человеческие
общества были «традиционными», а в настоящее время
они изменяются, становятся современными,
«модернизируются». Но каковы эти изменения? Куда они ведут?
Каковы их движущие силы? В чем заключается
критерий социальной зрелости? На эти и другие важные
вопросы теория «модернизации» по существу ответа не
дает. Просто общества модернизируются, и баста!
Подлинная суть этой теории, ее негласно подразумеваемая
классовая направленность состоит в том, чтобы
попытаться доказать ненужность классового анализа
общества, непригодность марксистского научно-понятийного
инструментария для исследования социальных явлений,
анахроничность коммунистических идей, а констатацию
необходимых естественных условий жизнедеятельности
любого социального организма (изменение) сделать
основным тезисом и одновременно аргументом для
объяснения самого этого изменения. Теория «модернизации»
отрицает необходимость признания и доказательства
решающей роли народных масс в направленном
социальном прогрессе. Буржуазные идеологи боятся
народных масс, их объединенной социальной энергии и
потому игнорируют их в своих исследованиях, стараются
разуверить их в необходимости целенаправленной
революционной борьбы за будущее. Атаки буржуазных
идеологов против марксизма — это всегда суть атаки против
народных масс, и прежде всего против рабочего класса.
Это обстоятельство нашло свое типичное выражение
также в теории «постиндустриального общества». Ее
представители рисуют довольно туманную и утопическую
картину «послеиндустриального» общества, в котором
основную роль будут играть не рабочие и промышленники, а
интеллектуалы-ученые, а следовательно, вся власть будет
сосредоточена в университетах — этих своеобразных
«мозговых трестах», управляющих всей общественной
жизнью. Конечная цель этих рассуждений состоит в
попытке доказать, что марксизм «отомрет», ибо он является
одной из «технократических» теорий и ориентируется на
ведущую роль рабочего класса, в то время как будущее
общество, дескать, не будет индустриальным, а рабочий
класс, по существу, исчезнет.
20
Следует отметить, что буржуазные идеологи,
выказывая неудержимый страх перед рабочим классом и
его революционной идеологией — марксизмом,
значительно более спокойно относятся к интеллигенции, не
чувствуя здесь особой тревоги за будущее капитализма.
И это в то время, когда почти во всех ведущих
капиталистических странах наблюдается подъем молодежного
движения, нередко охватывающего значительные слои
интеллигенции, студенчества, а многие университеты
превратились в очаги антиправительственных
выступлений. Чем это объяснить? Видимо, тем, что современная
многоопытная буржуазия в массовых молодежных и
студенческих движениях, хотя эти последние и носят по
существу антиимпериалистический характер, не видит
реальной опасности для себя до тех пор, пока эти
движения не связаны с рабочим революционным
движением и поэтому легко поддаются демагогическому
манипулированию. Так же обстоит дело с интеллигенцией,
если она в своих политических и идеологических
устремлениях не стоит на позициях рабочего класса, не
отстаивает его интересов.
И хотя буржуазные идеологи за последнее время
создали и создают множество различных теорий о
будущем обществе, анализ этих теорий показывает, что их
возникновение продиктовано не столько заботой о
будущем, сколько тревогой за настоящее. И это понятно.
Дело в том, что современное буржуазное сознание,
оставаясь буржуазным, то есть апологетичным, по самой
природе своей неспособно к рациональному осмыслению
исторической перспективы. Но, с другой стороны, оно
не может игнорировать изучение имеющихся
тенденций в общественной жизни хотя бы потому, что
определенный анализ этих тенденций и социальных законов
уже имеется в неприемлемой для буржуазии
марксистской литературе. Это неразрешимое противоречие
между желанием и реальными возможностями довольно
часто приводит буржуазных идеологов к недовольству
существующими концепциями, к осознанию кризиса
буржуазной общественной мысли, к попыткам найти из
него выход. Одной из подобных попыток и является
входящая ныне в моду футурология — теория, ставящая
целью прогнозирование будущего.
При оценке буржуазной футурологии, как нам пред-
21
ставляе1*сй, следует избегать односторонних крайностей,
основанных на жестком дихотомическом делении по
схеме: либо это лженаука, либо в ней обязательно надо
искать «рациональные моменты» для заимствования.
Более разумно, если, проанализировав причины ее
возникновения, мы сумеем определить ее классовую
сущность, теоретическую обоснованность и вытекающие из
нее практические выводы. Тем самым можно будет
определить ее место и в общей системе современной
буржуазной идеологии и общественной мысли^
Разумеется, футурология не есть лишь плод досужего
вымысла. В какой-то степени она является реакцией на
буржуазную философию, уходящую, как правило, от
анализа законов общественного развития, и на
продолжающееся засилье в буржуазной социологии так
называемых «конкретных» эмпирических исследований,
которые оказались совершенно бессильными не только в
решении, но даже и в корректной постановке вопросов,
касающихся широкого, масштабного охвата социальной
перспективы. И в этом смысле представители
футурологии пытаются использовать те возможности
планирования и предвидения, которые имеются в условиях
государственно-монополистического капитализма. Вместе с
тем нельзя не видеть, что футурология как
определенная область общественного знания используется и для
«научного» обоснования некоммунистического пути
развития человеческого общества.
Выводы футурологов в различных странах далеко
не одинаково используются и проявляются в политике.
Конкретный подход к футурологии и ее представителям
необходим и по другой причине. Сложный процесс
обработки и осмысления фактов с целью прогнозирования
будущего нередко испытывает двойное влияние — со
стороны неумолимой внутренней логики самих фактов,
оказывающих влияние на мировоззрение, и со стороны
официальных установок. Мировоззренческо-теоретические
позиции не всегда находятся в том же русле, что и прак-
тическо-политические установки. Это, разумеется, не
означает, будто мировоззрение оторвано от политики. Но
это значит, что эти два понятия нельзя рассматривать
как тождественные, ибо в этом случае снимается
проблема взаимоотношения между ними, проблема связи,
выяснение контекста которой и имеет как раз первосте-
22
пенное значение. Дело в том, что именно здесь
обнаруживается коллизия во взглядах многих буржуазных
теоретиков, в том числе и представителей футурологии.
Эта коллизия определяется целым комплексом довольно
сложных и противоречивых явлений и бывает
обусловлена мучительным процессом переоценки ценностей.
Она ставит перед теоретиком подчас весьма и весьма
сложную задачу согласования своих теоретических
постулатов, основанных на личном опыте и знании, с
ожидаемыми от него практическими шагами,
продиктованными официальной политикой. Коллизия в данном
случае и есть результат несоответствия теоретически
фиксируемых взглядов и требуемых свыше политических
действий, выходящих за рамки этих взглядов. Сама эта
коллизия имеет множество проявлений, начиная от попыток
пассивного протеста «уйти из политики в науку» и кончая
замысловатым симбиозом либерально-демократической
политической позиции с теоретической апологетикой всей
системы государственно-монополистического капитализма.
Разумеется, подобные явления следует учитывать.
Но это обстоятельство не должно препятствовать строго
научному, принципиальному, бескомпромиссному
анализу предлагаемых футурологических теоретических
концепций. Если на минуту отвлечься от идеологических и
политических предпосылок и результатов
футурологических рассуждений (независимо от того,
предполагаются ли они в явной или неявной форме) и рассмотреть
их с «чисто» научной точки зрения, то общим
методологическим недостатком следует считать отсутствие
диалектического способа осмысления явлений, отсутствие
подлинного историзма в исследованиях. В самом деле,
если в этих концепциях объектом анализа выступает
научное познание, то функция сознания берется не в
динамике, а статически; анализ сводится лишь к анализу
готовых «интеллектуальных данностей», которые в свою
очередь лишь констатируются на уровне видимости,
кажимости, без попыток выяснения генезиса
анализируемых форм знания, определения глубинных тенденций
развития этих форм, раскрытия их содержательной
логики и материальной обусловленности.
Более того, не учитывается эволюция самих
тенденций, которые в будущем не обязательно должны быть
точно такими же, как сегодня. В результате получается
?3
такая экстраполяция современности на будущее, что
будущее не только не прогнозируется, но лишь
«осовременивается», причем через призму метафизического
буржуазного сознания.
То же происходит при футурологнческом
предвидении будущего общества. Метафизическая трактовка
общественной практики, игнорирование все возрастающей
роли субъективного фактора, сознательной
деятельности народных масс в созидании будущего неизбежно
приводит к тому, что целенаправленное планирование
подменяется «координирующим планированием». Здесь
также имеет место неправомерная экстраполяция, в
результате которой будущее изображается лишь как
«продленная современность». Эта односторонняя
оценка будущего, из процесса становления которого
исключаются социальные революции, коренные качественные
преобразования, с необходимостью предполагающие
возникновение нового, безусловно является результатом
ненаучного, некритического, апологетического мышления,
которое в свою очередь само обусловлено совершенно
определенными социальными необходимостями
сегодняшней капиталистической действительности.
Вместо научного самокритического анализа в
конечном счете получается ненаучная самоапологетика. И
неудивительно, что многие представители буржуазной
футурологии вынуждены признать, что создаваемые ими
концепции являются не предвидением будущего, а
напоминают скорее «социальную фантазию» или «реальную
утопию».
Выше отмечалось, что антисоветизм — это ядро
современного антикоммунизма. Можно сказать также, что
ядром современного антимарксизма является
антиленинизм.
Можно лишь удивляться тому разнообразию приемов,
часто взаимоисключающих друг друга, которые
используются современными буржуазными идеологами для
«критики» ленинизма, его изощренной фальсификации.
Наряду с призывами устроить вокруг имени В. И.
Ленина «заговор молчания» (каким был в свое время
встречен международной буржуазией выход I тома
«Капитала» К. Маркса) слышатся назойливые голоса о том,
чтобы тщательно выискивать «противоречия» между
Марксом и Лениным. Вслед за этим следует противоположное
24
высказывание, что Ленин лишь «повторял» Маркса.
Выдавая желаемое за действительное, буржуазные
идеологи пытаются внушить себе и другим нелепую
мысль о том, что якобы ленинизм есть «чисто
национальное явление» и не носит интернационального
характера.
Эти и множество других противоречивых
высказываний буржуазных идеологов о В. И. Ленине и
ленинизме, разнобой в оценках революционного учения
современности свидетельствуют о глубоком идейном кризисе
буржуазной идеологии, о теоретическом разброде и
смятении, охватившем ее представителей.
Дело не в том, чтобы «умалить значение Ленина»,—
демагогически заявляет антимарксист Л. Шапиро.
«В действительности,— продолжает он,— фигура этого
человека столь велика, что ей не повредит никакая
критическая переоценка». Как происходит эта
«переоценка»? Один из ответов содержится в статье Э. Деметра
«В поисках гуманизма», опубликованной в официозе
американских антикоммунистов — журнале «Проблемы
коммунизма» (который вернее и честнее было бы
назвать «Проблемы антикоммунизма»). Буквально в
каждой строке этой статьи сквозит страх буржуазного
идеолога перед социалистической революцией («общим
пожаром»?!), перед возрастающим влиянием
ленинизма, перед активной политической деятельностью
трудящихся, для нейтрализации которых наряду с
типичным антикоммунистическим и ревизионистским тезисом
«о русификации марксизма Лениным» выдвигается не
менее ходкий среди антимарксистов демагогический
лозунг «Назад к Марксу!». «Перенести ударение с
революции на эволюцию,— заявляет Э. Деметр,—...с
предположений относительно общего пожара на мирное
сосуществование, с Ленина на молодого, а не на старого
Маркса, с бескомпромиссного манихейства на более
яркое и гибкое истолкование действительности — значит
сделать важное дело».
Разумеется, Э. Деметр, обвиняя
марксистов-ленинцев в «бескомпромиссном манихействе», желал бы*
видеть их выступающими в роли неких беспринципных
пассивных регистраторов происходящих событий,
которые могли бы «ярко и гибко» подвергать критике
проверенные жизнью принципы научного понимания объек-
25
тивного мира и истолковывать действительность с
точки зрения иллюзорного буржуазного сознания, как это
делает сам Э. Деметр. Его рассуждения в данном
случае представляют собой один из наиболее специфических
способов иллюзорно-утопического восприятия явлений,
столь характерных для современного буржуазного
сознания. Он и в самом деле может верить в то, что
стараний буржуазных идеологов вполне достаточно,
чтобы, например, революции в общественной жизни
заменить эволюциями. Коль скоро буржуазия «не согласна»
с революциями, то их следует «отменить»!
Буржуазный идеолог не желает считаться с
объективными закономерностями общественного развития, с
интересами трудящихся. Привыкнув к общей
атмосфере господства стихийных сил при капитализме, он
постепенно свыкается и с той мыслью, что поведение
человека ничем не детерминировано, что определяющую роль
играет необузданная воля властвующего, который
держит в подчинении большинство и руководствуется лишь
соображениями собственного произвола,
«ограниченного» собственными желаниями.
Подобным иллюзорно-утопическим настроем
сознания объясняется попытка многих буржуазных
идеологов изобразить объективный характер
революционного процесса как игру, а победу в революции— просто
как выигрыш. Несомненно, антикоммунисты часто
намеренно используют иллюзорный характер
восприятия буржуазным сознанием явлений действительности
для .распространения и насаждения реакционных
взглядов.
Американский антикоммунист Виктор Вольфен-
щтейн, например, весьма искусно использует то
обстоятельство, что иллюзорному буржуазному сознанию
утопия представляется действительностью, а реальность —
утопией. Пространно рассуждая о «героях революции»,
он заявляет, будто «Ленин нарисовал картину
успешного развития и осуществления утопии частного случая»
и что он якобы «не видел разницы между
детерминизмом и волюнтаризмом». Подобная клевета на В.
И.Ленина и ленинизм является весьма типичной для
современных антикоммунистов. Она не имеет под собой
никаких оснований, ибо В. И. Ленин внес неоценимый
вклад в исследование объективных законов обществен-
26
ного развития. С другой стороны, надо отметить, что
подобная клевета, рассчитанная на дискредитацию
ленинизма, подчас действует как бумеранг, ставя
буржуазных идеологов перед неразрешимой для них задачей
объяснить исключительный рост популярности В. И.
Ленина и ленинизма среди самых широких кругов
трудящихся масс. Наконец, подобная клевета прямо
направлена против коммунистических партий, которые
противопоставляются народу, объявляются результатом
выдумки коммунистов, результатом «волюнтаризма»,
якобы присущего ленинизму. На деле атаки
антикоммунистов, направленные против В. И. Ленина и
коммунистических .партий,— это атаки на современный рабочий
класс, его революционную инициативу, рассчитанные на
то, чтобы отвратить трудящиеся массы от активной
революционной деятельности, направить их социальную
энергию в русло антикоммунизма и антисоветизма.
Пожалуй, одним из наиболее популярных
аргументов против ленинизма служит его изображение как
«частного случая». Типичным в этом отношении
является также высказывание американского
антикоммуниста, сотрудника исследовательского центра по
проблемам коммунизма при Колум-бийском университете
Дж. Лихтгейма, который, вопреки общеизвестным
фактам, цинично заявляет, что якобы «лишенный мировой
перспективы ленинизм становится не больше, чем
теорией русской революции». В данном случае заведомо
ложные утверждения заядлого антикоммуниста имеют
далеко идущую цель посеять сомнения среди братских
коммунистических партий об интернациональном
значении ленинизма, лишить их общей идейной основы,
подорвать их единство.
Братские коммунистические партии, зарубежные
марксисты хорошо понимают и умело разоблачают
коварные замыслы антикоммунистов. Международное
Совещание коммунистических и рабочих лартий в Москве
в специальном документе «О 100-летии со дня рождения
Владимира Ильича Ленина» единодушно отметило:
«Весь опыт мирового социализма, рабочего и
национально-освободительного движения подтвердил межту-
народное значение марксистско-ленинского учения.
Победы социалистической революции в группе стран,
возникновение мировой системы социализма, завоевания
27
рабочего движения в странах капитала, выход на
арену самостоятельной общественно-политической
деятельности народов бывших колоний и полуколоний,
небывалый подъем антиимпериалистической борьбы — все
это доказывает историческую правоту ленинизма,
выражающего коренные потребности современной
эпохи» К
Что могут антикоммунисты противопоставить
могучей поступи ленинизма по нашей планете? Ничего
положительного. Ни одного конструктивного социального
идеала, который мог бы увлечь за собой массы.
Ничего, кроме зряшного отрицания ленинизма.
В последнее время антикоммунисты стали усиленно
упражняться на различных «интерпретациях»
ленинизма, ибо «критика» ленинизма извне неуклонно терпела
крах. Причем не может не броситься в глаза одно
обстоятельство: буржуазные идеологи слишком много
говорят об интерпретациях ленинизма, но почти ничего
не говорят о том, что ленинизм сам является
научной интерпретацией действительности. Устраивая
своеобразную конкуренцию различных, хотя и
однотипных дефиниций, буржуазные идеологи договариваются
до того, что В. И. Ленина называют... ревизионистом?!
К этому смехотворному выводу приходит, в частности,
автор статьи «Ленин и революция», помещенной в
журнале «Проблемы коммунизма». Рассуждая о ленинских
взглядах на партию, автор утверждает: «В них — суть
ленинской оригинальности. Этот «ревизионизм» —
существенный, даже если его скрывают,— в
действительности лежал в основе великого детища Ленина —
коммунистической партии». Аналогичную мысль
высказывает цитированный выше Дж. Лихтгейм, который
восклицает: «Ленин был самым великим из всех
ревизионистов!»
Вряд ли следует опровергать подобные
утверждения. Они принадлежат к такому тилу высказываний,
для опровержения которых вполне достаточно просто
их изложить. Важно отметить другое. Буржуазные
идеологи пытаются воспользоваться авторитетом
В.И.Ленина, чтобы поощрить ревизионизм, делая ставку на
1 Международное Совещание коммунистических и рабочих
партий (Москва, 1969), изд-во «Мир и социализм», Прага, 1969,
стр. 45.
28
подрыв ленинизма изнутри. Они не могут привести
каких-либо аргументов против В. И. Ленина и
опровергающих ленинизм.
При всей своей негативной направленности против
марксистско-ленинского учения многие современные
буржуазные идеологи, политики, государственные
деятели не могут не признавать истинности марксизма-
ленинизма как научного мировоззрения, научной
теории. Этого не скрывают и сами идеологи буржуазии.
Профессор Индианского университета, бывший эксперт
госдепартамента США Б. С. Моррис в своей книге
«Международный коммунизм и американская
политика» пишет: «В то время, как Америка полностью
отвергла марксистский анализ капитализма, ее внешняя
политика была построена так, будто марксистское
мировоззрение было правильным и, более того, являлось
необходимым объектом внешней политики».
Антикоммунизм не только есть результат «ложного сознания»,
но и одна из его причин в настоящее время.
«Идеологический антикоммунизм,— продолжает Б. С.
Моррис,— также нанес ушерб американскому обществу,
так как способствовал удушению независимого
мышления и критических дискуссий по вопросам как внешней,
так и внутренней политики».
Все больше людей в капиталистических странах
начинают осознавать реакционный характер
антикоммунизма. Великие идеи В. И. Ленина все глубже
проникают в сознание миллионных масс, поднимая их к
активной революционной политической деятельности по
созиданию социального прогресса. Они воплощены в
успехах мировой социалистической системы,
международного коммунистического движения,
национально-освободительной борьбы народов. Великий созидательный
труд советского народа по строительству
коммунистического общества, его практические успехи
способствуют перемалыванию антикоммунистических
предрассудков в капиталистических странах, вызывают
восхищение честных людей во всех уголках земного шара.
В этом отношении весьма характерно высказывание
американского профессора А. Инкелеса, который,
касаясь социалистического строительства в Советском
Союзе, пишет: «Всякий, кто может трезво и без
предубежденности осмыслить грандиозность такой задачи, дол-
29
жен признать, что теоретическая разработка основ
советской системы, затем создание ее и, наконец,
налаживание ее работы были одним из великих достижений
социально-политического творчества в наше время. Это
строительство проводится в таких огромных
масштабах, что мы обязаны рассматривать его в исторической
перспективе как труд гигантов».
Марксисты зарубежных стран ведут большую,
интенсивную и весьма плодотворную творческую работу
по исследованию, в частности, актуальных проблем
философского знания. Теория и история диалектики,
законы и категории диалектического и исторического
материализма, логика и методология науки,
гносеологическая и историко-философская проблематика, вопросы
теории научного коммунизма, философские проблемы
современного естествознания и научно-технической
революции, этики и эстетики, борьба против буржуазной
идеологии и ревизионизма—эти и многие другие
вопросы находятся в центре внимания зарубежных
философов-марксистов. Без учета этих достижений
невозможны глубокие научные обобщения на современном
уровне развития марксистской философской мысли.
Марксизм-ленинизм — интернациональное учение. Его
развитие не является прерогативой какой-либо
отдельной страны или отдельной группы марксистов. Это
учение творчески развивается подлинными марксистами-
ленинцами всех стран.
Марксизм-ленинизм всегда развивался и ныне
развивается как путем обобщения новейших данных
естественных и общественных наук и
социально-революционной практики, так и в борьбе против буржуазной
идеологии, разных форм ревизионизма и реформизма.
Изучение, обобщение и освоение опыта этой борьбы
имеет колоссальное значение. Оно существенно
способствует обогащению теории, укреплению политического
единства марксистов-ленинцев, воспитывает глубокое
уважение к труду единомышленников и вкус к
изучению достижений зарубежной марксистской мысли. Это
одна из важнейших предпосылок активизации научно-
политической .позиции, способствующая переносу
фронта идеологической борьбы в
капиталистические страны, дальнейшему
сплочению сил против общего идейно-политического врага —
30
антикоммунизма, выполнению одного из важнейших
указаний В. И. Ленина: «Побороть все сопротивление
капиталистов, не только военное и политическое, но и
идейное, самое глубокое и самое мощное* К
Нельзя вести эффективную борьбу против
антикоммунизма и антимарксизма без изучения марксистской
мысли в зарубежных странах не только потому, что для
этой борьбы необходимы объединенные усилия
марксистов всех стран, но и потому, что антимарксизм имеет
различные формы проявления, различные оттенки в
разных странах и это нередко определяет особенно
интенсивную критическую работу марксистов данной
страны в той или иной конкретной теоретической или
практическо-политической области.
В Академии наук СССР ныне ведется активная
комплексная работа по глубокому изучению в
частности марксистской философской мысли в зарубежных
странах. В Институте философии Академии наук
создан специальный сектор «Современной марксистской
философии в зарубежных странах», в котором ведутся
интенсивные и плодотворные исследования в этой
важной отрасли философского знания.
Объединению творческих усилий марксистов разных
стран в решении актуальных лроблем науки во многом
способствуют Соглашения, существующие между
Академиями наук социалистических стран по разработке
проблем многостороннего сотрудничества. Одной из
таких является проблема «Вопросы идеологической
борьбы в связи с сосуществованием двух мировых систем»,
по которой заключено Соглашение между академиями
наук Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии
и Советского Союза. Создана Проблемная Комиссия,
ведущая большую работу по критике буржуазной
идеологии. Она явилась одним из главных организаторов
Международной теоретической конференции, посвященной
100-летию со дня рождения В. И. Ленина,
«Возрастающая роль ленинизма в современную эпоху и критика
антикоммунизма» (Москва, январь 1970 г.). По
рекомендации этой же Проблемной Комиссии издается
настоящий тематический сборник, содержащий статьи
видных зарубежных марксистов ряда социалистических
1 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 41, стр. 406.
31
стран по критике современной буржуазной идеологии.
Многие статьи написаны специально для этого
сборника, некоторые же являются переводами из зарубежных
изданий. Основная цель сборника ознакомить советского
читателя, широкую научную общественность с
некоторыми работами наших зарубежных друзей и коллег,
преимущественно в области критики современного
антикоммунизма и антимарксизма.
Уровень статей не совсем одинаков. Иногда
создается впечатление, что отдельные авторы, рассчитывая на
довольно квалифицированного читателя, несколько
больше места уделяют изложению взглядов
идеологических противников марксизма, чем их критическому
анализу. Некоторые из статей содержат
полемические идеи. Хорошо известно, что полемика не
только не противопоказана марксистам, но при соблюдении
верности подтвержденным на практике принципам
марксизма-ленинизма является одной из внутренне
присущих и естественно-необходимых форм развития теории.
Во всяком случае, один вывод неизбежно следует из
анализа статей настоящего сборника, а именно что
нельзя отделять китайской стеной так называемую
«положительную» разработку проблем и «негативную»
критику.
Марксистская материалистическая диалектика
является одновременно и критическим и
революционным методом. И подобно тому, как нельзя
творчески развивать марксизм-ленинизм без критики
современного антикоммунизма, так и
аргументированная, действенная борьба против современного
антикоммунизма возможна только с принципиальных позиций
марксизма-ленинизма.
Председатель Советской части Проблемной
Комиссии академий наук социалистических
стран «Вопросы идеологической борьбы в
связи с сосуществованием двух мировых
систем», заведующий секггором «Современной
марксистской философии в зарубежных
странах» Института философии АН СССР
В. В. Мшвениерадзе
Николай Ирибадтаков
Народная республика Болгария
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ
ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО АНТИМАРКСИЗМА
Борьба против буржуазной идеологии является
основной задачей каждого коммуниста, марксиста
сегодня. Особенно велико значение нашей борьбы против
современного антимарксизма.
Современные критики марксизма-ленинизма ведут
ожесточенное наступление против нашей теории и
практики по всему фронту — в философии, в
социологии, в политической экономии, в эстетике, в области
нашей революционно-политической деятельности,
социалистического и коммунистического строительства.
Здесь мы остановимся преимущественно на
философских проблемах борьбы против современного
антимарксизма.
Борьба против марксистской философии является
первостепенной задачей современной буржуазной
философии. В своей книге «Марксизм, ленинизм,
сталинизм» буржуазный критик марксизма Гельмут Штейн-
берг пишет, что «диалектический материализм и его
преодоление — решающая проблема следующих
десятилетий» К И действительно, все значительные течения
современной буржуазной философии —
экзистенциализм, неопозитивизм, неотомизм — одни в большей,
другие в меньшей степени носят ярко выраженный
антимарксистский характер.
Но борьба против марксистской философии
является основной задачей не только современной
буржуазной философии. Она является основной задачей всей
современной буржуазной идеологии. В ней участвуют и
философы, и социологи, и экономисты, и теологи и т. д.
Это не случайно. Борьба эта определяется
исключительно важной ролью, которую марксистская филосо-
1 Н. Steinberg, Marxismus — Leninismus — Stalinismus,
Hamburg, 1955, S. 11.
2 Прибаджаков
33
фия играет во всей теоретической и практической
деятельности коммунистического движения. Еще в одном
из своих ранних произведений Маркс указал как на
основное условие для победы пролетарской революции
на соединение рабочего движения с революционной
философией. «Как философия,— писал он,— находит в
пролетариате свое материальное оружие, так и
пролетариат находит в философии свое духовное оружие»1.
Буржуазные идеологи очень хорошо понимают, что
диалектический и исторический материализм является
теоретической основой марксизма, и кто ставит себе
задачу воевать против марксизма, тот должен свести
счеты прежде всего с его философией. «Кто берется
критиковать марксизм, не зная основных философских
убеждений Маркса,— пишет теолог Теодор Штейнбю-
хель,— его критика всегда будет только
поверхностной» 2.
Поэтому большая часть современной
антимарксистской литературы целиком посвящена борьбе против
марксистской философии. Остальная же
антимарксистская литература в большинстве случаев начинается с
критики философских основ марксизма. Такими,
например, являются книги «Марксизм, ленинизм,
сталинизм» Маркса Ланге, «Марксизм, ленинизм, сталинизм»
Гельмута Штейнберга, «Марксизм» Вальтера Теймера,
«Социализм» Теодора Штейнбюхеля, «Идеологии и
действительность» Жана Герша, «Социология
коммунизма» Жюля Моннеро, «Германский марксизм и русский
коммунизм» Джона Пламенаца, «Теория и практика
коммунизма» и «Марксизм, прошлое и настоящее» Ка-
рю Ханта, «Новый класс» Милана Джиласа, «Опиум
для интеллигенции» Раймона Арона и др.
Чрезвычайно активную роль в борьбе против
марксистской философии играют и идеологи ревизионизма.
Их критика марксистской философии является
неотделимой частью буржуазной критики, так как они
воюют против марксистской философии с тех же идейных
позиций, тем же идейным оружием, каким воюют и
буржуазные идеологи, и служат этой своей критикой
классовым интересам буржуазии.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. I, стр. 428.
* Th. Steinbuchel, Sozialismus, Tubingen, 1956, S. 38.
34
Антимарксизм
под лозунгом «Борьба за Маркса!»
В большинстве случаев как открытые буржуазные
идеологи, так и ревизионисты отрицают диалектический
материализм. Но в то же время они пытаются
кокетничать с марксизмом, использовать громадный
авторитет Маркса в своих целях.
Самыми забавными в этой связи являются их
спекуляции вокруг молодого Маркса. За молодого
Маркса стараются ухватиться теперь идеологи католической
и протестантской церкви, экзистенциалисты и
неогегельянцы, а также всевозможные идеологи
ревизионизма. С одной стороны, они тщатся доказать, что
молодой, не освободившийся от гегельянских
идеалистических идей Маркс — это «настоящий», «великий» Маркс,
и с другой — найти какое-нибудь родство между ним
и собой.
«Молодой Маркс является открытием нашего
времени»,— восклицает Эрих Тир в своей книге «Картина
мира молодого Маркса», за которое борются «во
Франции христиане и экзистенциалисты», «молодая
польская интеллигенция», которая якобы стоит за
«человечный социализм», то есть польские ревизионисты,
и др. «Германия также не стоит вне этого поля
сражения» !.
Сколь тяжелым стало в наше время положение
буржуазных идеологов. Если раньше они соревновались в
борьбе за «уничтожение» ненавистного Маркса, теперь
между ними все больше ширится своего рода
соревнование «9 борьбе за Маркса». Но это совсем не
означает, что эти борцы «за Маркса» изменили классовым
интересам буржуазии. Отнюдь нет. «Мы должны знать,—
пишет Тир,— что Маркс стоит среди нас еще
непримиримый и именно поэтому всегда устрашающий»2.
Поэтому мнимая «борьба за Маркса» — это только
новое прикрытие старой борьбы против Маркса.
Самыми комичными во всей этой истории «борьбы за
Маркса» являются усилия некоторых теологов, таких,
1 Е. Thier, Das Weltbild des jungen Marx, Gottingen, 1057,
S. 3—4.
2 Там же, стр. 5.
о*
35
как Теодор Штейнбюхель, связать католицизм с
марксизмом. По мнению Штейнбюхеля, Маркс и
католическая церковь преследовали одну и ту же цель —
борьбу против жестокой капиталистической
действительности, так как она принизила человека до положения
вещи, которую можно продавать и покупать. Целью
Маркса является посредством уничтожения
капиталистического общества и создания социализма и
коммунизма восстановить человеческое достоинство каждой
человеческой личности, чтобы ее не третировали как
средство, как вещь. Но католическая церковь, говорит
Штейнбюхель, преследует ту же цель.
Но не только цели Маркса и католицизма были
общими, общими были и движущие мотивы в их борьбе
за достижение этих целей. Во всей своей деятельности,
по мнению Штейнбюхеля, Маркс руководствовался
прежде всего этическими, нравственными
побуждениями. Нравственное возмущение бесчеловечной
капиталистической действительностью, которая уничтожает
человеческое в человеке и превращает его в вещь,—
вот что движет Марксом в его антикапиталистической
деятельности. Но католическая церковь тоже
руководствуется в своей деятельности главным образом
нравственными побуждениями. Значит, и здесь существуют
точки соприкосновения между марксизмом и католицизмом.
Единственное, оказывается, что отличало Маркса от
католицизма, был его атеизм, которым он заразил
рабочий класс и тем самым создал так много забот
католической церкви. Но это отличие, по мнению
Штейнбюхеля, может и должно быть преодолено на основе
главного — борьбы против капитализма. Атеизм
Маркса, утверждает Штейнбюхель, не является
изобретением Маркса и не принадлежит к сущности марксизма.
Виновной за атеизм Маркса опять же является
буржуазия, капиталистическое общество, потому что, когда
Маркс появился на исторической сцене, буржуазная
культура не могла предложить ему ничего другого,
кроме материалистической философии французских
материалистов, Фейербаха и других материалистов и
науки, целиком пропитанной материализмом и
атеизмом. Следовательно, материалистическая философия и
связанный с нею атеизм имеют не пролетарское, а
буржуазное происхождение и, чтобы марксизм мог очис-
36
титься от всего буржуазного, он должен освободиться
от материализма и атеизма ненавистной буржуазии.
Все эти рассуждения Штейнбюхеля построены на
схоластической софистике, иезуитских фальсификациях
и социальной демагогии.
Прежде всего неверно, что Маркс и католицизм
преследуют одну и ту же цель — уничтожение
капитализма, а жестокая борьба между марксизмом и
католицизмом является только трагическим и печальным
недоразумением. В действительности не существует
никакого недоразумения. Все дело в том, что под
«капитализмом» Штейнбюхель понимает только
домонополистический, прогрессивный капитализм, а под
«буржуазией» — прогрессивную, революционную буржуазию,
которая дала таких великих философов-материалистов,
как Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах, Фейербах
и др. Как идеологи революционной, прогрессивной
буржуазии эти философы вели страстную и великолепную
идейную борьбу против католической церкви и ее
религиозной идеологии, которая представляла и
защищала интересы реакционной и контрреволюционной
аристократии.
С тех пор как буржуазия перестала быть
прогрессивным классом, а домонополистический капитализм
перерос в империализм, конфликт между буржуазией и
католической церковью исчез. Перед лицом
наступающей пролетарской революции буржуазия и
католическая церковь вступили в союз для общей и
священной войны против социалистической революции.
Католическая церковь, однако, еще не забыла о
ранах, нанесенных ей прогрессивной и революционной
буржуазией, воинствующим буржуазным
материализмом и атеизмом. Хотя буржуазия давно отбросила как
материализм, так и атеизм и отказалась от них,
ненависть католицизма против них стала еще сильнее, так
как они были унаследованы и развиты на новой
основе— на основе марксизма. И сейчас — как составная
часть революционной идеологии рабочего класса — они
стали еще опаснее для католической церкви.
Итак, Штейнбюхель и другие идеологи католицизма
враждебно относятся к буржуазии и капитализму
прошлого, когда они были прогрессивными. А против
современной буржуазии и современного капитализма они
37
не только не воюют, но развивают взгляды, что
сегодня не существует ни капитализма, ни буржуазии, что
капиталистическое общество коренным образом
изменилось. По мнению марксизма капиталистическое
общество действительно существенно изменилось. Его изменение,
однако, состоит не в том, что оно перестало быть
капиталистическим, а в том, что из прогрессивного
капитализм стал консервативным, отжил свое время. Поэтому
капиталистический строй должен быть уничтожен и
заменен социалистическим.
Следовательно, цели католицизма и марксизма не
только не являются общими, но коренным образом поо-
тивоположны: если католицизм выступает за
сохранение современного, отжившего свое время
капиталистического строя, то марксизм — за его уничтожение.
Неверно также, что движущие мотивы католицизма
и марксизма были общими. Верно, что марксизм до
самых глубоких своих основ проникнут самыми
возвышенными и самыми человечными нравственными
побуждениями и идеалами. Но нравственные побуждения
марксизма не висят в воздухе. Они имеют свои корни в
классовых интересах пролетариата, всех трудящихся и
в основном на строго научном анализе современной
объективной общественно-исторической
действительности, 1югда как нравственные побуждения католицизма
являются выражением лицемерной религиозной
морали, которая на словах объявляет всех людей
равноценными, братьями во Христе, а на деле защищает
капиталистическое рабство и эксплуатацию.
Под флагом «борьбы за Маркса» идеологи
буржуазии и ревизионизма пытаются противопоставить Мапк-
са Энгельсу, Маркса—Энгельсу и Ленину, Маркса и
Энгельса— Ленину и даже Маркса — Марксу: «молодого
Маркса» — «зрелому Марксу». Так, например,
ревизионист Макс Адлер пытается уверить нас в том. в чем,
видимо, и сам-то не уверен, а именно что Маркс и
Энгельс понимали свое учение как частнонаучное
социологическое учение, что они не занимались
философией, теорией познания, тогда как Ленин в отличие от
них хотел связать марксизм с материалистической
теорией познания К Сартр придерживается иного мнения.
1 М. A d 1 е г, Lehrbuch der materialistischen Geschichtsauffas-
sung.
Зв
Он считает, что в философском развитии Маркса все
было в порядке до «пагубной встречи с Энгельсом»,
который заразил его своей философией диалектического
материализма1. Другие же, как, например, Штейнбю-
хель, Бохенский, Тир, Макс Ланге, уверяют своих
читателей в том, что Маркс никогда не разделял
философии диалектического материализма, который был
исключительно делом Энгельса и после него — Ленина.
Поэтому Бохенский критикует Ленина за «переплавку
учения Маркса и Энгельса в единое целое»2.
Белые нитки, которыми шиты эти фальсификации,
настолько видны, что более трезвые буржуазные
философы открыто указывают на их несостоятельность и
признают, что идеи молодого Маркса логически
неизбежно ведут к взглядам зрелого Маркса, а взгляды
Маркса — к взглядам Ленина. Предназначение этих
фальсификаций — измыслить какие угодно отличия и
противоречия между классиками марксизма,
противопоставить их друг другу и таким образом внести
неуверенность, колебание и сомнение в монолитное
единство взглядов Маркса, Энгельса и Ленина в среду
рабочего класса, в среду трудящихся и прогрессивной
интеллигенции.
Диалектический материализм
и наша современность
В современной буржуазной и ревизионистской
литературе, направленной против диалектического
материализма, широко распространены попытки отождествить
марксистскую философию с каким-нибудь из известных
течений, буржуазной философии — с позитивизмом, с
«наивным реализмом», с прагматизмом, а чаще всего с
механическим материализмом. Таким образом,
противники марксистской философии стараются перечеркнуть
качественное различие между диалектическим
материализмом и другими философскими учениями и
облегчить задачу критики. Так, например, приписывая
позитивистские взгляды Марксу и Энгельсу, буржуазные
философы, ревизионисты и ренегаты, такие, как
1 J. Paul-Sartre, Situationen, Hamburg, 1956, S. 81.
2 J. M. Bochenski, Der sowjetrussische dialektische Materi-
alismus, Munchen, 1956, S. 33.
39
М. Джилас, «доказывают», что Маркс и Энгельс не
являются никакими оригинальными мыслителями, а
позаимствовали свои философские взгляды у Конта, что
Маркс и Энгельс вообще отвергли философию и
поэтому марксизм не нуждается ни в какой философии.
И сегодня, как в прошлом, усилия буржуазных
философов и ревизионистов направлены на
доказательство того, что материализм и диалектика якобы не
совместимы и поэтому говорить о диалектическом
материализме бессмысленно. Так, например, такие критики
диалектического материализма, как Ж. Моннеро и Сартр,
твердят, что диалектический материализм не более как
пустое словосочетание и что в действительности
материализм может быть столь же диалектическим, сколь
вода — огненной. Материализм, твердят они, всегда был
и остается механическим.
Отрывая диалектику от материализма и
противопоставляя их, буржуазные идеологи и ревизионисты
преследуют две цели: во-первых, вытравить
революционную душу марксизма — его диалектический метод и, во-
вторых, отождествляя диалектический материализм с
механическим, они «доказывают», что, с точки зрения
современной науки, материалистическая философия уже
«опровергнута> и отжила свое время.
Утверждение, что марксистская философия
устарела и не соответствует нашему времени, широко
распространено в современной антимарксистской литературе.
В различных вариантах это утверждение непрерывно
повторяется в капиталистических странах политиками
и журналистами, философами и социологами,
экономистами и историками, профессорами и попами, с
университетских кафедр и с церковных амвонов, по радио и
телевидению, в ежедневной и периодической печати, в
толстых теоретических сочинениях и в популярных
брошюрах, предназначенных для массового читателя.
В этом утверждении нынешних критиков марксизма
нет ничего нового. Буржуазные идеологи встретили
марксизм враждебно еще при его появлении. Сначала
они считали, что смогут сразить марксизм, замалчивая
его. Так они рассчитывали создать впечатление, что
марксизм и его философия столь несерьезное и в
теоретическом отношении незначительное явление, о
котором не стоит даже говорить.
40
Но эти их надежды провалились. Марксизм добился
огромных успехов. Он быстро вытеснял различные
утопические и ненаучные социалистические учения в
рабочем движении и утверждался как единственная
научная идеология рабочего класса. Эти успехи марксизма
вынудили буржуазных идеологов нарушить свое
молчание. Тогда буржуазная критика пустила в ход
упомянутое выше обвинение против марксистской
философии, находящееся в обращении и поныне.
Но от того, что его замалчивали, что его отрицали
или объявляли мертвым, диалектический материализм
не перестал ни существовать, ни развиваться и
расширять свое влияние. В наше время нет другой идеологии,
другой философии, которая бы имела столь громадное
влияние и оказывала бы такое глубокое и
всестороннее воздействие на ход исторического развития мира,
как марксизм и его диалектико-материалистическая
философия. Это такой неоспоримый факт, который не
могут отрицать и самые яростные противники
марксизма. «Сегодняшний марксизм-ленинизм, — пишет
Ирвинг Фетчер в своей книге «От Маркса к советской
идеологии»,— является политической идеологией,
пользующейся самым сильным влиянием в мире» К В своей
книге «Марксизм, ленинизм, сталинизм» Макс Ланге
указывает на то, что «сегодня Карл Маркс является
философом с самым большим числом
последователей» 2.
Это громадное и непрестанно растущее влияние
марксизма и его философии вызывает тревогу и страху
современной буржуазии, у ее идеологов и философов,
для которых борьба против марксизма и его диалекти-
ко-материалистической философии выдвигается на
первый план. Вопрос о большевизме, пишет Альберт Путц,
«это есть важнейший вопрос, потому что при нынешнем
состоянии, в котором находится мир и христианство, у
нас нет времени для излишних тем. Когда дом горит,
нет никакого смысла «подбирать новые обои для
отдельных комнат». Тогда существует только одна зада-
1 I. Fetscher, Von Marx zur Sowjetideologie, F. a. Main —
Berlin — Bonn, 1957, S. 9.
2 M. G. Lange, Marxismus — Leninismus — Stalinismus,
Stuttgart, 1955, S. 12.
41
ча, а именно—дружными усилиями спасти дом от
пламени пожара» К
А разве все эти факты подтверждает утверждение,
что марксистская философия устарела, опровергнута
наукой и историей и т. д.? Нет. Против этого
утверждения буржуазных и ревизионистских критиков
марксизма говорит сама их практика, их теоретическая и
пропагандистская деятельность. Если бы марксистская
философия устарела, отжила свое время, была
преодолена и опровергнута наукой и т. д., никто из буржуазных
идеологов не ставил бы как первостепенную задачу
борьбу против нее. А буржуазные и ревизионистские
идеологи как раз это и делают. Ознакомление с
огромной антимарксистской литературой, которая сегодня
наводняет капиталистические страны, изучение мотивов,
подталкивающих авторов этой литературы заниматься
сочинением своих книг, брошюр и статей, изучение их
собственных писаний позволяет понять, что они
посвятили себя борьбе против марксизма не потому, что он
отжил свое время, не потому, что он мертв, а потому,
что он жив, и потому, что притягательная сила и
воздействие марксистских идей непрестанно растут.
Устарела и отжила свое время не марксистская, а
буржуазная философия. Поэтому она вынуждена
непрестанно отступать, терять свое влияние в связи с
наступлением марксизма и его философии. В конце
прошлого и начале двадцатого века идеологи буржуазии и
ревизионизма попытались противопоставить марксизму
как свое самое сильное философское оружие идеи
неокантианства и другие модные идеалистические
философские учения. Много раз сторонники этих учений
объявляли марксистскую философию устаревшей,
разбитой и погребенной. Но вопреки этому сегодня
марксистская философия более жизнеспособна и оказывает
гораздо большее влияние, чем когда бы то ни было
раньше, а неокантианство и многие другие модные
философские учения, которые претендовали на
преодоление марксизма, если все еще и не изъяты из идейного
арсенала буржуазии, то давно вышли из моды. Сегодня
в лагере буржуазных философов в моде такие фило-
1 Л. Р u t z, Der Bolschewismus — eine Frage an die Christen-
heit, Freimund Verlag, 1957, S. 3.
42
софские учения, как неопозитивизм, йеотомйзм и
экзистенциализм. «Неопозитивисты, марксисты, неотомисты
и экзистенциалисты — все они претендуют быть
философами нашего века, претендуют быть духовными
вождями нашего времени»1, — пишет известный
буржуазный философ Фриц Гейнеман.
Гейнеман хороший знаток современной буржуазной
философии, но среди важнейших философских учений
нашего времени он не нашел места, например, для
неокантианства. Марксизм, однако, он не мог пропустить.
Больше того, он видит основную задачу буржуазной
философии в ее борьбе против марксистской
философии, а основной критерий силы и жизнеспособности
различных идеалистических философских учений в том,
насколько они в состоянии помочь буржуазии в ее
борьбе за сохранение калиталистического строя и за
восстановление ее мирового господства.
Гейнеман — воинствующий буржуазный философ,
который не хочет примириться с тем фактом, что мир
сегодня разделен на две системы — социалистическую и
капиталистическую. Поэтому он не разделяет взгляды
таких философов, как Тойнби, которые рассматривают
Запад, то есть капиталистический мир, как часть мира,
которая противостоит Востоку, то есть
социалистическому миру. «Потому что в противоположность Тойнби
для меня Запад, — пишет Гейнеман, — это — мир, по тон
простой причине, что это свободный мир. Моя
перспектива— это мир и Восток. То, что годами терзает меня,—
это серьезный вопрос о том, в состоянии ли еще .Запад
проявить силу, необходимую для духовного
руководства миром перед лицом идеологнческо-диктаторской
угрозы Востока, и смогут ли представители
экзистенциализма помочь нам в этой борьбе за
существование»2.
В своей книге «Новые пути в философии»,
вышедшей в 1929 году, Гейнеман призывал к замене так
называемой «философии жизни», одной из наиболее
реакционных разновидностей современной буржуазной
философии, философией экзистенциализма, потому что
1F. Heinemann, Existenzphilosophie — lebendig oder tot?,
Stuttgart, 1956, S. 14.
2 Там же, стр. 7.
43
он возлагал свои надежды на эту философию. Но в
своей книге «Жива или мертва философия
экзистенциализма?», вышедшей в 1954 году, он вынужден признать,
что экзистенциалисты не в состоянии быть «духовными
вождями» нашего времени. Иными словами, он
признает, что экзистенциализм не в состоянии справиться- с
марксизмом и его философией. Более того, он заявляет,
что проблематика экзистенциализма уже мертва.
Самую большую активность в борьбе против
марксизма и его философии теперь проявляет неотомизм. А
разве философия неотомизма является новой,
жизнеспособной философией, которая сможет устоять против
силы и растущего влияния марксистских идей,
уничтожить их и стать философией будущего? Не может быть
никакого сомнения, что эта задача меньше всего по
силам неотомизму.
Во-первых, если речь идет об отжившей свое время
и реакционной философии, то едва ли можно указать
какую-нибудь иную философию, чем неотомизм, или
неосхоластика, как еще называют эту философию.
Неотомизм— это возрождение средневековой схоластики
католицизма, чья мрачная слава настолько свежа в
памяти человечества и напоминание о ней пробуждает
столь сильное отвращение у всех прогрессивных людей,
что сами представители неотомизма вынуждены
признать это. Так, например, видный представитель
неотомизма Мартин Грабман, цитируя высказывание Г. Крю-
гера, что «для нас сегодня название схоластик не
пользуется хорошей репутацией», вынужден отметить в
своей книге «История схоластического метода», что
«такие высказывания не являются ободрительными для
того, кто занимается схоластикой» 1.
Во-вторых, оживление и успехи неотомизма в
последние годы на поприще буржуазной философии
совсем не являются доказательством того, что неотомизму
предстоит какое-то блестящее будущее. Успехами
неотомизм обязан главным образом тому, что его
социальное учение в нынешний исторический момент
оказывается очень выгодным для империалистической
буржуазии и что, как официальная философия католичес-
1 М. Grabman, Die Geschichte der sholastischen Methode,
Berlin, 1956, S. 1.
44
кой церкви, он находит широкую базу в лице
верующих католиков. Но поскольку источниками, из
которых неотомизм черпает свою жизненную силу,
являются интересы империалистической реакции и
религиозные предрассудки людей, не требуется большого ума,
чтобы понять, что наш век — век гибели капитализма и
победы социализма, бурного развития научного
познания мира — не раскрывает никаких перспектив для
какого-то нового расцвета средневековой схоластики.
Неотомизм или какое бы то ни было другое
буржуазное философское учение может завоевать более
широкую почву только за счет других разновидностей
буржуазной философии. Но общая почва, на которой
подвизаются эти учения, непрерывно сужается и будет
сужаться, тогда как основа, на которой зиждется
марксистско-ленинская философия, непрерывно расширяется.
Борьба против материализма
под флагом беспартийности
Борьба современного антимарксизма против
материализма нераздельно связана с борьбой против
марксистско-ленинского учения о партийности философии.
Особенно большую активность в этом отношении
проявляют представители философского ревизионизма...
Они объявляют материализм ограниченным,
односторонним, догматическим и ищут пути для примирения
материализма с идеализмом, для стирания границ
между ними или для изобретения какого-нибудь нового
философского направления, которое не было бы ни
материалистическим, ни идеалистическим.
Разумеется, беспартийность не является какой-то
монополией только ревизионистов. Она является
буржуазным изобретением для борьбы против марксизма,
которое в наше время используется как
ревизионистами, так и многими буржуазными критиками
марксистской философии. При этом подход к обоснованию
«нового» философского взгляда у различных критиков
марксистской философии часто весьма различен. Но во
всех случаях попытки выйти за пределы
развертывающейся борьбы между материализмом и идеализмом
кончались безуспешно. Так, например, Макс Адлер под-
45
держивал точку зрения, что в философии существуют
не два, а три основных направления:
материалистическое, спиритуалистическое и направление
«познавательно-критического идеализма», которое якобы
настолько отлично от первых двух, что они представляют
по отношению к «познавательно-критическому
направлению», в сущности, одно направление —
«метафизическое». Таким образом, Адлер считал, что он опроверг
марксистско-ленинское учение о двух основных
направлениях в философии.
Но каждый, кто знает марксистско-ленинскую точку
зрения по этому вопросу, понимает, что это не
является опровержением марксизма. Прежде всего марксизм
рассматривает как основные направления философии
не материализм и спиритуализм, а материализм и
идеализм. Спиритуализм не является никаким основным
направлением. Он является только одной из
разновидностей идеалистической философии.
«Познавательно-критический идеализм» М. Адлера
«исходит из действительно пережитого». М. Адлер
утверждает, что «содержание сознания для нас есть
последнее данное», что «вне сознания не существует
никакая материя, никакая объективная реальность» 1.
Поэтому так называемый «познавательно-критический
идеализм» не является никаким третьим направлением
в философии, а есть одна из разновидностей
идеалистического направления.
Другие критики марксистской философии пытаются
опровергнуть марксистско-ленинское учение .о
партийности философии, отрицая саму теоретическую основу
марксистского учения о двух основных философских
направлениях. Такую попытку встречаем у Гельмута
Штейнберга, который критикует марксистскую
философию с позиций метафизики Николая Гартмана.
Метафизика Н. Гартмана — это одна из
разновидностей современной буржуазной философии. Согласно
Гартману, бытие составлено из четырех пластов
(Schichten): неорганический (материя), органический
(жизнь), душевный (сознание) и духовный (дух).
Исходя из этой философии, Штейнберг заявляет, что во-
1 М. A d 1 е г, Lehrbuch der materialistischen Geschichtsauffas-
sung, S. 127.
46
прос об отношении между духом и материей не
может быть не только основным вопросом философии, но
вообще является излишним вопросом, так как бытие
состоит из различных пластов (Schichten). Материя,
утверждает он, представляет собой «только
неорганический пласт природы» \ тогда как растения и животные
образуют другой пласт природы, который нельзя
рассматривать как материальный2. Вообще, поШтейнбергу,
мир не является ни монистическим, ни дуалистическим,
а плюралистическим. Поэтому якобы одинаково
неправильны как материалистическое утверждение, что
мир — материален, так как оно сводит все
многообразие мира к одному из пластов бытия —
неорганическому, так и утверждение идеализма, или спиритуализма,
как выражается Штейнберг, который растворяет все в
духе. Так Штейнберг освобождается от поверхностного
теоретизирования с «духом» и «материей», которое
является «только вульгаризацией идеи о единстве бытия»3.
Отрицание как материалистического, так и
идеалистического монизма вовсе не означает, что Штейнберг
выступает против единства бытия. Но это единство, по
его мнению, достигается не посредством сведения
всего многообразия бытия к одному из его пластов, а
посредством «иерархического порядка». Очевидно, как
капиталистическое или какое-либо другое
эксплуататорское общество состоит из различных социальных
пластов (Schichten) и, несмотря на это, его единство
достигается посредством «иерархического порядка», то есть
посредством подчинения низших слоев высшим, так
обстоит дело и в бытии вообще. Согласно
«современному» философскому взгляду Штейнберга, различные
пласты бытия тоже находятся в связи и
взаимодействии между собой, тоже образуют единство. Но,
заявляет он, «единство не есть равенство». Например,
Штейнберг «признает более высокой и руководящей силой
духовно-душевную, как и фундаментирующее значение
органического и неорганического»4. Таким образом, мы
снова стоим перед разновидностью современного идеа-
1 Н. Steinberg, Marxismus — Leninismus — Stalinismus, S. 49.
2 Там же, стр. 75.
3 Там же, стр. 74.
4 Там же, стр. 76.
47
лизма, в которой буржуазная партийность проведена
самым вульгарным и грубым образом.
Буржуазные идеологи, теологи
и правые социал-демократы в едином фронте
против марксизма-ленинизма
Одна из характерных особенностей современного
антимарксизма состоит в том, что он имеет прежде
всего организованный характер. Борьба против
марксизма, против социалистических стран, и особенно против
Советского Союза, не предоставлена отдельным
личностям, стихии. Она организована и сознательно
направляется буржуазными государствами и партиями,
католической и протестантской церквами. На нее
расходуются огромные средства, в нее втянуты лучшие
идеологические кадры буржуазии и ревизионизма.
Так, например, после второй мировой войны в
Англии идеологи буржуазии тоже были вынуждены выйти
из фазы замалчивания марксизма-ленинизма и
заговорить полным голосом о его философии, о марксистской
теории вообще. Вышли антимарксистские книги Ханта,
Пламенаца, Актона и других, среди которых особенно
широкое распространение получили книги Ханта,
написание и издание которых происходило при содействии
Форейн офиса.
В системе буржуазной антимарксистской
пропаганды католическая церковь всегда играла
первостепенную роль. Ватикан имеет специальный институт для
борьбы против марксизма-ленинизма, который готовит
соответствующие кадры и руководит созданием
обширной антимарксистской литературы. Среди современных
критиков марксизма идеологов католической церкви не
только в процентном отношении очень много, но и их
произведения являются самыми значительными и, так
сказать, авторитетными. Так, например,
«Диалектический материализм» Веттера, «Советско-русский
диалектический материализм» Бохенского, «Технический эрос»
Якоба Гоммеса считаются самыми капитальными
антимарксистскими произведениями в современной
буржуазной литературе, по которым учатся как буржуазные,
так и ревизионистские критики марксизма.
Католическая церковь возлагает конкретные задачи в идеологи-
48
ческой борьбе не только на отдельных своих
философов, социологов и другие идеологические кадры, но и
организует также издание антимарксистских трудов,
написанных коллективами авторов из среды
подготовленных идеологов католицизма.
Не отстает в борьбе против марксизма-ленинизма и
протестантская церковь. Ее борьба также носит
организованный характер. Она организовала в
протестантской академии в Тюбингене свой теоретический центр
для борьбы против марксизма-ленинизма. В этой
академии образована комиссия, в которую входят
специалисты различных областей философии и науки, задача
которых — коллективно обсуждать различные
произведения о марксизме, то есть против марксизма, и издавать
их отдельными сборниками под заглавием
«Марксистские очерки», первые два из которых уже вышли.
При этом протестантская церковь не
придерживается правила, чтобы члены этой комиссии были
непременно протестантами. Важно, чтобы они были
антимарксистами. В предисловии к первому тому
«Марксистских очерков» Эрвин Мецке указывает, что в
комиссию привлечены для совместной работы
специалисты различных областей знания, которые состоят не
только из протестантов. Задача этой комиссии, по его
мнению, образовать «один собирательный постоянный
центр для вытеснения марксизма» *.
Организованный характер антимарксистского
подхода проявляется с особенно большой силой в том
факте, что очень часто явные идеологи буржуазии,
теологи, ревизионисты и всевозможные теоретики
социал-демократических партий дружно вступают в борьбу
против марксизма. Возьмите, например, «Die neue Gesell-
schaft», «Geist und Tat», «Gewerkchaftliche Monatshefte*
или другой журнал западногерманских
социал-демократов, и наряду со статьями социал-демократических
теоретиков можно встретить статьи идеологов католицизма,
как, например, Марселя Рединга, Теодора Штейнбюхе-
ля, Нэла Бройнинга, буржуазных социологов, таких,
как Гельмут Шельский и др. И наоборот, во многих
журналах и книгах, издаваемых буржуазными авторами
и издательствами, встречаются работы социал-демокра-
«Marxismusstudien», I, B.t Tubingen, 1954, S. V.
49
тических теоретиков. В «Социологии», изданной
фашиствующим антропологом Геленом и буржуазным
Социологом Г. Шельским, найдете большую работу социал-
демократического теоретика Отто Штамера. И что
самое важное — не видно никакой существенной разницы
между теоретическими взглядами тех и других. Больше
того. Если человек не знает, что Марсель Рединг
является профессором моральной теологии и видным
теоретиком католицизма, и читает его статью в «Die neue
Gesellschaft» *, в которой уверяет социал-демократов,
что в лице Б. Каутского марксизм нашел «своего
Канта», и учит их марксизму, он бы подумал, что это
какой-нибудь теоретик социал-демократии.
Более ста лет назад Маркс и Энгельс в «Манифесте
Коммунистической партии» писали: «Призрак бродит по
Европе — призрак коммунизма. Все силы старой
Европы объединились для священной травли этого
призрака— лапа и царь, Меттериих и Гизо, французские
радикалы и немецкие полицейские»2.
Многие вещи изменились с тех пор, и все в пользу
коммунизма и во вред его врагам. Сам коммунизм
давно является не призраком, а величайшим идейным
движением нашего времени и материальной
действительностью, охватывающей одну треть мира. Многие из его
противников, которые не раз пытались его уничтожить,
давно лежат сраженные на исторической свалке и
никогда уже не поднимутся. Но и сегодня, как тогда, все
силы старого мира объединились для священной
борьбы против коммунизма. В этом союзе находятся и
многие из идеологов социал-демократии.
Не так уж давно идеологи социал-демократических
партий уверяли рабочий класс, что не коммунисты, а
они являются подлинными представителями и
защитниками марксизма. Даже тогда, когда они были не в
состоянии скрыть своих отступлений от принципов
марксизма, они оправдывали эти отступления тем, что они
якобы «осовременивают» и «развивают» марксизм. И
ныне часть идеологов и руководителей этих партий все
1 М. Reding, Katholischer Glaube und frcibeitlicher Sozialis-
mus, «Die neue Gesellschaft», H. 5, 1958.
2 К. Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т. 4, стр. 423.
50
еще не смеет открыто выступать против марксизма.
Некоторые из них делают это потому, что действительно
сохранили в себе кое-что из марксистских идей.
Большинство, однако, не смеет все еще открыто выступить
против марксизма не из-за внутренних своих
убеждений, а потому, что находят, что еще не успели
искоренить марксистские идеи из сознания рабочего класса
и если теперь выступят открыто против марксизма, то
оторвутся и изолируют себя от него. Особенно ясно
показали это руководители австрийской социалистической
партии, являющиеся идейными продолжателями одной
из самых известных разновидностей ревизионизма — так
называемого австромарксизма.
В ноябре 1957 года на съезде в Зальцбурге
Бенедикт Каутский от имени руководства австрийской
социалистической партии предложил проект-программу,
которая не только требовала, чтобы партия открыто
порвала с марксизмом, но была пронизана такой
антимарксистской и антикоммунистической яростью, что
вызвала одобрение и восхищение самых реакционных
буржуазных кругов. Один из корреспондентов
западногерманской буржуазной газеты «Мюнхенер Меркур»,
некий РенеМарксиз, писал по этому поводу в своей
газете 26 ноября 1957 года, что «австрийская
социалистическая партия является первой социал-демократической
группой, которая проявила смелость подойти к новому
положению с современными, а не с обветшалыми
средствами», а под «обветшалыми средствами» буржуазный
корреспондент, как и Бенедикт Каутский, понимает
марксистские идеи и принципы.
Обоснованную Бенедиктом Каутским зальцбургскую
проект-программу австрийской социалистической
партии с большой радостью приветствовали даже
представители фашизма. Так, например, один из прежних
идеологов фашизма в Болгарии — Стефан Иовев посвятил
этому проекту-программе и теоретическим
упражнениям Бенедикта Каутского специальную статью в
западногерманском журнале «Die politische Meinung» (март
1958 года) под заглавием «Насколько мертв Карл
Маркс?». Разумеется, этот верный слуга немецких
гитлеровцев приветствует тот факт, что «бывшие австро-
марксисты» являются первыми социалистами, которые
окончательно выбрасывают идеологическое наследство
51
Маркса на историческую свалку1. Особенно большое
удовлетворение выражает Иовев по поводу того, что
«Бенедикт Каутский впервые сделал решительный шаг,
изрекая перед официальным социал-демократическим
форумом истину, что мировоззрение Карла Маркса и
Фридриха Энгельса не только устарело, нос самого
начала покоилось на ошибочной основе»2, что Каутский
предлагает заменить марксистские идеи мизерными
буржуазными и фашистскими идейками, согласно
которым в современном буржуазном обществе уже не
существует классов, а капиталисты и рабочие братаются и
представляют такую социальную общность, перед
которой человек может расплакаться от умиления.
Но в середине мая 1958 года чрезвычайный конгресс
австрийской социалистической партии принял
программу, которая заметно отличается от проекта-программы.
Это не марксистская программа, но в ней отсутствует
уже антимарксистская и антикоммунистическая ярость
проекта-программы, в которой открыто призывали к
борьбе не против капиталистического строя, а к войне
и контрреволюции против социалистических
стран,.против освободившихся от колониального рабства народов
и т. д. Этот поворот влево, который содержит
программа, вызвал настоящее разочарование в буржуазных
кругах, потому что «категорического отказа от
марксизма не произошло».
Однако «поворот влево», который намечает
программа австрийской социалистической партии по сравнению
с зальцбургским проектом-программой, зиждется не на
каком-то повороте в идейных воззрениях Бенедикта
Каутского, Бруно, Питермана и других вождей этой
партии, а на отпоре, который они встретили со стороны
рабочего класса, и на критике со стороны коммунистов,
которая помогла обыкновенным рабочим
социал-демократам лучше понять измену их вождей и идеологов.
Так руководители и идеологи австрийской
социалистической партии были вынуждены не только очистить
программу от явных антимарксистских и
антикоммунистических положений, но даже начать снова кокетничать с
марксизмом.
1 «Die politische Meinung», H. 22, Koln, 1958, S. 45.
2 Там же, стр. 48.
52
Но в верхах и руководящих органах
социал-демократических партий все больше берут верх те
элементы, которые открыто выступают противниками
марксизма. Это такие деятели, как Карл Шмидт, Генрих
Деист и другие в западногерманской
социал-демократической партии, Б. Каутский, Питерман, Чернец и
другие в австрийской социалистической партии,
состоящие в этих партиях не для того, чтобы бороться за
интересы рабочего класса, а чтобы защищать интересы
буржуазии, с которой они связаны. Поэтому их идеи и
их критика ничем не отличаются от идей и критики
явных буржуазных идеологов. Более того, в своем
стремлении понравиться своим буржуазным хозяевам многие
из них проявляют такое усердие в своей борьбе против
марксизма и марксистской философии, что их
антимарксизм ничем не отличается от антимарксизма самых
вульгарных идеологов фашизма.
Будучи не в состоянии вести борьбу против
марксистской философии по существу, эти ее критики
изощряются в изобретении всевозможных ругательств и
самых вульгарных эпитетов. Так, например, на страницах
журнала «Die Zukunft»— теоретического журнала
австрийской социалистической партии,— диалектический
материализм называют «тупым оружием» и т. д.1. В
своей книге «Социология коммунизма» французский
социалист Жюль Моннеро называет марксизм «исламом XX
века», а диалектический материализм — «логической
ересью», «доктринерским чудовищем»2.
Есть и такого рода социал-демократические критики
марксизма, которые не знают никаких границ в своем
усердии и не останавливаются даже перед самой
вульгарной ложью и фальсификацией. Таков А. Эндерле,
автор статьи «Марксистская теория и большевистская
практика», помещенной в журнале западногерманских
профсоюзов «Gewerkschaftliche Monatshefte» в декабре
1954 года, который находится под идейным
руководством западногерманской социал-демократической партии.
Он заявляет, будто «учение Карла Маркса, которое
десятилетиями с успехом применялось рабочим движе-
1 «Die Zukunft», H. 5/6, Wien, 1957, S. 167—168.
2 J. Monnerot, Soziologie des Kommunismus, Koln — Berlin,
1952, S. 218.
53
нием в странах, говорящих по-немецки, и в
Скандинавских странах, ныне пользуется глубоким
недоверием» К Чтобы придать своей клевете убедительность,
Эндерле решил подкрепить свое утверждение самым
низкопробным вымыслом. «Нефальсифицированные
публикации Карла Маркса,— пишет он,— как и
«Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса» и сама
всемирно известная брошюра Ленина «Государство и
революция», давно исчезли из библиотек Советского
Союза. Ищущие истину студенты в России, которым
удается снабдить себя этими оригинальными
произведениями Маркса, Энгельса, Ленина, вынуждены прятать их и
читать тайно»2. Что сказать об этом? Картина
поистине ужасная. Но все, кому известны факты, не могут не
посмеяться над ней и не понять, что она не относится к
Советскому Союзу, так как господин Эндерле рисовал
просто Западную Германию в натуре. А Советский
Союз, если судить по его статье, он знает совсем слабо,
коль принялся рассказывать западногерманским
рабочим о «Стахановском» (вместо Стаханова) и т. п.
Поэтому, чтобы клеветать, не всегда надо обладать
знаниями.
Это критика, идущая со стороны политических
проституток буржуазии в рабочем движении. Поэтому
насколько она нагла и вульгарна, настолько она и
бездарна. Такая критика меньше всего может уязвить
марксизм и его философию. Но она весьма
показательна в том отношении, что свидетельствует, до какого
низкого уровня падения опустилась идеология
ревизионизма.
О нашем участии в борьбе против современной
буржуазной и ревизионистской идеологии
Болгарская коммунистическая партия всегда
отличалась своей революционной непримиримостью к
буржуазной и ревизионистской идеологии. Известно, как
Димитр Благоев, а после него Георгий Димитров и
другие руководящие деятели партии защищали прин-
1 «Gewerkschaftliche Monatshefte, H. 12, Koln — Deutz, 1954,
S. 718.
2 Там же, стр. 721.
54
ципиальную чистоту марксизма и с какой неукротимой
страстью воевали против буржуазной идеологии и
ревизионизма.
Эта революционная добродетель Болгарской
коммунистической партии с особенно большой силой
проявилась во время событий в Венгрии, когда буржуазия
попыталась протащить свою реакционную идеологию
во все коммунистические и рабочие партии под
формой различных ревизионистских теорий и идей. Верная
своим революционным традициям, Болгарская
коммунистическая партия дала такой решительный отпор
этой попытке, что буржуазная идеология и
ревизионизм не смогли оказать сколько-нибудь серьезного
влияния в Болгарии ни под маской антидогматизма, ни
«творческого марксизма-ленинизма» и других подобных
фальшивых названий.
Однако нередко у нас можно встретиться с
мнением, будто болгарские авторы не должны критиковать
буржуазную и ревизионистскую идеологию, так как
теории этой идеологии в Болгарии и без того неизвестны,
а когда мы их критикуем, мы делаем их достоянием
нашей общественности и таким образом, не желая
этого, оказываем услугу самой буржуазии и ревизионизму.
Такое понимание не только неправильно, но и
вредно. Оно является выражением мещанской
ограниченности и поэтому чуждо всему духу, славным
теоретическим и интернациональным традициям и сущности
Болгарской коммунистической партии.
Прежде всего неверно, что современные
буржуазные и ревизионистские теории не проникают в
Болгарию. Если до сих пор они не имеют никакого особого
влияния в Болгарии, то это объясняется той
непримиримой борьбой, которую партия ведет против всякого
более или менее значительного проявления буржуазной
идеологии. Но если мы не будем вести борьбу против
этих теорий, они неизбежно найдут известное
распространение и в нашем обществе.
Но самым важным в данном случае является то, что
идеологическая борьба Болгарской коммунистической
партии, борьба против буржуазной идеологии и
ревизионизма является интернациональной, как
интернациональна вообще борьба всякой коммунистической
партии против капитализма и буржуазии, за социализм
55
и коммунизм. Это и не может быть иначе, потому что
идеологическая борьба против Болгарской
коммунистической партии, против нашего социалистического
государства, против нашего социалистического общества
ведется не только остатками болгарской буржуазии, но
и идеологами всей международной буржуазии. Когда
идеологи английской, германской, французской,
итальянской буржуазии критикуют коммунистическую
теорию и практику, они критикуют не только теорию и
практику английской, германской, французской,
итальянской коммунистических партий. Наоборот, в
своей антимарксистской, антикоммунистической
критике буржуазные идеологи и ревизионисты уделяют
исключительно большое внимание критике теоретической
и практической деятельности коммунистических и
рабочих партий социалистических стран с целью
оклеветать социалистическое общество и социалистическое
строительство, умалить притягательную силу
социализма для трудящихся капиталистических стран и
одновременно воздействовать на сознание трудящихся из
самих социалистических стран, затормозить успешное
развитие социалистического и коммунистического
строительства.
Вот почему интересы самого нашего
социалистического строительства требуют от наших теоретических
кадров активного участия в борьбе против современной
буржуазной идеологии и ревизионизма. Разве
болгарские коммунисты могут быть безразличными и
пассивными, когда буржуазные идеологи и ревизионисты
рисуют социалистическое общество в фальшивом свете,
когда вводят в заблуждение трудящихся и
интеллигенцию капиталистических стран, утверждая, что
общественный строй в .Советском Союзе и в других
социалистических странах не является социалистическим, что
эксплуататорские классы в них не ликвидированы, что
жизненный уровень масс не повышается, а
понижается и т. д.? Конечно, не могут. Защита нашего
социалистического строя и опровержение различных
буржуазных и ревизионистских теорий о нашем строе является
задачей прежде всего наших собственных
теоретических кадров.
Кроме того, трудящиеся капиталистических стран,
их коммунистические и рабочие партии располагают
56
далеко не столь большим количеством идеологических
кадров, ни такими материальными и другими
условиями для ведения идеологической борьбы, какими
располагает буржуазия этих стран. Более того, в ряде
капиталистических стран коммунистические и рабочие
партии вынуждены работать в тяжелых условиях
нелегальности. Многие их самые лучшие идеологические
кадры брошены в тюрьмы или изгнаны в эмиграцию.
Поэтому рабочий класс, трудящиеся, коммунистические
и рабочие партии капиталистических стран с полным
основанием ожидают самой активной помощи в
идеологической борьбе против буржуазии от идеологических
кадров коммунистических и рабочих партий
социалистических стран. И они имеют полное основание ждать
этой помощи, так как наши теоретические работники
имеют все необходимые условия для этого —
материальные условия, библиотеки, научные институты, время
и многие другие условия, о которых трудящиеся
капиталистических стран и их немногочисленные
идеологические кадры пока могут только мечтать.
Болгарская коммунистическая партия располагает
немалым количеством теоретических кадров, которые
могли бы внести намного больший вклад в борьбу
против идейных врагов марксизма, социализма и
коммунизма, чем они это делают. Особенно
благоприятным условием для этого является наша
социалистическая практика, наши огромные успехи в
социалистическом строительстве, дающие большие возможности для
новых теоретических обобщений и несокрушимой
аргументации против всевозможных антинаучных и
реакционных буржуазных и ревизионистских теорий.
Николай Ирибадшанов
Народная рвспублина Болгария
„КОНЕЦ ИДЕОЛОГИЙ" ИЛИ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИВЕРСИЯ?
Одной из наиболее важных и наиболее характерных
особенностей нашей современности является
непрерывно возрастающая роль идеологии в жизни
человеческого общества, гигантские размеры идеологической
борьбы между двумя мировыми системами —
социалистической и капиталистической,— многообразие форм этой
борьбы и ее непрерывное обострение: Фронт
идеологической борьбы между социализмом и капитализмом,
между рабочим классом и буржуазией проходит через
все страны и континенты. Она охватывает все сферы
общественной жизни — экономику, политику, религию,
мораль, искусство, науку, всю культуру.
Поэтому не удивительно, что вопрос о том, что
представляет собой идеология, какова ее роль в
общественно-политической жизни, в философии и науке, в
искусстве и культуре вообще, никогда еще не
привлекал столь сильно внимание философов и ученых,
политических деятелей и деятелей различных областей
культуры, как в наше время. Никогда борющиеся
социальные классы не прилагали столь больших усилий
для разработки и развития своих идеологий.
Но вот еще в начале пятидесятых годов нашего
столетия в капиталистических странах появились и
получили широкое распространение «антиидеологические»
теории. Буржуазные авторы, такие, как Раймон Арон,
Даниэль Белл, Сеймур Липсет, Эдуард Шилз, Ганс
Кельзен, Эрнст Топич, Артур Шлезингер, Карл Поппер,
Артур Кестлер, Теодор Гейгер, Ральф Дарендорф,
Гельмут Шельский и многие другие, провозгласили
«конец идеологической эпохи» и наступление новой,
«антиидеологической» эпохи в истории человечества. Они
уверяют нас, что идеологии — безразлично, относится ли
это к консерватизму, либерализму, фашизму или
марксизму,— которые когда-то доминировали на интеллек-
58
туальной сцене и увлекали за собой интеллигенцию и
большую часть масс, в последнее десятилетие
«исчерпали себя», отжили свое время, утратили прежнюю
свою привлекательность и действенную силу.
Идеологии любого вида утратили свою прежнюю способность
«прельщать или очаровывать» интеллигенцию и массы.
Они охвачены неудержимым и необратимым процессом
«эрозии», который находит выражение в безразличном
и отрицательном отношении масс и интеллигенции к
идеологиям и идеологическим спорам. Словом,
современное общество, независимо от того,
капиталистическое оно или социалистическое, наука и культура
находятся якобы в процессе освобождения от влияния
идеологии и должны быть окончательно освобождены от
нее, то есть деидеологизированы.
«Антиидеологические» теории являются одним из
современных и наиболее важных идеологических
оружий империалистической буржуазии, одной из главных
форм ее идеологических диверсий в борьбе против
марксизма-ленинизма и социалистических стран, против
всех прогрессивных, демократических и миролюбивых
сил в мире. Эти теории нашли широкий прием среди
теоретиков современных социал-демократических
партий, среди представителей современного ревизионизма
и среди большой части научной, технической и
творческой интеллигенции в капиталистических странах.
Империалистическая реакция никогда не
прекращала и не прекратит свои фронтальные атаки против
марксизма-ленинизма, против коммунистических
партий и социалистических стран. Но опыт показывает, что
только открытой антикоммунистической пропагандой
она не может остановить идеологическое наступление
марксизма-ленинизма и еще труднее ей оказывать
идеологическое воздействие внутри коммунистического
движения и в социалистических странах. Поэтому она
прибегает к более сложной тактике — к сочетанию
фронтальных идеологических атак с идеологическими
диверсиями.
А «антиилеологические» теории оказываются очень
удобной формой для идеологической диверсии.
Во-первых, как беспартийность является только формой
буржуазной партийности, так и «антиидеологические»
теории являются формой буржуазной идеологии и сред-
59
ством для распространения этой идеологии. Они,
однако, прикрывают свой идеологический характер. В то
время как другие представители буржуазной
идеологии отрицают только марксистско-ленинскую
идеологию и рекомендуют свою собственную идеологию,
представители «антиидеологических» теорий делают вид,
что отрицают как марксистско-ленинскую, так и
буржуазную — всякую идеологию. Во-вторых,
представители «антиидеологических» теорий выступают под маской
борцов за «научное познание». Больше того, они даже
ссылаются на определенные высказывания Маркса и
Энгельса об идеологии и на само «развитие»
социалистических стран.
Таким образом, «антиидеологические» теории
являются гораздо более удобным средством
империалистической реакции для идеологического проникновения
в коммунистическое движение и социалистические
страны и разложения их изнутри, для идеологической
обработки и разоружения прогрессивных
демократических и антиимпериалистических сил в мире. Вот
почему нам необходимо уяснить себе, что представляют
собой так называемые «антиидеологические» теории,
каковы их аргументы, какими причинами они
порождены, каково их предназначение и как надо бороться
против них.
Путаница в буржуазной литературе
вокруг понятия «идеология»
Чтобы доказать, что идеология отжила свое время,
что общество, наука, искусство, культура должны быть
деидеологизированы, всякая «антиидеологическая»
теория должна прежде всего определить с научной
ясностью и точностью содержание и границы понятия
«идеология». Потому что при отсутствии такого
определения остается непонятным, что означает «конец
идеологической эры», «деидеологизация» общества,
науки, искусства и культуры, и вся теория повисает в
воздухе.
Но как раз понятие «идеология» в буржуазной
философской и социологической литературе оказывается
крайне растяжимым, неясным, путаным и
противоречивым. Чтобы не быть голословными, приведем хотя бы
60
некоторые из определений, которые буржуазные
философы и социологи дают понятию «идеология».
Раймон Арон квалифицирует как идеологии «все
идеи или совокупность идей, воспринятых личностями
или народами, без учета их происхождения или
природы» *. По его мнению, «политические идеологи
всегда смешивают, более или менее успешно, фактические
утверждения и ценностные суждения. Они
одновременно выражают одно мировоззрение и одну
направленную к будущему волю»2.
Даниэль Белл: «Идеология есть превращение идей
в социальные рычаги... То, что придает идеологии
силу,— это ее страсть». Идеология отличается своим
действенным характером. Она трансформирует идеи,
трансформирует людей и направляет их к общим
действиям 3.
Джеймс Бэрнхэм: идеология есть «особый
общепризнанный вид мышления, чувствования, говорения и
миропонимания»4.
Эдуард Шпранглер: идеологии — это проекты
будущей действительности5.
Ганс Фрайер: идеология — это деформированная
религия б.
Гельмут Крамер: «Идеология есть более или менее
систематическое соединение идей... общественные
идеалы, дающие возможность партии или какой-либо
другой политической группе оправдать свою претензию на
государственную власть» 7.
В. Станкиевич: идеологии являются «комплексами
норм и ценностей, которые доминируют во всяком об-
1 Political Thought since World War II, Ed. by W. J. Stankie-
wicz. The Free Press of Glencoe Collier-Macmillan Ltd., London,
1964, p. 4.
2 R. Aron, Opium fur Intellectuelle, Kiepenheuer & Witsch,
Koln, 1957, S. 287.
8 D. Bell, The End of Ideology. On the Exhaustion of
Political Ideas in the Fifties, The Free Press of Glencoe, Illinois, 1960,
p. 370—372.
4 J. В u г n h a m, Das Regime der Manager, Union deutscher
Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1951, S. 219.
5 «Zeitschrift fur philosophische Forschung», Bd. 21, H. 1, Ver-
lag Anton Hain KG, Heisenheim/Glan, 1967, S. 60.
6 Там же.
7 H. Kramer, Was ist eigentlich eine Ideologie? «Die Zu-
kunrt», H. 13/16, 1965, S. 40.
61
ществе». «Идеологии так же являются позитивными.
Они занимаются фактами и сферой деятельности»1.
Т. Парсонс: «Идеология является системой
убеждений, поддержанной членами какого-то коллектива, то
есть общества или подколлектива... системой идей,
направленной к оценочной интеграции коллектива через
интерпретацию эмпирической природы коллектива и
ситуации, в которую он поставлен, процессов, через
которые он развился до данного состояния, целей, на
которые его члены коллективно ориентированы, и их
отношения к будущему ходу событий»2.
Мы бы могли привести еще десятки других
определений понятия «идеология», которые находим в
буржуазной философской, социологической и другой
литературе, но и этих достаточно, чтобы увидеть, какое
невообразимое разноязычие царит среди них. Одни
рассматривают идеологию как систему всякого вида идей,
другие—как систему социально-политических идей. Одни
ее рассматривают как мировоззрение, другие — как
систему норм и ценностей. Одни ее расматривают как
систему идей, относящихся к прошлому, настоящему и
будущему, другие — как проект будущей
действительности. Одни ее рассматривают как деформированную
религию, другие, как, например, американский профессор
У. И. Элиот, вопрошают: не входят ли в идеологию
также кока-кола, шампанское, водка, шотландское виски и
другие вещи, которые являются вопросом вкуса и моды,
а не вопросом идейных убеждений или верований?3
И т. д.
Такое разноязычие вынуждает некоторых
буржуазных авторов, как, например, западногерманского
философа Гейнца Р. Шлетте, прийти к пессимистическому
выводу, что никто не в состоянии дать
удовлетворительное и общезначимое определение понятия «идеология».
«Часто,— пишет Шлетте,— идеология является просто
привлекательным эрзац-словом для мировоззрения,
учений, теории или политической доктрины, а слово «идео-
1 «Political Thought since World War II», Ed. by W. I. Stankie-
wicz, p. XVI, 2.
2 T. Parsons, The Social System, Routledge & Kegan Paul,
London. 1964, p. 349.
3 W. Y. Elliott, Ideas and Ideologies, в: Political Thought
Since World War II, p. 25.
62
логический» нередко заменяется словом «теоретический»
или «философский» в самом широком и неясном
смысле» 1.
Это признание Шлетте не лишено известного
основания. Оно отражает тот объективный факт, что в
концепциях буржуазных философов и социологов
относительно вопроса «что такое идеология?» существует хаос и
что они беспомощны дать действительно научное
определение понятия «идеология», поэтому и их теории об
идеологии как общественном явлении независимо от
того, отрицают они ее или утверждают, носят
ненаучный характер. Однако Шлетте неправ, утверждая, что
невозможно дать научное определение понятия
«идеология». Такое определение существует, и оно было дано
еще сто лет назад Марксом и Энгельсом, развито и
углублено позже В. И. Лениным.
Идеология как социальное явление возникла с
возникновением духовной жизни общества, а вместе с
отделением умственного труда от труда физического она
обособляется в относительно самостоятельную сферу
социальной жизни. На протяжении веков идеология и ее
отдельные составные части — социально-политические
идеи, философия, этика, эстетика, религия и т. д.— были
предметом теоретического рассмотрения, которое
становилось особенно актуальным в революционные
эпохи. Примечателен тот факт, что сам термин «идеология»
возник сравнительно поздно. Он был создан и пущен в
ход в конце XVIII —начале XIX в. идеологами
французской буржуазной революции.
Составное слово «идеология» образовано от греческих
слов идеа — идея, образ, понятие и логос — учение.
Буквально оно означает учение об идеях. Но этимология
слов не всегда раскрывает и не может раскрыть
подлинного содержания понятия «идеология», так как
почти с самого начала это слово употреблялось для
обозначения противоположных идейных содержаний, а
поэтому в понятие «идеология» вкладывалось и
вкладывается самое различное содержание.
Впервые название «идеология» употребил француз-
1 Н. R. S с h 1 е 11 e, Philosophische Marginalien zum Ideologie-
problem, в: Zeitschrift fur philosophische Forschung, Bd. 21, H. 1,
1967, S. 47.
63
ский философ Антуан Дестют де Траси в 1796 году,
чтобы обозначить философию, идейно подготовившую
революцию во Франции. Дестют де Траси принадлежал к
сенсуалистическому философскому течению Кондилька
и Кабаниса, которое в духе тогдашнего французского
материализма было враждебно настроено ко всякой
«метафизике» и стремилось поставить науку о культуре на
антропологические и психологические основы.
Дестют де Траси употребил название «идеология»
вместо названия «метафизика», которое было очень
сильно скомпрометировано среди тогдашней
радикальной французской интеллигенции. Он понимал
«идеологию» как науку об идеях, об их происхождении и роли,
об их отношении к знакам, которые их выражают. По
его мнению, «идеология» должна быть такой же
точной наукой, как естественные науки, и служить
основой всех остальных наук. В подобном смысле
употребляли термин «идеология» философы Кабанис, Вольней
и другие представители французского сенсуализма.
Дестют де Траси рассматривал «идеологию» даже
как часть зоологии, что особенно наглядно показывает,
насколько далек он был от действительной науки о
возникновении, развитии и роли идей в общественной
жизни людей. Однако вопреки этому мы не можем не
отметить как чрезвычайно важный и положительный
тот факт, что Дестют де Траси и его
единомышленники рассматривали «идеологию» как науку, были
убеждены, что она может быть такой же точной наукой,
как естественные науки, и служить теоретической
основой для разрешения социальных проблем, для
создания научно обоснованной политики.
Характерным для этой группы философов и
мыслителей является то, что она активно участвовала в
политической жизни своего времени и через научное
исследование идей пыталась научно обосновать
проблемы воспитания, право и политику государства. Она
весьма критически относилась к политической
деятельности Наполеона Бонапарта, к его цезаризму и тем
самым навлекла на себя его ненависть и презрение.
Наполеон презрительно называл этих своих критиков
«идеологами», рассматривая их как доктринеров,
оторванных от реального мира, теоретиков, лишенных
чувства реальности. Таким образом, понятие «идеоло-
64
гия» послужило для обозначения оторванных от
действительности и лишенных практического значения
взглядов и идей.
До возникновения марксизма отсутствовало
научное понимание сущности, роли и значения идеологии.
Оно впервые было создано Марксом и Энгельсом на
основе историко-материалистического учения об
отношении между общественным бытием и общественным
сознанием, об определяющей роли общественного
бытия и об общественном сознании как отражении
общественного бытия.
В своем классическом произведении «К критике
политической экономии» Маркс указывает как на формы
идеологии на правовые, политические, религиозные,
художественные и философские взгляды, в которых люди
осознают конфликт между общественными
производительными силами и общественными отношениями1.
Следуя этой мысли Маркса, как и ряду других
высказываний Маркса, Энгельса и Ленина, мы можем
определить идеологию как систему политических, правовых,
этических, эстетических, религиозных, исторических,
экономических, социологических, философских и других идей,
взглядов и теорий, которые отражают интересы, цели,
стремления и борьбу социальных классов и систем.
Марксистско-ленинское учение об идеологии
коренным образом отличается от всех буржуазных взглядов
на идеологию до и после появления марксизма тем, что
оно является материалистическим и диалектическим и,
следовательно, революционным. Оно не рассматривает
идеологию как систему идей, которая имеет какое-то
самостоятельное и независимое от материальных
условий общественной жизни существование, и еще менее
как силу, которая определяет ход
общественно-исторической жизни; оно рассматривает идеологию как
отражение общественного бытия. Но это не означает, что
марксизм-ленинизм рассматривает идеологию как
пассивное отражение объективной действительности.
Наоборот, он особенно подчеркивает, всесторонне
обосновывает и раскрывает активную, действенную роль идей,
а следовательно, и идеологии как системы идей.
Именно Марксу принадлежит крылатая и глубоко со-
1 См.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 7.
3 Ирибаджаков
65
держательная мысль о том, что когда идеи овладевают
массами, они становятся материальной силой.
В непосредственной связи с последовательным
материализмом марксизма-ленинизма находится и его
диалектическая концепция об идеологии как
конкретном историческом явлении. Нет идеологии вообще.
«В обществе, раздираемом классовыми
противоречиями,— писал В. И. Ленин, — и не может быть никогда
внеклассовой или надклассовой идеологии» К В таких
обществах она носит классовый характер .и в
зависимости от этого бывает прогрессивной или реакционной,
революционной или контрреволюционной, научной «ли
ненаучной.
В последнее десятилетие этот
марксистско-ленинский взгляд на идеологию является предметом
усиленных атак со стороны буржуазных авторов, правых и
«левых» ревизионистов, связанных с попытками
извратить действительные взгляды Маркса, Энгельса и
Ленина на идеологию, искусственно противопоставить их
друг другу, умалить их заслуги в научной разработке
проблем идеологии. Более того, существует немало
попыток найти «аргументы» для «антиидеологии», для
«деидеологизации» науки, культуры вообще и самого
марксизма. Так, например, в своей статье «Наука и
идеология», напечатанной в 1959 году в № 7—8
журнала «Наша стварност», югославский философ Михай-
ло Маркович писал: «Ленин, очевидно, избегал
термина «идеология». Во всех своих трудах, более чем на
15 000 страницах, он употребляет его всего в десяти
местах. При этом чаще всего говорит о буржуазной
идеологии, против влияния которой на рабочий класс
должна бороться социал-демократия...
Наконец, в своем труде «Что делать?» Ленин
впервые говорит о социалистической идеологии».
Нетрудно понять, что это утверждение преследует
далеко идущие пели. Во-первых, его автор пытается
внушить своим читателям мысль о том, что Ленин не
занимался серьезно вопросом идеологии, и тем
самым отрицает какой-либо вклад Ленина в развитие
марксистской теории идеологии. Во-вторых,
подчеркивая, что Ленин якобы сознательно «избегал» тер-
В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 6, стр. 39—40.
66
мина «идеология», а когда и употреблял его, то
главным образом для обозначения «буржуазной
идеологии», Маркович стремится внушить мысль, что для
Ленина всякая идеология с самого начала является
чем-то отрицательным и враждебным, что принадлежит
к идейному арсеналу буржуазии и против чего надо
вести непримиримую борьбу. Таким образом, он
пытается найти у самого Ленина подкрепление
хорошо известного тезиса о необходимости
«деидеологизации» даже марксизма как научной теории, который
некоторые круги в современном рабочем движении
пропагандируют с завидным усердием во имя «научной
чистоты» марксизма.
Мы не занимались подсчетом, во скольких местах и
сколько раз Ленин в своих сочинениях употребил
термины «идеология» и «идеологический», потому что для
сущности вопроса это не имеет никакого значения.
В данном случае нам хочется подчеркнуть то, что
напрасными являются все попытки противопоставить
ленинскую концепцию идеологии концепции Маркса и
Энгельса, отрицать огромный вклад Ленина в развитие
марксистской теории идеологии. А попытка найти
даже сколько-нибудь отдаленную и призрачную связь
теории «деидеологизации» вообще и марксизма в
частности с Лениным является, мягко выражаясь, самым
большим курьезом в истории идей.
Правда заключается в том, что Ленин не только не
избегал, а очень часто употреблял термин «идеология».
Он исходил из учения Маркса и Энгельса об
идеологии, и никто не развил марксистское учение о
конкретно-историческом, классово-партийном характере
идеологии, о ее отношении к науке, о роли и значении
идеологии в социально-исторической жизни, в борьбе
социальных классов и, в частности, марксизма как
идеологии революционного рабочего движения с такой
последовательностью, с такой глубиной и так
всесторонне, как Ленин.
В противоположность метафизическому подходу
теоретиков «деидеологизации», которые объявляют
всякую идеологию «извращенным отражением»
действительности, отрицанием научного познания,
объективной истины» Ленин подходит к идеологии как к
сложному, конкретно-историческому и противоречивому яв-
3*
67
лению. Есть различные идеологии. «Исторически
условна всякая идеология, но безусловно то, что всякой
научной идеологии (в отличие, например, от
религиозной) соответствует объективная истина, абсолютная
природа»1. Марксизм, научный социализм тоже
идеология, но научная и революционная идеология
рабочего класса. Задолго до опубликования своей знаменитой
книги «Что делать?» (1902), еще в своем труде
«Экономическое содержание народничества и критика его в
книге г. Струве», написанной в 1894 году, Ленин писал:
«Марксизм не основывается ни на чем другом, кроме
как на фактах русской истории и действительности; он
представляет из себя тоже идеологию трудящегося
класса, но только он совершенно иначе объясняет
общественные факты роста и побед русского
капитализма, совсем иначе понимает задачи, которые ставит
наша действительность идеологам непосредственных
производителей»2. Много лет спустя Ленин писал:
«Социализм, будучи идеологией классовой борьбы
пролетариата, подчиняется общим условиям возникновения,
развития и упрочения идеологии, т. е. он основывается
на всем материале человеческого знания, предполагает
высокое развитие науки, требует научной работы
и т. д. и т. д.»3.
Одна из больших заслуг Ленина в развитии
марксистского учения об идеологии состоит в том, что он
внес предельную ясность в вопрос об отношении
между идеологией .и наукой. Он доказал, что понятия
«наука» и «идеология» не являются взаимоисключающими
понятиями, что марксизм, в частности, является
одновременно и идеологией рабочего класса, и самой
строгой наукой, что связь между идеологией и наукой в
марксизме является не случайной и внешней, а
внутренней и неразрывной. Задачей теории, целью науки
здесь прямо ставится оказание содействия классу
угнетенных в его действительно ведущейся экономической
борьбе.
Развивая марксистское учение об идеологии, Ленин,
как никто другой, раскрыл и обосновал громадную
1 В. И. Лен и н, Поли. собр. соч., т. 18, стр. 138.
2 Там же, т. 1, стр. 411.
3 Там же, т. 6, стр. 362—363
68
роль идеологии в социально-исторической жизни, в
борьбе социальных классов и особенно в классовой
борьбе пролетариата. Он рассматривает
идеологическую борьбу как одну из основных форм классовой
борьбы и обосновывает обязательный для всех
марксистов тезис, что без революционной теории, то есть без
революционной идеологии, не может быть и
революционного движения, что «роль передового борца может
выполнить только партия, руководимая передовой
теорией» К
Поэтому Ленин не относился и не мог относиться
с каким-то пренебрежением или как-то сдержанно к
идеологии. Как раз наоборот, все творчество Ленина,
его исключительные способности мыслителя и
революционера, вся его гигантская деятельность была
посвящена борьбе за чистоту и творческое развитие
революционной идеологии рабочего класса, борьбе против
буржуазной идеологии. В этой борьбе Ленин не
признавал никакого колебания и никаких компромиссов,
«...вопрос, — писал он, — стоит только так: буржуазная
или социалистическая идеология. Середины тут нет...
всякое умаление социалистической идеологии, всякое
отстранение от нее означает тем самым усиление
идеологии буржуазной»2. И никогда эти слова Ленина не
имели большей силы и большего значения для
революционного рабочего движения для коммунистических
партий и социалистических стран, как в условиях
современной эпохи —эпохи невиданной по своим формам
и размерам борьбы между социалистической и
буржуазной идеологиями.
Классово-партийная ограниченность
буржуазных пониманий идеологии
Реакционный характер и историческая
обреченность современной буржуазии, реакционный и
ненаучный характер современной буржуазной идеологии
определяют враждебное отношение буржуазных 'идеологов
к марксизму-ленинизму как к научной и революционной
идеологии рабочего класса, а отсюда и ненаучных ха-
1 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 6, стр. 25.
2 Там же, стр. 39—40.
69
рактер их теорий о самой идеологии как общественном
явлении.
При всех своих различиях и противоречиях
приведенные нами определения различных буржуазных
авторов понятия «идеология» имеют одну общую и основную
черту — все они отражают классовую ограниченность
буржуазии, и при этом именно современной, реакиион-
ной и обреченной историей на гибель буржуазии.
Классовая ограниченность современных буржуазных
теорий об идеологии проявляется прежде всего в том
обстоятельстве, что все они сильно сужают и обедняют
содержание идеологии, ее взаимные связи и отношения
с другими общественными явлениями и ее роль в
общественно-исторической жизни. Многие, если не сказать
большинство из них, берут ту или иную составную часть,
одну илм другую особенность идеологии,
гипертрофируют ее и выдают за целостную идеологию. Как мы уже
видели, одни из них редуцируют всю идеологию к
религии, другие — к политическим теориям, третьи — к
какой-нибудь системе норм и ценностей, четвертые — к
различным теориям о будущей социальной
действительности, то есть к так называемой «футурологии», и т. д.
Но с наибольшей силой классово-партийный
характер и классовая ограниченность современных
буржуазных теорий об идеологии проявляются в их концепции
об идеологии как отрицании науки и научного познания.
Сегодня едвя ли можно найти буржуазного
философа, социолога и вообще буржуазного идеолога, который
бы поддерживал мнение, что может существовать
научная идеология. Все они рассматривают идеологию как
систему идей, убеждений, норм, ценностей, верований
и т. д., которая дает фальшивую картину объективной
действительности. По мнению Л. Фройнда, идеологии
«смешивают полуистины с неистинами или
действительные интересы с воображаемыми» К По мнению таких
авторов, как А. Шлезингер, Д. Белл, Г. Кельзен, Э. То-
пич и других, идеологии создают «ошибочное сознание»
о действительности, которое не может быть ни научно
показано, ни опровергнуто. Другие же, как, например,
1 L. F г е u n d, Politik und Ethik, M5glichkeiten und Grenzen
ihrer Syntheset Alfred Metzner Yerlag, Frankfurt ц. M—Berlin, 1955,
70
Р. Арон и Дж. ВэрнхэМ, считают, что идеологии вообще
«не подпадают непосредственно под альтернативу
«истинно» или «ложно», что к ним не применимы категории
«истинно» и «ложно», которые мы применяем к научным
теориям» К
Все это показывает, что сам!и буржуазные идеологи
не скрывают ненаучный характер буржуазной идеологии.
Различия между ними начинаются отсюда. Одни из них
придерживаются того мнения, что вопреки своей
ненаучности идеологии необходимы. Другие, однако, каковыми
являются упомянутые уже представители различных
«антиидеологических» теорий, исходя из тезиса, что
идеологии не являются и не могут быть научными, что они
дают неверное, извращенное представление о
социально-исторической действительности, отрицают всякую
идеологию во имя «научности», «научного познания».
Гносеологические основы
«антиидеологических» теорий
В основе антиидеологических теорий лежит
концепция, что идеология не является и не может быть
научным познанием, что в отличие от научных теорий и
взглядов она не может быть доказана или опровергнута
фактами объективной действительности, научными
исследованиями и экспериментами. Почему? Каковы
аргументы, которыми «обосновывается» этот тезис? Здесь мы
приходим к философским, гносеологическим основам
антиидеологических теорий.
Философской основой этих теорий служат различные
идеалистические учения. Но чаще всего это
неокантианство, и особенно прагматизм и неопозитивизм, которые
проповедуют субъективный идеализм, агностицизм,
вульгарный эмпиризм и практицизм.
Прагматическая интерпретация идеологии
присутствует у таких авторов, как Сидней Хук, Дж. Бэрнхэм,
Артур Шлезингер и других, неопозитивистская — у
таких авторов, как Р. Арон, К. Поппер, С. Липсет, Г. Кель-
зен, Э. Топич, Теодор Гейгер и др.
Одним из наиболее ярких выразителей неопозити-
1 R. А г on, Opium fur Intellektuelle, S. 287; J. В urn ham,
Das Regime der Manager, S. 220.
71
вистских взглядов на идеологию является
западногерманский буржуазный социолог Теодор Гейгер. В своей
книге «Идеология и истина» Гейгер делит высказывания,
суждения на две основные и коренным образом
различные группы — «теоретические» и «атеоретические», или
«идеологические». На основе этой квалификации
суждений он строит и свой тезис о коренной
противоположности между наукой и (идеологией.
По мнению Гейгера, наука состоит из теоретических
высказываний или суждений, которые относятся к
реальным фактам и могут быть доказаны или
опровергнуты фактами, почерпнутыми из
«пространственно-временной действительности». Такими, например, являются
положения естественных наук.
В противоположность научным высказываниям
идеологические высказывания относятся якобы к чему-то
нереальному, субъективному, что не существует в
«пространственно-временной действительности», но что мы
объективируем и представляем как реально
существующее. Поэтому, хотя они и претендуют на истинность,
идеологии являются извращенными, неверными
картинами действительности.
Идеологические суждения, утверждает Гейгер,
являются ценностными суждениями. Таким якобы является,
например, утверждение «гиацинты благоухают».
Мы знаем, что идеологические суждения и взгляды
всегда имеют более или менее прямое или хотя бы
косвенное отношение к интересам и борьбе социальных
классов и систем. Суждение «империализм является
агрессивным» тоже является ценностным суждением,
потому что оно содержит определенную оценку.
Защитники империализма отбросят его как «неверное»,
«неправильное», противники империализма примут его как
«верное», «правильное». Но и те и другие согласятся,
что это — идеологическое суждение, потому что оно
затрагивает одну из наиболее существенных черт
империализма и самые чувствительные интересы
империалистической буржуазии, которая прикрывает свои
агрессивные действия фальшивыми лозунгами об
«освобождении» народов, о защите человеческой «свободы» и
«цивилизации» и т. д. Так что суждение «империализм
является агрессивным», в каком бы аспекте ни
рассматривали его — онтологическом или гносеологическом,
72
частнонаучном или философском, политическом или
социологическом, экономическом, этическом и т. д., всегда
остается идеологическим суждением.
Но суждение «гиацинты благоухают»? Какое
отношение имеет оно к интересам и борьбе социальных
классов и систем, к идеологии «и идеологической борьбе?
Взятое в его обыкновенном, эмпирическом смысле и в том
смысле, в каком оно вошло бы в частнонаучное
познание, оно не имеет никакого идеологического аспекта.
Поэтому многим читателям показалось бы странным и
смешным искать даже какой-нибудь след или подобие
идеологии в этом суждении, а спор с такими авторами,
как Гейгер, уверяющими нас, что утверждение
«гиацинты благоухают» является идеологическим суждением, —
несерьезной работой, не стоящей потери времени.
В действительности, однако, дело куда сложнее.
Гейгер рассматривает суждение «гиацинты благоухают» не
в его эмпирическом, онтологическом, а в его
гносеологическом аспекте, который придает ему философский, то
есть идеологический характер.
Суждение «гиацинты благоухают», по мнению
Гейгера, является ценностным суждением и как таковое есть
«идеологическое», потому что оно приписывает
гиацинтам свойство «благоухания», которое не могло быть
найдено, то есть не существовало в «пространственно-
временной действительности». Оно представляет
субъективное ощущение, которое мы объективируем,
экстраполируем на гиацинты и таким образом приписываем
гиацинтам как реальное свойство, каким они фактически не
обладают. Вот почему это суждение, как и всякое иное
ценностное суждение, якобы не имеет познавательного
значения, потому что оно не раскрывает нам какого-то
реального свойства данного предмета, и каждый, кто
приписывает ему познавательное значение, то есть
каждый, кто утверждает, что благоухание есть свойство
самого гиацинта, заблуждается сам и вводит в
заблуждение других.
Эту философскую субъективно-идеалистическую
трактовку ценностных суждений Гейгер распространяет на
все так называемые ценностные суждения, относящиеся
и к общественным явлениям, ко всем действительно
идеологическим суждениям. По Гейгеру, все наши
суждения и высказывания о красивом и некрасивом, о доб-
73
ре и зле, о справедливом и несправедливом, о свободе
и несвободе, о прогрессе и т. д. носят «идеологический*
характер и не могут быть научно верифицированы, не
могут быть доказуемы или опровергнуты фактами
действительности.
Подобной же является логика Р. Арона, Д. Белла,
С. Липсета, А. Шлезингера и других защитников
«антиидеологических» теорий, как и всех, кто отрицает
познавательный характер идеологий и представляет их как
отрицание научного познания. Разница между ними
только в деталях.
Так, например, многие защитники
«антиидеологических» теорий придерживаются широко
распространенной в неопозитивистской литературе «эмотивной теории»
о ценностных суждениях, развиваемых такими
авторами, как Ч. Л. Стивенсен, Р. Карнап, А. Дж. Айер и др.
«Эмотивная теория» о ценностных суждениях
является такой же субъективно идеалистической, как и
взгляд Гейгера. Она тоже отрицает познавательный
характер ценностных, а соответственно и идеологических
суждений и взглядов. По мнению Айера, ценностные,
например этические, суждения относятся к тем или иным
действиям, которые мы оиениваем как «правильные» и
«ошибочные». Но оценивая данное действие или какой
бы то ни было другой объект как «правильный» или
«ошибочный», мы не устанавливаем и не отрицаем какой-
нибудь действительный факт, а только выражаем наше
внутреннее чувство относительно данного действия.
Следовательно, ценностные, соответственно
идеологические, суждения и взгляды выражают или
предназначены вызывать те или иные чувства (эмоции). Они
полностью субъективны и не могут быть ни верными, ни
ошибочными *.
Но гносеологические «аргументы», которые
неопозитивизм, прагматизм и другие идеалистические течения
доставляют «антиидеологическим» теориям, не
«счерпываются их идеалистическими аксиологическими
теориями. Исключительно важную роль в этом отношении
играют также свойственные неопозитивизму и
прагматизму агностицизм, вульгарный эмпиризм и практицизм.
1 A. J. Aye г, Language, Truth and Logic, Victor Gollaner
Ltd., London, 1962, p. 22, 103, 107, 108,
74
Как известно, неопозитивизм « прагматизм отрицают
существование объективных закономерностей
общественно-исторической жизни. Вместе с этим они отрицают
возможность создания научных теорий общественно-
исторического развития для научно обоснованных
предвидений будущего хода этого развития. Они объявляют
будущее непроницаемым, проповедуют чаще всего в
качестве идеала общественных наук самоцельные
эмпирические исследования, которые не идут дальше
констатации, систематизации и описания единичных фактов или
ограниченных сфер общественной жизни, и каждую
попытку проникнуть в будущее объявляют «ненаучной»,
проявлением «хилиазма», «религиозной веры» и т. д.
Чаще всего неопозитивизм и прагматизм прикрывают
и «оправдывают» свой вульгарный эмпиризм и
практицизм сказками о «реалистическом» и «научном»
подходе к проблемам общественно-исторической жизни, об
освобождении масс от «религиозного мышления», от
«иллюзорных представлений» и надежд, которые
обесценивали настоящее, «оглупляли» массы и вынуждали их,
подобно религии, жить и бороться ради какого-.то
счастья, которое якобы находится в «бесконечно
отдаленном будущем» К
Таковы некоторые из главных гносеологических
предпосылок «антиидеологических» теорий. Но верно ли то,
что поддерживают их приверженцы?
Начнем с Гейгера. Он утверждает, что такие
суждения, как «гиацинты благоухают», не имеют якобы
познавательного значения и фактически вводят в
заблуждение, потому что экстраполируют на предметы
субъективные ощущения, чтобы представить их как
действительные свойства, которыми они не обладают. Но это
неверно. Всякий нормальный человек с неповрежденным
обонянием ощущает благоухание гиацинта, то есть
воспринимает благоухание гиацинта. Благоухание является
реальным, объективно существующим свойством
гиацинта, связанным с определенными веществами,
которые парфюмерная промышленность давно производит
1 W. К n u t h, Ideen, Ideale, Ideologien, Holten Verlag, Hamburg,
1955, S. 89, 91; D. Bell, The End of Ideology, p. 370—372;
S. M. L i p s e t, Political Man. The Social Bases of Politics. Doub-
leday & Company Inc., Garden City, N. YM 1960, p. 405; R. Aron,
Opium fur Intellektuelle, S. 376, 382.
7Б
искусственным путем при помощи химии. Так что
такие суждения, как «гиацинты благоухают»,
выражают не субъективные ощущения, а реальные свойства
предметов, которые вызывают у нас определенные
ощущения.
Таким же образом стоит вопрос и с понятиями
«свобода», «угнетение», «рабство», «прогресс» и т. д. Это
реальные общественные отношения между людьми,
классами, народами, между людьми и предметами
материальной действительности и пр. Многие из них
относительны. В классовых обществах, например, свобода
одного класса является рабством для другого, но это
не означает, что эти отношения не имеют
объективного характера. Они определяются местом, которое
данные личности или социальные группы и классы
занимают в общественном производстве, в системе объективно
существующих социальных отношений. Тот факт, что
эти отношения изменились и изменяются не голыми
субъективными пожеланиями и идейными
конструкциями, а практическими действиями по изменению
объективной социальной действительности, материальных
условий общественной жизни, является самым
убедительным доказательством их объективной реальности.
Но как стоит вопрос с «эмотивной теорией» о
ценностных суждениях?
Прежде всего надо отметить, что не всякое
ценностное суждение является идеологическим суждением.
Суждение «закат красив» является ценностным, но не
идеологическим. Ценностные суждения только тогда
являются идеологическими, когда в той или иной степени
затрагивают интересы и борьбу социальных классов и
систем.
Верно, что всякая идеология содержит ценностные
суждения, но вместе с ними она содержит и суждения,
выражающие верно или неверно просто объективные
факты, свойства, отношения, процессы и исторические
необходимости. Суждение «бытие определяет сознание»
есть идеологическое суждение. Но оно не является
ценностным суждением, потому что выражает просто
фактическое положение, без какой бы то ни было оценки.
Характерной особенностью идеологических суждений,
независимо от того являются ли они ценностными,
отражают ли определенное состояние объективных фак-
76
тов, исторических необходи мосте й и т. д., является то,
что они всегда нераздельно связаны с
социально-психологическими явлениями «и способны вызвать такие
явления. Суждение «сумма углов треугольника равна
180 градусам» обычно не вызывает никаких чувств или
хотя бы никаких социальных, классовых чувств. Но не
так, например, обстоит дело с суждением
«социалистическая революция исторически неизбежна». У
представителей эксплуататорских классов оно вызывает
негодование, страх, неверие, пессимизм и т. д., а у
представителей угнетенных и эксплуатируемых классов —
оптимизм, уверенность в борьбе, революционный энтузиазм
и т. д.
Представители «эмотивной теории» о ценностных
суждениях и «антиидеологических» теорий выдвигают и
подчеркивают как сущность ценностных « вообще
идеологических суждений только их
социально-психологическую окраску с целью представить их как коренным
образом отличные и противоположные научным
суждениям, познавательным- суждениям, относящимся к
фактам действительности. Но такая концепция не отвечает
подлинной природе ни идеологических, ни научных
суждений.
Прежде всего эмоциональный заряд не является
монополией только идеологического мышления. В той или
иной степени он присущ всякому человеческому
мышлению, включая и неидеологическое научное мышление.
Даже естественнонаучные суждения, взгляды и теории
тоже имеют способность вызвать самые различные
эмоциональные реакции. Достаточно только вспомнить,
какую бурю эмоциональных реакций вызвали учения
Галилея, Коперника, Дарвина, Эйнштейна, Менделя,
И. П. Павлова и других представителей естественных
наук, с какой страстью ведутся .иногда дискуссии между
представителями различных научных теорий и школ.
И это вполне естественно. Развитие самого научного
мышления было бы невозможно без наличия
определенного эмоционального заряда. Любовь к истине,
любознательность, исследовательская страсть, практический
интерес или бескорыстное желание служить науке и
человечеству, страсть и пристрастие в обосновании и
доказывании теоретических взглядов — все эти и многие
другие чувства являются неотделимым спутником науч-
77
ного мышления и играли и играют двоякую роль. Одни
из них являются могучей движущей силой развития
научной мысли, другие ее сдерживают и извращают.
Бесспорным является тот факт, что классовая ненависть
буржуазных идеологов — философов, экономистов,
социологов, историков и др. — к социализму и
коммунизму была и является одной из главных причин, из-за
которой они не признают научного характера
марксизма-ленинизма и придерживаются всевозможных
ненаучных взглядов на общественно-историческое развитие.
Но точно так же бесспорным является факт, что
огромная любовь Маркса, Энгельса и Ленина к рабочему
классу, к трудящимся, их глубокая ненависть к
угнетению и эксплуатации, к унижению и обезличиванию масс
в эксплуататорских обществах является лейтмотивом
всей их научной деятельности в раскрытии объективных
законов общественно-исторического развития и в
выработке не иной, а научной идеологии рабочего класса.
Все это показывает, что совершенно ошибочно
отрицать научно-познавательное значение всякого
идеологического мышления на том основании, что оно содержит
тот или иной эмоциональный заряд и вызывает те или
иные эмоциональные реакции.
Идеологические суждения, фактические или
ценностные, тоже являются познавательными суждениями,
относящимися к фактам действительности, прежде всего
социальной действительности, которые могут быть
доказаны или опровергнуты и таким образом оказываются
верными, неверными, полуверными или полуневерными.
Как мы показали, суждение «бытие определяет
сознание» является идеологическим суждением —
основным положением всякой материалистической философии.
Чтобы доказать его верность, материалисты ссылаются
на результаты исследовательской и экспериментальной
деятельности почти всех наук—астрономии, геологии,
физики, химии, биологии, кибернетики, истории,
политической экономии, социологии, психологии и т. д.
Таким же образом стоит вопрос и с ценностными
идеологическими суждениями, такими, как суждения
«социалистический строй выше капиталистического»,
«империализм агрессивен» и др. Эти суждения
являются ценностными, но они в то же время и глубоко
познавательны, потому что раскрывают нам реальные тен-
78
денции развития человеческого общества и
существенные черты двух различных и противоположных
социальных систем. Марксисты утверждают, что эти суждения
верны, истинны, и доказывают их истинность при
помощи фактов истории, политической экономии,
социологии и особенно фактов общественно-исторической
практики.
На основе глубоких научных исследований истории
человеческого общества и отдельных общественных
формаций марксизм раскрыл законы развития истории и
отдельных общественных формаций и доказал, что эти
законы являются такими же объективными, как и
законы природы. Опираясь на научное познание этих
законов, классики марксизма предвидели историческую
неизбежность социалистической революции, пути и
средства ее осуществления. Победа социалистической
революции в Советском Союзе и других социалистических
странах, развитие революционного рабочего движения
в капиталистических странах, развитие национально-
освободительного движения, распад колониальной
системы империализма, превращение большинства бывших
колоний в самостоятельные государства и т. д.
являются блестящим подтверждением этого предвидения и в
то же время доказывают полную несостоятельность
тезиса современных буржуазных идеологов, что будущее
непроницаемо, что оно не поддается научному
предвидению.
Сто лет назад социализм и коммунизм
действительно были мечтой, идеалом общественного строя,
неизмеримо более совершенного, чем капиталистический;
общественного строя, несущего освобождение всем
трудящимся, каждой человеческой личности от всякого
угнетения и эксплуатации, строя, в котором свободное
развитие отдельной личности и развитие всего общества
взаимно связаны и взаимно необходимы. Тогда этот
идеал поистине находился в будущем. Но уже давно
социализм является не только идеалом будущего, но и
реальной действительностью, в результате которой было
создано первое в мире социалистическое общество —
советское социалистическое общество, которое сегодня
закладывает уже материально-технические основы
коммунизма. Более двух десятилетий существует и
успешно развивается социалистическое общество в тех евро-
79
пейских и азиатских странах, в которых
социалистическая революция победила после второй мировой войны.
Победила социалистическая революция на Кубе —
первой социалистической стране на Американском
континенте.
Теперь уже ни один трезво мысляп^йй человек не
может отрицать всемирно-исторических Дспехов и
достижений социалистических стран в развитии
производительных сил, общественных отношений, жизненного
уровня своих народов, науки и техники, искусства и
культуры, их оборонной мощи. Из идеала будущего
социализм превратился в объективную реальность, в
живой пример для всех народов мира, которые борются
против империалистического угнетения и эксплуатации
и ищут путей к будущему.
Все эти успехи являются результатом планомерной
творческой деятельности коммунистических партий,
социалистических государств, их народов и всех
революционных и прогрессивных сил мира, основанной на
научном познании и предвидении общественных процессов.
Поэтому, когда буржуазные идеологи утверждают, что
научная идеология якобы невозможна, потому что
невозможно научное предвидение будущего, мы ответим
им: взгляните на гигантскую и многостороннюю
историческую практику социалистических стран! Она целиком
основана на научном предвидении
общественно-исторических процессов. Посмотрите на всемирно-исторические
успехи социалистических стран! Они зиждутся на том,
что эти страны руководствуются научно обоснованной
идеологией — идеологией марксизма-ленинизма.
Величко Добриянов
Народная Республика Болгария
НИЩЕТА АНТИИСТОРИЗМА
В борьбе против марксизма различные направления
современной буржуазной философии делают ударение
на различных сторонах диалектического и исторического
материализма в зависимости от их общих теоретических
основ и специфических интересов. Но во всех
направлениях, в какие бы одежды они ни рядились,
проглядывает классовый интерес современной буржуазии, ее
страх перед демократическими и социалистическими
движениями. Направление позитивизма, к которому
принадлежит и Карл Поппер, долгое время
размахивало знаменем, идеологического и политического
нейтрализма. Но современный неопозитивизм, хотя и
пытается продолжать эту линию, все же ясно проявляет
тенденцию к усилению субъективизма и к все более
активной защите современного капитализма.
Бывший участник так называемого «Венского
кружка» Морица Шлика — Карл Поппер (1902 год
рождения) в годы фашизма эмигрировал в Англию, где
занимал кафедру философии и логики в ряде
университетов. В круг его интересов входят логика и
методология наук. В 1934 году он издает в Вене свою книгу
«Логика исследования», английский перевод которой с
дополнениями выходит в 1959 году под названием
«Логика научного открытия». Будучи одним из самых
крупных представителей логического позитивизма,
Поппер особое внимание уделяет также и философско-
теоретическим вопросам общественного развития. Он
не принадлежит к тем философам, которые считают,
что наука должна стоять в стороне от практических
интересов людей, от политической борьбы.
Интерес Поппера к общественным наукам нашел
самое полное выражение в его книгах «Нищета
историзма» и «Открытое общество и его враги». Эти книги
8)
интересны, во-первых, с точки зрения попыток
применения общих философских принципов неопозитивизма к
общественным наукам, во-вторых, с точки Прения
аргументов, развиваемых против марксизма, /к, в-третьих,
как яркое свидетельство политических позиций и
идеологических функций буржуазного учено/о. Эти три
момента взаимно дополняются, и поэтому в этой статье
они затрагиваются в той или иной степени.
Прежде чем приступить к анализу взглядов Поппе-
ра, отметим коварный характер его критики
марксизма, заключающийся в том, что Поппер ставит на одну
доску марксизм с платонизмом, гегельянством, контиз-
мом и др. и таким образом пытается, во-первых,
протащить немарксистские взгляды как марксистские, во*
вторых, приписать и марксизму некоторые
действительные пороки и недостатки указанных философских
направлений и, в-третьих, таким образом, искажая и
клевеща на марксизм, сделать его мишенью для
нападок. Одновременно Поппер вынужден признать
научную ценность «честных попыток» Маркса применить
«рациональные методы» к насущным проблемам
общественной жизни; он признает, что Маркс «открыл
новые пути и отточил наш взгляд на многие вопросы»,
что «все современные мыслители учились у Маркса,
даже если они сами не осознают этого». Но все эти
декларации, так сказать, нравственного характера вовсе не
меняют и не смягчают того факта, что он отбрасывает
сущность марксистской теории. Маркс делает «честные
попытки», но «ошибается в своей основной доктрине».
Признавая некоторые заслуги Маркса, Поппер
заявляет: «Почему, все же тогда мы критикуем Маркса?
Независимо от его заслуг я убежден, что Маркс был
лжепророком. Он был пророком для определенного
хода истории, и его предсказания не сбылись»1.
Именно этот вопрос, вопрос о том, возможно ли
научное предвидение, представляет тот фокус, вокруг
которого концентрируется вся философия истории Поп-
пера и его борьба против марксизма. Этот фокус
Поппер называет «историзмом». Определяя историзм как
1 К. R. Popper, The Open Society and its Enemies, vol. II,
London. 1945. p. 78.
8?
объект своей критики, Поппер понимает это понятие в
очень узком смысле—как тождественное теории
научного предвидения — и делает его произвольным
центром для объединения различных течений — и
идеалистических, и материалистических. «Под «историзмом»
я понимаю такой подход к общественным наукам,
который в качестве основной цели выдвигает
исторические предсказания и который считает, что эта цель
может быть достигнута посредством открытия каких-
либо «ритмов» или «законов», или «тенденций», которые
лежат в основе эволюции истории» К
Антиисторизм Карла Поппера —
попытка ликвидации общественных наук
В своей борьбе против возможности научного
предвидения Поппер уделяет самое большое внимание тем
«аргументам», которые направлены против
марксистского учения об объективном характере законов
общественного развития. И действительно, предвидеть
будущий ход событий можно было бы только в том
случае, если открыты объективные законы, которые
обусловливают прошлое и настоящее развитие общества и
дают возможность намечать основные тенденции
развития в будущем. Если отбросить тезис об объективном
характере общественных законов, то всякое
предвидение теряет свой объективный научный характер и
становится гаданием, пророчеством. Поппер пытается
представить марксистское учение о научном
предвидении именно как гадание и пророчество.
Выступая вообще противником признания каких бы
то ни было объективных законов общественного
развития, Поппер концентрирует свою агрументацию против
общего закона прогрессивного развития человеческого
общества или против «закона эволюции». «Веру в то,—
говорит он,— что задачей общественных наук является
открытие закона эволюции с целью предсказать ее
будущее, можно определить как основную доктрину
историзма»2.
1 К. R. Popper, The Poverty of Historicism, London, 1957,
p. 3.
2 Там же, стр. 106.
83
Смысл аргументов Поппера, направленных против
закона эволюции и вообще против
признания'объективных законов общественного развития, заключается в
том, что невозможно абстрагировать какой-нибудь
закон от разнородных и неповторимых явлений
общественной жизни. Дело в том, говорит Поопер, что
«всякий закон, будучи сформулирован каким-нибудь
образом, должен быть проверен новыми фактами, прежде
чем он будет серьезно принят наукой. Но мы не
можем надеяться, что возможно проверить какую-либо
универсальную гипотезу или открыть естественный
закон, приемлемый для науки, если мы навсегда
прикованы к наблюдению неповторимого процесса, и не
можем надеяться, что наблюдение неповторимого
процесса поможет нам предвидеть его будущее развитие.
Самое тщательное наблюдение за одной развивающейся
гусеницей не поможет нам предсказать ее
превращение в бабочку». И, обращаясь к общественному
процессу, Поппер завершает свою аргументацию словами
Фишера: «Люди различают в истории сюжет, ритм,
предустановленный порядок... Я могу видеть только
одно явление, следующее после другого... только один
великий факт, на основе которого, поскольку он
неповторим, не могут быть сделаны никакие обобщения» \
Аргументы Поппера свидетельствуют о крайней
метафизичности и формализма его мышления. И
действительно, невозможно понять сущность закона
общественного развития, как и закона вообще, только в
рамках антиномии, в которой один тезис гласит: в
общественной жизни всякое явление неповторимо.
Разрешение этой антиномии невозможно, если возводить в
абсолют один ее полюс и полностью отрицать другой
ее полюс, как это и делает Поппер. Истина
содержится не в одном полюсе антиномии, а в синтезе тезиса и
антитезиса. Исторические явления повторимы и
неповторимы. Поппер видит повторение только некоторых
внешних признаков исторических событий, которые
действительно не имеют значения в раскрытии какого
бы то ни было объективного закона общественной
жизни. Но он не умеет или не желает разграничить
существенное от несущественного, сущность от явле-
1 К. R. Р о р р е г, The Poverty of Historicism, p. 109.
84
ния, необходимость от случайного, общее от
единичного, объективное от субъективного.
Всякое историческое явление неповторимо,
своеобразно, специфично, единственно в своем роде. Но в то
же время оно несет в себе природу чего-то общего,
существующего не вне отдельного, не в форме какого-
то «духа», или «идеи», или «бога», а в связи именно
с этими единичными, неповторимыми в своей
индивидуальности вещами. Именно в этих своих существен-
ных определениях общественные явления повторимы.
Например, социалистическая революция в России и
социалистическая революция в Болгарии отличаются
конкретными историческими условиями, формами
протекания и продолжительностью, остротой классовых
столкновений, временем и масштабами и т. д. Однако
наряду с этим они характеризуются рядом общих черт,
которые определяют их сущность: обе они являются
революциями рабочего класса в союзе с остальными
трудящимися города и деревни, в обеих революциях
руководящая роль была осуществлена авангардом
рабочего класса — коммунистической партией и т. д.
То, что относится к этим двум революциям, в
принципе относится ко всем историческим событиям — все
они и неповторимы и повторимы. Важно, однако, во
всяком отдельном случае раскрыть конкретное
содержание этих понятий. Имеется различие, когда речь
идет об однотипных революциях, например о
буржуазных революциях во Франции, Англии и Германии или
о социалистических революциях в России, Болгарии и
Китае. И другое дело, когда речь идет о разнотипных
революциях, какими являются, например, Великая
Октябрьская социалистическая революция и
буржуазная революция во Франции. Во всех случаях анализ
должен быть достаточно глубоким, понятия —
достаточно глубокими и диалектичными, чтобы выразить
объективную истину. Но этого невозможно достичь без
таких понятий, как класс и классовая борьба,
исторический прогресс, общественно-экономическая формация
и другие, являющиеся единственной реальной основой
в определении повторимости и последовательности
исторических событий.
Категория объективного общественного закона
выводится не из абсолютной повторимости и однообра-
85
зия исторических явлений, как это Поппер
приписывает Марксу, отождествляя его учение с взглядами
Конта и Милля, а из повторимости в основном, в
существенном. Закон общественного развития выражает
общую, необходимую, постоянную и существенную
связь между явлениями, он является обобщением
сущностных отношений между явлениями.
Из отрицания объективных законов общественного
развития с неизбежностью вытекает неокантианский
тезис, что для исторических наук остается царство
единичных и неповторимых исторических фактов.
Разумеется, Поппер не ставит под сомнение реальное
существование исторических фактов л не в этом следует
искать его идеализм. Субъективный идеализм Поппе-
ра раскрывается тогда, когда ставится вопрос:
возможно ли объективное, историческое познание, то есть
такая интерпретация действительных исторических
фактов, которая бы раскрыла нам объективную истину. На
этот вопрос Поппер дает отрицательный ответ. Прежде
всего единичные исторические факты, по мнению Поп-
пера, как факты неповторимые и неподдающиеся
никакому обобщению, не находятся в связи с какими
бы то ни было объективными законами. В этом
отношении позиция Поппера по существу не
отличается от позиции неокантианцев Рикерта и Виндель-
банда.
Привязывая историю только к фактам,
неопозитивист Поппер определяет задачу истории двояко: во-
первых, давать причинное объяснение историческим
фактам и, во-вторых, описывать специфические факты
и события. Но что представляет собой причинное
объяснение исторических событий по Попперу? Проблему
причинности исторических событий Поппер выводит из
неопозитивистского понимания причинности вообще:
причинность не объективная категория, а логическая
конструкция, которая создает порядок в эмпирическом
материале по принципу причинно-следственных связей,
не интересуясь их адекватностью объективным
закономерным связям исторических событий.
Признание, что специфические события связаны с
«универсальными законами», пр.и помощи которых
историк может объяснить факты в истории, звучит в
устах неопозитивиста не только формально, но и вы-
86
дает его крайний субъективизм и .иррационализм. Сам
Поппер признает, что историк может воспользоваться
этими законами, как правило, «не отдавая себе
полного отчета о них». Подчеркивая, что исторические
факты могут быть объяснены только пр.и помощи
универсальных законов, Поппер признает, что «эти законы
могут быть до такой степени тривиальными, быть
такой частью нашего здравого смысла (Common
Knowledge), что нет необходимости вспоминать о них и мы
редко их отмечаем. Если мы скажем, что причина
смерти Джордано Бруно та, что он сгорел на костре, то
нет необходимости вспоминать об универсальном
законе, согласно которому все живые существа умирают
под воздействием интенсивной теплоты. Но этот закон
был молчаливо предложен в нашем причинном
объяснении» \
Отсюда видно, что под «универсальными законами»
Поппер понимает некоторые банальные общие суждения,
которые или не являются специфичными для
общественных явлений, или же до такой степени абстрактны и вне-
историчны, что с их помощью не может быть
объяснено ни одно историческое явление. В конце концов, сам
Поппер признает, что эти законы могут мало помочь,
и поэтому предпринимает попытку найти более
надежный метод для подбора и интерпретации исторических
фактов. Этот метод называется «ситуационной логикой
в истории». Универсальные законы, по мнению Поппера,
не должны быть совсем отброшены, но наряду с ними
должны быть введены особые «модели», которые будут
центром подбора и интерпретации исторических фактов.
Говоря о трудностях, связанных с подбором
исторических фактов, Поппер пишет: «Единственный выход из
этих трудностей, по-моему,— это сознательное введение
предварительно определенной точки зрения о подборе в
истории; это значит писать ту историю, которая нас
интересует» 2.
Но что представляет собой эта предварительно
определенная точка зрения? Это не что иное, как
субъективно и произвольно выбранная «опытная гипотеза» или
«рабочая модель», которые историк должен дедуциро-
1 К. R. Popper, The Poverty of Historicism, p. 145.
8 Там же, стр. 150
вать из самого себя и которые он предлагает как центр
для подбора и объединения эмпирического материала.
Наш собственный интерес — это альфа и омега
методологии исторической науки Поппера. Нет никакого
объективного порядка и смысла в исторических фактах, они
не выражают никакой закономерности, а только
интерес историка, его собственную точку зрения. По мнению
Поппера, не может существовать единого критерия
истины в исторической науке. История может быть
интерпретирована и как история «классовой борьбы», и как
история «борьбы за расовое превосходство», и «как
история религиозных идей», и как история борьбы между
«открытым» и «закрытым» обществами, и как история
«научного и промышленного прогресса» и т. д. Каждый
из этих способов толкования интересен со своей точки
зрения и не вызывает возражения в качестве опытной
«гипотезы». Но беда в том якобы, что «истористы» не
понимают и «не видят, что по необходимости существует
множество интерпретаций, которые в одинаковой
степени основаны на предположениях и произволе» {
Нетрудно понять идейно-политический смысл этих
субъективистских теорий. Если есть такой исторический
факт, как агрессия американского империализма против
Кубы, то он, оказывается, может быть истолкован с
точки зрения различных «опытных гипотез». Согласно
логике Поппера, его можно рассматривать и как
проявление классовой борьбы, и как проявление борьбы за
расовое превосходство, и как угодно еще, причем каждая
из этих «исторических интерпретаций» основана на
«одинаковой степени предположения и произвола». Свой
субъективизм в историческом толковании Поппер
связывает с неопозитивистскими идеями о «терпимости»,
о равноправии различных точек зрения. Но поскольку
Поппер сознательно и явно рассматривает себя как
борца против «тоталитаризма», против «закрытого
общества», то ясно, что от его мнимого объективизма и мнимой
надклассовости, от прокламируемого и выделяемого им
особым образом «равноправия различных точек
зрения» не остается и следа. Формально Поппер
провозглашает принцип терпимости. А на практике он призна-
1 К. R. Popper, The Poverty of Historicism, p. 151 (курсив
мой.-Б. Д.).
8*
ет законность только своего волюнтаризма и активно
борется против признания объективной исторической
закономерности «истористами».
Необходимость и свобода в общественной
жизни и бессилие метафизика
Вопрос о характере законов исторического развития
возникает у Поппера в связи с решением общих
мировоззренческих вопросов, в том числе в связи с проблемой
о смысле и характере человеческой деятельности.
«Имеет ли история какой-то смысл», то есть существуют ли
объективные законы исторического развития, которые
детерминируют поведение людей? — спрашивает Поппер и
решительно отвечает: «История не имеет никакого
смысла... Ни природа, ни история не могут нам сказать, что
мы должны делать. Никакие факты — ни природные, ни
исторические — не могут принять решение вместо нас,
не могут определить целей, которые мы выбираем.
Только мы вносим цель и смысл в природу и историю... Сама
история... не имеет ни цели, ни смысла, но мы можем
принять решение и дать ей и то, и другое. Мы можем
провозгласить в качестве цели и смысла истории
борьбу за открытое общество и борьбу против его
противников» х.
«Будущее зависит от нас самих, и мы не зависим
ни от какой исторической необходимости»,— вот
основная мысль Поппера, которая раскрывает ход его
аргументов и всю порочность его субъективистской методологии.
Подчеркивая, что задачей книги «Открытое общество и
его враги» является показать «вред» «пророческой
мудрости», Поппер продолжает: «И дальше она старается
показать, каким образом мы можем превратить в
творцов нашей судьбы, коль мы отказались от роли ее
гадателей»2. Историзм, говорит Поппер, рассматривает роль
людей как роль шахматных фигур, он превращает их
в какой-то «инструмент» объективной необходимости и
великого предначертания. Действительным «актером
исторической сцены», по мнению «истористов», является
1 К. R. Popper, The Open Society and its Enemies, vol. II,
p. 265.
2 K. R. Popper, The Open Society and its Enemies, vol. I, p. 3.
89
Не отдельный человек, а «великая наций», или «великие
вожди», или «великий класс», или «великая идея».
Наоборот, Поппер считает, что свобода личности может
быть куплена ценой отрицания какой бы то ни было объ-
ектибной необходимости в истории.
Проблема активности и свободы субъекта решается
Поппером в духе абсолютного волюнтаризма и полного
отрицания каких бы то ни было границ человеческой
свободы. Формально-логический и метафизический
метод мышления здесь проявляется в полной силе: или
признание человеческой активности и отрицание
объективной закономерности, или фатализм и пассивность.
Верно, что Поппер не может приписать марксизму
только фатализм, но он никак не может согласовать
«активизм» марксизма с марксистским учением об
исторической закономерности и необходимости. «Тенденция,
которая выдвигает на передний план активность и которая
направлена против какого бы то ни было
самодовольства, может быть названа «активизмом»... Здесь я могу
процитировать хорошо известный тезис Маркса,
который точно выражает позицию активизма: «Философы
различным образом объясняли мир, но дело заключается
в том, чтобы изменить его» К Далее Поппер специально
подчеркивает, что историзм не ведет с необходимостью
к пассивности и фатализму. Но все дело заключается в
том, по мнению Поппера, что «активизм» якобы
встречает на своем пути непреодолимый барьер исторической
необходимости. «Активизму» Маркса, ярче всего
выраженному в одиннадцатом тезисе о Фейербахе, Поппер
противопоставляет высказывание Маркса из
предисловия к первому изданию первого тома «Капитала»:
«...общество, даже если оно напало на след естественного
закона своего развития... не может ни перескочить через
естественные фазы развития, ни отменить последние
декретами. Но может сократить и смягчить муки родов»2.
После этой цитаты Поппер продолжает: «Эта
формулировка Маркса превосходно выражает позиции
историзма. Хотя он не проповедует ни бездействие, ни
действительный фатализм, он, однако, доказывает
бессмысленность какой бы то ни было попытки изменить происхо-
1 К. R. Р о р р е г, The Poverty of Historicism, p. 8.
* К. Маркс, Капитал, Л., Госполитиздат, 1951, т. I, стр. 7—8.
90
дящие события: это специфическая разновидность
фатализма, фатализма при рассмотрении исторических
тенденций, какими бы они ни были» К
Постулируя две противоречивые доктрины в
марксизме, Поппер ставит вопрос, какая из них все же «более
значительна» — доктрина об «активизме» или доктрина
о «социальном акушерстве», которая является
«специфической разновидностью фатализма». На
сформулированный таким образом вопрос Поппер отвечает:
«Все же более значительной является последняя
доктрина. С каким бы сочувствием люди ни
относились к «активизму» и оптимизму марксизма, все
это, по мнению Поппера, разрушается «результатами
самого исторического анализа», то есть учением о
закономерном характере исторического развития. «Историст
может только интерпретировать общественное развитие
и содействовать ему различными способами, но его
взгляд сводится к тому, что ничто не может изменить
это развитие»2. В другом месте это мнимое
противоречие в марксистской концепции характеризуется Поппе-
ром как «противоречие между прагматизмом Маркса и
его историзмом»3.
/В жизни действительно существуют противоречия
между свободой человеческих действий и исторической
необходимостью. Но именно марксизм раскрыл их
характер и указал пути их решения. Маркс и Энгельс
прежде всего выступили против старых идей
провиденциализма, согласно которым историческая необходимость
проявляется как «судьба», или «предопределение», и
полностью оторвана от деятельности людей.
Ошибочному представлению, что люди, как какие-то
марионетки в кукольном театре, разыгрывают предварительно
написанную пьесу, Маркс противопоставляет знаменитую
диалектическую мысль, что люди в одно и то же
время и актеры, и авторы исторической драмы.
Историческая необходимость существует не вне людей, не вне
общества, а порождается их деятельностью на каждом
этапе общественного развития. Если рассматривать лю-
1 К. R. Popper, The Poverty of Historicism, p. 51.
2 Там же, стр. 52.
3 К. R. Popper, The Open Society $n<\ its Enemies, vol. II,
p. 306,
91
дей как отдельных и единичных робинзонов, а их
производственную, политическую и культурную
деятельность изолированно от общественной жизни, тогда
действительно свобода не может быть понята в
диалектической связи с исторической необходимостью.
Диалектика свободы и необходимости может быть понята только
с точки зрения диалектико-материалистического
понимания общественной жизни и людей, живущих в
исторических и социально обусловленных коллективах.
Общество, в котором живут люди, неизбежно определяет
рамки их деятельности. Прежде всего они не свободны
в выборе своих производительных сил, так как эти силы
являются продуктом предшествующей деятельности
людей. Но, застав определенный уровень развития
производительных сил и на этой основе определенную
историческую форму общества, всякое новое поколение
развивает дальше производительные силы и таким образом
детерминирует в определенной степени деятельность
следующих поколений. Именно это является
действительной связью в человеческой истории, где следует искать
закономерность и объективную необходимость в
человеческом обществе. «Общественная история людей,—
пишет Маркс,— есть всегда лишь история их
индивидуального развития, сознают ли они это или нет» !.
Свобода людей заключается не в мнимой
независимости от общественных условий, проявляющихся как
объективная необходимость, а в осознании этой
необходимости. Необходимость представляет собой не только
сферу, ограничивающую свободу человеческой
деятельности, но в то же время и сферу или основу для
развития и проявления их свободы. Сознательно направить
свою энергию для расширения рамок свободы означает
не отрицать необходимость, как это проповедует Поппер,
а осознать эту необходимость и содействовать ей.
Почему, в конце концов, реакционным классам никогда не
удавалось задержать развитие общества и помешать
победе прогрессивных классов и социальных групп?
Потому что они выступали против тех изменений в
материальном способе производства, которые отвечали
требованиям исторического прогресса и которые имели жиз-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Избр. письма, М-, 1948, стр. 98
(курсив мой.— В. Д.).
92
ненное значение для большинства людей. Поэтому
только тот род «активизма» необходим, прогрессивен и
нравствен, который направлен на преодоление
сопротивления реакционных классов и на развитие тех
форм общественных отношений, которые способствуют
человеческому прогрессу и обеспечивают лучшую жизнь
людей.
Признание закономерности и необходимости в
общественном развитии действительно противоречит
«активизму». Но активизму тех сил, которые выступают
против прогресса, против революционных действий
рабочего класса и трудящихся. Когда Поппер осуждает
марксизм за признание объективного и закономерного
характера исторического прогресса, он выражает только
классовые интересы современной буржуазии и ее
сокровенное желание избавиться от неприятных для нее
изменений в мире, дать простор ее волюнтаризму в
удушении прогрессивных сил. Таким образом, проблема
мнимых противоречий в марксизме между доктриной об
«исторической необходимости» и доктриной об
«активизме» является рефлектированным в сознании
буржуазного идеолога действительным и непримиримым
противоречием между объективной исторической
необходимостью и волюнтаризмом реакционных классов, между
историческим творчеством народных масс и действиями
империалистической буржуазии.
Попперовский критерий
исторической истины
Проблема критерия истины занимает центральное
место в философских взглядах Карла Поппера и
известна как принцип «фальсифицирования», или
«опровержения». Можно сказать, что принцип
«фальсифицирования» Поппера является одним из главных пунктов,
которым ее автор отличается от других логических
позитивистов. Процесс практической проверки истинности
теорий Поппер сводит только к одному моменту —к
нахождению опровергающих фактов или, точнее, к
выдергиванию частиц из сложного процесса проверки
истинности теорий, «преувеличению и абсолютизации этих
частиц и превращению их в оружие против истины. По его
мнению, только та теория ценна, которая может быть
93
опровергнута. «Неопровержимость есть не достоинство
теории, а ее недостаток. Всякая истинная проверка
теории представляет собой попытку ее фальсификации или
опровержения. Проверка есть фальсификация...
Фальсификация или опровергаемое™ является критерием
научного характера теории» х.
Теория фальсифицирования подробно изложена в
книге Поппера «Логика научного открытия», а в
«Нищете историзма» и в «Открытом обществе» она
конкретизирована применительно к общественным явлениям.
Ссылаясь на первую книгу, Поппер пишет: «Почти о
всякой теории можно сказать, что она согласуется с
многими фактами .и что это одна из причин, в силу которых
мы можем сказать, что какая-либо теория
подтверждается скорее тогда, когда мы не в состоянии найти
опровергающих фактов, нежели тогда, когда мы можем
найти подтверждающие факты»2.
Как на практике выглядит критерий истины
Поппера? Он очень хорошо понимает, что строительство
социализма и коммунизма в СССР является самым
существенным фактором, который подтверждает правоту
марксизма. «Тот факт,— пишет Поппер,— что Россия
предпринимает смелые и часто успешные
эксперименты в общественном строительстве, приводит многих к
выводу, что марксизм как наука или как кредо, которое
лежит в основе русского эксперимента, должен
представлять нечто вроде социальной технологии или хотя
бы оказывать содействие этому эксперименту. Но никто
из знающих хотя бы что-либо из истории марксизма не
может допустить эту ошибку. Марксизм есть чисто
историческая теория, теория, которая имеет задачу
предсказывать будущий ход экономических и политических
событий, и в частности ход революций. В качестве
такового он, естественно, не представлял основу для
политики коммунистической партии России после ее
прихода к власти»3. Поппер пытается интерпретировать
этот факт таким образом, что он якобы не имел ничего
общего с научным предвидением неизбежности
социалистической революции. Позиция Поппера по существу
1 К. R. Р о р р е г, Britisch Philosophy in Mid Century, p. 160.
2 K. R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, p. 16.
3 Там же.
94
является следующей: научное предвидение революции
невозможно, а поскольку факт революции налицо, он,
во всех случаях жизни.
Метафизическое смешение важного и неважного,
существенного и несущественного, закономерного и
случайного заставляет Поппера приписывать марксистам
взгляд, что предвидение представляет собой нечто вроде
составления «точного и подробного календаря
социальных событий» 1. В силу своего формализма Поппер
представляет себе теоретическую основу партийной политики
как предписание рецептов, которые партия применяет
во всех случаях жизни. Фактически в отличие от
утопистов Маркс и Энгельс никогда не считали
возможным и необходимым составлять «календари
социальных событий», предписывать рецепты. Они ставили
себе задачу раскрыть законы развития общества и в
связи с этим (предвидеть основные тенденции,
основной ход будущего развития, вооружить рабочий класс
знанием законов общественного развития.
Один из основных пороков воззрений Поппера
состоит в эклектическом и субъективистском допущении
«равноправия» всех точек зрения, выбора
определенной точки зрения сообразно интересу и т. д. Эту свою
антинаучную позицию Поппер выражает следующим
образом: «Наука не есть система для определенных
или надежных заявлений, не есть система, которая в
постоянном прогрессе стремится к окончательности.
Наша наука не есть знание: она никак не может
претендовать ни на то, что она достигла истины, ни даже
на какой-нибудь ее заменитель, как, например,
вероятность»2. Так расписывается Поппер в собственном
бессилии, неправомерно приписывая это бессилие
науке.
К чему стремится Поппер?
Поставив себе задачу «открыть» мотивы «предска-
зательской мудрости», Поппер раскрывает таким
образом свои собственные мотивы в борьбе против
научного предвидения. Он покидает поле научных абстракций
1 К. R. Pop ре г, The Poverty of Historicism, p. 14.
* К. R. P о р р е г, The Logic of Scientific Discoverty, p. 278.
96
и активно включается в сферу политической борьбы, и
таким образом наглядно иллюстрирует социальное
предназначение буржуазного ученого. Говоря о
«пагубной роли» научного предвидения, Поппер как будто
движется в сфере чистой теории. Но чисто
теоретические на первый взгляд фразы скрывают определенное
политическое содержание, потому что «социальные
реформы», к которым он стремится приложить свои
«частные методы науки», являются не чем иным,
незначительными изменениями, которые не затрагивают
основы капитализма, не выходят за его рамки.
Ход рассуждений Поппера примерно следующий:
коль историзм ограничивает «активизм» признанием
каких-то объективных законов, коль он сводит роль
людей только к оказанию помощи тому, что и без того
неизбежно должно случиться, то есть к роли
«социального акушерства», тогда все ваши планы относительно
будущего являются великой утопией, поскольку вы
рассчитываете не на себя, а на какую-то неизбежность или
необходимость, которая, в сущности, не существует.
Поэтому «методологически правильно» будет
направить усилия людей на борьбу за вполне реальные и
достижимые цели «социального конструирования».
Сторонник метода «социального конструирования»,
продолжает Поппер, «не ставит никаких вопросов
относительно исторических тенденций или судьбы человека.
Он считает, что человек является господином своей
собственной судьбы и что в соответствии с нашими
целями мы можем воздействовать на человеческую
историю и изменять ее точно так, как мы изменяем облик
земли»х. Расхваливая свой метод, Поппер ясно
выражает свою цель — увековечить буржуазное общество.
«Технологический подход», пишет Поппер, отличается
как от «пацифистской позиции политики всеобщего
невмешательства», так и от «общественных проектов»
марксистов. Его сущность сводится к признанию того,
что метод «частичного штопанья» представляет собой
главное средство в достижении практических
результатов как в обществе, так и в естественных науках»2.
1 К. R. Popper, The Open Society and its Enemies, vol. I,
p. 77.
2 K. R. P о p p e r, The Poverty of Historicism, p. 58.
96
Этот метод Поппер противопоставляет «утопическому
конструированию», то есть, по существу, стратегической
цели коммунистической партии в революционном
переустройстве капитализма и построении социализма и
коммунизма.
В свете этих реформистских откровений Поппера
становится ясно, почему «пророческая мудрость» якобы
является пагубной и почему она мешает применению
«частных методов науки к проблемам социальной
реформы». А разве не на основе «пророческой мудрости»
Маркса партия большевиков под руководством Ленина
отбросила реформистский тезис о том, что «цель —
ничто, а движение — все», и свыше пятидесяти лет
назад совершила самую великую революцию в мире,
преобразовала общество «как целое», а не «путем
небольших приспособлений и штопанья»? Когда народы
социалистических стран боролись против фашизма и
капитализма, они вовсе не исходили из какого-то
абстрактного и отдаленного идеала, а из своих жизненных
потребностей и из своего «социального опыта». Но,
низвергая капитализм, народы не верили вслепую, и
именно решительное и глубокое отрицание старого
поставило на повестку дня вопрос о будущем, о том, по
какому пути идти дальше. И ответ был найден: по пути,
указанному марксизмом-ленинизмом. Следовательно, не
какая-то «пророческая мудрость» и предначертание
заставили эти народы отвергнуть путь реформизма, а
жизненная практика народных масс, которая на их
собственном опыте убедила их, что нет другого спасения,
кроме как изменения общества «как целого». Но
именно в том и заключается жизненная сила и
действительная мудрость марксистского учения, что оно исходит не
из абстрактных идеалов и не из добрых пожеланий и
мечтаний в духе утопистов от Томаса Мора до Сен-
Симона и Фурье, а из потребностей реальной жизни
народов.
Как бы ни пытался Поппер доказать, что
марксистское научное предвидение является необоснованным,
что марксизм ведет к фатализму, неопровержимые
аргументы теории и строгая проверка исторической
практики доказывает великую революционную
преобразующую роль марксизма. Собственно, если бы
4 Ирнбаджаков
97
это не было так то, по Попперу, нечего было бы голову
ломать, опровергая неопровержимое.
Сама историческая практика является лучшим
судьей при определении ценности той или иной теории. А
этот судья беспристрастно судит, что ныне учение о
научном социализме является не только гениальным
научным предвидением, но и реальной действительностью.
Весь ход событий в мире убедительно доказывает, что
империализм бессилен остановить освободительное
движение в мире. Эпоха безраздельного господства
капитализма канула в прошлое, и основным содержанием
современной эпохи является переход от капитализма к
социализму. Следовательно, развитие в мире идет
именно по тому пути, который был гениально предсказан
Марксом на основе раскрытия и применения
объективных законов общественного развития.
Деян Павлов
Народная Республика Болгария
КОНЦЕПЦИЯ „ФОРМИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА" —
НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИФ ИМПЕРИАЛИЗМА
Реакционные империалистические идеологи
пытаются приукрасить капитализм и очернить социализм при
помощи так называемой теории «формированного
общества». Она возникла и распространилась в 1965—
1966 годах и уже становится официальной доктриной
западногерманской монополистической буржуазии.
Теория «формированного общества» усиленно
рекламируется как наконец открытое средство, которое
призвано, по словам одного из ее авторов, Альфонса
Хортена, «превозмочь коммунизм не только духовно, но
и продемонстрировать перед всем миром великую
альтернативу демократии, построенной на исполненном
понимания взаимодействии всех общественных групп» К
«Формированное общество», подобно «великому
обществу» Л. Джонсона, должно представлять собой новую
модель государственно-монополистического
капитализма, которая сделает его более привлекательным, чем
социализм, нейтрализовать растущее влияние коммуни-
нистической идеологии на сознание трудящихся во всем
мире.
Но в отличие от концепции «великого общества»
американского империализма, которая по существу
является не чем иным, как демагогической программой,
предназначенной для практических целей, без особых
теоретических претензий, концепция «формированного
общества» разработана и как новая буржуазная
социальная доктрина, и как практическая политическая,
экономическая и социальная программа. Учение о
«формированном обществе» является выражением усилий
буржуазных идеологов ФРГ приспособиться к
изменившемуся в пользу социализма соотношению классовых сил
1 «Die politische Meinung», Bonn, 1965, H VII—VIII, S. 14.
4* 99
на международной арене, к укреплению нового строя в
ГДР и его возрастающему влиянию на трудящихся
Западной Германии. Этой теорией монополисты ФРГ
стремятся противопоставить социалистической алтернативе
свой «образец» будущей объединенной Германии.
Авторы новой концепции имеют целью «формировать»
общественно-экономическое и политическое устройство
ФРГ в духе дальнейшего усиления власти монополий и
банков, построения мощной экономической базы для
еще более необузданной экономической и политической
экспансии, для подавления всякого сопротивления
трудящихся и ликвидации остатков буржуазной
демократии.
Концепция «формированного общества»
провозглашена на съезде правящего в ФРГ Христианско-демо-
кратического союза, состоявшемся в Дюссельдорфе
31 марта 1965 года. Она была развита дальше и
признана в качестве общей идеи и на съезде крупных
промышленников, торговцев, банкиров и пр.,
состоявшемся в 1965 году в Гамбурге и Бад-Годесберге. Теперь вся
огромная по масштабам пропагандистская машина
Западной Германии широко рекламирует теорию
«формированного общества», осуществление которого
законодательным путем и с участием населения должно
привести якобы к созданию «динамического»,
«творческого», «свободного», «демократического», «открытого»
общества 1.
Еще при формировании новой концепции на
упомянутом съезде в Дюссельдорфе был признан ее
экспансионистский характер, при помощи которого она
должна играть главную роль в идеологическом обосновании
боннского милитаристского агрессивного курса. На
съезде подчеркивалось, что «формированное общество»
«не есть модель, функционирующая только в рамках
национального государства. Наоборот, в нем может
найти выражение картина объединенной Европы. Более
того, оно способно стать руководящей идеей как для
преобразований на нашей части планеты, так и для
экономического и социального развития других
народов»2. Без всяких недомолвок была признана и анти-
1 «Gesellschaftspolitische Kommentare», 1965, Н. 13/14, S. 14.
2 «Dokumentation der Zeib, 1066, H. 350, S. 16.
100
коммунистическая сущность новоиспеченной доктрины:
«Если мы преуспеем в этом своем начинании
(«формированном обществе».— Д. Л.), то такая организация
общества превзойдет другие своей притягательной
силой. Таким образом она уничтожит социализм
идеологически и политически»1. Аппетит боннских монополий
идет еще дальше. По мнению последователей этой
концепции, «в процесс формирования должны вовлекаться
и страны Азии, Африки, Америки и Южной Америки».
Нет никакого сомнения, что теория «формированного
общества»2 представляет собой новое пополнение
идейного арсенала антикоммунизма, неоколониализма и
реваншизма.
1
Каковы социальные и теоретические источники
концепции «формированного общества»? Анализ
конкретных данных показывает, что она является продуктом
развития монополистического капитализма при
современных условиях в мире и в ФРГ. Буржуазные авторы
В. Рик, Л. Шюце и Р. Вильхельми в своих
«Двенадцати тезисах о формированном обществе» пишут:
«Общество формированно только тогда, когда процесс
формирования вступает в определенную стадию зрелости»3.
Современное буржуазное общество в ФРГ вступает в
период высокой зрелости
государственно-монополистического капитализма. Как и в других
империалистических странах, государственно-монополистический
капитализм в ФРГ является наиболее развитой формой
монополистического капитализма. Соединение силы
монополий с силой буржуазного государства и все более
полного срастания их, неимоверное увеличение контро-
1 «Dokumentation der Zeit», 1966, Н. 350, S. 16.
2 Концепцию «формированного общества» создал коллектив
авторов из «мозгового треста» боннских правителей, названного
«Политически-рабочее содружество» («Полаг»). Главную роль в нем
играют Р. Альтман, Г. Брифс, Е. Фегелайн, В. Рик, Л. Шюце,
Р. Вильхельми к др. Они находятся на штатной службе в крупных
монополистических объединениях, банках или же в союзах и др.
организациях крупных капиталистов.
3 W. Rick, L. Schutze, R. W i 1 с h e 1 m i, 12 Thesen zur
formierten Gesellschaft, «Gesellschaftspolitische Kommentare», 1965,
H. 13/14.
101
ля монополий и банков над хозяйственной жизнью ет
государством происходит полным ходом и в нынешней
Западной Германии. Концентрация капитала в ФРГ
достигает очень больших размеров. С конца 1961 до
конца 1966 года число акционерных обществ с
капиталом свыше 100 млн. западногерманских марок возросло-
с 66 до 85 1. В 1961 году гигантские монополии
обладали номинальным капиталом на сумму 18,8 млрд.
западных марок. В 1966 году эта сумма возросла уже до»
27,6 млрд. западных марок. 59% основного капитала
всех акционерных обществ ФРГ в 1966 году
находилось в руках этих 85 самых крупных монополистических
объединений2. Обладая огромной экономической
властью, они организуют идеологические и другие
подрывные действия против ГДР и остальных европейских
социалистических стран.
Концентрация промышленно-финансовой олигархии
требует соответственно и концентрации политической
власти, используемой в борьбе против революционного
рабочего движения и всех других демократических сил.
Боннские правители открыто говорят, что экономическая
сила должна дополняться соответствующим
политическим влиянием. Председатель бундестага Е. Герстен-
мейер следующим образом выразил это понимание:
«Свою экономическую мощь мы должны дополнить
соответствующим политическим влиянием»3. Ясно, что тут
подразумевается борьба западногерманского
империализма за руководящую роль во всей Западной Европе
и за проникновение в социалистические и вновь
освобожденные страны.
Научно-техническая революция, которая происходит и
в ФРГ, ведет к ускоренному развитию производительных
сил и к все большему обобществлению средств
производства. Это со своей стороны обостряет антагонизм
производительных сил с частнокапиталистическими
производственными отношениями. Господствующая
буржуазия ищет выхода из этой ситуации, прибегая к помощи
государственно-монополистического регулирования
экономики. Однако ничто не в состоянии устранить обост-
1 См.: «Einheit», 1966, Н. 10, S. 1313.
2 См. там же.
3 «Die Welt», 20.III.1965.
102
рение социальных антагонизмов и появление
циклических экономических потрясений. Если в 1950 году
среднегодовое увеличение промышленного производства в
ФРГ было равно 23,4%, в 1960—10,7, в 1965—5,5, то в
1S66 году (январь — май) увеличение было равно
только 3,2% !. Концепция «формированного общества»
является отражением и обостряющихся противоречий
внутри ФРГ, из которых монополии ищут выход в
собственных интересах. Это подтверждает оценку, данную в
отчетном докладе ЦК БКП Девятому съезду партии:
«Империалистическая буржуазия стремится
использовать соединение власти монополий с гигантской силой
государственного аппарата, чтобы маневрировать и
противопоставлять себя более эффективно усиливающемуся
натиску народных масс»2. «Формирование» общества в
ФРГ означает создание такой социальной обстановки,
при которой все классы и слои должны подчиняться
материально и духовно наиболее крупной
монополистической буржуазии и находящейся под ее контролем
государственной машине.
В теоретическом отношении учение о
«формированном обществе» не является чем-то монолитным,
завершенным, оригинальным. Неспособная построить
целостную научную концепцию, империалистическая
буржуазия ФРГ в своей борьбе против марксизма-ленинизма
теперь прибегает к интегрированию в рамках теории
о сформированном обществе» различных реакционных
взглядов, представляющих собой одностороннее,
неправильное толкование тех или иных сторон и процессов в
развитии государственно-монопол истического
капитализма. Учение о «формированном обществе» есть
эклектическая смесь антинаучных теорий, характерных для
различных этапов кризиса буржуазной идеологии,
собранных в одну концепцию и противопоставленных
социализму.
Это прежде всего синтез католической социальной
доктрины (в которой преобладает неотомизм) с
социологической доктриной «современного индустриального
общества», включая еще некоторые другие концепции
1 «Wirtschaft und Statistik», 1966, Juli, H. 7.
2 Отчетен доклад на ЦК на БКП пред Деветия конгрес на пар-
тията, сРаботническо дело», 15JCI.1966.
103
буржуазной социологии. В «новой» концепции
«формированного общества» проглядывают и старые идеи
О. Шпенглера («модель прусского консервативного
социализма», созданная в 1914 г.), и идеи бывшего
гитлеровского идеолога X. Фрайера (ныне профессора в
Мюнстере) с его концепцией так называемой
«революции справа». Немецкие марксисты Д. Бергнер, В. Эй-
хорн, В. Иопке и Д. Носке с полным правом указывают,
что «развиваемые в Западной Германии после 1945
года реакционные мировоззренческие и идеологические
представления возрожденного германского
империализма ныне охвачены политико-социальной теорией и
государственно-политической концепцией
«формированного общества»; они одновременно образуют ее
мировоззренческие основы»'.
2
В чем более конкретно состоит концепция
«формированного общества»? Ее авторы относят это общество к
определенному социальному типу «современного
некоммунистического индустриального общества».
«Некоммунистическое индустриальное общество» есть якобы
такое общество, в котором материальные блага
производятся промышленными методами и для единого рынка.
Оно прошло через три фазы: 1) классовое общество
XIX века; 2) плюралистическое общество союзов (Ver-
bandesgesellschaft); 3) формированное общество2.
В первой фазе, которая продолжалась до первой
мировой войны, еще имелись классовые противоречия и
классовая борьба. Во второй фазе — фазе
«плюралистического общества союзов» — классовые
противоположности постепенно сглаживаются. Борьба ведется уже не
между классами, а между союзами, представляющими
отдельные группы населения, за более равномерное
распределение национального дохода. «Затухание»
классовых противоречий все более продолжается, и в третьей
фазе — фазе «некоммунистического индустриального об-
1 D. Bergner, W. E i h h о г п, II, W. Jopke, D. Noske,
Imperialismus und Gesellschaftstheorie, «Einheit», Berlin, 1966, H. 6,
S. 794.
2 См.: «Gesellschaftspolitische Kommentare», 1965, H. 13/14.
104
щества» — они полностью исчезают, а плюрализм
уступает свое место процессу «формирования», то есть
создания общества с полным подчинением всех слоев,
классов и групп «общему благу» (Gemeinwohl). Подобно
«стадии» массового потребления как наивысшего,
пятого этапа в развитии «современного индустриального
общества» (У. Ростоу), «формированное общество»
является наивысшей точкой процесса полного
подчинения «отдельного интереса общему интересу».
«Формирование» общества началось в Германии еще
во время Веймарской республики и продолжалось в
гитлеровский фашистский период. Под «формированием»
понимается фактически постепенное вытеснение
классовых организаций трудящихся, ограничение
демократических прав и свобод и подчинение интересам
монополистической буржуазии, представленным как «общее
благо». Развитие общества шло якобы от классовых
антагонизмов и классовой борьбы через их постепенное
«затухание» до полного их исчезновения в рамках
«формированного общества». Так выдвигается абсурдный
тезис об «исчезновении» антагонистических классов в
рамках эксплуататорского буржуазного общества. Это
новый вариант очень старых легенд о «гармонии между
трудом и капиталом».
3
Тезис об «общем благе», то есть о мнимом
совпадении классовых интересов буржуазии и рабочих,
разоблачен еще Марксом в его труде «Капитал». Маркс
пишет: «Выражение прибавочной стоимости и стоимости
рабочей силы в виде частей вновь произведенной
стоимости... скрывает специфический характер
капиталистического отношения, а именно тот факт, что переменный
капитал обменивается на живую рабочую силу и,
следовательно, рабочий отстраняется от продукта. Вместо
этого создается ложная видимость отношения
товарищества, участники которого — капиталист и рабочий —
делят продукт сообразно «доле участия каждого из них
в образовании его» К Эти мысли Маркса
подтверждаются и современной капиталистической действительностью.
1 К. М а р к с, Капитал, т. I, M., 1951, стр. 535.
105
Никакое «общее благо» не объединяет эксплуататоров
и эксплуатируемых.
Самым лучшим разоблачением теории
«формированного общества» как общества без классовых
противоречий являются объективные данные о классовой
структуре ФРГ.
Классовая структура ФРГ 1
„ 1 Общ. число
Социальные группы (чел.)
1. Рабочие и мелкие чиновники
2. Буржуазия (вообще)
а) финансовая олигархия
б) монополисты и другие крупные
капиталисты
в) менеджеры и высшие чиновники
г) немонополистическая буржуазия
3. Средние слои
4. Интеллигенция
Всего населения
40550 000
2850000
850
15 000
930000
1900 000
7100000
3500000
54 000 000
%
населения
75,1
5,3
0,03
1.7
3,5
13,1
6,5
100
Как видно из таблицы, в ФРГ продолжает
существовать классово-антагонистическая структура общества.
На одном полюсе огромное большинство населения —
рабочие, мелкие чиновники, интеллигенция,
представляющие свыше 80% всех жителей страны, а на другом —
эксплуататорское меньшинство, к которому относятся
15 00Э крупных монополистов и 850 крупных
финансовых магнатов. «Формированное общество», согласно
его представителям, ни в коем случае не должно ничего
менять в характере собственности на средства
производства в ФРГ, следовательно, и в классовой структуре.
Вопреки этому, по мнению буржуазных теоретиков,
«формированное общество» якобы должно привести к
«жизненному отношению между социальной стабиль-
1 W. N е s 1 е г, Verscharfte Ausbeutung-formierte Gesellschaft,
Berlin, 1966, S. 73—74,
106
wocfbk) и экономической динамикой», оно должно Сыть
«обществом динамического выравнивания» \ должно
создать «кооперацию в интересах общего блага»,
которая якобы исключает «борющиеся группы и классы» 2.
«Формированное общество» якобы установит
«динамическое равновесие между развитием экономики и
социальной уверенностью граждан. На основе быстрого
прогресса науки и техники индустриальное общество
преодолело или преодолевает плохие отношения между
образованием капитала и оплатой рабочих». Поэтому, по
словам авторов новой концепции, «формированное
общество»— это «интегрированное общество», в котором
рабочий класс целиком сливается с собственниками
средств производства в единую «кооперацию».
Факты, однако, показывают, что в процессе
«формирования» постоянно уменьшается участие рабочего
класса в распределении национального дохода.
Участие рабочего класса в распределении
национального дохода в ФРГ3:
1950 г. —46,3%
1955 г. —36,9%
1960 г. -32,5%
1964 г. —32,3%
Как видно, в период с 1950 по 1964 год участие
рабочего класса в распределении национального дохода в
ФРГ уменьшилось на 14%. Одновременно 50 самых
крупных западногерманских акционерных обществ
увеличили свою прибыль с 1950 по 1962 год почти в
7 раз. Нет никакого сомнения, что процесс
«формирования общества» в ФРГ означает дальнейшее усиление
позиций монополистического капитала, увеличение его
прибылей и все большую эксплуатацию рабочего
класса. «Интегрирование» рабочего класса в этом обществе
означает лишение его возможностей оказывать
эффективное сопротивление своим угнетателям и
эксплуататорам.
1 «Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie-
rung», № 64, 10.IV.1963, S. 51.
2 «Die Welt», 1.IV.1965.
8 W. N e s 1 e r, Verscharfte Ausbeutung — formierte Gesellschaft,
Berlin, 1966, S. 178—180.
107
Авторы тоеории «формированного общества»
заявляют, что теперь «свободное рыночное хозяйство» в
ФРГ якобы переросло в «производительную и
потребительную общность», в которой якобы одинаково
заинтересованы и рабочие, и капиталисты. Экономика уже
якобы будет действовать как «общее предприятие». За
«идеал» хозяйства принимается крупное
капиталистическое предприятие. Поются дифирамбы
промышленным магнатам, которые концентрируют свою
финансовую, политическую и экономическую власть при
помощи боннского правительства якобы не для чего
другого, как для «устранения беспорядка в
обществе», для «общего блага». Один из создателей
концепции «формированного общества» Г. Брифс пишет,
что капиталисты «несут главную тяжесть
ответственности за конкретное общее благо... Они выплачивают
заработную плату и оплачивают издержки, они
нуждаются в помощи и защите с многих сторон, прежде
всего в защите от профсоюзов»1. Г. Брифс требует от
профсоюзов «реформироваться», «изменив свою
ориентацию», то есть отказаться от защиты классовых
интересов рабочих и оказывать помощь капиталистам,
которые являются носителями «главной тяжести общего
блага». Тот же автор заявляет, что эта основная
фигура в «формированном обществе» — крупный буржуа —
все больше нуждается в «защите и помощи
законодательства, центрального банка и не в последнюю
очередь общественного мнения»2.
«Формированное общество» — попытка использовать
техническую революцию только для укрепления
диктатуры монополий, для того, чтобы посредством
«реформы профсоюзов» свести последние к придатку
капиталистических концернов.
4
Факты показывают правильность оценки Первого
секретаря ЦК СЕПГ В. Ульбрихта, что «в концепции
формированного общества очень многое
позаимствовано у Гитлера. Это — диктатура на службе крупных мо-
1 К. Н. S с h w a n k, Formierte Gesellschaft..., Berlin, 1966, S. 29.
2 Там же.
108
нополий с помощью гитлеровских методов, как они,
например, выражены в чрезвычайном законодательстве» *.
Демократические силы в ФРГ все более активно
борются против идеологии и политики «формированного
общества». Западногерманский буржуазный философ
К. Ясперс решительно выступал против чрезвычайного
законодательства и курса на агрессию и войну. Ясперс
писал: «Сознание того, что мы идем к катастрофе,
является сегодня темным фоном жизненного чувства...»2
Классовый смысл теории «формированного
общества» заключается в ^попытке замаскировать
действительную сущность нового наступления буржуазии ФРГ на
основные жизненные интересы народных масс и мира в
Европе.
Единственной альтернативой «формированного
общества» монополий в ФРГ, реваншизма и неонацизма
является путь мира, демократии и социализма, путь,
по которому уверенно идет первое рабоче-крестьянское
государство в истории Германии — ГДР.
1 «Neues Deutschland», 22.II.1966.
2 К. Jaspers, Wohin treibt die Bundesrepublik, Munchen, 1966,
S. 171.
Атанас Стойкое
Народная Республика Болгария
МОДЕРНИЗМ И НОВАТОРСТВО В ИСКУССТВЕ
Вопрос о модернизме и новаторстве в искусстве
приобретает все большую актуальность и остроту. При
этом он является и исключительно сложным и
трудным, так как на него необходимо дать не один общий
ответ, который уже никого не удовлетворяет, а
необходимо войти глубоко в густой лес современного
искусства, все больше развивая наше уменение
пользоваться единственно верным марксистско-ленинским
компасом.
Настоящая статья представляет собой только
скромную попытку выяснить некоторые стороны с учетом
усилий, которые делаются в последнее время болгарскими,
советскими и другими марксистами-эстетиками,
искусствоведами и литературоведами.
Как правило, современные буржуазные
искусствоведы и историки искусства, рассматривая его новое
развитие (обычно от импрессионизма и после него) почти
исключительно с учетом изменений в художественной
форме, выразительных средствах изобразительного
искусства (особенно живописи), признают модерными, то
есть современными, новаторскими только тех авторов,
течения, школы, которые, по их мнению, единственно
участвуют в общем прогрессе, в действительном
развитии изобразительного искусства. Они очень
прямолинейно и односторонне рассматривают это развитие —
от импрессионизма и после него через
неоимпрессионизм, постимпрессионизм, Сезанна, фовизм, кубизм,
экспрессионизм, футуризм и т. д. оно ведет только к
абстракционизму как логическому, единственно
возможному и «самому плодотворному» своему завершению.
Только абстракционизм является для них и модерным,
и действительно современным искусством, только он
находится в его «авангарде», как любят они выражать-
110
ся. Для них реализм исчерпал полностью свои
возможности еще в конце XIX в. и то, что создается под
его знаменем в нашем XX в., есть уже совершенно
архаичное, старомодное, неспособное к развитию
искусство.
Именно здесь мы сталкиваемся с понятием
модернизма в искусстве. Модернизм возникает как
логический итог отрыва художника от общества, замыкания в
себе и все большего распространения крайнего
индивидуализма и субъективизма в искусстве. Это происходит
во второй половине XIX в., когда буржуазия полностью
превращается в реакционный класс и не в состоянии
предложить художнику какие бы то ни было
возвышенные идеалы, а само капиталистическое общество,
которое переходит в свою высшую фазу — империализм,
еще ярче и обнаженнее раскрывает свою антинародную
и античеловеческую сущность. Вначале модернизм
появляется как стихийный протест против этого
античеловеческого общества, как реакция против его
официального искусства. Поэтому и сама буржуазия вначале
встречает его первые проявления с открытой
неприязнью, пренебрежением, насмешкой. Для нее
представители модернизма — проклятые поэты, непризнанные
художники. Но хотя они и вынуждены весьма часто
жить в предельной нищете, они всегда пребывают
замкнутыми в узком кругу своих духовных собратьев и
почитателей, не находят путей к трудящимся, не
поддерживают каких бы то ни было отношений с ними, ведут
себя как аристократы духа. Повседневность, в которой
они вынуждены жить, им противна и ненавистна, но
они не видят выхода, механизм этого общества
остается для них непонятным и неуловимым, перед их взором
не открываются никакие перспективы, иногда они
бьются, как птица, только что посаженная в клетку.
Поэтому их протест не является открытым, он не имеет
конкретного адреса — это обычно какое-то общее
недовольство жизнью, судьбой, вопли и стон безнадежно
раненной души. В творчестве наилучших среди них — таких
поэтов, как Бодлер, Верлен, По, таких художников, как
Ван-Гог и Гоген, — сильно выражена тоска по
человечеству, свободному от мелких расчетов, от
развращающей роли денег и стремления накоплять богатства и
жить за счет ближнего. Это творчество внутренне про-
111
тиворечиво. В нем еще живут гуманистические
традиции большого реалистического искусства XIX в. Вместе
с тем оно уже отмечено печатью отчаяния и безверия.
Иногда в нем преобладает опьянение и любование
музыкой слова (П. Верлен) или болезненно интенсивным
тоном цвета и цветовых сочетаний (Ван-Гог).
А уже последующие поколения писателей,
художников и других творцов искусства, выросшие, как
правило, в мелкобуржуазной среде, стоящие в стороне от
борьбы рабочего класса и трудящихся, хватаются
именно за те произведения, периоды, стороны
творчества таких художников, как Бодлер, Рембо, По,
Верлен, Ван- Гог, Гоген, в которых наиболее ярко
выражены настроения безверия и одиночества или же
увлечения чисто формальными исканиями, в которых
находит свое наиболее адекватное выражение известная
формула «Tart pour Tart» (искусство для искусства),
и развивают именно это и только это, более или
менее его абсолютизируя; именно эти поколения и
дают, в сущности, плоть и кровь тому, что называется
модернизмом в искусстве. Это происходит прежде
всего в первые два десятилетия нашего века — именно
тогда возникают почти все основные течения и школы
модернизма. Этот процесс продолжается и до наших
дней.
В этом проявляется логика саморазвития этого
наиболее популярного течения современного
буржуазного упадочного искусства. Вместе с тем оно
подкрепляется возникшим всеобщим кризисом
капитализма, особенно после победы Великой Октябрьской
социалистической революции, все более острым и
осязательным упадком буржуазной философии,
политической мысли, литературы и искусства, столь сильно
выявившимся накануне и после первой мировой войны.
В это новое время больших социальных потрясений,
войн и революций многие деятели искусства,
воспитанные в индивидуалистическом духе, ищут стабильности
и упования в самом искусстве, а свое собственное
отчаяние и безверие возносят до степени естественного
состояния современного человека. Таким путем
рождаются одна за другой различные эстетические
системы модернизма: символизм, футуризм, кубизм,
дадаизм и т. д.
112
В отличие от их предшественников творцы
модернизма в искусстве пользуются особым почетом в
современном капиталистическом мире. И это не случайно.
Современное модернистское искусство объективно
обслуживает именно идеологические задачи и цели
современной империалистической буржуазии. Оно или
распространяет среди широких народных масс
(особенно посредством фильмов, театра, литературы, а до
известной степени и через изобразительное искусство),
и прежде всего среди интеллигенции, настроения
отчаяния и безверия, культивирует у них индивидуал-изм,
или внушает им мысль о неизменном животном
начале у человека, или более утонченным способом
воспевает эротизм как единственный смысл жизни, или же
предлагает им какой-нибудь заманчивый мир чистого
«абсолютного» искусства (как в большинстве случаев
при абстракционизме) как единственное и самое
лучшее спасение от современного ненавистного людям
мира античеловеческих капиталистических отношений.
А чаще всего это искусство является своеобразной
комбинацией всего этого. Во всех его многочисленных
разновидностях и проявлениях его основным
назначением является — независимо от субъективных
«намерений и стремлений большинства его создателей —
отвлекать внимание трудящихся и интеллигенции в
современных капиталистических странах от неотложных
социальных проблем, которые ежедневно встают перед
ними, насаждать в них, хотя и крайне
опосредованным, непрямым путем, мысль о бессмысленности
какого бы то ни было сопротивления и борьбы,
примирение с судьбой, с устройством мира, в котором они
живут. Именно по этой причине прежде всего это
искусство так щедро финансируется и поддерживается в
современном капиталистическом мире.
В нашу задачу не входит давать характеристику
различным проявлениям, течениям и школам
современного модернизма в искусстве, какими являются
абстракционизм, экспрессионизм и сюрреализм в
изобразительном искусстве, летризм и сюрреализм в
поэзии, «новый» роман и другие подобные явления в
литературе, «антитеатр» (Ионеско, Бекетт и др.),
додекафония и конкретная музыка и т. д. и т. д. Важнее в
данном случае попытаться подчеркнуть то общее
113
между ними, что дает нам основание объединить их
под общей категорией «модернизм».
В первую очередь это ярко выраженная
антигуманистическая тенденция или же полное безразличие к
какой бы то ни было общественной роли искусства,
сведение его к игре или комбинации слов (в поэзии),
сочетание линий и красок (в живописи). Не
возвеличение человека, его самых лучших сил и
возможностей с целью содействовать их пробуждению и
всестороннему развитию, а его оплакивание и даже
поношение, утверждение и насаждение у публики мысли,
что человек не может изменить свою природу, которая
представляется грубо эгоистической, подлой и
изменчивой. Никогда до сих пор во всем мировом развитии
искусства не существовали течения, школы, даже
отдельные представители со столь открыто и ярко
выраженными антиобщественными и антигуманистическими
тенденциями, как у современного модернизма во всех
его проявлениях. Во-вторых, пренебрежение к
широкому зрителю, читателю, слушателю доведено здесь
едва ли не до абсурда. Искусство-де следует оценивать
всегда само по себе, как самодовлеющую ценность.
Художник творит для себя, чтобы воплотить охватившую
его внутреннюю потребность к творчеству. Он ни в коем
случае не должен иметь в виду мнение или реакцию
кого-либо о своем произведении.
Представители модернизма ополчаются против
одной из самых существенных и неизменных функций
всякого искусства — быть средством воздействия на
людей, общения между ними, пробуждать в них
художников и развивать их, по образному выражению
В. И. Ленина. Связь с публикой, внимание к ее
реакции в отношении произведения, которое ты создал,— это
органическая потребность для всякого подлинного
творца искусства. Отсюда он часто черпает новые
стимулы и идеи для творчества, что позволяет ему
критически рассматривать свой собственный путь в
искусстве, перед его художественной фантазией
раскрываются новые горизонты. Необходимость для
художника поддерживать действительную связь с публикой
нередко чувствуется и признается и современными
модернистами. Только они в большинстве случаев,
ссылаясь на известные примеры из истории литературы и ис-
114
кусства, тешат себя мыслью, что и их творчество когда-
нибудь, хотя бы и через столетия, будет оценено и
признано по достоинству. Действительно, такие
художники, как Рембрандт и французские импрессионисты, в
свое время не были признаны официальной, крайне
ограниченной буржуазной общественностью. Но
прогрессивная культурная общественность еще тогда
сознавала их роль в искусстве и активно поддерживала их на
избранном пути.
Но имеется и нечто другое, в данном случае еще
более существенное. Это то, что такие художники
ясно сознавали большую общественную роль своего
искусства и не только не убегали от жизни, а
стремились глубже вникнуть в нее. В своем творчестве они
сохранили огромное человеческое благородство, свою
веру в доброе и прекрасное. Именно поэтому прежде
всего искусство таких художников, как Рембрандт,
живет в веках.
В-третьих, современный модернизм претендует на
то, что он преодолел прежний «ограниченный»
характер искусства и его возможностей. До сих пор в нем
господствовало стремление к мимезису, подражанию,
отражению реально существующей действительности.
Теперь оно якобы освободилось от этих «оков».
Почему художник, рассуждают модернисты, особенно в наш
век небывалого развития фотографии, кино и
телевидения, должен воссоздавать видимый мир? Да он сам
может создавать новый, не существующий до сих пор
мир. И в этом отношении он даже приравнивается к
«богу-творцу». Модернисты — художники якобы
завоевали новые области для искусства. Такими, например,
по мнению турецкого искусствоведа Исмаила Тунали,
являются область логических и геометрических форм,
открытая абстракционистами, или же область
абсурдного— для сюрреалистов1.
Действительно открыто выраженный
антиреалистический принцип изображения составляет самую
существенную особенность различных современных
модернистских школ и течений в литературе и искусстве.
1 S. T u n a 1, The validity of modern art, The Journal of
aesthetics and art criticism, vol. XXVI, № 2, p. 162.
115
Роль искусства как средства художественного
познания и изменения мира, по существу, полностью
отрицается. И это даже тогда, когда «на первый взгляд
произведения искусства и созданные в них образы
почерпнуты из реального мира. Так, например, обстоит
дело с «новым» французским романом в его двух
основных направлениях — психологическом и «вещизме».
В первом случае герои не осознают полностью своих
поступков и действий, писатель нарочно передает нам
в мельчайших подробностях несвязанный поток их
мыслей и переживаний. Получаются в конце концов
какие-то неуловимые, невыясненные,
немотивированные и в своем социальном происхождении, и в своем
характере и действиях герои. При «вещизме» же
героями являются обыкновенные наблюдатели, которые
чуть ли не как автоматы отмечают и описывают в
самых мельчайших подробностях все, что видят на своем
пути, без рассуждений, без переживаний. И в том, и
в другом случае, хотя в большинстве случаев дело
касается героев, обладающих определенными именами,
родственными и иными связями и
взаимоотношениями, связанных с реально существующими местами, где
они живут и работают, они остаются для читателя
какими-то неразгаданными и неразгадываемыми
сфинксами. Но такой результат вовсе не является
случайным. Он желателен для авторов этих романов. По их
мнению, в наше время в отличие от XIX века
господствующим началом в жизни стал индетерминизм.
Поэтому и литература, и прежде всего роман, должны
строиться на совершенно других принципах — не
определенные герои с их социальной характеристикой, со
своими неповторимыми характерами, а люди, игрушка
судьбы, вечно ищущие, вечно сомневающиеся. Все
крайне неясно, неопределенно и неопределяемо.
Поэтому бессмысленны какие бы то ни было усилия
познать, а тем более изменить нынешний мир. Таковы
естественно вытекающие выводы, к которым приводят
читателя все эти претенденты на коренное обновление
искусства романа.
Иногда подчеркивается, что нередко авторы
«нового» французского романа участвовали в больших
прогрессивных движениях и акциях, подобных борьбе за
мир, за атомное разоружение и др. Сам по себе этот
116
факт важен и его rie следует недооценивать. Но его
не следует и преувеличивать. Как правило, эти авторы
все еще не могут выбраться из узких рамок воззрений
мелкобуржуазной интеллигенции, которая не в
состоянии разобраться, где действительный, а где иллюзорный
хаос в общественных отношениях в современном
капиталистическом мире. В этом им мешает и воспринятая
ими эстетическая система, согласно которой художник
должен отражать только поток жизни («вещизм») или
же несвязный поток сознания (при психологическом
направлении «нового» романа). И в том и в другом
случае писатель не смог бы осмыслить жизненный
материал, дойти до значительных и глубоких художественных
обобщений. Получается парадокс: эти авторы живут в
мире иллюзий, который воспринимают как
действительный, и искренне стараются убедить в этом других.
Поэтому с полным основанием литературные критики во
Франции, стоящие на позициях марксизма,
недвусмысленно раскрывают их заблужения — это необходимо и
для этих авторов, а еще больше для читателей их
произведений.
Крайнее преувеличение, подчас полная
абсолютизация субъективно-творческого начала в искусстве,
может быть, наиболее выпукло, наиболее зримо
проявляется в современном модернистском
изобразительном искусстве. В крайних проявлениях и
абстракционизма, и сюрреализма оно доводится даже до
абсурда. Здесь вместе с тем и наболее ярко видно, до какой
творческой бедности и немощи может дойти
художник, хотя бы и самый талантливый, когда он
опирается только на свое воображение или же стремится
только выразить полностью специфику искусства,
например живописи. Может быть, художника и
волновали сильные чувства и весь он при создании своего
произведения находился в состоянии поисков,
размышлений, но из-за крайне схематического и обедненного
языка его выразительных средств до зрителя так и не
дошла какая бы то ни было более или менее яоная
художественная идея. А это означает, что на деле
специфика искусства живописи не только не
подчеркивается и не развивается, а сильно сужается, грубо
нарушается, нередко и ттрямо попирается. Прежде всего
пренебрегают основным качеством живописи как вида
117
изобразительного искусства, а именно изобразитель'
ностью, то есть субъективным художественным
отражением объективно существующей действительности
в виде конкретных изображений, то есть своего рода
аналогом и самой действительности, или, иначе
говоря, созданием новой иллюзорной действительности.
Здесь напрашиваются некоторые разъяснения.
Обычно противники действительного реализмах в
современном искусстве прибегают к следующему маневру:
протокольно точное копирование действительности — без
какого бы то ни было отбора и художественного
обобщения — объявляется реализмом и реалистическим
искусством и после этого с легкостью громится как
бескрылое, нетворческое и т. д. Но реализм коренным
образом противоположен как формализму, так и
натурализму. Он строится на совершенно других принципах.
Коренные различия между натурализмом и реализмом
в искусстве схвачены и выражены очень верно и
глубоко великим советским кинорежиссером В.
Пудовкиным в его статье 1939 года «Реализм и натурализм и
«система» Станиславского». «Реализм,— говорит
Пудовкин,— дает полное и потому верное отражение
действительности, ставя в основу изображения всякого
явления его движение, его развитие, внутренние его
противоречия, неразрывную его связь как с каждой
деталью, так и со всем миром окружающих явлений»2.
Упреки, которые сторонники модернизма в
искусстве высказывают по адресу реализма, что он якобы уже
отжил свое время и стал уже ненужным с появлением
фотографии и кино, совершенно неосновательны,
беспочвенны. Художники-реалисты я до появления
фотографии совсем не стремились к протокольно точному
копированию действительности. Другой вопрос, что появление
и развитие художественной фотографии и
киноискусства не могли не отразиться на дальнейшем развитии
дотоле существовавших видов искусства, в том числе и на
изобразительном искусстве. Разве не наблюдается в
1 Мы говорим «действительный», так как в последнее время,
особенно в некоторых зададных странах, к сожалению иногда даже
среди прогрессивных искусствоведов, к реализму причисляются и
такие явления и проявления, которые далеки от него или коренным
образом противоположны ему.
2 В. Пудовкин. Избранные статьи, М., 1955, стр. 194.
118
современном театре, особенно в реалистическом,
стремление достичь большего динамизма и напряжения в
действии, когда берутся некоторые приемы,
свойственные киноискусству (например, движение кадров,
монтаж, крупный план и др.), но берутся не прямо, а
соответственно перерабатываются в общую систему
театрального языка. Между изобразительным искусством,
художественной фотографией и киноискусством,
которые строятся на общем принципе изобразительности,
тоже совершается постоянный процесс взаимного
влияния и взаимодействия. Это является частью общего
крайне необходимого процесса взаимного влияния и
воздействия на все виды искусства, от которого они не
только не теряют свою специфику, а еще больше ее
обогащают.
Итак, выходит, что столь шумно рекламируемое
новаторство нынешних модернистов со всеми их
нюансами является мнимым новаторством. Это происходит
потому, что они все выдвигают субъективизм в
основной принцип своего творчества. Они сами таким
образом лишаются важнейшего условия всякого
действительного новаторства в искусстве — связи художника с
жизнью, его стремления идти всегда в ногу со своим
временем, глубоко вникать в тенденции общественного
развития и художественно осмысливать их в своем
творчестве, обогащать свое «я» волнениями, надеждами
и мечтаниями миллионов обыкновенных людей мира,
стать выразителем их самых сокровенных и
прекрасных чаяний.
* * ♦
Новаторство, преемственность и традиция всегда
были нераздельно и органически связаны в развитии
искусства как в его многовековой истории, так и в
индивидуальной творческой эволюции отдельного
художника. Всякий более или менее значительный творец
обладает благородным желанием не идти по проторенной
дорожке, проложить, хотя бы и ценой неимоверных
усилий и творческих мук, свой путь в искусстве,
создать нечто неповторимое и новое, новаторское. Но
только меньшинство является настоящими
счастливчиками. Как во всех других областях, так и здесь, и мо-
119
жет быть даже в большей степени, открывательство
является исключительно трудным делом. Редкий талант,
одаренность, необходимое совершенствование и
подготовка являются непременными условиями, но только их
еще далеко не достаточно. Самыми важным является
то, чтобы общественные и художественные (в самом
развитии искусства накопление достаточного опыта,
традиций и пр.) условия полностью созрели, чтобы
облегчать, а в большинстве случаев и властно требовать
этого открыватсльства.
Очень важно и просто необходимо проводить
различие между новостью, новым и новаторством,
новаторством в искусстве. Это не тождественные понятия.
Всякое новаторство, бесспорно, представляет собой
новость, создание чего-то нового, не существовавшего до
сих пор в искусстве. Но не всякая новость в
художественном творчестве одновременно является и
новаторством. Так едва ли встречалась большая новизна в
изобразительном искусстве, чем «открытие»
абстракционизма Кандинским, Малевичем, Мондрианом и
Делоне. Да при таком «открытии» сразу исчезает сама
основа изобразительного искусства —
изобразительность, и оно превращается в игру линий, форм,
цветовых сочетаний. В этом отношении абстракционизм
существенно отличается даже от таких формалистических
школ и систем, какими являются фовизм, кубизм,
футуризм, экспрессионизм, хотя и вырастает и
появляется в результате их собственного развития. Известно,
что сторонники абстракционизма превозносят его — он
якобы совершил революцию в изобразительном
искусстве, открыл ему совершенно новые горизонты. А в
сущности, как мы уже указали на это, он означает
отказ от собственной основы самого изобразительного
искусства — изобразительности, наносит огромным вред
развитию искусства целых народов и художников там,
где он успел получить более широкое распространение.
Абстракционизм не только не является новаторством,
а по существу представляет собой ретроградство в
художественном развитии человечества. Он приводит к
распаду самого художественного образа и отсюда — к
крайнему обеднению эстетических восприятий. В
наилучшем случае он обычно сводится только к
любованию теми или иными сочетаниями и комбинациями ли-
120
ний, форм и цветов, Он не будит мыслей и эмоции, не
окрыляет нашу фантазию.
И Маркс и Ленин неоднократно подчеркивали
огромную роль литературы и искусства в
коммунистическом воспитании трудящихся, в положительном
воздействии на их вкус, привычки, характеры, в развитии
художников среди них. Идея о полной автономности
этой области чужда марксизму-ленинизму. Известные
ошибки, которые были допущены в этом направлении
в период культа личности, вовсе не дают основания
преувеличивать особенности художественного
творчества и отсюда обосновывать положение, что якобы нет
необходимости для марксистско-ленинской партии
направлять развитие этой исключительно важной области.
Такой тезис направлен прямо против руководящей роли
партии в области искусства. А не следует ли сделать
как раз обратное заключение, а именно что, когда
борьба на идеологическом фронте против сил реакции
и капитализма приобретает особую остроту и значение,
то все более пристальное внимание и постоянная забота
о правильном развитии и укреплении такой важной
части этого фронта, каким является литература и
искусство, большее чем когда-либо становятся действительно
жизненной необходимостью? Именно так и поступают
Коммунистическая партия Советского Союза, другие
марксистско-ленинские партии, в том числе и
Болгарская коммунистическая партия. Напрасным был страх
некоторых пердставителей художественной
интеллигенции в наших социалистических странах, как и отдельных
прогрессивных деятелей интеллигенции на Западе.
Справедливая критика, которой были подвергнуты отдельные
представители (или деятели) искусства, поддавшиеся
временно тем или иным чуждым социалистическому
реализму тенденциям и влияниям, имела целью вовремя
предупредить их, 'помочь им правильно и еще более
плодотворно развить свой талант и искусство
социалистического реализма. Прежде всего партия помогла
деятелям искусства прозреть и отбросить заманчивую
сеть лженоваторства, которому поддались некоторые из
них.
Мы против скованности, серости, ограниченности,
подведения под общий знаменатель — тенденций,
свойственных периоду культа личности. Они тормозят твор-
121
чеокий полет художника. Но разве достигает
подлинного разнообразия и свежести своей палитры и
разве добивается чего-то нового и новаторского,
когда он ищет его прежде всего в более или менее ясно
осознанном подражании тем или иным образцам
современного западного искусства? Разумеется, нет. Он
только повторяет снова формальные приемы
экспрессионизма (сильная деформация, кричащие цвета) и незаметно
для самого себя поддается его субъективистской и
пессимистической философии, коренным образом
противоположной жизнерадостному пафосу социалистического
реализма. И получается, что, не внося в искусство
ничего нового и до сих пор неизвестного, он лишь
приходит, в большинстве случаев независимо от своих
субъективных намерений, к мазне, искажению, а иногда
и прямо к карикатурному изображению труженика
социалистического общества. К таким плачевным
результатам приводят его требования чуждой нам
эстетической системы (экспрессионизма или же кубизма, или
же фовизма), под чью власть он попал.
И в Советском Союзе, и в Болгарии, и в других
социалистических странах уже появился ряд новых
замечательных художественных творений почти во всех
видах искусства и, что еще важнее, все больше
создается обстановка для нового творческого кипения, для
действительно дерзких и новаторских исканий в
искусстве. Своевременное и энергичное вмешательство
и КПСС, и БКП, и других марксистско-ленинских
партий, направленное против всяких чуждых идейных
влияний, против поднимающейся волны формализма и
его крайней степени — абстракционизма в искусстве
расчистило дорогу для правильного и еще более
плодотворного развития реалистического искусства в
мире и прежде всего искусства социалистического
реализма. Здесь необходимо подчеркнуть и большое
положительное воздействие, которое оказывает на творчест-
кий процесс начавшееся в последнее время оживление
на фронте марксистско-ленинской эстетики и
искусствоведения, стремление к более конкретной и более
всесторонней постановке и разработке насущных проблем
современного художественного развития. Чтобы
увидеть, о чем, собственно, идет речь, достаточно только
вспомнить о разъяснении проблемы единого современ-
122
ного стиля в искусстве. Как известно, по этой
проблеме велась продолжительная и оживленная дискуссия,
особенно в Советском Союзе. Пришли к выводу, что
неправильно говорить о каком-те едином современном
стиле, подчеркивая и преувеличивая некоторые
отдельные общие черты современного мира: исключительно
быстрое развитие техники и средств сообщения,
искусственных материалов (пластмассы) и других и якобы
выросшее на этой основе современное мироощущение
людей. В соответствии со всем этим современный стиль
якобы характеризуется стремлением к лаконизму и
динамике. Но из тех же предпосылок исходят и
современные буржуазные эстетики и искусствоведы, когда
обосновывают как неизбежное стремление искусства
в наши дни к абстракционизму или сюрреализму.
Эстетики и искусствоведы, стоящие на позициях
марксизма-ленинизма, никогда не должны забывать об
общественном характере искусства, его природе как
составной части надстройки общества, наличии двух
культур в обществе, разделенном на классы, и т. д.
Вот почему защищать и обосновывать сегодня наличие
и построение единого современного стиля в искусстве —
значит становиться на вредные позиции примирения и
соглашательства с чуждой нам буржуазной идеологией.
Вместе с тем таким путем можно прийти к
ограничению творческих исканий и дерзаний в искусстве, что
коренным образом противоречит методу
социалистического реализма. Если только лаконизм — и в
художественных решениях и в выразительных
средствах—признается единственно созвучным требованиям этого
нового единого современного стиля, то все другие
стремления и решения считаются устаревшими, отжившими
свое время. В Болгарии, например, теория единого
современного стиля в литературе выразилась в
стремлении обосновать так называемое интеллектуальное
начало как ее самую существенную и неизменную черту.
Таким образом недооценивалось творчество ряда
болгарских современных писателей, отличающихся своим
особым пластическим и живым способом построения
образов. Их творчество воспринималось как
пройденный этап в болгарской литературе, когда в ней по
необходимости было еще много элементов бытовизма и
описательства. А теперь якобы необходимо уже усиле-
123
ние интеллектуализма в ней, чтобы она достигла
уровня современной европейской литературы.
В рассуждениях об интеллектуальном начале в
литературе видно вместе с тем и незнание природы
литературы как вида искусства и пренебрежительное
отношение к родной литературе и ее достижениям и не в
последнюю очередь раздражающая нескромность и
открытое неуважение к заслуженным деятелям
болгарской литературы. К интеллекту человека обращены
прежде всего произведения научного творчества, в том
числе и общественных наук, какими являются
философия, история и др. Художественная литература, как и
всякий вид искусства, представляет собой, если
воспользоваться удачным выражением Гегеля, «единичное
видение общего». Разумеется, поскольку ее основным
материалом являются слова, а они обыкновенно имеют
свое определенное смысловое содержание, именно в
ней интеллектуальное начало, в отличие от других
видов искусства, может быть относительно ярко и
подчеркнуто выявлено. Но факт, что именно в ней, в
отличие, например, от музыки, архитектуры и других видов
искусства, существует возможность для создания
художественных образов на основе исключительно живого
воссоздания действительности. Именно поэтому
произведения литературы воздействуют на всю нашу
психику, а не только на интеллект.
Если всматриваться пристальнее, то окажется, что
адвокаты так называемого интеллектуализма в
литературе имеют совершенно примитивные и упрощенные
представления об интеллектуальном начале в ней.
В сущности, оно всегда наличествует в ней, оно
является ее неотъемлемым качеством. Это проявляется
двояко: во-первых, в отношении автора к воссоздаваемой
им действительности, к героям своих произведений, как
и в осмыслении, оценке этими героями своих
собственных поступков и действий и поступков других героев
и т. д. Во-вторых, что вытекает из первого,— в том
толчке, который дается мысли читателя, в его обогащении
и осмыслении судеб героев, их жизненного пути,
взаимоотношений и пр., в способности литературных
произведений заставлять нас миром целиком воссозданным
автором, принимать или отбрасывать те или иные
поступки и действия героев, рассуждения автора и т. д.
124
и не только в процессе чтения, но очень часто,
особенно когда это большие произведения, и длительное
время после этого.
Почему необходимо обеднять нашу литературу,
утверждая только один из этих способов как
единственно возможный эквивалент для интеллектуального
начала в том или ином литературном произведении?
Способ каким выявится интеллектуальное начало в
произведениях того или другого писателя, стоящего на
позициях социалистического реализма, это его личное
дело (вопрос предпочтения, наклонности и т. д.), но
коммунистическая идейность и партийность
обязательны для этого писателя. Поэтому одинаково могут быть
подвергнуты критике как писатели, не овладевшие еще
собранным ими жизненным материалом,— он ими
владеет, а они впадают в бытоописательство, описанное
ими не является осмысленным,— так и авторы, в чьих
обильных рассуждениях по поводу нынешней нашей
социалистической жизни господствует, например, нотка
уныния и скептицизма.
* * *
Естественно возникают вопросы: в чем сказывается
новаторство в литературе и искусстве, как оно
осуществляется, чем определяется?
Всякая новая историческая эпоха имеет свои
особенности, которые проявляются как в материальной,
так и в ее духовной культуре. Эти особенности
определяются в последней степени наступившими
изменениями в материальных условиях жизни общества, то есть
построенными или строящимися новыми
производственными отношениями между людьми.
Новаторство в искусстве начинается именно с
открытия художником того нового своеобразного, что
несет его эпоха, время, с яркой характеристики и
отображения нового, которое возможно только с помощью
специфически выразительных средств того или другого
вида искусства. Поэтому и новаторство никогда не
ограничивается только овладением и открытием нового
жизненного содержания в искусстве, созданием новых
героев, чьи прототипы взяты из жизни, в новом
идейно-художественном взгляде на современность. Оно
125
обыкновенно сопровождается и открытиями в области
художественной формы. Именно этим путем язык
искусства— арсенал выразительных средств и приемов,
которыми оно пользуется,— постоянно обновляется и
обогащается.
Или, перефразируя известную мысль В. И. Ленина
о художественном творчестве Л. Н. Толстого, что оно,
гениально отразив как сильные, так и слабые стороны
тогдашней русской революции с ее буржуазно-крестьян-
ким характером (и ввиду ее мирового значения),
одновременно явилось и шагом вперед в художественном
развитии всего человечества, мы могли бы сказать, что
новаторская сила и значение тех или иных художников
определяются главным образом двумя факторами: в
первую очередь это более существенные изменения в
общественном развитии мира и отдельной страны и во
вторую— сила и возможности художественного таланта
или гения.
Вся история искусства самым убедительным образом
раскрывает правильность этого ленинского положения.
Общеизвестно, что эпоха Возрождения в Италии
являет собой самый большой прогресс в искусстве после
Древней Греции. Стечение некоторых исторических
обстоятельств, какими являются вытеснение Византии и
арабов в результате крестовых походов с традиционных
торговых путей на Средиземном море и др., дает
возможность ряду итальянских городов сосредоточить в
своих руках роль торговых посредников между
странами Западной Европы и Востоком. На этой основе
именно в этих итальянских городах зарождаются и ранние
формы капиталистического производства. Это были
города со своим самоуправлением, порвавшие с
феодальными привилегиями и порядками. В Италии в это
время развертывается острая социальная борьба, где
антифеодальные движения крестьян переплетаются с
бунтами угнетенных рабочих против фабрикантов в
наиболее промышленных центрах страны. Это вместе с тем
период сложных интриг и борьбы за власть и
превосходство между различными группировками нового
бюргерства в каждом отдельном свободном городе,
между этими городами, как и между ними и другими
странами Западной Европы, особенно Франции .и Испании.
Вся эта экономическая, общественная и политическая
126
обстановка в Италии помогает выдвижению очень
смелых, инициативных, всесторонне развитых людей.
Достоинство человеческой личности находится в особом
почете.
Но итальянское Возрождение имеет не только свои
экономические и социальные корни, но и свои
художественные источники. Италия была страной, богатой
памятниками римской, а до некоторой степени и
древнегреческой культуры и искусства. Она одновременно
была настоящим перекрестком влияний наиболее важных
больших европейских средневековых культур, какими
были романская, готическая и византийская. Как
никакая другая европейская страна того времени, она
хорошо знала искусство Востока и многое приобрела от него.
Все эти условия и обстоятельства, взятые в
совокупности, определяют и объясняют поистине
титанический размах и гигантскую новаторскую мощь искусства
итальянского Ренессанса.
На современном Западе ежегодно выходит по
нескольку историй современного изобразительного
искусства (общих или в отдельности по живописи и
скульптуре). Если бы мы приняли на веру то, что пишут их
авторы, то вышло бы, что прогресс в мировом искусстве
осуществлялся только различными формалистическими
школами, а отдельные авторы признают известные
заслуги и сюрреализма и примитивизма. Напрасно вы
стали бы искать в них что-либо о таких явлениях,
какими являются советское искусство, мексиканское
искусство, о таких художниках, как А. Стейнлен, Мазе-
реель и другие, как будто они вообще не существуют.
Нельзя отрицать, что наиболее талантливые
представители различных формалистических школ в искусстве
(речь идет о таких художииках, как Брак, Руо, Франц
Марк, Дерен, Липшиц и другие), поскольку они не
полностью оставили позиции конкретного изображения
действительности, внесли свой вклад в развитие
современной живописи или скульптуры. Но вопрос мог бы
быть поставлен иначе: насколько больше и
убедительнее был бы их вклад и насколько разностороннее и
мощнее проявился и развился бы их талант, если бы
они не оказались в плену соответствующей
формалистической школы. Еще большим является вклад в
действительное развитие современного изобразительного
127
искусства таких исключительно талантливых и больших
художников, но одновременно крайне противоречивых
в своем творчестве и в своей творческой эволюции,
какими являются Пикассо, Матисс и Леже. Более
внимательное и более подробное рассмотрение их творчества
с позиций марксистско-ленинской эстетики показало бы,
что этот вклад проявляется прежде всего и наиболее
убедительно в тех произведениях или периодах их
творческого развития, которые приближаются к реализму
или же являются прямо реалистическими.
Новаторские искания и открытия в области
современного изобразительного искусства, да и во всех
других видах искусства, проявляются наиболее
категорически, наиболее сильно и убедительно в произведениях
больших художников-реалистов нашего времени. Все
большее сближение с действительно .прогрессивными
силами и движениями нашей эпохи намного
увеличивает новаторскую силу художника и его творчества.
Красноречивым примером является плеяда
мексиканских художников, и прежде всего Диего Ривера, Ороско
и Давид Сикейрос, которые в 20-е и 30-е годы внесли,
в сущности, самый значительный вклад в развитие
мирового изобразительного искусства. Они создали
исключительно много фресок (едва ли есть большие
общественные здания в Мексике, которые не были бы
украшены ими, главными героями которых являются
мексиканские рабочие и крестьяне и совершенная ими
национальная революция, в которых клеймятся
реакционные силы империализма, и прежде всего американского
империализма, прославляется рождение нового,
социалистического мира в Советском Союзе, призывается к
еще более тесному объединению всех сил мира,
борющихся за мир и общественный прогресс. По богатству
образов, по силе художественного проникновения в
современность, по своему пластическому исполнению эти
фрески воспринимаются как новое, самое большое
событие в мировой монументальной живописи со времен
итальянского Возрождения. Они в то же время
являются произведениями искусства с ярко выраженным
мексиканским характером, построенными прежде всего на
творческом использовании и развитии больших
традиций и достижений старого мексиканского искусства и
на богатом народном декоративном искусстве Мексики.
128
Многое почерпнули мексиканские художники и из
достижений современной европейской живописи, и
особенно из большой монументальной живописи эпохи
итальянского Возрождения.
И путь к этому смелому действительному
новаторству в искусстве открывает им их прямое участие в
мексиканской национальной революции. (Они сражались
на ее стороне с 1913 по1918 г.) В горниле
революционных битв они непосредственно узнают свой народ, у них
исчезает традиционная психология художественной
богемы и они вырастают в художников нового типа,
сознающих самую тесную связь искусства с жизнью
страны и народа, то есть его связь с человеком.
Самый существенный вклад в развитие современного
реалистического искусства, всего художественного
процесса мира вносит в наше время советское искусство
В ряде областей искусства, какими являются театр,
балет, музыка и музыкально-исполнительское искусство,
кино (достаточно только вспомнить трех великих
кинорежиссеров— Эйзенштейна, Пудовкина и Довженко),
оно знаменует вершины достижений мирового искусства.
Огромная притягательная и обновляющая сила этого
искусства состоит прежде всего в том, что оно в своих
самых ярких проявлениях представляет исключительно
сильное и могучее художественное воссоздание
величайшего перелома в мировой истории, начавшегося с
победы Октябрьской социалистической революции,
богатства новых идей, стремлений, чувств и волнений
самого передового сегодня в мире, устремленного к
коммунизму — советского общества.
Нигде в мире нет такого внимательного и
заинтересованного отношения к наилучшему из художественного
наследства и современного искусства всех народов, как
в Советском Союзе. Поэтому и новаторские искания и
достижения советского искусства воплощают в себе и
строятся на все более широкой основе использования
самых ценных традиций и художественных успехов в
искусстве народов, всего мирового художественного
процесса.
Именно метод социалистического реализма
позволяет деятелям искусства глубоко вникать в огромные
общественно-исторические изменения, происшедшие и
происходящие в жияни наших народов, в общие пер-
5 Ирибаджанов
129
спективы всемирно-исНюряческого развития, глубоко и
убедительно раскрывать диалектику человеческой души
в современном мнре. Именно это придает жизненность,
художественную правду и убедительность создаваемым
ими образам. Идя по этому пути, наше искусство и его
творцы непрерывно учатся на опыте великого
советского искусства, как и на наилучших образцах мирового
искусства.
Йозеф Сигети
Венгерская Народная Республика
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА
И НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К БУРЖУАЗНЫМ
ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
Теоретическое отношение марксистских
общественных наук к современным буржуазным общественным
теориям в значительной мере определяется внутренними
и международными факторами, которыми
характеризуется развитие марксизма-ленинизма в
социалистических странах и в революционном рабочем движении и
от которых зависит дальнейшее возможное и
желательное направление такого развития.
После явного поражения догматических взглядов и
провинциальной ограниченности, во всех марксистских
общественных науках в ходе "борьбы на два фронта —
против догматизма и ревизионизма — получило
значительное развитие исследование актуальных
теоретических проблем. Подобный сдвиг можно только
приветствовать, хотя совершенно очевидны огромные масштабы
предстоящей работы в этом направлении, что относится
и к наиболее развитым общественным наукам.
Успехам в данной области способствовали
установленные в последние десять лет тесные контакты между
учеными социалистических стран, занимающимися
проблемами общественных наук, хотя эти связи не во всем
можно считать удовлетворительными и, главное,
соответствующими имеющимся возможностям. Творческому
развитию марксистских общественных наук
способствовало также более близкое знакомство с жизнью и
общественными теориями капиталистических государств.
Не подлежит сомнению тот факт, что определенных
успехов добились и исследователи-марксисты в
буржуазных странах, причем эти успехи помогли развенчать
порожденные буржуазными предрассудками, но
подкрепленные нашими ошибками упрощенные
представления о марксизме-ленинизме как науке, а также о
социалистическом мире как конкретно существующей
общественной действительности.
5*
I*
Усложнению и противоречивости указанного выше
процесса наряду с проблемами, присущими социализму,
способствовали также некоторые разногласия в
международном рабочем движении. Это вело, в частности,
к тому, что в процессе творческого развития марксизма-
ленинизма отдельные его представители допускали
некритическое заимствование идей и методов
буржуазных общественных теорий, эклектическое соединение
последних с марксистскими принципами. На Западе в
наши дни сложились и пользуются влиянием
направления, именующие себя «современным марксизмом» в
противовес «традиционному марксизму» (Э. Фишер),
хотя подобное противопоставление неправомерно в
такой же мере, как и хорошо известное в буржуазной
философии искусства псевдорадикальное деление
искусства на традиционное и современное.
В целом можно сказать, что современные идеологи
антикоммунизма стремятся использовать
расширяющиеся экономические и культурные связи для
осуществления своих хорошо продуманных, далеко идущих
и имеющих практическую направленность планов.
Приведем лишь один пример, взятый из книги
«Альтернатива раскола», принадлежащей перу известного
«советолога» и специалиста по Восточной Европе 3. Бжезинско-
го. В этой книге верность коммунизму рассматривается
как полярная противоположность творческого подхода
и интеграции идей. «В случае оказания помощи
странам Восточной Европы, — пишет Бжезинский, — важно,
чтобы она включала в себя предоставление стабильных
благ, имеющих символическое значение... Например,
восстановление королевской крепости в Варшаве с
помощью американских средств... явилось бы хорошим
символом американского присутствия в этой стране.
В Чехословакии или в Венгрии большой резонанс
произвело бы предложение о строительстве и содержании
школ для подготовки хозяйственных руководителей и
специалистов сельского хозяйства... Подобные жесты
Соединенных Штатов и государств Западной Европы
послужили бы и в отношении других стран наглядным
примером желания Запада перебросить мост через
пропасть политической и идеологической разобщенности
двух частей Европы. Предоставляемые западными
странами стипендии уже раньше способствовали сближению
1Я5?
между интеллигенцией той и другой сторон. В этой
связи следует, однако, обязательно воспрепятствовать
злоупотреблению стипендиями, финансируемыми
Соединенными Штатами и предоставляющими возможность
обучения в Америке. Необходимо помешать, чтобы эти
стипендии использовались в качестве поощрения за
верность коммунистическому строю и идеологии... Надо
приложить более энергичные усилия к тому, чтобы
установить имена тех ученых и представителей
интеллигенции, у которых уже появились признаки таланта и
духовной интегрированное™, и настаивать на том,
чтобы финансируемые Западом стипендии предоставлялись
на основании только этого и никакого другого
критерия. К сожалению, в отдельных случаях имел место
отход от этого принципа, что оказало определенное
деморализующее воздействие на восточноевропейскую
интеллигенцию. Мы добились бы результатов, обратных
желаемым, если бы американская политика
концентрировала свои усилия на улучшении отношений с
нынешними правительствами и не уделяла бы должного
внимания информации и формированию
восточноевропейского общественного мнения».
Эти факты упомянуты нами вовсе не потому, что мы
хоть в какой-то мере придерживаемся точки зрения,
согласно которой буржуазное влияние можно исключить
с помощью изоляционистской политики. Это просто
немыслимо в современном мире, который характеризуется
стремительным развитием средств коммуникации и
систем информации. Поэтому мы должны смотреть
прямо в лицо неприятным для нас фактам, с тем чтобы
иметь возможность оказывать свое собственное
реальное влияние не просто в смысле разработки некоего
плана «контрразмягчения», а путем реализации
позитивных возможностей, связанных с идеями марксизма-
ленинизма и результатами, достигнутыми в его
развитии, с повышением уровня общественных наук при
социализме. Словом, чтобы последовательно повышать
материальное и духовное воздействие социализма на
капиталистический мир.
При определении нашего отношения к буржуазным
общественным наукам важным фактором должно быть
стремление современного революционного рабочего
твижения к единству, которое направлено на выработ-
133
ку нового, более высокого по уровню диалектического
единства в борьбе против империализма. На такой
почве возможно укрепление внутреннего единства между
представителями марксизма-ленинизма, и в том числе
марксистских общественных наук.
Опыт дискуссий, проходивших на научных
конференциях с участием представителей общественных наук
как буржуазных, так и социалистических стран,
показывает, что серьезных ученых, испытывающих
потребность в объективной информации, в большей мере
интересуют работы, проникнутые духом
марксизма-ленинизма, чем безликий эклектизм. Сегодня их уже не
интересует то, что, возможно, заинтересовало бы их еще
вчера: знаем ли мы то, что знают они; сегодня их
гораздо больше интересует, можем ли мы с помощью
метода марксизма-ленинизма дать больше, чем они с
помощью своих методов.
Именно на этих проблемах, рассматриваемых в
философском плане, мы и хотели остановиться в
настоящей статье. Можно с достаточной уверенностью
полагать, что эти проблемы должны вызвать интерес и у
тех, кто занимается другими областями общественного
знания. Ведь конечные теоретические,
методологические и философские основы марксистских
общественных наук едины и в том случае, если в истории или
истории литературы, правоведения или политической
экономии такие же или подобные проблемы фигурируют,
возможно, в ином аспекте, в условиях иной «органической
структуры», будучи дополнены другими вопросами.
Исходные позиции
В настоящей статье в качестве исходных моментов
использованы следующие соображения.
1. И сегодня определяющим для марксистских
общественных наук является положение Маркса,
согласно которому общественно-экономические процессы
должны рассматриваться как естественноисторические, то
есть как такие процессы, которые при определенных
условиях образуют детерминированную цепь действий,
переходящих от случайных явлений к необходимости, а
затем к закономерности, цепь, в основе которой лежит
материальный обмен между человеком и природой.
134
£тоМу поЛонсенйю не противоречит другое
высказывание Маркса, по которому человек является не только
действующим лицом, но и творцом своей собственной
истории. Тот факт, что действия отдельного человека
в основных чертах телеологичны, вовсе не
свидетельствует о телеологическом характере общественной
жизни в целом. Подобный ее характер возможен лишь
в определенных исторических условиях, в классовом
обществе — в соответствии с интересами того или
иного руководящего класса,— он охватывает основные
процессы общественного развития в форме
искаженного сознания, содержащего и рациональные целевые
установки; а в условиях социализма в целом это
происходит в форме научного сознания. Кроме того,
нельзя не учитывать и общее развитие, являющееся
результатом взаимодействия обеих этих форм. Уже одно это
соображение подводит нас к центральному аспекту
рассматриваемой проблемы. В качестве следствия
необходимой и оправданной, исторически позитивной
критики волюнтаристского субъективизма и догматически
понимаемого марксизма и под влиянием
идеалистических взглядов в общественных науках на Западе
получило распространение представление о
«первоначальном» марксизме как о «натуралистическом» учении.
Подобное представление не учитывает
соответствующих высказываний Маркса и направлено прежде всего
на критику взглядов Энгельса. Обвинение в
натурализме особенно часто высказывалось в ходе диалога с
христианами и экзистенциалистами. Стремление со
стороны марксистов освободиться от этого обвинения с
большим или меньшим успехом лишает марксизм того
поднимающегося снизу вверх детерминизма, который,
будучи диалектическим детерминизмом, не только не
отрицает, но, наоборот, предполагает взаимодействие ,ма-
териальных источников движения, определяющих
общественно-экономическую обстановку, с одной стороны,
и институциональных и идеологических форм, с другой.
(В гносеологическом аспекте этот «антинатурализм»,
как мы еще увидим дальше, затрагивает проблемы
методологического плюрализма и соответствующей ему
плюрализации направлений в марксизме, о которых
сегодня так часто говорят отдельные марксистские
исследователи.) В действительности же натурализмом
135
является направление буржуазной общественной науки,
идущее как от географического материализма XVIII в.,
так и от вчерашних и сегодняшних биологических,
расистских общественных теорий; направление, которое
в области микросоциологии проводит аналогию с
элементарными частицами и их взаимодействием;
направление, которое некритически переносит законы
развития отдельных элементов матери-природы на
значительно более сложные общественно-исторические
формы движения. В отличие от этого Маркс именно
потому мог рассматривать общественно-историческое
развитие в качестве естественноисторического процесса,
что он хотел определить таким образом специфические
формы и законы движения в обществе, отличающиеся
от общих форм движения в природе. Он стремился
обнаружить специфические, но в то же время
взаимосвязанные с движением природы законы общественного
развития, поскольку основой последнего также
является материальный обмен между природой и человеком,
представляющим собой одно из явлений природы.
2. Второе исходное положение настоящей статьи
является следствием первого. В отличие от широко
распространенных взглядов, берущих свое начало из
работ Виндельбанда и Риккерта, но принявших с тех пор
самые различные формы, взглядов, сторонники
которых абсолютизируют противопоставление естественных
и общественных наук, необходимо исходить из
внутреннего диалектического единства последних, следуя за
идеей Маркса, который в конечном счете видел перед
собой одну-единственную науку — историю, которую он
понимал не как некое аморфное единство, а как
внутреннюю взаимосвязь естественных и общественных
наук. Из такой трактовки следует, что естественные
науки могут применять свои методы и в области
общественных наук, и в той мере, в какой они, критически
относясь к этому и исходя из материалистического
понимания истории, применяют эти методы, мы с радостью
приветствуем такое применение, способствующее
пониманию процессов во всей их полноте.
3. Третье соображение, касающееся специфики об
щественных наук, состоит в следующем. В обществен-
ных науках связь между научным и идеологическим
содержанием гораздо теснее, интимнее, сложнее, чем в
136
естественных науках. Относительно легко отделить
объективный идеализм платоновского типа у Гейзенберга
от его теорий, посвященных анализу явлений природы.
Гораздо сложнее отделить объективные констатации
теории стадий экономического роста, провозглашаемые
людьми типа Ростоу, или тем более его отдельные
положения от идеологических тенденций всей его теории.
Конечно, последнее легче, труднее сами по себе
объективные критерии. Описываемая специфика
естественных наук в конечном счете связана с тем, что свою
проблематику они черпают исходя из упоминавшегося
Марксом обмена между человеком и природой. В
противовес этому общественные науки связаны с
отношениями между людьми, с общественными
производственными отношениями, они непосредственно связаны с
действиями классов даже в том случае, если они
отражают лишь какой-то момент расслоения внутри
данного класса и так или иначе, опосредствованно или
непосредственно, связаны с политикой. Даже изучающая
производственные отношения в обществе политическая
экономия лишь через призму этих отношений
рассматривает организацию производительных сил и влияние
последних на технико-экономическое разделение труда.
Если отдельные, в конечном счете относящиеся по
своему характеру к общественным наукам дисциплины,
например психология труда, или производственная
психология, непосредственно влияют на конкретную
производственную деятельность, то в этом случае речь
идет не просто о взаимоотношениях человека и
природы, а о возникающих в связи с этим взаимоотношениях
между людьми. Таким образом, общественные науки
путем формирования общественных производственных
отношений, ускорения (или замедления) развития этих
отношений, а также путем формирования
индивидуального и общественного сознания и соответствующих
организационных форм воздействуют на
производственную деятельность людей, приводящих в движение
овеществленный труд, который воплощен в инструментах,
машинах, автоматах. Все это чрезвычайно важно и с
точки зрения правильного понимания величайшей
проблемы нашей эпохи — научно-технической революции и
ее общественных последствий. О том, что подобное
определение структурной и функциональной специфики
137
общественных наук не означает недооценки их
значения, свидетельствует в достаточной мере хотя бы
упоминание о марксизме-ленинизме как о важнейшем
идейном потенциале формирования нового,
социалистического мира. Видимо, теперь уже понятно, что теории,
концепции и в области общественных наук имеют в
целом идеологический характер и в конечном счете
служат классовым интересам, что, разумеется, в данном
конкретном случае неотделимо от служения интересам
развития всего общества.
К вопросу о специфике современного
состояния марксистско-ленинской теории
Наше отношение к буржуазным общественным
наукам в общем диктуется изложенными выше
теоретическими соображениями. Дело не только в том, что они
должны определять это отношение, но и в том, что
именно в таком направлении ведут нас закономерности
нашего развития в условиях современного мира, когда
сложные идеологические взаимоотношения
социалистической и капиталистической систем, а также «третьего мира>
и борьба между ними накладывают отпечаток на
положение, складывающееся и в области общественных наук.
Для того чтобы хотя бы приблизительно определить
наши задачи в международной идеологической борьбе,
необходимо выяснить специфическое положение
марксизма-ленинизма в данной исторической обстановке.
И сегодня действительны учение Маркса, Энгельса и
Ленина, марксистская философия, теория о всеобщих
законах развития природы и общества, которая на научной
основе учитывает диалектический характер развития
любого конкретного явления действительности как части
общего диалектического процесса развития и тем
самым способна служить сознательной общественной
практике. О том, что приложение этого основного
принципа к конкретным проблемам современного мира —
дело не такое уж простое, речь пойдет ниже. Сейчас
только отметим, что в отдельных теоретических
марксистских работах можно встретить и такие высказывания,
авторы которых, если несколько произвольно
интерпретировать выражение Грамши, попросту рассматривают
марксизм как философию общественной практики,cbq-
138
Дйт его к этой практике. В конечном счете подобные йУ-
сказывания свидетельствуют о попытках возрождения
догматического, волюнтаристского субъективизма под
прикрытием борьбы с догматизмом. После периода
пропаганды так называемой деидеологизации науки в
последнее время повсеместно наблюдается возврат к ее
идеологизации в субъективистском смысле этого слова.
(Речь идет о некоторых сотрудниках редакции
югославского журнала «Праксис», о целом ряде статей,
опубликованных несколько лет назад в итальянском
журнале «Ринашита» и чехословацком журнале «Пра-
це». Примеры подобного рода имели место и в Венгрии.
Не может быть сомнений, что во всем этом
значительную роль играет также маоистская деформация
марксизма-ленинизма и ее интерпретация некоторыми
аналогичными по характеру западноевропейскими
течениями.) Подобное сведение не приносит пользы ни с
точки зрения теоретического исследования объективных
процессов развития, ни с точки зрения интересов
исторической практики в узком и широком смысле этого
слова. Марксизм-ленинизм, перенесенный в практику,
означает активную революционность, но вовсе не
такую активность, которая стремилась бы к
осуществлению революционных акций, отказываясь при этом от
учета объективных условий.
В. И. Ленин в противовес оппортунизму
социал-демократии указывал, что в эпоху империализма и
пролетарских революций производительные силы
общества в принципе достигли такого уровня, при котором
существующие формы отношений собственности могут
быть ликвидированы посредством революционных
действий масс, руководимых марксистскими партиями. Это
положение тем более верно в наши дни, когда само
существование социалистического мира усиливает
борьбу народов за независимость и способствует
социальному прогрессу. Разумеется, формы общественной и
политической борьбы в каждом конкретном случае
зависят и от других специфических объективных условий,
а не только от достигнутого уровня развития
материальных производительных сил общества или от
связанных с этим уровнем отношений собственности и
разделения труда. Возросшее значение субъективного
фактора теперь не в последнюю очередь зависит от уровня
139
общественного сознания, уровня, на котором ведется
борьба за достижение реальной альтернативы
буржуазному обществу.
От диалектической взаимосвязи субъекта и объекта
зависит, что мы понимаем в данном случае под
субъективными силами и объективными условиями. Это
отношение с гносеологической точки зрения является
подвижным, имеет перемещающийся центр. То, что в
эдном отношении является субъектом, в другом
представляет собой объект. То, что в одном отношении
является условием, в другом оказывается обусловленным.
Например, в конкретной обстановке паука,
подстерегающего добычу, можно рассматривать как субъект
по отношению к мухе, поскольку его инстинктивное
поведение определяет течение всего процесса. Таким
образом, об отношении субъект — объект можно
говорить и применительно к миру природы, включая сюда
и неорганическую природу. Точно так же человек не
является только субъектом по отношению к
природе. Например, в докапиталистическом классовом
обществе субъектами исторического процесса,
определявшими направление его развития, были классы, которые в
интересах осуществления расширенного
воспроизводства угнетали, использовали в качестве сырья и орудий
труда большую часть человеческого рода. В
определенной ситуации субъект перманентной революционной
борьбы представляет собой революционная партия,
влияющая на массы. В любом случае область
общественного действия сознательной силы проявляется в том,
что она может сократить период развития
объективных процессов, но только при условии, если она
действительно сознательно действует (с помощью
соответствующих данному уровню исторического развития
средств и форм, то есть хотя бы и с помощью
искаженного сознания) и если ее действие совпадает с
объективными тенденциями и закономерностями общего
движения. Если сознательный характер этого действия
иллюзорен, она лишь продлевает и усиливает родовые
муки вместо того, чтобы смягчить их.
Всякий процесс развития — не только
поступательный, но и прерывный. Его прерывность означает
качественные скачки в рамках единого процесса. Однако
для нас не безразлично, как мы воспринимаем в теоре
140
гическом плане взаимосвязь прерывности и
поступательности. Современные интерпретаторы
марксизма-ленинизма (будь то в Европе или за ее пределами) ,
вдохновляемые анархо-синдикализмом (не говоря уже об
анархистах), представляют себе это отношение не так,
как марксисты-ленинцы. Попытаемся изобразить это с
помощью математической схемы. Прерывное развитие
революционного процесса отражает (с чисто
математической точки зрения, разумеется, непрерывное)
деформированную восходящую синусоиду (а). Прерывность
процесса получает выражение в ее восходящих и
нисходящих отрезках, соответствующих значительным
подъемам и внезапным, неожиданным спадам. Через
точки, средние по отношению к моментам
максимального подъема и спада отдельных участков синусоиды,
проводим новую параболическую кривую (6), которая,
таким образом, проходит между точками максимума
и минимума.
Марксист, научно антиципируя диалектическое
взаимодействие объективных и субъективных элементов
развития и действуя в соответствии с такой антиципа-
141
цией, стремится придерживаться такой средней линии,
которую он рассматривает в качестве выражения
реальной исторической возможности. Чем вернее, шире и
точнее научное предвидение и осуществляемые на его
основе действия, тем больше возможность обеспечить
непрерывность процесса, приближение его к средней
линии, а временами и полное с ней совпадение. Подобная
непрерывность не исключает, а, наоборот, прямо
предполагает качественные скачки, внезапные подъемы
кривой, революционные вспышки, ибо это вытекает из
природы функции. Поскольку марксист придерживается
средней возможной и действительной линии, он может
почти оптимально использовать реально существующие
силы. Очевидно, что анархо-синдикалистские
интерпретаторы марксизма-ленинизма действуют по сравнению
с этим с огромным и излишним разбазариванием сил.
Это находит отражение в том, что сумма отрезков,
соединяющих точки максимума и минимума, настолько же
длиннее средней восходящей кривой, насколько сумма
двух сторон треугольника больше третьей его стороны.
Для полноты картины проведем две дополнительные
кривые, одна из которых соединяет точки максимума
(с), а другая — точки минимума (d). Верхняя кривая
является фиктивной, ибо подлинное движение идет по
линии, соединяющей точки максимума и минимума, или
же, в случае правильного применения
марксизма-ленинизма, по средней восходящей кривой. Однако анархо-
синдикалисты в своем представлении, а не в
действительности, двигаются по соединяющей точки
максимума фиктивной внешней кривой. На деле же, поскольку
нельзя перепрыгивать с вершины на вершину,
нисходящее движение и новый подъем к следующей вершине
сопровождаются колоссальной затратой сил и
угрожают успешному осуществлению подъема. Сегодня нам
нередко приходится сталкиваться с представлениями,
которые, хотя и называются марксистскими,
соответствуют этой верхней внешней кривой. Это относится к
отцу анархо-синдикализма Жоржу Сорелю, который
называл фиктивные прыжки от максимума к минимуму
эволюционным рядом («suite evolutive»), подменяя
этим понятием диалектическое и материалистическое
представление марксизма о развитии. Здесь не так уж
трудно обнаружить сходство с бергсоновским жизнен-
140
ным порыйюм, с его revolution creatrice (творческой
эволюцией)^ при которой каждое новое движение
является полной неожидавдюстью. Нижняя внешняя кривая
(d) в действительности является выражением
концепции оппортунизма. Другой вопрос, что некоторые
представители этого течения время от времени точно так
же впадают в экзальтированную
псевдореволюционность, как анархо-синдикализм неизбежно скатывается
в болото оппортунизма К
Современные представители анархо-синдикализма
[например, Андре Горц в двух своих книгах: «Рабочая
стратегия и неокапитализм» («Strategic ouvriere et
neocapitalisme»), «Трудный социализм» («Socialisme
difficile»)] признают в качестве общей философской
основы своих взглядов уже не бергсоновский
иррационализм, а иррациональный экзистенциализм в духе
Сартра. В работах других представителей этого
направления, например в книге «Сила и бессилие интеллигенции»
(«Macht und Ohnmacht der IntelleMuellen») Эрнста
Фишера, возрождающего многие идеи Бернштейна, в
качестве философской основы в значительной мере
выступает иррационализированное кантианство, то есть такая
теория, которая уже с самого начала была неспособна
учитывать реальное развитие. Что касается других
аспектов его мировоззрения, то им угрожает та же
опасность. Аналогичные явления мы можем наблюдать в
Италии и некоторых латиноамериканских странах, где
характерной чертой развития рабочего движения
является значительное влияние взглядов Сореля. Против
взглядов последнего с самого начала выступил
крупный итальянский философ-марксист Антонио Лабриола,
хорошо понимавший вслед за Лениным, что
радикальный левый ревизионизм является родным братом
правого оппортунизма. Все это не утратило своего
значения и в условиях современной идеологической борьбы.
Нельзя не затронуть этих проблем в связи с рас-
1 Наша схема является лишь наглядной иллюстрацией. Кстати,
в марксистской общественной науке охотно пользовался
диаграммами Ленин. Например, он изобразил в виде схемы «общую картину
борьбы на съезде» в (работе «Шаг вперед, два шага назад».
Разумеется, всякая диаграмма не может полностью отразить содержание
мысли. В частности, реальное революционное развитие не
обязательно соответствует параболе, оно может быть и значительно
сложнее^.
143
смотрением нашего отношения к буржуазным
общественным теориям, поскольку проявление подобных
взглядов ослабляет критические возможности
марксизма-ленинизма, одинаково необходимые как для
раскрытия научной несостоятельности буржуазных
общественных теорий, так и для позитивной разработки новых
проблем. Только единство и взаимосвязь двух этих
сторон— критической и позитивной — могут еще больше
поднять международный авторитет, завоеванный
марксистской общественной наукой.
Некоторые современные направления
буржуазной общественной теории:
структурализм и экзистенциализм
Если рассматривать господствующие направления,
которые накладывают отпечаток на подход буржуазной
теории к экономически-институциональным и
идеологическим проблемам современного общества, можно
убедиться в следующем. Одним из слабых мест
буржуазных общественных теорий является несостоятельность
их концепций общественно-исторического развития. Это
может служить для нас естественной отправной точкой
для критики, идет ли речь о вопросах классовой
борьбы или исторического и политического развития, а
также о борьбе идей или о направлениях в искусстве и
литературе. Чтобы определить место нерешенных проб*
лем и поставить вопросы, вообще не охватываемые
буржуазной общественной теорией, необходимо в
какой-то мере исходить из концепции развития как
имманентного динамизма, основывающегося на проявлении
внутренних противоречий. Рассмотрим с этой точки
зрения теорию «конвергенции», сторонники которой
пытаются возродить на ином уровне концепции
развития, присущие структурализму, экзистенциализму и
буржуазному либерализму. Видимо, нет необходимости
останавливаться отдельно на теологических теориях,
отчасти потому, что претензии последних на научность
носят лишь формальный характер, а отчасти в силу
очевидности того, что с помощью ортодоксальных
философских построений Фомы Аквинского или Кальвина
нельзя ответить на проблемы современной эпохи.
Кроме того, можно легко доказать, что всякий вцхоцящии
144
за рамки \папских энциклик теолог, претендующий на
разработку^ теории, использует в качестве модели то
или иное течение буржуазной философии. Так, иезуит
Карл Райнер Хайдеггер пользуется для этой цели
теориями экзистенциализма, а Тильхард де Чарди, если
иметь в виду основное содержание созданной им
системы,— эволюционными теориями в духе Бергсона.
Для буржуазных общественных наук в силу
неопределенности их философско-методологической основы, а
также их многоплановости и плюрализма (каждое
направление при этом остается на буржуазных позициях)
всегда в большей или меньшей степени характерно
стремление использовать достижения тех или иных
специальных наук для подтверждения своего
мировоззрения («биологический», «физический» идеализм) или
хотя бы для разработки всеобщего и обязательного для
всех метода, как это было в свое время, когда методы
механики служили образцом для общественных наук,
для объяснения всего реального. Это происходит и в
наши дни, особенно в смысле абсолютизации методов
специальных наук, в чем мы можем убедиться на
примере структурализма, берущего свое начало в
лингвистике и. этнологии. Люсьен Сэв в статье,
посвященной марксизму и структурализму (журнал «Пансе» за
октябрь 1967 г.), дает следующую краткую
характеристику метода, используемого последним: «В сущности,
имеется три принципа структурализма. 1. Структурный
анализ имеет право на существование лишь тогда,
когда он носит исчерпывающий характер, то есть передает
тотальный характер системы и всю совокупность ее
проявлений. 2. Такой анализ оправдан, если каждая
структура строится на взаимодействии противостоящих
друг другу элементов, и в особенности на их бинарной
оппозиции, которая свидетельствует о комплементарном
характере взаимосвязи между ними. 3. Необходимо
строго разграничивать, с одной стороны, синхронный
подход, то есть рассмотрение состояния системы и ее
действия в да-нный момент, и, с другой стороны, диа-
хронный, то есть рассмотрение системы в историческом
плане, в развитии. Очевиден методологический
приоритет синхронной точки зрения, поскольку, если не
ограничиваться лишь внешним представлением о системе
как о такой последовательности србутий, внутренняя
Ц5
связь между которыми остается непонятной (здесь и
заключена ошибка историцизма), то история
представляет собой специфическую форму развития/ данной
системы. Необходимо прежде всего изучить фактуру этой
формы, чтобы затем выяснить весь процесс развития».
Сэв подчеркивает, что в таком случае, если
предпринимается попытка перенести центр тяжести с синхронного
анализа на диахронный, как это сделал Морис Годелье
при чтении Маркса в изложении Леви-Стросса,
автоматический динамизм системы не может быть понят,
поскольку она исследуется не в свете проявления
присущих ей внутренних противоречий, единства и борьбы
противоположностей. Структура является внутренним,
а механизм ее развития — внешним фактором, точно
так же, как учили сторонники древних механистических
взглядов. «От кинематографической непрерывности
воспроизведения подлинного движения мы
возвращаемся на уровень прерывной серии отдельных
изображений. Диалектика утратила свою душу»,— пишет Сэв.
Видимо, нетрудно заметить внутреннее сходство такого
проходящего через серию подъемов фиктивного
«развития» с внешней кривой нашей диаграммы,
соединяющей точки максимума, кривой, с помощью которой мы
фиксировали воображаемый, а не соответствующий
реальной действительности путь анархо-синдикализма.
Разумеется, речь идет вовсе не о какой-либо общности
концепции «suite evolutife» Бергсона—Сореля и
взглядов структуралистов, однако общность с буржуазной в
конечном счете концепцией развития накладывает
отпечаток на взгляды мелкобуржуазного и академического
радикализма.
Если серьезно воспринимать приоритет синхронного
подхода, появляются самые широкие возможности для
образования произвольных конструкций. Схема
каждого конкретного общества в тот или иной момент его
развития представляет собой в принципе неразделимое
нагромождение случайных и необходимых элементов.
Сущность и явление, или, если пользоваться языком
структуралистов, инвариантные моменты и их
вариантные проявления, неразрывно связаны друг с другом,
поскольку закономерная взаимосвязь общих и
необходимых элементов сущности может быть обнаружена
только через познание тотального характера вариан-
146
1ов, сменяющихся в ходе исторического развития. Если
изучать общие существенные черты связанных между
собой явлений не посредством анализа сменяющих друг
друга форм развития, то просто не окажется подлинных
критериев для обнаружения внутренней взаимосвязи
этих черт. В свое время Макс Вебер утверждал, что
ему удалось открыть структурное родство между
организацией капиталистического государства и крупного
капиталистического предприятия. Если и можно
предположить определенную аналогию между этими двумя
явлениями, то при подобном подходе, во-первых,
утрачиваются подлинные отношения зависимости между
определяющим и определяемым; во-вторых,
«закономерным» отношением становится как раз аналогия между
ними, вследствие чего, в-третьих, невозможно
понимание экономической структуры и государственной
надстройки капиталистического общества в их
взаимосвязи. Разумеется, Маркс также говорил о структурных
проблемах в связи с экономической организацией
общества, но он говорил о них и в связи с присущими
обществу институциональными и идейными явлениями.
Однако для Маркса структура всегда находилась в
движении, воспроизводившем ее на аналогичной или более
широкой основе, в движении, в результате которого
общественная структура на определенном этапе
развития присущих ей противоречий превращается в свою
собственную противоположность. Замена находящихся
в развитии противоречий, взаимодействия различных
элементов структуры формально-логическим принципом
дополнительности заранее исключает понимание
подлинных процессов развития. Моментальный срез,
который может быть вырван из динамичного движения
истории, является лишь продуктом аналитической стадии
исследования, который основан на методологической
абстракции и как таковой может служить подспорьем
для синтеза, но только в том случае, если мы ясно
отдаем себе отчет в ограниченности аналитических средств.
Структурализм как метод выдает свои аналитические
возможности за способность к синтезу, но до
подлинного синтеза он не доходит, ибо не располагает
диалектическим методом.
В работах Леви-Стросса, Мишеля Фужо при
рассмотрении отношений между людьми теряется человек,
147
вступающий в эти отношения. Поэтому они
совершенно правы, когда подчеркивают, что их метод
«несовместим с гуманизмом». Что касается французского
экзистенциализма, выступающего под лозунгом гуманизма,
то здесь, если взять, например, Сартра, мы имеем
обратную картину. Сохраняется человек, но исчезают
отношения между людьми в их реальной
общественно-исторической объективности. Человеческие отношения,
согласно концепции Сартра, являются по своей природе
совокупностью готовых индивидуальностей, в которых
присутствует человек как нечто общее, человеческий
род как внутренне безгласная структура. Эти
индивиды воспринимаются как отголоски дошедших до наших
дней философских и антропологических представлений
прошлого. Приближение Сартра к марксизму связано
с разработкой данного вопроса, но именно в этой
связи выявляется и вовсе не такое уж незначительное
расстояние, которое и сегодня отделяет его от марксизма.
То обстоятельство, что общество является внешним
фактором по отношению к индивиду и различным
группам индивидов, он расценивает попросту как
превращение внутреннего мира человека во внешний по
отношению к человеку фактор, даже если последний
оказывает обратное воздействие на внутренний мир
индивида, поскольку при всех условиях решающую роль
играет именно внутренний мир, а не реальная
объективная общественная действительность. Попытаемся
пояснить это положение примером, взятым, правда, не из
Сартра.
Объективизация человеческой деятельности и
способностей человека в грубо материальной, а
следовательно не подлежащей сомнению, форме проявляется в
средствах производства. Не требует особых
разъяснений тот факт, что любые орудия труда, от молотка до
автоматической линии, предполагают определенный вид
деятельности. Согласно точке зрения Сартра, образ
мышления и деятельности, предполагаемый этими
орудиями, уже сегодня опережает вещественное
воплощение последних. При подобном рассуждении исчезает та
детерминированность, с которой овеществленный труд,
созданный с помощью живого труда, оказывает
обратное воздействие на последний. Ведь, во-первых, только
на основе признания такой детерминированности воз-
148
можно (есл;и продолжать наш пример с
автоматической линией) переосмысление и сведение воедино
существовавших ранее орудий труда и операций,
конструирование автоматической линии и, во-вторых, только труд
с помощью экстракорпоративных орудий создает и
закрепляет способности и виды деятельности, а также
развивает новые и новые способности, которых раньше
у человека вообще не было и которые могли появиться-
только на известной стадии использования орудий
труда. Не какое-то заранее данное общественное начала
раскрывается в формирующем друг друга
взаимодействии живого и овеществленного труда, а сам реальный
человек гуманизируется в нем и придает общественный
характер данным ему от природы способностям или,
если хотите, гуманизирует покоящиеся на естественной
основе общественные условия жизни. Поэтому Маркс
рассматривал отдельного человека, уровень развития и
способности индивида как общественное явление. Это
не означает, что индивид растворяется в некой
общности и утрачивает свою индивидуальность, ведь
каждый человек занимает определенное место в обществе
и точно так же, как не существует двух одинаковых
листьев на дереве, не бывает и двух людей,
занимающих абсолютно одинаковое место в обществе. Индивид
характеризуется как раз тем, каково его отношение к
отдельным общественным классам, слоям, к сфере
материальной и духовной культуры, тем, что и насколько
глубоко усваивает он в той или иной области, какими
новыми чертами наделяет он физиономию общества.
Для марксизма антропологизм является лишь
элементом, органическим и необходимым, но все же
элементом исторического материализма, тогда как у Сартра
черты исторического материализма становятся
элементами экзистенциалистского антропологизма. Теория
последующей общественной интеграции индивидов, хотя
она постоянно напоминает об индивидуальном и
историческом значении альтернативных жизненных
ситуаций, все же не может объяснить действительные
альтернативные ситуации истории, не доходит до
подлинного понимания общественно-исторического развития,
поскольку она не объясняет и не может объяснять
формирование единой воли масс на основе объективных
условий их жизни. При разработке данной проблемати-
149
кй Марксистская философия сегоднй уЖе
классифицирует выдвигаемые вопросы и даваемые на них ответы
по все более конкретным областям (от
производительного труда до научного и художественного творчества),
при этом необходимо признать многообразие
достигнутых ею результатов.
Теория конвергенции и антикоммунизм
Концепции общественного развития, которые можно
объединить общим названием «теории конвергенции»,
на первый взгляд, не далеки от понимания
действительного существа общественно-исторического развития. Не
всякая концепция развития относится к этой категории,
но любая теория конвергенции неизбежно является
концепцией развития. Позитивистское понятие развития,
утвердившееся во французской социологии со времен
Конта, оказывало значительное влияние и на область
специальных наук.
Политический антикоммунизм проявляется в
буржуазных общественных науках как ярко выраженная
политическая идеология. Однако такой его характер не
всегда проявляется открыто. Традиционные
теоретические приемы антикоммунизма используются и сегодня.
Остатки фашистской идеологии и новые ее проявления,
всевозможные варианты расизма, консервативные
идеологические концепции, которые прямо отрицают
революцию и в особенности достижения в развитии
социалистических стран,— все это, как правило, связано с
отрицанием возможности и необходимости мирного
сосуществования. И сегодня существуют созданные во
имя непосредственной защиты капитализма и
направленные против «тоталитарных систем» идеологические
концепции, которые время от времени облекаются в
возвышенную философскую форму (см., например:
К. Popper, The Open Society and its Enemiec, London,
1963), излагаются в специальной литературе,
представляющей идеологическую диверсию против
социалистических государств (см., например: G. Gordon, I. Fa Ik,
W. Ho dap, The Idea Invaders, New York, 1963).
Поскольку провозглашенная социализмом политика
мирного сосуществования одерживает успехи в культурной и
научной областях, она оттесняет на второй план откры-
150
тую и прямую враждебность коммунизму в духе
Сиднея Хука (см.: Sidney Hook, Political Power and
Personal Freedom, 1959). На первый план выступают
более утонченные, претендующие на большую
научность и объективность теоретические построения
антикоммунистов, заявляющих, что они якобы в одинаковой
мере учитывают историческое развитие
социалистического и капиталистического мира, восстанавливают в
правах само понятие развития, но на практике они по-
прежнему стремятся исказить подлинную историческую
роль и значение социализма.
Наиболее крупными представителями теории
конвергенции являются Ростоу («Стадии экономического
роста», «Некоммунистический манифест»), а также
Раймон Арон («Борьба классов», «Новые лекции об
индустриальном обществе»). Эти работы на
сегодняшний день являются наиболее характерными
произведениями в безбрежном море подобной литературы.
Сторонники теории конвергенции, как известно,
утверждают, что происходит сближение социалистического и
капиталистического общества в ходе быстрого
формирования индустриального общества.
Поскольку марксизм сегодня нередко объявляется
учением, относящимся к XIX столетию, а ленинизм,
представляющий собой дальнейшее развитие
марксизма,— лишь практическим движением, небезынтересно
обратиться к корням теории конвергенции, этого
детища XX века. Эти корни ведут в прошлый век, к
социологии Спенсера. У Спенсера милитаризованному,
заинтересованному в войне обществу противопоставляется
индустриальное общество, стремящееся к всеобщему
благоденствию, — идеализированное изображение
капитализма той эпохи. Бертран Рассел и его супруга Дора
Рассел в книге «Перспективы индустриальных
цивилизаций» (1922), написанной после их поездки в Китай и
Советскую Россию, вновь вернулись к этой теории,
отряхнув с нее пыль XIX века. В этой работе
прозвучал тезис, согласно которому «сегодня важна не
борьба между социализмом и капитализмом, а борьба
между индустриальной цивилизацией и гуманизмом».
Хотя субъективные симпатии супругов Рассел были на
стороне социализма, объективно подобная теория была
направлена против научного социализма. С тех пор
151
субъективные симпатии сторонников этой теории
развеялись, а ее антисоциалистический характер
сохранился, став одной из важных основ политического
антикоммунизма. Когда на передний план выдвигается
подчеркивание идеи конвергенции, подразумевается, что
капитализм на нынешней стадии его развития может
осуществить все, что социализм в лучшем случае
обещает, и, наоборот, социализм может реализовать свои
обещания только в том случае, если превратится в
именуемый развитым индустриальным обществом
капитализм. Не удивительно поэтому, что за
«некоммунистическими манифестами» следует в качестве дальнейшего
шага «капиталистический манифест» (Келсо — Адлер).
Основная идея последнего состоит в утверждении, что
современное общество страдает в силу своего
«смешанного» капиталистического и социалистического
характера. Следовательно, необходим чистый
капитализм.
Сторонники теории конвергенции постоянно грешат
присущей буржуазному мышлению
либерально-техницистской апологетикой капитализма, лишь плохим
дополнением которой является его романтическая
апологетика. Относительно ускоряющееся, особенно в
современных условиях научно-технической революции,
развитие техники, которая берет свое начало в
материальном обмене между человеком и природой, является с
точки зрения буржуазного мышления главным
фактором, рядом с которым вообще не имеют значения
отношения собственности и производственные отношения,
присущие данному обществу. Как и насколько
последние влияют на научно-техническое развитие и как это
развитие оказывает на них обратное воздействие, эта
сторона проблемы остается в тени даже в том случае,
если данная проблема подвергается историческому
анализу, поскольку анализ ведется в лучшем случае в
плане рассмотрения технико-экономического
разделения труда, а не в плане общественного способа
производства в целом. Согласно взглядам сторонников
теории конвергенции, мнимая конвергенция
социалистического и капиталистического способов производства
может быть «доказана» тем успешнее, чем меньше
придается значения отношениям собственности и
общественному раздедещдо труда, чем настойчивее в духе аде-
153
юдологическою плюрализма одни удобные для дока
зательства аргументы выдвигаются в ущерб другим,
менее удобным в этом отношении.
Тот факт, что в настоящее время действительно
наблюдаются отдельные элементы конвергенции, ни в
коей мере не противоречит принципиальному
утверждению, что определяющим моментом в развитии
социализма и капитализма является прежде всего
дивергенция, которая играет господствующую роль,
рассматриваем ли мы современное положение или отдаленные
перспективы. Эта проблема имеет принципиальный и
долгосрочный характер, ее значение в современную
эпоху не могут умалить ни те или иные элементы
внешней политики (взять, например, нашу
заинтересованность в позитивной реализации возможностей
сотрудничества капиталистической и социалистической
Европы, что всегда связано с противоборством
социалистических и капиталистических интересов), ни задача
сохранения мира, прямо предполагающая идеологиче
ское противостояние двух мировых систем и
общественно-экономическое соревнование, которое может
рассматриваться как специфическая форма классовой
борьбы. Наоборот, еще большую остроту придают
данной проблеме время от времени усиливающиеся
агрессивные нападки империализма на социалистические
страны и прежде всего навязанная Советскому Союзу
гонка вооружений. Последняя стала существенным
элементом воспроизводства американского капитализма
не только с точки зрения непродуктивного вложения
капиталов, она важна для капиталистического мира и
с точки зрения затруднения нормального развития
социализма. Этому обстоятельству нельзя не уделять
внимания в условиях, когда трудностям, вытекающим
из различного направления в развитии двух систем,
способствуют наряду с военными моментами
сознательные попытки «размягчения» социалистической системы.
В нашу задачу не входит подробное рассмотрение того,
каким образом и насколько широким фронтом
проводится подобная политика «размягчения». Хотелось бы
только выделить общую диалектику данного вопроса.
Возникновение понятия «размягчение», с одной
стороны, является данью фразе и, с другой стороны, не
учитывает подлинные взаимосвязи внутренних и внешних
153
усЛбвий социалистического развитая b присущей иМ
диалектике.
Попытаемся сформулировать ряд положений в
противовес теории конвергенции и в плане раскрытия
действительно реальных форм движения. На нынешней
стадии развития производительных сил и
общественных отношений внутренние и внешние факторы тесно
взаимодействуют друг с другом. Важным элементом
диалектики данного взаимодействия является
упомянутое выше стремление империалистических сил навязать
нам растущие затраты на вооружение. Задачи
социализма — развитие производительных сил,
совершенствование социалистических отношений, повышение
народного благосостояния, развитие социалистической
демократии и т. д. Внешнее воздействие затрудняет и
может помешать решению этих задач. В этом случае речь
идет о сознательных действиях и политике сил,
противостоящих социализму.
Возьмем другой вопрос. И в условиях социализма,
главным образом среди интеллигенции, существует
проблема взаимоотношений между поколениями. С
ликвидацией классовых антагонизмов, которые таким
образом не накладывают своего отпечатка на противоречия
между поколениями, данная проблема в принципе
теряет свою остроту.
Практика показала, что развитие рабочего
движения неизбежно сопровождается преемственностью
поколений, обеспечивающей благоприятную комбинацию
«опыта» и «порыва». В то же время подобное развитие
время от времени затрудняется стихийным
воздействием существующего при капитализме значительного
противоречия между поколениями, которое, с одной
стороны, служит для прикрытия классовой борьбы и
раздувается с помощью искусственных средств, а с другой
стороны, как раз и является реальным элементом
классовой борьбы. Здесь, в отличие от предыдущего
примера, развитие социализма в большей или меньшей
степени испытывает воздействие стихийных процессов. К
чему же это приводит, если эти стихийные явления
используются в определенных политических целях, а
нормальному урегулированию расхождений между
поколениями в условиях социализма препятствуют не только
стихийное развитие подобных противоречий в капитали-
154
стическом мире, но и сознательные действия вполне
определенных сил?
Очевидно, что это ведет лишь к обострению
противоречий. Р. Арон во второй части своей книги
«Борьба классов», в сущности, рассматривает перспективы
этих и подобных им проблем при социализме, причем
вовсе не руководствуясь при этом симпатиями к
последнему.
Политические направления, возникшие на основе
теории конвергенции, призваны обострить расхождения
во внутреннем развитии социалистических стран,
исходя из утопической надежды, что конвергенция двух
противоположных общественных систем приведет к
безраздельному господству идеализированного и
лишенного классовых противоречий капиталистического строя
в форме высокоразвитого индустриального общества.
Если, говоря о проявляющихся различиях в общих
чертах двух общественных систем, рассматривать их с
точки зрения влияния социалистического мира на
капитализм, то подобную взаимосвязь нельзя упускать из
виду именно в интересах дальнейшей реализации
возможностей такого влияния.
Теоретические типы дивергенции
и конвергенции.
Марксизм и «марксизирование»
Приведенный выше анализ проблемы, пусть далеко
не полный, позволяет сделать некоторые выводы о
борьбе марксистских общественных наук против
буржуазной идеологии. Ясные и единые выступления
необходимы не только против политического антикоммунизма,
то наращивающего свою агрессивность, то
выступающего более завуалированно, но и против философских
и методологических взглядов, которые лежат в основе
последнего и направлены против марксизма-ленинизма.
Подобные выступления необходимы не только там и
постольку, где и поскольку политические последствия
таких взглядов проявляются наиболее очевидно, но и
там, где они сохраняются на обычном теоретическом
уровне. При этом, разумеется, вовсе не следует в
любом случае приписывать сторонникам таких
теоретических взглядов политические выводы, которых сами они,
155
возможно, не делают. Думается, что не менее важно
квалифицированное и плодотворное внедрение
марксистских идей в самые различные области науки, чтобы
мы не останавливались на техническом анализе тех
•или иных проблем, идет ли речь о структуре общества
«ли общественных явлений, а шли дальше к их синтезу
>или по крайней мере поднимали проблему
возможности синтеза, отчетливо демонстрируя тем самым
новизну нашего подхода к этим вопросам.
Очевидно, что растущая эффективность пропаганды
наших достижений в области общественных наук
зависит от реальных успехов соответствующих
исследований. Важно учитывать, что для целей пропаганды
наших общественных отношений пригодны только такие
достижения в области общественных наук, в связи с
которыми развитие социалистического общества и
экономики, конкретные процессы нашей духовной жизни
рассматриваются с помощью научной методологии,
основанной на марксистско-ленинской теории. Круг
этих конкретных проблем необычайно широк, но
совершенно очевидно, что сюда входят вопросы
экономического планирования и механизма реализации планов,
классовых отношений в социалистическом обществе и
его классовой структуры, форм политической власти и
методов ее деятельности, соединения в рамках
общества групповых интересов, места личности, развития
искусства, и в особенности форм развития
социалистического искусства, и т. д. Эти проблемы привлекают
всеобщее внимание, что особенно характерно для
западноевропейской интеллигенции. Поскольку социализм
неотделим от современности и является ее
органической составной частью, поскольку он и
капиталистическая система, а также так называемый «третий мир»
взаимно влияют друг на друга, наши исследования
должны распространяться на экономические,
политические и духовные аспекты этого взаимодействия. Не
требует особого доказательства, что последняя группа
проблем чрезвычайно важна и с точки зрения нашего
внутреннего развития.
Наше критическое отношение к буржуазным
общественным наукам вовсе не означает, что мы можем
ограничиться их простым отрицанием. Мы должны
совершенствовать критический анализ общественных ня-
156
ук буржуазного мира, оказывающих влияние на
внутреннюю жизнь буржуазного общества, его экономику
и духовную сферу и в особенности на решения и
действия непосредственно связанных и соревнующихся с
нами капиталистических институтов. Ведь вполне
очевидно, что в дальнейшем нам все равно придется
столкнуться с адекватными или неадекватными
последствиями таких решений и действий в качестве важных
элементов общественно-экономических процессов. Точно
так же важны для нас связанные с этим планы и
представления, которые выступают в форме научных
теорий. Условия экономического соревнования,
политической и идеологической борьбы требуют марксистского
критического изучения и осмысления тактических и
стратегических решений противной стороны,
теоретических основ подобных решений, которые влияют на
реальные общественные процессы. Критическое
использование достижений отдельных буржуазных общественных
наук может быть плодотворным в сфере,
затрагивающей общественно-техническое разделение труда, т. е.
области техники как таковой, относящейся к сфере
действия технических наук. Так, уже Ленин уделял,
например, большое внимание системе Тейлора. Кроме того,
это относится к аналитическим и техническим
средствам общественно-научного познания (математическим
методам, эконометрии и т. д.), которые, будучи
подчинены марксистскому методу, могут способствовать
познанию конкретных проблем нашей действительности,
если мы не будем останавливаться на аналитической
стадии исследования, а будем видеть в них технические
средства, служащие для подготовки теоретического
синтеза.
Принципиально иное положение складывается в
отношении всеохватывающих теоретических обобщений,
идет ли речь о политической экономии или социологии,
о политических науках или о науках о государстве.
С упомянутыми выше проблемами, теориями мы
встречаемся в самых различных вариантах и аспектах
на международных конгрессах, в особенности на таких
встречах по проблемам философии, социологии,
эстетики, где проблемы философии и общественных наук
непосредственно сталкиваются с профессиональными
проблемами. Наши собеседники особенно предпочи-
157
тают в таких диалогах обращаться к темам, по
которым, как они полагают, у марксистов-ленинцев нет
ответа на соответствующие вопросы. Если же они сами
пытаются отвечать на эти вопросы, то дают
иррациональные возможности ответа, неизбежно диктуемые
соответствующей постановкой вопроса. Главной темой
диалога, организованного в апреле 1967 г. обществом
«Паулус», была проблема креационизма. Несмотря
на все многообразие всплывших в связи с этим теорий
(от понимания творения в духе католической церкви и
учения Бергсона до экзистенциалистских,
психоаналитических и кибернетических понятий и их интерпретации
отдельными участниками дискуссии, претендующей на
марксистское .истолкование), в ходе обсуждения со
всей очевидностью проявилась противоположность ир-
рационалистических взглядов и марксизма-ленинизма,
неизбежно возвращающего каждую проблему к ее
рациональному зерйу.
Конечно, можно говорить не только о влиянии
буржуазных взглядов и аргументации на отдельных
сторонников марксизма-ленинизма, но и о влиянии,
которое оказывает марксизм-ленинизм на буржуазные
взгляды. Говоря о результатах подобного взаимного
влияния, необходимо выделить по меньшей мере четыре
направления.
Во-первых, свободный от догматизма
марксизм-ленинизм, который действительно творчески развивает
теорию, применяя свой метод при комплексном
рассмотрении реальных и актуальных проблем. Он
использует разработанные бужуазной общественной мыслью
аналитические средства для целей марксистского
синтеза, что предполагает глубокую критику буржуазных
теорий и раскрытие классового и исторического
характера их идеологического содержания.
Во-вторых, такой «марксизм», который не может
быть признан полноценным, поскольку в силу
теоретических и идеологических уступок и отступлений от
подлинной критики для него характерна эклектичность.
Подобный эклектизм, как правило, связан с
недостаточным вниманием к тому вкладу, который был сделан
Левиным в развитие марксизма.
В качестве третьего направления следует упомянуть
так называемое «марксизирование», причем этот тер-
"ISR
мин употребляется здесь как herafHBhoe обозначение
существующего в наши дни течения. Речь идет не о
буржуазных представлениях в области общественного
знания (хотя границы здесь довольно относительны),
которые в рамках своих взглядов более или менее
эклектически используют отдельные теоретические
положения марксизма, например идеи Маркса
относительно общественного разделения труда, социальной
психологии или теории отражения. Подобное
использование может быть и результатом более или менее
искреннего интереса к марксизму-ленинизму или
приближения к нему. Здесь также идет речь не о простом
следовании моде. «Марксизирующая» литература
является специфическим продуктом нашей эпохи и
опирается на мирное сосуществование и идеологиче*
скую борьбу двух мировых систем, формой проявления
в области общественных наук литературы
двусмысленности (litterature de Tambiguite). Понятия,
применяемые в такой литературе, теории, развиваемые в ней,
имеют два или больше значений.
«Марксизирующая» литература полна
двусмысленности, что совершенно чуждо подлинному марксизму-
ленинизму. Марксистско-ленинская наука,
вырастающая из живой революционной практики, призвана
служить этой практике, действию. Понятия марксизма-
ленинизма однозначны. Однозначны и в том случае,
когда они развиваются, обогащаются, превращаются из
абстрактных в конкретные понятия, следуя за
изменениями реальной действительности. Если значение
какого-либо понятия изменяется, марксизм говорит об этом
прямо, как это сделал, например, Маркс в III томе
«Капитала» по отношению к значению понятия
«общественно необходимого труда», употребленного им в
I и II томах. С позиций этой диалектической
однозначности, которая способна учитывать сложность проблем,
двусмысленность «марксизирующей» литературы также
становится однозначной. Она отходит от марксизма-
ленинизма, хотя, возможно, еще близка к нему или
приближается к марксизму, упрямо держась на
расстоянии. И в том и в другом случае она жонглирует
диалектикой близости — отдаленности, имеет буржуазное,
мелкобуржуазное содержание. Однако эта
«диалектика» не диалектика развития, а барахтанье между про-
159
тиворечиями и противоположными полюсами, топтание
на месте вместо развития. Это такое движение, которое
не может привести к цели, поскольку ее достижение не
является целью движения. В политическом плане эта
литература противостоит марксистско-ленинскому
развитию революционного рабочего движения, может в
ряде случаев играть роль выдвинутого вперед авангарда
политического антикоммунизма.
Наконец, в-четвертых, необходимо упомянуть
буржуазные теории в области общественных наук, которые не
стремятся казаться марксистскими, но, отвечая на
проблемы современного мира, едины в том, что или
применяют ложное, псевдоисторическое понятие развития, или
же в конечном счете прямо противопоставляют себя
понятию развития.
Позитивное решение и негативную критику зачастую
резко разделяют, их задачи нередко трактуются со
ссылкой на позитивные цели идеологического
наступления марксизма-ленинизма таким образом, будто
позитивное изложение предлагаемых
марксизмом-ленинизмом решений делает в основном излишним их
критическое противопоставление соответствующим буржуазным
теориям. Нам представляется, что критика и решение
проблем тесно связаны между собой.
Материалистическая диалектика и в наши дни является как
критическим, так и революционным методом. Это относится и к
условиям социализма, но критика его только тогда
подлинно революционна, когда она направлена на
нормальное развитие социалистического общества на
собственной основе, указывает реальные решения и перспективы.
В марксизме критические элементы, с одной стороны,
никогда не были лишены позитивных сторон, на основе
которых и ведется критика; с другой стороны, критика
как раз и призвана путем постановки новых вопросов
способствовать новым позитивным решениям. Известно,
например, что Ленин в работе «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал-демократов?»
вскрывал противоречия, присущие взглядам народников,
показывал, насколько эти взгляды противоречат реальной
русской действительности того времени. Эта последняя
линия его критики стала исходным пунктом другой его
работы «Развитие капитализма в России», где во всей
глубине и широте он противопоставил взглядам народ-
160
нйков свою собственную позитивную теорию. Не
случайно основной труд Маркса «Капитал» имеет
подзаголовок «Критика политической экономии». И для
Маркса, и для Ленина критический анализ взглядов на
капитализм был средством для того, чтобы пробиться сквозь
чащу новых проблем.
Таким образом, ироническое замечание Гейне, что
ножницы критики непригодны для позитивного
творчества, является лишь полуправдой, ибо ножницы,
критикуя волосы, формируют прическу на голове. Если, напри-
мёр, марксистская критика утверждает, что Андре Горд
в работе «Рабочая стратегия и неокапитализм»
(«Strategic ouvriere et neocapitalisme») ставит проблемы
неокапитализма в абстрактном виде, не учитывая, что
присущие современному буржуазному обществу новые
явления не выходят за рамки империалистического
государственно-монополистического капитализма и точно
так же представляют собой «надстройку», только — в
наши дни — надстройку над
государственно-монополистическим империализмом, как империализм, согласно
ленинской критике бухаринской теории чистого
империализма, являлся «надстройкой» над капитализмом,—
если она утверждает, все это, из такого критического
подхода вытекает позитивная задача для самого
марксизма, задача изучения современной буржуазной
экономической действительности, сопоставления старых и
новых черт капитализма, определения соотношения между
ними, экстраполяции динамики теперешних отношений
на будущее развитие, разработки прогноза, который,
разумеется, может быть истинным с определенной долей
допущения.
Единство марксистских общественных наук.
Методологический плюрализм
и плюрализация методов марксизма
Проблема творческой критики связана с вопросом о
преемственности в теории марксизма-ленинизма. В
противовес скучному и бесплодному топтанию на месте,
характерному для догматизма, в сегодняшней
марксистской общественной науке уже пробил себе дорогу
интерес к живым проблемам современности. Однако при
этом — отчасти в силу зачарованности новыми возмож-
6 Ирибаджаков
161
ностями, открывающимися перед общественными
науками в результате использования новых средств, а
отчасти под влиянием буржуазной идеологии — нередко
забывают о том, что всякий анализ призван вести к синтезу,
что использование количественных методов в
значительной мере определяется теоретическим представлением о
качественной структуре общества, представлением,
которое сложилось у нас в результате предыдущего развития
марксизма-ленинизма. Таким образом, использование
количественных методов происходит на основе
теоретической концепции, которая должна учитываться и в том
случае, если исследование новых явлений видоизменяет
полученные до сих пор результаты теории, ведь новизна
этих явлений может быть выявлена лишь в
сопоставлении со старыми. Развитие теории осуществляется не
только посредством обоснования новых теорем, так или
иначе связанных со старыми, но и путем сужения или,
может быть, расширения сферы действия существующих
теорем. Использование существующих теоретических
концепций, например, в связи с проблемой
экономического кризиса, таким образом, вовсе не означает
применения шаблона, под который необходимо подогнать
«упирающиеся» факты, это означает разработку таких
концепций, с помощью которых возможно осуществить
синтез в качестве результата предшествующей
аналитической работы. Развитие теории само представляет собой
лишь отражение развития действительности.
Качественные изменения действительности, новые явления
подготавливаются такими количественными сдвигами,
новизна которых не является внезапной, неожиданной, она
вырастает из совокупности реальных условий и поэтому
на основании скрупулезного изучения этих условий
может быть с большей или меньшей точностью
предсказана заранее.
Применение и дальнейшее развитие марксистской
теории и метода в их внутренней диалектической
преемственности и сегодня предполагает точное следование
законам материалистической диалектики, учет в процессе
познания соотношения непрерывности и прерывности
развития, количественных изменений и качественных
скачков. В процессе познания диалектический подход
является подлинной гарантией диалектического
развития мышления и возможности практического использо-
162
вания его результатов. Если отсутствует это внутреннее
единство, единство развития прерывности и
непрерывности, то эклектическое мышление образует из
противоречивого единства реальных явлений аморфное
нагромождение лишенных единства противоречий, в котором,
как правило, смешиваются различные уровни реального
движения, например отдельные стороны явления и
сущности. К существенным закономерностям
предъявляется требование, что они должны непосредственно
объяснить каждое частное событие; на основе явления,
которое с помощью целого ряда опосредствующих моментов
в конечном счете связано с той или иной
закономерностью, делаются попытки без достаточных на то
оснований сделать выводы относительно новой
закономерности и т. д. Смешение различных уровней происходит и
в отношении процесса познания. Так, аналитическим
методам непосредственно приписываются возможности
синтеза, а от синтеза требуют того, что может дать
только анализ. Например, общество рассматривается в
качестве такой многомерной структуры, в которой
точки зрения отдельных слоев могут быть непосредственно
отождествлены с подлинной структурой общества, хотя
полученные в результате анализа целевые установки
отнюдь не допускают такого отождествления. Примеры
подобного рода можно приводить сколько угодно.
Наконец, смешение аналитического и синтетического уровней
познания само может смешиваться с онтологическим
уровнем, где онтологические моменты принимаются за
гносеологические, а гносеологические — за
онтологические. Подобное смешение гетерогенных проблем
образует, говоря словами Маркса, такую навозную кучу
противоречий, из которой можно извлечь
доказательства для чего угодно. Это хаотическое нагромождение
противоречий мы можем уверенно рассматривать в
качестве методологического плюрализма.
Методологический плюрализм, согласно идее
«протестантской этики» Макса Вебера, которая восходит к
Уильяму Джеймсу, стремится преодолеть мнимую
односторонность исторического идеализма и материализма
и извлечь из тотальности исторических взаимосвязей
материальные или духовные, а возможно, материально-
духовные и духовно-материальные, то есть в
гносеологическом смысле нейтральные, элементы, объясняющие
6*
163
те или иные явления. Поскольку, однако, в реальной
взаимозависимости элементов не усматривалось целое
как целое, это открывало дорогу для произвола
предоставляло свободу действий для интерпретатора,
который по мере необходимости пользовался упомянутой
выше навозной кучей противоречий в своих целях.
Признаем, что именно «марксизирующие» сторонники вебе-
ровской социологии, которые нередко рассматривают
методологический плюрализм в качестве современного
марксизма, делают это не без определенного успеха.
На современном сложной и высоко развитом уровне
борьбы между марксистско-ленинской и буржуазной
идеологиями методологический плюрализм является,
вероятно, наиболее важным препятствием на пути
творческого развития марксистско-ленинской теории и метода.
Методологический плюрализм не следует путать со
стремлениями наших идеологических противников к
«плюрализации» марксизма-ленинизма, он является
важным средством, теоретической основой последней.
Если отдельные элементы марксистско-ленинской
теории, этой богато артикулированной системы,
утрачивают свою функциональную роль и приобретают
самостоятельность по отношению ко всем остальным, то в этом
случае исчезает внутреннее единство
марксизма-ленинизма, которое является подлинной гарантией его
теоретического и практического значения, исчезает ленинское
требование познания явлений в их (всегда
относительной) тотальности. Исчезает всесторонность действия,
которая одна только позволяет дать подлинное
представление о реальных процессах развития и
практических потребностях, формируемых в ходе этих
процессов. Многочисленная армия «марксизирующих»
исследователей сегодня больше чем когда-либо стремится к
декомпозиции марксизма-ленинизма, к разобщению его
элементов, изоляции их друг от друга, в результате чего
сохраняются отдельные части, но отсутствует
внутренняя взаимосвязь между ними. Таким образом
становятся совершенно независимыми друг от друга
дисциплинами, скажем, история философии и общественная
онтология, противопоставляются друг другу исторический
материализм и политическая экономия, утверждается
отрицание друг друга диалектикой природы и
диалектикой общества и т. д. Таким образом создаются аргу-
164
менты против марксизма-ленинизма. Так, по
отношению к государству как ночному сторожу, относящемуся
к XX веку, признается правильным высказывание
Маркса, согласно которому экономический базис определяет
государственную надстройку, поскольку для того
периода было характерно отделение экономики от
государства при доминирующей роли первой и беспомощности
второго. Что же касается XX века, то признаваемое
марксистами-ленинцами существование
государственного капитализма якобы само по себе отменяет
положение Маркса, поскольку здесь происходит такое
взаимопроникновение государства и экономики, при котором,
дескать, лишь на основании методологического
плюрализма, то есть от ситуации к ситуации, можно
установить, что же в данном случае доминирует. Но ведь тот
факт, что между базисом и надстройкой может
существовать и более тесная, чем прежде, взаимосвязь, можно
не принимать во внимание только в том случае, если
отбросить диалектику. Именно поэтому в современной
борьбе с марксизмом-ленинизмом большую роль
играет отрицание диалектики.
«Плюрализация» марксизма-ленинизма означала бы
признание в его рамках направлений, противоречащих
друг другу и равноправных по отношению друг к другу.
Насколько очевидно сегодня, что одни и те же вопросы,
например проблему государственно-монополистического
капитализма или возрастания нормы прибыли, можно
рассматривать в разных аспектах или в одном и том же
аспекте, но с различным успехом, настолько же
бесспорно, что результаты исследований, равно как и
противостоящие друг другу концепции, не могут
рассматриваться в качестве конечного факта, поскольку дальнейшее
теоретическое осмысление и практика в конечном счете
покажут преимущество, более широкий характер одной
концепции по сравнению с другой. Ленину и даже Розе
Люксембург, Гильфердингу, занимавшимся теорией
империализма, просто не приходило в голову говорить о
плюрализации марксизма только на том основании, что
в их взглядах были существенные различия и
противоречия. Иное дело, что практика подтвердила
правильность именно ленинской теории в данном вопросе.
Гораздо проще обстоит дело, если подходы к какой-либо
проблеме отличаются друг от друга лишь с точки зре-
165
ния используемых аналитических методов, поскольку
в этом случае необходимое методическое
самоограничение (скажем, разработка определенных статистических
или экономико-статистических рядов в качестве
исходного материала для синтеза) уже само по себе ведет
к ограниченным результатам и свидетельствует о
необходимости дополнительных исследований с помощью
других методов, а также о необходимости
теоретического синтеза.
Если в буржуазной науке подобного рода
односторонность рассматривается в качестве создания новой
научной дисциплины, то есть абсолютизируется, то это
в значительной мере вытекает из конкурентной борьбы
и престижных соображений, присущих крупному
предприятию буржуазной науки. Таким образом,
современный марксизм, который не хочет отказываться от
изучения развития буржуазной науки и от влияния на
такое развитие, должен считаться в этой связи с двумя
трудностями. С одной стороны, упомянутая особенность
крупного предприятия буржуазной науки может
оказывать определенное влияние на развитие марксистских
общественных наук. С другой — такое стихийное
воздействие сочетается с сознательными стремлениями к
плюрализму, направленными на декомпозицию
марксизма. Внутреннее единство и диалектическая
взаимосвязь марксистских общественных наук, общность
философской, теоретической и методологической основы
в разрешении различных проблем, связанное с этим
расширение возможностей их сотрудничества и развитие
междисциплинарных связей, сознательная коррекция
односторонности, вытекающей из деления на научные
дисциплины и связанного с этим разделения труда,—
все это может создать наилучшие условия для изучения
и решения реальных проблем.
Буржуазная наука как крупное
предприятие и идеологическое лицо
ее потребителя
Выше уже говорилось о буржуазной науке как о
крупном предприятии и об отдельных специфических
моментах, связанных с такой ее характеристикой. Мы
видели также, что не только социалистические
общественные науки влияют на буржуазные, но происходит и
166
обратное воздействие, причем последнее, мягко говоря,
далеко не всегда положительно для социалистических
общественных наук. Здесь имеются в виду не только
идеологические аспекты данной проблемы, но и
аспекты, связанные с методами исследования,
классификацией изучаемых явлений и т. д. Наиболее развитое
научное предприятие современного буржуазного мира
создано в Соединенных Штатах. Используемые там формы
и методы влияют не тоЛько на Западную Европу. В
наши дни атмосфера, привычная для научной жизни
«старушки Европы», существенно изменилась.
Растущие связи с крупным буржуазным
предприятием от науки, которые, разумеется, во многих
отношениях подчинены не только научно-политическим, но и
общим политическим целям, как нам представляется,
требуют более глубокого знания такого предприятия и
с точки зрения определения научно-технической
целесообразности используемых им организационных форм,
методов работы институтов, и с точки зрения изучения
того, как все это подчиняется антагонистическому
развитию буржуазного общества, что здесь имеет
специфически буржуазный характер, как такая система
действует в условиях соприкосновения и идеологической
борьбы социалистической и капиталистической мировых
систем. Знание этих вопросов не только способствовало
бы косвенным путем пониманию специфики
социалистической науки, но и содействовало бы росту наших
возможностей по оказанию влияния на буржуазную науку.
Известно, что на различных международных
научных форумах прошлых лет, например на конференции
по истории экономики, получили высокую оценку
работы марксистских историков, в которых был проведен
многосторонний анализ фактов и использован
квалификационный и сравнительный метод. Их работы по
вопросам аграрного развития Восточной Европы,
промышленной революции, исторического пути экономического
развития капитализма, общественных основ нации были не
только признаны, но и частично использованы теми
буржуазными учеными, которые стремились в своих
исследованиях к объективности. Аналогичное положение
имеет место и в области других общественных наук.
В то же время, рассматривая положение в области
исторической науки, необходимо отметить, что нередко
167
приходится сталкиваться с открыто враждебными
взглядами антимарксистской пропаганды или с сознательным
разделением марксистских работ на то, что в них
признается реальным и обоснованным и что — нет, причем
в последнюю категорию, как правило, включается
изменение марксистской классовой теории развития
общества или признания исторических закономерностей.
Если мы будем связывать подобное поведение с его
институциональным фондом, политическими и
идеологическими целями империалистических кругов, мы
сможем лучше решать задачи по оказанию влияния с
нашей стороны и ведению необходимых дискуссий.
Подлинные результаты своей деятельности, наше
фактическое влияние мы также сможем правильно оценить
только в том случае, если не будем забывать о
стремлении наших противников к «размягчению»
социалистического мира. Разумеется, не случайно западногерманские
институты по изучению Восточной Европы, целью
которых (причем на протяжении значительного времени
неприкрытой целью) является открытая идеологическая
борьба против марксизма-ленинизма и науки
социалистических стран, в последнее время заметно изменили
характер своей деятельности и все чаще дополняют
резкие и зачастую очевидно антинаучные методы полемики
различными по оттенкам высказываниями,
признающими определенные успехи социалистической науки, не
скупятся на всевозможные оговорки. Все мы знакомы
с критическими высказываниями на Западе в
отношении наших собственных работ или работ наших коллег,
высказываниями, в которых результаты, достигнутые на
основе марксизма-ленинизма, рассматриваются с
помощью оборотов «тем не менее» («nevertheless») или
«однако» («however») лишь как проявление
способностей и уровня знаний авторов. В действительности же
из двух одинаково подготовленных и обладающих
одинаковыми способностями ученых только тот добьется
более значительных научных результатов, работа
которого имеет более высокую теоретическую и
методологическую базу.
Упомянутые обороты речи могут использоваться
нашими честными научными партнерами неосознанно, в
результате укоренившихся в сознании буржуазных
предубеждений. Подобный подход может быть в конеч-
168
ном счете ликвидирован с помощью сознательного
влияния ведущих ученых или институтов, путем
предложения таких статей или книг, в которых отсутствует
прямой упор на идеологические аспекты рассматриваемых
вопросов. Разумеется, это не исчерпывает проблемы,
поскольку мотивы интереса, проявляемого к
социалистической науке, чрезвычайно разнообразны — от
простого желания получить информацию до объективной
научной заинтересованности. Думается, что именно на
академические институты в области общественных наук
прежде всего ложится задача анализа
научно-идеологического лица важных для нас институтов, журналов,
научных направлений, конференций.
Для нас интересны не только крайние позиции, но
и оттенки и промежуточные точки зрения,
существующие на Западе. Очевидно, что официальной и
непосредственной задачей издаваемого радиостанцией
«Свободная Европа» журнала «East Europe» является
проведение политики «размягчения», что в большинстве
университетов и научных институтов США существует
множество групп, которые в духе политической линии
своего правительства занимаются тщательным изучением
как социалистических стран Восточной Европы, так и
Советского Союза. В то же время во Франции в стенах
Института экономических наук под руководством
профессора Перу ведутся аналогичные работы, авторы
которых руководствуются стремлениями к буржуазной
научной объективности. Установление контактов на
подобной основе могло бы способствовать не только
использованию отдельных приемлемых для нас
элементов буржуазной науки, но и преодолению фактических,
а не мнимых или сознательно приписываемых нам
нашими идеологическими противниками теоретических и
идеологических недостатков.
В ходе пропаганды результатов, достигнутых
марксистскими общественными науками, необходим
тщательный анализ целого ряда факторов. Прежде всего
необходимо проанализировать самые разнообразные
ситуации и условия среды, в которых мы хотим
распространять и популяризировать эти результаты. Можно
предположить, что соответствующие институты,
общественные слои или отдельные лица прежде всего
проявляют интерес к таким результатам, которые в той или
169
иной форме связаны со стоящими перед ними
нерешенными проблемами или с той обстановкой, в которой они
находятся. Поскольку мы живем в эпоху мирного
сосуществования государств с различным общественным
строем и идеологической борьбы двух систем, можно
ожидать с их стороны проявления интереса к
объективному и научному, а не пропагандистскому отражению
результатов социалистического развития. Кроме того,
необходимо учитывать, что средой, на которую
рассчитана информация об успехах наших общественных
наук, является прежде всего ведущая интеллигенция,
а точнее, ученые, исследователи, политические
деятели, а также в неменьшей степени представители
коммунистической и левой интеллигенции. Именно через эти
слои мы можем оказывать влияние на позицию
широких масс.
Ганс Бэйер
Германская Демократическая Республики
АНТИКОММУНИЗМ И МАССОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ
В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
Монополистический капитал затрачивает огромные
средства и использует колоссальный аппарат
современных массовых средств информации для обработки
общественного мнения в антикоммунистическом духе. Все
идеологические органы и формирующие общественное
мнение учреждения, которые находятся под контролем
монополистического капитала, поставлены на службу
антикоммунизму. Поэтому не удивительно, что многие
люди в капиталистических странах представляют себе
коммунизм в искаженной форме, так, как он
преподносится им антикоммунистической пропагандой. В
«Истории немецкого рабочего движения» отмечается, что
«антикоммунистическая пропаганда, ведущаяся десятки
лет, оставила глубокий след» также и «в
западногерманском рабочем движении. Постоянная клевета на
ГДР и ее социалистическое строительство привела к
трудно устранимой предубежденности среди многих
западно-германских рабочих» К
В буржуазной идеологической системе
антикоммунизм занимает особое место. Основное содержание
буржуазной идеологии сводится к тому, чтобы
завуалировать господство эксплуататорских классов и изобразить
капиталистическое общество в качестве всеобщего и
естественного строя. Различные течения и
разновидности буржуазной идеологии и соответствующие им
учреждения имеют своей задачей разрабатывать и
распространять идеи и руководящие принципы, с помощью
которых можно было бы завоевывать людей на сторону
буржуазного общества и активизировать их на
достижение целей монополистического капитала. Поэтому
1 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 8, Berlin, 1966,
171
апологеты капитализма постоянно стремятся, к
созданию новых теорий и руководящих принципов/
призванных замаскировать и приукрасить сущность
империалистического строя. i
Специфика функции антикоммунизма отнюдь не
заключается в том, чтобы создавать и распространять
«позитивные» идеи. Его задача — отрицать социализм
и бороться с мировым коммунистическим и рабочим
движением, антиимпериалистическими,
демократическими и миролюбивыми силами.. В капиталистических
странах функция антикоммунизма заключается прежде
всего в том, чтобы воздвигать идеологические барьеры на
пути продвижения идей марксизма-ленинизма. С
помощью антикоммунизма преследуется цель изоляции
рабочего класса как от социалистического движения в
своей стране, так и от международного
коммунистического движения и стран мировой социалистической
системы.
Антикоммунизм является идеологией, которая
только отрицает, искажает факты, прибегает ко лжи. Его
главное содержание в том, чтобы извратить
марксистско-ленинское учение, оклеветать социалистический
общественный строй, фальсифицировать политику и цели
коммунистов и травить демократические и
миролюбивые силы и организации.
Монополистическая буржуазия и ее идеологи,
естественно, сознают, что одной лишь идеологией
отрицания, только борьбой с коммунизмом нельзя завоевать
людей, не говоря уже о том, чтобы их воодушевить.
Для этого необходимы «позитивные» руководящие
идеи. Поэтому антикоммунизм всегда существует в
теснейшем взаимопереплетении с политическими,
философскими, религиозными и другими течениями
буржуазной идеологии. Он не является самостоятельным
течением или разновидностью буржуазной идеологии,
как, например, неотомизм или экзистенциализм.
Различные течения буржуазной идеологии имеют своей
задачей создавать «позитивные» руководящие идеи.
Создание же соответствующих негативных идей входит в
задачу антикоммунизма.
Антикоммунизм является важнейшим
идейно-политическим оружием империалистов против рабочего
движения и против прогресса. Вот почему представители ком-
172
мунисти^еских и рабочих партий на своем Совещании
в МосквА в ноябре 1960 года отмечали: «Успешная
защита интересов трудящихся, дело сохранения мира,
осуществление социалистических идеалов рабочего
класса требуют решительной борьбы против
антикоммунизма—^этого отравленного оружия, которое
буржуазия использует для отгораживания масс от
социализма» *. i
Действенность нашей борьбы с антикоммунизмом
повысится, если мы будем знать и учитывать
используемые им средства и методы. В этой связи важное
место занимает вопрос об использовании и
злоупотреблении со стороны антикоммунизма психологическими
средствами. При этом надо учитывать два момента:
антикоммунистическая массовая пропаганда опирается
как на ненаучную по своей сути империалистическую
массовую психологию, так и на научные выводы и
данные психологии. Злоупотребление психологическими
средствами — не специфика антикоммунистической
идеологии, а вообще основная черта империалистического
влияния на массы.
Основателем империалистической массовой
психологии является Густав Ле Бон. Взгляды на психологию
масс, развитые Ле Боном в конце прошлого века,
представляют собой непосредственную идейную реакцию
на революционные события во Франции, в особенности
на самостоятельное выступление рабочего класса в
революции 1848 года и во время Парижской Коммуны
1871 года. Сочинения Ле Бона, уже содержавшие ряд
антикоммунистических черт, отражают кризис
буржуазного сознания, страх перед самостоятельно
выступившим пролетариатом и являются попыткой с помощью
системы антинаучных психологических средств идейно
подавить народные массы и задержать процесс гибели
капиталистического общества. Согласно Ле Бону,
«знание психологии масс» является «сегодня для
государственного деятеля последним вспомогательным
средством» 2.
1 Программные документы борьбы за мир, демократию и
социализм, М., Госполитиздат, 1961, стр. 79. См. также: Referat Walter
Ulbrichts und Entschlieflung der 11. Tagung der ZK der SED, 15—17
Dezember, Berlin, S. 58.
2 1 e Bon, Psychologie der Massen, Stuttgart, 1953, S. 7.
173
Это утверждение Ле Бона действительно получило
широкое подтверждение в империалистических
государствах. Особенно характерно это было
продемонстрировано ведущими политиками ФРГ во время
избирательной кампании осенью 1965 года. Издатель газеты
«Рейнишер меркур», профессор, доктор Отто Рогеле в
статье «Избирательная борьба техников рекламы»
писал следующее: «В избирательных речах и/манифестах
большая политика, ее темы и проблемы все более
отступают на задний план. Они уступают место таким
темам и проблемам, которые заранее определенно
могут служить удовлетворению интереса слушателей.
Напрасно спрашивать, заметно ли здесь больше
следствие возрастающего влияния профессиональных
техников рекламы или же ораторы на основе собственного
опыта обращения с публикой пришли к тому, чтобы
приукрашивать трудные и сложные вопросы большого
злого мира...» 1
В основе империалистической массовой психологии
лежит боязнь буржуазных идеологов перед
поднимающимся и осознающим свою силу рабочим классом, а
отсюда вражда, которая находит свое выражение в
презрении, унижении и оскорблении народных масс.
По Ле Бону, «человек опускается на несколько
ступеней ниже в сравнении с руководителем культуры», если
он является «частицей массы». «В отдельности он был,
по-видимому, образованным индивидом, в массе же он
инстинктивное существо, следовательно, варвар»2. Так
называемый массовый человек изображается как вид
эмоционального, неразумного, рефлексирующего
существа, не могущего сопротивляться оказываемому на
него влиянию.
Империалистическая массовая психология, развитая
Ле Боном, злоупотребляет психологическими
средствами и противопоставляет эмоциональное
рациональному, делая при этом упор на эмоциональную сторону.
Современная антикоммунистическая массовая
пропаганда опирается на содержание и методы антинаучной
массовой психологии, на реакционные разновидности
фрейдизма, бихевиоризма и гештальт-психологии, но
1 «Rheinischer Merkur» (Koln), 10. September, 1965.
2 1 e Bon, Psychologie der Massen, S. 19.
174
она одновременно использует и научные результаты
психологии, злоупотребляя ими. Империалистическая
массовая Пропаганда исходит из «требования влиять не
на разумна на чувства человека, тем самым
идеологическое влияние все более заменяется психологическим
(в духе Фпейда)»1.
С психологией дело обстоит так же, как и с другими
научными дисциплинами; ее результаты могут быть
использованы как в интересах человечества и прогресса,
так и для подготовки и ведения войны
(психологической войны) i и в особенности в интересах
антикоммунизма. Поскольку психология имеет дело с
формированием человеческого сознания и методами, с помощью
которых можно воздействовать на человеческую
психику в избранном направлении, ее используют как
важный инструмент и ею злоупотребляют антикоммунисты.
В некоторых империалистических государствах создана
даже специальная «политическия психология». В
качестве актуальных проблем, которыми занимается
«политическая психология», Вальтер Якобсон (Гамбург),
в частности, называет: рекламно-психологические
проблемы в политической пропаганде (рациональное и
иррациональное, практика прямого и косвенного
влияния), проблема демагогии (виды и воздействие техники
политического соблазна, готовность поверить в
недостоверное), исследование идейно-политических методов
инфильтрации и их воздействие2.
С помощью психологии устанавливается, какие
методы и аргументы действуют на массы, какие идеи
особенно пригодны для оказания
антикоммунистического влияния. При этом империалистическая массовая
пропаганда опирается также на опыт
капиталистической рекламы, накопленный при сбыте автомашин,
пылесосов и т. д. На этом основан дифференцированный
подход антикоммунистической пропаганды, которая как
по форме, так и по выбору средств ориентируется на
соответствующие слои населения. Аргументация анти-
1 J. А г b a t о w, Die manipulierte offentliche Meinung, в: So-
wjetwissenschaft. Gesellschaftswissenschaftliche Beitrage, H. 6, Berlin,
1966, S. 584.
2 W. Jacobson, Was ist politische Psychologie?, в: Politische
Psychologie als Aufgabe unserer Zeit. Schriftenreihe: cPolitische
Psychologie», Bd. 1, Frankfurt a. M., 1963, S. 16.
175
коммунизма отличается высокой степенью
приспособляемости. Смотря по обстоятельствам и выбору/главного
направления, используются уклончивые и даже
противоположные, взаимоисключающие аргументы./
Односторонняя ориентация на эмоциональную
сторону человеческой личности и злоупотребление
психологическими средствами является выражением
идеологического кризиса империализма. Это результат того,
что антикоммунизм не способен противопоставить
коммунизму позитивное, так как не может/ выдержать
сравнения на объективном, научном уровнк и он не в
состоянии опровергнуть марксизм-ленинизм и не
признать экономиче.ские, политические и культурные успехи
социалистических государств.
Какую цель преследует антикоммунистическая
массовая пропаганда явно выраженной эмоциональной
ориентацией? Антикоммунизм представляет собой
идеологию, сеющую ненависть и отравляющую сознание. Его
цель — возбудить предубеждение, неразумную
эмоциональную антипатию к коммунизму, чтобы сделать
людей невосприимчивыми по отношению к объективным,
разумным и научным аргументам. Обращение к
эмоциональной стороне человека и злоупотребление
человеческими чувствами является основной чертой
империалистической массовой психологии. В своей работе
«Психология масс» Ле Бон заявляет: «При перечислении
факторов, способных возбудить человеческую душу, мы
могли бы обойти упоминанием разум, если бы не надо
было выявить негативную цену его влияния» К
Нацисты применяли империалистическую массовую
психологию во всех областях массовой работы и
пропаганды; им удалось эмоционально заразить
большинство немецкой молодежи в такой мере, что последняя
была широко изолирована от разумной аргументации.
Ныне антикоммунистические идеологи Западной
Германии опираются на империалистическую массовую
психологию и опыт нацистского времени. В дискуссиях с
западногерманскими гражданами мы часто говорим,
«не понимая друг друга», потому что они имеют более
или менее сильное предубеждение в отношении нашего
общественного строя, нашей политики и коммунизма
1 L е В о п, а. а. О., S. 93.
176
вообще. \ Эмоционально-негативная точка зрения на
коммунизм препятствует рациональному познанию.
Такая констатация подтверждается социологическим
исследованием на предмет «коммунистической
инфильтрации», проведенным в различных районах Рейнско-
Рурской области по заданию «Рабочего кружка
политической психологии и социологии»1. В результате
опроса установлено, что число лиц, обладающих
«минимально достаточными знаниями о коммунистической
системе, является относительно незначительным»2.
На примере ответов некоторых из опрошенных
относительно «соображений о возможных защитных
контрмерах» становится ясным, как возникает у многих
граждан ФРГ эмоционально-негативная
антикоммунистическая точка зрения.
Один высший чиновник заявил: «Люди глупы, надо
идти к ним с простыми примерами, которые понимает
даже рабочий... Будем называть все плохое
коммунистическим, тогда они поймут, что такое коммунизм»3.
«Наша задача, — высказался один деятель культуры
(!), — иммунизировать молодежь и широкие массы,
просветить их относительно коммунизма. Это означает,
что мы должны их тщательно заэкранировать, то есть
сделать так, чтобы они не пришли в соприкосновение
с коммунистами и коммунистическими лозунгами»4.
Аналогичным образом высказался также один
школьный советник: «Прежде всего мы должны
иммунизировать молодежь; мы должны сделать это своевременно,
поскольку молодежь падка на радикальные тенденции.
Самым лучшим было бы строго изолированное
воспитание и чтобы молодые люди удерживались от всех
коммунистических влияний... Надо вдолбить им, что
коммунизм опасен и не может быть средой для
благовоспитанного и образованного человека. И что надо
защищаться от любого соприкосновения с
коммунистическими мыслями»б.
1 Н. Wolf, Vorstellungen uber der Kommunismus, в: Politische
Psychologie als Aufgabe unserer Zeit. Schriftenreihe: «Politische
Psychologies, Bd. 1, Frankfurt a. M, 1963, S. 63 ff.
2 См. там же, стр. 83.
3 См. там же, стр. 74.
4 См. там же, стр. 78.
5 См. там же, стр. 78—79.
177
Симптоматичен также ответ одного функционера
ХДС: «Ваш вопрос об объективности вводит
в/заблуждение... Кто заранее ищет объективность, тот
замышляет нечто худшее. Подобными фразами хотот
разложить здоровое восприятие народа. Ради бо^а, мы не
должны «объективно» вести дискуссию с коммунизмом,
ведь мы работали бы ему на руку. Глупая *е масса не
понимает этого. Она бежит за любым дураком, если
он говорит об объективности. Коммунизм ^ке пытается
вломиться, пролезть через черный ход так| называемой
объективности, это было уж всегда так»1.
Эти высказывания не только говорят рб ужасающе
низком духовном уровне людей, по всей вероятности,
причисляемых к «духовной элите» ФРГ. Они
свидетельствуют прежде всего о том, что у них речь идет не о
предметном споре с коммунизмом или об
опровержении марксизма-ленинизма. «Разъяснение» у них
идентично с «экранированием» и «иммунизацией». У них
речь идет о выработке эмоционально-негативной
позиции в отношении марксистско-ленинского
мировоззрения и коммунистического движения.
Наличие подобной позиции у широких кругов
западногерманского населения надо обязательно
учитывать в дискуссиях с гражданами ФРГ. Конечно, наша
пропагандистская деятельность направлена в первую
очередь на выработку способности к политическому
мышлению. Но если при этом мы хотим достигнуть успеха,
то нельзя пренебрегать эмоциональной стороной
воспитательного процесса. Ленин писал, что «без
человеческих эмоций» никогда не бывало, нет и быть не может
человеческого искания истины»2. Мышление человека
всегда, хотя и в различной степени, окрашено
чувствами. В чувствах человек отражает свое отношение к
действительности, а оно может быть позитивным или
негативным. Эмоционально-позитивная установка полезно
действует на рациональное познание, в то время как
эмоционально-негативная установка тормозит
рациональное познание. Далее, мы должны учитывать, что
1 Н. W о 1 f, Vorstellungen... S. 79.
2 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 25, стр. 11?.
178
эмоционально-негативная установка может в большей
или меньшей степени сохраняться, если даже
собеседник разумом признает правильность
марксизма-ленинизма и всей нашей политики. Часто случается, что
человек перед лицом неопровержимых доказательств
вынужден согласиться с нашей точкой зрения. Но на
основе до конца не преодоленной
эмоционально-негативной устаковки подобные люди часто по истечении
некоторого времени вновь выступают со старыми
сомнениями и возражениями. Отсюда ясно, как необходимо
обращать внимание на эмоциональную установку
человека и упорно вести пропагандистскую работу.
Идеологи антикоммунизма чувствуют, что
капиталистическая система обречена на гибель, и, не обладая
прогрессивными, перспективными идеями, стараются
отравить сознание масс. Ложь превратилась в
основную аксиому антикоммунизма. Еще в 1914 году в своей
работе «Приемы борьбы буржуазной интеллигенции
против рабочих» Ленин писал: «Когда идейное влияние
буржуазии на рабочих падает, подрывается, слабеет,
буржуазия везде и всегда прибегала и будет прибегать
к самой отчаянной лжи и клевете» К
Теперь метод искажения и фальсификации
распространяется на всю область информации
западногерманских граждан о событиях и жизни в социалистических
странах. Известный западногерманский писатель Эрих
Куби пишет по этому поводу следующее: «Есть
различные приемы фальсификации информации.
Примитивнейший прием — это просто лгать. Поскольку и этот прием
используется у нас, то он касается преимущественно
информации о другом немецком государстве...
Политическая враждебность снижает содержание правды
даваемых сообщений до политического, в высшей степени
опасного минимума. Тонкие методы изменять
фактическое сводятся к тому, чтобы: утаивать сообщения;
важнейшие сообщения приводить кратко, менее важные —
пространно; некоторые сообщения излагать
определенным языком»2.
Естественно, ложь, слухи и фальсифицированные
сообщения прессы в большинстве случаев очень скоро
1 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 25, стр. 352.
2 Е. К u b у, Die Massenmedien der Meinungsmache, в: Bestand-
saufnahme, Munchen — Wien — Basel, 1962, S. 380 f.
179
гибнут, что, несомненно, способствует разоблачению
антикоммунизма. Но антикоммунизм не без бснования
рассчитывает на то, что желаемое эмоциональное
воздействие останется, если даже сообщение
опровергается, так как постоянным повторением полуавтоматически
вызывается психологическая реакция. В 1/917 году в
статье «Союз лжи» Ленин писал в газете «Правда»:
«Один прием буржуазной печати всегда и йо всех
странах оказывается наиболее ходким «безошибочно»
действительным. Лги, шуми, кричи, повторяй ложь — «что-
нибудь останется»... Вы боитесь именно правды. Вы
лжете, чтобы замять погромами, клеветой, насилием,
грязью возможность разъяснения правды»1.
Родоначальник империалистической массовой
психологии Ле Бон пытался этот прием повторения
лживых утверждений обосновать так: «Чистое, простое
утверждение без обоснования и всяких доказательств
является верным средством, чтобы заронить идею в
душу масс. Чем определеннее утверждение, чем
свободнее оно от доказательств и подтверждений, тем
большее уважение оно будит... Государственные мужи,
призванные заниматься политикой, промышленники,
сбывающие свои изделия и рекламу, знают цену
утверждению. Но утверждение только тогда оказывает
действенное влияние, когда оно постоянно повторяется и,
по возможности, в одних и тех же выражениях...
Повторяемое в конечном итоге прочно оседает в глубинных
сферах подсознательного... Если мы ежедневно в одной
и той же газете читаем, что А является-де отъявленным
подлецом, а Б — человеком чести, то в конце концов
нас в этом убеждают... Если утверждение повторяется
достаточно часто и однозначно, как это имеет место в
известных финансовых операциях, сбивающих любую
конкуренцию, то образуется так называемый поток
мнений (courant cTopinion) и присоединяется мощный
механизм заражения»2.
К методам антикоммунистической травли относится
также клевета на инакомыслящих и поношение их
различными оскорбительными выражениями.
Характерный пример клеветы и поругания показал
1 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 31, стр. 217, 219.
2 L е В о п, а. а. О., S. 104 f.
180
Людвиг Эрхард во время избирательной кампании в
Западной Германии в 1965 году. Западногерманских
писателей он обзывал «пинчерами», «бездарностями»,
«ничтожествами». Эти оскорбительные выражения Эр-
харда— не риторический выверт, они рассчитаны на
психологию союза майеров и на мещанскую
враждебность широких кругов западногерманского населения.
Гамбургская еженедельная газета «Ди цайт» писала по
этому поводу: «Ругательства в адрес некоторых
интеллигентов ему не вредили; напротив, он (Эрхард.—Г. Б.)
точно выразил то, что думает масса избирателей» К
Аналогичные высказывания против ученых и писателей
употребляли нацистские вожаки, разговаривая с
молодежью или штурмовиками.
У антикоммунизма речь идет прежде всего о том,
чтобы «подстрекнуть» чувства масс, ибо значительно
легче и проще возбудить страх и ненависть, чем вести
объективный спор с коммунизмом. Вся гнусная
пропаганда против социалистических стран, клевета на
социалистический общественный строй и провокации
призваны возбудить страх, ненависть и
антикоммунистическую истерию. Для создания среди населения
погромных настроений, антикоммунистической ненависти
используются также самые злостные провокации. История
в этом отношении очень богата примерами. Когда в
1878 году Бисмарк провел закон о социалистах,
покушение анархиста Нобилинга на кайзера было
использовано для создания погромного настроения против
рабочего движения. В провокации с поджогом рейхстага в
1933 году немецкие фашисты видели средство упрочения
своей тогда еще неустойчивой диктатуры, оправдания
зверских действий против рабочего движения и
ликвидации последних остатков буржуазной демократии; но
прежде всего также для того, чтобы в широких
масштабах оказать влияние в антикоммунистическом духе на
ожидавшиеся тогда выборы. Инсценированное
эсэсовцами нападение на радиостанцию в Глейвице в 1939
году было использовано как повод для вторжения в
Польшу.
Телевидение и радио дают возможность аппарату
антикоммунистической пропаганды «подстрекнуть» чув-
1 «Die Zeit» (Hamburg), 27. August, 1965.
181
ства широких масс в течение нескольких часов и раз*
жечь дикую антикоммунистическую истерию.
К методам антикоммунистической пропаганды
относится прием извращения фактов, причем никакая ложь
не является слишком большой, чтобы не быть
распространенной. Уже Ле Бон пытался этот прием
извращения фактов обосновать психологически. Буржуазным
кандидатам он давал советы, как они должны вести
себя перед массами избирателей. При этом он, в
частности, писал: «Претендента-противника... надо пытаться
уничтожить, утверждая, повторяя, что он-де злейший
подлец, о котором, мол, каждый знает, что он совершил
какие-то преступления. Само собой разумеется, не надо
что-то приводить, похожее на доказательство. Если
противник плохо знает психологию масс, то он попытается
оправдаться доказательствами, вместо того чтобы на
клеветнические утверждения просто ответить такими
же клеветническими, и тогда уж он не будет иметь
перспектив на победу» К
Эти советы Ле Бона антикоммунисты полностью
усвоили и используют при каждом случае. Определенные
круги Западной Германии вовсе не думают о том,
чтобы прекратить распространение невероятной лжи и
клеветы. Напротив, политический бандитизм в образе
антикоммунистических эмигрантских и реваншистских
организаций систематически взращивается в этом
государстве.
В Западной Германии антикоммунизм в настоящее
время представляет собой главное препятствие в
борьбе народа против империализма и милитаризма.
Поэтому борьба против антикоммунизма является
важнейшей задачей нашей идеологической борьбы. При этом
следует различать, идет ли речь об
антикоммунистических предубеждениях, о единичных
антикоммунистических выпадах, или же о целеустремленной,
организованной, систематической деятельности против коммунизма,
против демократии и прогресса. Людей, имеющих
предубеждение против коммунизма и временно введенных
в заблуждение антикоммунистической идеологией, мы
должны отвоевать осторожной, терпеливой работой.
Они должны чувствовать, что мы всегда готовы вести
1 Le Bon,a.a. О., S. 1952.
182
с ними дискуссию на объективной, научной основе, что
мы не боимся каверзных вопросов или разногласий, а
приветствуем любую деловую дискуссию. Напротив,
организованный антикоммунизм мы должны
разоблачать как главное безумие нашего века и как
преступную идеологию развязывания атомной войны, вызывать
против него чувство отвращения и справедливой
ненависти.
Гюнтер Розе
Германская Демократическая Республика
ГЕНЕЗИС, ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И КОМПОНЕНТЫ
„ГИБКОЙ11 ЭКСПАНСИОНИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ
В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ЕВРОПЫ
1. Тактическая эволюция агрессивно-
реваншистской стратегии
в период 1961 — 1966 годов
13 августа 1961 года стал очевидным провал
политики Аденауэра, той самой политики фронтальной
атаки, которая после раскола Германии, создания
сепаратного западногерманского государства и его интеграции
в капиталистическую Западную Европу была
нацелена на аннексию ГДР и ревизию итогов второй
мировой войны.
Эта политика базировалась на доктрине
правительства Эйзенхауэра — Даллеса и именовалась
концепцией отбрасывания. С начала 50-х годов насильственная
ликвидация социалистического строя была главной
заветной целью американской внешней политики.
Основная суть концепции заключалась в том, чтобы
«отбросить» социализм путем экономической войны,
дипломатического давления, атомного шантажа и развязывания
термоядерной войны. «Отбрасывание» и
«освобождение»— таковы были лозунги, провозглашенные в
1952 году Джоном Фостером Даллесом,
государственным секретарем в правительстве Эйзенхауэра. Эта
политика была призвана заменить проводившуюся
правительством Трумэна стратегию сдерживания, которую
Фостер Даллес называл «стерильной и статичной».
В избирательной программе республиканцев 1952 года
в категорической форме обещалось покончить с
«негативной, бесплодной и аморальной политикой
сдерживания» и добиться победы в холодной войне1.
1 Z. Himmel und Wall street, Ost-Politik im Nebel, в:
«Der Spiegel», Hamburg, № 49 vom 2.12.1953, S. 23; далее: W. С о г-
n i d e s, «New Deal» — «New Look» — «New Frontier», Zum Regie-
rungswechsel im den Vereinigten Staaten, в: «Europa-Archiv», 16.
Jahrg., Folge 8 vom 25.4.1961, S. 181 ff.
184
Западногерманские империалисты спекулировали на
этом. В русле такой политики они стремились путем
экономического и политического давления и путем
организации путчей, комбинируемых с «внутригерманскими
полицейскими акциями», сначала насильственно
присоединить ГДР, а затем осуществить далеко идущие
реваншистские планы в отношении Польской Народной
Республики и Чехословацкой Социалистической
Республики. Их цель состояла в том, чтобы вторгнуться в
Восточную и Юго-Восточную Европу — когда-то
«традиционные», правда, безвозвратно утерянные области
экспансии германского империализма.
Цель-максимум заключалась в том, чтобы
ликвидировать территориальные, общественные и политические
изменения в Европе после второй мировой войны. Под
западногерманским руководством оголтелые
реваншисты мечтали расширить сферу господства НАТО вплоть
до Урала.
Этому стратегическому плану соответствовал
упорный отказ от установления отношений с
социалистическими странами даже в пределах дипломатического
признания. Последнее опять-таки ставилось в зависимость
от ревизии существующих границ и отказа от
социализма. Так, например, бывший президент бундестага Гер-
стенмайер в 1957 году заявил, что-де самая большая
трудность, противостоящая отношениям Западной
Германии с Польшей, заключается в том, что последняя
представляет собой коммунистическую страну и
продолжает существовать «проблема Одера — Нейсе»1.
Министр Зеебом еще в 1961 году требовал: «Домой в
Судеты без чехов и коммунистов!»2 Дважды (в 1957 году
против Социалистической Федеративной Республики
Югославии и в 1961 году против Республики Куба)
Бонн, следуя доктрине Хальштейна, применил так
называемый «эффект штрафа» и порвал дипломатические
отношения с этими странами, после того как они
установили дипломатические отношения с ГДР.
Боннское правительство в основном тогда исходило
из ожидания полной капитуляции восточноевропейских
социалистических республик перед его требованиями.
Иллюзорная надежда на развал социалистического
» «Telegraf», (West-) Berlin, 5.2.1957.
2 «Der Tagesspiegel», (West-) Berlin, 17.5.1961.
185
^трЬя и спекуляции на победе контрреволюции
составляли почти в течение пятнадцати лет максимум
боннской политики в отношении ГДР и социалистических
стран Восточной Европы. Бывший посол Федеративной
республики в США и ведущий теоретик в области
западногерманской внешней политики Вильгельм Греве
резюмировал тогдашнюю политическую концепцию
Бонна в отношении Востока следующим образом: «Кроме
этого, прибавлялось соображение о чистейшей утопии
того, что якобы дипломатия Федеративной республики
может изменить нечто существенное в структуре
восточного блока и политической конъюнктуре Восточной
Европы»1. Этой концепции соответствовали приступы
бешеной злобы и неприкрытой ненависти в отношении
народов Восточной Европы, примером которых может
быть названа пресловутая речь бывшего министра
иностранных дел Генриха фон Брентано 10.7.1955 года в
Аугсбурге по случаю тысячелетия битвы у Лихфельда.
Брентано, в частности, заявил: «Фактически проблемы
тысячелетней давности имеют ясно выраженную
параллель с теми проблемами, которые нас вновь осаждают
на Западе... Тогда перед воротами Запада, перед
воротами этого города стояли языческие толпы Востока,
угрожая развращением и гибелью. Теперь массы
Востока вновь стоят не в очень большом удалении от этого
города, и мы вновь смотрим в глаза опасности, считая,
что Запад будет смят и может стать их добычей. Ныне
опасность является, в известном отношении, еще более
грозной, чем тогда. Теперь это не разобщенные орды
кочевяиков, с которыми мы имели дело, а хорошо
организованный блок, по величине равный континенту. Нам
противостоит не как в то время невооруженное язычество
диких племен, а новое язычество, с которым мы теперь
должны считаться, это — язычество мирового
фанатизма...»2.
Тактика выжидания
Коренные изменения в соотношении сил между
капитализмом и социализмом сорвали политику «отбра-
1 W. G г е w e, Deutsche Aufienpolitik der Nachkriegszeit,
Stuttgart, 1960, S. 153.
2 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie-
rung, Bonn, 14.7.1955.
186
сывания» в конце 50-х годов. 13 августа 1951 года были
окончательно похоронены боннские планы отбросить
ГДР прямым наскоком. Поражение боннской
захватнической политики ввергло боннское государство в
затяжной кризис внутренней и внешней политики. На
выборах в бундестаг в 1961 году ХДС/ХСС потеряли свое
абсолютное большинство в парламенте. Главные
инспираторы провалившейся политики вынуждены были
уйти: в 1962 году — министр иностранных дел фон Брен-
тано и военный министр Штраус, в октябре 1963 года
после упорного сопротивления также и Конрад
Аденауэр— глава правительства с 1949 года. Во
внешнеполитическом отношении боннское правительство временно
попало в известную изоляцию. Вскоре после сооружения
антифашистского защитного вала оно безуспешно
пыталось побудить своих партнеров по НАТО к действиям
против государственной границы ГДР. Как следует из
преднамеренной болтовни журналиста ХДС Пауля
Вильгельма Венгера по западногерманскому
телевидению 26.7.1964 г., западногерманские генералы 16.8.1961г.
ходатайствовали перед Пентагоном о том, чтобы
побудить США «протаранить стену» К Отказ администрации
Кеннеди поддержать фронтальную атаку Бонна против
ГДР явился в конце 1S62 года существенным пунктом
разногласий между Бонном и |Вашингтоном.
Разочарование боннских стратегов фронтальной атаки в позиции
США и других партнеров по НАТО привело в
Западной Германии весной и летом 1952 года к образованию
первой волны национализма.
В этой ситуации внутреннего и внешнеполитического
кризиса, после того как провалилась попытка втянуть
западные державы в аферу вооруженной поддержки
боннской внешней политики и когда различные
внутриполитические силы было также невозможно удерживать
в одной упряжке, боннское правительство перешло
поначалу к тактике выжидания. Эта тактика должна
была обеспечить решение трех задач.
1 26.7.1964 Венгер заявил по западногерманскому телевидению:
«Хонзингер сказал мне, что три дня спустя после постройки стены
он вместе с друзьями—генералами Пентагона—давил на Белый дом,
чтобы протаранить стену. Я сообщаю вам об этом официально».
Цитируется по «Нойес Дойчланд» (Берлинское издание), 27.7.1964.
187
1. Перехватить дискуссию, относящуюся к
возможным альтернативным решениям, воспрепятствовать
развитию истинных альтернатив, касающихся в особенности
боннского отказа от притязания на единоличное
представительство и признания границ, возникших в
результате второй мировой войны.
2. Выиграть время и приспособить методы боннской
политики к внешнеполитической тактике западных
держав.
3. Стабилизировать в известных пределах
отношения с западными державами.
Эта тактика соответствовала провозглашенной
тогдашним руководителем штаба планирования в
государственном департаменте У. Ростоу концепции о
наступлении так называемой «всемирно-исторической
паузы». Этот отрезок времени Ростоу характеризовал как
«чередование приливов и отливов в истории
человечества» и как «полюс второй половины нашего столетия»,
который-де может открыть «силам плюрализма и
свободы путь к победе в условиях мира», если, мол,
«свободный мир» использует свои шансы» 1.
При всем этом господствующие круги Бонна вовсе
не думали отказываться хотя бы на йоту от своей
агрессивной и реваншистской программы. О намерениях,
преследовавшихся тактикой выжидания, в 1962 году
писал председатель внешнеполитической комиссии
фракции ХДС/ХСС в бундестаге Эрнст Майоника в статье
«Неиллюзорная (!) германская политика»: «Никто не
знает, как пойдет политическое развитие в мире... Что
может и должно быть сделано — это позволит казаться
ему все еще открытой проблемой и ничего с нашей
стороны не предпринимать, что усложняет немецкое
единство или окончательно ему препятствует. (По мнению
Майоника, это наступило бы путем отказа от притязаний
Бонна на единоличное представительство. — Г. Р.)
1 W. W. R os tow, Wirtschaft und Technik in der Gestaltung
der Weltpolitik. Aufgaben der Vereinigten Staaten in der Welt von
morgen, в: «Europa-Archiv», 19. Jg., 6. Folge vom 25.3.1964, S. 187 f.
und 192. См. также: W. W. R о s t о w, Die Rolle Deutschlands in
der Weltpolitik. Vortrag an der Universitat Dayton; в: «Aus Politik
und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung «Das Parlamenb, № 42
vom 16.10.1963.
188
С другой стороны, мы должны усилить Федеративную
республику, с тем чтобы она могла при более
благоприятных политических условиях в мире осуществлять свое
влияние» К Иллюзорные надежды на изменение
соотношения сил в пользу империализма играли у боннского
правительства роль алиби для продолжения его
агрессивной политики. Эта политика соответствует той самой
традиционной линии упрямого игнорирования
соотношения сил, которая с давних времен является
отличительной чертой германского империализма. В период 1961 —
1966 годов империалистическая буржуазия Западной
Германии совершила — не без ожесточенной борьбы
фракций—тактический поворот с той целью, чтобы с
помощью «более гибких» методов добиться большей
действенности боннской реваншистской политики
Фракционная борьба
внутри ХДС/ХСС вокруг
восточной политики
Впервые импульсы в пользу более эластичной
внешнеполитической тактики внутри ХДС/ХСС начали
исходить с- 1962—1963 годов от тогдашнего министра
иностранных дел Шредера, однако поначалу они
натолкнулись на ожесточенное сопротивление
группировки Аденауэра, Штрауга и фон Гуттенберга2.
Концепция Шредера преследовала цель
дифференцированными методами воздействовать на социалистические
страны Восточной Европы, ослабить связи между ними, в
особенности связи с Советским Союзом, и в итоге
расколоть социалистическую систему, чтобы добиться их
экономической зависимости и идеологически разложить
соцалистический строй. Тем самым должны были быть
1 Е. М a j о n i с a, Illusionslose Deutschlandpolitik, в: Berlin und
keine Illusion, 13 Beitrage zur Deutschlandpoditik, Hamburg, 1962,
S. 37.
2 Так, председатель ХДС. Ф-И. Штраус ожесточенно нападал
на Шредера, когда последний развивал свою концепцию «гибкой»
боннской восточной политики в евангелическом Рабочем кружке
ХДС/ХСС в апреле 1964 г. См.: G. Kegel, Revanchepolitik auf
Gummisohlen, в: «Neues Deutschland» (В), vom 18.4.1964. На
партийном съезде ХСС в июле 1964 г. дело также дошло до
ожесточенной фракционной борьбы по вопросу о немецкой и
восточноевропейской политике Бонна. См. по этому поводу: Was hilft der Wie-
dervereinigung? в: Suddeutsche Zeitung, Muncnen, 13.7.1964.
189
созданы предпосылки постепенного отрыва
социалистических стран от социалистического содружества народов,
для реставрации капитализма и их присоединения к
капиталистической объединенной Западной Европе. В
этой концепции изоляция ГДР занимает первое место
в боннской программе. Это намерение недвусмысленно
проявлялось в политике правительства Кизингера —
Штрауса. Боннскую восточную политику следует в
первую очередь рассматривать как инструмент
насильственного захвата ГДР.
При этом речь идет о «соотношении средств и
целей, то есть о подчинении восточной политики так
называемой политике воссоединения в смысле
использования ее для достижения целей германской
политики» х.
Это соотношение многократно было
сформулировано правительством официально. Гак, в
правительственном заявлении бывшего федерального канцлера Эрха-
рда от 10 ноября 1965 года говорилось, что
«воссоединение Германии — главная цель внешней политики»2.
В августе 1956 года Шредер заявил, что-де для ФРГ
«внешняя политика» является «в конечном счете
политикой воссоединения»3.
Для достижения этой цели уже правительство Эр-
харда в определенной степени стремилось к
официальным и неофициальным контактам в пределах
дипломатического признания, что должно было обеспечить
возможность для экономической экспансии, для
оказания идеологического влияния и для дипломатических
маневров без отказа от реваншистских требований и
отмены доктрины Хальштейна 4.
Основная концепция западногерманского
империализма осталась, таким образом, неизменной, только
методы и тактика в определенной степени
приспосабливались к изменившимся условиям. Тем самым
правительство Эрхарда одновременно преследовало цель
1 Н. Kroger *Neue» Ostpolitik in Bonn? Berlin, 1967, S. 13.
2 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie-
rung, № 179. vom 11.11.1966.
3 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie-
rung, № 109 vom 19.8.1966.
4 Этой цели служило также учреждение торговых миссий ФРГ
в Бухаресте, Будапеште, Софии и Варшаве.
190
согласования с восточноевропейской политикой США и
преодоления своей временной и относительной
внешнеполитической изоляции. «Гибкую»
восточноевропейскую политику Бонна можно определить как негодную
попытку подвести под общий знаменатель
великодержавную политику, реваншизм и «гибкость». Она
поэтому равнозначна попытке решить квадратуру круга, а
посему обречена на провал пока Бонн упорно
настаивает на реваншистских территориальных требованиях,
притязаниях на единоличное представительство и
право распоряжаться ядерным оружием. В этом
заключалась одна из причин ее неуспеха, явившегося
существенным элементом боннского правительственного
кризиса осенью 1966 года. Другая причина заключалась в
сопротивлении Шредеру внутриполитической фронды.
Группировка Аденауэра, Штрауса и фон Гуттенберга
тогда отрицательно оценивала шансы на успех этой
политики и опасалась, что «гибкая» восточная
политика приведет к постепенной эрозии доктрины Халь-
штейна и к постепенному отказу от притязаний на
единоличное представительство Бонна.
Повивальные бабки «новой»
восточной политики Бонна
В то время как Шредер подвергался нападкам со
стороны части своих партийный коллег и ему во время
канцлерства Эрхарда неоднократно угрожала
отставка, он получал возрастающую поддержку от социал-
демократических вождей. Именно
социал-демократические вожди к тому времени разработали в виде
концепции «перемена через сближение» программу для
боннской политики в отношении ГДР и
социалистических стран Восточной Европы, которая в значительной
мере согласовывалась с линией Шредера. При этом
социал-демократические и христианско-демократические
сторонники «гибкой» экспансионистской политики
Бонна могли, пожалуй, сослаться на определенные исто-
рико-политические концепции и прогнозы,
разработанные ведущими империалистическими идеологами
Западной Германии уже в 50-х годах.
В отличие от официальных боннских политиков у
последних, очевидно, уже раньше возникло сомнение в
191
возможности успеха фронтальной атаки. Так, тюбинг-
ский историк Ганс Ротфельс в докладе «Исторический
взгляд на проблему реальной политики» в 1955 г.
характеризовал «использование всех дипломатических
возможностей» и «надежду на притягательную силу
западных институтов и идей» как нереализованные
возможности в германском вопросе. Из этого он делал
вывод: «Насилие над фактическим может возникнуть
скорее всего изнутри» К В последующие годы Ротфельс
неоднократно развивал свои взгляды на
империалистическое воссоединение Германии на пути изоляции ГДР
и империалистического «преобразования» Восточной
Европы2. В 1958 году гейдельбергский историк Вернер
Конце в своем сочинении «Историческое сознание и
воссоединение» охарактеризовал как иллюзию широко
распространенную среди боннских политиков надежду,
что «Советский Союз на основе каких-то переговоров,
проектов, планов, откупной цены мог бы согласиться
оставить свою немецкую зону»3.
Уже в этих высказываниях можно уловить
определенный критический элемент в отношении
официальных боннских иллюзий и доктрин, таких, как
спекуляции на удушении ГДР в экономической войне, так
называемой теории откупной цены или крайне натянутой
надежды на отождествление политики Бонна с
политикой западных держав. Однако ни Ротфельс, ни Конце
(так же как и другие ведущие идеологи
империализма) не сделали из этого вывода об отказе от
реваншистской концепции боннской политики и нормализации
отношений между обоими немецкими государствами.
Более того, в последующем, на основе своей довольно
реалистической оценки политической ситуации в мире
и соотношения сил, они выдвинули предложения на
практической переориентации экспансионистской
политики Бонна. При этом они исходили из иллюзорного
ожидания «трансформации» социалистического обще-
1 Н. Rothfels, Zeitgeschichtliche Betrachtungen, Vortrage und
Aufsatze, Gottingen 1959, S. 197.
2 Vgl. dazu G. L о z e k/H. S у г b e, Geschichtsschreibung contra
Geschichte, Berlin, 1964, S. 172 ff.
3 W. С о n z e, Geschichtsbewufitsein und Wiedervereinigung, в:
Aufienpolitik, Stuttgart, H. 9/1958, S. 552.
192
ства и спекуляций на расколе и разложении
содружества социалистических стран.
Гак, уже в 1959 году Конце выступил с законченной
программой «трансформации» ГДР в духе теории
конвергенции. В своей речи 17 июня 1959 года в
боннском бундестаге он заявлял: «Не одни немцы, но
вообще люди по обе стороны железного занавеса
намного ближе друг к другу по своему опыту, желаниям и
взглядам, чем позволяют нам в это поверить барьеры
идеологической путаницы. Все они приводятся в
действие законом движения индустриально-экономического
роста и стремятся к модернизации своих социальных
условий... Сближение людей в условиях образа жизни
нашей эпохи по обе стороны границы между блоками
не может на длительное время оставаться без
политических последствий» К Поэтому Конце рекомендовал
боннскому правительству «сдерживать нервы и уметь
ждать», а перед боннской политикой поставил задачу
«все сделать, чтобы...» помочь осуществить «разрядку,
деидеологизацию и демилитаризацию» огромных
политических «блоков», без иллюзий и не проявляя
нетерпения. Именно это рекомендовал Конце, а не
окончание политики неприкрытой вражды в отношении ГДР 2.
Пропагандировавшаяся господином Конце
долгосрочная стратегия с целью подрыва стратегической
позиции ГДР как форпоста социализма в Европе с
начала 60-х годов получила два новых акцента:
требование «активизации контактов с народами Восточной
Европы» и обращение к национальной демагогии как
идеологическому оружию против консолидации
социалистического сознания населения ГДР. Новые
сочинения Конце и его учеников о понятии нации и рабочем
движении в национальном движении, а также его
прямое выступление за «гибкую» политику Бонна в
отношении ГДР и социалистических государств Восточной
Европы носят концептуальный характер3. Они явля-
1 W. С о n z e, Nerven behalten und warten konnen. Rede an-
lafilich des Nationalfeiertages am 17.6.1959 im Bundestag, в:
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, № 108
vom 20.6.1959, S. 1076 f.
2 Там же, стр. 1080.
8 Это ясно оказывается в родстве с концепцией сперемена через
сближение». Так, один из ее популяризаторов, Петер Бендер, в сво-
7 Ирнбаджаков
193
лись составной частью идеологической подготовки
«большой коалиции», формирование которой он
комментировал на ежегодном совещании куратория
«Неделимая Германия», проходившем в Западном
Берлине в период с 9 по 11 декабря 1966 года в ожидании,
что Бонн «наконец-то усилится» и будет проводить
«немецкую политику предпочтительно немецкому
воссоединению» !.
Решающее значение в осуществлении «гибкой»
тактики боннской экспансионистской политики имела
внешнеполитическая концепция, разработанная в 1962—
1963 годах в виде формулы «перемена через
сближение»2. Эта концепция была подхвачена и
пропагандировалась сначала некоторыми ведущими печатными
органами крупной буржуазии, прежде всего
гамбургской еженедельной газетой «Ди цайт» и «Шпигелем».
Затем она получила одобрение в руководящих кругах
ХДС. Так, председатель фракции ХДС/ХСС в
бундестаге Райнер Барцель на 13-м партсъезде ХДС в конце
марта 1965 года поддержал социал-демократический
лозунг «перемена через сближение» родственной
формулой «изменение через воздействие». Если в 1963
году цель тактики, изложенной в концепции «перемена
через сближение», он сформулировал как «преодоление
статус-кво тем, что оно поначалу не должно быть
изменено», то в 1965 году сопротивление против статус-кво
и его изменение в пользу западногерманского
империализма Барцель охарактеризовал как главную задачу
боннской внешней политики 3.
Вместе с тем ясно, что многие ведущие идеологи и
политики ФРГ проводившуюся до сих пор политику
Бонна в отношении ГДР стали рассматривать как
провалившуюся. Со всей откровенностью они выступили
ей книге «Наступательная разрядка» определенным образом
ссылается на Конце и речь последнего 17 июня 1959 г. назвал жсамой
плодотворной речью из всех, которые были произнесены по этому
доводу». См.: P. Bender, Offensive Entspannung. Moglichkeit fur
Deutschland, Koln— (West-) Berlin, 1964, S. 34.
1 Rias 1, Sendereihe Kompafi, 29Л2.1966, 22.00 Uhr.
2 См.: G. К e i d e г 1 i n g, Das prolongierte Dilemma, в: Wiss.
Zeitschrift der Humboldt-Universitat Berlin, Gesellschafts- und Sprach-
wissenschaftliche Reihe, 1968, H. 1, S. 67.
8 См.: Т. S о m m e г, Kleine Schritte — wie grofi?, в: Die Zeit,
Hamburg, 16.7.1965.
194
против формулы «все или ничего». Бар заявил, «что
любая политика, направленная на прямое свержение
тамошнего режима, является бесперспективной. Этот
вывод крайне неприятен и он противоречит нашему
чувству, но он логичен»!.
Однако из этого не был сделан вывод о
нормализации отношений с ГДР, то есть об отказе от притязаний
на единоличное представительство. Более того, нередко
делались заявления, что «изменения и перемены
достижимы, только исходя из ныне господствующего там
ненавистного режима». Поэтому-де «воссоединение»
превратилось в длительный процесс; ГДР может, мол, быть
«трансформирована» не вопреки, а только с согласия
Советского Союза2. С этой целью Бонн должен-де в
пределах юридического признания использовать любую
представляющуюся возможность, чтобы с помощью
экономических, культурных и личных контактов скрепить
друг с другом оба немецких государства и таким
образом суметь воздействовать на ГДР.
Роль социал-демократических министров
в проведении боннской экспансионистской политики
Исходя из этой концепции, социал-демократические
и близкие к социал-демократии публицисты
разработали обязанности СДПГ в проведении политики
«размягчения» ГДР. При этом они исходили из того
соображения, что «недифференцированный антикоммунизм...
более не поспевает за развитием», потому что он главным
образом «ориентируется на буржуазные или
консервативные силы, которые потеряли свою весомость в ГДР»,
и, напротив, «исключают из своей политической
калькуляции» ревизионистские силы, как об этом писал в 1964
году западноберлинский социолог Мартин Енике в своей
книге «Третий путь»3. Поэтому якобы
социал-демократия представляет собой «подходящего партнера» для
тех граждан ГДР, которые руководствуются иллюзией
«третьего пути».
1 Diskussionsbeitrag des Senatspressecheft E. Bahr, в: Der Ta-
gesspiegel, (West-) Berlin, 18.7.1963.
Там же
* M. J a n i с k e, Der dritte Weg, Koln. 1964, S. 221.
7*
195
В последующее время сходство взглядов некоторых
политиков ХДС и группы Брандта усилилось. На этой
основе произошло сближение восточно-политических
позиций социал-демократических вождей и группы внутри
ХДС/ХСС, способствовавшее формированию большой
коалиции в декабре 1966 года. Одновременно произошла
перетасовка на министерских скамьях. Один из
закоренелых реваншистов — министр транспорта Зеебом,
принадлежавший, как и канцлер, к старейшим членам
кабинета, ушел в отставку. Во главе министерства
иностранных дел встал Вилли Брандт, социал-демократ. Имя
его должно было нейтрализовать растущую
озабоченность заграницы правым курсом и неонацистской
опасностью в ФРГ. 25 марта 1966 года боннское
правительство направило «мирную ноту» правительствам более
чем ста государств, при этом некоторым
социалистическим странам, явно подчеркнуто исключив ГДР,
было предложено сделать «заявление об отказе от
применения силы». Летом и осенью 1966 года видные
политические деятели Бонна с официальными и
неофициальными миссиями объездили социалистические
страны Восточной Европы 1. Однако боннская дипломатия
контактов закончилась провалом. Ответы
социалистических стран на боннскую рекламную ноту действовали,
как холодный душ. Нейтральные страны также
отклонили ее. Даже в странах, правительства которых дали
вымученные заявления о согласии, отклик
общественного мнения был преимущественно негативным.
Модернизация доктрины Хальштейна
Боннская дипломатия контактов сопровождалась
расширением дискуссии о тактике боннской
восточноевропейской политики. Дебаты концентрировались на
том, как-де преодолеть статичность этой политики. При
этом уже осенью 1966 года стало ясно, что
правительство Эрхарда предприняло некоторые тактические манев-
1 Так, Н. Шмидт в «частной» информационной поездке посетил
ЧССР, Польшу и СССР; социал-демократ, депутат бундестага
Вишневский— ЧССР, Венгрию и Польшу; тогдашний боннский министр
экономики Шлюкер — Румынию. Делегация Мюнхенского юго-
восточноевропейского общества в сентябре 1966 г. совершила
турне по придунайским странам.
196
ры, чтобы снять севший на мель корабль боннской
политики реванша. Отсюда стремление к установлению
дипломатических отношений с социалистическими
странами Восточной Европы. Этим Бонн хотел
продемонстрировать так называемую волю к пониманию,
одновременно надеясь на благоприятные условия для
проникновения в эти страны. Но поскольку Бонн и далее упрямо
настаивал на единоличном представительстве и
реваншистских территориальных требованиях, то боннский
тезис о том, что-де «формализация» отношений
равнозначна их нормализации, был разоблачен как явный
обманный маневр.
Чтобы установление дипломатических отношений с
восточноевропейскими странами синхронизировать с
притязанием на единоличное представительство, была
модернизирована доктрина Хальштейна. Эта доктрина
холодной войны вовсе не была сдана в архив; в будущем
она должна была лишь применяться избирательно.
В отношении восточноевропейских соииалистических
стран ею в необходимых случаях можно поступиться,
в отношении же азиатских, африканских, арабских и
латиноамериканских стран — руководствоваться и в
дальнейшем.
В оправдание такой тактики был выдвинут
претенциозный тезис, что союз социалистических стран с ГДР
является-де «природным недостатком», поэтому
существование нормальных и дружественных отношений с
ГДР нельзя, мол, оценивать как «недружественный акт»
в отношении Бонна. Напротив, дипломатическое
признание ГДР молодыми национальными государствами
является, дескать, оскорблением боннских притязаний
на единоличное представительство и поэтому повлечет
за собой «эффект штрафа» в виде разрыва
дипломатических отношений.
Уже в конце канцлерства Эрхарда стало очевидным,
что восточно-политическое наступление Бонна массивно
и прицельно должно быть направлено сначала против
тех социалистических стран, к которым Бонн не
предъявлял никаких территориальных требований. Тем самым
открыто проявилось намерение господствующих кругов
Бонна проводить дифференциацию не только между
социалистическими странами Восточной Европы и ГДР,
как это было раньше, но и между самими социалисти-
197
ческими странами Восточной Европы. Этой политикой
дифференциации по двум линиям Бонн надеялся
изолировать и в конечном итоге окружить ГДР.
Социалистические страны должны быть разобщены и содружество
социалистических стран постепенно разрушено.
На этой тактической уловке основано утверждение
о так называемом повороте Бонна к политике разума
в отношении социалистических стран Европы, к
политике понимания и разрядки, которое особенно
навязчиво распространялось правительством и
западногерманской монополистической прессой со времени
образования большой коалиции.
В речи на конференции коммунистических и
рабочих партий Европы по вопросу европейской
безопасности, состоявшейся в конце апреля 1967 года в
Карловых Варах, глава делегации СЕПГ Вальтер
Ульбрихт охарактеризовал политику западногерманского
империализма и правительства Кизингера — Штрауса
следующим образом: «С созданием правительства
Кизингера— Штрауса политика западногерманского
империализма вступила в новую фазу. Рейнские и
рурские военные монополии, Абс и Крупп в союзе с
бывшими гитлеровскими генералами чувствуют себя
достаточно сильными, чтобы после реставрации своей
власти перейти к политике внешней и внутренней
экспансии. Политика экспансии означает: сначала
борьбу за господство в Западной Европе; непризнание
существующих границ в Европе и статус-кво;
воссоздание империалистической Германии сначала в границах
1937 года; присоединение к западногерманскому
государству особой политической единицы — Западного
Берлина в качестве 11-ой федеральной земли; завоевание
права владения атомным оружием, с тем чтобы этой
экспансионистской политике можно было придать
необходимую военную силу» К
1 W. U1 b г i с h t, Die SED und die europaische Sicherheit. Rede
auf der Konferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien in
Karlovy Vary, April 1967, в: «Neues Deutschland» (B), vom 27.4.1957,
S. 3.
Европейская концепция Франца Йозефа Штрауса
Выбыв из боннского кабинета, председатель ХСС
Штраус временно ушел с политической сцены. Однако
в 1965 году он вновь привлек к себе внимание своей
книгой, которая сначала вышла в Англии под
заголовком «Великий проект», а год спустя издана в Западной
Германии под названием «Проект для Европы». По
своему программному значению она едва ли может
быть переоценена.
Штраус совершенно откровенно высказывается о
гегемонистских устремлениях западногерманского
империализма: «Проблема не в том, каким образом надо
удержать [Западную] Германию сильной в
экономическом отношении, а в политическом — слабой. Это
неправильная предпосылка. Проблема скорее состоит в
том, как можно обеспечить политическое влияние,
соответствующее ее экономической мощи... В течение
длительного времени не может быть Германии, которая
в экономическом отношении была бы колоссом, а в
политическом — карликом. Немецкой политике нужны
поэтому европейские рамки» !.
Завоеванием господства в Западной Европе должен
быть создан базис для расширения власти германского
империализма на всю Европу. При этом Бонн хотел
бы нажить себе политический капитал на
противоречиях между империалистическими державами и при
неизменной ориентации на США как на главного
союзника поставить себе на службу экономические и
военные ресурсы Западной Европы. Одновременно
боннское правительство ратует за сохранение и усиление
НАТО. В отличие от Франции оно рассматривает
укрепление НАТО как существенную предпосылку для
своей наступательной политики в отношении
социалистических стран Европы. Бывший председатель
внешнеполитической комиссии ХДС/ХСС Эрнст Майоника
писал по этому поводу в своей книге «Немецкая
внешняя политика»: «Если полицентризму на Востоке
соответствует плюрализм на Западе, то это не приведет
к преодолению статус-кво. Напротив, подобный парал-
1 F. J. S t г a u fi, Entwurf fur Europa, Stuttgart, 1966, S. 149 f.
199
лелизм увеличивает опасность его укрепления»1.
Затем Майоника претенциозным образом оценил
политику Франции: «Держава, которая не предъявляет
никаких требований к Востоку (I), может себе позволить
отдать свои национальные цели под американскую
атомную защиту, не отдавая предпочтения сплоченности
западного союза. Германия этого не может» 2.
Борьба за господство в Западной Европе ведется
под флагом европейского единения. Рассматривая
исторически, требования германского империализма насчет
европейского единения, вытекали «из позиции или
относительной силы, или абсолютной слабости»3. Этот
лозунг был провозглашен вскоре после 1945 года,
чтобы уберечь от разгрома германский империализм.
Сегодня требование единой Европы провозглашается с
позиции высокой концентрации экономической и
политической силы и служит стремлению изменить статус-
кво. Требование «равноправия», с помощью которого
маскируется атомный шантаж Бонна, также не
является новшеством в идеологическом арсенале
германского империализма. Этот лозунг уже использовался
гитлеровским фашизмом в качестве аккомпанемента
постепенного срыва ограничений вооружения,
предписанных Германии Версальским договором.
По концепции Штрауса гегемонистские планы
реваншистов должны быть осуществлены сначала через
сообщество, а затем через политический союз стран
Западной Европы. Объединенная Западная Европа
должна-де получить характер «европейской атомной
державы». Таким образом, Штраус надеется получить
долгожданное право распоряжаться ядерным оружием
и одновременно втянуть западноевропейские страны в
боннскую политику реванша. Будь эта цель однажды
достигнута, тогда-де наступит момент для «европейской
политики наступления» на статус-кво. По расчетам
Штрауса, все «группы европейских государств,
выступая единой акцией», «будут более действенно представ-
1 Е. М a j о n i с a, Deutsche Auflenpolitik, Probleme und Ent-
scheidungen, Stuttgart, 1965, S. 86.
2 Там же.
3 См.: D. Zboralski, Das imperialistische Programm der
Kiesinger/Straufi-Regierung, в: Deutsche Aufienpolitik, H. 5, 1967,
S. 543.
200
лять требование о воссоединении немецкого народа (то
есть аннексии ГДР.— Г. Р.)»1. Кроме того,
«европейская стратегия наступления» имела своей задачей
начать процесс разложения социалистического
содружества в качестве предварительной ступени
капиталистической реставрации в Восточной Европе. «Речь идет о том,
чтобы в длительном процессе как путем воздействия
на эти страны, так и путем жестких переговоров с
Москвой,— писал Штраус,— работать в том
направлении, чтобы эти страны вновь стали составной частью
Европы, сначала лишь в том смысле, в каком это
находит свое выражение в понятии «промежуточная
Европа»... Нашей задачей на сегодня должно быть
создание пояса между Россией и Западной Европой,
«промежуточной Европы», не находящейся ни под советским,
ни под западноевропейским господством»2.
Дальнейшей целью, по Штраусу, является
капиталистическая Европа от Атлантики до Черного моря:
«Единая Западная Европа должна явиться первой
ступенью Соединенных Штатов Европы, к которым я
хотел бы причислить также все народы Центральной и
Восточной Европы»3. Для достижения этой цели «мы
должны побудить Советский Союз добровольно и в
своих же интересах изменить свою политику в
отношении Западной Европы и Германии»4.
Если же Советский Союз будет настаивать на
сохранении существующего положения, тогда-де он и в
дальнейшем должен считаться с «нынешним статус-кво,
со всем его непредусмотренным риском европейской
напряженности»Б.
Таковы основные принципы империалистической
экспансионистской программы, изложенной в книге
Штрауса «Проект для Европы», «настоящей
правительственной программы» (Вальтер Ульбрихт)
большой коалиции. Коротко говоря, речь идет о стратегии
третьей попытки передела мира, о продолжении
политики Аденауэра, но лишь иными методами. Со всей
ясностью Штраус подчеркивает последовательность
1 Straufl, Entwurt fur Europe, a. a. O., S. 81.
2 Там же, стр. 55.
3 Там же, стр. 26.
4 Там же, стр. 81.
5 Там же, стр. 55.
201
основной страгетической концепции
западногерманского империализма: «Во время своего канцлерства
Конрад Аденауэр выдвинул общий план
основополагающих директив. Во второй фазе немецкой послевоенной
политики эти основополагающие директивы не должны
быть поставлены под сомнение» 1.
В качестве новых моментов, в сравнении с боннской
политикой при Аденауэре, выступают: создание
внутриполитических предпосылок для экспансии в виде
«формированного общества* и прежде всего
чрезвычайных законов, а также изменение календарной
последовательности отдельных экспансионистских целей.
Изменением календарного плана западногерманские
империалисты на свой лад сделали выводы из провала
политики Аденауэра. Эта политика, основные
принципы которой Аденауэр сформулировал уже 5 мая
1945 года в интервью корреспондентам агентства
печати Ассошиэйтед пресс и газеты «Ньюс кроникл»2,
предусматривала, упрощенно говоря, четыре
следующих друг за другом этапа. На первом этапе ставилась
задача: сорвать, хотя бы на части территории
Германии, процесс ликвидации империалистических основ
власти путем подчинения западным державам. На
втором: отколоть Западную Германию от немецкого
национального союза и учредить на западногерманской
территории централизованное сепаратное государство.
На третьем: интегрировать Западную Германию в
капиталистическую объединенную Западную Европу. На
четвертом этапе: вернуться к великодержавной
политике империалистической Германии и ревизовать итоги
второй мировой войны3. Объединение экономических,
политических и военных потенциалов Западной Герма-
1 S t г a u 6...S. 125. Отношение Штрауса к концепции Аденауэра
Р. Аугштейн в 1961 г. описывал так: «Конец эры Аденауэра в
немецкой внешней политике историки припишут 1966 г., когда
Аденауэр авансировал Штрауса. С тех дор Штраус вгрызся в концепцию
Аденауэра, как волк в лошадь барона Мюнхаузена. Лошадь еще
бежит галопом, но из ее пасти уже выглядывает волк». R. A u g -
stein, Spiegelungen, Munchen, 1964, S. 118.
2 См. по этому поводу заметки Аденауэра от 9 мая 1945 г.
о беседе с представителями агентства печати Ассошиэйтед пресс и
газеты сНьюс кроникл», в: «Rheinischer Merkur», Koblenz, 10.1.1964.
8 См.: Н. Н е i t z е г, Die cWiedervereinigungspolitik» des
Bonner Regimes und ihr Zusammenbruch am 13. August 1961, в: Unsere
Zeit, Berlin, H. 2/1962.
m
нйи с потенциалами Западной Европы и США было
направлено на создание такой позиции силы, чтобы ГДР
и социалистические страны Восточной Европы
неизбежно попали в сети западного пакта и упали к его ногам в
виде созревшего плода. Ликвидация социалистического
строя в ГДР являлась в этой концепции первейшей
целью боннской политики; ликвидация первого рабоче-
крестьянского государства на территории Германии
должна была открыть подступ к политике реванша в
отношении социалистических государств Восточной
Европы, к экспансии на Восток. Сначала
империалистическое «воссоединение», затем экспансия — такова
стратегическая последовательность. Трижды
западногерманский империализм переходил в атаку на ГДР:
1953, 1956 и летом 1961 года; каждый раз агрессия
была задушена в зародыше. 13 августа 1961 года
эскалация первой фазы боннской экспансионистской
политики была окончательно застопорена на пороге своего
четвертого этапа 1.
Правительство Кизингера — Штрауса явно
исходило, как констатировал Вальтер Ульбрихт на VII съезде
СЕПГ, из того, что силы западногерманского
империализма еще недостаточны, чтобы, опираясь на
«политику силы», можно было пересмотреть существующие
границы и аннексировать ГДР. Поэтому они решили
пойти на обходный маневр, перейти к эластичной
политике. «Теперь предпринимается попытка действовать
дифференцированно,— отмечал Вальтер Ульбрихт на
VI пленуме ЦК СЕПГ в июне 1968 года,— чтобы с
помощью политики наведения мостов, точнее говоря
проникновения в социалистические страны, создания
прочных плацдармов и пятых колонн, достигнуть
следующих целей: во-первых, проникнуть в социалистические
страны, оторвать социалистические государства
Центральной, Западной и Юго-Восточной Европы от
Советского Союза; во-вторых, изолировать ГДР от
Советского Союза и других ее социалистических союзников;
в-третьих, ликвидировать рабоче-крестьянскую власть
в ГДР, подвергнуть ГДР расхищению и
распространить власть германского империализма до границы по
1 См.: G. Rose, Bonns «flexible» Osteuropapolitik, в: Deutsche
Aufienpolitik, Berlin, H. 2/1967.
203
Одеру — Нейсе; в-четвертых, ликвидировать
социалистический строй в социалистических государствах
Центральной и Западной Европы и включить их в сферу
господства империалистов» \
II. Идеологические, экономические,
дипломатические и военные компоненты
восточной политики реваншистов
«Новая» империалистическая восточная политика
в своих различных формах проявления представляет
собой стратегию, рассчитанную на длительный срок.
С помощью новых средств и методов она преследует
цель раскола социалистического содружества и эрозии
социалистического строя, чтобы постепенно
приблизиться к неизменно преследуемой цели ликвидации
социализма в изменившихся условиях второй половины
XX века.
Главными компонентами этой стратегии являются:
1) идеологическая диверсия, то есть проникновение
буржуазной идеологии по различным каналам,
именуемое «идеологическим наступлением»;
2) создание экономической зависимости от
империализма путем дифференцированной торговой
политики и предоставления кредитов;
3) целенаправленное использование
дипломатических и политических средств или так называемая
политика «избирательного сосуществования»;
4) военные компоненты.
Между этими компонентами существует
взаимосвязь: идеологическая диверсия, дифференцированная
экономическая политика и «избирательное
сосуществование» являются согласованными друг с другом
методами воздействия на социалистические страны с целью
разложения и подрыва социалистического строя и
призваны в подходящий момент подготовить
капиталистическую реставрацию также и с помощью военных
средств.
1 W. U 1 b г i с h t, Antwort auf einige aktuelle Fragen. Schlufi-
wort auf der 6. Tagung des ZK der SED, в: cNeues Deutschland»
(B), 21.6.1968.
204
«Идеологическое наступление»
в концепции империалистической
стратегии
«Идеологическое наступление» против
социалистических стран Европы за последние годы значительно
активизировалось и расширилось. Идеологическая
диверсия на сегодня является главным компонентом
восточной политики. Причины этого заключаются в
ограниченности военно-политической сферы империализма;
кроме того, возросшее значение идеологической
диверсии исходит из основного тезиса теории конвергенции,
согласно которому различия в системах являются-де
главным образом идейно-политическими. Чтобы
подорвать социалистический строй, надо, мол, привести в
действие рычаги в идеологической сфере. В
антикоммунистической литературе идеологическая диверсия
именуется «четвертой сферой» международной политики,
значение которой возрастает наряду с
военно-политической, экономической и дипломатической сферами1.
«Идеологическая диверсия является планомерным,
централизованным и дифференцированным
наступлением в области идеологии с целью побуждения
трудящихся масс к отрицательным действиям,
направленным против социального прогресса»2.
«Идеологическое наступление» является борьбой,
ведущейся в мировом масштабе; оно направлено
против социалистических стран, распространяется на
область господства самого империализма и на
развивающиеся страны. В различных районах мира
преследуются различные цели и практикуются разные методы.
Одновременно антикоммунистическая пропаганда
оперирует дифференцированными, частью даже
альтернативными тезисами, рассчитанными на
соответствующую сферу воздействия. Каждое реакционное
направление имеет свое специфическое обоснование
антикоммунизма3. Примечательным, далее, является чрезмер-
1 См.: J. Kolczynsky, Zur imperialistischen Taktik des «Bru-
ckenschlags», s: Verbrechen ohne Chance. Gegen die Ideologie des
Antikommunismus, Berlin, 1967, S. 73.
2 D. В е г g n e г u. a., Imperialismus und Weltanschauung,
Berlin, 1966, S. 163.
3 W. H ei se, Aufbruch in die Illusion, a. a. O., S. 247.
205
ное расширение соответствующих учреждений и их
аппарата. «Идеологическое наступление» опирается на
щедро оплачиваемую сеть антикоммунистических
организаций, руководство которыми все больше переходит
в руки центральных правительственных органов и
учреждений.
Стратегическая цель «идеологического
наступления» против социалистических стран Европы состоит в
том, чтобы ускорить процессы изменения в
идеологической области, происходящие, согласно теории
конвергенции, стихийно среди населения как следствие
технической революции, направить их в желаемом
направлении «деидеологизации», «ориентации на
потребление», «обуржуазивания», скептицизма и возрастающего
общего безразличия в отношении к социализму и
подготовить таким образом почву для капиталистической
реставрации. Функция теории конвергенции в
«идеологическом наступлении» состоит в том, чтобы внушить
мысль, что-де изменение социализма в направлении
капитализма является объективным процессом
технической революции, который надо не сдерживать, а
вызывать и оказывать ему поддержку К Тезис
«деидеологизации» играет при этом роль троянского коня.
Стремление к внутриполитическому размягчению
находит свое внешнеполитическое дополнение в
апелляции к националистическим пережиткам и
тенденциям. Для этого в качестве подходящей платформы
предлагается разработанная в США теория «эрозии
восточного блока». За этим понятием скрываются
спекуляции различного рода, в особенности спекуляции
вокруг так называемой «национальной эмансипации
народов Восточной Европы», или «полицентризма», или
же взаимного разрыхления и даже роспуска НАТО и
Объединенных вооруженных сил государств —
участников Варшавского договора. В
теоретико-познавательном отношении речь при этом идет, как и в теории
конвергенции, о перевернутом, извращенном,
иллюзорном отражении реальных процессов с целью
использования их в интересах империалистической политики.
1 См.: Н. М е i fi n е г, Marxismus und Konvergenztheorie, в:
Wirtschaftswissenschaft, Berlin, H. 5, 1968, S. 724.
206
Причем речь здесь идет о формировании
социалистических наций и развитии сотрудничества между
ними. Эти процессы протекают не без противоречий,
поскольку между социалистическими странами имеются
значительные различия в уровнях экономического
развития, унаследованных от капитализма. Поэтому
проблемы, которые должны решать социалистические
страны, являются не вполне аналогичными.
Националистические предрассудки, относящиеся к самым
живучим пережиткам прошлого, также несколько
отягощают процесс укрепления социалистического
содружества народов.
Теория «эрозии восточного блока» опирается на
подобные факты и объявляет их сущностью
социалистического развития. Политический деятель ХДС Май-
оника в 1965 году писал в своей уже цитировавшейся
книге: «Взрывчатым веществом, подвергающим
опасности единство коммунистического блока, является
национализм... Необходимое решение, мне кажется...
мыслимо будет только на пути обращения к
национальному эгоизму»!. Теория «эрозии восточного
блока» стала основой империалистической
стратегии.
Исходя из измышлений теорий конвергенции и
эрозии в ведущих империалистических странах
разработано множество программ и предложений по
идеологической диверсии. Уже в 1957 году Джон Ф. Кеннеди в
своей сенатской речи по поводу поправки к закону
Бэтла требовал «расширения человеческих контактов»,
«культурного обмена», «улучшения информационной
программы» США в Польше и организации
американского квартала в Варшаве2.
Бонн также решил выпустить «совершенно новые
фигуры» на «сцену культурной политики».
Руководитель Мюнхенского института Гёте (одного из
центральных культурно-политических учреждений боннского
министерства иностранных дел) Вернер Росс в
качестве «национальной задачи первого ранга» назвал «от-
1 Е. М a j о n i с a, Deutsche Aufienpolitik. Probleme und Ent-
scheidungen, Stuttgart, 1965, S. 130, 177.
2 J. F. Kennedy, Der Weg zum Frieden, Dusseldorf, 1961,
S. 140 ff.
207
крытие пути немецкой политике на Восток» ! с помощью
культурной политики.
«Идеологическое наступление» ведется на все
население социалистических стран. Но особое внимание
уделяется интеллигенции и молодежи. Центры
идеологической диверсии очень хорошо знают роль
интеллигенции в формировании общественного мнения.
Известно, что на общественное мнение народа весьма
существенное влияние оказывают писатели, художники,
журналисты и ученые. Поэтому интеллигенция
социалистических стран является одним из главных
объектов идеологической диверсии. Политический деятель
ХДС Майоника требует, чтобы идеологическая
деятельность была направлена в особенности на людей
умственного труда, «поскольку выяснилось, что
обращение к элите более важно, чем обращение к массе».
3. Бжезинский обосновывает концепцию
идеологического наступления на интеллигенцию спекулятивным
утверждением: «Терпимые альтернативные понятия
могут постепенно проникнуть в среду господствующей
элиты и затем оказать влияние на все общество»2.
«Идеологическое наступление» оперирует
дифференцированными методами и лозунгами,
нацеливаемыми на различные социальные слои и категории
населения. Большое место занимают демагогия насчет
свободы, прежде всего в форме лозунгов либерализации и
демократизации, а также дискредитация руководства
партии и государства. Буржуазные взгляды на жизнь
преподносятся в качестве образца. «Буржуазная
мораль» пропагандируется как мораль, достойная
подражания в поведении интеллигенции в свободное время,
культурная жизнь и творчество по содержанию и
формам обязаны-де примкнуть к позднебуржуазному
декадансу. Последнему как мировоззренческой основе
соответствуют скептицизм и теория отчуждения.
Отчуждение выдается как неотвратимая проблема
человечества, людской рок в мире технизации и разделения
труда. Приравнивание капитализма к социализму в об-
1 W. Ross, Konzept einer auswartigen Kulturpolitik, в:
Deutsche Kulturpolitik im Ausland 1955 bis heute, Munchen, 1966.
2 The Development of USSR. An exchange of views, Seattle, 1964,
S. 20.
208
ласти отчуждения призвано поколебать убеждение в
историческом превосходстве социализма.
Для идеологической инфильтрации используются
разнообразные формы. Для некоторых
социалистических стран, таких, как ЧССР, Румыния, Венгрия,
постоянно увеличивающийся туризм считается
«качественно самым гибким и одновременно доступным путем
проникновения буржуазной идеологии» К Враждебные
центры пытаются побудить граждан капиталистических
государств к политической агитации, а граждан
социалистических государств, выезжающих в западные
страны,— подвергнуть воздействию целенаправленной
пропаганды. Кроме того, туризм злонамеренно
используется для того, чтобы проводить шпионаж и склонять
граждан социалистических стран, в особенности лиц
высокой квалификации из числа интеллигенции,
оставить свою родину2. Другой формой идеологической
диверсии является распространение западной
литературы, например через американский «постпроект».
Таким путем, к примеру, в 1964 году в ЧССР было
заслано 2 250600 экземпляров западной печатной
продукции8.
Бюллетень попечительского совета «Неделимая
Германия» видит в туризме блестящую возможность более
или менее «ненавязчиво» информировать население
социалистических стран о Западе и о западном образе
жизни. В статье о западногерманском туризме в ЧССР
говорится: «В беседах в общем-то не ведется никаких
политических дискуссий, а делается попытка узнать,
как живет собеседник, сколько он зарабатывает и
сколько он должен заплатить за свою автомашину.
Возникающие при этом сравнения во многих случаях
позволяют натолкнуть на вопрос, кто имеет лучшую
или худшую участь». Для молодых чехов и словаков,
ликует этот орган холодной войны, Федеративная
республика приобретает такое же значение, какое сорок
1 V. Broz und M. Rys, Das trojanische Pferd der Imperialis-
ten, в: Aus der internationalen Arbeiterbewegung, 11/1965, S. 17.
2 В. Броз и М. Риз в своих статьях приводят поучительные
данные об усилиях правительства США в вербовке видных ученых,
в частности путем более быстрого и «более легкого» оформления
выездных документов.
8 V. В г о z, M. R у s, S. 18.
209
лет назад имела для молодых немцев Америка, «а
именно как страна неограниченных возможностей» К
Важную роль в концепции «идеологического
наступления» играет пропаганда по радио и телевидению.
Использование специальных радиостанций в качестве
наводчиков идеологической диверсии является
неотъемлемой составной частью политики «наведения
мостов»2. Этой цели служит целый ряд специальных,
дорогостоящих радиостанций, таких, как радиостанция
«Свободная Европа», «Немецкая волна», «Дейчланд-
функ», и серии передач «Голос Америки» или
некоторые серии передач радиостанций РИАС и ЗФБ. Какое
значение придается этим формам идеологической
инфильтрации правительствами некоторых
капиталистических государств, видно из того, что, например,
радиостанции «Свободная Европа» и «Немецкая волна»
ежедневно вещают 24-часовую программу на всех
восточноевропейских языках3.
С недавнего времени «идеологическое наступление»
империализма подверглось изменению с точки зрения
выбора направления главного удара. Если в 50-х годах
доминировала подготовка контрреволюционных акций
и путчей в комбинации с тактикой подпольной борьбы
1 Politik, hg. vom Kuratorium cUnteilbares Deutschland», H. 1,
1968.
2 См.: J. M a d e r, Die subversive Rolle des «Radio Free Europe»,
в: Deutsche Aufienpolitik, H. 4, 1968, S. 561—568.
3 Там же, стр. 566.
Ю. Мадер приводит следующие данные о времени вещания
радиостанции «Свободная Европа»:
Направление
вещания
ЧССР
ВНР
ПНР
БНР
СРР
Ежедневная продолжительность вещания в часах
1969 г.
18,0
17,5
18,0
5,5
7,5
1961 г.
18,5
18,0
18,5
4,5
4,5
1964 г.
18,5
18,5
17,5
5,0
4,0
1966 г.
19,5
19,0
18,0
7,5
17,5
210
и подрывной деятельности, если до 1956 года некий
Бернхэм, а с ним также Джон Даллес открыто
призывали к свержению социалистического строя, к саботажу и
диверсии, то теперь ввиду явной безнадежности
подобных попыток империалистическая стратегия
ориентируется в расчете на длительный период, на постепенное
«размягчение» и «разложение» социализма.
С точки зрения непосредственных целей и методов
между отдельными планами и программами
«идеологического наступления» имеются известные различия;
по-разному оцениваются, естественно, и возможности
оказания влияния. В целом можно провести различие
между откровенно-грубым и несколько утонченным,
косвенным вариантами. По первому варианту пропаганда
буржуазной идеологии ведется открыто, прямо и
недифференцированно; вариант рассчитан
преимущественно на буржуазные и мелкобуржуазные слои и
пытается апеллировать к буржуазным пережиткам в
сознании других классов и слоев. При этом избегается
путь идеологического спора с социализмом, а
капиталистический мир считается необходимым, по
возможности, герметично изолировать от влияния социализма.
Хорошо, например, характеризует этот вариант статья
Аларда фон Шака «Идеологическая борьба и
сосуществование», опубликованная в 1962 году в
западногерманском официозе — журнале «Ауссенполитик». Алард
фон Шак сравнивает идеологический спор между
капитализмом и социализмом с борьбой двух трестов,
которые после ликвидации мелких предприятий
собираются «покончить с последним сильным противником,
причем используя все средства» '. В этой «борьбе за
души людей» целью Запада должно-де быть
воспрепятствование возникновению «революционных
ситуаций» в капиталистическом мире. Напротив, в
социалистическом мире надо-де создавать «революционные
ситуации», причем идеологическая диверсия не должна
переходить в открытое восстание, поскольку последнее
заранее обречено на провал. С циничной
откровенностью фон Шак развивает затем свою программу
создания «революционных ситуаций»: «Всеми средствами
1 A. von Schack, Der geistige Kampf in der Koexistenz, в:
Auflenpolitik, Stuttgart, H. 11, 1962, S. 768.
211
современной пропаганды, психологически искусно
нашему миру идей следует проникать в общественное
мнение коммунистических государств. Используя
национальные различия, религиозные традиции и
человеческие слабости, такие, как любопытство, женское
тщеславие, страсть к удовольствиям, следует
способствовать индифферентности к целям коммунистического
государственного руководства...»1 Даются и другие
советы, такие, как пассивное сопротивление («работай
медленно»), осуждение мер против ренегатов,
установление контактов с творческими работниками во время
поездок и конгрессов и т. д. «Люди в
коммунистических государствах становятся, таким образом,
сознательными или несознательными носителями западных
идей, создается чувство всеобщего недомогания,
являющегося предпосылкой совершающегося без применения
насилия внутреннего изменения и преобразования в этих
государствах. Необходимо ускорять этот естественный
ход развития путем непрерывной работы, изматывающей
противника»2.
Другой вариант идеологической диверсии исходит
из признания, что носители антисоциалистических идей
в социологическом отношении утеряли свою массовую
базу вследствие социальных, политических и
идеологических преобразований в социалистических странах.
«Утонченный» антикоммунизм считает поэтому
реставрационные лозунги менее обещающими успех и
обращается больше не к некогда буржуазным и
мелкобуржуазным слоям, а к рабочим, интеллигенции и
молодежи. Марксистско-ленинские партии этот
антикоммунизм атакует не фронтально и не как целое; он
стремится провести различие внутри партий, прежде всего
между так называемыми «догматиками» и
«коммунистами-реформаторами». В образе старшего поколения
партийных деятелей он преподносит фиктивную
«картину», которая должна изгнать из сознания
действительного врага — империализм и милитаризм, ведь их
молодежь уже более не знает по своему собственному
опыту. Решающим характерным признаком нового
варианта является то, что последний не требует более
>A.von Schac k... S. 773.
2 Там же, стр. 774.
212
отказа от социализма. Пропагандируется не столько
альтернатива социализму, сколько все в большей мере
альтернатива внутри социализма. Поэтому этот
вариант идеологической диверсии, получивший явно
доминирующее влияние по сравнению с первым,
ориентируется на «внутрисистемную оппозицию», то есть на
всякого рода ревизионистских деятелей и силы, которые под
маской желания «улучшить» или «демократизировать»
социализм в действительности подрывают основы
социалистического строя 1. При этом некоторые
ревизионисты, типа Эрнста Фишера, играют печальную роль
пособников антикоммунистических идеологов
конвергенции2. Они распространяют империалистический
тезис о единой мировой культуре «индустриального
общества». Действительные успехи и достижения
социализма они сравнивают с абстрактным идеалом
социализма, односторонне и искаженно представляемого на
основе ранних произведений Карла Маркса. Тем
самым социалистическая действительность искажается и
низводится до какой-то «серой пустыни»3. Эта
негативная оценка реально существующего социализма,
борющегося за осуществление идей Маркса, Энгельса и
Ленина, полностью вписывается в концепцию
идеологической диверсии.
То, что социал-демократические вожди неизменно
держатся этого варианта идеологической диверсии,
было открыто высказано уже в 1962 году в ходе
конкурса, проведенного газетой «Ди вельт», на тему
«Молодежь и воссоединение Германии». В одной работе,
получившей премию, говорилось: «Понятие социализма
сегодня уже укоренилось среди когда-то авторитетных
молодых людей в Средней Германии. Но всегда ли
принцип социализма будет связан с Москвой, это
другой вопрос...» Поэтому-де не политика Федеративной
республики и ее материальные побуждения являются
величайшей опасностью для ГДР, а скорее всего
ростки «третьего пути к социализму». «Как раз здесь
поднимаются силы, которые однажды будут нашими
собеседниками. Подходящим партнером для них является
1 См.: D. Knotzsch, Innerkommunistische Opposition. Das
Beispiel Robert Havemann, Opladen, 1968.
* См.: Е. Eiseher, Kunst und Koexistenz, Hamburg, 1966.
3 Imperialismus und Weltanschauung, S. 170.
213
Немецкая социал-демократия, Другая крупная
Демократическая партия, ХДС, в большей мере охвачена
пороком капитализма. Таким образом, только СДПГ
благодаря общим представлениям социализма может быть
подходящим партнером для социалистических, но не
ортодоксальных марксистско-ленинских сил Средней
Германии»1.
В таком же духе явный антикоммунист Клаус Ме-
нерт дает «индустриально развитым странам
Центральной и Восточной Европы» совет насчет
«демократизации», которая-де «особенно впечатляющая по всей своей
социальной структуре»2.
Запевалам идеологической диверсии ясно, что нет
оснований ожидать скорых шумных результатов. Речь
при этом идет скорее о политике, рассчитанной на
длительную перспективу, с целью «разбавить эссенцию
коммунизма», как в 1964 году писал публицист Тео
Зоммер3. Совершенно очевидно, что тем самым за
основу берется все та же иллюзорная стратегическая
концепция, которая была разработана известными
идейными родоначальниками теорий конвергенции и эрозии и
впервые возведена в ранг правительственной политики
при Джоне Ф. Кеннеди.
Эту концепцию публицист Петер Бендер в своей
книге «Наступательная разрядка» превратил в подробно
сформулированную программу западногерманской
восточной политики. До сих пор, пишет он, не считая
радиопропаганды и «разрозненных, часто дилетантских
мероприятий инфильтрации», едва ли что случилось,
«чтобы перенести воздействие на восточный блок»4. Но как
раз в Восточной Европе восприимчивость к западному
влиянию является будто бы наисильнейшей. Поскольку,
мол, Запад не может более прибегнуть к военным
средствам, он должен значительно увеличить размах и
1 Die Jugend und die Wiedervereinigung Deutschlands. Die preis-
gekronten Arbeiten der Stiftung, cDie Welt», (West-) Berlin —
Frankfurt a. M., 1962, S. 175 f.
2 Die wolfischen Ratschlage des Herrn Mehnert, в: cNeues Deut-
schland», vom. 20.6.1968, Ausg. B.
3 T. S о m m e r, Die permanenten Provisorien, в: Donhoff/Leon-
hardt/Sommer: Reise in ein femes Land. Bericht uber Kultur, Wirt-
schaft und Politik in der DDR, Hamburg, 1964, S. 143.
4 P. Bender, Offensive Entspannung, Moglichkeit fur Deutsch-
land, Koln — (West-) Berlin, 1964, S. 36.
214
интенсивность «идеологического наступления». Но при
этом, дескать, нельзя допускать ошибки в виде
поддержки антимарксистских устремлений или даже
организации «западных культурных провинций».
«Дифференцирование является самым тихим, но самым острым
оружием против догматизма и тоталитарного чуждого
господства... Восточная политика — это прежде всего
косвенная политика; цель ее — еще сильнее изменить
изменяющуюся атмосферу в восточных странах... Путем
экономических, личных, профессиональных, духовных и
культурных связей воскрешаются традиции и старые
отношения, поощряются скрытые или еще слабые
тенденции и даются новые импульсы в духе Запада» 1
Депутат бундестага от ХДС Ганс Дихганс также не
оставляет никаких сомнений в целях «идеологического
наступления», предписываемых концепцией «гибкой»
восточной политики Бонна. Ставя вопрос о том, как
можно было бы подорвать социализм в
восточноевропейских социалистических странах, не провоцируя
решающего контрудара, он советует: «Развитие идет от
этапа к этапу. Если мы, для того чтобы продвинуться,
вынуждены будем на следующем этапе примириться с
продолжением чуждого влияния (то есть социализма.—
Г. Р.), то позднее усилившаяся Европа могла бы
создать положение, которое устранит это влияние... Мы
должны будем наряду с насилием ,и твердостью
(которые до сих пор не привели к успеху) принять во
внимание третий путь: усиление контактов, чтобы через все
более тонкие стены осуществить проникновение
демократических взглядов в недемократические страны»2.
Экономические компоненты
Заявления и спекуляции видных империалистических
политиков позволяют ясно увидеть, каких именно целей
надеются достигнуть правительства Вашингтона и
Бонна массивным использованием своего экономического
потенциала. Так, «эксперт» по Восточной Европе Роберт
Басе в 1964 году в своей книге «Восточная Европа» пи-
1 Р. В е n d e г... S. 59—60.
2Н. Dichgans, Europa von Spanien bis Polen, в: Europa-
Archiv, № 7, v. 10.4.1968.
215
сал, что новая американская торговая политика в
отношении Востока послужит тому, чтобы подорвать
«коммунистическое господство в Восточной Европе в ходе
медленного процесса эрозии» и поэтому «с течением
времени можно рассчитывать на перемену в сущности
коммунистического господства»1.
Прежде всего в экономике, говорит Майоника,
имеются будто бы зачатки того, чтобы «изменить
соотношение сил между Востоком и Западом и именно в пользу
Запада. Современная дипломатия в основном
превратилась в экономическую дипломатию»2.
Использование экономических отношений,
естественно, не является чем-то новым в империалистической
политике. Но если в период 40-х—50-х годов более или
менее открыто требовался отказ от социализма в
качестве компенсации за экономические связи, то теперь от
такой политики прямого экономического шантажа
вынуждены отказываться. Сегодня превалирует
стремление поставить развитие экономических отношений в
зависимость от одновременного развития культурных и
идеологических отношений, от практики идеологического
сосуществования. Бывший государственный секретарь
США Дин Раек в своей программной речи по вопросу
торговли между Востоком и Западом совершенно
откровенно сформулировал намерение связывать торговлю с
так называемой «либерализацией» или ставить ее в
зависимость от частичных уступок: «Там, где страна
проявляет волю развивать свою политику и свои
учреждения с национальной точки зрения... мы приспосабливаем
к этому наше поведение тем, что ослабляем экспортные
ограничения и делаем другие уступки... Торговля — это
более чем обмен товарами. Она помогает нам сблизить
Соединенные Штаты с восточноевропейскими народами
и связать их до известной степени с нашей экономикой.
Таким образом, торговля позволяет нам оказать
известное влияние на развитие политики и учреждений в этот
период возрастающих перемен в Восточной Европе»3.
1 R. Bass, Die Vereinigten Staaten und Osteuropa. Erfahrungen
und Moglichkeiten der amerikanischen Politik, в: Europa-Archiv, № 10,
1965, S. 391.
2 E. M a j о n i с a, Deutsche Aufienpolitik, S. 117 f.
3 D. R u s k, Eine bewegliche Ost-West-Handelspolitik, в: Europa-
Archiv, № 7, 1964, S. 226.
216
Совершенно одинаковые цели преследует боннская
политика торговли с Востоком. Ее намерения до сих
пор, пожалуй, наиболее четко были зафиксированы в
опусе «Западная Европа — Восточная Европа —
Советский Союз. Перспективы экономического
сотрудничества» (1965 г.) бывшего президента «Союза изгнанных»
Венцеля Якша. В нем Якш требовал «координированной
экономической стратегии Запада по отношению к
восточному блоку» с целью проложить путь
контрреволюционному развитию в социалистических странах
Восточной Европы за счет концентрированного использования
экономической мощи империализма. При этом он
исходил из настолько же иллюзорного, сколько и
претенциозного ожидания того, что якобы народы
социалистических стран Восточной Европы продадут свою
социалистическую перспективу за кредит в 50 млрд. марок
(доля Федеративной республики должна была
составить 30 млрд. марок).
Использование дипломатических
и политических средств.
с Избирательное» сосуществование
Целенаправленное использование дипломатических и
политических средств перекликается с торговой
политикой и «идеологическим наступлением».
Внешнеполитическая тактика образует рамки гибкой
восточноевропейской политики, из которых она исключает ее отдельные
элементы. Естественно, возможности прямого
политического воздействия на социалистические страны
Восточной Европы на сегодня практически больше нет.
Раскол и разложение социалистического содружества
также не представляют собой реалистической цели
империалистической политики. Однако, чтобы все же
постепенно приблизиться к этим целям, главные
империалистические державы в своей внешней политике в отношении
социалистического мира обращаются к принципу
«избирательного» сосуществования. По американской версии,
«избирательное» сосуществование означает
дифференцированный подход не только в отношении групп
социалистических государств в различных географических
районах (включая и военные акции), но и
дифференцированную политику в отношении отдельных социалисти-
217
ческих ctpaa внутри их содружества1. Основные
положения дифференцированной политики США в
отношении социалистических стран Восточной Азии
сформулировал в книге «Альтернатива к разделу» («Alternative
to Partition») 2 (1965 г.) Збигнев Бжезинский, директор
Исследовательского института по проблемам
коммунизма при Колумбийском университете и советник
Джонсона. Для того чтобы «вновь заполучить Восточную
Европу и Россию», Бжезинский рекомендует общую
империалистическую стратегию по комбинированному
использованию экономических, политических и
.идеологических средств3. Он требует экономического поощрения
центробежных тенденций, «идеологического размыва»
путем «социал-демократизации» и расширения
культурных контактов. В этой концепции изоляция ГДР
занимает ключевую позицию. По собственным словам Бже-
зинского, ГДР является «жизненно важным форпостом»
социализма в сердце Европы, который «преграждает»
империализму «непосредственный доступ к Восточной
Европе в географическом, военном и политическом
отношениях».
Было бы опасной ошибкой полагать, что «гибкая»
империалистическая восточная политика исчерпывается
идеологической, экономической и дипломатической
активностью или даже ожиданием внутренних социальных
и духовных перемен, предсказываемых теорией
«конвергенции» и теорией «эрозии восточного блока».
Намерение осуществить контрреволюцию в социалистических
1 См.: A. Kruczkowski, Europa-Konzeptionen des Westens
und die Vorschlage der sozialistischen Staaten zur europaischen Si-
cherheit, в: Dokumentation der Zeit, № 375/1967, S. 25.
2 По-немецки: Alternative zur Teilung, Koln, 1966.
3 Бжезинский и другие империалистические политики и
идеологи рассматривают открытое выступление реваншистов в Западной
Германии и стремление Бонна заполучить атомное оружие как
помеху эффективности общей стратегии: они опасаются, что особые
интересы западногерманского империализма уничтожат шансы
«политики размягчения» в Восточной Европе. В определенной мере в
этом отражаются традиционные противоречия между германским
империализмом и западными державами.
Генри А. Киссиягер свел дилемму отношений западных держав
к германскому империализму к формуле: «Самой идеальной была
бы Германия, которая хотя и была бы достаточно сильной, чтобы
защитить себя, но опять-таки не такой сильной, чтобы могла
напасть» (Die Entscheidung drangt, Dusseldorf, 1961, S. 160).
218
странах с помощью военных средств не сдано в архив,
о чем свидетельствует, к примеру, существование в США
«войск специального назначения» и разработка
командованием бундесвера тактики «скрытой войны» против
ГДР. При переориентации стратегии в отношении
социалистических стран Европы речь, таким образом, идет
об изменении направления ее главного удара и
главной линии, диктуемом изменением в соотношении сил,
причем вопрос о применении альтернативных методов
остается открытым.
Никакой абсолютной разграничительной линии
между «гибкой» восточной политикой и применением
военного насилия нет. Усиление НАТО, сохранение
американского присутствия в Западной Европе и военная
подготовка к агрессии рассматриваются в Вашингтоне и
Бонне как непременное условие любой восточной
политики.
Клаус Боллингер, Ганс Мартин Гвйер
Германская Демократическая Республика
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ США
Глобальная стратегия американского империализма,
разработанная в последние годы как стратегия главной
империалистической державы в интересах всей
империалистической системы, так и в особенности в интересах
монополий США, охватывает совокупность применяемых
американским империализмом средств и методов
политической, идеологической, военной и экономической
деятельности, направленной против сил социализма*и всех
других прогрессивных движений на современной фазе
третьего этапа всеобщего кризиса капитализма.
Системой стратегических мер, рассчитанных на длительный
период и отличающихся направлением главного удара,
американский империализм надеется изменить
соотношение сил в свою пользу и выбраться из состояния
исторически обусловленной обороны, куда он был загнан
благодаря успехам социализма .и
национально-освободительному движению.
Цели глобальной стратегии
Главными поэтапными целями (при сохранении
конечной цели — уничтожения мировой социалистической
системы и установление мирового господства
американского империализма) являются:
1) обеспечение господства США в капиталистическом
мире, достижение гегемонии в Европе, интеграция всех
империалистических государств в рамках глобальной
стратегии;
2) воспрепятствование или ликвидация
некапиталистического пути развития в странах Азии, Африки и
Латинской Америки;
220
3) ослабление единства и мощи социалистических
государств; избирательное проникновение в
социалистические страны с целью подрыва их внутреннего
строя и оттеснения социализма. Сюда же относится
использование временных тенденций национальной
узости, попытка оторвать отдельные социалистические
страны от социалистического общества;
4) глобальная стратегия имеет, наконец, свою
внутреннюю задачу, состоящую в том, чтобы зажать рот
любой оппозиции империалистической политике в
империалистических странах, а главное — разгромить
организации рабочего класса.
Разработка этой стратегии в принципе закончена в
военно-политической и экономической областях. Как
следствие изменения соотношения сил в мире и
частичного признания этого монополиями США используется
гибкая тактика борьбы против мировой
социалистической системы.
Так, с 1964—1965 годов американский империализм
настойчиво проводит наступление непосредственно
против прогрессивных сил в Азии, Африке и Латинской
Америке методом территориально и технически
ограниченных войн, включая войны «заместителей» и
интервенции политического, экономического, идеологического
характера. Это направление удара империализм
избрал, чтобы избежать опасности самоуничтожения
вследствие силы мировой социалистической системы.
Американский империализм исходит из того, что на
этих континентах мировая социалистическая система
из-за антисоветской политики группы Мао Цзэ-дуна не
сможет выступить единым фронтом, а
национально-революционное движение не обладает строгой организа-
иией социалистических государств.
Отныне (планы рассчитаны до конца восьмидесятых
годов!) социалистический лагерь атакуется с
периферии цепью государств, находящихся в подчинении
НАТО, СЕАТО и других блоков, руководимых США.
В отношении социалистических государств Европы
проводится одновременно политика проникновения и
раскола, пока не доводимая до порога войны (так
называемая стратегия мира, политика «наведения мостов»
с целенаправленным давлением на европейские
социалистические государства в обход принципа недели-
221
мости мира), давая тем самым возможность, в
особенности западногерманскому империализму,
подготовиться к «войне заместителей» поначалу против ГДР.
Военно-промышленный комплекс
Главной движущей силой, позволившей
американскому империализму разработать такую стратегию,
является последовательная борьба американских
супермонополий, в особенности военно-промышленного
комплекса, направленная на то, чтобы:
а) в кратчайший срок завершить переход к
государственно-монополистическим формам правления <и
б) полностью поставить государственный аппарат
на службу запланированному перераспределению
львиной доли национального дохода (с учетом результатов
и прогнозируемого развития научно-технической
революции) в пользу военно-промышленного комплекса.
С этим связаны систематические структурные
изменения в капиталистическом обществе США.
Относительная слабость рабочего движения и
неорганизованность сил мира во всех слоях общества как
США, так и их главного европейского союзника —
Западной Германии объективно способствуют
осуществлению опасных целей глобальной стратегии.
Реализуя свою стратегическую концепцию,
американский империализм усиливает свою активность
(против сил социализма и всех других прогрессивных сил,
учитывая, однако, соотношение сил в мире.
Экономические потенции, являющиеся важным инструментом в
тактике достижения целей американской
монополистической буржуазии, во многих случаях не помогли
Уоллстриту избежать явных промахов за последние годы.
Доктрина так называемых локальных войн, тесно
связанная с именем бывшего начальника Объединенного
штаба и бывшего посла США в Сайгоне генерала Тэй-
лора, все более оказывается несостоятельной
вследствие силы и масштабов национально-освободительного
движения народов Азии, Африки и Латинской
Америки. «Война заместителей», которую развязал Израиль
под эгидой США и Западной Германии, не достигла
своей цели — устранения прогрессивных арабских
правительств и упрочения аил реакции.
222
Господствующие круги США все более лойак^ гд-
лоиу над тем, как им в этих условиях найти «предлоги»
для локальных войн с тем, чтобы апраадать себя в
глазах хотя бы той части мирового общественного мнения,
которая оказалась временно обманутой американской
пропагандой.
В последнее время в США всплывают новые, а
точнее (говоря, подновленные доктрины о роли и месте
США в мировой политике. Впервые соображения на
этот счет высказал в своих речах и книгах бывший
член Совета по вопросам политического планирования
Министерства иностранных дел США, профессор
Колумбийского университета 3. Бжезинокий. Позднее
высказанные им соображения были приняты
Министерством иностранных дел и изложены в «Бюллетене
Министерства иностранных дел» от 3 июля 1967 года.
Теории, которые себя не оправдали
Намерение разработать наступательную
идеологическую оистему для более успешного достижения
стратегических целей с помощью интенсивной обработки
сознания народных масс было отмечено в США уже в
1955 году. Ряд буржуазных специалистов и различных
«мозговых трестов» крупных монополий и Пентагона
утверждали тогда, что-де слабость американской
внешней политики объясняется отсутствием принципиальной
доктрины и научной теории для принятия политических
решений.
Специалисты в области международных отношений
начали больше уделять внимания разработке «научных
основ» американской внешней политики. Так, в 1955
году состоялась встреча с целью разработки
теоретических основ империалистической внешней (политики 60-х
годов, в которой, в частности, приняли участие Роберт
Боуи, Уолтер Липиман, Джеймс Рестон, Дин Раек,
Кеннет Томпсон, Арнольд Вольферс, Джордж Кеннан.
По предложению Уолтера Липимана асе проекты были
сведены в три главные теории:
а) Нормативная теория, которая большое значение
придавала тому, чтобы агрессивные цели американского
империализма завуалировать пропагандой моральных
ценностей, поскольку открытый антикоммунизм уже
223
тонна казался авторам нормативной теории слишком
грубым. Был провозглашен главный лозунг, согласно
которому стремление американской внешней политики
направлено якобы «а предоставление и обеспечение
«свободы, демократии, справедливости и т. д.»
гражданам всего мира. Главным вдохновителем этой теории
был в основном Уолтер Линлшан.
•б) Общая теория международной политики,
делавшая вывод о том, что /право на длительное
существование в интересах американской стратегии имеет только
теория, содержащая самые общие выражения. Она
включала так называемую реалистическую теорию, в
те времена наиболее широко пропагандировавшуюся в
университетах США и именовавшуюся также теорией
политики силы, автором которой был известный
профессор Ганс Моргентау: «До тех пор, тюка мир в
политическом отношении поделен на отдельные страны,
последнее слово в «мировой политике определенно будут
иметь национальные интересы... В этой ситуации было
бы наивностью ожидать, что «пир должен существовать
в мирных условиях, или утверждать, что война не
неизбежна... Верно мак раз обратное... А это означает
постоянную опасность конфликта, начала войны. Хотя
дипломатические аиции и могут время от времени
смягчать напряженность, (Предотвращать начало открытого
конфликта, но они не могут воспрепятствовать
возникновению разногласий, вытекающих из скрещивания
путей защиты национальных 'интересов двух или
большего числа государств. Задачей внешней политики как раз
и является смягчение и'разрядка этой напряженности,
а также преодоление национальных интересов данного
государства в возможно разумных пределах»1.
в) Теория в качестве рабочей основы (Arbeitsgrund-
lage). Этот третий тип призван был представить
взаимосвязь между гипотезами и теориями государственных
мужей и руководством внешней политикой. Эта теория
рассчитана на то, чтобы согласовать противоречия
между избирательной программой и речами политических
представителей американской крупной буржуазии во
1 Н. Morgenthau, Another Great Debate: The National
Interest of the United States, в: «American Political Science Review»,
vol. XVI, № 4, Dec. 1952, p. 961—998.
224
время /избирательных калша/ний с их зачастую
противоположными (Действиями в политической практике.
Затем несколько позднее, после упомянутой встречи,
Шумпетер и У. Ростоу разработали так называемую
экономическую теорию, которая большое значение
придавала тому, чтобы представить американскую
экономику как гаавмую движущую силу 'империалистической
политики США.
Части всех этих трех главных теорий, а также
разработки Ростоу, занимавшего в 1961 году видное место в
Белом доме и в государственном департаменте, до сих
пор были достаточны, чтобы обеспечить идеологическим
оружием ЮСИА и другие центры психологической
войны, Korqpbie, по оценке Давида Лоуреиса, «в нынешнее
время представляют неоценимое богатство» К
Но поскольку кровавая агрессия в Юго-Восточной
Азии, нападения на Сан-Доминго, Конго и агрессия в
других частях мира обмаясили полную абсурдность
«благородных» мотивов, использованных Уолтером
Липпманом, теперь уже в качестве главнопланирующе-
го идеолога глобальной стратегии США рекомендуется
господин Бжезинский. Болезнь все та же, что и в 1955
году, все те же прубые факты алчиой политики силы,
которые надо завуалировать. Наряду с Бжезинским над
проектом идеологической концепции достижения целей
глобальной стратегии трудится целый «мозговой трест».
Положения, разработанные Бжезинским, в настоящее
время официально признаны правительством. Поэтому
следует разобраться со случаем господина Бжезинско-
го и его идеей, тем более, что он и сам считает, что его
идеологическая стратегия будет действительна для
ближайшей целой эпохи.
€ Новые» открытия Бжезинского
Современная историческая эпоха великой борьбы с
исторически изжившей себя империалистической
системой характеризуется следующим образом:
«Наша эпоха, основное содержание которой
составляет переход от капитализма к социализму, начатый
1 «U. S. News and World Report», New York, vom 16.10.1967,
p. 100.
8 Ирнбаджаков
225
Великой Октябрьской социалистической «революцией,
есть эпоха борьбы двух противоположных
общественных систем, эпоха социалистических революций и на-
щгонально-оовободительных революций, эпоха
крушения (империализма, ликвидации .колониальной системы,
эпоха перехода на путь социализма <вое новых пародов,
торжества социализма и коммунизма .во ©еемирном
масштабе.
Главная отличительная черта нашего времени
состоит в том, что мировая социалистическая система
превращается в решающий фактор развития человеческого
общества»1.
Идеологи буржуазии особенно обеспокоены
неослабным влиянием успехов Советского Союза на
национально-освободительное движение. Так, видный
американский политик, член Верховного суда США Вильям
Дуглас писал в своей мните сВььзов Америке»: «Мы
должны подвергнуть наши взгляды и стратегию решительной
переоценке, иначе политический центр тяжести
переместится далеко на Восток, а мощь коммунистического
блока (вырастет настолько, что мы окажемся на
небольшом острове, в стороне от столбовой дороги
исторического развития» 2.
В своем заключительном слове на VII съезде СЕПГ
Вальтер Ульбрихт дал следующую оценку попытке
правительства США реализовать это требование:
«Империализм принял вызов, который как в
прошлом, так и в настоящем для него связан с
возникновением и бурным развитием Советского Союза и ряда
других социалистических государств»3.
Бжезинский, конечно, полностью отдает себе отчет
в идеологическом значении определения характера
нашей эпохи. Он пытается дать объективно
существующим явлениям «новое» толкование в духе
империалистической идеологии, тщится дать контропрецеление,
нацеленное на то, чтобы подорвать позиции мировой
1 Программные документы борьбы за мир, демократию и
социализм, М., Госполитиздат, 1961, стр. 39.
2 W. Douglas, America Challenged, Princeton University Press,
I960, p. 39.
3 W. U 1 bri ch t, Die gesellschaftliche Entwicklung in der Deut-
schen Demokratischen Republik bis zur Vollendung des Sozlalismus,
Berlin, 1967, S. 280.
226
социалистической системы © развивающихся странах, а
также в самих социалистических (государствах. По
Бжезинскому, (международная политика просто
охвачена кризисом. Научно недопустимым способом он
обобщает (кризис империалистической системы и удары,
наносимые ей за последние годы ©о ®оех частях мира. В
действительности ;же ослабление позиций
американского империализма ib мирном соревновании двух мировых
систем, обусловленное укреплением шхлитичеоких,
экономических и (военных позиций Советского Союза и
тесно связанных с мим европейских социалистических
государств, четко обнаружило глубокий (кризис
империалистической внешней политики США как существенной
формы проявления всеобщего (Кризиса капитализма.
Бжезинский хотел бы выскочить из этого кризиса и
прописать империалистическим политикам,
руководящему слою в развивающихся странах универсальные
рецепты. Не отвечая добросовестно на им же самим
поставленный вопрос о характере нашей эпохи,
профессор Бжезинский открывает пять «изменений»,
долженствующих, понвидимому, сыграть для американских
империалистов роль философского камня.
Басня о «мертвом марксизме»
Первое великое «открытие» Бжезинокого
заключается в том, что-де идеология коммунизма мертва и не
является движущей силой революционных
преобразований. Иичтоже сумняшеся, он пишет:
«Коммунистическая идеология, как жизненная сила, среди «ас более .не
существует». Одновременно в этом проявляется его
иллюзия о возможности идеологически разоружить
социалистические (страны и нарушить союз «между-
социализмом и национально-освободительным движением. В
качестве главного доказательного признака Бжезинский
при этом приводит раскольническую политику группы
Мао Цзэ-дуна, благодаря которой «единой глобальной
поддержки» последовательной борьбы (коммунистов
против империалистической системы со стороны всех
антиимпериалистических сил больше-де последовать и
возобновиться не может. Поэтому-де революционные
движения в различных частях света «становятся- все
более специфичными, опираются на местные укоренив-
8*
227
шиеся традиции, пытаются использовать локальные
возможности. Таким образом, общее учение и его
мнимая универсальная значимость разводняется
специфическим приспособлением. Этот процесс «нарушает
универсальное созвучие и действенность .идеологии в
глобальных масштабах». Это стало ходячим методом
идеологической обработки вождей антиколониальной
борьбы в «третьем мире» у идеологов всех мастей
американского империализма, питающих надежду раздробить
антиимпер и алистическую, антикол они ал ьную бор ьбу
на локальные, частичные аиции, с «которыми
империализм надеется отравиться локальными, по характеру
оружия ограниченными войнами, время и место
проведения .которых Пентагон изберет по «собственному
усмотрению.
«Либеральные» профессора, такие, как Эдвин
О. Рейшауэр — посол Кеннеди в Токио, выражаются
более галантно, «о думают то же самое, утверждая, что
«великой мировой проблемой нашего времени, а также,
по-видимому, и ближайших поколений является не
идеологическое деление между (коммунистическими и
некоммунистическими нациями, а более 'существенное
деление мира между третью человечества,
(контролирующей четыре пятых своего богатства, и даумя третями
человечества, пытающимися организовать свое
существование с жалкой одной пятой мировых богатств» К
Эти теоретики американского империализма ставят
перед собой главную задачу вновь затуманить сознание
миллионных масс, закаленное марксистской
воспитательной работой в течение ста лет, сознание того, что
лучшее будущее может быть завоевано только
классовой борьбой. Классовой борьбы якобы больше нет.
Согласно этой «логике», нет-де нужды и в бастионе
этой «классовой борьбы, в блестящем примере нового,
достигнутого классовой борьбой в Советском Союзе и
в сплоченных вокруг «его братских государствах
мировой социалистической системы. А к этому направлению
идеологического удара, избранному американской
буржуазией, подходит затем и «новое» обоснование, почему-
де нет классовой борьбы и в национальном масштабе и
почему, мол, капиталистический строй имеет вечный ха-
1 «Congressional Record», vom 22.8.1967, S. И, 979.
228
рактер: «Общественные изменения... образуют... такой
огромной сложности (взаимосвязанный процесс...
охватывающий так много изменяющегося, что его -нельзя
свести « некоторым (простым -идеологическим формулам,
как это было в начальной стадии индустриализации».
Таким образом, Маркс был прав в свое время —
Бжезшюкий с этом даже «великодушно» соглашается,—
но теперь, дескать, марксизм мертв. Тем самым
профессор выполняет овою часть реакционной антисоветской
кампании, разработанной в «юнце 1956 года в
специальном плане Бюро разведки и 'Исследований
государственного /департамента США1. Ведь «кто «умерщвляет»
Маркса, тот, как думают идеологи США, суничтожает»
в сознании широких масс также Советский Союз и
социалистические государства как новое общество,
существующее без эксплуатации, гарантирующее справедливый
порядок жизни.
Теория конвергенции «а ля Бжезинский»
В статье о «воздействии изменений на внешнюю
политику США» проф. Бжезинокий зарекомендовал себя
ревностным приверженцем так называемой теории
конвергенции. Эта идеологическая стратегия
монополистической буржуазии, разработанная преимущественно
Ростоу и Ароном как апологетика капитализма и
антикоммунизма, является в то же .время выражением
кризиса буржуазной идеологии, .оказавшейся «неспособной
дать действенный ответ на (вопросы современной
общественной жизни.- Болтовня Бжезинакаго о «мертвом
коммунизме» свидетельствует о том, что он не
поднялся даже ла ступень познания бы;вшего президента США
Эйзенхауэра, который однажды заявил: «Я самый
непримиримый ©par коммунистической (идеологии в мире,
но я убежден—тлупо притворяться, что коммунизм не
существует, или притворяться, что он не имеет большой
притягательной силы для людей... Совершенно
бесполезно просто кричать о своей вражде к коммунизму»2.
1 См.: Ф. Л а то в, Разведка США и ее методы, сМеждународ-
ная жизнь», № 9, 1967, стр. 95.
* См. «Aus der Internationalen Arbeiterbewegung», Berlin,
No 15/1967, S. 5.
229
Для беззаботного Бжезшгакого (коммунизм просто
«мертв». Тем самым он думает остановить дальнейшую
эволюцию дилеммы американской внешней политики
после «торой мировой войны, о которой американский
историк Флеминг пишет: «Как бы ни велика была наша
ничем не поколебленная мощь после 1945 года, ее было
недостаточно, чтобы одну половину мира удерживать,
а другой вечно руководить» х.
Из дилеммы для господствующих кругов -США
вытекает альтернатива: или признать закономерный рост
мировой социалистической системы и мирное
сосуществование между обеими мировыми системами, или же
противодействовать исторической закономерности. Он
отвечает в пользу последней. Это, собственно, он и
должен делать, потому что его задача заключается в том,
чтобы «теоретически» оправдать агрессивную
глобальную стратегию американского империализма и
затуманить сознание народных масс.
Бжезинский распространяет тезис об «обновлении»
современного капитализма и о том, что-де развитие
мира движется в направлении к «единому
индустриальному обществу». Как и Арон, Бжезинский хочет
заставить поверить, что-де юоциализм и капитализм — это
«две одинаковые разновидности». По своему существу
теория конвергенции является модернизированным
вариантом провалившейся концепции «единого мира»,
которая была призвана обосновать и оправдать
притязания американского -империализма на руководство ibo
всем мире после второй мировой войны. Она
направлена против объективного, закономерного характера
перехода от капитализма к социализму и пытается
исключить основные противоречия современной эпохи.
Затушевывая истинные причины империалистических
агрессивных войн, оправдывая задним числом фашизм
как эмоциональную смесь идеологии и национализма,
Бжезинский проповедует «деидеологизацию» в
отношениях между, как он выражается, развитыми нациями.
Его требование: откажитесь от марксизма-ленинизма, и
напряжения в отношениях между великими державами
больше существовать не будет.
1 D. F. Flem i n g, The Cold War and its Origins, London, 1961,
p. 1074.
230
Волюнтаристский Тезис о «ДеиДеоЛогйЗаЦий»
Международных отношений рассчитан на то, чтобы
оправдать агрессивный, в своей политической основе
абсолютно произвольный характер американской
глобальной стратегии. Заправилы американской внешней
политики хотели бы заставить мир поверить в то, что
такие основополагающие принципы, .как право наций иа
самоопределение или политика мирного
сосуществования должны-де быть подчинены «способности» и
«готовности» сильнейшей державы, то есть США,
безгранично использовать свои средства уничтожения. Это
показывает, что тезис о «деидеологизации» является
частью ^внешнеполитической концепции, выступающей за
современный волчий закон -насилия в международной
политике.
Цель «конвергенции» —
уничтожение социализма
Теоретики «конвергенции» утверждают, что будто
развитие на обоих мировых полюсах — США и СССР —
неизбежно приводит к постоянно возрастающему
нивелированию капиталистической и социалистической
аистем, различия между ними стираются и они в
конечном счете образуют «единое индустриальное общество».
Благодаря тому, что крайности нынешнего времени
должны все более соприкасаться, капитализм, согласно
теории «конвергенции», становится ©се менее
капиталистическим, а социализм — ©се менее социалистическим.
Согласно вожделениям империалистических идеологов,
постоянно растущий жизненный уровень в
социалистических странах должен обуржуазить их образ жизни и
побудить их к отказу от единства социалистического
лагеря и планомерного развития своей экономики. Для
этих идеологов политическая структура общества
является непосредственной функцией уровня развития
производительных сил. Сознательно утаивается
неразрывная связь и взаимная зависимость политической и
социальной (структуры от характера производственных
отношений, прежде всего отношений собственности.
Затемнением противоположной сущности капитализма и
социализма преследуется цель увести от понимания
того, что как раз в этом решающем оуякте обе системы
231
bee более удаляются друг от друга. Какая огромная
дистанция, например, существует между социалистической
демократией, при которой трудящийся (народ может
свободно раскрывать свои творческие потенции, и
кризисом буржуазной демократии, выражающимся в
чрезвычайных законах, выступлениях ультраправых и
неонацистов, а также в монополизации экономической и
политической власти в руках супермонополий! В то
время как в империалистических странах, особенно в США,
нужда и бедность являются уделом существования
многих миллионов эксплуатируемых и дискриминируемых
людей, социалистические (государства давно
ликвидировали социальные причины нужды и обеспечивают
своим -гражданам жизнь, достойную человека.
Попытка стереть качественное различие между
капитализмом и социализмом обнажает утонченную
замаскированную антикоммунистическую сущность теории
«конвергенции». У ее представителей, к которым теперь
следует причислить и Бжезшгакого, речь идет не о
мирном сосуществовании обеих мировых систем, а об
использовании внешнеполитических средств с целью
осуществления желаемого процесса «вырождения»
социалистических стран в капиталистические. Тем самым
стратегической целью является не так называемая
конвергенция, а крушение социалистической системы. Но
мирное сосуществование в свою очередь зависит не от
социальной и политической однородности, а от мира и
сотрудничества обеих качественно различных и
противоположных социальных систем.
Усилившееся наступление мировой социалистической
системы против капиталистической в области
экономического соревнования, научно-технического прогресса,
политической и идеологической (борьбы, характерное
для третьего этапа общего кризиса капитализма,
выводит из себя буржуазных идеологов.
По Бжезинскому, решающий вклад в «сохранение
мира» должно внести ядерное оружие. Следовательно,
чем больше ядерного оружия, тем более в мире дело
пойдет по-мирному, говорит своеобразная логика этого
профессора, отрицающего, что успешная борьба сил мира,
революционное национально-освободительное движение
и социализм создавали и создают условия мирного
сосуществования на основе все более действенных измене-
232
ний соотношения сил в пользу социализма, не
позволяющим империалистам развязать мировую войну.
Полностью сознавая факт, что нападение на
европейские социалистические страны означает гибель
американского империализма, Бжезинский .все же не хотел
бы оставить неиспользованными его агрессивные
потенции, .и он провозглашает, что якобы «центр 'применения
силы... сегодня переместилоя /в третий мир».
Здесь отчетливо видно стремление вывести
американский империализм из состояния исторически
обусловленной обороны, обеспечить ему viyin достижения
главной стратегической цели большую политическую,
экономическую, идеологическую и не в последнюю
очередь военную сферу действия, особенно в отношении
национально-освободительного движения.
Для осуществления возможного в данных условиях
американский империализм, в соответствии со
взглядами проектантов государственного департамента и
Пентагона, принял решение атаковать главные позиции
мировой социалистической системы с флангов. Вопреки
правде, говорящей о том, что причины войн коренятся в
закономерностях империализма, Бжезинский твердит:
«Неустойчивость в слаборазвитом мире... источник
глобальной напряженности». Тем самым должна быть
скрыта подоплека не/давней агрессии Израиля и
завуалировано антагонистическое противоречие между
империализмом и национально-освободительным
движением.
Грязную войну против вьетнамского народа он
декларирует как «конфликт, который втянул богатую и
высокоразвитую страну в усилия по созданию
региональной стабильности». Но если существует угроза
миру и безопасности в Юго-Восточной Азии, то только
потому, что американский империализм пытается с
помощью агрессии /во Вьетнаме подавить
национально-освободительное движение и изолировать его от
социалистических стран. Со своей демонстрацией «силы»,
призванной одновременно подновить в глазах
капиталистических государств подаорчеиную вывеску -«руководителя
свободного мира», американский империализм сам в
результате своей преступной политики попал в
широкую изоляцию.
233
Мираж всемогущества США
Бжезинокий не хочет признать, что вступление в
третий этап общего кризиса капитализма для
американского империализма, борющегося за утверждение
своего гооподства, означает, что он перешел свою
высшую точку, что США как оплот мировой реакции, чьи
позиции подмываются внутренними и внешними
объективными процессами, поражаются кризисом на этом
новом этапе в наибольшей степени. Он упорно твердит,
что послевоенная история характеризуется якобы
«подъемом Соединенных Штатов до уровня решающей
мировой державы». Однако действительная мощь
американского империализма и его фактическая роль в мировой
политике могут быть правильно оценены, если не он
будет рассматриваться изолированно, как это делает
апологет Бжезинский, который с безграничным
высокомерием утверждает: «Бели ныне в .мире и существует
творческое общество, то это Соединенные Штаты...»
Предлагаемая здесь тощая выдумка о так называемом
исключительном капитализме «призвана решить
.квадратуру круга, а именно исключить американский
империализм из современной эпохи, главным
содержанием которой является начатый Великой Октябрьской
социалистической революцией переход от капитализма к
социализму.
Так отражается, не говоря о постоянно
усиливающейся внутренней неустойчивости американского
империализма, общий кризис империалистической внешней
политики США в кризисе их политики мирового
господства и соответствующих ей доктрин и идеологий.
Цель и содержание, стратегия и тактика внешней
полили-таки действительно находятся под решающим
влиянием международной классовой борьбы обеих мировых
систем, распада колониальной системы и изменений в
империализме, являющихся результатом действия
закона о неравномерности политического и экономического
развития капиталистических стран.
В своей книге «Ядерное оружие и внешняя
политика» (1957) Генри Киосингер сожалел, что США,
несмотря на монополию атомной бомбы, «никогда не
удавалось» свое «военное превосходство превратить в полц-
Щ
tiWecKOe преимущество»1. Деся1ъ лef спустя Бжезии^
ский хочет заставить мир поверить небылице, что-де
США стали мировой державой, а «Советский Союз в
действительности — региональной державой». Тем
самым Бжезинский выдвигает утверждение, вытекающее
не из какого-то личного заблуждения, а из желания
оценить роль США способом, который не согласуется
с политической реальностью в мире. Он не только
«недосмотрел» тот факт, что 'социалистические страны
представляют собой мировую систему, по которой и
США с конца второй мировой войны должны
«спрямлять» главные линии своей (внешней (политики, но также
и то, что во всей несоциалистичеокой части мира
имеются лишь немногие государства, которые не
наталкивались бы на могучее социалистическое и
демократическое движение народных масс. Мировая мощь
Советского Союза выражается также в том, что в мире нет
такого важного политического вопроса, который мог бы
быть обсужден без его участия или без учета его
потенции и отклика. Совершенно не .говоря уже о факте,
который должен бы быть известен также и господину
Бжезинскому, что Вооруженные Силы Советского
Союза обладают таким качеством, которое дает ему
возможность уничтожить любого aipeccopa.
Подчиняясь опасной искаженной оценке соотношения
сил в мире, Бжезинский угрожает: «В (последствии
наша мощь стала применимой мощью, с системой
дальнего действия, со средствами, позволяющими внушить
к себе уважение в радиусе всего мира». За этой
болтовней скрывается иллюзия, что якобы постоянный
количественный рост военных усилий американского
империализма (может привести к качественному изменению в
соотношении сил между социализмом и империализмом.
Поскольку в иллюзорном мире господина Бжезинско-
го Соединенные Штаты являются единственной
«глобальной державой, он ратует за то, чтобы США
повсюду вмешивались, так как «неучастие их привело бы
к хаосу огромного масштаба». Эти попытки изменить
направление исторического развития, постоянное
ослабление позиций империализма, отражающее объективное
1 Н. Kissinger, Kernwaffen und Auswartige Politik, Mun-
chen, I960, S. 10.
235
содержание процесса в международных отношениях,
достигают у Бжезинского своего апогея, когда он в
типично империалистической манере утверждает, что
«интервенция .всегда оправдана тогда, когда ее отсутствие
привело бы к ослаблению региональной стабильности о
возрастающих размерах». Тем самым он хотел бы
оправдать агрессивную глобальную стратегию,
выходящую за рамки общепризнанных норм международного
права. За этим скрывается империалистическое jus ad
bellum, диа*мегрально противоположное основным
принципам Хартии Объединенных Наций. Из хода
преступных размышлений Бжезннского логично нытекает, что
зверскую агрессию американского империализма во
Вьетнаме он характеризует и «авторизует» «ак
«усилия», направленные на «создание региональной
стабильности ib Юго-Восточной Азии».
Со всей очевидностью здесь проглядывает
животный страх перед неудержимым закономерным ростом
сил мира и социализма, вынуждающих идеологов
американского империализма саморазоблачаться
подобным образом. Эта угроза так называемой силой не
может ввести в заблуждение. Причина усилившейся
агрессивности кроется не в усилении, а в возрастающем
ослаблении империализма. Даже такой почитатель
США, как известный английский историк Арнольд
Тойнби, вынужден признать: «Америка ныне больше не
является инспиратором и вождем мировой революции...
Более того, ныне Америка — вождь
антиреволюционного движения в защиту интересов власть имущих» К
Власть имущие — это крупные военные монополии.
Они инспирируют разнузданную агрессию в целях
обеспечения и повышения прибылей, на которых более
чем когда-либо запеклось крови зверски убитых
мужчин, женщин и детей во Вьетнаме и других частях
света. Бжезинский следует антикварным
внешнеполитическим догмам «американского века», не желая понять и
признать, что этот век, вообще даже не начавшись,
пришел к концу. Противоречие между целями
мирового господства и возможностями их осуществления в
условиях, когда социализм в возрастающей степени
1 A. J. T о у n b e e, America and the World Revolution, London,
1962, p. 16.
236
становится определяющим фактором развития
международного соотношения сил, обнажает глубокий кризис
нынешней внешней политики США во всех формах ее
проявления. Ее опасность достигает своей
кульминационной точки в попытке решить исторический спор
между социализмом и капитализмом силой оружия.
То противник, то защитник национализма
Бжезинскому принадлежит также открытие
«тенденции к постнационализму», характеризуемой им как
конец верховной власти национального государства на
международной арене. Но поскольку есть еще
мировая держава Соединенные Штаты, логично следует, что
так называемыми национальными интересами США
должны стать интересы всего мира. Ведь уже в
отчетах Рокфеллера на исходе 50-х годов заявлялось:
«Фактически великой целью внешней политики
является то, чтобы мировой порядок принимал формы, в
которых Соединенные Штаты могли чувствовать себя
дома как в духовном, так в экономическом и
политическом отношениях» 1.
Однако эта враждебность к национализму
дифференцируется. В практике глобальной стратегии это
выражается в попытке не допустить или же ошельмовать
независимую внешнюю политику других
капиталистических стран, например Франции. Далее такой
дифференцированный подход используется против борьбы
молодых национальных государств за национальную
независимость, государств, включаемых в «глобальную»
концепцию американского империализма или же
принуждаемых к этому «локальными» войнами, если дело
идет о «региональной стабильности», а не о—как
думает Бжезинский — «специфических внутренних
последствиях» интервенционистской политики США в
отдельных странах. Там, где справедливые национальные
требования противостоят империалистическим интересам
США, они подвергаются клевете и даже выдаются за
источник международной напряженности.
Тот же самый Бжезинский, проповедующий конец
национального государства, становится именно там,
1 Wohin geht America?, Wiesbaden, 1962, S. 46.
?37
где оно стоит на пути американской глобальной
стратегии, страстным поклонником последнего, если речь
идет об отношениях между государствами мировой
социалистической системы. Тщетно надеясь ослабить
братские связи европейских социалистических
государств с СССР и вбить клин между
социалистическими государствами, «строители мостов» типа Бжезин-
ского ратуют за «ускоренное развитие
восточноевропейского национализма» 1. Идеологические диверсанты
американского империализма ведут наскоки на
принцип социалистического интернационализма, чтобы
проложить путь для желаемс^й ими реставрации
капитализма в социалистических странах. Они хотят
сконструировать антагонизм между национальными
интересами и социалистическим интернационализмом, чтобы
ослабить единство действий социалистических
государств против империализма. О тщетности подобных
попыток писал Янош Кадар:
«В последнее время находятся на свете люди,
которые называют себя коммунистами и в то же время
антисоветски настроены. Но мы не знаем
антисоветского марксизма-ленинизма, антисоветского
интернационализма, антисоветского коммунизма, мы знаем,
что этого в действительности не существует».
Социализму, который, устранив эксплуатацию
человека человеком, ликвидировал также и характерное
для буржуазных наций разделение, чужда вражда
между нациями. Соединенные братскими узами,
социалистические государства укрепляют тесное
сотрудничество между собой на основе социалистического
интернационализма и тем самым наилучшим образом
служат своим национальным интересам.
. Господин Бжезинский и вообще все глобальные
стратеги должны бы принять к сведению, что мы
усиливаем не только нашу военную оборонительную мощь,
но и в марксизме-ленинизме имеем такое оружие,
которое отвечает всем требованиям идеологической
классовой борьбы. Успех, правда, обеспечивается не
автоматически. Нужна систематическая наступательная
1 См.: Z. Brzezinski, Alternative to Partition, New York,
1965, p. 31 (Westdeutsche Ausgabe: Alternative zur Teilung, Koln,
1966, S. 58 if.).
238
борьба, ф особенности против любых форм проявления
антикоммунизма, а также и буржуазной идеологии в
целом. Вместе с тем нужна неослабная борьба с
«правыми» и «левыми» ревизионистами, со взглядами
национальной ограниченности, представители которых
объективно льют воду на мельницу стратегии наводчиков
мостов типа Бжезинского.
Растущая бесперспективность
Пятое и последнее «открытие» Бжезинского состоит
в том, что, мол, в США в целом существует общество
будущего, на которое должны ориентироваться все
политики, все народы, потому что «Соединенные Штаты
развиваются в направлении нового общества,
общества, которое более не характеризуется последствиями
индустриального процесса для общественной,
экономической и политической жизни. Эти последствия все еще
формируют европейскую жизнь...». «Соединенные
Штаты не находятся более в этой исторической эпохе. В
большей мере наши социальные дилеммы коренятся в
свободном времени, в таких факторах, как
благополучие, автоматизация, физическое здоровье и отчуждение
молодежи...». «Мы действительно развиваемся в
направлении послеиндустриального общества».
Мы здесь цитировали так подробно Бжезинского
потому, что в этих его утверждениях наиболее
явственно выражается смысл идеологии глобальной
стратегии: США со своим современным
государственно-монополистическим эксплуататорским строем является-де
желанным идеалом общественного строя, и они
«бескорыстно» борются, чтобы навязать этот идеал всему
миру. 16 октября 1967 года газета «Правда» писала:
«По мере того, как растут социально-экономичеокие,
научные и технические успехи социалистических стран,
их военная мощь, для врагов социализма становится
все очевиднее беспочвенность расчетов расправиться с
социализмом военной силой. Они вынуждены
придавать все большее значение политическим, социальным
и технико-экономическим аспектам борьбы двух
систем в целях спасения капитализма».
На это, естественно, нацеливается также и
идеологическая пропаганда США, которая, по словам Томаса
239
Соренсена, руководящего сотрудника ЮСИА (оЛного из
главных инструментов психологической войны,
ведущейся официальной Америкой), имеет задачу!
«Создавать за рубежом общественный климат,
способствующий внешнеполитическим целям США... одновременно
проецируя картину сильной, демократической и
динамичной Америки, достойной быть поддержанной всеми
свободными людьми мира в осуществлении
внешнеполитических задач США>.
В то время как стратеги Пентагона надеются, что
длительная, напряженная борьба с помощью малых,
так называемых ограниченных локальных войн и
конфликтов исчерпает материальные ресурсы
антиимпериалистических борцов и деморализует народы,—
стратегия, которую они хотят за десятилетия осуществить в
глобальных масштабах !,— Бжезинский рисует
«светлое» будущее государственно-монополистического
строя. В этом его поддерживают политики, считающие,
что «жизнь требует... отмены искусственных
ограничений, препятствующих циркуляции материальных
ценностей и идей».
Бжезинский называет это «послеиндустриальным
обществом», либеральный профессор
Гэлбрейс—«новым индустриальным государством». Это они хотели
бы предложить всем народам как цель, достойную
борьбы. Эрик Берт, руководящий деятель КП США, в
речи на международной научной сессии ЦК СЕПГ в
Берлине в связи со 100-летием выхода в свет первого
тома «Капитала» — основного произведения К.
Маркса — говорил:
«Концепция нового индустриального государства
сочинена Гэлбрейсом, чтобы опровергнуть марксистский
взгляд на государственно-монополистический
капитализм. Индустриальное государство, утверждает
Гэлбрейс, является комплексом, охватывающим как
индустриальную систему, так и государство. Тенденция-де
направлена к тому, чтобы созревшее акционерное
общество, или, говоря более общо, индустриальную
систему, слить с государством. В важных областях
созревшее акционерное общество является рукой государства,
1 См.: Б. Теплинский, Военная программа США,
«Международная жизнь», № 8, 1967, стр. 74—80.
240
а государство в важных делах представляет собой
инструмент индустриальной системы. Изменения, уже
наступившее в экономике США, и те, которые находятся
в развитие, ведут к социализации созревшего
акционерного общества, которое ассоциируется непосредственно
с государством.
Он просто придерживается того мнения, что
слияние акционерного общества с государством, то есть
образование государственно-монополистического
капитала, равнозначно социализации.
И даже более того, Гэлбрейс выдвигает точку
зрения, что со временем разграничительная линия между
созревшим акционерным обществом и государством
исчезнет» К
Бжезинский дует в ту же дудку, что и Гэлбрейс. Он
разъясняет удивленным современникам, что борьба
американского цветного населения за свое социальное
и политическое равноправие, усиливающаяся
забастовочная борьба американских рабочих за повышение
заработной платы являются, собственно, лишь
«проблемой формирования свободного времени». Если каждый
третий американец—нервнобольной, а каждый пятый
по той же причине находится на постоянном лечении в
результате изнурительного труда и изнуряющей нервы
массовой пропаганды монополистического капитала, то
для прожектеров американского госдепартамента это, к
сожалению, всего лишь мелкие побочные явления
напряженности «послеиндустриального общества», которое
якобы еще не полностью справилось со свободным
временем.
Но какими бы ни были пять открытий Бжезинского,
за ними кроется система, система «деидеологизации»,
то есть попытка удержать трудящиеся массы от того,
чтобы они интересовались марксизмом-ленинизмом как
теорией и изучали его практическое применение в
Советском Союзе и других, тесно сплоченных с ним
социалистических странах. Концепции Бжезинского
являются составной частью обреченной на провал попытки
империализма с помощью широкой идеологической
диверсии расколоть социалистический лагерь. Идеологиче-
cAus der Internationalen Arbeiterbewegung>, № 19, 1967, S. 17.
241
ской экспансией должна быть подготовлена военная. Для
этого буржуазные псевдотеории должны быть
превращены в составную часть «мирового мнения» и/тем
самым создать для США возможность незаметно
достигнуть целей своей глобальной стратегии.
В условиях усиления идеологической борьбы между
капитализмом и социализмом перед нами стоит задача
поднять на более высокий уровень сотрудничество
марксистов-ленинцев всех стран в идеологической
области для успешной борьбы против общего врага.
Ганс Мох
Германская Демократическая Республика
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИТИКИ ФУТУРОЛОГИИ
Среди многочисленных публикаций тех
западногерманских ученых, которые, исходя из различных
мировоззренческих и политических позиций и проблем
соответствующих областей знания, рассматривают
перспективы будущего развития общества, одним из наиболее
заслуживающих внимания является предпринятое с
1964 года издание Робертом Юнгком и Гансом
Иосифом Мундтом серии «Модели нового мира». Правда,
не по замыслу издания, а по реализованному в ныне
существующих томах содержанию «Модели»
представляют собой крайне неоднородное собрание точек
зрения о «планируемом мире будущего»; проблемы его,
как пишет в своей вводной статье к серии Г. Мундт,
являются «далекой terra incognita», о которой не
существует никаких определенных представлений и понятий
и которая покрыта мраком предрассудков и
негодований К
Чтобы получить представление о серии, можно
было бы попытаться разделить эти статьи, исходя из
различных точек зрения или, соответственно, из различных
областей науки или различных элементов
рассмотрения будущего: общемировоззренческих установок,
прогнозов, касающихся более или менее ограниченных
общественных и научных областей, концепции
планирования и, наконец, соображений по поводу
демократического контроля и» участия в нем общественности.
Но, по существу, как те, так и другие возможные
аспекты могли бы быть критерием
политико-идеологической действенности защищаемых авторами «Моделей»
концепций в современных условиях ФРГ.
С этой точки зрения следовало бы в первую очередь
1 См.: Griff nach der Zukunft, S. 43.
243
назвать тех авторов, которых, в соответствии с их
стремлением к некоторым общим принципам, можно
охарактеризовать ими же самими выбранным выражением как
«футурологов». К ним относятся оба издателя, затем
ученый в области политических наук Осип К. Флехт-
гейм, который еще в 40-х годах выдвинул термин
«футурология» !, а также Эрих Бааде, Вальтер Диркс, Отто
Вальтер Хаселоф, Пьер Берто.
Термин «футурология» в настоящее время является
очень модным словом, однако он оказывается не
подходящим для применения его ко второй группе статей
«Моделей», которые численно преобладают и которые
посвящены дальнейшему и узко специализированному
изложению тенденций в различных областях науки,
техники, демографии, планировании городов и районов и
практике планирования в этих областях.
В-третьих, следует назвать такие статьи, в которых
«компетентной стороной», а именно экспертами по
прогнозам и планированию предприятий монополистического
капитала и государственных учреждений, излагаются
мероприятия и система
государственно-монополистического регулирования и «планификации», а также
планирование производства. Это и составляет основное
содержание статей второго тома. Но по политической
ориентации сюда следует причислить и таких авторов, как фон
Хертиг, Кленнер, Гейнц Пертцлиг.
Наконец, в-четвертых, в «Моделях» представлены
ученые, публицисты и политики, которых по праву
можно назвать антиподами третьей группировки, например
Фриц Вильмар и Вольфганг Абендрот, которые открыто
выражают свою позицию в западногерманском рабочем
и профсоюзном движении и развивают значительно
более определенные по сравнению с футурологами
представления относительно ближайших и отдаленных
требований и возможностей формирования будущего;
далее—Вальтер Фабиан, фон Икскюль, Гюнтер Андерс,
Фриц Бауэр, известные как публицисты, которые могли
бы изложить требования антимонополистической
программы-альтернативы для изменения экономического и
1 О. К. F 1 е с h t h e i m, Eine Welt oder keine? Beitrage zur Po-
litik, Politologie und Philosophie, Stuttgart, 1964, S. 38.
244
политического соотношения сил в ФРГ в ближайшем
будущем.
В связи с различной ориентацией авторов,
представленных в «Моделях», было бы не удивительно, если
даже в одном и том же политическом лагере по-разному
реагировали на появление «Моделей», например, Франц
Иозеф Штраус и Гельмут Шельский, которых, не ставя
на одну доску в интеллектуальном и нравственном
отношениях, вполне можно по тому, как они изображают
будущее, причислить к одному и тому же политическо-
идеологическому направлению.
Штраус приветствует намерение заняться сисследо-
ванием будущего» как ценное начинание, если при этом
будут поступать «без гнева и пристрастия» К Гельмут
Шельский, напротив, в принципе отвергает
«исследование будущего», как оно представляется издателям и
«футурологам», потому что планирование его носит
идеологизированный, утопический и даже
эсхатологический характер и основывается на устаревшем понятии
науки2. Ниже мы коснемся аргументов Шельокого и
его взглядов на отношение социальной науки к
предвидению и планированию.
То, что Штраусу «Модели» представляются
ценными— а значит, приемлемыми для формирования
государственно-монополистической системы господства v—
относится, по всей видимости, к тем статьям, которые
принадлежат к третьей из названных групп.
Полемика Шельского, наоборот, направлена прежде
всего против «футурологов» и, конечно, хотя это явно
не выражено, лишь против тех авторов, которые самым
решительным образом выражают свои демократические
настроения.
Не претендуя на то, чтобы обстоятельно изложить
причины усилившегося интереса к «исследованию
будущего»3, следовало бы в данной связи указать на два
1 Modelle fur eine neue Welt. Prospekt des Deutsch-Verlags, Mun-
chen.
2 H. Schelsky, Planting der Zukunft. Die rationale Utopie und
die Ideologie der Rationalitat, в: Soziale Welt, Dortmund, 1966, Hf.
2, S. 155 ff.
3 Такое изложение дают Ф. Фидлер и В. Мюллер в своей статье
в: DZfPh, 1967, Hf. 3.
245
обстоятельства, характеризующие действенность, а
Также некоторые особые черты «футурологических»
публикаций в Западной Германии.
В своей вводной статье к 1-му тому «Моделей»
Мундт пишет, что серия должна дать ответ и на
вопросы, которые западногерманские ученые затронули в
своих критических статьях по поводу книги
«Инвентаризация— немецкий баланс 1962 г.» («Die Bestandsaufnah-
me — Eine deutsche Bilanz 1962»). Нельзя сказать, что
это намерение реализовано в «Моделях». Но замечание
Мундта содержит указание на одну из наиболее
существенных причин наступившей в Западной Германии с
начала 60-х годов усиленной ориентации на проблемы
предвидения и планирования общественных процессов.
В эти годы, особенно с момента проведенных
правительством ГДР мероприятий по защите государственных
границ от посягательств ФРГ, и для значительной
части западногерманского населения стало очевидным
банкротство боннской политики реванша и завоевания
ГДР. Правда, в последующие годы западногерманской
монополистической буржуазии путем усиленного
разжигания реваншизма, милитаризации общественной жизни
и дальнейшего расширения
государственно-монополистической системы господства удалось скрыть от
западногерманского населения это неизбежное, закономерное
крушение своей политики, представить ее банкротство
как неудачу нецелесообразного метода, который якобы
следует лишь заменить более подходящим методом.
Однако понимание того, что эта реваншистская
агрессивная политика тогдашних правительств основывается
на неправильной оценке реального положения и законов
развития нашей эпохи, как и прежде, представляет
собой главный вопрос такого баланса
западногерманского развития и единственно реалистичный фундамент для
соображений о развитии будущего общества и проектов
его, независимо от того, идет ли речь только о
предвидении в отдельных сферах общества или о более
широких концепциях демократических изменений и
ликвидации неонацизма и милитаризма в Западной
Германии. В «Моделях» этот коренной вопрос вполне
определенно поставлен только в одной статье Вальтера
Диркса.
Чтобы понять постановку вопроса и аргументацию
246
в статьях «Моделей», следует обратить внимание на
более значительное обстоятельство. Бросается в глаза,
что уже в первом томе, вышедшем в свет в 1964 году,
у многих авторов статей большую роль играло
противопоставление «сторонников планирования» и
«противников планирования». Планирование, прогнозы,
программирование— эти понятия вплоть до последних лет
употреблялись официальной правительственной
пропагандой ФРГ в высшей степени в унизительном,
извращенном смысле «тоталитарной, управляемой центром
экономики», якобы свойственной социализму.
Демагогическое словесное манипулирование, с одной стороны,
было рассчитано на то, чтобы с помощью фразеологии о
«свободном», «социальном рыночном хозяйстве» скрыть
реставрацию власти монополистического капитала и
происшедший еще в середине 50-х гг. переход к
государственно-монополистическому капитализму. С другой
стороны, оно являлось составной частью
антикоммунистической пропаганды — противопоставлялись друг
другу не капиталистическая и социалистическая системы
хозяйства, а «рыночное» и «плановое» хозяйство.
Изменение в официальной позиции началось только в
последние годы, когда оказывается необходимой строгая
координация государственно-монополистических
мероприятий по регулированию.
В этих условиях западногерманские публицисты в
прошлые годы попытались в известной мере
удовлетворить «потребность наверстывания» и сначала
реабилитировать проекты-прогнозы и проекты-планы. Однако
во многих случаях совершенно абстрактное
противопоставление защитников и противников таких проектов
давало неправильное представление о наличии
действительных фронтов. Вместе с действительной
противоположностью оттеснялся на задний план решающий
вопрос, вопрос о носителях и целях планирования и об
альтернативе государственно-монополистической плани-
фикации — демократическом планировании, то есть
эффективном совместном участии прежде всего рабочего
класса и научно-технической интеллигенции в
определении целей и конкретных мероприятий по развитию
народного хозяйства и всех других областей
общественной жизни и принятие ими соответствующих решений.
Не умаляя желания многих ученых и публицистов, вы-
247
сказывающихся в «Моделях» и в самостоятельных
публикациях, поставить мысли о будущем на службу
мирным, демократическим и социально прогрессивным
целям, следует признать, что Фриц Вильмар прав в том,
что западногерманский союз профсоюзов «как первая
и пока единственная из крупных общественных
организаций» для решающей области хозяйства
сформулировал «концепцию, соответствующую нашему времени и
будущему» К Но в «Моделях» статья Вильмара является
единственной статьей, которая посвящена изложению
и последовавшему затем критическому обсуждению этой
концепции.
Здесь речь идет не только о том, чтобы отметить
диспропорции (следует напомнить о многочисленных
изложениях проводимых государством мероприятий по
регулированию), но и о связи, имеющей, в частности,
значение для концепции «футурологии». Если бы речь
шла о том, чтобы ввести в дело «социальную фантазию»
и набросать перспективы, чтобы, как пишет Юнгк, не
уступить поля «практикам, которые не обеспокоены тем,
что отказывают слабым, недоступны для скорбных
пророчеств Кассандры, которые производят,
зарабатывают и создают проекты, чтобы еще больше
производить и еще больше зарабатывать»2, то «большой
проект» можно было бы обосновать прежде всего на
разоблачении существующей
государственно-монополистической структуры власти, на представлениях и целеуста-
новках, направленных «а изменение этой структуры.
Только тогда противники идеи гуманистического
будущего и демократического планирования, «практики»,
вызванные Юнгком на дискуссию, не оставались бы
больше неизвестными, только тогда и могла бы
определиться социальная сила, рабочий класс как носитель
образа будущего.
Тот факт, что до сих пор это признание
«футурологов» оставалось недоступным, нельзя объяснять
ограниченностью социальных наук, теоретической
односторонностью или недостаточным знанием социальных и
политических связей. Наоборот, именно общие общест-
1 Der Griff nach der Zukunft, S. 24.
2 Deutschland ohne Konzeption? S. 326.
248
Ёенно-теоретические воззрения и политические
устремления ставят преграду идеям этих исследователей о
будущем. Общность воззрений оправдывает также и
рассмотрение их как относительно единой группы
«футурологов».
Наиболее ясно эти воззрения сформулировал Флехт-
гейм. Это — насыщенная антикоммунистическими
положениями концепция «третьего пути» между социализмом
и капитализмом, отрицание основного содержания
нашей эпохи — перехода от капитализма к социализму,
отказ от исторической миссии и революционных
возможностей рабочего класса, положение о том, будто бы
социально диффузная «демократическая общественность»
может положить конец гонке вооружения и военной
опасности и привести к «свободно-плюралистической
демократии», понимаемой как собственно
общественный строй.
Для нас же важны прежде всего выводы,
вытекающие из этой видимости стремлений «футурологов»: если
содержание, социальные движущие силы и
направление изгибов происходящего общественного развития не
познаваемы, то и соотношение прошлого, настоящего и
будущего может быть понято лишь в извращенной
форме. Отказ от определения объективного содержания
происходящего исторического процесса, от попытки
найти одну позицию и один путь между фронтами
всемирно-исторической борьбы, между классами и
общественными системами имеет фатальные последствия для
«исследования будущего» — этот отказ прямо ведет к
утопизму. Пропасть, которая образуется в результате
видимости «третьего пути» между прошлым и будущим,
должна быть преодолена путем конструирования
особого видения будущего, мысленно возможного, но ни
к чему не обязывающего, «воображаемого» создания
вневременных идеалов. Поэтому, несмотря на все
ссылки на видимость перспективы, на уверенность в
будущем и мнимый оптимизм, всем этим продуктам футу-
рологической «социальной фантазии» присущи черты
неуверенности, небезопасности. «В основе трагедии
нашего ' века, — пишет Флехтгейм, — лежит в конечном
счете вечное противоречие между будущим человека
с его положительными возможностями и прошлым с
его отрицательными ограничениями — противоречие, ко-
249
торое заложено еще в двухвалентности поведения
человека и многозначности его языка и идеологии»'.
Что касается противоречия между прошлым и
будущим — в другом месте Флехтгейм говорит о «все вновь
и вновь обнаруживающейся антиномии между
мыслимым и желаемым, с одной стороны, и ощущаемым и
наблюдаемым— с другой»2, — то оно действительно
существует, но в другом виде и в другом значении, чем в
интерпретации Флехтгейма. Диалектическое
противоречие как энергичное, движущееся к своему разрешению
отношение противоположностей в процессе
общественной жизни, как деятельное отношение общественного
человека к создаваемым им объективным условиям
является движущей силой общественного развития3.
Трагизм не свойствен ему даже в его антагонистических
формах — ведь он существует для защитников
изживших себя, идущих к гибели социальных форм бытия или
для отдельного человека и социальных групп, которые,
изолируясь от главной силы общественного прогресса,
придерживаясь избранной ими позиции
«нейтральности», только терпеливо переносят борьбу общественных
классов, их победы и поражения.
С одной стороны, только благодаря научному
анализу противоречивых отношений в
материально-практической деятельности может быть действительно
выяснено, насколько прошлое и будущее «опосредованы» в
общественной практике, в какой мере прошлое не
только негативно ограничивает экономическую,
политическую и культурно-духовную деятельность, но и дает ей
средства и условия реализации. С другой стороны, в
настоящем также создаются реальные возможности,
предпосылки целенаправленной деятельности и
будущих условий, возникают глубочайшие источники и силы
преобразования современной действительности.
В определенном смысле первоначальное значение
слова «перспектива» сохраняется и в научной
концепции общественных перспектив, в сознании перспективы,
а именно как «имеющее множество измерений
рассмотрение, охватывающее прошлое, настоящее и будущее и
1 Der Griff nach der Zukunft, S. 104.
2 Ср.: G. Stieler, Der dialektische Widerspruch und der Auf-
bau des Sozialismus, в: cEinheit», 1967, H. 3, S. 319 ff.
3 O. K. F 1 e с h t h e i m, Eine Welt oder keine? S. 7.
250
направленное на общественный процесс в целом». Ми-
ровоззренческо-теоретическое обоснование его
содержит этот способ рассмотрения в диалектико-материа-
листическом детерминизме, и в частности в
марксистской теории общественного развития в целом. Оно
сохраняется в линии и тактике марксистско-ленинских
партий, в их программах и планах, ориентирующих
действия трудящихся масс на соответствующие,
определенные конкретно-исторические задачи
антимонополистической борьбы, социалистической революции и
постепенного создания социалистического общества. Оно
действует в непосредственных, соответствующих
требованиям дня целях отдельных лиц, которые активно и
сознательно принимают участие в борьбе рабочего
класса и формировании социалистического общества.
Сила уверенности в перспективах, основанная на
марксистско-ленинском мировоззрении, осознается и
учеными-немарксистами. Так, Вальтер Диркс говорит
о «симбиозе» «живущих друг в друге» конкретной
политики, направленной на ближайшее будущее, и
перспективных целей и идеалов в жизни народов
социалистического мира. «Высокая претензия», воплощенная в
марксизме, требует Диркс, не должна погибнуть и в
капиталистическом мире, она должна начать действовать
в «реальных утопиях», то есть в представлениях о
будущем, развитых, выдуманных и желаемых на
основании данных и тенденций современности, в котором
будут реализованы основные нормы или ценности.
«Видение», «реальные утопии», «перспективы» и
«социальная фантазия» — таковы наиболее
употребительные понятия, которыми «футурологи» характеризуют
это стремление. Юнгк представляет модель
«исследования будущего», «проект проектируемого»,
предложения, которые могли бы способствовать или по крайней
мере благоприятствовать возникновению «социальных
изобретений» в настоящее время К
Согласно Юнгку, «социальная фантазия» должна
действовать в трех плоскостях: 1) как свободная от
целей «чистая социальная фантазия», которая
рассматривает и представляет «именно только мыслимое», а не
существующее, не только возможное, но «еще невозмож-
1 Deutschland ohne Konzeption? S. 39, 48.
251
ное»; 2) как «прикладная социальная фантазия»,
которая приводит к «близким к действительности
измерениям возможного» и вырабатывает «модели», «близкие
вопросам современности проекты» по проблемам мира,
здоровья, демократии, человеческого труда и т. д.
Учитывая гуманистические и этические требования, она
создает проекты, хотя и свободные от идеологии, но не
свободные вообще от ценностной оценки; 3) как фантазия
в сфере «социальной техники», где скорее всего
сказывался бы ее ощутимый вклад в педагогику и
психологию, она сделала бы людей нашего времени
«осознающими будущее» и «радующимися будущему». Здесь,
следовательно, она имела бы, по существу,
просветительскую функцию.
Как представляется Юнгку, первая ступень
свободной от цели «чистой социальной фантазии» должна
прежде всего освободить «исследование будущего» от
оков «социологического эмпиризма и прагматизма».
В таком же духе определяет функции «футурологии» и
Флехтгейм: она должна «активистско-диалектически
выходить за границы ограниченной прошлым и настоящим
чистой «науки» в традиционном смысле», которая
должна быть организована «как универсальная дисциплина
или, еще лучше, как особый подход к исследованию
дисциплин, о которых идет речь» К
В этом смысле названное здесь стремление
«футурологов» в известной мере соприкасается с
устремлениями буржуазных ученых в области общественных наук,
и в частности социологов, философски и
научно-исторически разработать теоретические основы своих
дисциплин. В некотором смысле «футурология» представляет
собой наиболее решительную реакцию на «недостатки»
буржуазных социальных наук и буржуазной философии.
Тематику «футурологии» составляет даже не
категориальный и методический инструментарий прогностики и
планирования, теории решения и программирования —
по этим проблемам в вышедших томах «Моделей» (за
исключением статьи О. В. Хаселофа и статьи во втором
томе о «планификации») нет обоснованных статей.
Интересы представителей «футурологии» концентрируются
скорее на мировоззренческих вопросах, что явствует
1 О. К. F 1 е с h t h e i m, Eine Welt oder keine? S. 35, 38.
252
уже из предложенной Робертом Юнгком
трехступенчатой модели исследования будущего.
Если сравнить выдвинутую здесь постановку
вопроса с концепцией прогнозов и технологии,
господствующей в неопозитивистской теории науки, примыкающей
к взглядам Поппера, и во многих опосредованных ею
буржуазных социальных науках, а также в
эмпирическом социальном исследовании, то прежде всего
выступают три круга проблем, которые ни неопозитивизмом,
ни другими направлениями современной буржуазной
философии не разработаны соответствующим
стремлению «футурологии» образом: 1) проблема цели
человеческой деятельности и проблем, самым тесным образом
связанных с ней; 2) проблема «ценности», идеалов,
«образца» и, наконец, 3) проблема форм и функций
сознания, которые в соответствии с отражением позволяют
предупреждать будущие обстоятельства, отношения,
образ действия и поведения.
Относительно первой проблемы. Примечательным в
этой постановке вопроса является прежде всего то, что
проблема целей человеческой деятельности
рассматривается как заслуживающая обсуждения и способная
вызвать научную дискуссию. Когда Юнгк
противопоставляет «социальную фантазию» точке зрения,
ограничивающей практическую действенность науки тем, «чтобы
планировать то, что может быть сделано, и затем
экспериментально доказать это», то тем самым метко
характеризуется функция неопозитивистской «социальной
теории», а кроме того, и содержание концепции
планирования, в которой актуальной задачей оказывается
«координация планов» («не целенаправленное
планирование, а координирующее планирование»!) и которая
сводится к оправданию проводящегося
государственно-монополистического регулирования. (В «Моделях» эта
тенденция проявляется, между прочим, в статьях Гартмута
Хентига, Вольфганга Е. Бурение, X. Пентцлина и Ман-
фреда Куна.)
Относительно второй проблемы. Многие авторы
«Моделей», и в первую очередь «футурологи», которые
хотят заниматься «исследованием будущего»,
придерживаясь той же ориентации, что и Юнгк, сами более или
менее решительно отделяют принцип «свободы»
научного исследования «от ценностной оценки». Однако заме-
253
чания на этот счет расплывчаты и ограничиваются
большей частью призывом к «ценностям» демократического
и гуманистического характера. Социальный и
теоретический смысл проблемы ценностного суждения, к
которому довольно часто обращаются, больше совсем не
осознается. В дебатах о ценностном суждении, которые
велись на рубеже XIX и XX веков, например у Макса
Вебера и его современников, еще ярче было выражено,
что в этом вопросе речь идет, по существу, о
возможности, научной обосновываемое™ и т. д. высказываний,
относящихся к интересам социальных классов и групп.
Однако в последующее время в открыто
«абсолютистских», так же как и в «нигилистических» концепциях
«ценности», выдвигаемых буржуазной философией и
социологией, эта связь все больше затемнялась.
Идеологии и классовые интересы истолковываются в смысле
позитивистской критики идеологии (см. выше). Так,
в последние годы многие буржуазные ученые-гуманисты
требуют оценочной, но свободной от идеологии позиции
в научных вопросах.
Не говоря о Фрице Вильмаре и Вольфганге Абенд-
роте, открыто излагающих свою политическую позицию
на стороне западногерманского рабочего движения и
профсоюзного движения, Флехтгейм мог бы быть
единственным автором «Моделей», который заявляет, что
иногда «принадлежность к отсталому политическому
лагерю интеллигентов ослепляет», в то время как,
«наоборот, отождествление себя с другим прогрессивным
лагерем, заинтересованным в истине по чисто
материальным соображениям, может обострить зрение» 1.
Относительно третьей проблемы. Такие выражения,
как «социальная фантазия», «реальная утопия» и т. д.,
большей частью затрудняют рассмотрение, они
характеризуют формы и функции духовной деятельности,
которые в современной буржуазной философии
представителями экзистенциализма рассматриваются на
субъективно-идеалистической основе, но сводятся к наиболее
тонкому содержанию индивидуального сознания и его
эмоциональным аспектам.
Статьи, решающие эти проблемы, можно встретить
прежде всего в психологии и в социальной психологии.
1 Der Griff nach der Zukunft, S. 104.
254
Что касается этой проблематики, то неопозитивисты
также отсылают к психологии, так как речь здесь идет
не о логически и методологически доступных пониманию
«связях обоснования», а о «связях открытия», в
которых преобладают интуиция и фантазия.
«Способность понимать, переосмысливать и
предвидеть», способность «успешно противостоять новым
ситуациям или требованиям благодаря успехам в
мыслительной сфере» Флехтгейм приписывает интеллигенции
как психическую способность. (Флехтгейм ссылается
на Г. А. Брандта, Хофштюттера, К. Ремплейна, А. Вен-
целя, Р. Мейли!.)
Более обстоятельно, но также в психологическом
аспекте «планированием как организованной формой
мысли», как посредником между мыслями и делом, с
одной стороны, мыслями и побуждениями, инстинктами,
желаниями и т. д. — с другой2, занимается Фридрих
Хаккер. В историко-философском обзоре истории
«планирования как важной духовной деятельности людей»
Эльфрида Тильш критикует пренебрежение к «науке
о человеческом духе» и неправильную трактовку ее в
буржуазной философии, принижение процессов и
продуктов практического разума. Она требует специальной
науки о духе, а также прочно локализованной в ней и
равноправной «науки о практическом разуме человека»,
об особой деятельности и особой логике создания плана
и совета, выработки правильной линии и проекта,
предсказания и т. д. Однако вопреки намерению включить
исследование «практического разума» в науку о
человеческом духе и в противоречии с критическими
замечаниями в адрес «свободной от ценностей» науки,
отрицающей функции «практического разума» и
связанной с «платоновской Академией», Тильш не удалось
выйти за пределы характеристики «практического
разума», близкой к экзистенциалистской интерпретации
«сознания проекта».
Дальнейшая аргументация. Предпосылки и
принципиальные установки, которые марксистско-ленинская
философия предлагает для соответствующего
требования будущего решения или дальнейшего развития проб-
1 Der Griff nach der Zukunft, S. 87—88.
2 Eben da, S. 455 ff.
255
лем, относящихся к трем названным аспектам —
планирование и управление развитием, управление
общественной системой социализма и стратегия и тактика
социалистической революции в условиях государственно-
монополистического капитализма.
Характеристика утопизма «социальной фантазии», ее
тождества с экзистенциалистским «сознанием проекта»,
размежевание с крайне иррационалистическими и
политически реакционными направлениями (Байер,
впоследствии Хайдеггер, Шельский).
Согласие с ранними утопиями, актуальность борьбы
Ленина с утопическими воззрениями, особенно
доказательство соответствующего влияния, утопизм и «логика
оппортунизма», «осознание плана» и «осознание
ситуации». Эту аргументацию следует провести в
последующей полемике с «прикладной социальной фантазией»,
в противопоставлении «целей» и интересов,
«желательных оценок». Доказательство следующей, «современной»
черты футурологических утопий: в перефразировании
замечания Энгельса о том, «что неверно в формально-
экономическом смысле, может быть верно во всемирно-
историческом смысле» К
Условия действенности перспективных целей и
идеалов.
В тех статьях «Моделей», которые содержат ясные
проекты-прогнозы (это относится и к прогнозам,
содержащимся в изданном руководством
социал-демократической партии томе «Германия 1975 г.»), преобладает
изложение тенденций в технике, развитии населения,
планировании городов и местности и, наконец, в самих
методах планирования и управления. Здесь
практикуется именно то, что «футурология» намеревается
преодолеть, а именно прогностика «в климате продленной
современности». Правда, можно было не ссылаться на
«Модели», но фактически то, что пишет Диркс,
относится к многим статьям, помещенным в «Моделях»:
«Даже линии технического развития (атомная энергия,
автоматика, увеличение энергии) мы выводим лишь
изолированно, но нашего мужества и нашей способности
недостаточно, чтобы создать конкретные представления
о социальных и политических последствиях этой тен-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 184.
256
денции»1. Проекты-прогнозы абстрагируются от
основных социально-экономических процессов и структур, от
интересов и целей антагонистических общественных сил,
которые более или менее непосредственно определяют
характер и направление анализируемых и
прогнозируемых условий и процессов или же противодействуют
этому направлению развития. В связи с обоснованием
прогнозов это значит: знания, лежащие в основе
прогнозов, относятся к некоторым особым (и для
соответствующих процессов совершенно специфическим), а не к
общим условиям действия законов, которые определяют
прогнозируемый процесс. Однако именно в отношении
этих общих условий, основных политических связей и
развернутых целеустановок, в отношении направления
и приоритета экономической политики, политики в
области науки и образования и т. д. — а не только в
отношении больше «технологических», относящихся к
делу факторов, — необходимо выяснение альтернативы
действия.
В этом вопросе «расходятся умы», особенно ясно
обнаруживаются противоположные политические
намерения в мыслях буржуазных ученых о перспективах и
планировании. Даже общие, применимые только к
альтернативе— мирное сосуществование или холодная
война— соображения Хаселофа и Юнгка об условиях
решения этой альтернативы представляются критикам
«справа», таким, как Шельский, угрозой социальному
действию, которым можно манипулировать на основе
«установок справа», «принципиальных культурных
убеждений» в «решениях веры» (Шельский). Как
«идеологизацию планирования» Шельский особенно
клеймит те представления буржуазно-демократических
интеллигентов, в которых указываются альтернативы
действия политике западногерманских реваншистов.
В одном из последних томов вышедших в свет
«Моделей» Юнгк также утверждает, что собрание узко
специализированных прогнозов общественного развития
по сравнению с нейтральными прогнозами еще не
может дать в некоторой степени ясно очерченной картины
будущего. Односторонность, якобы присущую
проекциям, экстраполяциям, прогнозам и планированию отдель-
1 Deutschland ohne Konzeption? S. 51.
9 Ирибаджахов
257
йых частей, необходимо преодолеть путем «более
широкой перспективы и обозрения, с помощью которых
можно будет вовремя познать и оповестить о противоречиях
в развитии будущего, прежде чем они окажутся в
конфликте друг с другом или с разрушительной силой
«столкнутся» друг с другом. Однако эта перспектива
перспектив не только должна была бы помочь заранее
предупредить и помешать возникновению опасной
ситуации, но и могла бы указать находящейся в ее
распоряжении широкой перспективе желательное направление
развития и способствовать ему» К
Неопределенность требуемой здесь «перспективы
перспектив», простая надежда на то, что «желательное
направление развития» могло бы способствовать ей,
делают ясной всю дилемму «футурологии»: это иллюзия,
будто бы вне классовой борьбы в условиях
государственно-монополистической системы, без политической
программы, с помощью только просвещения можно
вызывать изменения демократического характера.
Правда, эти воззрения, обоснованные с философской
и общественно-теоретической концепции «футурологов»,
влияние которых мешает ориентировать
демократические силы Западной Германии на потребности
антимонополистической программы-альтернативы и связанного
с ней рабочего движения, нельзя механически
отождествлять с политической позицией соответствующих ученых.
Процесс, в котором буржуазно-демократическая
интеллигенция перерабатывает исторический н современный
политический опыт, протекает крайне противоречиво;
мировоззренческо-теоретические позиции и практическо-
политические установки часто расходятся. Так, многие
авторы «Моделей», не в последнюю очередь и Роберт
Юнгк, выступали в политических акциях
прогрессивных западногерманских организаций, участвовали в
марше на Восток, в демонстрациях протеста против
американской агрессии во Вьетнаме и против боннского
чрезвычайного законодательства. Особое значение
имеют именно исходящие от интеллигенции воззвания и
мероприятия, направленные на более тесные
совместные действия профсоюзов и работников умственного
труда. Следовательно, требования «практического ра-
" Unsere Welt 1985, S. И.
258
зума» и политические действия здесь далеко выходят
за пределы теоретически фиксируемых взглядов, в
которых рабочий класс часто фигурирует лишь как
«резерв» и массовый базис якобы призванной к
руководству интеллигенции.
«Образец общества», который лежит в основе
большинства планов-прогнозов и планов-проектов
«Моделей», является картиной «индустриального общества».
Чаще всего в качестве якобы определяющих признаков,
существенных черт «.индустриального общества»
выдвигается применение научных методов планирования,
прогнозирования и нахождения решения, применение
машин, обрабатывающих данные, формы кооперации и
коммуникации, что типично для современной научно-
технической революции.
Мундт пишет, что счетчики являются сегодня на
Востоке и Западе ремесленным инструментом
хозяйственника и плановика; прибор определяет методы и, по всей
видимости, в обеих общественных системах все больше
выдвигает на первый план «экспертов» К Пьер Берто
полагает, что в течение ближайших десятилетий обе
системы по своей структуре (все больше будут сближаться,
так что при одинаковой системе «кибернетического
планирования» противоположность между социализмом и
капитализмом станет якобы фикцией2. Часто с этими
представлениями связывается утверждение, будто бы
образование и господствующее положение «экспертокра-
тии» в обществе является неизбежным результатом
современного индустриального к научного развития.
Таким образом, вышеприведенная аргументация вряд
ли отличается от явно выраженных апологетических
версий концепции «индустриального общества». Однако это
явление совершенно по-разному оценивают
«футурологи» и демократически и гуманистически настроенные
ученые. Лишь немногие, такие, как Флехтгейм, Р. Юнгк,
Крах, Икскюль, указывают на социальную функцию
«экспертов», авторитетов в руководстве и носителей
решения в экономической и политической системе
современного капитализма; но вот они в первую очере/дь
ставят вопрос о демократическом контроле, о .возможностях
1 Wettbewerb der Planungen, S. 23.
2 Der Griff nach der Zukunft, S. 76, 81.
У
259
его институционального обеспечения и об ограничении
монополии некоторых могущественных концернов в
сфере информации «и формирования мнения.
Естественно, что с подобными рассуждениями
связаны многие иллюзии, согласно которым
предусматриваемые изменения можно было бы ввести с помощью
«просвещения»— /политиков и масс. (Существует также и
современная версия «просвещенной личности» —
«просвещенного президента», в качестве которого Мундт
прославляет Джона Кеннеди *.), Но эту «просветительскую»
позицию отличает от академически ни к чему не
обязывающей позитивистской «критики идеологии» именно
ориентация на политическую активность, на поддержку
и содействие усилиям, направленным на
демократические изменения.
В вышедших до сих пор томах «Моделей» бросается в
глаза — и в настоящий момент это можно отнести к
прогрессивным концепциям перспективы, выдвигаемым
западногерманскими учеными, — сопоставление отчасти
весьма специализированных исследований отдельных
процессов, с одной стороны, с более или менее
широкими требованиями, пожеланиями относительно общего
политического, экономического и культурного развития —
с другой. Говоря вышеприведенными
(предварительными) терминами, исследование целей, потребностей и
интересов общественных сил, единство которых только и
делает возможным постановку целей перед
общественной практикой, не совпадает друг с другом.
Прогнозирование возможных целей в различных областях
общественной деятельности остается неопределенным и
двузначным, применимым как к планам демократических
изменений, так и к развитию
государственно-монополистической системы господства; соображения о
возможностях мирной и демократической политики зачастую мало
конкретны, лишь поверхностно связаны со специальными
проблемами отдельных частных процессов и
общественных областей.
1 Deutschland ohne Konzeption? S. 21 ff.
Зигмуит Понятовсний
Польская Народная Республика
ЛЕНИН И ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ХАРАКТЕРА
МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В творчестве Ленина наряду с исследованием
политической и экономической проблематики исключительно
важное место занимали и философские вопросы. Это
объясняется тем значением, которое рабочее движение и
его главные теоретики всегда придавали
мировоззренческим проблемам, философским обобщениям
практического и теоретического опыта рабочего класса и его партии.
При этом изложение философских взглядов Ленина
следует искать не только в книгах и трудах, специально
посвященных философии. Зная специфику марксистско-
ленинской философии, в особенности такую ее
характерную черту, как неразрывная связь теории с практикой,
можно предполагать, что значительную часть
рассуждений Ленина на философские темы мы найдем в трудах,
имеющих самое различное содержание —и там, где он
рассматривает те или иные аспекты стратегии рабочего
движения, и там, где он развивает идеи исторического
или экономического характера.
Однако Ленин также является философом и в
понимании среднего интеллигента, вооруженного моделью
прошлых веков, изображающей философа в качестве
производителя толстых и тяжелых «бухов», не очень-то
всем понятных. Кто же в современном мире не
встретился хотя бы с двумя главными работами Ленина:
«Материализм и эмпириокритицизм» и «Философские
тетради»? И кто же из людей, даже самых далеких от
марксизма, может сказать, что эти книги (по степени
трудности, богатству проблематики и глубине рассмотрения
уступают работам Канта или Гегеля, Гуссерля или Кар-
напа? Однако Ленин стремился не к тому, чтобы
содействовать интеллектуальному пресыщению горстки
избранных гурманов, а именно к тому, чтобы сделать фи-
261
лософию, являвшуюся до недавнего времени сферой
деятельности узкого круга специалистов, постоянно
занимающихся разрешением «извечной загадки вселенной»,
либо несколько более широкого круга снобов,
улавливающих лишь внешние формы философии, — сделать ее
доступной самым широким массам, чтобы революционно-
диалектическая теория действительности, внедренная в
сознание масс, могла стать существенным фактором
революционного преобразования действительности этими
массами. Хорошо известны 'слова Ленина о том, что при
социализме каждая кухарка должна уметь управлять
государством. Это — не простая метафора и не обычное
цроявление блестящего ума Ленина; здесь скрывается
глубоко гуманистическая уверенность в том, что
строительство нового общества не может быть осуществлено
лишь горсткой всезнающих авгуров. Ведь подлинность и
превосходство социалистической демократии над
предшествующими формами народовластия основаны также
и на демократизации, распространении научного
миропонимания среди широчайших масс, чтобы эти
массы, сознательно овладевшие научным
мировоззрением, могли формировать лучшее завтра на научной
основе.
Поэтому попытки (особенно участившиеся за
последнее время) представить идеологию марксизма в качестве
некоего варианта религиозной идеологии являются
результатом полного непонимания (или еще хуже —
нежелания понять) неразрывной связи между научным
характером и практической направленностью марксизма-
лениниз-ма, тесной связи между революционной теорией
и революционной 'практикой, а также распространенного
представления о философе или об ученом »как
выразителе «чистого духа», замкнувшемся в turris eburnea
абстрактных, оторванных от жизни проблем, стоящем вне
будничного скопища -посредственностей и свысока
исследующем «загадки мира». По мнению определенной
группы «чистых рационалистов», мировоззрение
рабочего движения — это просто очередная фаза сотериологи-
чески-хилиастических движений, которыми столь
изобиловала история человечества и история идеологии
общественных движений. Ибо имеется Спаситель —
Пролетариат, который должен избавить человечество от всех
существующих несчастий в рамках своей исключительной
262
исторической миссии; имеется и милленаристический х
образ общества будущего, якобы полностью схожий с
провозглашаемым многими другими избавителями
царством божьим, где все будут счастливы, свободны от
забот и страданий. Более того, в марксистско-ленинской
идеологии можно якобы даже обнаружить неразрывно
связанную с двумя вышеуказанными .концепциями
эсхатологическую точку зрения, тоскливое выжидание
«конца света», по крайней мере конца нынешней
исторической эры, причем шериодизационной цезурой нынешней и
будущей эры должно было бы быть не появление Бога-
Человека, а реализация Человека-Коллектива, создание
бесклассового общества, в котором, как говорил уже in
illo temporo хитрый змей в раю, «будете как боги».
Как и всякая мнимо убедительная аналогия, это
рассуждение, а точнее ряд поэтических метафор, не
замечает рифов основных ларалогизмов. Ибо лишь столь
противный Ленину дух «сытого обывателя», не
осознающего, что, несмотря на провозглашаемый им возвышенный
идеализм, его тело шрочно увязло в прозаическом
переплетении материальных и общественных условий, может
не замечать принципиальной, качественной разницы
между «земным раем», создаваемым на основе научных
знаний об общественном процессе, и ненаучным,
иррациональным обретением иллюзорного неземного рая.
В основе изложенных выше спекуляций о
современной культуре и человеке, ложно приписывающих
марксизму-ленинизму парарелигиозныи характер, лежит
принципиальная ошибка: они не хотят замечать либо
любой ценой пытаются мистифицировать столь
существенный для духа ленинской философии компонент —
тесную связь диалектического материализма с наукой.
Причина этих попыток совершенно ясна: своеобразная
праксеология крика «лови вора!» не раз приносила
успех. При этом не лишен пикантного привкуса тот факт,
что в наше время наряду с неопозитивизмом
наибольшие претензии на знание научной философии
предъявляет религиозная философия, неотомизм, самый
упорный пережиток пресловутых «времен пренебрежения» к
науке и разуму. Чтобы убедиться в этом, достаточно
1 От англ. cmillenary» — верящий в наступление золотого века
(тысячелетнего царства божьего) на земле. — Прим. перев.
263
ознакомиться с первой же лучшей работой польских
неосхоластических философов, которые, подобно их
зарубежным коллегам, открыто и настойчиво уверяют в
том, что именно католическая философия является
наилучшим синтезом исследований конкретных наук, а
следовательно, единственно правильным научным
взглядом на мир К
Как все хорошо знают, в нападках на научный
характер философии марксизма-ленинизма главной
мишенью является известное положение диалектического
материализма о том, что он в настоящее время
выступает в качестве единственно научной философии
природы и общества. И опять — как и в случае с проблемой
якобы парарелигиозного характера марксизма —
оппоненты имеют наготове целый арсенал убедительных
(мнимо) аргументов. Среди них не последнюю
«доказательную» роль играют упущения и ошибки так
называемого «минувшего периода». С какими же злобными
усмешками и с какой покровительственной
псевдоснисходительностью вспоминают о том, как кабинетные
философы, вооруженные лишь цитатами (заметим
мимоходом— плохо понятными), указывали конкретным
наукам, что истинно научным, единственно марксистским
методом является, например, посадка дубов квадратно-
гнездовым способом, а не иначе.
Однако здесь уместен лишь научный анализ
положения о том, что марксизм-ленинизм является
единственной научной философией современности, лишь
свободные от различных эмоциональных отступлений и
всей мифологии предвзятости размышления могут
обеспечить понимание этого одного из фундаментальных
положений подлинного ленинизма. Мы говорим:
эмоциональной, иррациональной предвзятости, ибо разве
рациональность сопротивления признанию научного
характера философии пролетариата не напоминает
основательности и рациональности борьбы против тезиса о
животном происхождении человека? Ведь это секрет
Полишинеля, что значительная часть людей, даже
образованных, даже естественников, признавая научную
ценность концепции развития органического мира, пока
1 См., например: P. Chojnacki, Podstawy filozofii chrzesci-
janskiej, Warszawa, 1955, s. 148.
264
она касается амеб и амфибий, ни в коем случае не
хотят распространить ее — хотя это было бы полностью
правомерно и логично — на проблему антропогенеза.
Разве это объясняется тем, что для этого отсутствуют
научные доказательства? Вовсе нет! Ведь фактов,
позволяющих представить этапы развития гоминидов,
чрезвычайно много, ведь со времени открытий Дарта и Бру-
ма (Broom), с ориопитека закончился период вздохов
эволюционистов XIX века о знаменитом «missing link»1.
Откуда же это сопротивление? Если мы присмотримся
более внимательно, то заметим, что противники
животного происхождения «царя созданий» оперируют
аргументацией вовсе не научной, а
эмоционально-эстетической.
Точно так же обстоит дело с мотивами неприязни к
марксистско-ленинскому положению о том, что только
философия рабочего класса имеет научный характер.
Центральную роль здесь играют, особенно в свете
науки, возражения — скажем это хоть раз открыто —
эмоционально-эстетического характера. Да и может ли
философия, которая так открыто и программно
манифестирует неразрывную связь с повседневными усилиями
трудящихся масс, с физическим трудом и потом рабочего и
крестьянина, более того, философия, которая
программно разрушает идиллический образ мыслителя или
ученого, погрязшего в грудах мудрых книг, может ли
такая философия пользоваться симпатией добровольных
узников «башни из слоновой кости», пленников
мещанской модели философа как «чистого духа»,
изолированного непроницаемым бумажным барьером от серой,
повседневной жизни? Все это так—но ведь это же не
научная оппозиция.
Если бы буржуазные идеологи захотели по существу
разобраться в тех моментах, благодаря которым Ленин
постоянно провозглашал и подчеркивал
исключительность научного характера марксистской философии, они
бы заметили ряд поразительных и неопровержимых
фактов. Первый из них — это историзм в понимании
проблемы научного характера философии. Ленин, обогащая
на новом этапе общественного развития мысль Маркса
и Энгельса о социально-классовой обусловленности
1 cMissing link» — недостающее звено.— Прим. пере в.
ЗБ5
идеологии, постоянно подчеркивает, что подобно тому,
как нет лишенных носителя мыслей или
индивидуальных чувств, не может быть и лишенных производителя
идеологических явлений. Ибо мы всегда имеем дело с
конкретно-историческим производителем и потребителем
идеологии, или — другими словами — философию и
науку создают и потребляют люди, а они в свою очередь
не являются агломератом не связанных друг с другом
общественных индивидов и тем более — нематериальных
духов, но всегда организованы в какие-то группы или
классы. Человек, как говорил Маркс, это совокупность
общественных отношений. Но вследствие этого
философия и наука — независимо от субъективных мнений и
намерений их создателей и потребителей — всегда
создаются в результате определенного «общественного
запроса», обслуживая материальные и духовные интересы
какой-то общественной группы, то есть имея своего
потребителя и адресата. Таким образом, философия
существует и развивается не в социальном вакууме.
И именно об этом идет речь в марксизме: такая, а не
иная метрика и такая, а не иная форма
совершенствования философии и науки требуют рассматривать их
историю не как извечные перипетии и творческие мучения
«свободного духа», а требуют обнаруживать в истории
человеческой мысли, в развитии философии «ли науки
процессы осознания человеческими группами их места в
истории общества, их генезиса и исторических
перспектив. Ибо подобно тому как в микродиапазоне индивидов
каждая личность должна поставить перед собой на
определенной ступени своего онтогенеза ряд вопросов,
популярно называемых вопросом о «смысле жизни», так и
социальные группы в период достижения определенной
степени зрелости должны потребовать от создаваемой
ими идеологии ответа на вопрос об историческом смысле
их существования. Таким образом, и здесь онтогенез
идеологии личности является сокращенным
воспроизведением филогенеза идеологии социальных общностей, в
которых личность живет.
И подобно тому как способ .решения вопроса о
смысле жизни некоей личностью изменяется на
различных этапах ее онтогенеза—одним он будет в период
жизненного прогресса и другим — в период регресса,—
так и характер идеологии социальных классов подвер-
266
жен действию определенных закономерностей; в
зависимости от этапа развития 'историческое место и
перспективы группы будут оцениваться оптимистически на
восходящей стадии и пессимистически—в период регресса.
С типом же идеологического климата какой-либо
социальной группы, зависящим, как мы помним, от
онтогенетической стадии этой группы, тесно связан
следующий момент: отношение данной группы к науке и к
проблеме научного характера философии. Ведь не
случайно классы, вступающие на историческую арену, как,
например, верхушка демократических слоев
древнегреческого общества или молодой класс буржуазии в период
прогрессивного развития капитализма, являлись
сторонниками оптимизма в познании, безграничной веры в
силу разума и человеческого действия, были горячими
сторонниками науки и научно-философского мышления.
Поэтому не удивителен и обратный факт: что идеология
классов, сходящих с исторической арены, философия
групп, находящихся в стадии исторического регресса,
отворачиваются от науки, провозглашают агностицизм и
пессимистическую картину мира, пропитываясь
иррационализмом «и атмосферой отрицания разума. Разве,
например, не наглядна удивительная параллель между
климатом упадка древнего общества, высшей степенью
проявления которого было возникновение христианства с
его программным отрицанием разумности этого мира,
исступленным подавлением науки и разума и апофеозом
«духовной нищеты», и современным климатом катастро-
физма, экзистенциалистского отрицания смысла
существования и ростам иррационалистических настроений,
характеризующих современную, нисходящую фазу
капитализма? *
Задумаемся теперь о причине этой закономерности.
Новым классам не страшны никакие мировоззренческие
последствия научных открытий, ибо именно в науке они
ищут теоретического, лишенного самоиллюзии
обоснования своей позиции и функции, исторического места и
роли в истории общества, ибо именно наука является для
них гарантом развития нового типа их организации
производства и социальной организации вообще. Другими
словами, в этом случае линия развития технического и
научного прогресса, линия культурной эволюции
совпадают с онтогенетической линией данного класса. И нао-
267
борот, уходящие классы боятся научного, беспристраст-
ного подхода к своей собственной исторической
ситуации, ищут спасения от зловещей, сулящей им
однозначный конец действительности в социальной мифологии, в
иррационализме. Поэтому неудивительно, что эти страу-
совы привычки неизбежно должны породить климат
пессимизма и враждебного отношения к науке,
неудивительно, что идеология погибающего капитализма полна
декламаций о «банкротстве науки», что человеку
капиталистического общества представляется, будто бы он
живет в отчужденном, бессмысленном мире Кафки, а
единственной осмысленной его реакцией может быть
лишь сартровский страх перед небытием и всеобщее
экзистенциалистское nausee. Короче говоря, линия жизни
погибающих классов разошлась с линией развития
культуры и науки.
Отсюда следует, и это настоятельно подчеркивает
Ленин, что проблему научности философии и
мировоззрения (как, впрочем, и любую другую проблему)
следует исследовать — в соответствии с методологическими
указаниями марксизма-ленинизма — исторически и
конкретно. Между тем над многими современными
мыслителями, даже не обязательно враждебными
марксизму, довлеет аисторическая, устаревшая концепция науки
как внутренне непротиворечивой системы упорядоченных
высказываний. Такая исключительно
формальнологическая концепция науюи, очевидно, ошибочна в силу своей
односторонности, поскольку она не позволяет проследить
процесс развития в науке. На основе такой концепции
науки трудно также уберечься от пессимистической
оценки перспектив истории человеческого знания. Ибо эта
концепция склоняет к пониманию истории науки как
извечной трагикомедии последовательных ошибок
разума, к тому, чтобы видеть в ее развитии лишь переход от
одной ошибки к другой. Ведь известно, что теории,
которые вчера были истинными и считались абсолютно
правильными, сегодня оказываются ошибочными; известно
также, что теории, справедливые сегодня, завтра
окажутся ошибочными. Имеется еще другая сторона этой
формальнологической концепции науки, не менее
ошибочная, ибо она ведет к хитрой подмене: формализм
вместо объективности, правильность вместо истинности.
А ведь известно, что для многих людей формальная пра-
268
вильноеГь какой-либо системы высказываний является
признаком ее истинности, что даже теология признается
полноправной наукой потому и исключительно потому,
что она представляет собою формально правильную
совокупность утверждений.
Именно здесь мы подходим к существу спора между
марксистской концепцией науки и научного характера
философии и немарксистскими подходами, к ядру
разногласий, имя которым: историзм или формализм,
конкретность или абстрактное понимание проблемы, так
сказать, «вообще». Именно здесь мы подходим к сути
диалектики процесса познания и диалектики развития
науки, которую так проницательно начертал Ленин, в
том числе и в «Философских тетрадях», как создатель
марксистской гносеологии. Он решает эту проблему при
помощи двух концепций, впрочем тесно связанных друг
с другом: диалектики отношения между абсолютной и
относительной истиной и диалектического закона
отрицания. Ленин подчеркивает бесспорность того факта, что
человеческое знание в принципе оперирует истинами
относительными, исторически ограниченными, а
следовательно, изменяющимися, но обращает внимание и на тот
бесспорный факт, что в ходе кропотливого процесса
накопления относительных истин непрестанно
накапливается фонд абсолютной истины о вселенной, который
асимптотически приближает нас к идеальному пределу
познания — абсолютному знанию. Таким образом,
гносеология Ленина содержит элемент релятивизма,
признавая относительность и изменяемость человеческих
знаний, но не сводится к нему, ибо, с другой стороны,
она признает наличие в познании элемента ноэтическо-
гох абсолютизма. Другими словами: процесс развития
знания о мире — это не серия следующих друг за другом
простых отрицаний предшествующего состояния знаний,
а восходящий «по спирали», как говорил Ленин, ряд
диалектических отрицаний, отрицание отрицаний, каждое
из которых является не только простым опровержением
предшествующей фазы, но одновременно продолжает,
накапливает и развивает на новом уровне развития
лучшие, наиболее прогрессивные и устойчивые элементы
прежней фазы.
1 Ноэтика — учение о мышлении, теория познания.—Ярил, перев.
269
Этот диалектический процесс отрицания отрицаний
управляет не только сферой познания, знания или
науки, но представляет из себя также общекосмический
закон развития. Это позволяет осмыслить фаот,
настойчиво подчеркиваемый марксизмом, что идеология
рабочего класса — это единственный законный и истинный
преемник всех прогрессивных моментов развития знания
о мире, подобно тому, как и сам рабочий класс — это
единственный правомочный наследник всего
прогрессивного и устойчивого в истории общества вообще и вместе
с тем хранитель всего актуального, прогрессивного и
творческого в немарксистской мысли и практике. Это
происходит потому, что социальный субстрат
марксистской философии — рабочий класс — является
единственным подлинным наследником всех предшествующих
прогрессивных стремлений человечества, а следовательно, и
науки. Ибо в современной социальной структуре нет ни
одного другого «ласса или социальной группы, которая
могла бы перенять от прогрессивного в свое время
класса капиталистов знамя технического и экономического,
культурного и научного прогресса. Но в отличие от
предшествующих прогрессивных в истории человечества
классов, линия онтогенетического развития которых была
прогрессивной лишь на начальном этапе, линия
развития рабочего класса постоянно, а не временно, не
эфемерно связана и совпадает с направлением социального,
культурного и научного прогресса. Ибо историческая
функция пролетариата состоит не в замене господства
одного социального класса господством другого, а в
ликвидации социальных классов вообще, и следовательно,
как говорил Маркс, пролетариат, освобождая себя,
вместе с тем освобождает все человечество. В связи с этим
мировоззрению рабочего класса не страшны никакие
угрозы, которые могло бы нести ему будущее в том
случае, если бы он был еще одним эксплуататорским «лас-
сом — ибо пролетариату нечего терять, кроме своих
цепей, как гласит известная формула коммунизма.
Поэтому также не случайно марксистская философия
в современном мире является единственным подлинным
представителем научного мировоззрения, единственным
последовательным поборником науки в борьбе против
растущих антинаучных тенденций, характерных для
надстройки разлагающегося капиталистического «мира. По-
270
этому также не случайно труды Ленина представляют из
себя грандиозную апологию науки и научного,
рационального мышления, великий документ защиты
суверенности человеческого разума от напора все более
укрепляющихся темных сил, коренящихся в психике
социальных групп и индивидов, сил, являющихся пережитком
более ранних этапов филогенеза человеческого
мышления— иррационализма, идеализма и фидеизма.
Одной из точек опоры марксизма в защите высокого
звания науки -и человеческого разума и вместе с тем
существенным моментом диалектико-материалистическо-
го познавательного оптимизма является положение о
развивающемся характере действительности, которое так
горячо подчеркивал и развивал Ленин. И здесь мы опять
подходим к своеобразному фокусу нападок на
марксистскую философию: подобно тому как мировоззрению
рабочего класса отказывалось в научности, так здесь
провозглашается, что ведь это положение — обыкновенный
трюизм, что марксизм, подчеркивая развивающийся
характер действительности, ломится в открытую дверь.
Часто оба эти выпада идут рука об руку, то есть
отказываются признать ценность диалектического
материализма как единственной или даже вообще научной
философии именно потому, что он якобы состоит лишь из
подобных трюизмов — мир развивается все
взаимосвязано, в мире возникают новые качества, мир обладает не
только количественной характеристикой и т. д. Но
является ли марксизм на самом деле совокупностью
подобных банальностей? Действительно ли положение о
развивающейся природе мира пользуется настолько
всеобщим признанием, что постоянное его подчеркивание
практически имеет мало смысла или даже является
доказательством постыдного мыслительного примитивизма,
как заявляют наиболее ярые противники марксизма?
Ведь утверждать, будто все признают это положение,
значит говорить заведомую ложь, ибо сколько же
людей, и причем не только так называемых простых
людей, но и ученых, более или менее открыто разделяют
принцип nil novi sub sole \ сколь же часто упорно
отстаивают, даже собственно ученые, мнение о
«неизменности» человеческой природы, особенно если речь идет о
1 Ничто не ново под солнцем (лат.). — Прим. перев.
271
мнимой изначальности и .неизменности ее худших
сторон. А сколько ученых рассуждает о вечности
моральных морм, о неизменности чувств или эстетических
суждений, хотя теория эволюции существует сто лет? А
настойчивые поиски последних основных элементов
действительности, бытующая много веков (картина мира как
образованного в конечном счете, в самой своей сущности
из неизменных составных частиц? Следует особенно
подчеркнуть тот факт, что многие ученые, не говоря уже о
пресловутом «человеке с улицы», разделяют именно эту,
а не иную концепцию действительности. Таким образом,
очевидно, что положение о развивающемся характере
мира вовсе не является таким bonum commune, оно не
проникло во все человеческое сознание или во все слои
этого сознания, не распространено так последовательно
на все сферы мироздания, как это хотят представить те,
кто говорит об отсутствии эвристической ценности в
марксистской философии. Ясно также и то, что
признание этого положения во многих случаях есть такая же
псевдоконстатация или же псевдогенерализация, как и
противоположная максима бен-Акибы, причем обе
спокойно сосуществуют в повседневном мышлении, подобно
десяткам других противоречий.
Но в ленинском методологическом подходе
содержится требование бороться не только за самое широкое
признание принципа развития мира, но и за
последовательное, диалектическое понимание этого принципа. Ведь
ни для кого не секрет, что марксизм — это не
вульгарный эволюционизм, что он говорит не только о развитии
мира, но и о том, что это развитие происходит
диалектически, то есть говорит не только о сфере, но и о
механизмах развития. А ведь всем известно, что примерно с
конца XIX века, то есть с момента перехода
капитализма в стадию упадка, мы наблюдаем усиление течений,
ограничивающих ценность принципа развития
вселенной — как в том, что касается сферы развития, так и в
вопросе о его ходе и причинах. Конечно, ленинизм
ничего общего не имеет с той карикатурой на марксизм,
которая приписывает всем ученым и немарксистским
теоретикам открытое и всеобщее отрицание положения о
развитии мира. Ленинизм видит, что современная
буржуазная идеология вынуждена — вследствие развития
науки и под воздействием вновь открываемых фактов —
272
признать диалектику действительности, то есть она не
может уже просто отрицать эту диалектику и переходит
к ее «признанию», но с ограничением и фальсификацией
ее сущности. Эти искажения, выхолащивающие
содержание принципа развития мира, в современной науке
весьма многочисленны, будь то современные буржуазные
теории культуры, сводящие социальный прогресс к
заколдованному кругу вечных возвратов типов культуры, то
есть усматривающие в развитии культуры и общества
лишь жалкий циклизм; пли модные концепции о конце
человеческой культуры, неправомерно отождествляющие
действительный крах одного из моментов беспредельной
эволюции человеческой культуры — юрах ее христианско-
атлантической модели—с концом человеческой
культуры вообще; или же катастрофические спекуляции
физиков-идеалистов, связанные с принципом энтропии, или
унылые картины географов питания или демографов;
поиски неизменных инстинктов и фрейдовских слепых
импульсов как двигателей человеческого поведения или
находки юнговских «архетипов» коллективного
подсознательного как детерминант мышления в психологии; или,
наконец, приписывание роли движущих факторов
развития органичеокого мира неизменным, наделенным
почти божественными или по крайней мере платоновскими
атрибутами полной неподвижности бионтам Ферворна,
энтелехии Дриша или организаторам Спемана (Spe-
man). Всюду мы видим тенденцию признания принципа
развития—но признания с ограничением и
фальсификацией, признания, мистифицирующего движущие силы
этого развития, то есть выхолащивающего подлинное,
научное содержание этого принципа.
Поэтому более внимательный наблюдатель не сможет
рассматривать марксистско-ленинский принцип
диалектического развития как обычный трюизм, тем более в
том случае, когда он обнаружит связь этих якобы
признающих принцип развития теорий с пессимистической
картиной космоса, органического мира, общества и
человеческой психики. Он обнаружит, что существует
неразрывная связь между ленинским материалистическим
и диалектическим пониманием философии и науки, с
одной стороны, и ленинским познавательным
оптимизмом — с другой, так же как существует неумолимая
логика связи развития между неразумным, животным Es и
273
Selbstzerstorungstrieb Фрейда, между сартровским
образом одинокого человеческого существования и
пессимизмом этики этой философии страха и небытия.
Тот факт, что в настоящее 'время лишь марксизм-
ленинизм может претендовать на звание научности,
находит свое подтверждение и в других аспектах
концепции Ленина. Если мы, например, рассмотрим
марксистский детерминизм, столь интересно изложенный в
«Материализме и эмпириокритицизме», то опять увидим, что
положение о марксизме как единственном защитнике
подлинного детерминизма вызывает порывы сострадания
среди мнимых сторонников «истинно научного» взгляда
на мир. Между тем опять-таки разве не является
фактом, не лишенным пикантности, что среди весьма
различных течений индетерминизма и онтологического
иррационализма, господствующих в западной науке и
философии, единственным последовательным представителем
научного детерминизма считается... неотомизм? Причем
представителем настолько упорным, что, например, в
известном учебнике ксендза профессора Е. Квятковского
читаем: «Если недостаточны сотворенные причины,
вознесемся к причине несотворенной, то есть к богу. Если
недостаточны причины материальные, естественные,
вознесемся к признанию причин сверхъестественных, оверх-
природных»1. Но если мы не станем дискутировать с
этим слишком рьяным, чтобы быть истинным,
детерминизмом, точнее — католическим псевдодетерминизмом,
так легко объединяющим с причинностью теологическую
картину мира, веру в чудо и в недетерминированное
никакими законами божественное провидение, и перейдем
к рассмотрению ситуации в так называемых светских
философских учениях и науках, то легко заметим
множество всевозможных течений и теченьиц, направлений
и направленьиц, каждое из которых на свой страх и
риск занимается опровержением принципа причинности
или же сужением сферы его действия. И будь то
экзистенциалистские течения, программно провозглашающие
онтологический иррационализм или положение о
хаотической, внутренне неупорядоченной структуре, а скорее
аморфности мира; или духовный отец
экзистенциализма— бергсонианство с его ненаправленным, не подчи-
1 «Filozofia wieczysta w zarysie», Krak6w, 1947, t. II, s. 72.
274
йяющимся никаким закономерностям elan vital, или же
другие течения «философии жизни» и направления,
прославляющие слепой жизненный динамизм и частенько
приводящие непосредственно к фашизму с его
мифологией крови; или же неогегельянский актуализм —
безразлично, в форме ли более либеральной, как у Бенедетто
Кроче, или в более острой форме, составляющей
философскую основу итальянского фашизма, как у Джован-
ни Джентиле,— повсюду в философии периода
гибнущего капитализма мы наблюдаем атаки на эту важную
основу научной картины мира, какой является каузализм.
А лучше ли обстоит дело в науке! И здесь мы
обнаружим расцвет идеалистических спекуляций в связи с
принципом неопределенности Гейзенберга, пытающихся
из факта индетерминированности поведения микрочастиц
создать целое антикаузальное мировоззрение, в биологии
разворачивается целая панорама концепций, подобных
кондиционализму Феворна и Циммермана,
растворяющему понятие причины в совокупности условий,
холизму А. Мейера и Смэтса, организму Вуджера и Э.
Рассела, эквифинализму Берталанфи и т. д. Все эти
тенденции подтверждают своим существованием и атаками на
детерминизм справедливость положения Ленина,
высказанного в «Материализме и эмпириокритицизме», о том,
что идеалистическая философия и наука составляют
преддверие фидеизма, что отрицание принципа
причинности или же—более часто сейчас встречающееся —
противопоставление причинности всеобщей взаимосвязи
явлений, характерное для мощного течения
«целостности» (Ganzheit), столь распространенного в современной
философии и методологии науки, являются современной,
характерной для XX века пропедевтикой теологии.
Таким образом, и в этом случае марксизм-ленинизм
является единственным последовательным защитником
каузальной картины мира, а поскольку без
детерминистского, как и без динамического, утверждающего
развития подхода подлинная наука существовать не может,
следовательно, лишь диалектический материализм
может претендовать в настоящее время на звание
научного мировоззрения.
Заканчивая, нельзя не напомнить об одном
существенном моменте самого духовного облика Ленина — его
личности как образца не только деятеля-коммуниста, но
275
И Мыслителя, философа и ученого. Его безграничная
жажда знаний, так отличающаяся от современного,
подчас программного деидеологизированного бихевиоризма
молодежи; его бескомпромиссность в суждениях,
являющаяся примером партийной и- одновременно объективной
теоретической и практической позиции;
принципиальность, соединенная с живостью интеллекта, иронией,
продолжающей лучшие традиции образа мышления
просветителей; борьба с напыщенной угрюмостью,
призывающей создавать будущее счастье со смертельной, хуже
того, подчас бюрократической серьезностью,— все эти
моменты указывают на глубоко гуманную личность Ленина,
на то, что он был не только философом, но и —
перефразируя известное выражение Шекспира — amidst all
his philosophy was still a man, что он был одной из
ярких звезд того большого ряда мыслителей-гуманистов,
который продолжается со времен Протагора и Софокла,
Леонардо да Винчи и энциклопедистов, Маркса и
Чернышевского до настоящего времени. Защита науки и
научного характера философии у Ленина
последовательно соединялась с защитой суверенности человеческого
разума, с познавательным оптимизмом и глубокой верой
в бесконечный прогресс человечества — с верой в
Человека.
Ёти Вятр
Польская Народная Республика
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ
АНТИКОММУНИСТИЧЕСКОЙ „СОВЕТОЛОГИИ" В США
Особая роль, которую американская
антикоммунистическая «советология» играет в современной
идеологической борьбе против социалистических стран, а также
место, занимаемое ею в американских общественных
науках, свидетельствуют о необходимости уделять ей
постоянное внимание. Различные общественные науки,
каждая со своей точки зрения, должны подвергать анализу
и критике это направление «научных» интересов в США
и других капиталистических странах. Хотя «советология»
по своей сущности и занимает промежуточное
положение среди других теоретических дисциплин, все же в ее
рамках можно выделить социологические,
экономические, психологические и философские проблемы и теории.
Настоящая статья касается лишь одной стороны
проблемы, а именно — способа применения в пределах
американской «советологии» аппарата понятий и положений
социологических теорий. Определяя подобным образом
тему своего исследования, автор данной статьи отдает
себе отчет в ограниченности такой постановки вопроса.
Частичным оправданием этому может служить то
обстоятельство, что более общими проблемами развития
и организации «советологических» исследований, равно
как и их связей с американской психологической войной
против социалистических стран, автор уже занимался в
других работах К
Термин «советология» применяется в данной статье
в широком смысле слова. Он охватывает работы,
посвященные не только советской общественно-политической
и экономической системе, но и
общественно-политическим и экономическим системам других, главным образом
1 J. J. Wiatr, Etapy sowietologii, cWspolczesnosc», 1968, № 11,
264.
277
европейских социалистических стран. Что касается
быстро растущего в последнее время числа работ,
посвященных проблематике Китайской Народной Республики,
то в них все чаще применяется термин «синология»
или «политическая синология». Впрочем, эту
проблематику мы в настоящей статье затронем лишь
мимоходом.
Хотя это разграничение и не совсем четкое, в
данной статье было бы более правильным ограничить
'Применение понятия «советология» только к работам,
написанным с позиций антикоммунизма. Имеется ряд работ
(до второй мировой войны их было даже больше),
принадлежащих перу прогрессивных или по крайней мере
объективных наблюдателей общественной жизни в СССР
и других социалистических странах. Эти работы, даже
при наличии в них определенных неверных толкований,
не следует причислять к «советологическому»
направлению и смешивать с ним 1. Вспомогательным, а часто и
весьма важным критерием отнесения тех или иных работ
к разряду «советологических» может служить и
организационная связь автора и самой его работы с одним из
многочисленных специальных центров, занимающихся
проблематикой социалистических стран.
Наконец, краткое замечание относительно термина
«антикоммунистическая советология». Это выражение
употребляется в статье в самом прямом значении. В
данном случае речь идет о направлении, которое не только
объективно выполняет определенную служебную
функцию в антикоммунистической политике некоторых
западных государств, но и, кроме того, открыто и прямо
заявляет о своем антикоммунизме. Поэтому определение
«советологических» направлений как
антикоммунистических—это даже не обвинение, а простая констатация
широко признаваемого факта.
О связи «советологии» с американской социологией
свидетельствуют как использование некоторых
социологических теорий в «советологических» разработках, так
и применение некоторых социологических ;методов сбора
и анализа материалов. «Советологические» центры
предпринимали, например, ряд анкетных исследований типа
1 См.: S. Webb, В. Webb, Soviet Communism: A New
Civilization, New York, 1935.
278
углубленного зондажа мнений, используя в качестве
«представителей» этого мнения эмигрантов из СССР
(совместное исследование Гарвардского университета и
мюнхенского «Института исследования осультуры и
истории СССР» по поручению военно-воздушных сил США *,
выполненное в первой половине 50-х годов) или
эмигрантов из европейских стран народной демократии2. В
других исследованиях применяется разработанная прежде
школой Гарольда Лэсуэлла методика исследования
«правящих элит», используемая «советологами» для
анализа политического, хозяйственного и культурного
руководящего актива стран социалистического лагеря.
Подобные исследования особенно широко развернуты в
Питтсбурге, где они ведутся с применением современной
вычислительной техники3.
Наконец, важным направлением социологических
исследований, к которым обращаются «советологи»,
является анализ содержания (content analysis) публикаций,
документов и выступлений государственных деятелей.
Данный метод в последнее время пользуется в кругах
«советологов» значительной популярностью4, поскольку
они не имеют возможности вести исследования на
местах. И хотя в работах «советологических» центров
находят применение некоторые социологические методы, все
же преобладающее число этих работ основано на более
или менее углубленном анализе фактов, которые
почерпнуты из публикаций, появляющихся в социалистических
странах, а также на проводимых в этих странах
социологических исследованиях. Авторы скорее занимаются
интерпретацией уже имеющегося материала, чем делают
попытки его увеличения.
1 R. Bauer, A. Inkeles, С. Kluckhohn, How the Soviet
System Works: Cultural, Psychological and Social Themes,
Cambridge, Mass., 1956; Z. K. Brzezinski (ed.), Political Control in
the Soviet Army, New York, 1954.
2S. Kracauer, P. L. Berkman, Satellite Mentality:
Political Attitudes and Propaganda Susceptibilites of Non-Communists in
Hungary, Poland and Czechslovakia, New York, 1956.
* C. Beck, D. K. Stewart, Machine Retrieval of
Biographical Data, «The American Behavioral Scientist», Vol. X, 1967, № 7.
4 N. С Leites, A Study of Bolshevism, Glencoe, 1954; P. S a-
g e r, Moscow's Hand in India: An Analysis of Soviet Propaganda,
Berne, 1966.
279
Теоретические концепции
и политическая ситуация
Даниэль Белл, автор уже несколько устаревшего
(1957 г.), но все еще единственного по своей
систематичности обзора «советологических» теорий \ делит все эти
теории на четыре группы: характерологические,
социологические, политические и исторические. Разграничение
между этими четырьмя группами произвольное.
Например, к характерологически^ теориям Белл относит:
1) теории общественной антропологии (Маргарет Мид,
Дж. Рикмэн, Генри Дике), которые трактуют
зависимость между «культурой» и «личностью» как основной
инструмент теоретической интерпретации
функционирования советской системы2; 2) психоаналитические
теории (Натан Лэйтес), объясняющие функционирование
социалистической системы категориями
психоаналитического определения личности руководителей. К
социологическим теориям Даниэль Белл относит: 3) теории
социальной системы (Раймонд Бауэр, Алекс Инкельс и
Клайд Клакхон), которые основываются на главных
принципах структурно-функционального направления
американской социологии; 4) теорию идеальных типов
(Барингтон Мур), заключающуюся >в сравнении
определенного общества (в данном случае советского) с рядом
абстрактных моделей организации власти в обществе. К
политическим теориям Белл, применяя названия, с
которыми трудно было бы согласиться, причисляет: 5)
«марксистскую» теорию (в толковании Исаака Дойчера),
6) «неомарксистскую» теорию, развиваемую экстроцки-
стами, 7) теорию тоталитаризма (Ханна Арендт,
Бертран Вольфе и др.) и 8) «кремлинологический» подход
(Франц Боркенау, Борис Николаевский). Последняя
теория сводится к объяснению функционирования системы
1 D. Bell, Ten Theories in Search of Reality: The Prediction of
Soviet Behaviour, в: The End of Ideology. On the Exhaustion of
Political Ideas in the Fifties, New York, 1962, p. 315—353.
2 В последнее время такой подход наблюдался в кн.: L. Р у е,
The Spirit of Chinese Politics, Cambridge, Mass., 1968, а также в кн.:
L. J. Halle, The Cold War as History, London, 1967, где
возникновение схолодной войны» объясняется тем, что уже с XIX в. будто
бы движущей силой русской политики являлся страх перед
соседями.
280
в категориях групповой и индивидуальной «борьбы за
власть». Наконец, к историческим теориям Белл относит:
9) славянскую теорию, приписывающую характерные
черты социалистической системы «извечным
национальным особенностям» (Эдвард Крэнкшоу, Эрнест Симмонс
и др.) и 10) геополитическую теорию (Николас Спикмэн,
Уильям Т. Фокс). Выделенные Беллом теории не имеют
альтернативного характера; в действительности у многих
авторов проявляется смешение элементов отдельных
теорий. Впрочем, это явление свойственно не только трудам
«советологов», подобное заимствование из различных
школ и теченией составляет особенность преобладающей
части буржуазной социологии.
Проведенная Даниэлем Беллам типология
«советологических» теорий советской системы не охватывает
теорий, выдвигаемых в течение последних десяти лет.
Среди них особую роль играет теория «индустриальных
обществ», «советологическим» выводом является прогноз,
утверждающий, что социалистические и
капиталистические общества будут подвергаться процессу эволюции,
сближающей их друг с другом («конвергенции»).
Популярность на западе теории конвергенции, созданной в
середине 50-х годов, носила мимолетный характер и
отражала обстановку в современном мире (формирование
принципов политики сосуществования, кризис так
называемой политики «освобождения», сформулированной
Дж. Даллесом, перемены, связанные с ликвидацией
явлений «культа личности» и вместе с тем активизация в
некоторых социалистических странах враждебных сил).
Эта теория, тесно связанная с политикой
империалистических держав, составляла основу концепции
постепенного «размягчения» коммунизма и поддержки
тенденций, направленных на реставрацию капитализма путем
постепенной мирной трансформации. Уже в 1957 году на
конференции «советологов», организованной
Оксфордским колледжем Св. Антония, Раймон Арон выдвинул
концепцию, согласно которой экономическое развитие
СССР и европейских социалистических стран якобы
должно привести к образованию многочисленной и
влиятельной интеллигенции, которую он рассматривает как
эквивалент буржуазии К В тесной связи с подобной трактов-
1 R. А г о п, Soviet Society and the Future of Freedom, Oxford,
1957, p. 4.
281
кой роли интеллигенции <в социалистическом обществе —
трактовкой, в некотором отношении близкой к теории
«класса менеджеров» Джемса Бернхэма \ — Раймон
Арон развивал концепцию заката идеологии и
обращался с красноречивым призывом к интеллигенции Польши
(в предисловии к польскому изданию книги «Опиум
интеллигенции») :
«Здесь и там... будем трудиться, чтобы ускорить
момент, когда веку идеологии придет конец»2. Это должно
свершиться путем разрушения «государственной
ортодоксии», господствующей в социалистических странах,
или, проще говоря, идеологии марксизма-ленинизма.
В 50-х годах теория конвергенции выполняла две
политические функции. В рамках капиталистических стран
и их политических центров—это теоретическое
обоснование политики, учитывающей невозможность победы над
социализмом вооруженным путем и пересмотр в связи
с этим наиболее воинственных лозунгов «отбрасывания»,
«освобождения» и т. п. В этом смысле теория
конвергенции являлась противовесом концепции «тоталитаризма».
Например, частичная и недостаточно последовательная
критика теории «тоталитаризма» содержалась в
упоминавшемся докладе Арона в Оксфорде. В частности, Арон
подчеркивал необоснованность конструирования модели
«тоталитарной» общественной системы, хотя сам он
оперировал понятием «тоталитарных черт», проявляющихся
с различной интенсивностью в различных системах3. На
этой же конференции Бертрам Вольф, Хью Сетон-Уот-
сон4 и некоторые другие выступили с защитой
догматического положения теории «тоталитаризма». В тогдашней
ситуации спор между сторонниками точки зрения об
эволюции в направлении «индустриального общества» и
защитниками тезиса о неизменной «тоталитарной
системе» был отражением спора между двумя политическими
концепциями: концепцией борьбы, главным образом
методами идеологическими, экономическими,
политическими и т. п., и концепцией неизбежности вооруженного
столкновения (локального или тотального характера).
1 J. В и г n h a m. The Managerial Revolution, New York, 1945.
2 R. А г о n, Koniec wieku ideologii, Paryz, 1965, ctr. 12.
3 R. А г о n, Soviet Society..., p. 3.
4 H. Seton-Watson, The Pattern of Revolution, Oxford,
1957.
282
Другая функция теории конвергенции сводится к
тому, что она выступает в качестве основного
теоретического оружия политики идеологического подрыва
коммунизма. Она рассчитана на внешний мир, на пропаганду
различными путями «а страны социализма.
Поддерживаемая сторонниками ревизионистских теорий, теория
конвергенции является особенно опасным методом
общего идеологического воздействия средств
империалистической пропаганды. Этим же обясняется то, что теория
конвергенции, неоднократно подвергавшаяся критике в
центрах «советологии», имела особый успех в
издательствах и в радиопередачах, ведущих пропаганду,
предназначенную для социалистических стран, и т. п. По
своей внешней функции эта теория представляет собой
острое и опасное оружие, которое центры
психологической войны направляют против более слабых звеньев
социалистического общества.
Однако одной теории конвергенции было мало.
Несоответствие ее положений действительности
становилось с каждым годом все более очевидным.
Надежды, возлагавшиеся на 1956 год, не оправдались. В
области «советологии» начали возникать новые политические
концепции и позиции, а вместе с ними и новые
«научные» теории.
Две из них оказали особое воздействие на
«советологические» концепции 60 годов и заслуживают
особого внимания. И та и другая взаимно дополняют друг
друга и не содержат взаимоисключающих положений.
Первая из них — это концепция параллельного
развития капиталистического и социалистического обществ,
в особенности американского общества .и советского
общества; причем, по данной концепции, их развитие
не приведет ни к сближению между этими системами,
ни к отмиранию одной из них, а вынудит взаимно
уважать государственные интересы. Особенно полно?
выражение эта концепция нашла в аналитическом
исследовании Збигнева Бжеаинского и Сэмюеля Хантингтона
о политической власти в США и СССР К В данном
случае его теоретико-социологической основой является
структурно-функциональный подход, поскольку авторы
1 См.: Z. Brzezinski, S. Huntington, Political Power:
USA/USSR, New York, 1964.
383
пытаются объяснить, каким образом обе системы
разными и только им свойственными методами стремятся к
полному удовлетворению основных потребностей
общества. В этом исследовании авторы также полемизируют
как с догматами теории «тоталитаризма», так и с
прогнозами теории «сближающей эволюции»
(конвергенции). В то же время оно содержит явное отрицание
исключительности и превосходства социалистической
общественной системы над капиталистической, а также
полемику с марксизмом-ленинизмом по вопросу
неизбежности преобразования всего мира в мир
социализма. Практическим политическим эквивалентом этой
теории является провозглашаемый в последнее время
(в том числе У. Ростоу) тезис о необходимости
создания в мировой политике «би-поля», то есть политики,
опирающейся на деятельность двух крупнейших
мировых держав, представляющих свои «государственные
интересы». Еще ранее подобные суждения высказывал
журналист Уолтер Липпман.
В последние годы наряду с этой теорией особый
успех имеет концепция так называемого
«национального коммунизма». Эта концепция построена на гипотезе,
что разногласия в рабочем движении и в
социалистическом лагере, связанные прежде всего с политикой
маоистской группы в КНР, приведут к расколу
современного коммунистического движения и
социалистического лагеря и тем самым дадут возможность
западным державам реализовать свои цели. Концепция
«национального коммунизма» представляет собой
теоретическое обоснование политики «селективного
сосуществования», локальных войн и различных новейших
направлений атак империализма на социализм. Эта
концепция, развиваемая в многочисленных работах,
теперь является лейтмотивом всей западной
«советологии». Это вовсе не означает, что другие теории,
которые создавались в последнее время, хотя иногда и в
несколько измененной форме, приобретают
второстепенное значение. Поэтому изучение теоретических основ
главных «школ» «советологии» по-прежнему остается
весьма актуальной задачей. Хотя можно проследить
изменяющуюся роль отдельных концепций на
различных этапах послевоенной политики империалистических
держаз, но все эти концепции по-прежнему являются
№
идеологическим оружием империализма в борьбе
против социализма. Изучение и критика этих концепций
остается задачей большой политической и научной
важности.
При дальнейшем анализе представляется
необходимым обратить внимание на основные социологические
теории современной антикоммунистической
«советологии»: теории тоталитаризма, конвергенции,
функционализма и «национального коммунизма». Прочие теории,
также заслуживающие анализа и критики, пока оставим
за рамками этой статьи. Рассматриваемые здесь теории
являются наиболее влиятельными и наиболее
опасными вариантами антикоммунистической «советологии»»
и на них в первую очередь следует сосредоточить свое
внимание.
Теория «тоталитарного режима»
Теория тоталитаризма, как теория особого
общественно-политического строя, основанного на
своеобразных, только ему присущих законах, была вначале
сформулирована Ханной Арендт1, а затем развита
группой авторов, объединенных вокруг Карла
Фридриха2 (особенно в совместно написанной Фридрихом и
Збигневом Бжезинским книге3, в которой содержится
наиболее полное изложение этой теории).
«Тоталитарную диктатуру» Фридрих и Бжезинским
определяют как «синдром», то есть модель,
характеризуемую шестью взаимосвязанными признаками,
которые только в комплексе (а не в отдельности) отличают
качественно новую формацию общественного строя —
тоталитарный режим. Вот признаки в толковании,
принятом во всей посвященной «тоталитаризму» литературе:
«1) официальная идеология, охватывающая
официальный доктринерский комплекс, который касается всех
существенных аспектов человеческого существования и
которому каждый живущий в данном обществе должен
подчиняться (по крайней мере пассивно);
1 Н. Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York, 1951.
2 С J. Friedrich (ed.), Totalitarianism, Cambridge, Mass., 1954.
8 С J. Friedrich, Z. К. Brzezinski, Totalitarian
Dictatorship and Autocracy, Cambridge, Mass., 1956.
285
2) единственная массовая партия, руководимая
одним человеком, диктатором, и состоящая из
относительно небольшой части всего населения... такая партия
имеет иерархическое и олигархическое построение, в
типичной ситуации является или верховным органом или же
полностью объединена с бюрократической
государственной организацией;
3) система террористического полицейского
контроля;
4) технологически обусловленная система почти
полной монополии партии и подчиненных ей кадров в
отношении всех средств эффективного массового
воздействия — пресса, радио, кино;
5) такая же технологически обусловленная система
почти полного контроля (в тех же руках) всех средств
эффективной вооруженной борьбы;
6) централизованный контроль и управление всей
народной экономикой...» 1
Определяя подобным образом «тоталитарную
диктатуру», теоретики этого направления подчеркивали,
что:
а) «тоталитарная диктатура» представляет собой
новое явление в истории, качественно отличающееся от
предыдущих автократических диктатур или иных
политических систем прошлого2, ее новизна вытекает из
технологических предпосылок (современные средства
борьбы и пропаганды), а также .из политических
предпосылок («тоталитаризм» вырастает из условий
современной массовой демократии)3;
б) «тоталитарные доктрины» различного типа
являются по своей сути схожими независимо от того,
выступают ли они в форме коммунистических систем
или фашистских систем; различие — в содержании
идеологии .и в исторических традициях4.
В этом заключается сущность теории
«тоталитаризма». Произвольно конструируя модель общественного
1 Там же, стр. 9—»10.
2 Однако К. Витфогель (К. A. Wittfogel, Oriental
Despotism, A Comparative Study of Total Power, New Haven, 1957)
доказывал, что уже обществам так называемых водных цивилизаций
Древнего Востока были присущие многие признаки «тоталитарных
обществ».
3 С. F г i e d г i с h, Z. К. В г z е г \ n s k i, op. cit. S. 13.
4 Там же, стр. 7—8.
286
строя, отличающегося признаками, о которых заранее
утверждается, что они взаимосвязаны, создатели
теории «тоталитаризма» склонны отождествлять в
общественном сознании реакционные фашистские режимы с
социалистической системой. Особенно используется для
этой цели утверждение, что известные извращения при
явлениях культа личности будто бы представляют собой
имманентные шризнаки социалистической системы. В
таком же духе выдвигали свои аргументы ведущие
приверженцы теории «тоталитаризма» примерно до второй
половины 50-х годов. Например, Збигнев Бжезинский
выступил в то время с произведением, в котором
доказывал, что .«перманентная чистка» составляла
функционально необходимый и постоянный элемент
функционирования социалистической системы К Впрочем,
отношение сторонников теории «тоталитаризма» к возможным
изменениям внутри социалистической системы вначале
было чрезвычайно отрицательным. Правда, Фридрих и
Бжезинский отмечали, что «тоталитарная» система, хотя
и отличающаяся большой прочностью, может
подвергаться эволюции от одного типа диктатуры к другому2,
но уже Бертрам Вольф, хотя и с некоторыми оговорками,
подчеркивал постоянство и неизменность
«тоталитарной» системы3.
Тезис об идентичности (или принципиальном
сходстве, что одно и то же) социалистической и
фашистской систем, названных «тоталитарными», как и
прогноз о принципиальной неизменности социалистической
системы, в интерпретации пропагандистов теории
«тоталитаризма» подкрепляются тезисом, что изменение
может прийти только извне, в виде вооруженной
интервенции «свободного мира». Поэтому теория
«тоталитаризма» имела особый успех в годы наибольшего накала
«холодной войны» и сочеталась с доктриной
«освобождения», «отбрасывания» и т. п., провозглашавшейбя в
начале 50-х годов наиболее агрессивными
политическими кругами США. С теоретической точки зрения
критика данного тезиса не представляется затруднитель-
1 Z. К. В г z e z i n s k i, The Permanent Purge. Politics in
Soviet Totalitarianism, Cambridge, Mass., 1956.
2Friedrich, Brzezinski, ibid., p. 302—303.
«Wolfe, ibid.
287
ной. Творцы теории «тоталитаризма», конструируя свой
«тоталитарный синдром», сделали два существенных
отступления от строго научной методологии. Во-первых,
они произвольно выбрали шесть «признаков», не
объясняя, почему именно эти, а не другие, более характерные
для «тоталитарных» режимов признаки должны
входить в определение «тоталитаризм». Произвольно
выделяя характерные признаки, а также нарочито
тенденциозно раскрывая их сущность, авторы концепции
«тоталитаризма» совершенно игнорируют основные
классовые, идеологические и политические факторы,
которые привели к тому, что именно социалистический
Советский Союз смог стать главным победителем
фашизма и освободителем Европы из-под его ярма.
К тому же — и это второе отступление от принципов
научной методологии — упомянутые авторы
совершенно безосновательно утверждают, что приводимые ими
признаки «тоталитаризма» составляют синдром, то
есть сочетание взаимосвязанных признаков. В сущности,
никто не проводил анализа, доказывающего такую
связь, напротив, более тщательное рассмотрение
истории режимов, которые «советологи» называют
«тоталитарными», показывает, что эти признаки,
провозглашаемые как часть синдрома, могут исчезать, не разрушая
остальных элементов системы, а подобные ситуации
именно свидетельствуют о слабой взаимосвязи
признаков, на основе которых построена вся теория
«тоталитаризма».
Именно эти трудности теории «тоталитаризма»
привели к альтернативным теориям и к попыткам ревизии
в рамках самой теории. Рассмотрим вначале эти
попытки.
Ревизией в рамках теории «тоталитаризма» была
критика, направленная в ее адрес еще Раймоном
Ароном в упоминавшемся выше докладе1, в котором он
хотя и продолжал оперировать понятием
«тоталитаризм», но отбрасывал некоторые .из основных
положений этой теории. Арон доказывал, что ни один полити-
1 А г о n, Soviet Society..., стр. 3—4; в более поздние годы Арон
по-прежнему занимал не очень четкую « последовательную позицию
в отношении теории («тоталитаризма» (особенно ср. его Democratic
et totalitarisme, Paris, 1964).
288
ческий режим не может быть охарактеризован как
«тоталитарный по своей сути», хотя различные режимы
обладают теми или иными тоталитарными признаками.
В результате Арон в отличие от ортодоксальных
сторонников теории «тоталитаризма» полагал, что
Советский Союз «стал «тоталитарным» иод воздействием
определенных обстоятельств» и что «он может перестать
быть тоталитарным или может стать менее
тоталитарным под влиянием других обстоятельств».
Ставя так вопрос, Арон открывал путь для
создания теории конвергенции в условиях образования
«индустриальных обществ». Между тем он, сохраняя
терминологию и многие положения теории
«тоталитаризма», отходил от основной сути понятия. Этим понятием
является синдром связанных и неизменных в своей
сущности признаков, на основе которых можно
определить принципиальное различие между «тоталитарными
диктатурами» всех видов и остальными политическими
системами, а также принципиальное сходство всех
«тоталитарных диктатур». Таким образом, позиция
Арона была непоследовательной и не оказала большого
влияния на более новую разновидность теории
«тоталитаризма»; она была скорее пунктом на пути от
концепции «тоталитаризма» к теории индустриальных
обществ, чем новым вариантом теории
«тоталитаризма».
Но в тот период, когда другие теории завоевывали
первенство у ортодоксальных приверженцев теории
«тоталитаризма», дискуссия среди американских *сове-
тологов» о «тоталитаризме» нисколько не
прекратилась. Одна из наиболее серьезных попыток
модернизации теории «тоталитаризма» была сделана в начале
60-х годов Збигневом Бжезинским еще до того, как он
позднее довольно значительно отошел от положений
самой теории. В 1962 году Бжезинский опубликовал
сборник своих статей 19Э6—1961 годов, где он
подверг ревизии положения теории «тоталитаризма».
Эта ревизия прежде всего шла в двух
направлениях:
1. Вместо концепции «тоталитаризма», как
статического синдрома шести признаков, Бжезинский
выдвигает «динамичную» концепцию «тоталитаризма».
«Тоталитаризм, — пишет он, — это система, в которой
Ю Ирибаджаков
289
технологически современный механизм осуществления
власти неограниченно применяется централизованным
руководством элитарного движения с целью
осуществления тотальной социальной революции, которая
охватывает формирование человека на основе совершенно
произвольных идеологических положений,
провозглашаемых руководством в атмосфере принудительного
единодушия всего населения»1.
2. Принимая такую концепцию развития
«тоталитаризма», но в то же время отвергая теорию
конвергенции, Бжезинский сформулировал прогноз о
развивающейся «рациональности» «тоталитарной» системы в
условиях высокого экономического развития, роста
стабилизации, повышения квалификации и т. д. Однако, по
мнению Бжезинского, такая рационализация системы не
должна обязательно вести к принятию западных
моделей 2.
Такая видоизмененная теория, содержащая
основные пороки теории «тоталитаризма» в целом, все же
более реалистически оценивала динамичный характер
социалистической системы. По-прежнему находясь в
рамках методологически ложной теории
«тоталитаризма», Бжезинский, разумеется, не смог увидеть, что
стремление к осуществлению «тотальной социальной
революции», хотя и является признаком
социалистической системы, тем не менее отсутствовало при
фашистских режимах, которые, выдвигая отдельные
демагогические лозунги, сохраняли общественно-экономический
строй капитализма неприкосновенным. Впрочем,
только ценой такого «недосмотра» Бжезинский смог
сохранить общую идею «тоталитаризма», без которой вся
теория должна была бы развалиться. В то же время
признание внутренних механизмов, перемен,
происходящих в процессе свершения революции, сближало
точку зрения Бжезинского с его позднейшей (на
несколько лет) концепцией параллельности политических
систем (о чем речь пойдет особо).
1 Z. К. В г z e z i n s k i, Ideology and Power in Soviet Politics,
New York, 1962, p. 19—20.
2 Там же, стр. 33. Примерно такой же концепции
придерживается A. G. Mayer, The Soviet Political System, New York, 1965,
который с читает «полную бюрократию» признаком «тоталитарных»
режимов.
290
Некоторые модификации в прежние варианты
теории «тоталитаризма» в последнее время внес также и
Карл Фридрих. Выступив в дискуссии на страницах
журнала «Проблемы коммунизма» (знаменательно, что
преобладающее большинство участников этой
дискуссии избегало терминологии теории «тоталитаризма»),
Фридрих, подкрепляя основные положения своей
ранней концепции, отверг рассуждения Бжезинского, Май-
ера и других о необходимости обогатить понятие
«тоталитаризм» такими новыми чертами, как сознание
цели, бюрократизация или, наконец, экспансионизм \ но
вместе с тем признал, что в рамках этой теории
необходима некоторая ревизия. Наиболее важной «новинкой»
во взглядах К. Фридриха было введение концепции так
называемых циклов изменений в рамках
«тоталитарных систем» и в связи с этим периода руководства
И. В. Сталина как периода крайней аберрации, а не
как нормального и типичного состояния системы2.
Кроме того, отступая под натиском позднейших теорий,
особенно теории конвергенции, Фридрих полностью не
исключал возможности сближения советской системы
и американской системы, оставляя этот вопрос
«открытым»3. Отказавшись в определенной мере от
теоретического тезиса, в котором подчеркивается роль
«вождя», он признает также, что эта роль в
социалистических странах не обязательно должна «быть
решающей». Наконец, сам Фридрих занял позицию (он сам
считает ее наиболее серьезной ревизией), которая
сводится к тому, что «тоталитаризм» является не
абсолютной, а относительной категорией. Поэтому в отличие от
своей прежней позиции он постулирует положение о
поисках не «идеального типа» «тоталитаризма», а скорее
о «тоталитарных тенденциях»4. Такие тенденции он
видит во многих странах с различными системами, как,
например, во Франции генерала де Голля или даже (хотя,
1 Такую мысль высказывал I. К. F e i г a b e n d, Expansionist
and Isolationist Tendencies of Totalitarian Political Systems: A
Theoretical Note, «Journal of Politics», 1962; цит. по: С F г i e d г i с h,
Totalitarianism: Recent Trends, «Problems of Communism», Vol.
XVII, 1968, № 3.
2Friedrich, Totalitarianism: Recent Trends..., S. 33—34.
3 Там же, стр. 42—43.
4 Там же, стр. 43.
10*
291
по мнению Фридриха, кажется, в значительно меньшей
мере) в США и ФРГ. В итоге ревизия, проводимая в
новейшей работе ведущего теоретика «тоталитаризма», не
нарушает основ теории и не спасает ее от вышесформу-
лированных критических обвинений, а скорее является
попыткой ослабить некоторые критические замечания
в рамках прежней теории, сохраняя при этом ее
основные характерные особенности. С этими поправками
теория «тоталитаризма» остается особенно
антикоммунистической теорией, теорией периода «холодной войны», не
совместимой с действительными тенденциями развития
современного мира. Ее живучесть (хотя бы как своего
рода идеологической обороны) на почве буржуазных
общественных наук объясняется постоянной
потребностью ведущих центров психологической войны в
концепциях, которые можно использовать в .пропаганде,
направленной против СССР и других социалистических
стран. Косвенной, но не менее реакционной функцией
этой теории является скрытая и, может быть, не всеми
осознанная реабилитация фашистских режимов,
которые по этой теории объединяются в одном типе
общественного строя с революционными системами
современного социализма.
Теория «конвергенции»
В середине 50-х годов Раймон Арон положил начало
направлению, которое часто называют теорией
«конвергенции», или «сближающей эволюции». У. Ростоу,
последовательно перенеся это направление в
американскую «советологию», развил и углубил его. Уже в
1954 году в своей книге «Движущие силы советского
общества» он подчеркивал, что в результате
общественно-экономического развития СССР сложились
совершенно новые социологические предпосылки
функционирования политической системы. В то время такого рода
предпосылками он считал: поколение
высококвалифицированных высших должностных лиц; постепенное
ослабление идеологических мотивов и появление
вместо них патриотических мотивов и категорий
эффективной деятельности; подъем общего уровня знаний, в том
числе знаний «внешнего мира»; растущее стремление
292
к миру и экономическому прогрессу К Констатируя
наличие в середине 50-х годов таких тенденций^ Ростоу
еще не предрешал общего направления будущего
развития социалистических стран и ограничивался лишь
указанием на альтернативные возможности. Впрочем,
в то время немногие последовательно выступали за
теорию «конвергенции». Среди них совершенно особое
место занимал Исаак Дойчер из Англии, который
утверждал, что наряду с проведенной индустриализацией
и дальнейшим промышленным развитием СССР
должен пережить глубокую эволюцию в направлении, час-
стично сближающем его систему с политическими
системами Запада2. Теория «конвергенции» приобрела
популярность в конце 50-х годов и особенно полное
выражение получила в книге У. Ростоу «Стадии
экономического роста», изданной в 1960 году3. Согласно
изложенной в этой книге теории, индустриализация и
связанные с ней общественно-экономические явления
должны повлечь за собой глубокие и односторонние по
своему характеру видоизменения политической
системы. Эти изменения охватывали бы «либерализацию»
или «демократизацию», понимаемые как принятие
социалистической системой (в длительном и сложном
эволюционном процессе) политических институтов,
выработанных западной буржуазной демократией.
Концепция Ростоу исходит из следующих
предпосылок. Индустриализация и урбанизация ликвидируют
культурную изоляцию социалистических обществ,
возникающую (согласно этой теории), по крайней мере
частично, из постоянства допромышленных моделей
культуры. Возникающие модели будут иметь
универсальный характер, так как будут отражать потребности
современной высокоразвитой промышленной
экономики. В результате возникнут также политические
явления, вытекающие из широкого распространения
идентичных моделей культуры. И даже больше того, по
мнению Ростоу, индустриализация и вообще
экономическое развитие создадут дифференциацию и еще боль-
1 W. W. R о s t о w, The Dynamics of Soviet Society, New York,
1954, p. 244.
* I. Deutsche r, Russia: What Next?, New York, 1953.
8 W. W. R о s t о w, The Stages of Economic Growth, Cambridge,
Mass., 1960.
293
шую сложность внутренней общественной структуры.
Поэтому они должны породить плюралистическую
структуру интересов, которая затем приведет к
образованию политических форм, в которых эти интересы
найдут свое выражение и удовлетворение. Наконец,
следствием индустриализации и экономического
прогресса является рост жизненного уровня, а затем рост
потребительских интересов, ослабление идеологической
активности и т. п. «Коммунизм, — утверждает Ро-
стоу, —вероятнее всего, отомрет в эпоху высокого
массового потребления» К
По Ростоу, существенную роль в процессе
сближающей эволюции должен также играть взаимный
научно-технический и культурный обмен, ведущий к
широкому распространению западной мысли. В итоге теория
«конвергенции» отводит марксизму определенную роль
в создании основ современного «индустриального
общества» в отсталых некогда странах, но лишает его
какой-либо будущности. В будущем в силу
постепенного эволюционного развития произойдет все
возрастающее сближение обеих систем, но это сближение
должно основываться на доминирующем влиянии моделей
западного, то есть капиталистического общества.
Теория «конвергенции» представляет собой смесь из
несомненных фактов, преувеличенных возможностей и
ложных теоретических установок. Было бы
неправильным отрицать, что высокий уровень экономического
развития приводит к значительным изменениям в
области общественно-политической и культурной жизни.
Однако в адрес сторонников теории «конвергенции»
необходимо выдвинуть следующие обвинения.
1. Согласно этой теории, в общественной жизни
существует однонаправленный технический детерминизм.
Достижение страной Б такого уровня
технико-экономического развития, какой характерен для страны А„
должен (по принципу такого детерминизма) привести
к тому, что в стране Б начнут появляться политические
институты, культурные явления, формы сознания,
свойственные стране А. История человечества совсем не
подтверждает такого действия однонаправленного
детерминизма. Наоборот, из истории известно, что черты
1 W. W. R о § t о w, The Stages of Economic Growth, p. Ш
294
общественного строя, национальные традиции,
исторические условия в самом широком значении этого слова
всегда являлись факторами, видоизменяющими и
формирующими ход общественных процессов. Воззрение,
делающее вывод о совокупности общественных
изменений на основе только самого роста технического
потенциала, без учета основного фактора — характера
производственных отношений и того, что за этим следует,
характера всего общественно-экономического уклада,
не имеет ничего общего с марксистским историческим
материализмом и противоречит исторической
действительности.
2. Тезис о том, что процесс экономического роста и,
следовательно, роста жизненного уровня общества
приведет к «обуржуазиванию» социалистического
общества *, основан на немарксистской концепции социализма
как «общества, основанного на аскетическом равенстве
в условиях общей бедности». На самом деле, если бы
мерилом социализма были бы некоторые утопические,
анархические или маоистские концепции, то этот тезис
мог бы иметь некоторый смысл. При
марксистско-ленинском понимании социализма как общества
справедливо распределяемого и все возрастающего общего
достатка нет причин считать, что экономическое развитие
приведет к «отмиранию коммунизма».
3. Тезис о том, что экономическое развитие,
стабилизация, рост жизненного уровня и другие
экономические явления автоматически приведут к утрате
идеологического влияния, основывается на предположении,
исключающем сознательную деятельность
общественных сил, стоящих на позиции социализма.
Действительно, следует признать, что всякий раз, когда такое
воздействие ослаблялось, возникали отдельные
идейные «загибы» или даже антисоциалистические явления.
Опасность теории конвергенции в этом вопросе в том,
что она идет навстречу тем силам и тенденциям в
отдельных социалистических странах, которые хотели
бы ослабления идеологической борьбы, укрепления
1 Основываясь на этой концепции, Т.-Г. Ригби (Т. Н. R i g b у,
The Embourgeoisement of the Soviet Union and the
Proletarianization of Communist China, в: К. London, ed., Unity and Contradiction.
Major Aspects of Sino-Soviet Relations, New York, 1962) высказал
гипотезу, что СССР и КНР будут отдаляться друг от друга в
результате дивергентных экономических и социологических тенденций.
295
«малой стабилизации», отказа от продолжающихся
видоизменений или которые попросту жаждут мирной
эволюции к капитализму. Но сторонники упомянутой
теории ошибаются, когда утверждают, что такие
процессы носят неизбежный характер и что на них следует
строить прогнозы о будущности социалистических
обществ. Действительно, экономические процессы,
связанные с высоким уровнем промышленного развития, могут
лишь создавать при определенных условиях объективные
предпосылки для возникновения неблагоприятных для
социализма идеологических явлений. А возникнут,
разовьются ли эти явления, решает в первую очередь
сознательная деятельность социалистических сил,
сплоченных вокруг марксистско-ленинской партии.
Критики теории «конвергенции» оперируют
различными аргументами. Одним из наиболее удачных дово-
дов, выдвинутых другой группой американских
«советологов», является обвинение в том, что сторонники
этой теории занимаются тем, что по-английски
называется «wishful thinking», то есть принимают
желаемое за действительность. Как не без иронии отмечают
Бжезинский и Хантингтон, теория «конвергенции»
является «...источником оптимизма для многих и
оправданием для всех» !.
Эта теория представляет собой как основу
внутренней пропаганды концепции сосуществования, так и
оружие, рассчитанное на население социалистических стран,
оружие пропаганды методов «эволюционной гибели»
социализма, поддержку для ревизионистских и
антисоциалистических концепций в отдельных странах
социалистического лагеря и политический инструмент
в собственном лагере империалистических государств.
Некоторые «советологи» атакуют эту теорию за ее
ориентацию на «мирную эволюцию». Например,
известный французский эксперт по вопросам «советологии»
Мишель Татю, отвергая утверждение другого
французского автора (Мишеля Гарднера), что якобы
мирный путь развития социалистического общества
невозможен и оно находится накануне крушения2, доказы-
1 Brzezinski, Huntington, ibid, p. 13.
2 M. Gardner, L'Agonie du regime en Russie sovietique, Paris,
1965; Гарднер даже определяет срок «крушения советской системы>
в 1970 г. (!).
296
вает, что концепция «мирной конвергенции» не
считается со стремлениями и чаяниями самого населения К
По мнению М. Татю, этот аргумент должен указывать
на возможность нарушения процесса «мирной
конвергенции» взрывом недовольства населения, вызванным
его медлительностью. Но Татю упустил из виду,
действительно ли население социалистических стран
(несомненно заинтересованное в преобразовании своего
общества и в постоянном его прогрессе) хочет -искать
примера в капитализме вместе с его общественной
несправедливостью, милитаристскими, неофашистскими и
другими тенденциями.
В настоящее время теория «конвергенции» в
американской «советологии» переживает явный кризис.
Анализируя ход дискуссии на страницах журнала
«Проблемы коммунизма» о перспективах развития
советского общества, Бжезинский отметил, что ни один из
двадцати участников дискуссии, стоящих на весьма
различных позициях, не поддержал теории
«конвергенции2.
В общем, создается такое впечатление, что эта
теория хотя и по-прежнему используется в пропаганде и
активно поддерживается некоторыми ревизионистскими
группировками, уже заброшена ведущими центрами
«советологии» в пользу новых толкований и теорий3.
Структурно-функциональное направление
в «советологии»
Структурно-функциональное направление, имеющее
большое влияние во всей американской «советологии»,
не могло оставить вне своего внимания
«советологические» исследования. Но в период господства теории
1 М. Т a t u, The Beginning of the End? cProblems of
Communism», Vol. XV, 1966, № 2, p. 46.
2 Z. Brzezinski, Reflections of the Soviet System, «Problems
of Communism», Vol. XVII, 1968, № 3, p. 46.
3 Однако кризис теории «конвергенции» абсолютизировать
нельзя. Так, например, в специальном номере «Revue Franchise de
Science Politique», посвященном пятидесятилетию Октябрьской
революции (Vol. XVII, 1967, № 6), Жан Мейрна доказывает, что СССР
должен осуществить «фундаментальную идеологическую ревизию» и
во имя сосуществования с Западом отказаться от революционных
целей (стр. 1048).
2У7
«тоталитаризма» это направление не могло полностью
проявиться, так как основные характерные черты
функционального направления — равновесие системы,
функций и дисфункций и т. п. — были несовместимы с
концепцией общественного строя, коренным образом
противостоящего всем другим и как бы не подчиняющегося
общим социологическим законам. Но даже в этот
период появлялись исследования, авторы которых
пытались в духе функциональных трактовок объяснить
структурные механизмы и их функциональное
отношение к основным общественным потребностям. Такой
подход нашел отражение в последней части
исследования Бауэра, Инкельса и Клакхона !, а также в книге
Марла Фэйнсода «Как управляется Россия»2. Эти
авторы стремились путем всестороннего анализа
«функций» и «дисфункций» в рамках советской системы дать
оценку ее сильным и слабым сторонам. Хотя подобная
позиция в основном не требовала принципиального
отмежевания от «тоталитарной» теории, она побуждала
к менее догматическому подходу к проблеме.
Однако полнее всего этот период нашел свое
отражение в сравнительном исследовании Бжезинского и
Хантингтона о политических системах США и СССР.
Эти авторы имплицитно отвергли теорию
«тоталитаризма» (не применяя даже самого термина) и
эксплицитно подвергли развернутой критике концепцию
конвергенции. Их подход к сравниваемым системам носит
явную печать функциональной школы и представляет
собой попытку доказать (впервые в этой области)
преимущество такой позиции в отношении
социалистической системы.
Свое исследовательское кредо Бжезинский и
Хантингтон излагают следующим образом:
«Мы занимаемся изучением политических проблем;
работая над данной книгой, мы подходили к вопросам
с профессиональной точки зрения. Нас интересуют не
пороки и добродетели, а проявления силы и слабости.
Моральные суждения и так достаточно часто
выносятся по обе стороны железного занавеса, причем
результаты их можно предсказать заранее. В своей работе мы
1 Bauer, Inkeles, Kluckhohn, op. cit., p. 222—235.
2 M. Fain sod, How Russia Is Ruled, Camridge, Mass., 1963.
293
старались не допустить того, чтобы предпочтение,
отдаваемое нами конституционной демократии, повлияло
на характер нашего анализа. Люди в Соединенных
Штатах и без того слишком склонны считать, что
американская система, поскольку она обеспечивает своим
гражданам больше свободы и поэтому более
желательна, обязательно должна быть и более устойчивой. Это
несостоятельное рассуждение, порожденное тенденцией
принимать желаемое за действительное. Наши оценки
не всегда подтверждаются историей. Система, в
которой соблюдаются принципы личной свободы граждан
и проявляется забота об их благосостоянии, не
обязательно будет более жизнеспособной, чем система,
основанная на иных принципах. Решающую роль играет
здесь вопрос о том, какая из систем обеспечивает
порядок управления, более соответствующий требованиям
века» *.
Формулируя подобным образом свою
исследовательскую задачу, Бжезинский и Хантингтон называют
четыре группы вопросов, являющихся, по их мнению,
ключевыми для функциональной эффективности
системы: «...политические идеи и политика, политическая
система и личность, политическое руководство и
определение политического курса»2.
На этих же вопросах они концентрируют внимание
в своем анализе. Прослеживая функционирование
обеих систем на основе нескольких выбранных проблем и
ситуаций (приход руководителей к власти,
формирование решений в спорных вопросах, отношение к
земледелию, роль выдающихся полководцев, отношения в
рамках международных союзов), они ищут ответа на
вопрос о функциональных достоинствах и недостатках
обеих систем.
Вытекающий из этого анализа вывод достоин,
чтобы его процитировать. «Советская и американская
системы правления, — писали Бжезинский и
Хантингтон,— относятся к небольшому клубу удачливых
систем. Именно вследствие того, что они в состоянии
править, они имеют много общего, что и отличает их
от «спотыкающихся», неустойчивых и неэффективных
1 Brzezinski, Huntington, op. cit., p. 4—5.
2 Там же, стр. 6.
299
систем, существующих в странах Азии, Африки,
Латинской Америки. Советская и американская системы,
каждая по-своему, являются эффективными,
авторитетными и устойчивыми. Они обеспечивают законность
посредством определенного комплекса политических
идей. Они уходят своими корнями в гомогенные
политические культуры. Не обладая аристократическими
традициями, они привлекают своих политических
лидеров из широких слоев населения, причем у них
существуют относительно открытые системы социального
перемещения. Обе они продемонстрировали способность
пополнять свои руководящие кадры и приспосабливать
свою политику и цели к коренным изменениям в
окружающей их среде. Обе системы динамичны. Они
изменяются — частично стихийно, а частично вследствие
целенаправленных действий людей. Остается
задача— определить направление и смысл этих
изменений» 1.
Говоря о направлении этих изменений, авторы
делают ряд конкретных прогнозов, основывающихся в
некоторой степени на предположении (или пожелании)
о взаимном заимствовании «сильных сторон»
соперничающими системами. Но, как легко догадаться,
несмотря на первоначальные заверения, авторы гораздо
больший акцент делают на необходимость изменений
не в американской, а в советской системе2. Авторы
еще раз отвергают концепцию «конвергенции» обеих
систем и предрекают их параллельную эволюцию, в
которой, однако, каждая из систем сохранит свою
проверенную историей силу и своеобразие3.
Такой подход хорошо соответствовал политическим
концепциям периода правления Джона Кеннеди, с
приверженцами которого оба автора были тесно
связаны. Знаменательно, что несколько лет спустя, в
обстановке нового обострения «холодной войны», Бже-
зинский поднимает ту же тему, чтобы развить перед
читателем перспективу «вырождения», якобы
грозящего советской системе в результате непринятия его
1 Brzezinski, Huntington, op. cit., p. 418—419.
2 Там же, стр. 431—433.
3 Там же, стр. 436.
300
концепции изменений'. Этот автор, отличающийся
способностью необычайно быстро изменять свою
позицию, на что обращали внимание даже в кругах
«советологов»2, является хорошим зеркалом, в котором
отражается отношение американской правящей элиты к
социалистическим странам. Его функциональная
концепция в равной мере может и доказывать постулаты
параллельного развития и сотрудничества двух
«супердержав», и способствовать в изменившейся
ситуации распространению утверждений буржуазной
пропаганды о приближающемся «кризисе» социализма.
Выставляемый напоказ объективизм с его
методологическими трактовками и уход от оценок не должны
вводить нас в заблуждение; при подобных трактовках
«советологи» основываются «а проблемах, специально
подобранных для сопоставления (например, явно
обходят вопрос о классовой базе обеих систем или,
скажем, возможность разрешения в рамках этих систем
национальных вопросов). Более того, даже
подчеркивая сильные стороны социалистической системы, они
пытаются скрыть связь, существующую между силой
политической системы и характером
общественно-экономического строя. Таким способом они отрицают тот
основной факт, что силой советской системы и
системы других социалистических стран в первую очередь
является то, что в их основе лежат социалистические
производственные отношения и вытекающие из них
общественные отношения нового типа. Итак,
функциональный подход еще раз оказывается более
пригодным для анализа деталей функционирования системы
и статистической их оценки, чем для понимания
больших тенденций развития, преобразовывающего
общественный строй. Ибо для действительного изучения не
отдельных изолированных изменений, а крупных
общих направлений развития необходимо выйти за пре-
1 Z. Brzezinski, The Soviet Political System: Transformation
or Degeneration?, «Problems of Communism», Vol. VI, 1966, № 1,
Reflections on the Soviet System, «Problems of Communism», Vol.
XVII, 1968, № 3.
2 На «рискованные изменения» во взглядах 3. Бжезинского
обратил, например, внимание профессор Амстердамского университета
Н. L. Verhaar, см.: «Problems of Communism», Vol. XVI, 1967.
№. 1, p. 80.
301
делы структурно-функциональных трактовок; для
этого необходимо обратиться к марксистско-ленинской
теории общественного развития, особенно к теории
борьбы классов, так как без нее невозможно понять
механизм функционирования политической системы
социализма и нельзя увидеть тех подлинных перспектив,
которые встают перед странами, являющимися в
настоящее время еще капиталистическими. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что
структурно-функциональный анализ, демонстрируемый Бжезинским и
Хантингтоном (хотя и более реалистичный по сравнению
с прежними «советологическими» концепциями), не
может выйти за пределы толкований, идеально
укладывающихся в рамках, установленных политическими
целями Соединенных Штатов и кругозором
господствующей там идеологии. Тот факт, что американская
«советология» обратилась к структурно-функциональному
направлению, свидетельствует о знаменательном
направлении кризиса традиционных концепций
«тоталитаризма», «конвергенции» и т. п. Но в рамках
марксистской социологии это направление неприемлемо.
Марксистская социология может и должна
систематически анализировать функционирование
социалистической системы и с высокой чуткостью реагировать на
все признаки как «функциональных», так и
«дисфункциональных» явлений в рамках нашей системы, но
делать это только в рамках марксизма-ленинизма
вообще и марксистско-ленинской науки о классовой
борьбе, диктатуре пролетариата и особенно о
социалистическом государстве — в частности1.
1 На то обстоятельство, что структурно-функциональное
направление, а особенно понятие «политической системы как комплекса
взаимообусловливающихся процессов и структур», страдают
ограниченностью и требуют сочетания с анализом исторического
контекста данной страны, обратил недавно внимание другой американский
«советолог» (F. С. В а г g h о о г n, Changes in Russia: The Need
for Perspectives, «Problems of Communism», vol. XV, 1966, № 3,
p. 39—40). Но сам он пользуется менее рискованным и
многозначным понятием «политической культуры», играющим ключевую роль
в функционалистической школе Габриеля Альмона (ср.: F. С. В а г g -
hoorn, Soviet Russia, в: L. W. Pye, S. Verba (eds.), Political
Culture and Political Development, Princeton, 1965).
302
Теория «национального коммунизма»
В последние годы все большая часть центров
«советологии» на Западе сосредоточивает свое внимание на
проблематике отношений и так называемых
«конфликтов» внутри социалистического лагеря и мирового
коммунистического движения, являющейся следствием как
раскольнической деятельности маоистской группы, так
и других тенденций, направленных против
социалистического мира. Вопросам этим посвящена огромная
литература, в которой ведущее место занимает теория так
называемого «национального коммунизма»,
утверждающая, что противоречия национального характера станут
силой, разрушающей социалистический лагерь и
коммунистическое движение и тем самым прокладывающей
путь для реализации .стратегических целей западных
держав.
Литература, посвященная этим вопросам, стала
обильно появляться в первые годы 60-х годов. Одной из
крупных «советологических» работ, подхватывающих
указанные мотивы, является книга 3. Бжезинского
«Советский блок. Единство и конфликт», в которой автор
доказывает, что политика Запада должна развиваться
в направлении постепенного создания и поддержки
«эрозии» социалистического лагеря путем поддержки
тенденций, направленных против единства этого
лагеря !. А указывая на внутренние факторы, которые могут
содействовать реализации такой политики, Бжезинский
особое место отводит ревизионизму, как силе,
борющейся против так называемого «интегрирующего мифа
официальной пропаганды» 2.
В более поздние годы, особенно по мере усиления
раскольнических действий маоистской группы и
связанного с этим конфликта в рабочем движении,
значительно увеличилось число публикаций, непосредственно
посвященных этому вопросу3, а также имели место
пространные обсуждения создавшейся обстановки в мировом
1 Z. К. В г z e z i n s k i, The Soviet Bloc: Unity and Conflict,
New York, 1961, p. 400—405.
2 Там же, стр. 408.
3 Например, К. London (ed.), Unity and Contradiction: Major
Aspects of Sino-Soviet Relations, New York, 1962.
303
коммунистическом движении !; и те и другие пролизаны
идеей «неизбежного распада в будущем единства
социалистического лагеря и коммунистического движения.
В таком же духе обсуждались политические изменения,
происшедшие в некоторых других социалистических
странах2. В атмосфере таких рассуждений о
«национальном коммунизме» и «эрозии» социалистического
лагеря в последние годы вышли в свет многочисленные
монографии, посвященные проблемам Китая; их общий
тон, помимо негативной оценки различных аспектов
внутренней и внешней политики КНР, выражает
удовлетворение той ролью, которую маоизм взял на себя
в коммунистическом движении3. В этих монографиях
особенно подчеркивается националистический характер
доктрин Мао-Цзэ-дуна4, а также абсолютизируется
влияние, которое оказали на формирование маоизма
национальные традиции, национальный характер и т. п.5
Все эти рассуждения «советологов» отражают
новейшие политические концепции США в отношении
социалистических стран. Уильям Гриффит уже в 1964
году выражал надежду, что если маоизм не завоевал
серьезного влияния в Европе, то все же он может
способствовать «растущей дифференциации» европейского
коммунизма6. Через два года Гриффит идет еще
дальше, заявляя, что национализм стал главной движущей
силой, оказывающей влияние на изменения в «европей-
1 Например, W. E. Griffith (ed.), Communism in Europe:
Continuity, Change and the Sino-Soviet Dispute, Cambridge, Mass.,
Vol. I, 1964, Vol. II, 1966.
2 См., например, книгу английского «советолога» румынского
происхождения: G. lonescu, Communism in Rumania, 1944—1962,
London, 1964; L'Avenir politique de l'Europe Orientale, Paris, 1967.
3 См., например, F. W. H о u n, Chinese Political Traditions,
Washington, 1965; A. A. Cohen, The Communism of Mao Tse-tung,
Chicago, 1964, J. Ch'en, Mao and the Chinese Revolution, London,
1965.
4 См., например, S. R. S с h г a m, Mao Tse-tung, London, 1966.
5 Так, например, на страницах «Problems of Communism», Vol.
XV, 1966, JSfe 5 опубликованы материалы дискуссии на тему маоизма,
в которой приняли участие ведущие американские эксперты по
Китаю: S. R. S с h г a m, A. A. Cohen, Benjamin Schwartz & Mostafa
Rejai. Наиболее спорным был вопрос о том, рассматривать ли
маоизм как выражение национальных китайских традиций,
перенесенных в современность.
6 Griffith, op. cit., vol. I, p. 18.
304
ском коммунизме» !, и что в будущем якобы
геополитические \факторы будут играть в нем большую роль, чем
пролетарский интернационализм. Леопольд Лабедз,
высказываясь в том же духе, утверждает, что
«доведенным до логических пределов полицентризмом,
естественно, является национальный коммунизм, а его
побочным продуктом — функциональность внутри партии»,
и уверяет, что-де «идея интернационализма будет
коммунистами отвергнута»2. Подобные высказывания
можно было бы цитировать бесконечно. В них «советологи»
проводят одну и ту же линию: яро выступают против
интернационализма в коммунистическом движении,
подчеркивают и преувеличивают имеющие место
«конфликты» и расхождения; «пророчат» пришествие эры
национализма; наконец, рекомендуют западным державам
проведение политики раскола и противопоставления
друг другу социалистических стран. Теория
«национального коммунизма» является идеологическим
обоснованием политики так называемого «селективного
сосуществования», которая опирается на метод применения
к отдельным социалистическим странам различной
политики с целью взаимного противопоставления этих
стран. Итак, совпадение этой теории с новейшей
тактикой империализма в отношении социалистических
стран очевидно, и в этом заключается особо опасный
политический смысл данной теории.
Но в какой мере эта теория социологически
обоснована? Поразительно, что самые последние работы на
тему «национального коммунизма» теоретически весьма
убоги и лишены более или менее серьезных
социологических обобщений. Много лет тому назад, когда
понятие «национальный коммунизм» еще не имело такого
хождения на Западе, среди некоторых «советологов»
(Горер, Мид) наблюдалась, как об этом уже
упоминалось, тенденция к выяснению функционирования
системы в категориях устойчивых национальных признаков.
Трудно сказать, в какой мере теперешние сторонники
«национального коммунизма» обращаются к подобной
тематике. Ибо в их аргументации проскальзывают
ссылки как на категорию нации, так и на геополитиче-
1 Ibid., vol. II, p. 38.
2 L a b e d z, op. cit., p. 28,
305
ские аргументы. Во всяком случае, теория
«национального коммунизма» опирается на те течения
буржуазной социологии, которые отождествляют патриотизм с
национализмом \ и по этой причине в прямом
обращении к национальным чувствам, в прочной опоре на
национальные условия строительства социализма видят
проявления упадка интернационализма, «национального
коммунизма», национализма и т. п.
Подвергая принципиальной научной критике
теоретические основы концепции «национального
коммунизма» и показывая место этой концепции в теперешней
тактике империализма, вместе с тем необходимо
учитывать, что эта теория в действительности возникла
постольку, поскольку в коммунистическом движении и
социалистическом лагере появились
националистические, раскольнические тенденции, связанные, в
частности, с деятельностью маоистов.
Именно в данном контексте необходимо
рассматривать место и роль концепции «национального
коммунизма» в комплексе «советологических» теорий и
практических планов империализма. Именно поэтому
концепция «национального коммунизма» должна стать
предметом особенно внимательного и решительного
анализа и критики.
Выводы
Автор данной статьи не пытается дать полного
анализа западных «советологических» течений и в качестве
предмета рассмотрения избрал лишь некоторые
концепции, делая упор главным образом на американскую
«советологию». Необходимо более широкое и
всестороннее исследование социологических аспектов
антикоммунистической «советологии», а также, разумеется, ее
аспектов в области других общественных наук. Однако
уже сейчас следует подчеркнуть три основных вывода:
1. «Советология», самым тесным образом связанная
с политикой империализма в отношении социалистиче-
1 Особенно характерны в этом отношении книги: К. К о h n, The
Idea of Nationalism: A Study in Its Origin and Backround, New York,
1948; Prophets and Peoples. Studies in Nineteenth Century
Nationalism, New York, 1947.
306
ских стран, обнаруживает необычайную способность
довольно быстро изменять теоретические концепции, с
тем чтобы они соответствовали, по крайней мере по
своей направленности, политическим целям империализма;
следовательно, это область, активно связанная с
политикой и находящаяся под очень сильным влиянием
конкретных запросов политики.
2. Вместе с тем теоретические концепции
«советологов» оказывают влияние на характер политики
империализма; это тем более подчеркивает необходимость еще
более пристального внимания к ним со стороны
марксистско-ленинской общественной науки.
3. Использование «советологами» социологических
теорий проявляется во многих направлениях, но не
переходит границ довольно элементарного уровня.
«Советологические» исследования, даже изобилующие
фактографическим материалом, отнюдь не отличаются
теоретической глубиной, но тем не менее являются
отражением некоторых основных теоретических течений
буржуазной социологии. Это лишний раз подчеркивает
необходимость того, чтобы в совокупности исследований,
связанных с критикой буржуазной социологии,
вопросам «советологии» уделялось достаточно много
внимания и усилий.
Индрших Филипец, Радован Рихта
Чехословацкая Социалистическая Республика
РОКОВОЙ ПОВОРОТ Р. ГАРОДИ
Небезызвестный французский философ Р. Гароди
назвал свою недавно изданную книжку вызывающе:
«Великий поворот социализма». Как это понимать? Если
мы хотим дать правдивый ответ на этот вопрос, то
недостаточно интерпретировать отдельные выводы, к
которым пришел автор; нужно одновременно объективно
обсудить функцию его общей концепции в современной
классовой и общественной борьбе за осуществление
подлинно гуманистической, то есть социалистической
научно-технической революции.
1
Гароди провозглашает, что его книга не является
полемической, однако ее сущностью, является, без
сомнений, критика главных течений в современном
мышлении и форм организации всего современного
революционного движения. По мнению Гароди, международное
рабочее движение переживает глубокий кризис,
который поставил его перед дилеммой: либо широкая
массовая политика, либо превращение
коммунистических партий в маленькие пропагандистские секты. Кто,
однако, сектантски сужает международное движение,
которое по самому существу своему направлено на
революционное преобразование действительности? Скажем
прямо, что «глубокий кризис» и «великий поворот»
переживает не международное рабочее движение, но
прежде всего сам Р. Гароди. Прибавим к этому, что
повороты в жизни небезызвестного философа не
являются чем-то необыкновенным. На этот раз, однако, речь
идет о повороте действительно «радикальном», который,
сверх того, в своей сущности обусловлен не большей
глубиной познания новых явлений в жизни общества,
308
но особым видом негодования по поводу тех позиций,
которые он сам когда-то воинственно провозглашал.
Мы не намереваемся некритически выбросить за борт
все творчество Р. Гароди, не хотим также прибегать к
сопоставлению цитат из его произведений, так как это
не было бы достаточным для критического обсуждения
тех мыслей, которые он в настоящее время стал
проповедовать. Без исправления ошибок не может
развиваться ни одна наука. Однако тот, кто внимательно и
с немалыми надеждами изучал развитие Гароди-фило-
софа, должен был уже давно, к своему огорчению,
обеспокоиться склонностью Гароди к эклектизму и к
прагматическому подчинению теории разным, часто очень
кратковременным, тактическим точкам зрения. Из
этого (раньше, как и сегодня) Гароди выводил свои
категорические суждения, которые часто отличалась скорее
выразительностью осуждающих определений, чем
глубоким познанием вещей. Сегодня он бросается в
противоположную псевдолиберальную крайность, когда
демагогически утверждает, что в партии не может быть
какой-то «официальной философии» и что партия не
может быть в принципе «ни идеалистической, ни
материалистической, ни религиозной, ни атеистической». Что
можно сказать об этом повороте? Может быть, лишь
то, что оба его крайних полюса имеют некоторые общие
черты: это (также хорошо анакомое из опыта нашей
страны — Чехословакии) движение мышления от
догматизма к догматизму наизнанку. Меняется лишь
мишень в предвестии полемики.
2
В книжке «Великий поворот социализма» этот
эклектический подход приобретает критические размеры.
Гароди пытается соединить правые,
социал-демократические концепции и представления с левацкой, так
называемой «культурной критикой», создавая таким
образом идеологическую платформу для концентрации всех
ревизионистов. Без малейшего намека на
сколько-нибудь глубокое понимание проблемы соединяется здесь
восхищение научно-техническим прогрессом с
романтическим пренебрежением к тому же прогрессу; в
некоторых местах воспроизводятся действительные, в других —
309
иллюзорные черты общественных движений
современности, в игру втягивается извращенное толкование
чехословацкого развития и сомнительная оценка
политических концепций самых разных отрядов
международного рабочего движения.
Сам Гароди в качестве общего знаменателя этого
странного симбиоза приводит современную «научную и
техническую революцию». Однако способ, каким он
экспонирует проблему этого действительно важного и
знаменательного процесса современной эпохи перехода от
капитализма к социализму, не может нас ввести в
заблуждение, ибо сама научно-механическая революция,
по существу, играет у него здесь второстепенную,
закулисную роль. Еще недавно мысли, связанные с
научно-технической революцией, не проникали на страницы
многочисленных трудов Р. Гароди; еще недавно в центре
его внимания были вопросы романа, эстетики и
«культурной критики». Внезапно, в 1969 году, Р. Гароди с
пеной у рта начинает выступать с серьезным
обвинением по адресу социалистических стран и
международного коммунистического движения, что, мол, они
прозевали свой большой шанс, не в состоянии ответить на
вопросы, поставленные ходом научно-технической
революции, что у них нет соответствующей концепции, и все
это — результат «дегенерации» и «бюрократизма» в
руководстве коммунистических партий.
з
Гароди ставит акцент на некоторых подлинных,
важных и новых чертах общественного развития, вызванных
началом научно-технической революции, однако делает
это с журналистской поверхностностью, которая
свидетельствует о том, что новые факты фигурируют здесь не
как предмет научного анализа, но скорее лишь как
фразы. Даже если мы оставим в стороне эту слабость
Гароди, снова напрашивается вопрос: почему он
обращает свое, мягко выражаясь, поверхностное описание
некоторых проявлений научно-технической революции
против социалистических стран, коммунистических
партий и прежде всего против руководства КПСС? Почему
обвиняет именно тех, кто в последние годы стоял во
главе новаторской работы на этом поприще, в том, что
310
они якобы игнорируют и тормозят процесс
научно-технической революции?
Доскональный анализ текста Гароди доказал бы
отчетливо, что все существенные положительные
характеристики научно-технической революции, о которых он
говорит, уже раньше и намного точнее с точки зрения
марксизма-ленинизма были сформулированы в
социалистических странах в течение бЭ-х годов (эти годы
можно было бы в определенном смысле назвать
десятилетием поисков подхода к освоению
научно-технической революции в пользу социализма).
На наступление научно-технической революции
обращалось внимание на заседании ЦК КПСС еще в апреле
1960 года. О. Куусинен уже тогда, выступая на
Пленуме ЦК КПСС, говорил об «эпохе поразительной
технической революции», соединенной с «бурным развитием
науки, которая органически сливается с производством».
Новое отношение науки, техники и производства,
которое в настоящее время подчеркивает Гароди,
охарактеризовал уже в июне 1961 года А. Н. Косыгин на
Всесоюзном совещании научных работников: «...темп
развития техники должен превышать темп роста
производства, а наука должна развиваться быстрее, чем
развивается техника». На историческое значение
научно-технической революции и на новую роль науки как
«непосредственной производительной силы», которое
превратилось в настоящее время у Гароди в пустую фразу,
обратила внимание Программа КПСС в 1963 году.
Мысль, что «широкое развитие научно-технической
революции стало одной из главных областей исторического
соревнования между капитализмом и социализмом»,
составляла один из краеугольных камней выступления
товарища Л. И. Брежнева на Международном Совещании
коммунистических и рабочих партий в Москве в 1959
году, то есть именно на том Совещании, о котором Гароди
утверждает, что оно «не выдвинуло ни одной подлинной
проблемы».
4
Так можно было бы продолжать дальше. Можно
было бы указать на десятки документов международного
коммунистического движения о научно-технической ре-
311
волюции за последние годы, сотни постановлений,
которые предвещали осуществление колоссальных
технических и общественных проектов, тысячи практических
шагов, которые приспосабливают структуру
социалистических стран, их экономическую и социальную политику
к условиям современного этапа научно-технической
революции. Можно было бы указать и на длинный ряд
научных трудов, опубликованных в Советском Союзе,
ГДР, Чехословакии и в других странах, в которых ясно
отражается общее стремление анализировать научно-
техническую революцию на основе
марксизма-ленинизма.
5
Компиляция Гароди (кроме своеобразного
изложения достигнутых результатов) не добавляет, пожалуй,
ни одной положительной мысли, ни одного нового
положения к результатам этого сложного и серьезного
вопроса; Гароди не в состоянии создать цельную
концепцию научно-технической революции, под поверхностью
современности определить ее подлинный характер как
универсального и постоянного процесса революционных
изменений в структуре и динамике производительных
сил, а это значит — и в положении человека в свете
производительных сил. Вместо того чтобы систематически
исходить из всей Марксовой критики буржуазной
промышленной цивилизации и из ленинского анализа
империализма и социалистической революции, Гароди
произносит отрывистые журналистские фразы о
«великом повороте социализма». Вместо анализа глубокого
исторического процесса освобождения путем
революционного изменения всех общественных и материальных
условий жизни человека, а тем самым и постепенным
развитием его субъективности Гароди просто говорит
о всеобщем «взрыве субъективности», об «инверсии» в
отношении между субъектом и объектом.
Таким образом, то, что соединяет неоднородные
выводы Гароди в одно целое, не есть открытие и анализ
научно-технической революции, но стремление
выделиться в качестве «независимого критика» всех усилий
социалистической системы и мирового рабочего
движения. Р. Гароди, видимо, истощен трудностями этого ме-
312
тода в работе и собственными поворотами и не находит
сил к дальнейшему общему пути. Он ищет убежище в
иллюзии «радикального поворота»,, «чистого»,
«подлинного» марксизма, списывает со счета реальность
социалистического развития, которая якобы
«дискредитировала» марксизм.
Если мы с его тезисов снимем нанос «модерных»
терминов, то найдем здесь старые, известные из других
мест, сомнения: главным препятствием прогрессивного
движения считается «бюрократизм» аппарата
социалистических стран и коммунистических партий, которые не
хотят осуществить этот «великий поворот» и таким
образом включиться во всемирную «революцию против
отчуждения», о которой говорит Гароди.
в
Этой формулировкой Гароди как бы смещает всю
совокупность революционных целей и средств:
соединяет в одну кучу задачи разного уровня и разных
исторических этапов, решение которых возможно именно
путем их размещения в отдельных фазисах современной
классовой борьбы и будущего коммунистического
строительства. Гароди ищет движущие силы своей
«революции против отчуждения» попеременно в самых
различных общественных силах: одной из самых значительных
тенденций последних лет он считает в первую очередь
студенческие волнения, во вторую — рабочие
забастовки; решающую силу современного изменения мира
видит в ученых и исследователях, хотя иногда и
утверждает, что не упускает из внимания роль рабочего класса.
Таким образом, читателю предлагается широкий
ассортимент «марксистских» взглядов, из которых он может
выбирать.
Гароди рассматривает конфликт современного мира
не с классовой точки зрения, а в свете какой-то неясной
средней позиции, которая стремится быть не той
известной третьей, но даже четвертой силой, характеризуемой
лозунгом: ни СССР, ни Китай, ни США, но Гароди!
Метод борьбы за эту программу не может быть никаким
иным, как насквозь утопическим и, в конце концов,
сектантским: создание какой-то международной
организации, которая отличалась бы как от современных комму-
313
нистических и рабочих партий, так и от Организации
Объединенных Наций или от ЮНЕСКО и вообще от
всего, что в настоящее время существует в мире.
Объективной общественной базой этого направления,
конечно, может быть (как это уже было столько раз в
истории классовой борьбы) лишь мелкобуржуазный
элемент. Из этого вытекает псевдорадикализм Гароди,
его утопизм, его поверхностный эклектизм, эта мечта
об истории как о беспорочном зачатии, где благородные
идеи больше всего находятся под угрозой тех, кто их
осуществление взял серьезно в свои руки. А здесь
находится ответ на вопрос, поставленный во введении.
Концепции таких людей, как Гароди, объективно ведут
к сужению и расколу международного
коммунистического и рабочего движения, лишая его научно
обоснованной реальной перспективы.
Роже Гароди этой своей книгой совершил
критический поворот, который имеет опасную логику. Едва
просохла типографская краска на страницах книги
«Великий поворот социализма», как перед нами уже лежит
новая публикация Гароди. «Вся правда» (R. Garaudy,
Toute la verite, Mai 1968 —Fevrier 1970, Paris, 1970),
которая ведет по этому неблагоприятному пути еще
дальше. Она содержит не новые этапы в познании мира,
а разную молву и полуправды, которые объективно
выполняют одну функцию: очернить Советский Союз и
социалистические страны, опорочить коммунистические
и рабочие партии, расколоть единство прогрессивных
сил в мире.
Что же, Гароди не понимает, что этот путь ведет на
другой берег? Ведь в настоящее время нельзя нигде в
мире серьезно и действенно защищать социализм без
и тем более против Советского Союза и остальных
социалистических стран. Антисоветизм — это тупик, из
которого нет выхода.
Лее Ганзел
Чехословацкая Социалистическая Республика
МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Р КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ МАРКСОЛОГИИ
Задача нашей работы — дать анализ и обобщенную
оценку воззрений представителей различных
философских направлений, занимающихся критикой
марксистско-ленинской философии, общую оценку тех путей,
по которым развивается критика марксизма-ленинизма
в наши дни.
При этом мы исходим из того, что антимарксизм не
следует отождествлять с антикоммунизмом, ибо
антикоммунизм не тождествен всей буржуазной философии
и идеологии. Не каждый антимарксист—и это
относится к области философии — является непременно
антикоммунистом.
Основное внимание в статье уделяется ряду
важнейших принципиальных вопросов, в частности вопросам
возникновения и истории марксистско-ленинской
философии и ее интерпретации в трудах критиков марксизма-
ленинизма.
Специфические особенности современной
критики марксизма-ленинизма
В отличие от прошлого современные критики
марксизма-ленинизма прианают его силу и влияние на
общество.
Неокантианец М. Г. Ланге, например, утверждает,
что в современном мире Карл Маркс — философ с
самым большим числом приверженцев. С его точки
зрения, вероятное число «преданных приверженцев К.
Маркса значительно превосходит число сторонников всех
остальных философских направлений, взятых вместе» К
1 М. G. L a n g e, Marxismus — Leninismus — Stalinismus,
Stuttgart, 1955, S. 12.
315
Американец А. Майер, специализирующийся на критике
марксизма-ленинизма, признает, что «идеи и способ
мышления В. И. Ленина, вождя русской революции,
овладели в настоящее время мыслями миллионов
людей» '. Неотомист И. М. Бохенский пишет о том, что
было бы абсурдом сомневаться в «моральном влиянии
коммунизма, который находит многих сторонников
среди представителей угнетаемых классов, борющихся за
свое освобождение»2. Голландский философ В. Бан-
нинг также констатирует, что марксизм-ленинизм
сохранил свои силу и качества: «Масса сторонников
рассматривает марксизм как совершенную,
удовлетворяющую все жизненные требования систему, как
мировоззрение, которому они посвящают себя с полной
преданностью»3. Е. Мюлер констатирует, что лозунг
марксизма-ленинизма, до сих пор воздействующий на людей,
можно сформулировать следующим образом:
«Капитализм — умирающий мир, социализм — возникающий
мир»4.
Мы могли бы привести множество примеров из работ
различных критиков марксизма-ленинизма, признающих
его влияние и значение в современном мире. Нет
сомнений, что социалистический лагерь и идеи марксизма-
ленинизма играют в современном мире все более
важную роль. Ведь, как писал западногерманский
буржуазный философ Е. Тир, «марксизм касается нас всех,
где бы мы ни находились. Он заставляет нас занять по
отношению к себе определенную позицию»5.
«Европеизация» Маркса?
Многие критики марксизма отказались от своих
прежних воззрений, согласно которым марксизм являет-
1 A. Mayer, Leninism, Cambridge — Massachusetts, 1957, p. 1.
2 I. M. Bochenski, Der sowjetische dialektische Materialis-
mus, Bern — Munchen, 1950, S. 122.
3 W. Banning, Der Kommunismus als politisch-soziale Welt-
religion, Berlin, 1953, S. 7.
4 E. M u h 1 e r, Die Soziallehre der Papste, Munchen, 1958,
S. 307.
5 E. T h i e r, Die Anthropologic des jungen Marx nach den Pari-
ser okonomisch-philosophischen Manuskripten, Koln — Berlin, 1950,
S. 3.
316
ся чем-то случайным и неорганичным в общем
развитии европейского философского мышления.
М. Г. Ланге, например, утверждает, что большинство
некоммунистических специалистов, занимающихся
изучением творчества Маркса, не придерживаются в наши
дни той точки зрения, которая преобладала 50 лет тому
назад. Они хотя и не соглашаются с ленинской оценкой
наследия Маркса, все же подчеркивают, что «общая
система Маркса связана с развитием западной
философии» К И. Фетчер, издатель известных «Marxismusstu-
dien» (западногерманского протестантского,
антимарксистского журнала), пишет, что марксизм отнюдь не
является результатом развития «восточного мышления»,
как это иногда трактовалось раньше, что он «связан
своими корнями с философской, экономической и
социалистической традициями Запада»2.
Это изменение точки зрения связано с несомненным
распространением марксистско-ленинского мышления
в странах Запада после второй мировой войны. И
противники, и критики марксизма-ленинизма вынуждены
теперь изучать марксизм-ленинизм, исходить в своей
критике из его основных положений. Они изучают и
интерпретируют марксизм-ленинизм чаще всего со
своей идеалистической гносеологической точки зрения.
Марксисты-ленинцы должны внимательно исследовать
воззрения критиков марксизма-ленинизма, оценивать их
и занимать по отношению к ним четкую позицию.
Специфической чертой современной критики
марксизма является стремление найти исходный пункт для
критики Маркса в его работах. Американский прагматист
Сидней Хук пишет, что «объявление Маркса
собственностью коммунистов является большой исторической и
политической ошибкой». По мнению Сиднея Хука, сам
марксизм может служить «одним из наиболее выгодных
и эффективных источников критики коммунизма»3.
Подобное изменение отношения к
марксизму-ленинизму вызвало определенные изменения и в
аргументации его критиков.
1 М. G. L a n g e, Marxismus — Leninismus — Stalinismus, S. 12.
2 I. Fetscher, Von Marx zur Sowjetideologie, Frankfurt a.
M.— Berlin — Bonn, 1963, S. 9.
3 cSaturday Review», 1956, № 6.
317
Попытки «гегелизации» Маркса
«Европеизировав» марксизм, некоторые его критики
логически приходят к выводу о необходимости
редуцировать марксистскую философию к механическому
развитию определенных источников, из которых она
вырастает. Марксистская философия, по мнению авторов,
придерживающихся такой точки зрения, является всего
лишь ответвлением или механическим синтезом
отдельных сторон философии эпохи Просвещения, идеализма
Гегеля, антропологизма Фейербаха и т. д.
Французский антимарксист Раймон Арон, например,
пишет, что сам марксизм «представляет собой синтез:
он объединяет главные темы прогрессивного
мышления» К Американский неотомист Ф. И. Шин утверждает,
что коммунизм имеет западные корни: он якобы
представляет собой «эклектическое смешение различных
дешевых деистических, атеистических, агностических идей
XVIII века, так называемого Просвещения и того, что
можно назвать глупым XIX веком»2. Карл Маркс,
основоположник коммунизма, связал якобы механически
диалектику Гегеля с материализмом Фейербаха,
социологией Прудона и с идеями периода либерализма.
Философия, возникшая в результате этого смешения,
представляет собой якобы «врага западной
культуры».
Шин обвиняет таким образом основоположников
марксизма не только в механическом компилировании
идей. Он закрывает глаза на то, что каждый философ
всегда связан с определенной философской школой или
направлением своей эпохи, что отнюдь не препятствует
творческому развитию научной мысли.
Экзистенциалист К. Левит пытается доказать
тождественность гегелевской и марксистской философии.
Он утверждает, что будто различие между этими двумя
философскими системами не является принципиальным,
а касается только последствий их воззрений.
Марксистская философия будто бы «конструируется из понятий
гегелевской философии»; Маркс не был согласен только
1 R. А г о n, L'opium des intellectueles, Paris, 1955, p. 334.
2 F. I. Sheen, Der Kommunismus und das Gewissen der west-
lichen Welt, Berlin, 1950, S. 42.
318
с некоторыми воззрениями Гегеля на организацию
мира и поэтому с помощью гегелевской философии
выработал свою программу преобразования «неразумного»
мира в мир «разумный» *. В пролетариате он «ашел
естественное орудие для осуществления своей, в сущности
гегелевской, программы.
На основании этих и подобных аргументов К. Левит
приходит к выводу, что анализ воззрений Гегеля и
Ницше в логике их «систематического и исторического
развития» свидетельствует о логической и исторической
общности «экономического анализа Маркса и
экспериментирующей психологии Кьеркегора»2,
представляющих собой —в смысле гегелевской философии — всего
лишь антитезис Гегелю.
К. Левит не принимает, таким образом, во внимание
того, что Маркс сформулировал на основании анализа
общественной ситуации своего времени исторически
созревшую цель общественного развития: необходимость
революционного перехода от капитализма к социализму.
Маркс якобы точно так же, как и Гегель и даже каЯ
Ницше и Кьеркегор, придерживался взгляда, что
объективная действительность является в конечном счете
результатом развития идей, разума и т. д. При этом он
якобы заимствовал без изменения гегелевские
категории и т. д. Левит, таким образом, утверждает, что Маркс
не был ни основоположником, ни сторонником
диалектического и исторического материализма.
Французский социолог Моннеро пытается привести
дальнейшие аргументы в пользу такого порочного
воззрения. Он пишет, в частности, о том, что специфическое
различие между диалектикой Маркса и Гегеля, а
именно, что диалектика в работах Маркса носит
материалистический характер, а в трудах Гегеля —
идеалистический характер, якобы имеет всего лишь формальный
характер. Согласно его мнению, «каждая теория
представляет собой, с одной стороны, идеалистическое
образование», ибо она выражает идеи, а с другой—она
является «реалистической программой, отражая дейст-
1 К. L б w i t h, Von Gegel zu Nietzsche. Der revolutionare Bruch
im Denken des neunzehnten Jahrhunderts. Marx und Kierkegaard,
Stuttgart, 1950, S. 302.
2 Там же, стр. 178, 179.
319
вительность»'. Не только Маркс, но и Гегель якобы
никогда не сомневались в том, что философия содержит
реальную оценку и отражение действительности. В то
же время Маркс будто бы ясно сознавал, что в своем
учении имеет дело с идеями.
Монеро, по нашему мнению, субъективистски
интерпретирует некоторые понятия Маркса, как, например,
материализм, идеализм и действительность и т. д., и
на этом основании пытается доказать, что «понятие
диалектики не имеет у Маркса иного значения, чем у
Гегеля... а скорее трактуется даже более узко»2. Известно,
что, когда Маркс говорил о материализме и идеализме
в философии, он имел в виду отношение к основной
проблеме первичности материи или сознания, а отнюдь
не вопрос, существуют или не существуют идеи как
таковые. Марксизм всегда признавал реальное
существование идей, он всегда говорил о своих идеях и об идеях
своих противников. В задачу ученого, согласно
марксистской философии, входит задача выяснить
происхождение идей, найти их корни и источники в
материальной жизни общества. В этом заключается основное
различие между философией Маркса и Гегеля, которое
отдельные критики марксизма, исходя из собственной, а
не марксистской гносеологической точки зрения и не
принимая во внимание марксистскую трактовку
философских понятий, не способны понять. Между прочим,
принципиальное отношение к воззрениям Гегеля было
сформулировано основоположниками марксизма уже в
произведении «Святое семейство» (1344), где говорится,
что у «реального гуманизма нет в Германии более
опасного врага, чем спиритуализм, или спекулятивный
идеализм, который на место действительного
индивидуального человека ставит «самопознание» или «дух»...3. Маркс
говорит о том, что в гегелевской философии
«оставляются незатронутыми материальные, чувственные,
предметные основы различных отчуждённых форм
человеческого самосознания, и вся разрушительная работа
имела своим результатом самую консервативную филосо-
1 J. Monnerot, Soziologie des Kemmunismus, Koln — Berlin,
1952, S. 148.
2 Там же, стр. 150.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 7.
320
фию» 1. Гегель предполагает, что он преодолел
предметный мир, чувственный подлинный мир, превратив его в
идею, абстрактную определенность самосознания, на
самом же деле он, по словам Маркса, «ставит мир на
голову»2.
Маркс одновременно подчеркивает, что сама логика
доказывает, что «абстрактное мышление само по себе
есть ничто, что абсолютная идея сама по себе есть
ничто, только природа есть нечто3. Подчеркивая свое
принципиальное расхождение с Гегелем, Маркс
сформулировал основополагающий принцип марксизма, а
именно, что «не сознание людей определяет их бытие,
а наоборот, их общественное бытие определяет их
сознание»4. Таким образом, Маркс подчеркнул
принципиальное различие между марксистской философией и
гегелевской идеалистической диалектикой.
Марксистская философия —
субъективный идеализм?!
Некоторые новые моменты в плане «сгегелизации»
Маркса содержатся в работах неотомиста Гоммеса.
Он пытается доказать, что гегелевская философия не
имеет объективно идеалистического характера, что она
отражает субъективно идеалистическую позицию
автора. Далее, Гоммес отождествляет интерпретируемую
таким образом философию Гегеля с философскими
воззрениями Маркса, объявляя на этом основании
материалистическую диалектику «субъективизмом»,
«тоталитаризмом» и т. д. Поскольку Маркс является-де, по
существу, философским учеником Гегеля, его следует
признать «весьма последовательным сторонником ми-
стико-диалектического учения этого философа»6.
Гоммес, таким образом, пытается доказать, что
Маркс — субъективный идеалист, ибо действительность
в его учении якобы не существует объективно, незави-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 209—210.
2 Там же, стр. 210.
8 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, Гос-
политиздат, 1956, стр. 639.
4 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 13, стр. 7.
Б J. Homme s, Krise der Freiheit. Hegel — Marx — Heidegger,
Regensburg, 1958, S. 141.
11 Ирнбаджажо! 321
симо от человека и человеческой деятельности, но
только в связи с человеком. При этом Гоммес с
идеалистических позиций интерпретирует марксистскую трактовку
практики, ее роли и места в познании окружающего
мира.
Гоммес аргументирует следующим образом: осВ
рамках трудовой деятельности человек сталкивается с
предметами и образует вместе с ними единое целое.
Человек является душой этого целого, а вещи — его телом.
В трудовой деятельности осуществляется
отождествление человека и природы. Природа, -по Марксу, якобы
не существует независимо от человека». Исторически
сложившиеся отношения человека к природе, пишет
Гоммес, «можно охарактеризовать как специфический,
определяющий сущность диалектического материализма
предмет» К Этот материальный результат, продолжает
Гоммес, то есть это материальное целое как результат
человеческой практической деятельности, является
реальным основанием того, что гегелевская философия
характеризовала как «субстанцию», как «сущность
человека».
Гоммес приписывает, таким образом, Марксу идею
самосоздания человека, «тождественности человека и
природы». Он всеми силами пытается доказать, что
между марксистской философией и субъективным
идеализмом нет никаких различий. Подобные же воззрения
развивает Г. Веттер. Он утверждает, что марксизм
не различает человека и природу, субъект и объект.
Веттер придерживается взгляда, согласно которому
«сознание у Гегеля, а с другой стороны, труд, практика
у Маркса являются отражением субъекта»2; Веттер
также объявляет Маркса представителем субъективного
идеализма. В этом смысле следует понимать
утверждение Веттера, по которому Маркс, используя диалектику
Гегеля и антропологизм Фейербаха (но отнюдь не
материализм последнего), пришел к концепции
материалистического понимания истории и к коммунизму.
Следовательно, марксистская философия, как ее трактовал
Маркс, не является диалектическим материализмом.
1 J. Hommes, Krise der Freiheit.... S. 148.
2 G. A. W e 11 e r, Der dialektische Materialismus. Seine Geschich-
te und sein System in der Sowjetunion, Wien, 1958, S. 34, 35.
322
Диалектический материализм якобы был создан
позднее Фридрихом Энгельсом. Марксистская же философия
является, по существу, субъективно идеалистически
трактуемым гегельянством.
Подобные тезисы пытается специфически обосновать
и И. Бохенский1. Исходя из того, что Маркс и
Энгельс стремились к синтезу двух философских систем,
гегелевской диалектики и естественнонаучного
материализма, Бохенский следующим образом характеризует
три источника марксистской философии: гегельянство,
естественнонаучный материализм XIX в. и русское
революционное мышление. С последним якобы связано и
создание Марксом исторического материализма.
Бохенский дает крайне искаженную интерпретацию
возникновения марксистской философии,
противоречащую действительности. Он пишет, в частности, о
естественнонаучном материализме, не конкретизируя то,
что имеется в виду под этим понятием. Упоминая о
«русских источниках», он создает, как мы убедимся
далее, предпосылки для выработки понятия так
называемого «русифицированного» марксизма. Первоначальные
научные достижения Маркса ограничиваются созданием
исторического материализма. Остальные философские
идеи Маркс якобы воспринял у других мыслителей и
механически синтезировал в своем творчестве. Поэтому
Бохенский приходит к выводу, что для понимания
коммунизма нет необходимости изучать труды Маркса,
Энгельса и Ленина, а следует в первую очередь изучать
Гегеля. Ибо коммунисты, отбросив на первый взгляд
идеализм Гегеля, «полностью восприняли его
диалектику». Чтобы понять, что имеет в виду под этой фразой
Бохенский, следует привести ее окончание, в котором
автор утверждает, что «коммунизм в сущности является
гегельянством».
Вышеупомянутые, а также многие другие критики
марксизма в этой связи обращают внимание прежде
всего на работу Маркса и Энгельса «Немецкая
идеология». Каковы же подлинные позиции авторов этой
работы?
1 «Handbuch des Weltkommunismus», Herausgegeben von
I. M. Bochenski und G. Niemayer, Freiburg — Munchen, 1958, S. 25,
30.
1Г
323
Маркс и Энгельс в работе «Немецкая идеология»
пишут о «единстве человека и природы», которое «всегда
имело место в промышленности, видоизменяясь каждую
эпоху в зависимости от большего или меньшего развития
промышленности, точно так же, как и «борьба»
человека с природой» К Эта точка зрения направлена против
созерцательного мatepиaлизмa Фейербаха, который,
как мы знаем, неверно представлял себе подлинную роль
практической деятельности для познания. Таким
образом, Маркс и Энгельс никогда не утверждали, что
материальная действительность, природа существует лишь
постольку, поскольку существует человек, что она
создается человеком в процессе трудовой деятельности.
Наоборот, они всегда придерживались той точки зрения,
что «при этом сохраняется приоритет внешней
природы», что «это различение имеет смысл лишь постольку,
поскольку человек рассматривается как нечто отличное
от природы»2.
Маркс и Энгельс, таким образом, никогда не
сомневались в том, что природа «существовала уже до
человеческой истории». Эта точка зрения является, однако,
важнейшим принципом материализма, и нет никакой
возможности отождествлять ее с субъективным
идеализмом.
Можно понять, что Гоммес придерживается точки
зрения, согласно которой «человек должен не только
воспринимать саму действительность как дело рук
божьих, но и реализовывать в этой действительности самого
себя»3, однако никак нельзя согласиться с тем, чтобы
эта точка зрения приписывалась и Марксу.
Материализм или реализм?!
Наряду с попытками доказать идеалистический
характер марксистской философии существует
стремление заменить марксистскую трактовку материализма
понятием «реализм».
Г. Веттер, например, полагает, что ему удалось
найти основную «ошибку» в общей концепции марк-
1 К. М а р к с и Ф. Э я г е л ь с, Соч., т. 3, стр. 43.
2 Там же, стр. 43—44.
8 J. Hommes, Krise der Freiheit, S. 293.
324
систской философии. Эта ошибка якобы заключается в
подмене понятий материализма и реализма. Согласно
Веттеру, это «оказалось роковым недоразумением,
которое допустил Фридрих Энгельс в своей работе «Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии»1.
Какое недоразумение имеется в виду? Г. А. Веттер
обращает прежде всего внимание на положение
Энгельса, что «Великий основной вопрос всей, в
особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении
мышления и бытия». По словам Веттера, Энгельс
смешивает этот теоретико-познавательный вопрос с несколько
иным вопросом, имеющим онтологический характер,
когда пишет: «Высший вопрос всей философии,
вопрос об отношении мышления к бытию, духа к
природе...»2
Энгельс якобы подменяет в данном случае две
гносеологические проблемы: вопрос об отношении
мышления и бытия и онтологическую проблему отношения
духа и природы (материи). Неправильная постановка
проблемы вызывает неверную трактовку систем, в
которых эта проблема находит различное решение. Энгельс
якобы эти две системы неверно называет идеализмом
и материализмом.
О материализме, по мнению Веттера и других
критиков марксизма, можно говорить только в смысле
механического материализма. А. Дондейн, например,
утверждает, что философский «материализм»
характеризуется тем, что последним объяснением всех явлений
объявляется первичность материи, что материя
объявляется основой бытия, как материальная субстанция и
последнее обоснование бытия»3.
Точно таким же образом трактует материализм и
западногерманский философ Г. Фальк, который
утверждает, что тот, «кто находит в бытии только материю и
все мышление связывает с материей, является
материалистом»4. Материализм, по мнению этого философа,
1 G. A. Wetter, Der dialektische Materialismus, S. 330.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 282, 283.
3 Gott, Mensch, Universum. Die Antwort des Christen auf den
Materialismus der Zeit, Graz — Wien — Koln, 1957, S. 27.
4 H. F a 1 k, Die Weltanschauung des Bolschevismus. Historischer
und Dialektischer Materialismus gemeinverstandlich dargestellt, Wurz-
burg, 1956, S. 5.
325
связан с интерпретацией материи как материальной
субстанции, идеализм же утверждает в противовес этому
существование духа.
Исходя из таких воззрений, можно предположить, что
существует только механический, а отнюдь не
диалектический материализм. А то, что марксистская
философия называет материализмом, следует правильнее
назвать реализмом. В этом понятии многие критики
марксизма объединяют различные философские
направления, признающие реальное существование объективной
действительности, включая и объективный идеализм,
который шризнает существование объективной
реальности материи, природы, хотя и отрицает их первичность.
Ибо, как писал неотомист де Фрис, основной
теоретико-гносеологический принцип, который «постоянно
подчеркивают все сторонники диалектического
материализма,— это стихийный реализм в отношении к
пространственно-временному миру»1.
В соответствии с воззрениями других авторов
Г. Фальк утверждает, что противоположностью
«теоретико-гносеологического материализма является
реализм»2. В этой связи многие авторы подчеркивают, что
реализм в онтологической области оставляет открытым
двери для различных философских воззрений, ибо, как
утверждает Г. Фальк, «вещи существуют реально и
независимо от человеческого сознания, однако они могут
быть и материальными, и духовными или даже могут
иметь иной характер»3. Марксистская философия не
решает, по мнению этих авторов, основной онтологический
вопрос с материалистической точки зрения, а оставляет
возможность разной интерпретации. Ибо тот, кто
отвергает теоретико-гносеологический идеализм, утверждает
лишь то, что «наш разум не создает вещей», так как
«противоположностью материализма является
спиритуализм», пишет Г. Фальк.
Таким образом, само понятие идеализма имеет у
современных критиков марксизма различное содержание.
Они считают, что идеализмом является только субъек-
1 J. de V г i e s, Die Erkenntnistheorie des dialektischen Materia-
lismus, Munchen — Salzburg — Koln, 1958, S. 19.
* H. F a 1 k, Die ideologischen Grundlagen des Kommunismus,
Munchen, 1961, S. 102.
8 Там же, стр. 103.
326
тивный идеализм, рассматривающий субъективное
сознание человека как первопричину бытия, как творца
объективной действительности. Исходя из этого можно
сделать вывод относительно того, куда ведет
субъективистская трактовка понятий в философских системах
анализируемых и критикуемых философов. Мы
считаем, что необходимо в первую очередь выяснить, что
понимается тем или иным мыслителем под тем или иным
понятием, какое содержание вкладывают представители
критикуемых философских направлений, будь то Вет-
тер, Фальк, Дондейн или другие, в понятия
марксистской философии, трактуемые ими с субъективистской
точки зрения, без учета их реального марксистского
содержания. Произвольно манипулируя понятиями,
упомянутые философы могут легко доказать мнимую
несостоятельность основных позиций диалектического
материализма. С научной точки зрения такой подход,
однако, является неправомерным, несостоятельным.
Несостоятельность материалистической
диалектики?!
На основе субъективистской интерпретации понятий
марксистской философии о материализме, идеализме,
объективном и субъективном идеализме и т. д.
современные критики марксизма приходят к нелепому выводу
о несостоятельности диалектического материализма
вообще.
Моннеро, /например, пишет, отождествляя
марксистский философский материализм с механистическим
материализмом, что «материализм и диалектика по
своему характеру — явления гетерогенные» и поэтому нет
никакой возможности объединить их. Всякая диалектика
якобы «уже в силу своей терминологии противостоит
любому материализму» К Только неточность и
условность нашего языка позволяют будто бы говорить о
«диалектическом материализме» так же, как мы говорим
о сиренах, женщинах с рыбьими хвостами, кентаврах и
т. д. Материализм и идеализм не могут-де создать
единого течения, точно так же как вода не может слиться
со своей оболочкой.
J. Monnerot, Soziologie des Kommunismus, S. 217.
327
Только на этой основе между материализмом и
диалектикой якобы существуют бесчисленные виды
комбинаций. Каждое такое объединение является «логически
столь же несостоятельным, как несостоятельно
скрещение человека с акулой». Не существует материализм,
который «можно было бы примирить с диалектикой
Гегеля» \ ибо каждая диалектическая концепция в
гегелевском смысле этого слова означает, согласно Моннеро,
на специальном языке истории философии «вариацию
идеализма».
Продолжая развивать эти идеи, неотомист Л. Ланд-
гребе к тому же пытается доказать, что введение энгель-
совского деления философии на лагерь материализма и
идеализма привело к «дегенерации принципов
диалектики»2. Энгельс якобы стремился «спасти» диалектику.
Однако это спасение будто бы вносит в материализм тот
же «элемент старой традиции», который уже Маркс
считал преодоленным, то есть элемент механистического
материализма. Энгельс-де является отцом идеи о том,
что самовоспроизведение человека должно опираться
на «нечто», а именно на «материю, природу в себе»,
которая, согласно Марксу, не существует как таковая.
Поэтому якобы «динамический закон диалектики
представляет собой динамический закон материи».
По мнению Ландгребе, Энгельс в отличие от
Маркса «трактовал материализм в духе старой традиции,
то есть в духе механистического материализма». Из
этого вытекала альтернатива идеализма или материализма.
Материализм не означает, согласно Ландгребе, для
Энгельса ничего другого, кроме требования изучать
подлинный мир, то есть трактовать взаимоотношения
человека и действительности не абстрактно, но
конкретно. В этом якобы заключается «корень догматического
окостенения марксистской позиции с философской точки
зрения»3, которое будто бы характерно для всего ее
последующего развития. По мнению Ландгребе,
воззрения Энгельса находятся в полном противоречии со
взглядами Маркса, не допуская спекулятивного единства
1 J. Monnerot, Soziologie des Kommunismus, S. 218.
2 L. Landgrebe, Das Problem der Dialektik, в: Marxismus-
studien (MS), Dritte Folge, Tubingen, 1960, S. 57.
3 Там же, стр. 57, 58.
328
материи и духа. Философские воззрения Энгельса,
таким образом, согласно Ландгребе, означают конец
собственно марксистской философии.
Эти и подобные постулаты не выдерживают, однако,
фактической критики. Прежде всего нельзя согласиться
с точкой зрения, согласно которой материализм и
диалектика несовместимы с точкой зрения, утверждающей
единство диалектики и идеализма.
Хотя мы и не можем отрицать, что некоторые
философы-идеалисты (в особенности Гегель) внесли
выдающийся вклад в развитие диалектического мышления
и, наоборот, домарксистский материализм был большей
частью метафизичен, все же отношение диалектики и
метафизики к материализму и к идеализму нельзя
рассматривать как случайное и произвольное.
В истории философии мы встречаемся с различными
комбинациями метафизического и более или менее
правильно понятого диалектического мышления. Взаимное
перекрещивание и сосуществование метафизических и
диалектических воззрений налицо в произведениях как
материалистов, так и идеалистов. Это не противоречит,
однако, нашему утверждению о несовместимости
диалектики и метафизики. Дело в том, что метафизика
искаженно отражает объективную диалектику. Именно в
этом заключается ее принципиальная органическая
связь с идеализмом, ибо и идеализм неадекватно
отражает основы взаимоотношения духа и материи. Таким
образом, идеализм по своей сущности метафизичен и
в корне отличается от материализма. Диалектика,
развиваемая идеализмом, в конечном счете включаемая в
метафизическую систему, приобретает метафизический
характер.
Материализм, наоборот, исходит из представления о
материальном единстве мира. Это материальное
единство мира является основой диалектики всеобщей связи.
Философский материализм, признающий общую
закономерность объективного мира, таким образом, уже по
своему принципиальному мировоззренческому
отношению к миру строится на признании объективной
действительности, которая, как мы уже говорили, имеет
диалектический характер. Следовательно, основное
мировоззренческое отношение материализма к миру
согласуется с принципами диалектики.
329
Отношение материализма и идеализма к диалектике
и метафизике, таким образом, различно. Метафизика
характерна в той или иной мере для философских
воззрений всех философов до Маркса и Энгельса. Однако,
несмотря на это, она имеет различный характер в рабо-
т?х философов-материалистов и философов-идеалистов.
Метафизика неразрывно связана с идеализмом, она
составляет его органическую часть. В произведениях
философов-материалистов она отражает исторически
обусловленный этап развития науки. В материализме
диалектика связана с его мировоззренческими основами, в
идеализме она развивается лишь в рамках
метафизического способа мышления.
Таким образом, по нашему мнению, вся история
философии подготавливала единство материализма и
диалектики, которое осуществилось именно в рамках
марксистской философии. Поэтому мы не согласны с точкой
зрения, объявляющей материализм и диалектику
несовместимыми понятиями.
Ранний и зрелый Маркс
Значительное место в современной буржуазной
критике марксистской философии занимает
противопоставление молодого и зрелого Маркса. Ибо, как
утверждает Е. Метцке, без возврата к молодому Марксу
«критическая борьба со всей его [Маркса] системой
коммунистического мировоззрения будет необходимо носить
поверхностный характер» К
Критики марксизма утверждают примерно
следующее. В молодые годы Маркс занимался проблемами
философии. В дальнейшем он якобы утратил к ней
интерес и занимался прежде всего политической экономией
и политикой. Молодой Маркс изучал «нераздвоенного
человека» вне истории, то есть вне классовых
взаимоотношений, вне общественных связей. Позднее, в зрелый
период своей теоретической деятельности, он якобы
утратил интерес к человеку как таковому и стал
заниматься изучением его как социальной единицы, с точки
зрения его положения и роли в обществе.
1 Е. М е t z k e, Mensch und Geschichte im ursprunglichen Ansatz
des Marxschen Denkens, MS, II, Tubingen, 1957, S. 3.
330
В результате этого молодой Маркс якобы
представляет собой тип подлинного гуманиста, в то время как
работы зрелого Маркса можно охарактеризовать как
проявление упадка или даже отказа от гуманизма.
Именно это обстоятельство будто бы привело марксизм
на позиции антигуманизма. Е. Тир, например,
утверждает, что Маркс пытался «в ранний период своего
творчества разрешить проблему конкретного озабоченного
человека», тогда как в зрелый период своего творчества
он уже рассматривает человека только с точки зрения
«чистой экзистенции существа, обедненного в своих
надеждах и вере»1. Вместо заботы о человеке мы в
работах позднего марксизма якобы имеем дело с чисто
экономическими «вещественными» проблемами.
Точно так же и западногерманский антикоммунист
И. Фетчер утверждает2, что если молодой Маркс
раздумывал о человеке, то зрелый политэконом Маркс
будто бы стоит на позициях трезвой вещественности и
потребностей практики. Фетчер пытается опровергнуть
марксистскую точку зрения, согласно которой обе
упомянутые тенденции не противоречат друг другу, ибо
все необходимое, полезное с экономически-технической
точки зрения приобретает этический и человеческий
характер. Согласно Фетчеру, мнимое «перенесение»
акцента с гуманизма на экономическо-техническую
необходимость и полезность, которое во времена Маркса в
связи с его верой в разумность техническо-экономиче-
ского мира не играло существенной роли, в процессе
дальнейшего развития оказалось роковым для
марксизма.
От первоначального идеала освобождения и
обновления всесторонне развитого «тотального» человека,
утверждаемого молодым Марксом, история будто бы
пришла к современной действительности
социалистических государств, которую характеризует оптимальное
приспособление к «потребностям развития
материальной жизни». Эта негативная сторона развития
марксизма якобы объясняется утратой интереса к человеку.
Р. Арон также не может понять этого развития и
1 Е. Т h i е г, Etappen der Marxinterpretation, MS, I, Tubingen,
[, S. 13.
2 I. Fetscher, Von Marx zur Sowjetideologie, S. 17.
331
задает вопрос, по иронии какой судьбы радикальная
критика молодого Маркса, «первоначально
утверждавшего постулат, что человек является для человека
высочайшим благом» *, ставившего перед человечеством цель
создания условий для отмирания государства,
превратилась в реальную действительность, характеризуемую
упорным стремлением решать прежде всего вопросы
экономического строительства.
Характерной особенностью развития социализма до
сих шор являлось то, что он побеждал большей частью
в экономически слаборазвитых странах. Экономическое
строительство, индустриализация и другие подобные
проблемы играли в развитии этих государств особенно
большую роль. Необходимо, однако, задать вопрос, не
является ли ликвидация эксплуатации человека
человеком, стремление обеспечить максимально быстрое
экономическое развитие этих стран реализацией подлинного
гуманизма, /выражением самых искренних забот о
человеке?
Произведения молодого Маркса —
центр тяжести марксистской философии?!
Многие современные «марксологи» пытаются
выдавать произведения молодого Маркса и его творчество
ранних лет за главный этап в развитии марксистской
философии, ибо здесь якобы «веет непосредственный
ветер живой мысли», который постепенно утрачивается
в более поздних произведениях Маркса, не дающих
возможности для адекватного изучения проблемы
человека.
Исходя из этих позиций, некоторые буржуазные
философы стремятся сформулировать методологические
предпосылки изучения марксизма. Ю. Габерманс
утверждает, например, что если «подлинным Марксом»
является Маркс — автор ранних произведений, то
необходимо «сделать переоценку его более поздних трудов в
духе его воззрений философско-антропологического
периода» 2.
1 R. А г о n, Betrachtungen zur Entwicklung der sozialistischen
Idee, Berlin, 1963, S. 8.
2 «Philosophische Rundschau», 1957, № 3, 4, С 144.
332
Большинство буржуазных критиков марксизма в
настоящее время требуют переоценки и «очищения»
произведений зрелого Маркса (т. е. марксистской теории)
в духе молодого, раннего Маркса (т. е. с точки зрения
того (периода, когда Маркс еще не был диалектическим
материалистом и только приближался к основам своего
будущего мировоззрения).
Существует, однако, другая часть авторов, которые
сознают несостоятельность подобных попыток. Они
пытаются подойти к упомянутой проблеме по-другому.
Эти авторы стремятся стереть различия между
творчеством раннего» и зрелого Маркса, то есть отрицают то,
что, несомненно, существует как факт. Так, например,
они утверждают, что «Капитал» и другие произведения
зрелого марксизма не только не противоречат работам
раннего Маркса, но, наоборот, представляют собой
якобы дальнейший этап в развитии тех же самых идей,
хотя и в несколько иной форме. Из данного исходного
положения эти авторы пытаются сделать вывод,
аналогичный выводу рассматривавшихся выше авторов.
Важнейшим моментом в марксистской философии, согласно
их мнению, является возврат к идеям раннего Маркса.
Другой альтернативы нет. Якобы только в ранний период
своего творчества Маркс занимался анализом
собственно философской проблематики.
Однако подобные попытки несостоятельны с точки
зрения истории. Изучение произведений молодого
Маркса, точно так же как и молодого Энгельса, является,
несомненно, важной предпосылкой более глубокого
познания генезиса /марксистской теории, развития и
формирования всеобщих и частных идей, категорий и
теоретических положений марксистской философии. Нет
никакой возможности отрицать связь между воззрениями
молодого и зрелого Маркса, с одной стороны, и нет
никакой возможности не видеть их качественного
различия— с другой.
Необходимо постоянно иметь в виду, что Маркс и
Энгельс являются основоположниками марксистской
философии и марксизма в целом. Поэтому они не могли
с самого начала своего творческого пути
придерживаться воззрений, характерных для зрелого периода их
развития, впоследствии получивших название марксизма.
Прежде чем начать самостоятельную творческую науч-
азз
ную деятельность, они должны были пройти через
период «школьных лет» освоения научных знаний данной
эпохи. Лишь постепенно они формулировали
собственные, новые, оригинальные положения в философии,
политэкономии и теории социализма.
И Маркс, и Энгельс рассматривали свое раннее
творчество — они несколько раз указывали на это —
только как переходный этап в собственном развитии.
Маркс и Энгельс говорят о том — а изучение их
произведений подтверждает это, — как постепенно ими
пересматривались, преодолевались собственные,
недостаточно четкие воззрения, заменявшиеся научно более
обоснованными воззрениями и теоретическими
положениями.
Нельзя поэтому согласиться с утверждением, что
ранние, переходные воззрения Маркса и Энгельса,
характерные для периода, отмеченного некоторой
зависимостью от других мыслителей, являются главным и
наиболее важным звеном в творческой деятельности
классиков марксизма. Ибо именно их зрелые
произведения и идеи, получившие впоследствии название
марксизма, вызвали наибольший интерес в науке и
философии. Именно в них наиболее ярко проявилось
своеобразие, смелость и неповторимость теоретических и
революционных выводов, сделанных Марксом и
Энгельсом и сыгравших такую важную роль в развитии
научной, экономической и политической жизни
человечества.
Карл Маркс — не только гегельянец,
но и фейербахианец?!
В качестве доказательства этих и подобных
утверждений критики марксизма ссылаются чаще всего на
произведения Маркса и Энгельса, написанные в 1843—
1844 годах. Как известно, в этих произведениях
используются некоторые гегелевские и фейербахианские
понятия, например понятия родовой сущности человека,
натуралистического гуманизма, завершенного натурализма
и т. д. Однако Маркс и Энгельс вкладывают уже в этот
период в эти понятия, как правило, новое содержание.
-Критики марксистской философии, стоящие на
идеалистических позициях, приписывают, однако, этим по-
334
нятиям старое содержание и на этом основании
доказывают, что Маркс, по существу, являлся гегельянцем или
фейербахианцем.
Маркс пишет в «Немецко-французском ежегоднике»,
по существу, о пролетарской революции, но еще в духе
Фейербаха называет ее эмансипацией человека. В «Эко-
номическо-философских рукописях» Маркс" пишет о
переходе частной собственности «в чисто человеческую
собственность». Однако из текста этого произведения
очевидно, что он имеет в виду общественную
собственность. В «Святом семействе», в котором
сформулирована историческая роль рабочего класса, Маркс и Энгельс
еще называет свое учение не коммунизмом, а
«реальным гуманизмом». И это выражение было ими
заимствовано от Фейербаха. Это понятие не выражает, однако,
адекватно содержание научного коммунизма, хотя
научный коммунизм является, бесспорно, реальным
гуманизмом. Именно поэтому Маркс и Энгельс отказались от
первоначального понятия «реальный гуманизм» в
своих последующих произведениях.
Эти противоречия между новым содержанием и
старой формой коснулись большей частью только
терминологии. Причиной такого положения была, как
-правило, недостаточная разработанность основных понятий
марксистской философии, находившейся в то время в
периоде своего зарождения и формирования.
Субъективистская трактовка используемых Марксом и Энгельсом
понятий без учета их нового содержания ведет
логически к идеалистической интерпретации марксизма. Так,
например, она ведет к выводу, что марксистская
философия основывается не на теоретическом исследовании
и обобщении исторических фактов, а, наоборот,
представляет собой спекулятивное учение, основывающееся на
гегельянском идеализме и фейербахианском
антропологизме.
На этом основании Г. Веттер пытается, например,
доказать, что Маркс, собственно говоря, «осуществляет
фейербахианское переосмысление Гегеля», что его
учение об обществе является, «в сущности, перенесением
фейербахианского антропологизма в область
социальной и политической действительности» \ что о Марксе
1 G. A. Wetter, Der dialektische Materialismus, S. 32.
?35
можно якобы узнать больше из Фейербаха, чем из сКа-
питалаэ, и т. д. Бохенский утверждает, что творцом
диалектического материализма является, собственно
говоря, Фейербах, ибо, придерживаясь диалектики, он
«осуществил матермалистическюе переосмысление
гегельянства» К
М. Ланге, односторонне основываясь на идее
имманентного развития философии, противопоставляет
философские воззрения молодого и зрелого Маркса. Он
утверждает, помимо прочего, что «невозможно
воспринять метод какого-либо философа (даже
модифицировав его), отрицая при этом его философию»2. На этом
основании он приходит к выводу, что Маркс воспринял
от Гегеля не только его далектику, но в конечном счете
и его идеалистическую систему. Точно так же он будто
бы воспринял от Фейербаха антропологизм. Ибо в
ранних произведениях Маркса якобы можно
найти четко сформулированную идею, что «человек
существует до и вне любой истории»; Маркс трактует
человека-де абстрактно, вне исторического
развития.
Таким образом, современные критики марксистской
философии пытаются объявить марксизм отпочкованием
гегельянства или абстрактно гуманистического учения
фейербахианского типа. Французский экзистенциалист
Ж. Ипполит выразил в этой связи надежду, что такой
анализ даст возможность «перспективного и
возможного преодоления марксизма». Для того же, чтобы не было
никаких сомнений в том, что он имеет в виду, он
добавляет: «Я имею в виду попытку найти в марксистском
мышлении определенный идеализм. Уже сегодня можно
поставить задачу такой ревизии марксизма, которую
Маркс и не предполагал»3.
Однако в чем же усматривает Ипполит идеализм
маркоизма? Фундаментальная идея и одновременно
источник всего марксистского мышления, по его мнению,
заключаются в гегелевской и фейербахианской идее
1 J. М. В о с h e n s k i, Der sowjetische dialektische Materialis-
mus, Bern — Munchen, 1950, S. 23.
2 M. G. Lange, Marxismus-Leninismus-Stalinismus, S. 57.
8 Bulletin de la Societe Fra^aise de Philosophie, Paris, 1948.
p. 173.
336
отчуждения. «Я считаю, что, исходя из этой идеи и
определяя человеческое освобождение как активную
борьбу человека в процессе истории против любого, сколь
угодно интегрированного отчуждения личности, можно
наиболее адекватно раскрыть содержание марксистской
философии как целого» К
Категория отчуждения, несомненно, играет важную
роль в марксистской философии. Именно поэтому в
последние годы ей уделяется большое внимание в
произведениях разных авторов. Однако Ипполит стремится
редуцировать всю марксистскую философию всего лишь
к трактовке проблемы отчуждения. Проблема
отчуждения, по его мнению, является главной и центральной
проблемой марксистской философии. С этой точкой
зрения мы не можем согласиться.
Еще более ярко подобные воззрения формулирует
французский неотомист П. Биго, который объявляет
«Капитал» Маркса лишь аппликацией гегелевской
«Феноменологии духа» на сферу политической экономии.
Феноменология духа была якобы «преобразована в
феноменологию труда, диалектика отчуждения человека —
в диалектику отчуждения капитала, метафизика
познания— в метафизику коммунизма»2. П. Биго приходит
на этом основании к выводу, что Маркс, по существу,
всю жизнь был гегельянцем.
Точно так же и Г. Попитц утверждает, что идеи
Маркса «не выходят за рамки гегелевской трактовки
проблем развития». Для подтверждения этого тезиса
он пытается доказать тождественность понятий труда,
жизненной потребности, власти у Маркса и Гегеля.
Попитц утверждает, будто Маркс не создал
материалистической диалектики, а только заменил спекулятивную
терминологию Гегеля терминологией эмпирической. Любой
читатель Маркса якобы может легко убедиться в том,
что «понятия материального производства,
общественных потребностей, власти одного класса над другим,
государства и т. д., по существу, тождественны с теми
же понятиями у Гегеля»3.
1 Там же, стр. 179.
2 Р. В i g о, Marxisme et humanisme, Paris, 1955, p. 34.
8 H. P о p i t z, Der entfremdete Mensch, Zeitkritik und Ge-
schichtsphilosophie des jungen Marx, Basel, 1953, S. 129.
337
В доказательство этого и подобных воззрений
современные «марксологи» цитируют некоторые
высказывания Маркса из произведений, написанных в период
1843—1844 годов, в особенности из «Экономическо-фи-
лософских рукописей» 1844 г.
«Экономическо-философские рукописи 1844 года»
Карл Маркс был, бесспорно, учеником Гегеля.
Однако уже с 1842 года о нем нельзя говорить только%
лишь как о гегельянце. В процессе критического
переосмысления философии Гегеля Маркс многому научился
у Людвига Фейербаха. Влияние Фейербаха на Маркса
прослеживается вплоть до 1844 года. В
терминологическом отношении это влияние можно отметить и в
произведении «'Святое семейство» (отдана в печать в
конце 1844 г.).
Произведение Маркса «Экономическо-философские
рукописи 1844 года» являются, в сущности, трудом,
характеризующим переход Маркса на позиции
материализма и коммунизма, хотя в этой работе еще
отсутствует целый ряд важных положений исторического
материализма. Философское развитие Маркса необходимо
рассматривать как процесс. В его произведениях
начала 40-х годов можно найти многочисленные и подчас
завышенные оценки Людвига Фейербаха.
С другой стороны, нельзя не видеть, что Маркс,
воспринимая некоторые положения фейербахианского
антропологического материализма, перерабатывает их в
духе материалистической интерпретации истории. Так,
иапример, анализируя проблему единства человека и
природы, он доказывает, что это единство проявляется
прежде всего в процессе производства. Отчуждение
человека имеет, согласно Марксу, прежде всего
социальные и экономические корни и выступает как
отчуждение труда и т. д.
«Экономическо-философские рукописи 1844 года» не
содержат еще разработанной материалистической
теории истории. Но уже в этом произведении можно ясно
увидеть различие между воззрениями Маркса и
Фейербаха. Если Фейербах продолжал оставаться на позициях
абстрактного философского радикализма, то Маркс в
этот же период на основании изучения истории путем
338
критики гегелевской философии права, а также исходи
из политического опыта современности, переосмысляет
фейербахианский идеал преодоления отчуждения
человека, фейербахианскую идею о человеке как о
наивысшем существе в духе социалистическо-коммунистической
программы действий, опирающейся на позиции
революционного рабочего класса.
В то время как фейербахианская антропологическая
позиция вопреки ее внешнему радикализму была
выражением идеалистических воззрений, Маркс в «Эко-
номическо-философских рукописях» перешел на
позиции материалистического объяснения
«взаимоотношений человека с человеком», то есть изложения
основных принципов и положений -исторического
материализма.
Поэтому перед лицом исторических фактов следует
признать несостоятельными утверждения критиков
марксистской философии, что Маркс в период 1843—
1844 годов точно так же, как и Фейербах, находился на
позициях идеалистической трактовки сущности
человека. Невозможно не учитывать того важного
обстоятельства, что в произведении «Немецкая идеология» и в
«Тезисах о Фейербахе» Маркс критикует (в первом
случае совместно с Энгельсом) ограниченность
фейербахианского материализма, его умозрительный
характер, отрицание активной роли субъекта в познании
объективного мира, недооценку роли практики как основы
познания и т. д.
Поэтому мы не можем согласиться с утверждением
Г. Шрея, что в обращении «к антропологии Маркс
видит реализацию последних шагов на пути к
эмансипации человека» \ то есть к социалистической революции.
По этой же причине несостоятельным следует признать
и мнение Г. Кёлера о том, что фейербахианское влияние
толкнуло Маркса и Энгельса на позиции «религиозного
субъективизма и пантеизма»2. Наоборот, используя
наиболее ценные стороны научного наследия гегелевской
и фейербахианской философии, Маркс и Энгельс посте-
1 Н. Н. S с h ге у, Auseinandersetzung mit dem Marxismus,
Stuttgart, 1963, S. 14.
2 H. К 6 h 1 e r, Grunde des dialektischen Materialismus im euro-
paischen Denken, Munchen, 1961, S. 39.
339
йенно, в противоречивом процессе критического
преодоления собственных устаревших и недостаточно зрелых
воззрений, разработали основы качественно новой
марксистской философии.
Буржуазные вымыслы о «дегенерации»
марксистской философии у Энгельса
Перенесение центра тяжести развития марксистской
философии на ранний период развития Маркса привело
логически многих «марксологов» к выводу, что поздний
период в творчестве Маркса и в особенности Энгельса
отмечен чертами некой «дегенерации» марксистской
философии.
Ход мысли критиков марксистской философии
таков. У Маркса нельзя найти философии диалектического
материализма. Маркс в своих ранних произведениях
на основании синтеза гегелевской диалектики и
фейербахианского антропологизма разработал учение о
человеке и о самоосвобождении человека, так
называемый субъективный коллективизм.
Вот и все, что сделал якобы Маркс в философии, и
только это можно называть марксистской философией.
Последняя отнюдь не идентична с диалектическим
материализмом. У Маркса якобы вообще нельзя найти
идею «метафизики природы». Все то, что мы сегодня
называем диалектико-материалистическим учением о
природе, является будто бы исключительно делом
Энгельса.
Австрийский неотомист Фишль, например,
утверждает, что Маркс якобы интересовался лишь
историческим материализмом, который дал ему
основы, необходимые для создания революционного
учения. «Энгельс, однако, разработал метафизические
основы нового материализма», его онтологию. Таким
образом, именно Энгельс является основоположником
диалектического материализма, так как использовал
гегелевскую диалектику для развития марксистской
онтологии и «включил ее в отдельные философские
дисциплины». Именно Энгельс якобы объединил диалектический
материализм с современными естественными науками.
В то время как «Маркс был более или менее заинтере-
340
сован в социологии, Энгельс был более тесно связан с
естественнонаучным материализмом»'.
М. Г. Ланге, например, пишет, что в отличие от
Маркса Энгельс использует диалектику не только для
изучения общества, но и для изучения природы.
Энгельсу принадлежит идея разделения истории философии
на историю материализма и идеализма. На основании
этих и подобных аргументов Ланге приходит к .выводу,
«что не Маркс, а Энгельс является отцом
диалектического материализма»2.
Подобных же воззрений придерживаются И. М. Бо-
хенский и Е. Тир. Фетчер пытается, кроме того,
доказать, исходя из подобного воззрения, ненаучность
марксистской философии. Марксистская философия, как
таковая, существовала якобы только в ранних
произведениях Маркса. Когда впоследствии выявилась
невозможность освобождения «самоосознавшего себя
пролетариата» при помощи коллективных действий и ликвидации
отчуждения, необходимость которой обосновал молодой
Маркс, наступил конец философии Маркса, конец
философии, которая ставила перед собой цель
теоретически осмыслить указанные задачи. Поэтому якобы
Энгельс в «Анти-Дюринге» и в более поздних работах
разработал пролетарское мировоззрение, диалектический
материализм. Гаким образом, постепенно «ликвидацию
философии в акте самосознания», объявленную
Марксом, заменяет «создание мировоззренчески обработанной
«науки»3, в основу которой легла теория диалектики,
разработанная именно Энгельсом.
Де Фрис придерживается взгляда, согласно которому
в развитии «современного диалектического
материализма» решающее значение имел поворот, который
осуществил в идеях своего друга (т. е. Маркса) Энгельс.
Только в произведениях Энгельса 70-х и 80-х годов прошлого
века мы находим якобы все принципы теории познания,
характеризующие современный диалектический
материализм.
1 J. F i s с h 1, Materialismus und Pozitivismus der Gegenwart,
Graz — Wien — Altotting, 1953, S. 66.
2 M. G. L a n g e, Marxismus-Leninismus-Stalinismus, S. 74.
» I. Fetscher, Von der Philosophie des Proletariats zur pro-
letarischen Weltanschauung, MS, II., Tubingen, 1957, S. 44.
341
По мнению Фриса, на основании философской
деятельности Энгельса в рабочем движении наметилось
религиозное затуманивание «первоначальной» центральной
идеи Маркса, отход от философских воззрений ранних
произведений Маркса. Главное внимание якобы
уделялось процессу гибели буржуазно-капиталистического
общества, которое должно было осуществиться с
«естественно-закономерной необходимостью» К
Упомянутые идеи развивает далее Л. Ландгребе,
пытающийся доказать, что «дегенерация» принципов
диалектики у Энгельса «связана прежде всего с
разделением философии на два лагеря, материалистический и
идеалистический»2. У Маркса будто бы диалектика
является основой активности субъекта, саморазвития
человеческого рода. Энгельс же, наоборот, ищет
диалектику в природе и пытается ее обосновать
естественнонаучным путем. После этого анализа Ландгребе
приходит к выводу, что философская деятельность Энгельса
превратила марксизм, первоначально исходивший из
развиваемой Марксом идеи тотального
освобождения человека, в свою полную противоположность.
Именно это якобы дает право говорить о
«дегенерации», «вырождении» марксистской философии у
Энгельса.
Единство воззрений Маркса и Энгельса
Утверждения о противоречивости философских
воззрений Маркса и Энгельса, о «вырождении»
марксистской философии у Энгельса и т. п. являются
злонамеренной фальсификацией и не выдерживают
сопоставления с историческими фактами.
Развитие марксистской философии следует
рассматривать с исторической точки зрения. Не только Маркс,
но и Энгельс развивали свои материалистическо-диалек-
тические и коммунистические воззрения постепенно, в
противоречивом процессе преодоления и развития соб-
1 J. de V г i e s, Die Erkenntnistheorie des dialektischen Materia-
lismus, S. 15.
2 L. Land grebe, Das Problem der Dialektik, MS, III, S. 57.
342
ственных убеждений. Оба ученых находились известное
время под «влиянием философских воззрений
младогегельянцев, а в политике — революционных демократов.
Молодой Энгельс не сразу стал диалектическим
материалистом, он становился им постепенно. При этом
развитие взглядов Энгельса во многих отношениях
удивительно напоминает процесс развития взглядов
Маркса, преодолевавшего свои первоначальные, незрелые
воззрения.
Исторические факты доказывают, что диалектический
и .исторический материализм представляет собой единую
систему воззрений Маркса и Энгельса. Маркс и Энгельс
сообща разработали основы марксистской философии.
В совместном произведении «Святое семейство» они
критикуют, например, гегелевский идеализм, раскрывают
его гносеологические корни, дают характеристику
материализма XVIII в. и разрабатывают свою совместную
материалистическую точку зрения. Точно так же и в
совместной работе «Немецкая идеология» они излагают
основные принципы материалистического истолкования
истории, представляющие собой наиболее
революционный элемент марксистской философии.
Маркс и Энгельс совместно применяют
разработанные и сформулированные принципы марксистской
философии для анализа общественного процесса и для
разработки революционной программы
возникающего рабочего движения в своем первом
программном заявлении, в «Манифесте Коммунистической
партии».
Позднее Маркс и Энгельс нередко разрабатывали
разные теоретические проблемы марксизма. Маркс
занимался прежде всего разработкой проблем
политической экономии, стратегии и тактики революционного
движения. Энгельс уделяет основное внимание
проблемам философии, естественных наук и т. д. Однако это
свидетельствует лишь о своеобразном разделении труда,
отнюдь не означающем, что Маркс и Энгельс
придерживались различных воззрений по основным философским
проблемам. Как свидетельствует сам Энгельс, Маркс
прочитал книгу «Анти-Дюринг» до того, как она была
отправлена в печать, и высказал полную солидарность
с этой работой. Как известно, Энгельс после смерти
Маркса подготовил к изданию второй и третий тома
343
«Капитала», подчеркнув огромное значение этого
произведения точно так же, как и свое согласие с его
концепцией и содержащимися в книге идеями. Четыре
тома переписки Маркса и Энгельса — характерно, что в
зрелый период творчества оба ученых обменивались
письмами почти ежедневно, — свидетельствуют о полной
тождественности их воззрений по всем основным
философским проблемам, о координации работы, о
стремлении совместно решать общие идейные и политические
проблемы. Таковы объективные факты.
Ленинизм «против» марксизма
Логическим выводом из воззрений многих марксо-
логов является попытка доказать несовместимость
воззрений Маркса и Ленина.
Критики марксизма при этом тщатся доказать
примерно следующее: марксизм в своем первоначальном
виде, в том виде, в котором его создал Карл Маркс,
представляет собой западноевропейское явление. Лени-
низм-де, который ссылается на марксизм, возник на
русской почве, опирается на русские источники и
является отходом от марксистских принципов.
Марксистское учение, на основе которого
развивалось рабочее движение XIX в., в настоящее время
якобы полностью устарело. Новое учение, соответствующее
характеру, потребностям и роли рабочего движения
XX в., еще не было создано. Ленинизм, развивающий
некоторые идеи «дегенерированного марксизма»
Энгельса и в то же время углубляющий эту «дегенерацию»,
отражает действительные потребности, да и то не в
полной мере, слаборазвитых стран. В промышленно
развитых странах он неприменим. Это относится и к
марксизму в целом, и к марксистской философии.
Приведем в этой связи некоторые «аргументы»
критиков марксизма. И. Бохенский, например,
утверждает, что ленинизм возник отнюдь не на оонове
марксизма и революционного рабочего движения, а является
продуктом специфических условий русской истории,
результатом деятельности части русской интеллигенции.
Для того чтобы доказать чисто русский, «восточный»,
«азиатский» характер ленинизма, Бохенский пускается
в психологические рассуждения об особом характере
344
«русской души», опираясь при этом на некоторые
аргументы религиозно настроенного русского философа
идеалиста Бердяева. Типичной чертой русской души
Бохенский считает, например, ее мнимую склонность к
абстрактности, ярко выраженное чувство социального
и человеческого сострадания ит.д.1.
Эти и другие психологические черты русского
человека, и в особенности русской интеллигенции, являются
будто бы источником различных учемий о лучшей
организации будущего общества, о справедливости,
человечности и т. д. К подобным утопическим теориям
относится якобы и ленинизм. Эти и подобные черты
русской души представляют собой якобы врожденные
черты русского народа, они не имеют исторического,
социального характера. Таким образом, эти
психологические черты будто бы и являются причиной
возникновения, развития и распространения ленинизма в России.
Народные массы Западной Европы, однако, отличаются
от народных масс России в психологическом отношении.
Их характеризуют иные психологические черты, точно
так же как иные характерные чувства и настроения.
Поэтому якобы ленинизм и его философия неприемлемы
для Запада.
Г. Веттер ищет корни ленинизма в специфически
русских условиях. Он находит их, например, в
славянофильстве, течении, в котором-де наиболее ярко
отразилось влияние Гегеля в русских условиях и наследие
которого развивал якобы Ленин. Из оказанного
вытекает, однако, что Веттер недостаточно знаком с
историей русской философии. Известно, что консервативное
славянофильство отнюдь не питало симпатий к
гегелевской философии, рационализм которой был для него
абсолютно неприемлем. Славянофилы развивали скорее
идеи шеллинговской философии откровения, которая,
как известно, отнюдь «е тождественна с философией
Гегеля2.
1 См.: I. M. Bochenski, Der sowjetrussische dialektische Ma-
terialismus, S. 33.
2 См.: G. A. Wetter, Der dialektische Materialismus, S. 631,
632.
345
Диалектика —«основа ненаучности»
марксистской философии?!
Современные критики марксистской философии
справедливо указывают на то, что проблемы
диалектики занимают в философских произведениях Ленина
центральное место. Однако они субъективистски
оценивают это обстоятельство, доказывая, что Ленин
осуществил в марксизме некий «поворот» к Гегелю.
Интерес Ленина к диалектике они пытаются при
этом истолковать как проявление субъективизма и
волюнтаризма. Неотомист В. Нельц1 подчеркивает, что
изучение Гегеля и его диалектики позволяет нам
объективно оценить марксизм. Большая заслуга Ленина
заключается якобы в том, что он указал на значение
Гегеля для понимания марксизма.
Действительно, именно Ленин назвал диалектику
«душой марксизма». Однако критики марксистской
философии трактуют это обстоятельство часто в
негативном духе. Нельц, например, утверждает, что Ленин,
подчеркивая значение диалектики, бессознательно «начал
необходимую, революционную, прогрессивную ревизию
марксизма». Ибо диалектика, по Нельцу, является
эффективной лишь постольку, «поскольку дух не
становится конкретным». Диалектика, по мнению Нельца,
возможна, таким образом, только в рамках
идеалистической системы. В. И. Ленин якобы этого не понял и
поэтому не смог сделать необходимых выводов из
признания решающего значения диалектики для марксистской
философии.
Нельц в этой связи возвращается к произведениям
молодого Маркса. «Придворным» философом Маркса,
по его мнению, является Иммануил Кант, который
отрицает дух. Под этим отрицанием он имеет в виду
утверждение Канта, что человеческий разум не способен
познать истину. Маркс, таким образом, объявляется
агностиком, философом, отрицающим возможность познания
объективной действительности. В этом смысле следует
понимать утверждение Нельца о том, что путь «к
целостности, завершению марксизма и социалистическо-
1 W. N е 1 z, Wahrheit und Irrtum im Marxismus, Zurich, 1956,
S. 3, 4.
346
коммунистической эволюции ведет через
последовательное изучение Гегеля».
Таким образом, перед нами новые попытки
субъективистски истолковать ленинскую мысль о значении
диалектики для марксизма, его философии и
революционной практики. Нельц отрицает революционный
характер марксистской диалектики. Ленинское
подчеркивание значения диалектики используется в качестве
мнимого доказательства против самой возможности
материалистической диалектики и самостоятельной
материалистической марксистской философии вообще.
На самом же деле ленинские философские
произведения— достаточно назвать его «Материализм и
эмпириокритицизм» — недвусмысленно свидетельствуют о
том, что под марксистской философией Ленин
подразумевал лишь одно: диалектический материализм,
основоположниками которого он считал Карла Маркса и
Фридриха Энгельса.
Общие черты учения ленинизма
Таковы некоторые «аргументы» современных
критиков марксистской философии, отрицающих научность
ленинских философских воззрений.
Их «аргументы» не соответствуют объективным
фактам. Ленинизм появился в России и, конечно же,
отражает некоторые специфические черты российской
действительности. Однако в целом ленинизм сложился на
почве марксизма, возникшего в Германии. Ленин,
бесспорно, чутко реагировал на особенности развития
России, на наиболее важные тенденции прогрессивного
развития русской мысли. Его отношение к традициям
русской интеллектуальной мысли было в то же время
критическим, что позволило ему творчески подойти к ее
наследию.
Современные критики марксизма, пытающиеся
объявить ленинизм русским явлением, обходят такое
немаловажное обстоятельство, как влияние марксистской
философии на развитие не только рабочего, но и
интеллектуального движения западных стран (Франция,
Испания, Италия и др.). И этот факт наряду с успехами
рабочего движения за последние 50 лет свидетельствует
о том, что не существует некоего «восточного» или «за-
347
падного» марксизма. Существует единая общая теория
рабочего движения, единая марксистская философия,
которая по самому своему существу глубоко
интернациональна, начиная со времени своего возникновения и
вплоть до наших дней.
Этой мысли вовсе не противоречит часто
подчеркиваемый в настоящее время принцип необходимости
творчески применять принципы марксизма-ленинизма в
соответствии с условиями развития той или иной страны.
Владимир Ильич Ленин многократно подчеркивал, что
не существуют и не могут существовать готовые и
вечные шаблоны решения экономических, политических,
идеологических проблем в разных странах, без учета
уровня и этапа их развития. Таково было ленинское
понимание диалектики общего и отдельного.
Не соглашаясь с современными критиками
марксистской философии, мы отнюдь не собираемся выступить
в защиту каких-либо догматических деформаций.
Наоборот, мы сознаем, что любые субъективистские
деформации строго научных основ марксистской философии
и марксизма-ленинизма облегчают его критику, дают
определенные аргументы его критикам и т. д. Поэтому,
по нашему мнению, стремление творчески,
принципиально, на научной основе развивать проблемы
марксистской философии является одним из наиболее
эффективных методов и средств научного анализа современной
буржуазной критики марксистской философии.
Нельзя также согласиться с субъективистской
интерпретацией роли диалектики во взглядах Ленина. Ленин
всегда подходил к диалектике как к науке. Она была
для него не просто логической формой объяснения
процессов действительности, не просто односторонней
конструкцией разума, а наукой об объективных процессах
материального мира, о путях его познания.
Исходя из такого научного понимания диалектики,
Ленин характеризует ее как теорию познания, как
закон познания, как идею единства диалектики, логики
и теории познания. Ленин постоянно подчеркивал, что
диалектика властвует в объективном мире, в сложных
и многообразных процессах природы и общества.
Поэтому и познание должно иметь диалектический
характер. Диалектика должна стать орудием активного
мышления, наукой, способной адекватно отразить сложную
№
и противоречиво развивающуюся действительность. На
этом основании Ленин приписывает диалектике
значение многостороннего познания, которое
характеризуется постоянно увеличивающимся количеством аспектов,
бесчисленным множеством подходов, позволяющих
приблизиться к действительности.
Можно было бы привести большое количество
фактов о том, что именно Ленин, как никто иной, был
принципиальным противником субъективизма и
волюнтаризма. Ленин всегда клал в основу научного
исследования необходимость научного, объективного анализа
исторического процесса, трезвого и всестороннего
анализа объективных фактов, конкретно-исторической
ситуации.
Ленинская диалектика является логическим и
естественным продолжением и органическим развитием
диалектики Маркса. Как указывал сам Ленин, необходимо
всегда исходить из анализа объективного содержания
исторических процессов в конкретной обстановке 1.
Такую объективность он рассматривал как одну из
главных черт материалистической диалектики.
В своей теоретической и практической деятельности
Ленин всегда подчеркивал значение изучения
объективных тенденций естественноисторического процесса,
необходимость объяснения конкретных противоречий
общественного развития, определения их тенденций и
движущих сил. При этом Ленин был последовательным
врагом стихийности, автоматизма, волюнтаризма и
субъективизма.
Некоторые методологические проблемы
Мы указали на некоторые современные формы
критики марксистской философии. Хотя мы могли
проанализировать лишь ограниченное количество проблем,
все же в заключение необходимо коснуться некоторых
общих методологических аспектов, рассмотренных нами
вопросов.
Уже во вступлении мы подчеркнули, что
антимарксизм, в рамках которого мы анализировали современ-
1 См.: В. И. Л«яин, Поля. собр. соч.» т. 26, стр. 139.
349
ную критику марксистской философии, не следует
отождествлять с антикоммунизмом.
Под антимарксизмом мы понимаем различные
формы критики марксизма-ленинизма и марксистской
философии.
Антикоммунизм является идеологией
империалистической реакции на современном этапе ее развития. Он
выражает общее содержание различных направлений и
форм империалистической идеологии. Антикоммунизм,
таким образом, в самом широком смысле этого слова
характеризует сущность современной реакционной
империалистической идеологии.
Из указанного определения и из разграничения
понятий «антимарксизм» и «антикоммунизм» вытекает,
что необходимо отличать активный агрессивный
антикоммунизм от традиционных философских,
исторических, экономических, юридических и других
направлений и течений, теории которых противоречат теории
марксизма-ленинизма.
Из этого факта вытекают важные выводы в
отношении метода нашей критики, анализа и подхода к
различным формам современной критики марксистской
философии.
Хотя антимарксизм и антикоммунизм не следует
отождествлять, все же оба эти явления тесно связаны.
Каждый антикоммунист является одновременно
антимарксистом, ибо он критикует, пусть на специфическом
уровне, марксистско-ленинскую теорию. Теоретики
антикоммунизма часто используют для обоснования своих
философских, идеологических и политических взглядов
аргументы и постулаты тех антимарксистов, которые
отвергают агрессивный антикоммунизм.
Поэтому мы не вправе уйти от критики и анализа
антимарксистских взглядов во всей их широте.
ОГЛАВЛЕНИЕ
В. Мшвениерадзе. Борьба идей в современном мире
(Предисловие) 3
Николай Ирибаджаков. Некоторые проблемы борьбы против
современного антимарксизма 33
Николай Ирибаджаков. «Конец идеологий» или
идеологическая диверсия 68
Величко Добриянов. Нищета антиисторизма 81
Деян Павлов. Концепция «формированного общества» —
новый социальный миф империализма 99
Атанас Стойкое. Модернизм и новаторство в искусстве . . ПО
Иозеф Сигети. Международная идеологическая борьба и
наше отношение к буржуазным общественным «аукам 131
Ганс Бэйер. Антикоммунизм и массовая психология в
Западной Германии : 171
Гюнтер Розе. Генезис, основные черты н компоненты «гибкой»
экспансионистской политики в отношении
социалистических стран Европы 184
Клаус Боллингер, Ганс Мартин Гейер. Идеологические
аспекты глобальной стратегии США 220
Ганс Кох. Некоторые аспекты критики футурологии .... 243
Зигмунт Понятовский. Ленин и проблемы научного характера
марксистской философии 261
Ежи Вятр. Социологические теории антикоммунистической
«советологии» в США 277
Индржих Филипец, Радован Рихта. Роковой поворот Р. Гароди 308
Лев Ганзел. Марксистская философия в кривом зеркале
современной буржуазной марксологии . 315
ЗАРУБЕЖНЫЕ МАРКСИСТЫ
В БОРЬБЕ ПРОТИВ
БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ
Сборник переводов
Редакторы О. Попов и И. Цыганков
Художники В. Лукьяненко, С. Зайцев
Художественный редактор Л. Шкаков
Технический редактор А. Токер
Корректор Г. Иванова
Сдано в производство 19/Х 1970 г. Подписано к печати 25/1 1971 г.
Бумага 84Х1087ю — 5'/i бум. л. 18,48 печ. л. Уч.-изд. л. 19,33. Изд. № 9/12084.
Цена 1 р. 50 к. Зак. 8174.
Издательство «Прогресс»
Комитета по печати при Совете Министров
СССР
Москва Г-21, Зубовский бульвар, 21
Московская типография № 5 Главполнграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР.
Москва, Мало-Московская, 21.