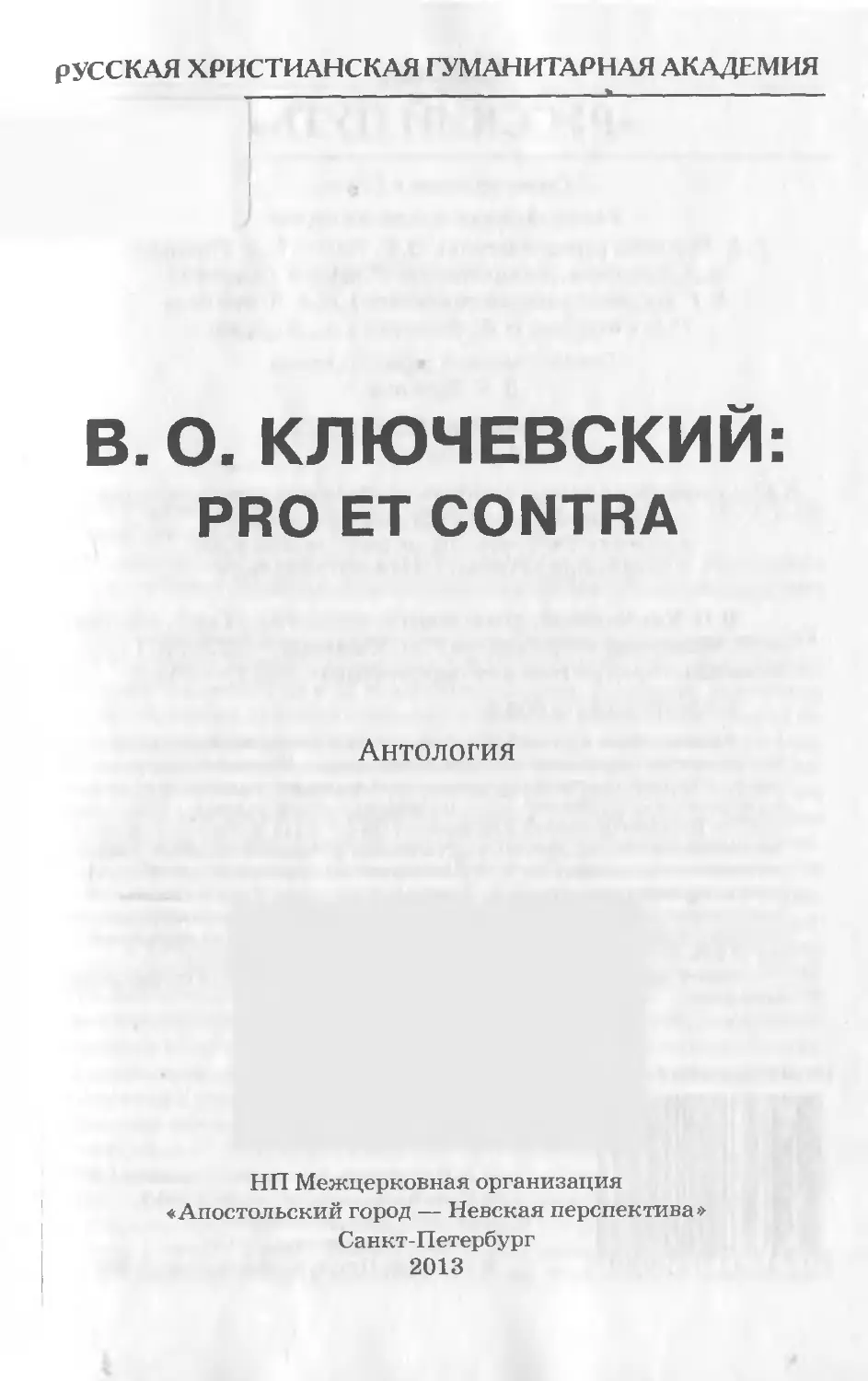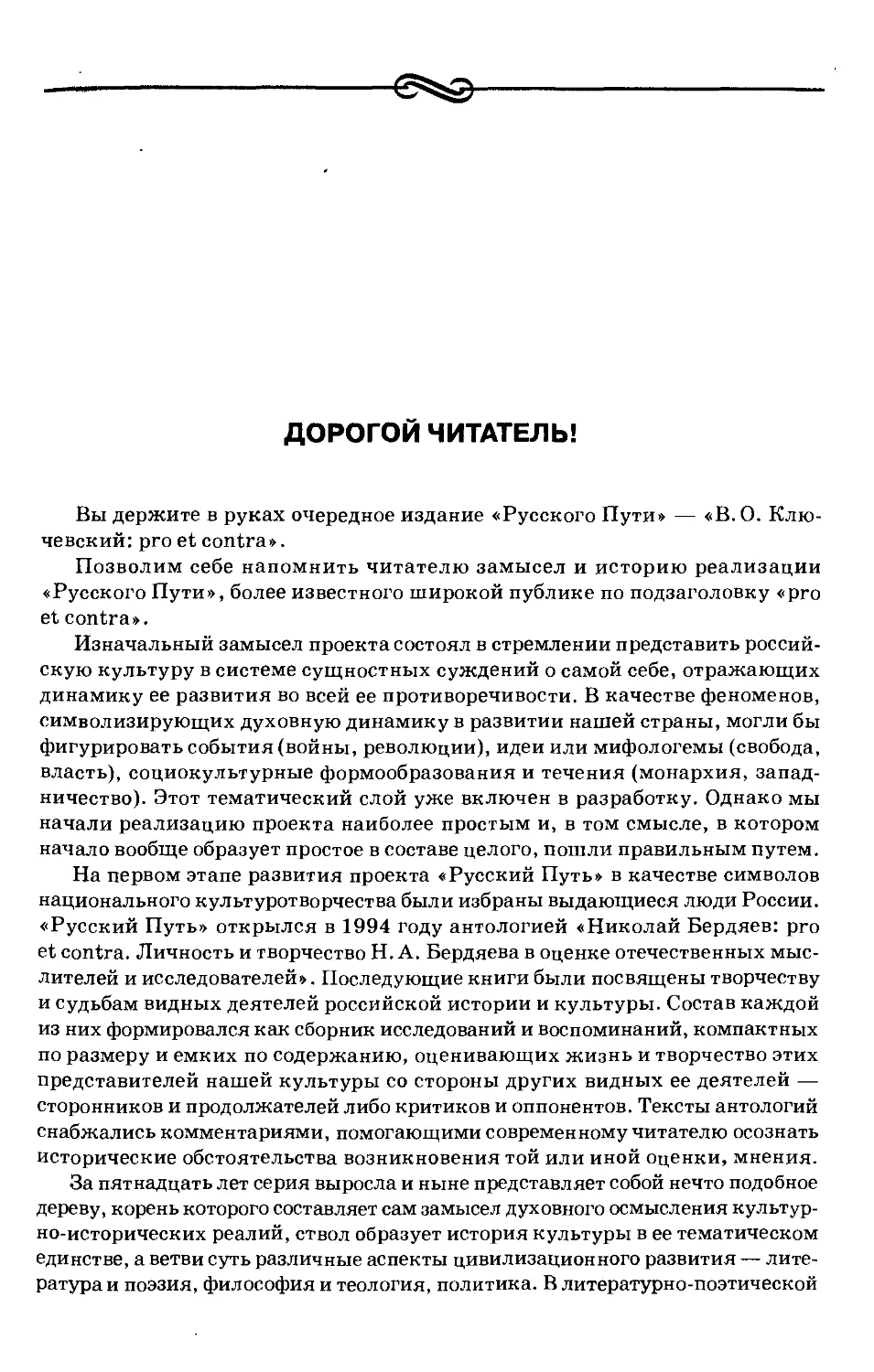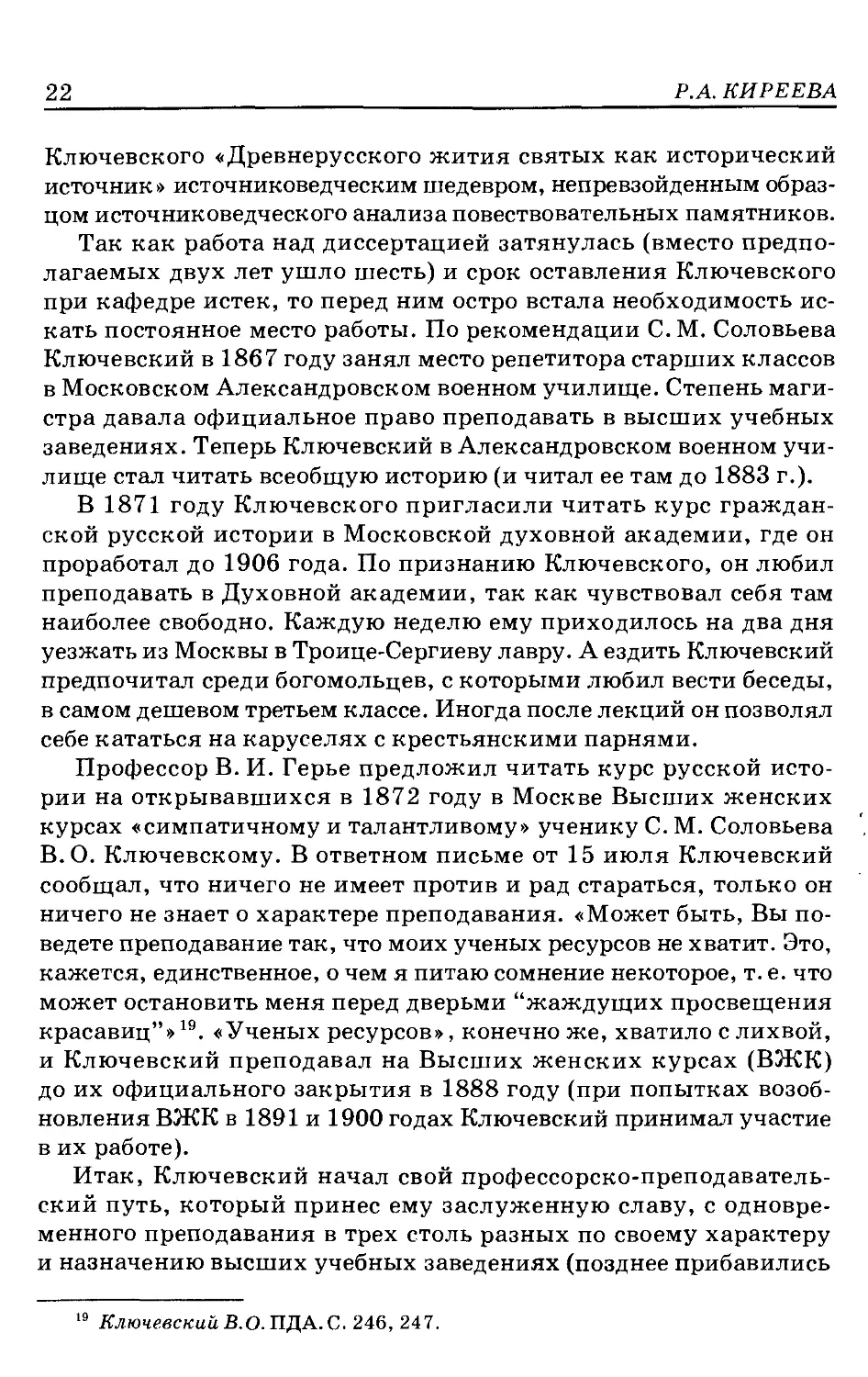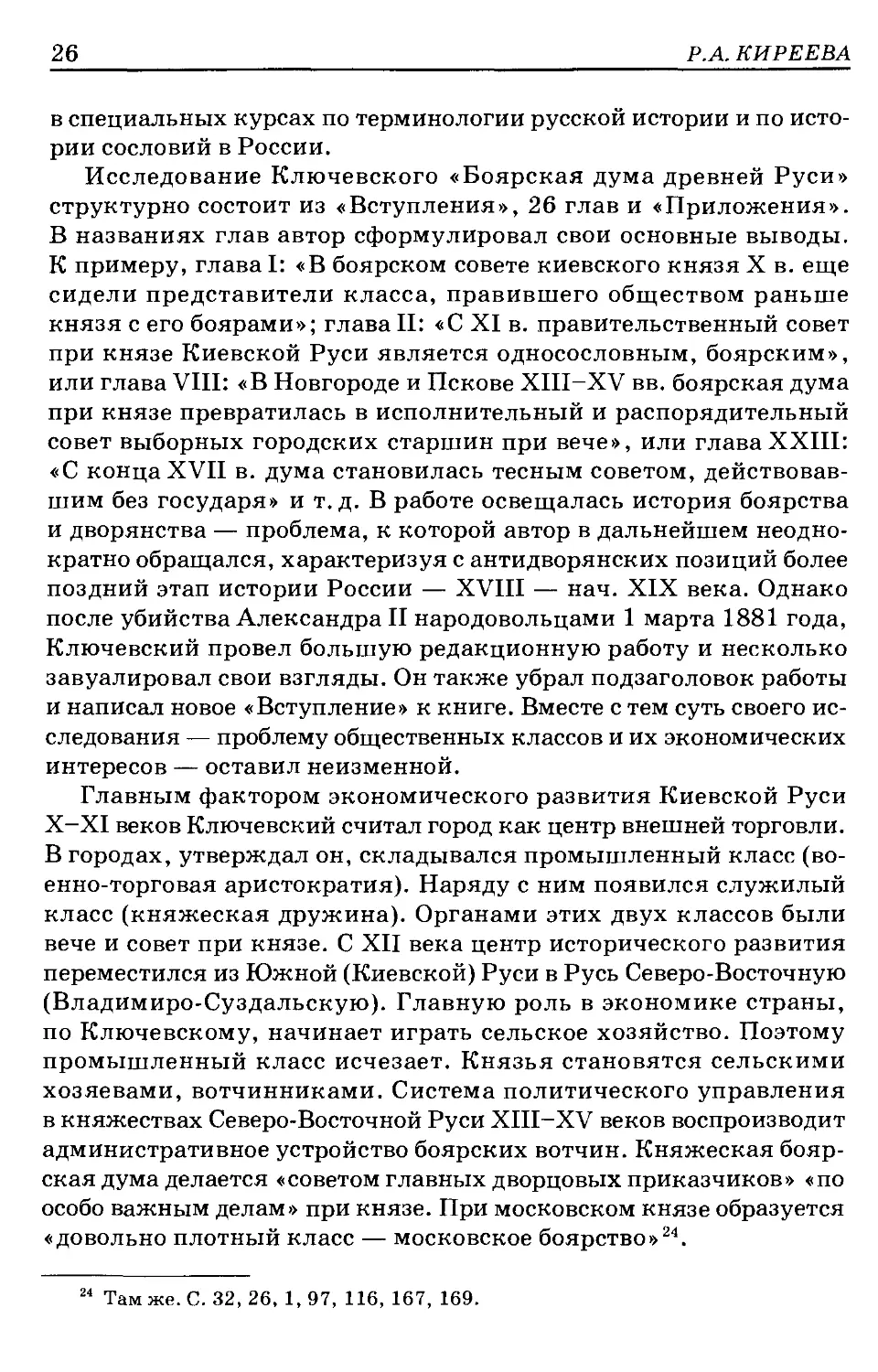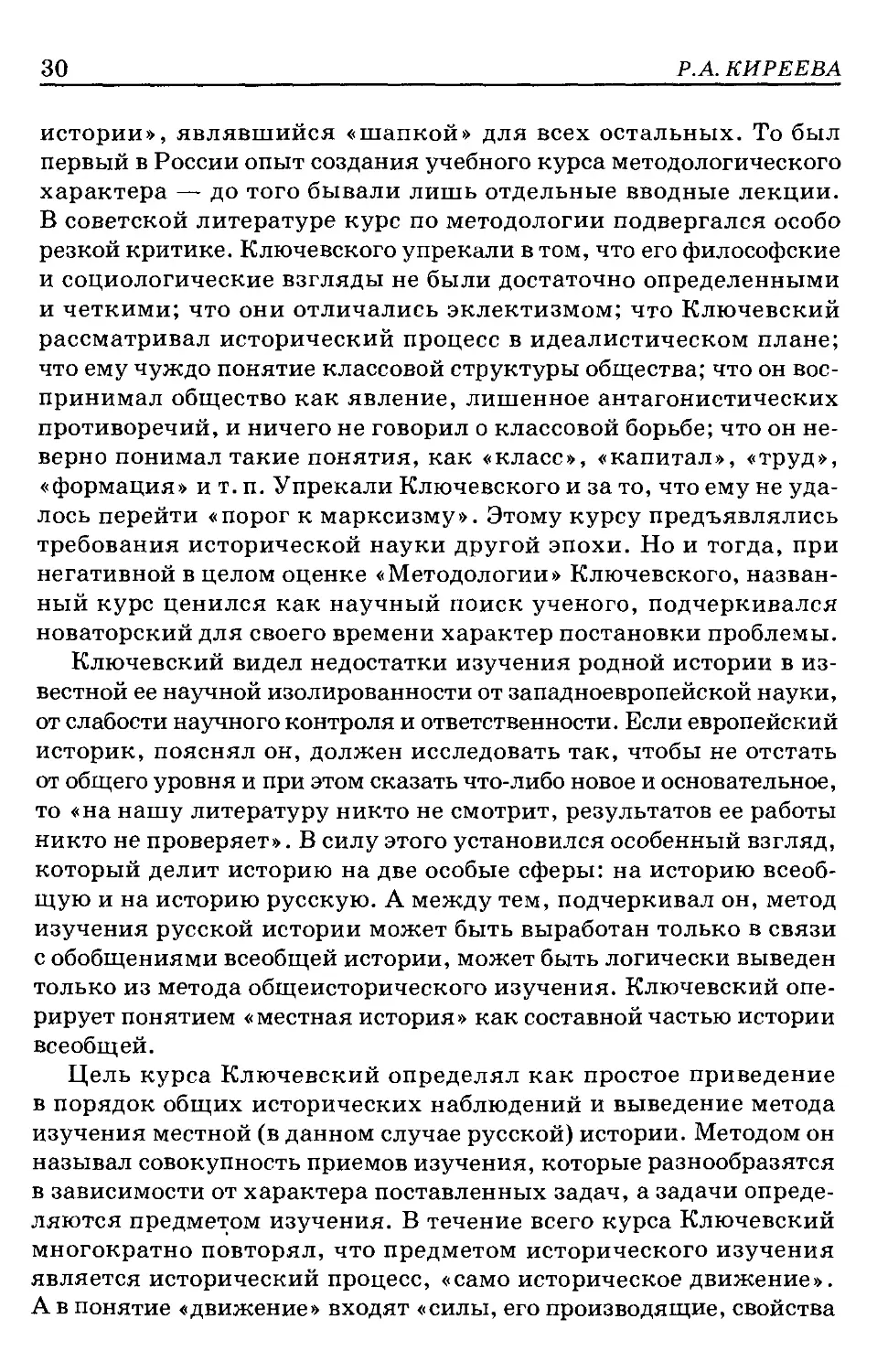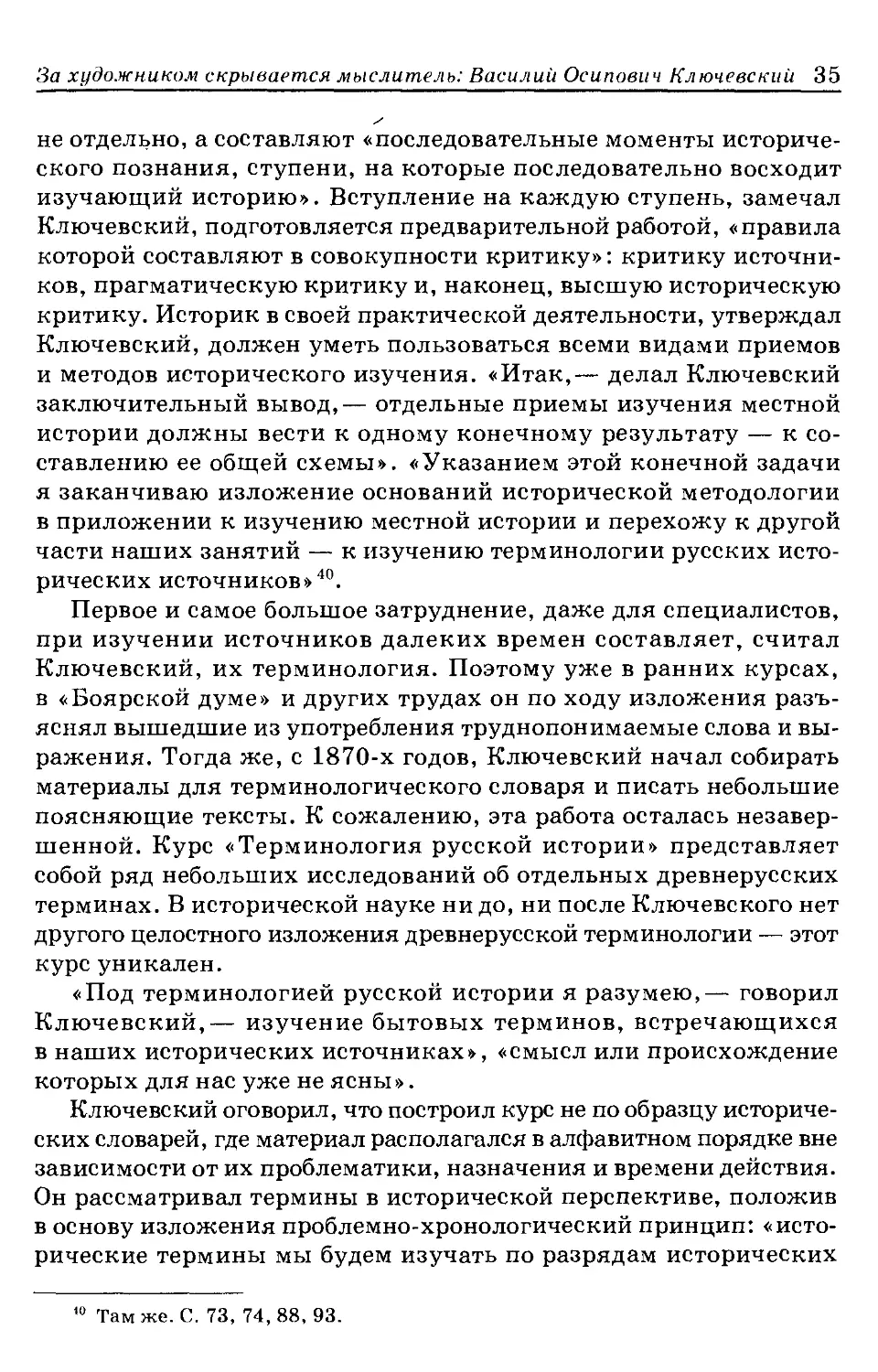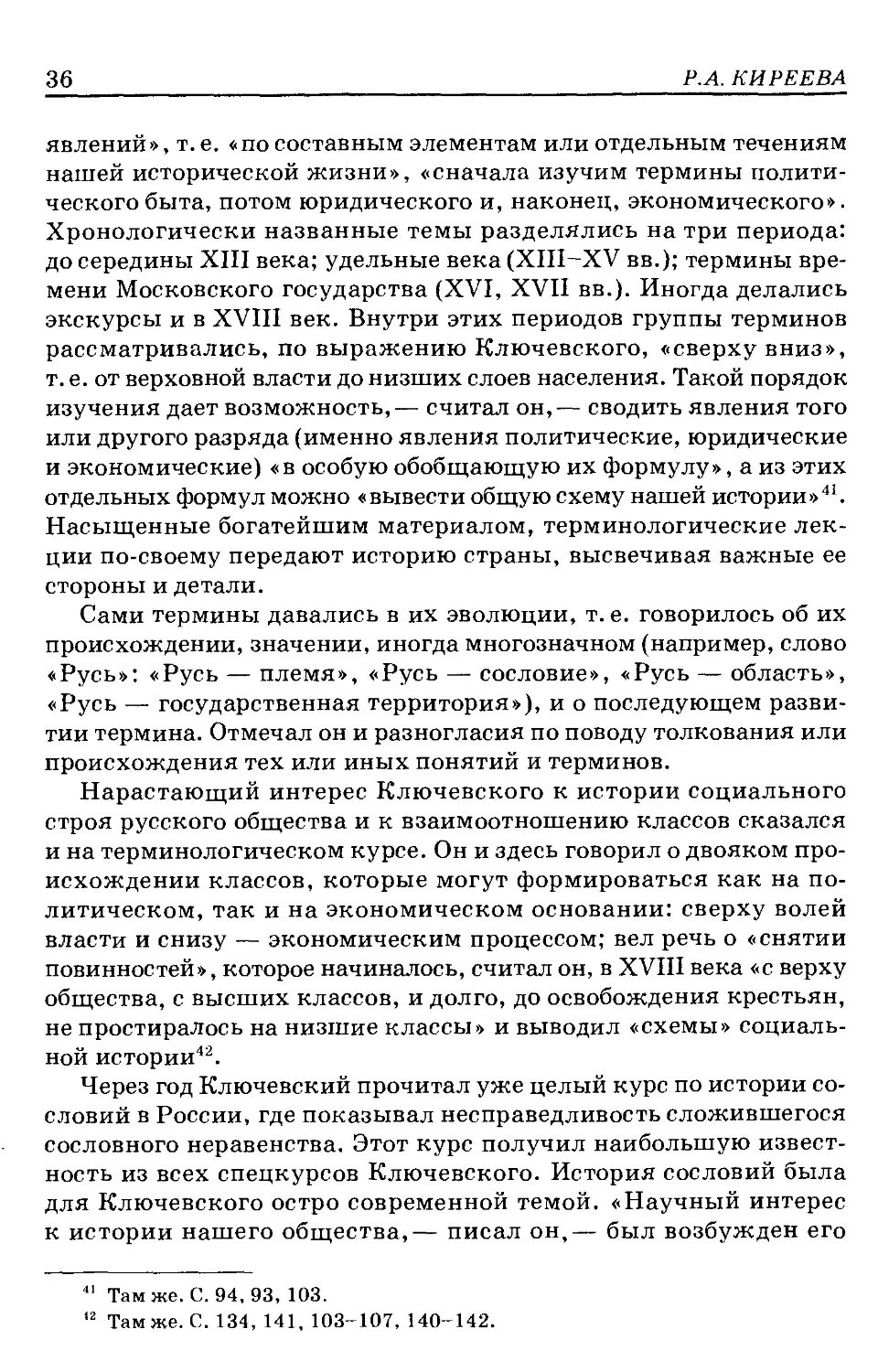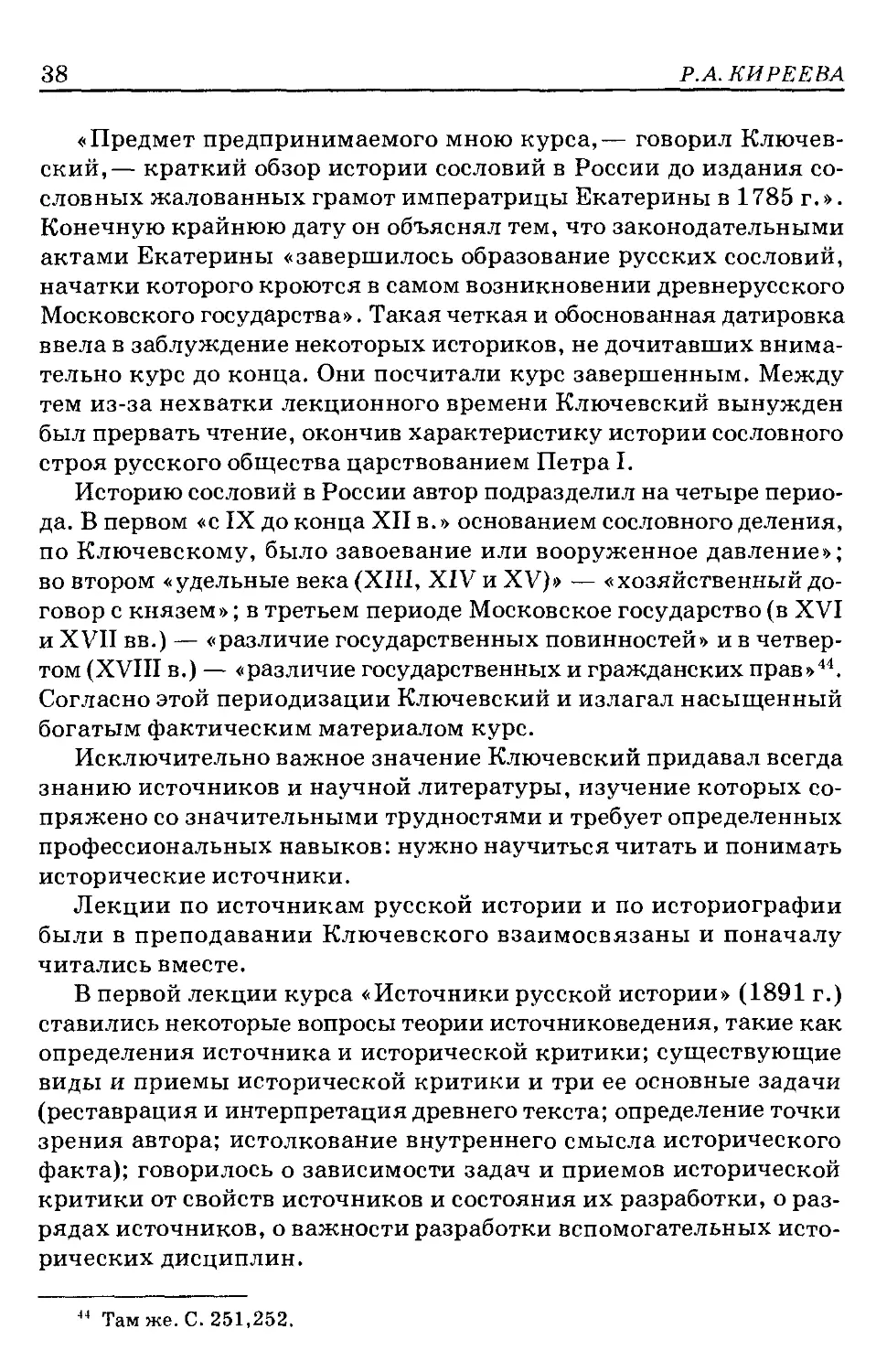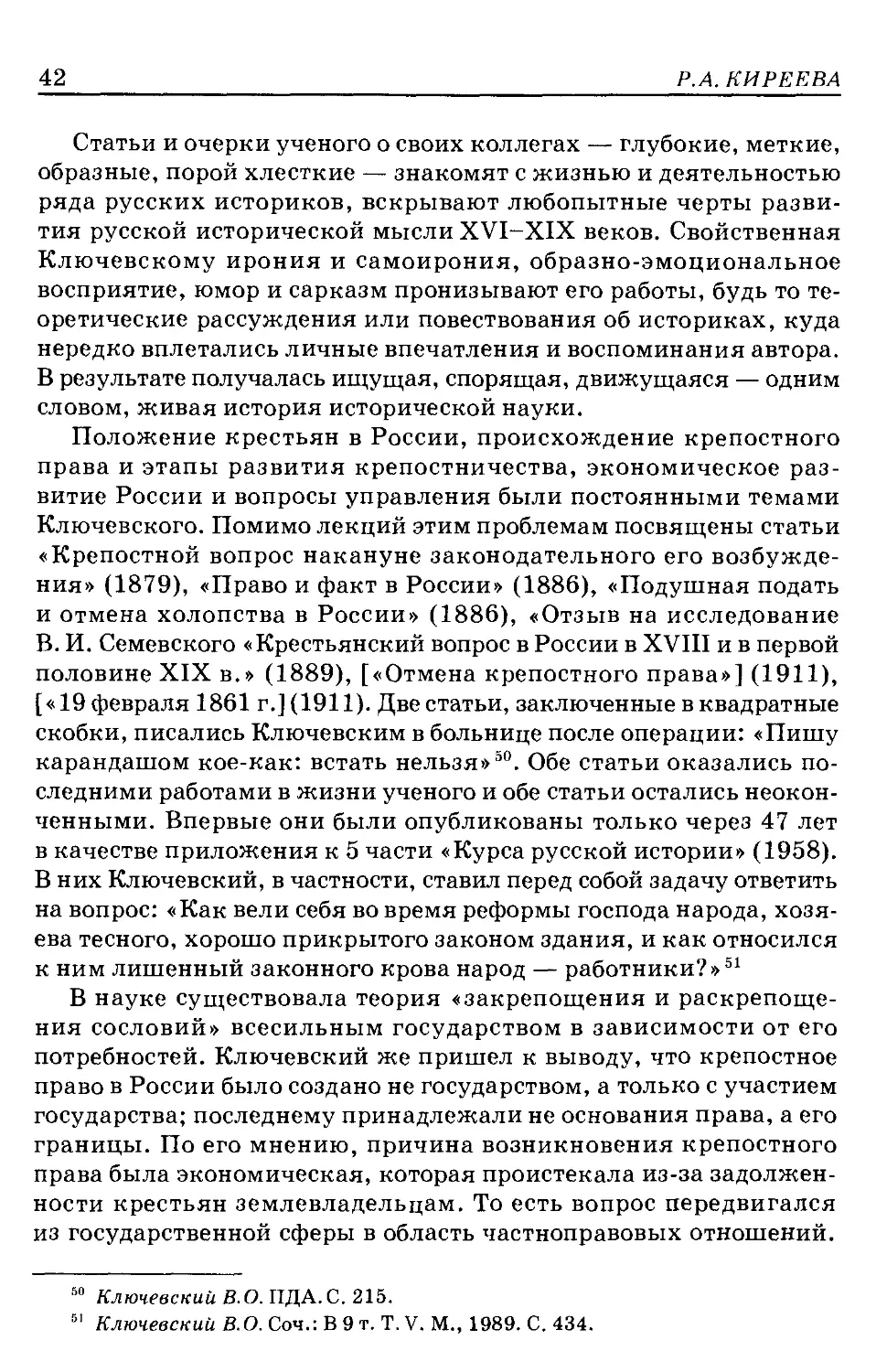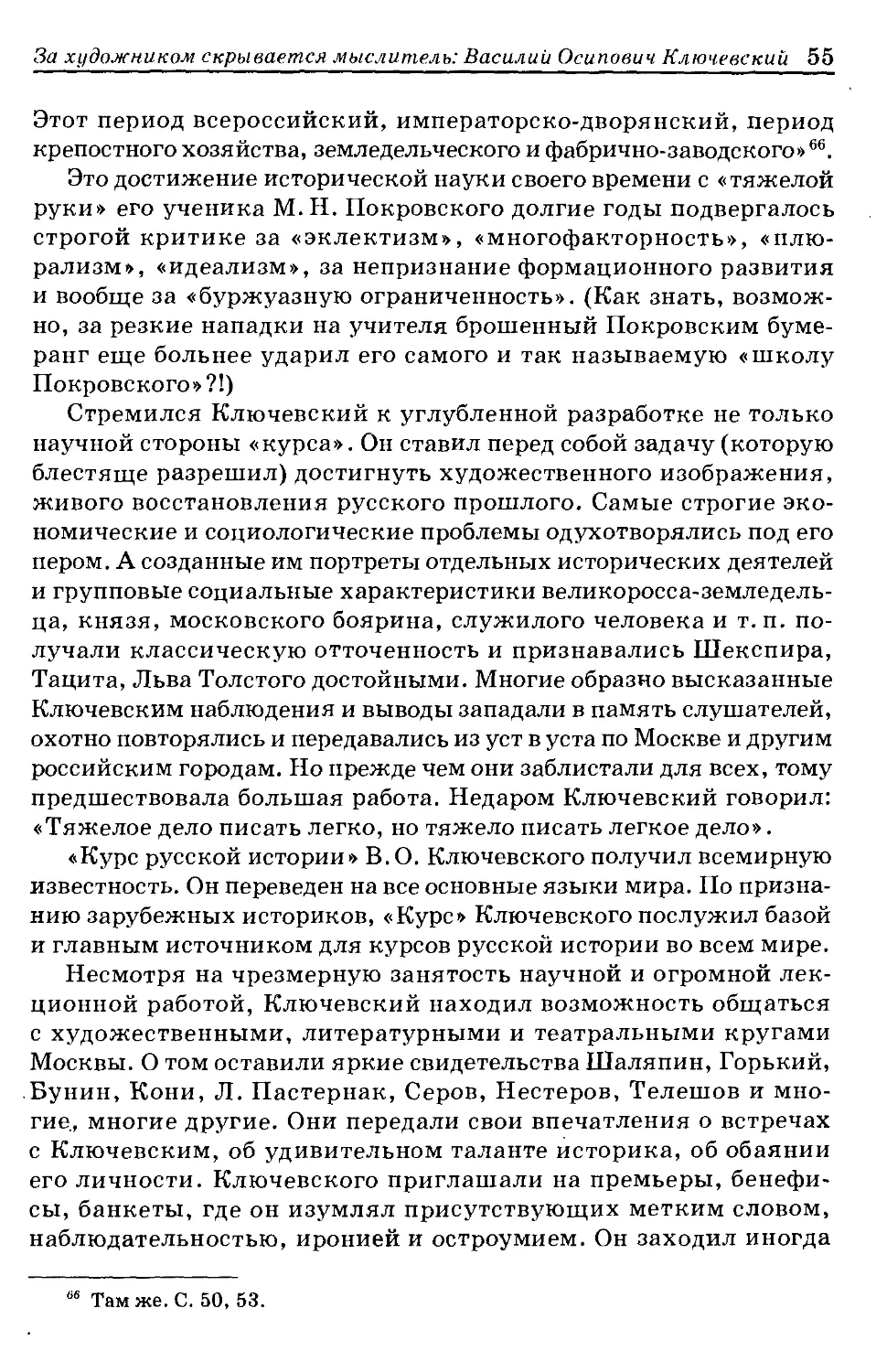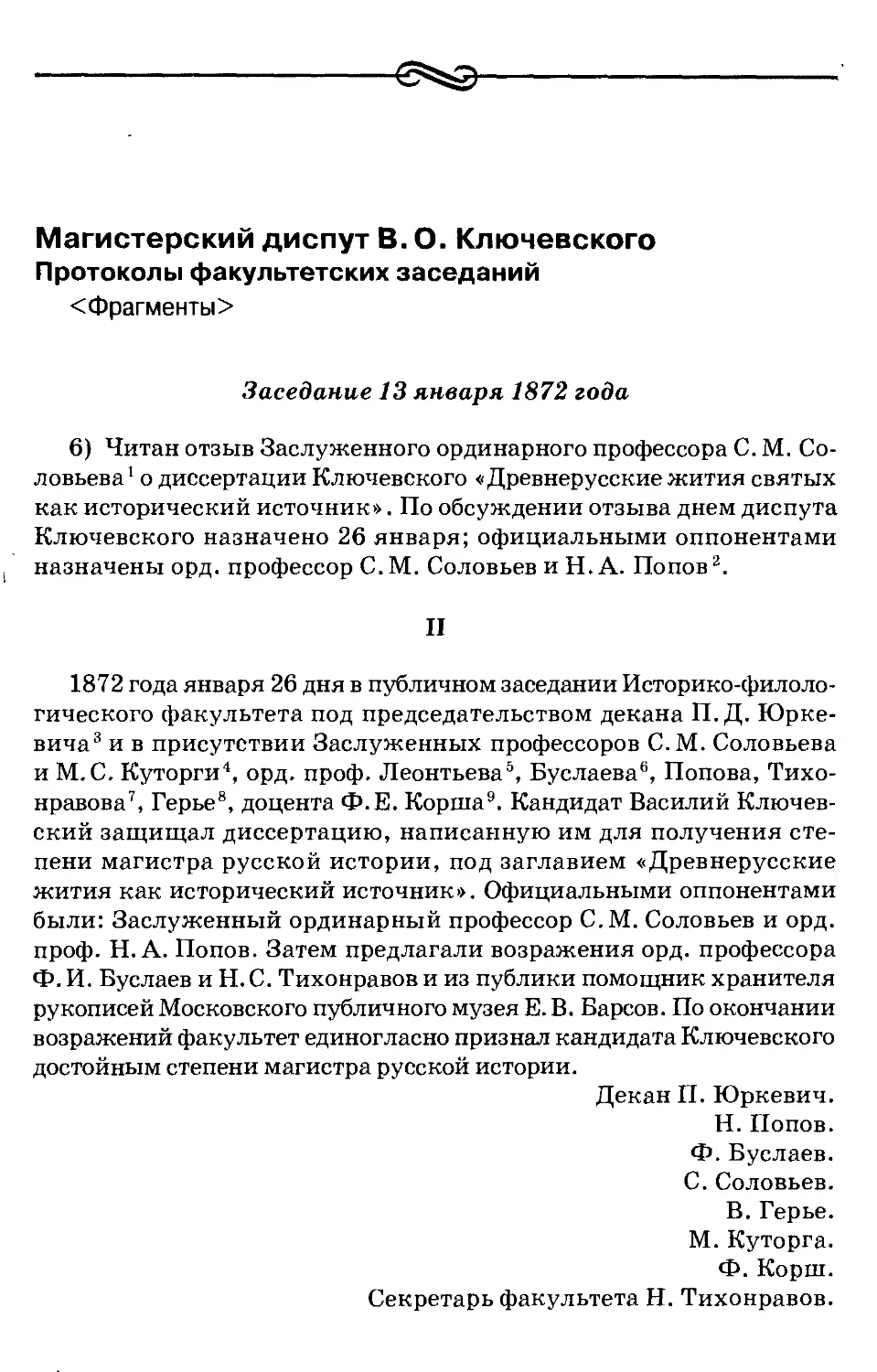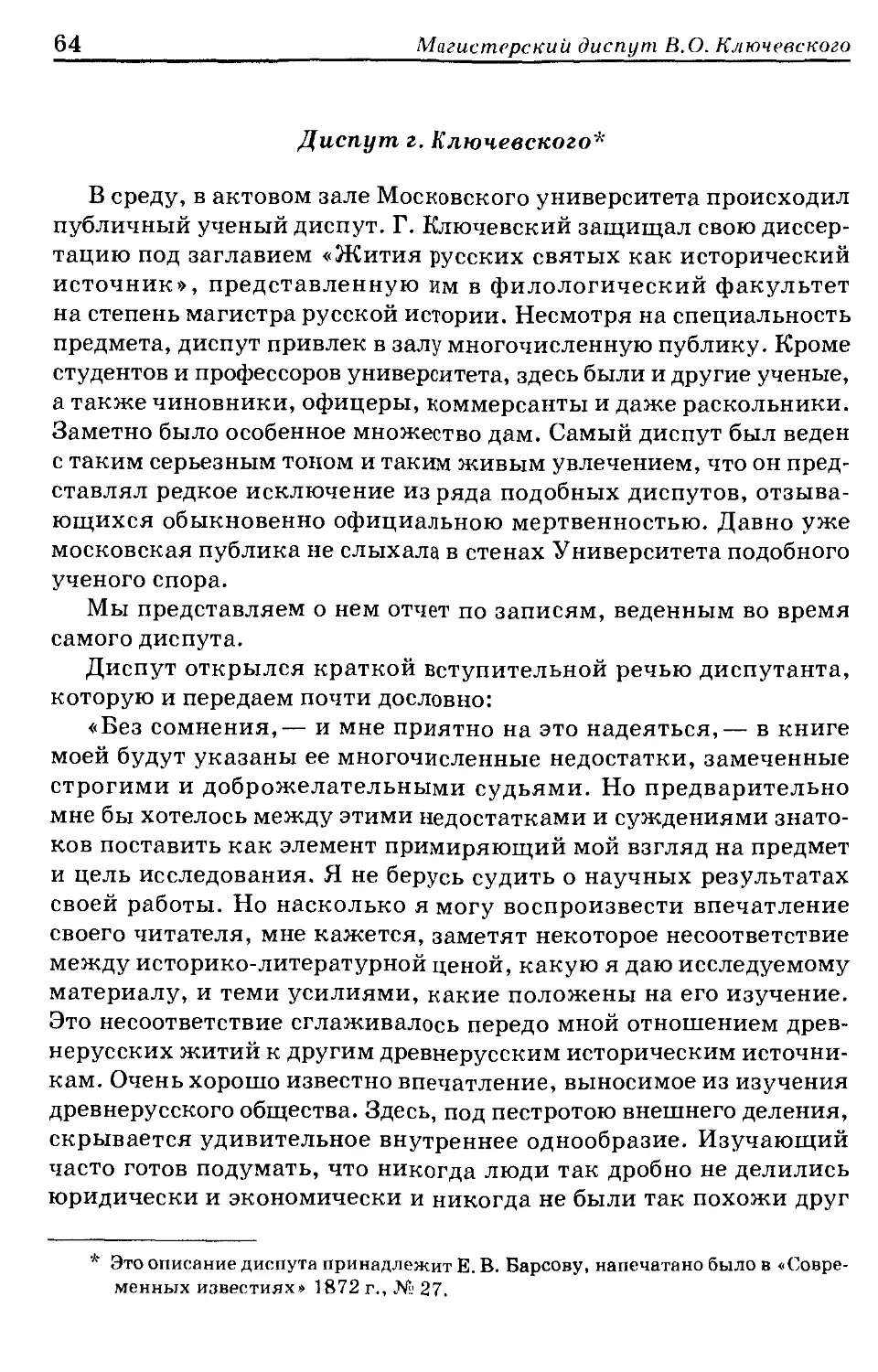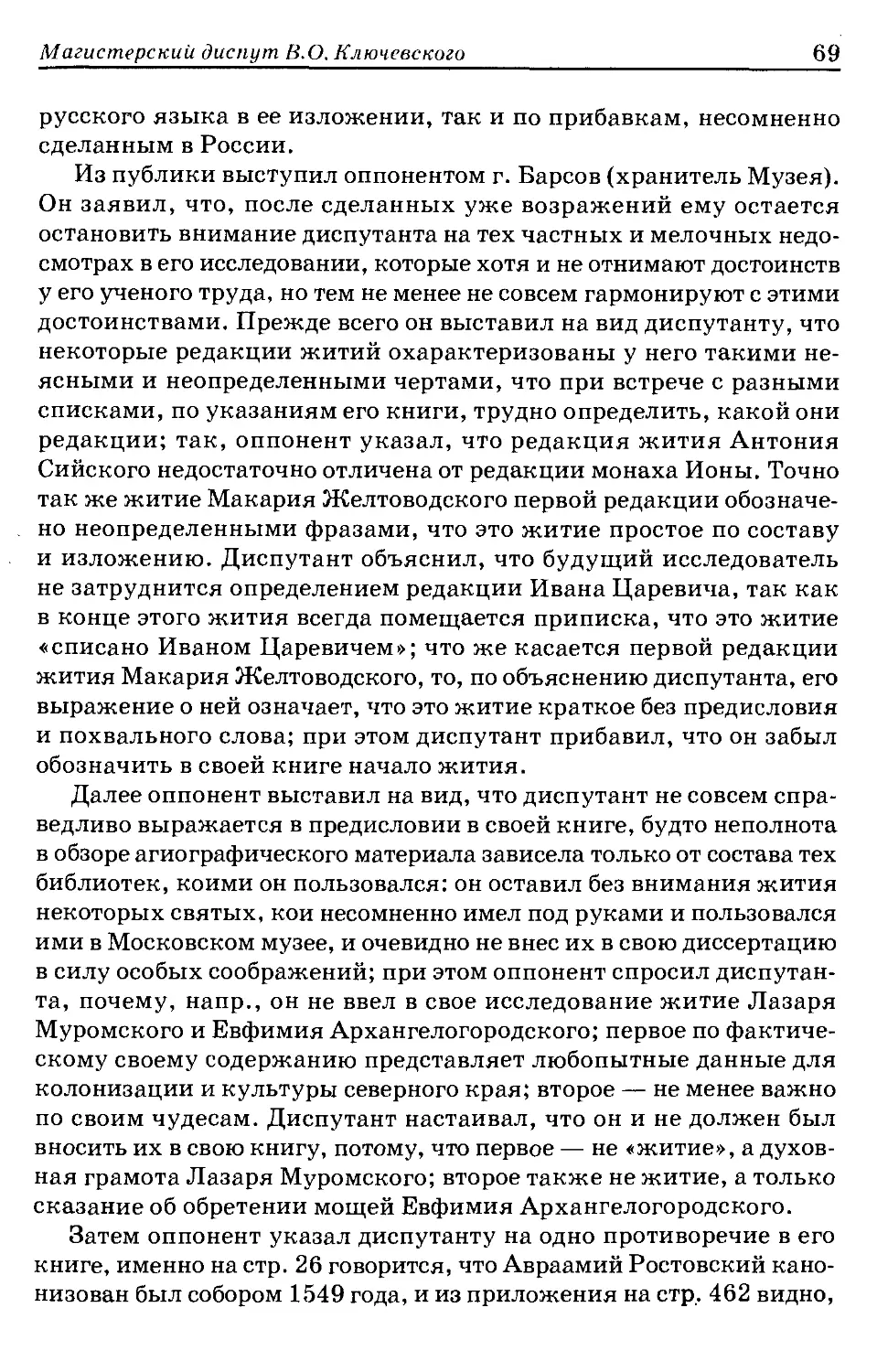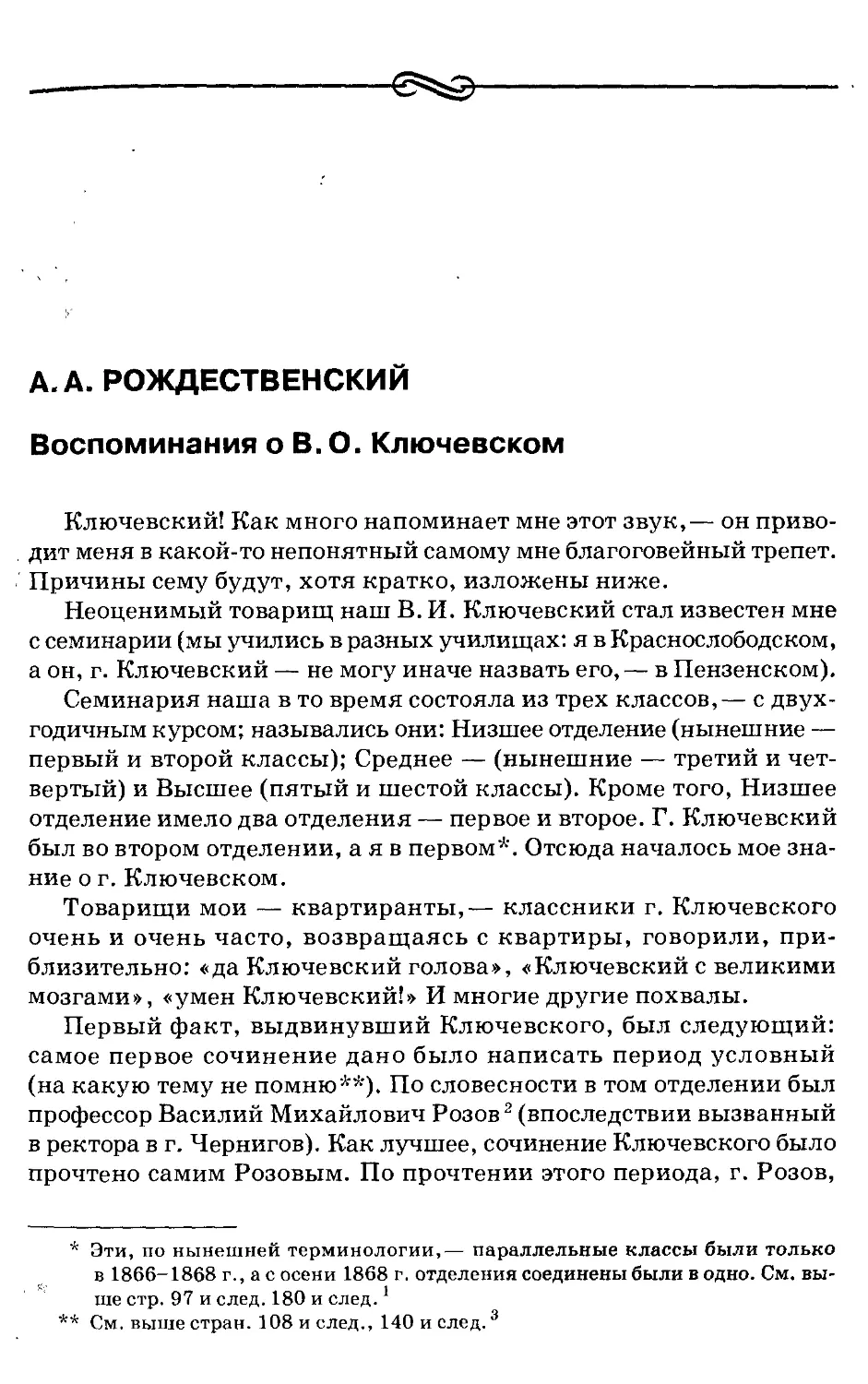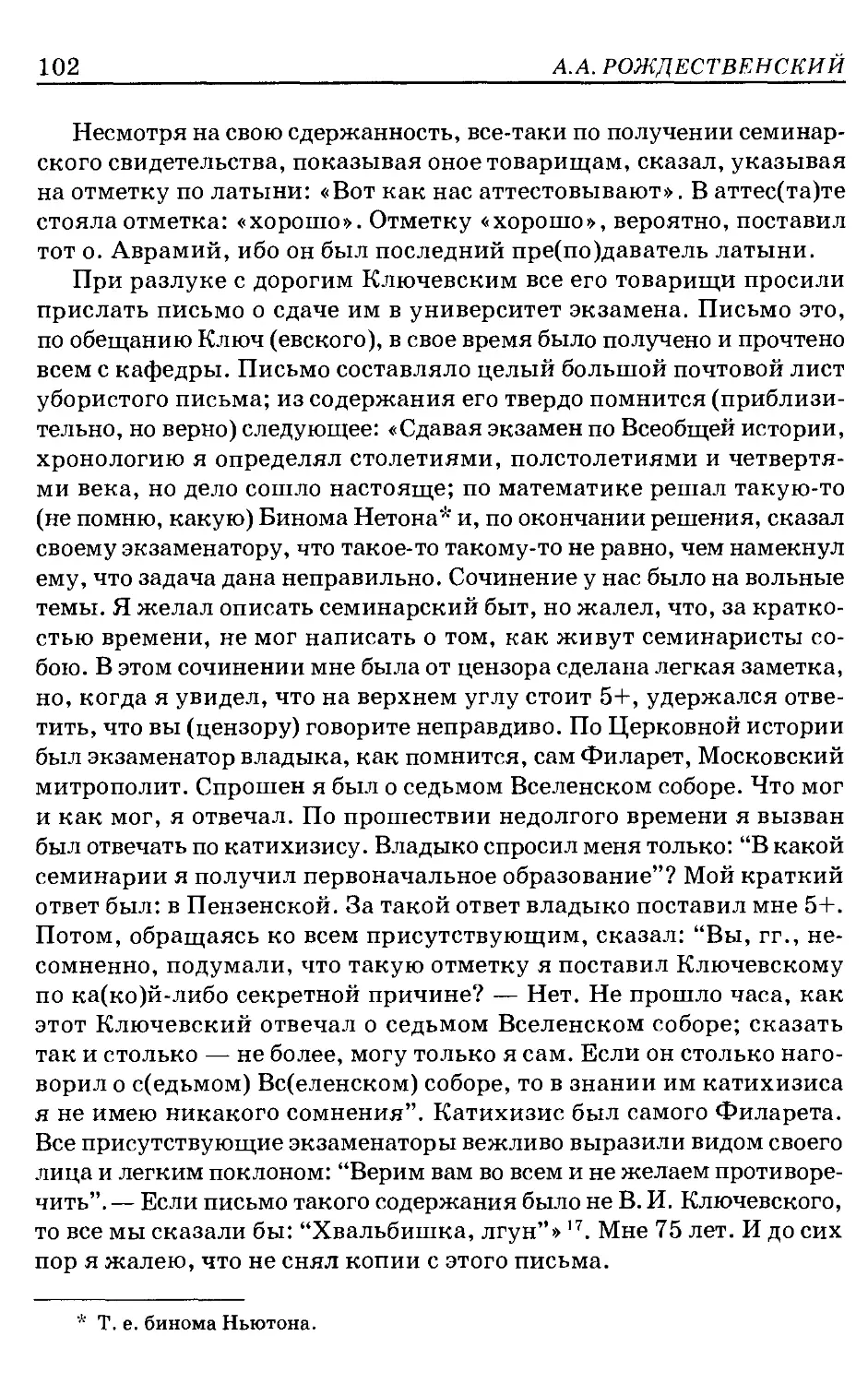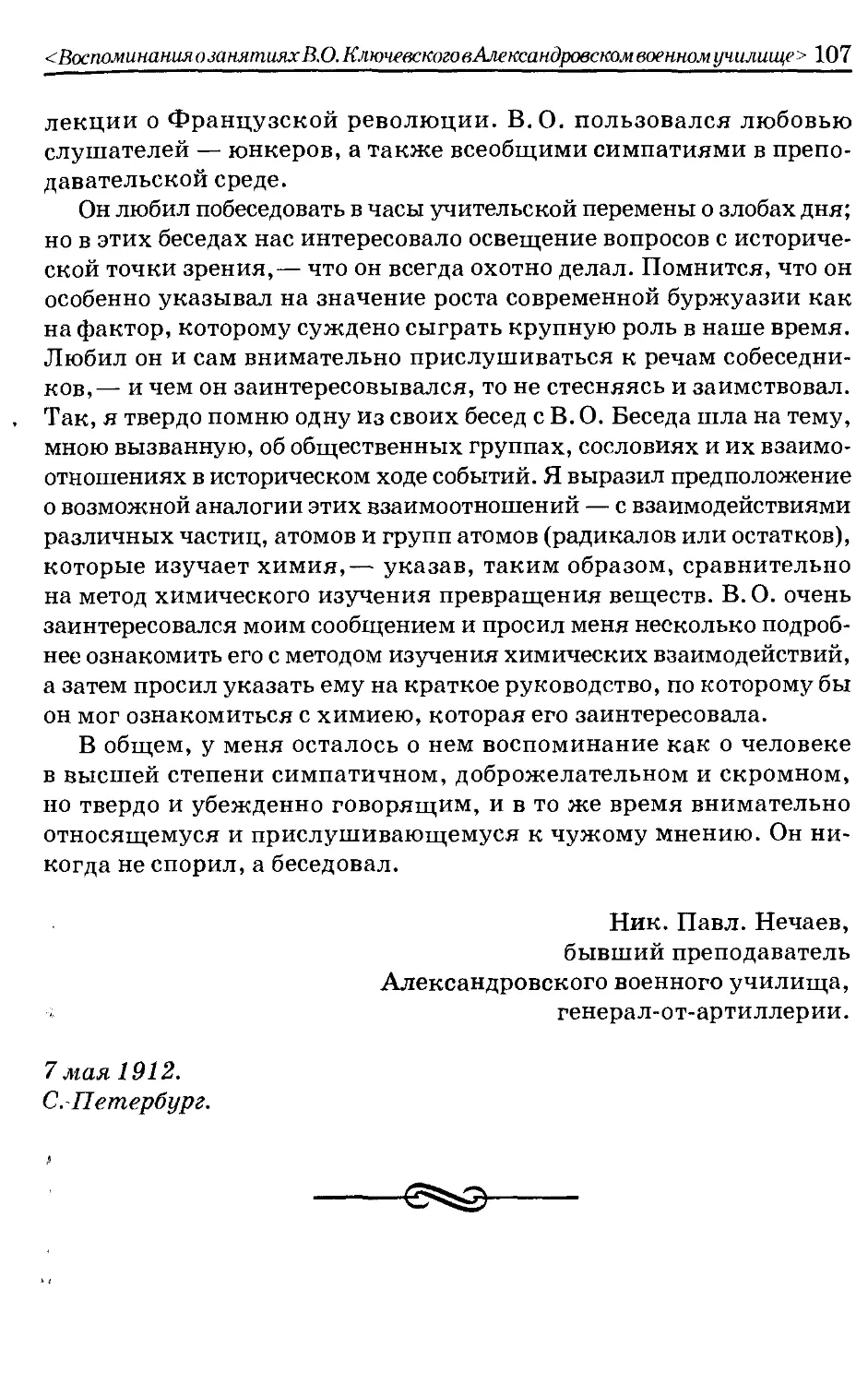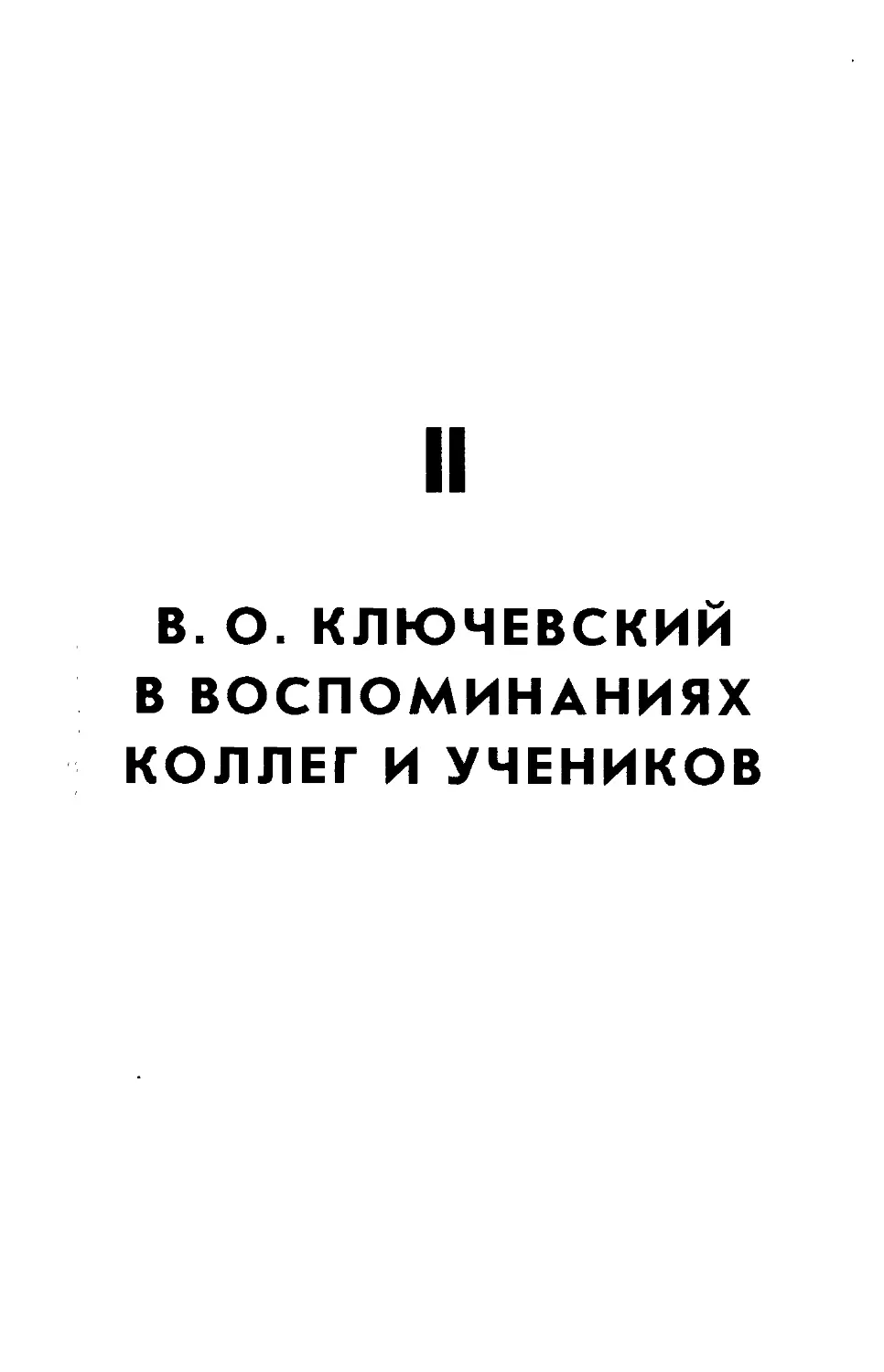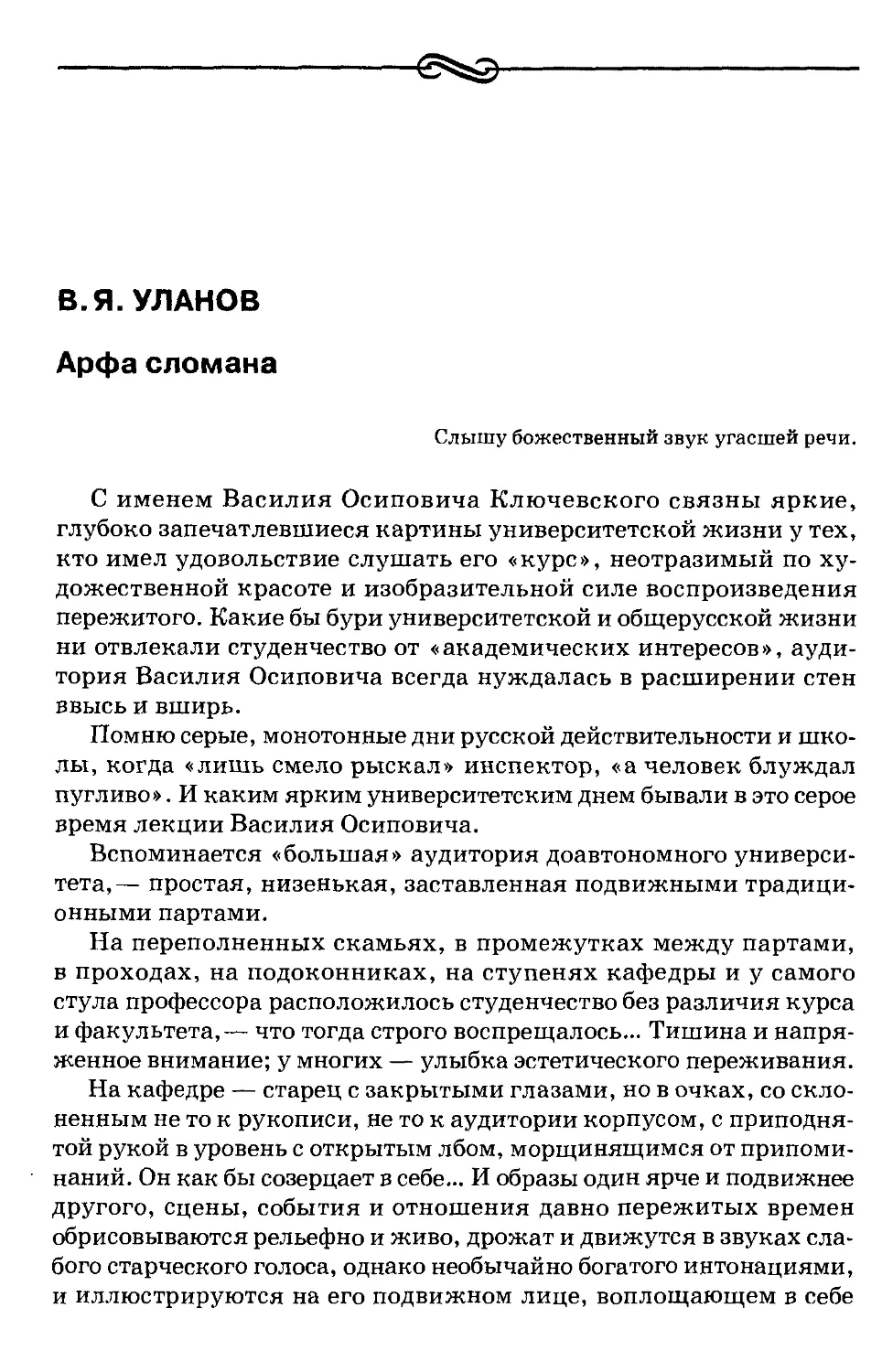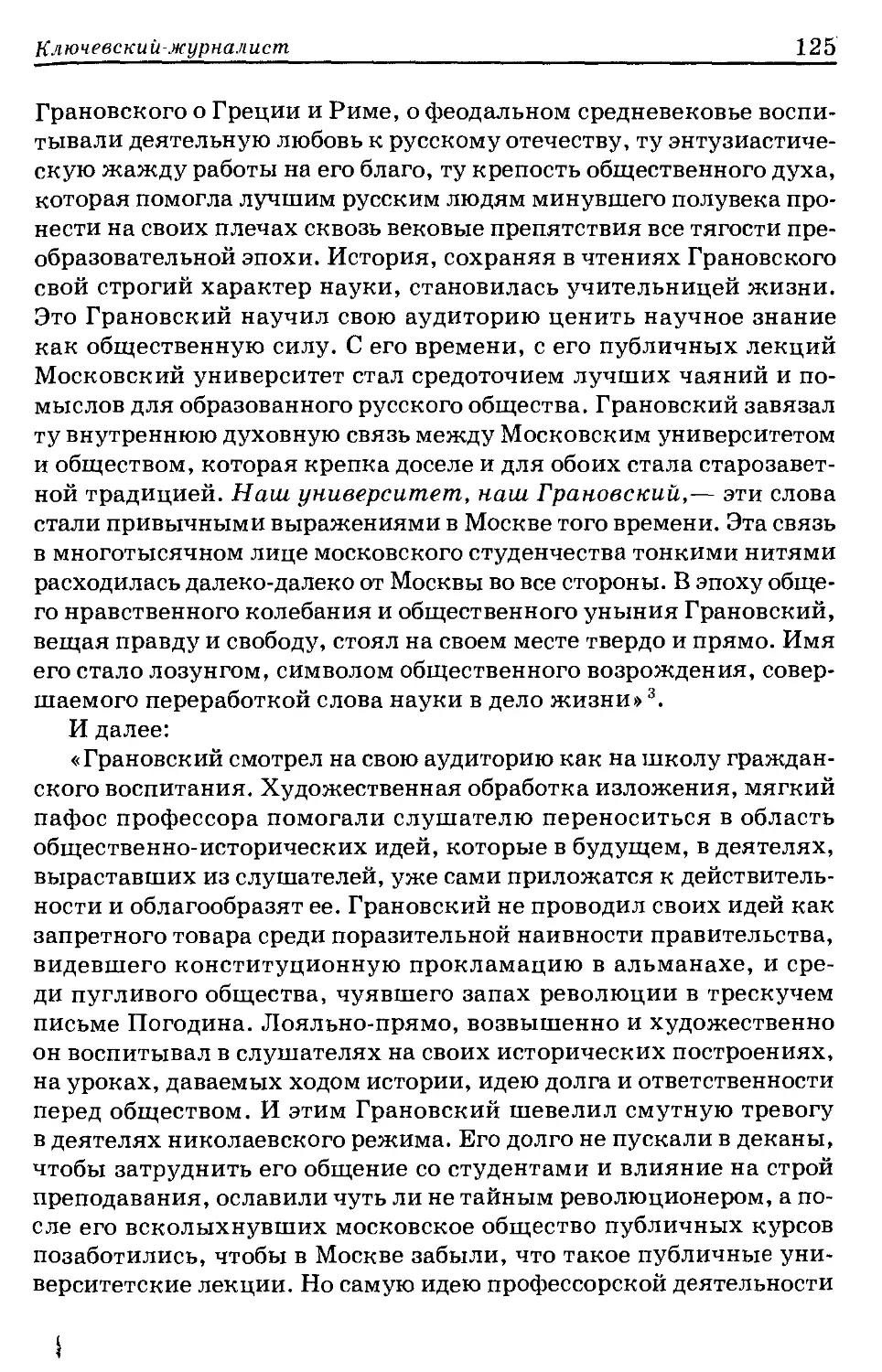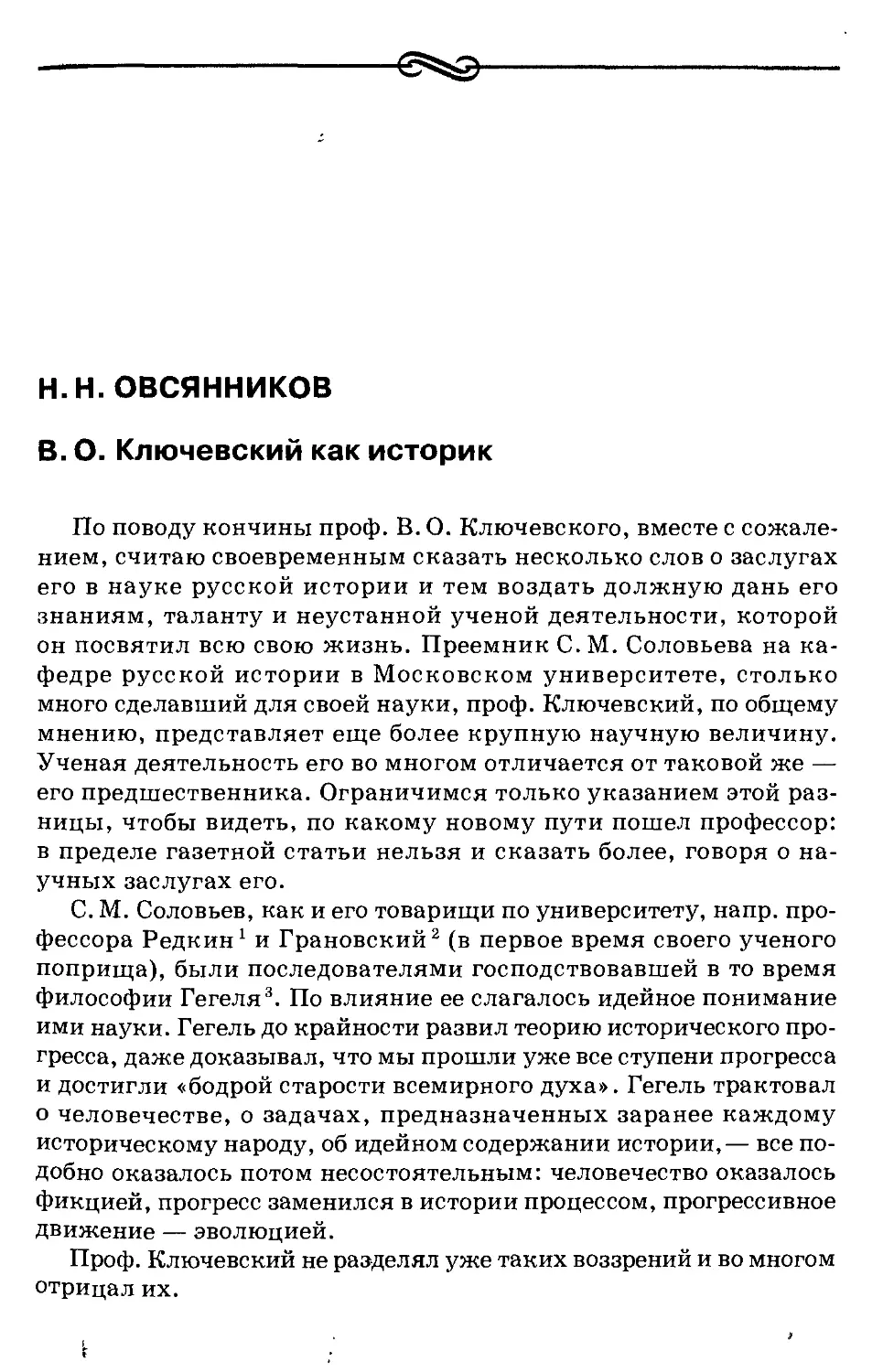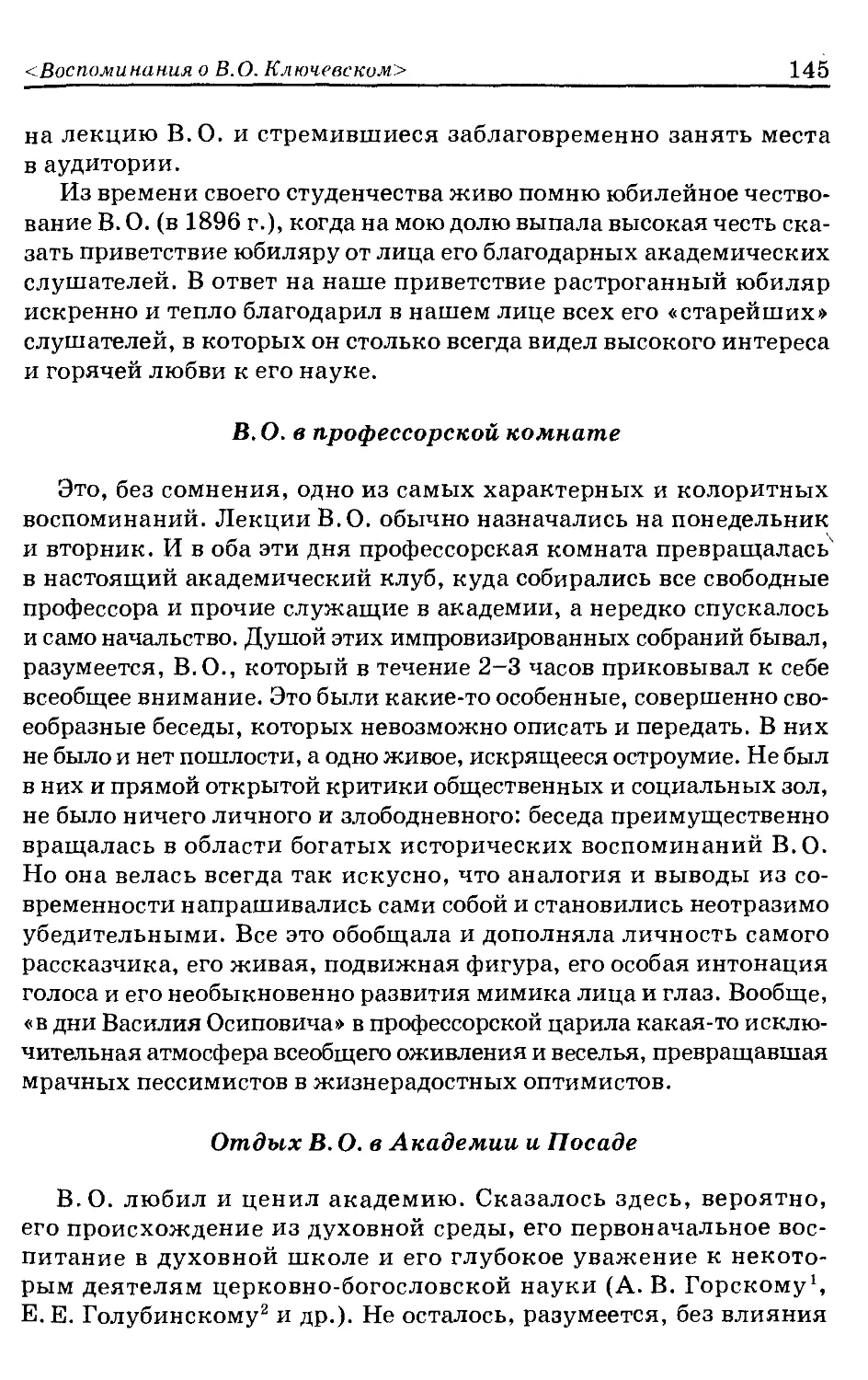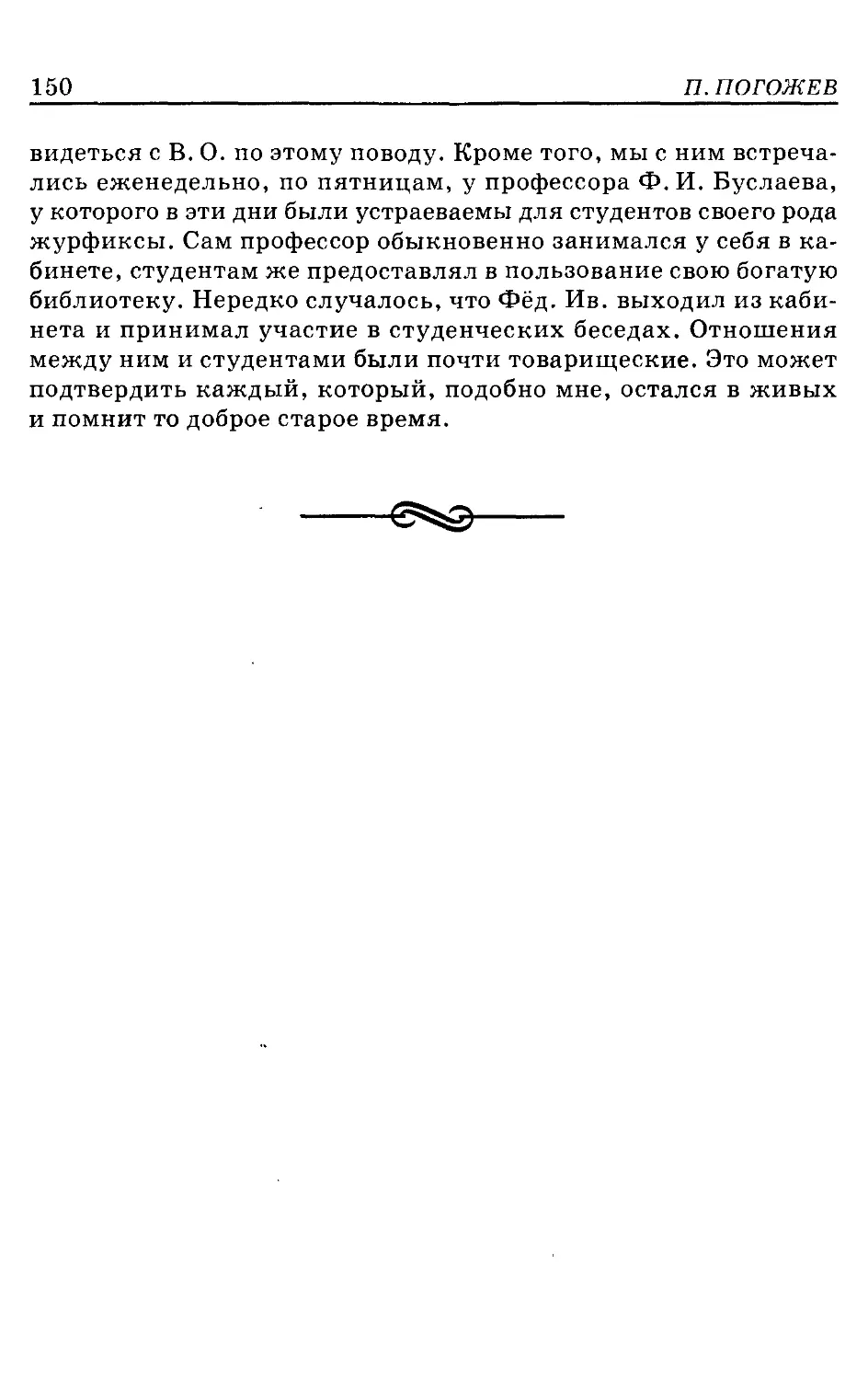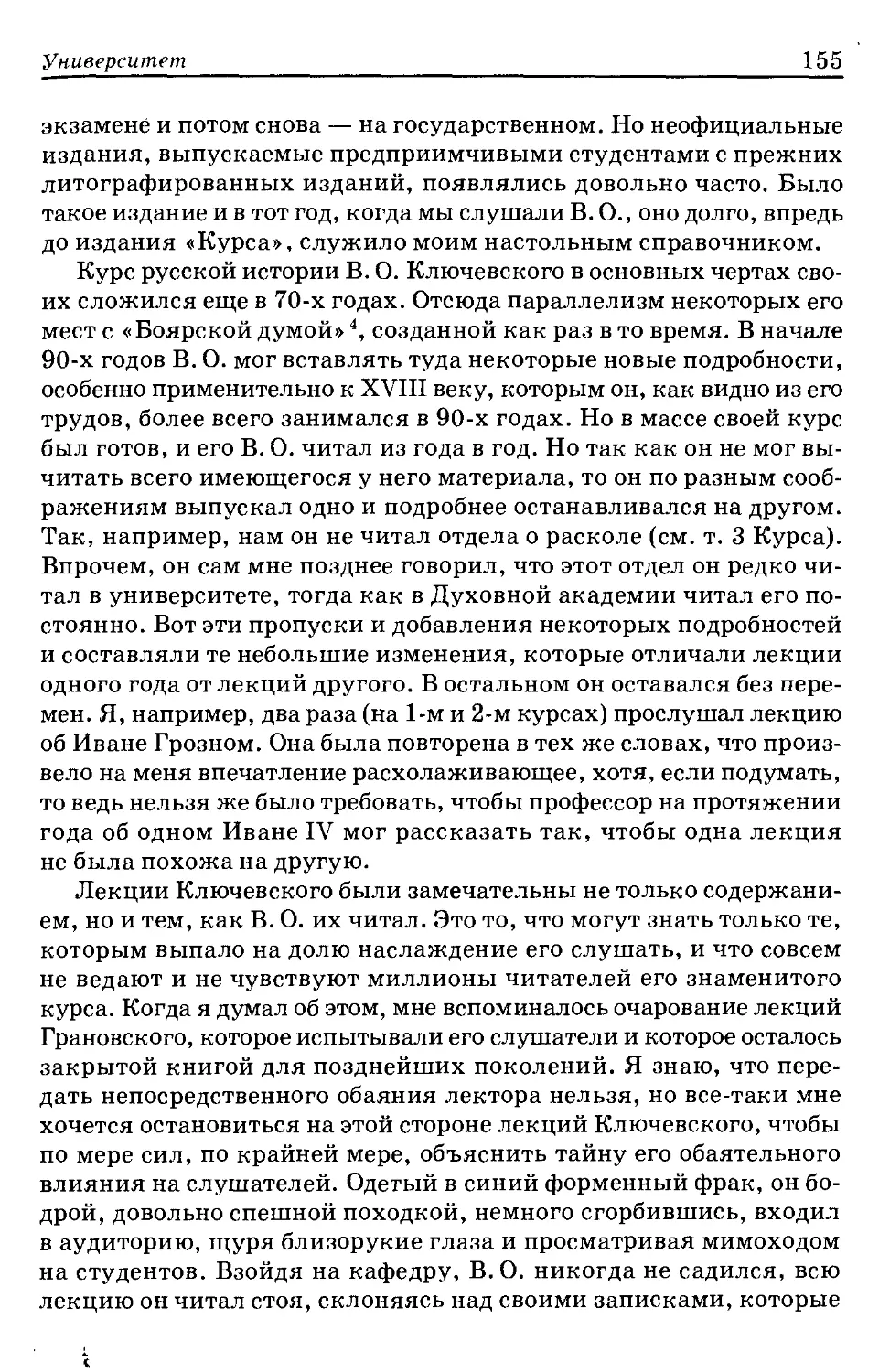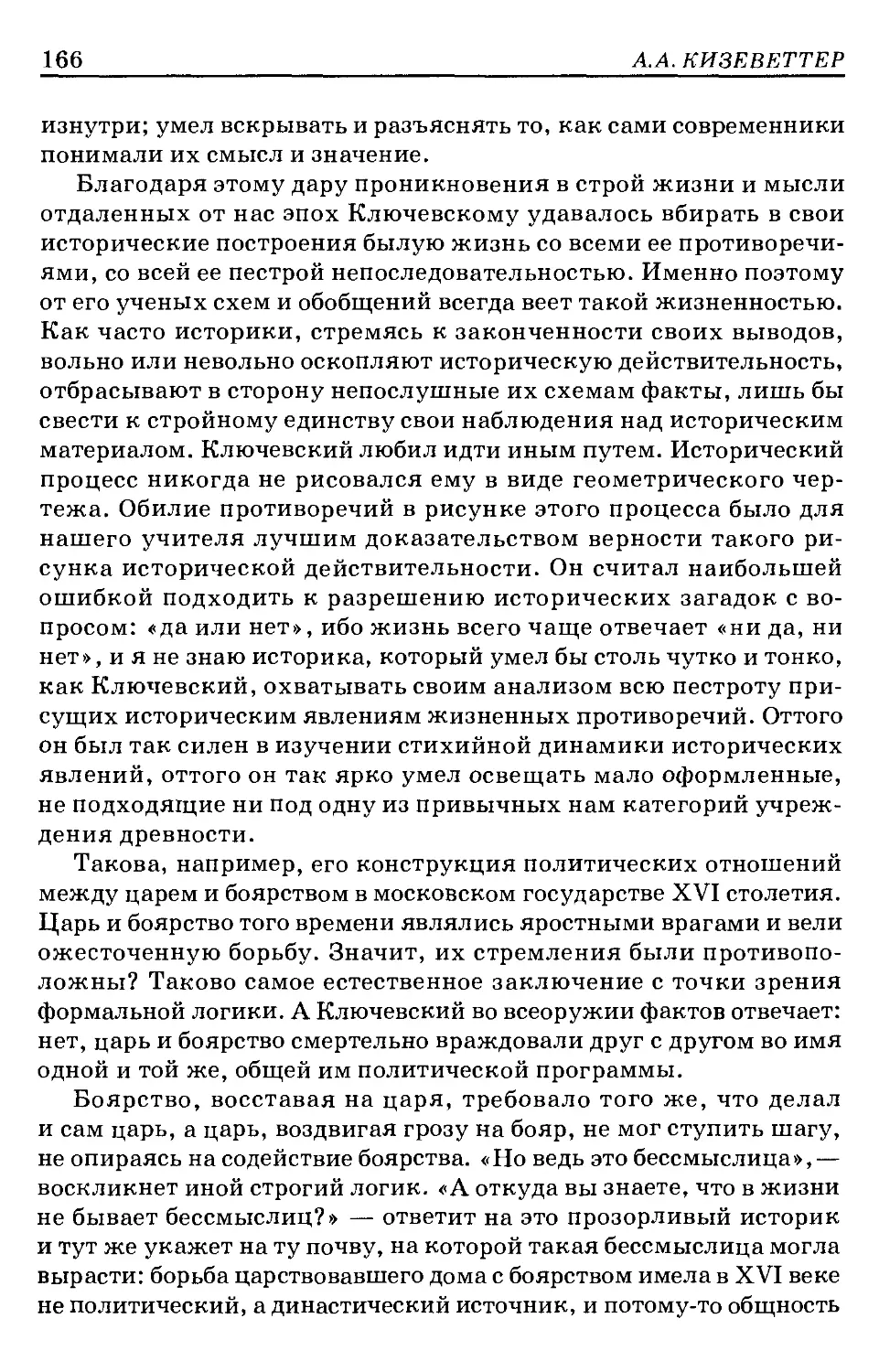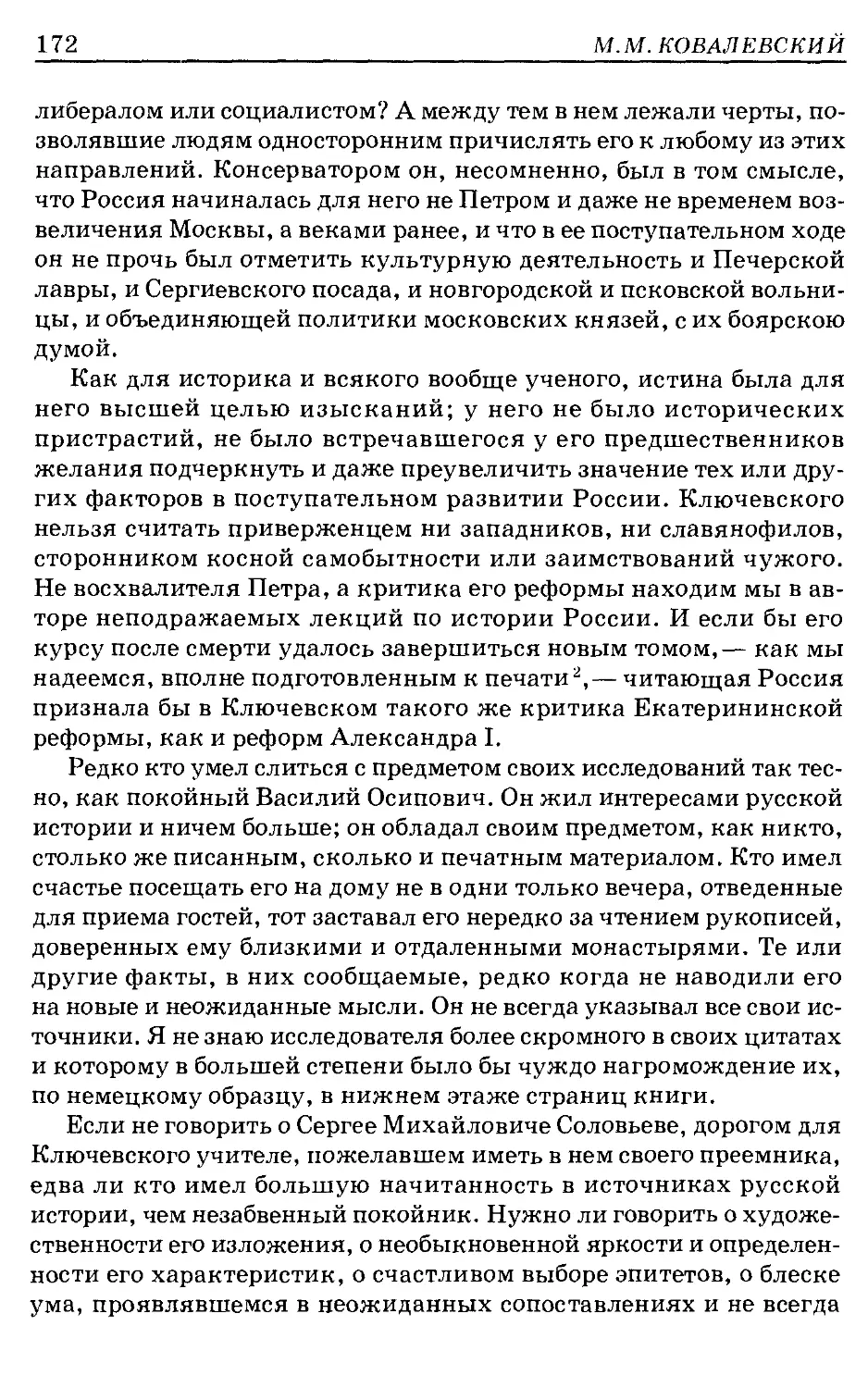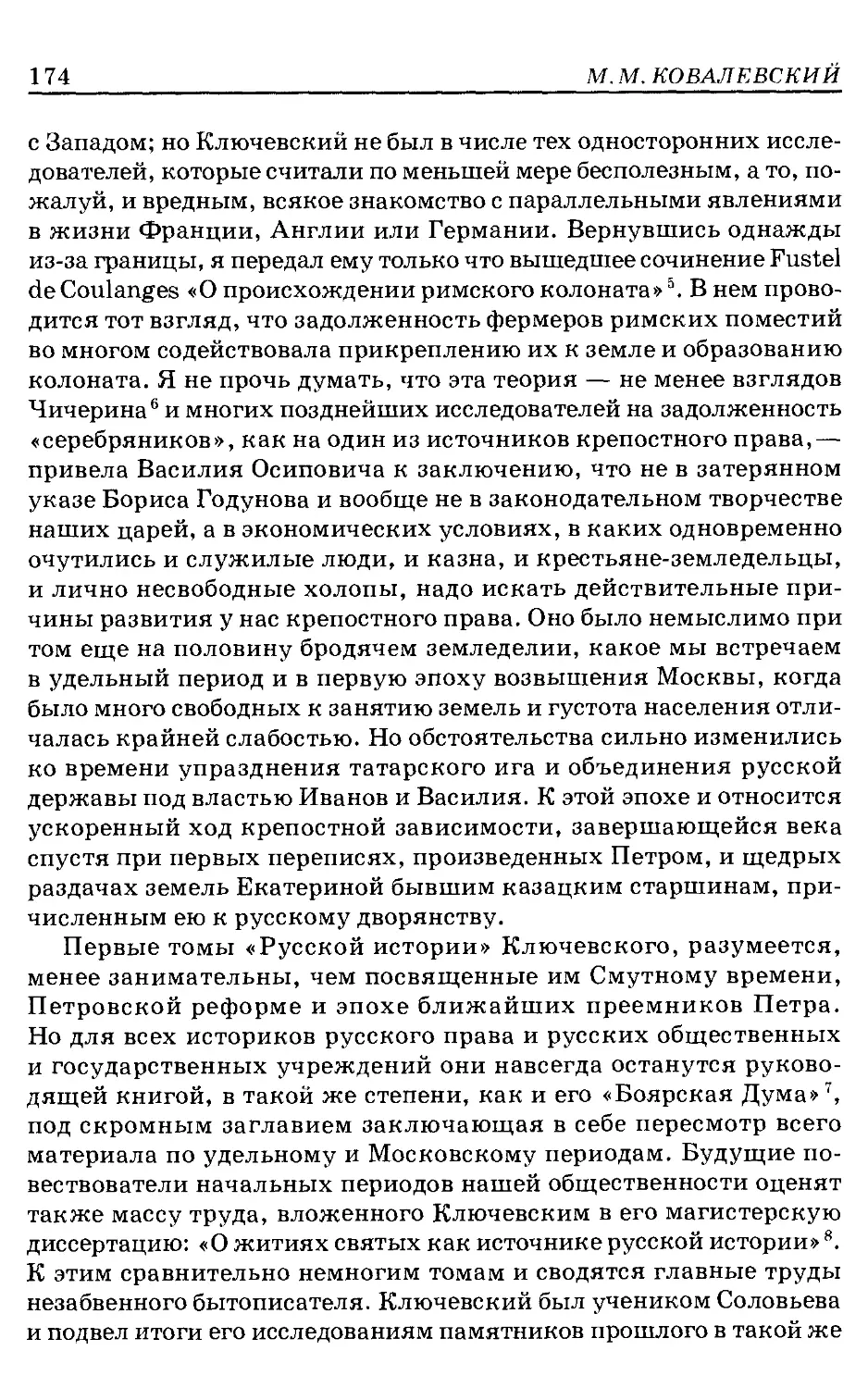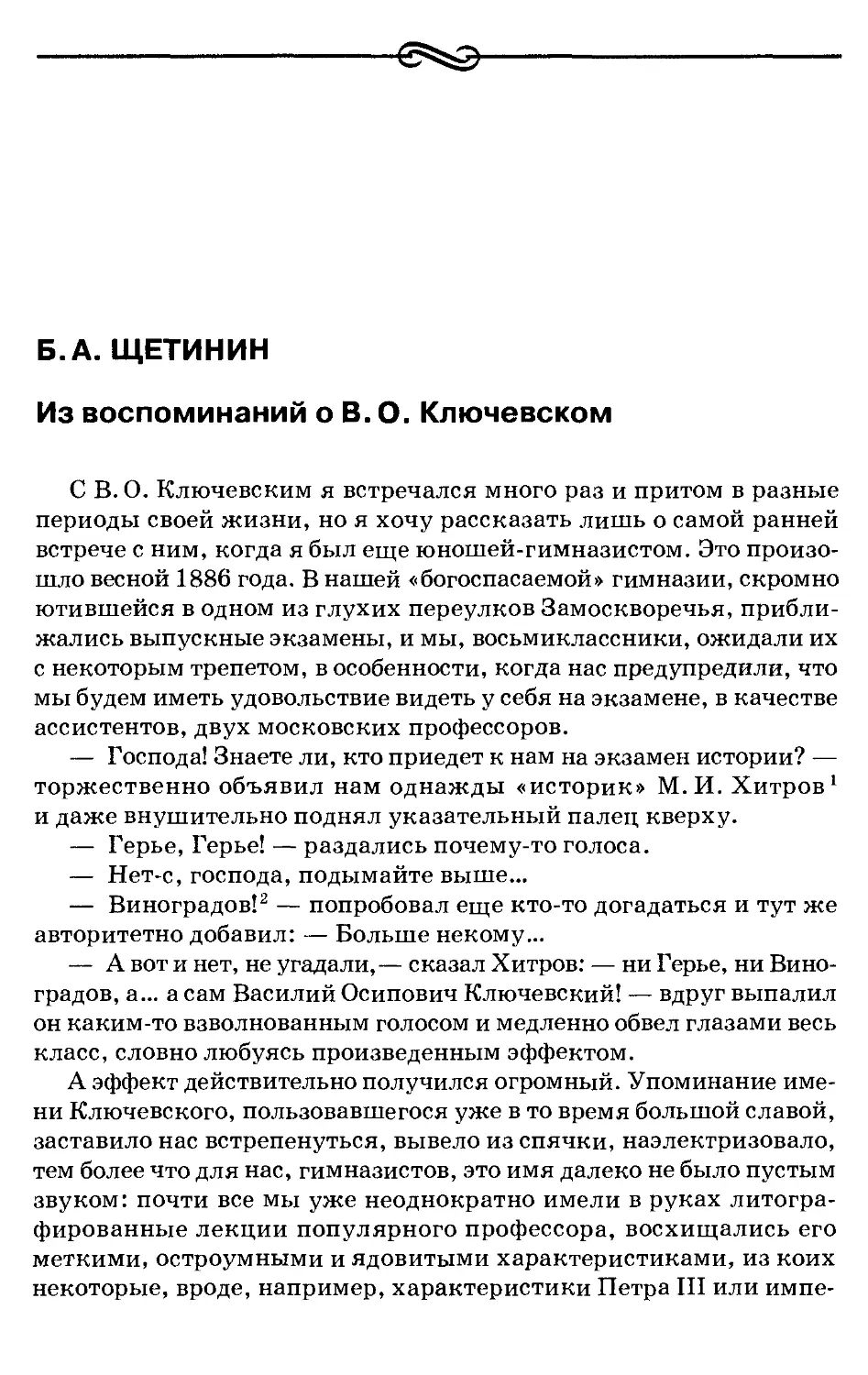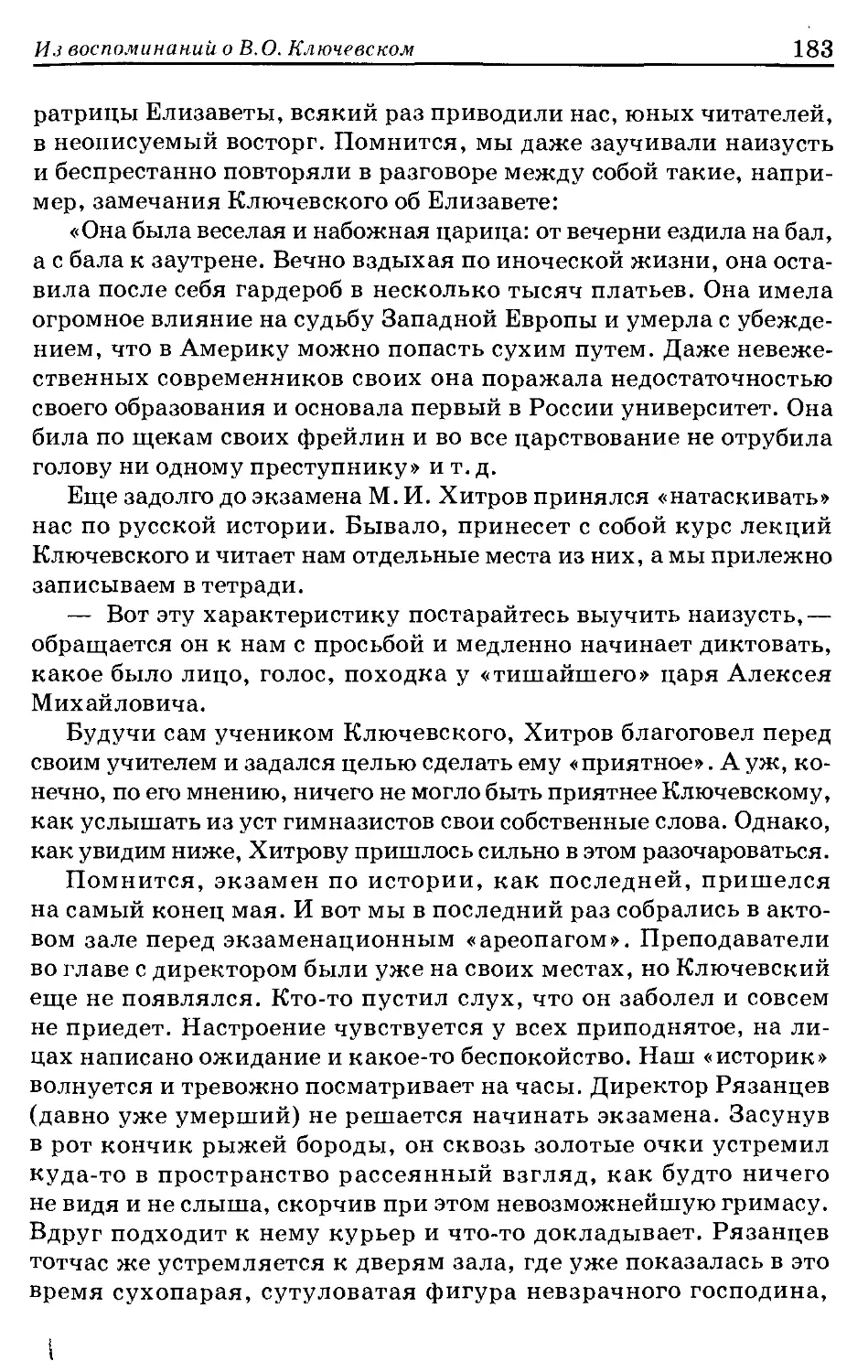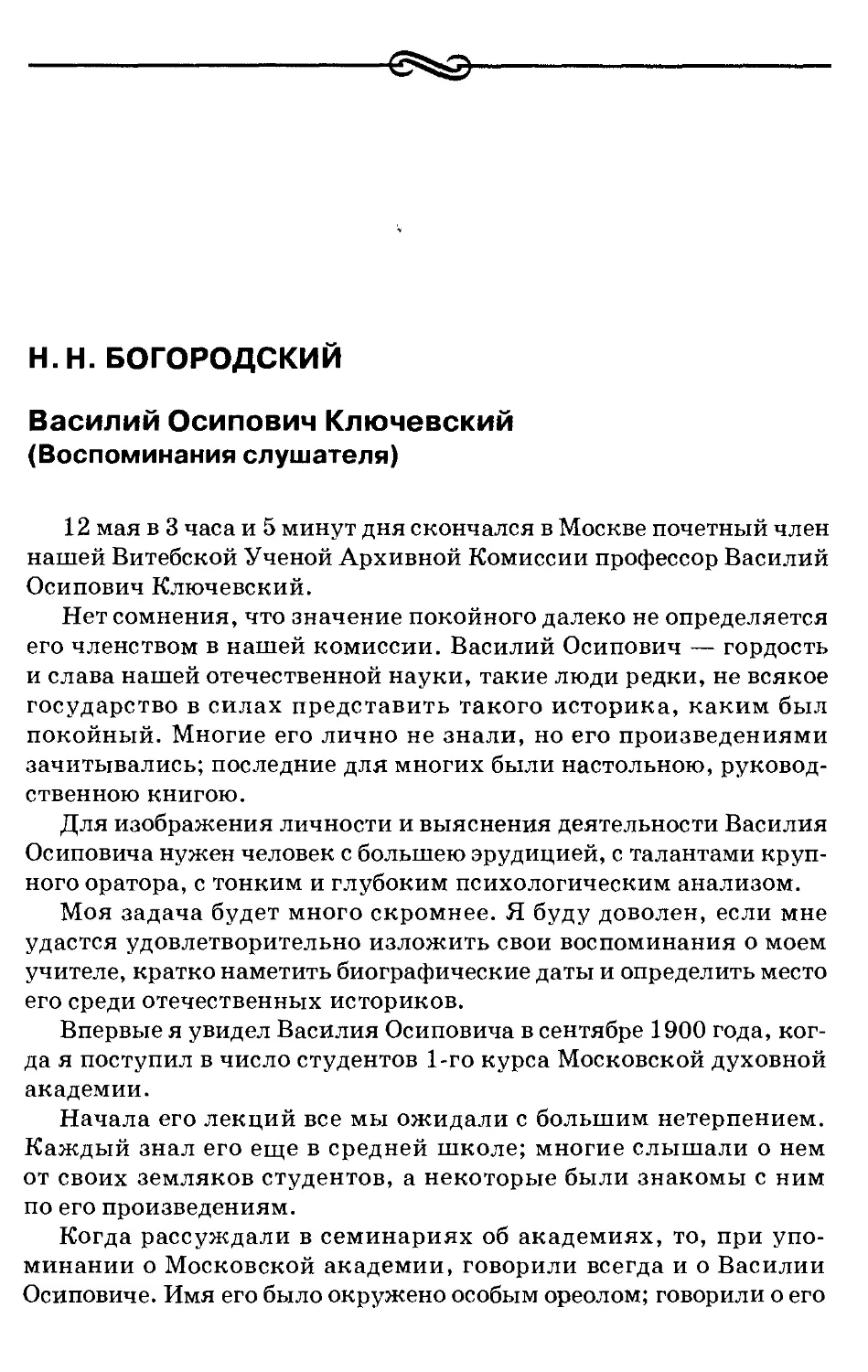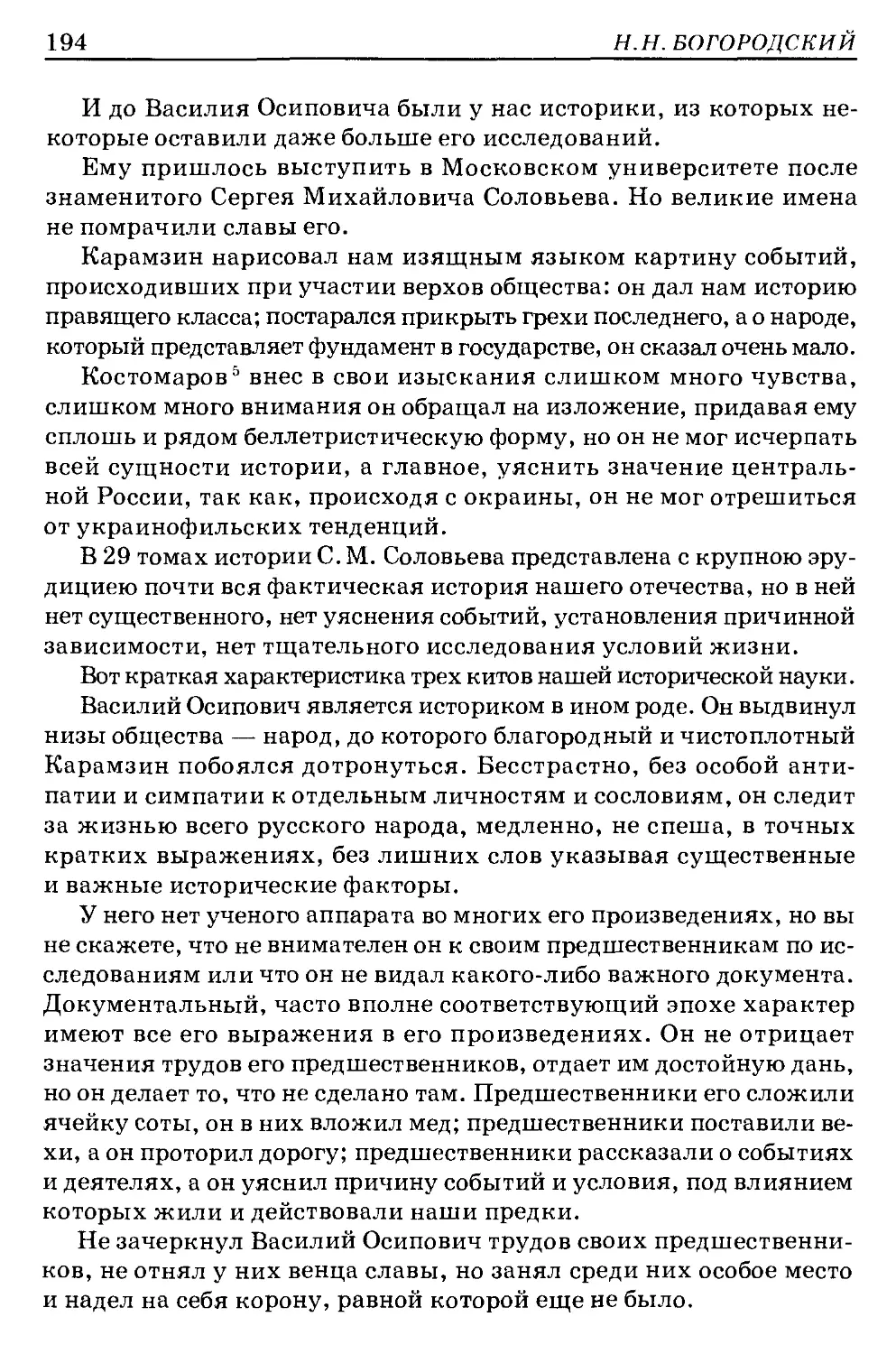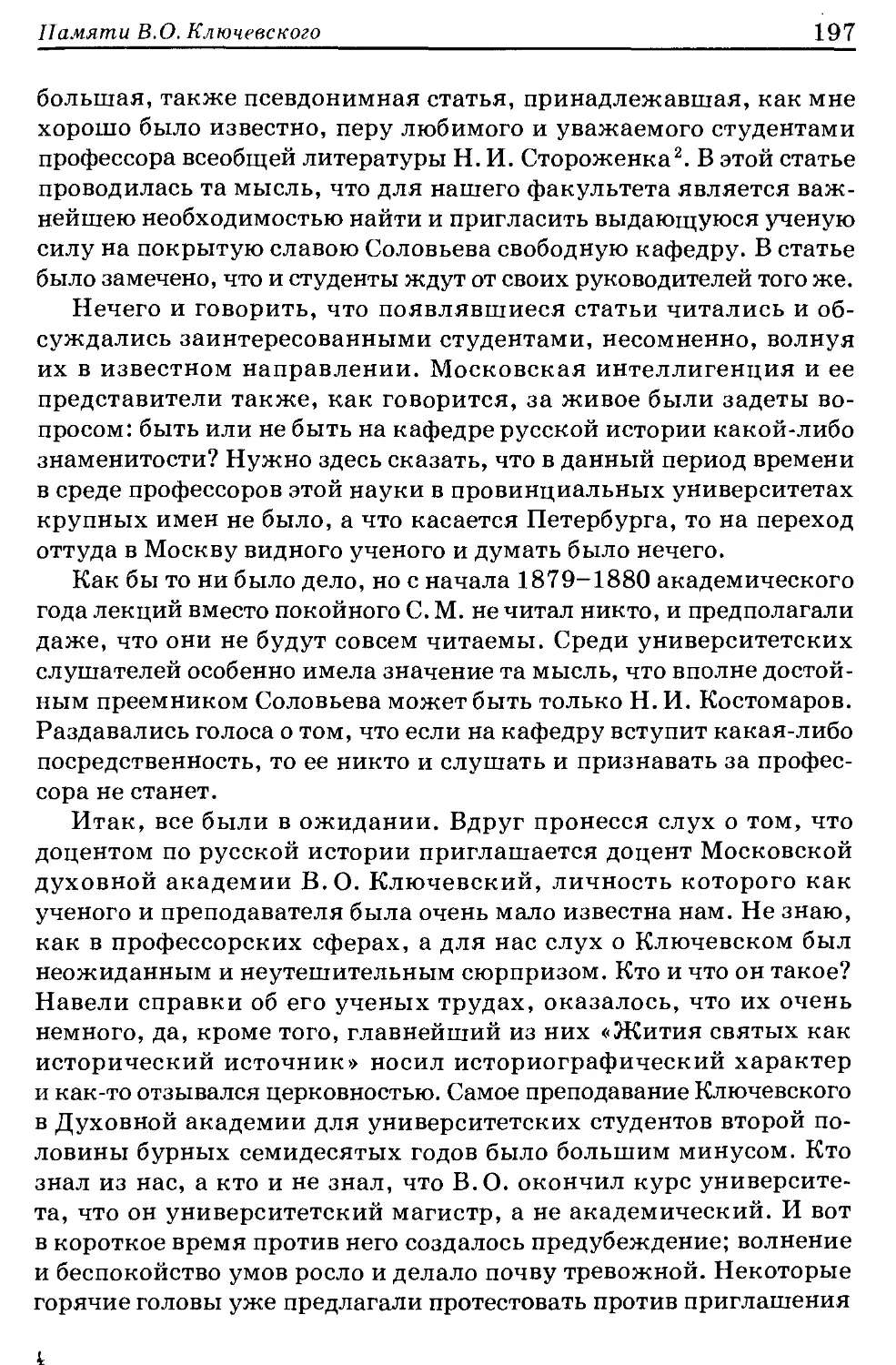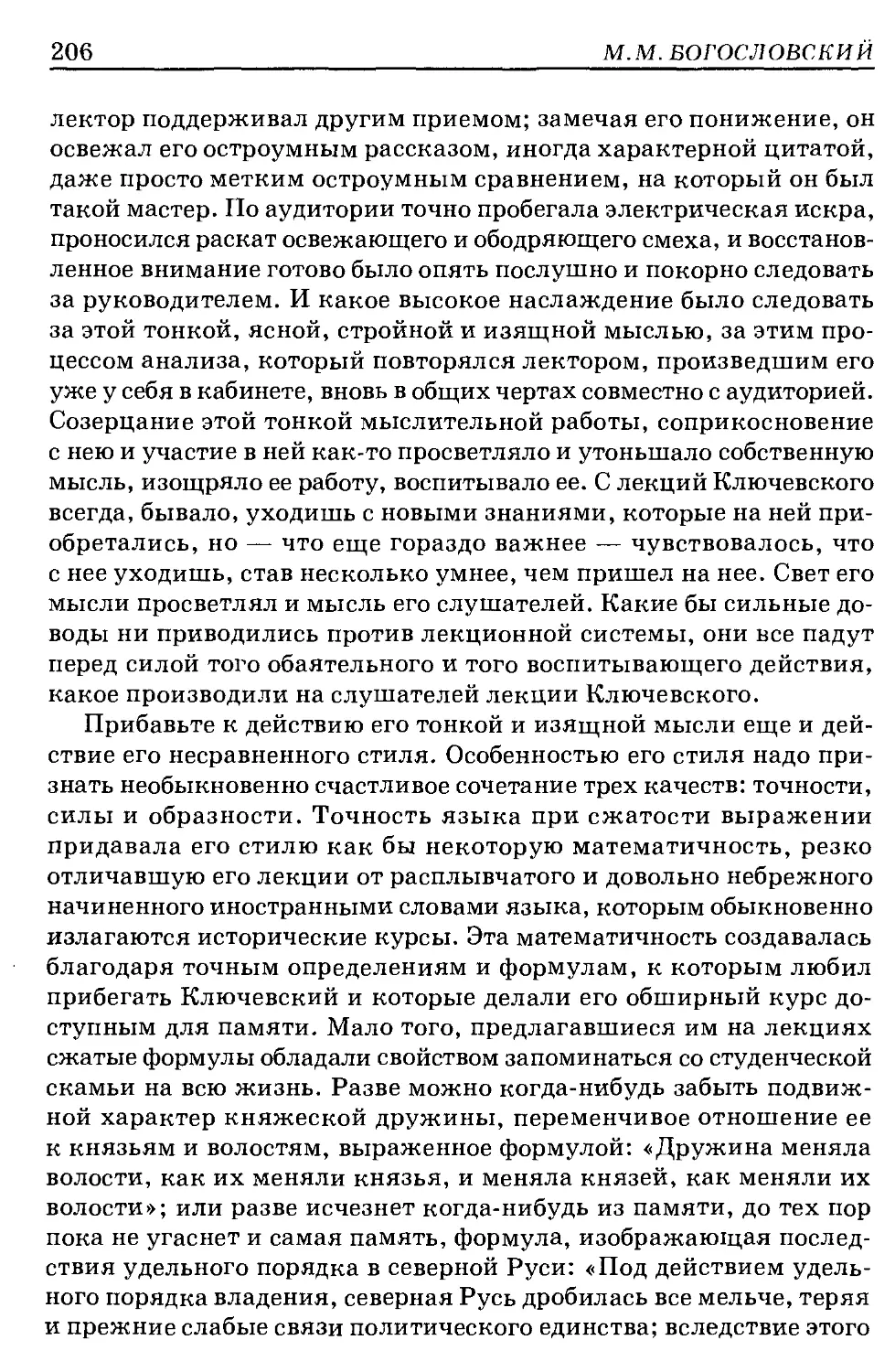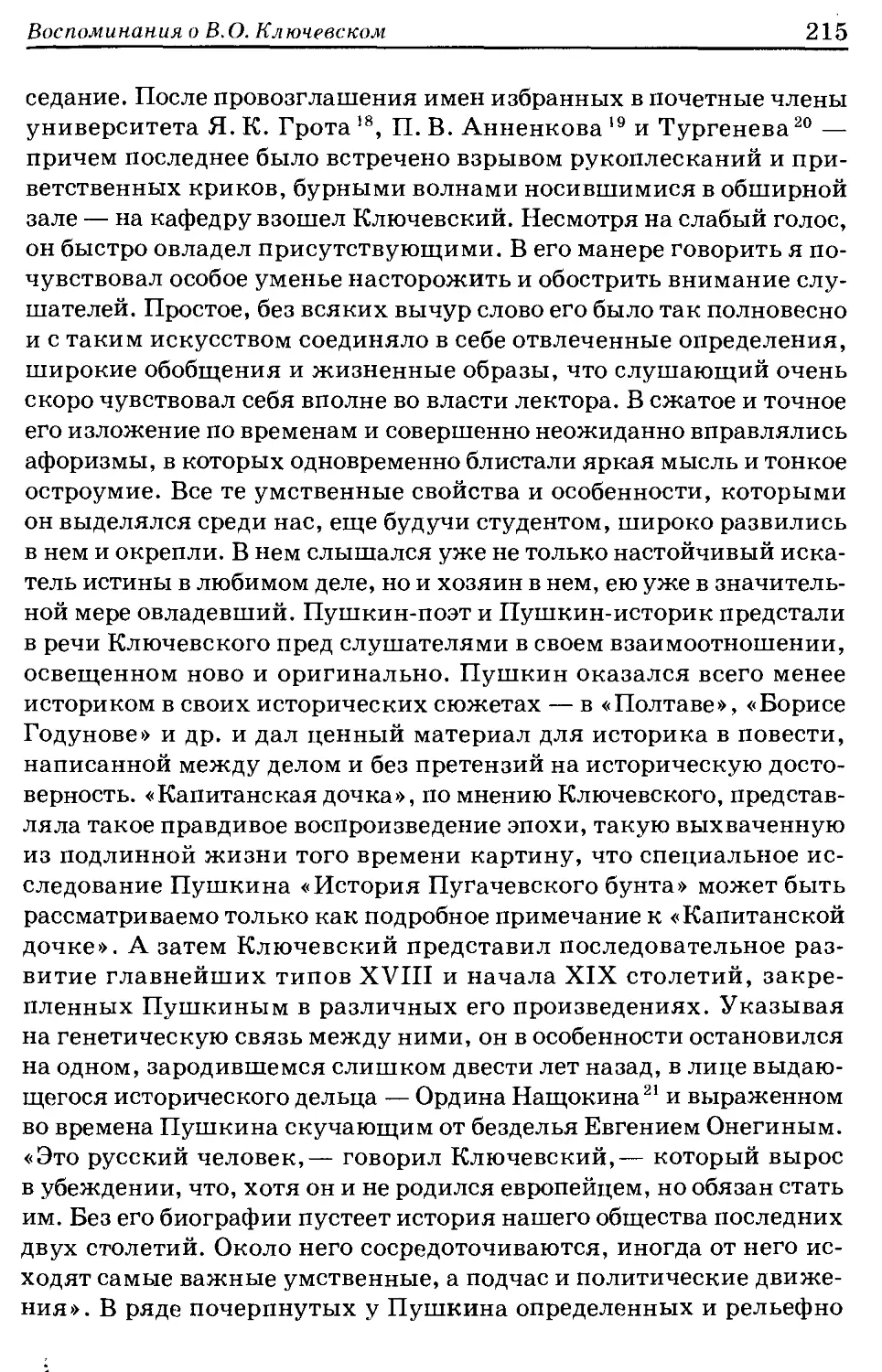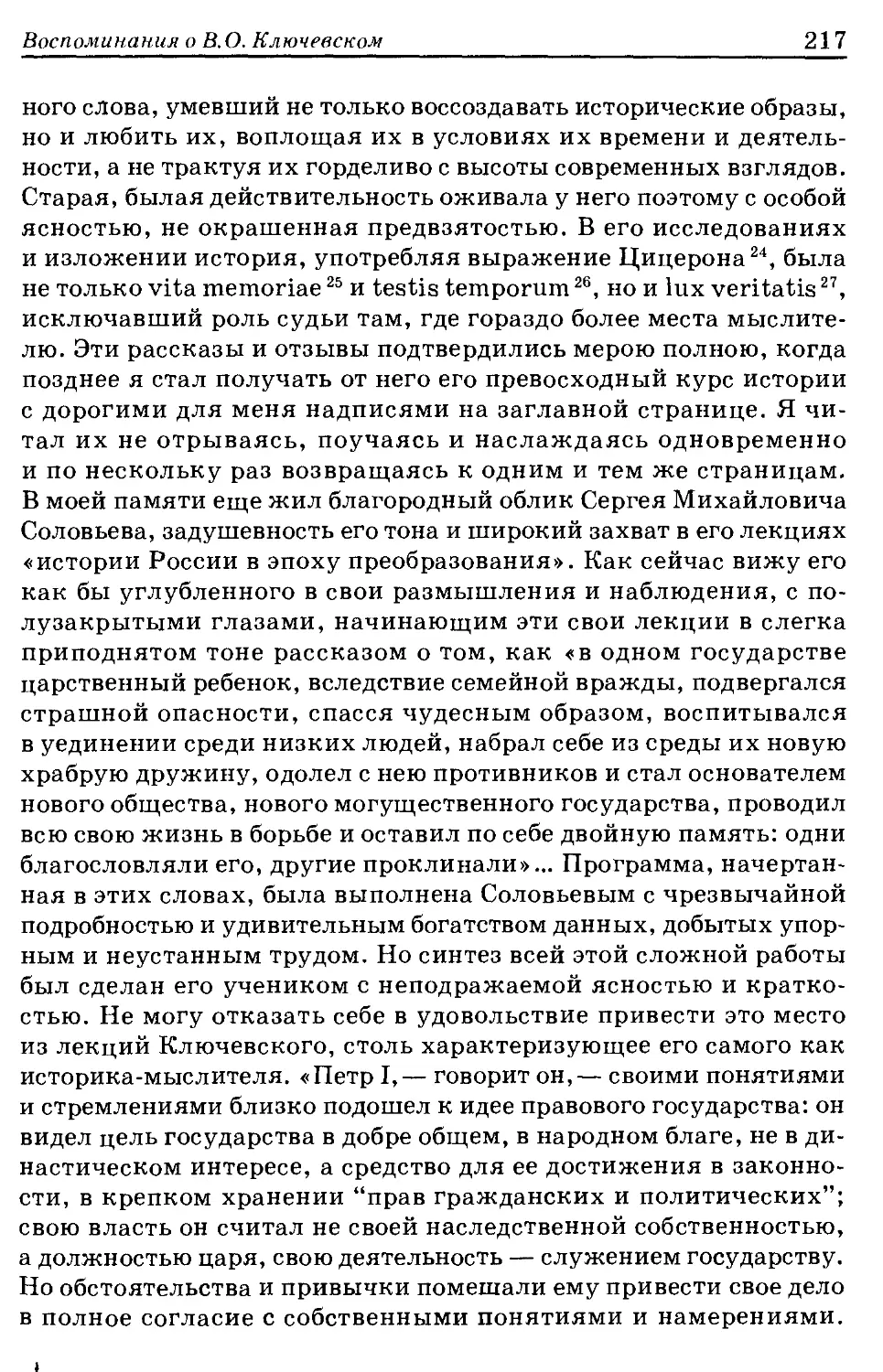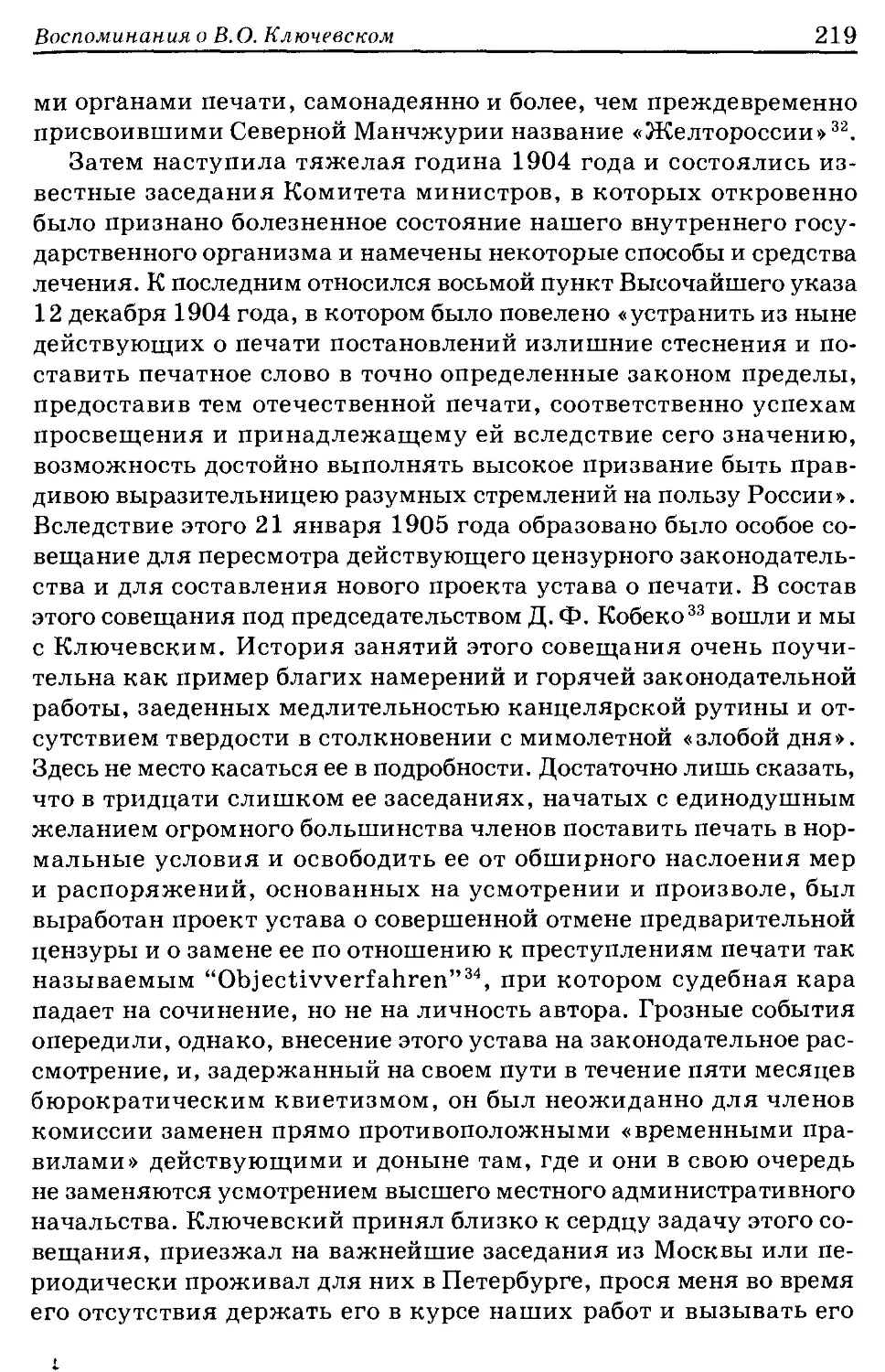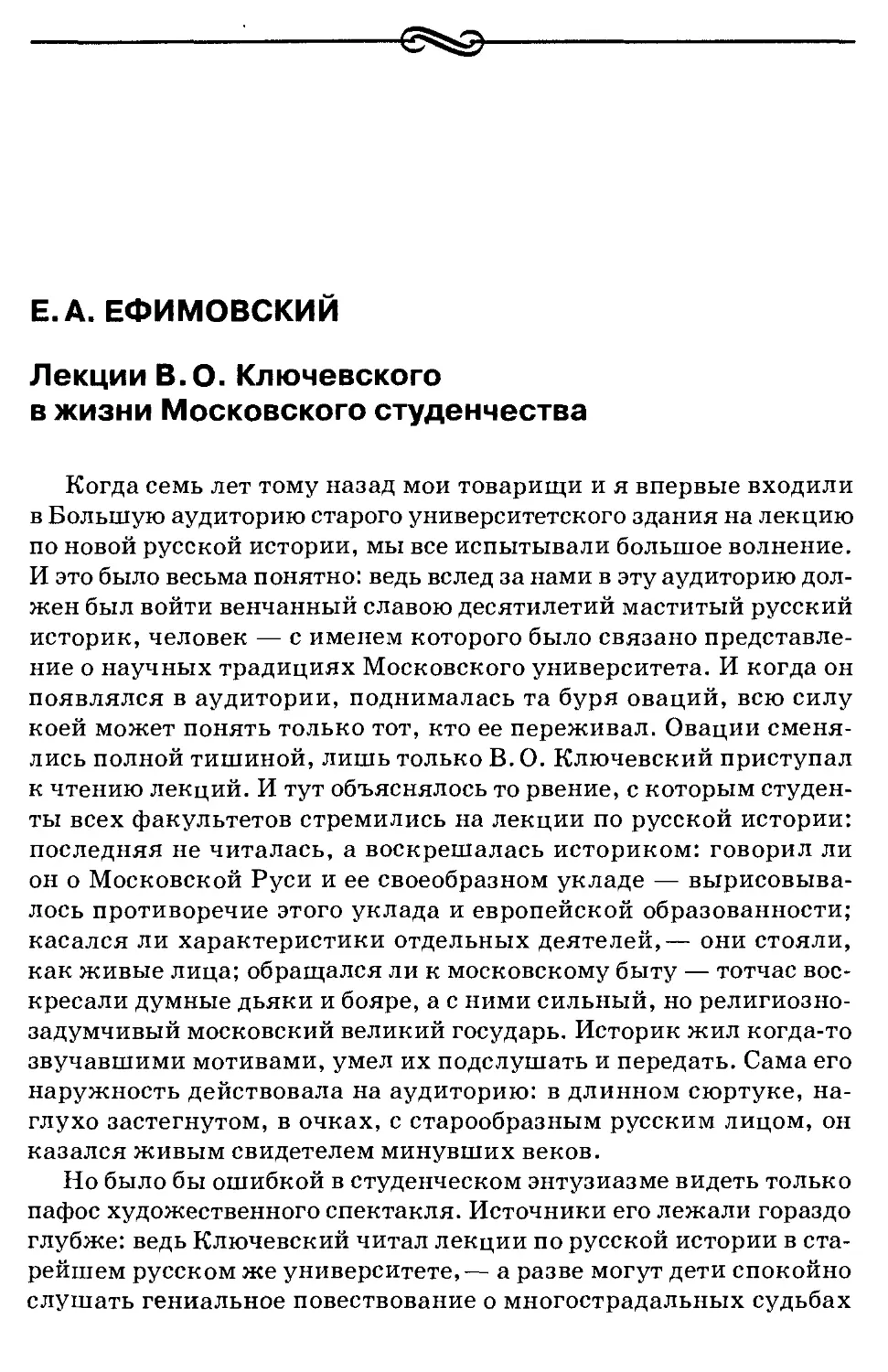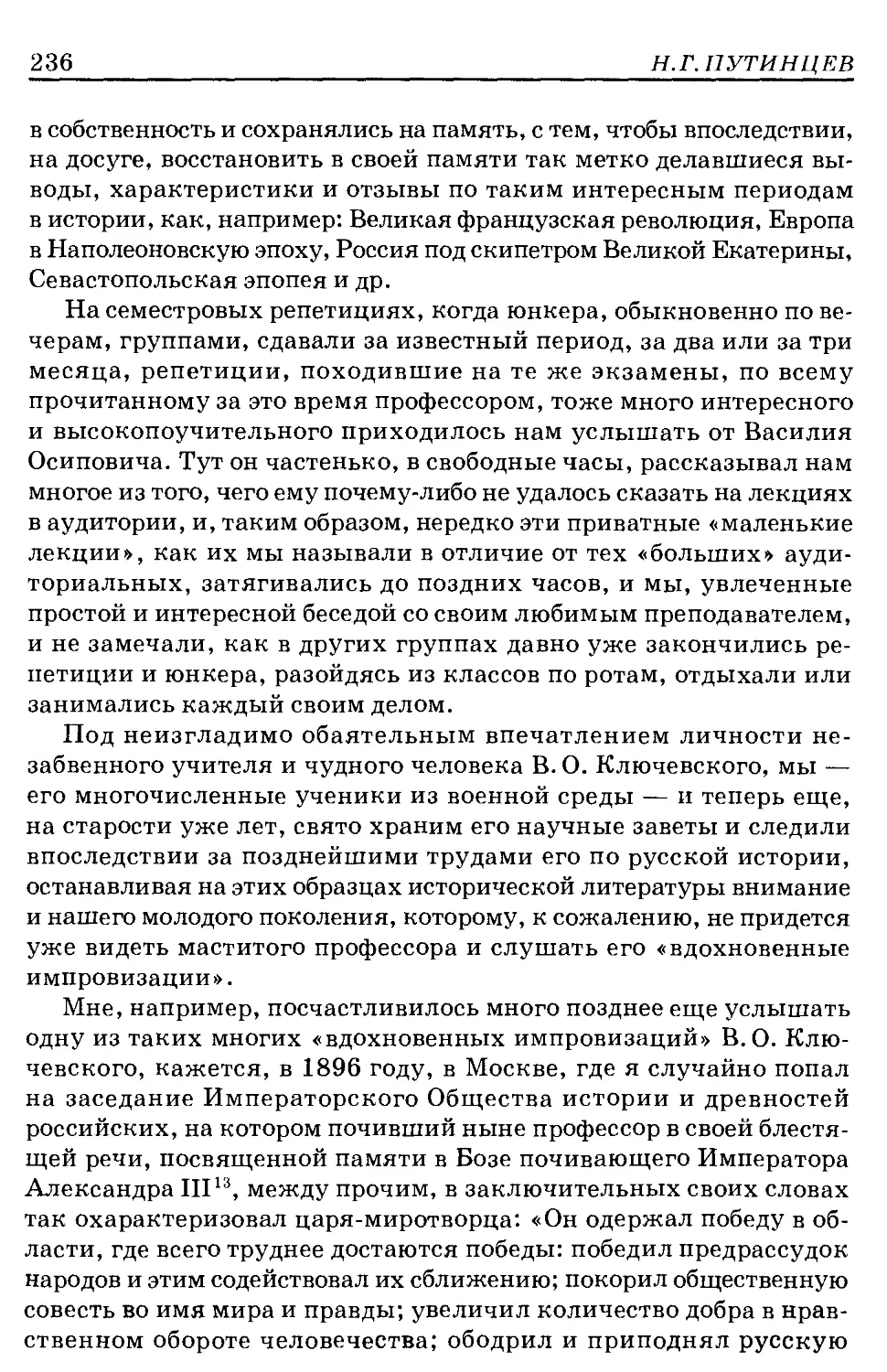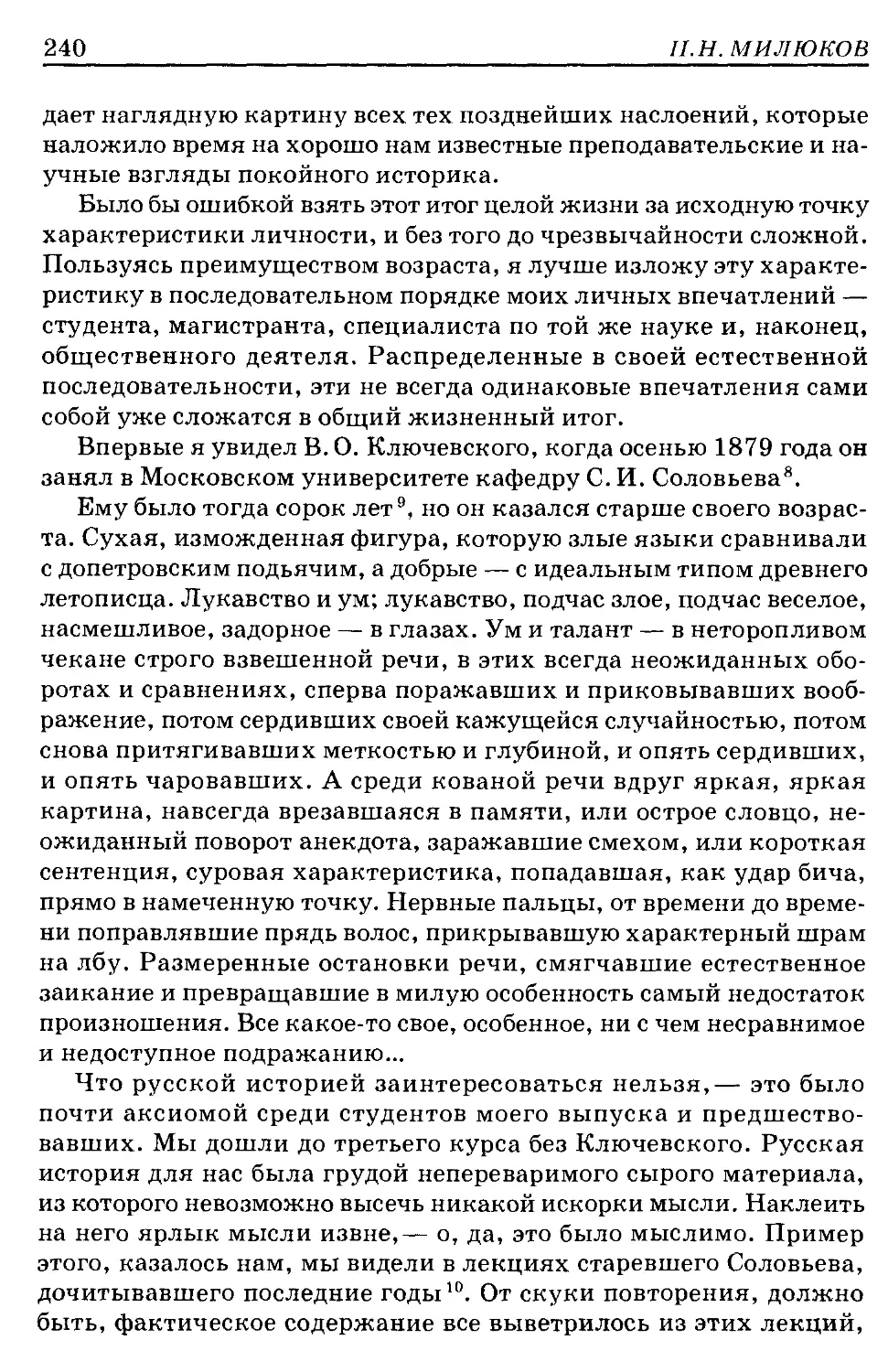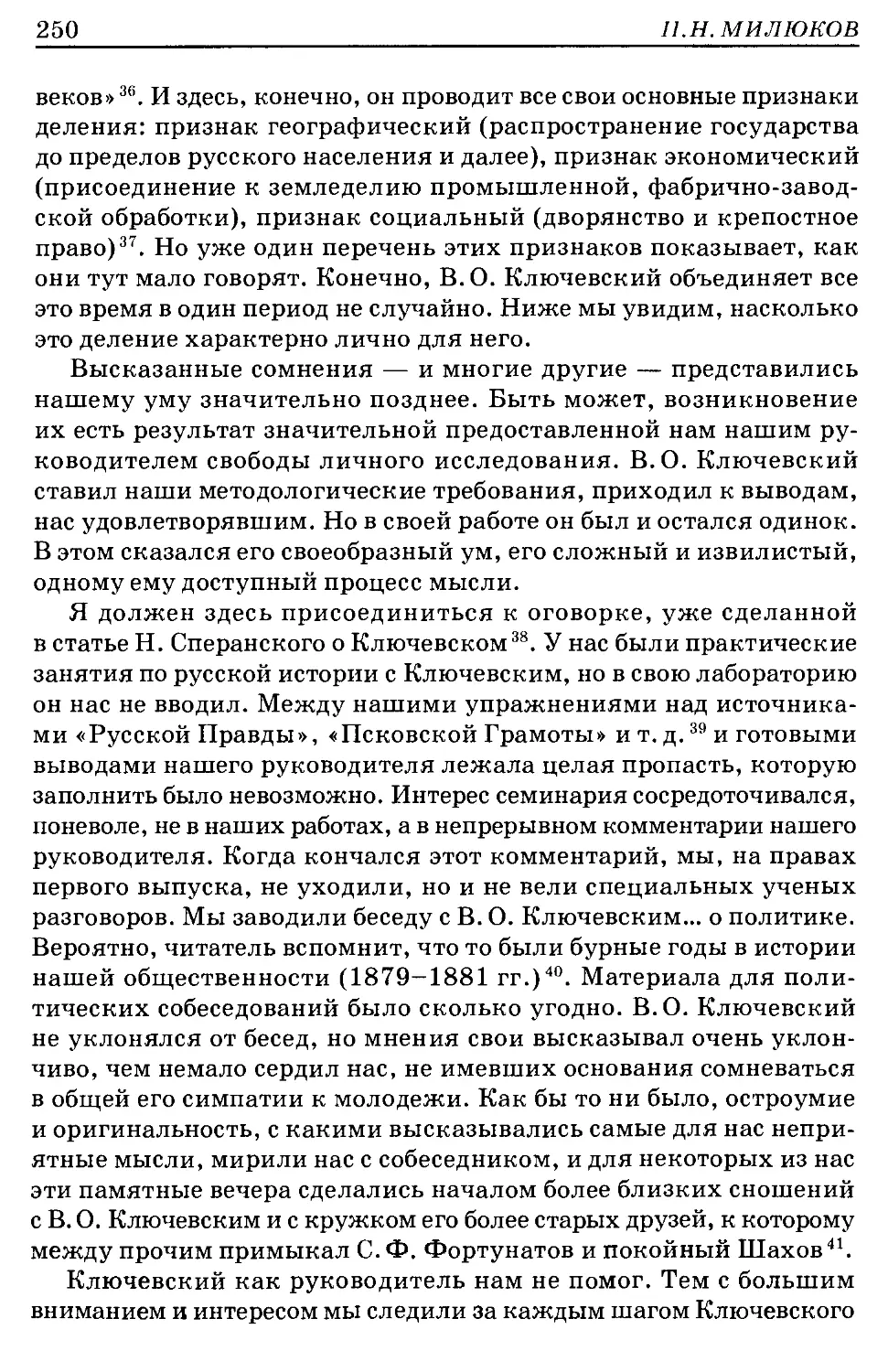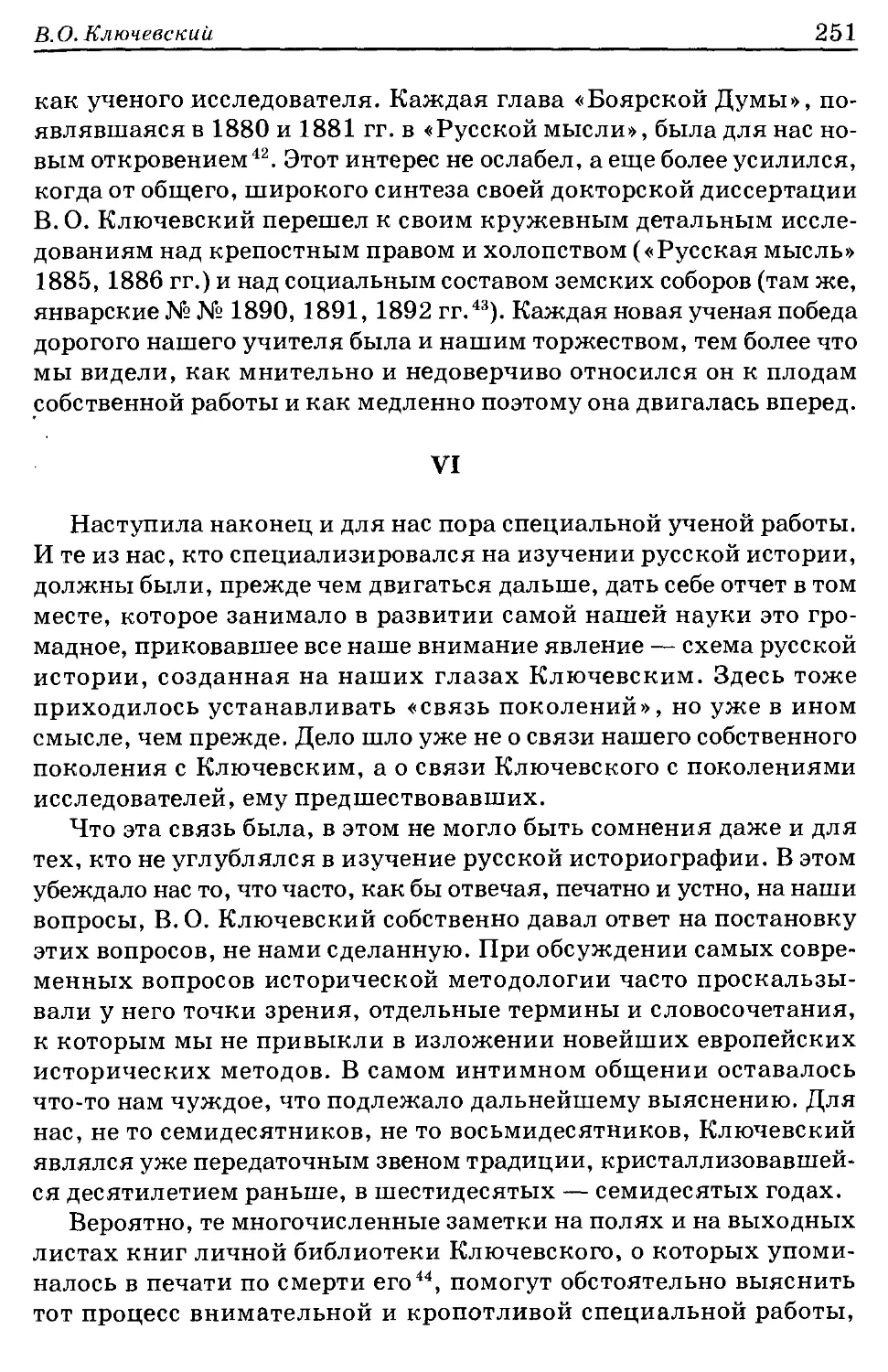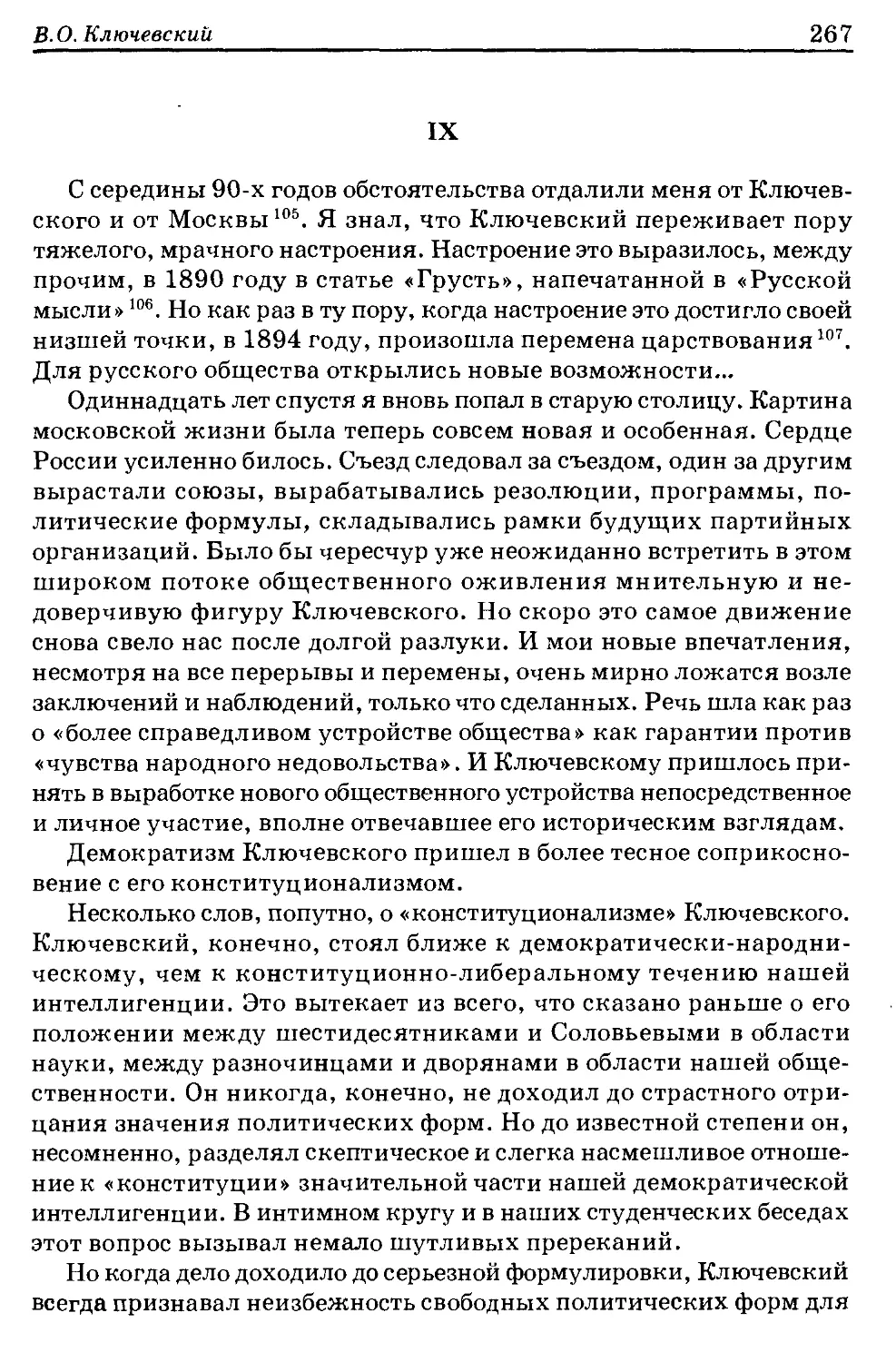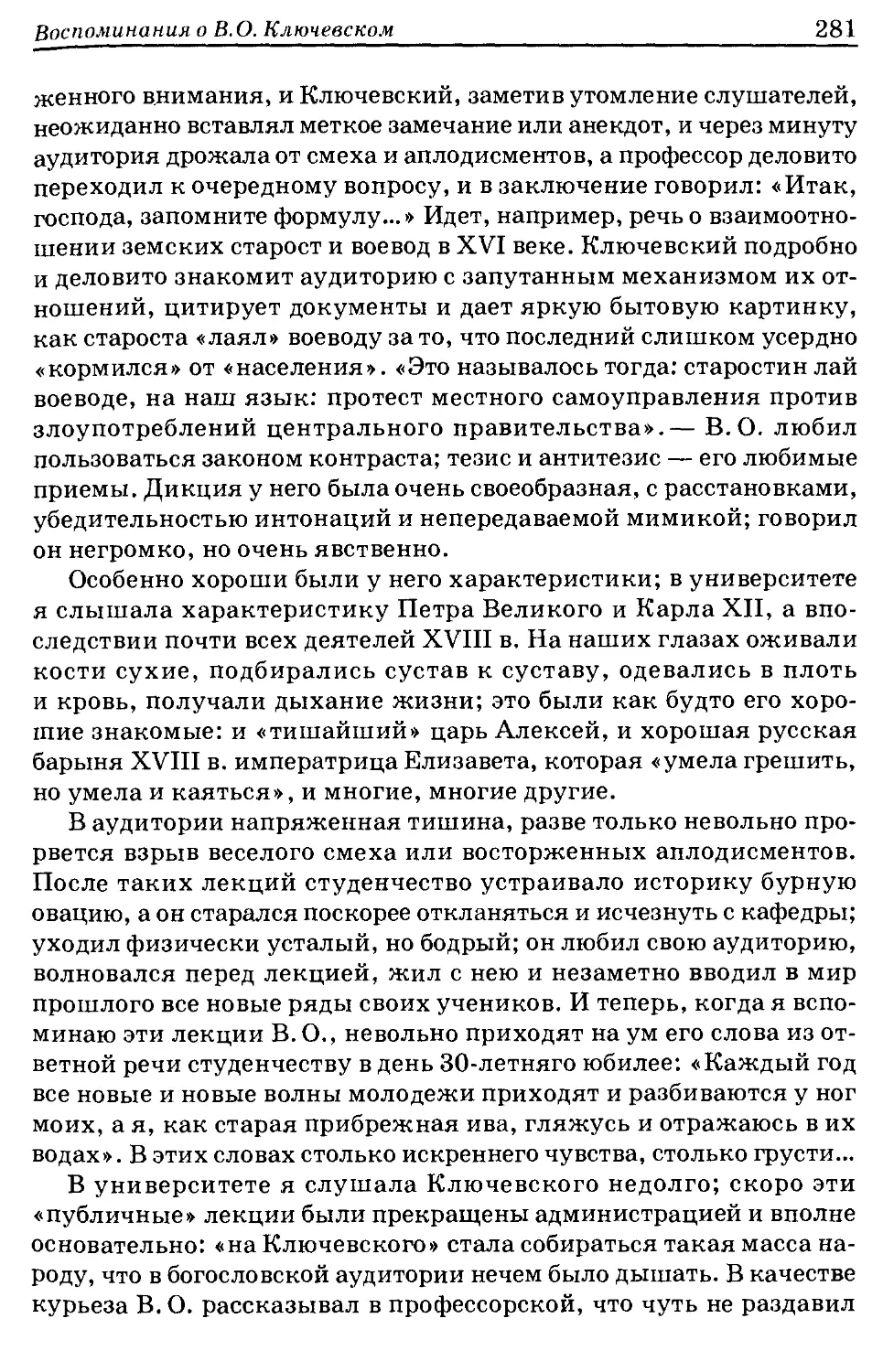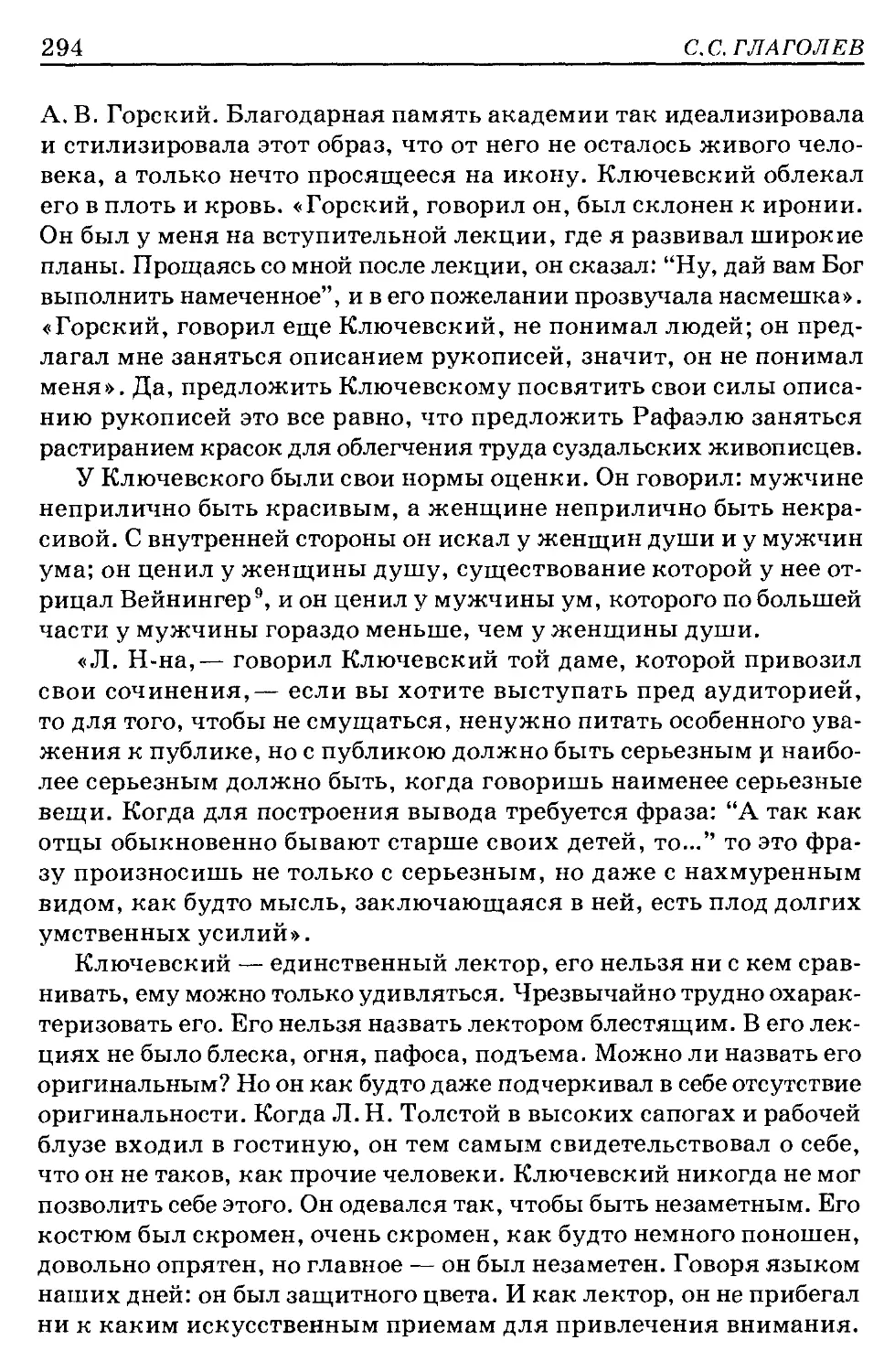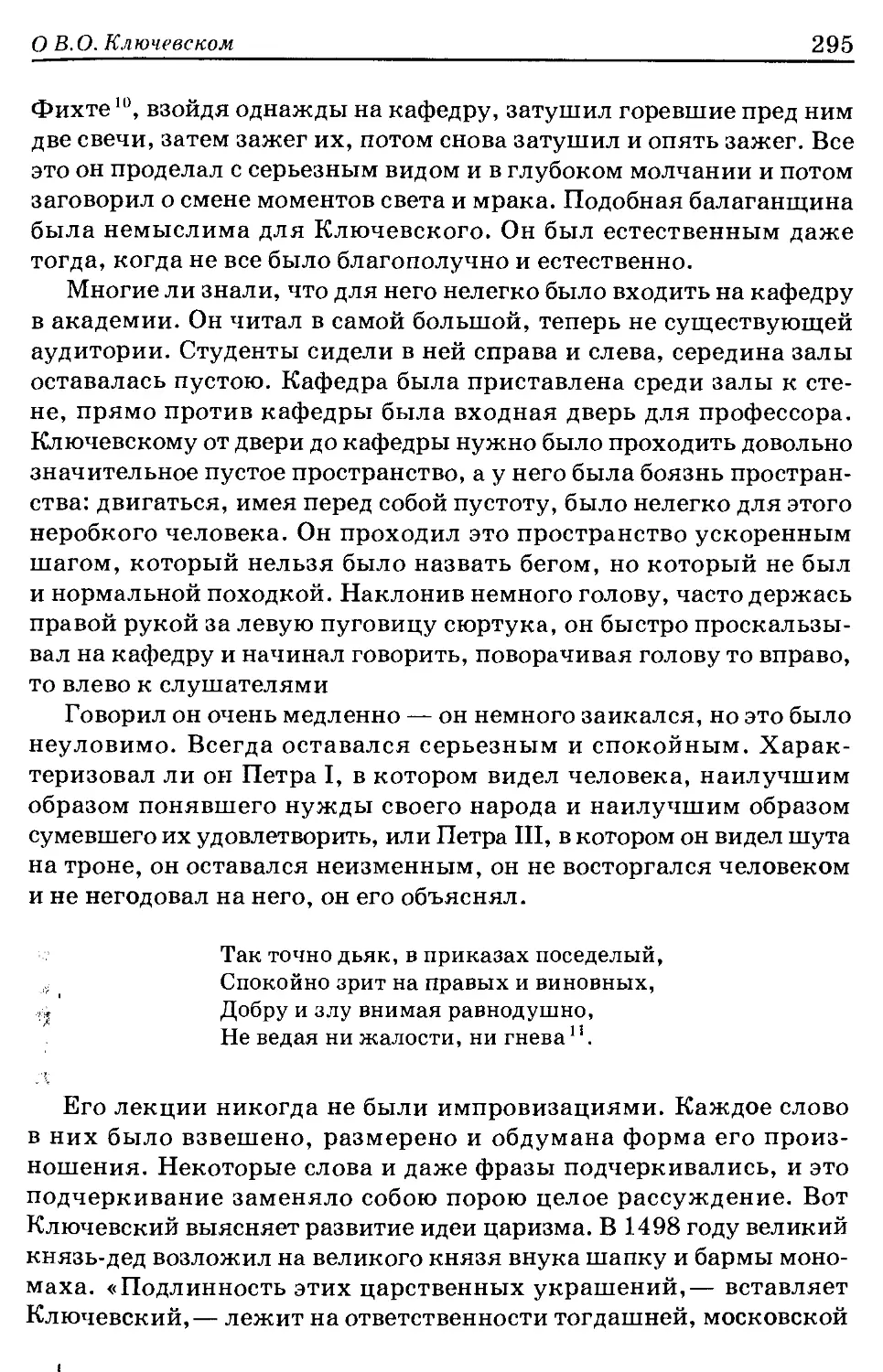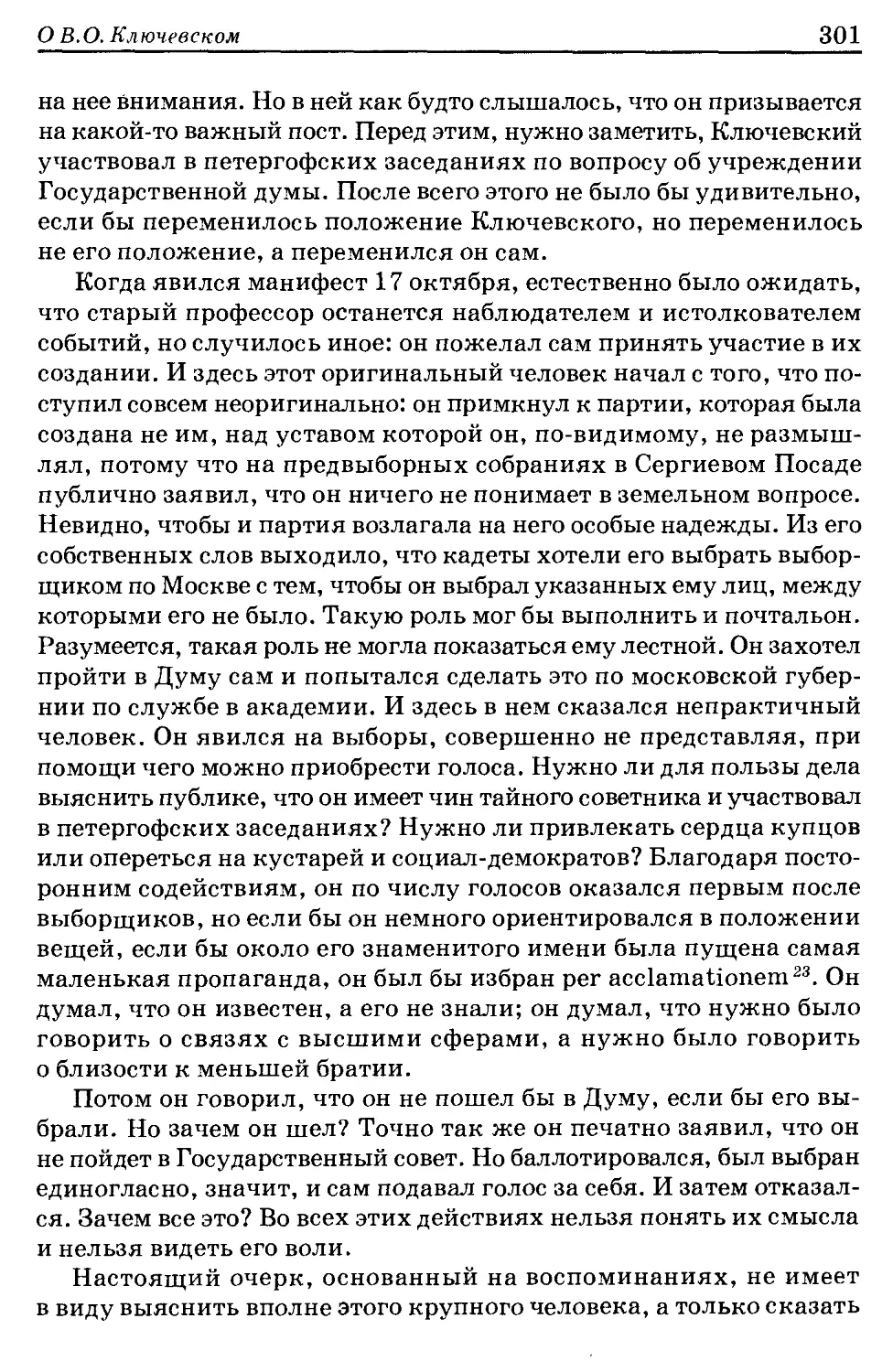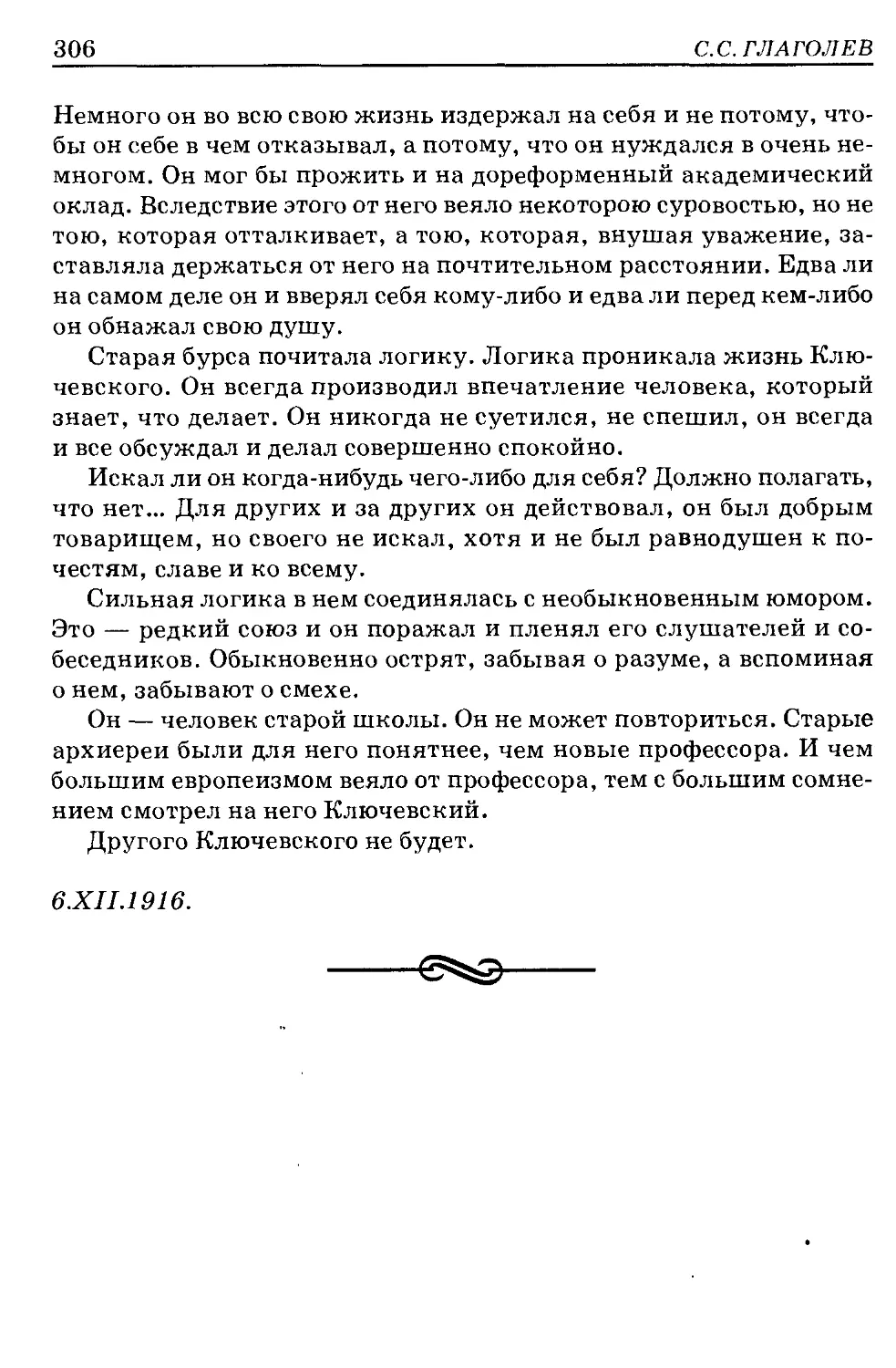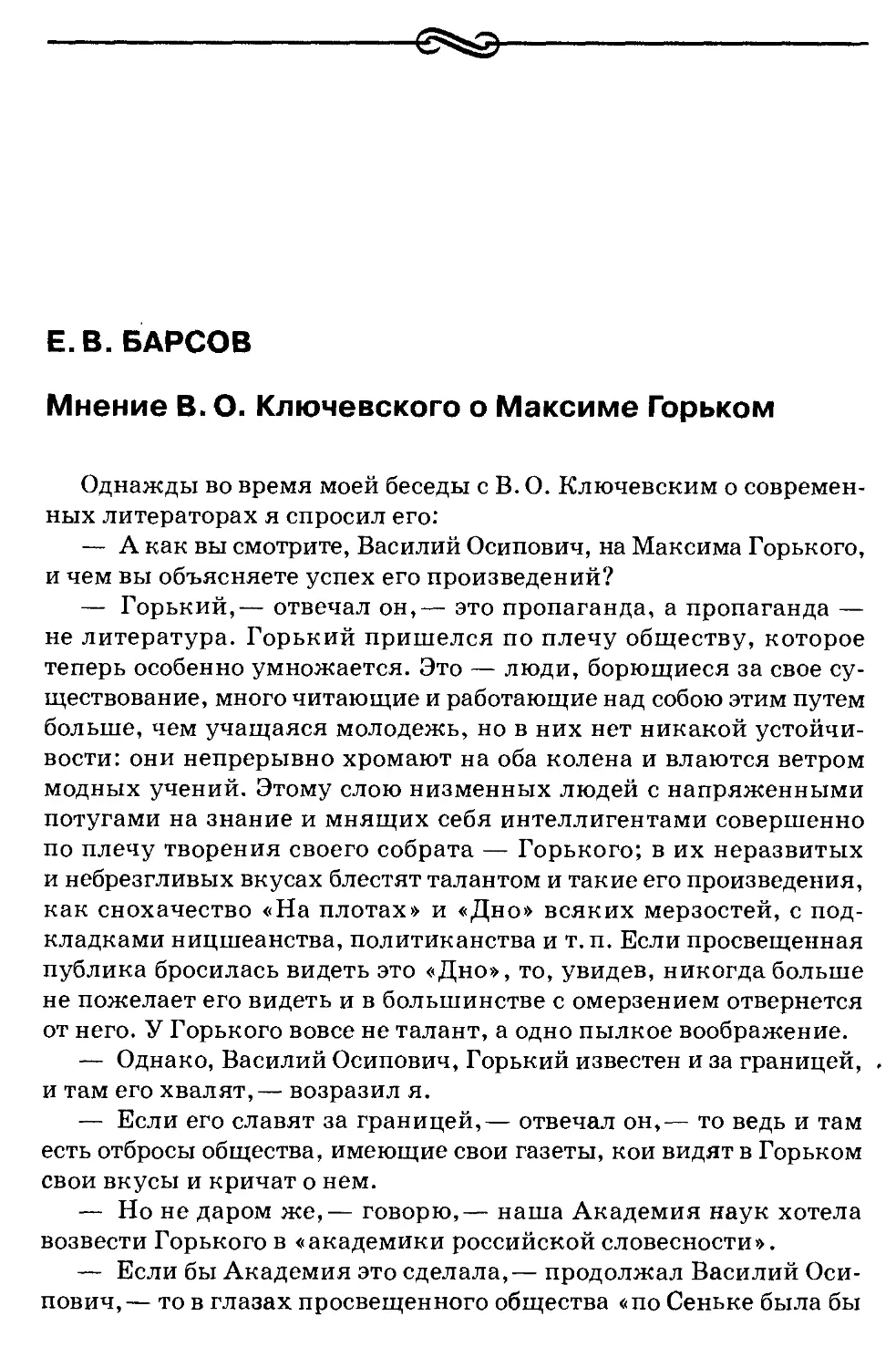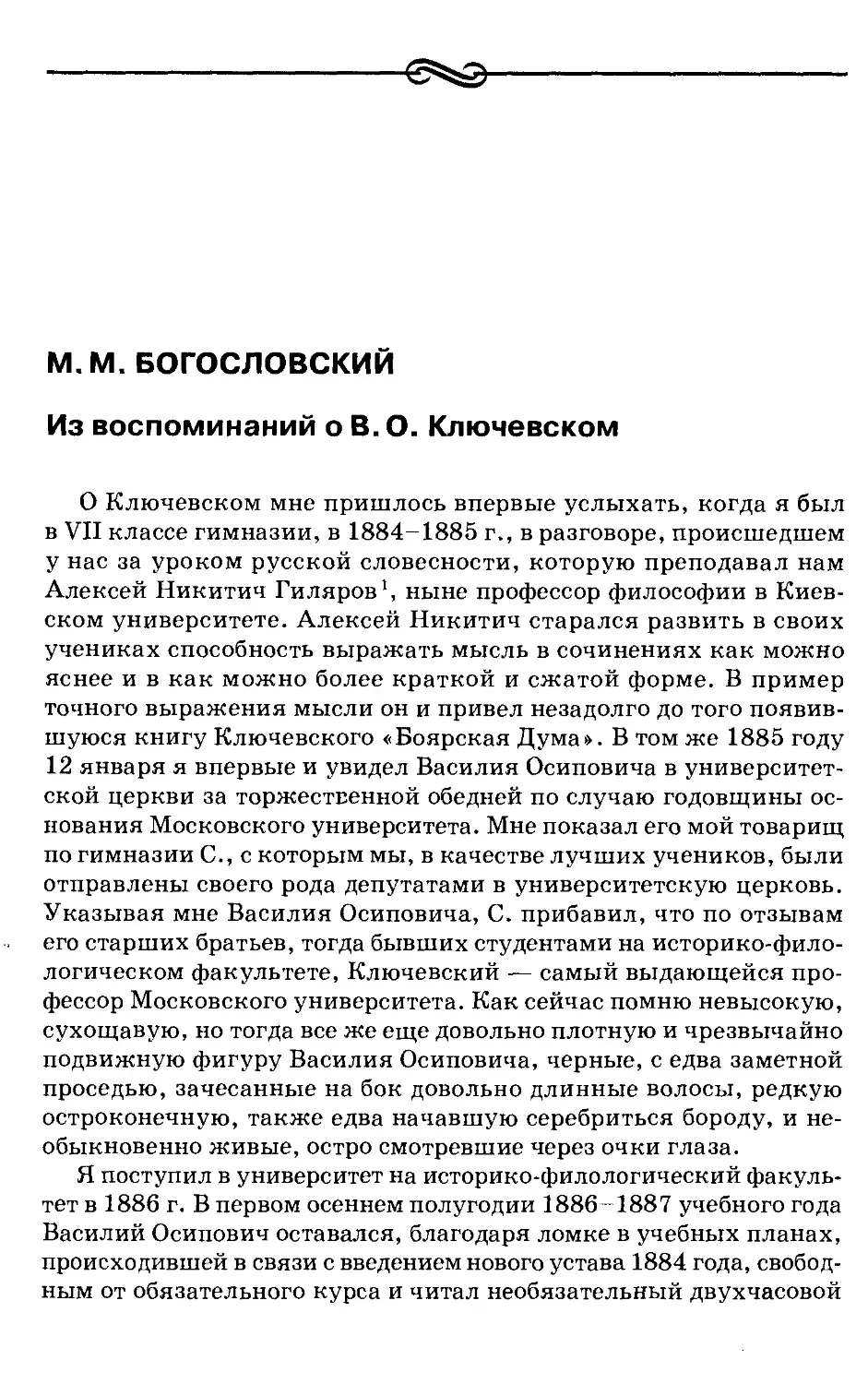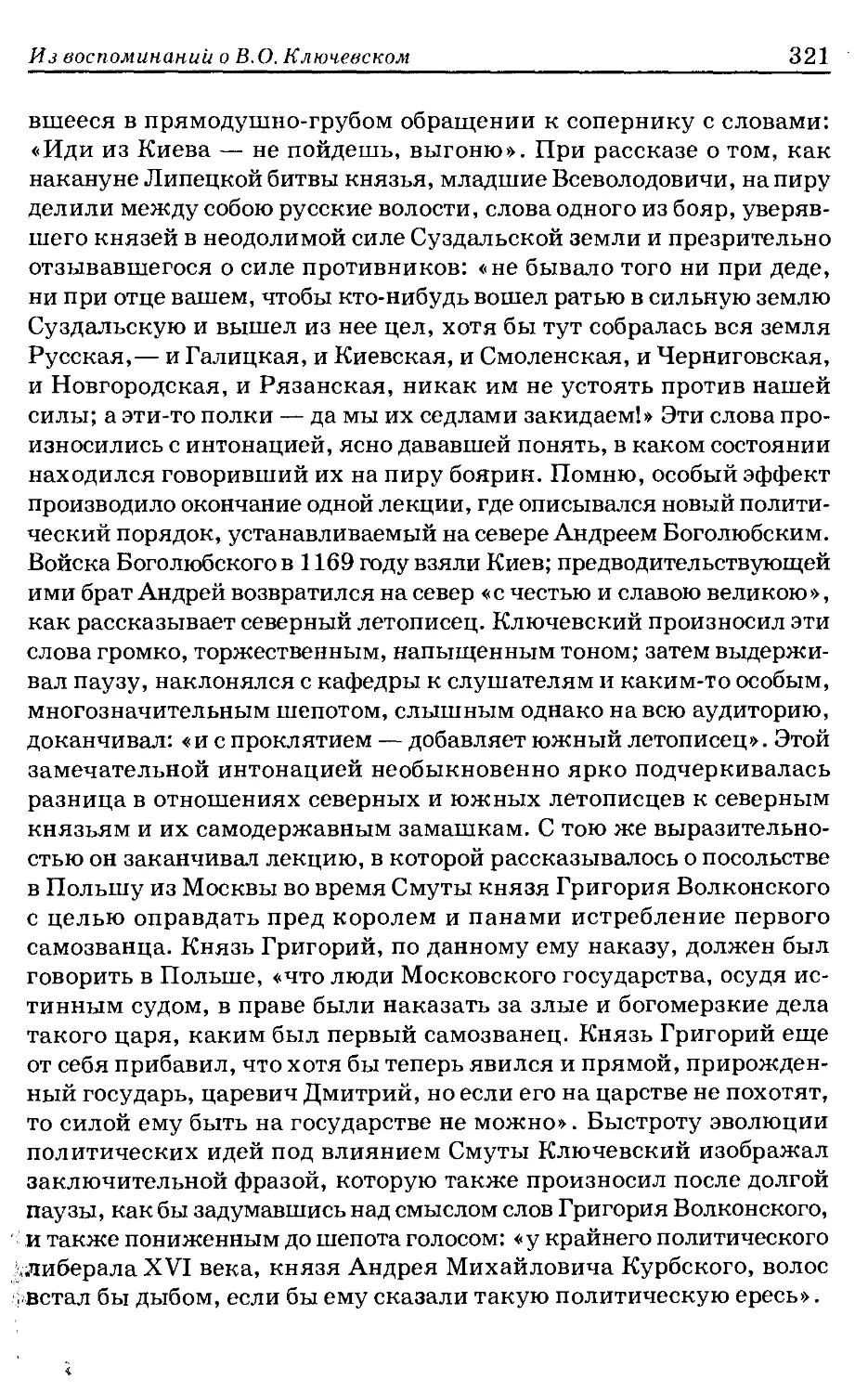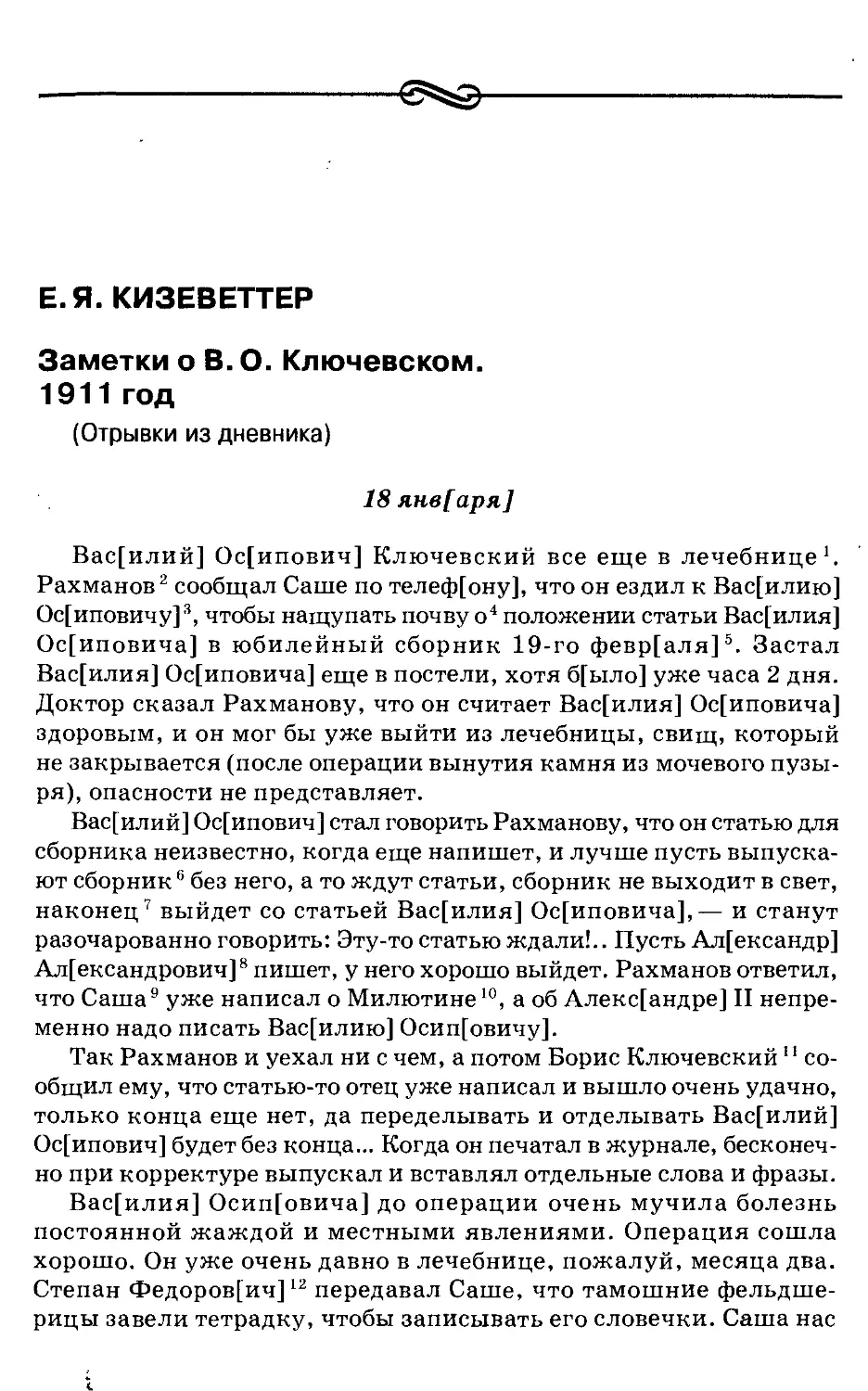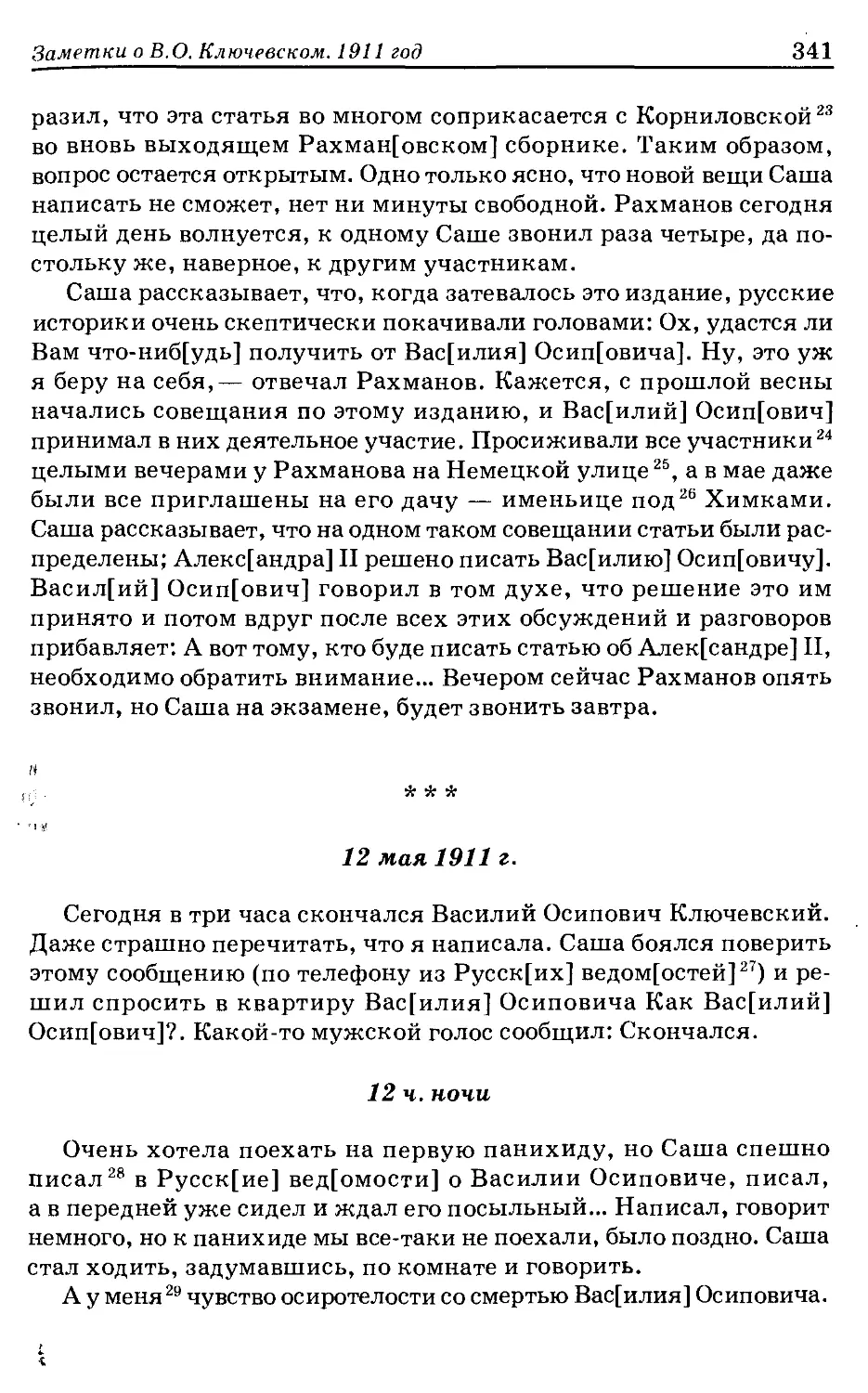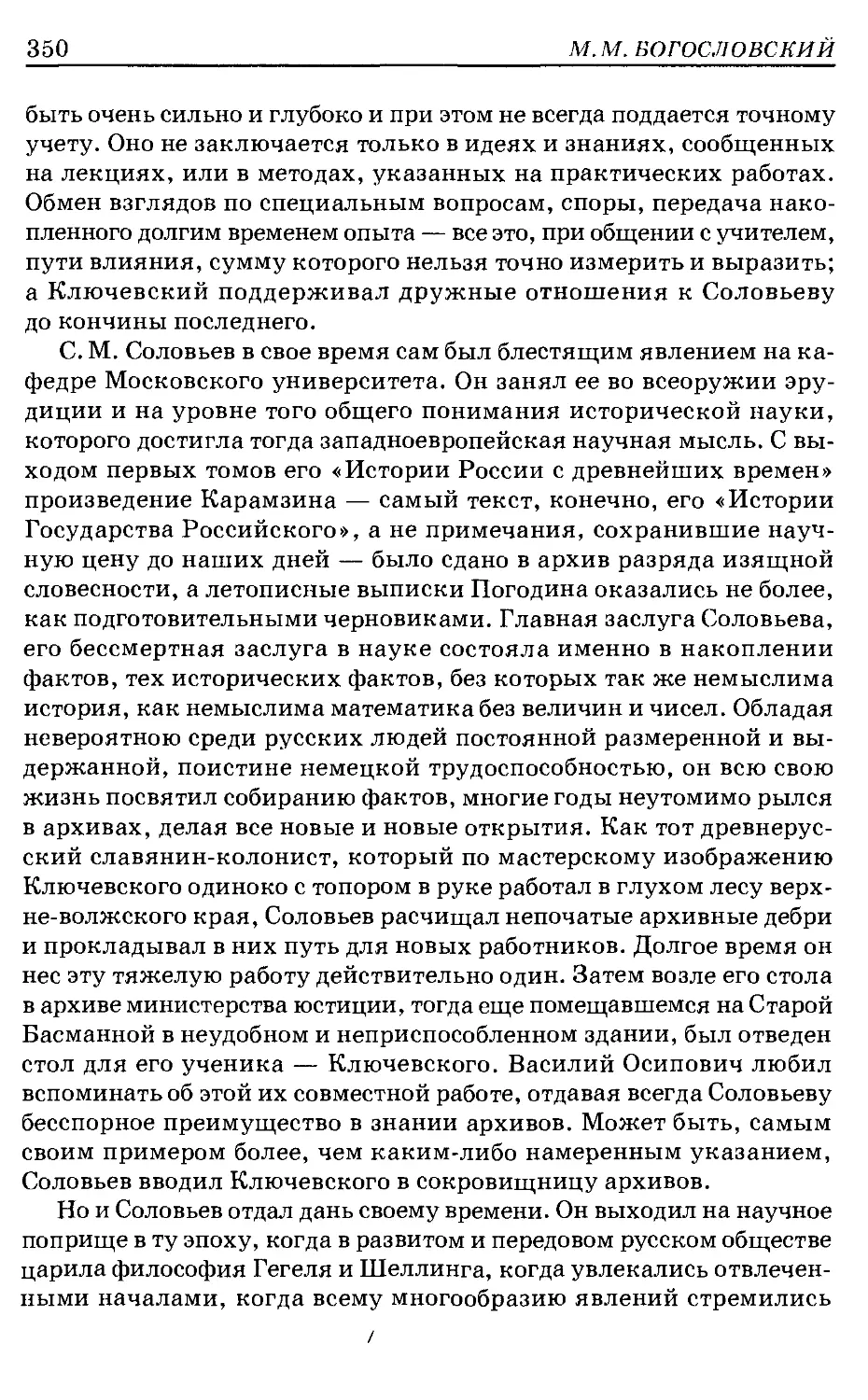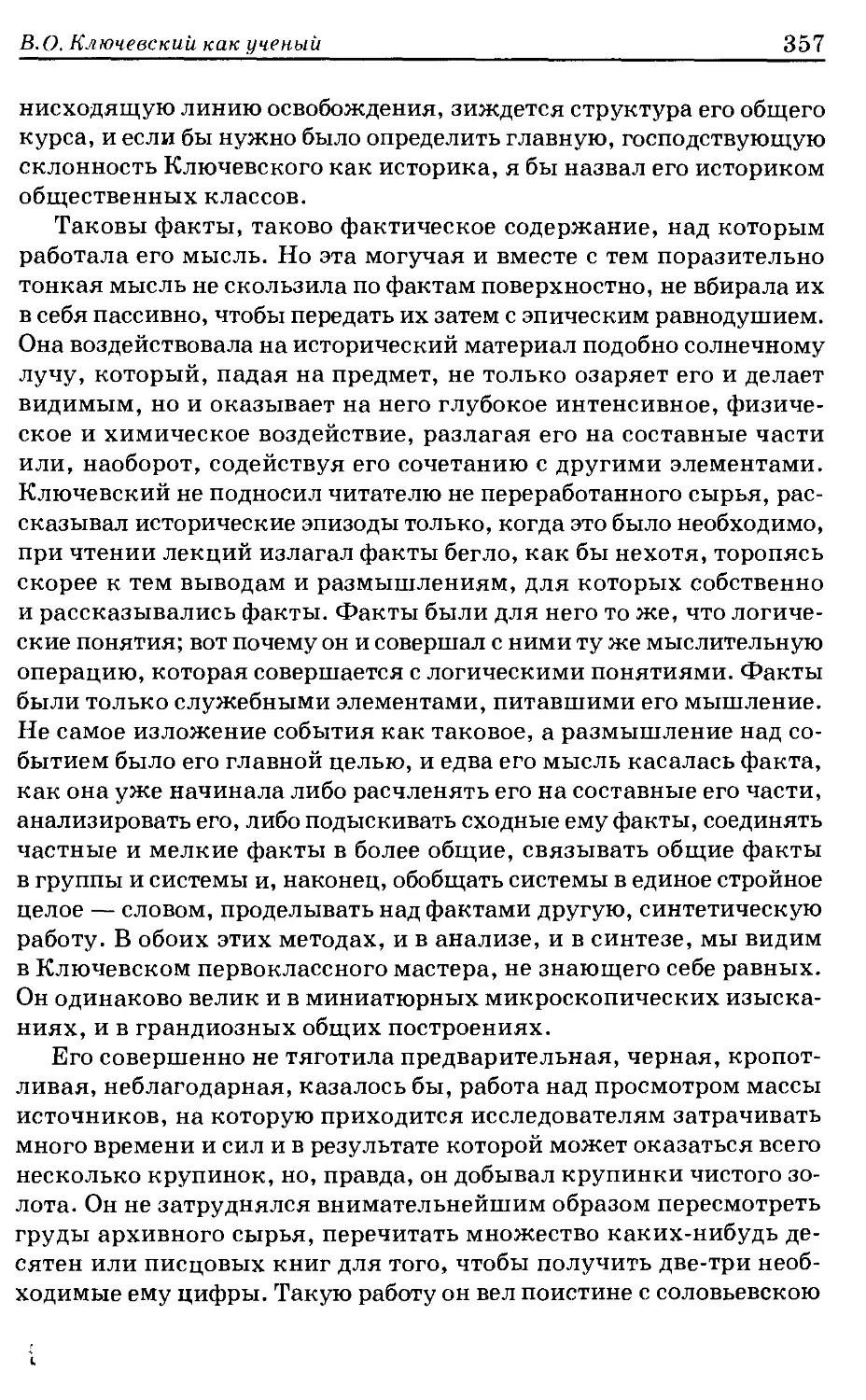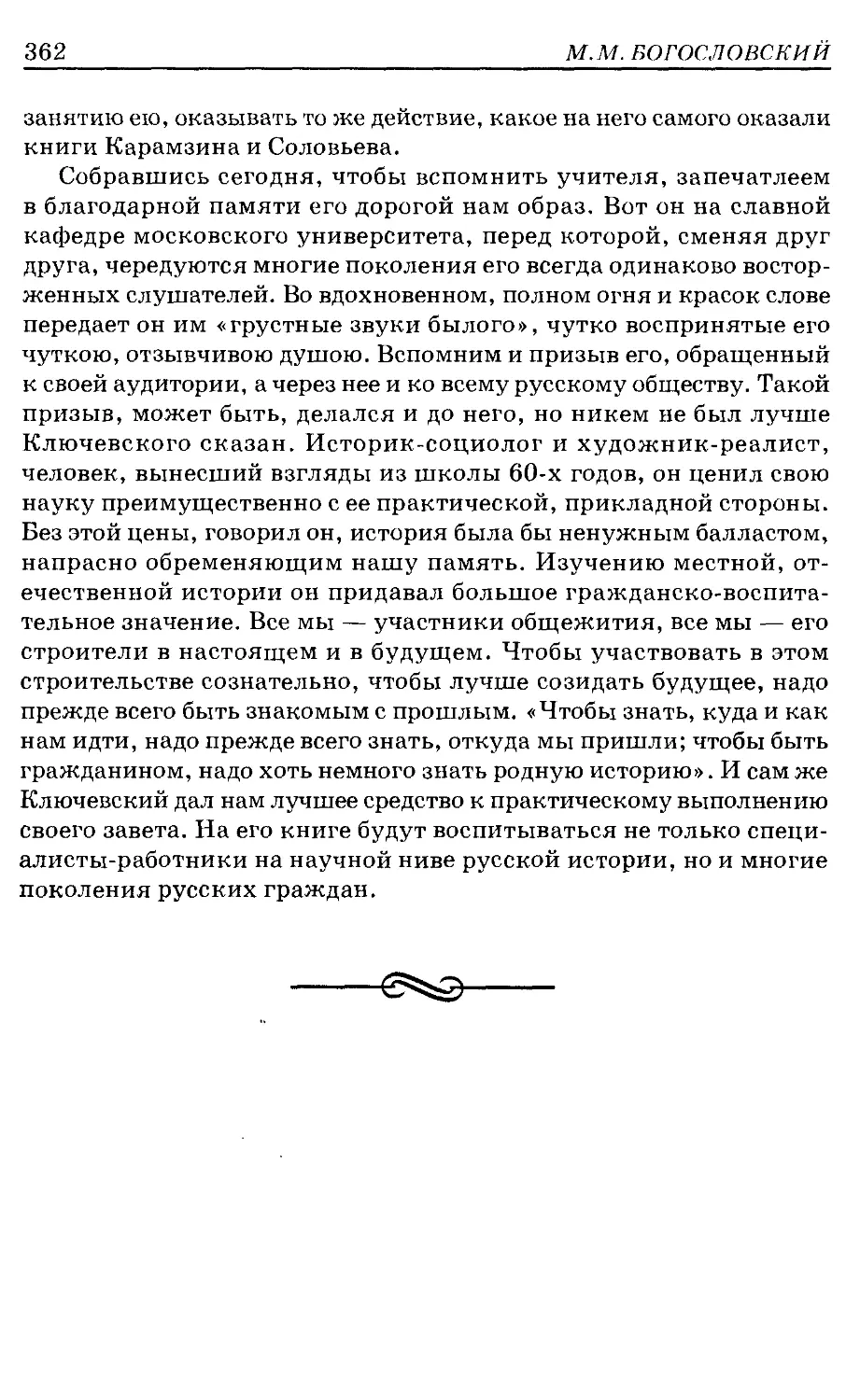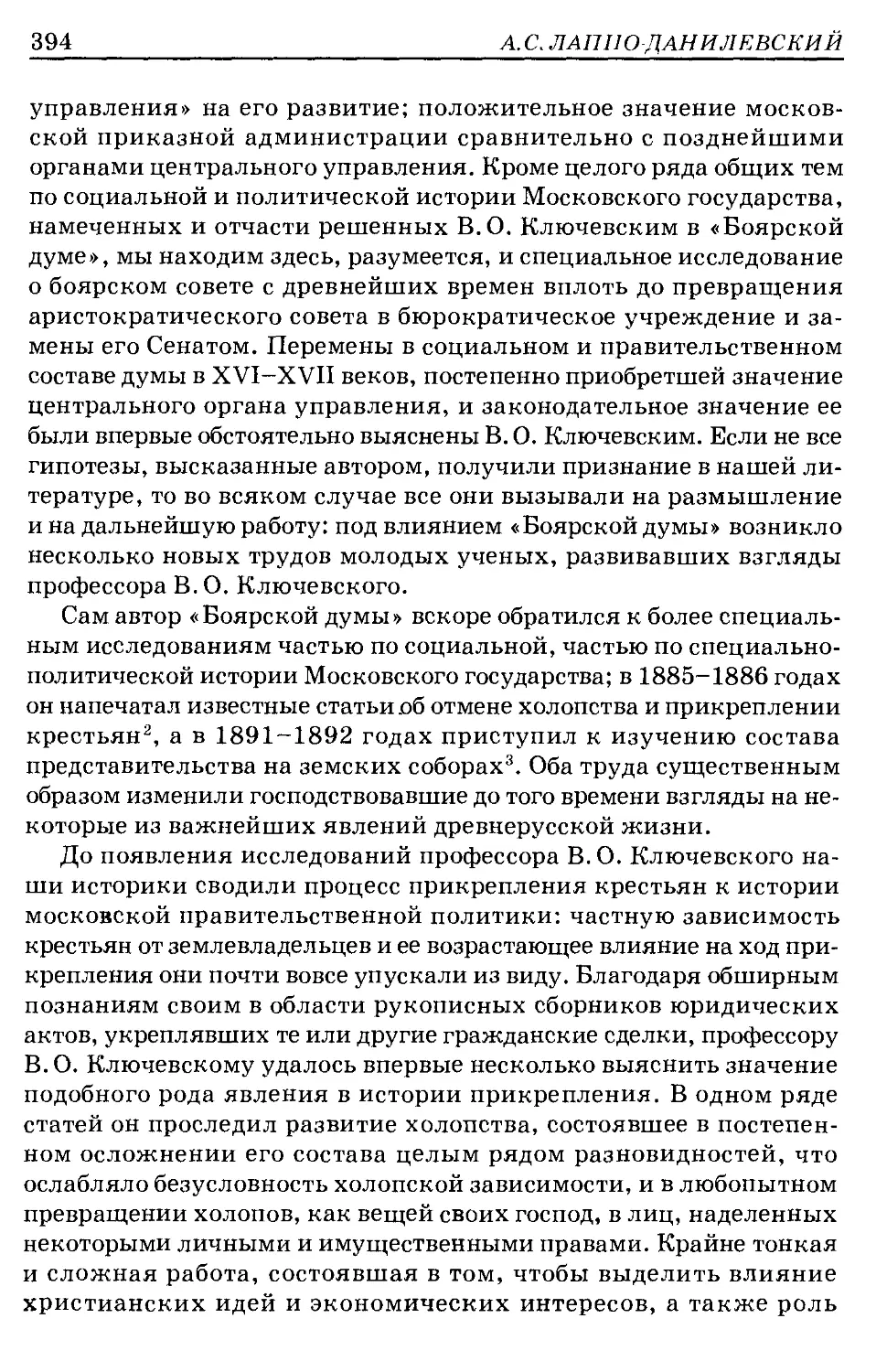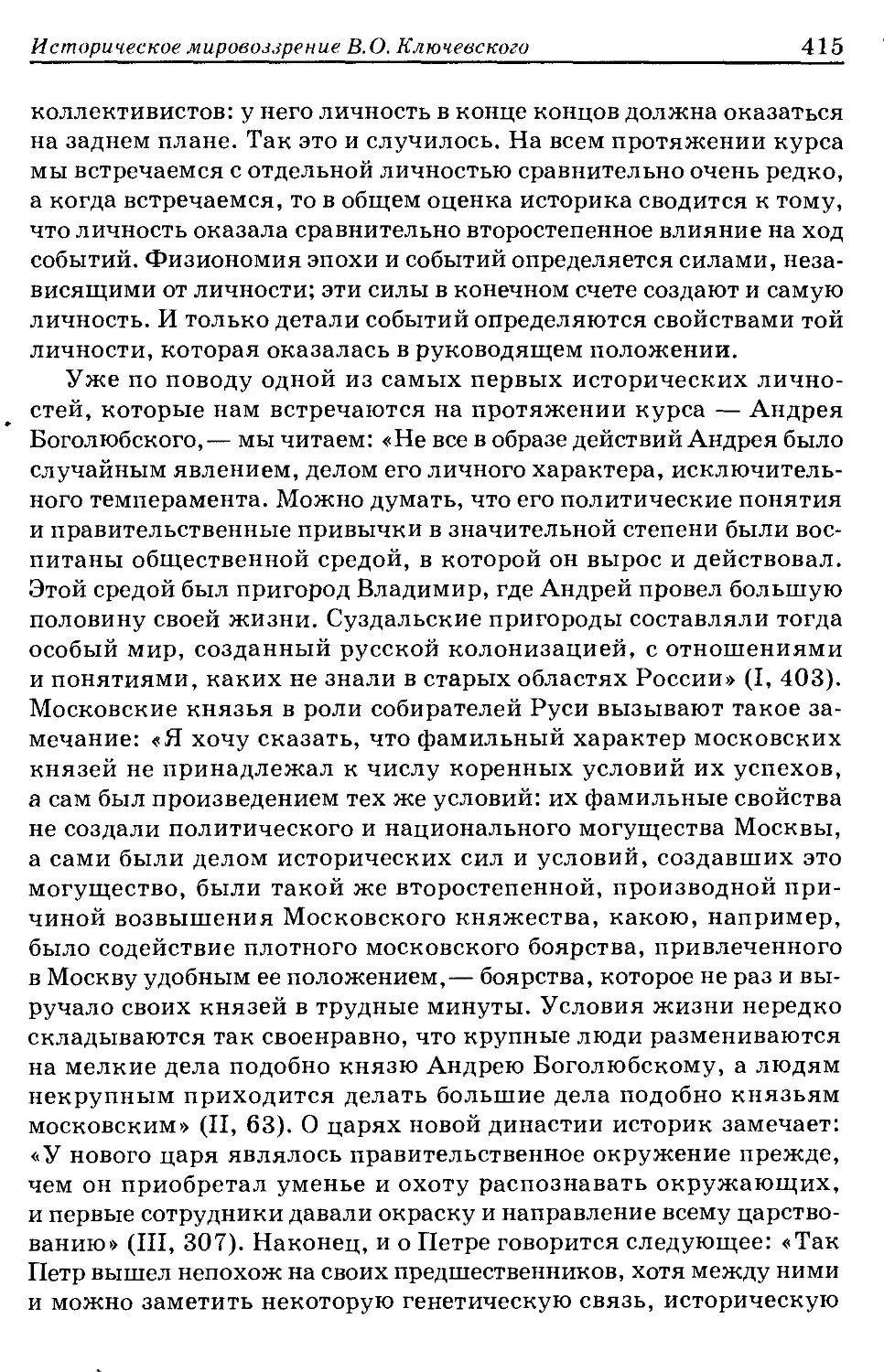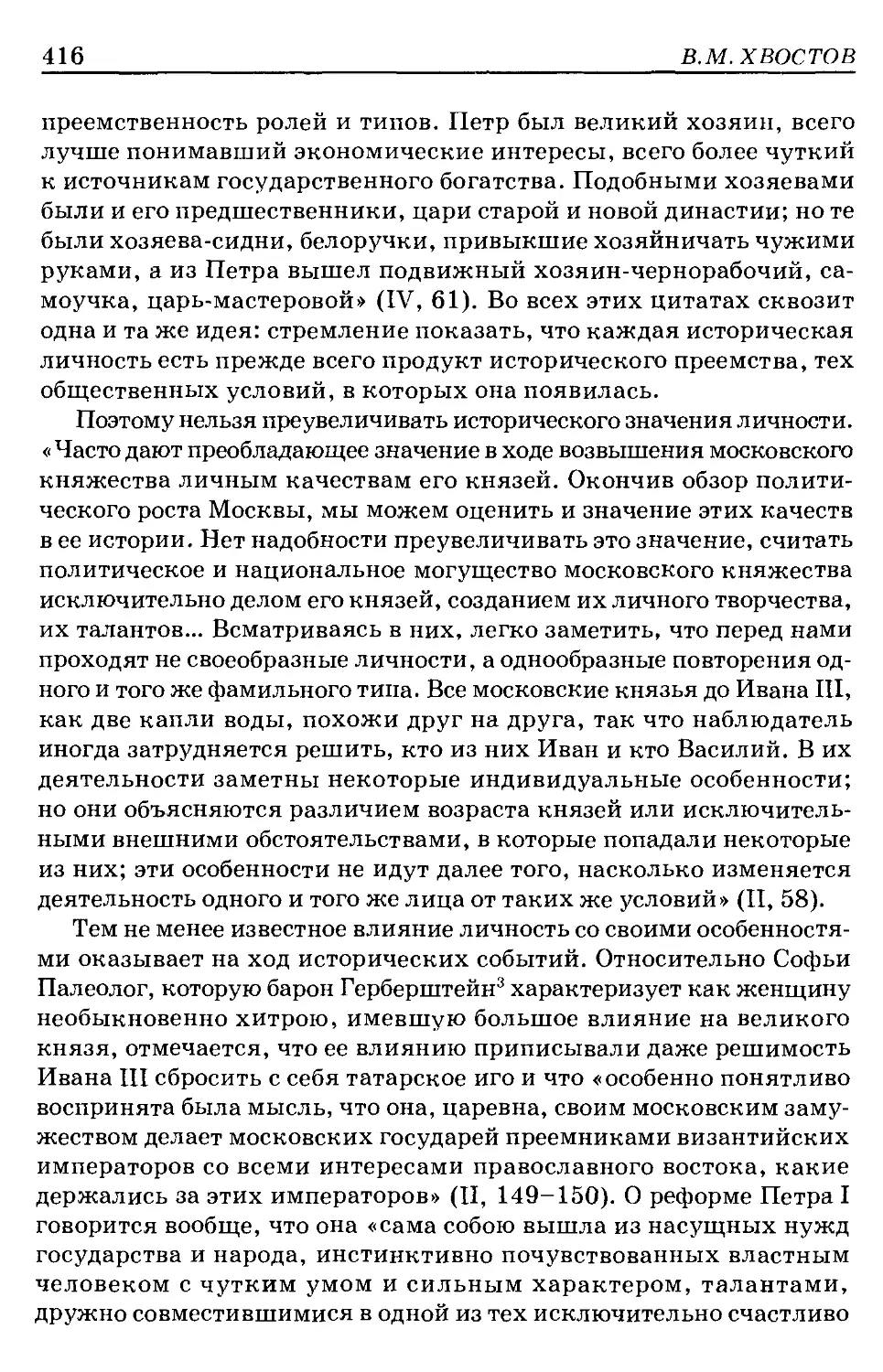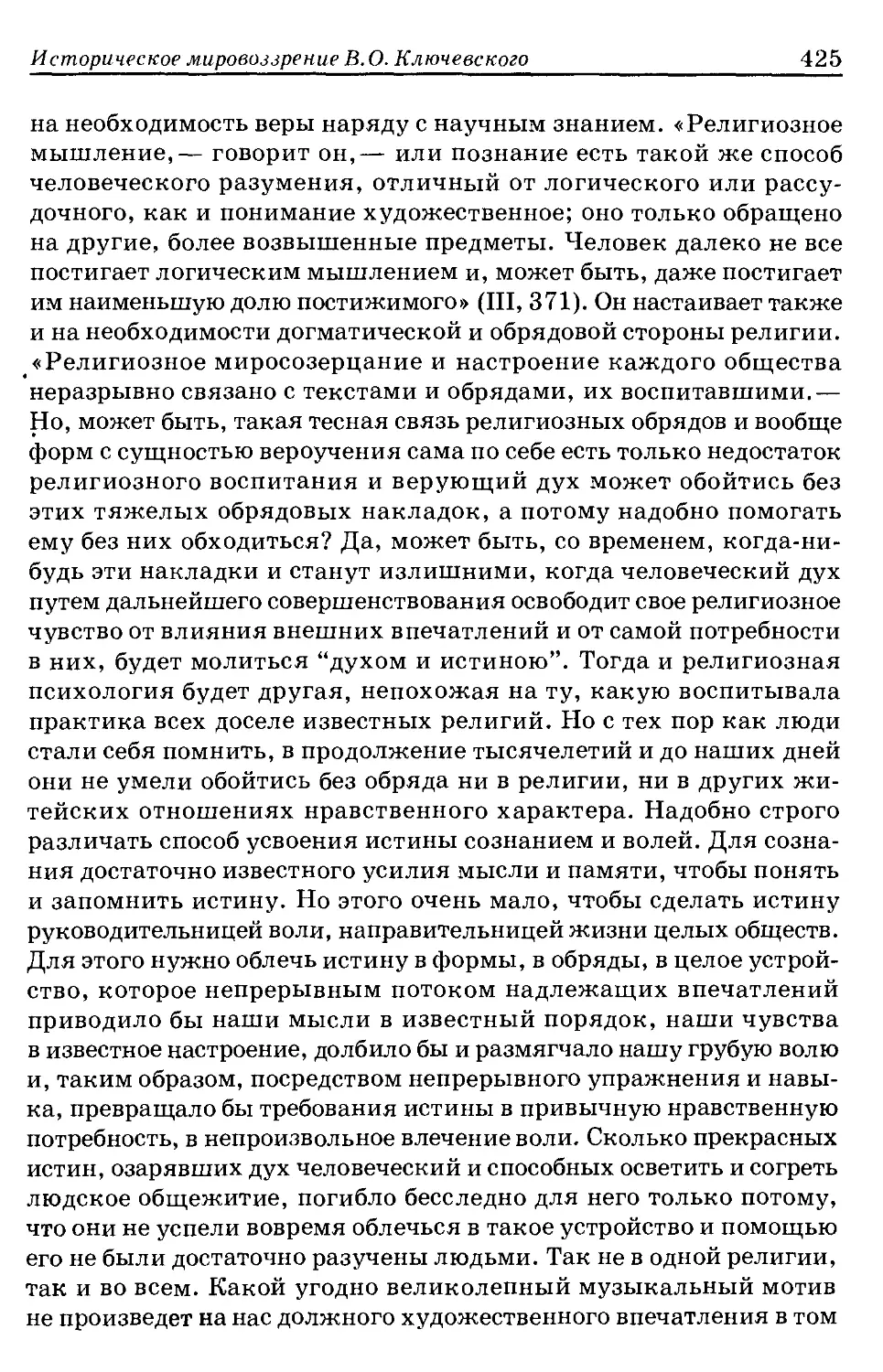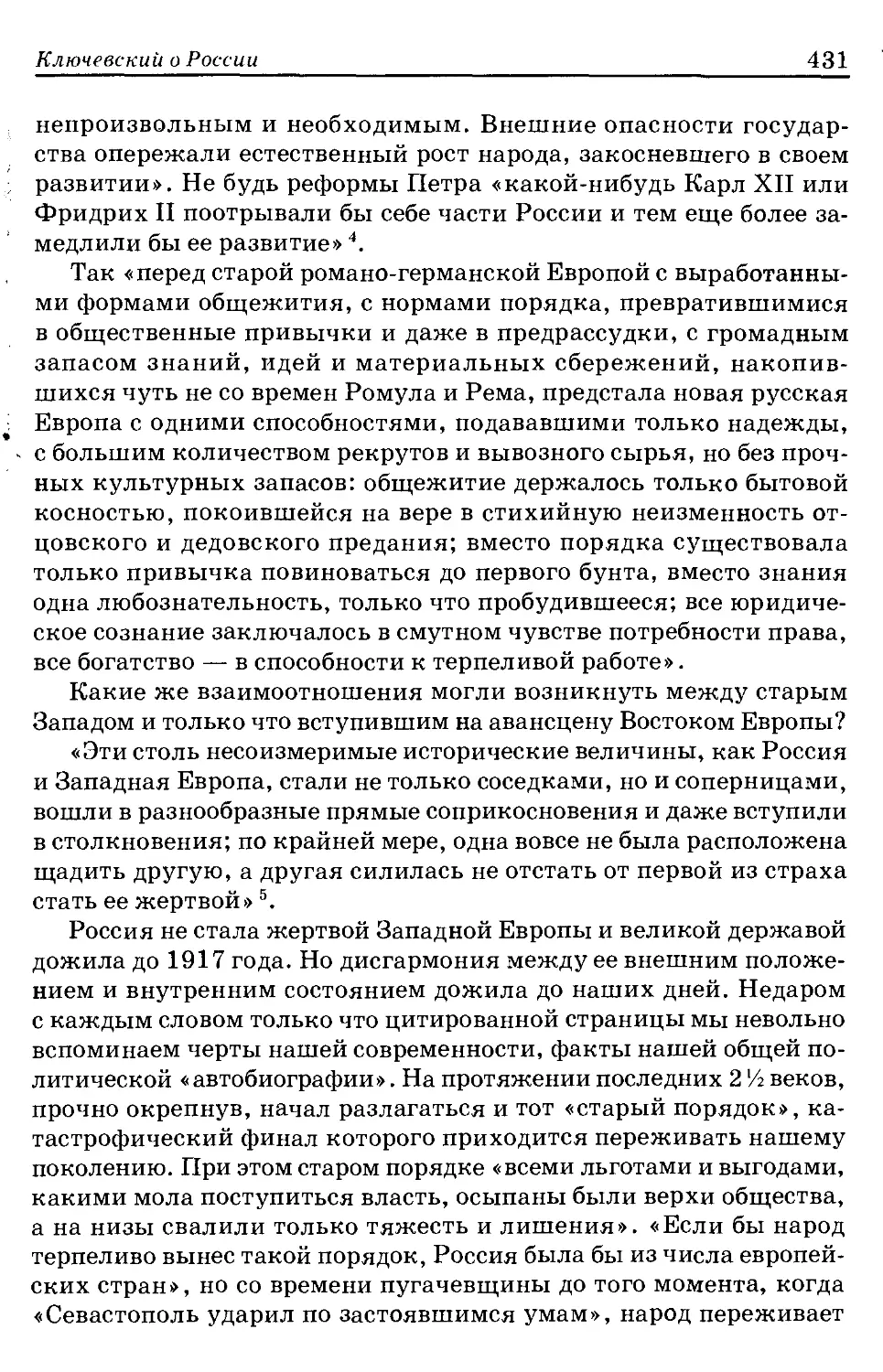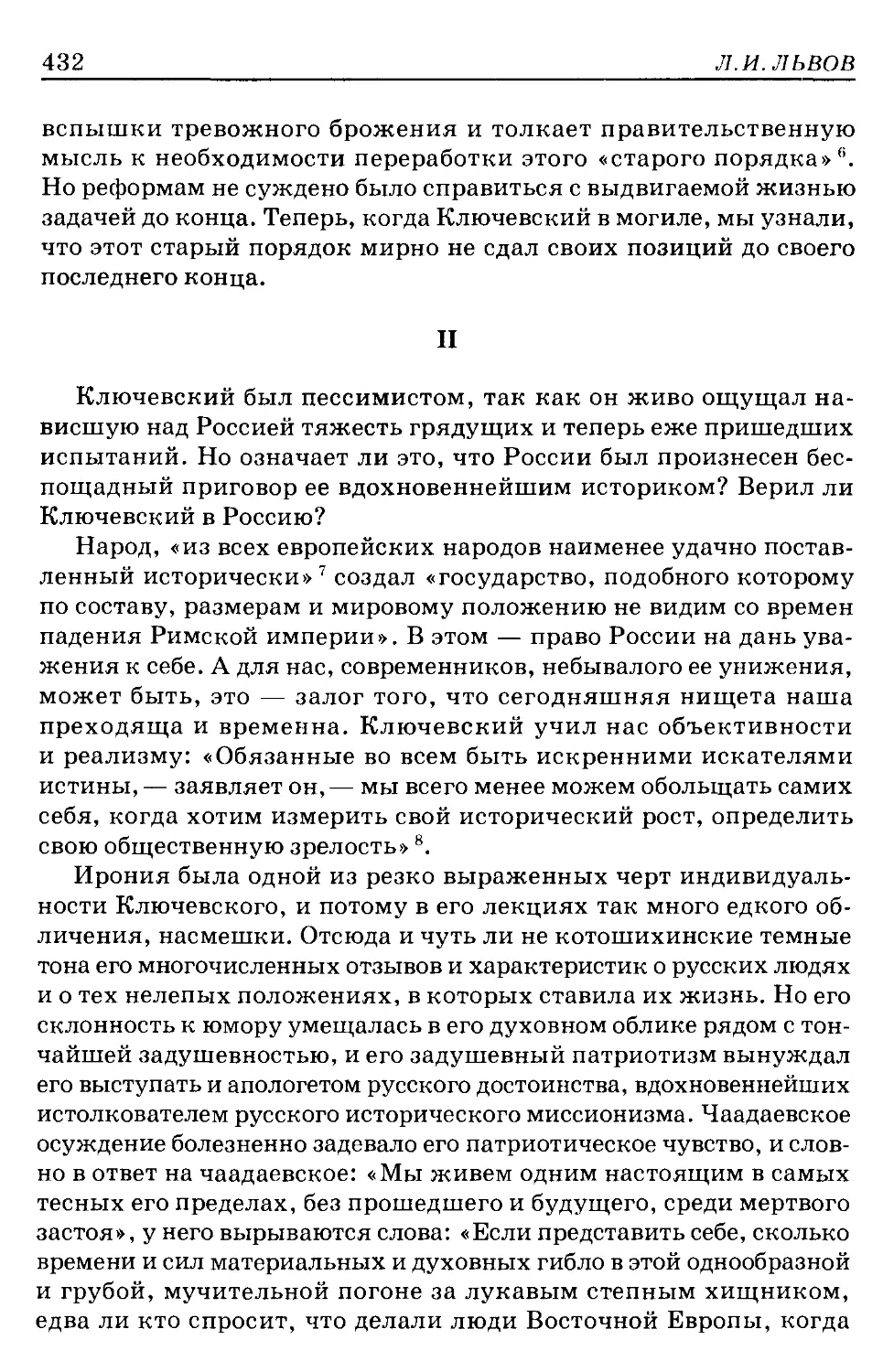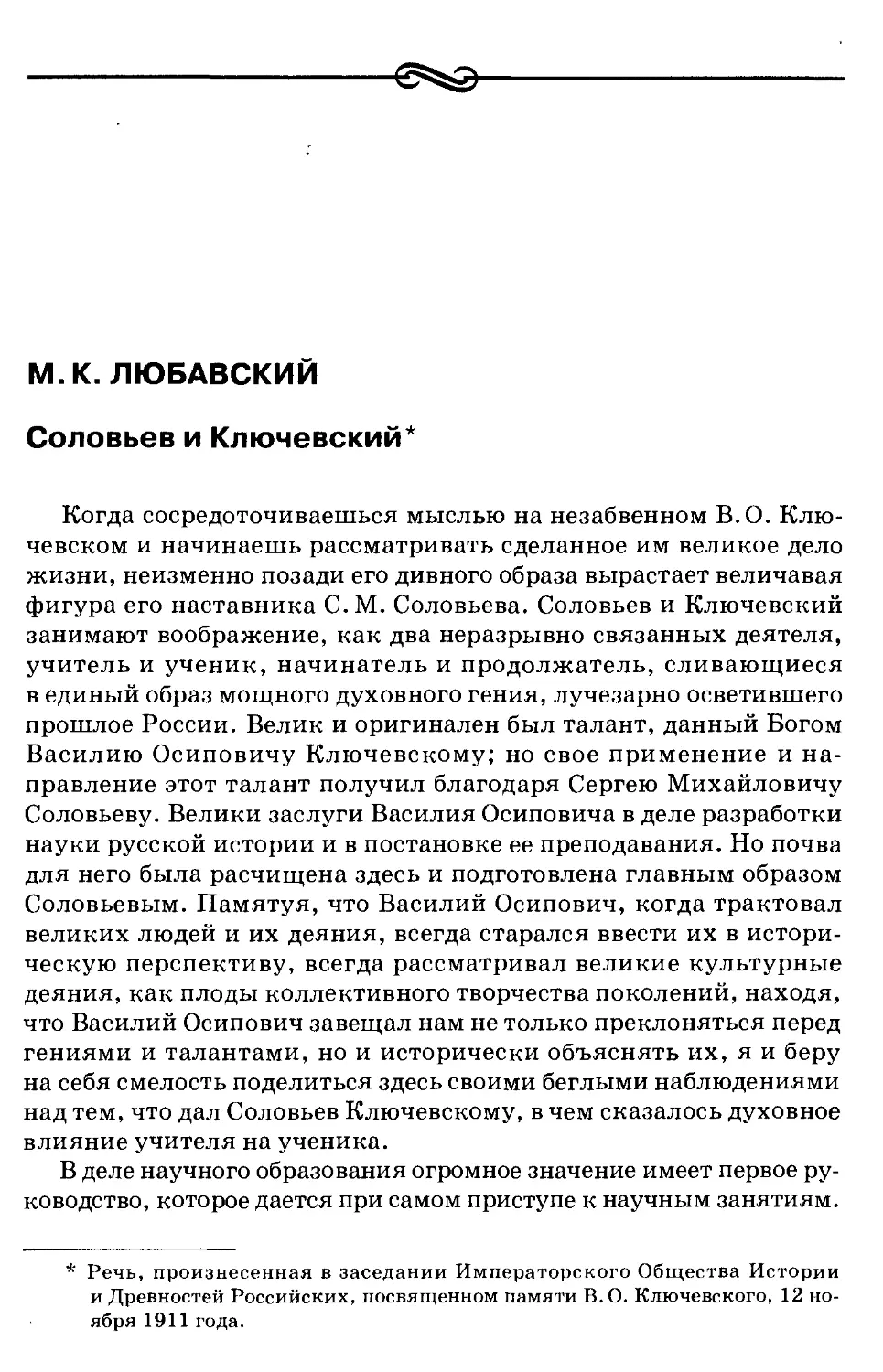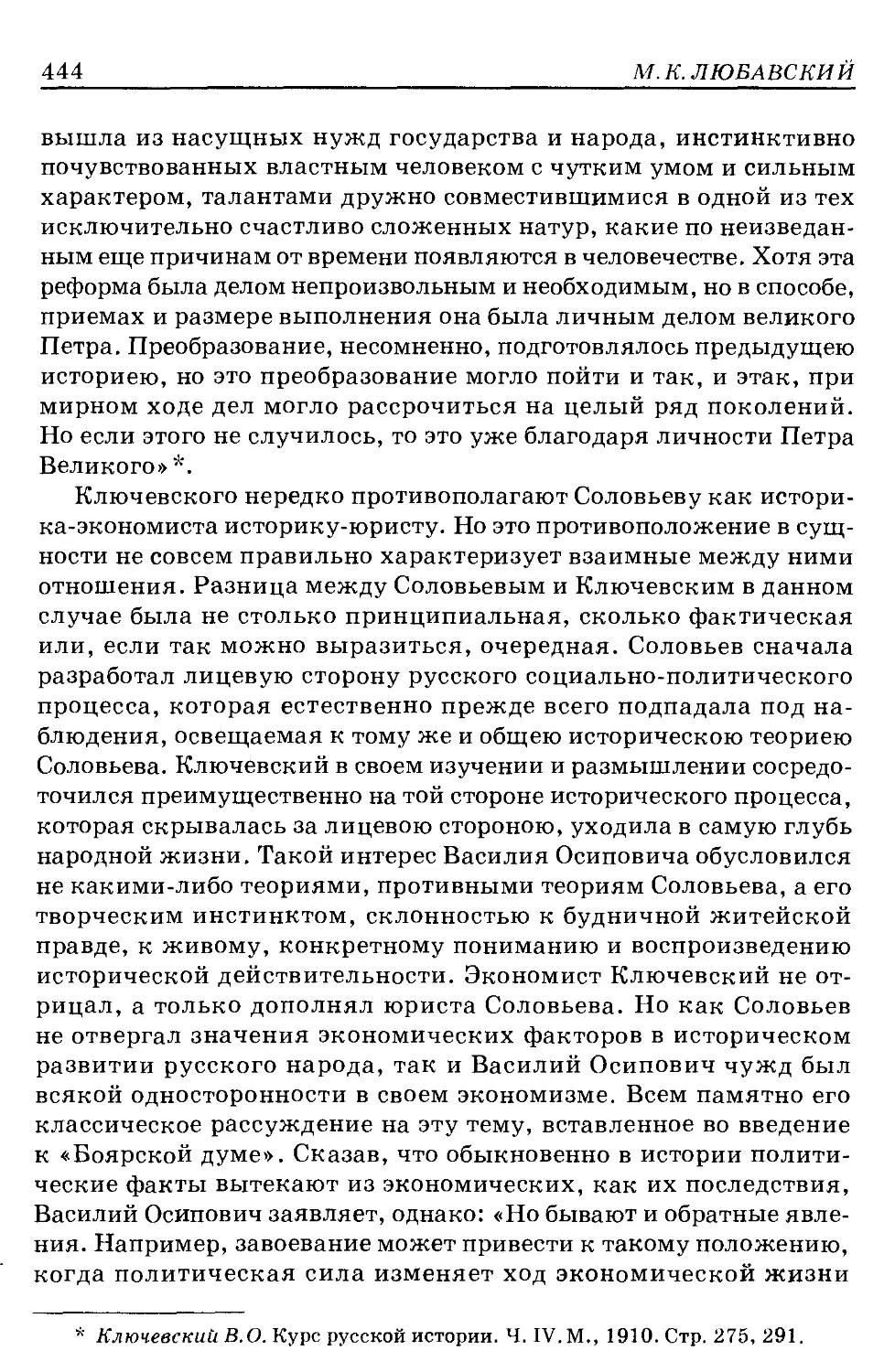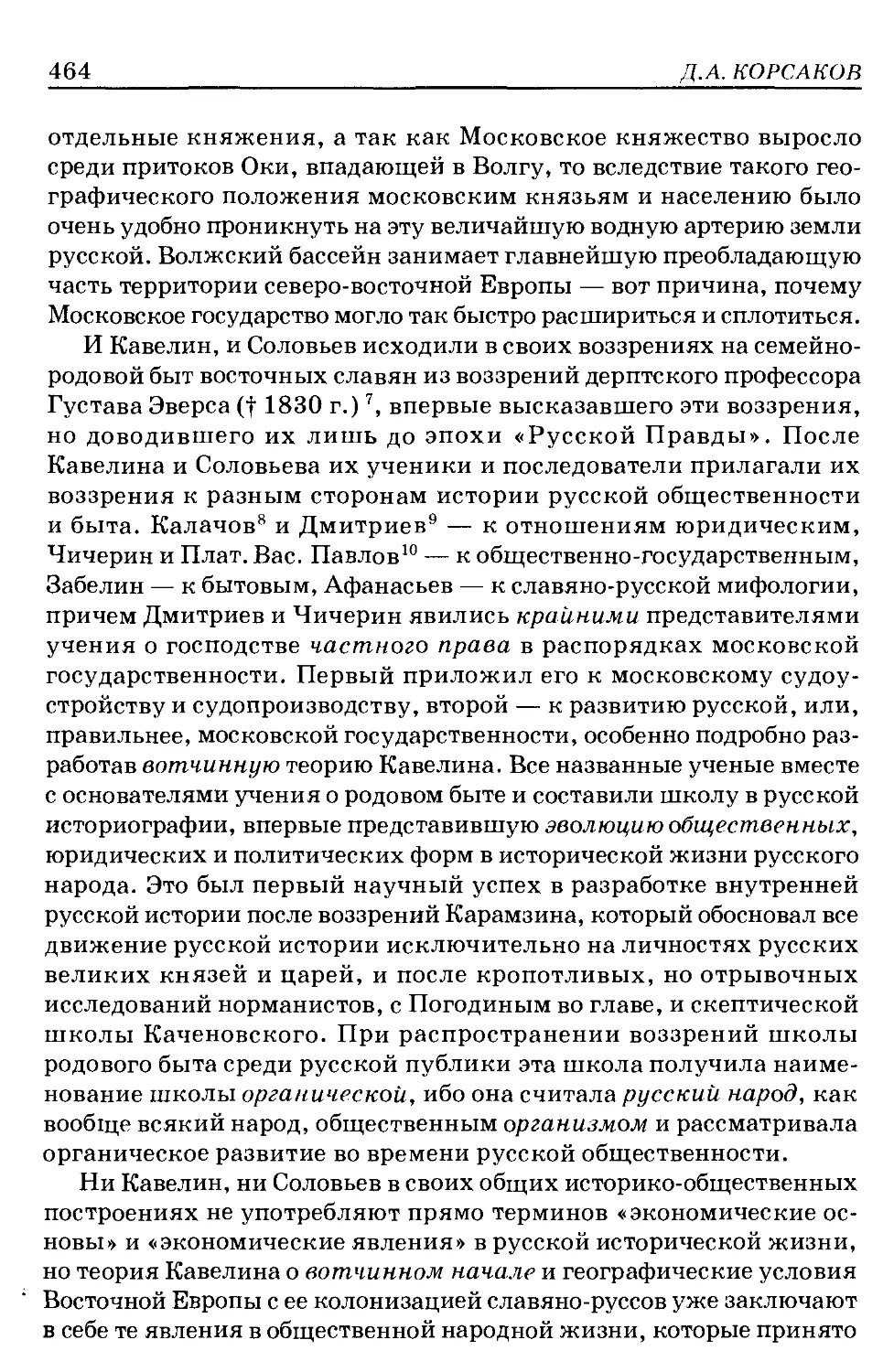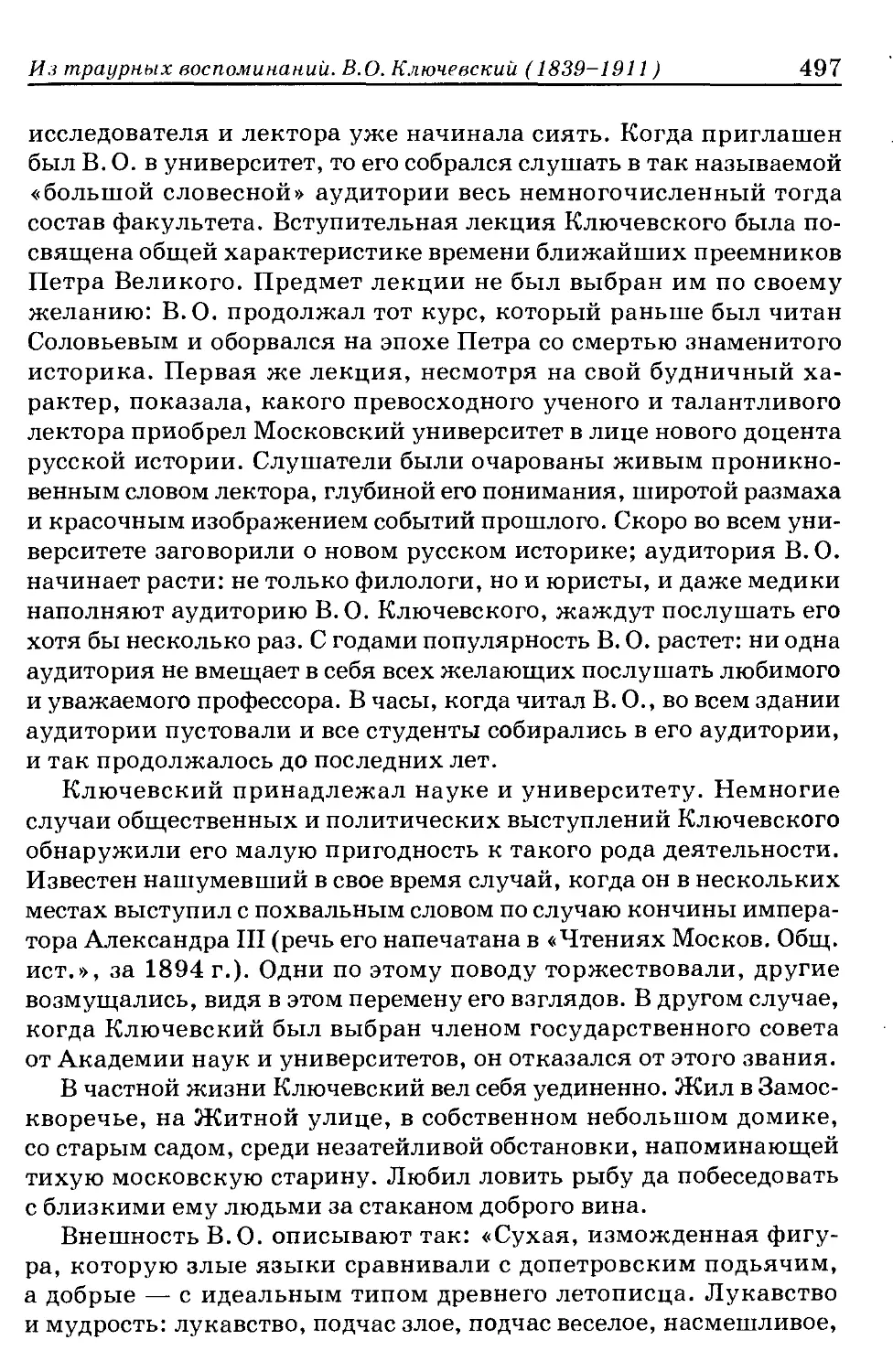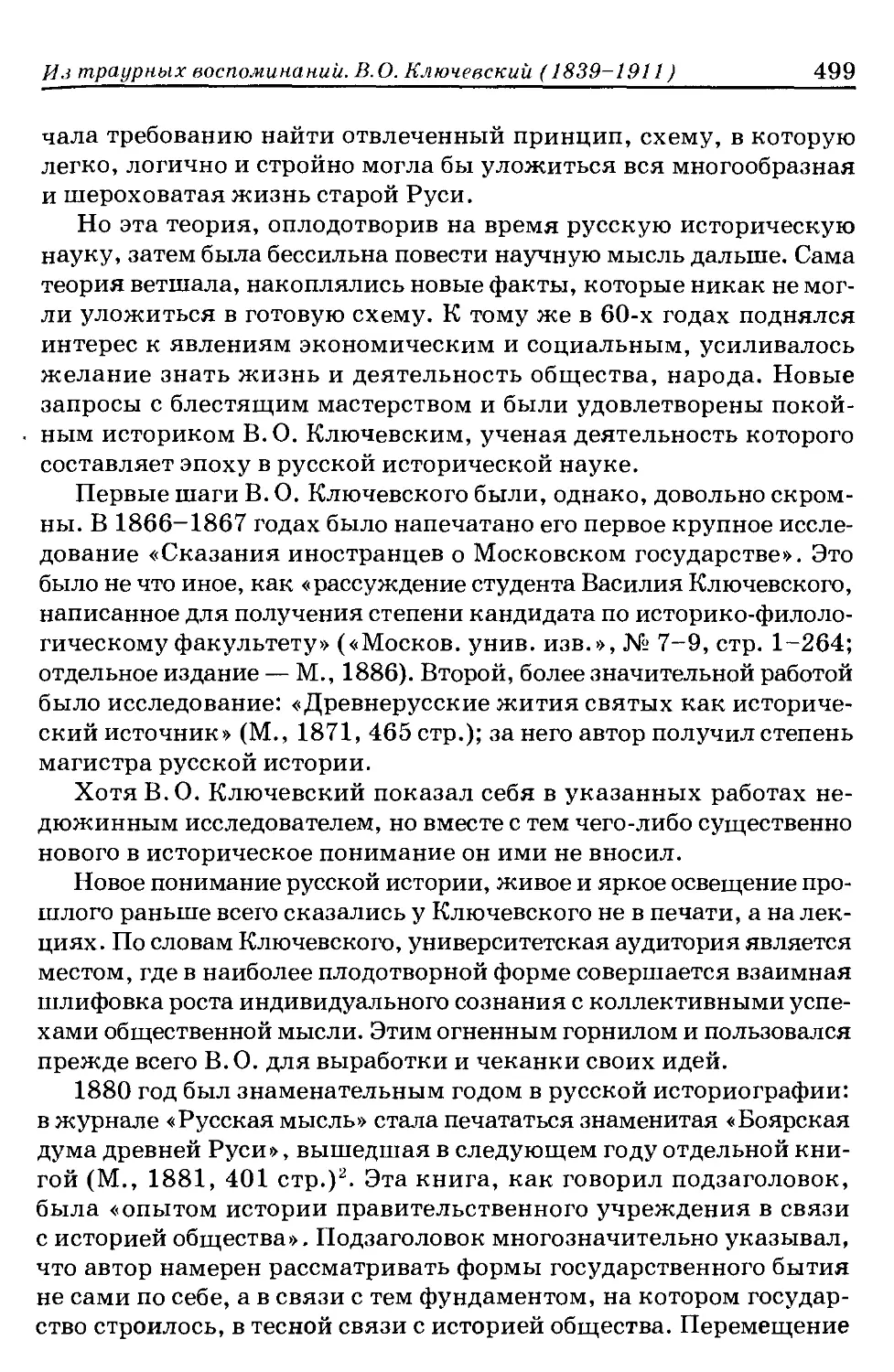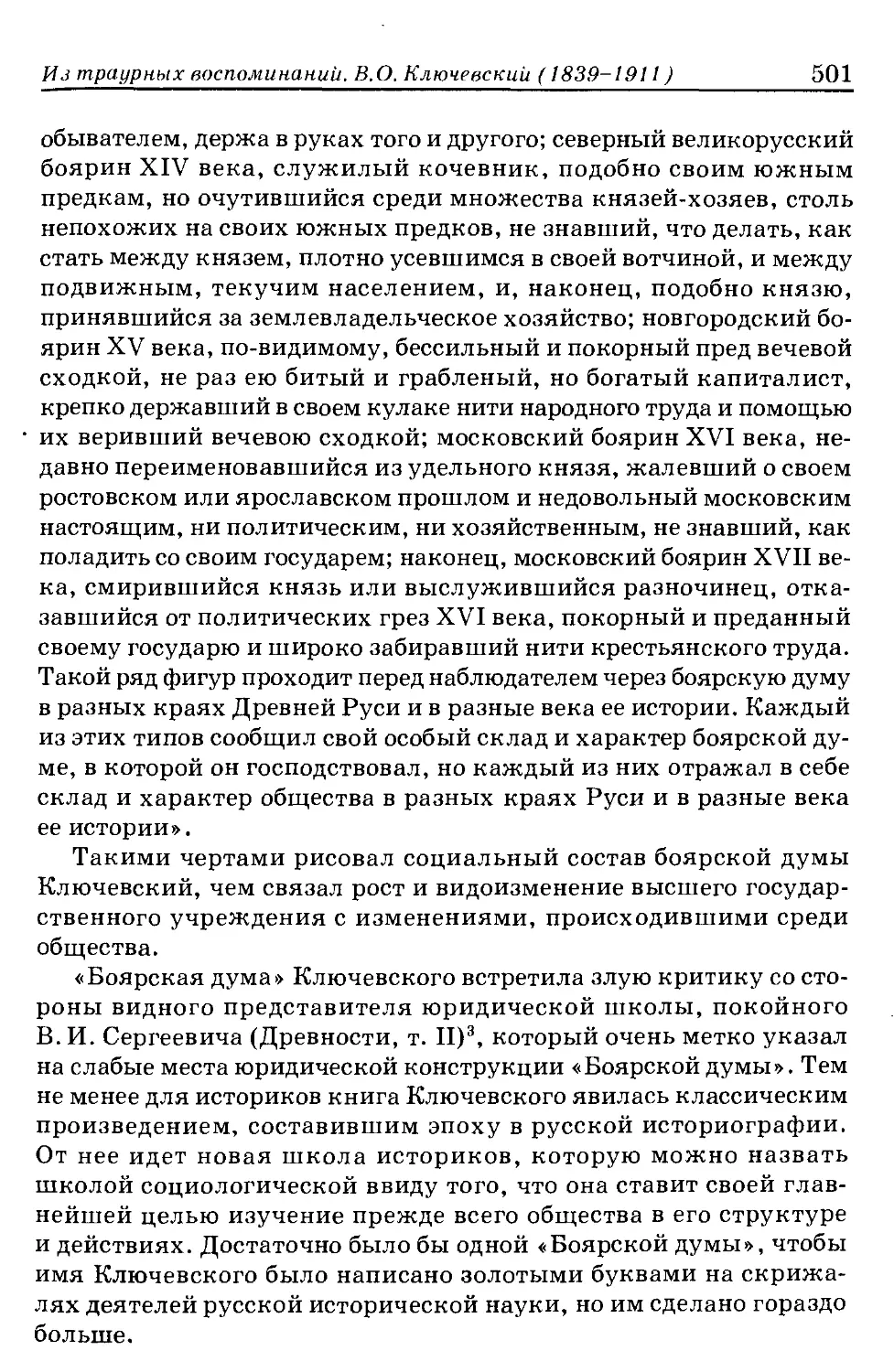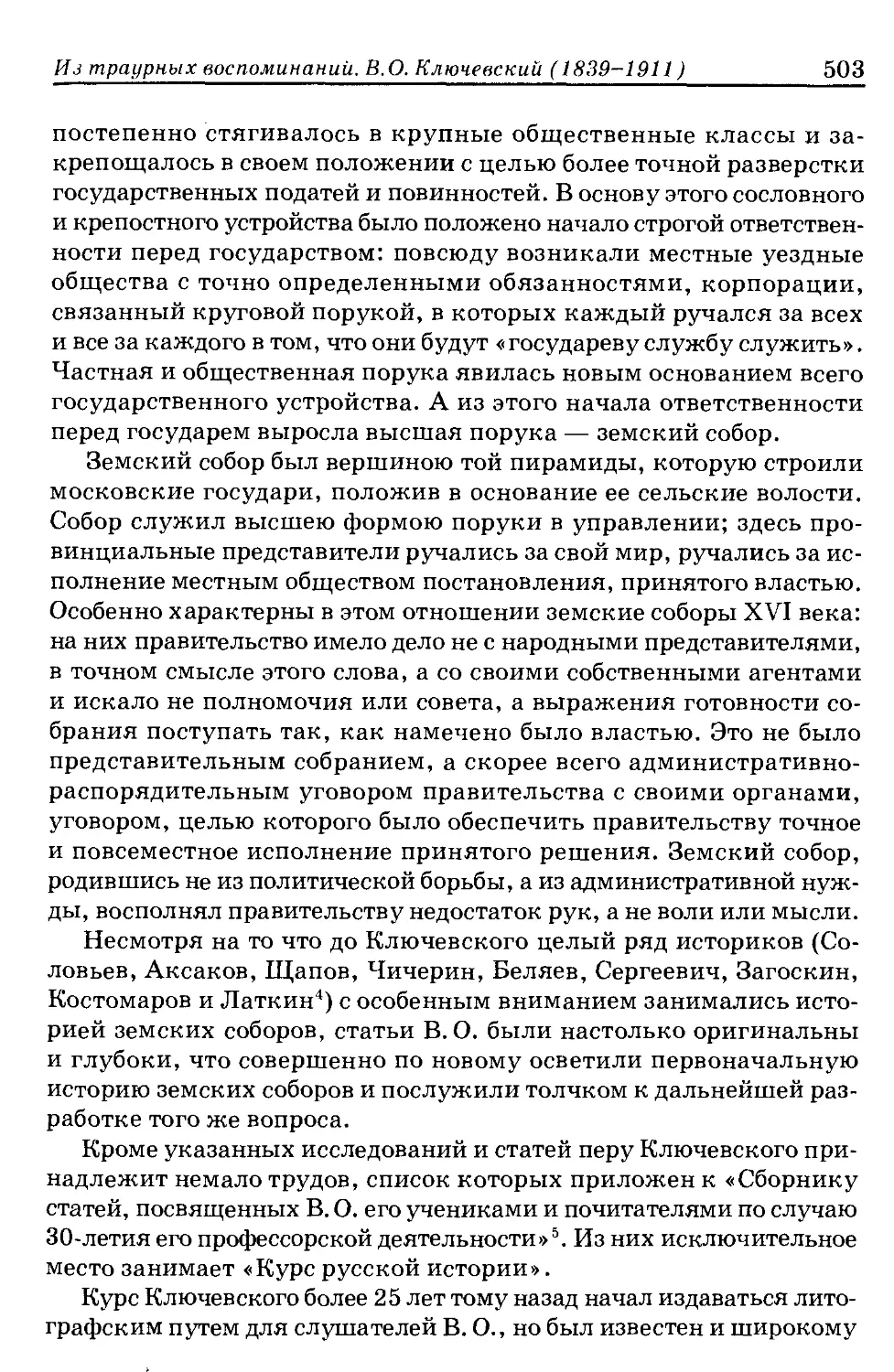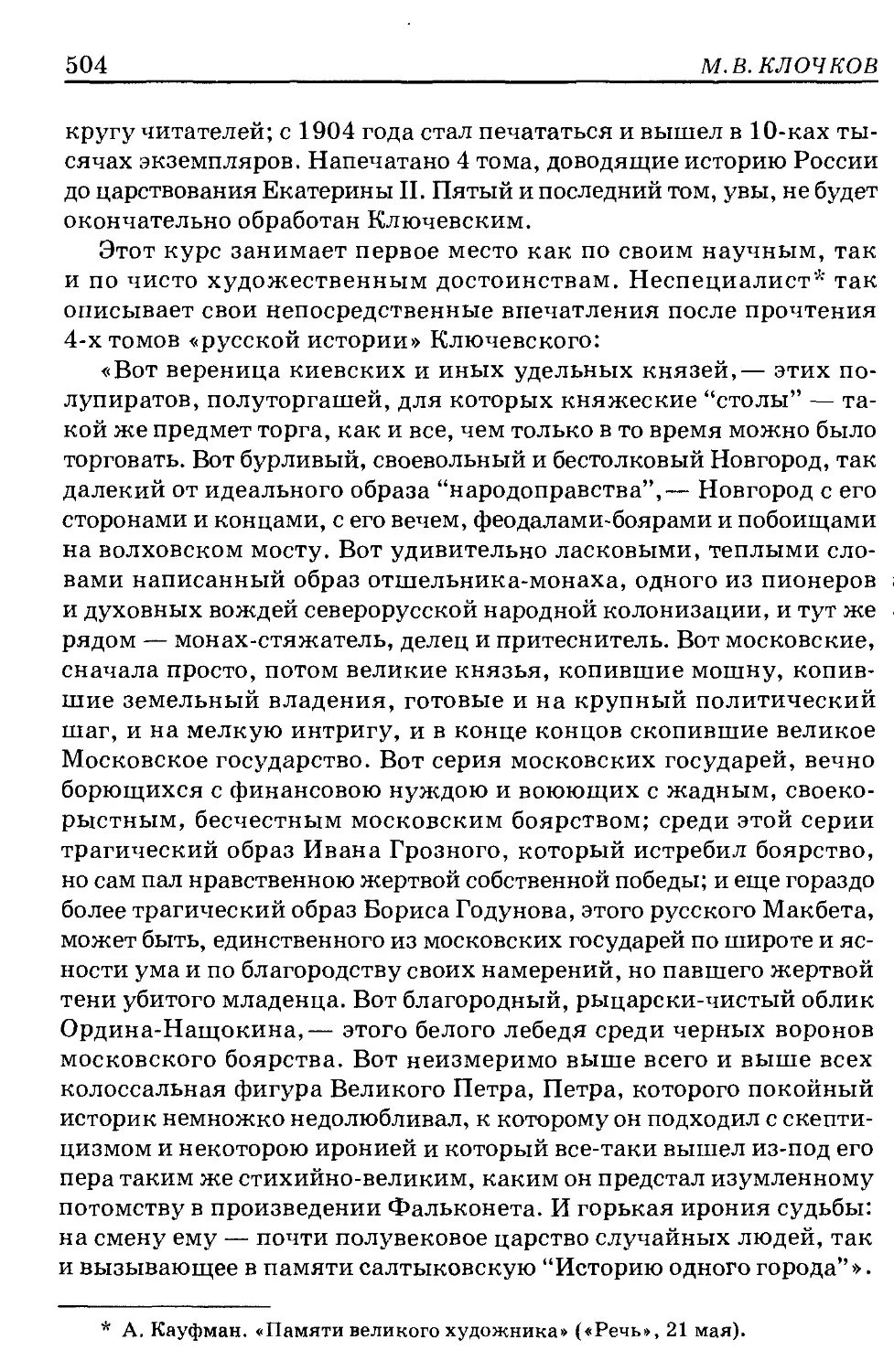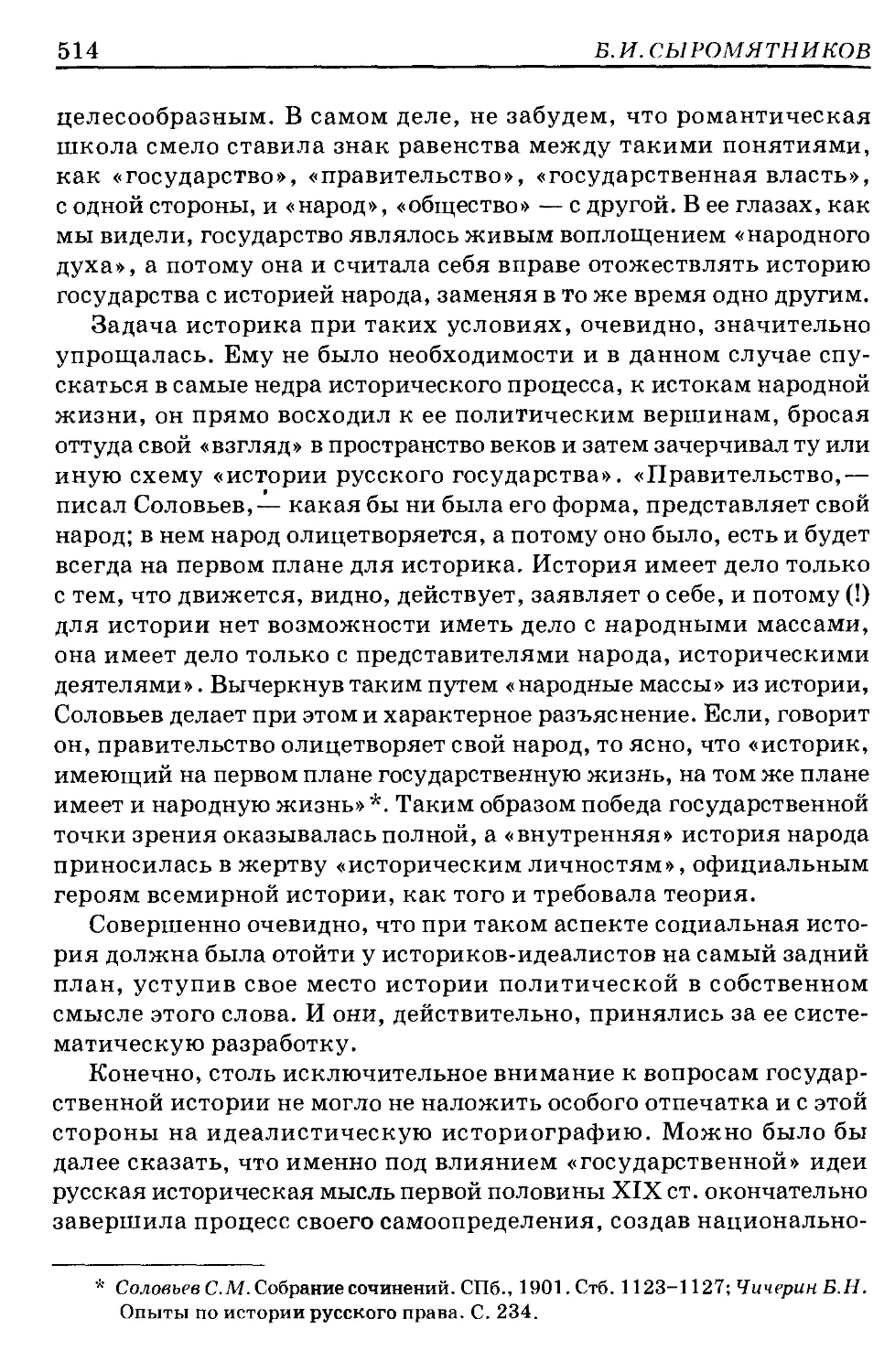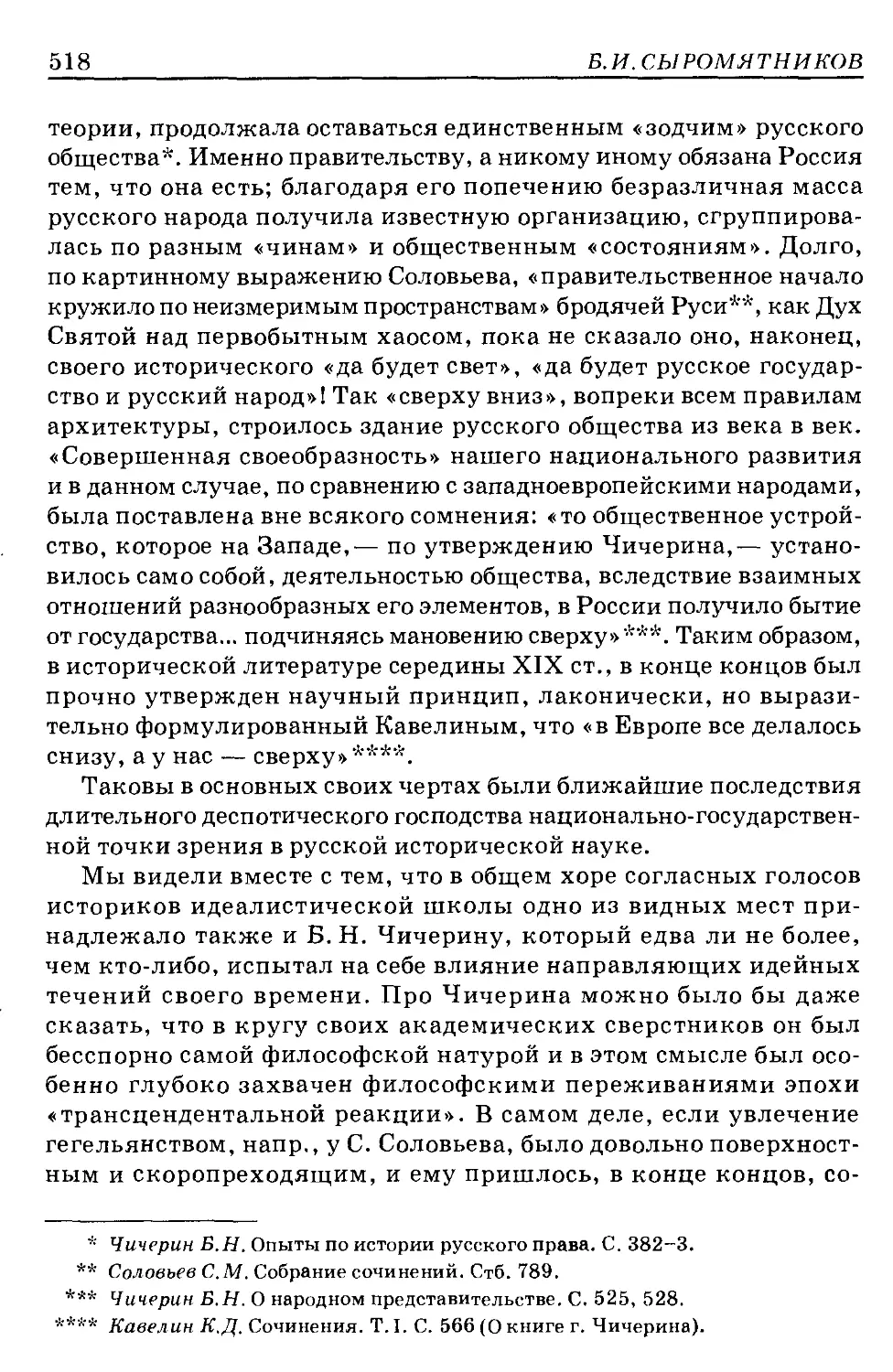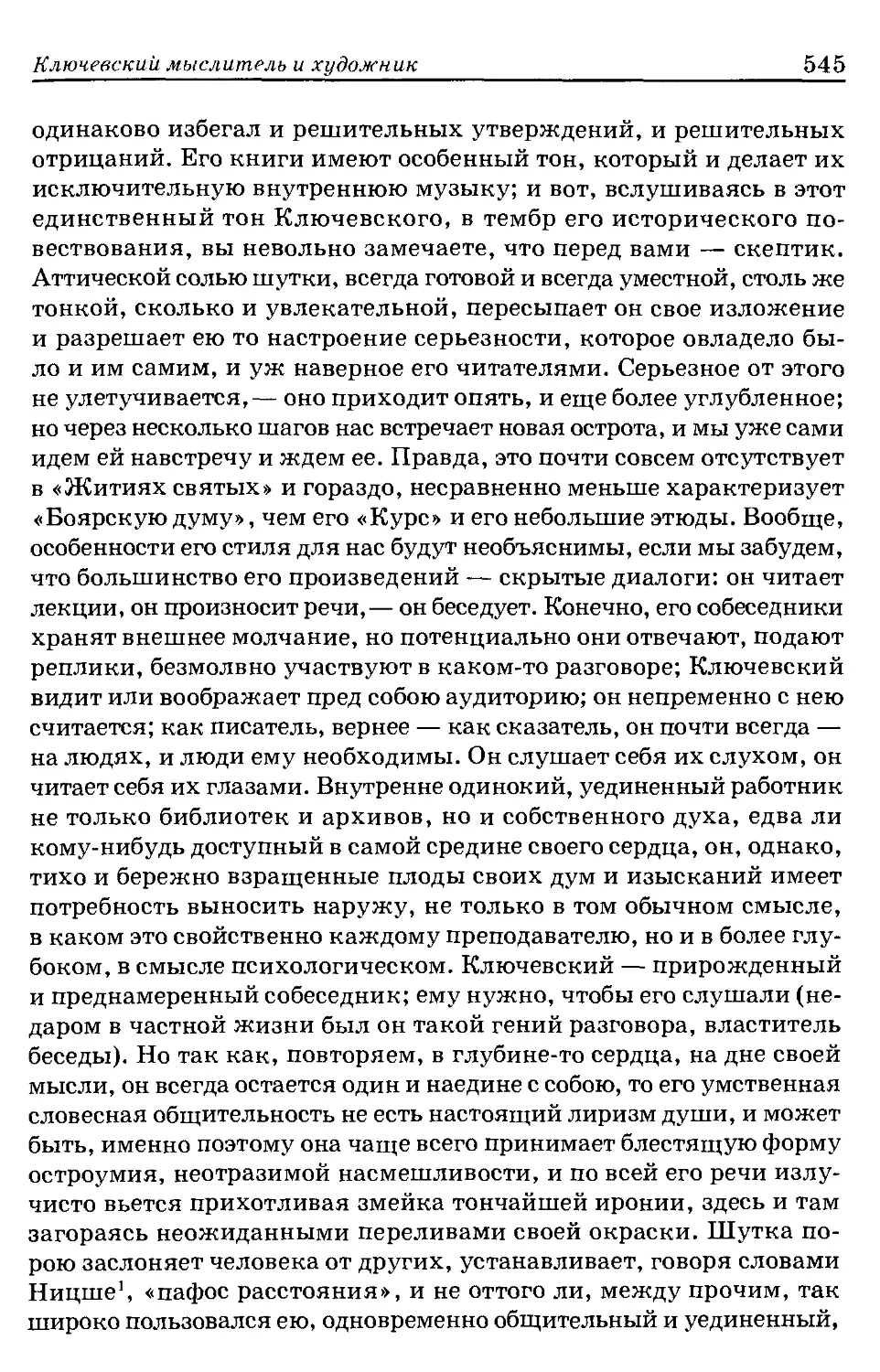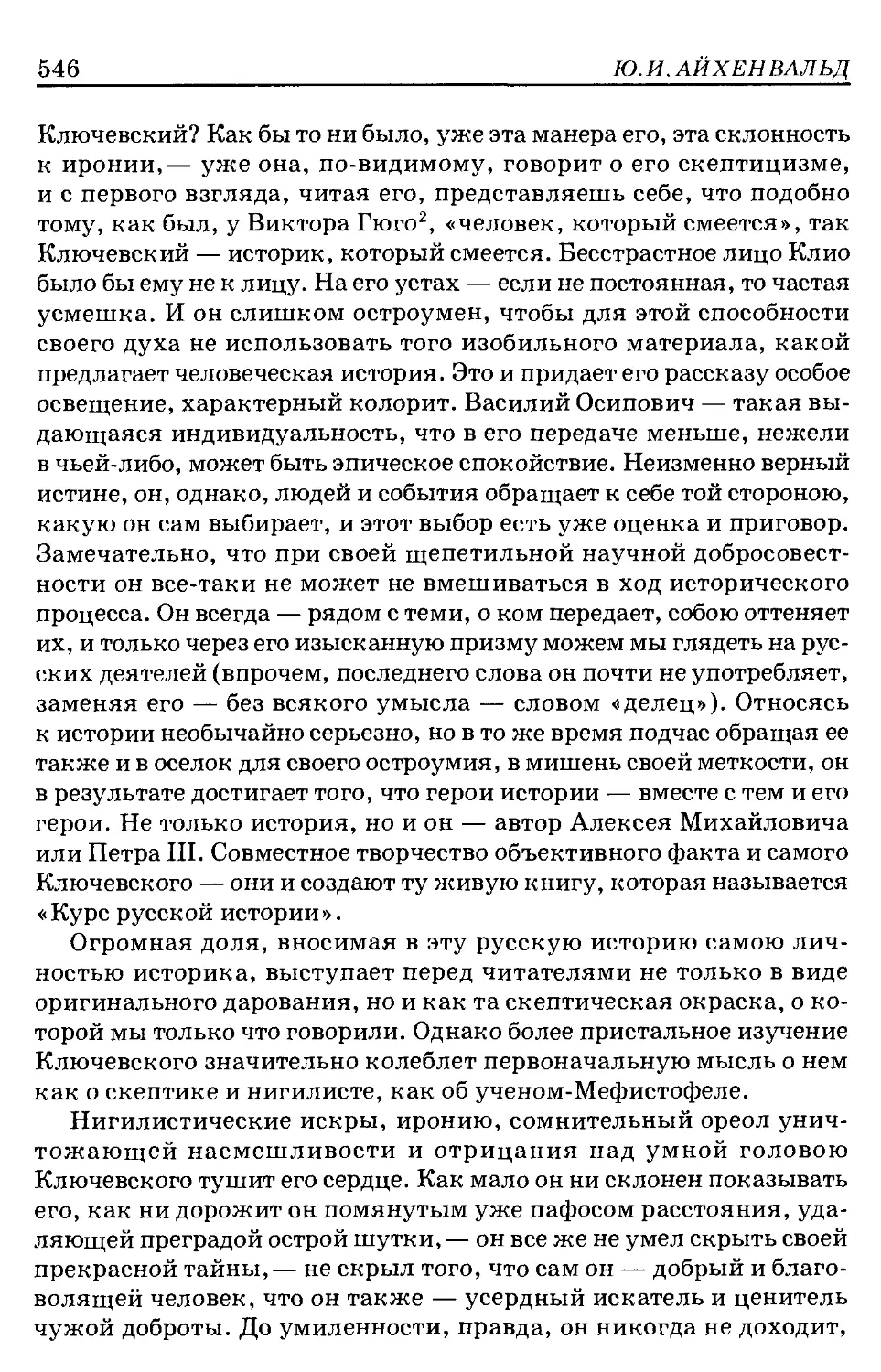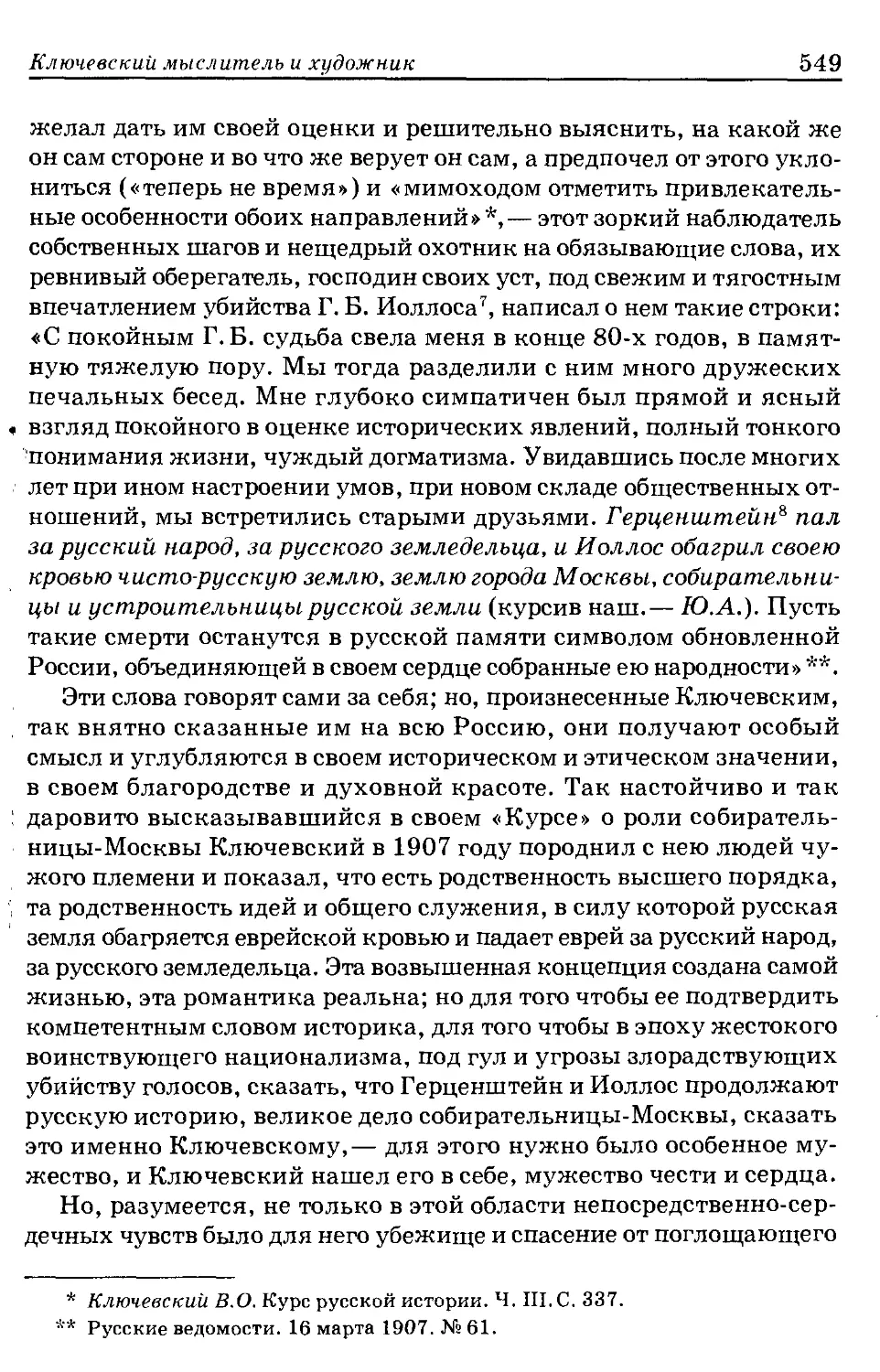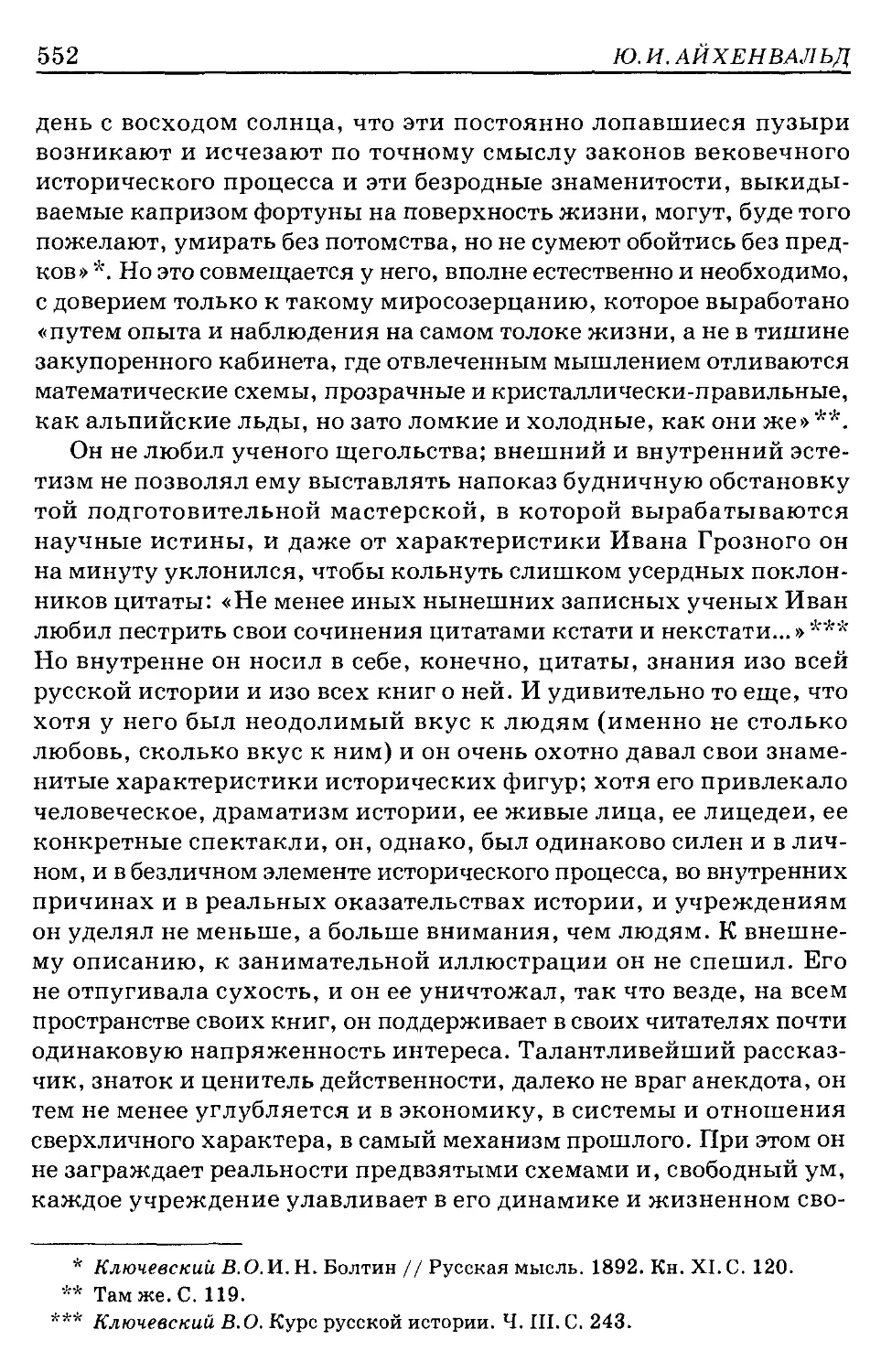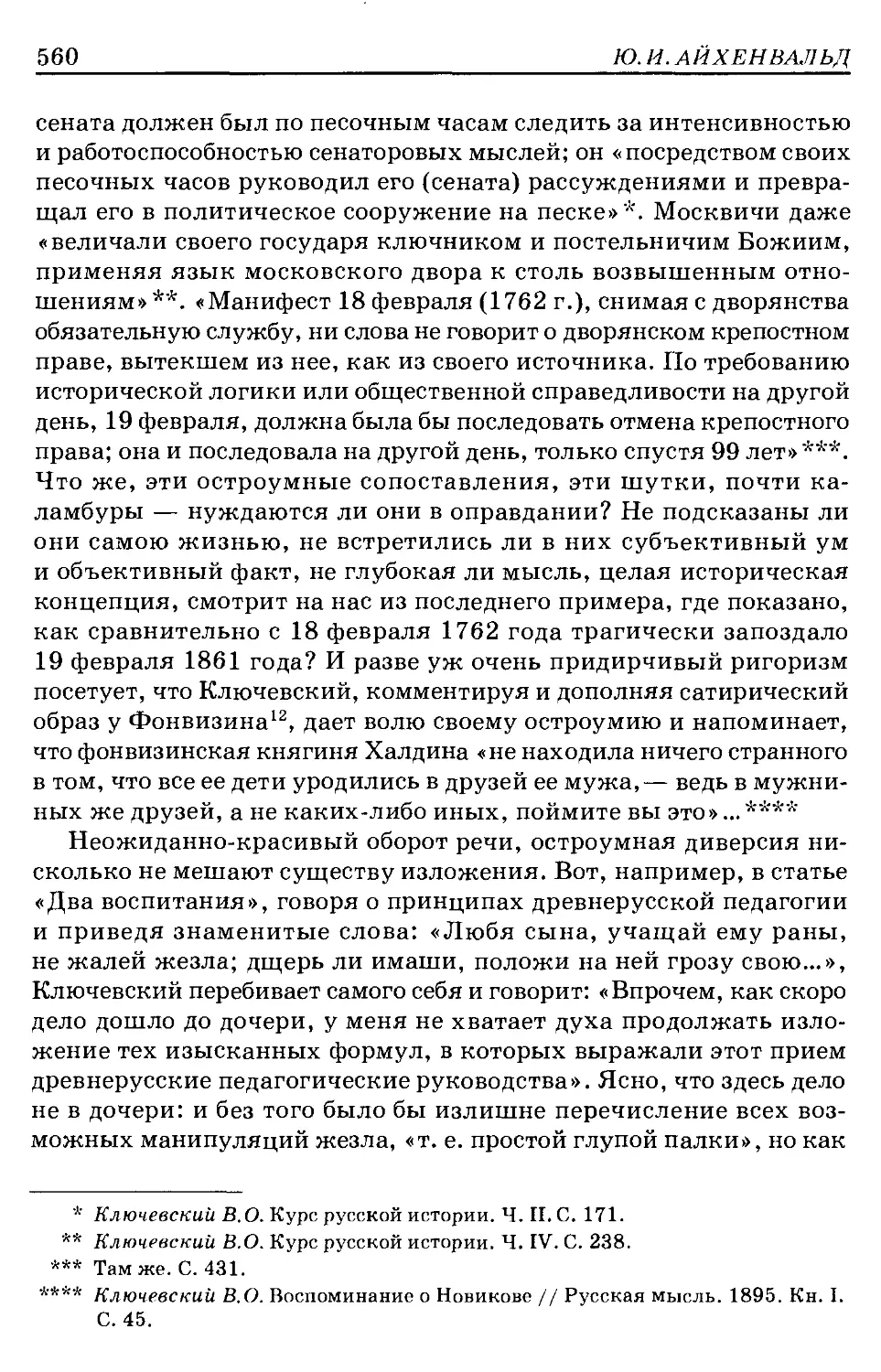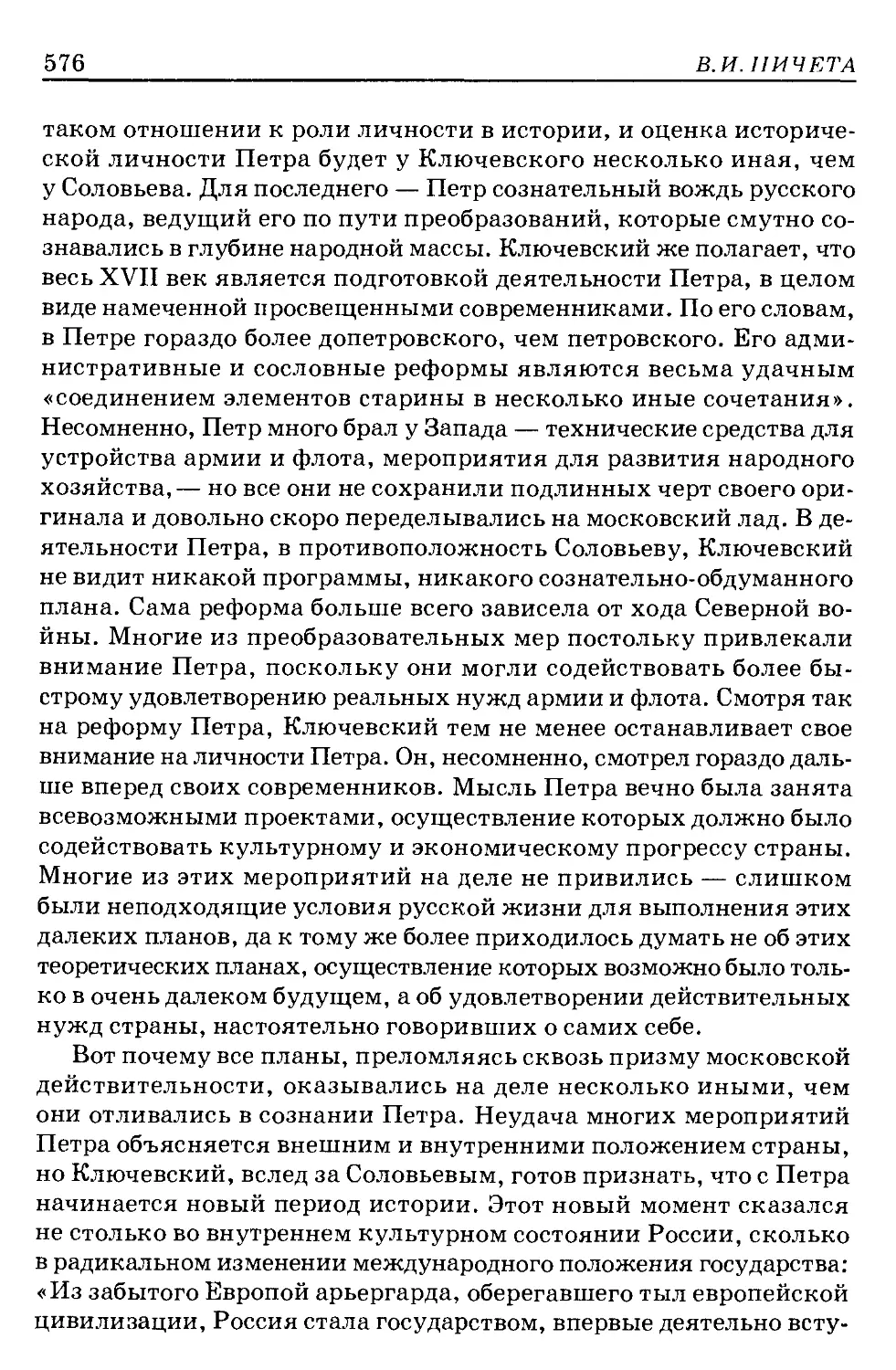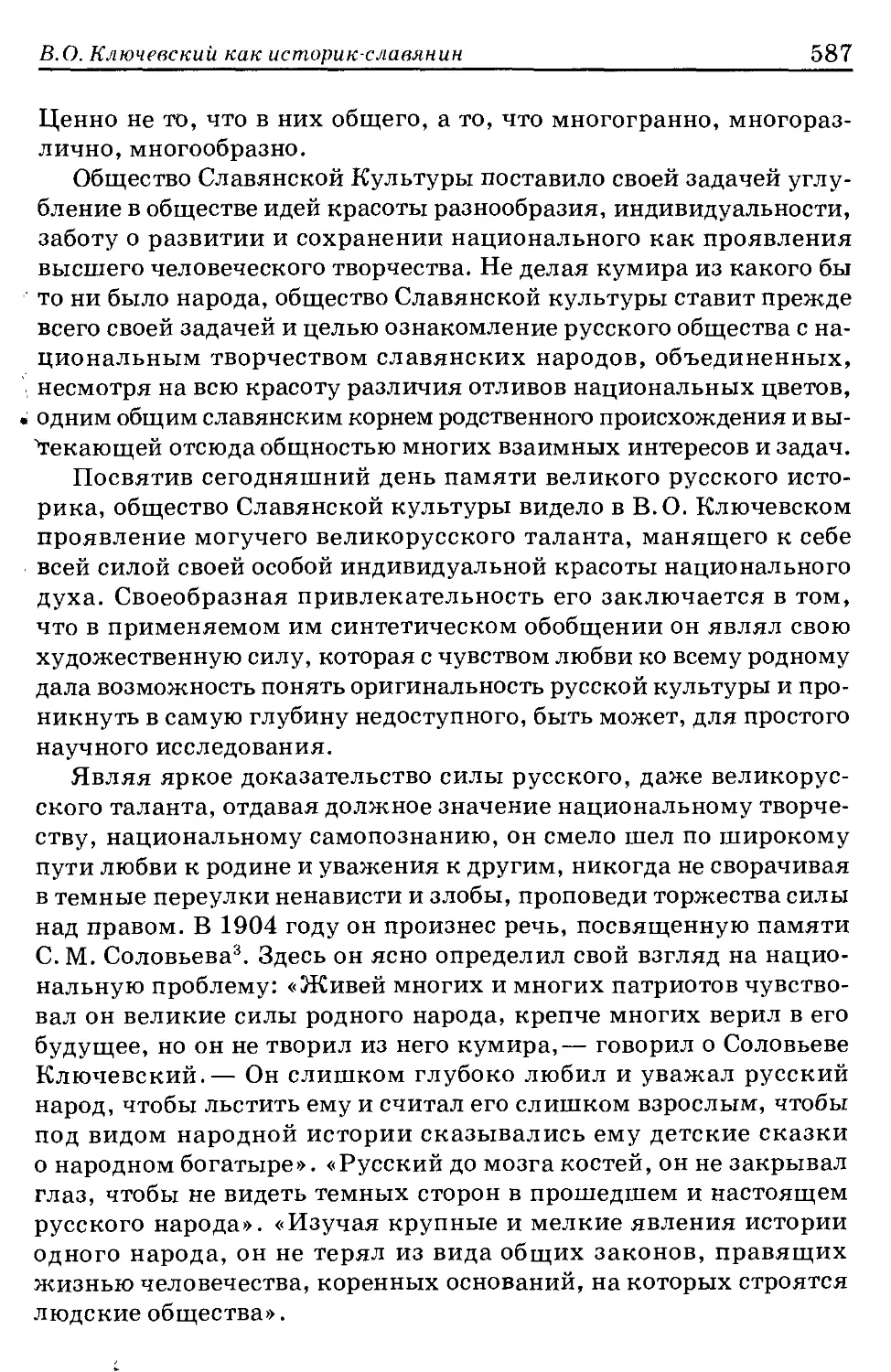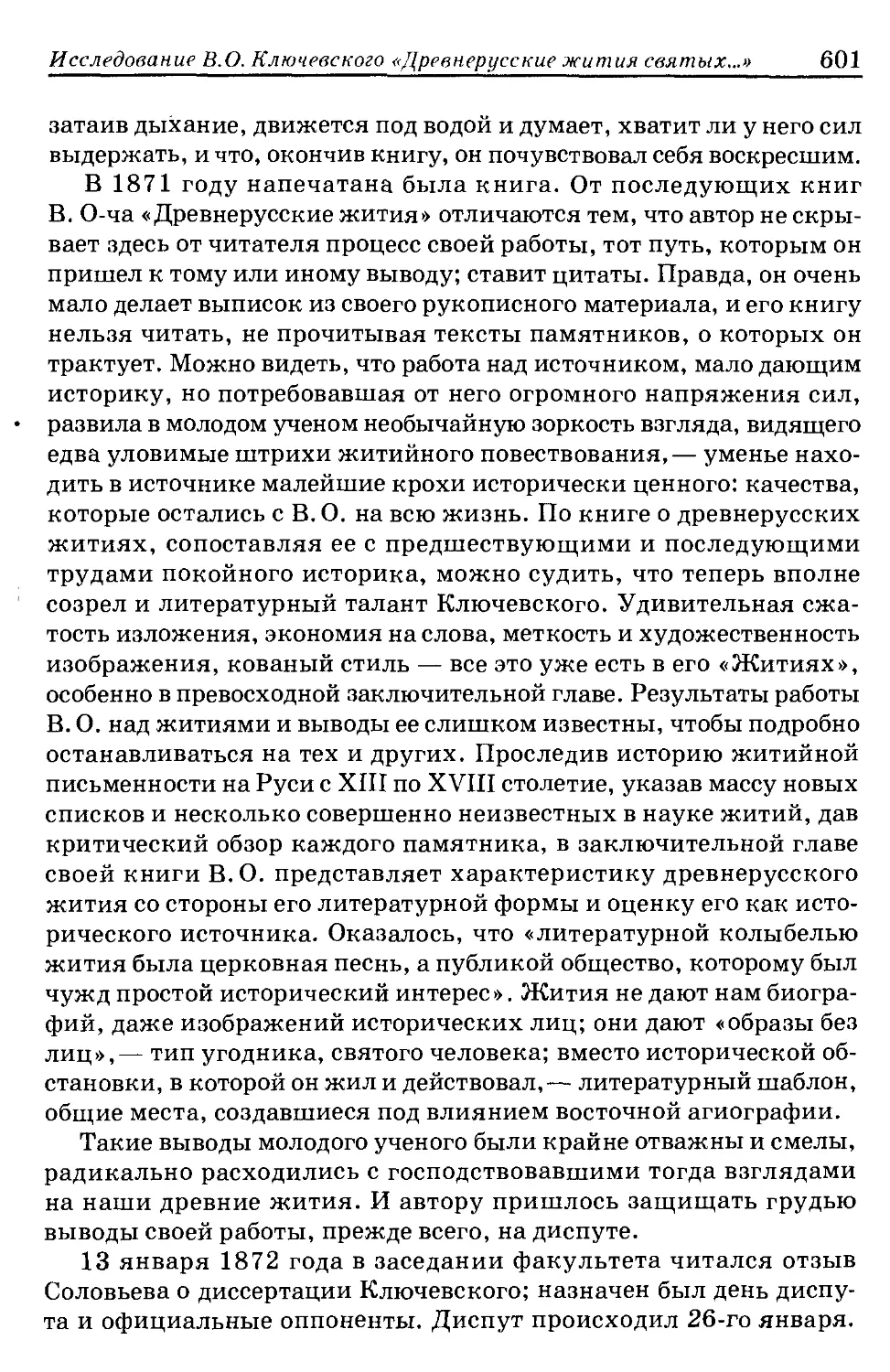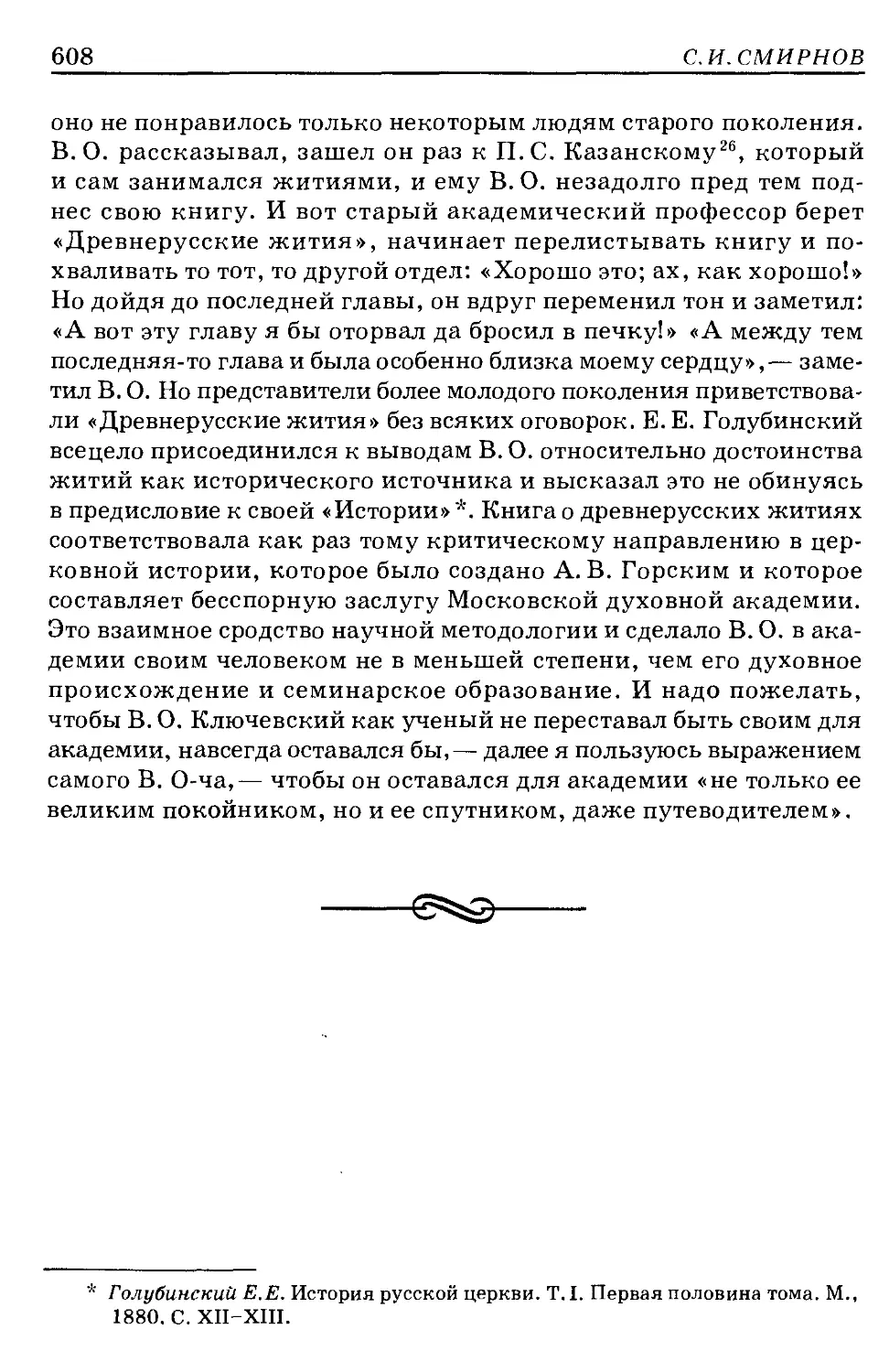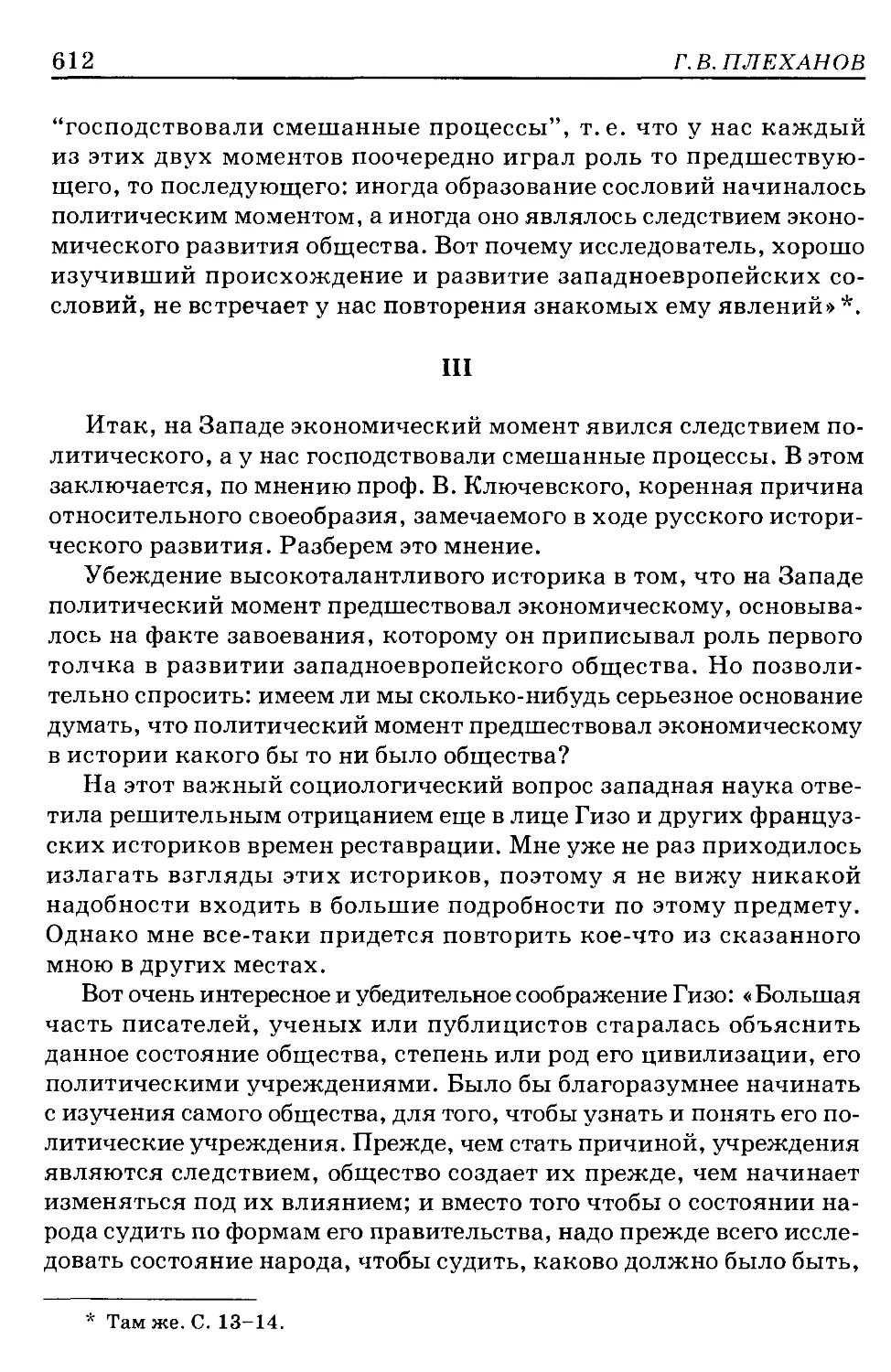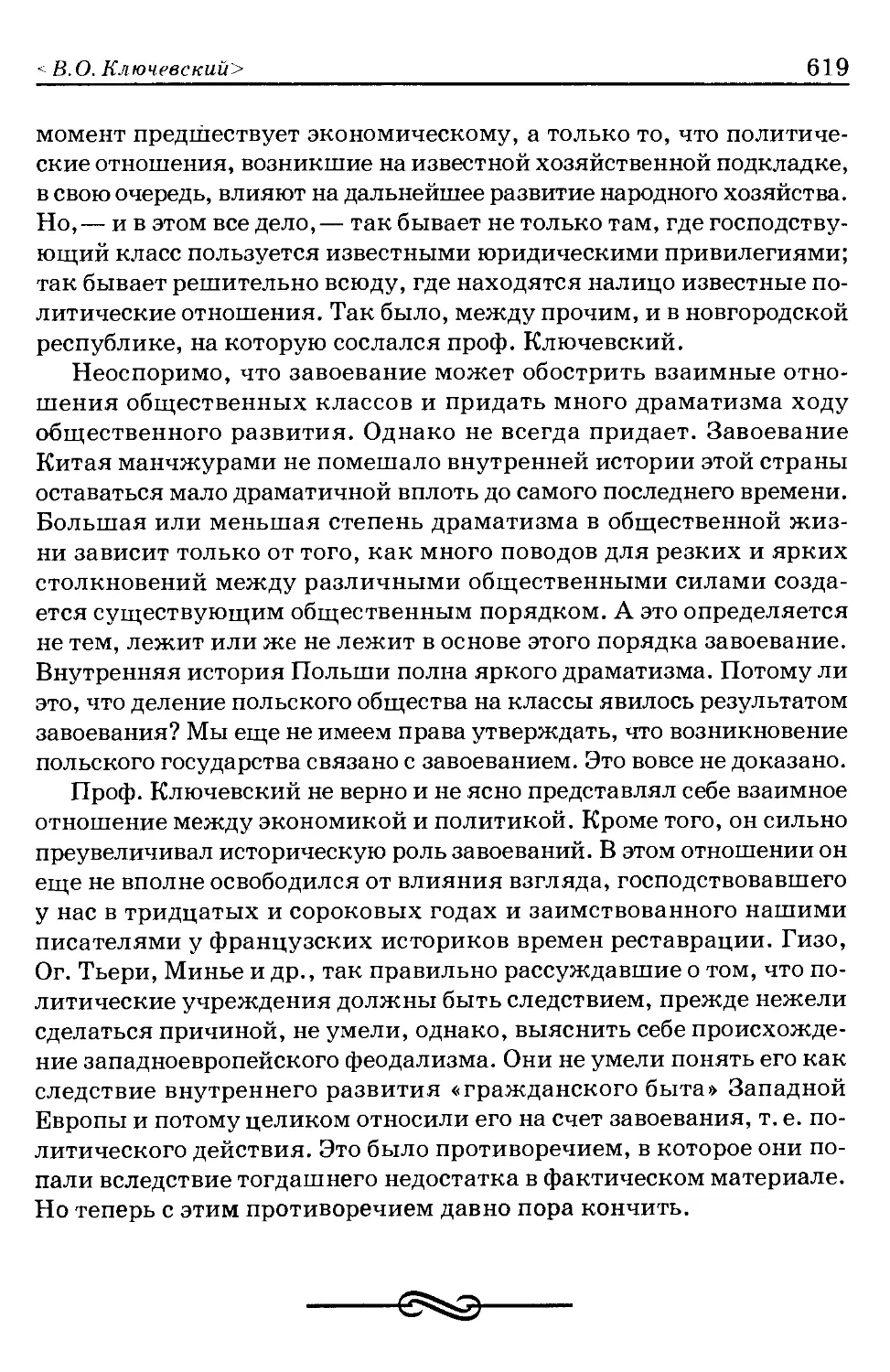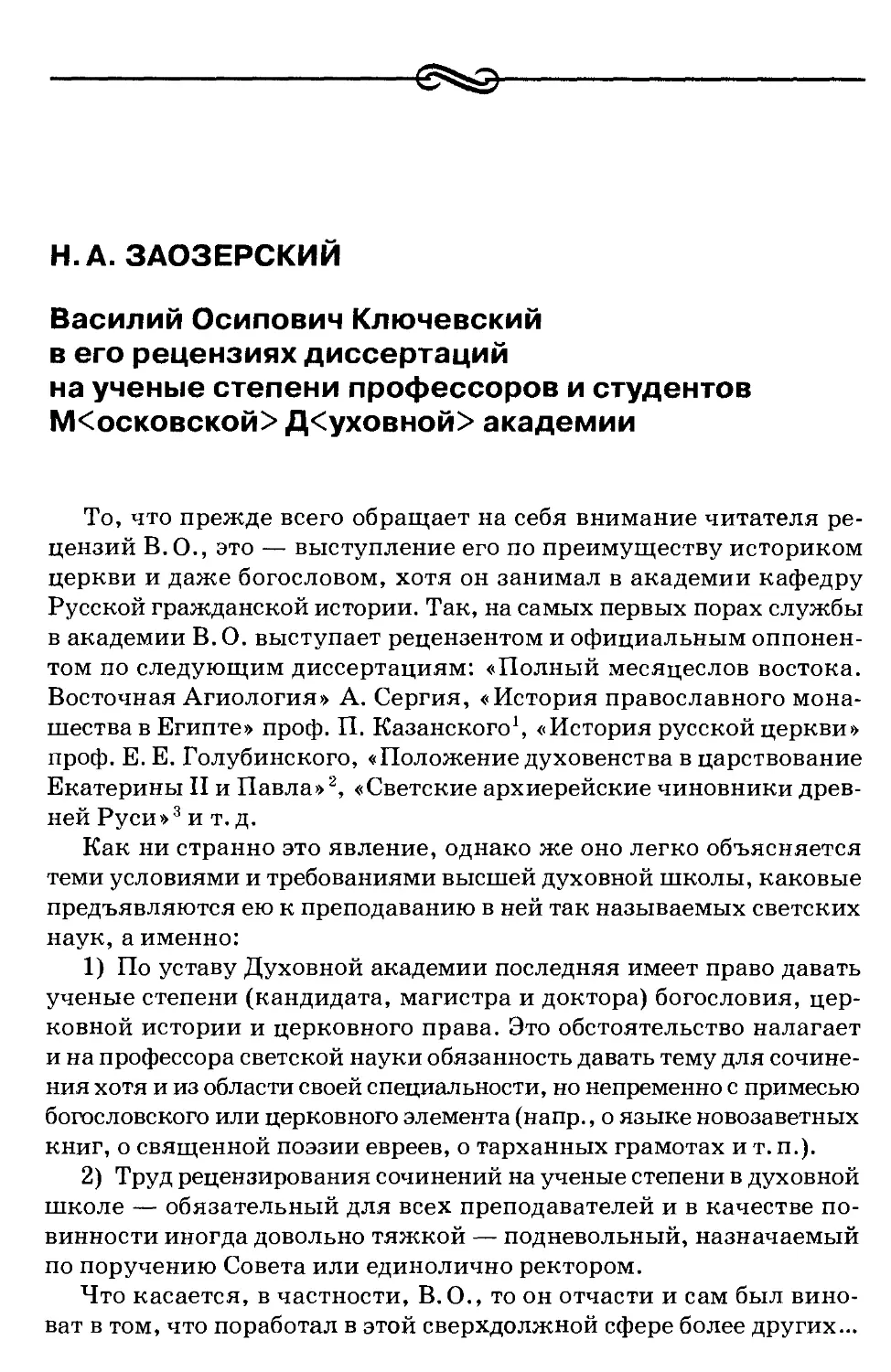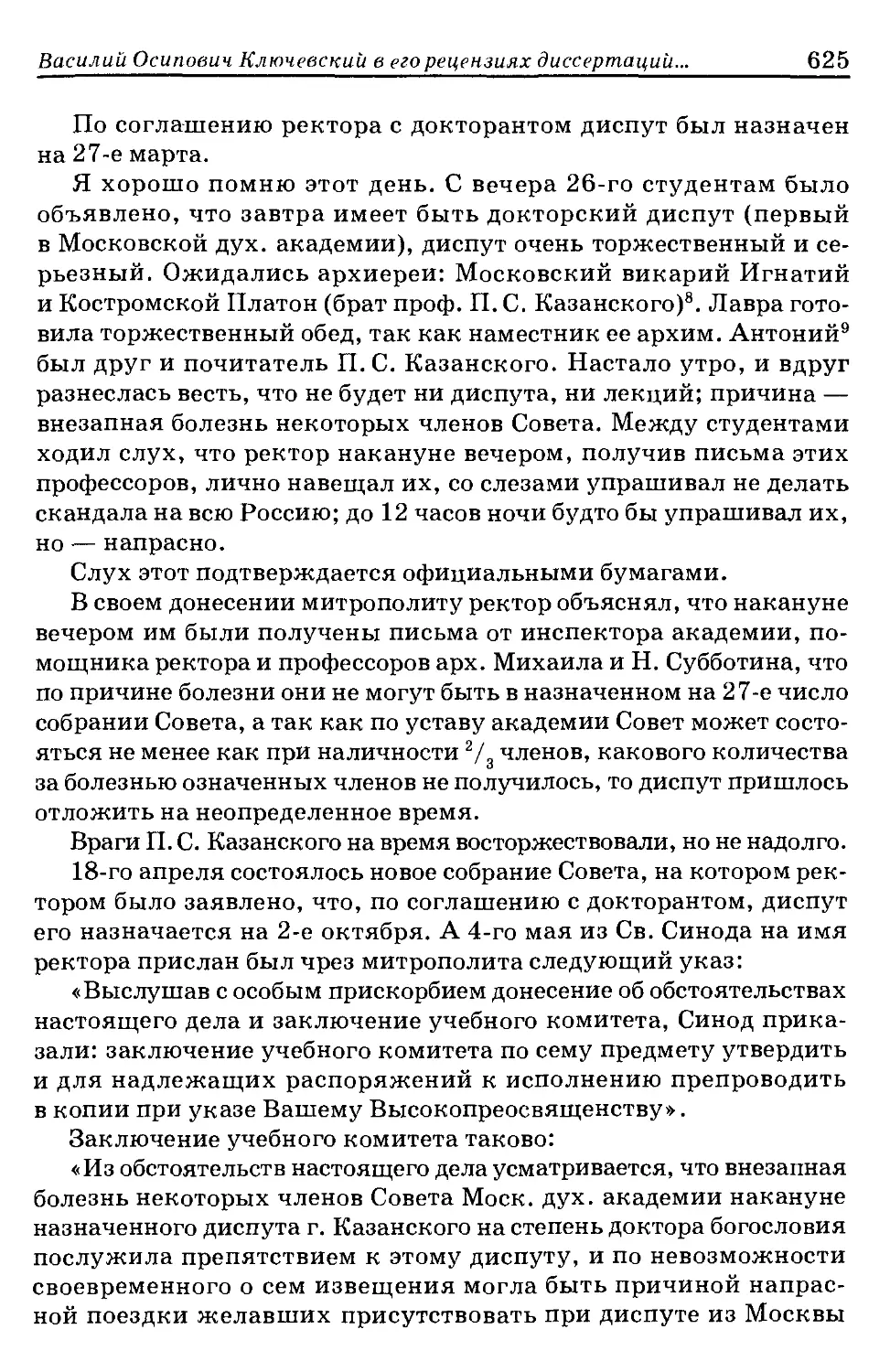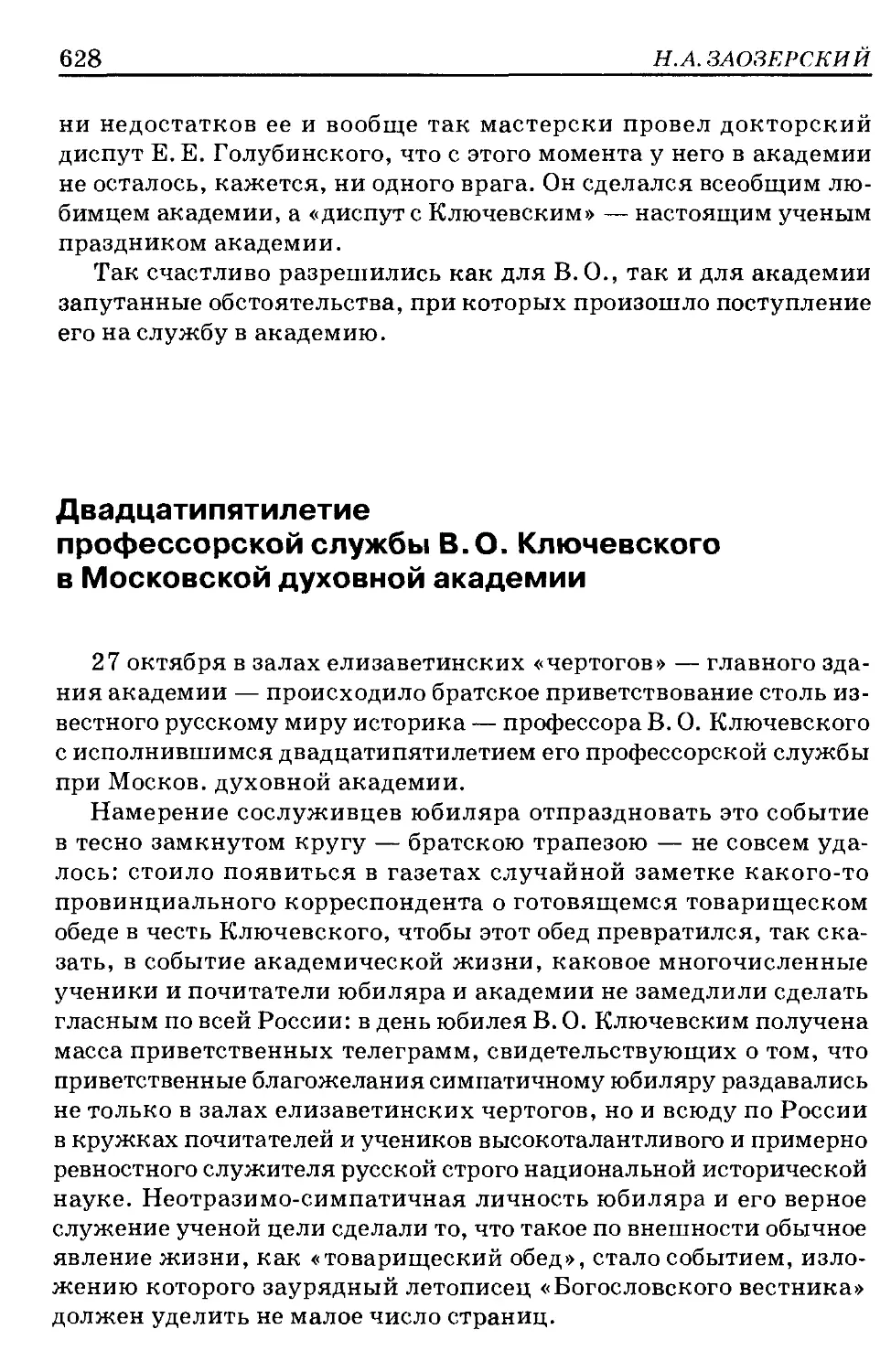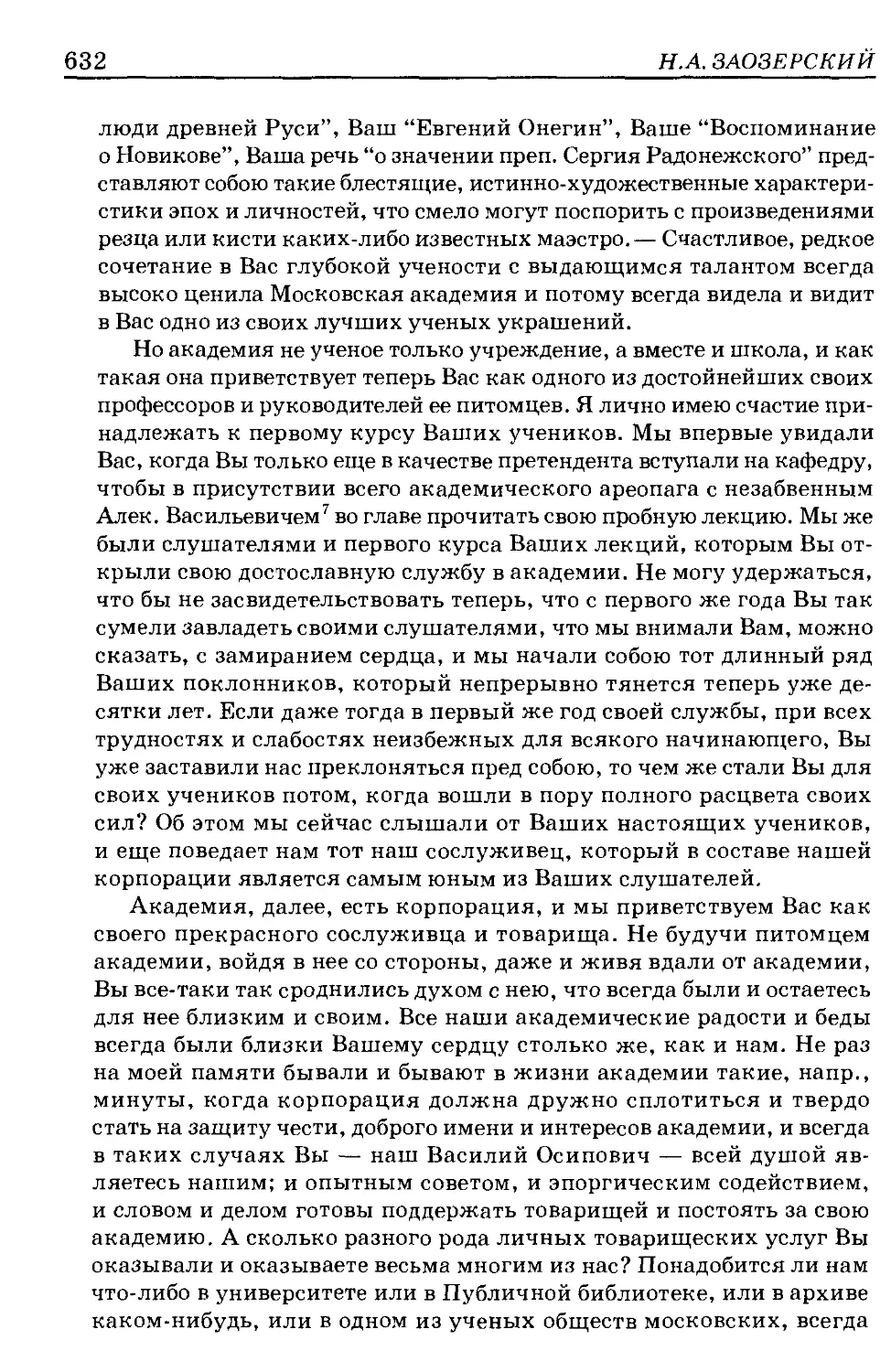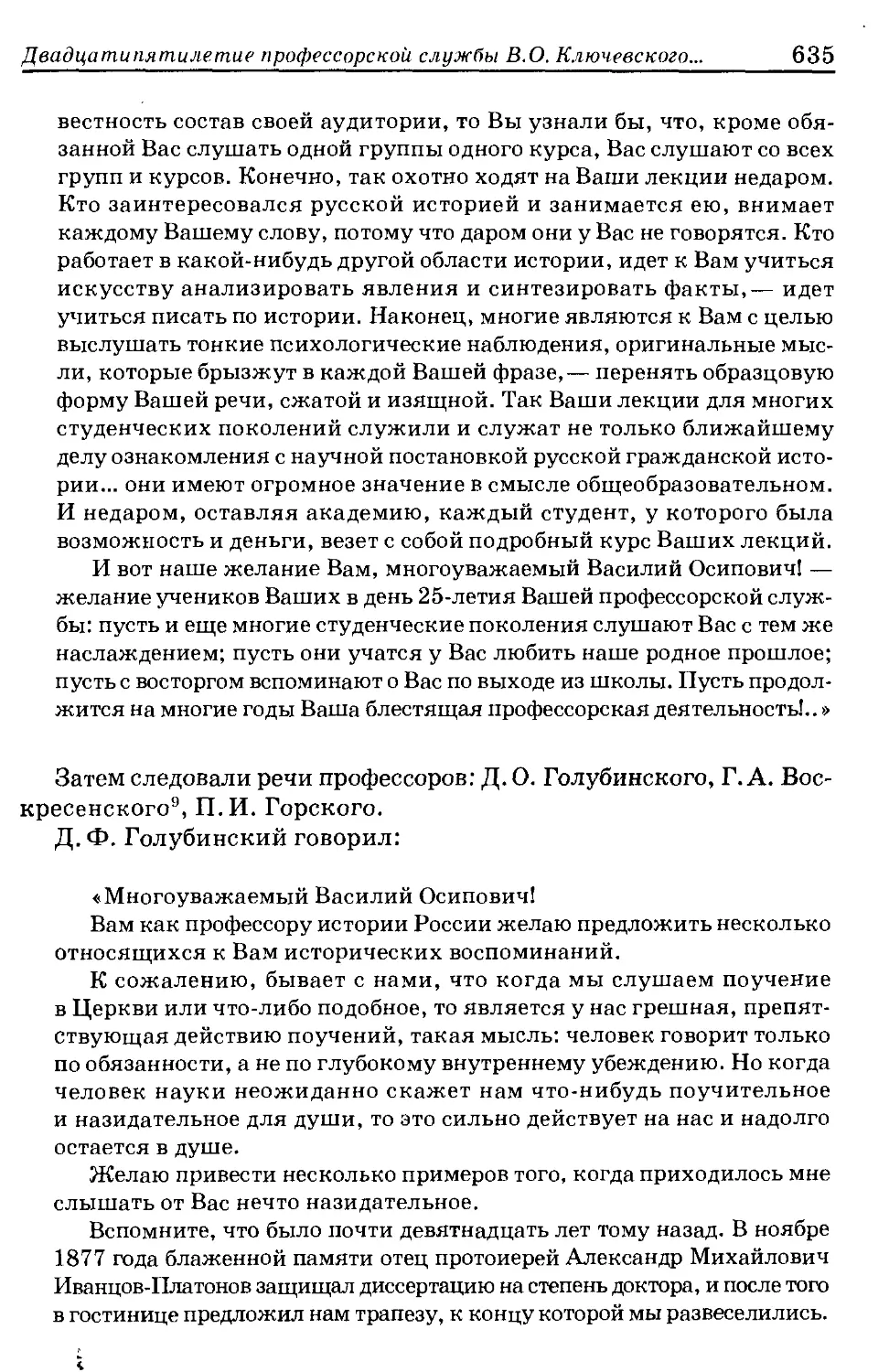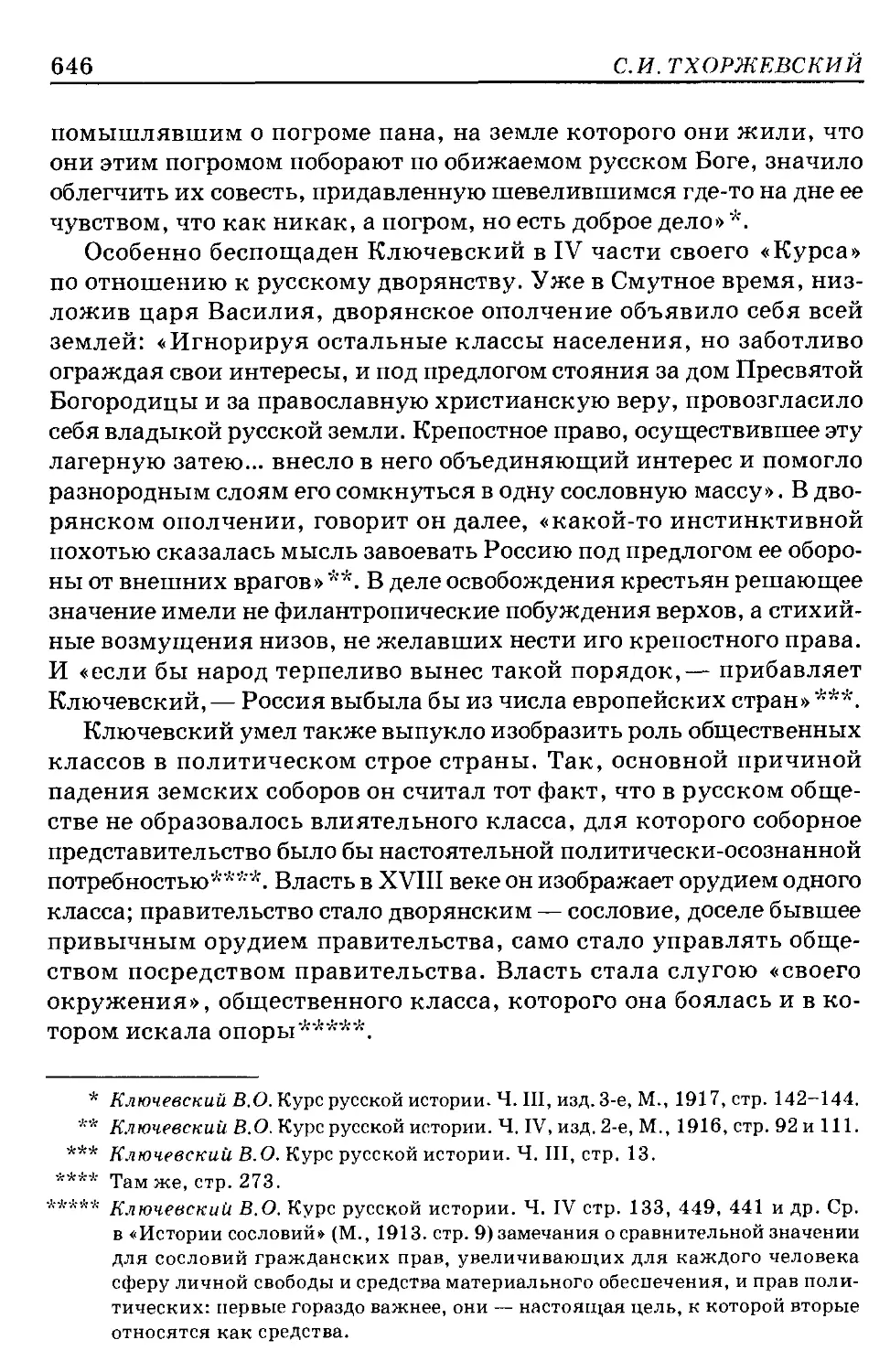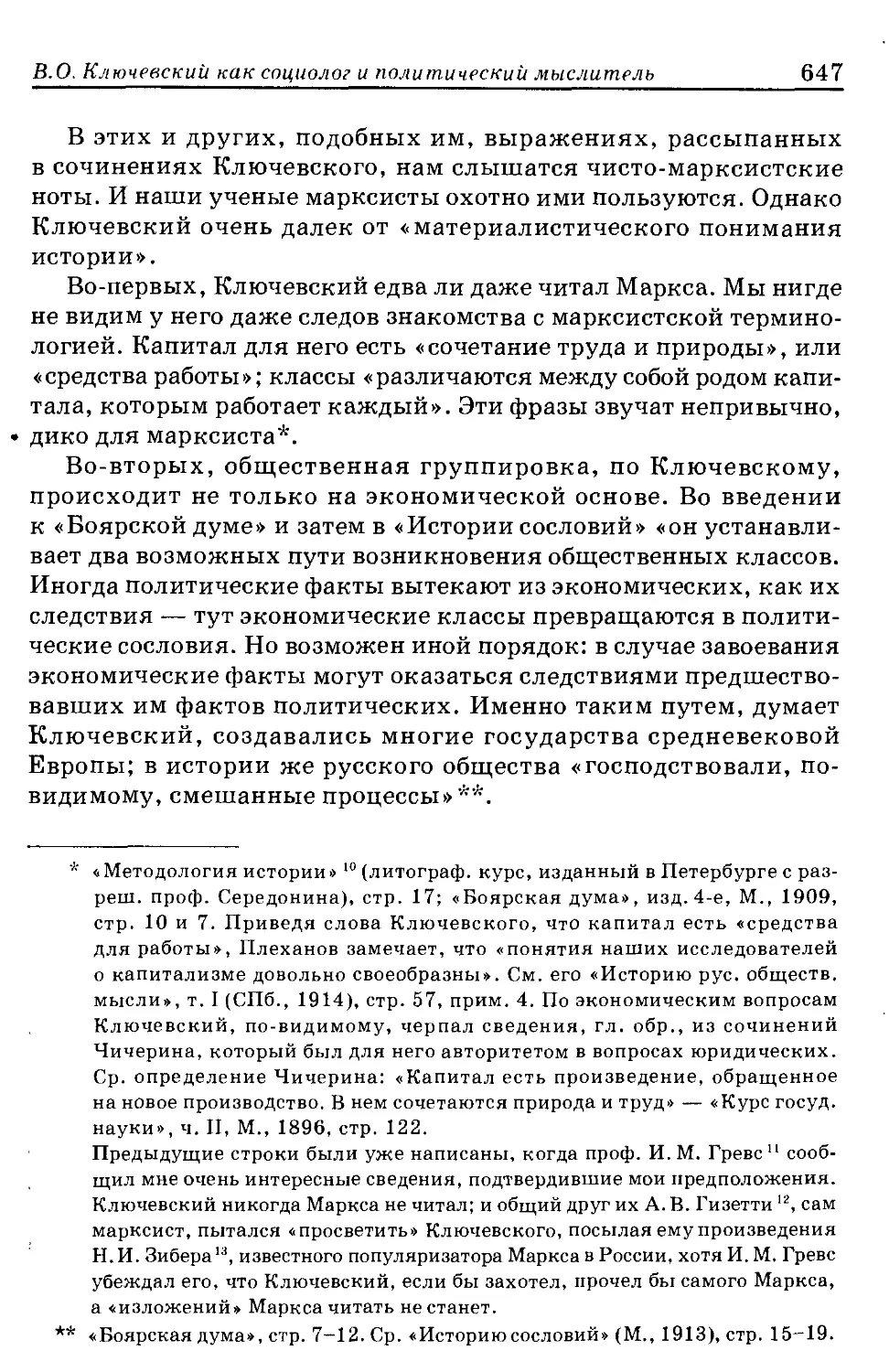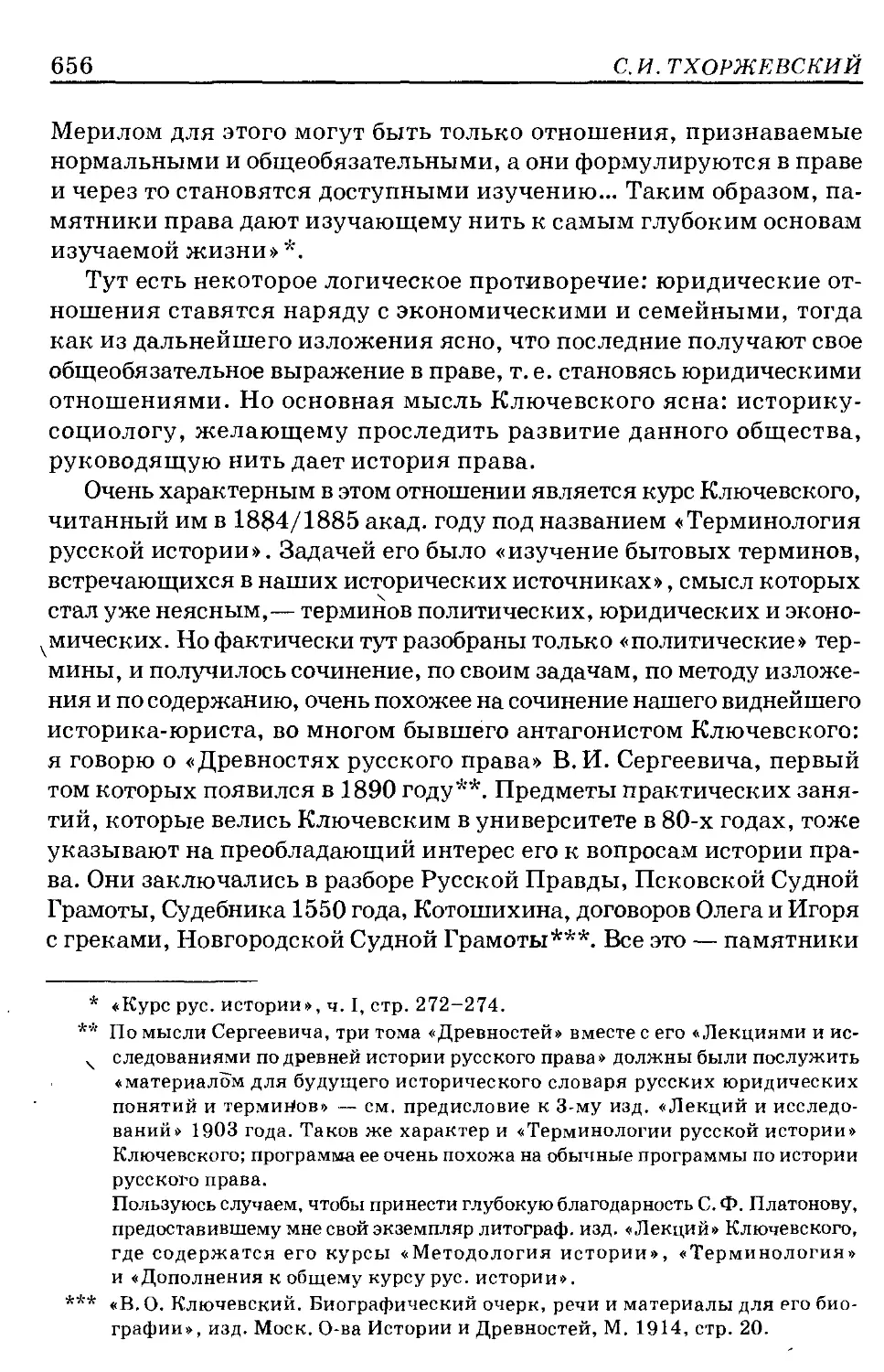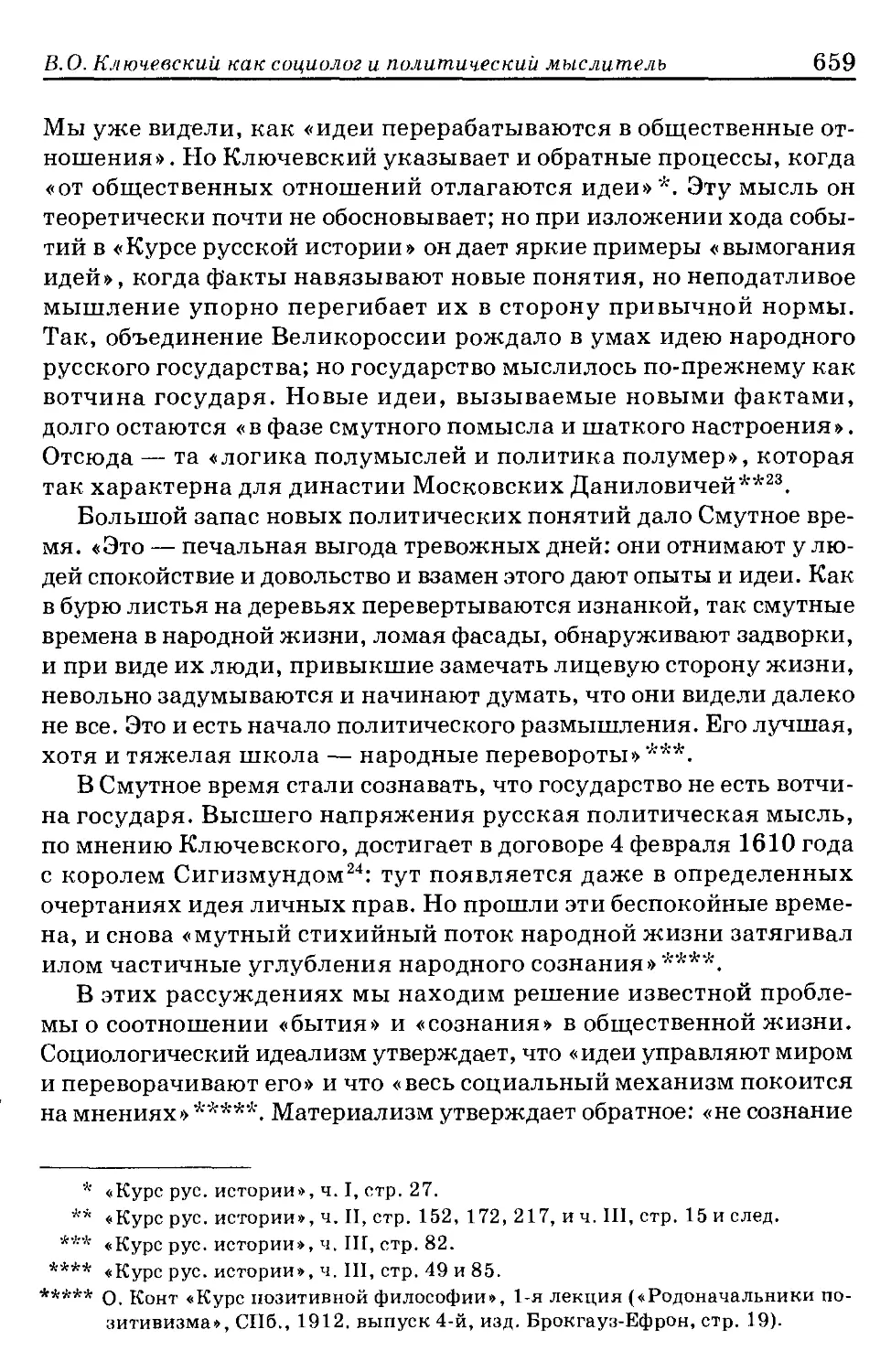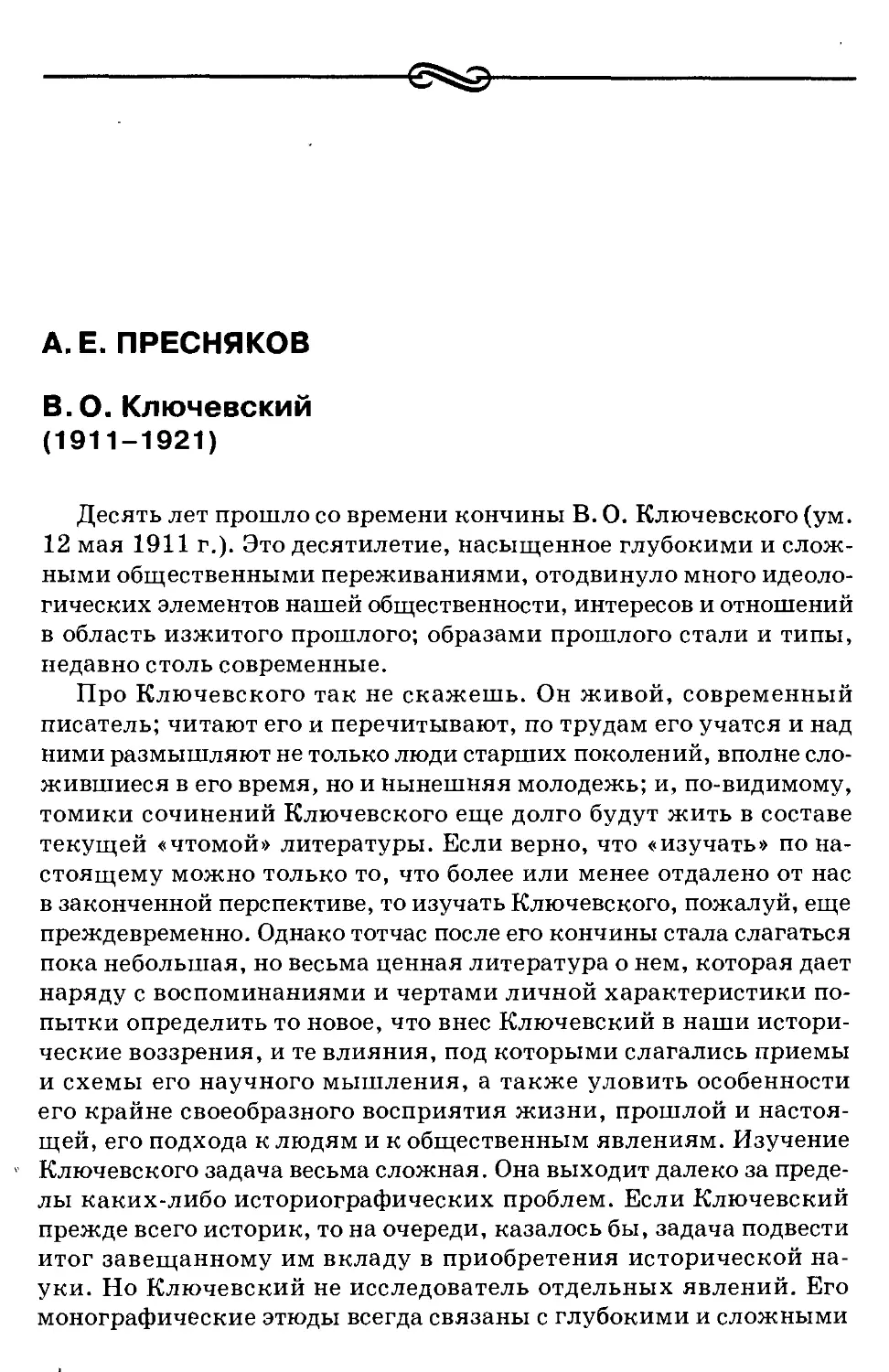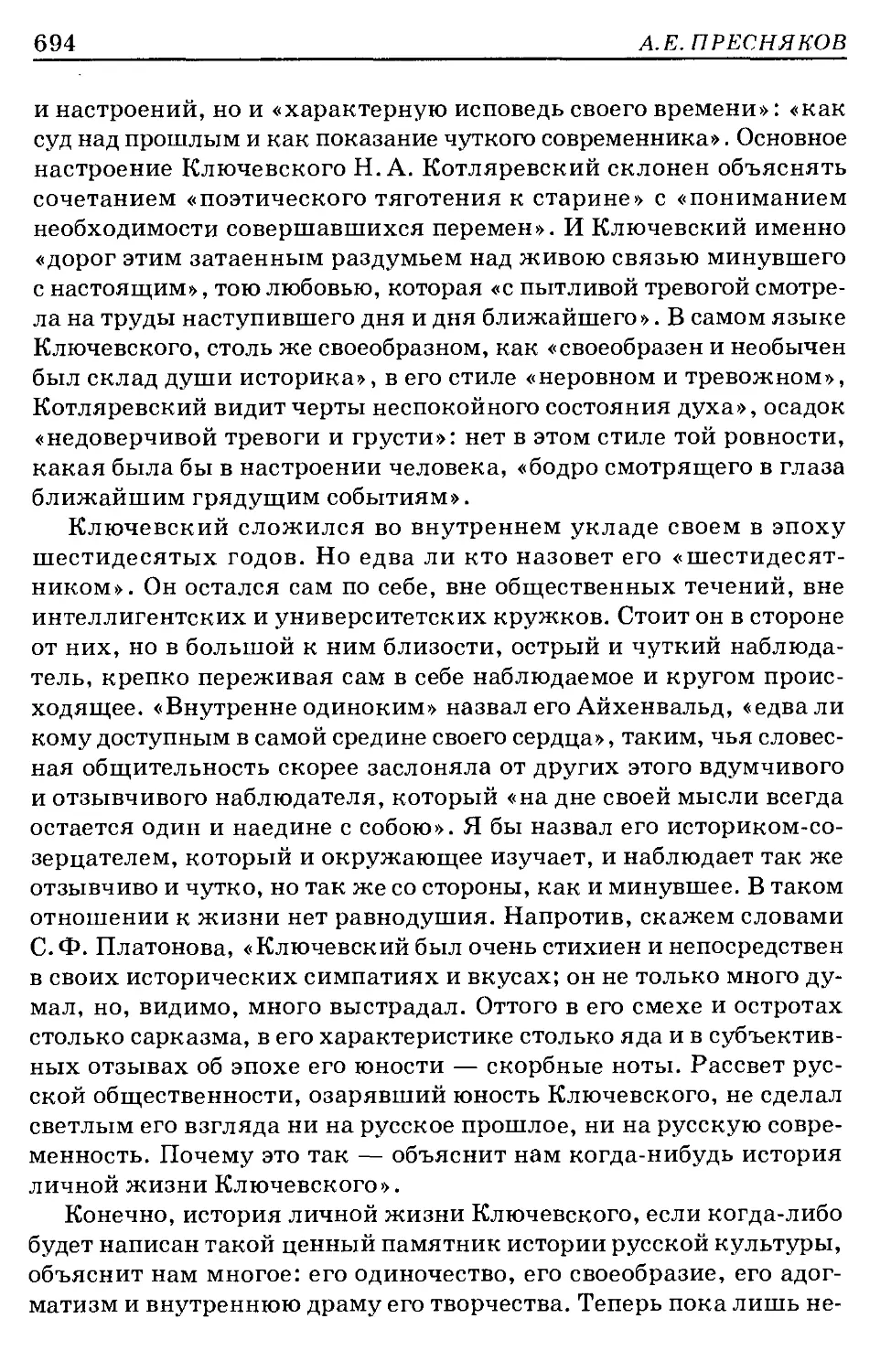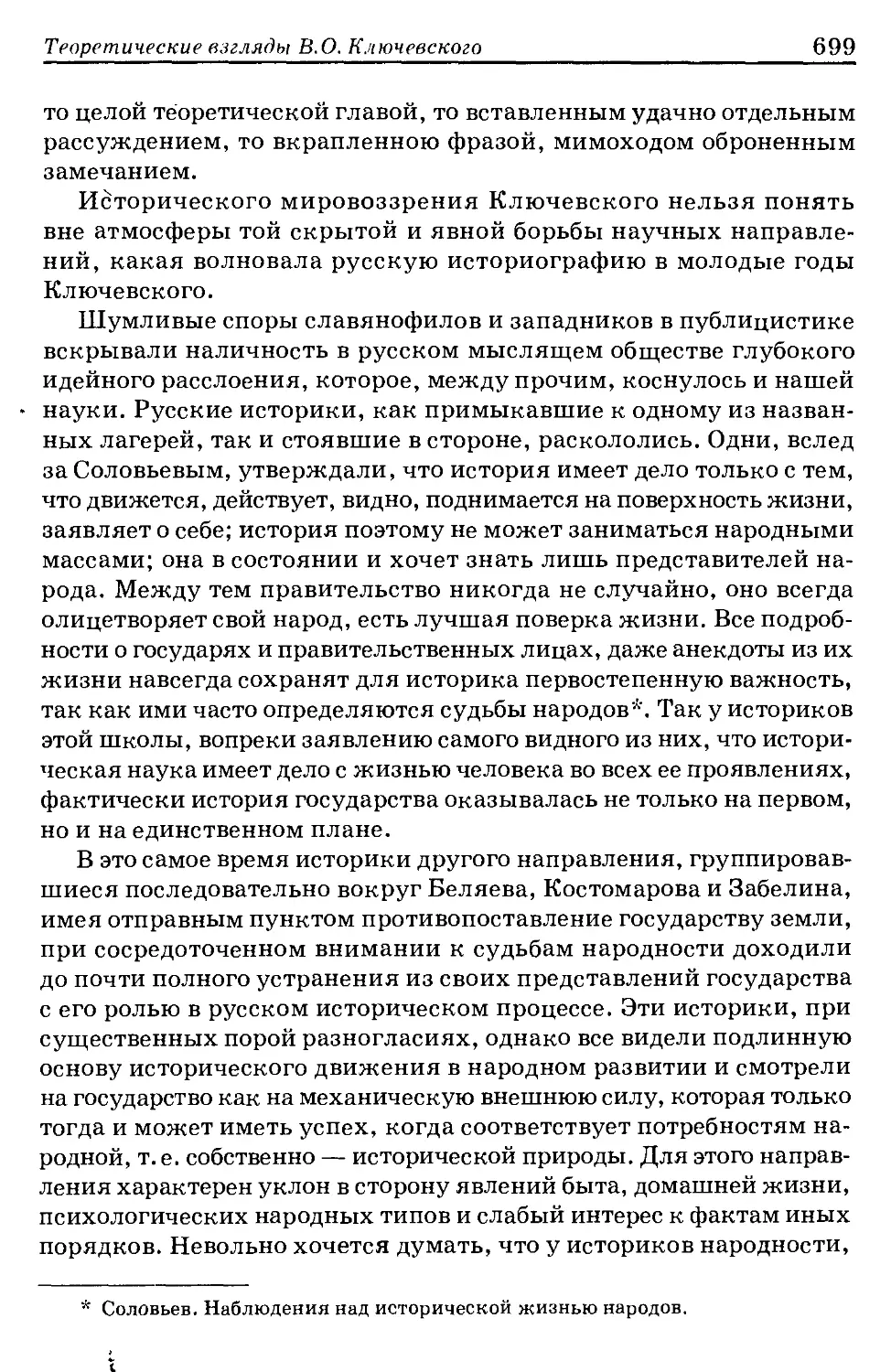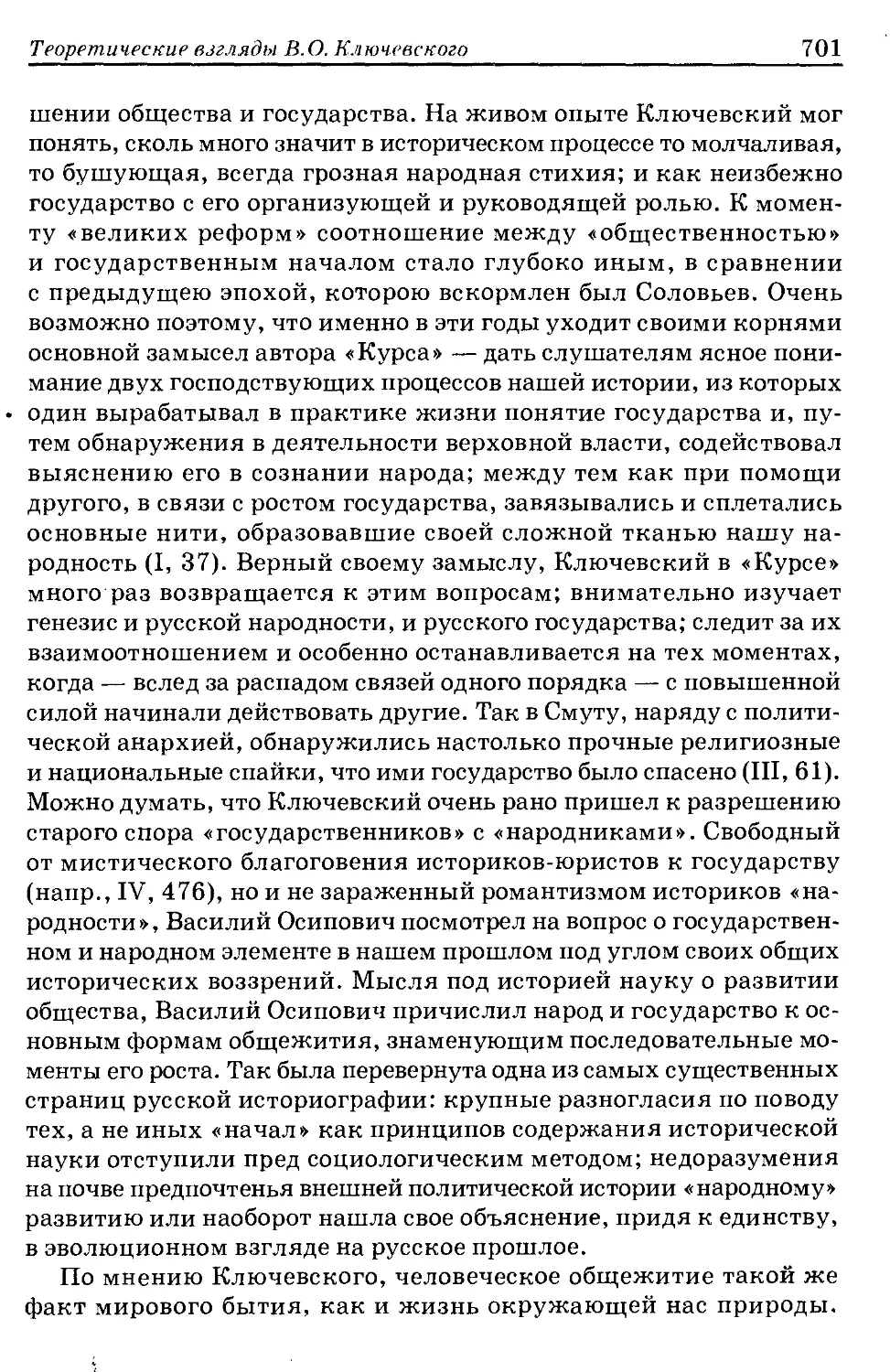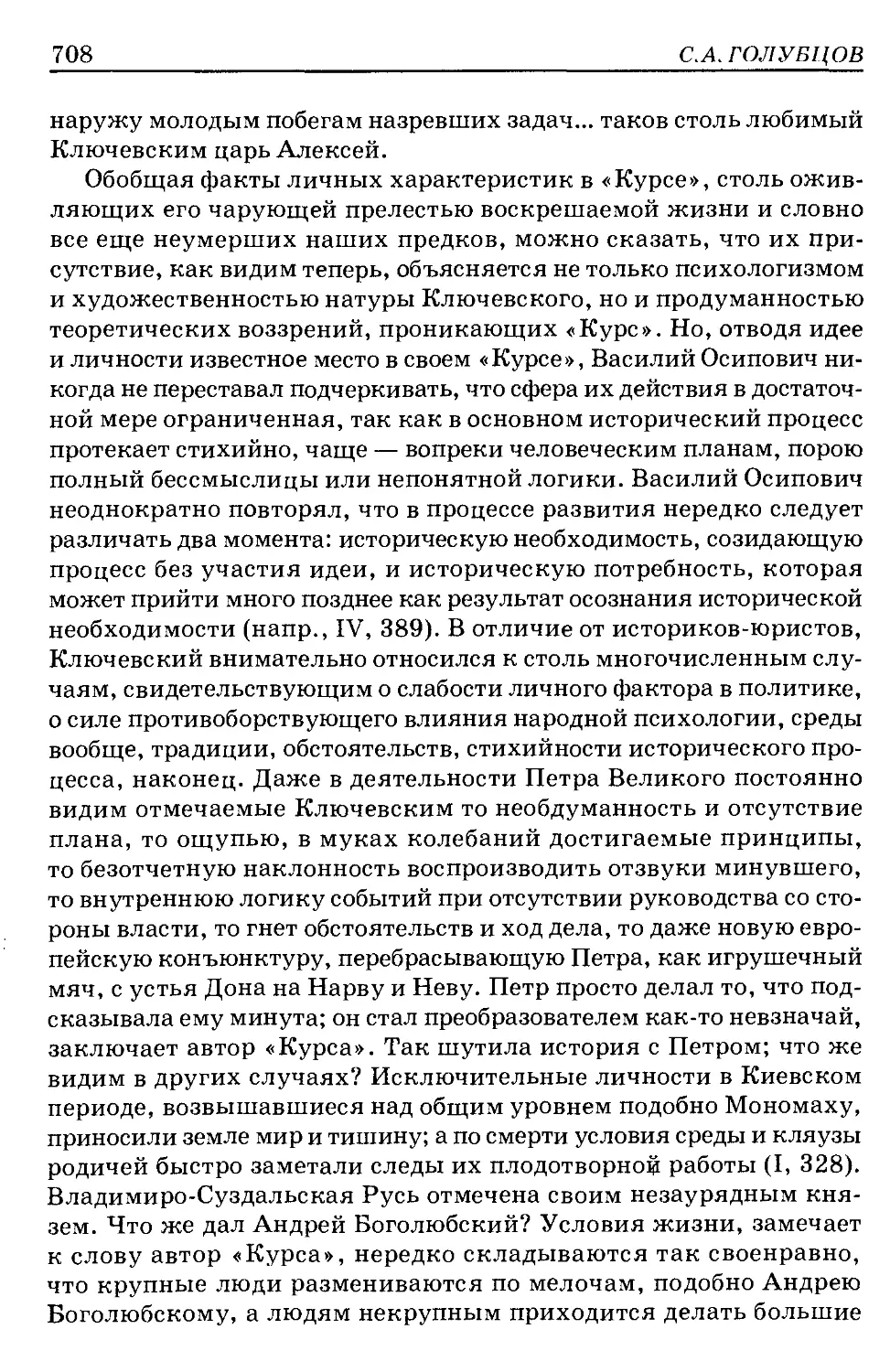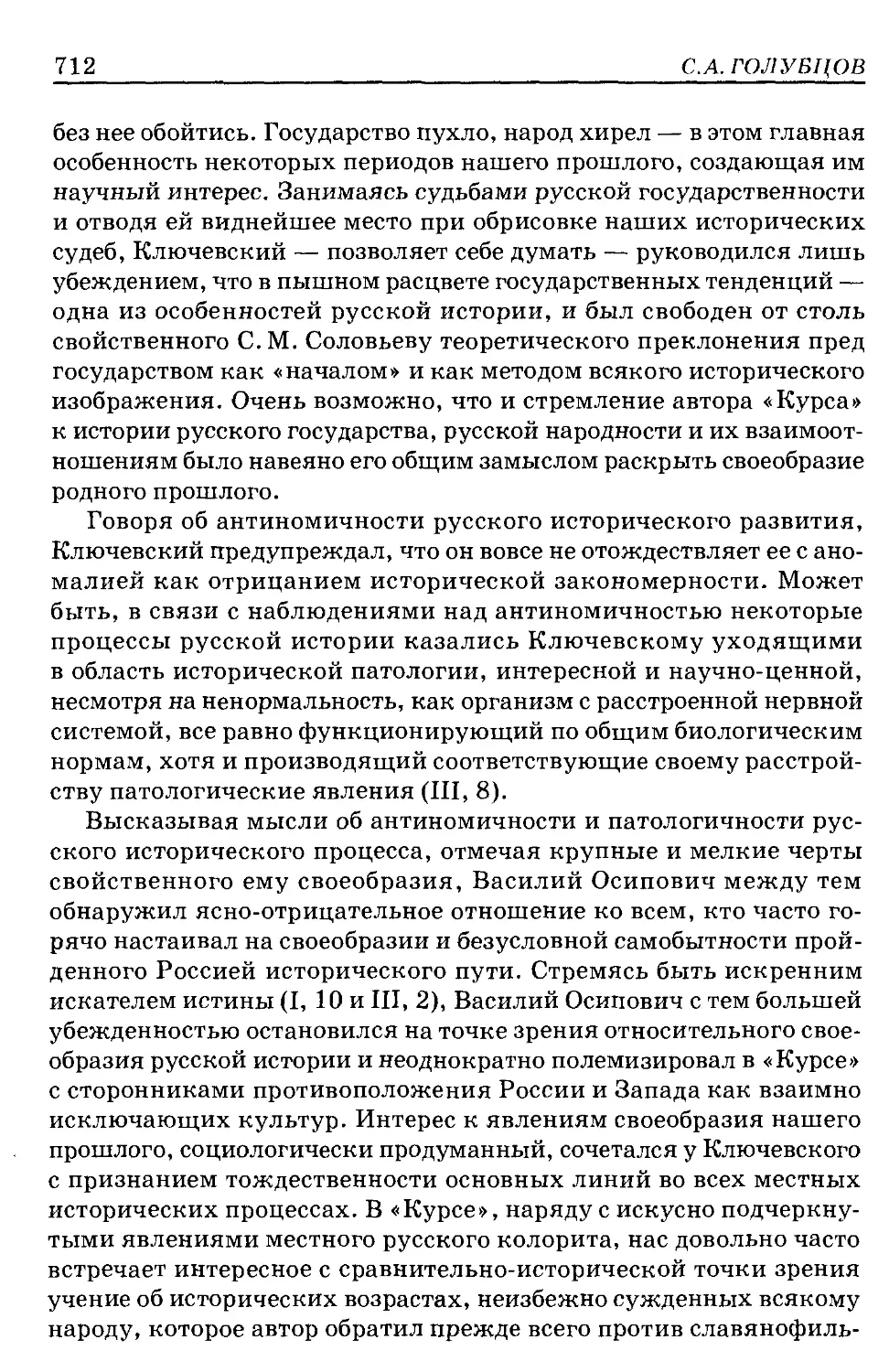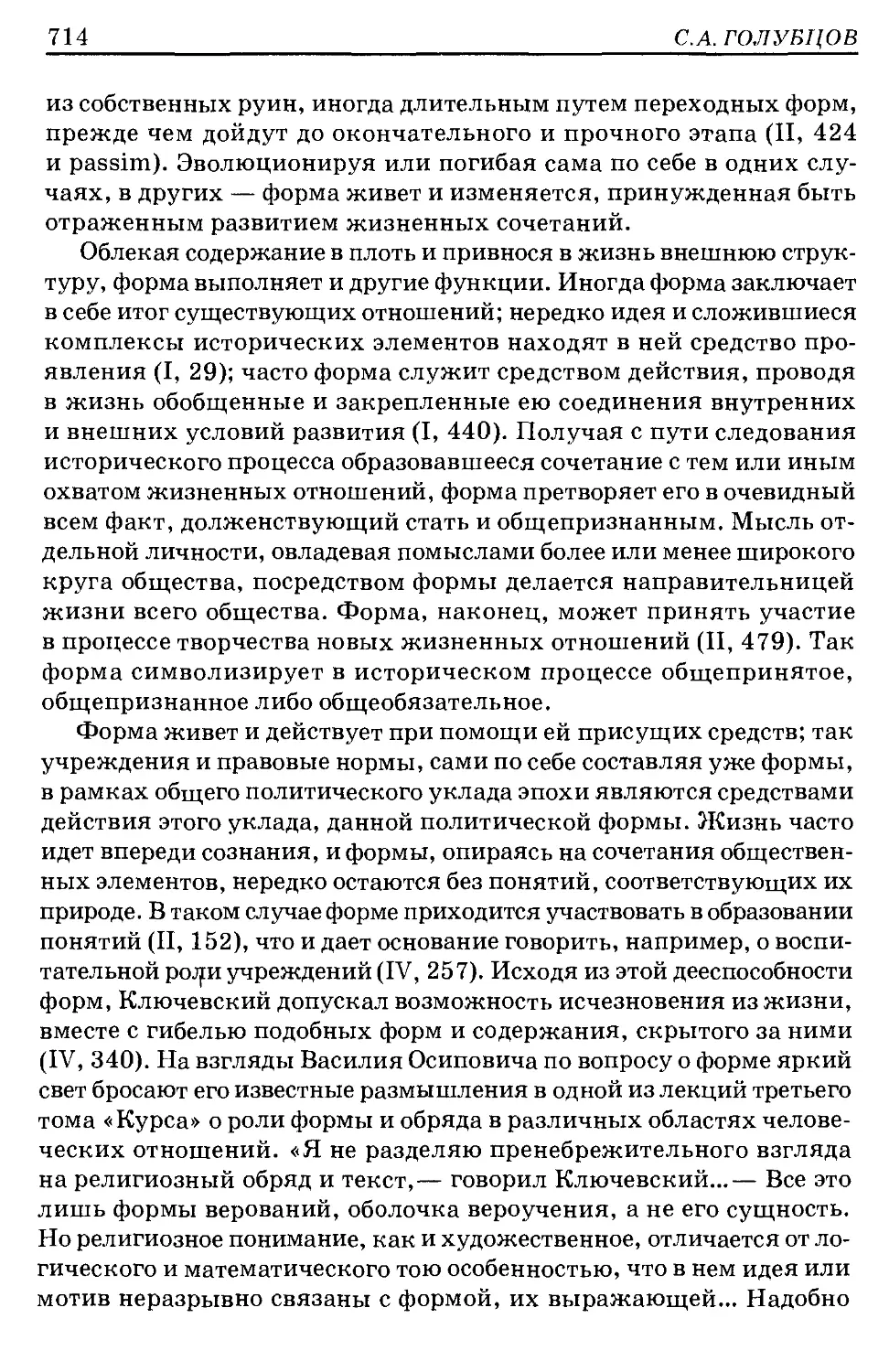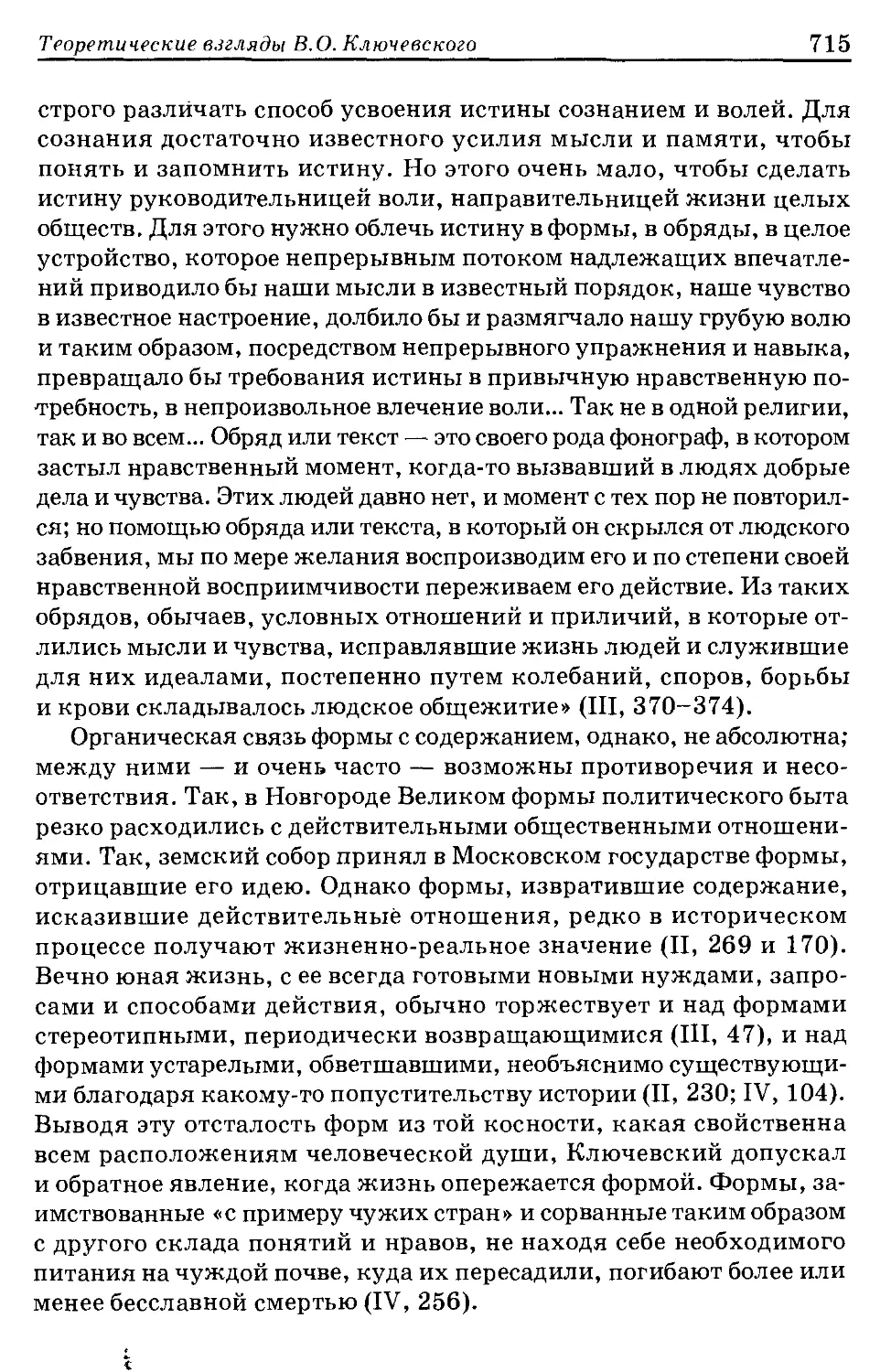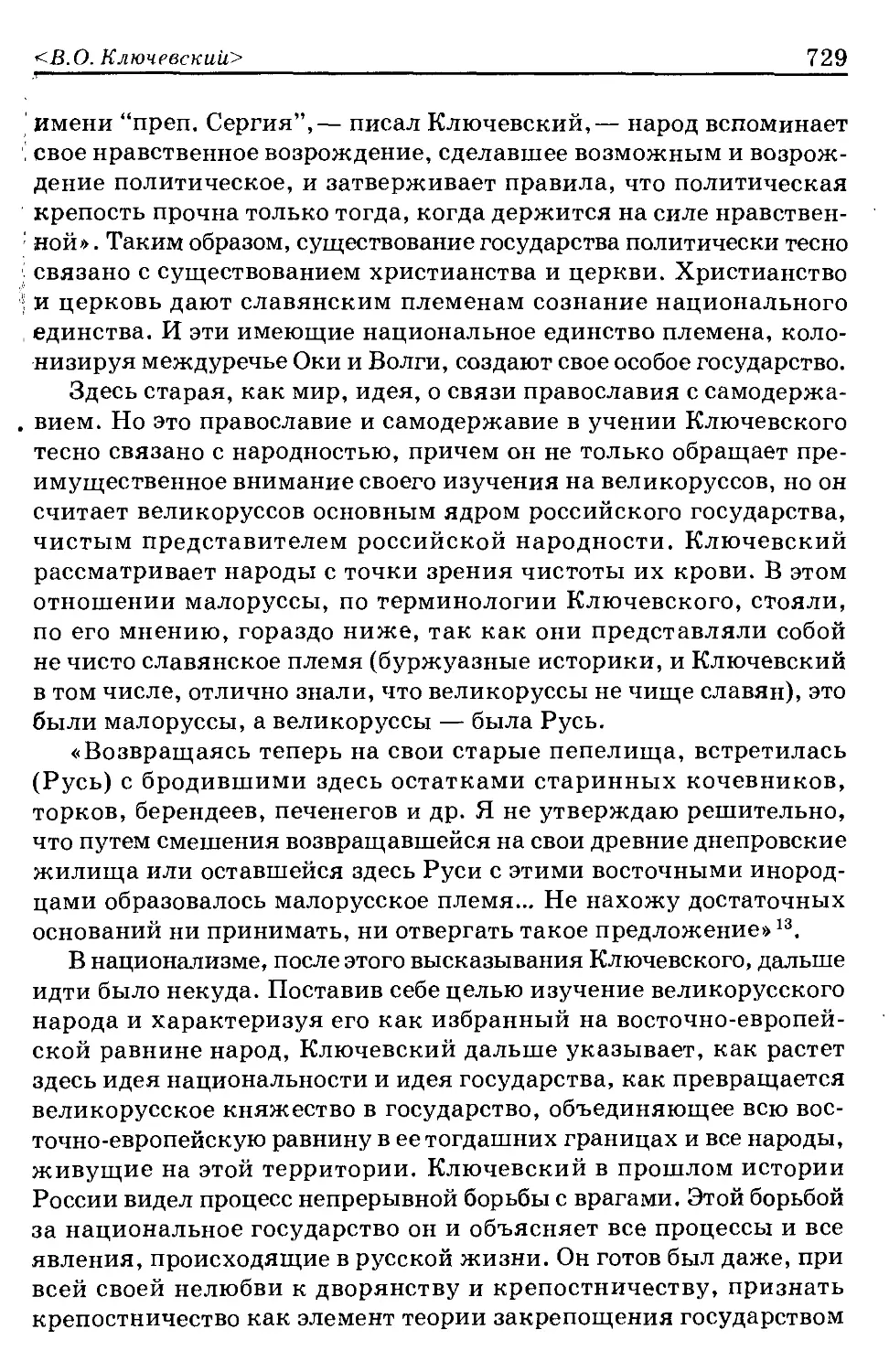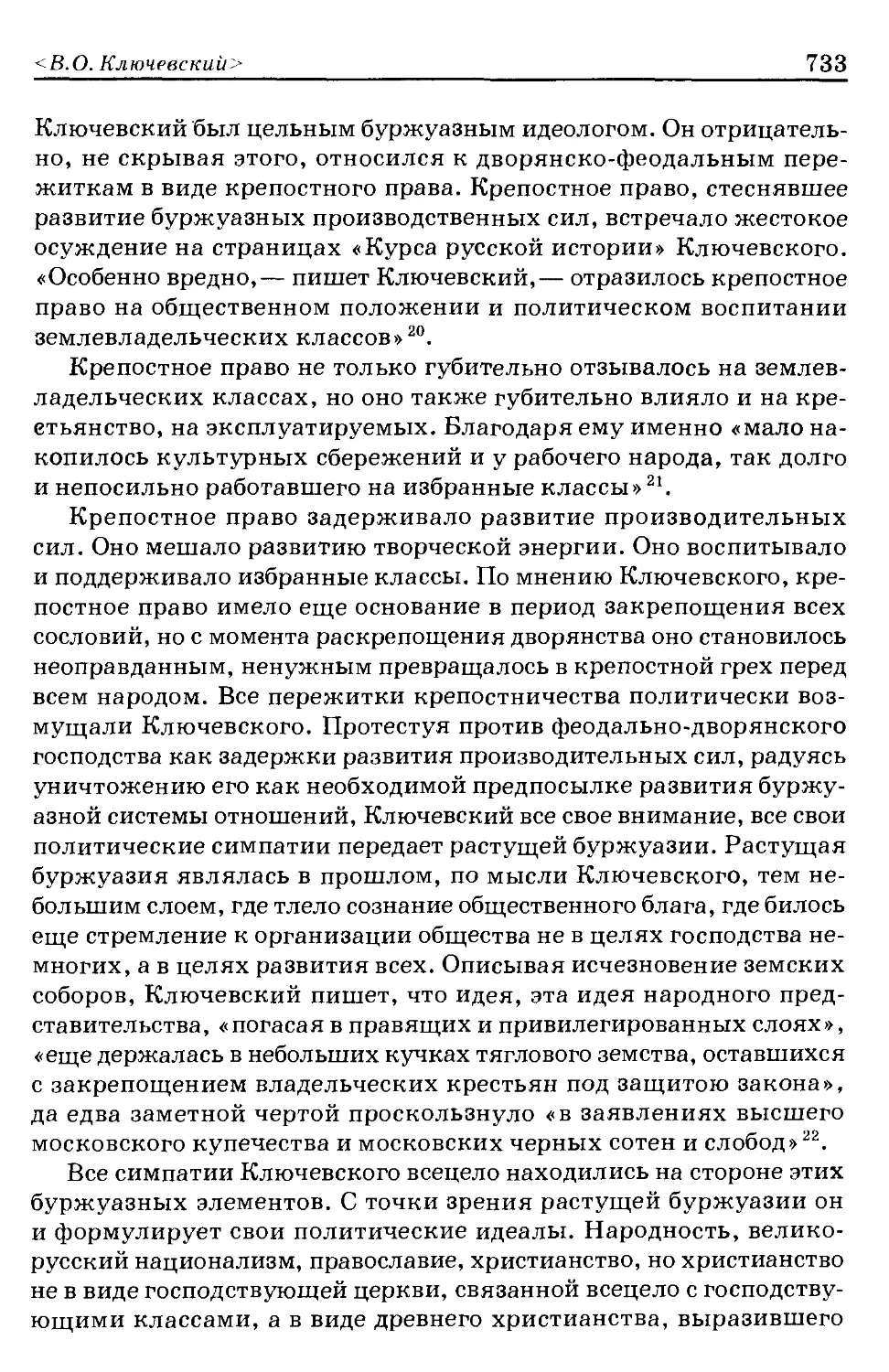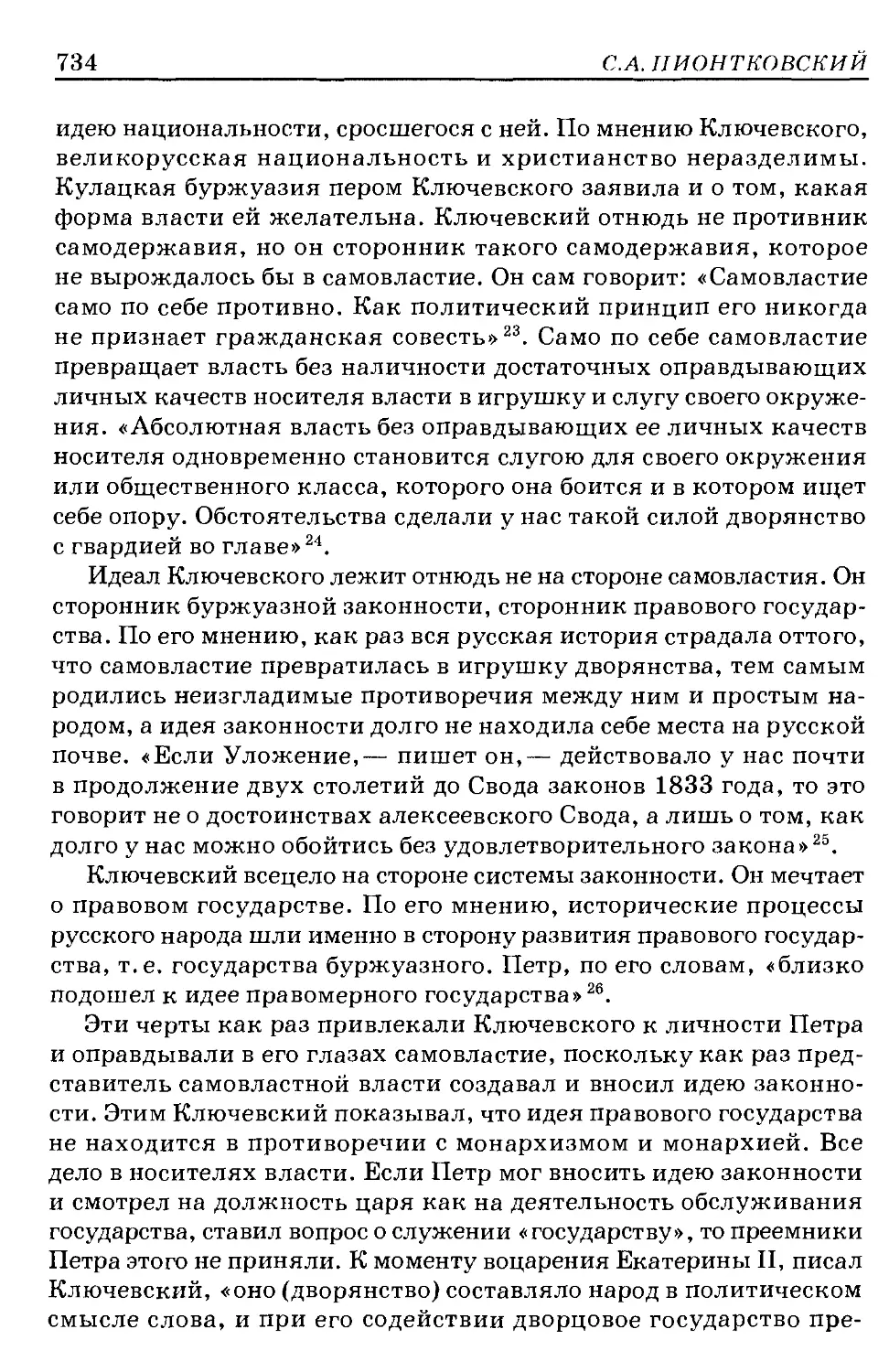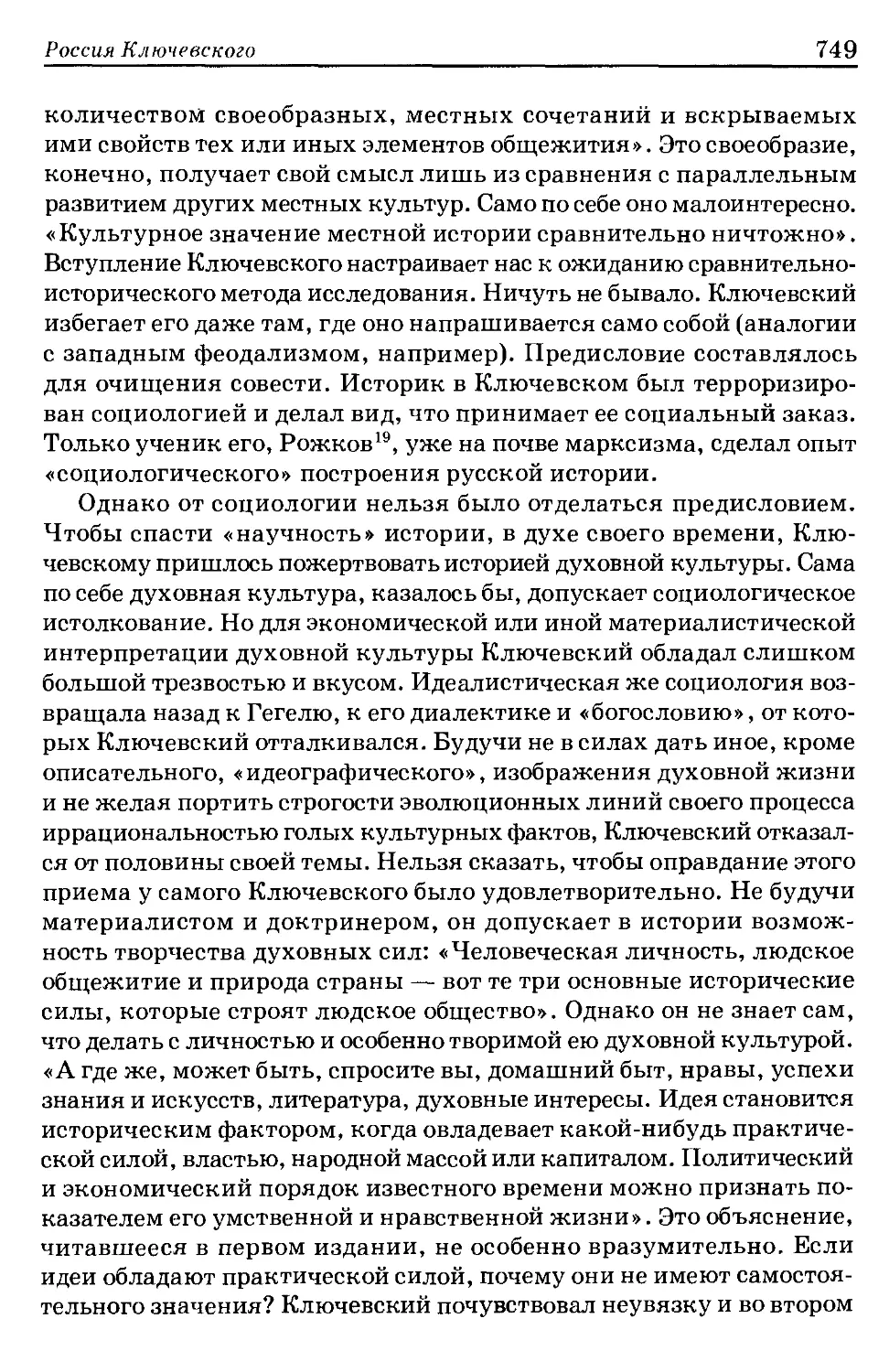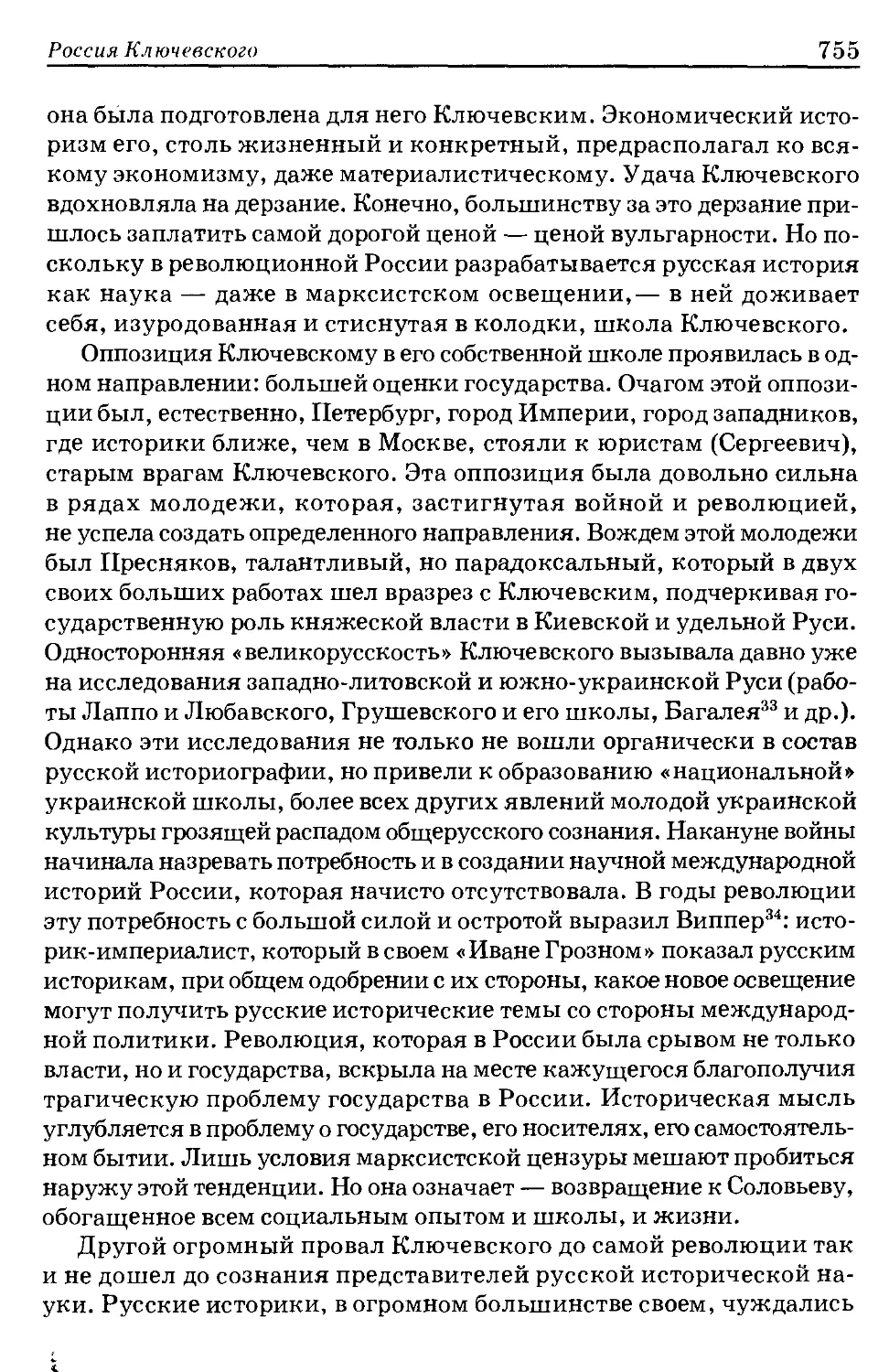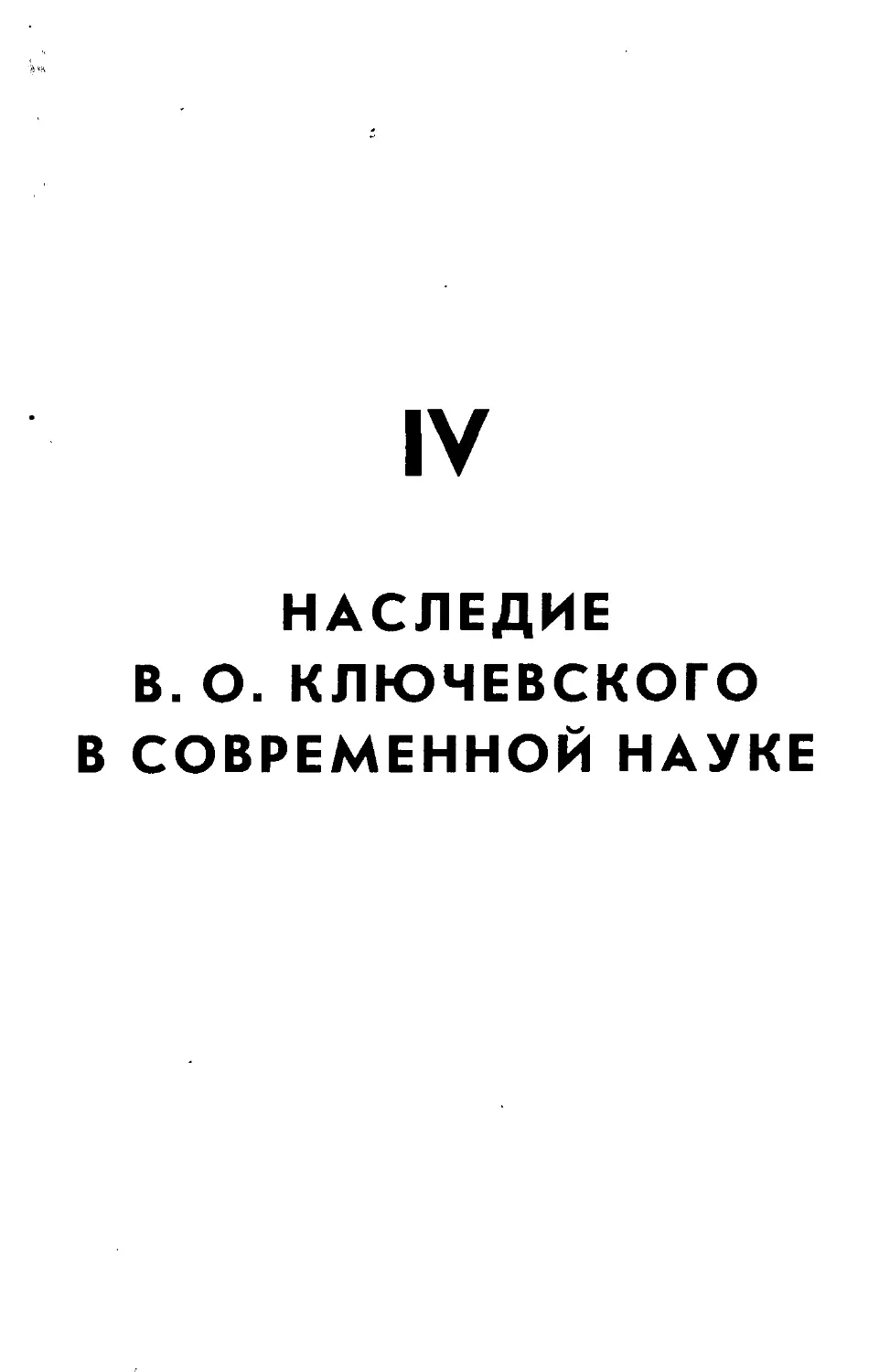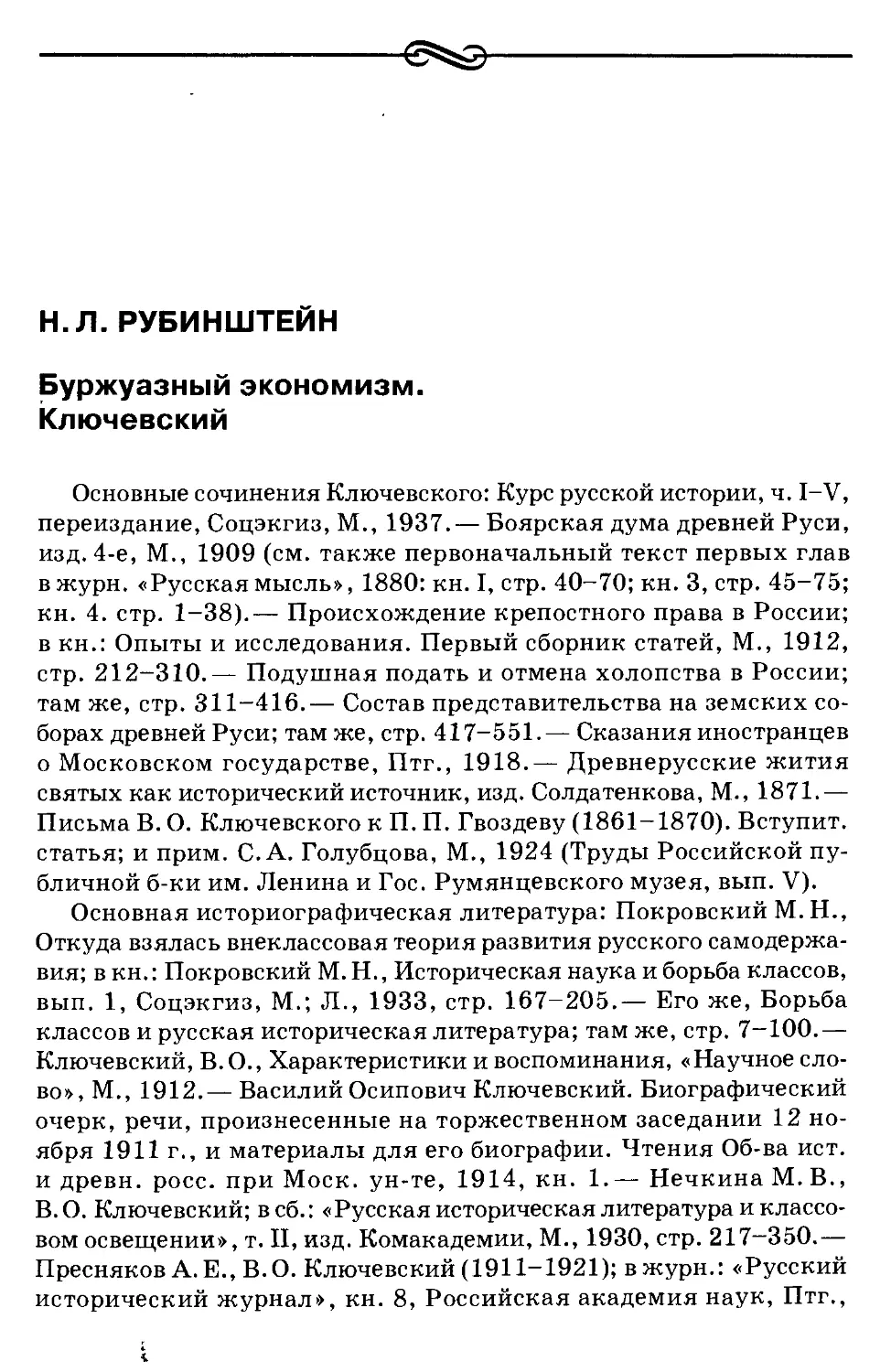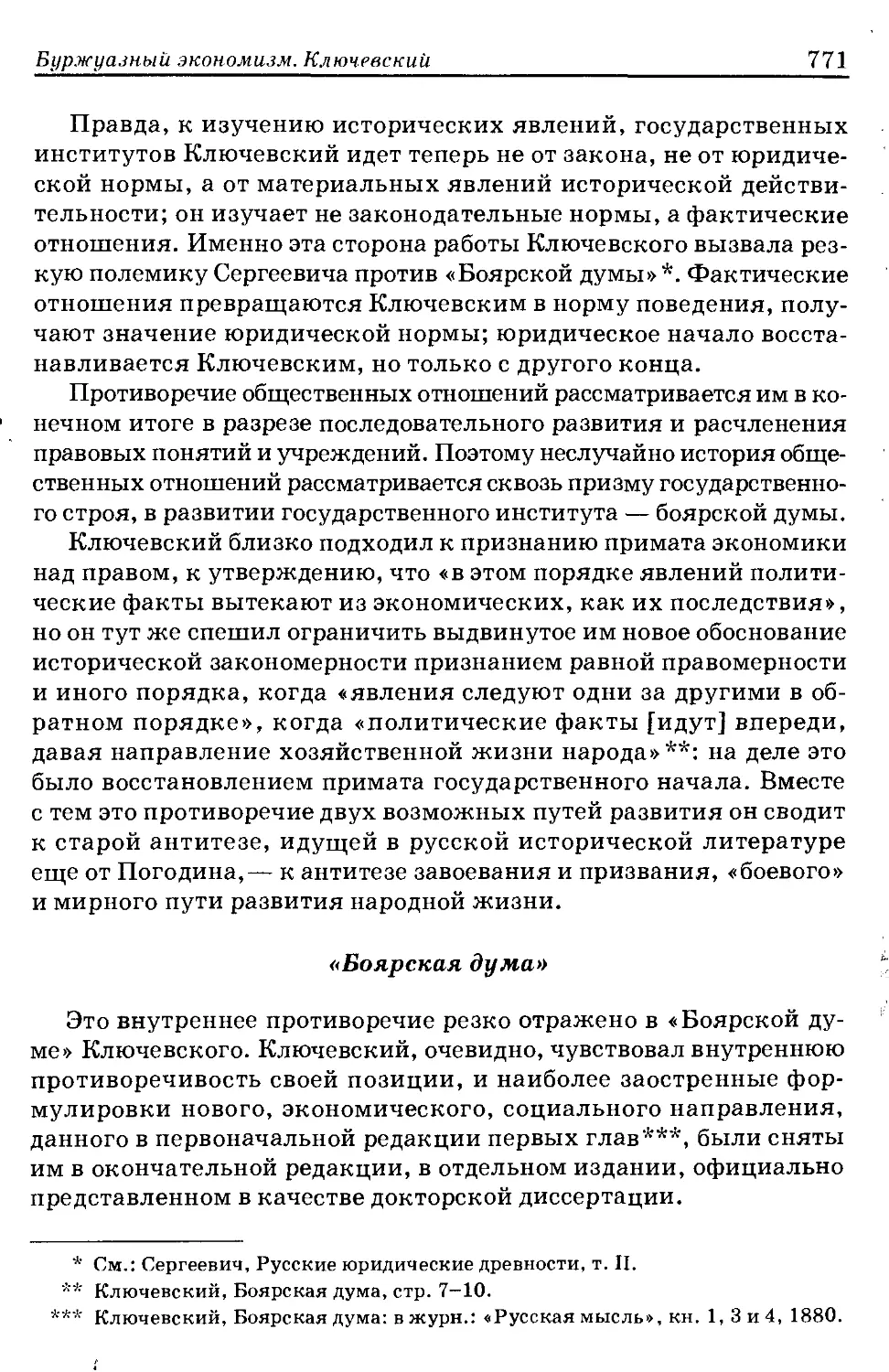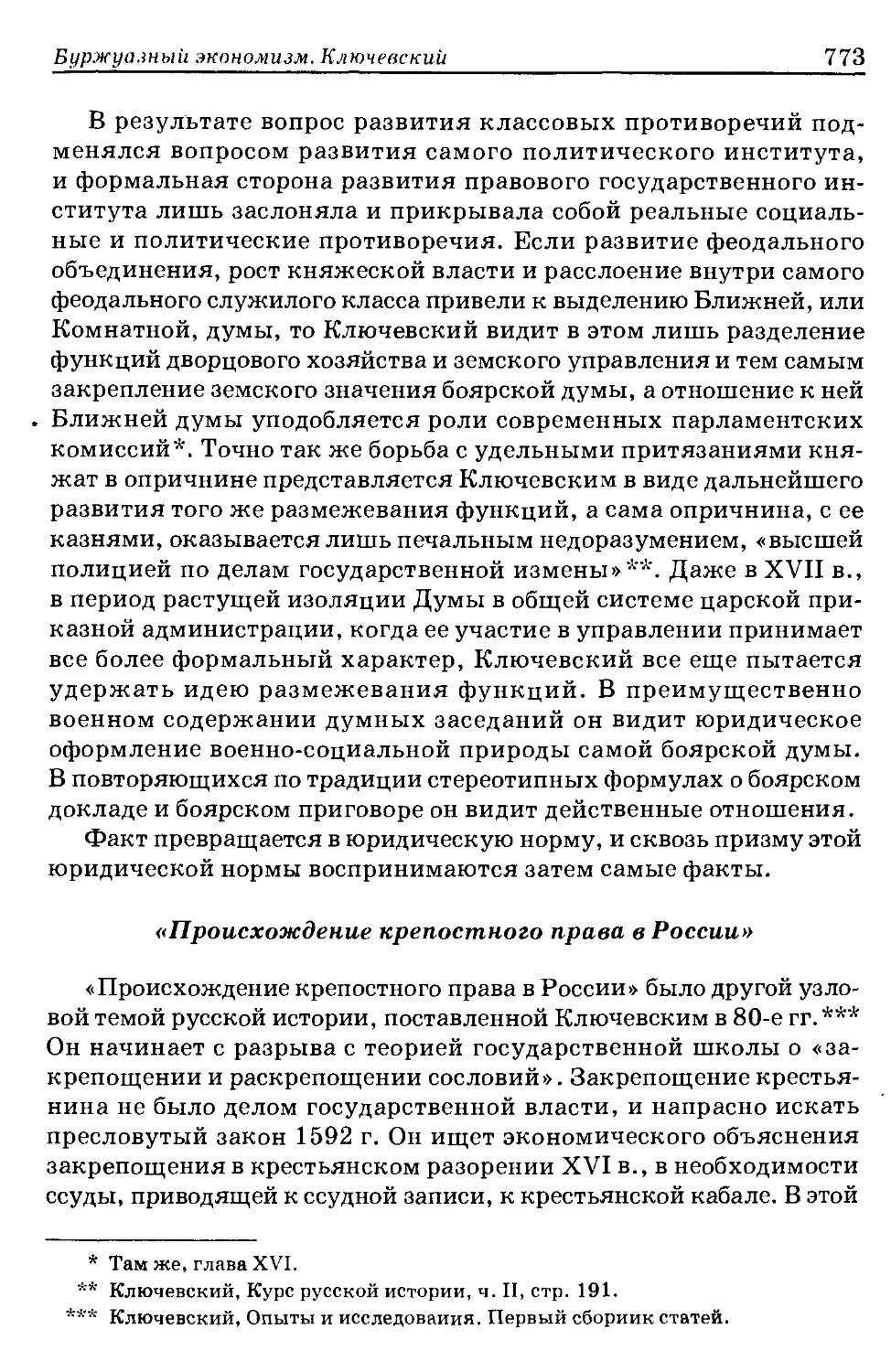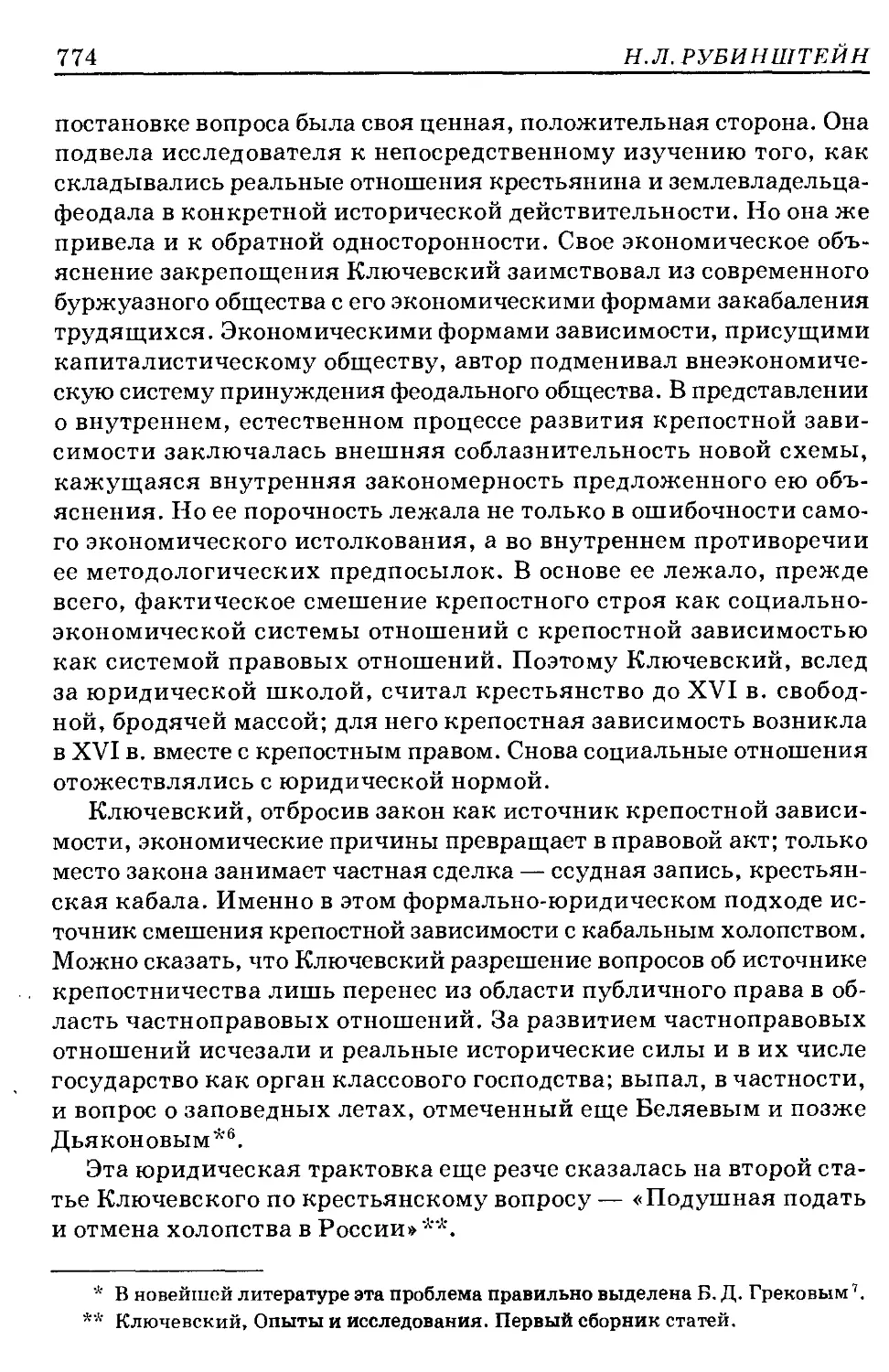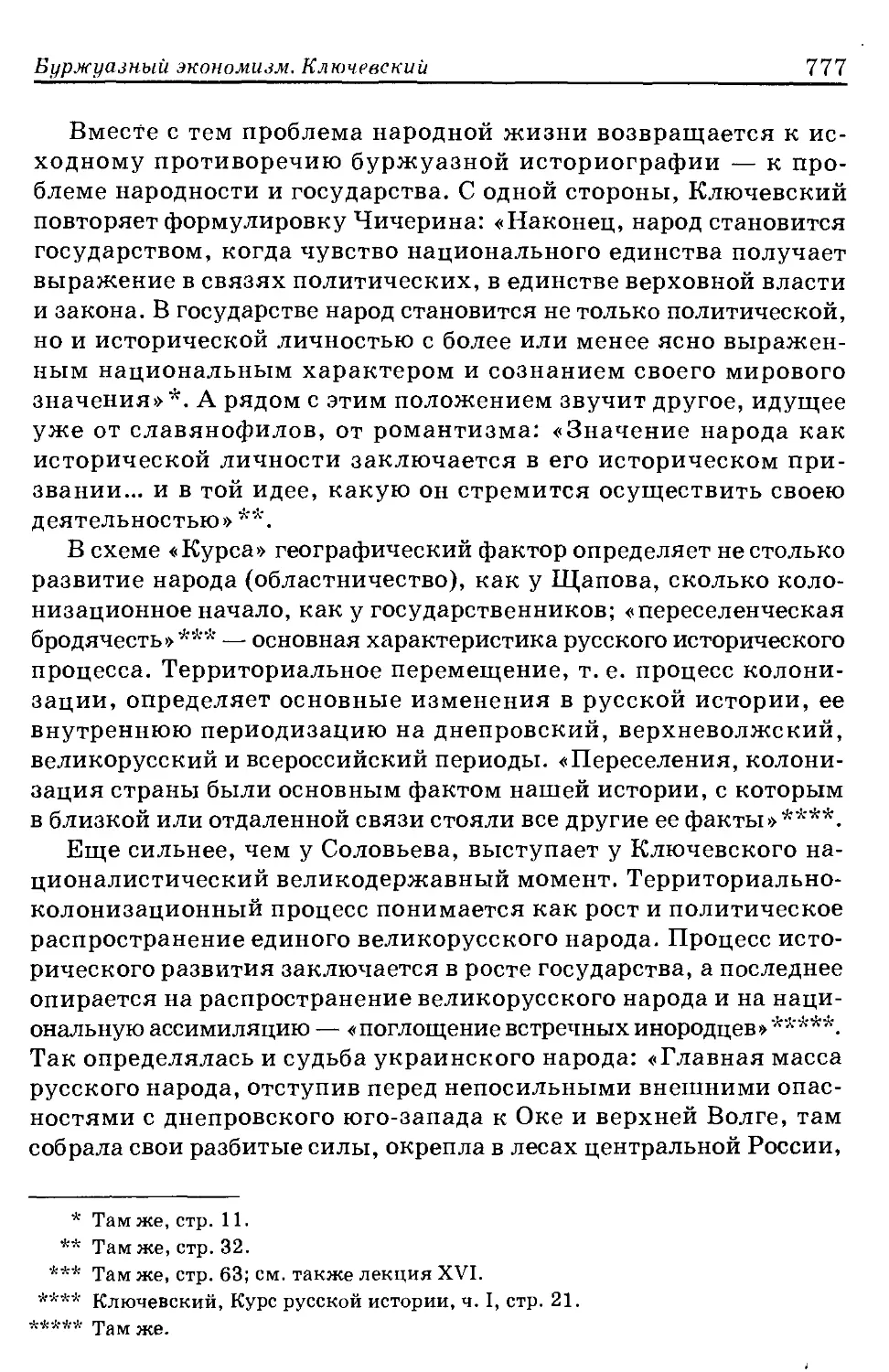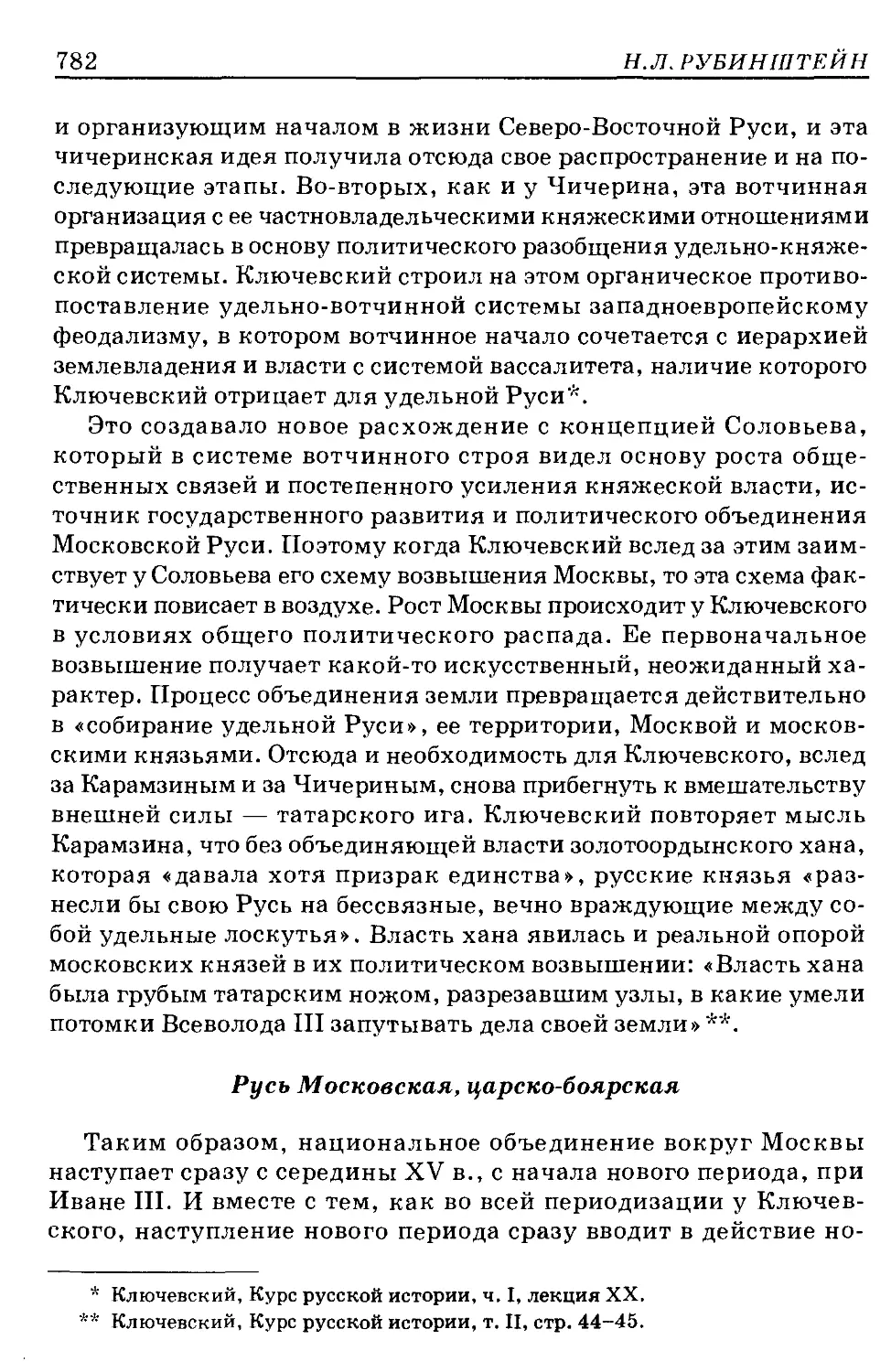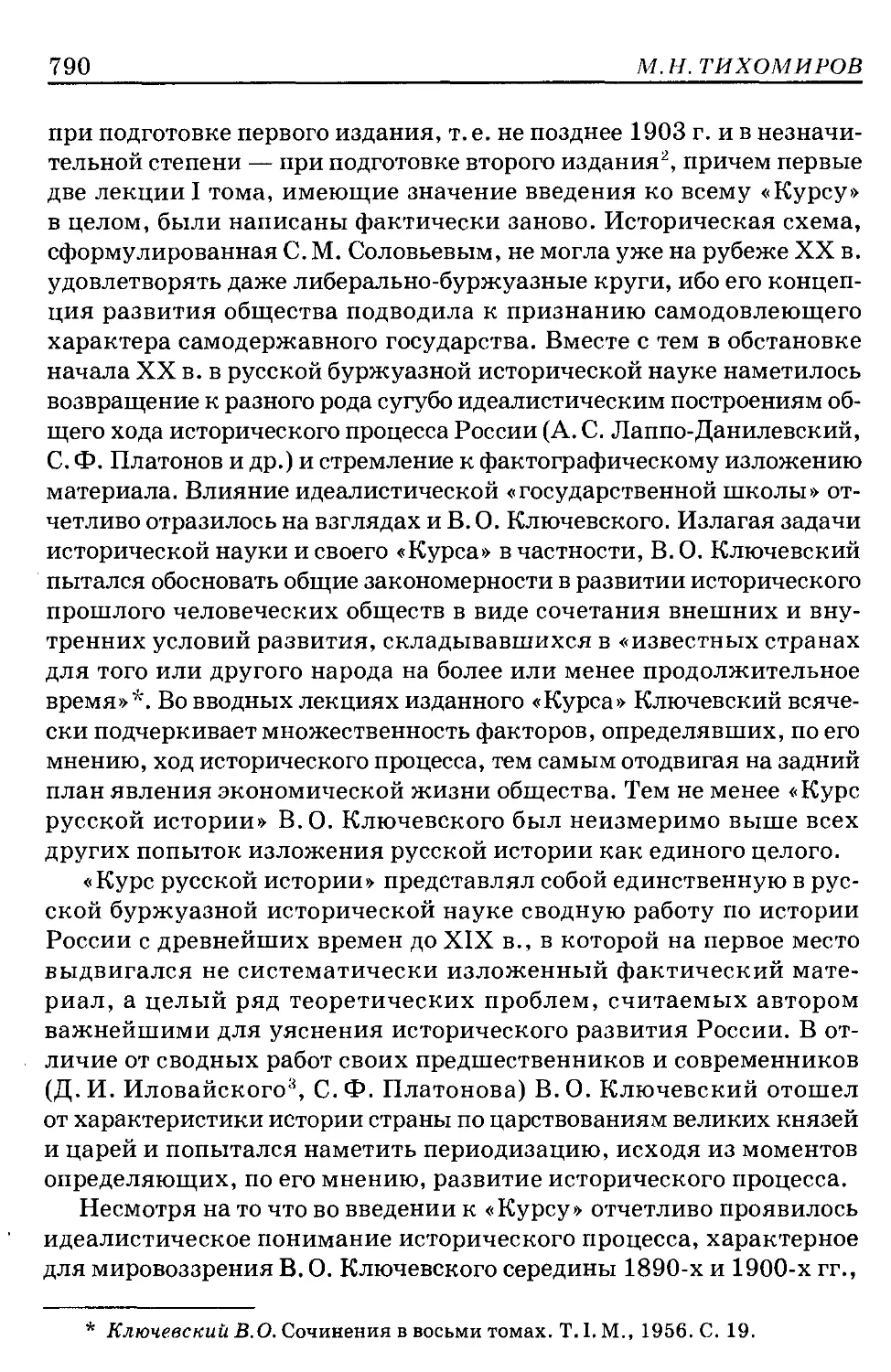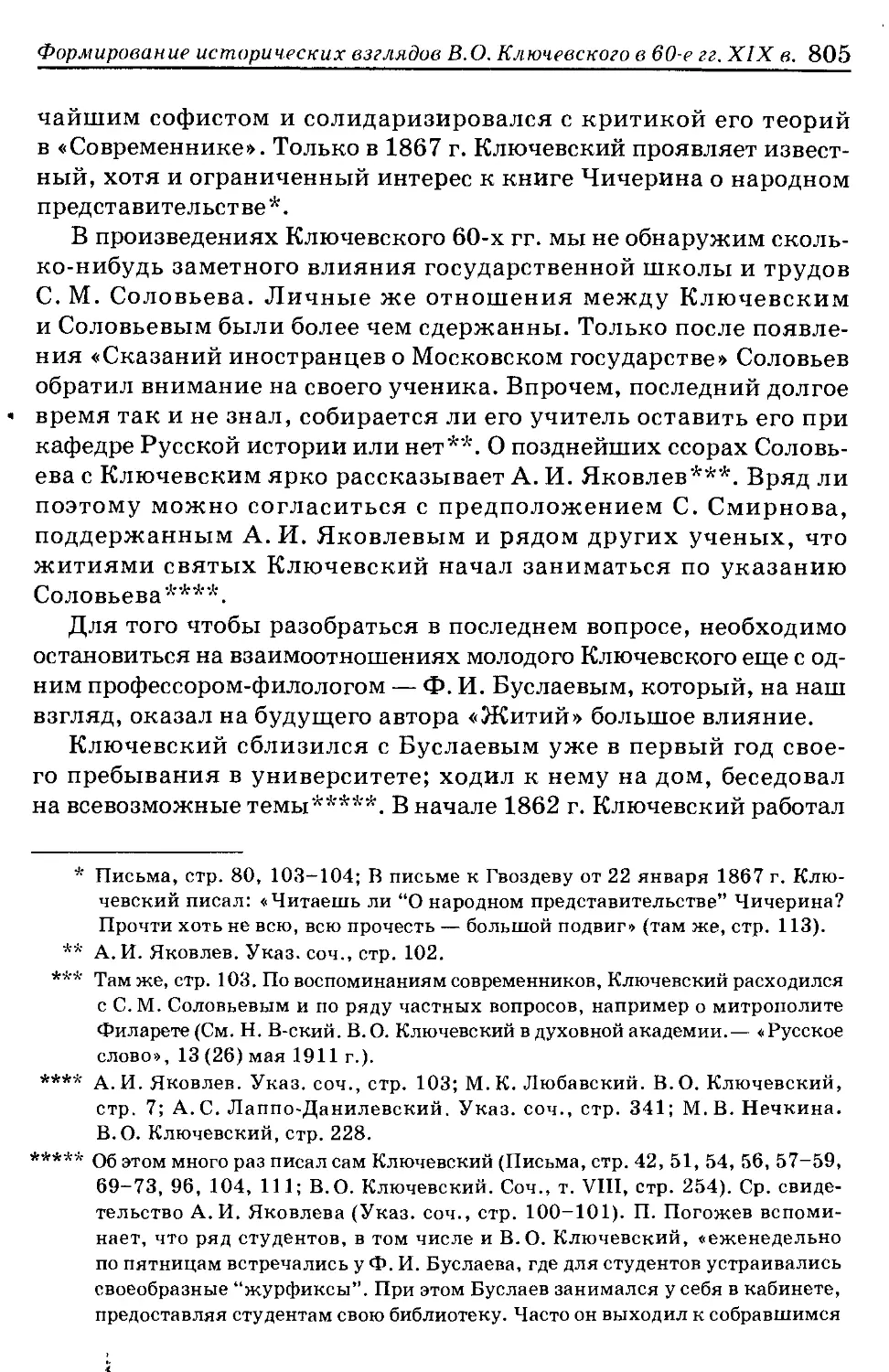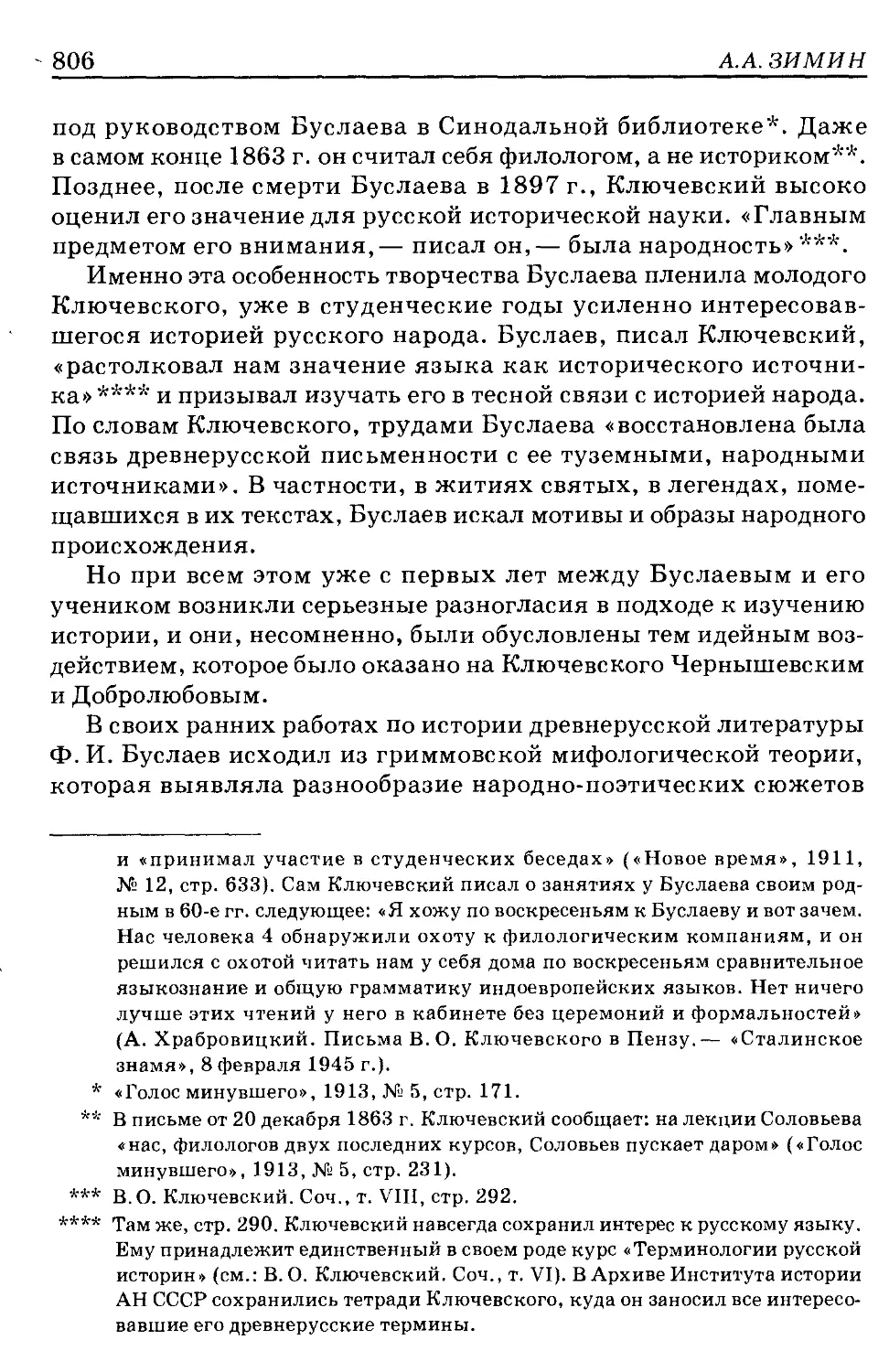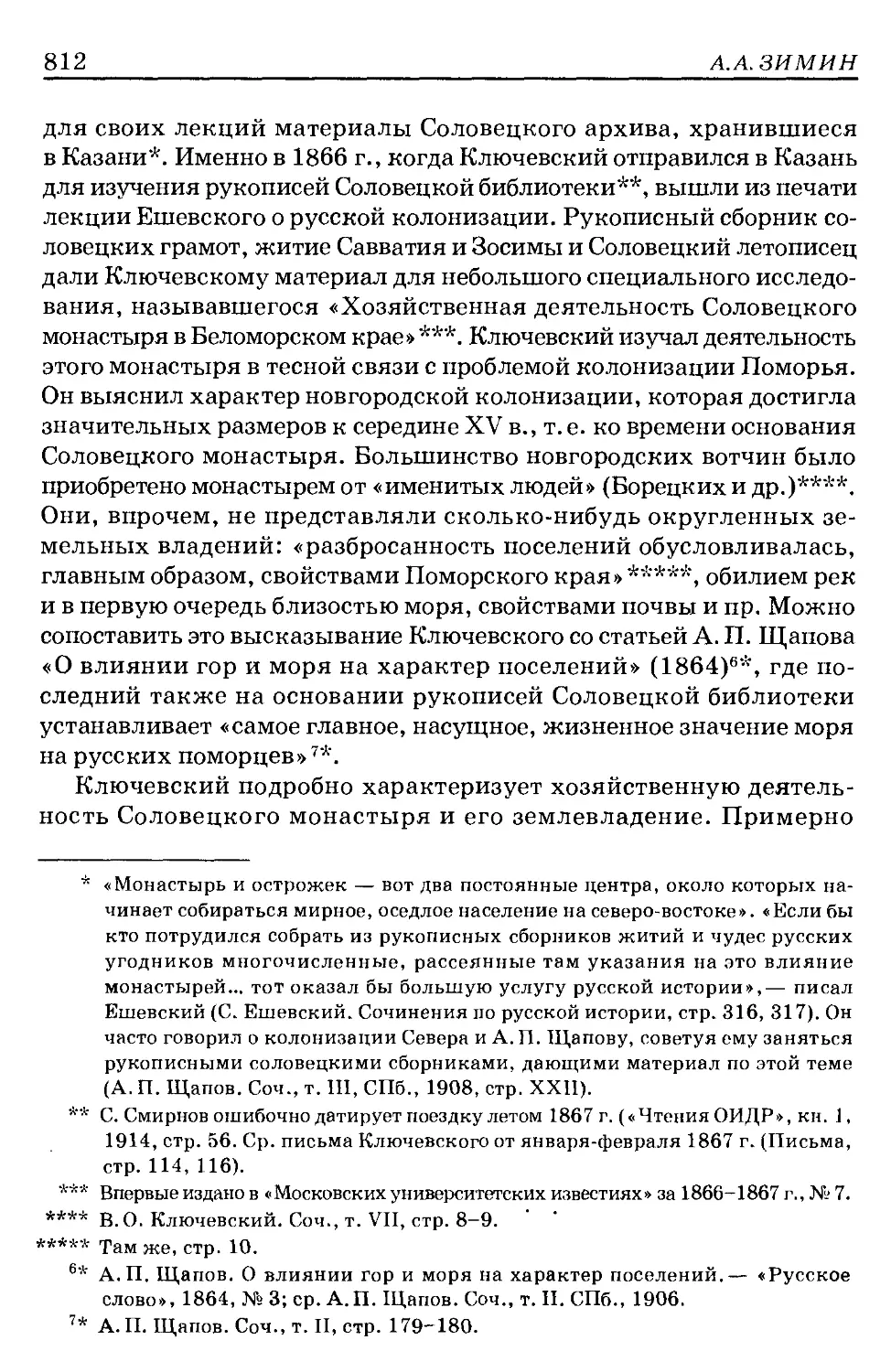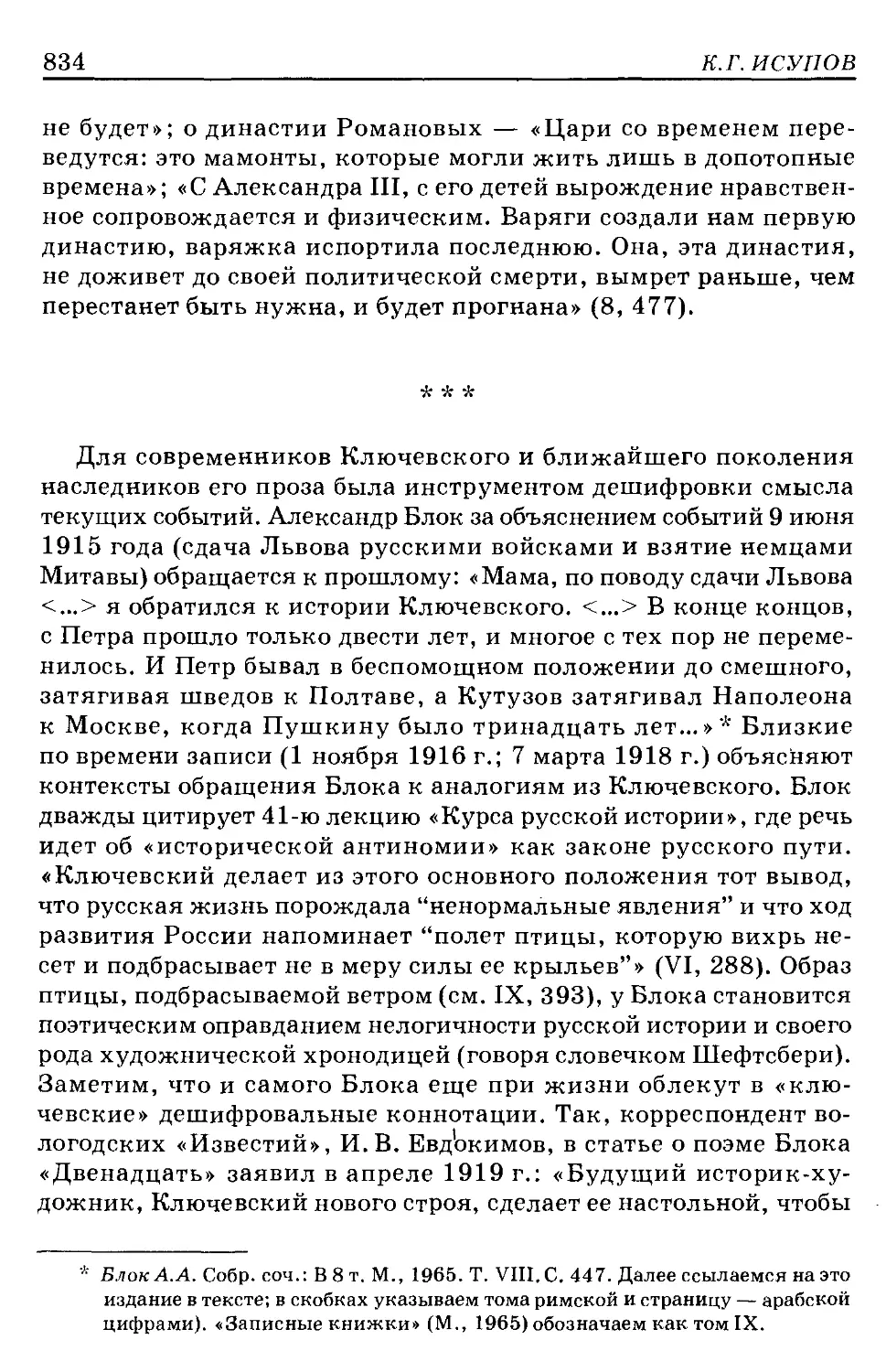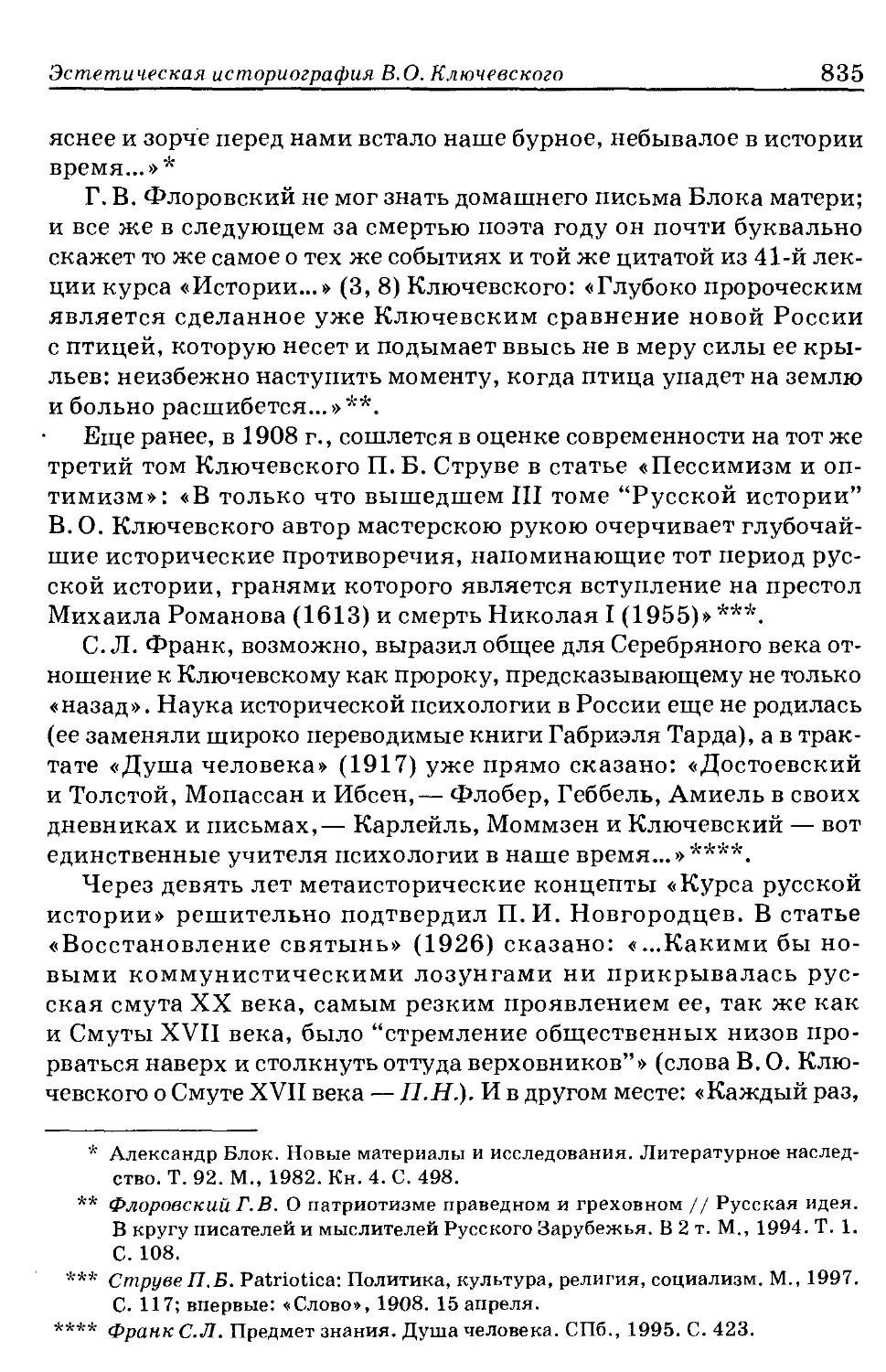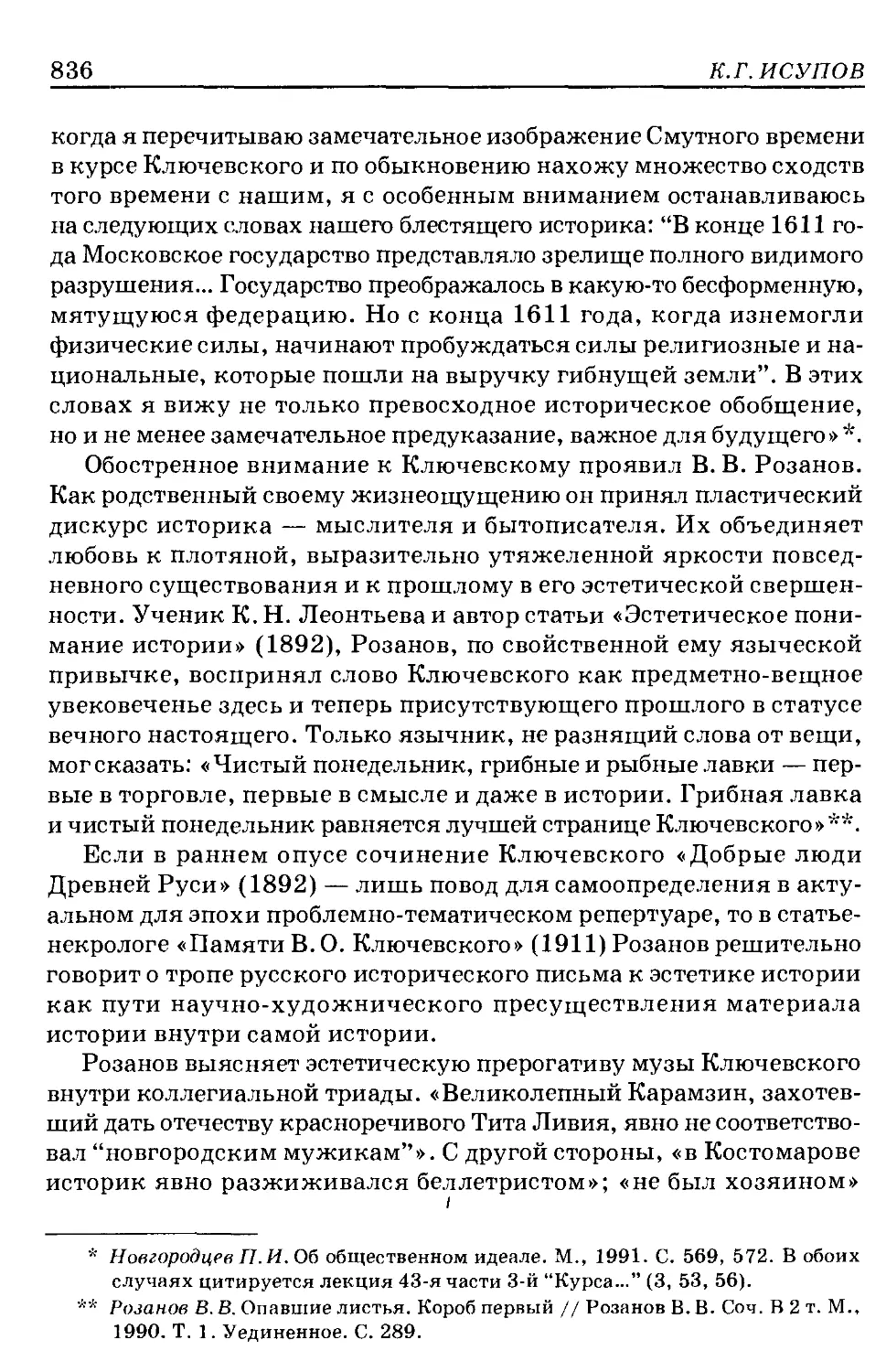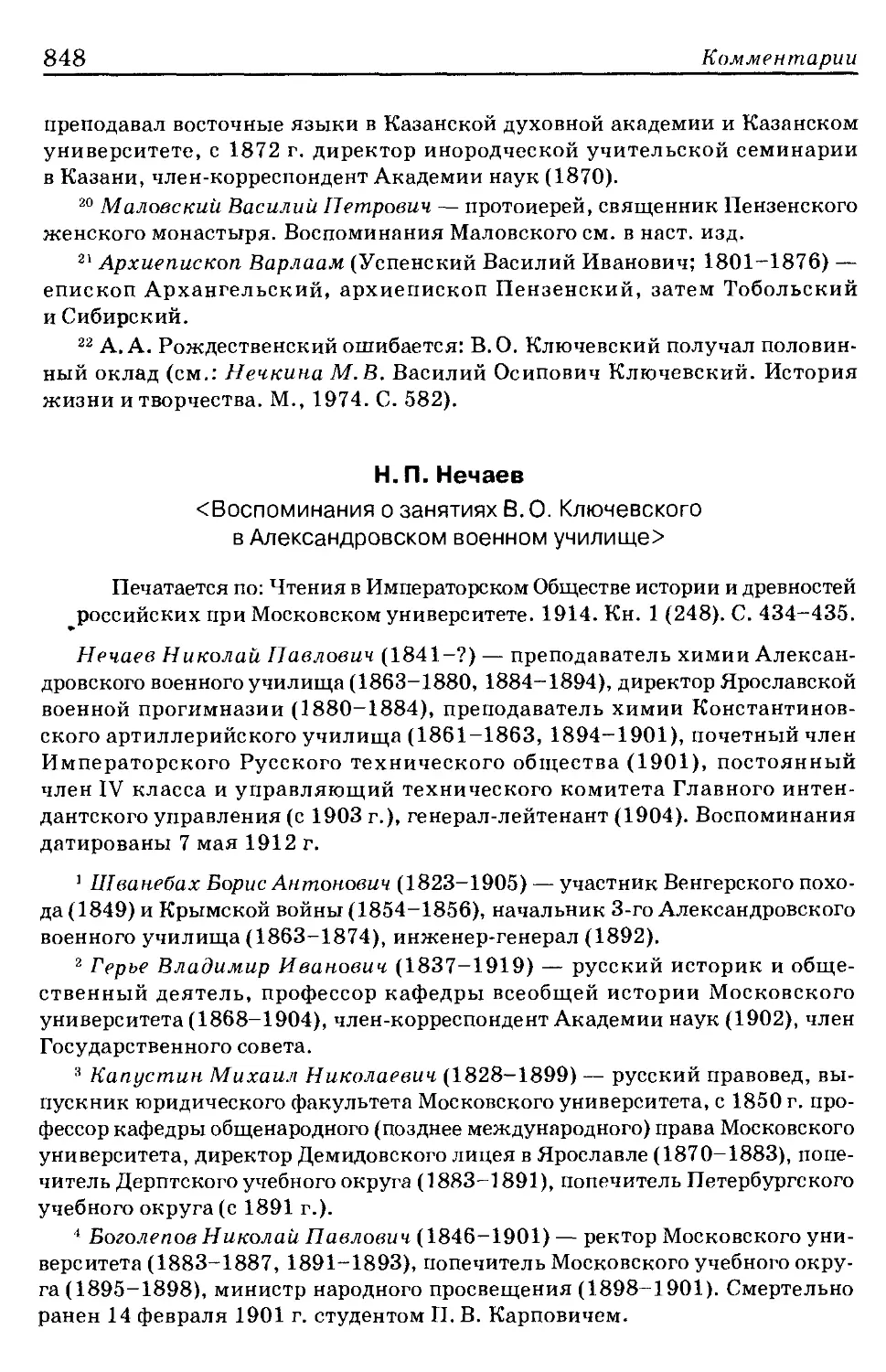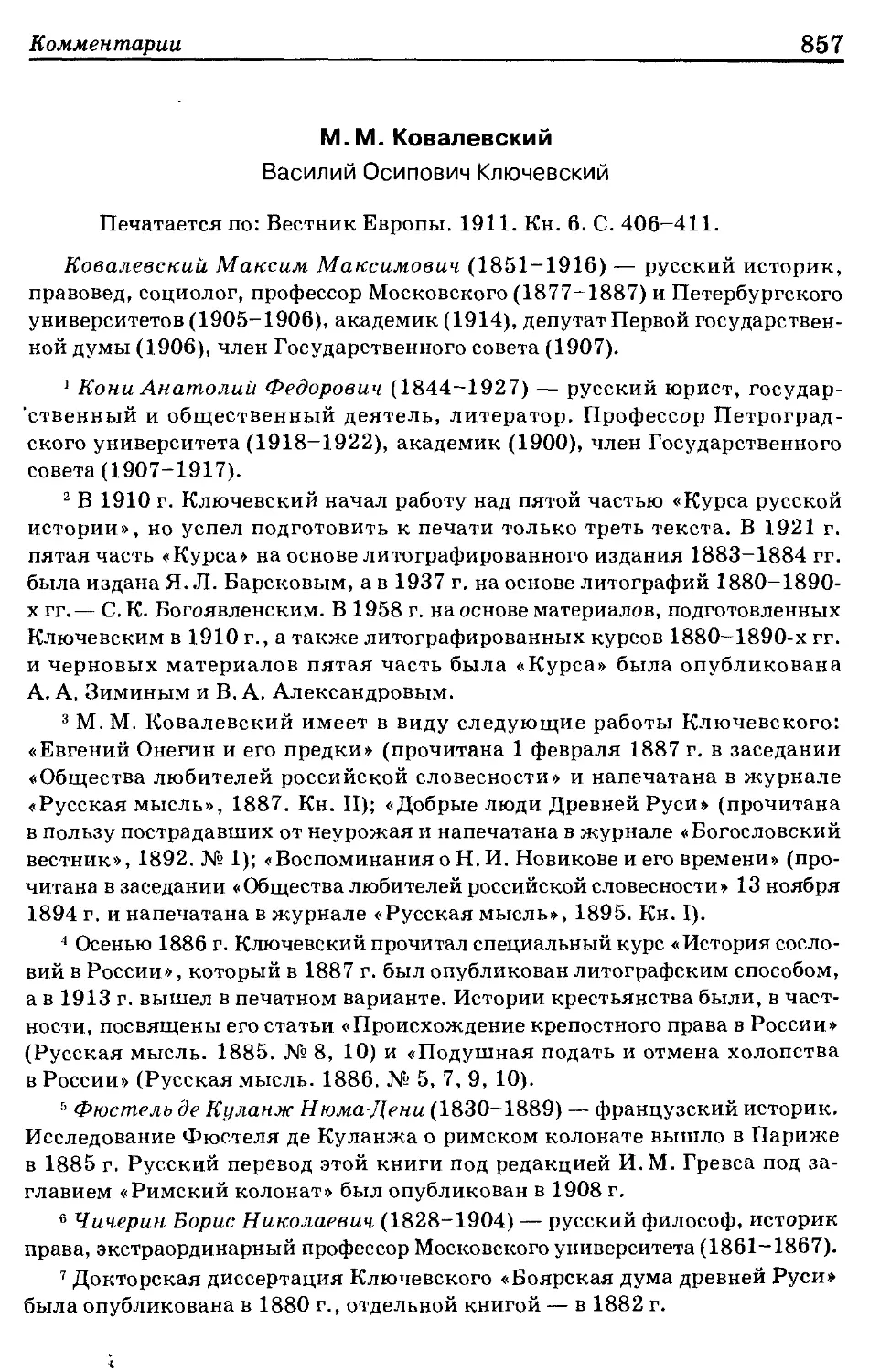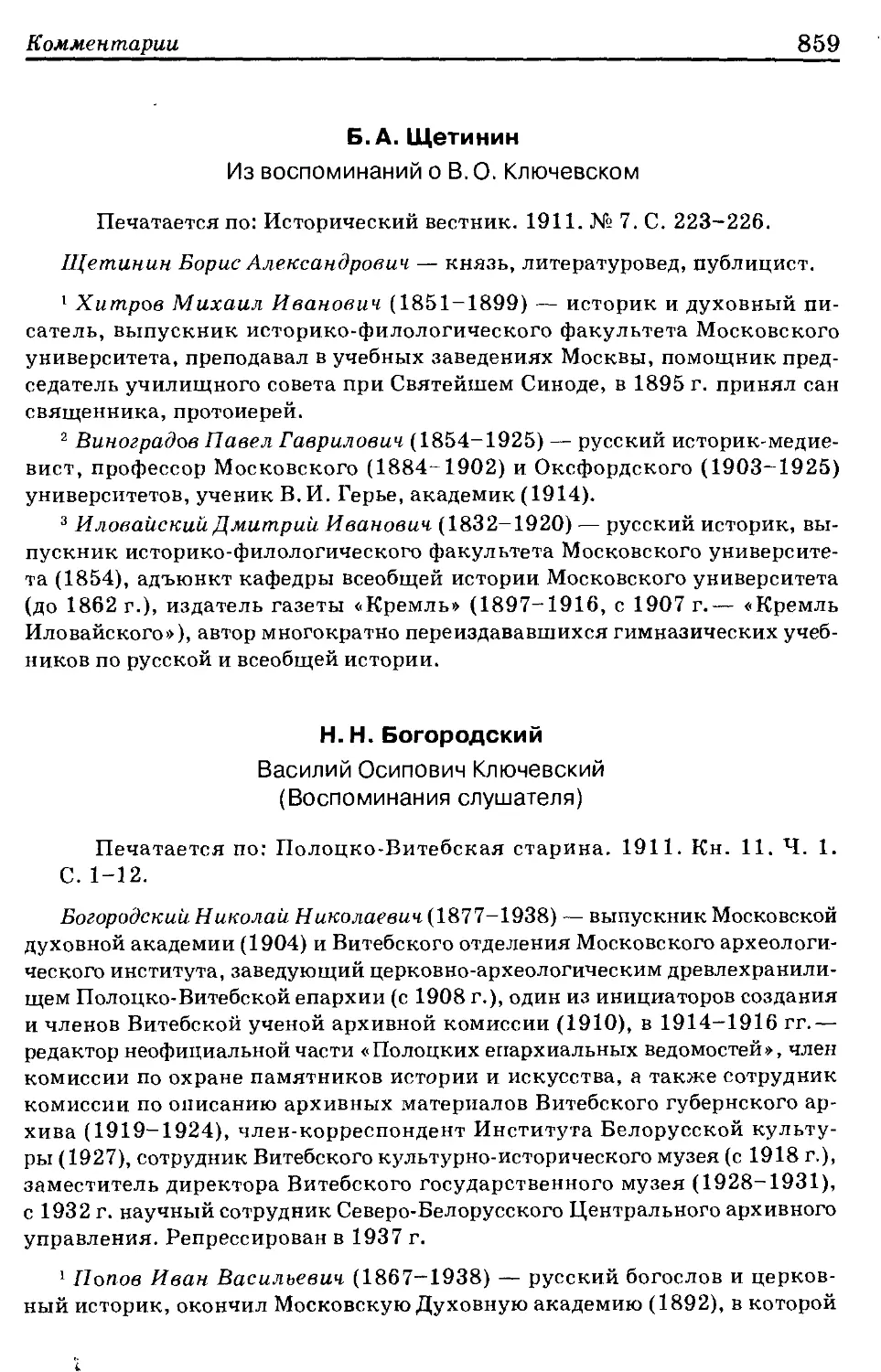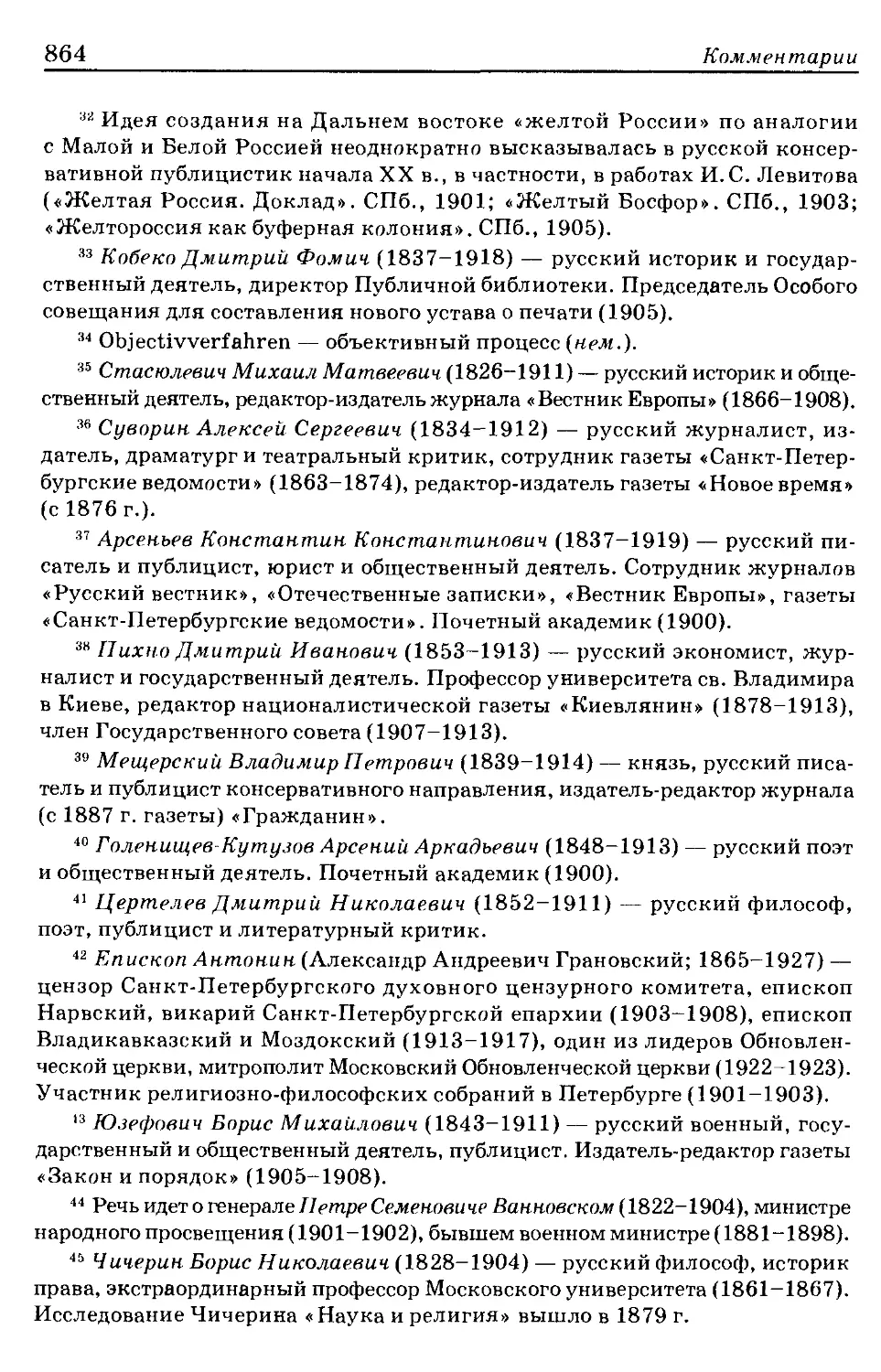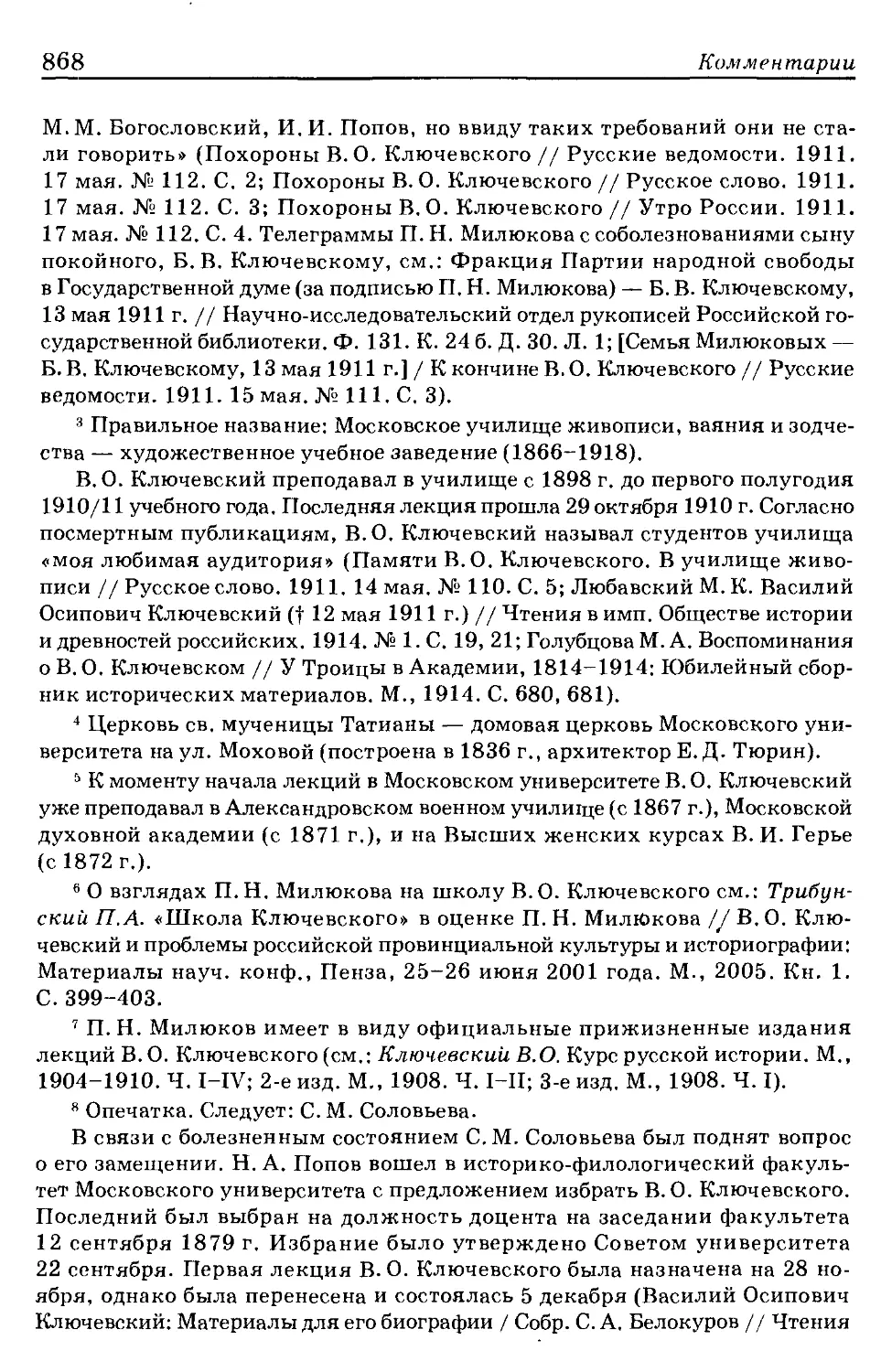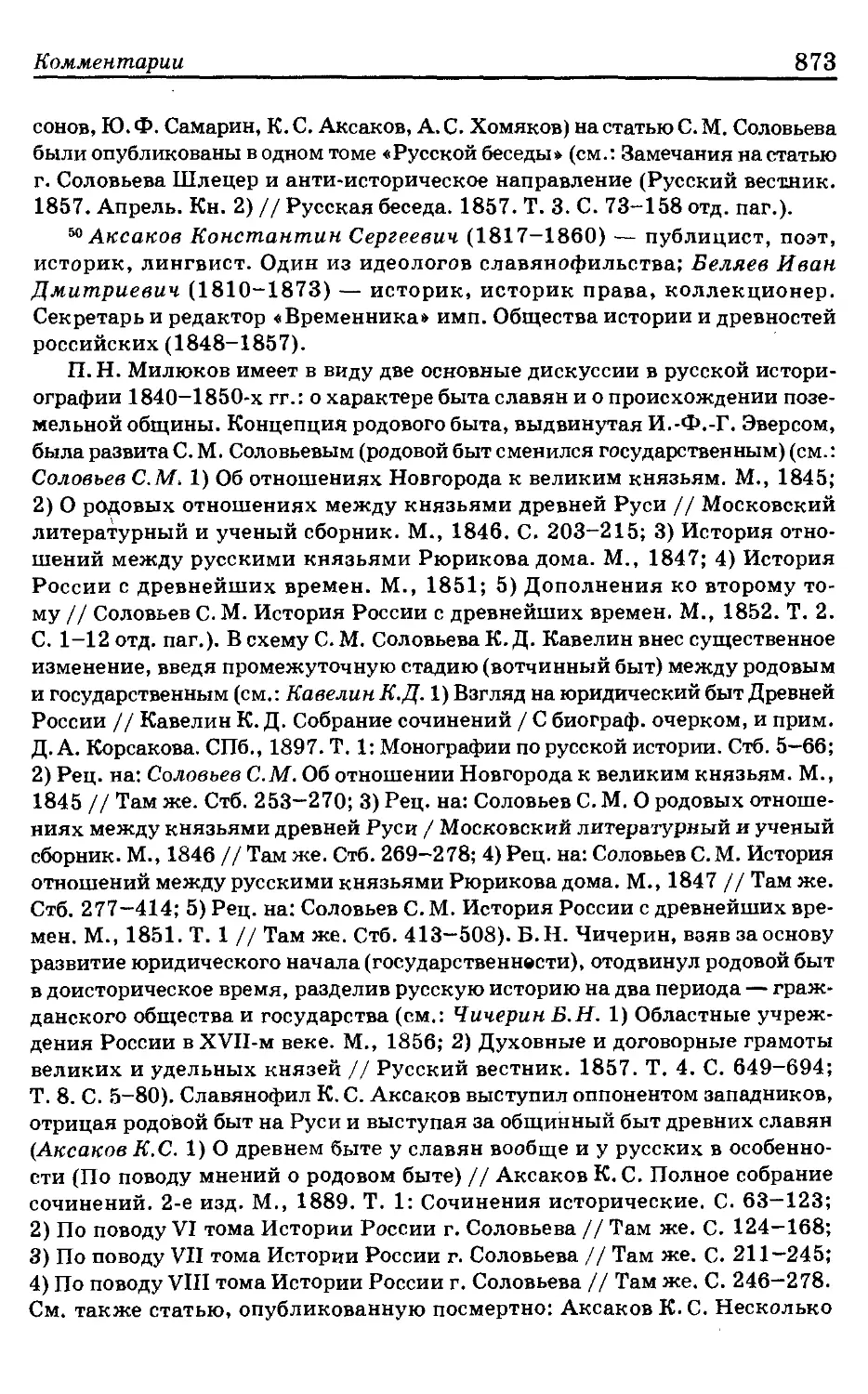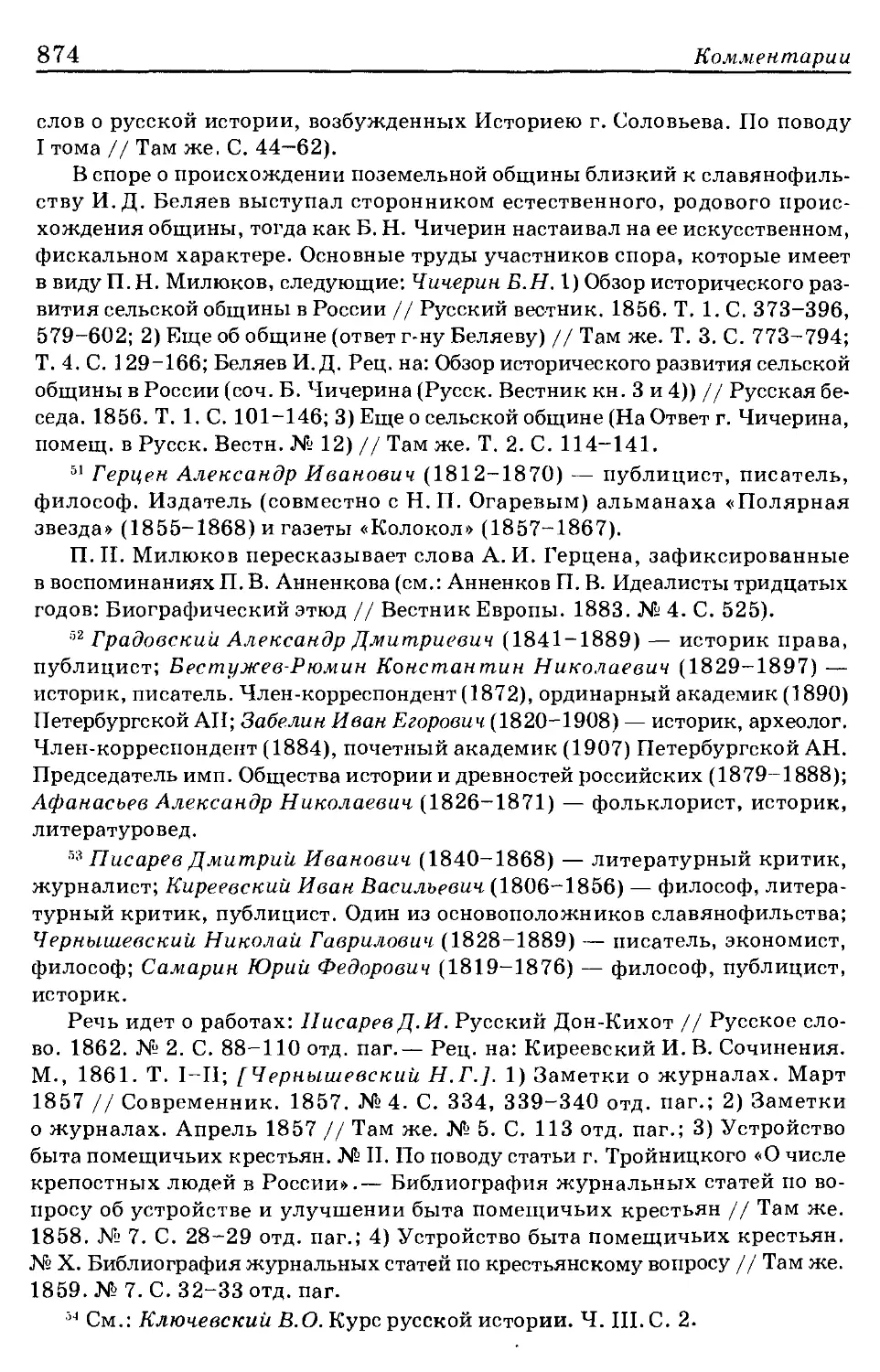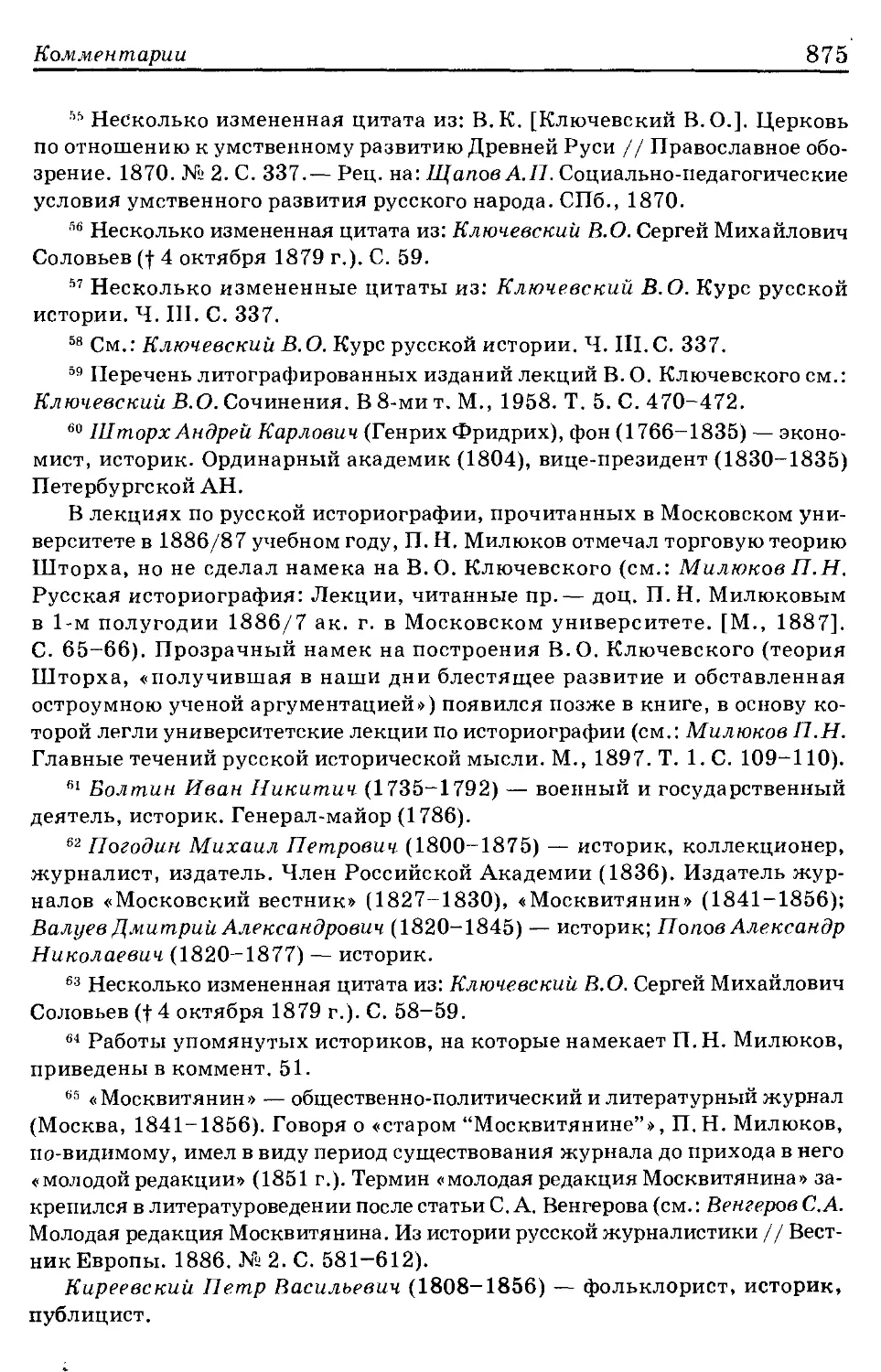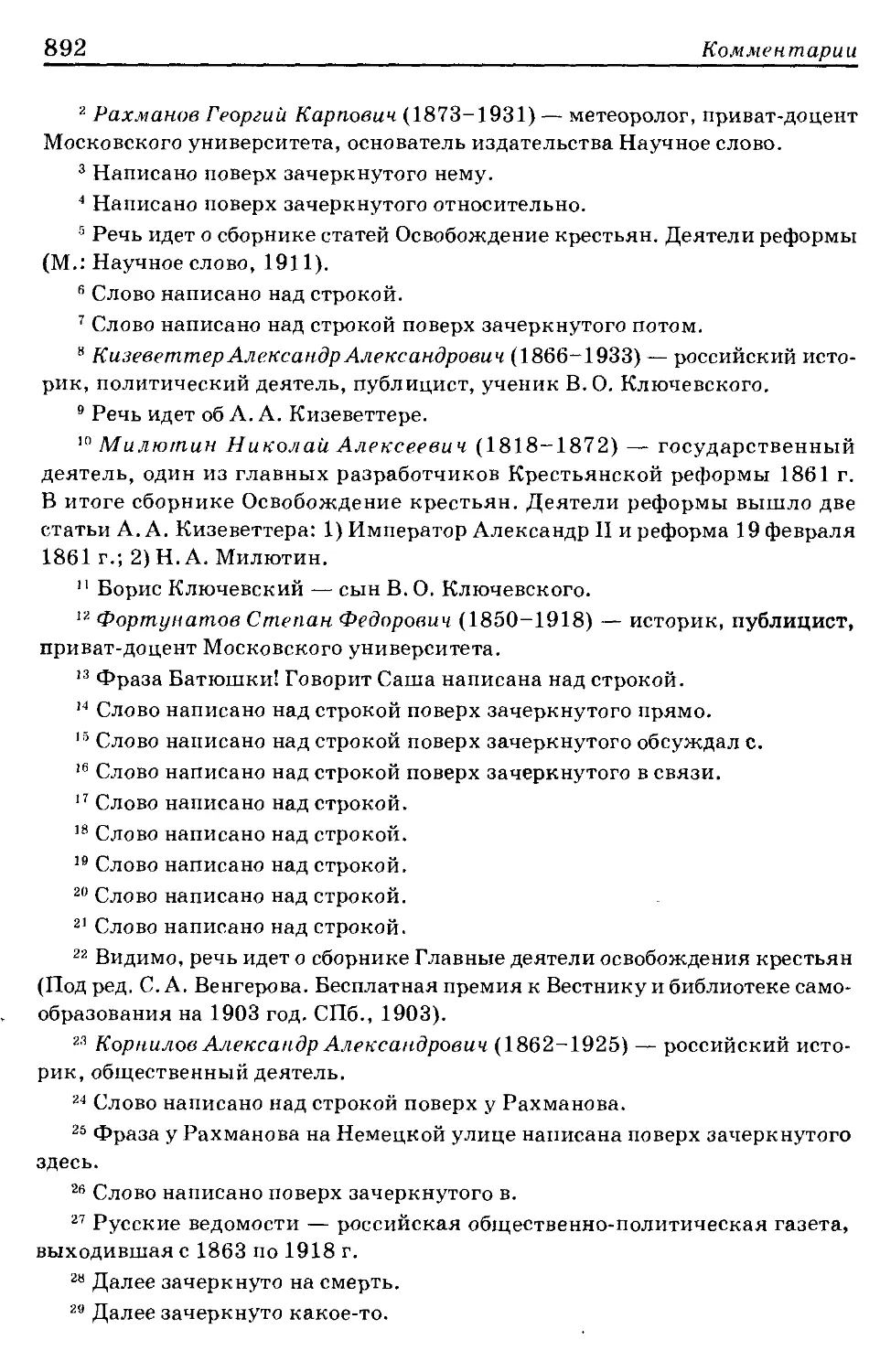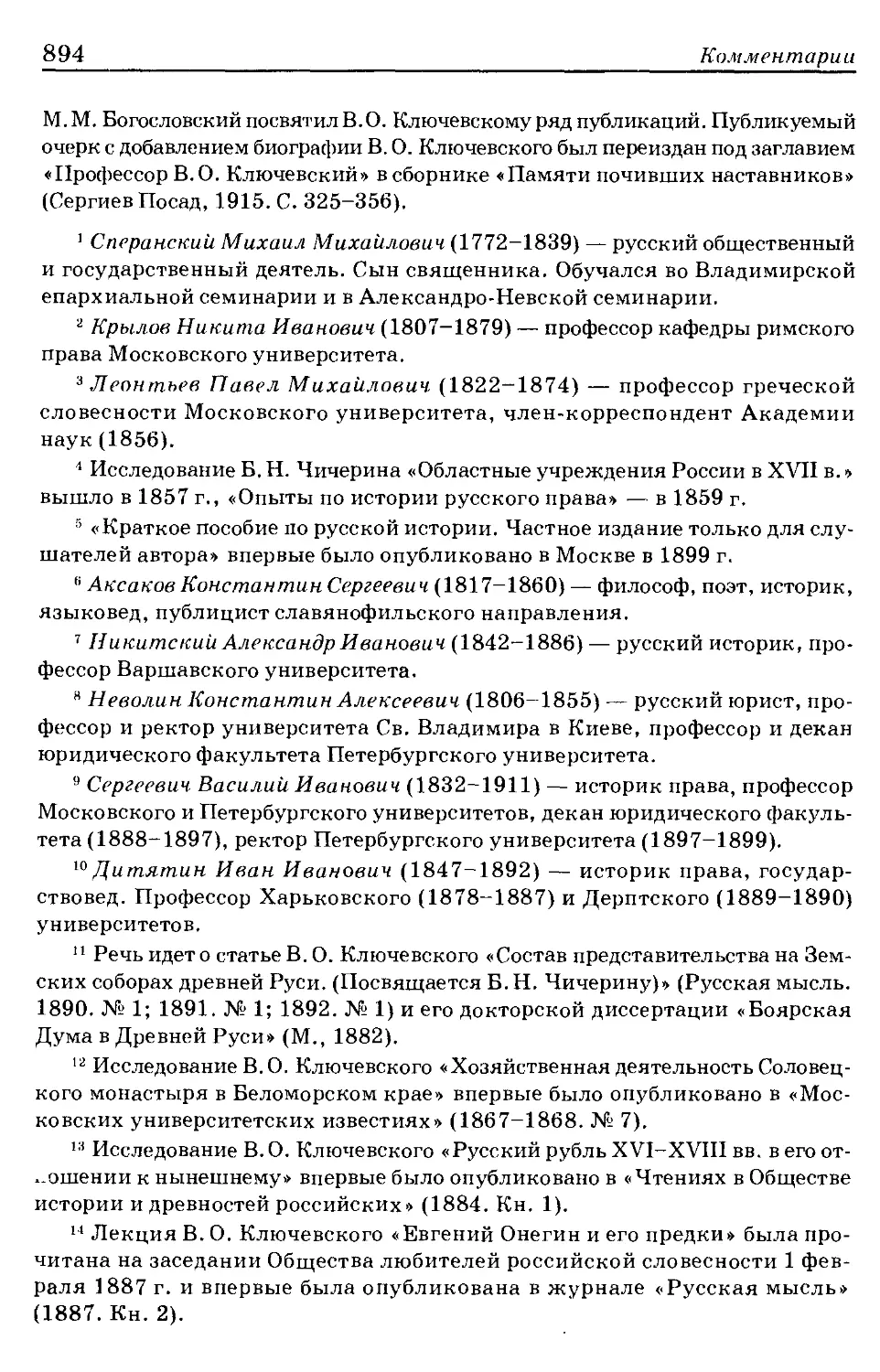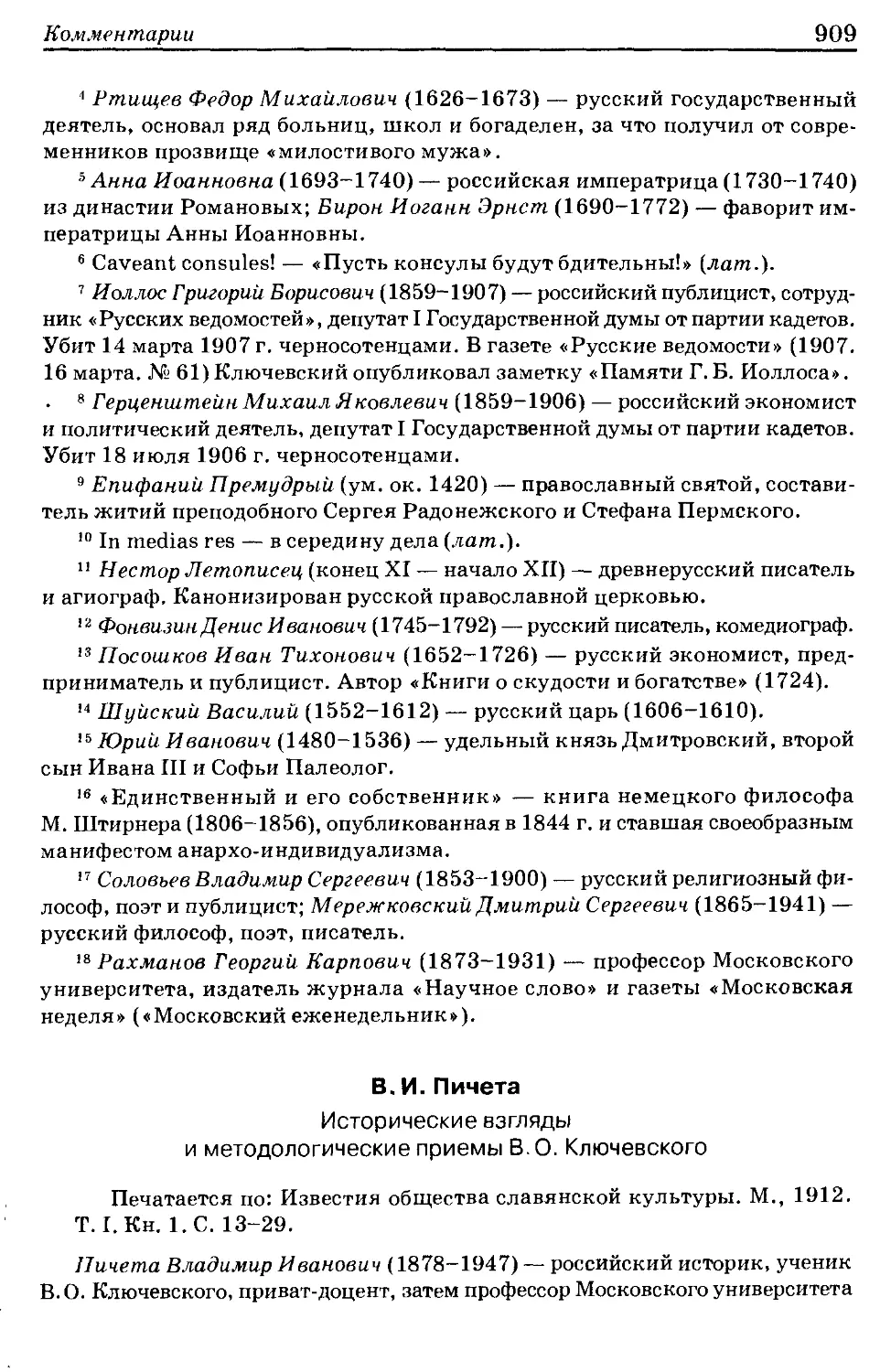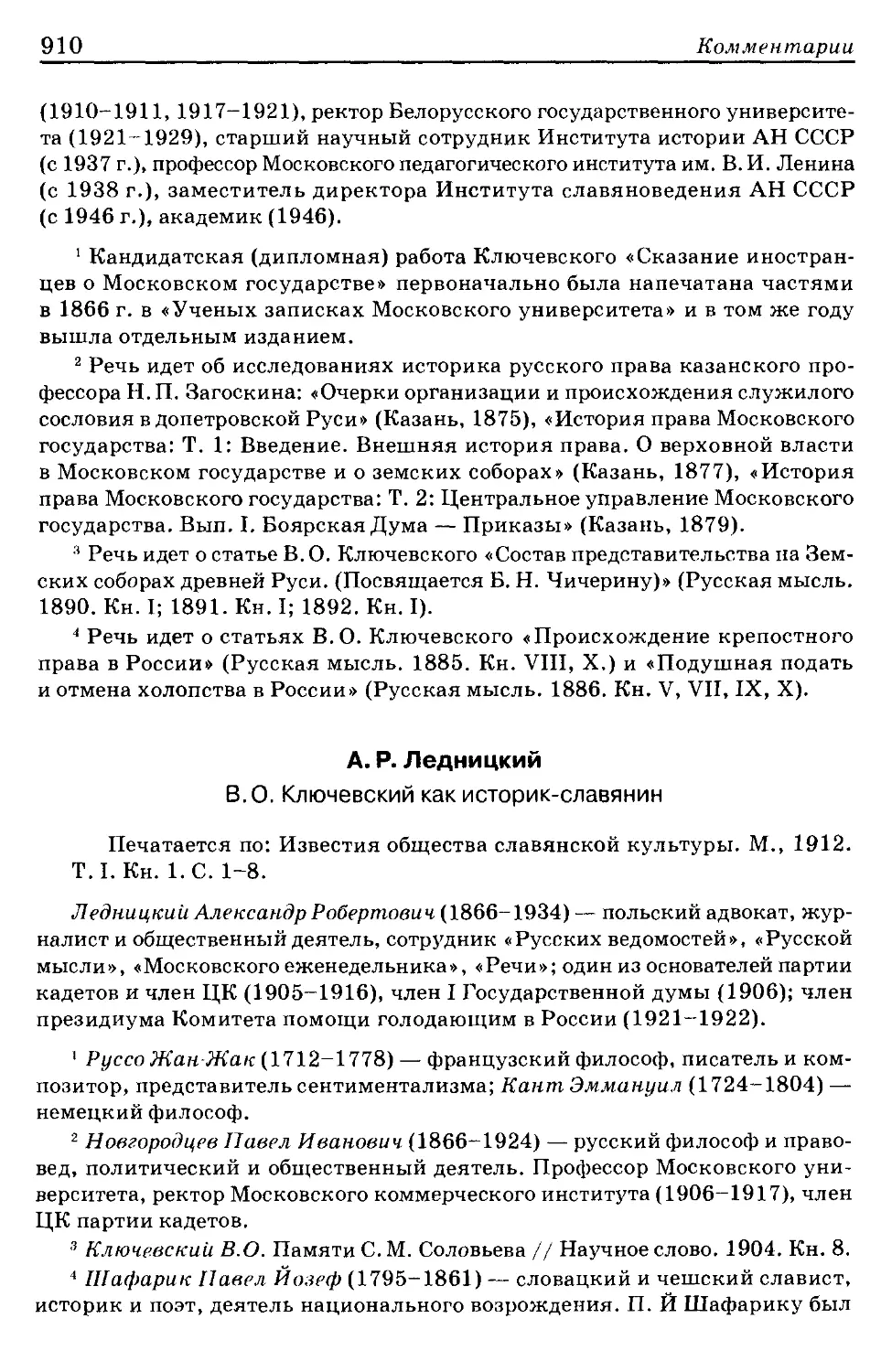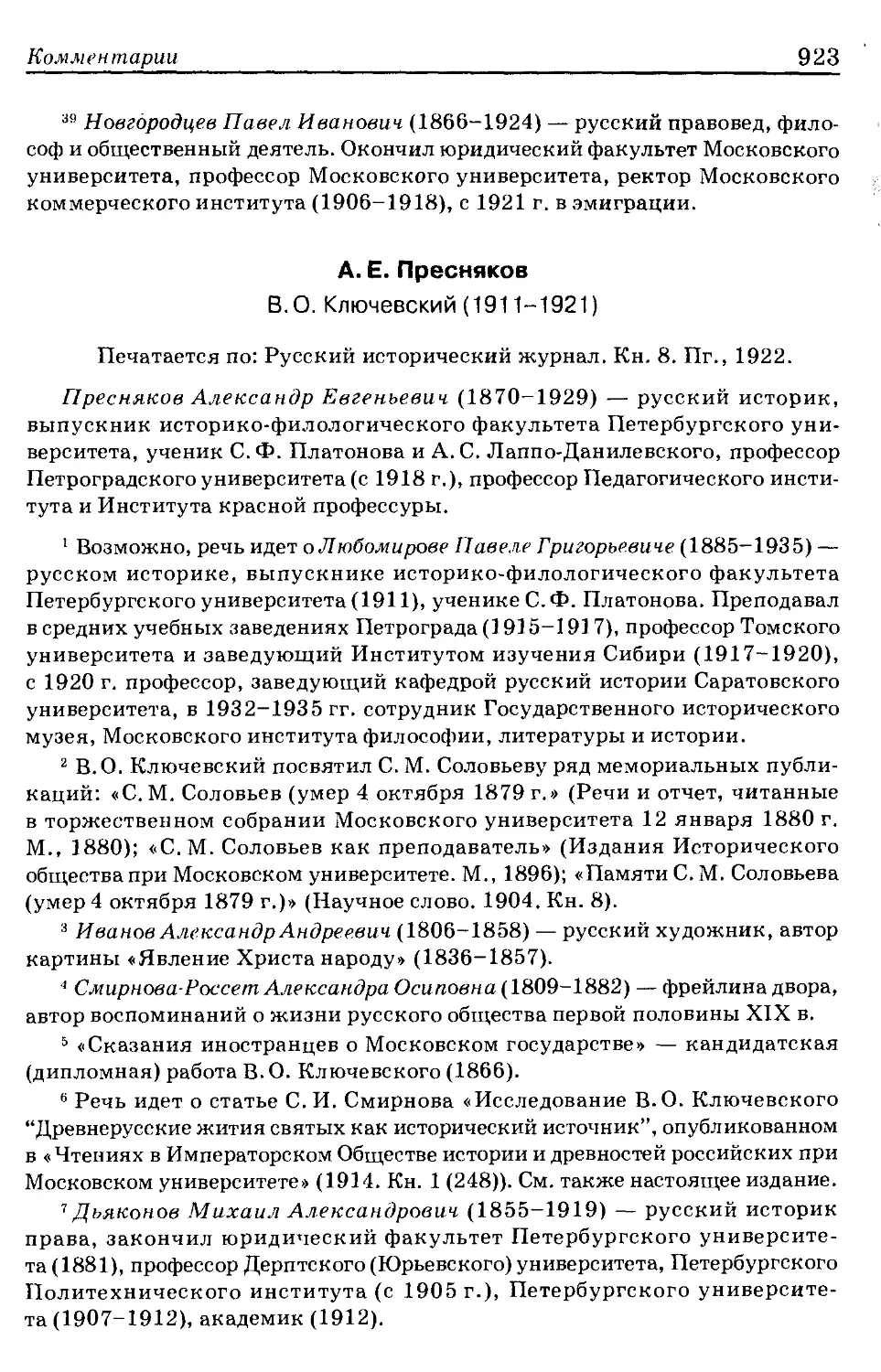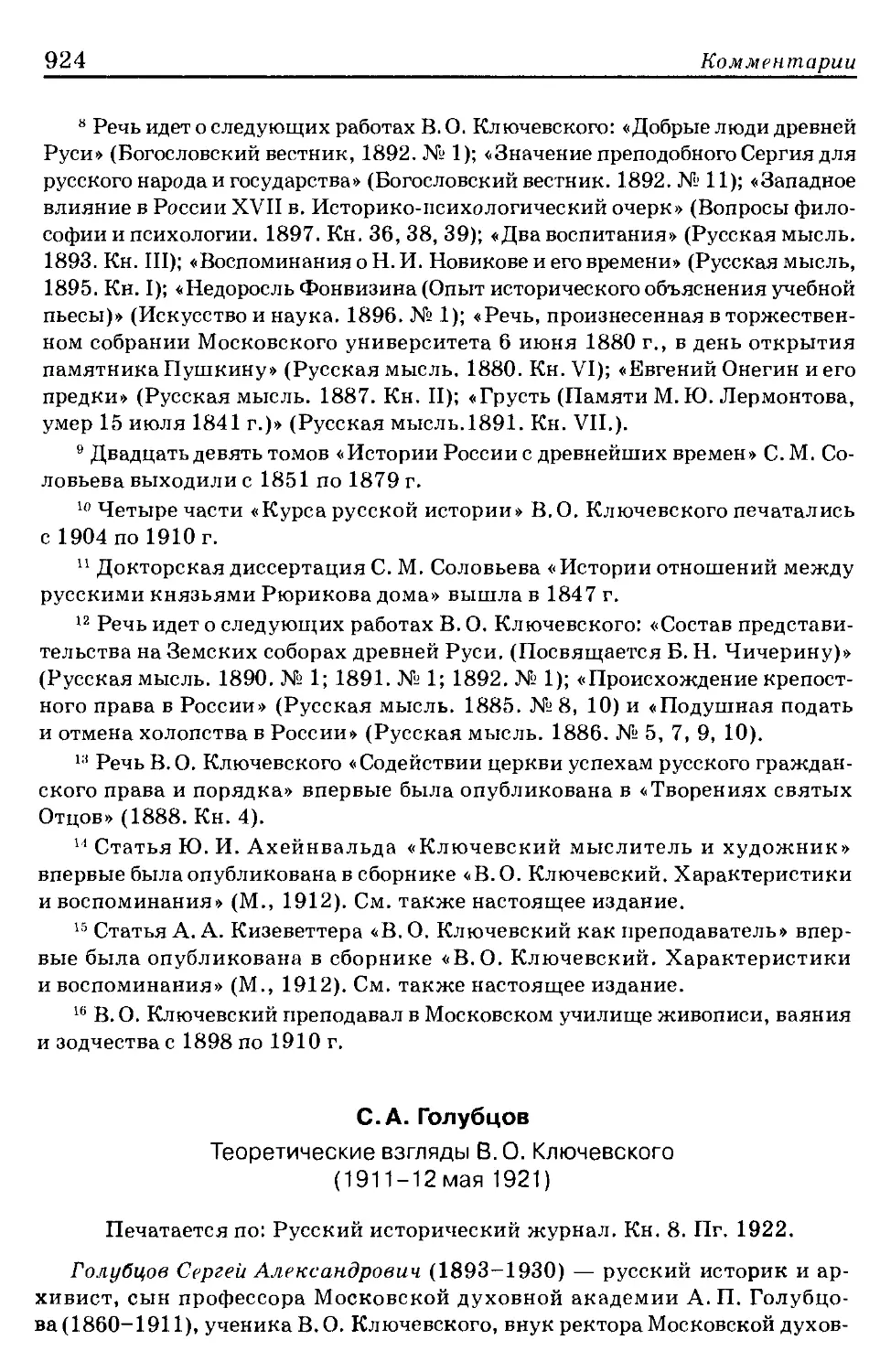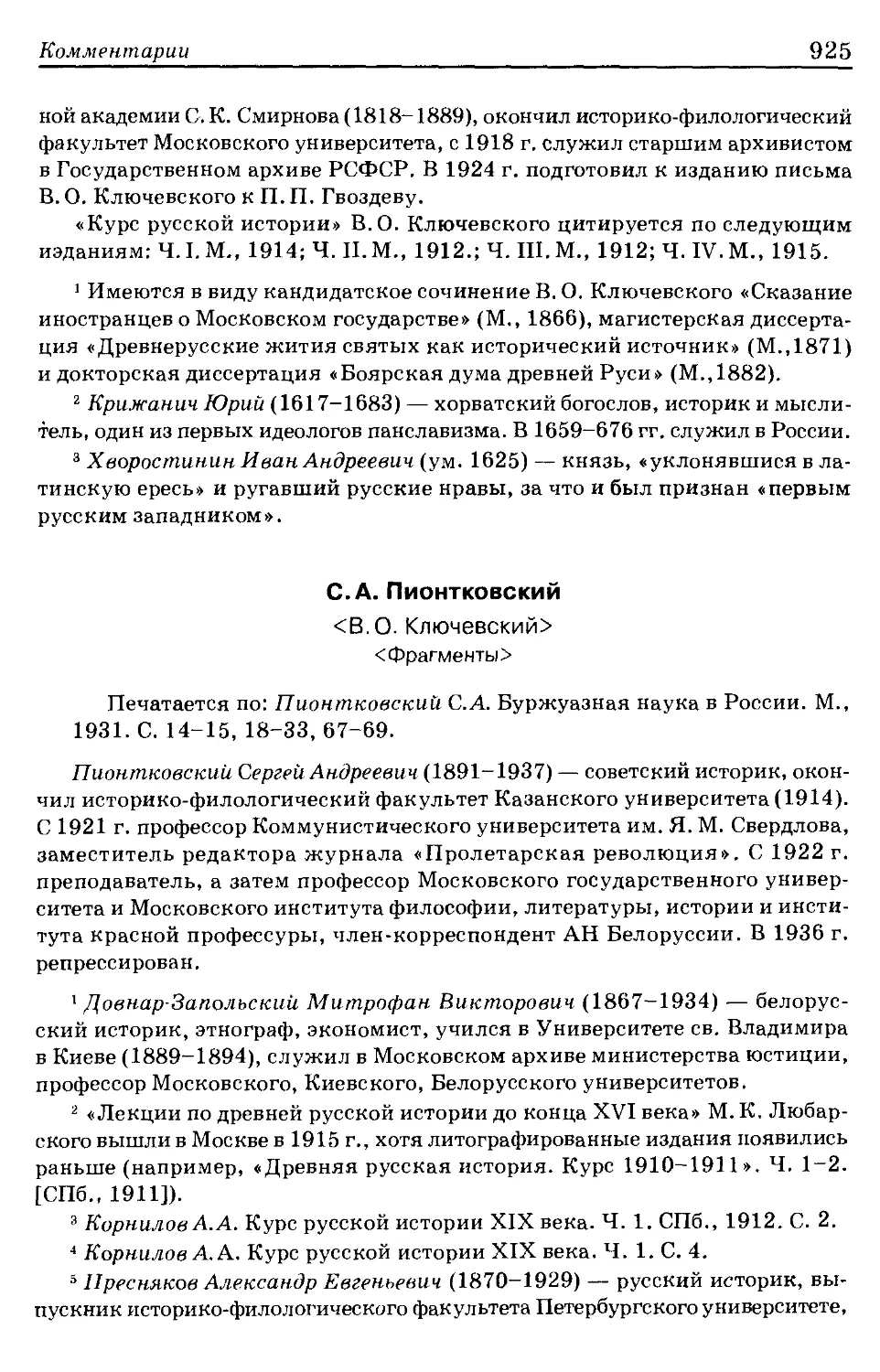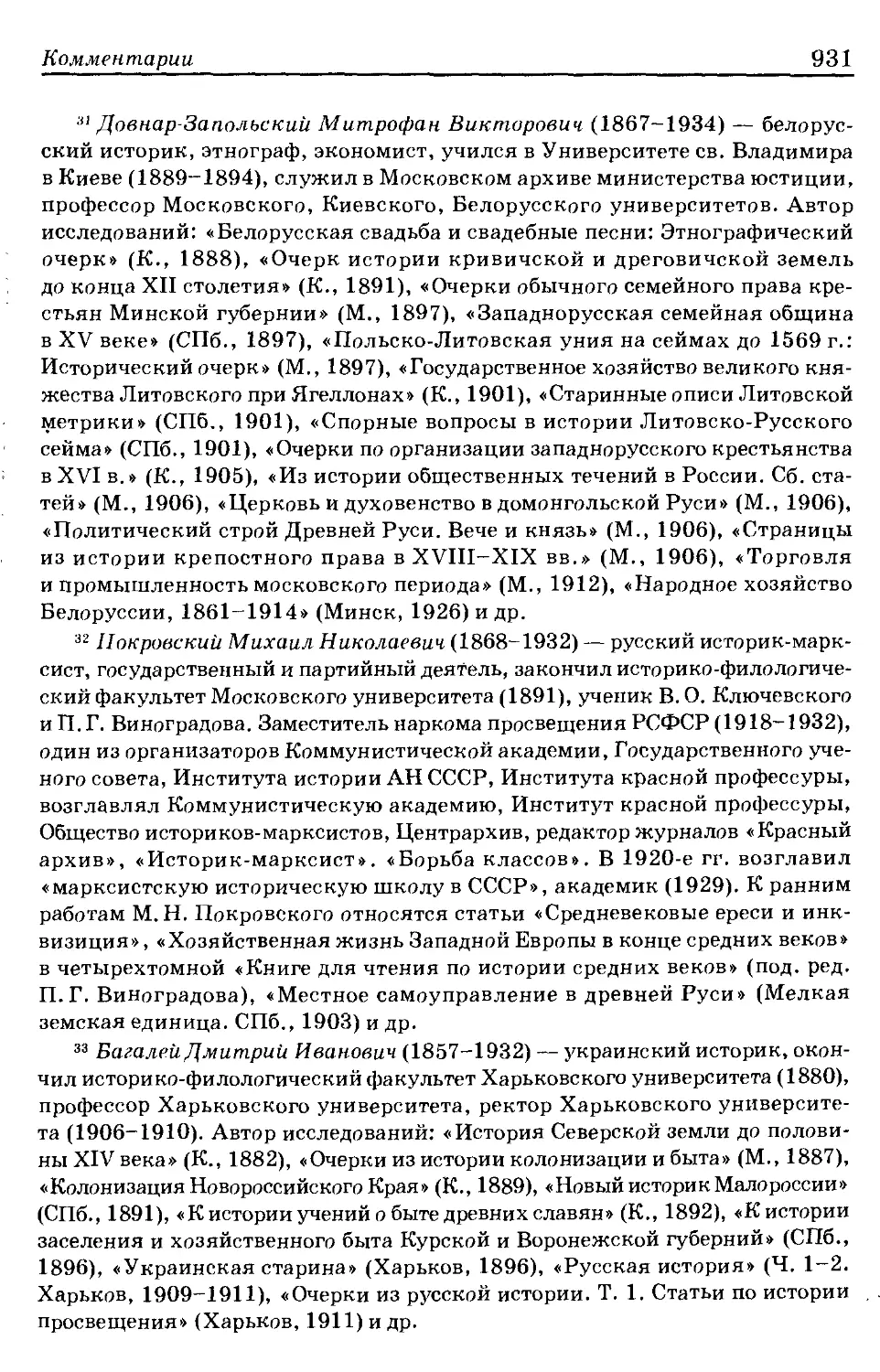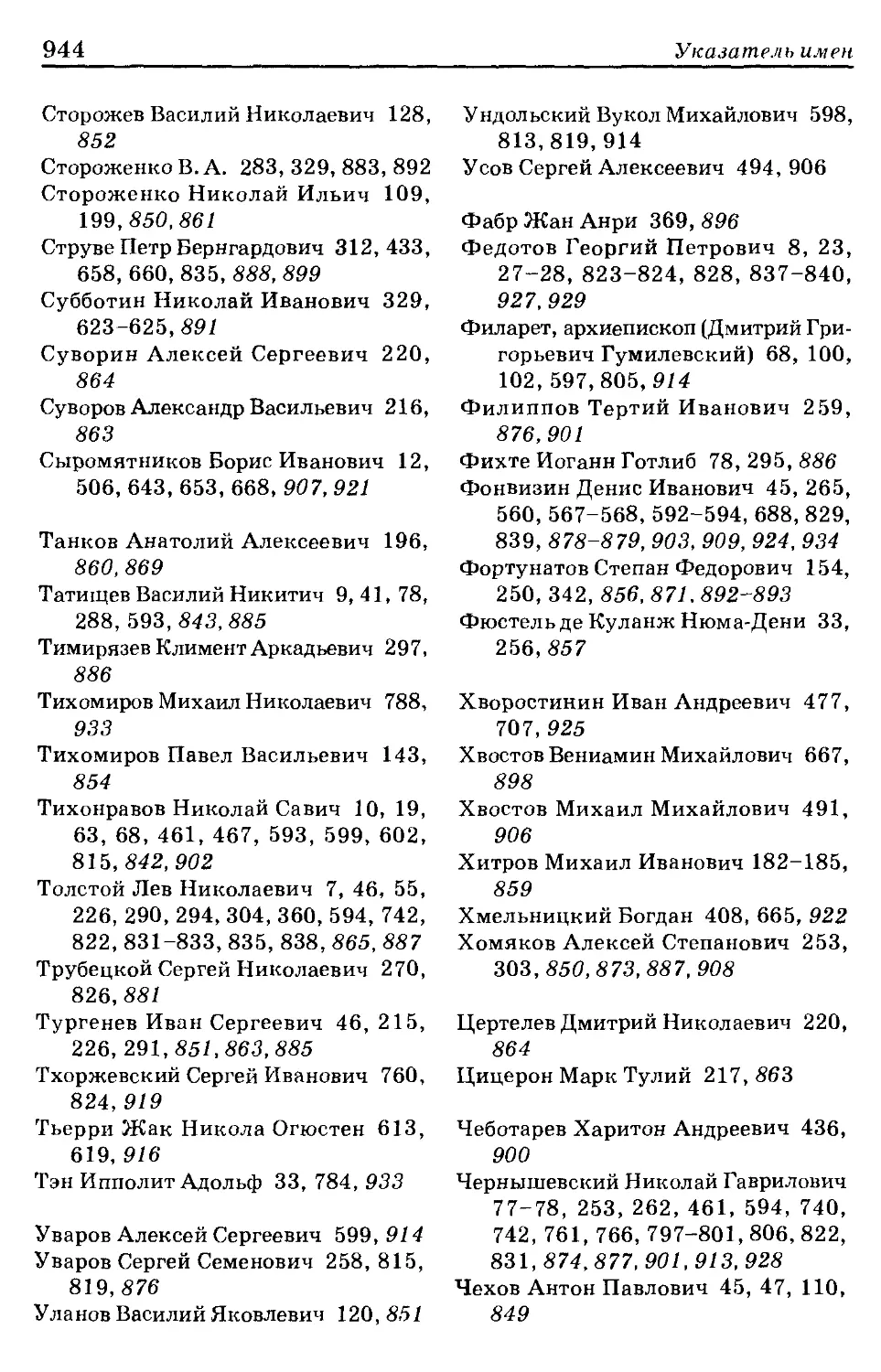Текст
в, 0. КЛЮЧЕВСКИМ'
1
- ЖУ
PRO ет CONTRA
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Серия «Русский Путь: pro et contra» основана в 1993 г.
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ:
PRO ЕТ CONTRA
Антология
НП Межцерковная организация •‘Апостольский город — Невская перспектива» Санкт-Петербург
2013
Серия «РУССКИЙ ПУТЬ»
Серия основана в 1993 г.
Редакционная коллегия серии:
Д.К. Бурлака (председатель), В.Е. Багно, С.А. Гончаров, А.А. Ермичев, митрополит Иларион (Алфеев), К. Г. Исупов (ученый секретарь), А.А. Корольков, Р. В. Светлов, В. Ф. Федоров, С. С. Хоружий
Ответственный редактор тома Д. К. Бурлака
Составитель: А. В. Малинов
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»
В.О. Ключевский: pro et contra, антология / Сост., коммент. А. В. Малинова, вступ. статья Р. А. Киреевой.— СПб.: НП «Апостольский город — Невская перспектива», 2013.— 952 с.
ISBN 978-5-93112-009-6
В рамках серии «Русский Путь: pro et contra» Некоммерческое партнерство Межцерковная организация «Апостольский город - Невская перспектива» совместно с Русской христианской гуманитарной академией подготовили антологию, посвященную крупнейшему русскому историку второй половины XIX — начала XX в. Василию Осиповичу Ключевскому (1841-1911). В антологию включены воспоминания близких друзей и родственников историка, а также его учеников, историков — современников В. О. Ключевского. Антология объединят прижизненные рецензии на работы В. О. Ключевского, а также многочисленные газетные отклики на смерть историка и публикации мемуарного характера в редких изданиях начала XX в. В последнем разделе помещены статьи исследователей XX — начала XXI в., посвященные творчеству В. О. Ключевского.
Книга рассчитана как на специалистов, так и на самый широкий круг читателей.
На фронтисписе:
В. О. Ключевский.
Гравюра В. Матэ. Конец XIX в.
©А. В. Малинов, составление, коммент., 2013
© Р. А. Киреева, вступ. статья, 2013
© НПМО «Апостольский город —
Невская перспектива», 2013
© «Русский Путь», название серии, 1994
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках очередное издание «Русского Пути» — «В. О. Ключевский: pro et contra».
Позволим себе напомнить читателю замысел и историю реализации «Русского Пути», более известного широкой публике по подзаголовку «pro et contra».
Изначальный замысел проекта состоял в стремлении представить российскую культуру в системе сущностных суждений о самой себе, отражающих динамику ее развития во всей ее противоречивости. В качестве феноменов, символизирующих духовную динамику в развитии нашей страны, могли бы фигурировать события (войны, революции), идеи или мифологемы (свобода, власть), социокультурные формообразования и течения (монархия, западничество). Этот тематический слой уже включен в разработку. Однако мы начали реализацию проекта наиболее простым и, в том смысле, в котором начало вообще образует простое в составе целого, пошли правильным путем.
На первом этапе развития проекта «Русский Путь» в качестве символов национального культуротворчества были избраны выдающиеся люди России. «Русский Путь» открылся в 1994 году антологией «Николай Бердяев: pro et contra. Личность и творчество Н. А. Бердяева в оценке отечественных мыслителей и исследователей». Последующие книги были посвящены творчеству и судьбам видных деятелей российской истории и культуры. Состав каждой из них формировался как сборник исследований и воспоминаний, компактных по размеру и емких по содержанию, оценивающих жизнь и творчество этих представителей нашей культуры со стороны других видных ее деятелей — сторонников и продолжателей либо критиков и оппонентов. Тексты антологий снабжались комментариями, помогающими современному читателю осознать исторические обстоятельства возникновения той или иной оценки, мнения.
За пятнадцать лет серия выросла и ныне представляет собой нечто подобное дереву, корень которого составляет сам замысел духовного осмысления культурно-исторических реалий, ствол образует история культуры в ее тематическом единстве, а ветви суть различные аспекты цивилизационного развития — литература и поэзия, философия и теология, политика. В литературно-поэтической
подсерии «Русского Пути» были опубликованы антологии о А. С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Н.В. Гоголе, Ф.И. Тютчеве, Л.Н. Толстом, А.П. Чехове, М. Горьком, В. В. Набокове, И. Бунине, Н. Гумилеве, А. Ахматовой, А. Блоке, А. Белом, В. Маяковском, 3. Гиппиус, Н. Заболоцком. Философско-теологическая подсерия представлена С. Булгаковым, Вл. Соловьевым, П. А. Флоренским, В. В. Розановым, а также, помимо других российских философов, западными мыслителями в русской рецепции — Платоном, Бл. Августином, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом, Ф. Шеллингом, Ф. Ницше. Научная и политическая ветви проекта представлены антологиями о Павлове и Вернадском, а также книгами, посвященными Петру I, Екатерине II, Александру I, Александру II, К. П. Победоносцеву. Этот круг, мы надеемся, будет в ближайшее время расширен. Следует отметить и таких фигурантов «Русского Пути», деятельность которых не поддается однозначной тематической рубрикации. В их числе Н. Карамзин, Н. Чернышевский, Д. Андреев. При всем различии их деятельности указанные личности являются субъектами именно нашей — российской — культуры.
Академии удалось привлечь к сотрудничеству в «Русском Пути» замечательных ученых, деятельность которых получила и продолжает получать поддержку Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), придавшего качественно иной импульс развитию проекта. В результате «Русский Путь» расширяется структурно и содержательно. Итогом этого процесса может стать «Энциклопедия самосознания русской культуры». Антологию, посвященную В. О. Ключевскому, можно рассматривать в качестве одного из шагов на пути реализации этого замысла.
Р. А. Киреева
ЗА ХУДОЖНИКОМ СКРЫВАЕТСЯ МЫСЛИТЕЛЬ: ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ КЛЮЧЕВСКИЙ
Василий Осипович Ключевский занимает исключительное место в истории русской науки и культуры. Для многих он стал символом и гордостью России. Его научные труды вызывали ассоциации с лучшим творчеством человечества — Тацита, Шекспира, Гюго; но чаще его сравнивали с русскими писателями и мыслителями — с Пушкиным, Гоголем, Крыловым, Л. Н. Толстым, со своеобразным философом Н.Ф. Федоровым, а также с историческими полотнами Репина и Серова, с музыкой Рахманинова и Бетховена. Когда хотели сказать о чем-то прекрасном на Руси, то для убедительности говорили: «Это равняется лучшей странице Ключевского» (В. В. Розанов). Его называли добрым гением, домашним духом, покровителем русской культуры, с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания (О.Э. Мандельштам).
И со стороны отца, и со стороны матери великий историк происходил из духовного сословия. Согласно метрической записи В. О. Ключевский родился 16 января 1841 года в селе Воскресенском Пензенского уезда и губернии (существует версия о его рождении в городе Пензе). Первые четыре года его жизни прошли в Воскресенском — здесь он сделал свои первые шаги по земле, сказал первые слова, услыхал русские народные сказки, которые рассказывала ему бабушка. Эти сказки двухлетний малыш всегда слушал чрезвычайно внимательно и всякий раз поправлял рассказчицу, если та по-иному что-либо сказала: «это не так», «этого не говорили». Видимо, бабушка первой и заметила одаренность внука. Ласково гладя его по головке, приговаривала: «Бакалаврушка ты мой!».
Детские годы Ключевского и дальше проходили в деревенской глуши Пензенской губернии по месту службы отца — бедного
сельского священника и законоучителя: один год (1845) в уездном городке Городище, около пяти лет в селе Можаровке (1846-1851). Мальчик жил среди русской природы близко к быту сельского населения. Впечатления детства врезались в его память на всю жизнь. Сочувствие и понимание крестьянской жизни, интерес к исторической судьбе народа, социальная среда, в которой он вырастал, воспринятое им народное творчество — все это много дало будущему историку. Философ Г. II. Федотов высказал мысль, что «Ключевский, по условиям своего рождения и воспитания, был как бы предназначен к тому, чтобы увидеть историю России в классовом разрезе» Г
Первым учителем Василия Осиповича был отец, который научил его правильно и быстро читать, «писать порядочно» и начал учить сына петь по нотам. Среди первых прочитанных книг, помимо обязательных часослова и псалтыри, были уже Четьи-Минеи и книги светского содержания: две изданные Н. И. Новиковым поэмы («Иосиф» Битобэ и «Потерянный рай» Мильтона) и альманах Н. М. Карамзина «Аглая». Внезапная трагическая гибель отца 28 августа 1850 года оборвала детство Василия Осиповича... Его мать с двумя оставшимися живыми детьми (остальные четверо умерли во младенчестве) перебралась в сентябре 1851 году в Пензу. Из сострадания к неимущей вдове священник С. В. Филаретов (друг мужа) отдал ей для проживания маленький домик. Семья ютилась в задней, худшей части дома; переднюю сдавали внаем за три рубля в месяц. В этом доме прошли самые трудные в материальном отношении 10 лет жизни В. О. Ключевского. «Был ли кто беднее нас с тобой в то время, когда остались мы сиротами на руках матери?» — писал позднее Ключевский сестре. (Изведав почти полную нищету, Ключевский впредь всегда старался оказывать помощь другим: помогал сестре воспитывать семерых ее детей, а детей умершей сводной сестры взял в свой дом. Помогал он и нуждающимся студентам.)
В Пензе Ключевский последовательно учился в приходском духовном училище (1851/52), в духовном уездном училище (1852-1856), в Духовной семинарии (1856-1860). Рано, чуть ли не со второго класса семинарии, он вынужден был давать частные уроки, да и в дальнейшем продолжал заниматься репетиторством, зарабатывая на кусок хлеба и накапливая педагогический опыт. С детства проявившаяся любовь к истории вообще и к русской в особенности окрепла в ученические годы. На школьной скамье Ключевский
1 Федотов Г. П. Судьбам грехи России. Т. 1. СПб., 1991. С. 337.
За художником скрывается мыслитель: Василий, Осипович Ключевский 9 знал уже труды Татищева, Карамзина, Грановского, Кудрявцева, Кавелина, Соловьева, Костомарова; следил за журналами «Русский вестник», «Отечественные записки», «Современник». Чтобы иметь возможность поступить в университет (а начальство прочило его в Казанскую духовную академию), Ключевский намеренно бросил на последнем курсе семинарию. Год юноша самостоятельно готовился к поступлению в университет и готовил к экзаменам двух сыновей пензенского фабриканта Маршева. Летом 1861 года Ключевский уехал из родного города, куда ему не суждено было вернуться.
Проделанный до Москвы путь был непростым: от Пензы до Владимира он добирался целую неделю в открытой телеге, а оттуда первый раз в жизни проехал по железной дороге. Поезд произвел на него неизгладимое впечатление: «чудо-юдо морское, да и только», «машина спокойно тащит за собой целую деревню вагонов» и «понеслась так, что трудно было рассмотреть мелькавшие мимо предметы. И при этой быстроте (до 30 верст в час) не тряхнет: колеса катятся по рельсам ровно, без толчков, просто от восторга мороз пробегает по телу»2. А много лет спустя в своих лекциях Ключевский сравнил локомотив с телегой, объясняя жизнь русского общества XVIII века, которая стала гораздо сложнее, чем была прежде, и производила впечатление каприза, неожиданности и непоследовательности, так как не все ее «пружины» с их тонкими связями заметны при первом взгляде. Наивный зритель, говорил он, не догадывается, что в движении поезда с «целым уездным городом пассажиров» меньше чудес и произвола, чем в движении телеги, что поезд не может ни свернуть в сторону, ни перепрыгнуть через маленький промежуток между рельсами; «а телега благополучно сворачивает с дороги и переезжает через канавы, только с легеньким массажем»3.
Став студентом Московского университета, Ключевский с головой погрузился в занятия и вернулся к своим любимым книгам. «Попались мне в руки опять мои милые классики, мой Саллюстий, Гораций, Вергилий — это мои старые знакомые; с другими только что знакомлюсь, как с Геродотом, Гомером, Ксенофонтом. Славное знакомство. А моя История, моя хорошенькая История! Я опять не разлучаюсь с ней ни математикой, ни катехизисом». «Право, любо живется с таким обществом»4.
2 Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968 (Далее — ПДА). С. 19.
3 Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 350, 12, 13.
4 Ключевский В. О. ПДА. С. 31.
Ключевский слушал лекции Ф.И. Буслаева, С. В. Ешевского, Г. А. Иванова, П. М. Леонтьева, К. П. Победоносцева, Н. А. Сергиевского, С.М. Соловьева, Н.С. Тихонравова, П. Д. Юркевича и др. (Б. Н. Чичерина он слушал уже по окончании учебного курса). Помимо обширной обязательной программы Ключевский занимался по воскресеньям сравнительной филологией под руководством Ф. И. Буслаева на дому профессора. Он изучал тогда древнегерманский эпос по песням древней Эдды и древнерусскую народную поэзию. Ключевский собирался даже стать филологом3. В одном из писем его читаем: «Трудно резюмировать мои занятия. Черт знает, чем я не занимаюсь. И политическую экономию почитываю, и сан-кратский язык долблю, и по-английски кой что поучиваю, и чешский, и болгарский язык поворачиваю,— и черт знает, что еще»5 6. На талантливого студента обратил внимание знаток классической древности П. М. Леонтьев и предлагал ему остаться при кафедре римской словесности и древностей. На последних курсах Ключевский начал заниматься русской историей под руководством С. М. Соловьева. Он углубленно изучал источники: вместе с Буслаевым разбирал старые рукописи в Синодальной библиотеке, часами погружался в «безбрежное море архивного материала» в архиве Министерства юстиции, где ему отвели стол рядом с С. М. Соловьевым (Ключевский любил вспоминать об этой их совместной работе).
Внимательно присматривался Ключевский и к окружающей повседневной жизни, чтобы понять ее связь с прошедшим, постоянно что-то «почитывал» да «подумывал». Он писал о себе, что не любит отдыхать с намерением отдыхать, как и работать с намерением работать, да и плохо различает эти понятия, иногда считая бездействием то, что другие называют важным занятием, и наоборот. Находясь в качестве репетитора в поместье кн. Волконского (одного
5 Сохранилось немало рукописей Ключевского студенческой поры. Среди них рефераты «Сравнительный очерк народно-религиозных воззрений», «Сочинение Дюрана епископа Меранского о католическом богослужении», заметки о языке былин, о языке «Слова о полку Игореве», «Об эпических сказаниях Новгорода», о былине «Садко» и других стихотворных произведениях. В этих работах ярко отразился интерес к народу и народному быту, усиленный контактами с Буславеым, и пристальное внимание к проблеме влияния природы на человека, которая, по словам студента Ключевского, постоянно, неотразимо и могущественно действует на всю его жизнь и на выработку его религиозных представлений (с чем Буслаев не вполне был согласен). Впоследствии, как известно, в исторической схеме Ключевского географический фактор приобрел первостепенное значение.
6 Ключевский В. О. ПДА. С. 101.
из первых председателей рязанской губернской земской управы), в часы отдыха Ключевский встречался с мировыми посредниками и «слушал о крестьянских делах». В воскресные дни хаживал он в Кремль и водил с собою студентов-юристов, интересовавшихся расколом, «потолкаться между народом перед соборами» и послушать свободные прения раскольников с православными. «Указания Ключевского и беседы с ним были для нас желанны, и поучительны. Я не раз вспоминал их в позднейшие годы <...> в моей судебной, преподавательской и законодательной деятельности»,— вспоминал известный адвокат А.Ф. Кони. Он же оставил ценные свидетельства о Ключевском-студенте, с которым впервые встретился осенью 1863 года на одном из студенческих вечеров, где велись беседы до глубокой ночи. Скромная фигура Ключевского, его тихий голос и сдержанная молчаливость, писал он, вначале невольно возбуждали вопрос «да что же такого особенного в этом Ключевском? Почему сотоварищи, — склонные вообще к критическому отношению и зоркие на недостатки, добродушно осмеиваемые,— относятся к нему с таким почтением, как бы по молчаливому соглашению признавая его авторитетом в своей среде?» Все становилось ясно, как только Ключевский вступал в беседу, особенно если речь шла об истории или искусстве. «Его речь на чудесном русском языке, тайной которого он владел в совершенстве, лилась неторопливо; по временам он останавливался и на минуту задумывался и затем снова пленял и удивлял выпуклостью образов, остротою и глубоким содержанием эпитетов и богатством сведений, приводимых в новом и подчас неожиданном освещении, за которым чувствовалась упорная работа самостоятельной мысли. Уже тогда в том, что он говорил, намечались — его взгляд на историю как на социальный процесс по преимуществу, и его любовь к изучению исторических явлений и периодов со стороны проявления в них природы страны, человеческой личности и людского общества»7.
Жил в студенческие годы Ключевский более чем скромно — скитался по отдельным углам или ютился где-то под крышей, дня по три бывал без чая и без обеда. После напряженных университетских и самостоятельных занятий он шел, зачастую пешком, на уроки, которые находились в самых различных концах города. Например, он обучал в Сокольниках сына лесничего и сверх того читал лесничихе бульварные романы, за что получал 15 рублей в месяц и стакан чая с куском хлеба.
Кони А.Ф. Воспоминания о В.О. Ключевском // В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания, М., 1912. С. 146, 147.
В университете Ключевский особенно старательно посещал лекции и читал труды корифеев историко-юридической (или как она стала называться «государственной») школы, которая по праву занимала тогда ведущее положение в исторической науке. С щедрой признательностью и благодарностью не раз говорил и писал о том Ключевский. Историки-государственники исходили из идеи государства как наивысшего выражения «народного духа» во всемирной истории. Поэтому главным их научным интересом была история государства — его происхождение, развитие и национальные особенности. Их доминирующими источниками были акты государственной власти, официальные памятники законодательства, дипломатические документы. Народ назывался ими «жидкой» массой, пассивным сырым материалом, «калужским тестом», из которого правительство пекло все, что ему было угодно. По образному замечанию Б. И. Сыромятникова, здание русского общества строились ими из века в век вопреки всем правилам архитектуры «сверху вниз». Если это так, то для Ключевского характерен был взгляд «снизу вверх» — для него наибольший интерес представляли общественные группы и классы, повседневная жизнь народа, внутренние процессы, которые приводят в движение исторические силы — то есть социально-экономические проблемы.
И роль государства в истории Ключевский оценивал иначе. Он признавал историческую неизбежность возникновения государства, но не считал это прогрессом8. Такой ракурс исследований
8 Очень интересны и выразительны размышления Ключевского о роли государства, записанные им в дневнике 1 августа 1871 г.— тогда он готовился к чтению первого своего курса по русской истории в Московской духовной академии: «...Появление государства вовсе не было прогрессом ни в общественном, ни в нравственном смысле. Я не понимаю, почему лицо, отказавшееся от самостоятельности, выше того, которое продолжает ею пользоваться, — почему первое совершеннее, развитее второго в общественном отношении. Говорят, прогресс в том, что приняты меры против злоупотребления личной свободой и эти меры основаны на идее общего блага, идее, лежавшей в основе государства и неведомой в прежней личной отдельности людей. Но опять непонятно, почему солдат, не умеющий пользоваться оружием и бросивший его, стал оттого более вооруженный. Притом теперь можно довольно самоуверенно утверждать, что государство вовсе не было выходом из состояния войны всех против всех. И до государства существовали общественные союзы, кровные, религиозные, которые ограничивали личную свободу во имя лучших побуждений, чем государство. Последнее заменило добровольное и естественное подчинение первых условным и принудительным. В смысле нравственном появление государства было полным падением. Существование государства возможно только при известных нравственных понятиях
отчетливо проявился уже в самых первых работах историка. Беря у «государственной школы» темы — роль географической среды, проблема колонизации, интерес к истории учреждений и др.,— Ключевский ставил и освещал их по-иному, что будет в ряде случаев отмечаться ниже.
Для выпускного сочинения Ключевский избрал тему, связанную с историей Московской Руси XV-XVII веков, базируясь на большом круге слабо изученных тогда источников — на записках иностранцев. В работе им было использовано около 40 сказаний, многие из которых в то время не были изданы и не были переведены на русский язык. Ключевский сам по подлинникам переводил их. Трудно поверить, что работа была написана всего за один учебный год, в течение которого автор продолжал посещать лекции и сдавал экзамены. Уже тогда проявил он удивительную работоспособность. Ключевский трудился по три четверти суток, хотя (по доверительному признанию любимой девушке) его порой тянуло «взглянуть на дальние поля, узнать прекрасна ли земля». Не случайно позднее появилось его изречение: «Кто не способен работать по 16 часов в сутки, тот не имел права родиться и должен быть устранен из жизни, как узурпатор бытия». Ключевский был в высшей степени организованным человеком — ив этом тоже проявился его талант. Забегая несколько вперед, можно утверждать, что один из «секретов» историка заключался в том, что он любил и умел работать. Как именно протекал его повседневный труд — лучше всего говорят его многочисленные записи с распорядками дня. Планы содержат
и обязанностях, признаваемых его членами. Эти обязанности и понятия очень резко отличаются от правил обыкновенной людской нравственности. Ничего не стоит заметить, что эта последняя гораздо нравственнее политической морали. Уже то, что политическая нравственность бесконечно разнообразится по времени и месту, ставил ее ниже частной, которая устояла почти в одинаковом виде от первого грешника до последнего, от Адама до Наполеона III или Бисмарка. Между тем несомненно, что государство являлось плодом очень насущных потребностей общества. Остается точнее обобщить характер и происхождение этих потребностей. Вывод, впрочем, ясен сам по себе: потребности эти создавались различными неправильностями и затруднениями, развивавшимися между людьми. Но едва ли здесь можно усмотреть какой-нибудь прогресс. Если человек сломает себе ногу, едва ли костыль его воротит ему прежнюю быстроту движения; если же этот костыль ослабит деятельность и здоровой ноги, то здесь едва ли что можно видеть, кроме печального падения. Известно, что безнравственная политическая мораль иногда искажала понятия естественной человеческой нравственности. Все можно и должно объяснить; но оправдывать и считать прогрессом — едва ли...» — Ключевский В.О. ПДА, 246-247.
точные указания на то, что в тот или иной день следует прочесть, что написать, где побывать и т. д. Делались и пометы о выполнении планируемого — Ключевский контролировал себя жестко. Такая четкая научная организация труда помогала ему последовательно и систематично осваивать массу источников, громадный историографический материал, пропускать все это через себя, создавать свои вдохновенные работы и преподавать в пяти высших учебных заведениях.
И до Ключевского историки черпали из записок иностранцев некоторые фактические данные и характеристики; были статьи и об отдельных иностранцах, оставивших свидетельства о Руси. Но никто до Ключевского не изучал эти памятники совокупно. Подход молодого историка был принципиально иным. Он собрал воедино и тематически систематизировал содержавшиеся в сказаниях конкретные сведения, критически переработал и обобщил их, создал цельную картину жизни русского государства в течение трех столетий.
Во Введении, где мотивировался выбор темы и обосновывались хронологические рамки работы, Ключевский привел список своих источников, обобщенно проанализировал их, дав характеристику авторам сказаний, выявил устные и письменные источники, из которых те черпали свои сведения, обратил внимание на особенности записок в зависимости от времени их написания, а также от целей и задач, стоящих перед писавшими. Говорил он и о различных причинах приезда в Россию того или иного иноземца: случайно попавшие в Москву путешественники; приехавшие с задачами католической пропаганды (главным образом итальянцы); в поисках торговых путей и связей (главным образом англичане). Особо выделил Ключевский иностранцев, прибывших в период Смутного времени: кто приехал с целью шпионажа, а кто желал вступить на службу в войска московского государя. Самая же значительная часть иностранцев приезжала в составе посольства из разных государств Европы (преимущественно из Австрии). В целом Ключевский подчеркивал важность записок иностранцев для изучения повседневной жизни Московского государства, хотя там и можно встретить немало курьезов и неточностей. Отсюда требование критического подхода к свидетельствам иностранных авторов. Его анализ источников был так основателен, что в последующей литературе «Сказания иностранцев о Московском государстве» нередко называли источниковедческой работой. Но это — исторический труд по истории Московской Руси, написанный на обильных «свежих» источниках.
В ходе работы Ключевский пришел к выводу, что известия иностранцев о домашней жизни москвитян, о нравственном состоянии общества и тому подобные вопросы внутреннего быта не могли быть достаточно достоверными и полными в устах иноземцев, так как эта сторона жизни «менее открыта для постороннего глаза», к ней «менее приложима чужая мерка». Внешние же явления, наружный порядок общественной жизни, ее материальную сторону посторонний наблюдатель мог описать с наибольшей полнотой и верностью. Поэтому Ключевский решил ограничиться только наиболее достоверными сведениями о государственной и экономической жизни страны и данными о географической среде. Эта сторона русской жизни очень интересовала автора, тем не менее им был собран и обработан материал по значительно большему числу вопросов, о чем красноречиво свидетельствуют рукописи ученого9.
Книга написана со «строгой разборчивостью в материале» и вместе с тем ярко, образно, с оттенком веселой иронии. Читатель как бы сам вместе с «наблюдательным европейцем» едет по небезопасным дорогам через обширные густые леса, степные пустынные пространства, попадает в различные перипетии. Ключевский мастерски передает прелесть живых конкретных свидетельств подлинника, сохраняя свежесть впечатлений иностранца и пересыпая собственное изложение красочными деталями и выразительными штрихами облика царя и его приближенных, церемоний приема послов, пиров, застольных речей, нравов царского двора. Автор следит за укреплением централизованного государства и самодержавия как формы правления, постепенным усложнением аппарата государственного управления (боярская дума, возникновение приказной системы), за судопроизводством, за состоянием войска; сопоставляет московское управление с порядками других стран.
Подробности же дипломатических переговоров, борьбы придворных партий и связанные с ней внешнеполитические события мало интересовали Ключевского. Он сосредотачивал внимание
9 Например, за пределами работы остались материалы и немало написанных Ключевским очерков о Ливонской войне, о взаимоотношениях сословий, о русском быте и быте соседних с Москвой народов; о праздниках, об отношении к потомкам, о церковной службе в Кремле, сведения о болезнях и медицине, о музыкальных вкусах, о понятии красоты, об образовании и т. д. Однако тщательно собранный, но не включенный в книгу материал для Ключевского не пропал — он пользовался им и в «Курсе русской истории» и в ряде других работ, особенно при воссоздании исторических портретов и художественных характеристиках.
на внутренней жизни страны. Из записок иностранцев Ключевский выбирал сведения о «виде» страны и ее климате, о плодородии отдельных областей Московского государства, о главных посевных культурах (ржи, пшенице, овсе, ячмене, грече, просе), о скотоводстве, охоте, рыбном промысле, солеварении, огородничестве и садоводстве, о росте городов и народонаселении. Заканчивается работа рассмотрением истории торговли Московского государства XV-XVII веков и связанным с торговлей монетным обращением. Он говорил о центрах внутренней и внешней торговли, о торговых трактах и путях сообщения, о ввозимых и вывозимых товарах, о ценах на них. Живой исследовательский интерес к экономическим вопросам и к социальной истории (что было новым явлением в исторической науке того времени), внимание к географическим условиям как постоянному фактору русской истории, к движению народонаселения с целью освоения новых земель, к вопросу взаимоотношений России и Запада (стремление взглянуть на Россию как бы со стороны и понять, как в России воспринимали Запад) — все это свидетельствует о том, что в студенческом сочинении Ключевского отчетливо просматриваются основы его будущей концепции русского исторического процесса, углубленные им в последующих трудах. Можно даже сказать, что она в общих чертах сложилась уже тогда.
В июне 1865 года Ключевский получил аттестат на степень кандидата историко-филологических наук. Постановлением университетского совета было решено его работу опубликовать. И вот редчайший случай — выпускное студенческое сочинение было напечатано в течение одного 1866 года четыре раза: сначала по частям в «Московских университетских известиях» (№ 7-9); потом целиком во 2-м томе «Приложений» к ним и дважды отдельной книгой, выпушенной типографией университета и «Обществом распространения полезных книг». Первая книга Ключевского сразу получила научное признание специалистов и вызвала читательский интерес общедоступной и занимательной формой изложения. Ключевский вошел в науку как талантливый исследователь, знаток Московской Руси, тонкий ис-точниковед и мастер слова. Но Ключевский больше никогда не давал согласие на переиздание книги (видимо, потому, что там он полностью не осуществил первоначальный замысел — ведь назвал же он эту книгу в частном письме другу своим «недопеченным печеньем»). «Сказания иностранцев...» были переизданы только по смерти историка.
Между тем в «Обществе распространения полезных книг» решили перевести на русский язык работу немецкого историка П. Кирхмана “Geschichte der Arbeit und Cultur” (в русском перево
де «История общественного и частного быта» (М., 1867)), которая предназначалась для домашнего и школьного чтения. Кирхман базировался преимущественно на материалах Западной Европы. Ключевскому предложили дополнить книгу русским материалом, что он не без удовольствия выполнил. Издатели, объясняя причины внесенных дополнений, указали на «скудость русской литературы по культурной истории России»10.
Книга состоит из шести отделов: «Пища», «Жилище», «Одежда», «Утварь», «Оружие», «Обмен произведениями. Торговля и монетное дело», которые внутри подразделяются на ряд уточняющих подотделов. Ключевский органически ввел в каждый очерк свой текст, насыщенный фактическим материалом, почерпнутым им из русских источников (летописей, «Русской Правды», житий святых, данных археологии), а также из записок иностранцев. Всего Ключевским было написано 30 текстов, где он дал последовательную характеристику земледелия, обработку и печения хлеба, производства напитков (молоко, вино, мед, пиво и квас, водка, чай, кофе), овощей и садовых плодов, пряностей (соль, сахар, перец), посуды, строительного дела, текстильного производства, одежды, обуви, головным уборам, горного дела, добычи золота, металлообрабатывающей промышленности, производства оружия, торговли и монетного дела. Кроме того, остались не включенными в книгу два наброска «Игры» и «Школа». Эта работа Ключевского по истории русского быта представляет собой своеобразное продолжение и дополнение «Сказаний иностранцев...» по его интересу к вопросам развития экономической жизни России и по собиранию из источников сведений о жизни изо дня в день русского народа. Однако эта работа Ключевского не упомянута в списках его научных трудов и поэтому долгие годы оставалась неизвестной даже специалистам. Ее обнаружил и впервые упомянул о ней А. А. Зиминв 1961 году”.
Сразу по окончании университета Ключевский начал интенсивно работать над магистерской диссертацией. Он решил посвятить ее истории монастырского землевладения, в центре которой должна была стоять проблема колонизации, впервые поставленная в науке
-4—--------------
) 10 Кирхман П. История общественного и частного быта. Чтения в школе и дома. М., 1867. С. III.
11 Зимин А. А. Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского // Исторические записки. Т. 69. 1961. С. 189.
Приятно сообщить, что в период подготовки к изданию данной книги вышла из печати долгое время остававшаяся неизвестной работа молодого-В. О. Ключевского «История русского быта». М., 1995.
С.М. Соловьевым. Но в отличие от государственной школы, объясняющей колонизацию деятельностью государства, Ключевский понимал ее как процесс, обусловленный природными условиями страны и ростом народонаселения. То есть главным образом народ, а не государство, по Ключевскому, являлся двигателем колонизации.
Так же как для кандидатского сочинения, так и для магистерского Ключевский избрал однотипный комплекс источников: тогда это были сказания иностранцев, теперь — жития святых. И сама проблема колонизации и жития святых как источник притягивали в то время внимание многих историков. О важности изучения житий говорили Ф. И. Буслаев, С. М. Соловьев, А. П. Щапов, А. Ф. Бычков, С. В. Ешевский, К. Н. Бестужев-Рюмин. Исходя из того, что в Древней Руси религиозный элемент тесно сплетался со всеми явлениями жизни, как политическими, так и общественными и семейными, они думали найти в житиях то, что не находили в летописях. Предполагалось, что жития содержат в себе обширный материал по истории колонизации, землевладения, по истории русских нравов, обычаев, условий жизни, истории быта, частной жизни, образа мыслей и его воззрений на природу общества и т. п. Думал так и Ключевский, приступая к работе. Интерес к житиям усиливался и их неизученностью.
Для понимания первоначального замысла Ключевского важны неопубликованные материалы — в его архиве сохранилось свыше 500 листов конспектов и предварительных набросков (а написано было еще больше). Летом 1865 года им были написаны главным образом на данных литературы четыре наброска в форме лекций-бесед «О церковных земельных имутцествах в древней Руси»12; потом очерки об отдельных памятниках русской агиографии, содержащие всестороннее и тщательное их исследование (автор перенес оттуда в диссертацию лишь основные выводы); первоначальный план13, выписки, заметки и другие черновики. Среди рукописей
12 В первом из четырех набросков Ключевский касался характера и этапов монастырей в жизни древнерусского общества; во втором писал о монастырских иммунитетных привилегиях; в третьем — о «взаимоотношениях монастыря с окрестным населением»; в четвертом — о политике русского правительства в XVI в.
13 В предварительном плане диссертации им предусматривались шесть главочерков: в первом очерке предполагалось дать характеристику общих особенностей колонизации на Руси; во втором — рассмотреть географическое распространение крестьянской колонизации в Северо-Восточной Руси; в третьем — сказать об образовании «монастырских обществ»; в четвертой, пятой и шестой главах — проанализировать разностороннее влияние монастырей на колонизацию страны.
есть текст «Участие монастырей в колонизации Северо-Восточной Руси», который М. В. Нечкина назвала первой пробой диссертационного текста14 15. Эти материалы свидетельствуют, что Ключевский намеревался показать через жизнь простого русского человека как активного творческого начала в историческом процессе историю культурного освоения той большой территории Северо-Восточной Руси, которая и составила основу будущего Русского государства. Историко-литературному же обзору житий он предполагал отвести место только во введении.
Большое значение придавал Ключевский и нравственной стороне дела, о чем четко выразился в статье 1868 года: «Может быть, ничто лучше жития не дает нам почувствовать, что не одним топором, не одною сохой расчищено и взрыто это необъятное поле, и не одни пресловутые Иваны московские дали государству такую живучесть, но что их материальному созданию послужили и лучшие нравственные силы народа в образе Петра, Алексия, Сергия и многих других. Может быть, мы серьезнее смотрели бы на себя и свое будущее, если бы лучше знали и ценили эти нравственные силы, потрудившиеся для нас в прошедшем»1Э.
Ключевский приступил к изучению первоисточников, значительная часть которых была тогда не только не издана, но даже не описана и не приведена в какой-либо порядок. Образно о том писала М. В. Нечкина: «Объем первоисточников проще было бы исчислять в пудах, нежели в архивных единицах. Это были повсюду огромные нагромождения рукописных записей житий святых»16. Рукописи хранились в библиотеках разных городов (Москвы, Петербурга, Казани, Троицко-Сергиевой лавре) и в ряде частных коллекций (А. С. Уварова, Н. С. Тихонравова, Е. В. Барскова и др.). Ключевский проделал титанический труд по изучению текстов не менее пяти тысяч житийных списков. Наряду с работой над диссертацией он выпустил шесть работ по истории монастырского землевладения и колонизации. Среди них крупное, насыщенное конкретно-историческим содержанием исследование «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» (где автор показал, как тема о монастырской хозяйственной жизни может быть разрешена на основе одновременного использования повествовательных
11 Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974. С. 128.
15 Ключевский В.О. Отзывы и ответы. Третий сборник статей. Пг., 1918. С. 10.
16 Нечкина М.В. Указ. соч. С. 133.
источников (житий) и актового материала, как эти два вида исторических источников взаимно дополняют и корректируют друг друга), «Псковские споры» (где рассмотрены некоторые вопросы идеологической жизни на Руси XV-XVI веков — работа писалась в момент усиливавшейся полемики между Православной Церковью и старообрядцами), «Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием»; отзывы о работах Милютина, Горчакова, Иконникова. Однако несмотря на все затраченные усилия по изучению житий и их источников, Ключевский пришел к неожиданному выводу о литературном однообразии житий и о скудости содержащегося там конкретно-исторического материала. Авторы житий описывали жизнь святых с одних и тех же сторон, писал Ключевский, забывая «о подробностях обстановки, места и времени, без чего для историка не существует исторического факта. Часто кажется, что в рассказе жития таится меткое наблюдение, живая черта действительности; но при анализе остается одно общее место». Для Ключевского важна была жизнь реального человека, а он нашел в источнике «образы без лиц», общий тип Божьего угодника; вместо исторической обстановки, в которой тот жил и действовал,— литературный шаблон, общие места, созданные под влиянием восточной агиографии17. Ключевскому стало очевидно, что выявленного из источников материала не хватит для исполнения задуманного.
Многие советовали Ключевскому отказаться от темы, но он сумел повернуть ее в другое русло. Он стал подходить к житиям святых не с целью выявления содержащихся в них фактических данных, а сами жития превратил в объект изучения. Теперь Ключевский поставил перед собой чисто источниковедческие задачи: датировка списков, определение древнейшего списка, место его возникновения, возможные источники житий, количество и характер последующих редакций, определение точности отражения источником исторической действительности и выяснение степени его правдивости. Книга получила окончательное название: «Древнерусские жития святых как исторический источник». Ключевский раскрывал в ней внутренний (обычно скрытый от читателя) процесс работы ученого над источником. Это, конечно, было ценно для науки, но такой подход к теме не сразу нашел поддержку и понимание даже в близких автору кругах. Его друг А. А. Шахов постоянно убеждал Ключевского, что подобная работа недостойна его таланта,
17 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871 (Репринтное издание. М., 1988). С. 433, 430, 436.
что ему надо заниматься прагматической разработкой истории, а не тратить силы и время на черное рудокопное дело. Да и у самого Ключевского порой возникало чувство сожаления, что взялся он за такое скучное дело. Ключевский как-то признавался ученикам, что к концу работы у него появилось чувство человека, который нырнул в глубину, затаив дыхание, движется под водой и думает, хватит ли у него сил выдержать, и что, окончив книгу, он почувствовал себя воскресшим. Так Ключевский одержал победу над самим собой, самоотверженно исполнив научный долг.
Книга Ключевского была опубликована в 1871 году, магистерская защита которой состоялась 26 января 1872 года. Она привлекла внимание не только ученых, но и многочисленную публику. Как свидетельствовали очевидцы, соискатель блестяще защищался, демонстрируя талант полемиста.
Крайне смелые выводы Ключевского радикально расходились с господствующими тогда воззрениями на древнерусские жития и вызвали к работе неоднозначное отношение, особенно среди духовенства. Ключевский впоследствии рассказывал, как в Духовной академии один профессор восхищался удивительной сжатостью изложения, кованным стилем, назвал превосходной заключительную главу книги, где содержались главные выводы, а другой профессор реагировал иначе. Он, перелистывая перед автором его книгу и приговаривая: «Хорошо это; ах, как хорошо!», дойдя до последней главы переменил тон: «А вот эту главу я бы оторвал да бросил в печку!» «А между тем последняя-то глава и была особенно близка моему сердцу»,— замечал Ключевский. В «Московских епархиальных ведомостях» появилось резкое выступление анонимного автора, который назвал книгу Ключевского раскольничьей. Ключевский тоже печатно незамедлительно ответил статьей «Аллилуйя и отец Пафнутий (письмо в редакцию)».
«Работа над древнерусскими житиями сделала художника-творца, каким был по натуре Василий Осипович,— писал позднее его ученик М.К. Любавский,— тонким критиком-аналитиком, гармонически сочетала в нем несовместимые, обыкновенно, свойства кропотливого, аккуратного и осторожного исследователя и широкого творческого размаха писателя»18. Наука признала исследование
18 Любавский М.К. Василий Осипович Ключевский // Василий Осипович Ключевский. Биографический очерк, речи, произнесенные в торжественном заседании 12 ноября 1911 года, и материалы для его биографии. М., 1914 (Далее: В. О. Ключевский. Материалы...). С. 10.
Ключевского «Древнерусского жития святых как исторический источник» источниковедческим шедевром, непревзойденным образцом источниковедческого анализа повествовательных памятников.
Так как работа над диссертацией затянулась (вместо предполагаемых двух лет ушло шесть) и срок оставления Ключевского при кафедре истек, то перед ним остро встала необходимость искать постоянное место работы. По рекомендации С. М. Соловьева Ключевский в 1867 году занял место репетитора старших классов в Московском Александровском военном училище. Степень магистра давала официальное право преподавать в высших учебных заведениях. Теперь Ключевский в Александровском военном училище стал читать всеобщую историю (и читал ее там до 1883 г.).
В 1871 году Ключевского пригласили читать курс гражданской русской истории в Московской духовной академии, где он проработал до 1906 года. По признанию Ключевского, он любил преподавать в Духовной академии, так как чувствовал себя там наиболее свободно. Каждую неделю ему приходилось на два дня уезжать из Москвы в Троице-Сергиеву лавру. А ездить Ключевский предпочитал среди богомольцев, с которыми любил вести беседы, в самом дешевом третьем классе. Иногда после лекций он позволял себе кататься на каруселях с крестьянскими парнями.
Профессор В. И. Герье предложил читать курс русской истории на открывавшихся в 1872 году в Москве Высших женских курсах «симпатичному и талантливому» ученику С. М. Соловьева В. О. Ключевскому. В ответном письме от 15 июля Ключевский сообщал, что ничего не имеет против и рад стараться, только он ничего не знает о характере преподавания. «Может быть, Вы поведете преподавание так, что моих ученых ресурсов не хватит. Это, кажется, единственное, о чем я питаю сомнение некоторое, т. е. что может остановить меня перед дверьми “жаждущих просвещения красавиц”»19. «Ученых ресурсов», конечно же, хватило с лихвой, и Ключевский преподавал на Высших женских курсах (ВЖК) до их официального закрытия в 1888 году (при попытках возобновления ВЖК в 1891 и 1900 годах Ключевский принимал участие в их работе).
Итак, Ключевский начал свой профессорско-преподавательский путь, который принес ему заслуженную славу, с одновременного преподавания в трех столь разных по своему характеру и назначению высших учебных заведениях (позднее прибавились
19 Ключевский В.О. ПДА. С. 246, 247.
Московский университет и Училище живописи, ваяния и зодчества). Ключевский любил и понимал свою аудиторию. Читал ли он будущим офицерам, будущим священнослужителям, «жаждущим просвещения красавицам», студентам, художникам, широкой публике — везде его слушали в благоговейной тишине с «захватывающим вниманием и истинным наслаждением».
Первые лекции Ключевского по русской истории, прочитанные им на ВЖК с 1872/73 по 1874/75 учебный год, сохранились, и их удалось собрать по разным архивам. Эти продуманные, хорошо отделанные лекции с яркими характеристиками и с широким использованием фольклора охватывают историю России с древнейших времен до петровских реформ включительно. Они со всей убедительностью доказывают, что уже в те годы историческая концепция Ключевского сложилась (а ранее считалось, что это произошло в начале 1880-х гг.). «Читающая Россия слишком поздно познакомилась с новой блестящей конструкцией русской истории»,— написал об этих лекциях в 1931 году историк и философ русского зарубежья Г. П. Федотов. Он узнал о существовании ранних лекций Ключевского из статьи А. А. Кизеветтера, в руки которого попала часть лекций 1873/74 учебного года с 17-й по 28-ю (всего в тот год было прочитано 47 лекций). «Не без удивления мы узнали,— продолжал Федотов,— что в самом начале 70-х годов курс Ключевского, как его знает наше поколение, уже сложился. Целые главы вошли без изменений в печатный текст. Работа последующих лет заключалась более всего в сокращениях и в художественной отделке. Не только историческое мировоззрение Ключевского, но и видение им русской истории было вполне законченным и цельным к началу семидесятых годов. Но это значит, что оно сложилось в шестидесятые»20. Большую научную ценность представляют хранящиеся в архиве ученого «Вступительные беседы» к курсу и погодные программы лекций. Оказывается, что над методологическими вопросами Ключевский задумывался с первых же лекций. Во вступительных беседах он нередко касался таких вопросов, как предмет истории, ее польза, научное значение всеобщей и местной (то есть национальной) истории, упоминал о взглядах на историю предшественников, пояснял задачи, главное содержание и периодизацию собственного курса. Говорил Ключевский и о взаимосвязи современности и прошедшего, которое лежит раскрытой книгой, и «нехорошо не уметь читать в ней; еще хуже уметь читать, чего
20 Федотов Г. П. Указ. соч. С. 330, 331.
в ней не написано». «Характер времени, в которое мы живем, впечатления, под которыми мы выросли,— читаем в одном из набросков,— не должны действовать на выводы исторического изучения; но нет беды, если они частию определяют его программу, подсказывают вопросы, не подсказывая их решения». Останавливался Ключевский во вступительных беседах и на ряде общих проблем. В одной из рукописей 1875 года содержится его почти сатирическая оценка XIX века. Идеалы XIX века он назвал ветхими и тощими, помыслы тривиальными, действия и лица мелкими и робкими. «В политической жизни он (XIX век.— Р.К.) создал принцип национальности, т.е. зоологической породы,— принцип, в котором нас давно опередили четвероногие сограждане нашей планеты,— потом всеобщую воинскую повинность, для которой не стоило предпринимать такой длинный путь цивилизации, потому что ее знали и до цивилизации. В социальной сфере он счастливо развил торговую компанию на акциях, в литературе — газету, в сфере искусства остановился на оффенбаховской Belle Helene и казарме фабричных рабочих, а в миросозерцании на гартмановском буддийском пессимизме»21.
В последующих лекционных курсах историческая концепция Ключевского развивалась и совершенствовалась. Тому способствовала и одновременная работа над докторской диссертацией «Боярская дума древней Руси», где им подводились итоги предшествующих исследований и давалась целостная концепция русского исторического процесса. Печатно она впервые появилась на страницах журнала «Русская мысль» (1880-1881).
Выбор темы диссертационной работы в полной мере отразил научные интересы историка, социологический подход к которой наметился еще в первой его книге (см. гл. V «Управление и судопроизводство»). Боярскую думу Ключевский образно называл маховым колесом всего Московского государства и трактовал ее как конституционное учреждение «с обширным политическим влиянием, но без конституционной хартии, правительственным местом с обширным кругом дел, но без канцелярии, без архива». Это произошло в силу того, что Боярская дума — эта «правительственная пружина», все приводившая в движение, сама оставалась невидимой перед обществом, которым она управляла, так как ее деятельность закрывалась с двух сторон — государем сверху и дья
21 Научный архив Института Российской истории РАН (Далее — НА ИРИ). Ф. 4. On. 1. Д. 1.
ком «ее докладчиком и протоколистом» снизу. Отсюда проистекали трудности изучения истории думы, так как «исследователь лишен возможности восстановить на основании подлинных документов как политическое значение думы, так и порядок ее делопроизводства»22.
Ключевский стал по крупицам собирать необходимые данные из самых разных источников — в архивах, в частных коллекциях (в том числе и своей собственной), в опубликованных документах; изучал он также труды специалистов-историков. У учеников Ключевского сложилось впечатление, что их учителя совершенно не тяготила предварительная, черная, кропотливая и неблагодарная египетская предварительная работа над просмотром массы источников и «груды архивного сырья», на что затрачивалось много времени и сил, а в результате находились лишь крупинки. Правда, замечали они, Ключевский «добывал крупинки чистого золота», собранные гомеопатическими дозами и проанализированные под микроскопом. И все эти скрупулезные изыскания он сводил к определенным, отчетливым выводам, составляющим завоевание науки.
Исследование охватывает весь многовековой период существования боярской думы от Киевской Руси X века до начала XVIII-го, когда она прекратила свою деятельность в связи с созданием Петром I в 1711 году Правительственного Сената. Но не столько история боярской думы как государственного учреждения, ее компетенция и работа привлекали Ключевского. Гораздо большим был его интерес к составу Думы, к тем правящим классам общества, которые через Думу управляли Россией, к истории общества, к взаимоотношениям классов. В этом-то и заключалась новизна замысла ученого. В журнальном варианте работа имела важный уточняющий подзаголовок: «Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества». «В предлагаемом опыте,— писал автор в первом варианте введения,— Боярская дума рассматривается в связи с классами и интересами, господствовавшими в древнерусском обществе». Ключевский считал, что «в истории общественного класса различаются два главные момента, из которых один можно назвать экономическим, другой политическим»23. Он писал о двояком происхождении классов, которые могут формироваться как на политическом, так и на экономическом основании: сверху — волей власти и снизу — экономическим процессом. Это положение Ключевский развивал во многих работах, в частности,
22 Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. Изд. 5. Птб., 1919. С. 3, 2.
23 Там же. С. 5.
в специальных курсах по терминологии русской истории и по истории сословий в России.
Исследование Ключевского «Боярская дума древней Руси» структурно состоит из «Вступления», 26 глав и «Приложения». В названиях глав автор сформулировал свои основные выводы. К примеру, глава I: «В боярском совете киевского князя X в. еще сидели представители класса, правившего обществом раньше князя с его боярами»; глава II: «С XI в. правительственный совет при князе Киевской Руси является односословным, боярским», или глава VIII: «В Новгороде и Пскове XIII-XV вв. боярская дума при князе превратилась в исполнительный и распорядительный совет выборных городских старшин при вече», или главаXXIII: «С конца XVII в. дума становилась тесным советом, действовавшим без государя» и т. д. В работе освещалась история боярства и дворянства — проблема, к которой автор в дальнейшем неоднократно обращался, характеризуя с антидворянских позиций более поздний этап истории России — XVIII — нач. XIX века. Однако после убийства Александра II народовольцами 1 марта 1881 года, Ключевский провел большую редакционную работу и несколько завуалировал свои взгляды. Он также убрал подзаголовок работы и написал новое «Вступление» к книге. Вместе с тем суть своего исследования — проблему общественных классов и их экономических интересов — оставил неизменной.
Главным фактором экономического развития Киевской Руси X-XI веков Ключевский считал город как центр внешней торговли. В городах, утверждал он, складывался промышленный класс (военно-торговая аристократия). Наряду с ним появился служилый класс (княжеская дружина). Органами этих двух классов были вече и совет при князе. С XII века центр исторического развития переместился из Южной (Киевской) Руси в Русь Северо-Восточную (Владимиро-Суздальскую). Главную роль в экономике страны, по Ключевскому, начинает играть сельское хозяйство. Поэтому промышленный класс исчезает. Князья становятся сельскими хозяевами, вотчинниками. Система политического управления в княжествах Северо-Восточной Руси XIII-XV веков воспроизводит административное устройство боярских вотчин. Княжеская боярская дума делается «советом главных дворцовых приказчиков» «по особо важным делам» при князе. При московском князе образуется «довольно плотный класс — московское боярство»24.
24
Там же. С. 32, 26, 1, 97, 116, 167, 169.
В XVI веке с образованием единого Русского государства с центром в Москве складывается, указывал Ключевский, правительственная аристократия. Боярская дума становится оплотом ее политических притязаний. В XVII веке происходит падение правительственного класса. Дума перестает быть «участницей верховной власти, становясь только ее орудием»25. К XVIII веку Боярская дума кончает свое существование.
В результате проведенного исследования Ключевский пришел к выводу, что в социально-политическом значении московской Боярской думы отразился основной факт истории Московского государства, которое было создано великорусской народностью. «Разделенная политически, угрожаемая гибелью с разных сторон», она «начала устрояться в обширный лагерь». Московское государство явилось народным лагерем, боровшимся на три фронта (восточный, южный и западный). Военное по происхождению, оно и устроилось по-военному. «В основании его социального строя лежало деление общества на служилых и неслужилых людей, т. е. на строевые и нестроевые части населения».
«Руководя народной обороной из своей кремлевской ставки, московский князь действовал как главный военачальник. Из сочетания власти такого военачальника с правительственными понятиями и привычками хозяина-вотчинника удельных веков и вышел своеобразный политический авторитет московских государей... » И боярская дума XV-XVI веков была по преимуществу военным советом. Деятельность государя с боярами «оставалась деятельностью народного военачальника с военными товарищами»26 до тех пор, пока не началось разрушение правительственного класса.
Помимо «Боярской думы» исследовательский интерес Ключевского к социальной истории России, особенно к истории правящих классов и истории крестьянства, отражен в его работах «Происхождение крепостного права в России», «Подушная подать и отмена холопства в России», «История сословий в России», «Состав представительства на земских соборах древней Руси», «Отмена крепостного права» и ряде статей. Социальная история России стоит на первом плане и в его «Курсе русской истории». «В истории классов Ключевский,— писал Г. П. Федотов,— нашел свою социальную тему, которую он противопоставил политической теме государства
25 Там же. С. 203, 240, 289, 296, 301, 379, 384.
26 Там же. С. 520, 521, 522-523, 524.
и завещал всей позднейшей русской историографии». При этом автор утверждал, что «классовая тема Ключевского не стояла ни в какой связи с социализмом», и доказывал это тем, что внимание историка «было приковано не к одним трудящимся классам», а скорее к правящим. «Менее всего Ключевский уделял внимание буржуазии, как и пролетариату — торгово-промышленным группам Древней Руси». Его социальная тема возникла, продолжал Федоров, не из европейской социальной борьбы (как прусский социализм), а имеет более глубокие, народные и вместе с тем личные корни27.
От концепции представителей государственной школы с их чисто правовым подходом к сути управления государством позиция Ключевского отличалась прежде всего стремлением представить исторический процесс как процесс развития общественных классов, взаимоотношения и роль которых менялись в связи с экономическим и политическим развитием страны. Характер общественных классов и их отношения друг к другу Ключевский считал более или менее дружным сотрудничеством. Примиряющим началом в народном хозяйстве и политической жизни он называл государство, которое выступало как выразитель общенациональных интересов. Историки-юристы старой школы (М.Ф. Владимирский-Буданов, В. И. Сергеевич и др.) выступили в печати резко против концепции Ключевского. Но не все историки русского права (например, С. А. Котляревский) разделяли их позицию. В большинстве же случаев труд Ключевского «Боярская дума» был воспринят как художественное воплощение совершенно новой схемы русской истории. «Многие главы его книги положительно блестящи, а сама книга — целая теория, сплошь выходящая из пределов темы, близкая к философскому осмыслению всей нашей истории» — писал тогдашний студент Петербургского университета (впоследствии академик) С. Ф. Платонов28.
Защита докторской диссертации Ключевского состоялась 29 сентября 1882 года. Длилась она почти четыре часа и прошла с блеском. «Впечатление, произведенное диспутом г. Ключевского,— писала газета “Голос”,— было близко к восторженному энтузиазму. Знание предмета, меткость ответов, исполненный достоинства тон возражений, все это свидетельствовало, что мы имеем дело не с восходящим, а уже взошедшим светилом русской науки»29.
27 Федотов Р.П. Указ. соч. С. 337.
28 ИРЛИ (Пушкинский Дом). № 24, 966. Л. 3.
29 В. О. Ключевский. Материалы... С. 18.
Через месяц с небольшим Ключевский был утвержден в звании профессора и Московского университета и Московской духовной академии.
В напряженные годы работы над докторской диссертацией и создания первых лекционных курсов по всеобщей и русской истории Ключевский заменил на университетской кафедре русской истории скончавшегося С.М. Соловьева (1879 г.). Отныне эта кафедра стала для него главной. Первая лекция была посвящена памяти учителя, затем Ключевский продолжил начатый Соловьевым курс. По своей программе он впервые приступил к чтению лекций в Московском университете через год, с осени 1880 года. «Ключевский покорил нас сразу»,— признавались студенты, и не только потому, что он красиво и эффектно говорил, а потому, что «мы искали и нашли в нем, прежде всего, мыслителя и исследователя» и поняли, что «за забавными анекдотами скрывается глубокое понимание эпохи, за художником скрывается мыслитель»30. Он всегда возбуждал «умственную деятельность слушателей и читателей», его труды «будили нашу историческую мысль и двигают ее вперед»,— признавал и не бывший слушателем Ключевского А. С. Лаппо-Данилевский31.
В течение всей жизни Ключевский непрерывно совершенствовал свой курс русской истории, но не ограничивался им. Для студентов университета им была создана целостная система курсов — в центре общий курс русской истории и пять специальных курсов вокруг него. Каждый имел свою специфику и самостоятельное значение, но главная ценность, на мой взгляд, заключается в их совокупности. Все они читались по строгому плану: в них определялся предмет и задачи курса, объяснялась его структура и периодизация, указывались источники и на фоне общего развития исторической науки давалась характеристика имевшейся литературы (или констатировался факт ее отсутствия). Изложение, как всегда у Ключевского, имело непринужденную форму. Он много пояснял, делал неожиданные, будившие воображения сравнения, шутил, а главное, профессор вводил студентов в глубины науки, делился с ними опытом исследователя и направлял их самостоятельный труд. Открывал цикл теоретический курс «Методология русской
30 Милюков П. Н. В. О. Ключевский // В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 186, 188.
31 Лаппо Данилевский А.С. Исторические взгляды В. О. Ключевского // Там же. С. 100, 116.
истории», являвшийся «шапкой» для всех остальных. То был первый в России опыт создания учебного курса методологического характера — до того бывали лишь отдельные вводные лекции. В советской литературе курс по методологии подвергался особо резкой критике. Ключевского упрекали в том, что его философские и социологические взгляды не были достаточно определенными и четкими; что они отличались эклектизмом; что Ключевский рассматривал исторический процесс в идеалистическом плане; что ему чуждо понятие классовой структуры общества; что он воспринимал общество как явление, лишенное антагонистических противоречий, и ничего не говорил о классовой борьбе; что он неверно понимал такие понятия, как «класс», «капитал», «труд», «формация» и т. п. Упрекали Ключевского и за то, что ему не удалось перейти «порог к марксизму». Этому курсу предъявлялись требования исторической науки другой эпохи. Но и тогда, при негативной в целом оценке «Методологии» Ключевского, названный курс ценился как научный поиск ученого, подчеркивался новаторский для своего времени характер постановки проблемы.
Ключевский видел недостатки изучения родной истории в известной ее научной изолированности от западноевропейской науки, от слабости научного контроля и ответственности. Если европейский историк, пояснял он, должен исследовать так, чтобы не отстать от общего уровня и при этом сказать что-либо новое и основательное, то «на нашу литературу никто не смотрит, результатов ее работы никто не проверяет». В силу этого установился особенный взгляд, который делит историю на две особые сферы: на историю всеобщую и на историю русскую. А между тем, подчеркивал он, метод изучения русской истории может быть выработан только в связи с обобщениями всеобщей истории, может быть логически выведен только из метода общеисторического изучения. Ключевский оперирует понятием «местная история» как составной частью истории всеобщей.
Цель курса Ключевский определял как простое приведение в порядок общих исторических наблюдений и выведение метода изучения местной (в данном случае русской) истории. Методом он называл совокупность приемов изучения, которые разнообразятся в зависимости от характера поставленных задач, а задачи определяются предметом изучения. В течение всего курса Ключевский многократно повторял, что предметом исторического изучения является исторический процесс, «само историческое движение». Ав понятие «движение» входят «силы, его производящие, свойства
предметов, движимых этими силами, и порядок, или последовательность, самого движения»32.
Настоящий предмет исторического изучения, по Ключевскому, составляют «не приключения или события», а быт, который слагается из необходимых явлений, «вызываемых повелительными историческими причинами». Это — понятия, нравы, привычки, право. Событийная же история может быть предметом исторического изучения «как вспомогательный материал или как замена быта, если последний неизвестен». «Целью исторического изучения,— читаем в курсе,— служит познание происхождения, хода условий, форм и природы человеческого общежития», а «конкретными предметами исторического изучения являются союзы, составляющие формы этого общежития»33.
Ставил Ключевский и такой двойной вопрос. С одной стороны, может ли быть предметом исторического изучения, исследующего свойства людских союзов (т. е. общие процессы), одиночная деятельность человека — умственная или художественная. И с другой стороны, можно ли «произведения ума и художественного таланта» исключать из области исторического изучения. Они, отвечал Ключевский, и по своему происхождению не одиночны (они подготовлены совокупной работой известной среды, общества), и по своему воздействию на всех усиливают связь между людьми, составляющими союз. Словом, «в жизни союза не может быть вполне одиночной деятельности». Попутно Ключевский заметил, что и «знание может быть предметом самого себя (знание как акт мысли), может быть само для себя объектом»34. Он, таким образом, говорил о правомерности изучения истории самой науки, что впоследствии оформилось в специальную отрасль знания — в «науку о науке», «науковедение».
Считая главным предметом исторической науки изучение эволюции людских союзов (их происхождение, развитие и свойства), Ключевский называл два вида таких союзов. Это «первичные, или естественные», которые возникают под влиянием инстинкта (сюда входят первобытное бессемейное общество, семья — материнская и патриархальная, род, триба и племя) и вторичные «производственные, или искусственные» (государство, церковь), которые строились на основе сознательно поставленной цели. Он говорил
32 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. VI. М., 1989. С. 70. 73.
33 Там же. С. 9.
34 Там же. С. 10, ср. с. 22, 17.
об «элементах» или «связях», куда относил язык, кровное родство, власть, труд, капитал, обмен и пр. Ключевский рассматривал исторические силы (природа страны; физическая природа человека; личность и общество), элементы общежития, их формы и взаимодействия; говорил об исторических законах и прогрессе. Он подчеркнул разницу между терминами «движение» (или «процесс») и «прогресс». Первый — есть простое, не квалифицированное механическое понятие. Второй — представляет квалифицированное движение, подразумевающее движение к лучшему, последовательный успех общежития. Но этот успех как факт, утверждал Ключевский, подлежит сомнению, так как не имеет достаточной очевидности. Не существует, говорил он, «исторического термометра», способного измерить и сравнить ощущения античного гражданина, древнего индуса или современного человека: может быть, они лучше себя чувствовали, может быть, и хуже. «Это “может быть” никогда не будет устранено научно при оценке исторического движения». «Итак,— приходил он к заключению,— исторический прогресс есть термин, который ничего не определяет в ходе исторического движения». Поэтому Ключевский предпочитал говорить не о «прогрессе», а об успехах людского общежития, о приобретениях культуры или цивилизации35.
Последовательно проводя идею исторического процесса, исторического движения, Ключевский рекомендовал историкам не останавливаться на современном состоянии как на чем-то твердом, как на застывшем последнем историческом моменте (распространенный порок многих исследователей). Настоящее время, разъяснял он, это также субъективное представление, абстракция, то есть фикция. «В исторической действительности нет ни прошедшего, ни настоящего, а есть только непрерывное течение»; «едва наблюдатель успеет схватить своим наблюдением бегущую минуту, известные текущие явления, как схваченное им представление становится уже анахронизмом: оно отражает в себе уже не то, что идет, а то, что прошло» — не то, что есть, а то, что было36.
Ключевский обращал внимание на существование обратного процесса (или движения). Вот один пример его пояснений: в политической истории Европы территориальная дробность феодальных времен сменилась стремлением обществ складываться в крупные политические тела сперва по географическому принципу, а с нача
35 Там же. С. 66, 67.
36 Там же. С. 73,397.
ла XIX века по национальному. Но прежде чем указанное стремление достигло цели, «обнаружилось обратное движение: некоторые старые и крупные политические тела начали разлагаться на мелкие части». Мотив этого разложения — религиозно-племенное родство. «Такое разложение постигло уже Турцию и очень успешно подготовляется в Австрии»,— сказал Ключевский в 1884 году (Австро-Венгерская монархия, как известно, распалась в ноябре 1918 г., чему, однако, Ключевский уже не был свидетелем — он ушел из жизни в 1911 г.). Поразительным кажется его следующее рассуждение: «Любопытнее всего то, что руководительницей этого религиозно-племенного разложения является самая крупная и в религиозно-племенном отношении одна из наиболее сплоченных европейских держав — Россия: она создала уже четыре мелких племенных государства (Грецию, Сербию, Румынию и Болгарию) и поддержала существование пятого (Черногории). Нет сомнения, это религиозно-племенное обособление есть только дальнейший момент в ходе политического устройства Европы по национальностям; но со временем он глубоко изменит ее нынешний политический склад»3'.
В курсе по методологии Ключевский не раз обращался к трудам европейских ученых — Монтескье, Тэна, Баро, Фюстель де Кулан-жа, Мэна, Телона. Более подробно он остановился на общих исторических теориях Боссюэта, Лорана и Гегеля. Ключевский пришел к выводу, что «теории, с одной стороны, шире, а с другой — уже истории; они не совпадают с историей, хватают то дальше ее, то не захватывают всей ее области, вообще, входят в нее клином». Теологическая и метафизическая теории, говорил он, показывают, откуда идет история и куда она направляется. Но для историка важно не это, историк изучает процесс, само движение, поэтому для него важно, как совершается это движение. «Я хочу сказать,— подытоживал Ключевский,— что философия истории и история — это две различных сферы ведения, которые никогда не сойдутся: здесь господствуют различные начала и различные методы изучения: философия истории есть философия, а не история; история, следовательно, должна быть сама собой, не переходя в философию». Задача исторического изучения гораздо скромнее, она «ограничивается указанием доступной наблюдению связи и преемственности явлений, не восходя к исходному пункту этих явлений и не спускаясь к конечным их целям»37 38. Ключевский охарактеризовал три момента
37 Там же. С. 91-92.
38 Там же. С. 58, 61.
общего исторического процесса: общение или столкновение союзов; поглощение или слияние; историческая передача.
Затем Ключевский переходил к рассмотрению методов изучения истории. Он указал на два из них: субъективный и объективный, которые различаются приемами и задачами изучения. Исходным пунктом субъективного метода Ключевский называл современное состояние общества, задача которого состоит в показе постепенного роста современной культуры. Вследствие такого подхода история получает значение пояснительного приложения, историческое изучение становится нравственно-педагогическим средством и руководством для практической деятельности. Полнота исторического изложения зависит от личных познаний историка, от его личного кругозора, ибо он может рассказать только то, что знает и понимает сам: историческое изучение таким образом отправляется не от исторического явления, не от изучаемого объекта, а от изучающего субъекта, и, «следовательно, исходным пунктом изучения становится точка зрения изучающего», а исторические явления подбираются по личному усмотрению автора. Поэтому в прошедшем подбираются то факты экономической жизни, то сосредотачивается внимание на устройстве управления и его формах, то уделяется место успехам знаний. При этом историки, получившие литературно-философское образование, замечал Ключевский, обычно опускают развитие математических и физических знаний. Субъективный метод Ключевский назвал облегченным способом исторического изучения, а его приемы, суть которых составляют «подбор явлений, оценка их и связь» — отличаются капризной изменчивостью39.
При объективном методе изучения истории за точку отправления избирается не изучающий субъект, а изучаемый объект. Само историческое движение, «последовательно создающее и разрушающее различные состояния, или различные формации общежития» и составляют задачу исторического изучения. При таком понимании задач исторической науки изучающему, указывал Ключевский, нет нужды подбирать явления, потому что для него «все явления суть обнаружения исторического движения». При объективном методе изучения истории приемы субъективного метода не годятся. Ключевский назвал и подробно охарактеризовал три приема объективного метода: «наблюдение явлений, сопоставление явлений и обобщение явлений». Эти приемы, подчеркивал он, существуют
39 Там же. С. 72, 71, 89-90, 396.
не отдельно, а составляют «последовательные моменты исторического познания, ступени, на которые последовательно восходит изучающий историю». Вступление на каждую ступень, замечал Ключевский, подготовляется предварительной работой, «правила которой составляют в совокупности критику»: критику источников, прагматическую критику и, наконец, высшую историческую критику. Историк в своей практической деятельности, утверждал Ключевский, должен уметь пользоваться всеми видами приемов и методов исторического изучения. «Итак,— делал Ключевский заключительный вывод,— отдельные приемы изучения местной истории должны вести к одному конечному результату — к составлению ее общей схемы». «Указанием этой конечной задачи я заканчиваю изложение оснований исторической методологии в приложении к изучению местной истории и перехожу к другой части наших занятий — к изучению терминологии русских исторических источников»40.
Первое и самое большое затруднение, даже для специалистов, при изучении источников далеких времен составляет, считал Ключевский, их терминология. Поэтому уже в ранних курсах, в «Боярской думе» и других трудах он по ходу изложения разъяснял вышедшие из употребления труднопонимаемые слова и выражения. Тогда же, с 1870-х годов, Ключевский начал собирать материалы для терминологического словаря и писать небольшие поясняющие тексты. К сожалению, эта работа осталась незавершенной. Курс «Терминология русской истории» представляет собой ряд небольших исследований об отдельных древнерусских терминах. В исторической науке ни до, ни после Ключевского нет другого целостного изложения древнерусской терминологии — этот курс уникален.
«Под терминологией русской истории я разумею,— говорил Ключевский,— изучение бытовых терминов, встречающихся в наших исторических источниках», «смысл или происхождение которых для нас уже не ясны».
Ключевский оговорил, что построил курс не по образцу исторических словарей, где материал располагался в алфавитном порядке вне зависимости от их проблематики, назначения и времени действия. Он рассматривал термины в исторической перспективе, положив в основу изложения проблемно-хронологический принцип: «исторические термины мы будем изучать по разрядам исторических
'° Там же. С. 73, 74, 88, 93.
явлений», т. е. «по составным элементам или отдельным течениям нашей исторической жизни», «сначала изучим термины политического быта, потом юридического и, наконец, экономического». Хронологически названные темы разделялись на три периода: до середины XIII века; удельные века (XIII-XV вв.); термины времени Московского государства (XVI, XVII вв.). Иногда делались экскурсы и в XVIII век. Внутри этих периодов группы терминов рассматривались, по выражению Ключевского, «сверху вниз», т. е. от верховной власти до низших слоев населения. Такой порядок изучения дает возможность,— считал он,— сводить явления того или другого разряда (именно явления политические, юридические и экономические) «в особую обобщающую их формулу», а из этих отдельных формул можно «вывести общую схему нашей истории»41. Насыщенные богатейшим материалом, терминологические лекции по-своему передают историю страны, высвечивая важные ее стороны и детали.
Сами термины давались в их эволюции, т. е. говорилось об их происхождении, значении, иногда многозначном (например, слово «Русь»: «Русь — племя», «Русь — сословие», «Русь — область», «Русь — государственная территория»), и о последующем развитии термина. Отмечал он и разногласия по поводу толкования или происхождения тех или иных понятий и терминов.
Нарастающий интерес Ключевского к истории социального строя русского общества и к взаимоотношению классов сказался и на терминологическом курсе. Он и здесь говорил о двояком происхождении классов, которые могут формироваться как на политическом, так и на экономическом основании: сверху волей власти и снизу — экономическим процессом; вел речь о «снятии повинностей», которое начиналось, считал он, в XVIII века «с верху общества, с высших классов, и долго, до освобождения крестьян, не простиралось на низшие классы» и выводил «схемы» социальной истории42.
Через год Ключевский прочитал уже целый курс по истории сословий в России, где показывал несправедливость сложившегося сословного неравенства. Этот курс получил наибольшую известность из всех спецкурсов Ключевского. История сословий была для Ключевского остро современной темой. «Научный интерес к истории нашего общества,— писал он,— был возбужден его
41 Там же. С. 94, 93, 103.
12 Там же. С. 134, 141, 103-107, 140-142.
недавней перестройкой (имеется в виду крестьянская реформа 1861 г.— Р.К.); вот почему мы еще так мало знаем эту историю. Между тем исторический склад нашего общества, может быть, и сообщает всего более общенаучный интерес нашей истории. Этот склад очень своеобразен, и наблюдения над его ходом могут пригодиться при изучении какой угодно части исторической науки». Поясняя «понятие о сословии», Ключевский, так же как в терминологическом курсе, в «Боярской думе» и других работах, говорил об их двояком политическом и экономическом происхождении. Первое он связывал с насильственным порабощением общества вооруженной силой, второе — с «добровольным политическим подчинением его классу, достигшему хозяйственного господства в стране». Он проводил мысль о временном характере сословного деления общества, подчеркивал его преходящее значение, обращал внимание на то, что «бывали времена, когда сословий еще не было, и наступает время, когда их уже не бывает». Он утверждал, что сословное неравенство — явление историческое (т. е. не вечное, а временное состояние общества), «исчезающее почти всюду в Европе; сословные различия все более сглаживаются в праве». Но и с исчезновением сословий не наступит полное равенство, так как их заменяют «изменчивые экономические состояния»: «Наиболее платящие государству, т.е. наиболее состоятельные, прямо или косвенно руководят делами государства, а наименее состоятельные волей-неволей подчиняются этому руководству». Не будет равенства и тогда, когда, быть может, осуществятся мечты многих (вероятно, и Ключевского), когда капитал утратит политический вес и уступит свое место иной силе — науке, знанию. Когда в государственном механизме вместо экономического неравенства и сословий будут ученые степени, а в законодательных собраниях депутаты с имущественным цензом очистят скамьи для делегатов ученых обществ с дипломами, тогда государство будет устроено по образцу школы с разделением на учеников и учителей и с подразделением последних на старших и младших. «Уравнение сословий,— заключает он,— есть одновременное торжество и общего государственного интереса, и личной свободы. Значит, история сословий вскрывает нам два наиболее скрытые и тесно связанные ДРУГ с другом исторические процессы: движение сознания общих интересов и высвобождение личности из-под сословного гнета во имя общего интереса»43.
43
Там же. С. 250, 236, 239, 233, 244.
«Предмет предпринимаемого мною курса,— говорил Ключевский,— краткий обзор истории сословий в России до издания сословных жалованных грамот императрицы Екатерины в 1785 г.». Конечную крайнюю дату он объяснял тем, что законодательными актами Екатерины «завершилось образование русских сословий, начатки которого кроются в самом возникновении древнерусского Московского государства». Такая четкая и обоснованная датировка ввела в заблуждение некоторых историков, не дочитавших внимательно курс до конца. Они посчитали курс завершенным. Между тем из-за нехватки лекционного времени Ключевский вынужден был прервать чтение, окончив характеристику истории сословного строя русского общества царствованием Петра I.
Историю сословий в России автор подразделил на четыре периода. В первом « с IX до конца XII в.» основанием сословного деления, по Ключевскому, было завоевание или вооруженное давление»; во втором «удельные века (XIII, XIV и XV)» — «хозяйственный договор с князем»; в третьем периоде Московское государство (в XVI и XVII вв.) — «различие государственных повинностей» и в четвертом (XVIII в.) — «различие государственных и гражданских прав»44. Согласно этой периодизации Ключевский и излагал насыщенный богатым фактическим материалом курс.
Исключительно важное значение Ключевский придавал всегда знанию источников и научной литературы, изучение которых сопряжено со значительными трудностями и требует определенных профессиональных навыков: нужно научиться читать и понимать исторические источники.
Лекции по источникам русской истории и по историографии были в преподавании Ключевского взаимосвязаны и поначалу читались вместе.
В первой лекции курса «Источники русской истории» (1891 г.) ставились некоторые вопросы теории источниковедения, такие как определения источника и исторической критики; существующие виды и приемы исторической критики и три ее основные задачи (реставрация и интерпретация древнего текста; определение точки зрения автора; истолкование внутреннего смысла исторического факта); говорилось о зависимости задач и приемов исторической критики от свойств источников и состояния их разработки, о разрядах источников, о важности разработки вспомогательных исторических дисциплин.
Большое значение придавал Ключевский общей методике источниковедческого анализа. Он рассматривал особенности каждого вида русских источников и указывал те трудности, с которыми встречаются исследователи при их изучении. Историк специально останавливался и на сложностях, связанных с особенностями древнерусской лексики, видя одну из трудностей письменных источников в мудрствовании «старинных, особенно средневековых, читателей, которые позволяли себе исправлять древний текст, где его плохо понимали, сокращали или дополняли, где находили это нужным». Последующие лекции посвящены рассмотрению отдельных видов источников. Значительное место в лекциях уделено летописям. Ключевский сознательно сосредоточивал внимание на древнерусских памятниках как наиболее трудных для понимания. Остальные же литературные памятники, считал он, «не представляют трудностей, и предварительное знакомство с ними можно получить из любого курса истории русской литературы»45. Курс заканчивался краткой характеристикой источников XVI века.
Из сохранившихся материалов историка видно, что при характеристике источников XVII и более поздних веков он переходил постепенно к историографической подаче материала, а впоследствии исторические произведения XVII — начала XVIII века стали целиком предметом его лекций по историографии. Ключевский стал рассматривать «Начальную летопись» и другие летописные своды не только как исторические источники, но и как исторические произведения, т. е. с позиций историографии. Касался он в лекциях об источниках и вопросов издания и изучения памятников, что тоже, строго говоря, историографическая проблематика: история источниковедения как часть истории исторической науки.
К курсу «Источники русской истории» примыкают две работы Ключевского о важнейших юридических памятниках древней Руси — о «Русской Правде» и о «Псковской Правде». Обе они представляют собой запись бесед историка со студентами на семинариях. Более подробно свои взгляды на «Русскую Правду» Ключевский изложил в I томе «Курса русской истории», где поставил вопросы о связи «Русской Правды» с русской действительностью XI-XIII веков. Проводил Ключевский семинарские занятия и по другим древнерусским памятникам.
45 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. VII.М., 1989. С. 10, 77.
Лекции Ключевского по историографии не дошли в полном виде. Но их существенно дополняют статьи ученого об историках и многочисленные записи, сделанные им при подготовке к лекциям.
Принципиальное значение имеют четыре наброска Ключевского по «варяжскому вопросу». В годы деятельности Ключевского норманнская теория была уже основательно подорвана, тем не менее она удерживалась в науке, продолжая считаться одной из главных проблем в истории Древней Руси. И Ключевский в «Курсе русской истории» оставался на позициях норманистов, не решаясь открыто высказать свое истинное мнение, в чем он и признавался в приватном письме к В. И. Герье: «Замечания на новые теории о начале Руси я изготовил про себя и едва ли решусь показать их людям»46. Усилия, потраченные на разрешение этой проблемы, Ключевский считал научно бесплодными, называя их «нескладицей», праздной игрой в гипотезы и даже явлением патологии. Он отказывался видеть в решении «варяжского вопроса» ключ к разъяснению начала русской национальной и государственной жизни. Свою позицию Ключевский называл «ученым целомудрием» и «ученой дисциплиной» , которая основывалась на том правиле, что «не следует сбивать с толку других, уверяя их в том, в чем не убежден сам, и не следует убеждаться в том, что не имеет достаточных оснований». «Мы чувствовали, что в ней много нескладного, но не решались сказать что-либо против нее. Мы ее сохранили как ученики ее создателей и не знали, что делать с ней как преподаватели. Открывая свой курс, мы воспроизводили ее, украшали заученными нарядами и ставили в угол как ненужный, но требуемый приличий обряд <...>. Потом мы рассказывали, как будто и нет спора, о варягах с братией». Метко и остро характеризовал Ключевский автора «Начальной летописи» — ученого книжника XII века, первого норманиста, выступившего с теорией, которая покрывала «скандал пиратской узурпации <...> политической программой народного договора с князем» в угоду новой власти, а также историков XVIII и XIX веков, которые «выступают с таким шумом и такими мужественными физиономиями, как будто они вверх дном ставят все основные факты, которыми открывается наша история»47.
Как в общем «Курсе русской истории» Ключевский показывал, что преобразования Петра I были подготовлены русской действительностью еще в XVII веке, так и лекциях по историографии
46 Ключевский В.О. ПДА. С. 154.
47 Ключевский В.О.Соч.:В9т. Т. VII.С. 144, 146, 138.
он подчеркивал единую линию развития и связь исторических знаний Древней Руси и послепетровской России. При рассмотрении исторических работ Ключевский отмечал критические приемы, начиная с Тверской, затем Никоновской летописей, доводя до «Синопсиса» И. Гизеля, который в свою очередь он связывал с «Ядром Российской истории» А. И. Манкиева. Продолжал он эту линию, рассматривая труды В.Н. Татищева, М. В. Ломоносова, И.Н. Болтина и т. д. Примерно по тем же работам Ключевский просматривал появление, а затем и укрепление прагматического способа изложения. Таким образом Ключевский показывал естественное развитие этих черт в русской историографии, не объясняя их появление в русской науке XVIII века только привнесением со стороны немецкими учеными, что было тогда устоявшимся распространенным мнением.
Отличительная особенность историографических работ Ключевского — постановка и решение некоторых теоретических вопросов в сочетании с яркими очерками об отдельных ученых. Так, он выделял проблему западного влияния, связывая возникновение его с именем кн. И. А. Хворостинина; большое место в анализе Ключевского занимает проблема воздействия переломных эпох на развитие исторического знаний («бедствия гораздо больше, чем книги и лекции, обучали людей истории»)48, а также вопросы периодизации исторической науки (Ключевскому принадлежит один из первых опытов теоретической разработки данной проблемы) и историографических направлений49.
При изложении конкретного материала Ключевский давал общую картину эпохи; затем суммарную характеристику исторических трудов периода. Он обычно старался показать связь работ данного времени с историческими работами предшественников и вместе с тем подчеркивал их новые черты. Далее Ключевский переходил к рассмотрению наиболее важных исторических сочинений. Он обращал также внимание на форму произведения, его художественные достоинства и недостатки, на источниковую основу труда. Помимо лекций Ключевский проводил и семинарские занятия, на которых давал студентам для курсовых работ отдельные историографические темы.
48 Там же. С. 156.
49 Подробнее см.: Киреева Р. А. 1) В. О. Ключевский как историк русской исторической науки. М., 1966; 2) Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917. М., 1983.
Статьи и очерки ученого о своих коллегах — глубокие, меткие, образные, порой хлесткие — знакомят с жизнью и деятельностью ряда русских историков, вскрывают любопытные черты развития русской исторической мысли XVI-XIX веков. Свойственная Ключевскому ирония и самоирония, образно-эмоциональное восприятие, юмор и сарказм пронизывают его работы, будь то теоретические рассуждения или повествования об историках, куда нередко вплетались личные впечатления и воспоминания автора. В результате получалась ищущая, спорящая, движущаяся — одним словом, живая история исторической науки.
Положение крестьян в России, происхождение крепостного права и этапы развития крепостничества, экономическое развитие России и вопросы управления были постоянными темами Ключевского. Помимо лекций этим проблемам посвящены статьи «Крепостной вопрос накануне законодательного его возбуждения» (1879), «Право и факт в России» (1886), «Подушная подать и отмена холопства в России» (1886), «Отзыв на исследование В. И. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и в первой половине XIX в.» (1889), [«Отмена крепостного права»] (1911), [«19 февраля 1861 г.] (1911). Две статьи, заключенные в квадратные скобки, писались Ключевским в больнице после операции: «Пишу карандашом кое-как: встать нельзя»50. Обе статьи оказались последними работами в жизни ученого и обе статьи остались неоконченными. Впервые они были опубликованы только через 47 лет в качестве приложения к 5 части «Курса русской истории» (1958). В них Ключевский, в частности, ставил перед собой задачу ответить на вопрос: «Как вели себя во время реформы господа народа, хозяева тесного, хорошо прикрытого законом здания, и как относился к ним лишенный законного крова народ — работники?»51
В науке существовала теория «закрепощения и раскрепощения сословий» всесильным государством в зависимости от его потребностей. Ключевский же пришел к выводу, что крепостное право в России было создано не государством, а только с участием государства; последнему принадлежали не основания права, а его границы. По его мнению, причина возникновения крепостного права была экономическая, которая проистекала из-за задолженности крестьян землевладельцам. То есть вопрос передвигался из государственной сферы в область частноправовых отношений.
50 Ключевский В.О. ПДА.С. 215.
51 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. V. М., 1989. С. 434.
Таким образом, и в этом вопросе Ключевский выходил за рамки государственной школы.
Крепостное право в России Ключевский признавал незаконным, особенно после введения закона о вольности дворянства, которым отменялась обязанность их службы. Отмену в 1861 году крепостного права он называл непростительно запоздалой. И в последней, предсмертной статье писал: «Возвращая свободу крепостному населению, реформа 19 февраля восстанавливала в стране нормальный государственный состав. До нее Россию можно было называть Русским государством только в условном преувеличенном смысле. Это не было государство русского народа. Россия и в XIX в. оставалась невольничьей страной; только верхние классы ее населения, дворянство, духовенство и городской состав, были полноправны в тогдашнем размере русского полноправия. <...> Сельское податное население не имело прав, точно определенных законом. Крепостные были совсем бесправны»52.
История денежного обращения и финансов России разрабатывалась Ключевским во многих трудах, начиная со студенческого сочинения «Сказания иностранцев...» (главы «Доходы казны», «Торговля», «Монета»), в спецкурсе «Терминология русской истории» (лекция XI, посвященная денежной системе), в исследовательской статье «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему» (1884), где, сопоставляя хлебные цены в прошлом и настоящем, автор определял покупательную способность рубля в разные периоды русской истории, в статье о подушной подати, в «Курсе русской истории». Основанные на тонком анализе источников, эти работы Ключевского внесли весомый вклад в изучение данного круга проблем.
Приказом министра народного просвещения Ключевский был утвержден с сентября 1887 года в должности декана историко-филологического факультета сроком на четыре года. До окончания срока, в 1889 году, его назначили помощником ректора с увольнением от должности декана. Ключевский тяготился административной работой и уже в декабре 1890 года подал прошение об увольнении и с этого поста, что было удовлетворено соответствующим министерским приказом.
В 1890/91 году в Политехническом музее Ключевский прочитал десять публичных лекций под название «Западное влияние в России после Петра». Основное внимание в них уделялось новым явлениям
в истории России, происходившим в результате реформ Петра I. Эти изменения Ключевский связывал прежде всего с влиянием Западной Европы на политическую структуру общества, на образование, быт и культуру. Под «западным влиянием» он понимал не только механическое перенесение в Россию идей и политических учреждений западноевропейских стран (в первую очередь Франции), а изменения русской действительности, главным образом относящиеся к дворянству. Он рисовал яркую картину российского XVIII века, разоблачал паразитизм дворянства (особенно со времен закона о вольности дворянства), давал острую характеристику сменявших друг друга на престоле самодержцев и самодержиц. Развивал он эту тему и в целом ряде статей.
Нередко Ключевский безвозмездно выступал в пользу голодающих, пострадавших от неурожая, в пользу Московского комитета грамотности, а также по поводу знаменательных дат и общественных событий. На таких выступлениях он часто говорил о благотворительности, нравственности, о воспитании и просвещении. К таким речам прежде всего относятся «Содействие церкви успехам русского гражданского права и порядка» (1888), «Значение преп. Сергия для русского народа и государства» (1892), «Добрые люди древней Руси» (1892), «Два воспитания» (1893). Ученик Ключевского П. Н. Милюков поделился своими воспоминаниями о вынесенном им впечатлении именно от этой серии работ учителя. Когда Ключевский говорил о милосердии или нравственности, писал Милюков, он жил «в эти минуты одной душой с далеким прошлым», находил «там себя и в себе — эту древнюю русскую душу. Он понимает сердцем эту руку, протягивавшую милостыню и поддерживающую огонь в неугасимой лампаде. Это — свое, родное, близкое и понятное»53. «Все эти и подобные им произведения В. О. Ключевского,— вторил Милюкову С. Ф. Платонов, — так обдумывались и обрабатывались, что не только служили украшением праздника, на котором были сказаны, но и навсегда делались образцами научно-изящной популяризации»54.
Каждое выступление историка приобретало огромное общественное звучание. Люди, слышавшие Ключевского, сравнивали его по силе воздействия на аудиторию не с другими профессорами или учеными вообще, а с высочайшими образцами искусства —
53 Милюков П.Н. Указ. соч. С. 205.
54 Платонов С. Ф. Памяти В. О. Ключевского // В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. С. 95-96.
с выступлениями Шаляпина, Ермоловой, Собинова, Рахманинова, со спектаклями молодого Художественного театра. Под влиянием Ключевского А. П. Чехов собирался писать историю медицины. Неслучайно поэтому тот, кто присутствовал на выступлениях Ключевского, надолго запоминал их; кто не попадал, сожалел о том. Художник М. В. Нестеров, к примеру, писал: «Одного не могу простить себе — это то, что <...> пропустил возможный случай слышать необыкновенную речь проф. Ключевского. В. М. Васнецов был на акте с Мамонтовым и считает, что, слышав эту речь, он получил себе драгоценный подарок »ss. Нестеров имел в виду речь Ключевского по случаю 500-летия кончины Сергия Радонежского, . где, в частности, оратор говорил об одним из отличительных признаков великого народа — способности подниматься на ноги после падения. Для этого необходимо нравственное возрождение, а оно сделает возможным и возрождение политическое, так как «политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной »56.
Вопросы русской культуры (в широком смысле этого слова) всегда привлекали внимание ученого. Но в лекциях Ключевский не мог подробно осветить их, и он создал серию статей по истории русской культуры и общественности. Каждая работа имеет вполне самостоятельный, законченный характер, и вместе с тем они органически связаны между собой и развивают одна другую. Многие его наблюдения и выводы и сегодня звучат своевременно, злободневно, поучительно.
Ключевского всегда интересовало творчество русских писателей и поэтов. Никто из русских историков не оставил такого числа статей и набросков о писателях, как он. Им были написаны очерки о Фонвизине, Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Аксакове, Гончарове, Островском, Достоевском, Чехове, Горьком. Ключевский дал не только ряд портретов деятелей русской культуры, но и мастерски воспроизвел ту общественную почву, на которой вырастали и эти деятели, и созданные ими образы. Художественная литература становилась для него ценнейшим историческим источником, наиболее ярко и доступно отразившим подлинную жизнь. Сами же писатели, так же как и коллеги-историки, помимо их конкретного творчества, были для Ключевского важны как «общественные
55 Нестеров М.В. Письма. Избранное. Л., 1988. С. 95.
56 Ключевский В.О. Очерки и речи. Второй сборник статей 2 изд. Пг., 1918.
С. 197, 200, 209.
типы». Он изучал через литературные персонажи разнообразные культурные слои и типы российской действительности: без них «пустеет история нашего общества». При помощи литературных шедевров Ключевский проникал в духовную глубину человека и в нравственную историю общества.
Рассматривая произведения классической русской литературы, Ключевский видел свою задачу в том, чтобы встать подле читателя (или зрителя) с осторожным комментарием, превратившись в ненавязчивого, но внятного суфлера — скромничал он. Легко и осторожно вводил историк своих «подопечных» в ту или иную историческую эпоху, погружал их в атмосферу прошлых лет, терпеливо что-то объяснял и толковал и знакомил невзначай с подлинными документами времени.
Особенно привлекал Ключевского Пушкин. О нем историк написал три великолепные статьи, где подчеркивал и глубоко национальный характер творчества поэта, и его значение в развитии мировой культуры. В молодости Ключевскому был близок Тургенев, которого он называл писателем своего поколения, хотя и тогда не во всем с ним соглашался. Любимым женским образом Ключевского была Лиза Калитина, а созданный Тургеневым образ Гамлета Щигровского уезда он использовал и сам, читая иногда от его имени свои афоризмы.
Черновики ученого 1908 года говорят о его намерении ввести в «Курс русской истории» тему о русском творческом гении: о расцвете литературы (здесь он перечислил: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, граф А. Толстой. Граф Толстой — яркая звезда на мировом культурном небосклоне») и искусства, о научных успехах («сам прилип, как склизняк, к этой скале гранитной»,— писал он в скобках) и о системе учебных заведений. Архив Ключевского свидетельствует об интенсивной его работе в этом направлении.
Среди рукописей историка есть несколько записей, которые названы им «Об интеллигенции» или «Мысли об интеллигенции». Ключевский постоянно думал о русской интеллигенции, о ее положении и роли в обществе, о ее назначении и задачах. Это находило отражение в письмах и дневниках Ключевского еще студенческой поры, а также во многих исследовательских работах и лекциях (особенно в общем курсе русской истории, в лекциях по русской историографии, в чтениях «Западное влияние в России после Петра» и др.) и в специально написанных по теме статьях и набросках. Он считал, что интеллигенция всякого народа, наблюдая
и изучая жизнь, должна быть посредницей между общим достоянием всего человечества и своим народом. Ее назначение — понимать окружающую действительность, положение народа и свое собственное положение для того, чтобы «угадать» направление последующего развития этого народа и его возможные последствия, «Интеллигент — диагност и даже не лекарь народа,— образно писал он,— Народ сам залижет и вылечит свою рану, если ее почует, только он не умеет вовремя замечать ее». Наброски Ключевского, такие как «Характеристики общественных типов», «Об интеллигенции», «Мысли об интеллигенции», «Верование и мышление», ряд афоризмов и главным образом «План истории интеллигенции» дают основание утверждать, что он намеревался писать работу по истории русской интеллигенции.
Симптоматичны и собственные литературные зарисовки и наблюдения Ключевского. Они наводят на мысль — не хотел ли историк создать новый образ «героя своего времени». Таким «героем» ему представлялся... секретарь. «Эти люди много и хорошо пишут и умеют молчать <...> По моим историческим соображениям,— писал Ключевский от имени иностранки,— в каждом большом государстве все управление со временем сведется к искусству направлять бумаги: вот тогда эти люди и станут главным рычагом управления». В другом наброске уже от имени этого нового «героя» Ключевский пишет «Автобиографию», награждая его выразительной фамилией — Совестдралов, губернский секретарь, 30-ти с небольшим лет57. Имена многим персонажам Ключевский давал в лучших традициях Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова: Нелюб-Злобин, князь Был-да-Сплыл, древний род Придворновых-Ерниковых, управляющий Разночинцев, Ванечка Дохлый, Петька Голован, Лилька Верти-Зад, врач Штубенмедхенштерер, Дурсинея, парижский Прохвост III и т. п.
Фантазия Ключевского выражалась и в выборе тем. Только ему пришла в голову мысль воссоздать род предков литературного героя Евгения Онегина, или говорить об историческом значении кнута и палки, или поведать о чем может начертать женская игла и что можно прочитать по дамскому костюму. Пример из его шутливых рассуждений: костюм женщины, утверждал он, это ее история, биография, ее философия. «Революция — разум — прилив крови к мозгу. И у женщин высокий ворот, стремившийся с плеч взобраться по шее до самой макушки. Очевидно, когда мужчины стремились
57 Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. С. 332, 342.
отдаться под философскую власть разума, женская игла хотела овладеть самим разумом. Начало века — белое и черное (печаль и грусть, умывание рук в ужасах).
Настала после Наполеона эпоха Реставрации, общего ремонта, когда люди, запыхавшись от поспешной беготни вперед, захотели собрать растерянные по дороги впечатления и часто оглядывались назад, как будто потеряв дорогу. Загляните в модные картинки при журналах 1815-1830 гг.: дамы принялись декольтировать спину, как будто перевернув баску спереди назад. Для чего? Чтобы посветить своим усталым и растерянным главам в их поисках найти потерянную назади дорогу. Значит — дамский костюм не всегда прибор для отвода зорких глаз; а иногда и фонарь для тускнеющего мужского зрения»58.
В 1893/94 и 1894/95 учебном году Ключевский вновь вынужден был вернуться к преподаванию всеобщей истории, так как был откомандирован для чтения лекций великому князю Георгию Александровичу в Абастуман, где проживал со своей свитой болезненный царский сын. Курс, названный Ключевским «Новейшая история Западной Европы в связи с историей России», обнимает время от Французской революции 1789 года до отмены крепостного права и реформ Александра II. Здесь история Западной Европы и России рассматриваются в их взаимосвязи и взаимовлияния. Этот сложный по своему составу курс, насыщенный большим фактическим материалом, является важным источником для изучения эволюции исторических взглядов Ключевского и для исследования проблемы изучения в России всеобщей истории вообще и истории Французской революции в частности.
На досуге Ключевский вынимал маленькую изящную книжечку (она умещается на ладони) с золотым обрезом страниц, обтянутую в черный шелк, и вписывал в нее три-четыре афоризма. Некоторые афоризмы из «черной» он потом читал и в Абастумане и по приезде в Москву, приводя в восторг всех слушавших. Тематика афоризмов Ключевского разнообразна: от веселых житейских наблюдений до глубочайших обобщений, в которых чувствуется порой сдержанная усмешка или горькая ирония, а то и откровенный сарказм. Среди них много и чисто развлекательных высказываний, и поучительных, и парадоксальных. Каждый может найти изречение на свой вкус. «Как слезы сердца парадоксов зерна»,— написал о них А. А. Зимин в своем стихотворении, посвященном Ключевскому.
Обращу внимание на такое мудрое наблюдение историка: «Под здравым смыслом всякий разумеет только свой собственный» и на один полезный совет: «Простейший способ не нуждаться в деньгах — не получать больше, чем нужно, а проживать меньше, чем можно». И, пожалуй, еще одно: «Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла».
Директору Училища живописи, ваяния и зодчества князю А. Е. Львову посчастливилось привлечь Ключевского к чтению лекций. И Василий Осипович был очень доволен приятной аудиторией училища, где он проработал немногим более десяти лет. Случилось так, что последнюю в жизни лекцию В. О. Ключевский прочитал здесь — 29 октября 1910 года...
По словам Ключевского, он в училище не столько читал лекции, сколько приятно беседовал, отдыхая в обществе молодых художников, чрезвычайно интересовавшихся историей и задававших ему разнообразные вопросы. Слушать лекции Ключевского приходили не только ученики всех мастерских и классов, но и преподаватели и маститые художники, а тогда там преподавали В. А. Серов, И. И. Левитан, А. М. Васнецов, К. А. Коровин, Л. О. Пастернак и др. «Сейчас возвратилась с лекции Ключевского,— записала в дневнике художница Елена Поленова.— Какой талантливый человек! Он читает теперь о древнем Новгороде и прямо производит впечатление, будто это путешественник, который очень недавно побывал в XIII-XIV вв., приехал и под свежим впечатлением рассказывает все, что там делалось у него на глазах, и как живут там люди, и чем они интересуются и чего добиваются, и какие они там»59. Валентин Серов специально приезжал слушать Ключевского, когда тот читал русский XVIII век. Под впечатлением этих лекций он работал тогда над серией рисунков из жизни Петра I и Елизаветы Петровны.
Вполне естественно, что художники, общавшиеся с Ключевским, рисовали его. Наиболее известны портреты В. О. Шервуда и Л. О. Пастернака, литография гравера В. Матэ и рисунок О. А. Яковлевой. Есть сведения, что историка рисовывали также художники Г. Герасимов, М. Добров и, возможно, другие. По поводу работы Шервуда Ключевский писал автору: «Если задача искусства мирить с действительностью, то написанный Вами портрет вполне достиг своей цели: он помирил меня с подлинником»60. Красив и выразителен портрет
59 [А. С.] Елена Дмитриевна Поленова (1850-1898). М., 1902. С. 37-38.
60 Ключевский В.О. ПДА.С. 179.
кисти Леонида Пастернака и очень хороши «живые» эскизы к нему. Ключевский изображен читающим лекции на фоне красивого темно-красного актового зала среди статуй и картин. В первом ряду слушающих художник изобразил своего сына — будущего поэта Бориса Пастернака. Сам мастер был удовлетворен работой. «Я счастлив,— писал он,— что удалось мне, запечатлев черты гениального русского историка, оставить эту художественную память нашему народу. Смею думать, что я исполнил свой долг перед родиной написанием этого портрета»61.
«Мягкий» и «теплый» рисунок Ольги Яковлевой помогал ученикам Ключевского переживать трудное время: в 1920-е годы некоторые из них вынуждены были покинуть родину, нелегко было и оставшимся... Они, собираясь иногда, подолгу смотрели на дорогое для них лицо Учителя.
Курс русской истории, который читался в училище, Ключевский обычно начинал со вступительных лекций специально адресованных художникам, особенно тем, кто собирался писать на исторические темы. «Художнику необходимо наблюдать и надобно уметь, т. е. привыкнуть наблюдать», — советовал ученый и делился с аудиторией своим опытом «наблюдателя». Он обращал внимание слушателей на то, что «формы художественного выражения создает сама жизнь: жесты, позы, костюмы, поговорки» и учил их понимать те «житейские мотивы, коими внушены эти художественные формы». «Жизнь — художница»,— внушал он.
Так как главным предметом искусства является человек, то художнику, говорил Ключевский, очень важно знать все то, что выражает человека и окружает его — одежду, прическу, утварь, фасад дома, внутреннее убранство жилища, нравы, обычаи и т. п. Ключевский помогал художникам научиться видеть и понимать различия современного человека с его кругом понятий, окружающей, средой и самопониманием и человека Древней Руси с его привычной обстановкой и образом жизни. Разъясняя некоторые явления русской жизни прошлых веков, которые претерпевали изменения, Ключевский тем самым учил художников историческому взгляду и историческому подходу при решении творческих задач.
Ключевский был деятельным членом Московского археологического общества, Общества любителей российской словесности, Общества истории и древностей Российских (ОИДР), где четыре срока был его председателем (1893-1905). Современники расце
61 Пастернак Л.О. Записи разных лет, М., 1975. С. 222.
нили председательство Ключевского в течение 12 лет как время наибольшего расцвета научной деятельности ОИДР. Ключевский стал заслуженным ординарным профессором с 1897 года; почетным членом Юрьевского университета (1902), Московской духовной академии (1907), Общества любителей Российской словесности (1909), Московского литературно-художественного кружка (1910; его диплом подписан поэтом Валерием Брюсовым), Московского университета (1911).
В 1889 году Ключевский был избран членом-корреспондентом Академии наук, в 1900-м — академиком истории древностей русских вне штата, так как он не хотел покидать Москву и переезжать в Петербург, как то требовалось по положению. В 1908 году Ключевский был избран почетным академиком по разряду изящной словесности.
Ключевскому довелось участвовать в ряде государственных мероприятий. В 1905 году он входил в так называемую комиссию Д.Ф. Кобеко, разрабатывавшей проект нового цензурного устава. Ключевский выступал там несколько раз. В частности, полемизируя с защитниками цензуры, он дал остроумную ее историю: «Практика сначала пыталась создать цензуру мнений,— говорил он,— но этоше удалось, и явилась цензура корректур. Цензор поправлял корректуру, выбрасывал одно, вставлял от себя другое, изменял третье, и так появилась целая литература поддельных книг, в которых под именем автора печатался цензор»62.
В том же году он был приглашен на «Петергофские совещания» по поводу выработки проекта Государственной думы. Там он решительно выступил против выборов «на сословном начале», доказывая, что сословная организация устарела, что пользу Родине приносит не только дворянство, но и все другие сословия. Ученый последовательно высказывался за смешанные выборы.
Весной 1906 года Ключевский неудачно баллотировался в ряды выборщиков в I Государственную думу от Сергиева Посада. А месяц спустя его избрали в члены Государственного совета от Академий наук и российских университетов. Но он сложил с себя это звание, заявив публично через газету «Русские ведомости», что не находит положение члена Совета «достаточно независимым для свободного в интересах дела обсуждения возникающих вопросов государственной жизни»63.
62 Кони А.Ф. Указ. соч. С. 159.
63 Ключевский В.О. ПДА.С. 203.
Более трех десятилетий Ключевский непрерывно трудился над своим лекционным курсом по русской истории, но долгое время отклонял все настойчивые просьбы напечатать его. Он неоднократно повторял, что курс — это непрерывно идущая вперед работа, нуждающаяся в постоянной обработке и переработке, что он еще не сказал в нем свое последнее слово. На свои средства Ключевский выпустил только для своих университетских слушателей «Краткое пособие по русской истории» (при жизни историка оно выдержало семь изданий), вовсе не предназначая эту книжку публике. Лишь в начале 1900-х годов Ключевский решился, наконец, готовить полный курс к печати. «Курс русской истории» в пяти частях, где дано целостное построение русского исторического процесса, признается вершиной творчества ученого. «Курс» основывался на глубокой исследовательской работе ученого, труды которого существенно расширяли проблематику исторической науки, и на всех созданных им курсах, как общих (по русской и всеобщей истории), так и на пяти специальных.
В четырех вступительных лекциях к «Курсу» Ключевский изложил основы своей исторической философии. Важнейшие положения, развиваемые им ранее в спецкурсе «Методология русской истории» (20 лекций), сконцентрированы в одной лекции. Это — понимание «местной» истории как части всемирной, «общей истории человечества»; признание содержанием истории, как отдельной науки, исторический процесс, т.е. «ход, условия и успехи человеческого общежития или жизни человечества в ее развитии и результатах»; выделение трех основных исторических сил, которые «строят людское общежитие»; «человеческая личность, людское общество и природа страны». Историческое изучение строения общества, писал Ключевский, составляет особую отрасль исторического знания: науку об обществе или историческую социологию, наиболее обильный материал для которой дает изучение местной истории»64.
Еще в ранних лекциях начала 1870-х годов Ключевский, опираясь на все достижения современной ему науки, стал осуществлять новый для своего времени подход к изучению русской истории. До того на первом плане находились, главным образом, внешняя, политическая история государства и проблемы его управления. Ключевского же привлекали внутренние социально-экономические процессы — жизнь и взаимоотношения различных слоев
64 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. T.I. М„ 1987. С. 34, 40, 37.
общества. Он раскрывал в общей истории России хозяйственную жизнь страны, ее экономику и торговлю. В противоположность традиционному событийному изложению истории Ключевский перешел к проблемному раскрытию русской истории.
Отказался Ключевский и от общепринятой периодизации истории России по датам великих княжений и царствований. Его подход был более многогранным и гибким. Он обратил внимание на многообразие исторического процесса и стремился учитывать взаимодействие различных исторических сил, каждая из которых в отдельные периоды истории могла приобрести определяющее значение.
Основным фактом русской истории Ключевский, как и Соловьев, считал колонизацию: «История России есть история страны, которая колонизуется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней». «Ряд этих периодов — это ряд привалов или стоянок, которыми прерывалось движение русского народа по равнине и на каждой из которых наше общежитие устроялось иначе, чем оно было устроено на прежней стоянке»65. Исходя из этого Ключевский делит русскую историю на периоды в первую очередь в зависимости от передвижения основной массы населения и от географических условий, оказывавших сильное действие на ход исторической жизни. Периодизация Ключевского включала в себя иную трактовку двух «основных фактов « — политического (здесь его главным образом интересовали проблема власти и общества и изменения социальной опоры власти, которые он считал одним из основных признаков того или иного периода) и особенно экономического фактов. В итоге у Ключевского получилось четыре периода:
Первый период длился приблизительно с VIII по XIII век, когда масса русского населения сосредоточивалась на среднем и верхнем Днепре с притоками. Русь была тогда политически разбита на отдельные обособленные области. Во главе каждой области стоял большой город как политический и хозяйственный центр. «Господствующий политический факт периода,— характеризует Ключевский,— политическое дробление земли под руководством города. Господствующим фактом экономической жизни <...> является внешняя торговля с вызванными ею лесными промыслами, звероловством и бортничеством». «Это Русь Днепровская, городовая,торговая».
Второй период длится с XIII до середины XV века. Главная масса русского населения среди общего разброда и разрыва передвинулась на верхнюю Волгу с притоками. Эта масса остается раздробленной, но не на городовые области, а на княжеские уделы, что представляет собой уже другую форму политического быта. Отсюда господствующий политический факт периода — удельное дробление верхневолжской Руси под властью князей. Господствующий экономический факт — вольный крестьянский земледельческий труд на алеунском суглинке. «Это Русь Верхневолжская, удельнокняжеская, вольно-земледельческая».
Третий период с половины XV века до второго десятилетия XVII века, когда главная масса русского населения растекается из области верхней Волги на юг и восток по донскому и средневолжскому чернозему, образуя особую ветвь народа — Великороссию, которая вместе с местным населением расширяется на пределы верхнего Поволжья. Господствующий политический факт периода — государственное объединение Великороссии под властью московского государя, который правит своим государством с помощью боярской аристократии, образовавшейся из бывших удельных князей и удельных бояр. Господствующий факт экономической жизни — тот же сельскохозяйственный труд на старом суглинке и на новозанятом средневолжском и донском черноземе «посредством вольного крестьянского труда; но его воля начинает уже стесняться по мере сосредоточения землевладения в руках служилого сословия, военного класса, вербуемого государством для внешней обороны. Это Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-землевладельческая».
Последний, четвертый период с начала XVII до половины XIX века: «русский народ распространяется по всей равнине от морей Балтийского и Белого до Черного, до Кавказского хребта, Каспия и Урала. Политически все почти части русской народности соединяются под одной властью: к Великороссии примыкает одна за другой Малороссия, Белороссия и Новороссия, образуя Всероссийскую империю. Но эта собирающая всероссийская власть действует уже с помощью не боярской аристократии, а военно-служилого класса, сформированного государством в предшествующий период,— дворянства. Это политическое собрание и объединение частей Русской земли и есть господствующий политический факт периода. Основным фактом экономической жизни остается земледельческий труд, окончательно ставший крепостным, к которому присоединяется обрабатывающая промышленность, фабричная и заводская.
Этот период всероссийский, императорско-дворянский, период крепостного хозяйства, земледельческого и фабрично-заводского»66.
Это достижение исторической науки своего времени с «тяжелой руки» его ученика М.Н. Покровского долгие годы подвергалось строгой критике за «эклектизм», «многофакторность», «плюрализм», «идеализм», за непризнание формационного развития и вообще за «буржуазную ограниченность». (Как знать, возможно, за резкие нападки на учителя брошенный Покровским бумеранг еще больнее ударил его самого и так называемую «школу Покровского» ?!)
Стремился Ключевский к углубленной разработке не только научной стороны «курса». Он ставил перед собой задачу (которую блестяще разрешил) достигнуть художественного изображения, живого восстановления русского прошлого. Самые строгие экономические и социологические проблемы одухотворялись под его пером. А созданные им портреты отдельных исторических деятелей и групповые социальные характеристики великоросса-земледельца, князя, московского боярина, служилого человека и т.п. получали классическую отточенность и признавались Шекспира, Тацита, Льва Толстого достойными. Многие образно высказанные Ключевским наблюдения и выводы западали в память слушателей, охотно повторялись и передавались из уст в уста по Москве и другим российским городам. Но прежде чем они заблистали для всех, тому предшествовала большая работа. Недаром Ключевский говорил: «Тяжелое дело писать легко, но тяжело писать легкое дело».
«Курс русской истории» В.О. Ключевского получил всемирную известность. Он переведен на все основные языки мира. По признанию зарубежных историков, «Курс» Ключевского послужил базой и главным источником для курсов русской истории во всем мире.
Несмотря на чрезмерную занятость научной и огромной лекционной работой, Ключевский находил возможность общаться с художественными, литературными и театральными кругами Москвы. О том оставили яркие свидетельства Шаляпин, Горький, Бунин, Кони, Л. Пастернак, Серов, Нестеров, Телешов и многие, многие другие. Они передали свои впечатления о встречах с Ключевским, об удивительном таланте историка, об обаянии его личности. Ключевского приглашали на премьеры, бенефисы, банкеты, где он изумлял присутствующих метким словом, наблюдательностью, иронией и остроумием. Он заходил иногда
на «Телешевские среды», бывал на именинах Шаляпина, по пятницам приходил в дом к Давыдову — там собирался «цвет науки, литературы и искусства».
В 1907 году, когда театральная и общественная Москва чествовала великую актрису Марию Николаевну Ермолову, от Московского университета приветствовал ее Ключевский. Он говорил о тесной связи университета с Малым театром, о том, как взаимопомощь между наукой и искусством поднимает и труд, и науку, и искусство.
Общение с Ключевским обогащало людей. К нему часто обращались за консультацией писатели (среди них Лесков), художники, композиторы, актеры. Он всем терпеливо и охотно помогал. Работники же архива, куда постоянно приходил Ключевский, даже досадовали, что много времени уходит у великого ученого на эти, как они выражались, пустяки и разные мелкие справки, что ему часто мешали работать. Однако сам Ключевский не находил это «пустяками», наоборот, считал своим долгом и даже священной обязанностью помогать художникам, желающим изучать русскую историю и ищущим в ней вдохновение. «Я только не люблю,— говаривал он,— когда ко мне обращаются с вопросами специалисты: сам доходи»67.
Широко известно о помощи Ключевского Шаляпину в создании образов Бориса Годунова и Досифея. «Поправлял» он также и готовую роль артиста Грозного в «Псковитянке» и даже немного прорежессировал спектакль. Ключевский произвел на Шаляпина сильнейшее впечатление не только своими познаниями, но и способностью преображаться в людей прошлого. Особый эффект по признанию великого артиста производили в изображении историка диалоги между Шуйским и Борисом. Иногда Шаляпину даже казалось, что воскрес Василий Шуйский, когда Ключевский «остановится, отступит шага на два, протянет вкрадчиво ко мне — царю Борису — руку и рассудительно, сладко говорит. <...> Говорит, а сам хитрыми глазами мне в глаза смотрит, как бы прощупывает меня, какое впечатление на меня производят его слова». И уже играя с профессиональными актерами, он сожалел, что Василий Осипович не мог быть его партнером на сцене68. Ключевский пробудил у Шаляпина интерес к русской истории, руководил его чтением, давая книги
67 Готье Ю.В.В.О. Ключевский как руководитель начинающих ученых // В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. С. 180; ср.; Василенко С.Н. Из воспоминаний композитора // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 552.
68 Федор Иванович Шаляпин. Т. 1. М., 1957. С. 148, 290, 149.
из своей библиотеки, дарил по его просьбе свои труды. Много раз приходил Федор Иванович в дом историка на Житной. Существует мнение, что в шаляпинских образах Сусанина, Грозного, Годунова, Мельника, Досифея, Галицкого, Демона, Еремки и даже Галеофа сказывалось влияние исторических взглядов Ключевского.
О том, как тонко и глубоко понимал Ключевский специфику сцены, свидетельствует и его набросок, сделанный им для Малого театра в связи с постановкой там пьесы Островского «Воевода» (1909). Прежде всего Ключевский хотел знать, что театру от него нужно: выяснить ли эпоху, или показать, насколько верно драма воспроизвела эту эпоху, чтобы актеры смогли исправить недостатки драматурга. Выражаясь терминологией Станиславского, Ключевский выяснял режиссерскую «сверхзадачу». «Чего вы хотите: исторически точно воспроизвести старину или фальсифицированной стариной обличить и пристыдить современников?» Островский, замечал Ключевский, не хотел ни того, ни другого — «он подрумянивал нашу старину шекспировскими румянами, чтобы драма понравилась зрителю — и только». Поэтому Ключевский рекомендовал играть на полтона ниже, подчеркивать отрицательные и комические моменты драмы. Исполнителям ролей Самозванца и Шуйского он давал конкретные советы, на чем им следует строить роль. При этом Ключевский «не давил» своим авторитетом, а наоборот, скромно добавлял: «Я выскажу свои мысли вслух, не думая о том, какое вы сделаете из них употребление, и нисколько не огорчусь, если не сделаете никакого»69.
Способствовал Ключевский и формированию строгого вкуса. «Не впадайте только в излишнюю сентиментальность и не придавайте слишком много сладости рисуемым вами образам»,— рекомендовал он. «Вот у нас есть талантливый художник Маковский, увлекающийся древней русской жизнью. По правде сказать, я его картин видеть не могу. Разве могли существовать такие сладкие, конфетные барышни? Русская древняя жизнь была красива своеобразной суровой красотой, приторности в ней не было». Или еще одно мнение об опере Римского-Корсакова «Снегурочка»: «Там и солнечность есть, и радость, но сладости, противной сентиментальной сладости нет и следа»70.
Выразительную мысль, высказанную им в беседе с артистом и режиссером Малого театра А. П. Ленским, записал Ключевский в дневнике: «Ленский. Невзрачная русская жизнь, прикрашенная
м НАИРИ.Ф. 4. On. 1. Д. 173.
70 Василенко С.Н. Указ. соч. С. 553.
художественной позолотой. Как человек в области искусства довольно пришлый, я говорил, что вместо того, чтобы украшать русскую мужицкую избу готическим фронтоном, не красивее ли было бы иной стильный музей опростить фасадом мужицкой избы»71.
Для понимания феномена Ключевского очень важны его «Мысли об истории». В продолжение всей своей жизни он постоянно размышлял об истории как науке и о важности ее изучения. Еще будучи первокурсником, Ключевский в 1861 году писал другу: «Без истории теперь, как и во всякое переходное время, нет спасения». «Повторяю, нам нет спасения без истории». «Ведь только во сне сознание становится вне истории,— читаем в его дневнике 1892 года,— и то лишь одно сознание, а твой грезящий аппарат остается в ее сфере, в области культуры». И он полушутя-полусерьезно показывает, что все вокруг (даже привычка держаться на улице правой стороны) — «это продукты культуры, плоды просвещения, истории». Среди его афоризмов есть размышления о причинах возникновения интереса к истории. «Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения». «История — что власть: когда людям хорошо, они забывают о ней и свое благоденствие приписывают себе самим; когда же становится плохо, они начинают чувствовать ее необходимость и ценить ее благодеяния»72.
Многократно говорил Ключевский о необходимости понимания взаимосвязи современности и прошедшего и советовал извлекать полезные уроки из накопленного исторического опыта, ибо «история учит даже тех, кто у нее не учится; она их проучивает за невежество и пренебрежение»73. История, считал он, способна научить ясному взгляду на настоящее и даже предвидеть будущее. Сделанные им прогнозы и предостережения не могут не удивлять тем более, что они были высказаны задолго до революционного 1917 года.
Еще в 1898 году Ключевский записал: «Самодержавие нужно нам пока как стихийная сила, которая своей стихийностью может сдержать другие стихийные силы, еще худшие». «Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы, что делать? Ответа нет». «Наше будущее тяжелее нашего прошлого и пустее настоящего»74.
71 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. IX. М„ 1990. С. 434.
72 Там же. С. 178, 300, 390.
73 Там же. С. 307.
74 Там же. С. 383-384, 417, 378.
В январе 1902 года Ключевский, по свидетельству М. Горького, говорил: «Поскольку я знаю русскую историю и историю вообще, я могу безошибочно сказать, что мы присутствуем при агонии самодержавия»75. А в январе 1905 года (тогда наследнику российского престола было всего несколько месяцев), Ключевский буквально ошеломил присутствующих в тесном кругу людей, сказав о Николае II: «Это последний царь, Алексей царствовать не будет». Среди записей Ключевского «для себя» встречаются немало его рассуждений на эти темы. Например: «Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могли жить лишь в допотопное время». Есть у него рассуждение о прямом вырождении царствующей династии: «Наши цари были полезны, как грозные боги, небесполезны и как огородные чучела. Вырождение авторитета с сыновей Павла. Прежние цари и царицы — дрянь, но скрывались во дворце, предоставляя эпически-набожной фантазии творить из них кумиров. Павловичи стали популярничать. Но это безопасно только для людей вроде Петра I или Екатерины II. Увидев Павловичей вблизи, народ перестал их считать богами, но не перестал бояться их за жандармов. Образы, пугавшие воображение, стали теперь пугать нервы. С Александра III, с его детей вырождение нравственное сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую династию, варяжка испортила последнюю. Она, эта династия, не доживет до своей политической смерти, вымрет раньше, чем перестанет быть нужна, и будет прогнана»76. В этом он видел грядущее несчастье России и ее народа, так как им грозит повторное смутное время. Напомню, что отличительной чертой Смуты Ключевский считал не пресечение династии, а то, что в нее вступают все классы русского общества, что политическая борьба, спор за образ правления, за государственное устройство превращается в социальную борьбу, в истребление высших классов низшими.
Близкие к Ключевскому люди говорили, что в частных разговорах он пессимистически высказывался о будущем. «Пессимизм Ключевского был пессимизмом очень умного и проницательного человека, а не патологическим настроением неврастеника и не брюзжанием старика»77. О том же красноречиво говорят и его записи «для себя». Однажды Ключевский сказал о себе: «Я человек XIX века и в ваш XX век попал совершенно случайно». У него были мрачные предчувствия относительно XX века: «Впредь будут
75 Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949-1956. Т. 28. С. 23.
76 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. IX. С. 442, 443.
77 Милюков П.Н. Указ. соч. С. 217.
воевать не армии, а учебники химии и лаборатории, а армии будут нужны только для того, чтобы было кого убивать по законам химии снарядами лабораторий». «Пролог XX века — пороховой завод. Эпилог — барак Красного Креста»78. И это сказал человек, не доживший даже до Первой мировой войны!
С первых месяцев 1910 года В.О. Ключевский начал болеть, но продолжал упорно работать над завершением «Курса русской истории». В ноябре он слег. Его поместили в больницу, и там ученый продолжал работать. Говорят, что Василий Осипович работал и в день смерти, последовавшей 12 мая 1911 года в 3 часа 5 минут пополудни...
Из больницы тело умершего перенесли сначала в дом на Житной улице, где ректор Духовной академии отслужил по нему панихиду. Ученики Ключевского вынесли гроб и в сопровождении духовенства с песнопениями понесли его к Московскому университету. По дороге процессия заметно увеличивалась. В университетской церкви заупокойную литургию служили два епископа и пятнадцать священников. Очевидцы свидетельствовали, что похороны В.О. Ключевского собрали до пяти тысяч человек. Из церкви до кладбища Донского монастыря гроб несли на руках, останавливаясь в местах, связанных с работой историка, и служили краткие литии: у нового здания университета, у Румянцевского музея, у Архива на Моховой, у дома на Житной. После панихиды на кладбище в могилу В.О. Ключевского была брошена любимая им сирень. Так Москва прощалась с великим сыном России...
К 150-летию со дня рождения историка, в 1991 году, на его родине в Пензе открыт Дом-музей В. О. Ключевского и его филиал в селе Воскресеновке. В знак глубочайшего признания заслуг ученого международный центр по малым планетам (Смитсоновская астрофизическая обсерватория, США) присвоил его имя одной из планет. Отныне планета № 4560 КЛЮЧЕВСКИЙ — неотъемлемая частица Солнечной системы.
78 Ключевский В.О.Соч.: В9 т. Т. IX.С. 389, 405.
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО
Магистерский диспут В. О. Ключевского
Протоколы факультетских заседаний
<Фрагменты>
Заседание 13 января 1872 года
6) Читан отзыв Заслуженного ординарного профессора С. М. Соловьева1 о диссертации Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник». По обсуждении отзыва днем диспута Ключевского назначено 26 января; официальными оппонентами назначены орд. профессор С.М. Соловьев и Н. А. Попов2.
II
1872 года января 26 дня в публичном заседании Историко-филологического факультета под председательством декана П. Д. Юрке-вича3 и в присутствии Заслуженных профессоров С.М. Соловьева и М.С. Куторги4, орд. проф. Леонтьева5, Буслаева6, Попова, Тихонравова7, Герье8, доцента Ф.Е. Корша9. Кандидат Василий Ключевский защищал диссертацию, написанную им для получения степени магистра русской истории, под заглавием «Древнерусские жития как исторический источник». Официальными оппонентами были: Заслуженный ординарный профессор С.М. Соловьев и орд. проф. Н. А. Попов. Затем предлагали возражения орд. профессора Ф. И. Буслаев и Н. С. Тихонравов и из публики помощник хранителя рукописей Московского публичного музея Е. В. Барсов. По окончании возражений факультет единогласно признал кандидата Ключевского достойным степени магистра русской истории.
Декан П. Юркевич.
Н. Попов.
Ф. Буслаев. С. Соловьев.
В. Герье.
М. Куторга.
Ф. Корш.
Секретарь факультета Н. Тихонравов.
Диспут г. Ключевского*
В среду, в актовом зале Московского университета происходил публичный ученый диспут. Г. Ключевский защищал свою диссертацию под заглавием «Жития русских святых как исторический источник», представленную им в филологический факультет на степень магистра русской истории. Несмотря на специальность предмета, диспут привлек в залу многочисленную публику. Кроме студентов и профессоров университета, здесь были и другие ученые, а также чиновники, офицеры, коммерсанты и даже раскольники. Заметно было особенное множество дам. Самый диспут был веден с таким серьезным тоном и таким живым увлечением, что он представлял редкое исключение из ряда подобных диспутов, отзывающихся обыкновенно официальною мертвенностью. Давно уже московская публика не слыхала в стенах Университета подобного ученого спора.
Мы представляем о нем отчет по записям, веденным во время самого диспута.
Диспут открылся краткой вступительной речью диспутанта, которую и передаем почти дословно:
«Без сомнения,— и мне приятно на это надеяться,— в книге моей будут указаны ее многочисленные недостатки, замеченные строгими и доброжелательными судьями. Но предварительно мне бы хотелось между этими недостатками и суждениями знатоков поставить как элемент примиряющий мой взгляд на предмет и цель исследования. Я не берусь судить о научных результатах своей работы. Но насколько я могу воспроизвести впечатление своего читателя, мне кажется, заметят некоторое несоответствие между историко-литературной ценой, какую я даю исследуемому материалу, и теми усилиями, какие положены на его изучение. Это несоответствие сглаживалось передо мной отношением древнерусских житий к другим древнерусским историческим источникам. Очень хорошо известно впечатление, выносимое из изучения древнерусского общества. Здесь, под пестротою внешнего деления, скрывается удивительное внутреннее однообразие. Изучающий часто готов подумать, что никогда люди так дробно не делились юридически и экономически и никогда не были так похожи друг
* Это описание диспута принадлежит Е. В. Барсову, напечатано было в «Современных известиях» 1872 г., № 27.
на друга по своей нравственной физиономии. В составе древнерусского общества встречаем типы, созданные преданием и привычкой и почти не замечаем характеров лиц. Можно много спорить, что виной такого впечатления свойство ли наших исторических источников, свойство ли самой жизни или, наконец, в какой мере участвует в этом и то и другое. Но вот памятники, обещающие нам представить древнерусское лицо с его индивидуальными чертами; притом огромное большинство этих лиц, вышедши из различных общественных состояний, сходится в монашестве, в той среде, которая в древней Руси несравненно более других обладала средствами для развития нравственной свободы лица; наконец, эти лица являются в любопытной обстановке, выступают предтечами русской жизни в лесной пустыне. Может быть, из всего, что осталось нам от древней Руси, только жития дают историку возможность взглянуть на древнерусского человека в таком индивидуальном его уединении. Вот научный интерес, руководивший мною в работе; он в моих глазах оправдывает те микроскопические, утомительные изыскания, которые, может быть, слишком обильно рассеяны в книге. Остается решить, насколько эти изыскания помогают историку воспользоваться житиями для указанной цели».
Из официальных оппонентов первый говорил профессор Соловьев. Он сделал диспутанту три возражения, сущность которых передаем вкратце с содержанием ответов диспутанта. Оппонент сказал, что автор рассматривает древнерусские жития слишком особняком от общего хода древнерусской жизни, не указывает влияния перемен, совершившихся в последней, на развитие и характер древнерусской агиобиографии (литературы житий святых). Например, в XV и XVI веках пишут жития митрополитов Петра, Алексия, Ионы и Филиппа; почему в XVII веке не пишут житий патриархов? Или сам автор доказывает, что с XV века литература житий быстро размножается, и в ней утверждается искусственный витиеватый стиль. Все это требовало объяснения в связи с историческими переменами в России. Диспутант отвечал, что он указывал условия, ускорявшие движение агиобиографии или изменявшие ее литературные формы, но находил эти условия преимущественно в развитии древнерусской письменности и в обстоятельствах, имевших мало связи с тем, что совершилось наверху русского общества XV или XVI века. Не эти события были причиной появления в XV веке мастеров, давших образцы искусственного стиля житий. Их размножение с XV века объясняется развитием пустынных монастырей с половины XIV века, и это указано в книге. И в XV и в XVII веках
одни и те же явления давали содержание житиям. Житие одного патриарха (Иова) рассмотрено в книге; отсутствие житий других объясняется или случайным недостатком биографа, или тем, что они не были прославлены Церковью. Характер житий как исторических произведений, взгляд их на описываемые лица и события оставался, в сущности, всегда одинаковыми, и общественные перемены, совершившиеся в XV и XVI веках, отразились на агиобиографии в этом отношении очень слабо. Изменения с агиобиографическом содержании некоторых житий XVI и XVII веков объясняются появлением новых литературных требований, а не переменами в общественном порядке этого времени.
Второе возражение касалось того элемента в содержании житий, который назван автором общими местами агиобиографии, не имеющими значения исторических фактов. Это, утверждал оппонент, не общие места только, но и бытовые черты: повторение их во всех житиях может иногда указывать на простоту и вместе живое и, так сказать, эпическое направление жизни. Диспутант, соглашаясь с этим, заметил, что эти бытовые черты, однако ж, нельзя принимать за индивидуальные факты, которых мы ищем в биографии; притом эти бытовые черты взяты из греческих житий и не всегда приложимы к древнерусской жизни; наконец, в некоторых житиях они являются прямо неверными известиями в приложении к описываемому лицу.
В третьем возражении оппонент заметил, что напрасно автор внес в свое исследование памятники, вовсе не относящиеся к литературе житий святых, напр., биографию Александра Невского или кн. Михаила Александровича Тверского. Диспутант отвечал, что упрек в излишке работы не считает особенно тяжелым, но что он имел основание внести в свою книгу и указанные памятники: сам биограф А. Невского называет этого князя святым, а биография кн. Михаила составлена с обычными приемами житий святых, хотя описываемое лицо и не было причислено к лику святых.
Возражения второго оппонента, профессора Попова, были преимущественно направлены на некоторые пропуски в диссертации. Так, он заметил, что автор не цитует Пискаревских рукописей, хранящихся в Московском музее. Диспутант отвечал, что он цитует одну из этих рукописей, содержащую в себе отрывки утраченных житий угличских святых. Остальные рукописи не дают ничего нового для критики житий. Далее оппонент указал на отсутствие в диссертации разбора жития Иоасафа Каменского. Диспутант отвечал, что это житие им разобрано. О других житиях, отсутствие
которых в книге было замечено оппонентом, диспутант сказал, что они написаны в XVIII веке, который стоит вне программы исследования. Далее оппонент возражал, что диспутант, считая общие агиобиографические места господствующим элементом в содержании житий и утверждая, что форма подавляла в них фактическое содержание, признает, однако ж, во многих житиях драгоценные исторические памятники. Среди других возражений диспутант не успел обстоятельно развить своего ответа на это возражение. Вследствие того же осталось без ответа и другое замечание оппонента, что в книге не везде достаточно полно указано фактическое содержание житий, которым может воспользоваться историк, и именно факты, относящиеся к монастырской колонизации, изучение которой и подало автору повод приняться за разбор житий, как он сам говорит об этом в предисловии.
Третий оппонент, профессор Буслаев, выразив несколько проникнутых теплым сочувствием замечаний о достоинствах диссертации, обратился к той ее стороне, которая касается литературного элемента житий. Он указал автору место в последней главе его книги, где он рассматривает литературные приемы агиобиогра-фов; с помощью этих приемов житие изображало не то или иное индивидуальное лицо, а общий, однообразный идеал подвижника. Указывая на эти общие, во всех житиях повторяющиеся биографические черты, оппонент спрашивал, в этих ли общих местах, в этих ли однообразных фразах заключается указанный идеал? Диспутант отвечал, что он, как замечено и в книге, не ставил себе задачей воспроизводить в работе вполне общий тип подвижника, рисуемый агиобиографами, предполагая его известным, а пытался характеризовать только литературные приемы изображения, указывая для примера на некоторые черты этого изображения. Далее оппонент продолжал, что в некоторых житиях описываемые лица являются с чертами, совершенно отличными от этого типа: таковы, напр., жития Александра Невского, Петра и Феврония Муромских и Меркурия Смоленского. Диспутант отвечал, что древнейшее житие Александра Невского есть исключительный, своеобразный опыт жития, не повторившийся в агиобиографии, что и объяснено в исследовании; в позднейших редакциях этого жития тот же князь представлен уже с другой физиономией, приближающейся к обычному типу житий; сказание же о Петре и Февронии Муромских, о Меркурии Смоленском, собственно, нельзя назвать житиями ни по фактическому содержанию, ни по литературной форме: это народные легенды. Поэтому автор вовсе опустил в своем разборе
сказание о Меркурии, а муромской легенды коснулся только по ее литературной связи с другим муромским памятником — с житием князя Константина. Характеризуя общие приемы писателей житий, исследователь не считал себя вправе останавливаться на исключительных явлениях.
Затем профессор Тихонравов начал свои возражения замечанием, что автор иногда является осторожен в своих выводах и останавливается на полудороге. Так, доказав, что житие Панфутия Боровского написано не Вассианом Рылом, как думали многие, а Вассианом Саниным, он делает этот вывод только с некоторою уверенностью и не цитирует в подкрепление своих доводов Шевырева10. Диспутант отвечал, что уверенный в основательности своего вывода, он не указал на доводы Шевырева, считая их не вполне убедительными, и именно потому старался отыскать другие, по его мнению, более твердые. Далее оппонент, обращаясь к разбору другого жития — Евфросина Псковского, сказал, что автор первый в нашей литературе сделал попытку снять с редактора жития Василия обвинение в вымыслах, касающихся «сугубой ал-лилуии», определив его отношение к начальному автору сказания о Евфросине. Доказывая возможность для Евфросина заимствовать двоение «аллилуии» в Греции, автор ограничился ссылкой на известное послание Дмитрия Грека к Геннадию, где сказано, что и там двоили аллилуию; но то же подтверждается встречающимся в рукописях посланием, которое Филарет приписывает Геннадиеву дьяку в Пскове Филиппу Петрову. Оппонент прочитал из него места, в которых автор послания резко упрекает современную ему Греческую церковь за «двоение аллилуии». Диспутант отвечал, что он рад принять новое указание, подтверждающее его мысль11. Далее оппонент остановился на примечании к книге о Спиридоне Сатане, редакторе жития Зосимы и Савватия, где сказано, что известия о нем скудны и не ясны; он заметил, что известия, приведенные здесь автором, подтверждаются и дополняются другим сочинением этого Спиридона, описанным кратко в Археографической комиссии. Диспутант признался, что он не имел в виду этого сочинения. Наконец, оппонент остановился на русской редакции жития Николая Чудотворца и заметил, что это простой перевод с греческого подлинника, рассмотренного в одном давно напечатанном исследовании А. В. Горского12. Диспутант отвечал, что он не ставил задачей исследовать все источники этого сказания, ограничившись указанием на ближайшие из них, на болгарскую редакцию; назвал же этот памятник русской редакцией как по книжным особенностям
русского языка в ее изложении, так и по прибавкам, несомненно сделанным в России.
Из публики выступил оппонентом г. Барсов (хранитель Музея). Он заявил, что, после сделанных уже возражений ему остается остановить внимание диспутанта на тех частных и мелочных недосмотрах в его исследовании, которые хотя и не отнимают достоинств у его ученого труда, но тем не менее не совсем гармонируют с этими достоинствами. Прежде всего он выставил на вид диспутанту, что некоторые редакции житий охарактеризованы у него такими неясными и неопределенными чертами, что при встрече с разными списками, по указаниям его книги, трудно определить, какой они редакции; так, оппонент указал, что редакция жития Антония Сийского недостаточно отличена от редакции монаха Ионы. Точно так же житие Макария Желтоводского первой редакции обозначено неопределенными фразами, что это житие простое по составу и изложению. Диспутант объяснил, что будущий исследователь не затруднится определением редакции Ивана Царевича, так как в конце этого жития всегда помещается приписка, что это житие «списано Иваном Царевичем»; что же касается первой редакции жития Макария Желтоводского, то, по объяснению диспутанта, его выражение о ней означает, что это житие краткое без предисловия и похвального слова; при этом диспутант прибавил, что он забыл обозначить в своей книге начало жития.
Далее оппонент выставил на вид, что диспутант не совсем справедливо выражается в предисловии в своей книге, будто неполнота в обзоре агиографического материала зависела только от состава тех библиотек, коими он пользовался: он оставил без внимания жития некоторых святых, кои несомненно имел под руками и пользовался ими в Московском музее, и очевидно не внес их в свою диссертацию в силу особых соображений; при этом оппонент спросил диспутанта, почему, напр., он не ввел в свое исследование житие Лазаря Муромского и Евфимия Архангелогородского; первое по фактическому своему содержанию представляет любопытные данные для колонизации и культуры северного края; второе — не менее важно по своим чудесам. Диспутант настаивал, что он и не должен был вносить их в свою книгу, потому, что первое — не «житие», а духовная грамота Лазаря Муромского; второе также не житие, а только сказание об обретении мощей Евфимия Архангелогородского.
Затем оппонент указал диспутанту на одно противоречие в его книге, именно на стр. 26 говорится, что Авраамий Ростовский канонизован был собором 1549 года, и из приложения на стр. 462 видно,
что ему праздновали задолго до «собора» «от древних лет». Диспутант объяснил, что примечание той же 462 стр. приложимо и к Авраамию Ростовскому, хотя оно говорит об одном Никите Переславском.
Наконец, оппонент указал еще на одну неточную ссылку (именно на служебник Троицкой Сергиевой Лавры, XII в.), приведенную в подтверждение того, что аллилуия издавна двоили на Руси (на стр. 256). Диспутант объяснил, что факт этот, независимо от означенной ссылки, подтвержден им и другими несомненными свидетельствами.
В заключение оппонент сказал несколько слов о достоинствах труда диспутанта и выставил на вид ту нравственную сторону его работы, которая связана с составлением такого труда. Он сказал, что диспутант первый решился подвергнуть жития святых исторической и литературной критике, что он явил ученому миру 250 редакций житий, что ему приходилось рассмотреть для этой цели, по всей вероятности, около 5000 списков житий, писанных в разное время, разными старинными почерками, со всевозможными ошибками малограмотных переписчиков, что выводы его, особенно при беглом и поверхностном чтении его книги, кажутся слишком смелыми и отважными, но рассмотрение им такого количества списков, но критический анализ, обнаруженный им в разборе некоторых житий, возбуждают невольное уважение к его выводам и совершенно успокаивают читателя относительно этой смелости и этой отваги. Такой труд, закончил оппонент, не только делает честь диспутанту, но и умножает славу того имени, с которым связана его подготовка.
Настоящее описание диспута показывает, с каким строгим и полным вниманием относились к диспутанту все пятеро оппонентов: его диссертация была осаждаема со всех возможных сторон — с исторической, литературной, библиографической, и он с находчивостью ограждал достоинство своей диссертации. Несмотря на специальность предмета, несмотря на всю серьезность и продолжительность диспута, многочисленная публика относилась к нему с живейшим участием и вниманием от начала до конца.
По прочтении факультетского отзыва и по провозглашении диспутанта магистром русской истории — взрыв рукоплесканий огласил залу: московская публика единодушно приветствовала нового деятеля на поприще русской истории.
И. А. АРТОБОЛЕВСКИЙ
К биографии В. О. Ключевского*
(Ключевский до университета)
С год тому назад редакцией журнала «Научное слово» издан сборник памяти В. О. Ключевского; в этом сборнике любовною рукою учеников и почитателей его всесторонне охарактеризована личность гениального русского историка — и как ученого, и как учителя, и как редкого художника слова. Первое место в сборнике занимает биография В. О., составленная проф. М. К. Любавским ’. Биографические сведения о покойном отчасти встречаются также в статье проф. М.М. Богословского2 («В.О. Ключевский как ученый») и в статье П.Н. Милюкова3 («В. О. Ключевский»). Совершенно понятно, что в биографическом очерке проф. Любавского, как и в других, появившихся после смерти В. О., главным образом, освещается «московский период» его жизни и деятельности (который, впрочем, покрывает слишком две трети и его жизни, и его деятельности) и слишком мало дается здесь сведений из того периода, который можно бы было назвать периодом «строительства» высокой личности русского историка. Разумеем, конечно, период детства и среднего школьного образования В. О. Настоящий очерк имеет целью хотя отчасти восполнить этот пробел. Сведения об этом периоде почерпнуты нами из следующих источников: 1) из рассказов самого В. О., которые тем легче укладывались в нашей памяти, что ассоциировались с знакомыми нам лицами и местами; 2) из рассказов пензенских старожилов, сохранивших в памяти некоторый подробности о детских и школьных годах в жизни В. О.; 3) отчасти из писем В. О. к его дяде — свящ. И. В. Европейцеву4, написанных уже
* Ко второй годовщине со дня смерти В. О., 12 мая 1911 г.
из Москвы в период его студенчества*; и 4) главным образом, из сообщений, любезно доставленных нам сестрою покойного историка — Елизаветою Осиповною 5, которая 15 мая запрошлого года, в день погребения В. О., скромно стояла в университетской церкви у изголовья почившего и тихими слезами оплакивала в нем не только отзывчивого ко всякой скудости и на редкость заботливого «брата», но и лучшего «друга», с которым Е.О., во время приездов в Москву, несмотря на разность положения и интеллектуального развития, проводила в разговорах, по ее словам, целые ночи. Оторвавшись от своего письменного стола в своем более чем скромном кабинете на Житной, от напряженной и проникновенной работы по восстановлению прошлого России, В. О., согласно указанным сообщениям, любил с какою-то тихою грустью погружаться мыслью в свое прошлое вместе с сестрой, живо символизировавшей для него это «прошлое», где был также свой «злой и лихой татарин» в виде страшной нужды, подстерегавшей каждый шаг жизни, где все было «худостно, все нищенско, все сиротинско»**. «Был ли кто беднее нас с тобой, сестра, в то время, когда остались мы сиротами на руках матери!» — заключил один из таких разговоров В. О. Кто хотя немного знал покойного как человека, тот нисколько не удивится этой «дружбе» его с сестрой, вдовой бедного сельского дьякона***, потому что — где и среди кого, в сущности, В. О. не имел друзей? Интересный для всех, он находил интерес для себя решительно во всех, как и в области истории он находил интерес в том, что в научном смысле было решительно неинтересно для всех (жития святых),— и это дружило его со всеми и всем. «Живая личность» и в истории дороже была для В. О. или, вернее, всегда предшествовала отвлеченным схемам и априорным построениям,— живая личность в ее непосредственной целокупности, с той почвой, на которой она росла, с тем бытовым укладом, который вокруг себя создавала,— живая личность — в ее крупных и высоких «деяниях», и в ее повседневных, мелких, часто греховных «делишках».
* Письма эти в количестве 13-ти, любезно доставлены нам из Пензы Ив. Ив. Смирновым, родственником Ключевского (женат был на двоюродной сестре В. О., — теперь покойной,— дочери свящ. Европейцева).
** Сведения, сообщенные Е. О., настолько совпадают во многих пунктах с собственными рассказами и часто мимолетными указаниями самого В.О., что мы без всякого колебания решились использовать и все их для нашего очерка.
*** За несколько лет до смерти священника (Вирганского).
Весьма возможно, что некоторые факты в нашем очерке жизни В. О. в период детства и школьного воспитания многим известны из его собственных рассказов; в этом почти не может быть сомнения, если иметь в виду словоохотливость В. О., особенно по отношению к прошлому. Но в печати — мы, по крайней мере,— их не встречали, хотя и тщательно просматривали многочисленные справки и заметки о жизни В. О., которые появлялись в газетах и журналах в момент его кончины и после.
Фамилия «Ключевский» произошла, несомненно, от с. Ключей (Чембарского уезда)*, где был священником дед В. О.**6. Всего вернее, во всяком случае согласно с обычаями того времени, думать, что дед В.О. назывался только именем и «отчеством», а при поступлении в духовное училище отца В.О.— Иосифа Васильевича7, ему присвоена была фамилия «Ключевский». Изобретение таковых фамилий было обычно привилегией смотрителей, или, как они тогда назывались, ректоров духовных училищ. Отец же В.О. начал свою службу не в Ключах, а дьяконом при Николаевской церкви г. Пензы. Исстари «чистый», но мало обеспечивающий духовенство — приход, отчасти благодаря близости к этой церкви собора, с его местными святынями. Значительная часть прихожан «отливает», как выражаются здесь, в собор. Может быть, это обстоятельство побудило Иосифа Васильевича оставить Пензу и искать священнического места в селе, несмотря на то, что жена его была коренная уроженка Пензы, дочь протоиерея Духосошественской церкви — о. Федора Мошкова8. И. В. поступил священником в с. Воскресенское, в 12-ти верстах от города.
Во время служения Иосифа Васильевича в с. Воскресенском и родился знаменитый историк — в Пензе, в доме своего дедушки (отца матери Анны Федоровны) протоиерея Мошкова,— 16 января 1841 года. Вскоре отец В.О. был переведен в с. Можаровку Городищенского уезда, где протекли первые годы детства В.О. Из 10-ти уездов Пензенской губ., Засурский (единственный уезд на правой стороне р. Суры, прорезывающей Пензен. губ. с юга на север), Городищенский уезд, отличается большим своеобразием в смысле природных условий. Знаменитого аршинного чернозема здесь почти не знают; небольшие клочки его, и то с некоторою примесью песка (почему он и называется здесь супеском), можно
* Как фамилия Белинский (В. Г.), точнее — Белинский — от с. Белынь, также Чембарского у. Пензен. губ.
** А не отец, как указано в ст. П. Н. Милюкова в отмеченном сборнике.
встретить лишь в приречных долинах. На возвышенных же местах почва или суглинистая, или чаще всего каменистая, иногда сплошь покрытая довольно крупным камнем. Если принять во внимание значительную неровность, холмистость местности, легко представить, с каким трудом ходит здесь первобытная соха под звук перетрясаемого ею щебня. Здесь, в Городищенском у., не знают, как в других уездах, длинных полевых полос, которых «глазом не окинешь»; здесь именно «клочки», затерявшееся в незатопля-емых долинах речных водоразделов, в перелесках и на ложах уже сформировавшихся и окрепших оврагов. Громадная часть площади этого уезда покрыта лесом, по преимуществу сосновым; в лесных ложбинах — явление не редкое — выбивающиеся из горы ключи, с сильною жилою и на редкость, благодаря характеру почвы, чистою водою. Нужда в расширении запашки вызывает здесь напряженную и трудную работу корчевки леса, в которой особенно специализировалась здесь мордва. Благодаря обилию лесов, а след., и влаги, урожай на этих выкорчеванных участках получается редкий, если только не подстережет его особая беда, которой не знают другие, степные уезды: во время половодья и ливней — с гор, через «ложбины», несутся сюда потоки воды, которые буквально затягивают илом весь посев, хотя вместе с тем способствуют плодородию этой почвы. Вообще, то, что называется «борьбою с природой», здесь лучше знают, чем в других уездах. И весьма возможно, что родные картины*, запечатлевшиеся в сознании В. О. еще в детстве, нередко предносились ему, когда по историческим документам рисовал он картину напряженной борьбы с природой и ее стихиями, которую с непреклонным упорством вел древний славянин, особенно на севере русской равнины. Это, может быть, тем вероятнее, что и самое
* В 1891 г., во время голода в пределах Пенз. губ., В. О. был сильно озабочен положением крестьян с. Можаровки и посылал туда несколько раз денег на голодающих. В этом деле он оказался даже однажды жертвою обмана. По письму одной местной жительницы он выслал ей денег на устройство столовой для Можаровских крестьян, но после оказалось, что просительница все присланные им деньги употребила на устройство столовой не в Можаровке, а в своем селе. На вторичную просьбу ее о пожертвовании В. О. отказал. Но Можаровки он не забывал. Уже значительное позднее (после 1900 г.) лично нас В. О. просил узнать, кто состоит священником в Можаровке, а сестре своей Е. О., как проживавшей в это время в пределах Городищенского уезда, он поручал на месте собрать справки о положении крестьян в с. Можаровке,— узнать, есть ли у них при церкви какая-нибудь библиотечка и проч. Хотел он также писать об этом и священнику, когда адрес последнего был ему доставлен.
крупное событие в жизни Ключевского за это время, весьма резко изменившее условия жизни его семьи,— трагическая смерть отца — навсегда ассоциировалась в сознании В. О. с «природой» и ее «стихийными условиями». Это трагическое событие, судя по рассказам самого В. О. и сведениям, данным его сестрою, представляется в таком виде. Отец В. О. Иосиф Васильевич отправился однажды с одним из членов причта на базар в с. Шемышейку (Саратовской губ., которая здесь очень близко подходит к Пензенской) для закупки огурцов. Ехали на двух различных подводах. На обратном пути спутник значительно опередил его И. В., заснувшего от утомления на возу. К Можаровке из с. Шемышейки вело два пути: один более длинный, но более ровный, удобный; другой путь, через мельницу, был короче, но менее удобный. Проснувшись, И. В. увидел, что лошадь шла по первому пути, и так как начинался дождь, то он, вернувшись обратно, поехал по второму пути, на мельницу, чтобы скорее достигнуть Можаровки. Дорога шла под гору и посредине была «ложбиной», т.е. канавой. Между тем дождь усиливался и скоро превратился в страшный ливень; с горы с шумом вслед И. В. неслись целые потоки воды. В середине спуска лошадь подвернула воз, и он, падая, придавил своей тяжестью отца В.О. С большим трудом, сильно помятый, И. В. кое-как выбрался из-под воза и пошел вниз, крича о помощи; после оказалось, что крик его слышали женщины, бывшие в это время на ближайшем гумне, но побоялись идти на крик и убежали домой. Между тем отец В. О., пришибленный, весь мокрый, выбившись из сил, упал поперек ложбины на дорогу прямо в поток воды, бежавшей с горы. Этою водою его сразу захлестнуло, и он захлебнулся. В таком виде его и нашли семейные, которые скоро прибежали к месту происшествия, вероятно, по словам женщин, сообщивших о крике, и обеспокоенные сами по себе возвращением из Шемышейки одного только спутника Иосифа Васильевича.
После трагической смерти мужа мать В.О. Анна Федоровна переселилась с детьми в Пензу, приобрела здесь небольшой домик в улице Поповке, неподалеку от дома своей матери, бабушки В.О., которая, после смерти мужа, прот. Мошкова, поселилась также в этой местности города. С этого времени начинается самый тяжелый период в жизни семьи Ключевского, и в частности В. О. Единственным средством к жизни были грошовые нахлебники, которым отдавалась лучшая половина дома. Сами же Ключевские ютились в небольшой задней половине дома, где местом для занятий В. О. были — да, очевидно, и могли только быть — знаменитые
в жизни старого семинариста «полати». Сюда забирался В. О., по сообщении сестры его, и от тесноты и зимой, главным образом, от холода. Когда не на что было купить свечи, он устраивал себе так называемый «ночник», стаканчик с конопляным маслом и поплавком, и с таким освещением читал далеко за полночь; иногда засыпал за чтением и разливал масло. Однако это усердие не спасло В. О. от звания «камчатника» в первые годы его обучения в духовном училище. Эта официальная учеба шла туго и плохо. Не «полати» и «ночник» были причиною этого, а природный недостаток В. О. в виде косноязычия, заикания. Когда приходилось слушать впоследствии мерно лившуюся, красивую и плавную речь В. О., с трудом верилось, чтобы когда-нибудь он был заикою. А между тем это было так. Но, очевидно, непреклонное упорство, необыкновенная энергия, отчасти родовое свойство старого семинариста, культивируемое всеми условиями материально-необеспеченной, трудовой жизни духовенства, способны были преодолеть не только «ночник» и «полати», но и такие физические дефекты, для устранения которых создаются теперь целые лечебницы. Но не преодоленный — этот недостаток доставил много огорчений и мальчику Ключевскому, и его семейным. Для наставников училища он был тяжелым учеником, с которым ни у кого не было особой охоты возиться. В правлении несколько раз раздавались голоса за увольнение Ключевского ввиду его безнадежности, и не столько жалость тогдашнего начальства, сколько заступничество дяди В. О. — настоятеля Боголюбской церкви*, в доме которого неоднократно бывал и сам твердый и всевластный еп. Варлаам9,— заставило правление училища отказаться от мысли об исключении Ключевского. Вскоре эта мысль и без внешнего заступничества была совершенно оставлена, когда сквозь косноязычие для всех заметно стала пробиваться, особенно в письменных работах, светлая и сильная не по возрасту мысль. Семинарии училище передало Ключевского уже как «красу», способную «поддержать», как в это время выражались, «честь училища» **. И Ключевский блестяще осуществлял в семинарии эту надежду; и если «обесчестил» и училище, и семинарию, то только единственный раз, когда в начале пятого года обучения возымел, дерзновенное по тому времени, желание поступить
* Священника Иоанна Васильевича Европейцева. При Боголюбской церкви служил в течение двадцати лет (1847-1867).
** Почти традиционное выражение, имевшее место тогда в речах смотрителей к окончившим курс воспитанникам училища.
вместо Духовной академии — в университет, хотя и искупил это «бесчестие» тем, что сталь впоследствии «честью» России, и много и плодотворно потрудился для духовного образования, когда вступил и в академию — не в качестве уже студента, а в качестве профессора. В семинарии Ключевский много и упорно работал — в той же обстановке и условиях, как и прежде. Эта работа шла, так сказать, в трех направлениях. Ключевский уделял известное время и официальным занятиям, семинарским урокам, и до того злополучного момента, когда семинарское начальство стало угадывать о намерение его оставить семинарию для университета, он неизменно занимал первое место по списку, и все-таки, по рассказам его товарищей, расстояние между Ключевским и единственным его соседом по списку оставалось неизмеримым. Но, главным образом, занятия В. О. за это время сосредоточивались не в классе, а на тех же «полатях», где, при свете ночника, он переходил от скандирования Илиады и Энеиды* к штудированию курсов философии, надолго
* В. О., по воспоминаниям его товарищей, был большим знатоком и любителем классических языков еще в семинарии. Усиленно он занимался ими и в период студенчества, наряду с историей. Любовь к истории и древним языкам он постоянно старается привить и другим. «Пусть все отдает истории и древним языкам...» — заказывает он в одном из писем (из Москвы — в период студенчества) к дяде — свящ. И. В. Европейцеву,— относительно Поля, сына Ивана Васильевича. В том же самом письме он с восторгом сообщает, что он «купил в Москве Илиаду на греч. языке с немецкими объяснениями — целый том страниц в 900 — за 61 коп. серебром!» (Письмо от 9 декабря. Год не помечен). В другом письме к тому же Полю, по поводу нападок последнего на классические языки, под влиянием «реалистического» направления в тогдашней литературе и публицистике, Ключевский с горячностью пишет: «Ты заявляешь, что классические языки, мертвые языки, “слишком высоко поставлены в нашем образовании”. Предоставляя тебе самому судить, хорошо ли делать нападки на мертвых, я спрошу: где они слишком высоко поставлены в нашем образовании? Кто это ставил их так? Что гимназистов заставляют знать склонения и спряжения по Кюнеровой грамматике — неужели это значит поставить древние языки слишком высоко? Неужели выучиться ощупью идти (по указке учителя) по какому-нибудь Саллюстию или Корн. Непоту — значит потратить много времени и много сил (курс автора), как ты выражаешься? Зачем клеветать на русское образование, что оно заставляет тратить много времени и сил на древние языки? Эта клевета была бы отличным комплиментом ему, но, к сожалению, она — клевета, этого нет на самом деле. “Жаль, что нет Чернышевского — восклицаешь ты,— вот человек!” Вероятно, ты не договорил, что вот этот человек задал бы этим несносным мертвым языкам, отнимающим у нас столько времени и сил. Ну, задал бы, поразил бы: что же из этого? Много ли чести бить лежачих! Вот если бы он заговорил об этом в Германии или Англии,— там это имело бы смысл: там действительно теряют на них много времени, но не сил,
задерживался на исторических трудах Татищева10 * и Карамзина", находя в них обильную пищу для пробуждавшегося уже интереса к изучению прошлого России. Но скудость и нужда семейная невольно заставляли Ключевского переходить от далекого прошлого к наличной действительности, слезать с «полатей» и бегать по урокам, или, как тогда говорили, по кондициям. Уже с первых классов семинарии он стал давать уроки; первый урок его был у тогдашнего инспектора семинарии — прот. И.П. Бурлуцкого12 и оплачивался — смешно сказать! — тремя рублями в месяц. Но этот выбор Ключевского в качестве репетитора к сыну, лицом, в распоряжении которого находилась вся семинария, показывает, насколько умственно превосходил он не только своих товарищей-сверстников, но и более зрелых возрастом воспитанников. Чрезвычайно трогательны сообщения Е.О. о том, с какою любовью передавал В. О. весь свой скудный репетиторский заработок матери,— с заказом — сделать на него какую-нибудь необходимую обнову сестре. Когда мать начинала указывать ему на большие недочеты в его собственной костюмировке, В. О. с решительностью отклонял необходимость каких-либо расходов на него. «Мне не нужно! Я как-нибудь прохожу, я обойдусь; а она (сестра) уже большая...» — говорил он обыкновенно в этих случаях. Эта скромность, удивительная непритязательность во всем, отсутствие всякой склонности к какому-либо комфорту — одним словом, «простота, во всех ее видах,— являлись, как всем известно, отчетливыми чертами его личности и во всю последующую жизнь. Трудно было представить себе В. О. в шитом золотом мундире, когда он почти
а, напротив, приобретают от них громадные силы, делающие возможными
такие явления в науке, как братья Гумбольдты, братья Гриммы, Лессинги, Фихте и проч, и проч. Как это умеют они делать, — не нам с тобой допытаться. А на нашей бедной ниве просвещения — позволь выразиться несколько по-семинарски — поднимут вопрос о том, что-де если в учебной программе порядочные педагоги приняли ставить древние языки, то не мешало бы и нам подучить греческие и латинские грамматики,— только этого и потребуют,— не больше, а глядишь, там уж в “Современнике” или “Русском Слове”, подняли страшный гвалт, зачем томить молодые, свежие силы над
пустяками! Чернышевский — талантливая голова, ловкое перо, но если он говорил когда-нибудь печатно против древних языков в духе “Русского слова” или Антоновича, то будущий историк русской цивилизации, покрыв полным забвением и “Русское слово”, и Антоновича с другими теперешними подвижниками “Современника”, не отнесется с сочувствием к выходке Чернышевского, которого, разумеется, не пройдет молчанием» (Письмо от 28 октября. Год не помечен. Указанная дата месяца и числа поставлена на основании другого письма Ключевского от 4 ноября, в котором он упоминает и о приведенном письме, с указанием, что оно написано 28 октября).
стеснялся и форменного фрака. Когда сослуживцы шутя указывали ему на почтенный возраст фрака и пыльные пятна на нем, он также шутя отвечал: «Не забывайте, что и солнце не без пятен». Когда за столом предлагали ему деликатесы, он просил достать ему просто «зеленого лучку». Когда представлялась возможность ехать в коляске и на рысаках, он предпочитал трястись на плохом московском «Ваньке»*, нередко вступая с ним в оживленный разговор; и во время своих еженедельных путешествий к «Троице», для чтения лекций в Духовной академии, он неизменно брал место в третьем классе, скромно сливаясь с той волной отливающих и приливающих к воротам лавры преп. Сергия паломников, чувства и мысли которых, как показала его знаменитая речь в день 500-летия со дня смерти преп. Сергия, были так близки, так знакомы ему. И конечно, никто и никогда и не мог бы и подумать, что все это было со стороны В. О. как бы афишировкой, рассчитанной позой или красивым жестом. Это — свойство людей маленьких, незаметных, у которых за внешностью нет глубокой и твердой подпочвы. Но В. О. с головы до ног, если можно так выразиться, был столь крупным и оригинальным явлением в истории интеллигентной России последнего времени, что для него все это было просто излишним, ненужным. Нет сомнения, что в указанной черте духовного облика Ключевского проявлялась свойственная действительно великим и крупным людям верность почве, на которой они выросли,— тем вековым условиям быта, который с детства окружал их. «Почвенник» — это чрезвычайно меткий и характерный эпитет, данный В. О. его учениками и последователями, встречающейся и в указанном сборнике. Он способен обнимать собою и оригинальную личность В. О. и в известной степени и его оригинальнее творчество.
* Мне живо припоминается сейчас один разговор с В. О. на эту тему, когда мы ехали с ним именно на таком «Ваньке» с Житной, в Каретный ряд, причем извозчика взялся нанимать сам В. О., решительно отстранив меня от этого дела словами: «Вы, земляк, не знаете московских извозчиков». Когда на Полянке от промчавшейся на резиновых шинах коляски мы приняли невольную грязевую ванну, В. О., оправившись, сказал, что и он мог иметь даровую возможность также «пускать — не пыль, а грязь в глаза». Известная богачка Морозова (имя и отечество я забыл теперь 13), у которой он когда-то занимался с сыном, предлагала ему в качестве презента полный выезд — коляску и двух дышловых лошадей. «И все-таки я отказался»,— заключил с иронически-печальною интонациею в голосе В.О. Когда я спросил, почему он отказался от такого презента, В.О., нервно задергавшись, стал выкрикивать: «Помилуйте, разве мне это к лицу?! Разве, сознайтесь, не смешон был бы я в такой коляске?! Разве я не был бы тогда вороной в павлиньих перьях?!» и проч.
Не до позы и не до жеста было В. О., когда студентом он по суткам не ел и по 2 3 дня оставался без чая, и тем не менее всегда застенчиво и упорно отказывался от предлагаемой ему чашки чая или кофе. Со слов тещи В. О., Елизавета Осиповна сообщает, что когда В. О. занимался в их доме с племянником, он ни разу не выпил ни одного стакана чая или кофе, всегда скромно заверяя, что все это он успел уже сделать дома.
Скудный трехрублевый бюджет В. О. вскоре значительно возрос: кроме занятий у прот. Бурлуцкого, В. О., вероятно, по его же рекомендации, получил урок у известного тогда в Пензе богатого вино-заводчика Маршева. Кажется (судя по сообщениям Е. О.), за этот период репетиторства детей Маршева14 слагается у В. О. твердое намерение о поступлении в университет. В доме Маршева В. О. занимался уже со взрослыми детьми, приготовляя их для поступления в университет. И вот, готовя их в университет, он и сам готовился с ними*.
Намерение поступить в университет окончательно созрело в В. О. на пятом году его обучения в семинарии, когда он перешел в старшее отделение семинарии (по нынешнему 5-й класс). История ухода В. О. из семинарии довольно известна и отмечается во всех его биографиях. Она связана с именем видного в истории русской иерархии преосв. Варлаама (впоследствии архиепископа Тобольского; скончался 31 марта 1876 г.) и весьма характерно рисует отношение духовного начальства того времени к уходу семинаристов в высшие светские учебные заведения. В недавно вышедшей монографии о преосв. Варлааме**, история эта излагается в таком виде. В декабре 1860 года, незадолго до полугодичных экзаменов***, Ключевский подал в семинарское правление прошение
* Двое сыновей Маршева поступили в Московский университет и учились там одновременно с В. О., что видно из письма последнего из Москвы к дяде священнику Европейцеву. «Не знаю, передал ли вам Маршев,— пишет В. О., — записку от меня, написанную второпях на прощанье. Теперь они оба в Пензе. Экзамена для них, как считающихся на первом курсе, нет» (Письмо от 23 марта 1863 г.). Последние слова заставляют думать, что Маршевы или не одновременно с В. О. поступили в университет, или же, что вернее, отстали от него. В марте 1863 г. Ключевский был уже на втором курсе.
** Свящ. С. Артоболевского. Изд. в Пензе. 1912 г.
*** Курсив наш. В биографии В.О., напечатанной в майской книжке «Богосл. вест.» за 1911 г., сказано, что Ключевский подал прошение об увольнении непосредственно после полугодичных экзаменов в декабре 1860 г. Наша поправка имеет в основании собственный рассказ В.О., который мы передаем ниже.
об увольнении, в котором писал, что «при стеснительных домашних обстоятельствах, препятствующих ученическим занятиям в Духовной семинарии, и при слабом здоровье он не может продолжать образования в означенной семинарии». Начальство всполошилось. Не хотелось ему и лишиться такого даровитого ученика, как Ключевский, да и боялось оно гнева архипастыря, который не особенно долюбливал «выходы» семинаристов из духовного звания. Подумали, подумали и решили заградить Ключевскому дорогу, воспользовавшись тем, что он получал казенное пособие (за все время им было получено 66 р. 50 коп.), а также «тем, что он при поступлении в среднее отделение “собственным отзывом изъявил желание остаться в духовном звании”». Написали доклад преосв. Варлааму, с подробною справкою относительно получаемого Ключевским содержания, и увенчали этот доклад следующим заключением: «Так как положением Св. Синода 1829 года постановлено, чтобы каждый, совершивши курс в духовных училищах на содержании сих училищ, обязан был, если потребует начальство, в благодарность за свое воспитание, служить по духовному ведомству не менее четырех лет, и так как ученик Ключевский постоянно пользовался значительным (!) казенным пособием, то в прошении об увольнении его из семинарии отказать». Вместе с тем на основании того же положения Св. Синода отказать теперь же ему и в денежном пособии, тем более что своим прошением об увольнении Ключевский показывает, что он имеет собственные средства к содержанию себя»*.
Положение Ключевского после такого постановления правления было не из завидных. Самым худшим для него было то, что рушились его мечты о поступлении в университет, так как без разрешения семинарского правления и епархиального начальства поступление в университет было немыслимо. И вот в роли истинно-попечительного отца выступил тогда архипастырь пензенский — преосв. Варлаам. Прозрел он будущую яркую звезду
* Все это сделано было в угоду владыке. Лично же к Ключевскому семинарское начальство, по крайней мере, тогдашний ректор архимандрит Евпсихий15, было очень расположено. Впоследствии, когда Ключевский был уже студентом, Евпсихий очень сетовал дяде В. О. (свящ. Европейцеву), что последний забыл его и ничего ему не пишет. «Не знаю, что это вздумалось Евпсихии,— замечает Ключевский в одном из писем к дяде,— иметь на меня претензию, что я не пишу к нему. Да как я стану писать к нему и о чем? Что у нас общего и где точка соприкосновения? Не знаю; подумаю, может быть, и напишу» (Письмо от 4 ноября. Год не помечен).
нашей исторической науки, гордость двух высших школ (университета и академии), славу родной семинарии — и решил дело краткой резолюцией: «Ключевский не совершил еще курса учения и, следовательно, если он не желает быть в духовном звании, то его и можно уволить беспрепятственно»*.
На основании личных рассказов В.О. и сообщений заинтересованной по-своему в этом деле (как это ни странно) сестры его — Е. О., мы имели бы возможность несколько дополнить эту историю ухода его из семинарии — в той ее части, которая касается личности преосв. Варлаама. Резолюция преосв. Варлаама, конечно, была «мудрым приговором», как выражается в биографическом очерке проф. Любавский, а точнее, просто справедливыми законным приговором, и несомненно также, что этот приговор «в истории русской науки и высшего преподавания всегда будет отмечаться с великою признательностью»; но едва ли возможно сказать, согласно тем данным, которыми мы располагаем, что преосв. Варлаам в этой истории выступает «в роли истинно-попечительного отца», как думает автор монографии о Варлааме**. Здесь пред нами строгий, пожалуй, осторожный законник, но никак не отец. Далеко не с отеческим благоволением посмотрел он на «поступок» Ключевского, несмотря на благоприятную для него резолюцию. Последующие его действия показывают, что на этот «поступок» Ключевского преосв. Варлаам посмотрел как на «проступок», если не против закона, то против установленных традиций, или, вернее, личных взглядов и вкусов преосвященного. «Проступок» требовал некоторого «возмездия», своего рода «жертвы». И остроумный владыка придумал и то и другое, преследуя, может быть, в конечном счете и благую, с своей точки зрения, цель — спасти Ключевского от той «гибели», которую раз
* См. вышеуказанную монографию о преосв. Варлааме, стр. 177-178.
** И в сознании самого В. О. не осталось такого впечатления от «действий преосв. Варлаама, вопреки утверждению автора монографии о последнем. В одном из писем из Москвы к дяде свящ. Европейцеву, В. О., имея в виду, может быть, и свое дело и всю вообще деятельность преосв. Варлаама в Пензенской епархии, в таких иронических выражениях отзывается об уходе Варлаама из Пензы (в Тобольск): «Гвоздев мне писал, что преосв. Варлаам проездом через Казань приглашал к себе пензенских студентов (очевидно, Духовной академии, т. к. П. П. Гвоздев 16 учился именно в Казанской академии) и им выражал свою печаль по поводу отъезда из Пензы. Отвечает ли паства такой безотрадной тоской на эту высокую печаль своего великого пастыря. Сомнительно! Разве новый будет еще хуже,— ну, тогда, пожалуй, можно пожалеть и о прежнем» (Письмо от 15 декабря 1862 г.).
решить он должен был по закону. Прежде всего, преосвященный нашел нужным подвергнуть Ключевского некоторому публичному словесному бичеванию, что и осуществил он на одном из полукурсовых экзаменов пред Рождеством. Покойный, вспоминая прошлое, с обычным своим юмором, так рассказывал об этом «бичевании» . «Задумал я уйти из семинарии и подал пред Рождеством в правление прошение об увольнении. Наступили полугодичные экзамены, на которых почти на всех имел обыкновение присутствовать и преосв. Варлаам, так любивший всех — и больших и малых — экзаменовать. Обо мне начальство уже ему доложило, и по тону последнего соображаю, что “владыка сердится”... Ну, думаю, дело плохо, университет мой “тю-тю”... На одном экзамене Варлаам что-то особенно сурово поглядывал на меня и, сверх ожидания, к столу, в числе лучших учеников, не вызвал. Сижу, жду — что-то будет и чем дело окончится. И дождался... Встает владыка из-за стола и подходить к той парте, за которой я сидел. “Ты,— спрашивает,— Ключевский?” — “Я”,— отвечаю смиренно.— “Правда, что ты задумал идти в университет?” — “Правда”. Что дальше говорил владыка, теперь я не смог бы восстановить в памяти; но резюме разговора хорошо помню. “Дураком успел бы быть”,— резко заключил Варлаам свою нотацию». Но «дураком» дело не ограничилось. Преосвященный хорошо соображал, что основательно распечь ученика, в присутствии товарищей и наставников, даже назвать его публично «дураком», по духу его времени, вовсе уже не столь внушительное средство воздействия на последнего, который, конечно, знал, слышал, возможно, что и лично наблюдал — и не такие «разносы» архиерей во время его ревизии епархии; знал он также, что на полученный им эпитет владыка не скупился даже и для ректора семинарии в покоях архиерейских, а публично (напр., на экзаменах) он неоднократно ставил и ректора и наставников семинарии своими вопросами в положение, соответствующее этому эпитету. Что же значило получить его из уст владыки ученику семинарии.
Преосвященный измыслил другое, придумал «жертву», каковой стала сестра покойного историка — Елизавета Осиповна; и необходимость принести эту жертву, при удивительной нравственной чуткости В.О. и родственной сплоченности семьи Ключевских, совсем было заставила его отказаться от своей мысли — поступить в университет. И если вспоминать с признательностью имена лиц, способствовавших сохранению В. О. для русской университетской науки и высшего преподавания, то в первую очередь здесь нужно
поставить не преосв. Варлаама, а более скромную личность уже упомянутого нами дяди В. О., священника И. В. Европейцева*, действительно, «отечески-попечительного» к семье Ключевских, друга (несмотря на разность лет) и неизменного авторитетного советника В.О. (которого, кстати сказать, дядя в это время звал уже на «Вы», а также по имени и отчеству) оказавшего и в это время незаменимую нравственную поддержку В. О.** и с любовью благословившего его на избранный им путь. Но расскажем обо всем по порядку. Нужно заметить, что преосв. Варлаам, несмотря на свою суровость (с этим, главным образом, качеством он до сих пор остается в памяти епархии), близко стоял к быту и условиям жизни духовенства, близко входил в его нужды,— часто даже нужды семейные, интимные. Что касается, по крайней мере, градского духовенства, то нам положительно известно, что преосв. Варлаам всегда был отлично осведомлен о составе семей его, особенно о количестве дочерей, о дочерях, уже пришедших в зрелый для замужества возраст. Чтобы помочь духовенству в этом трудном семейном вопросе замужества, преосвященный не редко принимал на себя инициативу в этом деле или способствовал ему всеми зависящими от него средствами; часто сам настоятельно указывал невест молодым кандидатам священства, уговаривал колеблющихся, ставил в связь с женитьбой получение места, настаивал на браках с духовными, если подавалось прошение о разрешении женитьбы на светской. Это была своего рода «слабость», особенно сильно обнаруживавшаяся, когда дело касалось дочерей-сирот.
Испытывая сильную нужду, мать В.О. также задумала воспользоваться этою «слабостью» преосвященного для подраставшей уже Близ. Ос. В праздник в честь иконы Боголюбской Божьей Матери (18 июня) преосвященный служил литургию в Боголюбской церкви и после обедни трапезовал в квартире дяди В.О. При представлении семьи Ключевских обращено было внимание на приходившую уже в возраст Близ. Осип., причем бабушка ее стала просить преосвященного «пристроить» Близ. Ос, т.е. найти ей жениха с приличным местом. Преосв. Варлаам, которому, несомненно, напомнили в это время о трагической кончине отца Ключевского, очень внимательно отнесся к просьбе и поручил дяде еще раз напомнить ему как-нибудь про сироту. Но около Рождества того же года произошла «история» с уходом из семи
* Женат был на сестре матери В. О.,— Анны Федоровны.
** И материальную — как увидим ниже.
нарии В. О. Когда уговоры семинарского начальства не повлияли на решение Ключевского, когда он спокойно перенес и «словесное бичевание» владыки на полукурсовом экзамене, последний пустил в ход последнее средство. Лично или через ректора семинарии он заявил Ключевскому: «Мы готовили тебя в академию; но ты не захотел этого. Поэтому нет твоей сестре ни жениха, ни места!» В. О. страшно удручен был таким заявлением твердого в своих словах владыки и решил отказаться от университета, чтобы не сделать несчастной сестру. С твердым решением оставить всякую мысль об университете пришел В. О. к своему постоянному советнику дяде*. Но последний посмотрел надело иначе. Решительно и твердо он заявил, что нет настоятельной необходимости жертвовать своим счастьем для сестры, раз нет никакого призвания идти в академию. Заручившись словом дяди — не оставлять мать и сестер своим содействием и попечением, В. О. здесь же с своей стороны дает почти торжественное обещание, если будет жив, «никогда не оставлять своими заботами сестры», что и делал он, по словам Е. О., до конца своей жизни. «Постоянно помогал мне в воспитании и устройстве всех моих детей. Потом устроил другую сестру и после ее смерти воспитал двух ее детей».
Итак, вопрос об университете, благодаря авторитетной нравственной поддержке со стороны дяди, и при тогдашних воззрениях сумевшего оценить то, что называется «призванием», решен был в благоприятном для В. О. смысле. Но для осуществления решения нужны были средства. Любопытны и характерны сообщения Е. О.,
* Этот дядя В. О., судя по письмам к нему последнего из Москвы, по-видимому, был человек интеллигентный, по тогдашнему, конечно, времени, не чуждый книжки и вообще культурных интересов. Это обстоятельство и сближало, несомненно, с ним Ключевского. Из Москвы Ключевский высылает дяде книги, напр., литографированные лекции прот. Сергиевского17 («Лекции Сергиевского заготовил для вас литографированные...» — Письмо от 2 мая 1862 г.; «Доставил ли вам Покровский лекции Сергиевского, в чем я взял с него обещание?» — Письмо от 14 июня. Год не помечен); новые сборники поучений (Письмо от 4 ноября. Год не помечен); делится с ним чисто научными новостями: сообщает, напр., о публичных лекциях С.М. Соловьева18, об оригинальном взгляде его на Наполеона (Письмо от 20 декабря 1863 г.); нередко сообщает о своих научных занятиях, напр., под руководством Буслаева19 в Синодальной библиотеке (Письмо от 2 мая 1862 г.). «Занят теперь составлением сочинения по истории средневековой литературы, — сообщает он дяде в письме от 20 декабря 1863 г.,— и выбрал для этого сочинение одного епископа французского Дюрана20 “Rational des divins offices”...» и далее знакомит дядю с основным содержанием и характером книги.
рисующие опять удивительную скромность В. О., его необыкновенную душевную деликатность — ив этом тяжелом вопросе о средствах. Опытный в репетиторстве, он, несомненно, надеялся и в Москве жить уроками*. Но нужно было добраться до Москвы, нужны были средства и на первое время жизни там. Дядя В. О., любивший и ценивший его, давно уже приготовил ему необходимую для этого сумму денег, но стеснялся предложить В.О. до самого последнего времени; в свою очередь, и В. О. до последнего момента не позволил себе сделать даже намека относительно денег. Наконец, за несколько дней до отъезда, дядя решился его спросить: «Как же вы, В. О., без всяких средств едете в Москву?» Взволнованный В. О. сказал: «Я еду в Москву, во-первых, с верой в Бога; а во-вторых, с надеждой на вас». Тогда дядя крепко обнял его и заплакал; не могли удержаться от слез и другие члены семьи, свидетели этого объяснения. Но сознавая, что данных денег далеко недостаточно будет В.О. и вместе не желая тревожить его предложением большей суммы, дядя допустил некоторую хитрость. Прощаясь с В. О., он подарил ему, чрез посредство жены своей, родной тетки В. О., молитвенник, советуя прибегать к этой книге в тяжелые минуты жизни. В.О. с благодарностью принял эту книгу «на память». И только впоследствии, в Москве, перелистывая подаренную дядей книжку, он к удивлению своему нашел в ней значительной ценности ассигнацию**. Сцена прощания с дядей, матерью и сестрами была тяжелой. В.О. проявлял необыкновенную заботливость в отношении к матери, скорбь которой была понятна, особенно в условиях того времени: на скорое свидание с сыном трудно было надеяться ввиду слишком 600-верстнаго расстояния до Москвы, которое нужно было тогда все преодолевать на лошадях; для этого потребовалось бы много и времени, и средств. В последние дни пред отъездом В.О. несколько раз принимался утешать мать, просил о том же сестру, допуская даже для воздействия на мать некоторую невинную ложь: он уверял ее, что к Рождеству непременно приедет в Пензу, что осуществить на самом деле ему оказалось совершенно невозможными. Но личное отсутствие В.О. в известной степени заменял деятельною перепискою с родными, особенно с дядей —
* Уроки, действительно, нашлись, хотя, по-видимому, и не особенно скоро, только в конце 1861-1862 учебного года. В первый раз Ключевский сообщает дяде об уроке в письме от 14 июня 1862 г., присланном из села Зимарова Раненбургскаго у. Рязан. губ., имения кн. С. В. Волконского21, у которого и жил это лето В. О. в качестве репетитора его детей.
** Об этом эпизоде, со слов самого В. О., рассказывал, нам проф. И. А. Каблуков22.
свящ. Европейцевым и с сестрой — Елиз. Осип.* В первых письмах к сестре из Москвы В. О., между прочим, делится с нею своими впечатлениями от университета и первого экзамена. В. О. рассказывает, как они трое семинаристов (двое из других семинарий), робкие, скромно одетые, взошли в громадный зал (очевидно, актовый — старого университета) и увидели группу джентльменов, в дорогих сюртуках, в манжетах и воротничках; у некоторых пенсне на носу; вид непринужденный, разговор развязный. Первое наше заключение при виде этой группы,— что это были профессора. Недоумение стало рассеиваться только с того момента, когда эти джентльмены, уже с менее отважным видом, потянулись к экзаменационному столу, и состязательная экзаменационная робость стала несколько ослабевать, когда удавалось слышать ответы этих господ, совсем не соответствующие их развязной наружности. Овладевать собой вполне мы стали только тогда, когда на наши ответы, часто взамен их молчания, действительные профессора милостиво качали головой и, перешептываясь, по-видимому, с интересом всматривались в наши истомленные нуждою и робостью лица.
Через несколько дней после окончания экзаменов в августе 1861 года от канцелярии университета было объявлено, что воспитанник Пензенской духовной семинарии Василий Ключевский принят в число студентов историко-филологического факультета Императорского Московского университета. Это было гранью, отделявшею «пензенский период» жизни великого историка от «московского».
* Имеющиеся в нашем распоряжении письма В. О. к дяде свящ. Европейцеву дышат удивительною нежностью и внимательностью по отношению к родственникам. Все события семейной жизни близко принимаются к сердцу и горячо обсуждаются В.О. Письма наполнены постоянными справками о здоровье, положении, намерениях многочисленных родственников В. О., живших и в Пензе, и в провинции (главным образом, в г. Саранске).
Е.О. ВИРГИНСКАЯ
Воспоминания о В. О. Ключевском
I
Прочитавши в Пензенских Епархиальных Ведомостях объявления от Императорского Общества Истории и Древностей Российских, просьбу ко всем знавшим и учившимся с В. О. Ключевским, и сообщить ему свои воспоминания о нем. Если угодно Обществу, я могу доставить некоторые сведения о моем дорогом брате В. О., например как он воспитовался, когда учился в семинарии, и при каких условиях поехал в университет и пр. Так как мать1 наша в то время жила в Пензе, у нас был свой домик и мы с ним вмести росли и вос-питовались сиротствующими. Похоронивши своего единственного и дорогого брата, я периехала из Пензы жить в деревню. Адрес мой: станцыя Качкурово, Саранского у., с. Новая Пырма, вдова священника Елизавета О. Виргинская, урожденная Ключевская.
II
Жизнь брата опишу, когда уже он был в семинарии. Училищною жизнь я мало помню, потому что была года на 4 моложе его. Отец наш был священником в селе Можеровке, не далеко от Пензы, где и похоронен2. После его смерти мать пириехала жить в Пензу, так как она была дочь Пензенского протоиерея3 и у нее тогда жива была мать. Периехавши, они купили маненькой домик, в котором и протекала жизнь брата. В бурсе он не жил. Жили мы бедно: в одной половине домика сами помещались, а другую здавали квартирантам, с которых получали в то время три рубля в месяц. Брата очень редко можно было видеть без книги в руках: обедал и чай пил, она всегда была у него. Он никогда не ложился в одни часы с семьей спать, всегда сидел; и когда не на что купить было свечку, он сидел с ношником, или яснее сказать в маленькой стаканчик вливалось
конопляное масло, и опускался фитиль. Или когда в зимние время холодно в комнате, он брал подушку и забирался на печку с этим же ношником, и читал. Сколько раз жег на себе сорочки: задремлет и прольет его, и опять снова просит мать подать ему огня. Бог знает его, когда он спал. Не припомню когда, во втором и третьем классе, тут он уже стал давать уроки. Первой его урок был у протоиерея Бурлутского4, который в то время, кажется, был инспектором в семинарии, и получал тогда только три руб. в месяц. Дольше он уже стал занимать получше уроки. И когда приносил деньги с них, отдавая матери, говорил: «Вы бы купили что нибуть Лизе, она уже подростает». Мать ему ответит, что «тебе самому нужно много сделать необходимого». Но «я как нибуть обойдусь». Так всю жизнь свою покойной не любил щеголять. Сама сошью ему галстук, он и тем был доволен. Помню, когда был в училище, он немного заикался, и за это его приследовали. А когда перишол в семина(рию) и стал подовать свои сочинения, тогда ректор показывал их учи-никам старших классов, говоря: «вот я и то задумываюсь над его сочинениями».
А когда он задумал в университет, тогда за год до своего поступления он жил у фабриканта Маршева, готовил двоих сыновей его в универе (итет) и сам готовился5. Когда семинарское начальство узнало об этом, обидилось, так как первого учиника его готовили в Окадемию. Стали притеснять, понизили его во второй разряд. Много тут пришлось ему пиретерпеть. В Пензе у нас в то время был дядя, сестра матери была за ним, он был священником у Боголюбской церкви, фамилия Европейцевв. Любил нас и мы почти постоянно были у него. Брат всегда обо всем с ним советовался. В то время велось так: после смерти отца зачислялись приходы за дочерями, если были токовые взрослые уже; а когда у нас отец умер, я еще была небольшая. Незадолго до этого времяни, когда брат задумал увольнятся из семинарии, преосвященный Варлаам7 служил на престольной празник у Боголюбской церкви, а после службы приехал в дом дяди. Тогда бабушка просила архирея зачислить какой либо за мной приход взамен отцовского, что он и обещал, говоря: «напомните мне тогда о этой сироте». Начальство когда узнало, что брат хочит увольнятся из семинарии, тогда преосвя(щенный) призвал брата к себе и сказал: «если ты не уважаешь начальство, тогда не зачислится никакого прихода и за твоей сестрой». Брат когда пришол и стал разказывать все это дяди. «Что же мне делать, если я уйду в университ(ет), тогда сестра останется несчасной». (Нужно заметить, дядя его тогда
звал на вы.) «Что же вам, В.О., жертвовать своим счастием для сестры, если у вас нет желания идти в Окадемию». Тогда брат сказал: «Если я буду жив, никогда не забуду сестру». Что и делал покойной до конца своей жизни: помогал мне воспитать и пристроить всех детей, которых у меня выросло 7 человек. Была у нас еще сестра младшая8 и ее пристроил, и после ее смерти взял двоих детей к себе в Москву и воспитал их. Поестка в Москву тогда была очинь трудная на лошадях. Из Пензы тогда поехали в Москву два учителя из семинарии; брат и поехал с ними. Собрали мы его с по-мощию родственников, конечно больши всех заботился о нем дядя. Брат такой имел характер: он стеснялся спросить у дяди когда либо на тобак, и всегда говорил мне: «Лиза! У меня курить нечего, попроси ты лучше у тети мне на тобак». Денег на дорогу в Москву у него своих было очинь мало, и я ему все надоедала, говоря: «что ты не спросишь, что ты не спросишь у дяди». И получала один ответ: «Погоди, спрошу еще». Так и довел до последнего дня своего отъезда. Хотя дядя ему уже приготовил, а все-таки потом спросил его: «Как же вы, В. О., едите без денег в Москву?». Брат задумался немного, потом сказал: «Я еду с верой в Бога и с надеждой на вас». Тогда дядя не вытерпел, заплакал, обнял брата и сказал: «Я уже давно приготовил вам, В. О.». Прощаясь с нами, все утешал горько плачющию мать, говоря, что «я на Рождественской вокать приеду домой. Пожалоста не плачьте. Я только уезжаю на четыре месяца». Между тем судьба так постановила, что и во всю свою жизнь ни разу не приехал домой и в свой родной город.
Домик продали тогда, когда я выходила замуж, хотя он и сейчас стоит такой же маленькой, только немного оправленной. Мать после меня перешла жить к тому же дяди или к своей сестре. В последние мое свидание с братом, он говорил мне: «Да, Лиза, большой грех лежит на моей душе, что я не мог прикрыть матери глаза. Я знал из писем дяди, что она была больна и не мог поехать».— Напишу еще немного, что помню из его писем, которые он нам писал из Москвы, когда здавал екзамен. «Когда взошол я в такой большой зал, меня сразу охватила робость: смотрю некоторые личности очинь хорошо одеты, в пенсне с блестящей оправой, при чесах и при клычках (так он называл воротничьки крахмалиных сорочек). Смотрю и думаю: не профессора ли это? А потом, когда начался екзамен, смотрю, что эти господа явились сюда за тем же, как и я. Тут немного я ободрился. А когда их начали вызывать и спрашивать: некоторые из них молчат; тогда обращались ко мне, говоря: «Ключевской! Отвечайте вы». Так и пошло далее. Тут уже
я и вовсе вздохнул посвободнее, думая: «такие то вы господа при пенсне, а молчаливыя». Трудно ему было первой год жить в Москве: из дому посылались только малые гроши. После уже пришлось мне слышать от матери (жены его)9 покойной А. М., что он дня по три был без чая, и много дней таких проходило, которые был без обеда. Великим трудом досталось ему сделать бессмертным свое имя.
Еще напишу из разказов бабушке10. Когда он был маленькой, лет двух, любил очинь сказки и з таким большим вниманием всегда слушал их, если пропустишь слово или два, он сейчас скажит: «Это не говорили»; и если перипутаешь слова, он тоже заметит, что это не так. Бабушка его всегда звала так: «Бокалаврушка ты мой». Даже когда провожала в Москву, говорила: «Прощай, мой милой бокалаврушка. Я больше уже тебя не увижу». Но он и ее утешал, говоря, что скоро приедит.
Больше этого, что написала о дорогом моем брате, я еще сказать нечего не могу. Относительно фотографии (еских) карточек, когда он был еще молодым снят, то эти во время пожара у меня погорели. Одна карточка сохранилась, было снята еще, когда он был семинаристом. Но к моему сожалению покойная Анисия Михайловна попросила у меня ее переснять, но не поспела сделать этого до своей внезапной кончины. Сейчас посылаю две карточки, какие только у меня есть.
Я еще припомнила немного из нашей жизни. Я писала только мрачною ее сторону, но были иногда и светлые дни для нас. Были у нас знакомые дома, где были товарищи брата, и мы в зимние вечера иногда собирались и играли в проферанс; только не на денги, а на орехи. Брат иногда танцовал кадриль, потому что он любил этот танец. За неграмотность прошу извинить.
В.П. МАЛОВСКИЙ
Воспоминания о В. О. Ключевском
Ваше превосходительство, милостивейший государь!
В ответ на ваше лестное для меня приглашение сообщить свои воспоминания о пребывании недавно скончавшегося знаменитого ученого Василия Осиповича Ключевского в Пензенской Духовной семинарии для освещения его личности, имею честь почтительнейше объяснить вашему превосходительству, что в семинарии я не был наставником Василия Осиповича,— в этом случае моя фамилия ошибочно смешана с фамилиею любимого В. О. Ключевским наставника по семинарии Степана Васильевича Масловского1, бывшего в то время преподавателем Философских наук, предметом которого он, Ключевский, при своей особенной склонности и расположению к Истории и Исторической литературе, не менее усердно занимался предпочтительно пред прочими предметами. Должно быть у этого наставника к Ключевскому и обратно была какая-то особенная симпатия. Так, помнится мне, от одного из товарищей В.О. Ключевского, я слышал, что однажды Ст. В. Масловский, всегда ровный, тихий, спокойный, пришел в класс на урок с заметною ажитациею и одушевлением и положив на стол связку прочитанных им накануне сочинений учеников (классный экспромт) на тему по Психологии довольно замысловатую и содержательную, ничего не говоря, подошел к Ключевскому и, положив ему свою руку на плечо, сказал вслух всего класса: «Ну, г. Ключевский, вы свое сочинение написали во всех отношениях так прекрасно, что я так не написал бы».— Что касается моих отношений к Василию Осиповичу, то о нем в моей памяти сохранилось лишь о том, как в 1854 году с половины января и до июля он готовился к экзаменам с репетитором2, когда он был учеником среднего отделения Пензенского Духовного училища, а я учился в высшем отделении
того же училища. Несмотря на то, что В.О. Ключевский имел от природы хорошие способности, уроки, особенно по древним языкам (Латинскому и Греческому), начинавшимся с этого класса училища, давались ему очень трудно. Но причина тому заключалась не в способностях, а, во-первых, в способе преподавания, состоявшем только в задавании уроков, и во-вторых, в том, что ему очень препятствовал выражать свое знание заданных уроков, особенно по языкам бывший в его детстве природный недостаток — сильное заикание, — косноязычие. При ответах уроков даже по русским предметам он до того резко заикался, что наставники тяготились им и не знали, что делать с его косноязычием; исключить же его им было жалко, ввиду заметных его способностей. Но жалче всех видимая малоуспешность В. О-ча чувствовалась его матерью. Чтобы поправить сколько-либо дело, болевшей о нем сердцем матери пришла благая мысль попросить отца смотрителя училища, чтобы он поручил ее сына, для репетирования по Латинскому и Греческому языкам, кому-либо из учеников высшего отделения училища. А так как В. О. Ключевский был сирота, а мать его беднейшая вдова, то репетирование его не могло быть платным. Довольно сказать, что она не имела средств покупать для вечерних занятий своего сына даже сальных свечей, и потому каждодневно весь вечер пред ним горел так называемый ночник, т. е. стаканчик с конопляным маслом (керосина в то время здесь в продаже еще не было). «Ах, как я боюсь,— говорила однажды мать Василия Осиповича,— за своего Васиньку: каждый вечер он лежа далеко за полночь все читает книги при ночнике, ставимом им на кровати у самой головы; заснет вдруг и может сгорать от опрокинувшегося ночника. Вот и жду, когда он уснет, чтобы погасить огонь».— Было очень радостно за Василия Осиповича, что согласился на просьбу его матери о. смотритель и устроил дело так, что один из лучших учеников высшего отделения училища добровольно взялся репетировать Ключевского в его уроках по Латинскому и Греческому языкам и арифметике. Таким образом, в течение пяти месяцев, начиная с половины января 1854 года и до половины июня, т. е. до самого начала экзаменов Ключевский ежедневно готовил как новые, так и повторительные уроки по сказанным предметам под руководством знатока оных, взявшегося за это не по приказу, а по доброй воле, и благодаря этому способу, т. е. живой и понятной репетиции, он, при своих отличных способностях, все положенное к изучению в среднем отделении Духовного училища по программам Арифметики, Латинского и Греческого языков усвоил очень легко и так отчетливо, что,
за свои блестящие ответы, в составленном после экзаменов переводном списке он, Ключевский, оказался в числе перворазрядных учеников. Замечательно, что эта непродолжительная по времени, но живая и целесообразная по методу и приемам подготовка Василия Осиповича к переводному экзамену не осталась бесследною для дальнейших его учебных занятий: по переходе в высшее отделение Дух. училища, Ключевский по всем предметам занимался уже самостоятельно и в знании прежде совсем непонятных для него предметов (Арифм., Лат. и Греч, языки) достиг такого совершенства, что, при поступлении в первый класс Духовной семинарии, своими ответами на приемном испытании на всю экзаменационную комиссию произвел изумительное впечатление.— По душе своей ученик среднего отделения Пензенского Дух. училища Василий Ключевский был мальчик мягкосердечный, кроткий, ласковый, религиозный, любопытный и внимательный.— Вот, что сохранилось у меня в памяти о Василии Осиповиче Ключевском из времени его учения и воспитания в Пенз. Дух. училище (1853-1856 гг.).
А. А. РОЖДЕСТВЕНСКИМ
Воспоминания о В. О. Ключевском
Ключевский! Как много напоминает мне этот звук,— он приводит меня в какой-то непонятный самому мне благоговейный трепет. Причины сему будут, хотя кратко, изложены ниже.
Неоценимый товарищ наш В. И. Ключевский стал известен мне с семинарии (мы учились в разных училищах: я в Краснослободском, а он, г. Ключевский — не могу иначе назвать его,— в Пензенском).
Семинария наша в то время состояла из трех классов,— с двухгодичным курсом; назывались они: Низшее отделение (нынешние — первый и второй классы); Среднее — (нынешние — третий и четвертый) и Высшее (пятый и шестой классы). Кроме того, Низшее отделение имело два отделения — первое и второе. Г. Ключевский был во втором отделении, а я в первом*. Отсюда началось мое знание о г. Ключевском.
Товарищи мои — квартиранты,— классники г. Ключевского очень и очень часто, возвращаясь с квартиры, говорили, приблизительно: «да Ключевский голова», «Ключевский с великими мозгами», «умен Ключевский!» И многие другие похвалы.
Первый факт, выдвинувший Ключевского, был следующий: самое первое сочинение дано было написать период условный (на какую тему не помню**). По словесности в том отделении был профессор Василий Михайлович Розов2 (впоследствии вызванный в ректора в г. Чернигов). Как лучшее, сочинение Ключевского было прочтено самим Розовым. По прочтении этого периода, г. Розов,
* Эти, по нынешней терминологии,— параллельные классы были только в 1866-1868 г., а с осени 1868 г. отделения соединены были в одно. См. выше стр. 97 и след. 180 и след.1
** См. выше стран. 108 и след., 140 и след.3
подавая оное г. Ключевскому, сказал: «На, Ключевский, твой период! Ты своей головы не сносишь».— «Что такое, что такое»,— посыпалось сильным шепотом учеников. «Этот период, сказал В. Мих. Розов,— может написать только ученый Богослов». Что выразил своим ответом г. учитель: предупредил ли г. Ключевского поберечь свою голову или что другое, предлагаю решать другим. С подобными сему событиями прошел весь наш курс низшего отделения семинарии. Перешли мы в Среднее отделение, и здесь-то начались важные — низкие события с нашим всем любимым товарищем г. Ключевским.
Прежде, чем говорить о приключениях с Вас. И. Ключевским, нахожу нужным сказать о его великом характере, который он мог соединить, гармонично, с своим умом.
Василий Иосифович Ключевский, по своей наружности, был незавидный, как принято выражаться, не солидный. Но когда он пожелает с кем-либо говорить, или увидит желающего с ним говорить, то в нем моментально является какая-то непонятная магнетическая сила, заставляющая, как-то поневоле, полюбить его. Силу эту один раз испытал и я. Случай к тому был очень простой. Это было в Низшем отделении. Идет г. Ключ(евский) по классу от двери с товарищем Петром Аристидовым (первый ученик Нижнеломовскоо училища, умерший в Среднем отделении) и очень важным тоном спросил меня: «Почему это Краснослободские ученики с первого взгляда узнают корень всякого кубического числа?» (В руке у г. Ключевского была арифметика Куминского4). Я постарался, сколько мог, вежливо попросить из рук его книгу и, переворотив несколько листов наперед, на табличку, определяющую корень, квадрат и куб. Г. Ключевский тогда, воскликнув, сказал: «Вот в чем секрет!» И вежливой улыбкой с кивком головы отблагодарил меня. С той минуты во мне зародилась любовь и уважение к г. Ключевскому.
В Пензенском училище был ректором (предметов он не преподавал) прот. Андрей Лукич Овсов5. Арифметику он называл, как говорили, железным предметом, и не любил эту науку. Причины сему неизвестны. А поэтому и учителя не проходили, вероятно, всю программу, а более всего обращали занятие на изучение языков — латинского и отчасти греческого, считавшимися главными предметами. И, действительно, пензяки отличались пред другими большим знанием латыни. Ученики же Краснослободские были с средним знанием всех предметов и заметно в семинарии занимали серединное место.
Далее пойдет семинарская биография г. Ключевского.
Вот мы в следующем классе — Среднем отделении, где нас соединили в одно из прежних двух отделений. Начинаем знакомиться с новыми, интересными науками — логикою и психологиею, которые считались главными предметами; а главные предметы играли такую роль, что составленный по ним список ученических успехов был фундаментальным; списки же по другим наукам не были особенно предпочтены. Преподаватель мудрых наук — логики и психологии был протоиерей Аврамий Павлович Смирнов6.
Аврамий Павлович имел привычку трунить особенно над слабоватыми, по науке, учениками, и был особенно доволен, когда видит других учеников улыбающимися. Улыбались-то ученики улыбались, но только не над товарищем осмееваемым, а над выходками о. Аврамия, находя их, хочется назвать глупыми, не современными. Г. Ключевский от таких любезностей отворачивал взоры, что не мог не заметить наш «Философ» — отец Аврамий. Это предположение, думаю, и оправдалось. Из какого народа был о. Аврамий, мне неизвестно: белоросс не белоросс, хохол не хохол7. Некоторые слова его речи были какими-то инаковыми; произносил он: гляз (глаз), слядко (сладко), а для иных слов, чтобы выразить его акценс, не подберешь букв в русской азбуке. По преподаванию логики и психологии в особенности о. Аврамий был далеко не на своем месте. Преосвященный Варлаам8, с самого поступления в Пензу, заметил неспособность о. Аврамия в преподавании этих великих наук и давно хотел заменить его другим преподавателем, но не находил кем. Но наконец нашел лучшего преподавателя в Стефане Василиевиче Масловском9, который и заместил место «Философа».
Привыкший унижать насмешками слабоватых учеников, «Философ» отец Аврамий задумал осмеять и В. И. Ключевского и искал к тому случая. Случай к тому, по мнению Аврамия, представился. Был один случай, когда Ключевский несколько минут опоздал в класс, так что о. Аврамий, по прочтении молитвы, успел сесть на кафедру и готовился спрашивать уроки. Пришел Ключевский и, сотворив крестное знамение, а потом поклон учителю, прошел сесть на свое место. Садясь на место, он скромно подал руку рядом сидевшему товарищу. Заметив это, о. Аврамий принял за удобный случай осмеять Ключевского; но осмеяние, как оказалось, возвратилось на самого осмеявшего: наткнулся, как говорится. «Ште это вы, драконы штоли какие сошлись, редко видавшиеся, и начали дружиться»,— начал смеяться о. Аврамий,
глядя на других учеников и желая увидеть улыбку их (так любил он всегда); но никаких даже признаков улыбки и ни на ком, к прискорбию своему, не увидел. На выходку эту (со стороны Аврамия) г. Ключевский весьма вежливо ответил (приблизительно): «Подать руку товарищу я нахожу делом правил братских любви и вежливости, и притом же я не учинил никакого шума или соблазна какого». Заговорил было что-то еще о. Авр (амий), но выходило все невпопад. Сконфуженный о. Аврамий прекратил свою глупую речь, выразив злобу на своем лице.
Злоба Аврамия на г. Ключевского росла. Но самая большая виновница его злобы была нижеследующая: наш «Философ» — Авраамий Павлович, говоря о силах и способностях души человеческой, часто упоминал о кошке: «Вот кошька, как она схвать мишку», и при этом сказании театрально и всем движением своего тела, и особенно руки, представит из себя кошку, схватившую мышь. И по такому его объяснению выходило: кошка служила каким оригиналом, авторитетом души человеческой. Сравнение или какое-то превосходство, по толкованию о. Аврамия, души кощчей с душою человека возбуждало улыбку, или, вернее, смех и в учениках средних и низших, нравящийся о. Смирнову, заставляло г. Ключевского, как помнится, отвращаться, и едва ли не затыкать уши. Сделать какой-либо вопрос и возражение, если кто вздумал, было бы равносильно обречению себя на погибель.
При этом невольно вспоминается: какой-то из питомцев Пензенской семинарии, фамилия — по преданию, Надеждин, описал семинарию нашу, конечно, не нынешнюю, в стихах. Описание читано было еще в Красн(ослободском) училище. В памяти моей кое-что. о. ректор Евпсихий10 изображен под именем моськи, всегда и на всех лающей и визжащей. В печати этих стихов никогда не видел, но в рукописях они были у многих. Об Аврам(ии) Павловиче, как помнится, написано: «Тссс. Философ. Палец к носу. Всякий премудрости внимай. Своего же дать вопроса никто в свете не дерзай».— Охарактеризован о. Авр(амий) верно. Действительно, он никогда не вынесет никакого возражения. Бывали случаи, по сказанию наших предшественников по курсу семинарии, находились смельчаки, решавшиеся сделать возражение (а может, о кошчей душе); но всегда, о ужас! «Философ» моментально спрыгнет с кафедры и, весь раскаленный злобою, неистово закричит: «Поди, поди, садись на кафедру! — Ты ныне профессор, ты ныне профессор»! Зная эту выходку, и г. Ключевский, вероятно, воздерживался от возражений.
Злоба Аврамия Павловича на Ключевского созрела до последней высоты еще по следующей причине: г. Ключевский, разговаривая с товарищами, когда дело касалось Авр(амия) П(авловича), говорил, приблизительно: «Это кощачий психолог,— только и разбирать бы кощчии души, а не человеческие». Слова эти быстро разносились между всеми товарищами, беспримерно любящими Ключевского. Весть о кощачьем психологе не могла не дойти до самого Авр(амия) Павловича, тем более: дети о. Аврамия, как помнится, Димитрий и Иван, без труда могли узнать все об их отце и передать ему.
Пресловутый «Философ» о. Авр(амий) готов был разразить В. И. Ключевского, но опасался, как бы не потерпеть самому крушения, ибо в голове Ключевского было мозгов едва ли менее его, а вероятно, поболее. Придраться к Ключевскому он не мог, ибо Ключевский был во всем и всегда аккуратен. К тому же и время подходило к переводу нашего курса в следующий класс. Но оставить или умерить своего зла против Ключевского о. Аврамий никак не мог.
Последний — переводный экзамен покончился. Мы все ожидали объявления переводного списка, чтобы с чем-либо отправиться по домам, но его почему-то не было. С смущенным духом мы разъехались. Более других скорбели ученики послабее, в числе коих был и я — многогрешный. Не могу промолчать: мой соквартиранта, окончивший в то время полный курс,— Василий Григорьевич Казанский, зная о моей скорби (притом было тогда семейное горе,— отец мой был переведен в другой — худший приход), поспешил уведомить меня и утешить, что я переведен.
По возвращение в семинарию, после летних каникул, первым делом было узнать переводный список. И при первом взгляде все ужаснулись.— Г. Ключевский записан к концу первого разряда. Всем тогда бросился вопрос: не учинил ли Ключевский какое-либо важное преступление? Но с этим вопросом трудно было помириться, ибо все знали, что Ключевский примерный во всех отношениях товарищ. Пошли опросы, справки и все, что способствовало к узнанию причины. Наконец выяснилось, что виновник всей этой катастрофы был почтеннейший Аврамий Павлович Смирнов.
Представляя список учеников (переводный), протоиерей о. Авра-амий не постыдился записать Ключевского во втором разряде. О. ректор Евпсихий, увидя список, пришел в волнение: «Как это, как это! Разве можно Ключевского так унизить?» Аврамий в оправдание свое только и отвечал: «Он задачки опаздывал подавать». Конечно, и несомненно,— это была недобросовестная ложь.
Ключевский всегда и все делал аккуратно и исправно. — Упрямство мог поддержать тем еще Смирнов: злой Бурлуцкий”, инспектор семинарии, и Константин Э. Смирнов, а также о. Аврамий были женаты на родных сестрах — родственницах (говорили,— племянницах) архиерея Амвросия12. А поэтому партия Аврамия была сильна. Но были и защитники Ключевского, и поэтому уломали Смирнова Авр. согласиться оставить Ключевского в первом разряде.
Этим — последним событием с нашим, всеми любимым, Ключевским были все его товарищи огорчены и обижены. Г. Ключевский достойно занимал первое место. По моему маленькому мнению и многих моих товарищей, если бы список был написан по уму учеников, то от Ключевского до следующего ученика, разумея легкую постепенность, нужно бы в средине записать от 2-5 учеников. Этим я не хочу и не могу сказать, что следующие ученики — Гвоздев Порфирий13, Степан Парадизов14 были недалекие,— нет; но Ключевский много их превосходил. Он, по уму и доброте, целою грудью, как Саул ростом пред своим народом, стоял несравненно выше всех. Уважая его, некоторые учителя молодые, при встрече с Ключевским, подавали ему руку.— Он стоил того. Ключевский между нами был какой-то Соломон. Недаром ему дали кличку: Филарет. Он никогда не гордился своим умом; со всеми своими товарищами он был одинаково любезен; никому преимущества своею любовью и ласковостью не являл. Для (него) все были одинаковы; на похвалы, приносимые ему товарищами, отвечал только братскою улыбкой. Чтобы достойно восхвалить дорогого Ключевского, я не могу подобрать слов.
Сейчас только вспомнился мне один случай: будучи в Среднем отделении, у нас была задача по предмету Степана Васильевича Масловского на тему «Взгляд на друзей Иова»*. Конечно, сочинение Ключевского было лучше всех других. Лучшие сочинения прочитывались в классе. Вышеупомянутое сочинение читал сам Ст. В. Масловский. С первых слов чтения мало было обращено внимания, но вскоре все встрепенулись. Начался перешепот: «Кто это написал?» «Чье это сочинение?» и проч. Сидевший близ меня Василий Александрович Добросердов сказал: «Кроме энтого Филарета,— указывая на Ключевского,— кто же может другой так написать». Ст.В. М(асловский) продолжал читать. Все ждали конца. По прочтении всего, Ст. В. подал сочинение Ключевскому и просил Ключевского написать еще два экземпляра этого сочи
* См. выше, стр. 19415.
нения. Лучшие сочинения писались в двух экземплярах: один, копия, представлялся о. ректору, а подлинник отдавался аф-тору. Впоследствии оказалось, что один экземпляр сочинения Ключевского Ст. В. М(асловский) оставил себе.
Скромный Ключевский как умом не гордился, так не жаловался на учиненную жестокую обиду. По крайней мере, я ничего не замечал. Начали заниматься. Ключевский хотя исправно посещал семинарию, готовил уроки, но как-то нехотя. В лице заметна была маленькая задумчивость. Вообще много изменился. Я видел только один случай, когда Ключевский развеселился. Дело было так: профессор Михаил Митрофанович Попов16, рассказывая о чем-то (не помню), сказал (по науке это так): «Климат имеет влияние на поэзию». Нужно сказать, что г. Попов считался довольно умным учителем, начитанным. На язык он был довольно развит. Один раз, на экзамене ар(хи)еп(ископ) Варлаам, несмотря на свою гордость, сказал Попову: «Да, язык у тебя развит». Г. Ключевский вздумал или пошутить, или помериться силою ума с Поповым,— не знаю, что верно,— начал опровергать. Завязались прения, но прения были не враждебных лагерей, но научных. Не было ни в одном из спорящих ни горячности, ни злобы. Колокольчик прозвонил 12, но никто не тр (он) улся с места,— все заслушались. К нашему тогда несчастью, был послеобеденный класс: нужно сходить покушать, подновить урок и проч.; кроме того, квартиры многих учеников были версты, пожалуй, за две и более. Поэтому мы стали, с великим прискорбием, понемногу расходиться, но все сильно желали дождаться победителя. Если бы не вышеизложенные причины, думаю, многие просидели до вечера. Расходясь, товарищи сказали Ключевскому (по дружбе): «Шут тебя знает, откуда брал слова и примеры!» В ответ на это Ключевский с любовью, обычною у него, только улыбнулся.
Прошла длинная треть. (В наше время был экзамен пред Рождеством.) Начался экзамен. Ключевский хотя и отвечал, но отвечал как-то вяловато, нехотя. Кончился экзамен. И в тот же день Ключевский подал прошение об увольнении его из семинарии. Выход его из семинарии многие объясняли и разно: одни говорили, что давно желал уйти из семинарии, ненавидя духовное звание; другие — что он желает высшего образования; но, по моему мнению, Ключевский не мог далее претерпевать нанесенной ему обиды. Итак, Ключевский уволен, и духовное ведомство лишилось драгоценнейшего перла. Желательно было тогда знать: насы(ти)лась ли злоба Аврамия Смирнова? Удовлетворена ли гордость? Но ненависть к нему и презрение остались надолго.
Несмотря на свою сдержанность, все-таки по получении семинарского свидетельства, показывая оное товарищам, сказал, указывая на отметку по латыни: «Вот как нас аттестовывают». В аттес(та)те стояла отметка: «хорошо». Отметку «хорошо», вероятно, поставил тот о. Аврамий, ибо он был последний пре(по)даватель латыни.
При разлуке с дорогим Ключевским все его товарищи просили прислать письмо о сдаче им в университет экзамена. Письмо это, по обещанию Ключ (евского), в свое время было получено и прочтено всем с кафедры. Письмо составляло целый большой почтовой лист убористого письма; из содержания его твердо помнится (приблизительно, но верно) следующее: «Сдавая экзамен по Всеобщей истории, хронологию я определял столетиями, полстолетиями и четвертями века, но дело сошло настояще; по математике решал такую-то (не помню, какую) Бинома Нетона* и, по окончании решения, сказал своему экзаменатору, что такое-то такому-то не равно, чем намекнул ему, что задача дана неправильно. Сочинение у нас было на вольные темы. Я желал описать семинарский быт, но жалел, что, за краткостью времени, не мог написать о том, как живут семинаристы собою. В этом сочинении мне была от цензора сделана легкая заметка, но, когда я увидел, что на верхнем углу стоит 5+, удержался ответить, что вы (цензору) говорите неправдиво. По Церковной истории был экзаменатор владыка, как помнится, сам Филарет, Московский митрополит. Спрошен я был о седьмом Вселенском соборе. Что мог и как мог, я отвечал. По прошествии недолгого времени я вызван был отвечать по катихизису. Владыко спросил меня только: “В какой семинарии я получил первоначальное образование”? Мой краткий ответ был: в Пензенской. За такой ответ владыко поставил мне 5+. Потом, обращаясь ко всем присутствующим, сказал: “Вы, гг., несомненно, подумали, что такую отметку я поставил Ключевскому по ка(ко)й-либо секретной причине? — Нет. Не прошло часа, как этот Ключевский отвечал о седьмом Вселенском соборе; сказать так и столько — не более, могу только я сам. Если он столько наговорил о с(едьмом) Вс(еленском) соборе, то в знании им катихизиса я не имею никакого сомнения”. Катихизис был самого Филарета. Все присутствующие экзаменаторы вежливо выразили видом своего лица и легким поклоном: “Верим вам во всем и не желаем противоречить”. — Если письмо такого содержания было не В. И. Ключевского, то все мы сказали бы: “Хвальбишка, лгун”» 17. Мне 75 лет. И до сих пор я жалею, что не снял копии с этого письма.
Т. е. бинома Ньютона.
Время шло. Воспоминания о Ключевском стали испаряться. По поступлении на должность, я слышал от одного товарища, Михаила Евграфовича Доброхотова, что Ключевский оставлен при Московском университете, корректор исторических сочинений, пишет историю Русского государства, и только. Жизнь моя текла обыденным порядком. Но вдруг вспыхнула у меня память о Ключевском. Лет через десять после видания г. Ключевского, ко мне приехал двоюродный брат, студент Пензенской семинарии, Порфирий Иванович Зарин (и моя фамилия должна бы быть Зарин). По окончании курса, брат не мог иметь где-либо приюта, кроме меня. Матери он не имел от младенчества, отец его ютился в монастыре. При разговоре с ним, речь коснулась Ключевского... У ректора семинарии, Степана Васильевича Масловского, была какая-то семейная пирушка, гости его разговорились о учености и умных людях. Ст. В. М(асловский), слушая их и пригнушивая (он немного пригнушивал), сказал: «Вы что расхвалились?.. Погодите-ка»... И быстро удалился в свой кабинет. Спустя немного минут, он вернулся с тетраткою и, подавая спорящим, сказал: «Нате вот... Понюхайте!» Едва только гости начали читать, как послышались звуки удивления: «Эх, кто это! Кто это?» — «Это был мой ученичок, и это написано еще вот когда»... Оказалось, что сочинение было Ключевского на тему «Взгляд на судей Иова», о котором я упоминал выше.
Прошло еще несколько. В «Пензенских епархиальных ведомостях» 18 в одном № перечисляются все дельцы, вышедшие из Пензенской Духовной семинарии; упоминались Ильминский19 и многие другие, коих фамилии не помню. Последним был упомянут В. Иос. Ключевский. Какой-то необъяснимый жар приступил ко мне при этом: — Ключевский! Спешу читать. И, о Бог ты мой! Какая ложь, какое скрытие истины! Ключевский слабо учился в училище, его готовил В. П. Маловский20, а иначе он был бы исключен. Может быть, что на первых уроках это и правда была. Но, по сказанию его товарищей (помню Николая Петровича Ирисова, с коим я, будучи в семинарии, часто говорил о Ключевском), Ключевский всегда учился хорошо; но выдвинуться до первого места ему мешала косноязычность: он заикался. Случай к его возвышению и обращению на него учителей был следующий. На экзамене по латинскому языку случилось очень трудное место (вероятно, стихи), так что никто из учеников, сколько ни бились, никто не мог перевести. «Кто переведет,— крикнул звучным голосом Андрей Лукич Овсов,— первым запишу!» — Зная твердость и исполнительность
сказанного Овсовым, Ключевский встал и отлично перевел. Итак, Ключевский — первым учеником. — Далее, читая в «Епархиальных ведомостях», меня взяла злоба. Ключевскому хотелось скорее поступить в университет, а потому он поспешил скорее уволиться. А спросить бы: почему же не уволился скорее, по окончании последних дней Среднего отделения, а проучился лишнюю треть в Высшем отделении? — Далее: высокопроосвященнейший Варлаам21, благословляя выход Ключевского из семинарии, напутствовал его всякими благожеланиями. Затошнила меня эта ложь. По сказанию самого В. И. Ключевского, Варлаам, как только получил сведения об увольнении Ключевского, позвал его к себе и, сколько мог, на-ругал его, что оставляет духовно-учебное заведение, упрекал в неблагодарности, грозил взыскать с него всю сумму пособий, начиная с училища. Какую сумму пособия получал Ключевский в училище, я не знаю, но в семинарии он получал самый высший оклад, как помнится, сорок рублей в год22. Возвратиться в семинарию Ключевский отказался наотрез. Относительно возврата пособия приблизительно ответил: «Я сирота, содержался и содержал еще мать (еще кого-то, не помню) платою за уроки; старался, насколько мог, учиться, а поэтому имел не(ко)торое право на пособие; если уже законно требование возврата пособия, то я уплачу, когда буду иметь возможность, поступлю на должность. А теперь я ничего не имею». Тем и кончились напутствования и благожелания Ключевскому от святого владыки.— А об обиде Ключевскому нигде ни слова.
В заключение всего нахожу нужным сказать кое-что о в(ысо-копреосвященном) Варламе, Авраамии Смирнове, Бурлуцком, Масловском.
Преосвященный Варлаам был нрава сурового, старинного закала, горд. Умнее себя, честнее, правдивее, целомудреннее и проч, никого не считал. Все у него дураки. Нередко за эти лже-сознания приходилось ему кое-что и самому выслушать. Любезное слово его было: «Ну, негодный! Скажи-ка о том-то». Если что доброго о нем можно сказать, то только: он не доверял оо. благочинным; можно оправдываться пред ним обвиняемому, он все выслушивал терпеливо: «Говори мне всю правду: я знаю, что меня могут обманывать»... Пожалуй, и только. В семинарии его не любили: никто, думаю, не будет отрицать, что учиться нелегко. Когда ему представят переводные ученические списки, он не оставит их без изменения, а своею властною рукой отчеркнет скобою: из первого разряда во второй, из второго в третий и т. д. Зло это рождало и другое. Полюбленные учителями или их (ро)дственники всегда к тому
времени записывали(сь) выше, а истинно достойные опускались. Зла было много. Пред окончанием нашего курса была читана речь, в коей излагались наши долголетние труды... и просилось, чтобы наш курс был выпущен без третьего разряда. Речь говорил Степан Парадизов. Написана она была умно и содержательно. По прочтении речи Варлаам сопнул и сказал: «Да, воно они что вздумали!» И отчеркнул, как видно было, еще больше.— По обозрении епархии старался почти всех оштрафовать деньгами, обзывая всех, даже заслуженных, дураками. Поступающим на места всегда навязывал сирот в жены, а иначе и мест не давал. Несогласившиеся на его желание, даже студенты, года по три и четыре ходили без священнических мест. Несомненно, чем его отблагодаривали... Переведенный из Пензы в Тобольск (железных дорог тогда не было), ему пришлось попроситься ночевать к священнику, но тут ему пришлось выслушать благодарность по заслугам...; в конце сказано: «Мы лучше пустим всякого татарина, нежели тебя. Ты нас замучил». И он д(олжен) был ехать далее.
Аврамий Смирнов был перемещен на предмет Св. Писания. Появившись на первый урок (в Высшем отделении), он начал было строить, по привычке, насмешки, но тогда начали ему кричать: «не смешно», «мы не желаем слушать такие глупости». И больше к нам он не являлся. Много нужно бы написать о Авр. Смирнове, но нет времени. Неудачею своих комедий он до того раздражался, что, убегая из класса, надевал камилавку вверх дном, стукая себя в маковицу, чем возбуждал всеобщий смех.
О Иакове Бурлуцком сказать доброго нечего. Он напрасно исключал учеников, как-то: Ивана Никольского, Степана Яковлева Покровского и многих других.
От души можно всегда вспомнить только о добрейшем Степане Васильевиче Масловском, но писать о нем и некогда и это не относится к делу о В. I. Ключевском.
Прошу извинить меня: я не писатель и не оратор. К тому же стар и слаб зрением. Факты, изложенные здесь, правдивы.
Н.П. НЕЧАЕВ
<Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского в Александровском военном училище>
В 1863 году произошло преобразование кадетских корпусов — через выделение специальных классов во вновь учрежденные военные училища. В Москве было открыто 3-е военное Александровское училище, начальником которого был назначен полковник Борис Антонович Шванебах1, человек высокообразованный и гуманный. Учебное дело в училище было им поставлено высоко. Профессора Московского университета были приглашены лекторами. Преподавание в училище приняло характер университетского — были чтения аудиториальные в младшем и старшем классе — по всем предметам. Практические занятия велись по классным отделениям. Были введены и репетиции, которые представляли собою ряд непрерывных поверочных испытаний определенных частей предмета. Репетиции велись по вечерам — по заранее составленному расписанию для каждой группы репетирующихся.
В разное время лекторами состояли профессора: по истории — Соловьев, Герье2, Ключевский; по военному законоведению — Капустин3, Боголепов4; по статистике — Бабст5, Чупров6, Янжул7; по химии — Лясковский8. Подчеркнутые были только лекторами, а остальные вначале репетиторами, а затем и лекторами. В. О. Ключевский был и тем и другим. Училище того времени представляло как бы факультет Московского университета. Начальник училища Б. А. Шванебах, будучи по образованию военным инженером, специально занимался историей и особенно интересовался этим предметом. Василий Осипович Ключевский преподавал в училище 17 лет (1867-1884), как было сказано, сначала в роли репетитора, а затем лектора, читавшего новейшую историю. Его чтения выделялись, они вызывали большой интерес, о них говорили; на них бывали и преподаватели. Особенно выделялись его
лекции о Французской революции. В. О. пользовался любовью слушателей — юнкеров, а также всеобщими симпатиями в преподавательской среде.
Он любил побеседовать в часы учительской перемены о злобах дня; но в этих беседах нас интересовало освещение вопросов с исторической точки зрения,— что он всегда охотно делал. Помнится, что он особенно указывал на значение роста современной буржуазии как на фактор, которому суждено сыграть крупную роль в наше время. Любил он и сам внимательно прислушиваться к речам собеседников,— и чем он заинтересовывался, то не стесняясь и заимствовал. Так, я твердо помню одну из своих бесед с В. О. Беседа шла на тему, мною вызванную, об общественных группах, сословиях и их взаимоотношениях в историческом ходе событий. Я выразил предположение о возможной аналогии этих взаимоотношений — с взаимодействиями различных частиц, атомов и групп атомов (радикалов или остатков), которые изучает химия,— указав, таким образом, сравнительно на метод химического изучения превращения веществ. В. О. очень заинтересовался моим сообщением и просил меня несколько подробнее ознакомить его с методом изучения химических взаимодействий, а затем просил указать ему на краткое руководство, по которому бы он мог ознакомиться с химиею, которая его заинтересовала.
В общем, у меня осталось о нем воспоминание как о человеке в высшей степени симпатичном, доброжелательном и скромном, но твердо и убежденно говорящим, и в то же время внимательно относящемуся и прислушивающемуся к чужому мнению. Он никогда не спорил, а беседовал.
Ник. Павл. Нечаев, бывший преподаватель Александровского военного училища, генерал-от-артиллерии.
7 мая 1912.
С.-Петербург.
В. А. ПЕТРОВ
<Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского в Александровском военном училище>
В период преобразований 60-х годов Милютиным1 и Исаковым2 была создана стройная система военно-учебных заведений. В ней центром тяжести были военные гимназии, снабженные хорошими средствами, богато обставленные в учебно-воспитательном отношении. Они вели свое дело спокойно и уверенно, проводя юношей более способных (а их было около 90%) через весь свой курс в военные училища.
Я по окончании 1-й Московской военной гимназии попал в Александровское военное училище, где слушал В. О. Ключевского и где впоследствии я был преподавателем и инспектором классов. Одна система, как бы она не была стройна, не может сделать учреждение полезным; нужна гармония и соответствие исполнителей с самой системой. Старые кадетские корпуса в свое время принесли пользу, но когда исполнители оказались в полном разладе с новыми требованиями жизни, то и учреждения сделались несоответствующими духу времени. Преобразователи кадетских корпусов хорошо это поняли и потому на выбор наставнического персонала военных гимназий и начальствующих лиц военных училищ было обращено большое внимание.
Во главе Александровского военного училища был поставлен полковник Борис Антонович Шванебах. В конце 60-х и в начале 70-х годов я, будучи еще гимназистом, часто посещал училище, где юнкером в то время был мой старший брат; тогда уже я начал проникаться мыслью попасть в это училище, хотя мои склонности к математическим наукам рисовали мне перспективу и Михайловского артиллерийского училища. После долгих колебаний я решил пойти на два года в Александровское училище, а на третий курс переве
стись в Михайловское артиллерийское, несмотря на то, что этим путем было труднее создать себе положение во время последнего года ученья перед производством в офицеры.
Когда я поступил в Александровское училище, то на смену Б. А. Шванебаха явился полковник Самохвалов3, бывший командир Самогитского гренадерского полка. От своего брата я начал проникаться атмосферой Шванебаховского периода, будучи же юнкером, сам дышал уже сильно разряженным ее состоянием и барометр предвещал переход от переменной погоды к дождям и бурям. Поэтому позволю себе коснуться и тех воспоминаний, которые складывались у меня за время пребывания в училище моего брата и лично своих.
Главный начальник военно-учебных заведений, генерал-адъютант Н.В. Исаков, пользуясь своими связями с Московским университетом как бывший попечитель учебного округа пригласил в Александровское военное училище лучших тогдашних профессоров. Около 20-ти преподавателей училища состояли профессорами или доцентами университета. Между ними встречались такие имена: С. М. Соловьев, Алексеев4, Капустин, Вейнберг5, Ключевский, Лясковский, Герье, Бабст, Чупров, Янжул, Стороженко6, Юркевич7. Постановкой учебного дела училище было обязано молодому тогда инспектору классов полковнику Юшенову8, а после него полковнику Алексееву9 (впоследствии директор Киевского корпуса, а потом состоявший при Главном управлении в.— уч. зав. в качестве инспектирующего кадетские корпуса генерала). Юшенов — энергичный, даровитый, настойчивый — давал полную свободу преподавателям и был очень требователен к юнкерам. Особенно было характерно в постановке учебного дела репетиторство: лекции читали профессора, а репетиторами были молодые силы, которые потом тоже заняли кафедры в университете и приняли лекции в училище от своих предместников; репетиторы посещали лекции профессоров в училище и составляли конспекты. Так, у профессора Бабста репетиторами были Чупров и Янжул, у Капустина — Боголепов 10, у Соловьева — Ключевский и Герье. Много времени спустя некоторые питомцы училища свежо помнили характеристику России до и после Петра Великого, сделанную Соловьевым; лекции Капустина о гармонии государственных сил надолго врезались в память слушателей. Лекции таких корифеев науки глубоко западали в душу молодых людей и в течение всей жизни влияли на склад понятий.
Рационально были поставлены не только репетиции, но и практические занятия. В корпусах* на это мало обращалось внимания, поэтому в году мало занимались, откладывая все до экзамена, а на экзаменах рассчитывали на счастье. В училище приходилось работать целый учебный год. Серьезность требований, необходимость постоянного труда, вместе с общим строем жизни в училище, отлично способствовали тому, что скоро забывалось все старое корпусное отношение к делу.
Впоследствии многие питомцы училища узнали, что за время конца 60-х годов были доносы на училище политического характера; однажды ночью после обыска был увезен из училища юнкер. Для этого не было оснований: политических партий в училище не было, но разговоры и рассуждения на политические темы между молодежью, как и всегда, были и тогда.
Проникали в училище и запрещенные книги; многие читали «Былое и думы» и. В училище были партии с особыми взглядами и увлечениями, но их нельзя назвать политическими: это — украй-нофилы 1г, славянофилы13 и даже, как тогда говорили, нигилисты14. Украйнофилы встречались из южных кадетских корпусов. Они поражали великороссов своими претензиями на какой-то сепаратизм,— с ними спорили горячо, но это не имело никаких дурных последствий и не портило даже добрых товарищеских отношений.
Славянофильством тогда увлекались многие, но не ясно отдавали себе отчет в его сущности. Между прочим, и у меня до сих пор стоит в библиотеке собрание сочинений И. С. Аксакова15, как след увлечения славянофильством в конце 70-х и в начале 80-х годов. Эти увлечения, будучи совершенно невинными, носили даже симпатичный патриотический характер. Что касается нигилизма, то хотя были Базаровы и Рудины, но этот тип был мало заразителен в училище. Между прочим — А. П. Чехов в своих «Трех сестрах» нарисовал меткими штрихами Соленого, Тузенбаха с двух моих товарищей, которые служили в артиллерии в г. Воскресенске, где одно время жил и Антон Павлович. Мне не приходилось об этом с ним говорить, но узнать их в пьесе было не трудно.
Подобные литературные увлечения долго держались в стенах училища и много способствовали тому, что от старого кадетства не осталось и следов.
* В специальных классах кадетских корпусов.
Б. А. Шванебах пробыл в училище 11 лет, после он был назначен членом конференции Николаевской инженерной академии; но и оставив училище, он с теплым участием продолжал следить за его жизнью. Ежегодно с единодушным восторгом все служащие училища выслушивали приветствие в храмовой праздник от своего первого начальника, и в свою очередь он являлся таким же центром восторгов от бывших александровцев в Петербурге.
Веяния 70-х годов дали повод новому начальнику полковнику Самохвалову направить свое главное внимание на то, чтобы уберечь молодежь от опасных политических воззрений. Болезненно подозрительный, мало доверявший служащим и преподавателям, он иногда в самом пустяке, в самом невинном выражении мог видеть ложный взгляд служащего на дело воспитания военной молодежи или на его политическую неблагонадежность. Бывали случаи, что юнкер получал выговор, а преподаватель русского языка упрек, если в сочинении юнкер неодобрительно характеризовал полковника Скалозуба. Более всего эта подозрительность отразилась на преподавателях — профессорах университета, которые постепенно начали оставлять училище; если же кто продолжал занятия, то находился под строгим контролем; так, лекции Василия Осиповича Ключевского всегда посещал начальник училища. Михаил Петрович Самохвалов открыто высказывал свои взгляды служащим, каких бы деталей учебно-воспитательного дела они не касались; всегда в них чувствовалась система охранения. Молодежь он любил и ей всегда доверял. Юнкера пользовались своей читальней, в которой, кроме газет всякого направления, были и толстые журналы; среди них читались: «Дело»16, «Вестник Европы»17, «Отечественные записки» с благонамеренными речами Салтыкова. Эти журналы часто не допускались в читальни преподавателей классических гимназий, и я помню, что один преподаватель всегда забирался в училище много раньше времени его лекции. Он говорил, что «Вестник Европы» он не мог читать в соседней классической гимназии, т.к. он там находился под запретом; в училище он имел возможность его прочитать, для чего и приходил на час, иногда на два раньше своей лекции и не считал для себя это время потерянным.
Из всех корифеев науки, которых слушал в училище мой брат и с которыми я лично знакомился, ожидая их слушать в свою очередь, при мне остались И. И. Янжул и В. О. Ключевский. Последнего начальник училища не беспокоил своими беседами,
я думаю потому, что В.О. в то время был профессором только Духовной академии (в университете он сделался профессором в 1879 г.) и из трудов его были напечатаны только «Древнерусские жития святых как исторический материал». Это было достаточной гарантией полной благонадежности. Тем не менее в младшем классе училища тогда (1875-1880) читалось о состоянии Европы накануне Французской революции и до Франко-Прусской войны включительно; кроме того, как дополнительные статьи по русской истории: финансы России и система гр. Канкрина, Крымская война и реформы Александра II. Материала было слишком много, чтобы Михаил Петрович беспокоился за охраняемую им молодежь и особенно следил за лекциями о вступлении на престол Николая I. В. О. Ключевский это чувствовал и о декабристах почти не упоминал. Он так умело кончал лекцию, что, поставив к сигналу точку на кончине Александра I, в следующий раз переходил прямо к реформе Николая I.
На нас юных слушателей лекции Василия Осиповича производили сильное впечатление. Читал он всегда сидя, часто опустивши глаза к кафедре, по временам вздрагивающая прядь волос свешивалась на лоб. Тихая и плавная речь прерывалась едва заметными паузами, которые как нельзя кстати подчеркивали глубину высказанной мысли. При тех двух часах в неделю, которые отводились для лекций истории, В. О. давал слушателям лишь сжатый конспект, но какой это был конспект? В нем молодой историк, как в удивительно красивом узоре, умело сочетал краткие, но меткие характеристики политических деятелей со смелыми аналогиями и обобщениями в явлениях исторической жизни народов Европы. Его лекции прямо приковывали внимание молодых слушателей. Интерес к ним возрастал с каждым годом, и уже ко времени моего пребывания в училище многие юнкера заранее старались достать литографированные записки преподавателя, т. к. на всех юнкеров обыкновенно их не хватало. Я, более склонный к наукам математическим, которые потом и сделались главной основой моей специальности, зорко оберегал свой экземпляр от товарищеских поползновений зачитать и увез его из училища по окончании курса как дорогую мне память о лекциях В. О. И теперь иногда, переворачивая эти пожелтевшие листки для какой-нибудь справки, невольно увлечешься и прочитаешь несколько страниц этого краткого, но мастерски написанного конспекта. Впоследствии в 90-х годах, когда я был преподавателем Александровского в. училища, Вас. Осип, вспом
нил об этих записках и, собираясь ехать на Кавказ для занятий с покойным наследником в. кн. Георгием Александровичем, обратился в училище с просьбой поискать сохранившийся, быть может, экземпляр. Но в училище тогда не нашлось ни одного; я передал Василию Осиповичу свой экземпляр с просьбой вернуть мне как дорогую мне память об учители. И теперь они снова вернулись в мою скромную библиотеку. Записки эти читаются с захватывающим интересом с первых страниц. Эти состарившиеся и пожелтевшие листки, написанные сорок лет тому назад, дышат той же свежестью, как и многие страницы сатирика Салтыкова.
Многим памятна характеристика областного управления Франции так называемыми интендантами, в руках которых находилась действительная власть в провинциях. «Интендант обыкновенно человек незнатный из среднего мещанского сословия, очень редко из мелкого дворянства*. Это ловкий служака, усердный исполнитель министерских предписаний. Интенданты управляли всем в провинциях, распределяли и собирали подати, производили рекрутские наборы, заведывали полицией и судопроизводством. Эти управители провинций вмешивались во все, стесняя всякую самодеятельность местных обществ. Понадобилось выстроить мост, поправить церковный дом в сельском приходе или восстановить развалившуюся колокольню — община не могла этого сделать без спроса у интенданта, который в свою очередь спрашивал в королевском совете, откуда ответ приходил года через два или три».
Слушая тогда такие характеристики, мы, юные слушатели, совсем не знавшие жизни, думали, что Салтыков-Щедрин списывал своих помпадур именно с этих интендантов, и не подозревали того, как все это было близко и к нашей действительности.
Таких метких штрихов встречалось немало на лекциях Вас. Осип., и не мудрено, что подозрительный начальник училища редко пропускал его лекции. Насколько велико было влияние научной силы преподавателя, вспоминаю, как волновались мы, выходя на экзамен Васил. Осипов. Человек скромный, по-видимому, конфузившийся поднять глаза на юного юнкера,
* В отличие от губернаторов, этих номинальных областных управителей, которые избирались из старого французского дворянства и имели только внешний блеск, вознаграждавший их честолюбие за потерю прежней феодальной независимости.
во многих вызывал настоящий трепет, не физического страха, а чисто нравственного. Нельзя было прийти на экзамен без знаний. У других преподавателей, иногда мало авторитетных, как-нибудь можно вывернуться из затруднений; помню даже и батальонного командира, преподававшего тактику, многие преспокойно надували, выпаливая трескучие и особо им любимые фразы. У Вас. Осип, нельзя было отделаться общими ничего не значащими фразами. Чувствовалось, что пришел на суд к крупной научной силе; таково было обаяние, по-видимому, с внешней стороны скромного и слабого человека.
II
В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ
А. А. КИЗЕВЕТТЕР
В. О. Ключевский как ученый историк России
<Фрагмент>
Нелегко в газетной статье обозначить во всей отчетливости значение трудов Василия Осиповича Ключевского в науке русской истории. Для обстоятельного выполнения этой задачи потребовалось бы обширное исследование. Но нельзя не признать вполне естественным и закономерным желание общества теперь же отдать себе отчет во всей громадности только что понесенной утраты в связи с кончиной знаменитого русского ученого и профессора. И обязанность специалистов — по мере сил облегчить читателям удовлетворение этого желания. В нижеследующих сроках я попытаюсь, хотя бы бегло и кратко, наметить главнейшие отличительные особенности того крупного дела, которое было совершено почившим историком в области его науки.
Раскройте любое сочинение Ключевского, — все равно, будет ли это научно-популярный очерк или специальное исследование. Начните читать, и ваше внимание непременно с первых же страниц будет приковано к ходу мысли автора и к пленительной форме ее выражения. Чувство, которое вы испытываете при чтении, нельзя назвать иначе как очарованием. Это будет очарование высшего свойства и очень сложного состава. За яркой красотой литературной речи вы почувствуете могучее своеобразие мысли, открывающее новые горизонты в изучаемых явлениях исторической жизни, внезапно освещающее неожиданным светом внутренний смысл таких фактов и отношений, которые дотоле все обходили своим вниманием как малозначительные и неинтересные. И вы почувствуете далее, что это творческое воспроизведение давно угасшей жизни опирается на такое детальное и всестороннее знакомство историка с жизненными явлениями прошлого, которое равносильно интимному слитию самого автора с духом изучаемых им реформ.
Таковы ресурсы Ключевского как исторического исследователя и писателя: изобразительная художественность речи, возвышающаяся
до истинно поэтической силы; комбинационный талант и зоркость исторического взгляда, возвышающееся до творческого воскрешения минувшей жизни; глубокое и многообъемлющее знание старины, доходящее до проникновения в интимнейшие детали давно угасшего жизненного обихода.
С такими ресурсами почивший историк не мог не создать настоящих шедевров научного творчества в любой из тех областей своей науки, к которым обращалось его внимание. Но как бы ни были многоценны его отдельные работы, все же совокупность его научной деятельности осталась бы в истории науки только лишь ярким эпизодом, если бы вся эта деятельность не была объединена единым жизненным нервом, единым руководящим принципом, им впервые выдвинутым и примененным к разработке русской истории.
Такой новый для науки русской истории руководящий принцип был выдвинут Ключевским в его трудах, и вот почему совокупность всех его научных работ составила в истории нашей науки не только яркий эпизод, но целый этап ее последовательного развития.
Ключевский выступил на арену исследовательской работы в области русской истории не только с совершенно исключительными ресурсами знания, ума и таланта, но и со своим новым словом относительно самых методов и задач научного построения русской истории. Он высказал это свое новое слово не в форме теоретического трактата, а непосредственно в своих исследовательских трудах, в готовых, выполненных им самим образцах приложения этого принципа к изучению конкретного исторического материала. Ключевский первый в русской историографии дал в своих трудах законченный опыт построения русской истории, основанного на учении о тесной взаимозависимости экономических, социальных и политических отношений в жизни народа. Он первый,— не только в теории, но и на деле, на непосредственной разработке исторических данных,— осветил с этой точки зрения весь ход русской истории, положив в основу своего построения изучение экономической эволюции нашей родины; показав затем, как на почве этой экономической эволюции создавалась своеобразная ткань социальных отношений в домосковской и петербургской России и, наконец, приведя в связь с этим социально-экономическим процессом исторические перипетии нашей политической истории. Только с выполнением этой работы изучение русской истории стало на твердый фундамент истинной научности. Этот фундамент впервые был возведен в нашей науке и отделан с необычайным блеском виртуозного искусства не кем иным, как только что почившим Василием Осиповичем. До появления
трудов Ключевского в нашей историографии появлялись самое большее отрывочные намеки на возможность такого построения русской истории и частичные опыты трактования с этой точки зрения тех или иных отдельных вопросов. Лучшим показателем того, что этим отдельным попыткам еще не хватало прочно установленного объединяющего принципа, может служить труд учителя Ключевского Сергея Михайловича Соловьева, который в своей «Истории»* непрестанно собирал многочисленные материалы для истории и народного хозяйства, и общественных классов, и государственных учреждений, но сопоставлял все эти данные более или менее механически, как груду кирпичей, далекую от превращения в стройное здание. К этой-то груде кирпичей подошел Ключевский с законченным архитектурным планом, с твердо выработанными приемами научного строительства и с припасенным наготове надежным цементом строго научного метода. И вот почему, когда теперь спрашивают, что сделал для науки русской истории только что почивший ученый, должно, не обинуясь, дать ответ: он создал самое эту науку.
Писатели по русской истории, обширные изыскания в ее области, многотомные сводные сочинения по истории России существовали и до Ключевского. Но опыт законченного научного построения русского исторического процесса и твеёрдый научный принцип дальнейшего изучения этого процесса — впервые был выдвинут знаменитым преемником Соловьева по кафедре в Московском университете. Новейшие исследователи,— в громадном большинстве ученики Ключевского — не во всем соглашаются с построениями Василия Осиповича. Иначе и не может быть, ибо отсутствие контроверз означало бы смерть научной мысли. Но и наиболее рьяные оппоненты Ключевского из числа новейших историков без всякого сомнения все будут согласны в том, что и самые их возражения вырастают на почве тех именно общих принципов исторического изучения, которые были указаны, выдвинуты и практически применены на конкретных исследованиях самим Ключевским. «От изучения истории народного хозяйства к изучению классовых и сословных отношений, от анализа социально-экономического процесса к изучению государственной организации и политической жизни» — таков был принцип, не только провозглашенный Ключевским, но и оправданный им на примере собственных исследований. И этим было оплодотворено и одухотворено все дальнейшее движение науки русской истории. <...>
* Двадцатидевятитомный труд С. М. Соловьева «История России с древнейших времен» выходил с 1851 по 1879 г.
В. Я. УЛАНОВ
Арфа сломана
Слышу божественный звук угасшей речи.
С именем Василия Осиповича Ключевского связны яркие, глубоко запечатлевшиеся картины университетской жизни у тех, кто имел удовольствие слушать его «курс», неотразимый по художественной красоте и изобразительной силе воспроизведения пережитого. Какие бы бури университетской и общерусской жизни ни отвлекали студенчество от «академических интересов», аудитория Василия Осиповича всегда нуждалась в расширении стен ввысь и вширь.
Помню серые, монотонные дни русской действительности и школы, когда «лишь смело рыскал» инспектор, «а человек блуждал пугливо». И каким ярким университетским днем бывали в это серое время лекции Василия Осиповича.
Вспоминается «большая» аудитория доавтономного университета,— простая, низенькая, заставленная подвижными традиционными партами.
На переполненных скамьях, в промежутках между партами, в проходах, на подоконниках, на ступенях кафедры и у самого стула профессора расположилось студенчество без различия курса и факультета,— что тогда строго воспрещалось... Тишина и напряженное внимание; у многих — улыбка эстетического переживания.
На кафедре — старец с закрытыми глазами, но в очках, со склоненным не то к рукописи, не то к аудитории корпусом, с приподнятой рукой в уровень с открытым лбом, морщинящимся от припоминаний. Он как бы созерцает в себе... И образы один ярче и подвижнее другого, сцены, события и отношения давно пережитых времен обрисовываются рельефно и живо, дрожат и движутся в звуках слабого старческого голоса, однако необычайно богатого интонациями, и иллюстрируются на его подвижном лице, воплощающем в себе
то «благодушие» царя Алексея, то величавость Петра, то двоедушие «лукавого царедворца»...
Вдруг аудитория насторожилась. Что-то непривычное зазвучало в голосе учителя: это — не историческое переживание, а самая насущная мольба. Как сейчас звучит этот страдальческий голос: «Господа, пожалейте мои старые легкие: я задыхаюсь от этого слишком густого вашего внимания. Откроюсь вам: я вхожу на кафедру с мыслью, что своими силами после второго часа не сойду с нее»...
В аудитории — участливое движение. Слушатели изо всех сил, «не щадя живота своего», стараются вдавить себя друг в друга, чтобы образовать вокруг кафедры площадку, долженствующую обеспечить любимому учителю небольшой столбик относительно свежего воздуха. Но через две-три лекции В. О. опять оказывается в непроходимой осаде внимания, интереса и уважения к его словам. Но вот мы в другой обстановке. Богатая воздухом, светом и пространством «Богословская» аудитория. Амфитеатры, хоры и проходы заполнены толпой, в которой наряду с тужурками пестреют шляпки, штатские костюмы, рясы и военные мундиры. Это — время открытых дверей университета. Вчера здесь раздавались партийные лозунги, слушатели переживали глубокие внутренние борения, разбивались на ненавидящие друг друга группы, аплодировали и свистали. Теперь вся эта рознь и борьба стихла, временно замерла при звуках голоса этого хилого, склонившегося над кафедрой старца, спокойно повествующего о пережитых борениях, о жизни народа. Слушатели слились друг с другом в общем внимании к словам учителя, которого не могла отделить от слушателей высокая эстрада: на ней так же как, когда-то в маленькой аудитории вокруг кафедры, в мирных внимающих позах расположились вчерашние борцы с тетрадями в руках вокруг учителя, кажущегося еще более слабым, чем раньше, с голосом, едва побеждающим пространство аудитории, но величественным по той власти и силе, с какими он в течение двух часов владеет вниманием всей этой разнохарактерной толпы: она то как бы по команде грохочет от смеха, то замирает с улыбкой, готовой перейти в хохот, подавленный боязнью не расслышать дальнейших слов, пропустить точный текст к богатой мимике художника слова; то собирает морщины на лбу, когда этот художник вдруг перейдет от блестящих характеристик к глубокому анализу явлений и отношений.
Что же влекло всегда и всюду в аудиторию этого профессора,— в чем разгадка его власти и обаяния над слушателями?
Василий Осипович — ученый столько же, сколько художник слова в его письменном и устном проявлении. Он сочетал в себе счастливую, но редкую способность в своих лекциях соединять глубину ученого исследования с общедоступностью и красочной образностью изложения своих мыслей на бумаге и особенно в живой речи, благодаря чисто аристократической речи, а также свойствам своего голоса, бедного по массе, но неисчерпаемого по интонации и фразировке. Все это делает настолько неотразимыми впечатления от его лекций, что после, читая его произведения — те, которые были прослушаны в его устном произношении, а также и те, которые почему-либо не пришлось прослушать,— всегда ловишь себя та том, что произведения эти при чтении невольно воспринимаются в звуках голоса. Даже временный, болезнью вынужденный уход с кафедры В. О-ча пережит был как потеря чего-то необходимого, без чего серее становилось в университете и что незаменимым стало для новых поколений студенчества. Но мысль, что он навсегда оставил нас, как-то не вмещается в мозг. Конечно, труды незабвенного учителя остались с нами, его методы и научное направление вошли в кровь и плоть воспитавшихся под влиянием Василия Осиповича талантливых учеников, достойных стать на его место; свет его свечи не угаснет, но... арфа сломана. Ведь она больше никогда не зазвучит!
лигин
Ключевский-журналист
Поглощенный научными исследованиями и университетским преподаванием, покойный В. Ключевский не мог, конечно, уделять много времени публицистическому труду. Его огромное дарование сумело бы ярко себя проявить и на этом поприще духовной деятельности. Но в тихом убежище исследователя он находил большое обаяние, в нем рассчитывал он значительнее развить свои силы, чем в взбаламученном море русской жизни. И все-таки уйти от русской действительности, целиком выросшей из того прошлого, которое оживало под его пером, он не мог. Вопросы, волновавшие современников, тысячью нитей оказывались связанными с позабытыми отношениями, в которых он умел разобраться, как никто. Новые всплывавшие подробности оказывались не новыми, глашатаи нашего времени имели предтеч, о которых он рассказывал с той художественной увлекательностью, которую небо дарует только своим особо излюбленным сынам. О нем можно сказать то же, что он писал об одном из своих предшественников в Московском университете. От русской действительности и ему «невозможно было укрыться в академическую келью: она вторгалась в каждое независимое личное существование со своими требованиями». И когда эти требования подступали к нему, В. Ключевский из ученого превращался в журналиста. Или нет,— это не верно. Он не переставал быть, конечно, ученым, но он мог становиться, кроме того, и публицистом. В свои статьи он приносил свои знания, свою осторожность умудренного долгим научным опытом исследователя, свое ясное, во всем продуманное суждение.
Публицистические статьи В. Ключевского украшали не раз столбцы «Русских ведомостей». Он откликался на вопросы, важные для Москвы, когда их правильному разрешению мешало отсутствие
достаточного исторического знания. Он посвящал характеристики деятелям нашего прошлого, которые и нынешнему поколению звучали вдохновенным поучением. Некоторые примеры невольно вспоминаются теперь.
В начале 80-х годов в Москве была задумана перестройка торговых рядов в Китай-Городе, и перед городской думой встал вопрос, кому принадлежит земля под городскими рядами на Красной площади. Дума в феврале 1885 года рассмотрела доклад своей комиссии и признала вопрос этот «достаточно разрешенным в том смысле, что землю под лавками следует считать принадлежащей лавков-ладельцам, а под проходами между рядами — городу». Вопрос представлял для города огромную важность и был в то же время крайне сложен. Для разрешения его необходимо было пересмотреть исторический материал, страдавший значительными пробелами, необходимо было с бесстрастием и с чуткой справедливостью отнестись к интересам обеих сторон и принять в то же время все меры к тому, чтобы спасти общественное достояние, если оно действительно было общественным. В. Ключевский взялся за разрешение этого вопроса. 9 мая 1887 года он опубликовал свое исследование в «Русских ведомостях» *.
«Не берусь судить,— формулирует он свои выводы,— в какой степени собранные мною исторические справки оправдывают основанные на них выводы, а эти выводы следующие. Законодательство ни в XVII, ни в прошлом, ни в текущем столетии не передавало земли под торговыми рядами ни во владение города, ни в частную собственность лавковладельцев». Но отрицая существование права частной собственности на эту землю, он в то же время стремился преподать совет, по возможности ограждавший все законные интересы, тесно связанные со спорным вопросом.
Почти двадцать лет спустя, 8 октября 1905 года, В. Ключевский помещает в «Русских ведомостях» свою последнюю статью, с неизменившим ему блеском написанные строки: «Памяти Т. Н. Грановского». Цитировать покойного мастера почти мучительно, вырывать отдельные строки из органического целого его творений кажется кощунственным. Хотелось бы слово за слово передать все, что он писал. Но газетные столбцы имеют свои тесные границы.
Вот выдержки из характеристики Грановского2, написанной по поводу истечения 50-летия со дня его смерти.
«Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели выносили из его лекций веру в свое будущее,— ту веру, которая светит им среди самых беспросветных ночей нашей жизни. Лекции
Грановского о Греции и Риме, о феодальном средневековье воспитывали деятельную любовь к русскому отечеству, ту энтузиастическую жажду работы на его благо, ту крепость общественного духа, которая помогла лучшим русским людям минувшего полувека пронести на своих плечах сквозь вековые препятствия все тягости преобразовательной эпохи. История, сохраняя в чтениях Грановского свой строгий характер науки, становилась учительницей жизни. Это Грановский научил свою аудиторию ценить научное знание как общественную силу. С его времени, с его публичных лекций Московский университет стал средоточием лучших чаяний и помыслов для образованного русского общества. Грановский завязал ту внутреннюю духовную связь между Московским университетом и обществом, которая крепка доселе и для обоих стала старозаветной традицией. Наш университет, наш Грановский,— эти слова стали привычными выражениями в Москве того времени. Эта связь в многотысячном лице московского студенчества тонкими нитями расходилась далеко-далеко от Москвы во все стороны. В эпоху общего нравственного колебания и общественного уныния Грановский, вещая правду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его стало лозунгом, символом общественного возрождения, совершаемого переработкой слова науки в дело жизни»3.
И далее:
«Грановский смотрел на свою аудиторию как на школу гражданского воспитания. Художественная обработка изложения, мягкий пафос профессора помогали слушателю переноситься в область общественно-исторических идей, которые в будущем, в деятелях, выраставших из слушателей, уже сами приложатся к действительности и облагообразят ее. Грановский не проводил своих идей как запретного товара среди поразительной наивности правительства, видевшего конституционную прокламацию в альманахе, и среди пугливого общества, чуявшего запах революции в трескучем письме Погодина. Лояльно-прямо, возвышенно и художественно он воспитывал в слушателях на своих исторических построениях, на уроках, даваемых ходом истории, идею долга и ответственности перед обществом. И этим Грановский шевелил смутную тревогу в деятелях николаевского режима. Его долго не пускали в деканы, чтобы затруднить его общение со студентами и влияние на строй преподавания, ославили чуть ли не тайным революционером, а после его всколыхнувших московское общество публичных курсов позаботились, чтобы в Москве забыли, что такое публичные университетские лекции. Но самую идею профессорской деятельности
Грановского все более ценившие казенные руки уловить и задушить были бессильны»4.
... «Теперь, спустя 50 лет по смерти Грановского, можно еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из жизни, подобный посмертному облику любимого им Петра, можно представить его в сонме таких же обликов, таких же теней гнева и скорби: Кавелин5, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему; С. М. Соловьев, веривший, что возрастающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах; Чичерин, в 60-х годах предпочитавший “честное самодержавие несостоятельному правительству”, а 30 лет спустя принужденный печатать за границей свои последние и заветные мысли; и много, много других, менее видных людей. Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах. Каждый независимый русский общественный деятель таит в себе хотя малую крупицу Петра Великого, своего духовного родоначальника, и каждый уходит с той же печатью гнева и скорби на сомкнутых устах»6. Это сказано о Грановском. Но не писал ли Ключевский невольно о себе? Разве тот, кто прочувствовал и написал эти строки, мог не быть «обманут в своих надеждах», разве мог он уйти от нас иначе, как «с той же печатью гнев и скорби на сомкнутых устах»?
Н.Н. ОВСЯННИКОВ
В. О. Ключевский как историк
По поводу кончины проф. В. О. Ключевского, вместе с сожалением, считаю своевременным сказать несколько слов о заслугах его в науке русской истории и тем воздать должную дань его знаниям, таланту и неустанной ученой деятельности, которой он посвятил всю свою жизнь. Преемник С. М. Соловьева на кафедре русской истории в Московском университете, столько много сделавший для своей науки, проф. Ключевский, по общему мнению, представляет еще более крупную научную величину. Ученая деятельность его во многом отличается от таковой же — его предшественника. Ограничимся только указанием этой разницы, чтобы видеть, по какому новому пути пошел профессор: в пределе газетной статьи нельзя и сказать более, говоря о научных заслугах его.
С. М. Соловьев, как и его товарищи по университету, напр. профессора Редкин1 и Грановский2 (в первое время своего ученого поприща), были последователями господствовавшей в то время философии Гегеля3. По влияние ее слагалось идейное понимание ими науки. Гегель до крайности развил теорию исторического прогресса, даже доказывал, что мы прошли уже все ступени прогресса и достигли «бодрой старости всемирного духа». Гегель трактовал о человечестве, о задачах, предназначенных заранее каждому историческому народу, об идейном содержании истории,— все подобно оказалось потом несостоятельным: человечество оказалось фикцией, прогресс заменился в истории процессом, прогрессивное движение — эволюцией.
Проф. Ключевский не разделял уже таких воззрений и во многом отрицал их.
Следуя новым научным взглядам на историю, о происхождении которых мы после скажем, проф. Ключевский видел в ней не идейное развитие, как Гегель и его последователи, а исторический процесс человеческого общежития, и следил, как оно для каждого народа было разнообразно и по характеру, и по формам, подчиняясь различным стихиям или силам, стоящим человеческое общество.
Природа и люди, власть и право, труд и капитал, знание и искусство у русского народа были не те, что у других народов, и русская история выходила своеобразной: в разное время между основным стихиями общежития устанавливались в ней различные отношения, и каждое из них имело не всегда господствующее значение. С этой точки зрения история представляет в результате наличный запас сил и средств, какие накопил народ в свое вековое существование. Она может разрешить такие вопросы, какие предполагаемые формы общежития ниже этого запаса и какие выше или не под силу народа. Недостатки общественного развития укажут и средства для устранения их. Русская история в научной обработке проф. Ключевского принимает, таким образом, социальный характер; у С. М. Соловьева она имеет характер государственный. Интересы истории уже не прежние: общество на первом плане, прежние герои истории уступают первое место развитию материальных и общественных потребностей. Идея закономерности исторического процесса должна служить теперь научным объяснением истории.
Такая схема истории сложилась у проф. Ключевского.
Перемена во взглядах на историю как науку совершилась во второй половине прошлого века под влиянием идей Спенсера4, Дарвина5, К. Маркса6 и выразилась в том, что история из области политических и юридических знаний переходит в область естествознания, социологии и экономики.
Как такая перемена понята была проф. Ключевским?
Мы видим, прежде всего, что он отнесся к ней строго критически. Так, натуралистическое воззрение на законы общественной жизни Спенсера, увлекавшее других наших историков, напр. Виноградова7, проф. Ключевский не считал достаточным для объяснения всех исторических явлений. Истинными причинами исторического процесса он признавал не одни материальные условия, но и психические состояния и действия индивидов.
В этом случае он расходился со своими последователями,— с гг. Милюковым, Рожковым8, Сторожевым9 и др. Проф. Ключевский в материальных и экономических условиях жизни видит один
из новых методов исследования человеческого развития,— не более. В яростной борьбе интересов в человеческом общежитии он не находит одно слабое отражение непрестанной жестокой борьбы, господствующей в животном мире. Богатство и высокое положение в обществе не являются для него средством естественного подбора в борьбе за существование; не материальные, а духовные силы, по его воззрению, составляют отличительную черту человеческого общежития и в истории более и более выигрывают в своем значении. Если экономика и составляет существенное содержание исторической науки, то только в смысле метода, т. е. в том смысле, что изучение каждого общежития следует прежде всего начинать с изучения экономического строя и потом переходить к изучению духовного строя. Экономика — только наиболее важная из сил, направляющих исторический процесс.
Не человечество, не государство, а общежитие, по мнению проф. Ключевского,— главный объект истории. В этом расходится в понимании истории с Гегелем и своими предшественниками-историками, включая сюда и С.М. Соловьева. Государство умирает, а общество, или общежитие, остается еще жить, включая в себя семью и церковь, все круги жизни. Это видно из примеров: падение Римской империи, падение Польши и Иерусалима.
Борьба за существование Дарвина, как и спенсеровские идеи, подверглись у Ключевского строгой критике. В борьбе за существование в человеческом обществе историк видел явление более сложное, не как в животном мире; в ней участвуют не одни животные силы, но также мужество, остроумие, хитрость — духовные силы. В животном мире борьба за существование не создает ни нравственности, ни совести.
Так проф. Ключевский понимал руководящие идеи своего времени,— как историк, составляя схему науки русской истории. Он не довел своей идеи до конца, остановившись более на экономике в истории, до него бывшей совершенно неразработанною. И только в таких своих этюдах, как «Добрые люди старой Руси»10, «Преподобный Сергий» п, «Грусть по поводу Лермонтовского юбилея» 12, или в речи об Александре III (1894)13 он показал на примере, какое видное место в истории должна занять и религия, и исторические деятели. Его винили за них в отлучении от строгого научного пути, толковали появление таких шагов дурною стороною, считали их за измену, за переход его на правую сторону, даже свистали ему за лекцию об Александре III. Но он оставался только верным своему воззрению, которого не понимали другие.
Курс Русской истории проф. Ключевского, первый том которого появился в 1904 году, а последний (четвертый) в 1910 году,— свод всего, выработанного автором в области науки,— только по времени может быть назван последним словом науки. Новый идеал ее далеко еще в нем не выполнен. В нем пока мы видим одну широкую просеку в историческом лесу; в чащу леса впущен впервые солнечный луч, и еще многим историкам долго придется трудиться в будущем. Проф. Ключевскому принадлежит, как пионеру, одно из первых мест на этом новом пути. Его труд не будет забыт последующими русскими историками; они лучше нас, современников, оценят то, что он начал делать. Он не докончил своего дела и не видел его завершения. Это — дело будущего. Так не видели завершения идей и первые строители готических соборов.
Н. ПЕЛЕТЧИН
Памяти проф. Ключевского
Умер Ключевский... Сын сельского дьякона, воспитанник духовных учебных заведений, он не пошел по той дороге, на которую его толкали происхождение и образование, но в избранную им деятельность он принес то, без чего нельзя быть истинным духовным лицом. Свою жизнь он превратил в служение; он постригся в храм родной истории и принятый обет нес до самой смерти. В него как бы воплотился дух наших монахов-летописцев: то же изумительное усердие, то же полное отсутствие погони за известностью. Только условия, в которых пришлось жить Ключевскому, не могли дать ему такого уединения,— а затем он постоянно горел огнем гражданственности... Он исполнял свои государственные обязанности, и 40 лет своей профессорской деятельности он отдал на воплощение в художественной речи перед целыми поколениями слушателей родного прошлого, а перед смертью он приступил к выполнению последнего гражданского своего долга — к изданию полного курса русской истории. Но вышло четыре тома, и эти книги надо читать, надо изучать, надо хранить как святыню всякому русскому образованному человеку. Никто не мог так выпукло и живописно изобразить исторический ход русской жизни, дать исчерпывающую картину территориального роста государства и усложнявшихся постепенно сословно-классовых наслоений. Так можно найти ответ на многие «проклятые» вопросы, и величавые в своей художественной простоте страницы этих книг предохранят от многих увлечений и ложных шагов.
Судьбе угодно было сделать творца художественного изображения судорог, потрясавших русское государство в его прошлом, живым свидетелем нового революционного пароксизма. Но проф. Ключевский был уже слишком преклонных лет, чтобы
активно выступить в политической жизни, и он даже очень скоро отказался от звания члена Государственного совета. Ознакомление с его курсом русской истории может лишь заставить думать, что едва ли «обновленная Россия радовала его старое сердце».
Ключевского специальная критика обвиняла в некоторой идеализации Московской Руси; но ее на самом деле не было, а слышится лишь известная симпатия историка к этому периоду, объясняемая его политической идеологией. Эта идеология может быть определена выражением старинной грамоты: «Добра хотеть своему государю и его землям».
И доносившееся до историка веяние старины говорило ему, что этого добра более хотели в период сформирования Московского царства, и за это он любил его.
Указывая на то, что казни и жестокости Ивана IV1 не встречали ни проблеска протеста, Ключевский не обвиняет общество в раболепии, безгласии; нет, по его словам, «как будто какой-то высший интерес царил над обществом, над счетами и дрязгами враждовавших общественных сил, не позволяя им окончательного разрыва, заставляя их против воли действовать дружно. Этот высший интерес — оборона государства от внешних врагов»2), т.е. охрана «добра» — государственной независимости. Исходя из этого же понятия о «добре», Ключевский является врагом политических счетов и раздоров, препятствующих деловой государственной работе, и потому преклоняется перед Боярскою думою, в которой «бывали споры, но не о власти, а о деле; сталкивались деловые мнения, не политические притязания»3. Для развития «добра» в государстве нужно правительство, хорошо знающее нужды народа. И опять же Московская Русь, разочаровавшись в приказной администрации, «своими кормежными привычками совсем не отвечавшей задачам государства», рождает «мысль об установлении постоянного, законом нормированного притока здоровых общественных сил в состав правящего класса, ежеминутно стремящегося у нас превратиться в замкнутую от народа касту, в чужеядное растение, обвивающее народное тело»4.
Эту касту создал петербургский период, и за это его не любит историк и не жалеет мрачных красок для его обрисовки. «В половине этого (XIX) века Россия управлялась не аристократией и не демократией, а бюрократией, т. е. действовавшей вне общества и лишенной всякого социального облика кучей физических лиц разнообразного происхождения, объединенных только чинопроизводством»5. Благодаря тому, что «новая европеизированная Россия
в продолжении 4-5 поколений была Россией гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб»6, завершился разрыв между образованными классами и крестьянской массой, и в этом разрыве померкло жившее в Московской Руси у всех понятие «добра хоть своему Государю и его землям».
Увлеченная победой завоеваний, страна слишком раздалась; «государство пухло, а народ хирел»7.
И призывом помочь этому хиреющему народу наполнена история Ключевского. Зарыть пропасть между образованными классами и простым народом, призвать для этого «здоровые общественные силы», работать, не покладая рук, без споров о власти и не лелея политических притязаний, и думать только о «добре» — таковы заветы почившего профессора. И в наше время, время развития политиканства во имя личных целей, увлечение которым может привести страну к глубокой пропасти, надо всегда помнить о родном прошлом, ставшем славным, именно благодаря беззаветной службе идее русского царства. Человеку же, разъяснявшему всю свою жизнь сущность этой идеи, да будет мягкая земля!
Из жизни В. О. Ключевского
(По телефону от нашего петербургского корреспондента)
Любопытную страничку из жизни В. О. Ключевского представляет собою его участие в работах совещания по выработке основных положений Государственной Думы.
Безусловно осведомленное лицо рассказало по этому поводу нашему корреспонденту следующее:
Лет 10-12 тому назад имя В.О. Ключевского впервые стало популярно в высших придворных сферах по следующему поводу. Тогдашний всемогущий министр финансов С.Ю. Витте1 пожелал представить в высшие сферы очерк исторического развития России в соответствии с своим желанием доказать, что представительный строй не противоречит традиционным началам русской государственности.
С. Ю. Витте остановился на исторических трудах В. О. Ключевского и потребовал, чтобы ему представили печатный экземпляр исторических трудов его. Но оказалось, что лекции В. О. Ключевского издавались только в литографированном виде и не были отпечатаны. С.Ю. Витте нисколько этим не смутился и предложил своим помощникам — директору канцелярии г. Путилову2 и г. Охочинскому3 немедленно доставить ему из Москвы несколько экземпляров лекций Ключевского. Из представленных ему лекций за целый ряд лет он составил сводную книгу, приняв даже лично участие в редактировании ее. Эту книгу он на казенный счет издал в самом ограниченном количестве экземпляров — не более 50-ти — и несколько экземпляров представил в высшие сферы.
Характерно, что издание это появилось в свет без ведома самого В. О. Ключевского, и, строго говоря, такое издание было преступлением, так как о праве издать не осведомлялись у автора.
С. Ю. Витте считал, что В. О. Ключевский — единственный историк, который представляет русскую жизнь не только в виде истории фактов, но и виде философии истории и дает наиболее глубокое и исчерпывающее представление о всех основных началах русской государственности. Книга была издана в трех томах ив настоящее время представляет огромную библиографическую редкость.
Затем о В.О. Ключевском вспомнили, когда в Царском Селе было устроено совещание по вопросу о создании совещательной Государственной Думы и о манифесте 6 августа 1905 года. С. Ю. Витте тогда был в Америке, и В.О. Ключевский был представлен ко двору помимо его.
Затем, когда гр. С. Ю. Витте после 17 октября вырабатывал основные законы, он опять вспомнил о В. О. Ключевском и через своих подчиненных обратился к нему с просьбой разъяснить вопрос, может ли остаться в основных законах титул «самодержавный» в приложении к монарху, ограничившему свою власть манифестом 17-го октября, и просил разработать этот вопрос с научной точки зрения.
В. О. Ключевский уклонился от непосредственного исполнения поручения, а рекомендовал одного из лучших своих учеников, прив.— доц. С. Князькова4. Последний составил брошюру, которая была представлена гр. С. Ю. Витте. У гр. Витте и у тогдашних представителей власти было безусловное впечатление, что труды г. Князькова прошли редактуру самого В. О. Ключевского. Брошюра г. Князькова не была издана, но сыграла свою роль в сохранении титула «самодержец».
Пользуясь случаем, чтобы привести основные положения этой исторической брошюры. Автор её писал:
«Устанавливаемый актом 6-го августа и 17-го октября конституционный порядок управления и законодательства в России нельзя считать стоящим в противоречии с древнейшими традициями исторической жизни русского народа и государства. В создаваемой этими актами новизне старина чувствуется. Можно сказать словами адреса старообрядцев императору Александру II: “Монарх, призвавший к управлению Россией в единении с ним выборных от народа, даровав народу незыблемые основы гражданской свободы, исторически стоит ближе к Самодежцу Царю Алексею, чем к самодержавному же Наследнику Императора Александра I Благословенного”.
Понятие абсолютизма лучше и точнее передается на русском языке словом “самовластие”. Нельзя было соединить с ним понятие “самодержавия”, как его создала и знала древняя до-петровская русская жизнь».
И далее?
«Власть Российского Самодержца после изданных Его волею актов 6-го августа и 17-го октября будет действовать в их пределах. Этого требует и 47-я статья основных законов Империи (речь идет о старых основных законах.— Ред.), которая гласит: “Империя Российская управляется на точных основаниях положительных законов, учреждений и уставов, от Самодержавной власти исходящих”. Издав акты 6-го августа и 17-го октября, Самодержавная власть поставила себе новые пределы, говоря словами Сперанского, и по смыслу статьи 47-й основных законов должна в них действовать. Юрист признает эту Самодержавную власть действующей теперь в единении с представителями народа ограниченной и конституционной. Историк согласится с ним и скажет, что Самодержавная власть в своей основе, в своем историческом происхождении ограничений не избегла и, поставив себе новые пределы, права называться Самодержавной не теряет.
Отныне в рассуждениях о самодержавии совершенно должно быть устранено соединение с ним понятия о неограниченности власти над лицами и порядком. Этому отождествлению нет места при наличности в государственном строе России представительных учреждений и при обеспеченности за подданными прав гражданской свободы. Самодержавие, приняв во внимание историческое происхождение этого слова, может означать теперь, при конституционной форме правления, во вне-зависимость от Государя и государства, а во внутренних отношениях — державное право и самостоятельность Монарха, властвующего по собственному праву, унаследованному от предков и олицетворяющему идею Верховной власти в стране».
Эти положения и послужили основанием тому, что гр. С. Ю. Витте сохранил в основных законах титул «самодержавный».
Ключевский на выборах в 1 -ю Государственную думу
В.О. Ключевский не любил политики в обычном смысле этого слова.
Тем не менее однажды ему пришлось принять участие в борьбе политических партий.
Это было во время выборов в первую Государственную Думу.
Надеяться на избрание его по Москве было нельзя. Здесь складывалось такое соотношение политических сил, при котором рассчитывать на проведение в выборщики В.О. Ключевского было положительно невозможно.
Поэтому его друзья решили выставить кандидатуру В. О. по Сергиевскому посаду, где он числился профессором академии.
Агитация была довольно слабая. А посадские жители хотя и хорошо знали В. О., но думали, что если кого выбирать, то только того, который защищал бы исключительно их посадские интересы. Тогда еще трудно разбирались в самом процессе выборов и наивно думали, что в Думу можно попасть прямо из посада.
Неудивительно поэтому, что его кандидатура не прошла.
В успехи выборной кампании сомневался и сам В. О., и если согласился выставить свою кандидатуру, то только уступаю просьбам близких людей.
<Отношение В. О. Ключевского к предсоборному присутствии^
В. О. Ключевского в течение его продолжительной деятельности часто приглашали для работы в различные комиссии. Его авторитет ценился очень высоко, но заручиться его согласием было не легко.
Воспользоваться его трудами в свое время пожелало и памятное предсоборное присутствие при Св. Синоде.
В. О. Ключевский великолепно понимал, что из этой затеи ничего не выйдет, и упорно избегал ехать в Петербург.
Такое отношение в свое время вызвало в духовных кругах резкое порицание по адресу В. О.
Но В. О. был непреклонен и в предсоборном присутствии так и не был ни разу.
Чуткий историк оказался правым: предсоборное присутствие много говорило, но результатов из этого не получилось никаких.
<Лекции Ключевского
великому князю Сергею Александровичу^
Мало кому известно, что В. О. Ключевский читал курс русской истории покойному великому князю Сергею Александровичу в бытность его московским генерал-губернатором.
В.О. особенно полно читал великому князю курс новейшей истории. Менее подробно — древнюю историю.
Кроме великого князя, В. О. слушали здесь и близкие покойного генерал-губернатора, как-то: бывший директор архива министерства иностранных дел кн. Голицын2 и некоторые чиновники генерал-губернаторского управления.
Лекции В. О. и здесь отличались прямотою его взглядов и имели своей задачей не столько изложение фактов, сколько раскрытие их внутреннего смысла.
И.М. ГРОМОГЛАСОВ
<Воспоминания о В. О. Ключевском>
Профессор И. М. Громогласов поделился своими воспоминаниями о В. О. Ключевском.
— Я лично узнал имя Василия Осиповича с семинарской скамьи, узнав его, окружённого уважением и благоговением.
Судьба послала мне учителем русской церковной истории одного из его учеников и пламенных почитателей — Знаменского.
Он нам читал его и рассказывал, лично же я узнал В. О. в 1889 году, когда поступил в академию.
У нас была и тогда, да и теперь осталась, курсовая система преподавания. В.О. всегда читал на втором курсе, но всякий вновь поступивший студент спешил познакомиться и вынести непосредственное впечатление о В. О.
Так же поступил и я — и у меня до сих пор необычайно живо сохранилось впечатление первой слышанной мною его лекции о происхождении великорусского племени.
Меня тогда уже поразила своеобразная ораторская манера В. О.,— манера, которая сразу захватывала слушателей и покоряла их.
В. О., как мне кажется, в высшей степени обладал главным секретом ораторского искусства, состоящим в умении установить какую-то интимную связь между ораторами и слушателями.
Когда он читал перед аудиторией, у каждого из его слушателей оставалось впечатление, как будто он ведет беседу с ним непосредственно по его адресу, как бы личную беседу со знакомым, и притом говорит о предмете, как о давно уже знакомом слушателю,— о предмете, о котором как будто давно уже сговорились и который имеет общий интерес и полное единомыслие.
Благодаря этой манере и содержанию лекции, успех его лекций был всегда необычайным. На некоторые из них сходилась буквально вся академия,— студенты всех курсов,— в особенности на характеристики исторических деятелей, как, например, Андрея Боголюбского, Ивана Грозного, царя Алексея Михайловича...
И бывали случаи, когда студенты обращались к профессорам, которых не хотели обидеть, с просьбой не читать в это время лекций и дать им возможность послушать В. О.
После его лекций обычно бывало множество разговоров по поводу их, лекции перечитывались по записям литографированным и рукописным; перечитывая их, имитировали голос, манеру В. О., повторяли наизусть целые тирады...
— Это мои студенческие воспоминания о нем,— говорит И. М.
Затем более близко я познакомился с В. О. став преподавателем через год после окончания академического курса в 1894 году.
Я поселился тогда в Москве и мои лекции назначены были в те же дни и часы, как и лекции В. О., — параллельно, так что мне приходилось вместе с ним ездить из Москвы в Посад.
Там проводили мы вместе большую часть времени, в старой лаврской гостинице (где в течение 30-ти лет В. О. неизменно останавливался в одном номере) и обыкновенно возвращались в Москву вместе.
И я для себя считаю величайшим счастьем, что в первые годы моей преподавательской деятельности мне пришлось так близко и часто встречаться с ним и проводить так много времени вместе.
В этих поездках и разговорах во время них я учился тому, как следует относиться к науке и к своему профессорскому делу — к аудитории.
Здесь же установились между нами и те добрые личные отношения, которые ввели меня как своего человека в его семью и которые теперь делают для меня особенно тяжелой его утрату...
Переходя к своим интимным впечатлениям, И. М. Громогласов говорит:
— Я не знал профессора более деликатного в своих отношениях к каждому отдельному из своих учеников, из своих слушателей и более внимательного к своей аудитории.
Едва ли когда-либо он спокойно, без тревоги, без волнения входил в аудиторию.
Всегда он взвешивал не только содержание лекции, но и то впечатление, которое должна она произвести на его слушателей.
Он сам мне рассказывал, что перед публичной аудиторией, где слушатели еще менее знакомы, он буквально галлюцинировал, стараясь представить себе свою аудиторию, своих слушателей.
Всегда он знал тот конечный результат, которого он достигает своей лекцией, так как никогда не читал наугад.
Он не только сообщал известные сведения, не только учил, но и воспитывал аудиторию в известном определенном, нужном по его мнению, настроении.
Как член корпорации, он отличался необычайной отзывчивостью к ее идейным интересам, и во всех сколько-нибудь важных случаях общеакадемической жизни всегда обращались к его обширным знаниям, к его нравственному авторитету, умению разобраться во всяких сложных и трудных обстоятельствах и к его неподражаемому искусству облечь мысли в словесную формулу.
Ходячей фразой действительно было, что в трудных случаях «поднимали Иверскую», т.е. обращались к В.О., и, в частности, мне, благодаря моей личной дружбе с ним всегда приходилось быть посредником между ним и нашей коллегией.
Он был нужен вообще для своей коллегии во многих случаях, а для некоторых из нас он был тем знаменем, около которого мы группировались.
Были, конечно, в академической семье и некоторые завистливые ничтожества, которые не прочь были за спиной и позлословить по адресу В.О., но, разумеется, они молчали, по крайней мере, до времени.
Наиболее значительным было выступление В.О. в академических делах в 1905 году, когда остановилась академическая жизнь, и чтобы пустить ее снова в ход, признано было необходимым введение в академии автономного строя.
Тогда в академии была составлено записка 22-х профессоров и преподавателей академии, которая говорила о необходимости распространения на академию автономных правил.
Первым подписавшим эту записку был В. О. Ключевский.
Мне пришлось тогда вместе с двумя другими товарищами отправиться в качестве уполномоченного с этой запиской в Петербург к обер-прокурору и членам Синода, и при переговорах по этому делу с первоприсутствующими мы убедились, как много значило и для этих высших духовных сфер имя В.О., стоявшее под этой запиской.
Тогда эти наши ходатайства имели успех, но успех был недолгим, и вскоре последовала реакция.
Тут обнаружилась дифференциация в составе нашей корпорации.
Все искренно преданные началам автономии сгруппировались около В. О., но мы оказались в меньшинстве.
Скоро началась расправа с академической автономией, и первой жертвой личных счётов был мой товарищ, профессор П. В. Тихомиров *, в деле которого В. О. принял самое горячее участие.
Группа профессоров, с ректором епископом Евдокимом2 во главе, не замедлила при первой же возможности свести счёты с В. О. В начале 1906-1907 годов он подал прошение об отставке. Группой преданных ему профессоров сделана была попытка удержать его, и были все основания думать, что В. О. останется.
Но епископ Евдоким и его единомышленники поспешили дать движение этому прошению, не дождавшись ответа на предъявленную ему советом профессоров официальную просьбу о продолжении службы, и В.О. получил отставку. Тогда же несколько академических профессоров и преподавателей, в том числе и я, печатно протестовали против способа увольнения В. О.
Личные наши отношения с ним продолжались до последнего времени.
В последний раз я видел В. О. чуть не накануне того дня, когда он лег в больницу; это было перед самой поездкой в Петербург по тому делу, которое закончилось моим увольнением из академии.
По возвращении я уже не видался с В. О., так как считал для себя непозволительным волновать его, больного, своим появлением, которое, конечно, дало бы повод к разговорам об академических делах.
Смерть В. О. для меня — тяжелая утрата не только учителя, но и человека, близкого друга...
А. И. ПОКРОВСКИЙ
<Воспоминания о В. О. Ключевском>
По первым впечатлением огромной невознаградимой утраты, понесенной всем русским обществом со смертью В.О., нам, имевшим счастье довольно близко лично знать его, видеть его в обычной служебной и жизненной обстановке, наслаждаться непосредственным очарованием его живой, пленительной беседы, хочется думать и говорить о нем не как о глубоком, талантливом мыслителе, не как о крупнейшем, выдающемся ученом, не как о тонком психологе и несравненном художнике слова, а просто как о хорошем, милом, славном и обаятельном человеке, как о дорогом и незабвенном Василии Осиповиче.
Студенческие воспоминания
Нечего, конечно, и говорить о том, что и в наше время (середина 90-х гг.) лекции В. О. были самыми любимыми и популярными, собиравшими в его первую аудиторию почти всю наличную академическую молодежь. Невольно вспоминается из более позднего, университетского времени, что творилось здесь с его аудиторией. Новейшую историю В. О. обычно читал в университете по субботам от 12-ти до 2-х час., в самой обширной, так называемой «богословской» аудитории. А часом раньше, между 11-12, здесь же читал свою лекцию профессор богословия, недавно тоже скончавшийся. Начинал свою лекцию о. протоиерей при более чем скромном количестве слушателей. Но чем дальше шло время, тем полнее становилась его аудитория, и лекция по богословию заканчивалась при переполненном зале. Но мы напрасно бы отнесли это на счет интереса университетских студентов к богословию; объясняется все это гораздо проще: это были... то были жаждущие попасть
на лекцию В. О. и стремившиеся заблаговременно занять места в аудитории.
Из времени своего студенчества живо помню юбилейное чествование В. О. (в 1896 г.), когда на мою долю выпала высокая честь сказать приветствие юбиляру от лица его благодарных академических слушателей. В ответ на наше приветствие растроганный юбиляр искренно и тепло благодарил в нашем лице всех его «старейших» слушателей, в которых он столько всегда видел высокого интереса и горячей любви к его науке.
В. О. в профессорской комнате
Это, без сомнения, одно из самых характерных и колоритных воспоминаний. Лекции В. О. обычно назначались на понедельник и вторник. И в оба эти дня профессорская комната превращалась в настоящий академический клуб, куда собирались все свободные профессора и прочие служащие в академии, а нередко спускалось и само начальство. Душой этих импровизированных собраний бывал, разумеется, В. О., который в течение 2-3 часов приковывал к себе всеобщее внимание. Это были какие-то особенные, совершенно своеобразные беседы, которых невозможно описать и передать. В них не было и нет пошлости, а одно живое, искрящееся остроумие. Не был в них и прямой открытой критики общественных и социальных зол, не было ничего личного и злободневного: беседа преимущественно вращалась в области богатых исторических воспоминаний В. О. Но она велась всегда так искусно, что аналогия и выводы из современности напрашивались сами собой и становились неотразимо убедительными. Все это обобщала и дополняла личность самого рассказчика, его живая, подвижная фигура, его особая интонация голоса и его необыкновенно развития мимика лица и глаз. Вообще, «в дни Василия Осиповича» в профессорской царила какая-то исключительная атмосфера всеобщего оживления и веселья, превращавшая мрачных пессимистов в жизнерадостных оптимистов.
Отдых В. О. в Академии и Посаде
В. О. любил и ценил академию. Сказалось здесь, вероятно, его происхождение из духовной среды, его первоначальное воспитание в духовной школе и его глубокое уважение к некоторым деятелям церковно-богословской науки (А. В. Горскому1, Е. Е. Голубинскому2 и др.). Не осталось, разумеется, без влияния
и то, что академия, так сказать, впервые открыла В. О., когда пригласила его к себе профессором и дала возможность развернуться его таланту. Сам В. О. обычно говорил, что в Посад он ездит освежиться и отдохнуть. И действительно, он проводил здесь время непринужденно в обществе своих ближайших академических друзей. В понедельник после обеда его нередко можно было видеть или пришедшим посмотреть на студенческий каток, или прогуливающимся по саду и его окрестностям. Не прочь был В. О. принять участие и в скромной товарищеской пирушке, причем и здесь все сводилось, главным образом, к неистощимым остроумным рассказам В. О. Пытались иногда сажать здесь В. О. за карты — за винт. Но обыкновенно из этого ничего не выходило: В. О. все продолжал возвращаться к своим рассказам и безнадежно путал игру, причем он, имевший огромную историческую память, говаривал своим партнерам: «Удивляюсь, как это вы можете помнить все эти объявления и взятки? Я никогда ничего этого не помню»...
Последние воспоминания о В. О.
Они приурочены к двум, совершено разнородным фактам. Первый факт, это — продолжительная и оживленная беседа, которую В. О. вел в 1 'А года тому назад в гостях у одного из своих друзей. Здесь, во время этой длинной ночной беседы, В. О. впервые встал передо мной в значительно ином освещении. Вместо тонкой иронии и благодушного юмора речь В. О. дышала искренним негодованием и сильной критикой различных недостатков богословской науки и злоупотреблений в церковной жизни. Он смело и метко обличал показное, монашеское благочестие, мертвую схоластику, лицемерие и ханжество и в особенности клерикальный бюрократизм, который так легко и свободно расправляется со всем, что стоит на его пути.
В последний раз я виделся с В.О. на похоронах С. А. Муромцева3. Здесь мне особенно врезалась одна сцена, как В. О. бледный, худой, с землистым цветом лица выносил гроб из церкви...
Ключевский и волнения в Духовной академии
Одно лицо, близко стоявшее к В. О., рассказывает интересную страничку из академической жизни периода 1905-1906 годов,— времени волнений в Духовной академии.
Во время беспорядков конца 1905 и начала 1906 годов, коснувшихся вместе с другими учебными заведениями и академии, ректор еп. Евдоким обратился с воззванием к студентам, в котором призывал студентов успокоится, прекратить беспорядки, указывая, что в университете уже все успокоились и университеты приступили к работе. О последнем будто бы ему, еп. Евдокиму, сообщил В. О. Ключевский. Упоминая о В. О. Ключевском, еп. Евдоким знал, что делал. Расчет был вполне правильный.
Это была игра на чувстве глубочайшего уважения и доверия студентов В. О.
Экземпляр воззвания попал вечером в руки В. О. Ключевского, очень дорожившего и глубоко ценившего теплое отношение к нему студентов.
Всегда сдержанный, спокойный, никогда не раздражавшийся, В. О. в первый раз в жизни вышел из себя. Беззастенчивая политика еп. Евдокима буквально привела его в неистовство.
Всю ночь он не спал от волнения.
Утром, бледный, взволнованный, явился к епископу. В присутствии некоторых профессоров академии произошло бурное объяснение.
В. О., обычно сдержанный, корректный, на этот раз не мог сдержать своего гнева и кричал,— именно кричал,— на ректора:
— Все, что я вам говорил об университетских делах, я говорил в частном разговоре, и вы не могли упоминать этого в печатном
объявлении! А о том, что университет успокоился, я вам вообще не говорил!
Еп. Евдоким напрасно пытался уладить дело.
— Это пустяки,— говорил он.— Дело семейное, частное.
— Частные дела могут быть у вас в кабинете! В учреждении не может быть частных дел!
Ректор снова пытался убедить В. О., что все это пройдет, забудется.
— Никогда это не забудется! Тысячи студентов прочли это воззвание и поверили ему!
И долго еще узнавшие об этом студенты вспоминали этот единственный случай, когда мягкий и сдержанный В. О. потерял равновесие.
П. ПОГОЖЕВ
Первая работа В.О. Ключевского
Когда умирает человек большой известности, а тем более знаменитость,— всякая подробность его жизни имеет значение и заслуживает быть отмеченною. Пишущий эти строки хорошо помнит В. О. Ключевского во времени его молодости и студенчества. Это было в начале шестидесятых годов, когда мы одновременно были на историко-филологическом факультете Московского университета, Ключевский студентом, а я сторонним слушателем. Оба мы слушали тогдашних профессоров, а в особенности увлекались лекциями С. М. Соловьева, Ф. И. Буслаева и Ешевского1.
Не знаю, как теперь, но в то время существовал обычай литографирования лекций наиболее любимых профессоров. Знакомство мое с В. О. Ключевским завязалось на почве издания лекций профессора истории Ешевского. В. О. обладал необыкновенной способностью быстро схватывать произносимое с кафедры и заносить это на бумагу скорописью. У меня сохранились лекции проф. Ешевского по истории Средних веков, писанные литографскими чернилами рукою самого Ключевского, и я храню их, как своего рода реликвию. Издание этих лекций бралось студентами нарасхват, чему много способствовали как интерес изложения, так и доступность цены, не превышавшая расходы по литографированию. Самый труд записывания лекций был далеко не легок: нужно было записать лекцию во время произнесения ее с кафедры, затем обработать ее, придав литературную форму, наконец, написать литографскими чернилами. Так как издание выходило периодически, по мере чтения лекций и литографирования их, то, конечно, мне приходилось часто
видеться с В. О. по этому поводу. Кроме того, мы с ним встречались еженедельно, по пятницам, у профессора Ф. И. Буслаева, у которого в эти дни были устраеваемы для студентов своего рода журфиксы. Сам профессор обыкновенно занимался у себя в кабинете, студентам же предоставлял в пользование свою богатую библиотеку. Нередко случалось, что Фёд. Ив. выходил из кабинета и принимал участие в студенческих беседах. Отношения между ним и студентами были почти товарищеские. Это может подтвердить каждый, который, подобно мне, остался в живых и помнит то доброе старое время.
Р.Ю. ВИППЕР
Памяти великого учителя
(Письмо в редакцию)
В настоящую минуту, когда так близка тяжелая утрата дорогого, бесконечно любимого человека, нет возможности оценивать создания его жизни. Только в самых общих чертах хочется отметить то, что дал нам его несравненный гений.
О том, чем был В. О. Ключевский как историк русского народа и русского общества, лучше и полнее меня сказали и, конечно, еще скажут специалисты русской истории. Моя цель — напомнить, чем был В. О. для всех нас, историков в широком смысле, какой великой силой был его талант в области всеобщей истории. Все мы, слушатели и ученики В. О., что он всегда рассматривал разработку русской истории с высшей, общей точки зрения. Как ни высока была в его глазах патриотическая задача изучения прямого прошлого нашего народа, но еще более важным считал В. О. познание нашей местной истории как живой доли, органической части общечеловеческого развития; знакомство с ней открывает путь к пониманию общих условий существования человеческих обществ. Но В. О. не только с необычайной ясностью понимал и формулировал задачу общего историка,— он и выполнял эту роль с замечательной силой и яркостью, он был нашим общим учителем в исторической науке, взятой в ее целом. Я принадлежу к тому счастливому поколению, которое в студенческие годы пережило подъем конца 70-х годов прошлого века и среди него услыхало впервые слово В. О. с кафедры Московского университета. Что он нам принес?
Мы знали давно выставленное требование, чтобы наша наука сделалась, наконец, из истории государства историей народа. И, однако, эти слова оставались добрым пожеланием: истории народа никто не умел представить вживе, и никто в университете не сумел бы нам даже сказать, какова она будет. И чем сильнее мы отдавались
великой социальной вере того времени,— народничеству',— тем более мы чувствовали этот огромный пробел, эту отсталость научного изучения и изображения сравнительно с властными требованиями общественных идеалов. В то же время мы читали в ученой литературе о новых задачах, выдвинутых наукой на Западе: теория гласила, что политические отношения, формы власти должны быть рассматриваемы лишь как поверхностные знаки более глубоких процессов социального перерождения: история народа должна быть социальной историей, исследованием судеб, образования, роста и разложения общественных слоев со свойственными им интересами и понятиями. Опять налицо была формула, было неопределенное искание, а не было исполнения.
В. О. дал нам в первых же курсах своих, читанных с конца 1879 года, социальную историю и притом в виде законченного целого, выполненного художественно-научного произведения. Он показал нам, какой она должна быть, и прежде всего поражало, что в его концепциях и картинах не чувствовалось схемы, не видно было скелета школьного построения; это был живой, как бы естественно возникший организм. Притом всякий вопрос русской истории поднимался на высоту вопроса общей истории. Начало Русского государства представлено у В. О. как соединение торговых республик с бродячими дружинами. Не открыл ли В. О. вообще одну из типичных комбинаций возникновения государства? Прикрепление крестьян в Московском государстве, по объяснению В. О., составляет результат частной практики поместных хозяев, системы задолженности сельских рабочих, которая превращает их в крепостные лица и места раньше, чем начинает в эти отношения вмешиваться государство. Верно или нет было объяснение В. О. к данному случаю, но оно властно поднимало общий вопрос: не найден ли здесь один из типичных путей, которым проходило прикрепление крестьян в странах Запада, в Римской империи, вообще в различные времена?
Мы получили в оригинальных, ослепительных, глубоких объяснениях В. О. не только ряд общих построений; мы тут же видели средства и приемы разработки социально-исторических вопросов, которые сами могли и должны были применять к разнообразным историческим эпохам, интересовавших нас как специалистов в той или другой области. И в этом смысле В.О. становился руководителем всего исторического изучения у нас. Если в Московском университете 40-е и 50-е годы неразрывно связаны с именем Грановского как вождя идей, то В. О. Ключевский дает имя нашей
исторической науке последнего 30-летия, начиная с 80-х годов прошедшего столетия.
Многих из нас занимало выяснить, у кого же в свою очередь учился В. О. искусству социально-исторического прозрения. Когда я раз спросил о том В. О., он ответил указанием на два источника: один — «История цивилизации» Гизо2; другой — впечатления, вынесенные В. О. как студентом в годы освобождения крестьян. Ответ был очень интересен в качестве автобиографической характеристики, но он тем не менее не мог удовлетворить. Ведь в самом деле, Гизо читали поколением раньше В.О., но никто не извлек из композиций французского историка методов и концепций социальной истории. Эпоха освобождения крестьян была громадным общественным катаклизмом, полным великих уроков, но лишь гениальный ум может найти их и указать их другим.
После этого разговора как-то не хотелось больше ставить вопрос о «влияниях», под руководством которых сложилось историческое мировоззрение В. О. Эти влияния — та же жизнь, те же впечатления, которые прошли одновременно перед глазами многих других. В отдельных частностях мировоззрения такого творца и обладателя идей мы найдем воздействие умственных и общественных течений времени; но то целое, в которое слились его мысли, составляет чудесную тайну, не сводимую ни на какие школы и посторонние влияния. В редкие моменты слагается изумительно счастливое сочетание умственных сил, глубокое прозрение, яркое ясновидение, чудный дар живого художественного слова, зажигается светоч, в лучах которого собираются все, кто хочет мыслить и работать.
Ю.В.ГОТЬЕ
Университет
<Фрагмент>
Перехожу к преподаванию русской истории, которая так меня захватила, что этот предмет стал предметом всей моей жизни. Незабвенный В. О. Ключевский читал русскую историю на 2-м курсе для всего факультета 4 часа: в среду от 11 до 1 ч. и в субботу от 12 до 2 ч. Для специалистов-историков 3-го и 4-го курсов он вел семинарий по четвергам от 12 до 2 ч. Первое мое свидание с Ключевским относится еще к середине 80-х годов, когда мой дядя, только что окончивший курс медик, впоследствии профессор Эд. Вл. Готье1, рассказывал, что в бытность в университете он иногда слушал лекции Ключевского и отзывался восторженно о них и об отдельных ученых работах Ключевского, которые он читал, о том, что Ключевский знаменитый профессор и что его лекции самые интересные на всем факультете, что я твердо знал, поступая в университет. На первом курсе я не раз бегал слушать его, когда, например, было невтерпеж сидеть на лекциях Фортунатова2. На 2-м курсе я не пропустил ни одной лекции, за исключением второй и третьей, которые мне пришлось пропустить по каким-то неотложным житейским обстоятельствам. Их я наверстал, будучи на 4-м курсе. Таким образом, я взял все, что мог от лекций Ключевского, а учебный 1892/93 год был, на мое счастье, длинным, и В. О. дочитал до освобождения крестьян.
Мне нет нужды писать здесь о самом «Курсе» Ключевского и его общем значении. Изданный позднее в обработанном виде самим автором, он по всей России стал настольной книгой. В наше время курс официально не издавался. Профессор согласился только на издание краткого «пособия», которое потом также вышло из печати и выдержало несколько изданий. Пособие и к нему учебник Соловьева3 — вот, что требовалось от нас на полукурсовом
экзамене и потом снова — на государственном. Но неофициальные издания, выпускаемые предприимчивыми студентами с прежних литографированных изданий, появлялись довольно часто. Было такое издание и в тот год, когда мы слушали В. О., оно долго, впредь до издания «Курса», служило моим настольным справочником.
Курс русской истории В. О. Ключевского в основных чертах своих сложился еще в 70-х годах. Отсюда параллелизм некоторых его мест с «Боярской думой»4, созданной как раз в то время. В начале 90-х годов В. О. мог вставлять туда некоторые новые подробности, особенно применительно к XVIII веку, которым он, как видно из его трудов, более всего занимался в 90-х годах. Но в массе своей курс был готов, и его В. О. читал из года в год. Но так как он не мог вычитать всего имеющегося у него материала, то он по разным соображениям выпускал одно и подробнее останавливался на другом. Так, например, нам он не читал отдела о расколе (см. т. 3 Курса). Впрочем, он сам мне позднее говорил, что этот отдел он редко читал в университете, тогда как в Духовной академии читал его постоянно. Вот эти пропуски и добавления некоторых подробностей и составляли те небольшие изменения, которые отличали лекции одного года от лекций другого. В остальном он оставался без перемен. Я, например, два раза (на 1-ми 2-м курсах) прослушал лекцию об Иване Грозном. Она была повторена в тех же словах, что произвело на меня впечатление расхолаживающее, хотя, если подумать, то ведь нельзя же было требовать, чтобы профессор на протяжении года об одном Иване IV мог рассказать так, чтобы одна лекция не была похожа на другую.
Лекции Ключевского были замечательны не только содержанием, но и тем, как В. О. их читал. Это то, что могут знать только те, которым выпало на долю наслаждение его слушать, и что совсем не ведают и не чувствуют миллионы читателей его знаменитого курса. Когда я думал об этом, мне вспоминалось очарование лекций Грановского, которое испытывали его слушатели и которое осталось закрытой книгой для позднейших поколений. Я знаю, что передать непосредственного обаяния лектора нельзя, но все-таки мне хочется остановиться на этой стороне лекций Ключевского, чтобы по мере сил, по крайней мере, объяснить тайну его обаятельного влияния на слушателей. Одетый в синий форменный фрак, он бодрой, довольно спешной походкой, немного сгорбившись, входил в аудиторию, щуря близорукие глаза и просматривая мимоходом на студентов. Взойдя на кафедру, В. О. никогда не садился, всю лекцию он читал стоя, склоняясь над своими записками, которые
он приносил в черном портфеле и раскладывал на одном, преимущественно левом, из двух боковых столбиков, обрамлявших довольно неудобные старые университетские кафедры. Разобравшись в бумагах, он начинал читать негромким голосом, который потом возвышался несколько, однако, не бывал никогда очень громким и не принимал ораторского характера.
Лекция лилась тихо и плавно с небольшими паузами, которыми В. О. иногда чрезвычайно искусно скрывал свое легкое заикание, она проникала и пронизывала слушателей своим легким текстом, никогда в то же время не будучи монотонной. Напротив, это была необыкновенно живая речь, красота которой возвышалась и своеобразным красивым слогом, и богатством русской речи, и исключительно живой интонацией. Интонациями и паузами В. О. выдвигал и подчеркивал то, что хотел, чтобы слушатели отмечали. И он действительно достигал этого. Глаза его, которые он то поднимал, то опускал в свои записки, при этом искрились за очками какой-то неуловимой тонкой улыбкой. Казалось, что он, говоря о деятелях и явлениях русской истории, рассказывает о лицах и событиях, им лично виденных. И Ивана Калиту, и какого-нибудь мелкого удельного князя, и царя Ивана, и Алексея Михайловича, и Петра, и далее всех, включительно Екатерину II, он, казалось, видел и знал. И это действительно было почти так. Это достигалось не только редким знанием им своего предмета, но еще единственно ему свойственной способностью проникнуть в душу русского народа и русского человека, понять его и в его настоящем, и в его прошлом и, наконец, столь же исключительной способностью владеть выразительной и богатой русской речью. Русский язык он внутренне понимал и владел им так, как он понимал и знал русскую душу. Громадным знанием, даром живо и проникновенно понять русский народ и русскую душу и свою любовь облечь в какую-то своеобразную, но тоже понятную русскому человеку дымку добродушия, своеобразно красивой речью, живость которой усиливалась особой, ему одному свойственной интонацией,— всем этим он уловлял наши души и заставлял полюбить историю родной страны. Вот, как мне кажется, то, что составляло неизъяснимую прелесть лекций В.О. Ключевского, что он унес с собой и чего не могут понять те, кто его не слышал.
Окончив лекцию, В.О. торопливо собирал записки в портфель и, также сгорбившись, выходил из аудитории, а мы, как это часто бывало, его провожали аплодисментами. Тут он, сделав испуганное лицо, ускорял шаг, исподлобья боком бросал сердитые взгляды
на студентов и отмахивался от них обеими ладонями рук. Я позднее поймал этот вид и эти жесты у Шаляпина5 в роли Ивана Грозного, кажется, в опере «Псковитянка»6. Певец ходил по поводу этой роли советоваться с В. О. и, слушая ответы профессора, видимо, подметил такие интересные для себя жесты и мимику.
Экзаменатором Ключевский был спокойным, «справедливым» и его полукурсовой экзамен, помнится, прошел вполне благополучно, провалов было мало. Для исторического отделения Ключевский вел, как я уже сказал, семинарий, но он его не любил и тяготился им. Мне, впрочем, довелось заниматься в этом семинарии только в последнем семестре. Весь 1893/94 академический год и часть осеннего полугодия 1894/95 года В.О. провел в Аббас-Тумане, читая лекции в. кн. Георгию Александровичу7. Его семинарий был в сущности также лекциями, но только лекциями специальными. Он делал обзор источников русской истории. В краткое время, в которое он занимался с нами, он читал нам о летописях и об источниках для изучения Смутного времени. Это было очень содержательно и не менее интересно, чем его общий курс, особенно для тех, кто, подобно мне, уже специализировался на русской истории. Однако, вследствие краткости семинария, для меня в университетском преподавании Ключевского центральное место занял его курс. Именно этот курс сделал материал русской истории особенно близким и подготовил почву для моих специальных занятий в семинарии 3-го курса, который за отъездом В. О. в Аббас-Туман был поручен профессору Павлу Николаевичу Милюкову.
д
А. А. КИЗЕВЕТТЕР
В. О. Ключевский как преподаватель
Двадцать семь лет тому назад обаяние имени Василия Осиповича Ключевского привлекло меня в московский университет с юго-восточной окраины России. В 1884 году я впервые увидел и услышал своего будущего учителя. Я живо представляю себе Ключевского, каким я увидел его тогда, входящего на кафедру в несуществующей уже теперь «большой словесной» аудитории московского университета, чтобы начать нам, первокурсникам, свой общий курс русской истории. Пока Василий Осипович усаживался на кафедре — тогда он читал сидя, только впоследствии он стал читать не иначе, как стоя,— мы пристально всматривались в его лицо, обрамленное в то время небольшой, несколько заостренной черной бородкой и черными же волосами на голове, одна прядь которых всегда характерно свешивалась поперек лба. Его лицо приковывало к себе внимание необыкновенной нервной подвижностью, за которой сразу чувствовалась утонченная психическая организация. Только главное украшение этого лица, удивительные по выразительности и глубине взгляда глаза оставались по большей части полускрытыми, вытянутыми в щелки вследствие сильной близорукости Василия Осиповича и лишь временами, на краткий миг сверкали они на аудитории черным огнем, довершая своим одухотворенным блеском силу обаятельности этого лица.
«Таков и должен быть истинный ученый, погруженный в сложную работу духа», думал я, пока Ключевский еще не произнес ни слова.
А затем зазвучала тихая речь Василия Осиповича, беспрерывно поражавшая неожиданно-своеобразными интонациями, ослепительно-яркими образами, оригинальнейшими оборотами пытливой и острой, как сталь, мысли.
И аудитория сидела покоренная, очарованная, вся отдавшаяся во власть могучего таланта.
Попытаемся же отдать себе отчет в источнике того очарования, которое испытывали слушатели Ключевского у подножия его кафедры.
Исторической науке свойственна роковая особенность. Для успешного проникновения в ее тайны необходима совместная работа таких умственных сил, которые чрезвычайно редко в равной мере совмещаются в одном человеке. Нельзя быть историком, не умея открывать в пестрой сутолоке жизненных фактов объединяющей их законосообразности. Без этого дара не будет историка, будет только рассказчик, ибо пережить прошлое в своем воображении еще не значит понять его. Но нельзя также быть историком, не умея мысленно представить себе и воссоздать словом перед другими явлений прошлого во всей их конкретности, во всем их индивидуальном своеобразии, во всей сочности присущих им жизненных красок. Без этого дара конкретного воссоздания былой жизни не будет историка, будет только резонирующий диалектик, играющий словесными формулами, ибо действительный материал истории состоит не из совокупности отвлеченных формул, а из повседневной сутолоки отдельных жизненных явлений.
И каждый историк тем ближе подойдет к действительной сущности своей науки, чем равномернее и гармоничнее совмещаются в его уме и способность силою воображения стать лицом к лицу перед материалом былых жизненных фактов, и способность обнаружить над этим материалом обобщающую власть своей мысли.
Я не знаю историка, в уме которого эти два столь разнородные дара были бы совмещены в более равномерной пропорции, нежели то было у Ключевского. Эта-та именно счастливая особенность ума нашего знаменитого историка сделала его зараз и замечательнейшим ученым исследователем, и гениальным преподавателем своей науки.
Благодаря этой-то особенности своего умственного склада он как ученый мог делать неожиданные открытия в области своего предмета, воссоздавая целые эпохи, отличительные признаки которых не удавалось учесть другим исследователям, или впервые разъясняя истинный характер таких институтов древности, которые были известны и ранее, но сущность которых ускользала от понимания прочих специалистов. Как, например, воссоздания Ключевским целой исторической эпохи, целой исторической формации, которую ранее никто не сумел отыскать между строк древних
летописей и документов, можно указать на замечательные главы «Боярской думы» ', посвященные изображению внутреннего устройства северо-восточных удельных княжеств. Правда, еще Соловьев отметил общие признаки отличия этих северо-восточных уделов от более древних княжеств южного Приднепровья. Но ведь только Ключевский — и никто ранее его — воссоздал во всей конкретности и отчетливости тот своеобразный мир отношений и порядков, который мы привыкли теперь называть жизненным укладом удельной эпохи. А в качестве образца удивительного мастерства, с которым Ключевский конструировал отдельные институты древности, достаточно назвать его исследования о происхождении крепостного права или о земском соборном представительстве в московском государстве.
И та же самая особенность его ума, отмеченная выше, давала ему как преподавателю могучую, всепокоряющую власть над аудиторией и делала для нас из его лекций истинный праздник духовного наслаждения.
Своими лекциями с кафедры Ключевский практически разрешал столь спорный вопрос о значении лекционного способа университетского преподавания. Часто не без основания говорят: зачем читать с кафедры то, что может быть с удобством напечатано в форме книги и с чем всякий будет иметь возможность познакомиться путем чтения, не утруждая себя хождением в аудиторию? Нельзя не признать это возражение против лекционной системы весьма серьезным. И только в двух случаях это возражение совершенно отпадает.
Во-первых, ученый может посвящать свои лекции, читаемые с кафедры, ознакомлению аудитории с ходом своих текущих научных изысканий, вводя слушателей внутрь своей ученой лаборатории, сообщая им приемы и подробности тех своих кабинетных исследовательских работ, которые еще не достигли законченности, необходимой для их обнародования в печати.
Ключевский, однако, не шел этим путем. Он строго различал задачи университетского курса и монографического исследования. Всего лучше можно убедиться в этом, сравнив его монографии о крепостном праве или о земских соборах с соответствующими отделами его университетского курса. При таком сравнении наглядно выясняется, с какой последовательностью и с каким искусством устранял он из курса громоздкий специальный аппарат своих исследований, чтобы тем выпуклее, тем скульптурнее представить вниманию аудитории свои конечные выводы и обобщения. С ка
федры он читал то самое, что мы находим и в печатном тексте его курса, не считая, разумеется, второстепенных, мелких вариаций.
И все-таки, кто из слышавших лекции Ключевского не согласится с тем, что слушатель его лекций получал нечто большее, нежели читатель его курса? И разве мы, его бывшие слушатели, перечитывая теперь этот курс, не дополняем каждый раз читаемого невольным воспроизведением в своей памяти голоса, интонаций, игры лица нашего учителя и разве это мысленное воспроизведение не помогает нам глубже проникнуть в намерения автора этого курса? Для тех, кто не слышал курса Ключевского из собственных уст профессора, печатный текст этого курса навсегда останется нотами, секрет исполнения которых исчез безвозвратно. Велико наслаждение читать этот курс, но оно дает лишь отдаленное понятие о том наслаждении, которым сопровождалось слушание его с кафедры. Этим дается и второй возможный ответ по вопросу о лекционной системе университетского преподавания: чтобы чтение лекций сохраняло свое значение, несмотря на существование книгопечатания, нужно читать их так, чтобы самый способ их произнесения создавал особенно благоприятное условие для проникновения в смысл читаемого. Наивысшей степенью этого дара и обладал Ключевский. Я хотел бы, чтобы меня поняли. Я говорю не об эстетических эмоциях от мастерского чтения. Конечно, такие эмоции играли важную роль в притягательной силе лекций Ключевского, но я считаю нужным отметить, что в способе чтения лекций знаменитым историком получали свое удовлетворение и чисто научно-преподавательские задачи. Я хочу сказать, что на способе произнесения лекций нашим учителем ярко отражался и непосредственно передавался слушателям самый склад его научного мышления. Вот почему, хотя бы порой и бессознательно, мы ценили слушание его лекций независимо от их прочтения по литографии или по книге, не только ради эстетического наслаждения, но и в целях самого изучения предмета.
Лекторскими приемами Ключевского как-то неуловимо, но тем не менее необыкновенно сильно подчеркивалась составлявшая наиболее характерную черту его научного мышления конкретная основа его сложных и тонких научных обобщений.
Когда Ключевский произносил свои лекции, с виртуозным искусством обозначая соответственными интонациями всякий оттенок своей мысли, тогда все отчетливо чувствовали, с какой прозрачной ясностью представляет себе лектор те явления исторического прошлого, на которых он строил свои обобщающие выводы. Для
меня несомненно, что Ключевский в течение своей речи мысленно видел перед собою то, о чем он говорил. Отсюда вытекало его могущественное воздействие на аудиторию в смысле психического ее заражения. Необходимый при всякого рода публичных выступлениях с устным словом психический контакт между лектором и его слушателями может достигаться различными путями. Есть ораторы, которые заражают аудиторию собственной возбужденностью, собственным повышенным настроением. Но это годится лишь при известных условиях и в особых случаях, когда самая цель чтения способна возбуждать страсти и самый предмет, о котором идет речь, является боевым кличем, волнующим сердца. Это годится скорее для политического митинга, нежели для академической лекции. На лекциях Ключевского, под обаянием речи профессора, многочисленная аудитория нередко превращалась как бы в единое существо — до того все сливались в общем восхищенном внимании, но источник этого духовного подъема аудитории здесь был иной. Лектор захватывал и покорял внимание слушателей именно той необычайной отчетливой конкретностью, с какой он сам представлял себе предмет своего чтения, а потому и своих слушателей ставил как бы лицом к лицу с разъясняемыми историческими явлениями и процессами. Тихо звучала с кафедры речь Ключевского, и мы чувствовали себя, слушая ее, необыкновенно близко от предмета лекции, как будто тут, в самой аудитории, проносилось над нами веяние исторического прошлого. Спешу напомнить при этом, что в курсе Ключевского очень небольшое место занимает элемент рассказа, чисто фактического повествования; он вплетается в изложение курса лишь временами, каждый раз на краткий момент, только в качестве иллюстрирующих эпизодов. Почти все содержание курса составляет не повествование, а объяснение, не рассказ, но анализ общих политических и социальных процессов народной жизни. Но именно этот отвлеченный материал Ключевский, как никто, умел предлагать вниманию слушателей в наглядно-конкретной форме, так что всем чувствовалось, что его обобщения не висят в воздухе, не вымотаны сами из себя, но, как мед с цветов, сняты с зорко и отчетливо обследованных исторических фактов. Бывали и в лекциях Ключевского патетические места, когда голос лектора спускался почти до шепота и слова выговаривались с особенною многозначительною медленностью и аудитория замирала в жутком волнении. Так бывало, наприм., когда Ключевский описывал Ивана Грозного по его возвращении в Москву из бегства в Александровскую слободу и ярко обрисовывал, как разрушительно
подействовала на организм Грозного перенесенная им только что «нравственная лихорадка», или когда цитировал трогательные места из переписки царя Алексея Михайловича и т. п. Большею частью в этих случаях, доведя слушателей до напряженнейшей взволнованности, Ключевский внезапно давал выход из этого напряжения неожиданной нотой комического сарказма, и аудитория, за минуту до того едва переводившая дух в глубоком молчании, вдруг разражалась продолжительным бурным смехом. Помните, наприм., как при характеристике царя Алексея Михайловича Ключевский, дав аудитории вдоволь умилиться над сердечностью писем этого царя, приступал затем к объяснению переходного характера занятой этим царем политической и жизненной позиции и быстро исчерпывал эту тему образным сравнением царя Алексея с человеком, который лишь поднял одну ногу, чтобы переступить заветную черту в новый для него мир, да так и остался на всю жизнь в столь неудобной позе.
Эти неожиданные смены нежного пафоса ярким сарказмом вдруг давали почувствовать, что лектор, так близко подводящий слушателей к предмету лекций, сам все время остается полным властителем своего материала, всегда стоит над ним, подчиняя его силе своего анализа и строгости своей иронии. И это обстоятельство удваивало власть лектора над аудиторией, ибо аудитория всегда инстинктивно требует, чтобы лектор, заставляя ее волноваться, сам оставался твердым господином своих чувств и настроений.
Так, удивительный дар схематизации сочетался в Ключевском с ярким чутьем конкретного. Если он настойчиво учил из-за деревьев не упускать из виду леса, то, с другой стороны, и самый этот лес изучаемых им исторических явлений интересовал его не только своими общими очертаниями, как смутное пятно, виднеющееся на горизонте исторического кругозора, но и всем шумом копошащейся в этом лесу действительной жизни. Лишь конкретные наблюдения над историческими фактами считал он надежной отправной точкой для серьезных, обобщающих выводов, и потому-то он неизменно стремился к тому, чтобы научные схемы исторического процесса отнюдь не стирали пестроты и многообразия жизненных явлений, а наоборот, вбирали эту пестроту и многообразие в свои рамки.
Из этих методологических посылок вытекало и особенное отношение Ключевского к так называемому сравнительно-историческому методу изучения истории. В противоположность увлечениям многих социологов, склонных понимать применение этого метода в смысле выдвигания на первый план сходственных черт
в однородных явлениях различных местных историй, Ключевский обнаруживал всегда особенный интерес к определению местных вариаций исторических процессов, к изучению своеобразия каждой местной истории. Конечно, этот интерес вытекал у него не из отрицания общих законов развития человеческих обществ. Как раз наоборот. Он полагал, что эти общие законы всего успешнее могут быть выявлены именно путем предварительного учета всех местных вариаций, без достаточного внимания к которым применение сравнительно-исторического метода легко сбивается на слишком скудные содержанием шаблоны и вместо отыскания единства в многообразии нередко получается голословное отрицание подлинного многообразия исторической действительности ради какой-то фантастической, произвольно придуманной, чисто книжным путем выведенной однотонности исторического процесса. А Ключевский дорожил лишь такими научными схемами, которые не мертвили, а оживотворяли исторический материал, не суживали, а расширяли подлежащее научному объяснению богатство исторических наблюдений.
Это постоянное стремление Ключевского к конкретизации исторического анализа чувствовалось и в таких излюбленных им преподавательских приемах изложения, как аналогии и сравнения. В целях наглядности исторического изучения он любил уподоблять явления древней жизни тому, что слушателям было знакомо из окружающей их действительности. С этим приемом нередко встречаешься в его лекциях. Начальника Челобитного приказа XVI столетия он называет, наприм., статс-секретарем у принятия прошений на Высочайшее имя; Боярскую думу XVI-XVII веков он сравнивает с Советом министров и т. п. Эти пояснительные уподобления никогда, однако, не переходили у него в то, что мы называем модернизацией исторической старины. Скорее можно сказать, что он употреблял такие уподобления лишь в качестве школьного приема, для того, чтобы привычными для уха слушателей выражениями облегчить им подход к пониманию того, что прикрывалось некогда древними терминами. Но сближая подчас древнюю и новую терминологию, Ключевский был горячим противником смешения древних и новых понятий, этого навязывания старине наших современных представлений, которое столь искажает в нашем сознании перспективу исторических явлений. Как раз наоборот. Познакомьтесь тщательно с его курсом и вы убедитесь в том, что на всем пространстве этого курса особенное внимание лектора устремлено на определение того расстояния,
которое отделяет наши понятия от мировоззрения и склада мысли, лежавшего в основе древних жизненных порядков и отношений. В этом направлении прозорливость Ключевского достигала изумительного совершенства, необычайной изощренности. Напомню в виде примера его блестящий анализ государственных понятий, которые царили в умах русских людей до Смутного времени и тех переломов, которые обнаружились в этих понятиях к началу XVII века в связи с событиями Смуты. Целый ряд непонятных с нашей точки зрения явлений политической истории московского государства объясняется здесь господством в умах того времени вотчинно-династического взгляда на государство. А самая «смута», разыгравшаяся на Руси на рубеже XVI и XVII столетий, оказывается в разъяснении Ключевского симптомом нарождения в сознании русского общества новых, чисто государственных воззрений на отношение граждан к правительственной власти. До конца XVI века люди московского государства не умели обнаруживать своего недовольства существующими государственными порядками в форме политических восстаний; недовольные ограничивались лишь уходом за пределы владений московского государя. Так бывало потому, что государство считалось в то время достоянием не народа, а династии, и когда московским людям становилось тяжело от существующего порядка, они не стремились переделать порядок, а бежали из государства подобно тому, как слуги или квартиранты, недовольные хозяином дома, не требуют изменения в поведении хозяина, а оставляют дом, не считая его своим. И только когда династия пресеклась и государство вдруг оказалось ничьим, люди пришли в брожение, утратив привычную почву прежних воззрений и впервые почувствовав себя самих хозяевами и устроителями русской земли. Так смута, вспыхнувшая на Руси по смерти последнего представителя старой династии, явилась, согласно этому объяснению, лишь болезнью роста политического сознания у русского общества того времени; государственный бунт оказывается в результате этого анализа симптомом начавшейся переработки старых вотчинных воззрений на существо власти в новые, истинно-государственные идеи.
Во втором и третьем выпусках курса Ключевского мы и находим тонкий анализ многих государственных учреждений Московской Руси, разъясняющий своеобразие этих учреждений именно в связи с общим переломом в строе политического мышления людей московского государства. Рисуя перед слушателями древние институты, Ключевский, как никто, умел показывать их освещенными
изнутри; умел вскрывать и разъяснять то, как сами современники понимали их смысл и значение.
Благодаря этому дару проникновения в строй жизни и мысли отдаленных от нас эпох Ключевскому удавалось вбирать в свои исторические построения былую жизнь со всеми ее противоречиями, со всей ее пестрой непоследовательностью. Именно поэтому от его ученых схем и обобщений всегда веет такой жизненностью. Как часто историки, стремясь к законченности своих выводов, вольно или невольно оскопляют историческую действительность, отбрасывают в сторону непослушные их схемам факты, лишь бы свести к стройному единству свои наблюдения над историческим материалом. Ключевский любил идти иным путем. Исторический процесс никогда не рисовался ему в виде геометрического чертежа. Обилие противоречий в рисунке этого процесса было для нашего учителя лучшим доказательством верности такого рисунка исторической действительности. Он считал наибольшей ошибкой подходить к разрешению исторических загадок с вопросом: «да или нет», ибо жизнь всего чаще отвечает «ни да, ни нет», и я не знаю историка, который умел бы столь чутко и тонко, как Ключевский, охватывать своим анализом всю пестроту присущих историческим явлениям жизненных противоречий. Оттого он был так силен в изучении стихийной динамики исторических явлений, оттого он так ярко умел освещать мало оформленные, не подходящие ни под одну из привычных нам категорий учреждения древности.
Такова, например, его конструкция политических отношений между царем и боярством в московском государстве XVI столетия. Царь и боярство того времени являлись яростными врагами и вели ожесточенную борьбу. Значит, их стремления были противоположны? Таково самое естественное заключение с точки зрения формальной логики. А Ключевский во всеоружии фактов отвечает: нет, царь и боярство смертельно враждовали друг с другом во имя одной и той же, общей им политической программы.
Боярство, восставая на царя, требовало того же, что делал и сам царь, а царь, воздвигая грозу на бояр, не мог ступить шагу, не опираясь на содействие боярства. «Но ведь это бессмыслица»,— воскликнет иной строгий логик. «А откуда вы знаете, что в жизни не бывает бессмыслиц?» — ответит на это прозорливый историк и тут же укажет на ту почву, на которой такая бессмыслица могла вырасти: борьба царствовавшего дома с боярством имела в XVI веке не политический, а династический источник, и потому-то общность
политических стремлений не предотвращала самой острой вражды между царем и боярством.
Подобные построения, тонкой иглой врезавшиеся в самое существо изучаемых явлений, Ключевский предлагал слушателям с наглядной ясностью, которая порой граничила с осязаемостью.
Важную роль в составе его преподавательских приемов играли при этом те высокохудожественные сравнения, которыми он любил расцвечать свое изложение. Художественность этих сравнений, помимо их необычайной красоты и меткости, состояла в том, что они никогда не носили книжного, гелертерского2 характера. Материал для этих сравнений всегда был взят из житейской повседневности. Конечно, прибегая к сравнениям такого рода, Ключевский прежде всего отдавал непроизвольную дань своему художественному темпераменту, который с такой роскошью красок проявлялся в его знаменитых личных характеристиках исторических деятелей и не с меньшей яркостью сверкал в отдельных афоризмах, внезапно вплетавшихся в изложение иногда очень сухих историко-юридических или экономических вопросов.
Порою такие афоризмы служили лишь литературным украшением стиля, срывались с языка и пера Ключевского лишь как непроизвольный плод его могучего воображения. Рассказав, например, о легендах, возникших в новгородском обществе после падения политической самостоятельности Великого Новгорода, Ключевский прибавлял: «Когда разрушается сильный физический организм, его разрушение сказывается тяжкими вздохами и стонами; когда гибнет общественный союз, живший долгой и сильной жизнью, его гибель обыкновенно предваряется или сопровождается легендой. Оттого и новгородцы окружили воспоминание о падении своей вольности многими легендарными сказаниями, тогда как удельные княжества низовой Руси кончали свое самостоятельное существование молча, стиснув зубы, как умирает великорусский крестьянин» *.
В громадном большинстве случаев, однако, художественные сравнения Ключевского преследовали чисто учебную цель. Он знал, конечно, что в его всегда многочисленной аудитории находятся люди, которым легче мыслить отвлеченными понятиями, и другие, которым легче мыслить конкретными образами. Сам в совершенстве владея обоими способами мышления, он хотел привести всех своих
* В печатном тексте курса соответствующее место изложено несколько иначе. Я цитирую по собственной дословной студенческой записи.
слушателей к одному уровню понимания своих сложных и глубоких построений, и потому-то так часто в его изложении мысль, высказанная в отвлеченной форме, подкреплялась образом, всегда сверкавшим неотразимой художественной красотой.
Иногда такое сравнение приводилось с явною целью — пояснить трудное по сложности наблюдение наглядным и простым примером. Ключевский объясняет, например, источники кризиса политического самосознания русского общества в эпоху смуты конца XVI века и дает при этом такой великолепный пояснительный образ: «Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так смутные времена народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и при виде их люди, привыкшие замечать лицевую сторону жизни, невольно задумываются и начинают думать, что они доселе видели далеко не все».
Иногда с помощью таких образных оборотов сложная мысль сжималась в возможно более краткую и яркую формулу. Например, Ключевскому нужно сопоставить темп политической жизни вольного Новгорода и вольного Пскова, и он исчерпывает это сопоставление одной фразой: «Переходя от Новгорода к Пскову,— говорит он,— испытываешь чувство, точно при переходе от толкучего рынка в тихий переулок». Ему нужно очертить своеобразный характер борьбы боярства с царскою властью в XVI столетии, борьбы глухой, придавленной, тускло выраженной, и ему достаточно для этого пяти слов: «Это,— говорит он,— скорее пантомима, чем драма». Наконец, иногда он прибегает к образным уподоблениям для того, чтобы наглядно подчеркнуть связь данного отдельного явления со всем строем жизни соответствующей эпохи. Так, например, указывая на бессистемность в строе центральных правительственных учреждений в московском государстве, Ключевский замечает: «Московское управление складывалось, как строились московские государевы дворцы; вместе с ростом царской семьи и хозяйства к основному корпусу прибавлялись пристройки и надстройки, терема, светлицы, новые крыльца и переходы». И не оттеняется ли этим сравнением то важное наблюдение, что в жизни московского государства вотчинные привычки на каждом шагу брали верх над политическими принципами.
Таков был Ключевский как преподаватель с кафедры. Весь его курс представляет собою выдержанную схему русской истории. В построении этой схемы он развил могучую силу обобщающей мысли. Но эта схема не была бесплотна. Вся она опиралась на необычайное чутье ее создателя к конкретной исторической действи
тельности и на необычайный дар воспроизведения этой действительности перед духовными взорами аудитории.
Я очертил, как сумел, механику преподавания своего учителя. Но как описать то обаяние мощного творческого ума, которым веяло на нас от его лекций, которое волновало нашу мысль, зажигало в нас интерес к исторической науке! Силу и прелесть этого обаяния не разложишь на составные элементы, не представишь в точном описании. Можно точно расчленить и описать строение розы, но бессильна человеческая речь для изображения ее дивного, божественного аромата.
Мне хочется сказать еще несколько слов о Ключевском как о руководителе начинающими учеными, которых он оставлял при своей кафедре для подготовки к профессорскому званию. Во всем, что касалось научной работы, Ключевский по отношению к своим непосредственным ученикам был требователен и строг. В глубине души Ключевский был очень отзывчивым и добрым человеком. Я лично знаю случаи, когда он после длинного и тяжелого факультетского заседания, истомленный и голодный, ехал прямо из университета в отдаленный переулок и подымался по высокой лестнице в студенческую мансарду для того, чтобы, не откладывая, поскорее сообщить студенту только что состоявшееся постановление факультета, благоприятное для его дела. Многие из учеников Ключевского могли бы рассказать о тех настойчивых хлопотах, которые он добровольно брал на себя, чтобы отвести от кого-либо из них надвигающуюся беду или смягчить последствия постигших их тяжелых неприятностей. Недаром Ключевский умел так трогательно рассказывать на лекциях о «милой», как он выражался, отзывчивости царя Алексея Михайловича к душевным скорбям окружающих людей. Но в противоположность тому, как это нередко наблюдается у нас, русских, Ключевский никогда не смешивал доброту с попустительством человеческим слабостям. И потому он умел быть требовательным и строгим, когда дело касалось того, что было ему дорого, и прежде всего — его науки. Эта требовательность проистекала из высокой оценки значения профессорской кафедры как того очага, от которого должен распространяться свет истинной науки. И он правильно думал, что путь к профессорской кафедре должен вести через серьезные испытания пригодности человека к настоящей научной работе. Ключевский умел широко раскрывать духовные объятия, но ученик должен был сначала доказать свое право на это, а доказать это право в глазах Ключевского можно было только проявлением самостоятельности в области научной
работы. Учиться быть ученым значило, по мнению Ключевского, не ходить на помочах или костылях постоянных советов учителя, а уметь самостоятельно подметить в работе учителя и воспринять для себя то, что составляет зерно и душу настоящего научного творчества. Я думаю, что Ключевский в данном случае правильно понимал свою учительскую миссию и являлся истинным жрецом своей науки, ревниво оберегавшим огонь на ее алтаре.
С той же суровой, но здоровой требовательностью, внушаемой серьезным отношением к идее гражданского долга, подходил Ключевский и вообще к оценке людей, в особенности тех, кому предоставляется возможность вязать и решить судьбы страны. Ключевского, ввиду строгости его личных оценок, нередко называли скептиком. Не думаю, чтобы это название было точно. Ведь настоящий скептицизм проистекает прежде всего из неспособности отдаться увлечению каким-либо положительным идеалом. Суровые оценки, какие Ключевский давал деятелям и их действиям, были проникнуты, наоборот, горькой мыслью о том, как мало соответствуют деяния людей тем идеалам, которые, по его убеждению, должны лежать в основе человеческого общежития.
Итак, он был не скептик, а прозорливый и строгий критик, которого нельзя было подкупить внешним блеском и показной мишурой, часто прикрывающими собою ничтожество души и мелкость ума. Потому-то он с такой болью всматривался в текущие события окружающей жизни и с такой тревогой думал о дальнейших судьбах родины. В последнее время он говорил о наших политических «новостях» не иначе, как с чувством горького раздражения.
Таким он и ушел от нас, унеся с собой в могилу тревожные чувства и тяжелые думы о родной стране.
Мы, непосредственно общавшиеся с Василием Осиповичем, не можем думать о нем без чувства интимной любви к его памяти. Это чувство уже не будет, конечно, доступно последующим поколениям, но и отдаленнейшие наши потомки будут чтить Ключевского, как одного из крупнейших и оригинальнейших представителей русской культуры, который совместил в своей личности историка-ученого, историка-поэта и историка-гражданина.
М.М.КОВАЛЕВСКИЙ
Василий Осипович Ключевский
Василия Осиповича Ключевского знает вся Россия. Мне не пришлось еще встретить человека, который бы высказал сомнение насчет важности утраты, понесенной в его лице русскою наукой. В Государственном совете, без различия партий и групп, все, знавшие Ключевского на правах его товарищей, учеников или почитателей, выразили одинаковую готовность подписать текст составленной мною телеграммы; под ней стоят имена и бывших министров народного просвещения, и одного архиепископа, и членов Московского университета, и прежнего московского предводителя дворянства, и представителей академии и университетов, и одного почетного академика, Анатолия Федоровича Кони1, товарища Ключевского по выпуску; сочинение Кони на золотую медаль «О необходимой обороне» напечатано в «Университетском сборнике» рядом с сочинением Василия Осиповича, также на золотую медаль, озаглавленным «Сказание иностранцев о России». Оно вышло новым изданием много лет спустя и в значительной степени исчерпывает самый вопрос.
Почему вся Россия скорбит о смерти Ключевского и ни одна партия, ни одна группа людей не может сказать: «Он только наш, наши мысли были его мыслями, наши желания — его желаниями, мы победили с ним и в его лице. Да не посмеет никто отнять его у нас!» ?
Я полагаю, что секрет лежит в необыкновенно строго проведенной индивидуальности покойного. Ни о ком из бывших моих товарищей по преподаванию в Москве я не мог бы в равной степени сказать: «Он сам по себе». Самим по себе он был и в мнениях, высказываемых по текущим вопросам внутренней и внешней политики, и в тех взглядах, какие он проводил в своих исторических работах. Кто решится утверждать, что Ключевский был консерватором,
либералом или социалистом? А между тем в нем лежали черты, позволявшие людям односторонним причислять его к любому из этих направлений. Консерватором он, несомненно, был в том смысле, что Россия начиналась для него не Петром и даже не временем возвеличения Москвы, а веками ранее, и что в ее поступательном ходе он не прочь был отметить культурную деятельность и Печерской лавры, и Сергиевского посада, и новгородской и псковской вольницы, и объединяющей политики московских князей, с их боярскою думой.
Как для историка и всякого вообще ученого, истина была для него высшей целью изысканий; у него не было исторических пристрастий, не было встречавшегося у его предшественников желания подчеркнуть и даже преувеличить значение тех или других факторов в поступательном развитии России. Ключевского нельзя считать приверженцем ни западников, ни славянофилов, сторонником косной самобытности или заимствований чужого. Не восхвалителя Петра, а критика его реформы находим мы в авторе неподражаемых лекций по истории России. И если бы его курсу после смерти удалось завершиться новым томом,— как мы надеемся, вполне подготовленным к печати2,— читающая Россия признала бы в Ключевском такого же критика Екатерининской реформы, как и реформ Александра I.
Редко кто умел слиться с предметом своих исследований так тесно, как покойный Василий Осипович. Он жил интересами русской истории и ничем больше; он обладал своим предметом, как никто, столько же писанным, сколько и печатным материалом. Кто имел счастье посещать его на дому не в одни только вечера, отведенные для приема гостей, тот заставал его нередко за чтением рукописей, доверенных ему близкими и отдаленными монастырями. Те или другие факты, в них сообщаемые, редко когда не наводили его на новые и неожиданные мысли. Он не всегда указывал все свои источники. Я не знаю исследователя более скромного в своих цитатах и которому в большей степени было бы чуждо нагромождение их, по немецкому образцу, в нижнем этаже страниц книги.
Если не говорить о Сергее Михайловиче Соловьеве, дорогом для Ключевского учителе, пожелавшем иметь в нем своего преемника, едва ли кто имел большую начитанность в источниках русской истории, чем незабвенный покойник. Нужно ли говорить о художественности его изложения, о необыкновенной яркости и определенности его характеристик, о счастливом выборе эпитетов, о блеске ума, проявлявшемся в неожиданных сопоставлениях и не всегда
скрываемом юморе? С этими качествами его письма знакома вся Россия; но те тысячи и, может быть, десятки тысяч, которые, подобно мне, прослушали его лекции, вероятно еще в большей степени проникнуты убеждением, что в московском университете, а может быть, и во всех университетах России, не было лектора более увлекавшего свою аудиторию. Для этого ему не нужно было ни гоняться за фразой, ни приурочивать изложение фактов прошлого к злободневным вопросам; нужно было только подводить краткий итог многолетней работе, облекая свою мысль в простую, изящную и богатую речь,— богатую знанием многих характерных древнерусских слов и оборотов речи, знакомство с которыми может дать только глубокое проникновение в литературные памятники прошлого.
Профессорская карьера Ключевского была победоносным шествием, продолжавшимся целых сорок лет, с самого момента вступления его в Московский университет. Мы хорошо знали, кто входит в нашу среду, и приветствовали его появление дружными аплодисментами. Этими аплодисментами сопровождалось всякое публичное выступление его на кафедре,— читал ли он об отдаленных предках Евгения Онегина, или о «добрых людях» старой Руси, или о Новикове и его времени3. Благодарное отношение к добрым семенам, посеянным в Киево-Новгородский и Московский периоды русской жизни, не заставляло Ключевского закрывать глаза на необходимость порвать с прошлым в интересах дальнейшего развития нашей государственности — ив этом отношении его грубо можно назвать в такой же степени либералом, в какой он был и консерватором. Но заурядного либерала, разумеется, не удовлетворит его справедливое суждение о том, что побудительные причины Петровской реформы были, прежде всего, фискального и военного характера. С другой стороны, и консерватор, и либерал могут одинаково косо отнестись к той глубокой критике исторического роста крестьянского закабаления, в которой сторонники Запада, начиная с Бориса Годунова и оканчивая Петром и Екатериною, по мнению Ключевского, только довершают дело московских радетелей о благополучии служилого сословия,— хотя бы и в ущерб народным массам, этим потомкам смердов и холопов удельной Руси.
Из всего написанного Ключевским сравнительного историка права и учреждений всего более заинтересует, по всей вероятности, мастерской очерк роста сословий в России и, в частности, крестьянства4. Ни статьи, ни книги Василия Осиповича не содержат в себе попыток осветить судьбы русских учреждение аналогиями
с Западом; но Ключевский не был в числе тех односторонних исследователей, которые считали по меньшей мере бесполезным, а то, пожалуй, и вредным, всякое знакомство с параллельными явлениями в жизни Франции, Англии или Германии. Вернувшись однажды из-за границы, я передал ему только что вышедшее сочинение Fustel de Coulanges «О происхождении римского колоната»5. В нем проводится тот взгляд, что задолженность фермеров римских поместий во многом содействовала прикреплению их к земле и образованию колоната. Я не прочь думать, что эта теория — не менее взглядов Чичерина6 и многих позднейших исследователей на задолженность «серебряников», как на один из источников крепостного права,— привела Василия Осиповича к заключению, что не в затерянном указе Бориса Годунова и вообще не в законодательном творчестве наших царей, а в экономических условиях, в каких одновременно очутились и служилые люди, и казна, и крестьяне-земледельцы, и лично несвободные холопы, надо искать действительные причины развития у нас крепостного права. Оно было немыслимо при том еще на половину бродячем земледелии, какое мы встречаем в удельный период и в первую эпоху возвышения Москвы, когда было много свободных к занятию земель и густота населения отличалась крайней слабостью. Но обстоятельства сильно изменились ко времени упразднения татарского ига и объединения русской державы под властью Иванов и Василия. К этой эпохе и относится ускоренный ход крепостной зависимости, завершающейся века спустя при первых переписях, произведенных Петром, и щедрых раздачах земель Екатериной бывшим казацким старшинам, причисленным ею к русскому дворянству.
Первые томы «Русской истории» Ключевского, разумеется, менее занимательны, чем посвященные им Смутному времени, Петровской реформе и эпохе ближайших преемников Петра. Но для всех историков русского права и русских общественных и государственных учреждений они навсегда останутся руководящей книгой, в такой же степени, как и его «Боярская Дума»7, под скромным заглавием заключающая в себе пересмотр всего материала по удельному и Московскому периодам. Будущие повествователи начальных периодов нашей общественности оценят также массу труда, вложенного Ключевским в его магистерскую диссертацию: «О житиях святых как источнике русской истории»8. К этим сравнительно немногим томам и сводятся главные труды незабвенного бытописателя. Ключевский был учеником Соловьева и подвел итоги его исследованиям памятников прошлого в такой же
степени, как и собственным неустанным работам над разным печатным и рукописным материалом. Получилась, в общем, стройная, выполненная в мельчайших подробностях, картина поступательного хода русской гражданственности, начиная от эпохи поселения среди финских и славянских племен иноземных воителей-купцов, варягов, и оканчивая тем временем, когда Россия завоевала благодарность Европы отстаиванием независимости ее народов и исторического права отдельных государств на самобытное существование. Ключевский оставляет не только более или менее законченную историю нашего прошлого, но и целую школу людей, изучающих в деталях отдельные стороны этого прошлого. Одни, подобно профессору Любавскому, пишут ученые монографии о русско-литовском государстве; другие, как Готье9, изучают хозяйственный и общественный быт Московии; третьи, как Богословский, углубляются в частности провинциальной реформы Петра; четвертые, как Кизеветтер, воссоздают прошлое русских городов в XVIII веке. Но влияние покойного ученого не ограничивается сферой одних русских историков. И кто занимается греческим Востоком, и те, которые изучают латинский Запад, одинаково чувствуют влечение к поднятию вопросов, связанных с судьбою общественных классов и политических учреждений. Это господствующее течение в значительной степени сложилось под влиянием наиболее выдающегося русского историографа за последнее сорокалетие. Ведь многие из тех, кто выступали или теперь выступают с разными учеными диссертациями, и об общественном быте Англии, и о судьбах французского крестьянства или рабочего люда, и о хозяйственном развитии Европы, и о росте демократии и о многом, многом другом, менее занимавшем корифеев исторической науки, какими в свое время были в Германии Ранке, Трейчке и Дройзен10, а в России — Сергей Михайлович Соловьев, испытали на себе в той или другой форме влияние Василия Осиповича Ключевского. Это пишет человек, который по возрасту не мог быть его учеником, но который всю свою жизнь считался с его работами, слушал его курсы и выносил из общения с ним нередко поучительные для себя мысли.
О Ключевском привыкли говорить, как о человеке, настолько погруженном в свои исторические исследования, что для оценки русской действительности у него не оставалось времени, а пожалуй, не было и желания. Я позволю себе не согласиться с этим, и вот по какой причине. При начальных стадиях русского освободительного движения Ключевский не только не повернулся к нему спиной, но отстаивал, как всем известно, многие «необходимые
вольности» в комиссиях, посвященных обсуждению проектов нашего обновления.
После моего возвращения из-за границы, а его — из Петербурга и Царского в Москву, я имел случай беседовать с ним долгое время с глазу на глаз и последствием этих разговоров было то, что я счел себя обязанным поставить мою кандидатуру на выборах в первую Государственную думу. С тех пор и при каждом новом моем посещении Москвы я постоянно виделся с Ключевским и могу уверить всех и каждого, что во время этих свиданий речь шла не о равноапостольном князе Владимире и не о «тишайшем» царе Алексее Михайловиче, которого так любил покойный, даже не о Петре или Екатерине, а о Государственной думе и Государственном совете. По всем текущим вопросам Ключевский имел определенное мнение и, не отвлекаясь сам от научной работы для проведения в жизнь того, что считал правильным, он не прочь был поручить эту заботу людям, с которыми связывала его долгая совместная деятельность. Я полагаю, что сказанное подтвердят и все те, кто виделся с ним в эти последние годы, столь богатые событиями и столь тягостно протекшие для самого Василия Осиповича, особенно со времени кончины его жены, товарища и друга всей его жизни11. Я видел в последний раз Ключевского на похоронах Муромцева12; он только что выздоровел от тяжкой болезни, но казался бодрым и как всегда отзывчивым на все злобы дня; ничто не говорило о том, что это будет наше последнее свидание. Умственная свежесть покойного обещала еще долгие годы плодотворной работы.
Он избежал, таким образом, того «периода упадка», который равно наступает и для отдельных лиц, как и для целых государств. С первых написанных им строк и до последних он остался во всеоружии не только обширнейших знаний, но и гибкого творческого ума, столько же призванного к тонкому анализу, сколько и к широким обобщениям.
Он не был патентованным философом истории, но едва ли кто выскажет сомнение в том, что оставленное им литературное наследие есть философия русской жизни13.
А.М. БЕЛОВ
В. О. Ключевский как лектор
(Из воспоминаний его слушателя)
Неряшливые, извилистые коридоры «нового» здания Московского университета полны гула и движения. Лекция только что кончилась, и студенты, высыпав из аудитории, толпятся за неимением каких-либо свободных помещений для рекреации, тут же в коридорах. Вот группа филологов о чем-то спорит оживленно, вот длинной вереницей направляются курильщики в душную курилку, вот несколько математиков, выхватив карандаши, тут же на крашеной известью стене выводят какую-то сложную формулу. Шум стоит изрядный.
Вдруг этот гул толпы покрывается треском аплодисментов. Строжайше запрещавшиеся в то время рукоплескания несутся откуда-то сверху и падают вниз сквозь широкие пролеты старинной чугунной лестницы. Шум наверху приближается, и вдруг на лестницу высыпает толпа студентов, окружая высокого черноволосого человека в форменном синеватом вице-мундире, с некрасивым, но в высшей степени умным и выразительным лицом. Покачивая портфелем, который он держит за верхний угол, человек в вицемундире как-то плечом, словно робея, торопливо пробирается сквозь толпу окружающих его студентов, едва успевая отвечать на их вопросы. На пороге профессорской комнаты он останавливается, широко раскрывает свои черные, блестящие, как у лихорадочного больного, глаза, прикрытые очками, и, дав студентам просимые ими указания, с каким-то озабоченным видом скрывается за дверью.
То знаменитый профессор русской истории Василий Осипович Ключевский.
Потолкавшись в коридорах и поделившись впечатлениями, студенты, в ожидании дальнейших лекций, начинают разбредаться по аудиториям. Особенно густой поток их направляется по лестнице
к той аудитории, где Ключевский должен прочесть свою вторую лекцию. У дверей ее уже стоит педель, пропускающий в нее по билетам только тех, кто записался на курс русской истории. Но студенты напирают силой, педель не в состоянии проконтролировать все билеты, и толпа вваливается в аудиторию.
Одна из обширных аудиторий «нового» здания университета набита битком. Тут не только историки, но и математики, естественники, юристы, не только первокурсники в новеньких с иголочки мундирах, но и кончающие курс студенты — последние могикане, которым разрешено было по введении устава 1884 года донашивать свое штатское платье.
Вдруг вся аудитория поднимается, как один человек: к кафедре быстрыми шагами, но так же, плечом вперед, подходит Ключевский. Он не поднимается сразу на кафедру, а начинает лекцию, стоя внизу и держась за нее рукой. Лицо его вдруг сморщивается, глаза суживаются в щелку, из которых падает на студентов острый, как бы испытующий взор. «Я окончил изображение порядка, установившегося на Руси в XII веке,— раздается не громкий, но до всех доходящий басок.— Теперь я должен обратиться к более глубокой, более скрытой от глаз наблюдателя сфере жизни — к гражданскому правопорядку».
И, произнося эту вступительную фразу, профессор, как бы незаметно для самого себя, поднимается со ступеньки на ступеньку. Вот он, наконец, достиг кафедры и, облокотившись на нее левой рукой, стоя начинает дальнейшее изложение прожитой жизни старой Руси, лишь изредка взглядывая в лежащий перед ним листок.
Четверть века прошло с тех пор, как я имел счастье слышать лекции этого замечательного ученого. Много с тех пор приходилось мне видеть лекторов, не исключая и таких, которые считаются специалистами в искусстве чтения, но такого, как Ключевский, я никогда уже не слыхивал. У Ключевского были не лекций, а вдохновенные импровизации (так, по крайней мере, казалось со стороны). Ключевский был настоящим художником слова, быть может, бессознательным артистом, который глубоко переживал все то, о чем он говорил, и отражал эти переживания на своем некрасивом, дьячковского типа лице. Вот это лицо приняло строгое, холодное выражение. Голос звучит ровно и покойно. Профессор излагает вещь очень сухую — систему поборов, которою был опутан простой человек в Московской Руси. «Русский человек,— говорит Ключевский, — мог беспошлинно только родиться и умереть». Вдруг в его глазах зажигается веселый огонек, редкая бородка, растущая
на острие подбородка, вздрагивает, как бы от внутреннего смеха, и с уст срывается добродушная насмешка. «Это была, конечно, финансовая непоследовательность, исправленная, впрочем, духовенством». То и дело это крайне подвижное лицо принимает ироническое выражение, глаза сощуриваются, и по аудитории пронесется какой-нибудь меткий сарказм, вызывая невольный смех на всех скамьях.
В течение одной и той же лекции лицо и тон Ключевского беспрестанно менялись в зависимости от того, что он говорил. Эта мимика и голос до такой степени врезывались в память, что слушатели уносили в памяти всю лекцию, хотя иногда вопрос разбирался очень сложный.
В зависимости от материала, иногда у него вся лекция была выдержана в одном, так сказать, настроении. Что такое, как не сплошной сарказм, например, его лекция о Петре III, где так и слышится голос бытового русского человека, оскорбленного появлением этого случайного гостя русского престола? «В лице своем он (Петр III), — говорил профессор,— совмещал двух великих врагов XVIII века: он был внук сестры Карла XII и сын дочери Петра Великого. Такое капризное происхождение грозило ему опасностью со временем сесть за раз на двух престолах: на шведском и на русском. Сначала его готовили к первому и для этого заставляли усердно учить латинскую грамматику, шведский язык, лютеранский катехизис. В Петербурге он бросил латинскую грамматику и лютеранский катехизис и начал прилежно учиться русскому языку и православному катехизису. Перемена системы воспитания и внешней обстановки разрушительно подействовала на его от природы не бойкие способности. Его учили стольким разнообразным предметам, внушали столько различных понятий, что он кончил тем, что не научился ничему и не приобрел никаких твердых понятий» — так начинается эта блестящая характеристика.
У Ключевского внешняя форма лекции всегда была в строгом соответствии с ее внутренним содержанием и, например, хаос и бестолковщина Елизаветинского времени внешним образом воплощены у него в ряд самых неожиданных и непредвиденных противоположений, антитез, на которых построена вся лекция. «Елизавета,— говорил Ключевский,— была веселая и набожная царица: от вечерни ездила на бал, а с бала к заутрене. Вечно вздыхая по иноческой жизни, она оставила после себя гардероб в несколько тысяч платьев. Она имела огромное влияние на судьбу Западной Европы и умерла с убеждением, что в Америку можно попасть
сухим путем. Даже невежественных современников своих она поражала недостаточностью своего образования и основала первый в России университет. Она била по щекам своих фрейлин и во все царствование не отрубила голову ни одному преступнику».
Но о чем бы ни говорил профессор своим слушателям, в его словах всегда звучал один лейтмотив, который красной нитью проходит по всем его рукописным и печатным курсам — это чувство гражданского долга перед родиной, врожденное и воспитанное в Ключевском общественным движением шестидесятых годов. Чем ближе подходил он в своем изложении к нашему времени, тем громче звучал у него этот мотив, пока в конце курса не завершался таким аккордом: «Вы должны,— говорил профессор, напутствуя своих слушателей на практическую работу,— вы должны прежде всего приняться работать своим умом вместо пассивного усвоения плодов чужого ума. Эта работа должна направиться на проверку усвоенных вами чужих идей и внимательное изучение русской действительности. Поколение, которое воспитывалось под влиянием реформ Александра II, до боли чувствовало настоятельность разрешения той и другой задачи, но надо признаться, что это поколение, к которому принадлежит и говорящий, доселе плохо разрешало свои задачи, и, надо думать, сойдет с поприща, не разрешивши их, но оно сойдет с уверенностью, что вы и те, которых вы будете воспитывать, разрешите их за нас».
Все слышавшие этот завет учителя, наверно, помнят тот чисто юношеский жар, тот подъем чувств, с которым он обращал к ним свои последние слова.
Под свежим впечатлением утраты Ключевского пытался я охарактеризовать неподражаемого лектора. Мне было бы весьма прискорбно, если бы кто-нибудь из прочитавших эти строки вообразил себе Ключевского каким-то трибуном, старавшимся действовать с кафедры лишь на молодую восприимчивость. Одно время такое фальшивое представление было в большой моде. Нет, Ключевский был прежде всего настоящий и крупный ученый. От него, так сказать, веяло строгой наукой. Достаточно было прослушать одну лекцию Ключевского, чтобы устранить в себе всякое сомнение в том, действительно ли история наука, а не простое описание давно совершившихся событий. Перед слушателями не только проходили прошлые факты, но обнажался, так сказать, стихийный процесс роста русского народа и его государственных форм. Слушая Ключевского, трудно было отделаться от само собой возникавшей мысли: да, это было именно так и иначе быть не могло.
Кончая свои воспоминания, я хотел бы добавить два слова о Ключевском вне университета.
В. О. Ключевский вел жизнь весьма уединенную, всецело посвященную любимой им науке. Студенты к нему не ходили. Может быть, это происходило от того, что у администрации Ключевский давно был на дурном счету, и положение его ухудшилось бы еще более, если бы к нему потянулись толпы паломников. Другой причиной было нежелание пускать посторонних в свою ученую лабораторию.
Вернувшись из Абас-Тумана, куда он был приглашен читать лекции покойному великому князю Георгию Александровичу1, Ключевский купил для себя в конце города, в Замоскворечье, небольшой дом-особняк с большим липовым садом и последние годы жил в уединении, работая над своими курсами.
Мир праху твоему, незабвенный учитель!
Б. А. ЩЕТИНИН
Из воспоминаний о В. О. Ключевском
С В. О. Ключевским я встречался много раз и притом в разные периоды своей жизни, но я хочу рассказать лишь о самой ранней встрече с ним, когда я был еще юношей-гимназистом. Это произошло весной 1886 года. В нашей «богоспасаемой» гимназии, скромно ютившейся в одном из глухих переулков Замоскворечья, приближались выпускные экзамены, и мы, восьмиклассники, ожидали их с некоторым трепетом, в особенности, когда нас предупредили, что мы будем иметь удовольствие видеть у себя на экзамене, в качестве ассистентов, двух московских профессоров.
— Господа! Знаете ли, кто приедет к нам на экзамен истории? — торжественно объявил нам однажды «историк» М.И. Хитров1 и даже внушительно поднял указательный палец кверху.
— Герье, Герье! — раздались почему-то голоса.
— Нет-с, господа, подымайте выше...
— Виноградов!2 — попробовал еще кто-то догадаться и тут же авторитетно добавил: — Больше некому...
— А вот и нет, не угадали,— сказал Хитров: — ни Герье, ни Виноградов, а... а сам Василий Осипович Ключевский! — вдруг выпалил он каким-то взволнованным голосом и медленно обвел глазами весь класс, словно любуясь произведенным эффектом.
А эффект действительно получился огромный. Упоминание имени Ключевского, пользовавшегося уже в то время большой славой, заставило нас встрепенуться, вывело из спячки, наэлектризовало, тем более что для нас, гимназистов, это имя далеко не было пустым звуком: почти все мы уже неоднократно имели в руках литографированные лекции популярного профессора, восхищались его меткими, остроумными и ядовитыми характеристиками, из коих некоторые, вроде, например, характеристики Петра III или импе
ратрицы Елизаветы, всякий раз приводили нас, юных читателей, в неописуемый восторг. Помнится, мы даже заучивали наизусть и беспрестанно повторяли в разговоре между собой такие, например, замечания Ключевского об Елизавете:
«Она была веселая и набожная царица: от вечерни ездила на бал, а с бала к заутрене. Вечно вздыхая по иноческой жизни, она оставила после себя гардероб в несколько тысяч платьев. Она имела огромное влияние на судьбу Западной Европы и умерла с убеждением, что в Америку можно попасть сухим путем. Даже невежественных современников своих она поражала недостаточностью своего образования и основала первый в России университет. Она била по щекам своих фрейлин и во все царствование не отрубила голову ни одному преступнику» и т. д.
Еще задолго до экзамена М. И. Хитров принялся «натаскивать» нас по русской истории. Бывало, принесет с собой курс лекций Ключевского и читает нам отдельные места из них, а мы прилежно записываем в тетради.
— Вот эту характеристику постарайтесь выучить наизусть,— обращается он к нам с просьбой и медленно начинает диктовать, какое было лицо, голос, походка у «тишайшего» царя Алексея Михайловича.
Будучи сам учеником Ключевского, Хитров благоговел перед своим учителем и задался целью сделать ему « приятное». А уж, конечно, по его мнению, ничего не могло быть приятнее Ключевскому, как услышать из уст гимназистов свои собственные слова. Однако, как увидим ниже, Хитрову пришлось сильно в этом разочароваться.
Помнится, экзамен по истории, как последней, пришелся на самый конец мая. И вот мы в последний раз собрались в актовом зале перед экзаменационным «ареопагом». Преподаватели во главе с директором были уже на своих местах, но Ключевский еще не появлялся. Кто-то пустил слух, что он заболел и совсем не приедет. Настроение чувствуется у всех приподнятое, на лицах написано ожидание и какое-то беспокойство. Наш «историк» волнуется и тревожно посматривает на часы. Директор Рязанцев (давно уже умерший) не решается начинать экзамена. Засунув в рот кончик рыжей бороды, он сквозь золотые очки устремил куда-то в пространство рассеянный взгляд, как будто ничего не видя и не слыша, скорчив при этом невозможнейшую гримасу. Вдруг подходит к нему курьер и что-то докладывает. Рязанцев тотчас же устремляется к дверям зала, где уже показалась в это время сухопарая, сутуловатая фигура невзрачного господина,
одетого в застегнутый на все пуговицы черный сюртук. Это и был Ключевский. Странное впечатление производил знаменитый профессор. С первого взгляда — что-то удивительно малозаметное, почти ничтожное: не то сельский дьячок, не то консисторский писец, получающий 16 рублей в месяц жалованья. Но это до тех пор, пока вы не увидали его глаз, черных, живых, проницательных, с каким-то особенным, лихорадочным блеском. Вот он обжег вас взглядом сквозь очки — и сейчас же весь, с головы до ног, представился вам другим, точно переменил свой облик, преобразился, и вы видите, что даже невзрачное лицо его стало красиво-одухотворенным.
Извиняясь, что немного запоздал, Ключевский торопливо пожал всем руки и поспешил сесть где-то с боку стола, несмотря на то, что Рязанцев указал ему место рядом с собой,— сел и вдруг как-то весь съежился, сделавшись совсем маленьким-маленьким: быть центром всеобщего внимания ему, очевидно, было неприятно. Он уткнулся лицом в программу и долго не поднимал головы. Экзамен между тем начался. Для первого дебюта нарочно были вызваны лучшие ученики, которые должны были во всем блеске развернуть свои познания по истории. И они развертывали: немедленно принимались трещать о каких-нибудь Каролингах, о гуннах, об Аттиле, вдохновленные красноречием учебника Иловайского3, готовы были болтать без удержу, сколько угодно, но Хитров уже спешил их останавливать почти на полуслове:
— А ну-ка расскажите мне про «тишайшего царя»!
И опять начиналась прежняя трескотня, но на этот раз уже... из Ключевского, лицо которого, как я заметил, то принимало ироническое выражение, то хмурилось. Вот он слышит свои собственные слова, произнесенные им в университетской аудитории, и по лицу его пробегает тень. Он морщится, и взгляд его, брошенный сквозь очки, острой стрелою вонзается в экзаменующегося.
— Это вы откуда говорите,— строго перебивает он ученика,— из какого учебника?
— Из вашего, Василий Осипович,— ничуть не смущаясь, отвечает тот и торжествующе смотрит на Хитрова, который весьма самодовольно улыбается.
— Неправда, у меня никакого учебника нет,— явственно отчеканивает каждое слово Ключевский.— Но вы читали литографированный курс моих прошлогодних лекций, где на каждом шагу попадаются грубые ошибки: к сожалению, вы очень добросовестно заучили эти ошибки наизусть...
Ученик смущенно молчал и на этот раз растерянно смотрит на густо покрасневшего Хитрова. Потом вдруг произнес:
— Михаил Иваныч, как же так? Ведь это же вы нам диктовали, а я записал слово в слово?!.
Бедный Хитров готов был провалиться сквозь землю и, не зная, что ответить, еще более покраснел. Неизвестно, чем бы кончилась неловкая сцена, если б ее не прекратил сам Ключевский. Он обратился к сконфуженному ученику и предложил ему какой-то вопрос из истории Нового Света. Тот ответил.
Замечательно, что Ключевский никого из нас не спрашивал по русской истории, точно опасался, что ему ответят что-нибудь «из Ключевского»; а все предлагал вопросы или по новой, или чаще всего по древней, преимущественно римской истории. Память у него была феноменальная, и мне рассказывал потом один из наших экзаменаторов, что когда по окончании экзамена Ключевский был приглашен в учительскую, чтобы сообща с преподавателями выставить ученикам отметки, он всех поразил своими отзывами о каждом из нас. «До того метки были его суждения,— говорил мне мой собеседник,— так проникновенно сумет он угадать особенности ума и характера каждого из экзаменовавшихся,— которых, кстати сказать, было равно четырнадцать человек,— точно это были его собственные ученики, которых он знал давным-давно, с самого детства наблюдая за их развитием».
Н.Н. БОГОРОДСКИЙ
Василий Осипович Ключевский
(Воспоминания слушателя)
12 мая в 3 часа и 5 минут дня скончался в Москве почетный член нашей Витебской Ученой Архивной Комиссии профессор Василий Осипович Ключевский.
Нет сомнения, что значение покойного далеко не определяется его членством в нашей комиссии. Василий Осипович — гордость и слава нашей отечественной науки, такие люди редки, не всякое государство в силах представить такого историка, каким был покойный. Многие его лично не знали, но его произведениями зачитывались; последние для многих были настольною, руковод-ственною книгою.
Для изображения личности и выяснения деятельности Василия Осиповича нужен человек с большею эрудицией, с талантами крупного оратора, с тонким и глубоким психологическим анализом.
Моя задача будет много скромнее. Я буду доволен, если мне удастся удовлетворительно изложить свои воспоминания о моем учителе, кратко наметить биографические даты и определить место его среди отечественных историков.
Впервые я увидел Василия Осиповича в сентябре 1900 года, когда я поступил в число студентов 1-го курса Московской духовной академии.
Начала его лекций все мы ожидали с большим нетерпением. Каждый знал его еще в средней школе; многие слышали о нем от своих земляков студентов, а некоторые были знакомы с ним по его произведениям.
Когда рассуждали в семинариях об академиях, то, при упоминании о Московской академии, говорили всегда и о Василии Осиповиче. Имя его было окружено особым ореолом; говорили о его
ученой славе, о его манере говорить, о содержании его лекций, никто никогда не касался его частной жизни; ею не интересовались, с нею Василия Осиповича не связывали, считая его за его труды выше всего.
Московская духовная академия меня привлекала, при моем выборе учебного заведения, потому, что там я мог слушать Василия Осиповича.
Желанный момент встречи с Василием Осиповичем наконец для всех нас наступил приблизительно около половины сентября.
Василий Осипович обыкновенно читал студентам 2-го курса по понедельникам и вторникам после двенадцати часов по две получасовые лекции в день. Но его аудитория не ограничивалась вторым курсом. На его лекции ходили студенты всех курсов. Многие были неизменными его слушателями с первого по четвертый курс. Другие аудитории в это время были заняты очень немногими студентами, сплошь и рядом выборными по очереди дежурными. Профессора не обижались, не выговаривали, так как хорошо понимали наше увлеченье; сами когда-то некоторые из них были учениками Василия Осиповича.
К началу лекции первая аудитория, в которой читал лекции Василий Осипович, самая большая, была переполнена.
До сих пор сохранилось у меня ясное воспоминание встречи с Василием Осиповичем. В средние двери, на которые мы все время обращали внимание, быстро, мелкими шагами вошел немного сгорбленный, невысокого роста, с сединою в волосах, с очками в стальной оправе, человек. Раздались аплодисменты. Он слегка наклонился направо и налево и поспешно вошел на кафедру. Вынул из портфеля записки, внимательно осмотрел аудиторию, как бы желая определить, какие требования могут ему предъявить его новые слушатели. Видимо, он волновался. Начал лекции без всяких вычурненных обращений, с указания того предмета, который он будет читать и заявил, что в Академии он читает более полный курс, надеясь на скромность слушателей и на то, что на лекцию не попадут неизвестные люди.
Предметом первой лекции был географический обзор Восточной Европы.
Читал Василий Осипович сравнительно тихо, но ясно; речь была безукоризненна, вполне выражала мысль, какую хотел он высказать. Начал чтение он по записки, но потом увлекся, сошел с кафедры, начертил на доске мелом карту России и уже до конца вел лекцию, ходя по аудитории.
Мы многого ожидали по рассказам наших предшественников от лекций Василия Осиповича, но наше впечатление превзошло ожидания. Сухой в сущности предмет лекции Василий Осипович оживил, заставил нас забыть непосредственную действительность, перенестись за несколько веков и углубиться в уяснение естественных условий жизни в Восточной Европе.
По окончании лекции соблюдалось несколько времени молчание, все мы чего-то ждали, а потом раздались оглушительные аплодисменты уходящему в смущении профессору.
Дальнейшие лекции проходили так же хорошо, как и первая, при многочисленных слушателях. Волнение Василия Осиповича все больше и больше улегалось.
Василий Осипович читал нам особый курс русской истории; он мало обращал внимания на события и исторических деятелей, стараясь уяснить историческую жизнь, доказать, что иною она и не могла быть при тех условиях — географических, этнографических и экономических, в каких находилось наше государство. Правда, он иногда останавливался и на исторических деятелях, выбирая таких, за деятельностью которых признается обычно только вред или таких, которые считаются благодетелями отечества. Для первых он иногда смягчал исторический приговор, как, например, для Иоанна Грозного; для других ослаблял славу, как, например, для Екатерины II.
Характеристики Василий Осипович умел делать неподражаемо; недаром слушатели его с записок их по нескольку раз перечитывали и, думаю, многие из них с удовольствием читают и теперь. Характеристиками так интересовались, что на них ходили почти все студенты Академии. Это можно было сделать потому, что Василий Осипович сообщал предмет своей следующей лекции. Это было необходимо ввиду особого плана лекции. При выяснении исторической жизни Василию Осиповичу нужна была аудитория, знакомая с историческими фактами, которые могли бы служить вехами для его лекций. Поэтому он предлагал слушателям дома прочесть фактическую историю по учебнику Сергея Михайловича Соловьева, указывая страницы.
Я буду огорчен, если из моих слов читатель сделает вывод, что на лекции Василия Осиповича мы ходили исключительно для удовольствия выслушать красивую речь, изящные выражения. Такая аудитория, такие отношения слушателей расстроили бы Василия Осиповича и он, я думаю, по свойственной ему откровенности попросил бы эстетиков не посещать его лекций. Он сам указал подробно
и ясно бесполезность таких учебных занятий, когда между учителем и учеником устанавливаются отношения, основанные на эстетическом наслаждении. Выясняя значенье воспитания Александра I, он заметил: «Это большое несчастье, когда между учеником и учителем образуются отношения зрителя к артисту, когда урок последнего становится эстетическим развлечением и только».
Характеристики Василия Осиповича привлекали нас потому, что в них мы слышали как бы рассказы о наших хороших знакомых, будут ли то великие и полезные деятели или люди с преступною волею и порочными наклонностями.
Василий Осипович вообще обладал редким даром изображения известной эпохи, так что невольно во время его лекций приходилось переносить себя в старую обстановку и смотреть на умерших людей, как на своих современников. Выгода положения заключалась только в том, что слушатели замечали все ошибки своих предшественников, сделавшихся им знакомыми и родными благодаря умелому рассказу профессора.
Изображая тяжелые для нашего отечества эпохи, характеризуя вредных деятелей, Василий Осипович никогда не раздражался, не старался выставить их на позор, но, представляя их непривлекательные стороны, в то же время болел душою так, как болит душою по поводу порочности своих детей родитель.
Одним словом, речь Василия Осиповича отличалась теми же достоинствами, какие мы находим в записях нашего первого летописца: та же изобразительность, та же деликатность в отношениях к людям, то же уважение человеческого достоинства даже в отношении людей порочных. Вот почему лекции Василия Осиповича не могли расстроить юношеского воображения, не могли из юношей воспитать революционеров. Недаром в одном гектографированном издании лекции студенты в средине записали такое четверостишие:
Вы послушайте, ребята,
Что нам скажет дед:
Велика земля наша, богата, А порядка в ней все нет.
В законном порядке слушателем Василия Осиповича я сделался на втором курсе и слушал его в продолжении 1901-1902 учебного года. Нашему курсу выпало редкое счастье: Василий Осипович нам читал не четыре лекции, как это полагается по уставу, а шесть. Были свободны часы, посвященные лекциям по патристике, вследствие
заграничной командировки профессора Ивана Васильевича Попова1. Мы обратились к Василию Осиповичу с просьбою, чтобы он в эти часы читал нам дополнительный курс русской истории. Результаты получились неожиданные: оказалось, что мы растрогали своим обращением Василия Осиповича. Он без всяких отговорок согласился и в первой же лекции высказался, что мы его очень обрадовали. Он сказал: «Я человек прошлого столетия, случайно попавший в нынешнее; я думал, что не могу своими лекциями, составленными для другого поколения, вполне удовлетворить современную учащуюся молодела. Вы меня порадовали, Вы мне старику сказали, что я не бесполезен для вас, что желаете меня слушать».
Ввиду того что Василий Осипович читал больше лекций, он для нашего курса прочел русскую историю вплоть до царствования ныне благополучно царствующего государя императора Николая Александровича.
Приступая к характеристике последних реформ Александра II, Василий Осипович нас предупредил, что мы теперь услышим от него не то, что слышали прежде, что теперь он теряет силу беспристрастного историка, так как ему придется изобразить жизнь, которая затронула и его, что у него могут в отношении деятелей быть симпатии и антипатии, благодаря близкому знакомству с ними; что он в данном случае предстанет пред нами скорее со всею страстностью публициста, чем ученого историка. Поэтому мы вправе отнестись к его речам с большею осторожностью. Так беспримерно честен и щепетилен был Василий Осипович в своей ученой деятельности.
На втором курсе нам пришлось писать семестровое сочинение Василию Осиповичу.
Темы даны были такие, которые требовали самостоятельного изучения источников. Трудились мы больше, чем когда-либо, боясь осрамиться пред любимым учителем.
Не могу забыть еще экзамена, произведенного Василием Осиповичем. На экзаменах Василий Осипович был очень строг, требовал от студентов ясных ответов и полного усвоения своего курса. Готовились мы добросовестно, несмотря на то, что многие лекции прочли еще во время года.
В день экзамена все чувствовали большую неловкость, боялись краткой программы, данной нам Василием Осиповичем. Составили мы программу более подробную. Мне было поручено курсом переговорить с Василием Осиповичем о дозволении отвечать по более подробной программе. Для этой цели я ожидал его в академическом саду. С тяжелым чувством я пошел навстречу появившемуся про
фессору. Изложил кратко просьбу студентов, ожидая замечания; но сверх всякого ожидания получил ответ, что для него все равно, по какой программе мы будем отвечать — по краткой или подробной, и что кто не знает курса при всяком положении провалится. И действительно, от Василия Осиповича трудно было скрыть незнание; он умел краткими вопросами проверить студента во всех отделах. Полных отметок он ставил немного, но за то они и ценились высоко.
Еще помню Василия Осиповича в двадцатипятилетний юбилей со дня смерти крупного ректора Московской духовной академии протоиерея Александра Васильевича Горского. Василий Осипович представил нам в этот день воспоминания об Александре Васильевиче, которого он знал лично, при котором он начал свою службу в Академии.
С благоговейным чувством вспомнил он своих первых руководителей, отметивших в нем талант избранием на кафедру в Академии — Александра Васильевича Горского и профессора Петра Симоновича Казанского2. Вспомнил он о своих первоначальных ученых работах в академической библиотеке, о своей магистерской диссертации, о своем юношеском ученом самолюбии.
Однажды Василий Осипович вошел в номер, занимаемый в Лаврской гостинице Петром Симоновичем Казанским, и застал последнего за чтением своей магистерской диссертации «Древнерусские жития святых как исторический источник ». Захотелось ему услышать мнение Петра Симоновича, и он спросил его, ожидая похвалы за книгу, которая уже получила одобрение университета. Петр Симонович указал на заглавие и сказал: «Очень хорошо!» Открыл следующую страницу, перелистал несколько страниц и сказал: «Слабо»! Василий Осипович обиделся и поговорил резко. Этого он, видимо, не мог забыть всю жизнь и, вспоминая Александра Васильевича, вспомнил Петра Симоновича и признался нам, что он теперь свою диссертацию считает юношеским грехом. Это был единственный случай, когда мы ему не поверили. Конечно, ему были ясны ошибки его работы, но мы-то, да, как можно читать в отзывах печати, и другие наши современники, не в силах умалить такой крупный труд.
Пришлось мне быть свидетелем и тридцатилетнего юбилея самого Василия Осиповича в 1901 году. Мы ему послали в Москву телеграмму, в которой выразили свои отношения к нему, его лекциям и ученым трудам.
Василий Осипович по поводу телеграммы говорил с нами на лекции со слезами на глазах. Он сказал, что наша телеграмма для
него была ценнее всех приветствий и адресов, выслушанных им в юбилейный день потому, что он снова услышал от студентов Академии, как тридцать лет назад, призыв к работе и сочувствие в искании истины. Он сказал, что Академию он очень любит и свое положение в ней очень ценит. Ценила его в то время и Академия, к его голосу прислушивались и профессора. Мне однажды пришлось разговаривать о Василии Осиповиче с инспектором Академии, архимандритом тогда, теперь викарным Тульским епископом, который потом, во время своего ректорства в Академии, был виновником ухода из Академии Василия Осиповича. Он говорил, что Василий Осипович — крупная величина в Академии; приезд его — праздник не только для студентов, но и для профессоров. Для того чтобы поговорить с ним и послушать его рассказов, в каждый приезд его собирались в профессорскую все профессора вместе с ректором и инспектором. И много он рассказывал им из прошлого; не любил только касаться современных политических нестроений.
Ценили Василия Осиповича те из начальствующих, которые получили воспитание в других Академиях. Хорошо он и сам отзывался о некоторых из них. Но к позору Академии предал его и содействовал его уходу его ученик, когда сделался ректором Академии, епископ Евдоким (Мещерский).
Удаление Василия Осиповича из Академии — темная страница в летописях ее истории: пришлось уйти тому, кто больше всего любил ее.
Василий Осипович своей любви к Академии и не скрывал, и любовь эта была вполне естественна. Василий Осипович считал себя своим в ней. Его ученик, профессор Московской духовной академии Сергей Иванович Смирнов3, приводит важные в этом отношении слова покойного: «В одном северном житии рассказывается, говорил Василий Осипович, как старец-подвижник, войдя в лес, за ограду обители, заслушался птички и заснул на 300 лет. Проснувшись, он пошел к своему монастырю и не узнал его: стены окрашены в другой цвет, новый настоятель, чужая братия... Я был счастливее этого старца: рано оставив духовную школу, долго я скитался вдали от нее, но когда в нее вернулся, я почувствовал себя снова живым».
Если сделать справку в биографии Василия Осиповича, то окажется, что для Академии Василий Осипович действительно был своим.
Василий Осипович происходил из духовного звания. Он был сыном священника Пензенской епархии. Среднее образование по
лучил в Пензенской духовной семинарии, в которой учился только до богословского класса, а затем перешел на историко-филологический факультет Московского университета, который окончил в 1865 году. Через шесть лет по окончании на его труды и таланты обратили ученые Московской духовной академии, и в 1871 году он был избран приват-доцентом Московской духовной академии по кафедре русской гражданской истории. В 1872 году за свою диссертацию «Древнерусские жития святых как исторический источник» он получил при Московском университете степень магистра истории. В 1879 году он был избран доцентом по кафедре русской гражданской истории и в Московском университете, а в Академии получил звание экстраординарного профессора. В 1882 году после защиты диссертации под заглавием «Боярская дума Древней Руси» он признан доктором русской истории. В том же году был утвержден ординарным профессором в Академии и Университете.
Кроме Академии и Университета Василий Осипович читал лекции в Александровском военном училище (с 1867 по 1873 г.) и на высших женских курсах Герье (с 1872 по 1888 г.). С осени 1893 года до марта 1895 года преподавал политическую историю великому князю Георгию Александровичу. 1901 года Василий Осипович был избран почетным членом Академии наук. И, наконец, он после Сергея Михайловича Соловьева состоял председателем Императорского Общества истории и древностей Российских.
С Академией связаны его лучшие годы, в Академии положил он основу тому курсу лекций, которые составили ему имя; духовная школа дала ему элементарное образование, духовная школа его и выдвинула, отметив его дарования и оценив их по достоинству.
Василий Осипович Ключевский является крупным, несравненным историком нашего отечества. Он положил начало новой современной исторической школе.
После него, кроме мелких статей, разбросанных по журналам, остались: «Древнерусские жития святых как исторический источник», «Боярская дума Древней Руси», «Сказания иностранцев о Московском государстве», «Русский рубль в XVI-XVII столетии в отношении к нынешнему», «Новооткрытый памятник по истории раскола», «Происхождение крепостного права», «Подушная подать и отмена холопства в России», «Состав представительства на земских соборах Древней Руси», «Добрые люди старой Руси», «Два воспитания», «Воспоминание о Н.И. Новикове и его времени», «Евгений Онегин и его предки», «Памяти императора Александра III», «Курс русской истории» в IV кн. и др. *
И до Василия Осиповича были у нас историки, из которых некоторые оставили даже больше его исследований.
Ему пришлось выступить в Московском университете после знаменитого Сергея Михайловича Соловьева. Но великие имена не помрачили славы его.
Карамзин нарисовал нам изящным языком картину событий, происходивших при участии верхов общества: он дал нам историю правящего класса; постарался прикрыть грехи последнего, а о народе, который представляет фундамент в государстве, он сказал очень мало.
Костомаров5 внес в свои изыскания слишком много чувства, слишком много внимания он обращал на изложение, придавая ему сплошь и рядом беллетристическую форму, но он не мог исчерпать всей сущности истории, а главное, уяснить значение центральной России, так как, происходя с окраины, он не мог отрешиться от украинофильских тенденций.
В 29 томах истории С. М. Соловьева представлена с крупною эру-дициею почти вся фактическая история нашего отечества, но в ней нет существенного, нет уяснения событий, установления причинной зависимости, нет тщательного исследования условий жизни.
Вот краткая характеристика трех китов нашей исторической науки.
Василий Осипович является историком в ином роде. Он выдвинул низы общества — народ, до которого благородный и чистоплотный Карамзин побоялся дотронуться. Бесстрастно, без особой антипатии и симпатии к отдельным личностям и сословиям, он следит за жизнью всего русского народа, медленно, не спеша, в точных кратких выражениях, без лишних слов указывая существенные и важные исторические факторы.
У него нет ученого аппарата во многих его произведениях, но вы не скажете, что не внимателен он к своим предшественникам по исследованиям или что он не видал какого-либо важного документа. Документальный, часто вполне соответствующий эпохе характер имеют все его выражения в его произведениях. Он не отрицает значения трудов его предшественников, отдает им достойную дань, но он делает то, что не сделано там. Предшественники его сложили ячейку соты, он в них вложил мед; предшественники поставили вехи, а он проторил дорогу; предшественники рассказали о событиях и деятелях, а он уяснил причину событий и условия, под влиянием которых жили и действовали наши предки.
Не зачеркнул Василий Осипович трудов своих предшественников, не отнял у них венца славы, но занял среди них особое место и надел на себя корону, равной которой еще не было.
Были у нас до него историки, но не было философа-историка.
Значение его трудов, а особенно лекций так велико, что трудно и раскрыть. Василия Осиповича многие лично не знали, но знали его лекции, которые появлялись в гектографированных и литографированных изданиях и ими зачитывались, часто с большею осторожностью, чтобы кто-либо не заметил. В одно время лекции были запретным чтением. Пришлось их издать под странным заголовком: «Лекции по зоологии».
В настоящее время мы не нуждаемся в нелегальных изданиях, тем больше, что от них отрекся сам Василий Осипович и для читающей публики предложил печатное издание.
Василий Осипович быль очень скромен в оценке своих произведений: он себя любил называть человеком прошлого века, случайно попавшим в нынешний, намекая этим на то, что современникам его произведения не дадут удовлетворения. Но мне кажется, что за ним, при всей его скромности, обеспечено бессмертие.
При жизни его мы его слушали, переслушивали и заслушивались; его произведения читали, перечитывали и ими зачитывались.
Наступит время, и близко уже оно, когда наши потомки будут его произведения учить, переучивать и заучивать.
1 л
А. А. ТАНКОВ
Памяти В.О. Ключевского
(Из воспоминаний его слушателя)
В настоящем месяце исполняется полгода со времени кончины профессора Московского университета В. О. Ключевского. Это обстоятельство побуждает меня как бывшего слушателя его первого курса в университете сказать несколько слов о тех интересных фактах, которые сопровождали вступление Ключевского в число доцентов историко-филологического факультета. Я думаю, что моя заметка окажется далеко нелишней для будущего биографа Василия Осиповича ввиду того, что хотя после смерти его в периодических изданиях появилось много статей о нашем замечательном историке, но добрая половина их дает очень мало фактов из его жизни и деятельности, ограничиваясь общими похвалами ему как ученому и профессору.
В 1879 году окончательно прекратил чтение лекций С.М. Соловьев, вскоре после этого заболевший тяжким недугом, который унес его в могилу. Для университета, нашего факультета и в особенности для нас, студентов, представлялся чрезвычайно важным вопрос: кто же займет место такого колосса исторической науки, каким был С.М., кто будет тот дерзновенный, который решится появиться на кафедре, с которой слышалось могучее слово великого знатока русской истории? Этот вопрос занимал внимание наших профессоров, волновал студенческие кружки, интересовавшиеся тем или другим его разрешением, проник в печать... Московские газеты поместили статьи некоторых из университетских профессоров, в которых указывалось на необходимость осмотрительности для историко-филологического факультета в деле замещения кафедры по русской истории. Статьи были псевдонимные, но наш кружок студентов знал, кто именно их авторы. Наконец, в одном из осенних номеров газеты «Голос»1, издававшейся в Петербурге, появилась
большая, также псевдонимная статья, принадлежавшая, как мне хорошо было известно, перу любимого и уважаемого студентами профессора всеобщей литературы Н. И. Стороженка2. В этой статье проводилась та мысль, что для нашего факультета является важнейшею необходимостью найти и пригласить выдающуюся ученую силу на покрытую славою Соловьева свободную кафедру. В статье было замечено, что и студенты ждут от своих руководителей того же.
Нечего и говорить, что появлявшиеся статьи читались и обсуждались заинтересованными студентами, несомненно, волнуя их в известном направлении. Московская интеллигенция и ее представители также, как говорится, за живое были задеты вопросом: быть или не быть на кафедре русской истории какой-либо знаменитости? Нужно здесь сказать, что в данный период времени в среде профессоров этой науки в провинциальных университетах крупных имен не было, а что касается Петербурга, то на переход оттуда в Москву видного ученого и думать было нечего.
Как бы то ни было дело, но с начала 1879-1880 академического года лекций вместо покойного С. М. не читал никто, и предполагали даже, что они не будут совсем читаемы. Среди университетских слушателей особенно имела значение та мысль, что вполне достойным преемником Соловьева может быть только Н. И. Костомаров. Раздавались голоса о том, что если на кафедру вступит какая-либо посредственность, то ее никто и слушать и признавать за профессора не станет.
Итак, все были в ожидании. Вдруг пронесся слух о том, что доцентом по русской истории приглашается доцент Московской духовной академии В. О. Ключевский, личность которого как ученого и преподавателя была очень мало известна нам. Не знаю, как в профессорских сферах, а для нас слух о Ключевском был неожиданным и неутешительным сюрпризом. Кто и что он такое? Навели справки об его ученых трудах, оказалось, что их очень немного, да, кроме того, главнейший из них «Жития святых как исторический источник» носил историографический характер и как-то отзывался церковностью. Самое преподавание Ключевского в Духовной академии для университетских студентов второй половины бурных семидесятых годов было большим минусом. Кто знал из нас, а кто и не знал, что В. О. окончил курс университета, что он университетский магистр, а не академический. И вот в короткое время против него создалось предубеждение; волнение и беспокойство умов росло и делало почву тревожной. Некоторые горячие головы уже предлагали протестовать против приглашения
4-
Ключевского и называли имена двух-трех выдающихся приват-доцентов, которые отказались от кафедры по русской истории, считая для себя затруднительным и неудобным стать преемниками творца «Истории России с древнейших времен»...
Я в то время был очень близок с профессором истории церкви А. М. Иванцовым-Платоновым3, так как мы были земляки, и нередко приходилось мне бывать у него запросто. Помню, как я был изумлен, когда на мои сомнения относительно Ключевского А. М. сказал мне следующее:
— Мне известны толки студентов, они долетают до В. О. Ключевского, он хочет отказаться от приглашения его в нашу среду. И знаете, как это будет прискорбно, как придется пожалеть об этом.
А. М. Иванцов-Платонов подробно мне рассказал о тех научных и лекторских данных, которыми всецело обладал В. О.
Впоследствии он ту же мысль развивал и перед знакомыми студентами. Против же предубеждения некоторых относительно преподавателей Духовной академии он приводил в пример профессора петербургского университета протоиерея Горчакова4, профессора канонического права в Московском университете Павлова5 и др. В высшей степени интересен тот факт, что А. М. провиденциально высказал мне, что Ключевский будет достойнейшим заместителем своего великого учителя, проявит замечательные качества лектора и сделается «импонирующим студентам» профессором.
Был назначен день первой лекции Ключевского. Для нее была отведена одна из самых больших аудиторий так называемого нового здания университета — «словесная вверху»*). В среде студентов установилось то мнение, что надо выслушать первую лекцию приглашенного к нам доцента, а потом уже выразить свой взгляд на него. Если лекция окажется удовлетворяющей нашим ожиданиям, то отнестись к ней с одобрением, если же нет, то освистать дебютанта и протестовать против его приглашения.
А удовлетворить запросам студентов того времени было нелегко. В описываемое мною время в Московском университете было блестящее собрание чудных профессоров-лекторов, властителей студенческих не только дум, но и грез. Чупров, М. Ковалевский,
* Нужно сказать, что прежнее время аудитории в Московском университете не назывались по номерам, а имели каждая свое особое название, напр., «словесная внизу», «юридическая — третий этаж», «математическая большая», «гербариум» и т. под. В последней из названных нами аудитории никакого собрания засушенных растений не было, а слушали лекции студенты классического отделения филологического факультета.
Буслаев, Муромцев, Стороженко, Виноградов, Янжул, Шахов0, Миллер7, Герье, Иванцов-Платонов, Павлов и другие увлекали своих слушателей бесподобным чтением лекций и проводимыми в них научными и прогрессивными идеями. На историко-филологическом, а тем более юридическом факультете почти не было таких профессоров, которых неинтересно было бы слушать. Нечего и говорить, что В.О. Ключевский волей-неволей должен был выдержать сравнение с названными нами и другими светилами науки и профессорства. По настроению студентов видно было, что ему предстоит выдержать большой искус.
Шумно было в назначенное для лекции Ключевского время в «словесной вверху» аудитории. Кого только здесь не было! И наши студенты, и профессора, и представители московской интеллигенции, и духовные лица, некоторые в магистерских крестах, и студенты Духовной академии, и один из ее профессоров.
Ни разу за все время моего пребывания в университете не было перед вступительной лекцией такого напряженного ожидания, такого прилива лихорадочного волнения. Ректор университета едва нашел себе место, а некоторые из профессоров стояли — такое множество слушателей собралось в аудитории.
Наконец торопливой походкой, слегка прихрамывая, вошел В.О. Ключевский, худой, согбенный, невзрачный, с потупленными взорами — прямая противоположность патриарху русской исторической науки С. М. Соловьеву, который всходил на кафедру, окидывая аудиторию орлиным взором, лицо которого сияло лучами вдохновения. Только что Ключевский сел в кресло, как прежде всего со стороны профессоров раздались рукоплескания, к которым присоединились и многие из студентов и посторонних лиц. Они не отличались оживленностью и громозвучностью, но, казалось, должны были ободрить Василия Осиповича. Я не спускал с него глаз, и что же увидел? Ключевский взял в руки стакан, наполнил его до краев водою из стоявшего на кафедре графина и сделал добрый глоток воды. Аплодисменты усилились, внимание к лектору возросло до последней степени напряжения. А Ключевский опять взялся за стакан и допил из него воду до дна. Я прямо-таки остолбенел при виде этого, но как раз в данное мгновение В. О. дал знак, что он станет говорить, и когда моментально все стихло, начал свою вдохновенную лекцию,
— Милостивые государи! — сказал он.—-С величайшею радостью, вступив в эту аудиторию, услышал я ваши рукоплескания, который всецело отношу к светлой и незабвенной памяти нашего
великого и славного учителя С. М. Соловьева, здесь своим гениальным словом заставлявшего кипеть наш ум и трепетать наше сердце при изучении жгучего для всех нас предмета — родной истории. С каким непередаваемым чувством благодарности я и все мои товарищи с этих скамей провожали единодушными аплодисментами того исполина русской исторической науки, дух которого витает в нашей среде... К нему, к Сергею Михайловичу, пусть прежде всего несутся стремления нашей души...
В это мгновение аудитория огласилась громовыми раскатами аплодисментов и восторженными кликами, в которых ясно слышалось, что Ключевский побеждает свою аудиторию и по первому, так сказать, абцугу завоевывает ее симпатии.
Продолжая свою речь, В. О. искусно предложил вниманию своих слушателей самые интересные, самые задушевные воспоминания о Соловьеве, затем рельефно выразил ту мысль, что он будет верным хранителем его исторических заветов, что в полном и непоколебимом единении с нами он будет продолжать дело Соловьева. Мастерски была составлена и сказана нам речь В. О. Так как лекция должна была продолжаться полтора часа, то Ключевский, окончив свое «слово» в честь Соловьева, начал лекцию о преемниках Петра Великого, так как в предшествующем году С.М. закончил свой курс лекциями именно о Петре. Слушая лекцию, все студенты, настроенные против Ключевского, убедились в том, какую могучую профессорскую силу заключает в себе этот доцент Духовной академии, и что он может выдержать сравнение с лучшими нашими наставниками. Победа В. О. была полной и непререкаемой. Овации в честь этой победы продолжительны и бурны.
— Знаете, кто более всего рад успеху Ключевского,— воскликнул А. М. Иванцов-Платонов, когда я ему передал о коренном перевороте в настроении студентов.— Я рад! С трудом я убедил В.О. не отказываться из-за слухов, шедших из университета, от приглашения. И знаете, за кого я рад? За университет, приобретший выдающегося профессора. А что он не без терний, но прочно занял по праву принадлежащее ему место, я не огорчаюсь: тем больше ему чести и славы!
Вот каким образом покойному Ключевскому пришлось вступить в ряды университетских профессоров.
М.М. БОГОСЛОВСКИЙ
Из воспоминаний о В. О. Ключевском
О Ключевском мне пришлось впервые услыхать, когда я был в VII классе гимназии, в 1884-1885 году, в разговоре, происшедшем у нас за уроком русской словесности, которую преподавал нам Алексей Никитич Гиляров ’, ныне профессор философии в Киевском университете. Алексей Никитич старался развить в своих учениках способность выражать мысль в сочинениях как можно яснее и в как можно более краткой и сжатой форме. В пример точного выражения мысли он и привел незадолго до того появившуюся книгу Ключевского «Боярская Дума». В том же 1885 году 12 января я впервые и увидел Василия Осиповича в университетской церкви за торжественной обедней по случаю годовщины основания Московского университета. Мне показал его мой товарищ по гимназии С., с которым мы в качестве лучших учеников были отправлены своего рода депутатами в университетскую церковь. Указывая мне Василия Осиповича, С. прибавил, что, по отзывам его старших братьев, тогда бывших студентами на историко-филологическом факультете, Ключевский — самый выдающейся профессор Московского университета. Как сейчас помню невысокую, сухощавую, но тогда все же еще довольно плотную и чрезвычайно подвижную фигуру Василия Осиповича, черные, с едва заметной проседью, зачесанные на бок довольно длинные волосы, редкую остроконечную, также едва начавшую серебриться бороду, и необыкновенно живые, остро смотревшие через очки глаза.
Я поступил в университет на историко-филологический факультет в 1886 году. В первом осеннем полугодии 1886-1887 учебного года Василий Осипович оставался, благодаря ломке в учебных планах, происходившей в связи с введением нового устава 1884 года, свободным от обязательного курса и читал необязательный двухчасовой
курс, посвященный истории русских сословий, тот самый курс, который был тогда мастерски записан, прекрасно издан в литографированном виде, а теперь и напечатан. Несмотря на необязательность, эти лекции Василия Осиповича привлекали множество слушателей нашего и юридического факультетов, наполнявших самую большую аудиторию, так называемую «Большую словесную», находившуюся в правом крыле нового здания университета, во втором этаже, чрезвычайно неудобную одинаково для чтения и для слушания лекций, но знаменитую славными именами читавших в ней профессоров. С какою завистью смотрел я, проходя мимо дверей этой аудитории, на студентов, находившихся в ней и ожидавших появления Ключевского, но попасть в нее было для меня невозможно. Часы Ключевского совпадали с какими-то другими лекциями, которые надо было прослушать, держась того обязательного плана, который составлялся тогда факультетом и от которого отступать было затруднительно. Благодаря такому совпадению часов, записаться на курс Ключевского нам, первокурсникам, было нельзя, а без записи никого не пропускали на его лекции. У дверей «Большой словесной», как зоркий и свирепый Аргус, стоял педель Грачев, высокий и статный гренадер, и неумолимо контролировал студенческие входные билеты, в которых были обозначены избранные каждым курсы. В частых случаях конфликтов, происходивших у этих заветных дверей между педелем и стремительными юношами, желавшими во что бы то ни стало проникнуть в аудиторию, появлялся суб-инспектор, молодой, суетливый человек, ревностный и придирчивый наблюдатель за ношением формы, проводник суровых требований нового устава, резкий со студентами, видимо, старавшийся выдвинуться перед тогдашним инспектором студентов, знаменитым А. А. Брызгаловым2. Так побывать хотя бы на одной лекции мне в этом году не удалось. Помню восторженные отзывы тех, кто на этот курс записался: «Вот Ключевский читает — заслушаешься!»
Во втором, весеннем полугодии Василий Осипович начал чтение общего курса русской истории для студентов второго курса и читал его по средам и субботам, дни, в которые он читал до конца своей деятельности в университете. На русскую историю полагалось тогда 4 годовых часа; Ключевский распределял свой курс так, что в весеннем полугодии прочитывал древний период до Смутного времени, а в следующем, осеннем, читал новую историю, начиная ее с избрания династии Романовых.
Неотразимо сильное впечатление производили его лекции! Бывало, аудитория ждет не дождется, когда же, наконец, появится,
идя торопливой походкой, с неизменным портфелем в руках, любимая фигура профессора, невольно привлекавшая к себе внимание. Все в нем, начиная с его выразительной внешности, было своеобразно и самобытно. Он никому не подражал и ни на кого не походил, он создан был во всем оригиналом и ни в чем копией. Начать с самой манеры чтения. Все у нас читали лекции сидя; Ключевский читал всегда стоя, стоял на ступеньках кафедры, опираясь на ее боковую часть; старинные кафедры в Московском университете были сложными сооружениями. Первые несколько секунд проходили в технических приготовлениях. Из принесенного с собою портфеля он вынимал целый запас вспомогательных аппаратов, развязывал папку с тетрадками, доставал какие-то маленькие листочки, книги — все это тщательно раскладывал на пюпитре и на боковом приспособлении кафедры, искусно этой вступительной паузой давая и аудитории возможность окончательно сосредоточить внимание. Затем, обыкновенно с краткого резюме предыдущей лекции, начиналось изложение. С первых же слов самыми звуками своего не сильного, но чрезвычайно мягкого, гибкого, подвижного, богатого модуляциями, свободно владевшего высокими и низкими нотами, необыкновенно приятного голоса он уже завоевывал внимание слушателей, превращал их, если можно так выразиться, в слух. Искусно маскируя свой прием, он всегда читал лекцию по лежавшему перед ним тексту, но читал с художественною выразительностью, интонациями и даже самой игрой лица изображая читаемое, мастерски разыгрывая содержание лекции. И благодаря этому, его лекции неизгладимо врезывались в память. Необыкновенно ярко он произносил приводимые в лекции тексты памятников. Я как будто сейчас, когда пишу эти строки, вижу его перед собою и слышу в его чтении, при тонком критическом анализе нашего первоначального летописного свода, знаменитую приписку: « Игумен Сильвестр святого Михаила написах книги си, надеяся от Бога милость прияти при князе Владимире» и т. д. Она была сказана так, что запомнилась сразу на всю жизнь. В особенности сильны по выражению были те места, где тексты принимали диалогическую форму, напр., приводимые летописью разговоры князей. В звуках голоса, которыми эти разговоры изображались, передавались оттенки в характерах князей и владевшие ими во время этих диалогов чувств, теплота и искренность одного, посылавшего сказать старшему родичу: «Батюшка, кланяюсь тебе, вот тебе Киев», зависть и злоба другого, как бы прошипевшая в его словах: «Вот посмотрю я, как ты у меня поползешь из Чернигова в Новгород-Северск», и сознание своей силы у третьего, выразившееся
в прямодушно-грубом обращении к сопернику с словами: «Иди из Киева — не пойдешь, выгоню». При рассказе о том, как накануне Липецкой битвы князья, младшие Всеволодовичи, на пиру делили между собою русские волости, слова одного из бояр, уверявшего князей в неодолимой силе Суздальской земли и презрительно отзывавшегося о силе противников: «Не бывало того ни при деде, ни при отце вашем, чтобы кто-нибудь вошел ратью в сильную землю Суздальскую и вышел из нее цел, хотя бы тут собралась вся земля Русская,— и Галицкая, и Киевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская, никак им не устоять против нашей силы; а эти-то полки — да мы их седлами закидаем!» Эти слова произносилась с интонацией, ясно дававшей понять, в каком состоянии находился говоривший их на пиру боярин. Помню, особый эффект производило окончание одной лекции, где описывался новый политический порядок, устанавливаемый на севере Андреем Боголюбским. Войска Боголюбского в 1169 году взяли Киев; предводительствующей ими брат Андрей возвратился на север «с честью и славою великою», как рассказывает северный летописец. Ключевский произносил эти слова громко, торжественным, напыщенным тоном; затем выдерживал паузу, наклонялся с кафедры к слушателям и каким-то особым, многозначительным шепотом, слышным, однако, на всю аудиторию, доканчивал: «...и с проклятием — добавляет южный летописец». Этой замечательной интонацией необыкновенно ярко подчеркивалась разница в отношениях северных и южных летописцев к северным князьям и их самодержавным замашкам. С тою же выразительностью он заканчивал лекцию, в которой рассказывалось о посольстве в Польшу из Москвы во время Смуты князя Григория Волконского с целью оправдать пред королем и панами истребление первого самозванца. Князь Григорий, по данному ему наказу, должен был говорить в Польше, «что люди Московского государства, осудя истинным судом, вправе были наказать за злые и богомерзкие дела такого царя, каким был первый самозванец. Князь Григорий еще от себя прибавил, что хотя бы теперь явился и прямой, прирожденный государь, царевич Дмитрий, но если его на царстве не похотят, то силой ему быть на государстве не можно». Быстроту эволюции политических идей под влиянием Смуты Ключевский изображал заключительной фразой, которую также произносил после долгой паузы, как бы задумавшись над смыслом слов Григория Волконского, и также пониженным до шепота голосом: «У крайнего политического либерала XVI века, князя Андрея Михайловича Курбского, волос встал бы дыбом, если бы ему сказали такую политическую ересь».
Курс, читанный Ключевским, представлял собой ряд отдельных законченных исследований, из которых создавалась, однако, стройная общая система. Не раз он заявлял во время чтения, что его лекции должны нам служить только дополнением к положенному им в основу своего преподавания учебнику Соловьева3. Поэтому он и считал себя вправе, дополняя Соловьева, останавливаться подробнее на некоторых сторонах исторического процесса или на некоторых его моментах, мимоходом только касаясь других и отсылая слушателей к учебнику, а иногда и к большой истории Соловьева. Эти отдельные исследования, из которых состоял курс, начинались критическим рассмотрением состава древнейших летописей; затем шел очерк экономического и политического строя Киевской Руси — знаменитая гипотеза о городовом ее строе, изображение очередного порядка княжеского владения с условиями, его разрушавшими, и с элементами, поддерживавшими земское единство Руси, исследование о происхождении и составе «Русской Правды», обширное исследование о колонизации северо-восточной Руси, с перечислением этнографических и политических последствий этого факта, собирание земель Москвою, состав московского боярства и его борьба с московскими великими князьями, служилое землевладение и происхождение крепостного права на крестьян — вот вопросы, на которых подробно останавливался Василий Осипович в первой половине своего курса, прослушанной мною в 1888 году. Такие отделы, как экономический и социальный строй Киевской Руси, устройство северного удела, состав московского боярства, происхождение крепостного права,— были, действительно, его оригинальными исследованиями. Вся черновая техническая сторона работы в лекциях была, разумеется, скрыта; но Василий Осипович не ограничивался только изложением одних конечных выводов и результатов; он с необыкновенным искусством вводил слушателей в ход своей исследовательской работы, выпукло излагая процесс мысли, наблюдений и заключений, иллюстрируя наблюдения яркими убедительными, конкретными примерами и опуская со свойственным ему чувством меры мелкие запутывающие детали, не подчиняющиеся и самому напряженному вниманию аудитории. Неограниченно властвуя этим вниманием, он никогда не злоупотреблял им, не утомлял его мелочами и вел его только по главным нитям, по магистралям своей мысли, постоянно выступая ему на помощь и облегчая ему работу усвоения посредством частых резюме пройденного, служивших как бы станциями, отдохнув на которых, слушатели запасались силами на дальнейший путь. На самом пути уровень внимания
лектор поддерживал другим приемом; замечая его понижение, он освежал его остроумным рассказом, иногда характерной цитатой, даже просто метким остроумным сравнением, на который он был такой мастер. По аудитории точно пробегала электрическая искра, проносился раскат освежающего и ободряющего смеха, и восстановленное внимание готово было опять послушно и покорно следовать за руководителем. И какое высокое наслаждение было следовать за этой тонкой, ясной, стройной и изящной мыслью, за этим процессом анализа, который повторялся лектором, произведшим его уже у себя в кабинете, вновь в общих чертах совместно с аудиторией. Созерцание этой тонкой мыслительной работы, соприкосновение с нею и участие в ней как-то просветляло и утоньшало собственную мысль, изощряло ее работу, воспитывало ее. С лекций Ключевского всегда, бывало, уходишь с новыми знаниями, которые на ней приобретались, но — что еще гораздо важнее — чувствовалось, что с нее уходишь, став несколько умнее, чем пришел на нее. Свет его мысли просветлял и мысль его слушателей. Какие бы сильные доводы ни приводились против лекционной системы, они все падут перед силой того обаятельного и того воспитывающего действия, какое производили на слушателей лекции Ключевского.
Прибавьте к действию его тонкой и изящной мысли еще и действие его несравненного стиля. Особенностью его стиля надо признать необыкновенно счастливое сочетание трех качеств: точности, силы и образности. Точность языка при сжатости выражении придавала его стилю как бы некоторую математичность, резко отличавшую его лекции от расплывчатого и довольно небрежного начиненного иностранными словами языка, которым обыкновенно излагаются исторические курсы. Эта математичность создавалась благодаря точным определениям и формулам, к которым любил прибегать Ключевский и которые делали его обширный курс доступным для памяти. Мало того, предлагавшиеся им на лекциях сжатые формулы обладали свойством запоминаться со студенческой скамьи на всю жизнь. Разве можно когда-нибудь забыть подвижной характер княжеской дружины, переменчивое отношение ее к князьям и волостям, выраженное формулой: «Дружина меняла волости, как их меняли князья, и меняла князей, как меняли их волости»; или разве исчезнет когда-нибудь из памяти, до тех пор пока не угаснет и самая память, формула, изображающая последствия удельного порядка в северной Руси: «Под действием удельного порядка владения, северная Русь дробилась все мельче, теряя и прежние слабые связи политического единства; вследствие этого
дробления князья беднели, беднея замыкались в свои вотчины, замыкаясь, теряли политическое значение блюстителей общего блага, а теряя это значение, дичали». Каждая такая формула может быть свободно развита и удобно развернута в целое рассуждение, но ведь за нею и кроется, в нее вложен целый мыслительный процесс, результатом и квинтэссенцией которого она явилась и как результат которого она сообщалась аудитории. Язык Ключевского всегда отделан; слов употребляется ровно столько, сколько нужно для ясного выражения смысла, все лишнее прибрано, никогда нет никаких так называемых общих мест, ненужных слов, фраз, никаких робких: «едва ли» и «едва ли не», «с одной стороны — с другой стороны», «мы не ошибемся, если скажем» и т. п.; словом, никогда нет того научного кривлянья, из-за которого сквозит робость, бедность, а иногда отсутствие мысли. Выбранные им слова как бы отчеканены, фразы точно выкованы из металла сильною рукою мастера, выражают смелую мысль, идя к ней напрямик без обиняков, метким и сильным словом, коротко, но ярко характеризуют изучаемое явление. Когда он хочет сказать, что сельский порядок верхне-волжской Руси не остался без влияния на характер княжеской власти, он говорит: «В удельном князе XIV века меньше земского сознания и гражданского чувства; в этом отношении он больше варвар, чем его южный предок, какой-нибудь младший областной Ярославич XII века, и если он меньше последнего дерется, то лишь потому, что он по воспитанию и вкусам больше мужик малопривычный ко всякому бою, в сравнении со старым южным князем, еще сохранившим наследственные привычки витязей». Здесь одно сильное и меткое слово «мужик» в приложении к князю говорит больше, чем целая характеристика. Когда он, характеризуя царя Федора Ивановича, хочет обозначить забитость и подавленность его воли, не умевшей обойтись без властного руководителя, и объяснить этим появление при Федоре Годунова, он говорит, что «под гнетом отца он потерял свою волю, но сохранил навсегда заученное выражение забитой покорности. На престоле он искал человека, который стал бы хозяином его воли: умный шурин Годунов осторожно встал на место бешеного отца». Разве эти два слова: «бешеный отец» не воскрешают перед нашей памятью целый образ царя Ивана?
Уже этих двух качеств стиля: точности и силы достаточно, чтобы сообщить ему и трете — красоту, потому что точный и сильный слог не может не быть красивым. Но язык Ключевского красив еще особой разлитою в нем художественною красотою, красотою поэтических сравнений и колоритных образов, которые не только возбуждали
внимание в слушателе, но и вызывали в нем эстетическую эмоцию, и не помню кто, характеризуя лекции Ключевского, верно сравнивал впечатление от них с действием музыки Бетховена. Тонкая красота его мысли передавалась в блещущее красотой слово, а это изящное слово выходило из его уст, облеченное в красоту звуков его удивительного голоса. Под действием красоты мысли, слова и звуков, бывало, выходишь с лекции Ключевского в просветленном очаровании и, действительно, испытываешь то же радостно взволнованное, повышенное и именно просветленное настроение, какое случается уносить после выдающегося исполнения классической музыки. Долго потом звучали в ушах эти звуки, вставали в памяти, как живые, развернувшиеся образы и передумывались высказанные мысли.
Его лекции, как мы их знаем в печатном курсе, полны сильного чувства к родной старине, к былым событиям и людям; он не хочет его обнаруживать, он держится строгим объективным, ученым исследователем; но чувством согрета каждая его страница, и, будучи в скрытом виде, оно производит еще более сильное действие на читателя, как и вообще прикрываемое сдерживаемое чувство, которое мы замечаем в другом, действует на нас сильнее, чем открытое его проявление. И при чтении им лекций аудиторию заражало то же передававшееся всем сдерживаемое, но сильное чувство. Он читал сам с воодушевлением, нередко заканчивал лекцию с огнем, который зажигал аудиторию, разражавшуюся бурей аплодисментов; их не могли сдержать никакие правила и запрещения, ни просьбы его самого, ни, как я раз помню, самое присутствие в аудитории министра народного просвещения Делянова4, творца устава 1884 года, строго запрещавшего в университете всякое выражение одобрения профессору, о чем говорилось в правилах. Но разве можно запретить невольное проявление восторга в зале, слушающей игру гениального артиста? А Ключевский не читал, а вдохновенно разыгрывал свои лекции, до того они были выразительны и воодушевлены. Он всегда читал их, имея перед глазами написанный их текст, он был именно лектор, а не оратор, ему приходилось неоднократно повторять их в том же самом виде, но что нам за дело до того, что гениальный композитор-пианист, чаруя нас своею игрою, держит перед собою ноты? И разве нам наскучит когда-либо слушать одну и ту же сонату Бетховена, в которой, чем большее число раз ее слушаешь, тем все больше красоты находишь?
А. Ф. КОНИ
Воспоминания о В.О. Ключевском
Я не был близко знаком с жизнью Василия Осиповича Ключевского и с его профессорской деятельностью в университете и Духовной академии. Поэтому я могу говорить лишь о встречах с ним в его студенческие годы и затем в то время, когда его «судьбой отсчитанные дни» уже приближались к концу. Утешаю себя, вспоминая слова Гейне, который говорит, что для того, чтобы понять и оценить человека и его деятельность, нужно видеть их не в зените, а на восходе и закате.
В 1862 году, вследствие студенческих волнений, Петербургский университет был закрыт на два года. Группа петербургских студентов, к которой принадлежал и я, переселилась в Москву и образовала тесный дружеский кружок, быстро освоившийся с Москвой и полюбивший ее бытовые особенности. Кружок состоял преимущественно из слушателей словесного факультета — бывших воспитанников единственной тогда в Петербурге классической третьей гимназии. Юристов в нем было всего двое: я и покойный Гизетти1. Между этими словесниками особенно выделялись — Н.Н. Куликов2, живой, остроумный и сердечный человек, представлявший центральную фигуру нашего кружка, и М. А. Кавос3, оставивший во всех, кто его знал, память о себе как о человеке редкого — даже в то время, и притом самого разностороннего образования. Нам всем приходилось много работать на неделе, давая уроки и записывая лекции в университете, но по субботам вечером мы собирались у Куликова и двух его товарищей, живших вместе, в переулке у Николы Явленного, близ Арбата. Мы приносили каждый свою долю участия в общей трапезе, слушали игру Куликова на купленном в складчину стареньком фортепиано и беседовали до глубокой ночи о всевозможных вопросах, волновавших наши
молодые умы. Вскоре к этому кружку примкнул уже коренной москвич Александр Иванович Кирпичников4, будущий известный ученый и профессор Харьковского и Московского университетов. Тогда это был высокий, сутуловатый, очень худой и бледный, несколько угрюмый человек, вносивший в наши беседы много интереса к истории и теории искусства и вызывавший одного из нас (Травинского), фанатического поклонника Шопенгауэра5, своими ироническими замечаниями на горячие споры, длившиеся чуть не до утра. Теперь никого из них уже нет в живых... Остался я один и, обращаясь к этому незабвенному времени, невольно повторяю стихи Некрасова: «А станешь стариться — нарви — цветов, растущих на могилах,— и ими сердце оживи».
Уже по прошествии трех месяцев наши словесники стали все чаще и чаще упоминать имя своего товарища Ключевского, относясь к нему с все возрастающим интересом и уважением. Наконец однажды, сколько мне помнится, осенью 1863 года, он посетил наше субботнее собрание и не раз затем в нем появлялся. Его невзрачная, скромная фигура, тихий голос и сдержанная молчаливость вначале невольно возбуждали у тех, кто не был на том же курсе одного с ним факультета, вопрос: «Да что же такого особенного в этом Ключевском? Почему сотоварищи,— склонные вообще к критическому отношению и зоркие на недостатки, добродушно осмеиваемые,— относятся к нему с таким почтением, как бы по молчаливому соглашению признавая его авторитетом в своей среде?» Но стоило ему живо заинтересоваться предметом разговора, особливо если он касался истории или искусства, как на эти вопросы получался самый вразумительный ответ. Ключевский оживлялся, вставал, делал несколько шагов по комнате и — обыкновенно стоя — начинал говорить, немедленно овладевая общим вниманием. Его речь на чудесном русском языке, тайной которого он владел в совершенстве, лилась неторопливо; по временам он останавливался и на минуту задумывался и затем снова пленял и удивлял выпуклостью образов, остротою и глубоким содержанием эпитетов и богатством сведений, приводимых в новом и подчас неожиданном освещении, за которым чувствовалась упорная работа самостоятельной мысли. Уже тогда в том, что он говорил, намечалися — его взгляд на историю как на социальный процесс по преимуществу и его любовь к изучению исторических явлений и периодов со стороны проявления в них природы страны, человеческой личности и людского общества. Для большинства из нас, ходивших в Петербурге слушать блестящие лекции Костомарова,
то, что высказывал Ключевский, было в значительной степени новостью. Талантливый художник преобладал в Костомарове над спокойным созерцателем, и чувствовалось, что создаваемые им образы влияют на самый характер его исследований и на свойство его выводов. Он (я говорю преимущественно о его лекциях об Иванах III и IV, читанных в 1861-1862 гг.) ярко и увлекательно рисовал картины тех или других исторических явлений, заботливо отделывая бытовые условия и обстановку, среди которых они проявились. Наоборот, Ключевский обращал главное внимание на причины этих явлений, глубоко вдумываясь в них и как бы следуя известной формуле: “Vires unite agunt”6. Костомаров набрасывал искусною рукою изображение сложного здания,— Ключевский расчищал и исследовал почву для закладки фундамента. Многих из нас интересовал раскол, не только как религиозное и бытовое, но и как историческое явление, причем не всех удовлетворяла Щаповская7 теория происхождения старообрядчества. В этом отношении указания Ключевского и беседы с ним были для нас и желанны, и поучительны. Я не раз вспоминал их в позднейшие годы, когда встречался с этим глубокой важности явлением нашей жизни в моей судебной, преподавательской и законодательной деятельности. Однажды, уже на последнем курсе, Великим постом, он направил нас утром в воскресенье в Кремль — потолкаться между народом перед соборами и послушать в отдельных группах обычные тогда прения раскольников с православными, происходившие свободно и чуждые казенно-полицейского участия некоторых из позднейших миссионеров. Мы повторили эти утренние походы несколько раз уже без него, вынеся из них живые представления о многом, чего не могла бы нам дать тогдашняя скудная в этом отношении литература.
После смерти Ключевского мне пришлось получить письмо бывшего ученика покойного, молодого талантливого историка, который говорит: «Ключевский был историком Московской, а не какой иной Руси; он сам представляется ее памятником, настоящим московским человеком. Он не был ни гражданином правового государства — будущей России, ни деятелем подернутой западной культурой Руси Петровской, ни киевским богатырем, ни вольным сыном Новгорода. Он был всецело слугой и богомольцем московских государей, современником Тишайшего царя, а может быть, и царя Ивана. Эту эпоху он всего лучше знал, ее он всего красочнее рисовал, с нею всего теснее сжился. Он был то же для Руси Московской, что был Забелин8 для самой Москвы. Старая Московия говорила его устами,
и он думал ее мозгом и чувствовал ее сердцем. В этом была и сильная и слабая его сторона. Этим он подкупал историка, но этим же и отпугивал от себя политика...» Я не могу, однако, разделить этого взгляда на Ключевского за те периоды его деятельности, о которых я говорил выше и когда я лично мог присмотреться к нему. В наши студенческие годы он не был поклонником старой Москвы, а к славянофильству относился несомненно скептически. Но он уже тогда изучил и знал Москву с большой подробностью. В его беседах ее история рисовалась слушателю, как целая, определенная и законченная картина, а не как отдельные фрагменты последней. Любя русского человека, Ключевский «проникновенно» вглядывался в создавшиеся исторически свойства его, выработанные условиями, среди которых последний жил и с которыми ему постоянно приходилось бороться. Стоит припомнить тонкую характеристику русского человека, сделанную в его лекциях: наклонность дразнить счастье и играть в удачу, откуда явилось знаменитое «авось»,— его удивительную способность к напряженному кратковременному ТРУДУ и его непривычку к труду размеренному и постоянному,— легкость одоления им препятствий и опасностей и частое неумение выдержать с тактом и достоинством успех,— способность подводить итоги на счет искусства составлять сметы. Но ценя лучшие свойства русской души и сливаясь с ними, Ключевский не идеализировал прошлого и с беспристрастием историка и скорбью родного и близкого человека указывал на слабое развитие и рабскую приниженность личности, на подавленность и случайность проявления общественных сил, на грубость нравов и восточную хитрость приемов в этой самой Москве Грозного и Тишайшего, отводя среди причин всего этого справедливое место печальной и скудной природе, так мало дававшей опоры для свободного развития общежития.
Доказательством является его кандидатское рассуждение «Сказания иностранцев о Московском государстве», напечатанное впервые в приложениях к московским университетским известиям, только что начавшим выходить в 1865-66 годах, рядом с рассуждениями товарищей Ключевского по выпуску из университета — Шайкевича9 «О преступлениях против чести», Никольского10 «О внешних таможенных пошлинах» и моим «О праве необходимой обороны». Уже в этом первом печатном обширном труде Ключевского, представляющем результат огромной подготовительной работы, совершенно необычной для кандидатских сочинений, слышатся основные звуки его будущих блистательных лекций. Двенадцать глав рисуют нам Московское государство со всех сторон
и с точек зрения различных наблюдателей. Определяя историческую стоимость источников своего «рассуждения», Ключевский совершенно справедливо находил, что правильно оценивать и объяснять многие явления русской жизни иностранец, чуждый русским понятиям и привычкам, не мог, но описывать их, выставлять их выдающиеся черты, высказывать непосредственное впечатление, производимое ими, он мог лучше и полнее, нежели люди, к ним приглядевшиеся и притерпевшиеся... Поэтому домашняя жизнь и нравственный быт общества ускользали от наблюдений иностранцев, но зато внешние явления и наружный порядок общественной жизни, а также ее материальная сторона с особой верностью и полнотою укладывались в эти наблюдения. И картина, изображаемая нашим историком на основании таких наблюдений, почерпнутых из 35 иностранных источников,— отличается яркостью и полнотою именно в отношении внешних проявлений русской жизни с XV по XVII век. Как живы, например, описание приема иностранных послов в Москве,— передача впечатлений последних от царского двора и самого царя, считающего себя несравненно выше западных христианских монархов, презрительно говорящего Поссевину11: «Что это за государи?!» и моющего после приема послов руки в нарочито поставленной при аудиенции золоченой лохани с кувшином и полотенцем; как характерны отзывы иностранцев о твердости, с которою русский ратник исполняет тяжелые предприятия и, равнодушный к своему помещению и пище, переносит нужду и труд; в каких живых красках представляется русская городская жизнь в XVI и XVII столетиях! Притом в этой картине постоянно чувствуется строгая разборчивость автора в материале, которым он пользуется, стараясь провести ясную грань между внешнею и внутреннею жизнью народа, между той областью, где следует искать Wahrheit12, и тою, где неминуемо приходится встречаться с Dichtung13 со стороны «чужих»...
В этом отношении труд Ключевского очень выгодно отличался от составленного Костомаровым «Очерка домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях»14, вышедшего на шесть лет раньше и преисполненного безусловным доверием к сказаниям иностранцев (в особенности к запискам Горсея15) именно о той стороне русской жизни, которая им была наименее доступна и понятна. В памяти у нас, товарищей Ключевского, слушавших вместе с ним историю словесности у Буслаева (для юристов это был предмет необязательный, но многие посещали эти лекции, привлекаемые глубоким интересом их и оригинальностью), еще
были свежи указания Федора Ивановича на поспешность выводов и погрешность утверждений Костомарова. Так, например, оказывалось, что, говоря об образе Одигитрии-Пятницы, Костомаров смешал с Богоматерью св. Параскеву-Пятницу, причем в источнике, которым он пользовался, говорится вовсе не о Пятнице, а о Пяднице, т. е. о небольшом образке, величиною в пядь, откуда и самое слово пядница. Точно так же неверным оказывалось и предположение его о том, что на народных игрищах существовал обычай увенчивать удалых и ловких победителей, как это будто бы явствует из поговорки «Без борца — нет венца», тогда как это вовсе не народная поговорка XVI или XVII столетия, а духоборческий «стих» конца XVIII столетия, обещающий венец в будущей жизни для борцов духом с грехами, соблазнами и прелестью здешнего мира.
В начале июня 1865 года мы окончили курс и разошлись по разным дорогам. Снова увидеть Ключевского мне пришлось лишь через пятнадцать лет, в июне 1880 года на торжестве открытия в Москве памятника Пушкину1б, Это открытие было одним из самых выдающихся событий в русской общественной жизни последней четверти прошлого столетия. После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет, с начала 1880 года стало легче дышать, и общественная мысль и чувство начали принимать хотя и не вполне определенные, но, во всяком случае, более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все начало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг пронеслись свежие струи чистого воздуха и все постепенно стало оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве. Накануне открытия памятника был торжественный прием депутаций в зале городской думы (на Воздвиженке) и чтение адресов и приветствие; на другой день с утра Москва приняла праздничный вид — у памятника, закутанного пеленой, собрались многочисленные депутации правительственных, ученых и литературных обществ и редакций с венками и хоругвями. После обряда передачи памятника городу — пелена развернулась и упала — и под крики «ура» и пение хорами «Славься» Глинки17 предстала бронзовая фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головою. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину пред собою и временное забвение. У многих на глазах заблистали слезы... Хоругви задвигались, поочередно склоняясь пред памятником, и у подножия его быстро стала расти гора венков и эмблем. Через час в обширной актовой зале университета, переполненной так, что яблоку негде было упасть, состоялось торжественное за
седание. После провозглашения имен избранных в почетные члены университета Я. К. Грота18, П. В. Анненкова 19 и Тургенева20 — причем последнее было встречено взрывом рукоплесканий и приветственных криков, бурными волнами носившимися в обширной зале — на кафедру взошел Ключевский. Несмотря на слабый голос, он быстро овладел присутствующими. В его манере говорить я почувствовал особое уменье насторожить и обострить внимание слушателей. Простое, без всяких вычур слово его было так полновесно и с таким искусством соединяло в себе отвлеченные определения, широкие обобщения и жизненные образы, что слушающий очень скоро чувствовал себя вполне во власти лектора. В сжатое и точное его изложение по временам и совершенно неожиданно вправлялись афоризмы, в которых одновременно блистали яркая мысль и тонкое остроумие. Все те умственные свойства и особенности, которыми он выделялся среди нас, еще будучи студентом, широко развились в нем и окрепли. В нем слышался уже не только настойчивый искатель истины в любимом деле, но и хозяин в нем, ею уже в значительной мере овладевший. Пушкин-поэт и Пушкин-историк предстали в речи Ключевского пред слушателями в своем взаимоотношении, освещенном ново и оригинально. Пушкин оказался всего менее историком в своих исторических сюжетах — в «Полтаве», «Борисе Годунове» и др. и дал ценный материал для историка в повести, написанной между делом и без претензий на историческую достоверность. «Капитанская дочка», по мнению Ключевского, представляла такое правдивое воспроизведение эпохи, такую выхваченную из подлинной жизни того времени картину, что специальное исследование Пушкина «История Пугачевского бунта» может быть рассматриваемо только как подробное примечание к «Капитанской дочке». А затем Ключевский представил последовательное развитие главнейших типов XVIII и начала XIX столетий, закрепленных Пушкиным в различных его произведениях. Указывая на генетическую связь между ними, он в особенности остановился на одном, зародившемся слишком двести лет назад, в лице выдающегося исторического дельца — Ордина Нащокина21 и выраженном во времена Пушкина скучающим от безделья Евгением Онегиным. «Это русский человек,— говорил Ключевский,— который вырос в убеждении, что, хотя он и не родился европейцем, но обязан стать им. Без его биографии пустеет история нашего общества последних двух столетий. Около него сосредоточиваются, иногда от него исходят самые важные умственные, а подчас и политические движения». В ряде почерпнутых у Пушкина определенных и рельефно
описанных образов прошли перед нами разнообразные виды этого типа, зависевшие от различных способов решения рокового вопроса о том, как сделаться европейцем, родившись русским и решив, что русский — не европеец. Тут были и те, которые находили, что русское надо делать по-западноевропейски, и те, которые стремились переделать русское в западноевропейское, и те, которые думали стать европейцами, оставаясь русскими, и, наконец, те, которые находили, что необходимо перестать быть русскими. Между ними оказывались желающие заимствовать с Запада свет знания, но без огня, и желающие взять его целиком с тем, чтобы не подносить, однако, близко к глазам. Каждый из этих видов — арап Ибрагим, капитан Миронов, поручик Гринев, Дубровский и Троекуров — все это типы, драгоценные для историка. Сами по себе будучи продуктом поэтического вымысла, они, однако, составляют существенное дополнение к историческим актам и мемуарам. Галерея заключалась историческим недорослем — не карикатурой, а простым и вседневным явлением, не лишенным довольно почтенных качеств. Это был самый обыкновенный русский дворянин средней руки, учившийся понемногу, сквозь слезы, при Петре, со скукой при Екатерине II, но сделавший нашу военную историю и протоптавший славный путь под руководством Румянцевых и Суворовых22. К этой последней разновидности Пушкин относился с сочувствием, заставив капитанскую дочку предпочесть добродушного армейца Гринева блестящему гвардейцу Швабрину. «Историку восемнадцатого столетия,— заявил Ключевский, — остается одобрить и сочувствие Пушкина, и вкус капитанской дочки». Свое чтение Ключевский закончил характеристикой Евгения Онегина и его ближайших потомков — Чацкого и Печорина и указанием, что заслуга Пушкина для истории в том, что он дал связную летопись нашего общества в лицах слишком за целое столетие и как художник стал между составителем мемуаров и историком, к великой радости последнего.
Речь Ключевского, осветив творчество Пушкина с новой стороны, произвела глубокое впечатление и вызвала во многих местах шепот сочувствия, которое еще до конца ее выразилось в громких рукоплесканиях23.
Снова прошло много лет, что мы не видались, хотя довольно часто справлялись друг о друге. Я знал от бывших слушателей его, как окончательно сложился в нем глубокий ученый и мыслитель, перешедший от «Истории Государства Российского» и «Истории России» к истории образования личности русского народа, — и как развился замечательный художник, властитель гибкого и покор
ного слова, умевший не только воссоздавать исторические образы, но и любить их, воплощая их в условиях их времени и деятельности, а не трактуя их горделиво с высоты современных взглядов. Старая, былая действительность оживала у него поэтому с особой ясностью, не окрашенная предвзятостью. В его исследованиях и изложении история, употребляя выражение Цицерона24, была не только vita memoriae25 и testis temporum26, но и lux veritatis27, исключавший роль судьи там, где гораздо более места мыслителю. Эти рассказы и отзывы подтвердились мерою полною, когда позднее я стал получать от него его превосходный курс истории с дорогими для меня надписями на заглавной странице. Я читал их не отрываясь, поучаясь и наслаждаясь одновременно и по нескольку раз возвращаясь к одним и тем же страницам. В моей памяти еще жил благородный облик Сергея Михайловича Соловьева, задушевность его тона и широкий захват в его лекциях «истории России в эпоху преобразования». Как сейчас вижу его как бы углубленного в свои размышления и наблюдения, с полузакрытыми глазами, начинающим эти свои лекции в слегка приподнятом тоне рассказом о том, как «в одном государстве царственный ребенок, вследствие семейной вражды, подвергался страшной опасности, спасся чудесным образом, воспитывался в уединении среди низких людей, набрал себе из среды их новую храбрую дружину, одолел с нею противников и стал основателем нового общества, нового могущественного государства, проводил всю свою жизнь в борьбе и оставил по себе двойную память: одни благословляли его, другие проклинали»... Программа, начертанная в этих словах, была выполнена Соловьевым с чрезвычайной подробностью и удивительным богатством данных, добытых упорным и неустанным трудом. Но синтез всей этой сложной работы был сделан его учеником с неподражаемой ясностью и краткостью. Не могу отказать себе в удовольствие привести это место из лекций Ключевского, столь характеризующее его самого как историка-мыслителя. «Петр I,— говорит он,— своими понятиями и стремлениями близко подошел к идее правового государства: он видел цель государства в добре общем, в народном благе, не в династическом интересе, а средство для ее достижения в законности, в крепком хранении “прав гражданских и политических”; свою власть он считал не своей наследственной собственностью, а должностью царя, свою деятельность — служением государству. Но обстоятельства и привычки помешали ему привести свое дело в полное согласие с собственными понятиями и намерениями.
Обстоятельства вынуждали его работать больше в области политики, чем права, а от предшественников он унаследовал два вредные политические предрассудка — веру в творческую мощь власти и уверенность в неистощимости народных сил и народного терпения. Он не останавливался ни пред чьим правом, ни перед какой народной жертвой. Став преобразователем в европейском духе, он сберег в себе слишком много московского допетровского царя, не считался ни с правосознанием народа, ни с народной психологией и надеялся искоренить вековой обычай, водворить новое понятие так же легко, как изменял покрой платья или ширину фабричного сукна. Вводя все насильственно, даже общественную самодеятельность вызывая принуждением, он строил правомерный порядок на общем бесправии, и потому в его правомерном государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживляющего элемента, свободного лица, гражданина».
«Я взял с собою за границу,— писал мне в 1908 году из Швейцарш старый московский студент, известный адвокат Пассовер28, человек большого ума, с преобладанием в нем скептического и строго критического склада,— я взял с собою курс русской истории Ключевского... Послушайте! Ведь это просто гениально! Этот труд так меня захватил и своей формой и своим содержанием, что мне хочется упрекнуть вас: зачем вы не указали мне на эти книги раньше, если их уже читали, а если не читали, то что можете вы представить в свое оправдание?! Благодаря им я соединяю поправление от физической болезни с отдыхом для мысли, уставшей от той фальсификации науки, которою нас в последние годы потчуют под разноцветными ярлыками». В первой половине девяностых годов, будучи два раза в Москве, я посетил Василия Осиповича в его доме на Житной улице и провел с ним вечер у Н. В. Давыдова29. Близорукое и бездушное преследование «инако верующих» в области религиозной пагубно для правосудия, отражавшееся и на деятельности судебных органов, и слепое, по отношению к будущему, подавление всяких проявлений правосознания и самодеятельности в обществе, связанное с суровым отношением к «инако мыслящим», были предметами наших бесед, во время которых в голосе и выражениях Ключевского звучала негодующая скорбь. Помнится, что его, как и встреченная мною за границей А. И. Чупрова, возмущало, но «не удивляло» противодействие, оказанное В. К. Плеве30 по почину статс-секретаря Муравьева31 чтению мною публичных лекций «О нравственных началах в уголовном процессе». В это же время его смущала наша дальневосточная политика, восхваляемая некоторы
ми органами печати, самонадеянно и более, чем преждевременно присвоившими Северной Манчжурии название «Желтороссии»32.
Затем наступила тяжелая година 1904 года и состоялись известные заседания Комитета министров, в которых откровенно было признано болезненное состояние нашего внутреннего государственного организма и намечены некоторые способы и средства лечения. К последним относился восьмой пункт Высочайшего указа 12 декабря 1904 года, в котором было повелено «устранить из ныне действующих о печати постановлений излишние стеснения и поставить печатное слово в точно определенные законом пределы, предоставив тем отечественной печати, соответственно успехам просвещения и принадлежащему ей вследствие сего значению, возможность достойно выполнять высокое призвание быть правдивою выразительницею разумных стремлений на пользу России». Вследствие этого 21 января 1905 года образовано было особое совещание для пересмотра действующего цензурного законодательства и для составления нового проекта устава о печати. В состав этого совещания под председательством Д. Ф. Кобеко33 вошли и мы с Ключевским. История занятий этого совещания очень поучительна как пример благих намерений и горячей законодательной работы, заеденных медлительностью канцелярской рутины и отсутствием твердости в столкновении с мимолетной «злобой дня». Здесь не место касаться ее в подробности. Достаточно лишь сказать, что в тридцати слишком ее заседаниях, начатых с единодушным желанием огромного большинства членов поставить печать в нормальные условия и освободить ее от обширного наслоения мер и распоряжений, основанных на усмотрении и произволе, был выработан проект устава о совершенной отмене предварительной цензуры и о замене ее по отношению к преступлениям печати так называемым “Objectivverfahren”34, при котором судебная кара падает на сочинение, но не на личность автора. Грозные события опередили, однако, внесение этого устава на законодательное рассмотрение, и, задержанный на своем пути в течение пяти месяцев бюрократическим квиетизмом, он был неожиданно для членов комиссии заменен прямо противоположными «временными правилами» действующими и доныне там, где и они в свою очередь не заменяются усмотрением высшего местного административного начальства. Ключевский принял близко к сердцу задачу этого совещания, приезжал на важнейшие заседания из Москвы или периодически проживал для них в Петербурге, прося меня во время его отсутствия держать его в курсе наших работ и вызывать его
в случаях неотложной надобности в его участии или голосе. Он останавливался в гостинице Palais Royal, в Пушкинской улице, перед заседанием заходил обыкновенно ко мне, и мы вместе ехали в Мариинский дворец. Раза два мы совершили то же после обеда у М. М. Стасюлевича35, в кругу главнейших участников «Вестника Европы», где Ключевский был всегда желанным гостем, несмотря на свою сдержанность старого москвича, несвободного от некоторого скептицизма по отношению к принятию «всерьез» петербургских взглядов и речей.
В заседаниях он, привыкший к совместной работе с людьми более или менее однородных приемов мышления и способов выражаться, не без любопытства вглядывался в духовную и нравственную «смесь одежд и лиц», которая свойственна нашим междуведомственным совещаниям и комиссиям. Тут были журналисты и публицисты (Стасюлевич, Суворин36, Арсеньев37, Пихно38 и князь Мещерский39), поэты (Голенищев-Кутузов40, кн. Цертелев41), представители разных ведомств, бывшие и настоящие начальники главного управления по делам печати, сенаторы, духовные лица (епископ Антонин42 и др.) и, наконец, добровольцы, вроде киевского «обывателя», покойного Б.М. Юзефовича43, постоянно остававшегося при особом мнении и после нескольких горячих, но неуспешных выступлений отрясшего прах ног своих и покинувшего совещание. Но лично Ключевский выступал редко, и тем с большим вниманием прислушивались все к его словам, в которых он являлся не только историком, но и политиком. Так, он подробно высказался по вопросу о переходе от концессионной системы разрешения повременных изданий к системе явочной. Доказывая, что надо держаться практической почвы и критиковать действующий порядок с точки зрения права, пользы и целесообразности, он возражал на заявления противников явочной системы, что она вызовет появление изданий, изменяющих к худшему самый тон печати, переполнение рынка недоброкачественными газетами и ущерб для кармана подписчиков. «Все это,— говорил он,— вполне возможно и при концессионной системе, все это у нас уже бывало и, что всего важнее, миновало без вреда для государственного порядка и общественной нравственности. Десять лет тому назад 78 литераторов в записке, поданной на Высочайшее имя, засвидетельствовали единогласно, что концессионный порядок был именно одною из причин вторжения промышленников и спекулянтов в нашу печать. Защитники действующего у нас порядка ищут опоры в аналогиях: сравнивают литератора с инженером, доктором, аптекарем и т. д.,
но аналогия сама по себе не разрешает вопроса, она должна опираться на принцип, а с принципиальной точки зрения большая разница между профессиональными правами и тем правом слова, одна из форм которого — право печати. Профессиональные права приобретаются — право слова есть право личное, принадлежащее каждому полноправному гражданину, оно может быть ограничено или потеряно лишь по суду или по соображениям государственным. Признано правда, что право слова, как и право союзов и собраний, имеет политическое значение, что это одна из форм общественной деятельности; но из этого вытекает лишь обязанность подчиняться в своей деятельности известным условиям, ограничение же самого приступа к пользованию печатным словом не может быть оправдано никакими политическими соображениями: можно ли лишать человека права издавать газету ввиду возможных, но еще не случившихся с его стороны злоупотреблений? Это значит — наказывать за счет не содеянных преступлений. Всякий полноправный и безупречный гражданин вправе обращаться к той или другой форме печатного слова, не испрашивая этого права, а только подчиняясь условиям, какими закон обставил его осуществление. Концессионный порядок свел эти условия к уничтожению самого права, между тем Уложение о наказаниях предоставляет суду не только приостанавливать повременное издание или даже прекращать его совершенно, но и лишать виновных издателей и редакторов права на эти звания в течение продолжительного срока, и потому суд может давать достаточную гарантию против злоупотреблений. Говорят, что переход от действующей концессионной системы к системе явочной слишком крут. С этим трудно согласиться,— крут был бы, наоборот, переход от явочной системы к концессионной. Затем для избежания перелома предлагают улучшить действующую концессионную систему изъятием выдачи разрешений на повременные издания из рук министра внутренних дел и ее сосредоточением в особом вневедомственном учреждении из высших судебных и административных чинов, самое положение которых гарантировало бы правильную, последовательную и беспристрастную оценку всех происходящих в области печатного слова явлений. Предполагалось далее ввести в состав такого учреждения членов Академии наук. На первый взгляд, такое соединение в единой коллегии представителей права, политики и науки очень привлекательно, только трудно догадаться, как будет действовать совместно такая смешанная коллегия. Особенное недоумение вызывает вопрос, что делать в ней членам Академии наук. У науки один критерий — критика научная
и художественная, а тут академикам придется разрешать вопросы чисто полицейские. На каких, наконец, данных будет подобная коллегия основывать свои решения? Без собственных разведочных органов она принуждена будет обращаться за справками во все ведомства. Таким образом, из вневедомственной она должна будет превратиться во всеведомственную и от всех ведомств зависимую; единоличное усмотрение заменится усмотрением коллегиальным, что едва ли будет улучшением...»
При обсуждении ст. 140 цензурного устава, предоставлявшей министру внутренних дел право, по соображениям высшего правительства, налагать печать молчания на уста периодических изданий по тому или другому вопросу государственной важности, статьи, выродившейся на практике в ничем не оправдываемые запрещения говорить о тотализаторе и о допинге, о болезнях и перемещениях должностных лиц, о «поповках» черноморского флота и т. и.,— Ключевский высказал, что статья эта представляется ему занесенною из какого-то другого документа и носит на себе следы более литературной, чем законодательной обработки, судя по выражениям, с трудом поддающимся юридическому анализу («высшее правительство», «вопросы государственной важности»). Одна из главных целей этой статьи — предупредить разглашение тайн того или другого ведомства. Но эта цель касается больше скромности подведомственных канцелярий, чем самой печати. Это в значительной мере вопрос служебной дисциплины, а не свободы печатного слова. В применении своем эта статья иногда как будто стыдилась самой себя. Несколько лет тому назад, говорил нам Ключевский, министр народного просвещения, во время студенческих волнений, посещал в Москве высшие учебные заведения, говорил с профессорами, успокоительно беседовал со студентами44. Но периодическая печать, удрученная циркулярами о безусловном запрещении печатать какие-либо известия о беспорядках в высших учебных заведениях, молчала об этих беседах. Тогда по редакциям разослан был циркуляр от 17 февраля 1902 года, разрешавший или даже предписывавший «более свободно» печатать о министре народного просвещения. Лучше совсем отменить спорную статью, чем улучшать ее какими-либо ограничениями, которые на практике превратятся в излишние стеснения для печати. Предметы, печатное обсуждение которых в известный момент будет неудобным, должны быть указаны в общем законодательстве, а не в специальном уставе о печати, и самое применение этих указаний нужно урегулировать каким-либо законодательным способом, с наименьшим участием
административного усмотрения... Особенно горячо выступал он несколько раз против сохранения обособленной духовной цензуры. Он указывал, что надо в действительности освободить печать от излишних стеснений. Одним из них несомненно является духовная цензура. Отдел устава об этой цензуре, составленный в 1828 году, на практике привел к чрезвычайному произволу, заставляющему не понимать, как могла еще существовать при нем духовная литература. Нельзя рассматривать духовную цензуру как специальную, вроде медицинской или драматической. Цензурный устав дело полицейское, а церковь должна уметь сама защищать себя. В подтверждение своего взгляда на шаткость оснований, которыми руководится духовная цензура, он рассказал нам, что раз покойный Борис Николаевич Чичерин45 принес ему большую кипу листов, прося провести это чрез духовную цензуру. Он дал рукопись на просмотр цензору-профессору Московской духовной академии, и чрез неделю тот сказал ему: «Если вы формально представите нам это сочинение, мы запретим, а если напечатаете как светское, мы придираться не будем». Так появилась замечательная книга Чичерина «Наука и религия». В своих возражениях защитникам этой цензуры Ключевский очертил ее своеобразную историю. «Практика сначала пыталась создать цензуру мнений,— говорил он,— но это не удалось, и явилась цензура корректур. Цензор поправлял корректуру, выбрасывал одно, вставлял от себя другое, изменял третье, и так появилась целая литература поддельных книг, в которых под именем автора печатался цензор. К шестидесятым годам развитие литературы пошло так широко, что духовная цензура не могла его удержать, и потому гражданскою литературою перестала интересоваться, а остановилась на произведениях людей своего ведомства, сделалась цензурою писателей из духовного ведомства. Я удивляюсь, как еще сохранилась у молодежи энергия работать. Из корректурной обратясь в сословную, цензура стала преследовать авторов из своего ведомства и стала сливаться с критикою. Тут и не разберешь, где кончается разбор чужого мнения и где начинается полемика с чужим мнением. Полный произвол: цензор, неуполномоченный Церковью и не обладающий авторитетом Церкви, говорит автору, что сочинение не годится и писатель должен подчиниться»... Особенно горячо восстал он против предложения епископа Антонина о необходимости включить в устав о печати постановление о праве церковной власти проверять содержание духовных книг и высказывать по нему свой суд и осуждение. «Никогда с этим не соглашусь! — воскликнул Ключевский,— Устав — полицейское дело.
У Церкви есть право обличения, вразумления, поучения, все это права чисто нравственного свойства, этого и довольно. Но избави Бог, если будет включено в устав о печати право Церкви высказываться о содержании печатных произведений и произносить по ним свой суд! Как примирить институт духовной цензуры с тем общим положением, что единственный критерий веры — Евангелие и что единственный судья его толкования — Вселенский собор? Ни право Церкви высказывать свое осуждение, ни право писателя получать одобрение Св. Синода — не дело устава о цензуре. У Церкви есть один только авторитет — Священное Писание. Ужели имеется в виду создать и в России index librorum prohibitorum46, как на Западе? Там этот индекс представляет из себя книгу в 900 страниц, с очень любопытными отзывами. Были попытки в Древней Руси составить списки “отреченных” книг, но, слава Богу, эти попытки не удались нашим предкам; не привилось у нас это шпионство религиозных убеждений, и к концу XVI века списки запретных книг исчезли из употребления. У Церкви нет власти, а только нравственный авторитет. Всякая власть есть по необходимости насилие, а Церковь должна быть чужда насилия».
В конце мая 1905 года Ключевский вернулся в Москву. Но события сменялись так быстро и неожиданно, влияя на взгляды и настроения, что в конце июля он вновь прибыл в Петербург для принятия участия в другом совещании, имевшим гораздо более важную задачу, окончательно выразившуюся в указе Сенату 6 августа 1905 года об учреждении законосовещательной Государственной думы. Нам не удалось увидаться, так как я проводил лето в Сестрорецком курорте, откуда выезжал редко, но я слышал из достоверного источника, что Ключевскому пришлось отстаивать сохранение за Думой права законодательного почина и бессословность выборов в нее, ссылаясь на то, что его — историка и знатока народной души и миросозерцания — пугают последствия возникновения в народном воображении представления о сословном Царе, блюдущем интересы лишь одного какого-либо класса своего государства. Осенью 1905 года он писал мне: «Вместе со всеми, кому дороги успехи русского общественного правосознания и русского свободного слова, приветствую вас глубоким товарищеским поклоном в день исполнившегося сорокалетия вашей службы. Тревожные дела в университете, к прискорбию моему, не позволяют мне приехать в Петербург и лично поздравить вас. Летом я много жалел, что уже не застал вас в Петербурге, а суета и тревоги, среди которых проходили мои петербургские дни, помешали мне навестить вас
в Сестрорецке: мне очень недоставало вашего общества и совета о текущих событиях». Мы виделись в последний раз — на очень короткое время,— когда он приезжал на выборы в Государственный совет от Академии и университетов. Хотя и уклонившись от принятия звания члена Государственного совета и всецело отдавшись своей ученой жизни, а затем тяжко потрясенный семейной утратой47, он тем не менее, судя по одному из писем ко мне, с лихорадочным вниманием следил за всеми «муками рождения» нашего обновляемого государственного строя. Он высоко ставил самый факт существования Государственной думы и далеко не разделял тех порицаний и опасений, которые вызвали роспуск Думы первого призыва, очень его взволновавший. «Присматриваясь к деятельности этой Думы,— писал он мне 21 июля 1906 года,— я был вынужден признать два факта, которых не ожидал: это — быстрота, с какою сложился в народе взгляд на нее как на самый надежный орган законодательной власти, и потом бесспорная умеренность господствующего настроения, ею проявленного. Это настроение авторитетного в народе учреждения неизмеримо умереннее той революционной волны, которая начинает нас заливать, и существование Думы — это самое меньшее, ценою чего может быть достигнуто бескровное успокоение страны ». Гораздо суровее относился он к Верхней Палате того времени, упрекая ее в дилетантизме и склонности к застою...
Член-корреспондент в 1889 году и вслед затем с 1900 года ординарный академик историко-филологического отделения Академии наук, Ключевский по непререкаемому праву вошел в среду высшего ученого учреждения России. Но в составе академии с 1899 года был образован Разряд изящной словесности, а Ключевский, независимо от своих ученых заслуг, был выдающийся художник, мастер русского слова и стилист. Члены Разряда могли сказать про него, повторяя известное изречение: “Rien ne manque a sa gloire — il manque a la notre”48, и в ноябре 1908 года он был единогласно избран в почетные академики даже без баллотировки49. На извещение мое об этом он ответил письмом от 13 ноября, которое позволяю себе привести целиком, ввиду высказанных в нем взглядов на значение писателей как общественных типов. «Пребольшое вам спасибо,— пишет он,— за ваше участие в моем избрании. Оно смутило меня; читая известительную телеграмму, я спросил себя: за что? Но в подписях я прочитал имена, которые привык произносить с глубоким уважением и любовью, и они меня успокоили. Вы спрашиваете, как мне живется. И так и сяк. Лето закончил воспалением горла, поправился в Крыму, а теперь опять расклеиваюсь, простужаясь то и дело. Эти
передряги и мешали мне быть исправным вашим корреспондентом. Но не вините меня за то строго: я умею ценить Ваши письма и только не умею своевременно отвечать на них. Не знаю, как благодарить вас за присланную вами статью о гр. Л. Н. Толстом50 и за “Отрывки из воспоминаний”51. Не буду разборчив в выражениях, напишу первыми попавшимися словами. Во-первых, “Отрывки” заставили меня пережить чуть не половину моей жизни, 60-е, 70-е и 80-е гг. минувшего столетия, и это вторичное переживанье пополнило мои личные воспоминания и во многом их исправило. А потом вы прямо-таки открыли мне Тургенева, Достоевского, Некрасова, Писемского, превратили литературные силуэты, какими они мне представлялись, в живые, яркие образы. И знаете, за что я вам особенно благодарен? Из ваших рассказов, столь для меня новых, я не вынес разочарований, напротив, обогатил только запас своих сочувствий: в ежедневной действительности, как вы изобразили этих мастеров, в конкретнейших, иногда мелких случаях их жизни, вами рассказанных, они не менее привлекательны, даже нередко привлекательнее, чем в своих произведениях. Сколько в них, думалось мне при чтении ваших воспоминаний,— сколько в них исторического и вместе сколько трагического! Не каждый из них носил на шейном шнурке мундштук вместо креста подобно Писемскому; но на плечах каждого, не исключая и Писемского, тяготел крест русской жизни. Желал бы я видеть смельчака, историка той, т. е. нашей, эпохи, который решился бы обойтись без Тургенева, Достоевского и т. д. не в главе о литературе, а в отделе об общественных типах, и вам в этом отделе волей-неволей придется занять в подстрочных примечаниях место пушкинского Пимена.— Только что прочитал продолжение ваших судебных воспоминаний в последней книжке “Русской старины”. Это — изнанка той же эпохи, и можно только позавидовать безгрешной завистью, с каких разнообразных сторон пришлось вам взглянуть на жизнь своего времени. Новые рассказы поразили меня не менее прежних. Семья чиновника NN останется в моей памяти таким же глубоким рубцом, как и игумения Митрофания52. Не сердитесь на меня, дорогой Анатолий Федорович, за мои признания: я знаю, они вам не нужны; но вы ведь в них виноваты. Вы спрашиваете, прислать ли ваши речи в Государственном совете об университете Шанявского и по другим вопросам? — Я прошу вас об этом. Мало того: я надеюсь, приехав в Петербург (чего на свете не бывает!), услышать ваш рассказ об одном деле, вами мне обещанный. Видите, как я иногда памятлив. Я был очень огорчен известием о прекра
щении “Вестника Европы”: без “Вестника Европы” я не понимаю русской журналистики, как не понимаю очков без стекол. Но слава Богу: очки останутся со стеклами. Хотелось бы узнать что-нибудь о М. М. Стасюлевиче. Хорошо помню его “день субботний”. До свидания. Не обходите меня ни письмами, ни литературными произведениями: те и другие для меня лекарства от моих недугов. Душевно Вам преданный В. Ключевский».
Согласно его желанию, я посылал ему стенографические отчеты заседаний Верхней Палаты по вопросам особой важности и обещал прислать таковой и по обсуждению законопроекта о свободе совести, вопрос о которой он в наших беседах считал одним из самых коренных и неотложных. Но этого сделать не пришлось. Заседания по законопроекту произошли уже чрез полгода после того, как навсегда смежились уста моего старого университетского товарища. Может быть, это для него и к лучшему... Едва ли в памяти покойного не «остались бы рубцом»,— самая возможность — после великодушных возвещений указа 23 апреля 1905 года — беззастенчивого предложения лишать переходящих из православия в другие христианские исповедания права поступать на государственную службу, а уже находящихся на ней исключать из нее, или принятие большинством поправки об обращении в православную веру малолетних иноверцев, с разрешения Святейшего Синода, без согласия их родителей.
С горестью пришлось узнать о кончине Василия Осиповича... Он так много еще мог бы дать русской науке и русскому обществу, владея тайной художественного внушения и имея дар внушения нравственного,— влияя на читателя и слушателя одновременно и красотою, и совестью своего таланта... Но тот же цитированный мною вначале поэт сказал: «Всякое пламя приносит себя в жертву: чем ярче оно пылает, тем ближе оно к гибели...»
1912 г.
Е.А. ЕФИМОВСКИЙ
Лекции В. О. Ключевского в жизни Московского студенчества
Когда семь лет тому назад мои товарищи и я впервые входили в Большую аудиторию старого университетского здания на лекцию по новой русской истории, мы все испытывали большое волнение. И это было весьма понятно: ведь вслед за нами в эту аудиторию должен был войти венчанный славою десятилетий маститый русский историк, человек — с именем которого было связано представление о научных традициях Московского университета. И когда он появлялся в аудитории, поднималась та буря оваций, всю силу коей может понять только тот, кто ее переживал. Овации сменялись полной тишиной, лишь только В. О. Ключевский приступал к чтению лекций. И тут объяснялось то рвение, с которым студенты всех факультетов стремились на лекции по русской истории: последняя не читалась, а воскрешалась историком: говорил ли он о Московской Руси и ее своеобразном укладе — вырисовывалось противоречие этого уклада и европейской образованности; касался ли характеристики отдельных деятелей,— они стояли, как живые лица; обращался ли к московскому быту — тотчас воскресали думные дьяки и бояре, а с ними сильный, но религиознозадумчивый московский великий государь. Историк жил когда-то звучавшими мотивами, умел их подслушать и передать. Сама его наружность действовала на аудиторию: в длинном сюртуке, наглухо застегнутом, в очках, с старообразным русским лицом, он казался живым свидетелем минувших веков.
Но было бы ошибкой в студенческом энтузиазме видеть только пафос художественного спектакля. Источники его лежали гораздо глубже: ведь Ключевский читал лекции по русской истории в старейшем русском же университете,— а разве могут дети спокойно слушать гениальное повествование о многострадальных судьбах
своей матери? Здесь до меня говорили, что Ключевский первый вывел на сцену исторического исследования простой русский народ; отношение его к простому народу было проникнуто горячей любовью и заботой, и в этом смысле я бы сказал, что лекции Ключевского для слушателей были прекрасной демократической школой. В общем обзоре новой русской истории Ключевский говорил:
«По мере расширения территории вместе с ростом внешней силы народа все более стеснялась его внутренняя свобода. Напряжение народной деятельности глушило в народе его силы, на расширявшемся завоеваниями поприще увеличивался размах власти, но уменьшалась подъемная сила населения».
«Просвещение стало сословной монополией господ, до которой не могло без опасности для государства дотрагиваться непросвещенное простонародие, пока не просветится».
«Дворянство эмансипируя снимает с себя тягчайшую повинность обязательной службы и не только удерживает свои старые права, но и приобретает новые. Крупица этих даров падает и на долю высшего купечества. Так всеми льготами и выгодами, какими могла поступиться власть, осыпаны были верхи общества, а на низы свалились только тяжести и лишения».
«Самовластие, являвшееся спутником социального неравенства, само по себе противно как политически принцип; его никогда не признает гражданская совесть».
А вот образ сильного человека, вырастившего на почве самовластия: «Это властное лицо, заручившийся льготами землевладелец, светский либо духовный, или приятный при дворе правитель, крепкий верою в свою безнаказанность и достаточно бессовестный, чтобы быть всегда готовым, пользуясь своей мощью и общим бесправием, употребить силу над беззащитным людом, затеснить и изобидеть многими обидами».
Любовь к народу и забота о нем сменялись у Ключевского едким сарказмом, когда в нем говорило оскорбленное национальное достоинство.
Не щадил Ключевский русских, чуждавшихся России: «Они вечно старались быть своими среди чужих и только становились чужими среди своих. В Европе в них видели переодетых татар, а у себя дома они казались родившимися в России французами: “вольтерианцы” читали страницы о правах человека и мирились с девичьей, искренно считали себя вольнодумцами и шли на конюшню расправляться с неисправным слугой.
Словом, это был отвратительнейший цвет русско-французской цивилизации XVIII века».
Изложение лекции поднималось до трагического шепота, когда в Ключевском говорило оскорбленное национальное чувство при виде попирания России иностранцами, и притом по вине власть имущих в России.
«При разгульном дворе,— говорит Ключевский о времени Анны Иоанновны,— увеселяемом блестящими празднествами, вся эта стая немцев кормилась досыта и веселилась до упада на доимочные деньги, выколачиваемые из народа».
Излагая историю разделов Польши, Ключевский прибавляет: «Вслед за этими разделами по рукам в Западной Европе ходила соблазнительная карикатура: коляска — в ней две дамы, на козлах — кучер. Прохожие обращаются к дамам с вопросом: — Куда вы едете? Они отвечают: — Куда повезет кучер. Этот кучер был — Фридрих король прусский».
И вот что замечательно, господа: мысли, высказываемые Ключевским, в мое время не были уже новостью; было немало в Москве и других блестящих лекторов, но никому не удалось так захватить аудиторию. Может быть, разгадку этого явления следует искать в горевшем национальном чувстве, часто отрицаемом, но в корне здоровом и всем нам присущем. Так в суровую политическую непогоду ярко горел в Московском университете свет научного знания, освещая невзгоды русской жизни и согревая сердца русской молодежи. Так маяк, зажженный в бурную непогодную ночь, бросает вокруг себя световые волны. Пусть воды не делаются глубже, пусть мели не делаются меньше, но виден путь! Корабль плывет и чаще всего доплывает к цели.
Господа! Всегда найдутся люди, которым свет противен, которые должны стараться его загасить. По отношению к лекциям Ключевского эту печальную роль взяла на себя университетская инспекция. На лекции Ключевского допускались только студенты 2-го курса — филологи. Но так как шли все, то происходили стычки с инспекторами и педелями, кончавшиеся вызовом к инспектору, выговором студентам и угрозой увольнения, если они опять пойдут на лекции Ключевского. Так, случалось, что в старейшем русском Императорском университете студенты подвергались репрессиям за то, что они хотели знать и любить историю своей родной страны. Этот факт меня интересует не сам по себе и не в его причине, а только в его следствии. Посещение лекции Ключевского, связанное с неприятностями, требовало гражданского мужества, становилось
политическим действием и вносило в университет чуждую ему политику. Понадобилось слишком три года влияния автономной профессуры, чтобы устранить этот элемент из посещения лекций Ключевского. Но такова была сила научных традиций университета и влияние свободной профессуры, что ни долгие годы реакции, ни экстаз революции не смогли их сломить. Мало-помалу на лекции Ключевского стали приходить лишь все, кто только и жаждал правды о прошлых судьбах России. Но эти лекции были уже последними. Ключевский тяжело занемог, курс оборвался — лекции его перестали играть роль в университетской жизни. Но судьбе угодно было еще раз связать имя Ключевского с лучшими традициями университета, на этот раз с трагическим символом. Когда в прошлом году лучшие силы университета вынуждены были покинуть его стены, они ушли не одни: на своих плечах из университетской церкви они вынесли со смертными останками гроб бессмертного Василия Осиповича Ключевского.
Н.Г. ПУТИНЦЕВ
Памяти историка Василия Осиповича Ключевского
<Фрагмент>
Более полугода тому назад Московские газеты и телеграф разнесли по всем концам нашей матушки Руси горестную весть о том, что 12 мая 1911 года в Москве, в одной из ее больниц, скончался от гангрены знаменитый наш историк, заслуженный профессор Московского университета, ординарный академик В. О. Ключевский.
Итак, не стало Ключевского, в лице которого Россия и русская историческая наука, маститым, представителем которой он был в продолжение последнего тридцатилетия, понесли, бесспорно, не легко вознаградимую утрату.
Наша периодическая печать, под впечатлением этой неожиданной утраты, единодушно подчеркнула на своих столбцах заслуги Ключевского как ученого историка, как педагога и лектора и как вообще весьма симпатичного человека, оставившего в своих слушателях, учениках и почитателях его недюжинного оригинально своеобразного таланта самое отрадное впечатление.
В дополнение к ним я лишь добавлю от себя то, что я как бывший слушатель и ученик Ключевского пережил и передумал, прочитавши известие о его смерти.
Жаль, от всего сердца жаль, что по воле Провидения сошел с жизненной сцены, переселившись душою в новый, неведомый загробный мир, тот, кому, казалось, следовало бы еще пожить, для того, чтобы на своей родной, давно знакомой и хорошо уже разработанной его же научными трудами исторической ниве, все еще так бедной у нас настоящими «сеятелями» и «работниками», не один еще год среди своих учеников, на их пользу и на благо родины, «сеять разумное, вечное, доброе», открывая слушателям и всей образованной России новые чудные горизонты и заманчивые
дали в области нашей отечественной истории, верным жрецом, вещим оракулом и мудрым истолкователем которой был почивший Василий Осипович более 30 лет! Все это продолжительное время он гордо и высоко держал в своих руках знамя русской исторической науки, преемственно перешедшее к нему от его учителя и предшественника по университетской кафедре, не менее знаменитого, историка С. М. Соловьева.
Видь теперь наша избранная молодежь не услышит вдохновенных лекций «златоустого» профессора, а мы — его старые ученики — не будем наслаждаться чтением продолжения его поистине художественно написанных и с захватывающим интересом много раз перечитываемых «Курсов русской истории», доведенных им, к сожалению, только до Екатерининской эпохи.
Не придется нам — его ученикам — уже более поучаться и его новыми трудами из родного прошлого, несомненно обещавшими быть столь же высокоталантливыми, как и прежние его исторические работы, а особенно его докторская диссертация, четыре раза уже переизданная, под заглавием «Боярская Дума Древней Руси»
А учеников незабвенного профессора осталась не одна тысяча, разбросанных по всему необъятному лицу матушки Руси, на всех поприщах ученой, государственной, общественной и частной деятельности.
Не одна тысяча их прошла и через нашу армию, где целых шестнадцать выпусков в офицеры юнкеров Александровского военного училища, в котором Ключевский читал лекции по истории с 1867 по 1883 год, хорошо помнят то чарующее впечатлите новизны и необычайной оригинальности в освещении им событий новейшей русской истории и смелости его выводов, робко и боязливо проникавших в то время в юные умы питомцев средних военно-учебных заведений вообще и Александровского военного училища в частности.
Я — слушатель Ключевского и не раз у него сдававший семестровые репетиции в 1878-1880 учебные года — не ошибусь, если от лица своих сотоварищей однокашников — бывших Александровцев — скажу несколько слов, посвященных памяти дорогого нашего учителя истории, ныне окончившего, к общему нашему прискорбию, все расчеты с жизнью.
Прошло уже более 30 лет, а живо еще встает в памяти у нас — его слушателей — удивительно простой и высоко симпатичный образ почившего историка.
Среднего роста брюнет, с некрасивым, но очень добрым лицом, с темными блестящими умом глазами из под очков, с скромно
и гладко причесанной головой, с книгами в левой руке, Ключевский обыкновенно выходил из кабинета преподавателей Александровского училища, направляясь мелкими торопливыми шагами, выставляя вперед правое плечо, по коридору училища, всегда почему-то придерживаясь правой его стороны, в аудиторию для чтения лекции.
Завидевши в коридоре любимого лектора, некоторые юнкера встречали его то с приветствием, то с расспросами по разным волнующим их вопросам из ранее прочитанной лекции профессора.
Аудитория, в которой должен читать Ключевский свою лекцию, давно уже переполнена весьма разнообразными слушателями, терпеливо ожидавшими талантливого лектора и толпившимися везде, где только было свободное место между столами и скамьями, а для почетных гостей-слушателей, часто посещавших лекции Ключевского, ставились обыкновенно, впереди мест, занимаемых юнкерами, ряды стульев и кресел, которые тоже всегда бывали занятыми.
Тут, кроме юнкеров обоих курсов — старшего и младшего,— можно было видеть частенько генералов и командиров частей Московского гарнизона, а среди них иногда командира Гренадерского корпуса, героя Плевны — генерала Ганецкого2, начальника штаба Московского военного округа генерала Духовского3, многих офицеров Генерального штаба, наше училищное начальство во главе с начальником училища генералом-майром М. П. Самохваловым4, инспектором классов полковником Н. Н. Светлицким5 и командиром батальона полковником В. К. Водар6 и многих преподавателей училища, среди которых, чаще других посещавших лекции истории, можно было заметить стройную, весьма подвижную, несколько нервную фигуру нашего тоже любимого преподавателя тактики, полковника Дмитрия Федоровича Масловского7, известного впоследствии военного историка и профессора Академии Генерального штаба, интересные и талантливые лекции которого по курсу тактики и военной истории тоже охотно посещались юнкерами. Также часто можно было встретить на лекциях Ключевского массивную, несколько мешковатую и сутулую фигуру преподавателя словесности Гилярова-Платонова8, законоучителя, нашего духовника, известного московского проповедника и доктора богословия протоиерея Иванцова-Платонова9, преподавателя артиллерии, красивого, с большими тщательно выхоленными усами, полковника Экстена10, преподавателя математики, всегда мрачного и нахмуренного Пржевальского11 и многих других.
Бывали иногда на этих лекциях далее и наши училищные дамы — жены начальствующие лиц и офицеров училища и среди них симпатичная и красивая m-me Самохвалова12.
Вся эта многолюдная и весьма пестрая по своему составу аудитория, как один человек, вставала при появлении на пороге ее скромного с опущенными вниз глазами проф. Ключевского, который, после торопливого и застенчивого выслушивания от дежурного юнкера положенного рапорта, быстрыми и торопливыми шагами молча входил на довольно высоко стоящую кафедру.
В этот момент все слушатели занимали свои места и аудитория точно замирала в ожидании начала всех интересующей лекции. Внимание у нас — юнкеров было самое напряженное. Чувствовалось всеми, что здесь, в этой обширной и светлой аудитории начинает уже царить мощный ум и чудный дар речи талантливого профессора, который с первых же своих слов как бы магически овладевал своей аудиторией, и этот умственный гипноз не ослабевая сохранялся до самого конца лекции, продолжавшейся иногда далеко более положенного часового времени. Увлекаясь рассказываемым событием той или иной эпохи XIX века, как например, нашествием Наполеона в 1812 году, освобождением крестьян или реформами царствования Александра II, Ключевский и не замечал, как летело время; не замечали его и очарованные лекцией слушатели, и лишь только с опозданием поданный «сигнал» к окончанию лекции заставлял профессора медленно, договаривая на ходу последние слова, под гром аплодисментов, обыкновенно запрещавшихся в училище, сойти с кафедры.
Кучка юнкеров-почитателей Василия Осиповича, к числу которых и я принадлежал, пользуясь даже особым расположением профессора, всегда удостаивавшего мои репетиционные ответы по курсу истории полной двенадцатибальной отметкой, которую, кстати сказать, у нас на всем курсе имели только четверо,— шумно провожали по коридору своего любимца, засыпая его расспросами из только что выслушанной чудной, полной самых ярких красок о рассказанном событии и метких, часто остроумно насмешливых характеристик их участников.
Долго потом еще после лекции, в часы отдыха или на вечерних занятиях, юнкера, собравшись небольшими группами, обсуждали слышанное от Ключевского, обменивались впечатлениями, вынесенными из только что прослушанного, а некоторые из нас характерные места лекции и особенно оригинальные выражения профессора записывали на память и этими заметками дополняли имевшиеся у нас литографированные «записки» по курсу истории, составленные Ключевским специально для юнкеров училища. «Записки» эти многими из нас, по окончании курса училища, приобретались
в собственность и сохранялись на память, с тем, чтобы впоследствии, на досуге, восстановить в своей памяти так метко делавшиеся выводы, характеристики и отзывы по таким интересным периодам в истории, как, например: Великая французская революция, Европа в Наполеоновскую эпоху, Россия под скипетром Великой Екатерины, Севастопольская эпопея и др.
На семестровых репетициях, когда юнкера, обыкновенно по вечерам, группами, сдавали за известный период, за два или за три месяца, репетиции, походившие на те же экзамены, по всему прочитанному за это время профессором, тоже много интересного и высокопоучительного приходилось нам услышать от Василия Осиповича. Тут он частенько, в свободные часы, рассказывал нам многое из того, чего ему почему-либо не удалось сказать на лекциях в аудитории, и, таким образом, нередко эти приватные «маленькие лекции», как их мы называли в отличие от тех «больших» ауди-ториальных, затягивались до поздних часов, и мы, увлеченные простой и интересной беседой со своим любимым преподавателем, и не замечали, как в других группах давно уже закончились репетиции и юнкера, разойдясь из классов по ротам, отдыхали или занимались каждый своим делом.
Под неизгладимо обаятельным впечатлением личности незабвенного учителя и чудного человека В. О. Ключевского, мы — его многочисленные ученики из военной среды — и теперь еще, на старости уже лет, свято храним его научные заветы и следили впоследствии за позднейшими трудами его по русской истории, останавливая на этих образцах исторической литературы внимание и нашего молодого поколения, которому, к сожалению, не придется уже видеть маститого профессора и слушать его «вдохновенные импровизации».
Мне, например, посчастливилось много позднее еще услышать одну из таких многих «вдохновенных импровизаций» В.О. Ключевского, кажется, в 1896 году, в Москве, где я случайно попал на заседание Императорского Общества истории и древностей российских, на котором почивший ныне профессор в своей блестящей речи, посвященной памяти в Бозе почивающего Императора Александра III13, между прочим, в заключительных своих словах так охарактеризовал царя-миротворца: «Он одержал победу в области, где всего труднее достаются победы: победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению; покорил общественную совесть во имя мира и правды; увеличил количество добра в нравственном обороте человечества; ободрил и приподнял русскую
историческую мысль, русское национальное сознание и сделал все это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его нет, Европа поняла, чем он был для нее».
Скажите, читатель, разве это поистине не «золотые» слова... «златоустого» оратора?!!
Думаю, что я не ошибусь, если скажу в заключение этой заметки, что и мы — бывшие юнкера и ученики Василия Осиповича — охотно присоединимся к словам, высказанным участниками недавно вышедшего юбилейного «Сборника статей, посвященных В. О. Ключевскому» в адрес, поднесенном ему ими в 1909 году по случаю тридцатилетия профессорской его деятельности в Московском университете: «Чем бы мы ни занимались,— русской историей или историей других народов и других государств, литературой, языковедением, правом или общественным хозяйством,— мы всегда чувствовали крепкую духовную связь с вашей работой и с вами. Изучая ваши труды, мы восхищались проявленным в них творчеством неутомимой и смелой мысли, послушной только скрижалям свободного научного исследования... В вашей аудитории мы поднимались над заботами и злобами дня, в ней мы вырастали. Вашим “курсом” мы зачитывались еще в серых литографиях прежних дней. Для многих из нас он был первой книгой, заставившей мысль встрепенуться» ...
Мне так и приходят в голову, при воспоминании о Ключевском и его лекциях, слова пушкинского старца Пимена: «На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною... Давно ль оно неслось, событий полно, волнуясь, как море-океан?!»...
Да, дорогой учитель, узнавши о твоей кончине во многих гарнизонах нашей матушки Руси, разбросанных от края и до края ее, твои ученики — теперь уже убеленные сединами генералы и штаб-офицеры — в один голос, осенивши себя крестным знаменем, скажут: «Мир праху твоему и да будет тебе легка земля» родной страны, о прошлых судьбах которой ты, «златоустый», неустанно научал и живым метким словом, и в чудных своих научных исследованиях.
П.Н. МИЛЮКОВ
В.О. Ключевский
I
Яркое солнце. Смеющийся весенний день. Трамвай быстро переносит меня с Николаевского вокзала в самую глушь Замоскворечья. Широкая улица с просторно разбросанными низенькими провинциальными домиками, с истинно московским, лучше сказать, замоскворецким названием: «Житная» улица1. Знакомый домик между заборами, в котором все, от сараев и старого сада до комнатного убранства, пахнет тихой московской стариной, немного запущенной, заживо отходящей в прошлое.
Сегодня мне в этот домик не войти. Начался уже вынос. Двор перед крыльцом, тротуар, часть улицы наполнены народом. На противоположном тротуаре тоже толпа. Солнце играет на цветных платках женщин, на развевающихся волосах мужчин. Конный жандарм и городовые посреди улицы странно нарушают местный стиль тихого квартала. Выносят открытый гроб, слышится пение. Это поет молодежь, но она какая-то необычная, какая-то тоже своя. На минуту сердце сжимается сожалением. Для Ключевского, которого сегодня хоронит Москва, это как будто слишком скромное начало2. Слишком просто, провинциально, слишком по-домашнему. Но следующая мысль гонит первую. Ничего, зато это стильно. Так он жил, так он умер: среди своего квартала, среди этих простых людей, обожавших своего Ключевского, домовладельца, прихожанина, богатого житейской мудростью, богатого еще чем-то, что здесь неведомо, но что заставляет квартал гордиться своим знаменитым обитателем. Умер Ключевский, и со смертью его опустела Житная улица, а за Житной улицей опустела Москва, а за Москвой опустела Россия.
Да, это — стильно Ключевский, органически сросшийся с своим кварталом, Ключевский, пустивший глубокие и прочные корни
в самом подлинном, непоказном, плотно охватившем его кругом, старо-русском быту — это тот Ключевский, которого знает Россия. И эта слишком юная молодежь, ученики и ученицы школы живописи и ваяния, последняя любимая аудитория последних годов его старости3,— хорошо, что она пришла первая проводить учителя. Она тоже любит своего Ключевского. Ей тоже многое в нем непонятно, многое неведомо. Но и она чутьем чует, что сегодня хоронят национальную славу России. Ей, этой юной молодежи, как прихожанам, как родным, как всем простым и бесхитростным людям, свободнее открывалось это больное, измученное сердце. С ними оно отдыхало, здесь распрямлялись складки души, слишком чувствительной, чтобы всегда оставаться открытой. Да, они правы, они лучше знали, лучше умели любить Ключевского, чем многое множество официальных его почитателей на разных уровнях и высотах культуры. Это — те, кому Ключевский был близок и дорог прежде всего как человек.
Негустая колонна двинулась, останавливаясь у приходских церквей. В толпе — родные, старинные друзья и знакомые, ближайшие ученики разных поколений и возрастов. Путь в университетскую церковь4 — не близкий. Но гроб, незатейливый, желтый, с небогатой пеленой, всю дорогу несет на себе молодежь. И те, кто несут, неохотно уступают ношу другим, которые ждут своей очереди.
Сквозь кисею мне видны по временам очертания знакомого, дорогого лица. Оно сильно пожелтело и осунулось. Маленькая горбинка на носу стала совсем большой. А на пальцах, аккуратно сложенных, уже проступили темно-багровые пятна. Глубоко впали умные, проницательные глаза. Они, наверное, потухли последними...
II
Тридцать два года прошло с тех пор, как мы впервые встретились с В.О. Ключевским. За тридцать два года изменились, конечно, и наблюдатель, и предмет наблюдения. В.О. Ключевский, которого мы застали вполне сложившимся лектором5, но еще только начинавшим ученым, на наших глазах стал главой целой школы6, сделался славой России. Последующие годы, до самого конца жизни, тоже не проходили бесследно для В. О. Ключевского, вызывая в нем всегда очень чуткое отношение к менявшимся настроениям русской общественной жизни и заставляя считаться с дальнейшим развитием русской исторической науки. Выходивший в последние годы жизни В. О. Ключевского «Курс русской истории» 7 как раз
дает наглядную картину всех тех позднейших наслоений, которые наложило время на хорошо нам известные преподавательские и научные взгляды покойного историка.
Было бы ошибкой взять этот итог целой жизни за исходную точку характеристики личности, и без того до чрезвычайности сложной. Пользуясь преимуществом возраста, я лучше изложу эту характеристику в последовательном порядке моих личных впечатлений — студента, магистранта, специалиста по той же науке и, наконец, общественного деятеля. Распределенные в своей естественной последовательности, эти не всегда одинаковые впечатления сами собой уже сложатся в общий жизненный итог.
Впервые я увидел В. О. Ключевского, когда осенью 1879 года он занял в Московском университете кафедру С. И. Соловьева8.
Ему было тогда сорок лет9, но он казался старше своего возраста. Сухая, изможденная фигура, которую злые языки сравнивали с допетровским подьячим, а добрые — с идеальным типом древнего летописца. Лукавство и ум; лукавство, подчас злое, подчас веселое, насмешливое, задорное — в глазах. Ум и талант — в неторопливом чекане строго взвешенной речи, в этих всегда неожиданных оборотах и сравнениях, сперва поражавших и приковывавших воображение, потом сердивших своей кажущейся случайностью, потом снова притягивавших меткостью и глубиной, и опять сердивших, и опять чаровавших. А среди кованой речи вдруг яркая, яркая картина, навсегда врезавшаяся в памяти, или острое словцо, неожиданный поворот анекдота, заражавшие смехом, или короткая сентенция, суровая характеристика, попадавшая, как удар бича, прямо в намеченную точку. Нервные пальцы, от времени до времени поправлявшие прядь волос, прикрывавшую характерный шрам на лбу. Размеренные остановки речи, смягчавшие естественное заикание и превращавшие в милую особенность самый недостаток произношения. Все какое-то свое, особенное, ни с чем несравнимое и недоступное подражанию...
Что русской историей заинтересоваться нельзя,— это было почти аксиомой среди студентов моего выпуска и предшествовавших. Мы дошли до третьего курса без Ключевского. Русская история для нас была грудой непереваримого сырого материала, из которого невозможно высечь никакой искорки мысли. Наклеить на него ярлык мысли извне,— о, да, это было мыслимо. Пример этого, казалось нам, мы видели в лекциях старевшего Соловьева, дочитывавшего последние годы10. От скуки повторения, должно быть, фактическое содержание все выветрилось из этих лекций,
когда-то тоже сверкавших мыслью и привлекавших все молодое. Остались одни бледные очертания мысли, одни условные символы, сокращенные знаки закостеневшей теории, мало понятные для молодых, но строгих судей. Когда старый профессор в сотый раз говорил о «жидком элементе» в русской истории11, магическое когда-то слово превращалось в мертвую фразу, и, разочарованные, мы начинали жаловаться на жидкий элемент в лекциях самого «патриарха» русской истории. Что касается лекций Нила Попова12, с ними мы знакомились только перед самым экзаменом. Раньше знали о них только одни студенты-издатели лекций. Но и для них труд издания, по взаимному согласию, превращался в труд переписывания отмеченных профессором мест из разных специальных работ по русской истории.
И вдруг это новое явление — лекции Ключевского, объявленные к концу семестра. Мы, впрочем, заранее знали, что будем иметь дело не с новичком. Лекциям Ключевского предшествовала громкая слава. И обширная аудитория, собравшаяся слушать нового профессора, была заранее настроена в его пользу.
То, что мы услышали, превзошло все ожидания — просто потому, что никакие рассказы не могли и не могут передать обаяния, которое производили лекции Ключевского в его своеобразном произношении.
Это был не самый сильный отдел курса: преемники Петра Великого. Но он был один из более эффектных и сразу доступных. Так хорошо известные потом всей читающей России характеристики представителей власти мы услышали тогда впервые. Наименее заинтересованные наукой сразу нашли, что русскую историю можно слушать не только без скуки, но и с увлечением. Более посвященные скоро заметили, что за забавными анекдотами скрывается глубокое понимание эпохи, за художником скрывается мыслитель. Что можно мыслить над русской историей, что здесь есть что понимать,— это было даже для самых серьезно настроенных из нас новой и приятной неожиданностью. В. О. Ключевский построил для нас мост от тех методов изучения и понимания, которые мы привыкли считать последним словом европейской науки13, к тем методам и приемам, при помощи которых он сам не то объяснял, не то строил русскую историю. Мы взяли от него сразу и метод, и самые результаты. Так убедительна была связь между фактами и заключениями, так обоснованно и педагогично самое изложение, так понятен и доступен тот язык новой терминологии, на которую переводил нам Ключевский русскую историю с неведомого и недоступного языка
документов и прагматиковн, что мы с благодарностью и с верой ухватывались за вывод, так прочно обоснованный, так искусно классифицированный. Через Ключевского мы впервые поняли русскую историю. И те из нас, кто потом спорил с этим пониманием, все-таки из него же исходили. Так первый план местности, хотя бы набросанный в общих штрихах, долго служит исходной точкой при дальнейшем изучении деталей. Так выдающиеся точки, раз закрепленные в памяти, помогают найти в неизвестной местности дорогу в каком угодно направлении.
Быть может, это было наше субъективное представление, представление поколения, начавшего серьезно учиться в конце 70-х годов? Быть может, для своего времени, для 40-х годов, такие же вехи ставил Соловьев, для 20-х — Каченовский?15 Быть может, и слава Ключевского как учителя нескольких поколений должна затмиться славой будущих учителей будущих поколений? Быть может, в нас говорит непосредственное чувство, непосредственное впечатление, которое будет вытеснено такими же непосредственными впечатлениями наших преемников, тоже, как и наши впечатления, ни с чем несравнимыми? И тогда, быть может, слава нашего учителя опустится на иной уровень в общей перспективе десятилетий, станет в ряд с иными светилами, быть может, померкнет, как померкла тоже когда-то необычайно яркая слава Каченовского?
Я не буду отвечать, что на этот раз непосредственное чувство длится что-то слишком уж долго. Тридцать два года прошло со времени нашей первой встречи с Ключевским, и никто еще не заменил его на раз занятом им месте. Не видно заместителя ему и в будущем, по крайней мере ближайшем. Но не буду ссылаться на бесспорный факт прочности славы Ключевского, уже испытанной временем. Я сошлюсь на другое. Это другое есть уже не одна только личность Ключевского, как бы могущественна и оригинальна она ни была сама по себе. Это есть его место в связи поколений.
Говорить о «связи поколений» по отношению к Ключевскому можно в самом различном смысле, и с очень различных точек зрения. На эту тему можно написать целые томы, для сочинения которых придет свое время. Я ограничусь более тесными рамками личных воспоминаний. Осматриваясь в этих пределах, я нахожу, что и в них вопрос о «связи поколений» проходит красной нитью через все фазы моих отношений к покойному. И не как вопрос академического интереса, а как самый нужный, самый существенный, подчас самый больной лично вопрос. Так бывает, когда непосредственно встречаются люди разных поколений и когда
любовь и уважение к старшему внушают младшему потребность понимания и объяснения.
Правда, когда речь идет о таком несравненном, одиночном явлении, как талант и личность Ключевского, кажется как-то странно искать объяснений в «связи поколений». Ключевский, каким его привыкли видеть на расстоянии, должен быть один, сам по себе. Как мыслитель и ученый, он так своеобразен, так крупен, что искать корней и нитей представляется уже как бы некоторым посягательством на источники его влияния и славы.
Я думаю, это — ошибка. Именно большие люди, сильные и оригинальные умы требуют иного к себе отношения. А особенно умы, духовное творчество которых стало общим национальным достоянием.
Мысль, могущая быть усвоенной массою, в какой бы личной форме она ни была выражена, не может быть плодом случайного, хотя бы и гениального вдохновения. Чтобы такая мысль явилась, нужна долгая подготовка почвы, нужны усилия многих поколений. И творчество Ключевского потому зрело и прочно, потому классично, что при всей своей индивидуальности оно не случайно. Оно тесно связано с прошлым и бросает тени в будущее. Оно глубоко коренится в истории русской науки и воспринимает плоды современной европейской исторической мысли. Оно, наконец, выросло на почве русской общественности, но далеко не чуждо человеческих идеалов.
III
Я упоминал уже, что в 1879 году мы впервые встретились с Ключевским как с профессором... Русской истории тогда мы не знали и не чувствовали потребности знать. Но мы успели уже узнать последние слова европейской науки. И ко всякому новому учителю, прежде чем подчиниться его влиянию, мы предъявляли известные требования. Если Ключевский покорил нас сразу, то, конечно, не потому только, что он красиво и эффектно рассказывал исторические анекдоты. Мы искали и нашли в нем прежде всего мыслителя и исследователя, взгляды и приемы которого отвечали нашим запросам.
В чем состояли эти запросы? На это и теперь, спустя тридцать лет с лишним, отвечают первые две лекции «Курса русской истории» В. О. Ключевского1в. Несмотря на некоторые позднейшие наслоения фразеологии и мысли, существенное содержание методологических взглядов Ключевского на изучение русской истории осталось здесь то же самое, каким мы знали его тогда и каким оно сложилось под
непосредственным влиянием тогдашних запросов нашего поколения к методологии и к философии истории.
Для нас, тогдашних студентов-филологов Московского университета, было аксиомой, что изучение истории не может и не должно ставить себе прикладных целей. С этой точки зрения и славянофильское, и западническое, и народническое, и либеральное толкование русской истории были для нас одинаково подозрительны. Мы не хотели строить русской истории ни на идее заимствования, ни на идее самобытности: вообще ни на каких идеях практического характера, налагаемых извне. Мы соглашались изучать русскую историю, как изучали всякую, с точки зрения общей научной проблемы — внутренней органической эволюции человеческого общежития. Мы еще не называли тогда этой проблемы социологической проблемой. Но мы уже решительно чуждались всяких философско-исторических построений, всяких произвольных нанизываний фактов сообразно требованиям целесообразности, навстречу тому или другому философскому или общественному идеалу. Мы хотели только констатирования явлений «закономерности». Мы искали «законов» в истории.
На эти наши требования В. О. Ключевский ответил не рассуждениями и теориями, а самым фактом своего отношения как исследователя к русской истории, как к предмету исследования. Рассуждения его по этому вопросу мы прочли потом в первых лекциях II тома17 и нашли их соответствующими по выводам — нашим собственным.
Приступая к чтениям, профессор не спешил рекомендовать прикладное значение отечественной истории. Изучение русской истории важно, но не потому прежде всего, чтобы в ней следовало искать образцов для подражания или материала для воспитания в себе «любви к отечеству и народной гордости»18. Напротив, как бы заранее историк спешит согласиться, что культурное значение данной «местной истории» сравнительно ничтожно. Он указывает, как на источник для изучения «общего культурного движения человечества», на «всеобщую историю». Для специального же изучения «местной» русской истории он выдвигает особую «научную цель». Дело в том, что «отдельная история известного народа может быть важна своеобразностью своих явлений, независимо от их культурного значения, когда представляет изучающему возможность наблюдать такие процессы, которые особенно явственно вскрывают механику исторической жизни». Эта механика вскрывается особенно явственно именно в русской истории как благодаря «сравнительной простоте» ее явлений, так и благодаря
«своеобразному сочетанию» в ней «сил и элементов» тех же самых, как в западной истории, но «в ином подборе». Благодаря этому «методологическому удобству», история России важна как прекрасное вспомогательное средство для изучения «науки об обществе» или «исторической социологии»19.
Строгий социолог может усомниться в специальных «методологических удобствах» русской истории и в ее особой «простоте». Он может не согласиться с самой возможностью противополагать с этой точки зрения «местную» историю «всеобщей». Но он не откажется признать, что если «всеобщий» историк исходит из положения Weltgeschichte ist Weltgericht20, то противополагать этому отживавшему уже тогда воззрению точку зрения «исторической социологии» — значит находиться в самом курсе того воззрения, без которого никакое научное изучение истории невозможно для нашего поколения.
IV
Не только метод, но и выбор содержания курса отвечал потребностям этого поколения. Начало университетских чтений Ключевского совпало со временем, когда история учреждений, «конституционная история» именно отдельных стран, отодвинула на второй план всемирную историю культурных идей. Но одна голая история механизма государственных учреждений уже не удовлетворяла... Уже поставлен был вопрос об отношении политических форм к наполнявшему их социальному материалу. А изучение социальной структуры общества уже считалось невозможным без изучения экономических отношений. «Экономический материализм» еще представлялся скорее как общая тенденция изучения, чем как готовая философско-политическая доктрина,— скорее по Сорольду Роджерсу, чем по Марксу21. Но вопрос о взаимоотношении политического и экономического фактора в истории был уже поднят. Роль «идей» была заподозрена вместе с идеалистическим толкованием истории, и занятие ими предоставлено старомодным всемирным или, что то же (по тогдашней терминологии), «культурным» историкам.
В.О. Ключевский ответил на эти вопросы и стремления, освободив их от заключавшихся в них крайностей и увлечений, но став по существу на одну точку зрения с молодым поколением. Он, который с таким мастерством умел рисовать культурные типы и идейные настроения, посвятил своей исключительно или почти
исключительно политической и социальной истории на экономической подкладке. Предвидя у своих позднейших читателей «Курса русской истории» недоумение по поводу получившегося таким образом пробела, В. О. ответил на него следующими любопытными строками: «А где же, может быть, спросите вы, домашний быт, нравы, успехи знания и искусства, литературы, духовные интересы, факты умственной и нравственной жизни — словом, все то, что на нашем обиходном языке принято называть идеями? Разве они не имеют места в нашей истории или разве они не факторы исторического процесса?» На этот вопрос дается вполне определенный ответ: «Идея становится историческим фактором, когда овладевает какой-нибудь практической силой, властью, народной массой или капиталом. Политический и экономический порядок известного времени можно признать показателем его умственной и нравственной жизни... В отдельных умах, в частном обиходе... (мы встречаем) запас других помыслов и стремлений, не достигших такого господства». Я цитирую по 1-му изданию! тома «Истории»22. В последующих изданиях это место изменено23. Но именно в цитированной форме оно лучше отвечает тому, уже историческому, прошлому, которое я пробую характеризовать по личным воспоминаниям.
Позднее Ключевский ввел и другие оговорки, указавши, что тут речь идет не столько о существе дела, сколько о методологии, о порядке исторического изучения. Но как бы то ни было, для самого себя он признал обязательным тот же порядок, как и для своих слушателей. И наш первый выпуск с восхищением прочел подзаголовок докторской диссертации Ключевского, печатание которой началось с следующего 1880 года в «Русской мысли»: «Опыт истории правительственного учреждения в связи с историй общества»24. Выбор темы для диссертации, очевидно, диктовался теми же методологическими соображениями, как и выбор содержания курса. «Изучение древнерусской боярской думы ставит исследователя прямо перед историей древнерусского общества, перед процессом образования общественных классов»25. Перед этим господствующим интересом, перед «социальной историей думы» для историка, как и для нас, отступала на второй план ее «конституционная» история. Как я уже сказал выше, искать в русском прошлом политических прецедентов для будущего, так же как и изучать историю наших учреждений с точки зрения «самобытности» или «заимствования», казалось для нас поверхностным и ненаучным. И мы вполне разделяли мнение Ключевского, изложенное в первоначальном тексте «Боярской Думы», что подобные «односторонности» и «пристра
стия» суть просто запоздалый пережиток «политической философии прошлого (XVIII) века»26. С точки зрения социально-экономической эволюции нас интересовало, как и автора «Боярской Думы», не то, «откуда взялись формы, свои они или чужие», а то, «какое туземное содержание влилось в них и переработало их»27. Словом, прикладное значение истории мы могли понимать различно с нашим учителем; но, подходя к научному историческому изучению, мы соглашались, что необходимо испробовать свои силы там, где, казалось, легче всего было подойти к открытию исторической закономерности: в сфере наиболее элементарных социальных явлений, которыми определяется основной ход исторического процесса.
Как же развертывалась схема русской истории на основании этих принципиальных соображений у самого нашего руководителя? Ответ, детально раскрытый в «Боярской Думе», мы находили в еще более доступной форме во всем плане расположения университетского курса. Нам казалась совершенно устаревшей схема деления русской истории по узко-юридическим признакам. Смена «родового быта» «государственным», хотя бы даже и осложненная переходным периодом «вотчинного» или «частного» владения,— эта схема Соловьева, Кавелина и Чичерина28 нас уже не удовлетворяла. Она представлялась нам слишком отвлеченной, витающей где-то высоко над конкретными явлениями исторической жизни. В. О. Ключевский ответил на наши сомнения тем, что низвел схему русского исторического процесса в самую гущу конкретных явлений. Его построение казалось нам выводом, непосредственно вытекающим из наблюдения и исследования. Вот почему оно так сразу нас захватило и покорило.
V
Как известно, деление русской истории на периоды у Ключевского прежде всего следует факту материальному в самом подлинном смысле, факту географическому. Русь днепровская, Русь верхневолжская, Русь великорусская, Русь всероссийская — насколько это звучало конкретнее, чем всякие Руси «удельные», «царские», «императорские»! Особенно когда в основу деления вводился вместе с географическим признаком и признак этнографический — переселение населения с места на место, факт «колонизации», «основной факт русской истории». Столь же естественно богатая днепровская Русь характеризовалась как «городовая» и «торговая», а бедная Русь верхне-волжского «суглинка» — как Русь земледельческая29.
Из географическо-экономических условий сам собой вытекал тот или другой социальный строй: преобладание городского класса на юге, бродячее земледельческое население княжеской вотчины на севере, потом постепенное стеснение крестьянского труда военно-дворянским классом, долгая история крестьянской неволи. Наконец, и политическая классификация являлась вполне понятной и обоснованной, когда опиралась на все эти предварительно выясненные смены в материальных порядках жизни. На юге — искусственное наслоение «князей-наемников», захвативших в свои руки городовые области, а через них — все нити тогдашнего народного труда. Русская земля, как целое, эксплуатируемое для блестящей внешней торговли артелью князей-сородичей. Потом, с упадком торговли, падение политической цельности земли, дробление, все более мелкое, и появление отдельных «земель» и веч — зародыш будущего народного и земского единства. Потом князь-вотчинник, перенесший эксплуатацию народного труда на земледельческий север, вслед за отливом колонизации в область сельскохозяйственного труда, и основавший на грубой силе ту власть, которая послужила для политического объединения, повлекшего за собой, как последствие, и политические идеологии: христианскую (Божественное происхождение власти), вселенскую (наследство византийского православия) и национальную (единство русской народности). Таким образом, каждый из четырех периодов, на которые делил русскую историю В. О. Ключевский, получал свою характеристику, основанную на сочетании всех основных признаков: географическо-этнографического, экономического, социального и политического.
Курс В.О. Ключевского составился для целей преподавания и во время преподавания. Немудрено, что, со свойственным ему педагогическим искусством, лектор нашел средства закрепить в нашем воображении всю эту схему, связав ее с рядом конкретных фактов и характеристик, так сказать, драматизировав ход русской исторической эволюции. Позднее те из нас, кто занялся специальным изучением истории по следам В.О. Ключевского, не могли не заметить, что именно эта драматизация, являвшаяся самой яркой связующей нитью курса, была и самою рискованною его частью. Факт колонизации и для нас, и для наших преемников останется «основным фактом русской истории». Но для схемы В. О. Ключевского понадобились только отдельные эпизоды этого огромного явления, и эпизоды не всегда самые крупные и самые достоверные. Самое начало русской истории в его схеме есть уже драматизация. Это племя дулебов-валинана, «примученное обрами»
и долженствовавшее, по мысли историка, вскрыть промежуточный этап предполагаемого шествия славян с Дуная на Днепр30,— в лучшем случае это есть частичный эпизод на опушке того великого русского леса, в котором колонизация так хорошо укрылась от взоров историка, что ее не может уже восстановить никакая «народная память». Приходится запастись терпением и ждать, пока археология, топографическая номенклатура, лингвистика, быть может, антропология откроют нам секрет этой тайны. Все эти материалы не находились в распоряжении В. О. Ключевского, отчасти не находятся и в нашем распоряжении. Далее, эта эффектная, тоже ярко драматизированная картина южной торговли31. Верная сама по себе, не скрывает ли и она за собой умолчания об основном базисе процесса: о состоянии тогдашней племенной жизни? Когда потом приходится объяснять быстрый крах всего этого, искусственно вздутого, киевского богатства, когда приходится вдруг заговорить о «землях» и «вечах»32, разве не заключается в самой быстроте этого скачка вниз признание, что предыдущая характеристика расцвета не все договорила? Драматизация идет и дальше, возбуждая еще более серьезные сомнения. Когда занавес, опущенный в Киеве, открывается на «волжском суглинке», сам исследователь предвидит вопрос: откуда эта новая сцена и где осталась старая, что сталось с ее обитателями? В. О. Ключевский вводит тут яркое интермеццо: старая сцена быстро пустеет с уходом всего населения на запад и на северо-восток33. Как ни ярка картина, как ни несомненны явления, лежащие в ее основе, как ни остроумны сопоставления историка, доказывающие наличность катастрофы, мы не рискуем пойти за ним до конца и поставить бесспорные факты в те широкие рамки, в которых у самого историка они получают характер простой «догадки» (II, 356)34. Не решаемся тем более, что с вопросом о размахе переселения связан тут вопрос о происхождении великорусского и малорусского племени, т. е. о явлении, во всяком случае более длительном и менее тесно связанном с живописуемой исторической драмой, чем это нужно для целей исторического курса.
Я не иду в изображении этих сомнений далее. Ограничусь только указанием, что удовлетворявшая нас общая схема торжествует преимущественно в изображении первых веков нашей истории. Чем дальше, тем менее эти общие рубрики могут охватить детальность явления. Дойдя до четвертого и последнего периода своей схемы, обнимающего огромный промежуток от 1613 до 1855 года, от Михаила до Александра II35, историк принужден в самом начале заявить, что здесь «не просто исторический период, а целая цепь
веков»36. И здесь, конечно, он проводит все свои основные признаки деления: признак географический (распространение государства до пределов русского населения и далее), признак экономический (присоединение к земледелию промышленной, фабрично-заводской обработки), признак социальный (дворянство и крепостное право)37. Но уже один перечень этих признаков показывает, как они тут мало говорят. Конечно, В. О. Ключевский объединяет все это время в один период не случайно. Ниже мы увидим, насколько это деление характерно лично для него.
Высказанные сомнения — и многие другие — представились нашему уму значительно позднее. Быть может, возникновение их есть результат значительной предоставленной нам нашим руководителем свободы личного исследования. В. О. Ключевский ставил наши методологические требования, приходил к выводам, нас удовлетворявшим. Но в своей работе он был и остался одинок. В этом сказался его своеобразный ум, его сложный и извилистый, одному ему доступный процесс мысли.
Я должен здесь присоединиться к оговорке, уже сделанной в статье Н. Сперанского о Ключевском38. У нас были практические занятия по русской истории с Ключевским, но в свою лабораторию он нас не вводил. Между нашими упражнениями над источниками «Русской Правды», «Псковской Грамоты» и т. д.39 и готовыми выводами нашего руководителя лежала целая пропасть, которую заполнить было невозможно. Интерес семинария сосредоточивался, поневоле, не в наших работах, а в непрерывном комментарии нашего руководителя. Когда кончался этот комментарий, мы, на правах первого выпуска, не уходили, но и не вели специальных ученых разговоров. Мы заводили беседу с В. О. Ключевским... о политике. Вероятно, читатель вспомнит, что то были бурные годы в истории нашей общественности (1879-1881 гг.)40. Материала для политических собеседований было сколько угодно. В. О. Ключевский не уклонялся от бесед, но мнения свои высказывал очень уклончиво, чем немало сердил нас, не имевших основания сомневаться в общей его симпатии к молодежи. Как бы то ни было, остроумие и оригинальность, с какими высказывались самые для нас неприятные мысли, мирили нас с собеседником, и для некоторых из нас эти памятные вечера сделались началом более близких сношений с В. О. Ключевским и с кружком его более старых друзей, к которому между прочим примыкал С. Ф. Фортунатов и покойный Шахов41.
Ключевский как руководитель нам не помог. Тем с большим вниманием и интересом мы следили за каждым шагом Ключевского
как ученого исследователя. Каждая глава «Боярской Думы», появлявшаяся в 1880 и 1881 гг. в «Русской мысли», была для нас новым откровением42. Этот интерес не ослабел, а еще более усилился, когда от общего, широкого синтеза своей докторской диссертации В. О. Ключевский перешел к своим кружевным детальным исследованиям над крепостным правом и холопством («Русская мысль» 1885, 1886 гг.) и над социальным составом земских соборов (там же, январские № № 1890, 1891, 1892 гг.43). Каждая новая ученая победа дорогого нашего учителя была и нашим торжеством, тем более что мы видели, как мнительно и недоверчиво относился он к плодам собственной работы и как медленно поэтому она двигалась вперед.
VI
Наступила наконец и для нас пора специальной ученой работы. И те из нас, кто специализировался на изучении русской истории, должны были, прежде чем двигаться дальше, дать себе отчет в том месте, которое занимало в развитии самой нашей науки это громадное, приковавшее все наше внимание явление — схема русской истории, созданная на наших глазах Ключевским. Здесь тоже приходилось устанавливать «связь поколений», но уже в ином смысле, чем прежде. Дело шло уже не о связи нашего собственного поколения с Ключевским, а о связи Ключевского с поколениями исследователей, ему предшествовавших.
Что эта связь была, в этом не могло быть сомнения даже и для тех, кто не углублялся в изучение русской историографии. В этом убеждало нас то, что часто, как бы отвечая, печатно и устно, на наши вопросы, В. О. Ключевский собственно давал ответ на постановку этих вопросов, не нами сделанную. При обсуждении самых современных вопросов исторической методологии часто проскальзывали у него точки зрения, отдельные термины и словосочетания, к которым мы не привыкли в изложении новейших европейских исторических методов. В самом интимном общении оставалось что-то нам чуждое, что подлежало дальнейшему выяснению. Для нас, не то семидесятников, не то восьмидесятников, Ключевский являлся уже передаточным звеном традиции, кристаллизовавшейся десятилетием раньше, в шестидесятых — семидесятых годах.
Вероятно, те многочисленные заметки на полях и на выходных листах книг личной библиотеки Ключевского, о которых упоминалось в печати по смерти его44, помогут обстоятельно выяснить тот процесс внимательной и кропотливой специальной работы,
в результате которой сложились воззрения Ключевского на русскую историю. Теперь можно лишь бегло наметить самые общие штрихи.
Прежде всего, Ключевский является учеником С. М. Соловьева. Едва ли он многим обязан личному влиянию знаменитого историка. Единственное практическое указание — заняться житиями святых как историческим источником — привело, после мелочной и томительной работы, к отрицательному результату. И Ключевский не раз с горечью вспоминал о напрасно потерянном времени, как главном последствии слишком легко данного совета45. Это, однако, не исключает влияния сочинений Соловьева на Ключевского. Влияние это было огромное. Невозможно перечислить здесь всех отдельных вопросов, в которых оно сказалось. Можно сказать только, что «История» Соловьева была общей канвой, по которой работал Ключевский. Что касается общего взгляда Соловьева на задачи русского историка, то Ключевский в своей университетской речи о Соловьеве определил этот взгляд так, как мог бы определить и свой собственный: «генезис и развитие политических форм и социальных отношений»46. Если понадобилось бы провести различие между обоими историками, то, конечно, в этой формуле пришлось бы для Соловьева сделать ударение на первой, а для Ключевского на второй половине. Раскрывая это различие дальше, следовало бы обратить внимание, как в том же поминальном слове Ключевский подчеркивает односторонность и неполноту изучения одного только «политического порядка», «смены политических форм». Чтобы понять, почему один и тот же «порядок» в разных условиях прививался различно, нужно «форму» наполнить «материалом». Вот почему Ключевский считает долгом добросовестности, хотя бы попутно и обиняком, отметить, что одновременно с Соловьевым «другие наблюдатели сосредоточивали свое внимание на свойствах почвы и материала, который из нее извлекался для построения общества». В противоположность «генезису и развитию» политических форм и социальных отношений», эти другие наблюдатели изучали «рост национальных преданий и обычаев, дух и быт народа»47.
Нельзя не угадать в этой осторожной параллели противоположность западничества и славянофильства в изучении русской истории. Проведя параллель, Ключевский делает характерное замечание: «Это раздвоение по существу своему не давало повода к антагонизму обоих направлений в исторической науке: оно, собственно, было не более как простым разделением труда в работе над одним и тем же предметом; однако же это разделение иногда принималось за различие самых воззрений, принципов и вызывало борьбу»48.
Мы знаем, что различие принципов было,— и очень существенное. И борьба была жестокой, потому что была принципиальной. Переживи Ключевский это время — сороковые и пятидесятые годы — как очевидец и участник, он, конечно, не мог бы дать такой смягченной и примирительной формулы «борьбы» двух течений, какую дал в приведенных строках. Он не написал бы их и тогда, если бы был совсем непричастен «борьбе» и мог бы отнестись к ней со стороны, только как историк и объективный наблюдатель. Но его положение среднее. И в этом положении — ключ ко многому, что нам остается неясным в Ключевском. В сороковых и пятидесятых годах противоречия славянофильского и западнического взгляда на русскую историю, действительно, были велики и неустранимы. Это было то время, когда Соловьев заклеймил славянофильство названием «анти-исторического» направления и вызвал ядовитые реплики Хомякова, Аксакова и Самарина49. Это было время споров К. Аксакова с Соловьевым и Кавелиным о родовом быте, Беляева с Чичериным об общине50. Совершенно иное было — шестидесятые годы. Гениальные прозрения Герцена, находившего еще в 40-х годах, в самом начале «борьбы», что славянофилы на нескольких верных истинах построили не то здание, которое из них вытекает, а западники должны овладеть славянофильскими темами, чтобы сделать свое учение демократическим и популярным51,— эти прозрения начали осуществляться в 60-х годах. Славянофильство начинает привлекать исследователей самых разнообразных категорий не своим квасным национализмом, не своей метафизическо-богословской доктриной, а своим обращением к изучению народа, его быта, его психического склада, материальных условий его жизни. На народе и народности сходятся в 60-х годах самые разнообразные направления, начиная от эпигонов славянофильства, вроде Беляева, и кончая таким либералом чистой воды, как Градовский. В поклонении «народности» сходятся Костомаров и Буслаев, Щапов и Бестужев-Рюмин, Забелин, Афанасьев52. Каждый по-своему, но все толкутся в эту дверь, и на один момент (1861-1862) сближаются в общем настроении. Это то настроение, в котором Писарев находит одобрительные слова для Киреевского, Чернышевский подает руку Юрию Самарину53. Бросить мертвый механизм бездушных юридических форм, обратиться к живому материалу, наполняющему формы — таков общий лозунг в эти годы. Это настроение совпало с моментом вступления В.О. Ключевского в университет и не могло не оказать влияния на направление его научной мысли, только что формировавшейся.
Припомним теперь, что была одна серьезная причина общественного порядка, которая именно в начале шестидесятых годов так сблизила противников и антиподов на одной идее «народности». В.О. Ключевский сказал нам о ней, когда уже в XVII столетии усмотрел «завязку порядков, бывших первыми общественными впечатлениями людей моего возраста»54. В. О. Ключевский поступил в университет как раз тогда, когда ликвидировалось вековое зло русской жизни, крепостное право. И это великое общественное событие оставило на историке сильное, неизгладимое впечатление. К его последствиям для политических воззрений историка мы еще вернемся.
Теперь прибавим только, что не одна идея «народности», но и «реализм» шестидесятых годов оставили неизгладимый след на личности историка. Правда, и тут, как в вопросе крестьянского освобождения, он остался, по условиям своего воспитания, в стороне от главного русла движения. Тем не менее он воспринял его результаты. Его отношение к научно-реалистическим тенденциям шестидесятых годов видно из его суровой рецензии на одно сочинение Щапова (1870). Любопытно, что строгая критика рецензента кончается выражением благодарности. При всех недостатках «редко можно встретить исследование, которое резче бы обнаруживало научные потребности русской исторической литературы»55. Действительно, требования научного реализма, вытекающие из современного мировоззрения, нигде в русской исторической литературе не поставлены так ясно и отчетливо, как у Щапова, и никто так близко не подошел к пониманию задач научного изучения истории. И одной приведенной фразы достаточно, чтобы показать, что шестидесятые годы не прошли без влияния на склад философско-исторических взглядов Ключевского.
Во всяком случае, именно шестидесятые годы, с только что изображенным народническим настроением их, с их реалистической и социальной подкладкой общественной мысли, дали возможность Ключевскому эмансипироваться от непосредственного влияния своего учителя, выйти за пределы обветшавших аксиом историко-юридической школы и отнестись к «антагонизму обоих направлений» просто как к «разделению труда в работе над одним и тем же предметом»56.
Это нейтральное положение в борьбе подражателей с самобытниками, с несколько большим наклонением к последним, В. О. Ключевский сохранил до конца. В III томе «Истории» он так характеризует «привлекательные особенности обоих направлений».
У западников — «дисциплина мысли, любовь к точному изучению, уважение к научному знанию». У славянофилов — «широкая размашистость идей, бодрая вера в народные силы и та струйка лирической диалектики, которая так мило прикрывала в них промахи логики и прорехи эрудиции»57.
Как видим, на стороне западников лежит ум Ключевского. К славянофильству он склоняется сердцем. В одних он теоретически уважает их достоинство. Другим готов любовно простить их недостатки, «промахи» и «прорехи». У западников, в лице своего учителя Соловьева, он берет стройный метод, который требует повсюду в истории искать «сходные моменты и условия» закономерной исторической эволюции. Но вместе с славянофилами он признает «своеобразные сочетания» этих «основных элементов общежития» в русской истории и далее склонен считать «невиданными» те внешние обстоятельства, при которых развивается русский исторический процесс. Выделяя в каждом из двух течений долю истины, он противопоставляет ее заблуждениям каждого и тем спасается от их крайностей и односторонностей. Славянофильское «своеобразие» спасает Ключевского от увлечения теорией механических заимствований с Запада. А западническая идея однообразия основных элементов исторической эволюции дает ему возможность избегнуть увлечения этим «своеобразием» до признания абсолютной «самобытности» и замкнутой в себе неподвижности нашей национальной истории.
Однако не одна только историческая перспектива, в которой шестидесятник Ключевский находится по отношению к непримиримым противоречиям сороковых и пятидесятых годов, помогает ему быть выше их и сочетать в одном высшем синтезе их «привлекательные особенности»58. К тому же ведет и личный склад ума: та полная свобода от всякого догматизма, которая составляет коренную черту всего духовного склада Ключевского. Как очень чувствительный измерительный аппарат, его психика находится в вечном колебании. Каждое утверждение ведет за собой в этом мыслительном аппарате немедленную оговорку. Каждый порыв чувства сопровождается скептической усмешкой, каждое движение воли — колебанием и рефлексией. Противоречие — и антитеза как ее литературное выражение — основная стихия психики Ключевского. Я мало знал людей, которым так трудно было устанавливать даже обыкновенные житейские отношения, так мучительно давался подчас самый простой житейский шаг, как В.О. Ключевскому.
Мнительность и скрупулезность исследователя встречала, правда, свой противовес в огромном таланте схематизации, в умении
изображать свои выводы в резкой и яркой формуле, в привычке ко всем тем упрощениям, которые подсказывал лектору преподавательский такт. Всеми этими чертами и отличается общий курс лекций Ключевского. Но в работах строго исследовательского характера В. О. Ключевский давал полную волю своей мнительности. Оттого и маленькие работы затягивались у него иногда на долгие годы (статьи о земских соборах появились в трех январских книжках «Р[усской] мысли» в течение трех лет). Оттого и изложение этих работ было так не похоже на курс лекций, благодаря целому ряду оговорок, отступлений и побочных экскурсов. 'Дменно вследствие той же мнительности и требовательности к себе ллючевский до конца своей жизни не решался издать своего курса. А когда он, наконец, за него принялся, то и на печатном издании отразились те же черты исследовательской работы Ключевского. Основные штрихи и контуры значительно затушевались и побледнели, осложненные аппаратом учености и тяжестью фактического материала. Те, кто привыкли думать, что в курсе историческая работа Ключевского получила окончательную, навсегда закрепленную форму, пусть только сравнят литографированное издание курса69 с печатным, и они увидят, как много внесено тут новых наслоений, покрывших, а частью и видоизменивших старые.
Эта неустанная, разъедающая сама себя работа критической мысли чрезвычайно затрудняет изучение генезиса взглядов Ключевского. Очень ясный вначале, этот генезис запутывается и ускользает от точного определения, по мере того как взятая у предшественников мысль подвергается внутренней переработке в умственной лаборатории Ключевского.
Отсюда же и это разногласие двух характеристик Ключевского как ученого, по одной из которых можно было бы сказать, что у него все заимствовано, а по другой — не может быть ни малейшего сомнения, что все оригинально.
Начиная работу над русской историей, Ключевский предварительно серьезно и тщательно изучил наличную литературу. Но он к ней потом почти никогда не возвращается. Подобно Фюстель де Куланжу, он всегда основывает свое мнение ссылками на источники первой руки, на акты, на летописи: на факте, им самим проверенном и установленном, а не на чужое мнение о-факте. Между первым толчком, данным работой предшественника, и окончательным выводом исследователя расстояние оказывается очень большое, и старый вывод изменяется часто до неузнаваемости. Но эта связь почти всегда есть и может быть вскрыта детальным исследованием.
Возьмем для примера одно из самых оригинальных построений начала русской истории: мысль о связи появления княжеской власти с торговлей. В другом месте я указал на первообраз этой мысли: на мнения Шторха, писателя конца XVIII века60. Читая иные страницы другого любимца Ключевского, Болтина61, вы часто чувствуете, как тот или другой экскурс, даже то или другое мимоходом брошенное замечание западает в ум Ключевского и где-нибудь неожиданно всплывает в его исследованиях. То же самое можно было бы заметить относительно ряда исследований Беляева, Погодина, Забелина, Валуева, Ал. Попова62. Я не говорю о работах более новых, так как сопоставлением этих имен хочу охарактеризовать круг первоначального исторического чтения Ключевского. Оно относится, очевидно, к той поре, когда его воззрения только что складывались и когда помощь предшественников была ему особенно нужна. Очевидно, не случайно этот ряд имен принадлежит кругу исследователей славянофильского направления. Именно к ним надо относить приведенный выше намек Ключевского на «других исследователей (в противоположность Соловьеву), сосредоточивших свое внимание на свойстве почвы и материала, который из нее извлекался для построения общества»63.
У них Ключевский, действительно, нашел образцы изучения быта, законодательства, материальных и экономических явлений Древней Руси. Можно бы было, конечно, назвать и ранние источники Ключевского для изучения «учреждений»: первые работы Соловьева, статьи Кавелина и в особенности Чичерина64. Но ссылка на Чичерина как раз и напоминает, что западнические работы только тогда производили на Ключевского глубокое впечатление, когда выходили из области изучения «учреждений» в область социального строя. Теория родового быта, усвоенная при посредстве Соловьева, напр[имер], так и осталась заимствованием чисто внешним, частичной истиной, не выведенной из пределов приложения к междукняжеским отношениям. И даже там она все более ограничивалась оговорками и поправками. Та же мысль могла бы оказаться гораздо плодотворнее, могла бы предупредить даже отмеченный выше пробел в изучении племенного быта южной Руси, если бы Ключевский вовремя взял ее из замечательной статьи в старом «Москвитянине» Петра Киреевского65.
В рамках настоящей статьи я не могу, к сожалению, подробно развить брошенных только что указаний и намеков. Но для знакомых с историографией они обрисуют с бесспорной определенностью те условия, которые помогли Ключевскому уже не только в области
общих взглядов и методологических приемов, но и в области разработки сырого исторического материала подняться над складом воззрений историко-юридической школы, через Соловьева более всего ему близкой, но, очевидно, с самого начала его не удовлетворившей.
VII
Я указал на источники сознательных и намеренных предпочтений Ключевского. Это, во-первых, характер момента, когда Ключевский начал самостоятельно работать и мыслить: начало шестидесятых годов, смягчившее остроту споров и на первое место выдвинувшее вопрос о народе и о «народности»: разумеется, «народности» не в смысле казенно-патриотической проблемы графа Уварова66, а в смысле демократической проблемы эпохи крестьянского освобождения. Я указал и на другой корень, лежащий в исследовательской психике Ключевского. Остается указать теперь третий и самый главный источник, решительно определивший весь характер симпатий и антипатий Ключевского. Это — его личная связь с «бытом». Связь эта, разумеется, предшествовала и годам университетского учения, и годам самостоятельной исследовательской работы. Связь с «бытом» — это то, что Ключевский принес с собой в науку. Это косвенно признал и Соловьев, дав своему ученику компромиссную с своей точки зрения тему для магистерской диссертации: «Жития святых как исторический источник». Конечно, эта черта гораздо полнее раскрылась, когда Ключевский вышел из-под ферулы67 Соловьева.
Связь Ключевского с старым русским бытом — органическая и непосредственная. Отец В. О. был бедный священник села Ключей, Пензенской губернии68. Детство его прошло в деревенском захолустье, в той обстановке, в какой живет наше сельское духовенство. Самые ранние воспоминания историка связаны с яркими бытовыми сценами сельской бедноты и беспомощности. В моей памяти сейчас рисуется маленькая картинка, как лучом прорезавшая для меня это темное начало биографии человека, заслужившего себе почетное место в национальном пантеоне. Глухой проселок. Грязная дорога, глубоко изрезанная колеями. Сбоку в колее без сознания лежит навзничь человеческая фигура. И в ней ребенок Ключевский узнает, к своему ужасу и жалости, своего отца!69 Я не знаю ни начала, ни конца этой истории. Не помню даже, знал ли то и другое сам Ключевский, рассказавший мне этот эпизод, или и в его памяти он вырисовывался как одинокий островок над туманом забвения.
Но эти несколько штрихов говорят мне больше, чем длинное описание.
В.О. Ключевский долго поддерживал связь с родней из мира сельского духовенства и шутливо рассказывал мне, как, приезжая в Москву, родственники считали долгом навестить выходившего в люди племянника и не хотели ударить в грязь лицом, ведя с ним серьезные разговоры. Следуя общему тогда влечению даровитой семинарской молодежи, Ключевский из семинарии перешел в университет. Но этим он не порывал с своей средой. А преподавание в Московской духовной академии закрепило эту связь до самого конца жизни. Семьи профессоров и преподавателей Сергиева Посада были естественным расширением круга старых родных и знакомых. Это были люди все той же духовной среды. Надо прибавить, что это была единственная среда, в которой Ключевский не стеснялся, чувствовал себя как дома и в которую поэтому он особенно охотно возвращался, с удовольствием разделяя ее времяпровождение, ее беседы и ее развлечения.
В этой среде Ключевский нашел краски для своих «добрых людей Древней Руси» 70. Я присутствовал на том торжественном заседании Духовной академии, на котором Ключевский читал свою речь о Сергии Радонежском, и был свидетелем умиления покойного Тертия Филиппова, старого московского «почвенника», от этой речи71. Я не забыл и той речи о «содействии Церкви успехам русского гражданского права и порядка», которую Ключевский произнес на годичном акте (1888 г.) Московской духовной академии72 и которая так и брызжет личными признаниями и излияниями. Ключевский любовно ловит тут «звон колокола, раздавшийся среди рыночной суматохи». «В ветхом и пыльном свитке самого сухого содержания, в купчей, закладной, заемной, меновой или духовной, под юридической формальностью иногда прозвучит нравственный мотив, из-под хозяйственной мелочи блеснет искра религиозного чувства,— и вы видите, как темная хозяйственная сделка озаряется внутри теплым светом, мертвая норма права оживает и перерождается в доброе житейское отношение». И Ключевский не может удержаться, чтобы тут же не привести несколько строк древнерусского завещания, которым рабы и холопы, «мужички и женочки», отпускаются на свободу с денежной наградой, «чтобы людцы мои после меня не пошли с моего двора и не заплакали»73. Душа исследователя отдыхает на этих минутах, он ищет и заботливо оберегает от забвения эти душевные созвучия, он с доброй улыбкой пересказывает их сочувствующим и посвященным. Да, он
живет в эти минуты одной душой с далеким прошлым, находит там себя и в себе — эту древнюю русскую душу. Он понимает сердцем ЭТУ РУКУ> протягивавшую милостыню и поддерживавшую огонь в неугасимой лампаде. Это — свое, родное, близкое и понятное. В.О. Ключевский в этом смысле, действительно, «почвенник».
Да он, впрочем, и сам сказал нам это, связав весь период русской истории, от Михаила Федоровича до императора Александра II, в одно целое и предупредив читателя, что здесь «чем дальше, тем больше входишь в область автобиографии, подступаешь к изучению самого себя, своего собственного духовного содержания, насколько оно связано с прошлым нашего отечества»74.
Здесь мы подходим к секрету того непосредственного сочувствия к русской, именно к московской, XVII века, старине, которое так сильно чувствуется в изложении «курса истории». Именно этот период, эти стороны старого быта чувствовались Ключевским как «свое» родное, близкое «собственному духовному содержанию». Прочтите только знаменитую характеристику царя Алексея Михайловича, этой «славной русской души», «лучшего человека древней России»75, и сравните ее с характеристикой Петра76. Те же самые капризы русского варварства, как мягко, снисходительно, какой любящей рукой обрисованы они в образе «тишайшего» царя! И как резко, безжалостно, какими сгущенными красками, сильными и энергичными мазками наложены те же штрихи на образ царя-преобразователя! Рисуя происхождение раскола, историк на нескольких страницах объясняет читателю, что нельзя относиться «пренебрежительно» к перемене обрядов, и настойчиво выясняет, какое значение имеет внешность, в том числе и церковная, для простой верующей души77. Мы предупреждены, что реформа внешности есть реформа существенная. Но когда, через посредство той же внешности, Петр грубой рукой прикасается к старой русской душе, историк готов утверждать, что это не нужно для его реформ. Элемент реформы внешности есть в петровском деле «помеха», «законодательная ненужность»78, элемент насильственный и случайный, объясняющий лишь, почему употребленные для реформы усилия не стояли ни в каком соответствии с успехами реформы. Ордин-Нащокин и особенно Ртищев79 как предшественники реформатора возбуждают особые симпатии исследователя именно потому, что их планы реформы оставляют «душу» в покое. И Ключевский почти берет под защиту те протесты XVII века против нового просвещения, которые всходили из боязни повредить вере и старым основам религиозно-бытовой морали. О том, что могли дать положительного
эти старые основы быта, он совсем невысокого мнения. Он, разумеется, указывает и на «гражданское малодушие» духовенства, и на безнадежную узость его сферы понимания80. Он не скупится на насмешки и даже сарказмы, когда речь заходит о внутреннем содержании этой московской культуры. Но он постоянно и с особым ударением выдвигает одно ее достоинство, которое для него искупает его недостатки. Эта культура была — всем и для всех одинакова, от мала до велика. «При всем различии общественных положений древнерусские люди по своему духовному облику были очень похожи друг на друга, утоляли свои потребности из одних и тех же источников. Боярин и холоп, грамотей и безграмотный... неодинаково строго заучивали свой житейский катихизис. Но они твердили один и тот же катихизис, в положенное время одинаково легкомысленно грешили и с одинаковым страхом Божиим приступали к покаянию и причащению — до ближайшего разрешения “на вся”. Напротив, “западное влияние разрушило эту нравственную цельность русского общества”. Влияя гораздо глубже на отдельную личность, чем прежнее византийское влияние, оно зато до сих пор не вышло за пределы господствующего класса и не проникло в народную толщу. Новая культура, как стекло, “неравномерно нагреваемое”, разбила народ на “два лагеря”»81.
Можно было бы провести дальше эту характеристику и показать, что отношение Ключевского к лагерю, отринувшему московскую старину, тоже неравнодушное, но неравнодушное в обратную сторону. Если в мире московского быта он чувствует себя «своим», то в быте петербургском он «чужой». Ему там не по себе и неловко. Таково естественное впечатление читателя, выносимое из чтения «Курса» Ключевского. Привожу выдержку из одного читательского письма, мною полученного, где это впечатление выражено особенно ярко. «Много думая над этим вопросом,— пишет мой корреспондент, — я пришел к тому заключению, что В. О., гениальный ученый нашего века, как человек был чужд нашему времени. Московская Русь была ему ближе, милее и, позволю себе сказать, понятнее. Я глубоко убежден, что в своем кабинете и на кафедре В. О. видел перед собою всю старую Русь, с царями, московской или новгородской толпой, слышал и различал ее говоры, любовался пестротой ее красок, присутствовал на ее богослужениях и празднествах, различал в ней далее отдельных лиц. И с другой стороны, как ни блестящи его схемы и характеристики XVIII века, этот период нашей истории ему не симпатичен. Он смотрит на это время не так уже любовно, и мягкая ирония, постепенно утрачивая свое
добродушие, чем дальше, тем больше заостряется и делается злой. Век европеизированного варварства он подсмотрел и подслушал, как иностранец, которому “свое” всегда будет милым и в котором чужое никогда не перестанет возбуждать чувства некоторой враждебности». Заметьте, что автор этой цитаты, по его словам, «не будучи знаком с Ключевским, любил его как самого близкого и родного человека»82.
Впечатления читателя метко схвачены и ярко выражены. Но верен ли сделанный из них вывод? Если бы это было так, то характеристика Ключевского упростилась бы до крайности, и в его истории мы могли бы усмотреть лишь одну из славянофильских вариаций, конечно, наиболее талантливую. Но дело далеко не так просто. Наблюдение здесь не доведено до конца. Продолжив его и углубив, мы не выйдем, правда, из области вопроса о симпатиях Ключевского к «своему» и о его антипатиях к «чужому». Но все дело в том, что именно считал историк «своим» в старом и что было ему «чужим» в новом быте. Разобравшись в этом вопросе, мы не только прибавим новый штрих к характеристике. Мы найдем ту общую подпочву, на которой создавались и любовь, и вражда, и симпатии, и антипатии историка. И только найдя общий источник того и другого, основной, господствующий мотив этой сложной психики, мы будем в состоянии сказать, что приблизились к пониманию личности Ключевского.
VIII
Сочувственно сливаясь с старым бытом, входя с ним в непосредственное интимное соприкосновение, В.О. Ключевский ведь не только становился к этому быту в сантиментальное отношение. Он любил в нем то, что заслуживало с его точки зрения любви. Прежде всего, он любил известное состояние душевного равновесия, с ним связанное, любил в нем «чин» и свято чтил обряд. Но именно потому, что он близко, нутром понимал этот быт, он не мог и по отношению к темным сторонам его сохранить лицо бесстрастного наблюдателя. Обратной стороной любви являлась ненависть, обратной стороной веры являлся скептицизм. Мы знаем по Чернышевскому, по Помяловскому, какой радикализм отрицания «быта» создавался слишком тесным общением с «бытом»83. Этот радикализм отрицания, освобождавший от оков предания, возвращавший уму и душе ту типическую, чисто-русскую абсолютную свободу, о которой возвестил европейцам Герцен84,— кто
может отрицать наличность и такого психологического элемента в сложной натуре Ключевского?
Не даром с самого начала своей профессорской карьеры, еще в Александровском кадетском корпусе, Ключевский считался разрушителем и освободителем. Его убийственные характеристики, его меткая и злая ирония, его инстинктивное недоверие ко всему намеренному и выдуманному,— разве все эти коренные черты его таланта оставляли камень на камине в мире освященных древностью исторических авторитетов? Разве не оставалось впечатления у случайного собеседника и слушателя Ключевского, что этот человек ни во что не верил?85
Впечатление, конечно, неверное. Ключевский верил во многое,— по преимуществу стихийное, но не только в стихийное. Были моменты в его изложении, когда вошедшая в привычку ироническая и скептическая манера речи заменялась прочувствованными тонами, в которых слышалась любовь и нежность, а изложение поднималось до лирики. Но были и такие моменты, когда глаза загорались злыми огоньками, а слова звучали сарказмом. То и другое свидетельствует если не о вере и убеждении, то во всяком случае о глубоко затаенном чувстве. Постараемся добраться до его источника.
Действительно, к «своему» Ключевский навсегда сохранил какую-то жалость, какую-то нежность сострадания. Но в этом своем он выделял и хвалил то же самое, что, напр[имер], хвалил демократа и народник Щапов. Свою социальную среду он любил видеть в роли носительницы идей христианской культуры и равенства в мире варварства и насилия. Он тщательно выделял «голос Церкви в защиту несвободных» и наблюдал влияние духовенства в устройстве христианской семьи, обращавшей «жену-рабу в советницу и подругу мужа», в обороне интересов вдов, сирот и рабов86. К слабым обращено было сочувствие и сострадание историка. Сильных он не жалел и не жаловал. В этом настроении, вынесенном из «быта» и воспоминание, не следует ли искать ключа и к объяснению того огромного впечатления, которое произвело на Ключевского освобождение крестьян в годы его студенчества? И не определились ли его социальные антипатии его социальными симпатиями?
Выше я обращал не раз внимание на странное на первый взгляд выделение всей русской истории с воцарения Романовых в один цельный период в «Курсе» Ключевского. Я указал уже и на то, что основным, связующим весь этот период воедино фактом Ключевский
признал факт существования крепостного права. Мы видели, что он сам предупреждал читателя о связи между изучением этого периода и «изучением самого себя». Мало того, он прямо подчеркнул, что социальная катастрофа, которою закончился этот период, была первым общественным впечатлением, давшим толчок к сознательной моральной и гражданской жизни людям «его возраста»87. Из всего этого уже видно, какое громадное значение, «автобиографическое» и историческое, он придавал факту существования и прекращения крестьянской неволи. И нас не удивит, когда в «Курсе» мы встретим заявления, вроде следующего: «Нравственное действие крепостного права было шире юридического. Оно глубоко понизило уровень нашей гражданственности». «Эта борьба надолго задержала правильный рост народных сил и по ее вине землевладельческое дворянство как правящий класс дало извращенное, уродливое направление всей русской культуре»88. В факте закрепощения историк отыскивает объяснение и политического бессилия общества Московской Руси. Благодаря ему «земский собор потерял под собой земскую почву... Принося к престолу мысль лишь немногих классов, (собор) не мог привлечь ни должного вниманья сверху, ни широкого доверия снизу...». А «в господствующем землевладельческом классе, отчужденном от остального общества своими привилегиями... расслабляемом крепостным трудом, тупело чувство земского протеста и дряхлела энергия общественной деятельности»89.
Вот первоисточник отрицательного отношения Ключевского к «культуре» XVIII столетия. Она была дворянской культурой, «извращенной и уродливой», она, как «Евгений Онегин и его предки», была позой, гримасой, красивой и умной... ненужностью90.
Имея все это в виду, перечитайте теперь вступительные страницы того третьего тома «Курса», с которого Ключевский начинал «изучение самого себя» в русском прошдом.
«Говорят, культура сближает людей, уравнивает общество. У нас было не совсем так. Все усиливавшееся общение с Западной Европой приносило к нам идеи, нравы, знания, много культуры; но этот приток скользил по верхушкам общества, осаждаясь на дно частичными реформами, более или менее осторожными и бесплодными. Просвещение стало монополией господ, до которой не могло без опасности для государства дотрагиваться непросвещенное простонародье, пока не просветится. В исходе XVII века люди, задумавшие учредить в Москве академию, первое у нас высшее училище, находили возможным открыть доступ в нее “всякого чина, сана и возраста людям”, без оговорок. Полтораста лет спустя,
при Николае I, секретный комитет гр[афа] Кочубея, на который возложено было чисто преобразовательное поручение91, высказался по поводу самоубийства обучавшегося живописи дворового человека за вред допущения крепостных людей “в такие училища, где они приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию”»92.
Вы чувствуете, как в этом сопоставлении слышится отголосок глубоко затаенного гнева? Вы чувствуете, как этот гнев не выдерживает и прорывается в следующих строках? «Учреждались дорогие дворянские кадетские корпуса, инженерные школы, воспитательные общества для благородных и мещанских девиц, академии художеств, гимназии, разводились в барских теплицах тропические растения, но на протяжении двух столетий не открыли ни одной чисто-народной общеобразовательной или земледельческой школы». Если вы почувствовали психологию этого настроения, то вы поймете и источник того бичующего вывода, которым кончается эта ядовитая тирада. «Новая европеизированная Россия в продолжение четырех-пяти поколений была Россией гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб: последние проводили в первые и во вторые посредством легкой перегонки в доморощенных школах или экзотических пансионах своих недорослей, а взамен их получали оттуда отставных бригадиров с мундиром»93. Историк заговорил языком сатирика XVIII века; ему понадобилась терминология Фонвизина94. Но я скажу больше. Это — язык другого любимого Ключевским писателя,— язык Николая Ивановича Новикова95. Это — голос «среднего рода людей»96, с его защитой честной «подлости»97, хотя бы и с риском «обидеть целый корпус дворянства»98. Историк стал на почву тех «дурных шуток» и «меланхоличных писем», не в «улыбательном роде», которая в русском прошлом сделалась почвой первой серьезной общественной оппозиции, вызвавшей первые серьезные опасения и преследования власти99. Новиков ведь тоже восхвалял былые «добродетели россиян» 10°, противопоставляя их тем гнилым тропическим растениям, которые «разводились в барских теплицах»! И Новиков с друзьями первый возвысил голос серьезного общественного протеста против ужасов крепостного права. Новиков, Фонвизин, Болтин — вот люди, которых Ключевский любил и в XVIII столетии и которым он даже посвятил особые монографии101.
Я не знаю, когда Ключевский сознал себя демократом. Но был он им всегда, начиная с первого дня своего рождения. И это различение «своего» от «чужого», которое мой корреспондент обращает
в укор любимому писателю, не есть ли прежде всего различение социальное? Не на этой ли почве развивается у историка его сочувствие к простому, «народному» московскому периоду, к Руси времен этой «славной русской души», Алексея Михайловича, и не-сочувствие к Петровской дворянской России, с ее привилегиями и рабством, с ее «барскими теплицами» и гвардейскими казармами? Не здесь ли та неразложимая, органическая черта биографии, которая объясняет все основное в индивидуальной физиономии историка и делает его личность такой особой, такой непохожей на других, не-«своих» ? Следует ли в таком случае жалеть о таком распределении симпатий и антипатий? Объясняя те и другие, не добрались ли мы тут, наконец, до того подпочвенного, непроницаемого кряжа, который не пропускает живоносную влагу внешних впечатлений и перерабатывает ее в чистый, кристальный источник?
«Если бы народ вынес такой порядок (при котором “всеми льготами и выгодами осыпаны были верхи общества, а на низы свалили только тяжести и лишения”), Россия выбыла бы из числа европейских стран». Читайте, читайте эти строки в свете только что данных объяснений. «Но с половины XVIII века в народной массе пробуждается тревожное брожение особого характера. Мятежами обилен был и XVII век, и тогда они направлялись против правительства, бояр, воевод и приказных людей. Теперь они принимают социальную окраску, идут против господ» 102.
«Хмурясь и робея, пережевывая одни и те же планы и из царствования в царствование отсрочивая вопрос, малодушными попытками улучшения, не оправдывавшими громкого титула власти, довели дело к половине XIX века до того, что его разрешение стало делом стихийной необходимости, особенно когда Севастополь ударил по застоявшимся умам» 103.
Приведенные соображения представляются Ключевскому настолько важными, что он вводит их в самую формулу, которою характеризует ход дел в IV периоде русской истории. «Но по мере того, как росло чувство народного недовольства таким неравенством, правительство начинало подумывать о более справедливом устройстве общества». Только «по мере» недовольства. Не по мере того, как усваивались «просветительные» идеи великого века русским дворянством. Оно ведь от литературных упражнений прямо переходило к расправам на конюшне. И Ключевский настойчиво приглашает читателя «запомнить сейчас изложенную схему», свидетельствующую об исторической роли «стихийной необходимости»104.
IX
С середины 90-х годов обстоятельства отдалили меня от Ключевского и от Москвы105. Я знал, что Ключевский переживает пору тяжелого, мрачного настроения. Настроение это выразилось, между прочим, в 1890 году в статье «Грусть», напечатанной в «Русской мысли»106. Но как раз в ту пору, когда настроение это достигло своей низшей точки, в 1894 году, произошла перемена царствования107. Для русского общества открылись новые возможности...
Одиннадцать лет спустя я вновь попал в старую столицу. Картина московской жизни была теперь совсем новая и особенная. Сердце России усиленно билось. Съезд следовал за съездом, один за другим вырастали союзы, вырабатывались резолюции, программы, политические формулы, складывались рамки будущих партийных организаций. Было бы чересчур уже неожиданно встретить в этом широком потоке общественного оживления мнительную и недоверчивую фигуру Ключевского. Но скоро это самое движение снова свело нас после долгой разлуки. И мои новые впечатления, несмотря на все перерывы и перемены, очень мирно ложатся возле заключений и наблюдений, только что сделанных. Речь шла как раз о «более справедливом устройстве общества» как гарантии против «чувства народного недовольства». И Ключевскому пришлось принять в выработке нового общественного устройства непосредственное и личное участие, вполне отвечавшее его историческим взглядам.
Демократизм Ключевского пришел в более тесное соприкосновение с его конституционализмом.
Несколько слов, попутно, о «конституционализме» Ключевского. Ключевский, конечно, стоял ближе к демократически-народни-ческому, чем к конституционно-либеральному течению нашей интеллигенции. Это вытекает из всего, что сказано раньше о его положении между шестидесятниками и Соловьевыми в области науки, между разночинцами и дворянами в области нашей общественности. Он никогда, конечно, не доходил до страстного отрицания значения политических форм. Но до известной степени он, несомненно, разделял скептическое и слегка насмешливое отношение к «конституции» значительной части нашей демократической интеллигенции. В интимном кругу и в наших студенческих беседах этот вопрос вызывал немало шутливых пререканий.
Но когда дело доходило до серьезной формулировки, Ключевский всегда признавал неизбежность свободных политических форм для
«более справедливого устройства общества». Мало того, он даже предостерегал против последствий равнодушия к политическим формам. В доказательство я приведу цитату из первоначального текста «Боярской Думы» в том виде, как эти строки были напечатаны в 1880 году на страницах «Русской мысли»: «Опыт учил не раз,— писал Ключевский тогда,— что благодеяния конституционного порядка могут, по крайней мере, на некоторое время ограничиться успехами парламентской риторики, что laissez faire108 может превратиться в огражденную законом эксплуатацию общества одним его классом, что, короче сказать, лучшая в техническом отношении форма политического устройства не устраняет бедствий, действующих при худших формах, которые за то особенно и считались худшими, что они допускали такие бедствия или даже признавались их источником» 109. Изложив это мнение, которое сделало бы честь Прудону и Бакунину110, Ключевский, однако, прибавляет: «Несомненно, этому перестанут удивляться, как перестали удивляться тому, что иной, при самом гигиеническом питании, страдает расстройством желудка» 11’.
Ключевский признает и то, что неудачный опыт с верой в «благодеяния конституционного порядка» произвел впечатление, похожее на политическое разочарование... [«]Многие стали терять веру во всеспасающую силу политических гарантий, в могущество известных государственных форм, в магическое действие политических слов, даже в реальное содержание политических идей». Ключевский предвидит далее, что это разочарование может привести к «банкротству политических доктрин». Он соглашается наконец, что «упомянутый номинализм не чужд и нашему обществу, чаще всего обнаруживаясь в форме политического индифферентизма» . Но против этого индифферентизма он серьезно предупреждает. «На Западе... можно поручиться, что как бы далеко ни зашли там в равнодушии к политическим формам, новым или старым, ко многим из этих последних там уже не воротятся, не захотят и не сумеют воротиться». А у нас, спрашивает Ключевский, «где не заметно ни такого навыка, ни таких вкусов (к политике, как на Западе)... имеют ли право разделять это равнодушие?» 112 Эти строки кажутся как будто только что написанными против наших новейших «политических номиналистов».
Таким образом, при всем перевесе социального момента над политическим в мировоззрении Ключевского, конституционализм Ключевского не подлежит сомнению. Открытым для него — не одного его, конечно,— оставался, быть может, лишь вопрос, как
в русской практике конституционализм может быть примирен с демократизмом. Но как бы это ни случилось, переход к конституционному строю и по взгляду Ключевского неизбежен, как жизнь, как развитие жизни. Я помню наше торжество,— нас, первых учеников Ключевского и его политических совопросников, когда Ключевский и публично признал это в своей речи о С. М. Соловьеве на университетском акте 1880 года, закончив эту речь несколько общими, но всем тогда понятными словами: «Еще в 1843 г. Соловьев писал о заключении русским обществом “святого союза” с русским университетом... “История России”, ставшая крупным фактом в развитии нашего общественного сознания, служит новою связью, скрепляющею этот союз. И оба союзника не забудут последнего урока, какой сам собою вытекает из исторического процесса, изображенного Соловьевым. Обзор этого процесса он закончил словами: “Наконец, в наше время просвещение принесло свой необходимый плод: познание вообще привело к самопознанию”. А самопознание, прибавил бы он, если бы довел свой рассказ до нашего времени, должно привести к самодеятельности» 113.
Конституционные надежды, возбужденные событиями тех годов, когда велись наши споры и произносилась эта речь, как известно, скоро после 1881 года заглохли надолго. Началась та пора, о которой я упомянул в начале этого отдела. Минуя ее, я возвращаюсь к начатому рассказу о том, что произошло четверть века спустя, в памятный год нашей «свободы».
В середине июля 1905 года Ключевский дал мне знать, что он в Петербурге и желал бы со мною немедленно повидаться. В тот же день я был у него в Пале-Рояле и в течение недели с чем-то виделся и беседовал с ним чуть не ежедневно. Он был один из двух русских историков (другой был Н. М. Павлов114), приглашенных участвовать в так называемых петергофских совещаниях, в которых вырабатывалась наша «конституция» 6-го августа115. Надо думать, что в приглашении обоих были заинтересованы, главным образом, защитники старины в этих совещаниях.
И Н. М. Павлов не обманул ожиданий116. Что касается Ключевского, то со свойственным ему лукавым юмором он рассказывал мне, как попал в самое ядро дворянской группы, рассчитывавшей видеть в нем «своего». Ошибка была замечена лишь через несколько дней, в течение которых Ключевский сделался невольным свидетелем секретных обсуждений вопроса о том, как держать себя на совещании, главным образом, в вопросе о будущем избирательном законе. Изо дня в день я мог следить, по рассказам В. О., как упорно велась
атака с этой стороны, как даже после поражения дворянская группа не потеряла надежды, сделала новые усилия и в конце концов добилась предложенной Таганцевым уступки н7.
В этой борьбе голос Ключевского и его веское слово были далеко не лишними. И это слово было сказано в смысле неблагоприятном дворянским притязаниям — против начала сословности. Возвращаясь к мысли, высказанной на июньской аудиенции кн. С.Н. Трубецким от имени земских деятелей118, Ключевский напоминал, что «заслуги» перед родиной имеет не одно дворянство, что ответственность за упадок его влияния в государстве падает исключительно на него самого и на его неумение воспользоваться всеми полученными льготами. «Да избавит нас Бог от опасности, что в народном воображении восстанет мрачный призрак сословного царя» — таково было, по рассказам Ключевского, окончание самой длинной и самой горячей из его речей на петергофских совещаниях119. В ту пору эти речи имели все шансы быть выслушанными и принятыми во внимание. В другом месте я имел случай указать, что фонды дворянства в «сферах» стояли тогда крайне не высоко 12°.
Со времени июльских свиданий мои сношения с Ключевским уже не прерывались до самой его смерти. С радостью и с нравственным удовлетворением я видел, что все сочувствие свое В.О. отдал той политической группе, в рядах которой я имею честь стоять. Правда, в шутливых разговорах с друзьями Ключевский оговаривался, что по некоторым вопросам он «левее к.д.». В это время как раз подготовлялся тот третий том «Курса», в котором это настроение обнаружилось очень явственно и из которого я приводил соответственные цитаты.
В печати уже упоминалось об активных выступлениях В. О. в качестве члена партии народной свободы121. Интересно отметить, что первый опыт таких выступлений В.О. произвел в той же, близко ему известной среде — жителей Сергиева Посада122. Разумеется, «партийную» принадлежность Ключевского надо понимать со всеми оговорками, необходимыми, когда речь идет о такой самостоятельной и оригинальной личности. Лично со мной В.О. никогда не говорил о своей принадлежности к партии, и я сам никогда не затрагивал этого вопроса. Но мы оба чувствовали, что между нами установилось какое-то новое взаимное общение и понимание. И всякий раз, как, приезжая в Москву, я улучал минуту для посещения Житной улицы, Ключевский жадно выспрашивал меня о последних политических новостях, об общем политическом положении, о лицах и перспективах, в особенности о перспективах.
В таком роде было и наше последнее свидание, в ноябре прошлого года, когда я приехал на похороны Муромцева123. Через неделю после этого свидания Ключевскому сделали операцию, уложившую его на смертный одр124.
Быть может, это была иллюзия редких свиданий, но я должен сказать, что во время этих наших политических разговоров я впервые,— действительно впервые за все время тридцатилетних сношений,— почувствовал между нами «связь поколений», без всякой, хотя бы самой малой, примеси «различия поколений». Как профессор, как исследователь и ученый, Ключевский всегда возбуждал во мне это ощущение «различия», подчас мучительное и тем более болезненное, чем теснее становилась связь. Но теперь — быть может, разница возраста и вместе жизненного опыта стала менее заметна, быть может, сам Ключевский подвинулся к нам, к поколению, с которым прожил свои самые яркие годы и которое, в свою очередь, перестало быть «молодым», — как бы то ни было, теперь чувствовалась только «связь» и не чувствовалось «различия». Прибавлю, что эти свидания доставляли мне не только безмерную радость духовного общения с давно близким и дорогим человеком. Смотрясь в этот бездонный ум, я проверял сам себя, по мере того как характеризовал и рассказывал. Тонкая наблюдательность Ключевского как бы предупреждала концы моих характеристик. Он удивительно метко умел поставить вопрос и схватить оттенок, а главную мысль понимал с полуслова.
Говорят, он был пессимистом по отношению к нашему будущему и высказывал это в частных разговорах. В. О. вообще был пессимистом по складу ума и притом крайне чувствительно реагировал на повороты политических событий, тем более, что сам не участвовал в их подготовке, а воспринимал их как совершившиеся факты. Быть может, в одну из мрачных минут нашего недавнего прошлого он и высказывал мрачные мысли и отказывался верить в будущее. Но в основе, при всей усталости души на жизненном закате, его мысль, его чувство оставались здоровыми. Пессимизм Ключевского был пессимизмом очень умного и проницательного человека, а не патологическим настроением неврастеника и не брюзжаньем старика. И именно как очень умный и проницательный человек, как эволюционист, он при всей недоверчивости к сознательной общественной деятельности слишком хорошо знал, что стихия сама работает для лучшего будущего. А в стихию он так же крепко верил, как не верил в близорукие людские расчеты. Напомню его неоднократные указания, что ведь и крестьянским освобождением
Россия обязана не столько работе сознательной политической мысли или предусмотрительной уступчивости власти, сколько слепой, стихийной необходимости. В личных беседах, в самые мрачные моменты реакции, я положительно никогда не улавливал ноты уныния в моем собеседнике. А теперь не нужно было даже моих рассказов, чтобы такой опытный наблюдатель общественной психологии, как Ключевский, почувствовал, что чтобы ни случилось дальше, но мертвая точка уже оставлена позади.
Я не могу не кончить этой статьи еще одной фактической справкой,— так она гармонирует с главной мыслью самой статьи. Уже в самые последние месяцы жизни, когда исход болезни рисовался все в более мрачных чертах, В. О. отозвался на просьбы друзей откликнуться в печати на пятидесятилетний юбилей крестьянского освобождения. Любимая тема задела Ключевского. Он принялся работать и писать. Задуманная статья была уже написана, хотя и не поспела к юбилейному сроку125. Таким образом, как будто нарочно, последняя мысль историка сосредоточилась на том же предмете, который служил нервом всей его жизненной работы. И юбилейный год крестьянского освобождения получил особое, символическое, значение в итоге этой работы, подведенном в этот год смертью. Полвека гражданской свободы — полвека нового, пятого периода русской истории,— это ведь были и полвека собственной сознательной жизни покойного. Историк видел и признал смысл занимающейся зари новой жизни родного народа. И заря осветила его собственную, кончавшуюся жизнь новым, неожиданным, проникновенным светом, в котором гармонически улеглось рядом противоречивое, разнообразное и сложное. Конец и начало жизни слились в одном органическом единстве: единстве детского инстинкта, юношеского чувства, зрелого научного анализа и глубокой, устоявшейся на закате, политической мудрости.
М.А. ГОЛУБЦОВА
Воспоминания о В.О. Ключевском
Каждый год все новые и новые волны молодежи приходят и разбиваются у ног моих; а я, как старая прибрежная ива, гляжусь и отражаюсь в их водах.
Ключевский
Прошло три года, как не стало Ключевского, и новые волны молодежи уже не уносят с собой из высшей школы живого отражения историка-художника; но по всем углам великой России рассеяны его ученики, которые знали его еще молодым и до сих пор помнят чуткую тишину его аудитории, не громкую речь с расстановкой, тонкий юмор и блеск его характеристик.
Я застала Василия Осиповича в преклонных годах, слушала его последние лекции — и счастлива этим. С раннего детства я сроднилась с этим именем, так как дома его хорошо знали и любили. Отец мой, теперь уже покойный проф. А. П. Голубцов, был его учеником, а затем сослуживцем по Московской Духовной академии. В 1891 году папа защищал свою магистерскую диссертацию, а Ключевский был один из официальных оппонентов (другой — Е. Е. Голубинский); они познакомились ближе, и В. О. стал бывать у нас в Посаде запросто. Я начинаю хорошо помнить В. О. только с 1900 года, с гимназического возраста.
Ярко встает в памяти такая сценка:
Как-то раз на Пасхе пришел к нам В. О.; он сидел с папой в зале; меня вытащили поздороваться. «Христос воскресе!» Похристосовались. Мне только что подарили тогда целую коробку шоколадных яичек; В. О. выпросил одно и хотел снова со мной похристосоваться, но я отказалась со всей бесцеремонностью 11-летней девочки. «Первая женщина, которая отказалась меня поцеловать!» — сказал, смеясь, В.О. папе.
В. О. любил и умел разговаривать с детьми и подростками: вечно шутил, рассказывал смешные вещи, уверял меня, напр., что у одного известного историка два парика: один с короткими волосами,
другой с более длинными; первый он носит с 1-го по 15-е число, а второй с 15-го по 30-е каждого месяца: «ведь волоса растут». Моей маме1, когда она была подростком, он говорил, катаясь по Тарбеевскому озеру: «Смотрите, барышня, не умывайтесь слишком часто: видите, весло постоянно умывается, а какое черное!»
Василий Осипович приезжал в Посад в понедельник утром и оставался на вторник; в эти дни у него были лекции в Академии. Останавливался он всегда в Старой Лаврской гостинице, № 32, где очень хорошо изучили его вкусы за 35 лет; номерок был, по словам папы, довольно скромный, чуть ли не за 75 к.
Ключевский читал русскую гражданскую историю, если не ошибаюсь, I и II курсам, но к нему сходилась чуть не вся Академия, так что читавшие с ним одновременно профессора жаловались на пустоту своих аудиторий. В требованиях к студентам В. О. был довольно строг: получить у него на семестр или кандидатском полный балл (5) было не легко, а его отзывы иногда бывали очень язвительны; одному студенту, списавшему целиком с его же курса, Ключевский написал: «В сочинении г. № . нет своих мыслей и чужих, рассказанных своими словами». И все-таки было много охотников писать у него кандидатские сочинения.
После лекции, пообедавши в гостинице, В. О. отправлялся гулять по Посаду, забредая в самые глухие углы. Рассказывали про него, что однажды он засмотрелся на ребятишек, катавшихся на санках с горы на Штатной улице, и напросился к ним; они посадили его на облучок и, кажется, свалили профессора в сугроб. Он остался доволен, сходил к Когтеву в магазин за конфетами и оделил ребят. Нередко, возвращаясь домой из гимназии, мы, гимназистки, встречали Ключевского: идет, бывало, своей торопливой неровной походкой, в полураспахнутой поношенной шубе, раскланиваясь со встречающимися студентами.
Иногда к В. О. приходили в гости его коллеги, профессора; в таких случаях он заказывал небольшой графин чистой водки, селедочку, огурцов, потом появлялась белуга, но вообще он был очень бережлив. Друзья у В. О. бывали весьма оригинальные. Одно время у него часто можно было застать помощника академического библиотекаря, иеромонаха Рафаила2, про которого студенты сложили такие стихи:
Наш Рафаил за клеем Всю жизнь свою провел, Под старость на селедке Настойку изобрел
И хвалится: «Чудесна Настоечка моя!» У всякого монаха Фантазия своя!
Большой оригинал и очень добрый (у него в келье постоянно жили племянники., семинаристы,— «орлы», как он их звал), о. Рафаил любил похвастаться своей ученостью и былою красотой; но он знал ученые труды только по названиям и был на редкость некрасив. Папа передавал, что любопытно было видеть друзей вместе. Ключевский вечно шутил над о. Рафаилом и особенно любил спрашивать его, почему тот не женился. «Да знаешь, брат (они были на “ты”), как кончил семинарию, так к нам невест, невест, страсть. А я, бывало, убегу в огород, лягу меж гряд, да и лежу, а меня-то ищут. Я ведь тогда красив был ». — «Следы былой красоты и теперь замены»,— соглашается В. О.
По вечерам В. О. часто отправлялся в гости к сослуживцам; он редко играл в карты, неохотно и довольно плохо. Когда он был помоложе, а профессорство жило дружнее и проще, иногда устраивались катанья и прогулки, в которых и В. О. принимал деятельное участие.
Я этих времен не застала и ни разу не видала Ключевского в Посаде в большом обществе. Дома у нас чаще всего он бывал один, иногда с 2-3 профессорами, и я живо помню эти вечера. Папа очень любил и уважал В. О. и всегда немножко волновался, ожидая его, что меня, помню, удивляло: я тогда еще не понимала, что такое Ключевский. Я очень любила его слушать и с великой досадой уходила, когда в самом интересном месте меня отсылали «помогать маме». «Ну, позвольте ей посидеть, Александр Петрович»,— бывало, скажет В. О., и я останусь.
Эти вечерние визиты иногда затягивались далеко за полночь; мама, уставши за день, уходила отдохнуть, а папа и В. О. все сидели за закуской, перебирая академические дела или просто беседуя. Как сейчас вижу его худую, длинную фигуру в черном поношенном сюртуке, немного сгорбленную, редкие седые волосы и небольшие глазки в очках с серебряной оправой. Как, бывало, заговорит, приподнимется и встанет в свою любимую позу, опершись одною рукою на стол, а другою поглаживая свою реденькую бородку, откуда что возьмется: внимательные, удивительно умные и немножко с хитрым огоньком глаза, высокий лоб с прядью непокорных седых волос, которую он при разговор нетерпеливым жестом откидывал назад, характерные живые морщинки на лице, непередаваемая мимика
всей фигуры — и перед вами тот Ключевский, которого с замиранием слушала двухтысячная аудитория.
В тесном семейном кругу В. О. держался очень просто, как хороший знакомый, был удивительно интересным и остроумным собеседником. Несколько лет спустя мне пришлось видеть В. О. в обществе московских историков; меня поразило тогда то крайнее почтение, которым он был здесь окружен; вероятно, это обстоятельство, да и многолюдство, его стесняло, но только В. О. был совсем не тот, каким я привыкла его видеть у себя в Посаде.
Вспоминал иногда Ключевский свои молодые годы, когда он студентом слушал лекции Грановского и Соловьева, и по окончании Университета, когда он ютился где-то под крышей на 6-м этаже. Однажды туда запыхавшись вошел его патрон проф. С. М. Соловьев прямо с заседания Совета и поздравил его с оставлением при Университете и со стипендией.
Вскоре молодого ученого пригласили читать в Академии русскую историю, и он, тогда скромный юноша, трусил перед первой лекцией и робко являлся с визитом к заслуженным профессорам.
Особенно часто бывал у нас В. О. в 1906 году. Это было тревожное время; каждый день приносил неожиданности. В Академии происходили события, разделившие корпорацию на две половины, и наступал печальный период, когда корпорация потеряла вольно или невольно многих из своих членов, в том числе самого Ключевского.
По академическим делам папа нередко виделся с В. О., чаще всего у нас дома. Наскоро выучивши свои уроки, я садилась в свой любимый угол, а В. О., постоянно приподнимаясь и прохаживаясь, уморительно рассказывал о своей поездке в Царское Село в июле 1905 года, куда он был вызван в числе немногих на заседания известного комитета. Некоторые сценки, разговоры передавал изумительно. Из Петербурга ехало их для представления Государю несколько человек; Ключевский в роскошном вагон специально поданного им поезда чувствовал себя неловко, как будто совсем затерялся среди блестящих сановников в звездах и лентах. Дорогой заговорил с ним какой-то почтенный адмирал; адмирал настаивал на опасности конституций и вреде революции. «Мы пережили все революции».— «Адмирал, а сколько же вам столетий?» — осведомлялся историк. «Все они были кровавые, у нас будет то же самое, это общее правило».— «Пора нам делать исключения, ваше сиятельство».
В Царском Селе великого историка возили в карете, требовали от него соблюдения этикета, но, кажется, в этом отношении остава
лось желать многого. Даже представляться Государю Ключевский поехал в костюме с изъяном: прожег себе папиросой дырочку на колене; там уж на него рукой махнули: «Ну, поезжайте, хоть с дырочкой». Рассказывал В. О., что выступал с двумя речами и произвел впечатление.
Тогда же узнал он, что для Высочайших особ было сделано полное издание его лекций чуть ли не 25 экземпляров, из которых автор не получил ни одного. — Приходилось ему там разговаривать и о Думе, которая скоро должна была собраться. О некоторых членах Государственного совета в их отношении к первой Думе Ключевский выразился так: «Они хотят, чтобы Дума была похожа на кошку, которой наступили на хвост, и смотрят, как она будет мяукать».
В конце февраля и в марте 1906 года у нас в Посаде всех занимали выборы в первую Думу, шла агитация. Ключевскому очень хотелось попасть в депутаты, и так как в Москве он не надеялся пройти, то решил баллотироваться по месту службы у Троицы, и поэтому чаще бывал здесь. 7-го марта в городской думе было предвыборное собрание, где В. О. выступал с речью от кадетов и, говорят, довольно неудачной. Выборы состоялись 11-го марта, Ключевский не был избран; прошли октябристы — проф. В. А. Соколов3 и богатый лесопромышленник С. С. Шариков4. Выборы, однако, были кассированы, но и на вторичных Ключевский не был избран вместе с В. А. Соколовым; В. О-чу было, вероятно, очень досадно: ему не хватало каких-то несчастных 2-3 голосов, да из них чуть ли не 2 были «сомнительные»: на одной записке стояло «Клювский» — вместо Ключевский. Прошли «чугунолитейники» — октябристы: Шариков и Макеев. Какая была тогда «платформа» у историка, я не знаю; он себя звал диким, «ни к Богу ни к черту»; а когда раз в разгар борьбы папа заметил ему, что одна посадская дама, супруга одного его политического противника, наверное уж знает, куда его отнести, он ответил: «Ну, и пусть знает; конечно, к черту. Но ведь они забыли, что Бог-то всегда со мной, а черт-то только вывеска. Вот мы и надуем добрых людей». Однако надуть не удалось.
С весной 1906 года у меня связано такое воспоминание. Как-то в половине марта шла я с подругой из гимназии; книги мои были связаны тоненьким истрепанным ремешком, как это полагается в старших классах. Я их все качала; но вдруг пряжка не выдержала, и около Новой Лаврской гостиницы все полетело на тротуар: тетради, ручки, книги,— едва-едва не в воду. Присела на корточки, подбираю, а моя подруга хохочет. В этот момент подходит Ключевский, здоровается с ней и говорит мне: «А это кто? что это с вами, М. А.?
Давайте я вам помогу». К моему смущению и великой радости проходящих студентов, садится на корточки и начинает подбирать мои книги. Кое-как собрали, В. О. их связал, взял подмышку и говорит: «Ну, я вас пойду провожать. Можно?» Пошли. В.О. всю дорогу шутил и острил, спрашивал, чем я теперь занята. «Да вот пишу сочинение по истории».— «На какую тему?» — «Византийское влияние в древней Руси». В.О. трагически схватился за голову. «И вы пишете?» — «Пишу, конечно. Вот вы скажите-ка мне, как вы смотрите на византийское влияние, В. О.?» Посмотрел на меня сбоку, лукаво прищурился и говорит: «Была на Руси кислая капуста; пришли греки, в феврале и марте помазали ее постным маслом, с тех пор я капусту не люблю».
Мы подошли к закрытому шлагбауму железной дороги... «Унизиться или не унижаться?» — размышлял В.О. «Ну, уж унижусь»,— и нагнулся. Проводив меня до дому, В.О. хотел проститься, но я уговорила его зайти к нам. «Ведь не поверит же папа, что меня провожал Ключевский».— «Ну, хорошо, только чтобы на столе ничего не было». Ему накрыли на рояли, и он все мне грозился; пробыл тогда сравнительно недолго, «только доставил по принадлежности М.А., которую подобрал на улице». Был со мною очень ласков и все поминал недавно скончавшуюся свою воспитанницу Лизу, которую очень любил. Она жила у них с ранних лет, вышла замуж против их воли и умерла через год от чахотки.
В половине апреля 1906 года я видела Ключевского у нас дома в последний раз; на следующий год я поступила на курсы, уехала в Москву, и он заходил без меня. В тот вечер он был очень в ударе; без конца смешил нас рассказами. Вспоминал, как он участвовал в известных заседаниях Комитета министров в 1904 и 1905 годах и не раз попадал впросак, благодаря своему неведению. «Однажды в антракте сижу это я в амбразуре окна, пью чаек, болтаю ногами. Подходит какой-то моложавый человек в форме, заговаривает; я ему отвечаю так небрежно. В это время подошедший академик Никитин8 говорит мне: «Пойдемте, В.О., пора». «Куда нам торопиться, еще министр не прошел» и «Тот смущенно толкает меня в бок; оказывается, это сам министр со мной разговаривал». Когда В. О. пригласили в предсоборную комиссию, он два раза отказывался и очень упорно. «Что я туда поеду? Им ведь только мой ученый ярлык нужен, а там под этой вывеской сделают свое».
В тот же вечер В. О. рассказывал о своей заграничной поездке с великим князем Цесаревичем Георгием, которому он читал русскую историю в Аббас-Тумане6. Дело было в Швейцарии, но где
именно — не помню; поднималась вся блестящая компания в горы. «И дали мне в дамы старую-престарую фрейлину, всю желтую. Я обиделся. Ну, думаю, отомщу. Взобрались на вершину; над самым обрывом рос цветок, но нужно было чуть-чуть спуститься, чтобы его достать. Никто не заметил, как я спустился, и только, когда висел над пропастью, все застыли от ужаса; даже моя дама побелела, и стала красивее. А я сорвал эдельвейс и преподнес ей. На обратной дороге все меня окружили, и уж самые молодые барышни шли со мной».
В 1907 г. Ключевский перестал читать в Академии, и несмотря на старания группы профессоров, его не удалось вернуть. Много тогда было тревоги; в корпорации произошел разрыв, студенты волновались; папа приходил с советов расстроенный до последней степени, и все это тяжело ложилось на его уже больное сердце.
Но и вышедши из Академии, Ключевский не порывал с ней связи; многие наши профессора бывали у него, а при встречах с папой в училище Живописи, Ваяния и Зодчества, где они оба читали, В. О. всегда расспрашивал об академических новостях. Иногда они встречались в так называемых «Катакомбах» на Тверской (погреб Автандилова). Папа ему жаловался на безвременье. «Низы против верхов. Это для меня, как историка, очень интересно», говаривал В.О. Как-то раз академические профессора пригласили В.О. на обед в «Прагу», который почему-то решили дать уходившему своему сослуживцу, из очень молодых и ничем не заявившему себя. В. О., любитель всяких обедов в хорошей компании, приехал. Подошло время тостов, от Ключевского ждали речи и все его толкали. Наконец, он позвонил. «Ключевский говорит...» стало тихо, и все головы повернулись в его сторону. В. О., не вставая, наклонился к виновнику торжества и шепотом сказал ему: «Когда вы прославитесь, я напишу ваше житие».
День своего юбилея, 6-го декабря 1909 года, Василий Осипович провел в посаде, вероятно, избегая празднования; на другой день вместе с сыном и несколькими профессорами он был у нас дома в последний раз.
С 1907 г. я знаю и помню Ключевского, как профессора, в его московской аудитории. Мне очень хотелось его слышать в университете, а в 1907-8 г. был период, когда лекции посещались не только студентами, но и учащимися других высших учебных заведений: контроля вовсе не существовало, и я в числе многих курсисток несколько раз имела счастье слышать В. О. с университетской кафедры.
Как сейчас помню эти часы, когда, бывало, в субботу около 12 час. богословская аудитория (№ 1) начинала наполняться оживленной и пестрой толпой, пришедшей «на Ключевского»: студенты разных факультетов, курсистки, даже священники, офицеры заливали галереи, лестницы аудитории, на эстраде было тесно; и только разве люстры не были заняты: сидели высоко на окнах, на гармониях отопления. В аудитории вмещалось наверное до 2000 человек. У публики было самое веселое, студенчески-беззаботное настроение; несмотря на тесноту и духоту, сыпались шутки, остроты, с верха галереи летели объявления; на эстраде какой-то шутник затянул было песню:
Из страны, страны далекой, С Волги матушки широкой, Не для славного труда, Ради вольности веселой Собралися мы сюда 7.
Хохот, свист, подхваченная песня,— ничего не разберешь.
Звонок. Аудитория стихает; к кафедре по эстраде протискивается служитель, пробегает шепот: «Сам идет». Сгорбившись, на ходу кланяясь расступающейся толпе, бочком пробирается Василий Осипович. Аудитория на минуту замолкает. Ключевский показывается на кафедре, и как-то неожиданно громки кажутся аплодисменты, дружные, веселые, упряую не желающие прекратиться. В.О. стоить, кланяется, просить замолчать, неторопливо вытаскивает из боковых карманов какие-то листочки, и среди внезапно наступившей тишины начинает лекцию очень тихо, так что приходится прислушиваться к первьпм фразам. Но скоро голос его крепнет, и он ведет слушателей, куда хочет. Только здесь, среди напряженной тишины двухтысячной аудитории, я ясно поняла, что такое Ключевский, и почему с таким глубоким почтением к нему относились посадские и московские профессора.
В.О. всегда великолепно знал свою аудиторию — уровень ее знаний, интересов и симпатий, и умел этим пользоваться. Строго продуманная схема его построений, яркость образов, меткость сравнений,— все это гипнотизировало слушателей; не было сил ему сопротивляться, и властью художник# он уводил за собой в мир прошлого, где все тогда казалось близкие^ и родным.
Иногда, излагая какой-нибудь сложнкш вопрос по экономической или социальной истории, Ключевскик становился сух, говорил сжато, вдавался в анализ мелочей; ум на чинал уставать от напря
женного внимания, и Ключевский, заметив утомление слушателей, неожиданно вставлял меткое замечание или анекдот, и через минуту аудитория дрожала от смеха и аплодисментов, а профессор деловито переходил к очередному вопросу, и в заключение говорил: «Итак, господа, запомните формулу...» Идет, например, речь о взаимоотношении земских старост и воевод в XVI веке. Ключевский подробно и деловито знакомит аудиторию с запутанным механизмом их отношений, цитирует документы и дает яркую бытовую картинку, как староста «лаял» воеводу за то, что последний слишком усердно «кормился» от «населения». «Это называлось тогда: Старостин лай воеводе, на наш язык: протест местного самоуправления против злоупотреблений центрального правительства».— В.О. любил пользоваться законом контраста; тезис и антитезис — его любимые приемы. Дикция у него была очень своеобразная, с расстановками, убедительностью интонаций и непередаваемой мимикой; говорил он негромко, но очень явственно.
Особенно хороши были у него характеристики; в университете я слышала характеристику Петра Великого и Карла XII, а впоследствии почти всех деятелей XVIII в. На наших глазах оживали кости сухие, подбирались сустав к суставу, одевались в плоть и кровь, получали дыхание жизни; это были как будто его хорошие знакомые: и «тишайший» царь Алексей, и хорошая русская барыня XVIII в. императрица Елизавета, которая «умела грешить, но умела и каяться», и многие, многие другие.
В аудитории напряженная тишина, разве только невольно прорвется взрыв веселого смеха или восторженных аплодисментов. После таких лекций студенчество устраивало историку бурную овацию, а он старался поскорее откланяться и исчезнуть с кафедры; уходил физически усталый, но бодрый; он любил свою аудиторию, волновался перед лекцией, жил с нею и незаметно вводил в мир прошлого все новые ряды своих учеников. И теперь, когда я вспоминаю эти лекции В. О., невольно приходят на ум его слова из ответной речи студенчеству в день 30-летняго юбилее: «Каждый год все новые и новые волны молодежи приходят и разбиваются у ног моих, а я, как старая прибрежная ива, гляжусь и отражаюсь в их водах». В этих словах столько искреннего чувства, столько грусти...
В университете я слушала Ключевского недолго; скоро эти «публичные» лекции были прекращены администрацией и вполне основательно: «на Ключевского» стала собираться такая масса народу, что в богословской аудитории нечем было дышать. В качестве курьеза В. О. рассказывал в профессорской, что чуть не раздавил
барышню, севшую на ступеньку его кафедры; под конец он буквально задыхался и просил очистить эстраду.
Раза два мне пришлось видеть В. О. в качестве оппонента на диспутах Ю. В. Готье8 и М. М. Богословского9, преемника В. О. по обеим кафедрам (в Академии и в Университете). Как всегда, он поражал публику своей находчивостью, неожиданностью и дерзостью сравнений, и его возражения всегда встречались с особым интересом.
Я хорошо помню Василия Осиповича в другой его московской аудитории — в училище Живописи, Ваяния и Зодчества. Мне посчастливилось частным образом проникнуть туда по просьбе папы, проф. А. П. Голубцова, который читал там лекции по истории христианского искусства. Администрация училища поставила условием разрешение самого В. О., который на мою просьбу смеясь сказал: «И охота вам тащиться через всю Москву слушать такого старика»! Он читал там в 1908-9 уч. г. по пятницам от 1-3 час. курс русской истории XVIII в., а в 1910 г. начал было удельный период, но не довел до конца: болезнь его подточила, и он слег в ноябре 1910 г., чтобы уже более не вставать...
Это был его последний курс: он уже давно не читал в Академии (с 1907 г.) и в Университете (с 1908 г.); оставался в училище Живописи, которое любил, может быть, отчасти потому, что здесь ему легче было читать, не напрягая особенно слабевшие силы. В марте 1909 г. внезапно скончалась его супруга Анисья Михайловна, и эта потеря тяжело легла на здоровье историка, к тому же в это время он был очень занят печатанием своего курса. В училище Живописи, Ваяния и Зодчества Василий Осипович читал в очень своеобразной обстановке. Представьте себе круглую залу-ротонду богатого барского дома конца XVIII в., окруженного легендами о его хозяевах-масонах; по стенам на пьедесталах вазы чистого мрамора, гипсовые в натуральную величину копии античных образцов: «Мальчик, метающий диск», «Лаокоон»; сверху глядят старые портреты имп. Александра I и других деятелей прошедшего столетия. Глубокие амбразуры окон, завешанные тяжелыми портьерами, старинные кресла в простенках. И публика (смешанная: архитектора, художники и скульпторы) была совсем иная, чем в университете, держала себя очень свободно, и вовсе не чувствовалось той атмосферы крайнего уважения, которым был окружен Ключевский на Моховой. Насколько я могу судить, Василий Осипович читал в училище несколько сокращенный курс русской истории, сообразуясь с аудиторией; он был здесь художник среди художников, обращая больше внимания на бытовую окраску, приносил эстампы,
портреты. Перед лекцией обычно выспрашивал содержание предыдущей и при этом делал уморительные добавления к неумелому или неверному рассказу слушателей. Потом приступал к лекции. Здесь предо мною прошел во весь рост Петр Великий и целый ряд его преемников, так мастерски очерченных историком; забывалось время, и один образ за другим вставали из глубины веков.
В сентябре 1910 г. Ключевский начал курс по удельному периоду, но прочел всего несколько лекций и заболел. Живо встает в памяти последняя лекция Василия Осиповича 29-го октября 1910 года. Народу было довольно много, забрались заранее; за длинными чертежными столами, в амбразурах окон, на пьедесталах статуй расположились художники в своих блузах и бархатных курточках, многие в фартуках, замазанных краской. Октябрьские сумерки уже давали себя знать: сквозь запыленные окна, наполовину скрытые портьерами, скудно проникал полусвет; тяжело громыхая, проносились трамваи, и дрожал старый дом. В половине второго пришел Ключевский; раскланиваясь на аплодисменты, он выдвинул на средину актовой залы стоявший под образом столик наподобие аналоя, разложил на нем свой портфель, вытащил черную клеенчатую тетрадь, с которой иногда справлялся.
Потом подошел к публике: «Я что-то позабыл, господа, о чем мы прошлый раз говорили», и стоя, руками опершись на стол, с чуть заметной улыбкой слушал, что робко говорил ему один из впереди сидевших слушателей. Эту позу довольно удачно схватил художник Пастернак10 в своем портрете Ключевского (находящемся теперь в залах Московского Литературно-Художественного Кружка), писанном в этой самой зал, но несколько раньше. Читал он о колонизации Северо-восточного края, давал характеристику великоросса; это, должно быть, одна из лучших по художественности его лекций. С неподражаемым мастерством мимики и интонаций он привел массу пословиц, поговорок великоросса, перебирая календарь. Но это стоило ему большого напряжения сил, голоса не хватало; и после лекции он едва говорил от усталости, беспокоился — слышно ли его. Тут я его видела в последний раз живым; он курил папироску и был так слаб и измучен, как будто совсем другой человек. Это была его последняя в жизни лекция: вскоре он слег в постель, а 14-го ноября уже состоялась первая операция (камни в пузыре), которую делал проф. Спижарный11. Она сошла благополучно, но В. О-чу пришлось лежать очень долго; он уже больше не вставал. Но когда ему становилось лучше, продолжал шутить и развлекал весь персонал (он лежал в больниц д-ра Стороженко
на Якиманке). Иногда он занимался, готовя к печати V том своего курса; считал своим долгом довести его до конца — но не пришлось. К нему почти никого не пускали, кроме самых близких.
Около Пасхи В. О-чу стало хуже; решено было сделать вторую операцию, и она сошла благополучно, но сердце изменило. С 1-го мая силы начали быстро падать, совершалось медленное самоотравление организма, но никто, даже его близкие, не ожидали конца так скоро. 12-го мая в 3 ч. 5 м. пополудни Василий Осипович скончался.
Я узнала об этом часов в 6 вечера и никак не могла поверить, что его уже нет в живых. Был тихий-тихий майский вечер, когда собралось несколько человек на первую панихиду на Житную. Ждали духовенство; в садике цвели яблони, их белые лепестки устилали еще сырую землю; пахло сиренью. А Василий Осипович лежал, покрытый простыней, сильно похудевший, спокойный и такой далекий от мира... Началась панихида; народа было немного, тускло горели свечи в клубах фимиама. Прощаясь, я поцеловала его холодный высокий лоб и поняла, что он ушел навсегда и постиг то, чего мы еще незнаем. Чувство бесконечной сиротливости охватило меня. Те же грустные мысли были на лицах многих и многих, проникших в университетскую церковь на отпевание. Был жаркий, почти летний день, когда мы шли за его гробом; профессора и студенты несли свою гордость до самой могилы в Донском монастырь, рядом с Анисьей Михайловной. Были речи. Последний раз пропели «вечную память»; через полчаса вырос холмик свежей земли и крест с надписью: «Василий Осипович Ключевский». Начали расходиться. За зубчатыми стенами снова стало безлюдно и тихо, как всегда... «Вечный покой»...
27 апреля 1914 г.
Москва.
Е. В. БАРСОВ
В. О. Ключевский — как председатель Общества
Пред заседанием, посвящаемом полугодовой памяти приснопамятного Василия Осиповича, мы почтили его церковным поминовением, что вполне отвечает его нравственному образу. Ведь еще в раннем детстве он стоял в алтаре и видел службу своего отца, воспитался в духовных школах; уже профессором университета читал часы пред литургией; уже в преклонных летах ходил в храм Божий за тем, чтобы обновить и возгреть в себе религиозные впечатления своей юности, а, провожая на тот свет свою супругу1, о погребальных песнях сказал, что в них много глубокой психологии. Помянув его сердцем, по церковному, мы приблизили дух его к себе и сами стали к нему ближе. И, быть может, это уже последние часы в нашей жизни, часы сердечного, непосредственного и наиболее осязательного единения нашего Общества со своим почившим председателем.
Теперь нам надлежит почтить его нашими умами и воспоминаниями. Жизнь есть непрерывная цепь впечатлений воспринимаемых и производимых, а потому оценка лица современниками, особенно же оценка великого человека, а тем более именитого историка, всегда может отражать в себе условности и односторонности; истинная оценка его принадлежит векам грядущим, когда глубже и шире разовьется в народе историческое самосознание и когда потомству предстанет его нравственный образ в одних лишь высоких неизменных идеальных очертаниях.
Ответственность пред грядущей историей нравственно обязывает и наше Общество, по мере сил и разумения, почтить достойно память того, кто много лет был его действительным членом и десять лет руководил им в качестве его председателя. Уже в качестве действительного члена, в председательство С.М. Соловьева2,
Василий Осипович подал в Общество свое мнение, коим приглашал заявить протест против сооружения около Архива министерства иностранных дел и Румянцевского музея опасного для них здания в пожарном отношении; и когда, по справке, директор Архива просил Общество выступить с печатным протестом, председатель С.М. Соловьев заявил, что достаточно напечатать лишь мнение такого члена, как Ключевский, чтобы оно имело полную свою силу в административных сферах.
Десять же лет председательства Василия Осиповича представляют целую эпоху в истории нашего Общества, эпоху многоплодную и незабвенную.
Как председатель, он выполнял заветы своего учителя, также бывшего председателем Общества, С.М. Соловьева.
«С гордостью сажусь на кресло председателя того Общества,— говорил Соловьев, — с трудами которого связано развитие исторической науки за все текущее столетие; готов быть руководителем Общества, к составу которого принадлежал Карамзин». При этом высказал, в числе первых, желание, чтобы Общество покончило начатое при его предшественнике составление устава и затем выразил надежду, что члены Общества оживят заседания учеными беседами и не откажут сообщать отделы из своих трудов, назначаемых к печати, требуя замечаний ученого собрания столь иногда нужных и молодому человеку, и старику.
Но все эти пожелания и чаяния остались в области мечтаний, пока не стал руководителем Общества и затем фактическим его председателем покойный Василий Осипович.
Ему именно Общество обязано прежде всего тем уставом, по которому оно живет и действует доныне. За составление его принялся было действительный член Нил Александрович Попов3. Он составил проект, в который внес §§ и правила из разных ученых Обществ и не только археологических и исторических, но и географических и естественных. Но этот проект был решительно отклонен Василием Осиповичем как совершенно не применимый к составу нашего Общества. Устав ученого Общества, по его мнению, должен быть краток, ясен и представлять лишь общие формальные положения; внутренняя же организация должна принадлежать самому Обществу; излишняя регламентация здесь менее всего уместна, она может плодить лишь нарушения и порождать лишь неприятности. Старый устав нашего Общества в этом отношении прекрасен; стоит только выкинуть статьи устаревшие, вроде того, что члены должны сидеть в порядке хронологического избрания,
начиная от правой руки председателя; что члены должны быть хорошего благоповедения, что никто из них не может выехать за город без разрешения председателя и т. п. Стоит изменить некоторые статьи соответственно новым требованиям времени,— и старый устав будет действовать, как собственный устав Общества истории и древностей Российских, не нуждающейся ни в каких образцах других ученых учреждений. В нашем Обществе нужно пробудить и поднять научный интерес, а этого не может дать никакая регламентация устава.
Какие же изменения внес в старый устав Василий Осипович? Прежде, в какое заседание новые члены предлагались, в том же заседании они и избирались. По новому уставу выборы могут происходить лишь в следующее затем заседание.
Для избрания новых членов прежде было нужно присутствие 30 членов; теперь же это присутствие ограничено 10 членами.
Прежде штат действительных членов состоял из 30 кресел; по новому уставу число их, вместе с иностранцами, не должно превышать более ста.
Почетные члены прежде трактовались бесправными, как и соревнователи. Но что за почет, говорил Василий Осипович, если почетные члены не имеют в собраниях прав действительных членов. По новому уставу им предоставлено и право голоса, и право выбора в должностные лица.
По прежнему уставу председатель был избираем пожизненно, что ставило его в привилегированное и даже начальственное положение по отношению к другим должностным лицам; Василий Осипович настоял, чтобы председатель, как и прочие должностные лица, избираем был только на три года.
Далее, был сделан опыт издавать «Чтения» не в виде периодического журнала, а в виде отдельных книжек Сборников, так что всякий член мог сделаться редактором той или другой книги «Чтений»; но опыт этот оказался неудачным: были изданы только две таких книги и в них не оказалось единства. Поэтому Василий Осипович настоял, чтобы в новом уставе прямо было сказано, что секретарь есть главный и ответственный редактор «Чтений» пред Обществом.
Наконец, он безусловно стоял на том, чтобы все заседания и всегда были закрытыми. «Улице быть здесь не место; а для ученых людей существуют издаваемые Обществом “Чтения”». В этом взгляде он точно следовал мнению своего учителя, Сергея Михайловича Соловьева.
Устав этот был редактирован мною как секретарем, по его указаниям; в собрании же при обсуждении каждой статьи, весь устав в целом был проведен именно им решительно и твердо, и в петербургских сферах не встроишь ни малейших изменений.
До Василия Осиповича заседания Общества носили чисто канцелярский характер; в них читались входящие и исходящие бумаги; читались протоколы со сведениями из тех же бумаг и хозяйственных дел. Заседания не представляли научного интереса, а потому членами посещались неохотно; бывали случаи, когда в заседании присутствовали одни только должностные лица: председатель, секретарь, казначей и актуарий.
Сделавшись председателем, С.М. Соловьев не мог мириться с канцелярским характером заседаний и, как мы сказали, желал придать им строго-научный характер. Но то, чего не удалось достигнуть учителю, осуществил блистательно его ученик, Василий Осипович. Прежде всего он невольно привлекал членов в собрания своими собственными чтениями; ведь совестно каждому быть членом Общества и не послушать чтения Ключевского. Ведь его воспоминания о старых историках — Татищеве и Болтине4 — широко и глубоко захватывали всю русскую историографию. А его речь о Стефане Пермском6 как просветителе целого края, как и речь его о преподобном Сергии6 в Московской духовной академии, совершенно выделяла его из ряда историков, тупо верующих в одно только социально-экономическое начало в истории. Его речь, произнесенная в Обществе об императоре Александре III7, под впечатлением всеобдержного российского горя и под воздействием идеалов своего учителя, превосходит широтою политического миросозерцания и глубиною мыслей все, что было сказано и писано по поводу кончины этого государя самыми умными монархистами. А что касается чтений других членов, то Василий Осипович, согласно завету своего учителя, завел беседы по окончании каждого ученого доклада. Он сам готовился к этим беседам: по поводу объявленного реферата он предварительно наводил нужные справки и обдумывал с своей стороны поставленный вопрос. По поводу одного реферата о дипломатических сношениях России с Востоком Василий Осипович дал такие широкие разъяснения, что референт воскликнул: «Господа! То, что я услышал от председателя, гораздо интереснее того, что я вам доложил!» И нельзя не сказать, что весьма и весьма многие референты чувствовали то же самое, хотя на словах этого не выражали.
Немало, конечно, кроме личного ученого авторитета развитию в собраниях научных интересов содействовало и то дружество,
которое он закрепил в Обществе благодаря своему добродушию, обходительности и хлебосольству. Никакие взаимные неудовольствия и трения в Обществе при нем были невозможны. Полный мир царствовал в Обществе целых 10 лет.
Однажды, когда мы с ним после заседания возвращались за Мос-кву-реку по своим домам, он вдруг внезапно спросил меня: «А что будет с Обществом, если кто-нибудь из нас (должностных лиц) уйдет? » — Догадываясь, что он имеет в виду самого себя, я сказал, что «плохо будет с Обществом, если Вы уйдете; Вы должны послужить до тех пор, пока в Обществе не укрепится заведенный Вами порядок; поддержите завет своего великого учителя».— «Пожалуй,— сказал он,— всем нам надо послужить».
Чрез 10 лет он оставил председательство и увидел, что своим служением он создал в Обществе крепкое предание.
И если бы мы в данную минуту могли слышать от него слово, то, без сомнения, услышали бы только одно: «Стойте и держите предание».
С. С. ГЛАГОЛЕВ
О В. О. Ключевском
Что же смотреть ходили вы?
Ночь с понедельника на вторник проходила. Был тот предрассветный час, когда спящие спят особенно крепко, а беседа добровольно бодрствующих становится особенно откровенной. Ключевский говорил хозяйке дома: «Л. Н-на! одна дама высказывала мне такие истины: “Почему, спрашивала она, вами интересуются? ведь, вы даже не умны, но что-то в вас есть”. Я привез вам давеча вторую часть моего курса русской истории; в моих лекциях, может быть, что-то и было, но это что-то растворилось в книге». Наступила пауза.— «А интересная была дама, которая вам это говорила»,— спросил один из сидевших за столом.— «Как вам сказать? У ней очень маленький нос, а я не люблю дам, для открытия носа у которых требуется снаряжать географические экспедиции».— «У вас ведь своеобразный вкус, В. О.,— сказал другой,— вот вам нравится m-me М., а что в ней хорошего?» — «А мне нравятся именно те, которые никому не нравятся»,— сказал Ключевский. От m-me М. перешли к другой, а потом и к третей. Была общая черта у всех этих дам, черту эту не указывал Ключевский, но ее знали все: все эти дамы были несчастны в семейной жизни, и движимый состраданием Ключевский не только явно симпатизировал им, но и проявлял антипатии к их мужьям. Однако он сам? Неужели он готов был полюбить женщину только за то, что она страдала. Страдание вызывает сострадание, но не любовь. Образ, который любил Ключевский, нашел себе воплощение в литературе. Писателей XX столетий Ключевский не читал и из писателей XIX-го он уделил внимание немногим, но этих немногих он любил и ценил. Он невысоко ставил Толстого, спокойно заявив, что Debacle Зола1 гораздо выше
«Войны и мира». Он отзывался о Достоевском как о неопрятном писателе. Но он любил Тургенева2. «Тургенев, вот — наш (?) писатель»,— говорил он. И среди женских образов Тургенева Лиза Калитина трогала его сердце. И он говорил и вспоминал Пензу, где он учился и где была девушка, которой он переводил Гейне и Гёте, и эта девушка была нежным и хрупким созданием, и Ключевский уехал в Москву уверенный, что она умрет. Но все это слишком сантиментально для Ключевского. «И представьте,— продолжал он,— недавно она была у меня в Москве; у ней взрослая дочь и в ней самой восемь пудов весу».
Нет, горды уста эти, могут они Шутить лишь, лобзать и смеяться; Насмешлива речь их — а сердце в груди Готово от мук разорваться.
Тень несчастной невесты Лаврецкого скользнула по столовой и исчезла, унося с собою заглушённую и осмеянную тоску по идеалу.
«Теперь я ни за кем не ухаживаю,— повествовал Ключевский; — впрочем, недавно в деревне начал было ухаживать за одной деревенской дамой т.е. за бабой. Представьте, некоторый успех был! Мне удалось оказать ей услугу. Она грибы несла и нужно было ей перебраться через воду. Я ей грибы подержал. Она обернулась ко мне, посмотрела на меня ласково, ласково и сказала: “Спасибо, дедушка!”. После этого я решил ухаживать за дамами только с позволения своей жены». Но если он не искушался, то его, по его словам, искушали. В Париже в каком-то публичном месте к нему приступила француженка, искушая его. Что-то съела, что-то выпила, ему пришлось заплатить франка два, потом она приступила к нему уже с очень рискованным предложением. Ключевский отстранил ее и сказал: “Dieu, epouse et police” — Бог, жена и полиция — вот что охраняло его от падений на жизненном пути. А потом и возраст стал служить охранительным началом, в действительности, может быть, он только и был надежною защитою от греха. Проф. X. стал трактовать о дамах как человек, претендующий на успех у них. Ключевский сказал: «В реке купались маленькие дети; в отдалении стоял маленький мальчик. Прохожий спросил: “Кто это купаются — мальчики или девочки?” Мальчик ответил: “А я почем знаю; ведь они без рубашонок”». «Так и нам с вами,— заключил Ключевский,— пора бы различать мужчин и женщин только по платью».
Хозяйка ушла. Речь стала не более откровенною, но более свободною. Один кающийся грешник стал утверждать, что он изменял своей жене. Ключевский сказал: «Это невозможно; вы клевещете на себя». Ключевский стал рассказывать, как принимал участие в переводе камаринского на франко-русский язык. Начало было переведено так:
Ah! tu, fils de chien, kamarinsky paysan.
Продолжение предложил Ключевский:
Очень декольтэ по улиц бежит.
Так проходила ночь и так шла беседа.
Ключевский был изумительно остроумен и находчив, но его рассказы не были экспромтами. Если один из персонажей Шекспира3 на вопрос —
Откуда вы острот таких набрались?
Ответил:
Экспромты — все, от матушки достались,
то нечто подобное мог сказать о себе и Ключевский. Он разрабатывал и варьировал свои рассказы и применительно к обстановке и обстоятельствам порою совершенно менял их мораль.
Его отзывы о людях и оценка им людей менялись. Так, о своем учителе и предшественнике по университету С. М. Соловьеве он отзывался вообще с почтением, но вдруг неожиданно заявил: «Фанфара!» И он вполне повторил то, что публично говорил о Соловьеве, о его манере читать лекции и что все говорилось в похвалу и из всего этого сделал новый вывод, что манера читать у знаменитого историка была рисовкой, позой. Между Ключевским и сыном С. М. Соловьева Владимиром С-чем Соловьевым4 лежало непонимание. Склад души у того и другого был особый, души у того и другого было много, и обе эти души тяготили к свету, и однако они были неродственны. Когда Вл. С. Соловьев стал печатать «Оправдание добра»5, Ключевскому сказали: вот Соловьев говорит, что человек отличается от животного стыдом: у человека есть стыд, а у животного нет. Ключевский сказал: «Врет: у животных есть
стыд; вот — у меня Кудька, ему всегда бывает совестно, когда что не ладно сделает, он подожмет хвост и глядит виновато, а у человека нет стыда: у человека страх». Когда шла речь по поводу статей Соловьева о Пушкине и Лермонтове6, Ключевский сказал: «Соловьев не умет писать». Что хотел сказать этим Ключевский? Читал ли он эти статьи? Он сам писал о Пушкине и о Лермонтове7. Настроение Лермонтова он назвал «грусть» и сблизил с настроением царя Алексея Михайловича. Этого сближения, кажется, никто не понял, и один критик в частной беседе сказал о грусти Ключевского: его грусть грустна. Несомненно, Соловьев и Ключевский подходили к Лермонтову с разных сторон, смотрели на него разными глазами, и понимание одного другому казалось непониманием. Ключевский, впрочем, вообще, кажется, был склонен относиться к философам иронически. Так, о Н.Я. Гроте8, безнадежно искавшему, к какому бы направлению ему примкнуть, Ключевский говорил: «Когда я вижу Грота, мне всегда вспоминается:
Тишь. Безветрие. Недвижно Стоят флюгера.
s, И как ни гадают, никак не добьются,
, В какую бы сторону им повернуться».
Но себя он считал не чуждым философии. Он утверждал, что прочитал «Критику чистого разума» и одну свою беседу с совершенно чуждым философии профессором П. И. Г-м резюмировал так: «Я не понял “Критики чистого разума”, ее прочитав, а он понял ее, не читая».
О своих министрах Ключевский отзывался всегда прилично, но над попечителями обыкновенно иронизировал, особенно над попечителями толстовской школы — великими классиками, не умевшими читать по-латыни. Он рассказывал, как граф К. говорил: «В Священном Писании сказано: de qustibus aut bene, aut nihil». Ключевский рассказывал, что слова Горация respice fiuem для этого попечителя он перевел: никогда не ври. В начале девятисотых годов Ключевский шел против попечителя математика, но это было под посторонними влияниями.
Ключевский редко одобрял людей, но не потому, что искал в них дурных сторон, а потому, что не мог не замечать этих сторон. Он не злословил, тем менее он был способен передать о ближнем какой-нибудь компрометирующей его рассказ друга; нет, он просто характеризировал. В ряду лиц, которых академия канонизовала в своем сознании, может быть, первое место занимает ее ректор
А, В. Горский. Благодарная память академии так идеализировала и стилизировала этот образ, что от него не осталось живого человека, а только нечто просящееся на икону. Ключевский облекал его в плоть и кровь. «Горский, говорил он, был склонен к иронии. Он был у меня на вступительной лекции, где я развивал широкие планы. Прощаясь со мной после лекции, он сказал: “Ну, дай вам Бог выполнить намеченное”, и в его пожелании прозвучала насмешка». «Горский, говорил еще Ключевский, не понимал людей; он предлагал мне заняться описанием рукописей, значит, он не понимал меня». Да, предложить Ключевскому посвятить свои силы описанию рукописей это все равно, что предложить Рафаэлю заняться растиранием красок для облегчения труда суздальских живописцев.
У Ключевского были свои нормы оценки. Он говорил: мужчине неприлично быть красивым, а женщине неприлично быть некрасивой. С внутренней стороны он искал у женщин души и у мужчин ума; он ценил у женщины душу, существование которой у нее отрицал Вейнингер9, и он ценил у мужчины ум, которого по большей части у мужчины гораздо меньше, чем у женщины души.
«Л. Н-на,— говорил Ключевский той даме, которой привозил свои сочинения,— если вы хотите выступать пред аудиторией, то для того, чтобы не смущаться, ненужно питать особенного уважения к публике, но с публикою должно быть серьезным ц наиболее серьезным должно быть, когда говоришь наименее серьезные вещи. Когда для построения вывода требуется фраза: “А так как отцы обыкновенно бывают старше своих детей, то...” то это фразу произносишь не только с серьезным, но даже с нахмуренным видом, как будто мысль, заключающаяся в ней, есть плод долгих умственных усилий».
Ключевский — единственный лектор, его нельзя ни с кем сравнивать, ему можно только удивляться. Чрезвычайно трудно охарактеризовать его. Его нельзя назвать лектором блестящим. В его лекциях не было блеска, огня, пафоса, подъема. Можно ли назвать его оригинальным? Но он как будто даже подчеркивал в себе отсутствие оригинальности. Когда Л.Н. Толстой в высоких сапогах и рабочей блузе входил в гостиную, он тем самым свидетельствовал о себе, что он не таков, как прочие человеки. Ключевский никогда не мог позволить себе этого. Он одевался так, чтобы быть незаметным. Его костюм был скромен, очень скромен, как будто немного поношен, довольно опрятен, но главное — он был незаметен. Говоря языком наших дней: он был защитного цвета. И как лектор, он не прибегал ни к каким искусственным приемам для привлечения внимания.
Фихте10, взойдя однажды на кафедру, затушил горевшие пред ним две свечи, затем зажег их, потом снова затушил и опять зажег. Все это он проделал с серьезным видом и в глубоком молчании и потом заговорил о смене моментов света и мрака. Подобная балаганщина была немыслима для Ключевского. Он был естественным даже тогда, когда не все было благополучно и естественно.
Многие ли знали, что для него нелегко было входить на кафедру в академии. Он читал в самой большой, теперь не существующей аудитории. Студенты сидели в ней справа и слева, середина залы оставалась пустою. Кафедра была приставлена среди залы к стене, прямо против кафедры была входная дверь для профессора. Ключевскому от двери до кафедры нужно было проходить довольно значительное пустое пространство, а у него была боязнь пространства: двигаться, имея перед собой пустоту, было нелегко для этого неробкого человека. Он проходил это пространство ускоренным шагом, который нельзя было назвать бегом, но который не был и нормальной походкой. Наклонив немного голову, часто держась правой рукой за левую пуговицу сюртука, он быстро проскальзывал на кафедру и начинал говорить, поворачивая голову то вправо, то влево к слушателями
Говорил он очень медленно — он немного заикался, но это было неуловимо. Всегда оставался серьезным и спокойным. Характеризовал ли он Петра I, в котором видел человека, наилучшим образом понявшего нужды своего народа и наилучшим образом сумевшего их удовлетворить, или Петра III, в котором он видел шута на троне, он оставался неизменным, он не восторгался человеком и не негодовал на него, он его объяснял.
Так точно дьяк, в приказах поседелый, Спокойно зрит на правых и виновных, Добру и злу внимая равнодушно, Не ведая ни жалости, ни гнева11.
Его лекции никогда не были импровизациями. Каждое слово в них было взвешено, размерено и обдумана форма его произношения. Некоторые слова и даже фразы подчеркивались, и это подчеркивание заменяло собою порою целое рассуждение. Вот Ключевский выясняет развитие идеи царизма. В 1498 году великий князь-дед возложил на великого князя внука шапку и бармы моно-маха. «Подлинность этих царственных украшений,— вставляет Ключевский,— лежит на ответственности тогдашней, московской
археологии». Подчеркнута вся фраза и в ней особенным образом подчеркнуты слова «тогдашней, московской». После этого речь в лекции идет о другом, но отношение лектора к шапке и бармам мономаха ни в ком уже не вызывает сомнений. Вот Ключевский характеризует Петра I, он объясняет, как Петр вышел не похожим на своих предков: хозяин — рабочий, царь — мастеровой. Ключевский заканчивает речь о Петре: «Холодный, но способный к страшным взрывам. Точь-в-точь чугунная пушка его петрозаводской отливки». Это неожиданное сравнение действует на слушателей, как выстрел из пушки, но лектор остается невозмутимым.
Ключевский всю жизнь играл одну роль, и эта роль была его жизнью — роль профессора русской истории. Он оставался профессором и на кафедре, и за чайным столом, и в вагоне. Сам он, по-видимому, склонен был попробовать силы и на иных ролях. Что делать? Гете хотел быть великим скульптором, а Пров Садовский12 хотел сыграть Лира. По-видимому, Ключевский был склонен считать себя дипломатом и практиком, но он не был ни тем, ни другим. Существует мнение о влиятельности его голоса. Это мнение совершенно ошибочно. Невидно влияния его в университете. Из его собственных рассказов, наоборот, открывалось, что предложения его отклонялись. Так это было по вопросу об ученых степенях; кандидатуры, в проведение которых принимал участие он, порою проваливались. Не имел он никакого влияния на дела академии. Он и не выступал здесь с предложениями и проектами. Но его нередко привлекали к защите чего-нибудь или к борьбе с чем-либо. Тогда он действовал. Но в конце концов его деятельность сводилась к подаче голоса. Его рассуждения не могли быть убедительны, потому что он обыкновенно не вполне знал дело или знал его односторонне. Влияния он не имел. Его высоко ценили, но не в советских делах.
Ключевский был профессором. За каждой его лекцией скрывалась большая научная и художественная работа и, пожалуй, нередко последней было больше, чем первой. Ключевский был высоко талантливым ученым работником, и его исследования высоко ценились везде и всеми. Но последние десятилетия он, должно быть, отводил мало времени для кабинетных работ. Раз, когда он читал в академии характеристику царя Алексея, у него на лекции случайно оказался старый и благочестивый Д. Ф. Г-кий, осматривавший аудитории для своих надобностей. Ключевский, симпатизировавший Алексею, говорил о благочестии царя и у него вышло, что царь по праздникам клал поклоны целыми тысячами. Д. Ф-ч. после лекции сказал Ключевскому в профессорской: «Этого
не могло быть; по праздникам поклоны отменяются». Ключевский улыбнулся и сказал: «А это сообщает» и назвал какого-то писателя XVII века. Однако в лекции он никого не цитировал. Говоря о ценах, он всегда предполагал настоящую стоимость серебра в 22 р. за фунт, но достаточно ему было, когда он держал корректуру 1-й части своего курса, посмотреть биржевой отдел в газете за день, чтобы убедиться, что стоимость серебра была 13-15 руб. за фунт, а не 22. В своей характеристике великороссов он произвел январь в первые месяцы за столетия до Петра. Да и самая эта характеристика более красива, чем верна. У него получилось, что великоросс — замкнутый человек, который работает лучше один, чем вместе. Это неверно. По-видимому, великолепно осведомленный в душегреях, кафтанах и этикете прошлых столетий, он был твердо убежден, что форменный фрак есть привилегия исключительно профессоров и что попечитель учебного округа не имеет права его носить. Так он монополизировал для своей профессии одежду чиновников VI и высших классов. Особенно странным представлялось в нем явно обнаруживаемое им непонимание дифференциального тарифа. Он кратко сущность его определил так: «Чем дальше, тем дешевле», и потом из разъяснений его открывалось, что он серьезно полагал, что провоз из Владивостока до Москвы может стоить дешевле, чем провоз из Томска до Москвы. К его сообщениям, рассказам и объяснениям не мешало относиться с осторожностью, потому что он сам, может быть, ошибочно уверенный в некомпетентности собеседников не всегда соблюдал осторожность. Так, он не прочь был поговорить и об алгебре и раз заявил, что одно уравнение с двумя неизвестными имеет не много решений, но одно уравнение с тремя неизвестными имеет бесконечное число решений. Ему сказали, что это — не так. Он начал ссылаться на алгебру Давидова13. Ему сказали,/^то в алгебре Давидова, как и во всякой алгебре, говорится, что всякое неопределенное уравнение имеет бесконечное число решений. Один раз Ключевский почему-то стал говорить о заслугах профессора Тимирязева14 и определил их так: Тимирязев объяснил происхождение цвета лепестков и этим прославился. Но на самом деле происхождения окраски лепестков Тимирязев не объяснил и прославился не этим. Ключевский знал, надо полагать, не особенно много. Он знал non multa, sed multum15. То, что он знал, он глубоко продумал. При решении каждого вопроса он, по-видимому, прежде всего устанавливал, какой материал нужно привлечь, какие условия нужно исследовать. Для своих работ он привлекал все нужное и только нужное. В его книгах и статьях нет праздных
цитат, насаживая которые в свои фолианты бездарные люди теперь думают, что они — действительно ученые люди.
Ключевский был человеком высокообразованным. Он преподавал в военном училище (Александровском), в Духовной школе (академии), в университете, на женских курсах, в училище живописи, ваяния и зодчества, читал политическую историю покойному, наследнику Георгию Александровичу16, читал приватно историю в высших сферах. Он имел дело с людьми разных настроений, разных взглядов, разного характера образования. Привыкший характеризовать людей, он умел понимать их. Для понимания людей надо знать то, что они знают. И он знал основы разного рода наук, был знаком и с искусством. Он любил литературу. Когда византолог Крумбахер17 был в Москве, Ключевский прочитал ему из Гете стихотворение, в котором ученого спрашивают мнения о людях, в общество которых он попал. Ученый отвечает: если бы они были книги, я бы не стал их читать. Под ученым разумелся Крумбахер, под людьми Ключевский хотел разуметь себя и компанию. Крумбахер сознался, что он не знал этого стихотворения Гете. Ключевский знал веймарскаго поэта, но отсюда не следуете делать вывода, что он знал русских поэтов и беллетристов конца XIX и начала XX столетия.
Каковы были взгляды и принципы этого человека?
Одни определяют его, как шестидесятника. Он кончил университет в половине шестидесятых годов, его деятельность началась в эпоху реформ. Многие настаивают на том, что он — кадет и для этого имеют официальные доказательства: он принадлежал к кадетской партии. Многие считают его монархистом и имеют для этого немало конфиденциальных доказательств. Наконец, немало найдется людей, которые считают Ключевского человеком беспринципным, принимавшим приспособительную окраску сообразно с тою средою, в которой он находился в данный момент. Теория приспособительной окраски должна быть отвергнута, приспособительной в смысле готовности утверждать все то, что предпишет начальство. Ведь поднимался вопрос об увольнении Ключевского из университета. Делянов 18 хотел перевести его в Казань, но Делянову, по словам М. М. Ковалевского в «Вестнике Европы», указали, что Ключевским дорожат в духовных сферах и в троицкой академии. Делянов не тронул Ключевского. Во всяком случае, Ключевский считался то красным, то черным. Период его негласного пребывания в консерваторах обнимает, кажется, собою время от получения им чина действительного статского
советника до 17 октября 1905 года. После этого он решительно и прямо перешел в оппозицию. Когда об этом переходе, который для многих явился неожиданным, сообщили Победоносцеву19, тот сказал: «Что ж? он всегда кувыркался». А за год или за два до этого Ключевский рассказывал: «Победоносцев мне жаловался, что его уже не понимают в Государственном совете». И Ключевский, получивший тайного советника благодаря Победоносцеву, комментировал эту жалобу в том смысле, что люди нового времени не понимают многого, ибо не знают и не понимают прошлого.
Выше была приведена его фраза о «тогдашней, московской археологии». Любопытно, что в литографированном издании его лекций 1887 года эта фраза была выброшена. Что это случайность? Вызванная обстоятельствами осторожность или, наконец, результат признания фразы неудачною? Во всяком случае — не последнее, потому что с кафедры фраза аккуратно повторялась. В 1894 году Ключевский произнес свою знаменитую речь об Александре III20. Эта речь принесла ему много огорчений и надолго лишила его популярности. Нужно думать, что в этой речи он был искренен, но он в это время утратил несколько представление о среде, с которой имел дело, и может быть, единственный раз в своей жизни пропустил случай промолчать. Он немного говорил о своем пребывании в Аббас-Тумане21, но то, что он говорил, было характерно. Он рассказывал, что у него спросили, как он себя там чувствует? И он ответил: «Здесь я из человека превращаюсь в нравственное правило». Он читал в Аббас-Тумане сочиненные им новооткрытые афоризмы Кузьмы Пруткова. Один из этих афоризмов гласил: некоторые бывают республиканцами, потому что родятся без царя в голове. Совершенно непонятно, как он мог читать в Аббас-Тумане политическую историю XIX столетия. Политикой он не занимался, его политические сведения были скудны и недоброкачественны. Он решительно отрицал возможность войны России с Японией, а когда война началась, решительно утверждал, что Япония будет раздавлена. По-видимому, силы Японии он сближал с силами Монако. Но он нисколько не смутился, когда действительность опровергла его пророчества.
Когда студенческие волнения приняли уже хронический и угрожающей характер, он долго пытался относиться к ним, как к детским шалостям, которые немедленно прекратятся, стоит лишь на расшалившихся детей погрозить пальцем. Такой взгляд был причиною одного грустного обстоятельства. Университетское движение нашло себе отклик — правда, довольно слабый — в Духовной академии. Ректор академии еп. Е-м22 стал расспрашивать Ключевского
о событиях в университете. Ключевский университетское движение изобразил в виде водевиля, который, как и всякий водевиль, должен кончиться сам собою и уже кончается. Ректор обратился с воззванием к студентам, приглашая их успокоиться и, процитировав Ключевского, идиллически изобразил положение дел в университете. Неизвестно кем и в какой форме, но это было сообщено Ключевскому. И это, может быть, был единственный случай, когда уравновешенный историк потерял самообладание. Он обратился с речью к студентам, в которой студенты уже не трактовались как шаловливые дети, он выразил ректору публично в профессорской резкое порицание за передачу частной беседы. Он был искренен в своем гневе, не замечая, что он порицал ректора за то, что тот ему поверил. Горе Ключевского заключается в том, что он, давши России немало дельных учеников, расплодил очень много обезьян. Задача последних канонизовать недостатки учителя. Ключевский без задней мысли, безусловно, без практических расчетов говорил с ректором о событиях в одном тоне, с студентами — в другом. Тон оказался несогласимым. Немногие имеют мужество всегда быть прямыми, т. е. часто неприятными. Ключевский не имел этого мужества. Но своеобразные почитатели историка потом стали доказывать, что так и должно быть. Частная беседа — одно, а официальная речь — другое; сопоставлять их значит совершать преступление. Разумеется, все мы грешим тем, что наши слова, произнесенные при разных условиях и обстоятельствах, и не согласуются между собою, но нужно иметь очень своеобразную совесть для того, чтобы этот печальный факт возвести в нравственный принцип.
Ключевский долго иронизировал над требованиями конституции. Он изображал в смешной форме съезд акушерок, которые вынесли резолюцию, что без конституции бабы на Руси не могут рождать. В 1905 году он говорил студентам университета в частных беседах: «Самодержавие, это — скала, которая создана историей, лепа она или нелепа, она несокрушима; вам ее не поколебать». Он иронизировал над евреями. Он рассказывал о еврее, который нес знамя, на котором красовалась буква Ш. У еврея спросили, что это значит? — «Как что? — ответил тот.— Швобода».
В начале сентября 1905 года Ключевский на совете в академии неожиданно заявил, что он оставляет академию. Он говорил, что ему тяжело расставаться с своими товарищами, что по его возрасту ему бы пора сокращать территорию своей деятельности, но что обстоятельства его куда-то призывают. Речь была неясна, и ее выслушали с недоумением. Некоторые как будто даже не обратили
на нее внимания. Но в ней как будто слышалось, что он призывается на какой-то важный пост. Перед этим, нужно заметить, Ключевский участвовал в петергофских заседаниях по вопросу об учреждении Государственной думы. После всего этого не было бы удивительно, если бы переменилось положение Ключевского, но переменилось не его положение, а переменился он сам.
Когда явился манифест 17 октября, естественно было ожидать, что старый профессор останется наблюдателем и истолкователем событий, но случилось иное: он пожелал сам принять участие в их создании. И здесь этот оригинальный человек начал с того, что поступил совсем неоригинально: он примкнул к партии, которая была создана не им, над уставом которой он, по-видимому, не размышлял, потому что на предвыборных собраниях в Сергиевом Посаде публично заявил, что он ничего не понимает в земельном вопросе. Невидно, чтобы и партия возлагала на него особые надежды. Из его собственных слов выходило, что кадеты хотели его выбрать выборщиком по Москве с тем, чтобы он выбрал указанных ему лиц, между которыми его не было. Такую роль мог бы выполнить и почтальон. Разумеется, такая роль не могла показаться ему лестной. Он захотел пройти в Думу сам и попытался сделать это по московской губернии по службе в академии. И здесь в нем сказался непрактичный человек. Он явился на выборы, совершенно не представляя, при помощи чего можно приобрести голоса. Нужно ли для пользы дела выяснить публике, что он имеет чин тайного советника и участвовал в петергофских заседаниях? Нужно ли привлекать сердца купцов или опереться на кустарей и социал-демократов? Благодаря посторонним содействиям, он по числу голосов оказался первым после выборщиков, но если бы он немного ориентировался в положении вещей, если бы около его знаменитого имени была пущена самая маленькая пропаганда, он был бы избран per acclamationem23. Он думал, что он известен, а его не знали; он думал, что нужно было говорить о связях с высшими сферами, а нужно было говорить о близости к меньшей братии.
Потом он говорил, что он не пошел бы в Думу, если бы его выбрали. Но зачем он шел? Точно так же он печатно заявил, что он не пойдет в Государственный совет. Но баллотировался, был выбран единогласно, значит, и сам подавал голос за себя. И затем отказался. Зачем все это? Во всех этих действиях нельзя понять их смысла и нельзя видеть его воли.
Настоящий очерк, основанный на воспоминаниях, не имеет в виду выяснить вполне этого крупного человека, а только сказать
кое-что о нем. В Ключевском, наблюдая за ним, легко было подметить две черты: он страшно боялся оказаться смешным и остаться одиноким. Первое заставляло его всегда быть настороже. Если бы у него спросили: «В.О., какой сегодня день?» он не ответил бы сразу, он бы подумал — нет ли здесь подвоха, не расставляется ли здесь ловушка? И возможно, что он ответил бы не прямо, а тоже вопросом или уклончиво, или шуткою. Другая его черта — боязнь оказаться в меньшинства. Ведь в известных случаях это значит иметь против себя большинство товарищей. Духовный климат университета и — еще шире — той сферы, в которой преимущественно вращался Ключевский, был кадетским, и он уже по чувству товарищества, по чувству солидарности должен был примкнуть к кадетам. Но действовать едва ли он уже мог. Может быть, в глубине души он думал: «Лепо ли все сие или нелепо; выйдет то, что должно выйти по законам истории».
Как-то он говорил о нелепости революции. Он утверждал, что революции, расстраивая жизнь, принося много горя, не дают ничего, что после них в государстве является только то, что было бы и без них, и что является плодом естественного развития. Что должно явиться в России плодом естественного развитая? Как представлял себе ее будущее Ключевский? На лекции он говорил, что вопрос о присоединении Галиции к России есть только вопрос времени. Значит, он представлял себе территориальное будущее России. Несомненно, он рисовал себе и будущее ее устройство. Может быть, он кому-нибудь говорил об этом?
Но, в сущности, он замолк перед 17 октября. Не от себя и не свое говорил он после этого дня. В партии, к которой он примкнул и которая по своему интеллектуальному составу стоит гораздо выше других, он занял почетное, но декоративное место. Около его имени с этого времени создался культ. Но когда его стали почитать, его перестали слушать. Правда, на лекции его стекались, но не затем, чтобы услышать новое слово; содержание его лекций было известно, а затем, чтобы посмотреть и послушать старую игру старого артиста. Так московская публика стекалась смотреть на 65-летняго, умиравшего Росси24, когда он играл Ромео.
Идейно Ключевский умер раньше 1905 года.
Но не в политических взглядах выражается душа человека, Маргарита не интересовалась — был ли Фауст монархистом или республиканцем, но она спросила:
Ты, Фауст, в Бога веруешь?
В своих отношениях к религии сказывается весь человек. Как относился к религии Ключевский? Каковы были религиозные убеждения этого профессора Духовной академии? По внешности религия, по-видимому, мало занимала места в его жизни, а в официальных случаях она выражалась в православной форме; он подходил под благословение к митрополитам и архиереям; когда надобно, истово крестился и прикладывался к мощам и иконам. Но, может быть, на последнем суде Господь Бог будет нас судить не за то, чем мы были, а за то, чем мы хотели быть — за тайные помышления и влечения нашего сердца. Вопрос о вере человека вопрос очень интимный, но когда человек умер, вопрос этот может трактоваться лишь для пользы живых, а не для осуждения умершего.
Ключевский, начиная свои лекции в академии, обыкновенно говорил: «Не мое дело показывать вам, какой вред произошел для церкви от ее союза с государством, но мое дело показать вам ту пользу, которую извлекло государство из союза с церковью». О русском богословии Ключевский говорил, разумеется, не в лекциях: «Какие русские богословы?» У нас богословом считается Хомяков25, но он гораздо больше занимался своими собаками, чем богословием. В обществе, по своим интересам принадлежащем к хомяковско-му типу, но не хомяковского склада при Ключевском говорили о том, как из первоначальных немногих документов образовалось Евангелие. Ключевский сказал: «Можно представить, что сначала было три документа: 1) нагорная проповедь, 2) прощальная беседа и 3) Отче наш, и какие-нибудь тетки Агафьи разносили их повсюду». Когда ему заметили, что Отче наш уже есть в нагорной проповеди, он сказал: «Особо его носили, как молитвенный документ». Говоря о юго-западных братствах, он темную сторону их усматривал во власти мирян над церковью. Ключевский стоял за отделение церкви от государства, но сомнительно, чтобы этот аристократ духа верил в религиозно нравственную мощь русского прихода. Поучительно, что в своих чтениях он никогда не позволял себе ничего, что могло бы оскорбить или смутить чью-либо религиозную совесть. Было ли это только нравственною деликатностью, или вера была дорога для него самого? Можно утверждать, что последнее. Ключевский отмечал, что студенты академии и университета различно относятся к его лекциям. Есть лекции, которых не любят те и другие. Таковы — о древнерусских летописях. Есть лекции, которых не любят академисты — по вопросам экономическим, и есть лекции, которых не любят университанты — по вопросам
церковным. Вот эти-то последние лекции Ключевский читал как-то особенно в академии. Когда он говорил о происхождении раскола, то как бы легкое волнение охватывало его; он говорил о религиозном мышлении, настаивая на его существовании; чувствовалось, что он говорил о чем-то заветном и дорогом для него самого. Из его речей было видно, что старую академию он ставил выше, чем новую, но старая академия отличалась от новой прежде всего и больше всего религиозностью. Легкомысленно кощунственные выходки некоторых, видно, его коробили. С уважением он говорил о старых архиереях даже тогда, когда они, по-видимому, не проявляли к нему особого уважения. Так, он хорошо отзывался о пензенском архиерее, при котором учился в семинарии. Ключевский пробыл в богословском классе один год и затем перешел в университет. На экзамене в семинарии архиерею сообщили, что Ключевский уходит в университет. После экзамена архиерей подозвал к себе Ключевского, наклонился к нему и сказал: «Успеешь еще дураком-то сделаться». Иногда речи Ключевского звучали иронически, их можно было истолковывать двояко, но можно было бы извлекать из них и нравственный смысл. Так, однажды при нем рассматривали издание библейских гравюр из библиотеки, пожертвованной одним архиепископом в академии. Оказалось, что все гравюры пикантного содержания были вырваны. «Как же это? почему?» — спрашивали рассматривавшие. Ключевский с серьезнейшим видом сказал: «Может быть, владыка оставил их у себя?» — «Зачем?» — спросили у него. — «Чтобы мы не соблазнялись». Очень охотно и часто Ключевский говорил о религиозности своей жены, которая потом и умерла в церкви. Он называл ее религиозность спортом, но видно было, что к этому спорту он относился с глубоким уважением. К походам против православия, к авторам самоизмышленной веры, он относился отрицательно. Заметно, он не любил Толстого. Когда Толстой написал статью «Первая ступень»26, в которой требовал безубойного питания для всех, Ключевский сказал: «Ну, если бы все дело было в картошке, все немцы давно бы сделались святыми». У одного кандидата богословия Толстой спросил: «Где ад?» Когда об этом рассказали Ключевскому, он сказал: «А он бы ответил: вы это скоро сами узнаете». Толстой был у Ключевского и, по его словам, спрашивал его: «На что вам разум?» И будто бы Ключевский ответил: «На то, чтоб об этом не спрашивать». Было ли это или не было; во всяком случае, несомненно, что Ключевский очень отрицательно смотрел на высокомерно-враждебное отношение Толстого к Православной церкви. Никогда он не высказывал со
мнений и недоумений по вопросам веры, хотя часто высказывал замечания, которые показывали, что он о ней много думал.
Достаточно ли всего этого для того, чтобы признать его религиозным? Ключевский уважал религиозную веру, а ее может уважать только тот, кто хочет ее иметь или кто уже ее имеет. Неверующие люди, заявляющие, что они уважают веру, пошлы вдвойне. Во-1-х, они рисуются своим неверием, как мудростью, освободившею их от иллюзии и повергшею в бездны красивого пессимизма; во-2-х, они оскорбляют верующих, заявляя, в сущности, что те пребывают в глупости и обмане. Таков Ренан27, заявляющий о своей зависти к наивной вере бретонцев. Такую, в сущности, глуповатую позу никогда не мог принять Ключевский. Он уважал веру, потому что видел в ней сокровище. Несомненно, он верил в Бога, как его понимает христианство. Но принимал он все христианство в форме православия или в форме близкой к православию? Может быть, он принимал веру отцов, рассуждая, что невелико прегрешение разделять заблуждения отцов, но будет непростительным грехом, если отказаться от их веры, а она окажется истиной? А может быть, он верил просто, как просто верил его отец и как верила его жена.
Что почитали и любили в Ключевском? Ученого? Но ученых теперь много на свете. Остроумье? Но немало имеется и людей, старающихся быть остроумными. Почитали ли в нем человека будущего, тип которого должны воспроизводить последующие поколения, или в нем видели воплощение добрых сторон прошедшего, которое должно исчезнуть и которое должно замениться новыми типами? Да, последнее. Может быть, его почитатели и ученики и не сознавали этого, но они это чувствовали. Никто и никогда не сомневался, что Ключевский не повторится. Другого Ключевского не будет.
Он был питомцем старой загадочной бурсы, где как будто ничему не учили и откуда выходило множество умных людей. Изумительна та нравственная дисциплина, которую прививала эта школа к своим питомцам. Дело здесь не во внешней благопочтительности, которую отличают у старых священников; дело здесь в глубоком внутреннем сознании долга, которое характеризует этих священников. Лакеи очень почтительны, пока ждут на чай, но становятся очень наглыми, когда видят, что ждать нечего. Питомец старой бурсы кланялся архиерею и тогда, когда тот, говоря метафорически, отдавал его на распятие. Он исполнял то, что считал долгом. Чувство долга было сильно у Ключевского. Оно выражалось у него в его отношении к лекциям, в исполнении им своих обязанностей. Изумительна также была скромность его житейских требований.
Немного он во всю свою жизнь издержал на себя и не потому, чтобы он себе в чем отказывал, а потому, что он нуждался в очень немногом. Он мог бы прожить и на дореформенный академический оклад. Вследствие этого от него веяло некоторою суровостью, но не тою, которая отталкивает, а тою, которая, внушая уважение, заставляла держаться от него на почтительном расстоянии. Едва ли на самом деле он и вверял себя кому-либо и едва ли перед кем-либо он обнажал свою душу.
Старая бурса почитала логику. Логика проникала жизнь Ключевского. Он всегда производил впечатление человека, который знает, что делает. Он никогда не суетился, не спешил, он всегда и все обсуждал и делал совершенно спокойно.
Искал ли он когда-нибудь чего-либо для себя? Должно полагать, что нет... Для других и за других он действовал, он был добрым товарищем, но своего не искал, хотя и не был равнодушен к почестям, славе и ко всему.
Сильная логика в нем соединялась с необыкновенным юмором. Это — редкий союз и он поражал и пленял его слушателей и собеседников. Обыкновенно острят, забывая о разуме, а вспоминая о нем, забывают о смехе.
Он — человек старой школы. Он не может повториться. Старые архиереи были для него понятнее, чем новые профессора. И чем большим европеизмом веяло от профессора, тем с большим сомнением смотрел на него Ключевский.
Другого Ключевского не будет.
6.XII.1916.
В. А. МАКЛАКОВ
Отрывки из воспоминаний
Самой красочной фигурой факультета был, конечно, Ключевский. Трудно что-либо прибавить к тому, что о нем уже было написано более компетентными лицами. Ключевский явился живым опровержением моей теории о бесполезности лекционной системы. Его лекции не только давали эстетическое наслаждение; они запоминались и понимались лучше, чем книга. Тот, кто слышал Ключевского, не мог уже читать его произведений, не вспоминая его голоса, ужимок и интонации. И чтобы от всей теории не отказаться, я приходил к заключению, что Ключевский «актер», а не лектор.
Но актер он был замечательный и лекции его были несравнимы ни с чем. Особенностью его был, во-первых, язык, исключительный по силе, оригинальности и красочности; он был настолько своеобразен, что когда Ключевский напечатал в «Русской мысли» свою статью о Лермонтове, под заглавием «Грусть» ’, то хотя он ее не подписал, с первых же строк все по языку узнали Ключевского. Другим свойством его была необыкновенно выразительная манера произношения, с странными логическими ударениями и паузами, с оригинальными модуляциями голоса, сопровождаемыми своеобразными гримасами и поднятием бровей. Ключевский мог так прочесть отрывок из Летописи, что он навеки не забывался. Любопытно, что одной из причин этой своеобразной манеры Ключевского было его легкое заиканье. Этот недостаток он старался скрывать; только разглядывая его изблизи, можно было заметить, что когда он неожиданно умолкал и делал как будто непонятную паузу, его нижняя челюсть начинала усиленно и беспомощно дергаться. Он делал вид, что пауза вызвана тем, что он думает и сосредоточивается. Часто пауза приходилась не там, где ей по смыслу полагалось бы быть; те, кто не знали про его заиканье, могли думать, что он или
оригинальничает, или не находит нужного слова; но в результате это скрытое заиканье не только не вредило Ключевскому, но придавало оригинальность и даже прелесть его своеобразной манере.
Я имел возможность наблюдать Ключевского не только на кафедре. При жизни моего отца он часто бывал у нас на журфиксах, а после я встречал его на таких же журфиксах у Н.В. Давыдова2. Ключевский любил ходить в гости и по русскому обычаю сидел там до поздней ночи, до после ужина. Он и в домашней обстановке был также интересен и блестящ, как на кафедре. Те же чеканные фразы и своеобразная дикция; та же любовь к острому слову, к неожиданным и забавным сопоставлениям, над которыми он потом сам беззвучно смеялся; он так же прищуривался, одновременно поднимая брови над своими близорукими, насмешливыми, никогда не глядевшими в лицо собеседника глазами; та же выразительная мимика, которая как будто вколачивала его слова в память слушателя. Слушать его было всегда наслаждением, и когда он начинал говорить, то, несмотря на свой тихий голос, он становился тотчас центром внимания. Стилистический блеск его ни в каких условиях не покидал, был как бы частью его природы. Возможно, что и заиканье ему помогало; оно заставляло его говорить медленно, с остановками, давая этим возможность каждое слово обдумать. Точно так же его бисерный почерк, необыкновенно четкий, где он дописывал каждую букву, помогал ему отделывать то, что он писал, придавать законченную красоту его письменной речи. Но при исключительной одаренности Ключевский был все-таки человеком упорной работы, привыкшим доводить все до совершенства. Это одинаково касается и формы, и содержания. Он себе не доверял, к самому себе относился очень критически, без признаков самонадеянности. Помню, как в пятнадцатилетие со дня смерти Некрасова мы, студенты, затеяли почтить его память устройством публичного заседания. Пошли просить Гольцева3 принять в нем участие; он согласился без оговорок и, узнав, что мы хотим звать и Ключевского, предложил, чтобы сначала Ключевский выбрал тему по своему вкусу. Гольцев соглашался читать то, что на его долю останется. За тему он не стоял и только просил его заранее предупредить. Ободренные первым успехом, мы явились к Ключевскому. К нашему удовольствию идея читать о Некрасове его не оттолкнула. Он как будто обрадовался, что молодежь помнит и ценит Некрасова; сам оказался его поклонником. Но когда он узнал, что заседание предположено через месяц, он стал смеяться. «Как через месяц? — спрашивает он, удивленно поднимая брови.— Да разве можно приготовиться к лекции в один
месяц?» Мы говорили, что всегда говорят в таких случаях лекторам, что ему готовиться нечего, что что бы он ни прочел, будет все хорошо и т.д. Ключевский не хотел даже слушать. «Прочесть лекцию не долго,— говорил он; — не долго ее написать; долго ждать, чтобы “наклюнулась тема”». Он стал вслух размышлять; указывал, о чем надо подумать, что освежить в памяти, чтобы читать о Некрасове; говорил о состоянии тогдашней литературы, о любимейших русских авторах, к которым причислял, повторяя это несколько раз с ударением, «русского писателя Гейне в переводе Михайлова»; вспоминал о тогдашних политических настроениях. Он увлекся и говорил около часу. Мы слушали его зачарованные; потом горячо убеждали повторить на лекции то, что он нам говорил. Но Ключевский не допускал мысли о том, чтобы он мог читать раньше, чем через полгода. Уходя от него и сравнивая этот отказ с безусловным согласием Гольцева, мы невольно становились не на сторону Гольцева.
После блестящей публичной лекции Ключевского «Добрые люди древней Руси»4, я, возвращаясь домой, некоторое время шел пешком вместе с ним и его сыном Борисом. Ключевский был очень доволен приемом аудитории; обыкновенно столь сдержанный, он делился впечатлениями, моим присутствием не стесняясь; я оказался свидетелем, как они оба с сыном вспоминали отдельные удачные словечки и впечатление, которое они производили на публику. Было ясно, что эти словечки были заранее подготовлены и изучены и что Ключевский рассчитывал на их эффект. Такая сознательная, упорная, хотя скрытая работа над исключительным даром, которым его наделила природа и сделала из Ключевского того несравненного «виртуоза», каким он был как писатель и лектор.
Своими публичными лекциями Ключевский публику не баловал, может быть, потому, что к ним слишком долго готовился. Но бывали моменты, когда ему поневоле приходилось выступать перед публикой, и тогда его диалектический талант проявлялся во всем своем блеске. Это были ученые диспуты. Они всегда были событиями. Я помню диспуты Семевского5 и особенно Милюкова6. Ключевский имел против себя в этом последнем случае скорее враждебную аудиторию. Диссертации двух молодых ученых Корелина7 и Милюкова были одновременно представлены на степень магистра по всеобщей и по русской истории. Герье дал Карелину сразу две степени; того же ждали и от Ключевского по отношению к Милюкову за его труд о Петре Великом. Но Ключевский этого не сделал, и поспешная на выводы студенческая молодежь в этом заподозрила пристрастие и несправедливость. Она пришла на диспут настроенная против
Ключевского, и он это знал. Он начал общей характеристикой всего сочинения, строя ее по своей любимой манере в эффектных противоположениях. Он упрекнул Милюкова, что он не сделал всех выводов из фактов, которые сам устанавливал. Его красочные антитезы по сю пору сидят в моей памяти: «Вы доказываете все то, что утверждаете, но утверждаете не все, что доказываете. Вы идете к цели смелее, чем к ней подходите. Ваше сочинение ставит больше вопросов, чем дает ответов. Это не недостаток. Иногда труднее поставить вопрос, чем его решить, как бывает труднее заметить прореху, чем ее зашить» и т.д. После такой вводной характеристики Ключевский стал делать ряд отдельных замечаний; при этом он как будто только кстати, мимоходом, осведомлялся; не обратил ли Милюков внимание на такой то факт, не подумал ли о таком то возможном его объяснении? Мы плохо схватывали смысл этих вопросов, и они нам казались мелочными придирками. Но они оказались совсем не случайными. Ключевский с большим искусством, но и с большой осторожностью, ничего от себя не утверждая, а только как будто интересуясь ходом чужой работы, предложил объяснение некоторых непонятных явлений финансовой политики той эпохи. Эта политика, по его мнению, определялась желанием государства путем налогового пресса увеличивать пахотную площадь страны; и та неравномерность налога, которая с первого взгляда казалась будто бы произвольной, по Ключевскому, зависела от соотношения жилой и пустой земли у владельцев, чем побуждала их свою пустую землю эксплуатировать. Такое объяснение было тем интереснее, что соответствовало несомненной тенденции законодательства, закончившейся введением при Петре подушной подати. Когда в результате ряда как будто случайных вопросов Ключевский наконец открыл свои карты и спросил, не пришлось ли Милюкову проверить, в какой мере такое объяснение согласовалось с фактами им изученными, Милюков должен был признать, что он об этом не думал и этого не проверил, что все это очень остроумно, но что по этому поводу он ничего сейчас ответить не может. Ключевский не стал настаивать, довольствуясь этим ответом, и пошел дальше; но впечатление на публику было произведено; загадочные вступительные слова его возражения всем стали понятны, и мы, студенты, поневоле перестали негодовать, что Ключевский не дал Милюкову сразу докторской степени. Все это происходило настолько давно, а эти вопросы были для меня так мало знакомы, что я не могу ручаться за полную точность моего понимания; передаю только впечатление слушателя. Я потом спрашивал Милюкова, проверил ли
он утверждения Ключевского. Милюков отвечал, что со стороны Ключевского это возражение вышло очень эффектно, но что при проверке его предположения оказалось, что факты его не подтверждают. В этом, конечно, я не судья и вспомнил этот диспут только как образчик диалектического искусства и манеры Ключевского.
Вспоминая о Ключевском, было бы сейчас трудно отвести ему определенное место в политическом лагере. Нелегко было знать его настоящие взгляды; мало было людей столь замкнутых, скрытных, нелюбящих говорить о себе. Он мог быть откровенен только с самыми интимными своими друзьями; да и это было бы на него непохоже. Он ходил вечно в маске и в свою душу никого не пускал. Об ней можно было только догадываться. Однажды с обычным своим юмором он формулировал такое житейское правило: «Если вас спрашивают прямо, отвечайте косвенно; если спросят косвенно, можете ответить прямо». И на прямые вопросы он никогда прямо не отвечал. Была другая причина, по которой на него было бы трудно привесить готовый ярлык; не только он был чересчур своеобразной фигурой, полной противоречий; но он не подчинялся элементарной политической дисциплине, запрещавшей, по нашим понятиям, хвалить чужих, а своих осуждать. Его острый язык не щадил никого, даже своих; но он имел и гражданское мужество симпатий своих не стыдиться. Он нанес очень чувствительный удар своей популярности, когда после смерти Александра III, безо всякой видимой надобности, по одному убеждению выступил в университете с похвальным словом покойному государю, восхваляя его заслуги в деле сохранения мира в Европе8. Такие неожиданные выходки сбивали с толку тех, кто судил по готовым шаблонам.
По своим общим тенденциям Ключевский, конечно, принадлежал к прогрессивному лагерю. В одном из курсов, в котором он довел изложение до Александра II, он высказался горячим сторонником реформ шестидесятых годов, видя в них логическое завершение многовековых процессов русского государства. Он доказывал, что благодаря этим реформам Россия вступила в заключительный период истории; они разрешили сословный вопрос и положили основание всесословному самоуправлению. В эпоху подготовки Булыгинской думы9 он был приглашен на Петергофское совещание; там он сражался с Н. М. Павловым10, возражал против сословности выборов и пугал государя народной враждебностью к «мрачному призраку сословного царя»; защищал и то положение Булыгинской думы (зачаток конституционного строя), по которому законопроект, отвергнутый квалифицированным большинством, государю не мог
быть представлен. После 17 октября я случайно присутствовал при его разговоре с П. Б. Струве1только что вернувшимся из-за границы, и слышал, как Ключевский ему указывал на необходимость посвятить себя сейчас политическому воспитанию народа. Из этих отдельных черточек ясно, куда шли его симпатии. Но хотя для людей этого направления в 1905 году наступил наконец долгожданный момент выступить активно как политическим деятелям, тем не менее в какую либо партию он тогда не вошел и не мог бы войти. Не потому только, что не мог бы себя подчинить чьему бы то ни было руководству; но целая пропасть отделяла все-таки Ключевского от тогдашних политических партий и их идеалов. Для того чтобы заниматься активной политикой, он слишком мало был европейцем. Заграничную жизнь он мало знал и ценил; плохо знал языки; он был по натуре насквозь русским человеком; любил русскую жизнь, русскую старину и русскую самобытность; любил то, чем русская жизнь отличалась от Запада и что она против Запада отстояла. Происходя из духовного звания, он сохранил прочные симпатии к духовенству как к особому социальному классу. «Я ведь “клерикал”»,— говорил он про себя, со своим юмором. В сельском священнике не только прошлом, но и настоящем он видел главного проводника культуры в народе, представителя той своеобразной интеллигенции, которая от народа не оторвалась и могла говорить с ним на одном языке. Недаром он читал лекции в Духовной академии, содействуя ими научному образованию духовенства. Ключевский стоял за движение и за прогресс; недостатков нашей старины не идеализировал, не рекомендовал их охранять, как драгоценные заветы истории; но он был уверен, что все элементы прогресса уже заложены в русской действительности и что их вовсе не необходимо развивать непременно по иностранным образцам и шаблонам. Все те многочисленные прогрессивные партии, которые тогда выступали на арену политической жизни с заимствованными от Запада кличками и программами, с европейскою тактикой, для него были глубоко чужими. По многим сложным причинам Ключевский не любил и эпигонов славянофильства. Он был бы всего ближе к неопределенной неорганизованной группе «народников» уже потому, что был настоящим сыном народа и самым подлинным демократом. Его было бы так же трудно представить себе живущим в Европе, как блистающим в светских гостиных. Было смешно думать, что и он был действительным статским советником и кавалером. Он оставался типичным интеллигентом из разночинцев, которого судьба не баловала и который пробился
наверх только исключительными дарованиями и упорным трудом. Оттого у него сохранилось недоброе чувство к привилегированным и счастливчикам; не только к отдельным лицам, но целым группам и классам; так через все его лекции проходит плохо скрытая неприязнь к дворянскому сословию. Весь его облик носил следы ненормального напряжения в юные годы; жизненный успех ему дался недаром. Тщедушный и хилый, без развитой мускулатуры, результата спортивного воспитания, он производил впечатление слабосильного. Но это была ошибка; как-то при нем стали говорить о физическом воспитании на тему о “mens sana in corpore sano”12. «Что такое выносливость и сила? — заметил он.— Если человек может работать 20 часов в сутки и не спать подряд много ночей, разве это не выносливость? А годятся ли на это ваши спортсмены? » Настоящий аскет, преданный исключительно умственной жизни, замкнутый в себе и в памятниках русской истории, он любил мир и тишину; развлекался тем, что зимой ходил в гости, а летом сидел с удочкой у реки. Те условия свободной политической жизни, которые прогрессивные партии хотели в России ввести, построенные на народоправстве и на господстве общественного мнения, условия, которые предполагали контроль за каждым шагом политического деятеля со стороны прессы и общества, требовали подчинения директивам разных партийных съездов и комитетов, существования вожаков, которых выдвигают толпа и популярность, весь этот необходимый при народоправстве политический шум и суета были органически противны индивидуализму Ключевского. Потому на появление этих новых организаций, политических партий, он глядел с недоверием и опаской. Ему в них было нечего делать, его ум и привычки вели его иной дорогой.
Ключевский был типичным москвичом по характеру и очень популярным в настоящей Москве человеком. Кто не знал его лекций? Но как эта часто бывает, большая публика знала и ценила в курсах Ключевского не то, что в них было главного. Не говорю про научную сторону; ее, конечно, ценили специалисты и знатоки. Но широкая публика замечала в его лекциях не это, а особенно его острые слова и злые характеристики; они совпадали с общим либеральным отрицательным к старине настроением, и им Ключевский был обязан значительной долей своей популярности. По тем же причинам многие считали курсы Ключевского вредными: его упрекали, что он рисует только темные стороны нашей истории, развенчивает наших национальных героев; совершенно последовательно и теперь, в эпоху идеализации старого, эти курсы Ключевского утратили
долю своего обаяния, и прежние их поклонники своего былого восторга стыдятся. Сколько раз я сейчас это мнение слышал. В такой оценке, однако, больше оптического обмана, чем справедливости. Отрицание Ключевского вытекали вовсе не из нелюбви к старине и России, а из основ его морального мировоззрения. Ключевского всегда коробило от самоуверенности, гордости, желания выделиться, блистать или властвовать. К героям истории он поэтому относился с предвзятостью; он действительно любил их развенчивать, обличать их мишуру. По своему научному пониманию он вообще не придавал большого значения личности; исторический процесс для него развивался по законам общественной жизни, изменить которые личность не в состоянии. Помню один его разговор с знаменитым астрономом Бредихиным13, которому он шутливо по форме, но совершенно серьезно доказывал, что есть законы общественной жизни, которые безусловнее астрономических. «Жизнь, как крестный ход,— не раз говаривал он, любивший церковные обряды.— Напрасно те, которые случайно идут в передних рядах толпы, воображают, что они ведут за собой других». И когда он встречался с людьми, которые претендовали управлять событиями, он был всегда рад их поставить на место. Его моральные симпатии шли к людям другой категории, к скромным и незаметным работникам, упорным труженикам на том месте, на которое судьба их послала. Оттого-то оценка, с которой он подходил к историческим лицам, была часто так неожиданна. Характерны его взгляды на Петра. Он не мог не осуждать его отношения к «отечественной старине и народному быту»; его грубых приемов, которые сделали, что «реформы Петра пронеслись над народом, как тяжелый кошмар, всех напугавший и никому непонятный». Но Петр был «честный и искренний человек», умел «свой царский долг развить до самоотверженного служения», не был мечтательным доктринером, «охотником до досужих общих соображений», самоуверенно задумавшим на свой лад перестраивать жизнь. Петр, по мнению Ключевского, даже не подозревал, что его реформы совершенно преобразуют Россию, а только бессистемно удовлетворял текущим насущным нуждам страны, при этом не отступя перед самой неблагодарной и черной работой; он «был хозяином-чернорабочим, царем-мастеровым». И это мирило Ключевского с Петром, и он его не развенчивал, хотя в его описании Петр вышел непохож на легенду и на свой канонический образ. Но зато тот же Ключевский с язвительной насмешкой, почти с ненавистью относился к Екатерине, с злорадством обличая несоответствия ее дел с ее же либеральными
фразами и с удовольствием разъясняя непоправимые промахи и вред для России ее прославленной внешней политики. У Ключевского в истории были свои любимцы и свои герои. Их он находил на всех ступенях общественной лестницы. Им был и ушедший от мира отшельник Сергий Радонежский, своим подвижничеством вернувший несчастной русской земле веру в себя; и упрямо защищавшие свою религию старообрядцы; и тот темный ревнитель старого быта Андрей Иванов, сам явившийся в Преображенский Приказ обличить своего государя Петра за «богопротивные новшества», за что «с ним, разумеется, и было поступлено по закону»; и всеми забытые «добрые люди» старой Руси, о которых он напомнил Москве своей публичной лекцией; и его любимец на троне «добрая, славная душа» s тишайший царь Алексей Михайлович, считавший себя, несмотря на свое самодержавие, беззащитным перед каким-то нахальным монахом, отцом Микитой, казначеем Савина монастыря. Они были многообразны и многочисленны настоящие герои и любимцы Ключевского, облик которых он с любовью восстанавливал в своих лекциях. Таких людей не ценят их современники и забывает история. Они поглощаются понятием «народа» и «общества». «Так и нужно,— говорил Ключевский.— Смерть есть забвение. Истинный символ смерти не европейский памятник, воздвигаемый в похвалу определенного умершего человека, а наш русский могильный холм, который ничьего имени с собой не соединяет».
У человека с такими взглядами были шансы остаться непонятым для тщеславных и самодовольных людей нашего века. И недаром от них, от их любопытства и суеты он отгораживался маской шутки и острого слова. Современные люди его понимали по-своему. Его иногда злые, а иногда добродушные насмешки над историческими личностями всеми воспринимались с большим удовольствием; а идеала его не замечали и во всяком случае им не соблазнялись. Да он его и не старался распространять и внушать; его идеал оставался при нем. Ключевский расспрашивал, наблюдал, выносил в душе свои приговоры и ни с кем вместе не шел. В эпоху освободительного движения и введения конституционного строя многие активные политики воображали, что его убедили и перевели в близкий им лагерь. Что он про них действительно думал, он унес с собою в могилу; но оставался все время в стороне от движения.
Е.В. БАРСОВ
Мнение В. О. Ключевского о Максиме Горьком
Однажды во время моей беседы с В. О. Ключевским о современных литераторах я спросил его:
— А как вы смотрите, Василий Осипович, на Максима Горького, и чем вы объясняете успех его произведений?
— Горький,— отвечал он,— это пропаганда, а пропаганда — не литература. Горький пришелся по плечу обществу, которое теперь особенно умножается. Это — люди, борющиеся за свое существование, много читающие и работающие над собою этим путем больше, чем учащаяся молодежь, но в них нет никакой устойчивости: они непрерывно хромают на оба колена и влаются ветром модных учений. Этому слою низменных людей с напряженными потугами на знание и мнящих себя интеллигентами совершенно по плечу творения своего собрата — Горького; в их неразвитых и небрезгливых вкусах блестят талантом и такие его произведения, как снохачество «На плотах» и «Дно» всяких мерзостей, с подкладками ницшеанства, политиканства и т. п. Если просвещенная публика бросилась видеть это «Дно», то, увидев, никогда больше не пожелает его видеть и в большинстве с омерзением отвернется от него. У Горького вовсе не талант, а одно пылкое воображение.
— Однако, Василий Осипович, Горький известен и за границей, . и там его хвалят,— возразил я.
— Если его славят за границей,— отвечал он,— то ведь и там есть отбросы общества, имеющие свои газеты, кои видят в Горьком свои вкусы и кричат о нем.
— Но не даром же,— говорю,— наша Академия наук хотела возвести Горького в «академики российской словесности».
— Если бы Академия это сделала,— продолжал Василий Осипович,— то в глазах просвещенного общества «по Сеньке была бы
и шапка». Академия сама спустилась бы на «Дно» Горького, и здесь, среди оборванцев, с течением времени, явился бы и герой в академическом мундире с проповедью физической силы против морали, социализма против собственности и государственности. Конечно, тогда ликовали бы и рукоплескали герои и любители «Дна», вознося превыше небес российскую Академию наук; но что сказала бы о ней история русского просвещения? Мрачно и уныло отметила бы она на своих страницах это несуразное явление: отсутствие элементарного этического чувства у академиков нашей эпохи и преклонение пред бойким пером в ущерб науке и действительного таланта.
— Жестоко ваше слово, Василий Осипович,— заметил я,— а ведь, говорят, Горький достал ваши лекции и выучил их наизусть.
— Ну, что ж,— отвечал он,— жаль напрасного труда. Не в коня корм — изучение моих лекций. Горький и после этого остался тем же Горьким, то есть пропагандистом, а не литератором.
Записано 25 сент. 1907 года.
М.М.БОГОСЛОВСКИЙ
Из воспоминаний о В. О. Ключевском
О Ключевском мне пришлось впервые услыхать, когда я был в VII классе гимназии, в 1884-1885 г., в разговоре, происшедшем у нас за уроком русской словесности, которую преподавал нам Алексей Никитич Гиляров1, ныне профессор философии в Киевском университете. Алексей Никитич старался развить в своих учениках способность выражать мысль в сочинениях как можно яснее и в как можно более краткой и сжатой форме. В пример точного выражения мысли он и привел незадолго до того появившуюся книгу Ключевского «Боярская Дума». В том же 1885 году 12 января я впервые и увидел Василия Осиповича в университетской церкви за торжественной обедней по случаю годовщины основания Московского университета. Мне показал его мой товарищ по гимназии С., с которым мы, в качестве лучших учеников, были отправлены своего рода депутатами в университетскую церковь. Указывая мне Василия Осиповича, С. прибавил, что по отзывам его старших братьев, тогда бывших студентами на историко-филологическом факультете, Ключевский — самый выдающейся профессор Московского университета. Как сейчас помню невысокую, сухощавую, но тогда все же еще довольно плотную и чрезвычайно подвижную фигуру Василия Осиповича, черные, с едва заметной проседью, зачесанные на бок довольно длинные волосы, редкую остроконечную, также едва начавшую серебриться бороду, и необыкновенно живые, остро смотревшие через очки глаза.
Я поступил в университет на историко-филологический факультет в 1886 г. В первом осеннем полугодии 1886-1887 учебного года Василий Осипович оставался, благодаря ломке в учебных планах, происходившей в связи с введением нового устава 1884 года, свободным от обязательного курса и читал необязательный двухчасовой
курс, посвященный истории русских сословий, тот самый курс, который был тогда мастерски записан, прекрасно издан в литографированном виде, а теперь и напечатан. Несмотря на необязательность, эти лекции Василия Осиповича привлекали множество слушателей нашего и юридического факультетов, наполнявших самую большую аудиторию, так называемую «Большую словесную», находившуюся в правом крыле нового здания университета, во втором этаже, чрезвычайно неудобную одинаково для чтения и для слушания лекций, но знаменитую славными именами читавших в ней профессоров. С какою завистью смотрел я, проходя мимо дверей этой аудитории, на студентов, находившихся в ней и ожидавших появления Ключевского, но попасть в нее было для меня невозможно. Часы Ключевского совпадали с какими-то другими лекциями, который надо было прослушать, держась того обязательного плана, который составлялся тогда факультетом и от которого отступать было затруднительно. Благодаря такому совпадению часов, записаться на курс Ключевского нам, первокурсникам, было нельзя, а без записи никого не пропускали на его лекции. У дверей «Большой словесной», как зоркий и свирепый Аргус, стоял педель Грачев, высокий и статный гренадер, и неумолимо контролировал студенческие входные билеты, в которых были обозначены избранные каждым курсы. В частых случаях конфликтов, происходивших у этих заветных дверей между педелем и стремительными юношами, желавшими во что бы то ни стало проникнуть в аудиторию, появлялся суб-инспектор молодой, суетливый человек, ревностный и придирчивый наблюдатель за ношением формы, проводник суровых требований нового устава, резкий со студентами, видимо старавшийся выдвинуться перед тогдашним инспектором студентов, знаменитым А. А. Брызгаловым2. Так побывать хотя бы на одной лекции мне в этом году не удалось. Помню восторженные отзывы тех, кто на этот курс записался: «Вот Ключевский читает — заслушаешься!»
Во втором, весеннем полугодии Василий Осипович начал чтение общего курса русской истории для студентов второго курса и читал его по средам и субботам, дни, в которые он читал до конца своей деятельности в университете. На русскую историю полагалось тогда 4 годовых часа; Ключевский распределял свой курс так, что в весеннем полугодии прочитывал древний период до Смутного времени, а в следующем, осеннем, читал новую историю, начиная ее с избрания династии Романовых.
Неотразимо сильное впечатление производили его лекции! Бывало аудитория ждет не дождется, когда же, наконец, появится, идя
торопливой походкой, с неизменным портфелем в руках, любимая фигура профессора, невольно привлекавшая к себе внимание. Все в нем, начиная с его выразительной внешности, было своеобразно и самобытно. Он никому не подражал и ни на кого не походил, он создан был во всем оригиналом и ни в чем копией. Начать с самой манеры чтения. Все у нас читали лекции сидя; Ключевский читал всегда стоя, стоял на ступеньках кафедры, опираясь на ее боковую часть; старинные кафедры в Московском университете были сложными сооружениями. Первые несколько секунд проходили в технических приготовлениях. Из принесенного с собою портфеля он вынимал целый запас вспомогательных аппаратов, развязывал папку с тетрадками, доставал какие-то маленькие листочки, книги — все это тщательно раскладывал на пюпитре и на боковом приспособлении кафедры, искусно этой вступительной паузой давая и аудитории возможность окончательно сосредоточить внимание. Затем, обыкновенно с краткого резюме предыдущей лекции, начиналось изложение. С первых же слов самыми звуками своего не сильного, но чрезвычайно мягкого, гибкого, подвижного, богатого модуляциями, свободно владевшего высокими и низкими нотами, необыкновенно приятного голоса он уже завоевывал внимание слушателей, превращал их, если можно так выразиться, в слух. Искусно маскируя свой прием, он всегда читал лекцию по лежавшему перед ним тексту, но читал с художественною выразительностью, интонациями и даже самой игрой лица изображая читаемое, мастерски разыгрывая содержание лекции. И благодаря этому, его лекции неизгладимо врезывались в память. Необыкновенно ярко он произносил приводимые в лекции тексты памятников. Я как будто сейчас, когда пишу эти строки, вижу его перед собою и слышу в его чтении, при тонком критическом анализе нашего первоначального летописного свода, знаменитую приписку: «Игумен Сильвестр святого Михаила написах книги си, наделся от Бога милость прияти при князе Владимире» и т. д. Она была сказана так, что запомнилась сразу на всю жизнь. В особенности сильны по выражению были те места, где тексты принимали диалогическую форму, напр., приводимые летописью разговоры князей. В звуках голоса, которыми эти разговоры изображались, передавались оттенки в характерах князей и владевшие ими во время этих диалогов чувств, теплота и искренность одного, посылавшего сказать старшему родичу: «Батюшка, кланяюсь тебе, вот тебе Киев», зависть и злоба другого, как бы прошипевшая в его словах: «вот посмотрю я, как ты у меня поползешь из Чернигова в Новгород-Северск», и сознание своей силы у третьего, вырази
вшееся в прямодушно-грубом обращении к сопернику с словами: «Иди из Киева — не пойдешь, выгоню». При рассказе о том, как накануне Липецкой битвы князья, младшие Всеволодовичи, на пиру делили между собою русские волости, слова одного из бояр, уверявшего князей в неодолимой силе Суздальской земли и презрительно отзывавшегося о силе противников: «не бывало того ни при деде, ни при отце вашем, чтобы кто-нибудь вошел ратью в сильную землю Суздальскую и вышел из нее цел, хотя бы тут собралась вся земля Русская,— и Галицкая, и Киевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская, никак им не устоять против нашей силы; а эти-то полки — да мы их седлами закидаем!» Эти слова произносились с интонацией, ясно дававшей понять, в каком состоянии находился говоривший их на пиру боярин. Помню, особый эффект производило окончание одной лекции, где описывался новый политический порядок, устанавливаемый на севере Андреем Боголюбским. Войска Боголюбского в 1169 году взяли Киев; предводительствующей ими брат Андрей возвратился на север «с честью и славою великою», как рассказывает северный летописец. Ключевский произносил эти слова громко, торжественным, напыщенным тоном; затем выдерживал паузу, наклонялся с кафедры к слушателям и каким-то особым, многозначительным шепотом, слышным однако навею аудиторию, доканчивал: «и с проклятием — добавляет южный летописец». Этой замечательной интонацией необыкновенно ярко подчеркивалась разница в отношениях северных и южных летописцев к северным князьям и их самодержавным замашкам. С тою же выразительностью он заканчивал лекцию, в которой рассказывалось о посольстве в Польшу из Москвы во время Смуты князя Григория Волконского с целью оправдать пред королем и панами истребление первого самозванца. Князь Григорий, по данному ему наказу, должен был говорить в Польше, «что люди Московского государства, осудя истинным судом, в праве были наказать за злые и богомерзкие дела такого царя, каким был первый самозванец. Князь Григорий еще от себя прибавил, что хотя бы теперь явился и прямой, прирожденный государь, царевич Дмитрий, но если его на царстве не похотят, то силой ему быть на государстве не можно». Быстроту эволюции политических идей под влиянием Смуты Ключевский изображал заключительной фразой, которую также произносил после долгой паузы, как бы задумавшись над смыслом слов Григория Волконского, и также пониженным до шепота голосом: «у крайнего политического либерала XVI века, князя Андрея Михайловича Курбского, волос ;?встал бы дыбом, если бы ему сказали такую политическую ересь».
Курс, читанный Ключевским, представлял собой ряд отдельных законченных исследований, из которых создавалась, однако, стройная общая система. Не раз он заявлял во время чтения, что его лекции должны нам служить только дополнением к положенному им в основу своего преподавания учебнику Соловьева3. Поэтому он и считал себя в праве, дополняя Соловьева, останавливаться подробнее на некоторых сторонах исторического процесса или на некоторых его моментах, мимоходом только касаясь других и отсылая слушателей к учебнику, а иногда и к большой истории Соловьева. Эти отдельные исследования, из которых состоял курс, начинались критическим рассмотрением состава древнейших летописей; затем шел очерк экономического и политического строя Киевской Руси — знаменитая гипотеза о городовом ее строе, изображение очередного порядка княжеского владения с условиями, его разрушавшими, и с элементами, поддерживавшими земское единство Руси, исследование о происхождении и составе «Русской Правды», обширное исследование о колонизации северо-восточной Руси, с перечислением этнографических и политических последствий этого факта, собирание земель Москвою, состав московского боярства и его борьба с московскими великими князьями, служилое землевладение и происхождение крепостного права на крестьян — вот вопросы, на которых подробно останавливался Василий Осипович в первой половине своего курса, прослушанной мною в 1888 году. Такие отделы, как экономический и социальный строй Киевской Руси, устройство северного удела, состав московского боярства, происхождение крепостного права — были, действительно, его оригинальными исследованиями. Вся черновая техническая сторона работы в лекциях была, разумеется, скрыта; но Василий Осипович не ограничивался только изложением одних конечных выводов и результатов; он с необыкновенным искусством вводил слушателей в ход своей исследовательской работы, выпукло излагая процесс мысли, наблюдений и заключений, иллюстрируя наблюдения яркими убедительными, конкретными примерами и опуская со свойственным ему чувством меры мелкие запутывающие детали, не подчиняющиеся и самому напряженному вниманию аудитории. Неограниченно властвуя этим вниманием, он никогда не злоупотреблял им, не утомлял его мелочами и вел его только по главным нитям, по магистралям своей мысли, постоянно выступая ему на помощь и облегчая ему работу усвоения посредством частых резюме пройденного, служивших как бы станциями, отдохнув на которых, слушатели запасались силами на дальнейший путь. На самом пути уровень внимания
лектор поддерживал другим приемом; замечая его понижение, он освежал его остроумным рассказом, иногда характерной цитатой, даже просто метким остроумным сравнением, на который он был такой мастер. По аудитории точно пробегала электрическая искра, проносился раскат освежающего и ободряющего смеха, и восстановленное внимание готово было опять послушно и покорно следовать за руководителем. И какое высокое наслаждение было следовать за этой тонкой, ясной, стройной и изящной мыслью, за этим процессом анализа, который повторялся лектором, произведшим его уже у себя в кабинете, вновь в общих чертах совместно с аудиторией. Созерцание этой тонкой мыслительной работы, соприкосновение с нею и участие в ней как-то просветляло и утоньшало собственную мысль, изощряло ее работу, воспитывало ее. С лекций Ключевского всегда, бывало, уходишь с новыми знаниями, которые на ней приобретались, но — что еще гораздо важнее — чувствовалось, что с нее уходишь, став несколько умнее, чем пришел на нее. Свет его мысли просветлял и мысль его слушателей. Какие бы сильные доводы ни приводились против лекционной системы, они все падут перед силой того обаятельного и того воспитывающего действия, какое производили на слушателей лекции Ключевского.
Прибавьте к действию его тонкой и изящной мысли еще и действие его несравненного стиля. Особенностью его стиля надо признать необыкновенно счастливое сочетание трех качеств: точности, силы и образности. Точность языка при сжатости выражении придавала его стилю как бы некоторую математичность, резко отличавшую его лекции от расплывчатого и довольно небрежного начиненного иностранными словами языка, которым обыкновенно излагаются исторические курсы. Эта математичность создавалась благодаря точным определениям и формулам, к которым любил прибегать Ключевский и которые делали его обширный курс доступным для памяти. Мало того, предлагавшиеся им на лекциях сжатые формулы, обладали свойством запоминаться со студенческой скамьи на всю жизнь. Разве можно когда-нибудь забыть подвижной характер княжеской дружины, переменчивое отношение ее к князьям и волостям, выраженное формулой: «дружина меняла волости, как их меняли князья, и меняла князей, как меняли их волости»; или разве исчезнет когда-нибудь из памяти, до тех пор пока не угаснет и самая память, формула, изображающая последствия удельного порядка в северной Руси: «под действием удельного порядка владения, северная Русь дробилась все мельче, теряя и прежние слабые связи политического единства; вследствие этого дробления князья
беднели, беднея замыкались в свои вотчины, замыкаясь, теряли политическое значение блюстителей общего блага, а теряя это значение, дичали». Каждая такая формула может быть свободно развита и удобно развернута в целое рассуждение, но, ведь, за нею и кроется, в нее вложен целый мыслительный процесс, результатом и квинтэссенцией которого она явилась и, как результат которого, она сообщалась аудитории. Язык Ключевского всегда отделан; слов употребляется ровно столько, сколько нужно для ясного выражения смысла, все лишнее прибрано, никогда нет никаких так называемых общих мест, ненужных слов, фраз, никаких робких: «едва ли» и «едва ли не», «с одной стороны — с другой стороны», «мы не ошибемся, если скажем» и т. п.; словом, никогда нет того научного кривлянья, из-за которого сквозит робость, бедность, а иногда отсутствие мысли. Выбранные им слова как бы отчеканены, фразы точно выкованы из металла сильною рукою мастера, выражают смелую мысль, идя к ней напрямик без обиняков, метким и сильным словом, коротко, но ярко характеризуют изучаемое явление. Когда он хочет сказать, что сельский порядок верхневолжской Руси не остался без влияния на характер княжеской власти, он говорит: «в удельном князе XIV века меньше земского сознания и гражданского чувства; в этом отношении он больше варвар, чем его южный предок, какой-нибудь младший областной Ярославич XII века, и если он меньше последнего дерется, то лишь потому, что он по воспитанию и вкусам больше мужик малопривычный ко всякому бою, в сравнении со старым южным князем, еще сохранившим наследственные привычки витязей». Здесь одно сильное и меткое слово «мужик» в приложении к князю говорит больше, чем целая характеристика. Когда он, характеризуя царя Федора Ивановича, хочет обозначить забитость и подавленность его воли, не умевшей обойтись без властного руководителя, и объяснить этим появление при Федоре Годунова, он говорит, что «под гнетом отца он потерял свою волю, но сохранил навсегда заученное выражение забитой покорности. На престоле он искал человека, который стал бы хозяином его воли: умный шурин Годунов осторожно встал на место бешеного отца». Разве эти два слова: «бешеный отец» не воскрешают перед нашей памятью целый образ царя Ивана?
Уже этих двух качеств стиля: точности и силы достаточно, чтобы сообщить ему и трете — красоту, потому что точный и сильный слог не может не быть красивым. Но язык Ключевского красив еще особой разлитою в нем художественною красотою, красотою поэтических сравнений и колоритных образов, которые не только возбуждали
внимание в слушателе, но и вызывали в нем эстетическую эмоцию, и не помню кто, характеризуя лекции Ключевского, верно сравнивал впечатление от них с действием музыки Бетховена. Тонкая красота его мысли передавалась в блещущее красотой слово, а это изящное слово выходило из его уст, облеченное в красоту звуков его удивительного голоса. Под действием красоты мысли, слова и звуков, бывало, выходишь с лекции Ключевского в просветленном очаровании и, действительно, испытываешь то же радостно взволнованное, повышенное и именно просветленное настроение, какое случается уносить после выдающегося исполнения классической музыки. Долго потом звучали в ушах эти звуки, вставали в памяти, как живые развернувшиеся образы и передумывались высказанные мысли.
Его лекции, как мы их знаем в печатном курсе, полны сильного чувства к родной старине, к былым событиям и людям; он не хочет его обнаруживать, он держится строгим объективным, ученым исследователем; но чувством согрета каждая его страница и, будучи в скрытом виде, оно производить еще более сильное действие на читателя, как и вообще прикрываемое сдерживаемое чувство, которое мы замечаем в другом, действует на нас сильнее, чем открытое его проявление. И при чтении им лекций аудиторию заражало то же передававшееся всем сдерживаемое, но сильное чувство. Он читал сам с воодушевлением, нередко заканчивал лекцию с огнем, который зажигал аудиторию, разражавшуюся бурей аплодисментов; их не могли сдержать никакие правила и запрещения, ни просьбы его самого, ни, как я раз помню, самое присутствие в аудитории министра народного просвещения Делянова4, творца устава 1884 г., строго запрещавшего в университете всякое выражение одобрения профессору, о чем говорилось в правилах. Но разве можно запретить невольное проявление восторга в зале, слушающей игру гениального артиста? А Ключевский не читал, а вдохновенно разыгрывал свои лекции, до того они были выразительны и воодушевлены. Он всегда читал их, имея перед глазами написанный их текст, он был именно лектор, а не оратор, ему приходилось неоднократно повторять их в том же самом виде, но что нам за дело до того, что гениальный композитор-пианист, чаруя нас своею игрою, держит перед собою ноты? И разве нам наскучит когда-либо слушать одну и ту же сонату Бетховена, в которой, чем большее число раз ее слушаешь, тем все больше красоты находишь?
Н.А. КОЛОСОВ
Профессор В.О. Ключевский
(Краткий некролог и личные воспоминания)
12 мая текущего года скончался в Москве профессор по кафедре русской истории в Московском университете и (почти до самого последнего времени) в Московской духовной академии Василий Осипович Ключевский. Богато одаренная натура покойного была так разностороння и личность его была так высоко интересна, что к биографическим и библиографическим сведениям о нем пишущий эти строки сначала, в бытность свою студентом академии, ученик покойного, а потом, во время своей восьмилетней службы в академии, до некоторой степени и его сослуживец, довольно близко знавший его в то время,— решился присоединить и несколько личных о нем воспоминаний.
Сын священника Пензенской епархии* Василий Осипович родился 23 января 1842 года. Рано научился он грамоте и уже восьми лет читал вслух своей бабушке жития святых, которые впоследствии избрал материалом для ученой работы1. «Потерянный рай» Мильтона2, вместе с некоторыми другими литературными произведениями, бывшими в ходу в то время, были одними из первых светских книг, прочитанных им в раннем детстве.
Поступив потом в Пензенскую духовную семинарию, он закончил ученье в ней философским классом, откуда перешел на историко-филологический факультет Московского университета. Еще будучи студентом университета, В. О. обратил на себя внимание покойного историка и ректора Московского университета С. М. Соловьева, обратил настолько, что был вхож к нему в дом. И с обычным своим юмором В. О. рассказывал некоторые эпизоды из этого знаком
* Не без чувства некоторой если не гордости, то по крайней мере удовлетворенности, В.О. рассказывал пишущему эти строки, что он лишь однажды в жизни встретил однофамильца — какого-то генерала на Кавказе.
ства. И тогда уже В.О. отличался остроумием, и Соловьев немало смеялся его остротам. И В. О. ставил это себе в некоторую заслугу. «Посмеется, бывало, Соловьев, придет в хорошее настроение, а потом хорошую страницу напишет»... У Соловьева был даже оригинальный обычай поощрять остроумие: он платил по пятачку за остроту: «Получите пятачок за остроумие».— «Бывало, пред уходом пошутишь,— рассказывал В. О.,— Сергей Михайлович! мне надо ехать четыре станции: где я возьму четыре остроты?» — «Пешком пойдете»,— ответит на это Соловьев. С большим юмором передавал В. О. и рассказ покойного зятя Соловьева — Н. А. Попова о его хлопотах в Академии наук о назначении премии за одно из его сочинений.
В университете В.О. кончил курс в 1865 году, вторым кандидатом, и вскоре, в 1867 году, стал (до 1873 г.) преподавать историю в Московском Александровском военном училище, а в 1871 году, вследствие рекомендации С.М. Соловьева тогдашнему ректору Московской духовной академии прот. А. В. Горскому, был определен приват-доцентом академии по кафедре русской гражданской истории, которую и занимал до осени 1906 года, когда он вышел из академии — главным образом, вследствие значительного ухудшения здоровья. 26 января 1872 года им была защищена диссертация на степень магистра русской истории на тему «Древнерусские жития святых как исторический источник» (его кандидатское сочинение «Сказания иностранцев о Московском... государстве» было тоже напечатано3), и вскоре после этого советом академии он был избран в доценты. В 1879 году В.О. советом Московского университета был избран доцентом по кафедре русской истории, на место С.М. Соловьева, и в этом же году советом академии избран в экстраординарные профессора. По защите докторской диссертации, в 1881 году, он был избран экстраординарным профессором в университете, в следующем году получил ординатуру в академии, а через два года и в университете. Кроме того, он преподавал русскую историю на высших женских курсах и в училище живописи и ваяния в Москве. В 1887-1889 годах исполнял должность декана историко-филологического факультета, с 1889 года около полутора года состоял помощником ректора в университете и последние годы службы был заслуженным профессором и в академии, и в университете. Зиму 1893-1894 года В. О. преподавал в Абас-Тумане историю великому князю Георгию Александровичу, а в бытность великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором читал лекции по русской истории ему. С 1900 года состоял ординарным академиком Академии наук по истории и древностям российским, с 1893 по 1906 год был
председателем Московского общества истории и древностей российских, а в последние годы жизни состоял почетным членом академии и университета и почетным академиком Академии наук по разряду изящной словесности. По поводу тридцатилетия его профессорства в университете в 1909 году кружком его учеников, друзей и почитателей был составлен и посвящен ему большой сборник исторических (преимущественно по русской истории) статей, где между прочим помещен и полный список его ученых трудов4.
Помимо упомянутых уже ученых трудов В. О., им изданы (с 1904 по 1908 г.) четыре тома «Курса русской истории», доведенного до царствования императр. Екатерины II (к несчастью, пятый и шестой томы «Курса» остались почти неотделанными, хотя и появятся в печати в обработке и под редакцией его учеников); «Краткое пособие по русской истории», три издания (Москва, 1904-1908 гг.); «Значение преподобного Сергия в истории русского народа» (речь на торжественном акте в Московской духовной академии в память пятисотлетия со дня кончины пред. Сергия — 26 сентября 1892 г.); «Происхождение крепостного права»; «Состав представительства на земских соборах древней Руси»; «Русский рубль»; «Западное влияние в России XVII века»; «Добрые люди древней Руси»; «Содействие древней церкви успехам гражданского права и порядка»; «Евгений Онегин и его предки» (все три — публичные лекции); «О Новикове», «Грусть» (памяти Лермонтова), «Новооткрытый памятник по истории раскола»5 и мног. другие. И уже во время своей предсмертной болезни В. О. писал статью, которая осталась неоконченной.
В. О. вообще не жаловался на нездоровье. Напротив, он не прочь был иногда даже похвастаться своим здоровьем. Так, передавая разные подробности из своего пребывания в Абас-Тумане®, он рассказывал, между прочим, что для некоторых из живших там лиц разреженный вследствие довольно значительной высоты резиденции покойного великого князя воздух был очень тяжел, и они почти задыхались в нем и не спали ночи. — «Бывало N (тут В. О. называл фамилию одного медика) придет ко мне ночью, разбудить меня: “Как вам не стыдно спать так крепко, когда я задыхаюсь!” — а я ему: “А я чем виноват, что мне матушка дала здоровое сердце”». Вот на зубы только неоднократно жаловался В.О. Однажды, приехав из Москвы, он рассказывает: «Выбрал себе восьмую часть рта!» — «Как это так?» — спросил я,— «Атак,— ответил В. О.,— четыре зуба сразу: ведь во рту тридцать два зуба». Но потом В.О. стал прихварывать и как-то сразу поседел и еще более согнулся, хотя продолжал оставаться таким же бодрым и оживленным. Сильно по
действовала на него внезапная смерть жены, в марте 1909 года, и он после этого еще более состарился и замкнулся. В конце 1910 года у него настолько ясно обнаружились признаки каменной болезни, что он должен был лечь в больницу доктора Стороженко, где ему были произведены, одна за другою, две операции. Хотя операции эти были перенесены В. О. благополучно, улучшения не только не последовало, но появились еще осложнения в почках и других органах и затем сильная слабость. Почти до самой кончины В.О. был в сознании.— 12 мая он скончался.
Отпевание В. О-ча было совершено 15 мая в университетской церкви преосвященными Трифоном и Анастасием с многочисленным духовенством. Погребен В. О. в Донском монастыре.
Бывают два типа профессоров: одни гремят главным образом в своих ученых трудах, другие — все, целиком — на кафедре, в аудитории, в лекциях. К последним принадлежал и Ключевский. Припоминая прошлое, не без удивления вспоминаю, что о Ключевском даже в последние годы ученья в семинарии я не слышал ни одного слова и о существовании его не подозревал, тогда как об остальных профессорах-историках Московской духовной академии — Голубинском, Субботине и Лебедеве7, в особенности же о первом, в семинарии ходили прямо легендарные рассказы; помимо этого, мы их в старших классах семинарии и читали. Первый раз фамилию Ключевского я услышал, уже поступив в академию. Но зато здесь это имя гремело. О достоинствах лекций и ученых трудов В. О-ча, о художественности их и о значении его как историка было сказано, и притом специалистами, уже достаточно и, разумеется, сказать что-либо новое в этом отношении я бы не мог; передам лишь вкратце свои личные впечатления. К кафедре шел, согнувшись, худощавый и сутуловатый человек в черном сюртуке или форменном фраке, с маленькой и реденькой бородкой, в очках, с необыкновенно умными (о которых можно было сказать, что из них семь умов светит) и проницательными глазами и с замечательно же интеллигентным, чисто профессорским лицом. Усевшись на кафедре, он доставал из бокового кармана маленький конспектик, в который изредка и на одно мгновение заглядывал, и начиналась его живая, образная, с своеобразною интонацией речь. Говорили, будто он заикается, но на лекциях, ни в особенности впоследствии, во время многократных с ним разговоров, я почти не замечал в нем этого недостатка. К дикции и интонации его не сразу можно было привыкнуть: и интонация его с первого взгляда казалась монотонной, и останавливался он как будто совсем не на знаках препинания; но после недолгого времени его речь уже казалась музыкой. Относительно содержания
лекций уже тогда в голову приходило определение, появившееся в печати после его смерти — что это была собственно не история, а философия истории. Факты предполагались известными: о них упоминалось лишь постольку, поскольку они служили подтверждением или иллюстрацией высказанных положений. Разделив историю на периоды, В.О. начинал каждый период указанием главнейших факторов (его обычное выражение), действовавших в этом периоде. Нагромождения фактов, «массы подробностей, в которых тонут основные мысли» (его буквальное выражение), он не любил и преследовал и в студенческих сочинениях. Во времена моего студенчества рассказывали, будто В. О. как-то так отозвался об истории Соловьева,— что Соловьев в своей истории проглядел безделицу — русский народ. Было ли в действительности сказано Ключевским что-либо подобное, я не знаю, но в лекциях его жил и действовал, волновался и страдал действительно русский народ, с своими правителями; выяснялись управлявшие событиями факторы религиозные, политические, социальные, бытовые, экономические (но отнюдь не одни только экономические), моральные и иные. И в лекциях В. О-ча оживала душа русского народа, из них смотрело его политическое лицо, и ясным, и понятным становилось, почему именно так, а не как-либо иначе развертывались события русской истории; выяснялась суть событий, отличие русского народа от иностранцев. Это было, если можно так выразиться, обозначение глаз на лице русской истории. Иногда, для обозначения какого-либо фактора, В. О. брал какое-либо удачное современное событиям и выражавшее суть дела положение (напр.: «не повелось», «брели розно»). Но вот кончалось глубоко серьезное выяснение факторов данного периода, и начинались иллюстрации и характеристики. И здесь художественный юмор В. О-ча сверкал такими яркими ослепительными искрами, что гомерический хохот не смолкал в переполненной донельзя аудитории, и долго еще после окончания лекции слушатели не могли успокоиться и повторяли, и передавали небывшим на лекции некоторые выражения В. О-ча. Лекции его студентами университета записывались и литографировались (оттуда и мы, студенты академии, приобретали их для себя) и перед литографированием представлялись В. О-чу на просмотр. И рассказывали, что он просматривал и исправлял их с величайшею тщательностью. «Наука,— говаривал (правда, не студентам) В. О.,— гордая красавица, за которою долго нужно ухаживать». Но на экзаменах в академии В. О. был снисходителен (передавали, будто в университете он был строже). Не требовал многого он и от студенческих (так называемых семестровых, не кандидатских) сочинений. Помню,
как, дав нам тему о причинах Брестской унии8 и порекомендовав нам в качестве пособия только девятый том «Истории русской церкви» митрополита Макария9, он прибавил: «Я вам советовал бы и даже просил бы: кроме того, что мною указано, не читать». И затем распространился о том, что студенческие сочинения не имеют какого-либо самостоятельного значения, а имеют характер только упражнений.
Знакомство с самим Василием Осиповичем началось у меня только с моего поступления на службу при академии (на должность библиотекаря академической библиотеки) и во все восемь лет моей службы при академии было довольно близким. Одною из наиболее привлекательных черт характера В. О-ча было отсутствие в нем даже тени какой-либо профессорской важности. В отношении к студентам он был, правда, очень осторожен, хотя и неизменно прост и доброжелателен, но в отношениях к академической корпорации был со всеми совершенно одинаков. Даже более, он вообще держался ближе и охотнее сходился с младшими членами академической корпорации: доцентами, библиотекарем, секретарем, помощником инспектора. Даже к своему чину (действительного статского советника) он относился по большей части юмористически. Вот до чего он был прост: однажды утром в понедельник мы вместе ехали с ним из Москвы в Посад. Всю дорогу В. О. говорил без умолку; а когда приехали в Посад, он вдруг, схватив мой саквояж, сказал: «Позвольте, я вам донесу». Не без некоторого труда освободил я, сконфуженный, свой саквояж. Знакомство с ним началось у меня тогда, когда, вступив в должность и начав делать служебные визиты, я пришел к нему в гостиницу. В разговоре коснулись недостатков библиотечного здания и между прочим сильного холода в нем. В этом неудачном здании отопление иногда совсем переставало действовать, и температура в библиотеке вдруг опускалась на 10 и более градусов ниже нуля (а прекращать занятия в ней и при таких обстоятельствах было нельзя), или из тепловых отдушин вырывались густые клубы дыма; а холод, угар и сырость были обычным и постоянным явлением. От всего этого потерял зубы, ноги, а отчасти и глаза помощник библиотекаря покойный иеромонах Рафаил,— это же унесло значительную часть здоровья и у пишущего эти строки*. Так вот, при упоминании о холоде в библиотечном здании В. О. посоветовал мне обвязывать там голову платком. «Но ведь это будет очень смешно, будут смеяться»,— сказал я. «Лучше быть смешным, чем больным»,— с своей
* Капитальный ремонт, с переустройством отопления, был произведен в библиотечном здании лишь в конце моей службы при академии.
характерной интонацией возразил В.О. Иногда перед обеденным перерывом занятий в библиотеке В.О. заходил в библиотеку и вел меня к себе, в свой неизменный семидесятипятикопеечный номер в среднем этаже старой лаврской гостиницы, или приглашал вечером. Приходили и другие, по большей части из молодежи, и начиналась задушевная, украшенная остроумием и юмором хозяина беседа. И можно было целые часы просидеть за этой беседой, не замечая времени и с большим сожалением прекращая ее. Бывало, и в профессорской комнате, в перерывах между лекциями, В. О. всегда можно было застать не иначе, как стоящим среди комнаты, с папироской в руках, и с оживленной миной что-нибудь рассказывающим. Или придет, бывало, он в библиотеку, в которой неоднократно производился ремонт. «Вы все чинитесь: ни дать, ни взять, как»... (при этом он, бывало, упоминает, не называя имени, о ком-либо из своих знакомых). В беседах он бывал иногда очень откровенен: рассказывал некоторые случаи из своей жизни, события, случаи и анекдоты из истории и т. п. Немало рассказывал он и об оригинальной обстановке жизни в Абас-Тумане, об афоризмах, читанных им и другими на одном из бывших там вечеров, причем в особенности припоминал один из своих афоризмов, именно, что отрицать царя можно только не имея царя в голове и т. д.
Не могу без чувства глубокой признательности к памяти Василия Осиповича не упомянуть о двух случаях проявления его доброты и доброжелательности ко мне. Узнав о болезни одного близкого ко мне человека, В. О. предложил мне, сам, без намека даже с моей стороны, поместить больного в клинику знаменитого московского профессора-врача и под непосредственное наблюдение его главного помощника, близко знакомого и много обязанного В. О-чу. (В этом, правда, не представилось надобности, но уж не по вине В. О-ча.) «Нужно же для вас что-нибудь сделать!» — неоднократно повторил он при этом. И это тем более замечательно, что мне услуг В. О-чу оказывать приходилось не особенно много, так как в библиотеку обращался он не особенно часто. Другой случай относится к 1896 году. Весною этого года я хотел перейти на должность библиотекаря в Московский университет, и В. О. вместе с покойным профессором Алексеем Петровичем Лебедевым содействовал мне в этом. (На баллотировке избранный на эту должность получил на один или два голоса больше меня; остальные баллотировавшиеся получили меньше меня.)
Чрез В. О-ча я иногда пополнял академическую библиотеку отсутствовавшими в ней... академическими диссертациями. Дело было
в следующем. По уставу, представляющие в совет академии сочинения на степень магистра или доктора должны, в случае признания их советом удовлетворительными, представить в совет пятьдесят печатных экземпляров сочинения. Эти экземпляры раздаются членам академической корпорации и рассылаются — в Императорскую публичную библиотеку, Румянцевский музей и по университетам и другим высшим учебным заведениям, с которыми академия имеет обмен изданиями. С течением времени количество таких учреждений увеличилось, и из канцелярии нашей академии перестали давать экземпляр для академической библиотеки — на том основании, что-де авторы диссертаций, в библиотеку, конечно, пожертвуют их сами. Но авторы, несмотря даже на мои напоминания и просьбы, жертвовали свои диссертации в академическую библиотеку далеко не всегда. В результате получалось нечто архинелепое: в академической библиотеке не оказывалось ни одного экземпляра диссертаций, одобренных академией. Заботясь в особенности о пополнении русского отдела библиотеки (довольно-таки скудного), я пускался на всевозможные хитрости для приобретения недостающих диссертаций. Вот тут-то я и пользовался добротою В. О-ча. Я брал из канцелярии предназначавшиеся для него экземпляры диссертаций, относительно которых имел основание полагать, что они ему не нужны (напр., чисто богословского содержания), и при встрече просил В. О-ча пожертвовать их в академическую библиотеку. «А какая книга? » — спрашивал В. О. и, выслушав заглавие, шутливо восклицал: «Жертвую!.. Жертвую!..» Таким образом я приобрел для академической библиотеки несколько академических диссертаций. А покупать их было нельзя, так как они должны были поступать в библиотеку даром.
У В. О-ча и у самого была большая библиотека. «Хоть и не Бог знает, какая у меня библиотека,— сказал он однажды по какому-то поводу еще в девятидесятых годах,— а все тысяч пять томов наберется. А куда мне их девать, кому отдать после смерти?..»
Занятия наукой до того поглощали В. О-ча, что у него совсем не оставалось времени для постороннего чтения. «Уже тридцать лет я не читаю никакой беллетристики»,— говорил мне В. О. в 1895 или 1896 году.
Для примера приведу один из образцов остроумия В. О-ча, расточавшегося им без счету. «Есть люди двух родов,— сказал он как-то: — одни прежде думают, потом поступают, другие прежде поступают, а потом думают. Последнего рода людей обыкновенно называют решительными. Есть люди, которые думают, не поступая — это философы. И есть люди, которые поступают не думая — это женщины»...
Академическую библиотеку нередко посещают для занятий (главным образом рукописями) посторонние профессора и ученые, иногда даже и иностранцы. В особенности это бывает во время летних вакаций. Однажды с этой целью приехал в академию известный профессор византолог К. Крумбахер10, ныне покойный, автор известной «Истории византийской литературы» (как рассказывал В. О., в три месяца изучивший в Вене русский язык). С ним приехал В. О., хотя день был не лекционный; кроме того, их сопровождал один из наших академических доцентов, специально занимавшийся византологи-ей. Когда мы пришли в библиотеку, я достал нужные Крумбахеру рукописи, и он стал их рассматривать, а нас В. О. отвел в другую комнату библиотеки (день был неприсутственный, и посторонних в библиотеке не было) и начал рассказывать, между прочим из недавнего прошлого, так остроумно и занимательно, что мы искренно пожалели, когда минут через сорок Крумбахер, кончив просмотр рукописей, подошел к нам, и нужно было уходить из библиотеки.
В заключение — еще одно воспоминание. В 1892 году, во время празднования в Лавре пятисотлетия со дня кончины преподобного Сергия, и в академии был устроен, 26 сентября, торжественный юбилейный акт, в присутствии высокопреосвященного Леонтия и, преосвященных, профессоров, студентов и посторонней публики. И из трех, произнесенных на этом акте речей, последняя принадлежала В. О-чу. Он говорил о значении преподобного Сергия в истории русского народа. И речь его была так высокохудожественна и с таким подъемом и задушевностью сказана, что, казалось, превосходила все, слышанное от него раньше. После его речи и вместе окончания акта, я первый подошел к нему, со словами: «Ну, В. О., вы самого себя превзошли!» — «Вот как,— ответил на это В. О.,— самого себя за волосы стащил». Но слова эти ему, очевидно, все таки понравились, так как потом я слышал, как он говорил: «Вон, говорят, что я самого себя превзошел».
Многое можно было бы и еще рассказать о В. О-че, но довольно и этого. Ученый, мыслитель, художник, замечательный остроумец и просто хороший человек соединились в нем в редком и счастливом сочетании. И всякий, кому приходилось встретиться с ним, думаем, не забудет этих встреч. Да упокоит его Господь в Своих небесных селениях, и да будет ему вечная память!
Н.М. ЛИКИН
Памяти В.О. Ключевского
Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют только те... кто непосредственно испытывает на себе их действие; стороннему трудно растолковать и дать почувствовать , впечатление от урока учителя или от лекции профес-
- сора. В преподавательстве много... что трудно передать
и еще труднее воспроизвести.
В.О. Ключевский о проф. историке С.М. Соловьеве
Умер профессор, знаменитый историк, Василий Осипович Ключевский. Все, кто был в Московском университете и прослушал хоть одну лекцию по русской истории Ключевского,— те никогда не забудут ни лекций, ни профессора.
Аудитории В. О. всегда были полны, как в старых, не отличавшихся размером, так и нынешних, вновь отстроенных громадных помещений.
Тайна силы, тянувшей весь университет в эти аудитории на лекции по русской истории, находилась в руках Василия Осиповича.
Еще не видев и не слышав профессора, студенты уже находились под обаянием этой силы. Впечатление же от лекции всегда было громадно. Пусть послужит иллюстрацией этому приводимый здесь рассказ о первой прослушанной автором лекции Ключевского в 1903 году. Он записан по первым впечатлениям тогда же и приводится почти без изменений.
27 сентября (1903 г.) я немного ранее поехал в университет — была суббота, день лекции Ключевского,— и направился прямо в Новое здание, чтобы узнать, где будет читать В.О. Ключевский.
В это время появился он сам и стал раздеваться. «Здесь, стало быть»,— промелькнуло у меня. Я скоро разделся и побежал наверх в Большую Словесную занять место. Там уже было много народу, но были еще свободные места.
Для большей уверенности, я сбежал снова вниз, чтобы не упустить профессора, как это было в прошлый раз, когда половина студентов не могла попасть на лекцию, не зная, где ее читают.
В это время Ключевский стоял уже около своего пальто и ему кто-то говорил, что наш субинспектор находит аудиторию Старого здания* более удобной для чтения, и поэтому профессор намеревался пойти туда.
Я снова взобрался наверх, захватил свою тетрадь и мигом очутился внизу, оделся и как мог скорей отправился в Старое здание. И там народу было уже не мало; студенты, кроме того, непрерывно подходили. Я все-таки успел занять свое место и выйти из аудитории полюбопытствовать, что делается вне ее. Студенты все шли; субинспектор вздумал было не пускать не-филологов**. Но пока останавливал одних, у других осматривал выданные им права на посещение лекций, многие из посторонних зашли в аудиторию; другие толпами теснились в узких дверях и проходах. Суб был оттеснен***, и наша не отличавшаяся своими размерами аудитория была битком набита. Трудно было протиснуться к своему месту или даже пройти к кафедре. Субинспектор явился было, расчищая дорогу профессору, но тот, сделав два, три шага, сказал, что надо найти другую аудиторию, и вышел. Все хлынули за ним.
В узких дверях аудитории и в двух-трех таких же между проходными залами поднялась страшная теснота: все спешили одеться.
Но в самых последних дверях, у выхода, произошла снова остановка; мы все стояли одевшись, многие одевались, другие подходили, чтобы одеться. Поднялся шум, возгласы: «Что мешает идти?» Предлагали сломать двери, чтобы не задерживала она выхода. Но ничто не помогало; приходилось ждать. Слышались негодующие крики по поводу обмана, которым хотят не допустить попасть вовремя на лекцию. «Неужели нужно подчиняться каким-то глупым правилам инспекции!» — раздавалось в разных местах. Наконец обе половинки двери были отворены; выходить стало свободнее.
* Гораздо меньшую первой, отличавшейся вообще своей вместительностью.
'* В это время и в ближайшие за ним годы помещение аудитории было не свободно; тем большего труда стоило попасть на лекцию Ключевского. Но все шли, не считаясь с трудностями, лишь бы послушать Василия Осиповича.
'* Впоследствии, как правило, для просмотра студентов стягивалась вся низшая администрация почти всех факультетов и выстраивалась на лестницах.
На дворе пришлось снова остановиться, так как решительно не знали, куда идти. Ключевский же, как передавали, пошел в университетскую канцелярию справиться, где ему читать.
Вся эта толпа ждала на дворе под крупным дождем минут 10-15. Многие были в одних тужурках. Наконец узнали, что Ключевский будет читать в Новом здании, в Большой Словесной, где намеревался раньше.
Почти целый час прошел в поисках.
Когда я пробрался снова в эту аудиторию, то все уже места были заняты; пришлось придвинуть к стене парту и сесть на нее.
Все свободные проходы, подоконники — все было сплошь занято, окно было растворено, так как при плохой вентиляции не было воздуха*.
Вскоре появился В.О. Ключевский. Аплодисменты и возгласы приветствовали его путь к кафедре.
Профессор, взойдя на кафедру, шутливо-досадливо отмахивался руками около своего лица, приглашая тем замолкнуть. Приветствие кончилось, раздались призывы к тишине и послышался едва слышный сначала и все более и более внятный, по мере (очень быстрой) успокоения, голос профессора.
...«Господа, я тронут знаками вашего внимания... благодарю вас; но они отнимают у нас несколько минут нашего времени. Если можно, не проявляйте так долго... а еще лучше, если совсем их оставите». И тут, упомянув о прошлой лекции, на которой я не был, кажется, пересказав ее вкратце вновь, В. О. приступил к настоящей, и мы все отдались вниманию.
Лишь изредка поднимался дружный, негромкий возглас одобрения или волной пробежит смех при неожиданном сопоставлении двух контрастов или метком слове профессора.
Пробил звонок; никто не думал об этом и вряд ли кто не забыл его моментально. Лекция продолжалась; все слушали, все не прерывали внимания. Немного ранее второго звонка** профессор закончил свою лекцию, заявив, что «о причинах, почему у нас самозванцы имели такую силу и успех» он скажет в следующую субботу.
Студенты расступились, и В. О. Ключевский вышел из душной, жаркой, переполненной, аплодирующей аудитории.
* К зиме были временно устроены особые вытягиватели по потолку аудитории.
** Промежуток между лекциями 20 минут; второй звонок возвещает о лекции следующего по расписанию предмета.
Трудно было попасть на лекции Ключевского, но зато и дорожили же все каждым его словом. Да как было и не слушать слов Василия Осиповича, которых никто лучше его и не мог говорить. Свои лекции он называл просто «чтением», и он действительно читал по своим же лекциям; поправлялся даже и перечитывал отдельные слова и выражения, если ошибался или не так произносил: ни одного слова он не считал возможным в своих чтениях переставить... Но как читал! Говорят, что и обаяние Грановского заключалось в его слове. И на лекцию Ключевского забирались с 9 ч. утра, прослушивали даже богословию*, лишь бы оставить за собой место на лекцию Ключевского, и В. О. на себе оправдывал всегда, как велика сила «от слова или лекции профессора» на тех, «кто непосредственно испытывает их на себе действие», как много в преподавательстве, что «трудно передать и еще труднее воспроизвести»...
14 мая 1911 г.
Обыкновенно мало посещаемый предмет, но читавшийся в Большой Словесной.
Е.Я. КИЗЕВЕТТЕР
Заметки о В. О. Ключевском. 1911 год
(Отрывки из дневника)
18янв[аря]
Вас[илий] Ос[ипович] Ключевский все еще в лечебнице1. Рахманов2 сообщал Саше по телеф[ону], что он ездил к Вас[илию] Осиповичу]3, чтобы нащупать почву о4 положении статьи Вас[илия] Осиповича] в юбилейный сборник 19-го февр[аля]5. Застал Вас[илия] Осиповича] еще в постели, хотя б[ыло] уже часа 2 дня. Доктор сказал Рахманову, что он считает Вас[илия] Осиповича] здоровым, и он мог бы уже выйти из лечебницы, свищ, который не закрывается (после операции вынутия камня из мочевого пузыря), опасности не представляет.
Вас[илий] Осипович] стал говорить Рахманову, что он статью для сборника неизвестно, когда еще напишет, и лучше пусть выпускают сборник6 без него, а то ждут статьи, сборник не выходит в свет, наконец7 выйдет со статьей Вас[илия] Осиповича],— и станут разочарованно говорить: Эту-то статью ждали!.. Пусть Ал[ександр] Александрович]8 пишет, у него хорошо выйдет. Рахманов ответил, что Саша9 уже написал о Милютине10, а об Александре] II непременно надо писать Вас[илию] Осип[овичу].
Так Рахманов и уехал ни с чем, а потом Борис Ключевский11 сообщил ему, что статью-то отец уже написал и вышло очень удачно, только конца еще нет, да переделывать и отделывать Вас[илий] Ос[ипович] будет без конца... Когда он печатал в журнале, бесконечно при корректуре выпускал и вставлял отдельные слова и фразы.
Вас[илия] Осип[овича] до операции очень мучила болезнь постоянной жаждой и местными явлениями. Операция сошла хорошо. Он уже очень давно в лечебнице, пожалуй, месяца два. Степан Федоров[ич]12 передавал Саше, что тамошние фельдшерицы завели тетрадку, чтобы записывать его словечки. Саша нас
сегодня тоже насмешил. Рассказывает, что барышня С. выходит замуж за офицерика. А она высокая, массивная, а он тоненький, невысокий. Батюшки! Говорит Саша13: Ему придется носить с собой лестницу: как захочет поцеловать невесту, приставит лестницу и взберется...
20 янв[аря]
Вчера Саша говорил по телефону с Борисом Ключевским. Все по поводу злополучной статьи Вас[илия] Осиповича] в Рах-мановский сборник. Борис сообщил, что Вас[илий] Ос[ипович] очень опечален тем, что Рахманов из разговора своего с Вас[илием] Осиповичем] в лечебнице не понял, что Вас[илий] Ос[ипович] не предполагает написать обещанной статьи, а категорически14 об этом сказать, должно быть, у Вас[илия] Ос[иповича] не хватило духу, так как статья им давно обещана. Саша продолжительно висел на телефоне, все слушал15 Бориса и обсуждали, как поступить. Саша предложил, если Вас[илий] Ос[ипович] разрешит приехать к нему и выслушать от него его окончательное решение по этому делу, руководствуясь16 единственно желанием Вас[илия] Ос[иповича] и передать это решение Рахманову. Борис хотел об этом сообщить Вас[илию] Ос[иповичу]. А уж сегодня с утра звонит в телефон Рахманов и с большим волнением сообщает17, что сегодня получил от Вас[илия] Ос[иповича] письмо, где тот категорически заявляет, что статьи в сборник он написать не может, так как болезнь отняла у него то время, которое он определил на писание этой статьи, а теперь по выходе из лечебницы он должен заняться продолжением своего курса для печатания18. Письмо написано в такой категорической форме, что Саша нашел неудобным настаивать на своем и не советовал Рахманову этого делать. Но как же теперь быть? Юбилей близится, а статьи об Александре] II нет, и в обществе уже известно, что статья должна быть Ключевского. Положение издателя поистине пиковое. Саша дал такую мысль, которая Рахманову очень понравилась. Выпустить в первом издании ограниченное количество экземпляров, а ко второму постараться выцапать у Вас[илия] Осиповича] статью... В первом же издании поместить небольшую статью об Александре] II, при этом участники сборника уже раньше 19 обсуждали этот вопрос на случай, если бы Вас[илий] Ос[ипович] пошел на попятный: они20 решили тогда21 воспользоваться Сашиной статьей из сборника, изд[анного] журн[алом] Вестник самообразования]22. Но теперь Саша сооб
разил, что эта статья во многом соприкасается с Корниловской23 во вновь выходящем Рахман[овском] сборнике. Таким образом, вопрос остается открытым. Одно только ясно, что новой вещи Саша написать не сможет, нет ни минуты свободной. Рахманов сегодня целый день волнуется, к одному Саше звонил раза четыре, да постольку же, наверное, к другим участникам.
Саша рассказывает, что, когда затевалось это издание, русские историки очень скептически покачивали головами: Ох, удастся ли Вам что-ниб[удь] получить от Вас[илия] Осиповича]. Ну, это уж я беру на себя,— отвечал Рахманов. Кажется, с прошлой весны начались совещания по этому изданию, и Вас[илий] Осип[ович] принимал в них деятельное участие. Просиживали все участники24 целыми вечерами у Рахманова на Немецкой улице2S, а в мае даже были все приглашены на его дачу — именьице под26 Химками. Саша рассказывает, что на одном таком совещании статьи были распределены; Александра] II решено писать Вас[илию] Осип[овичу]. Васил[ий] Осип[ович] говорил в том духе, что решение это им принято и потом вдруг после всех этих обсуждений и разговоров прибавляет: А вот тому, кто буде писать статью об Александре] II, необходимо обратить внимание... Вечером сейчас Рахманов опять звонил, но Саша на экзамене, будет звонить завтра.
ж •к •к
12 мая 1911 г.
Сегодня в три часа скончался Василий Осипович Ключевский. Даже страшно перечитать, что я написала. Саша боялся поверить этому сообщению (по телефону из Русск[их] ведом[остей]27) и решил спросить в квартиру Вас[илия] Осиповича Как Вас[илий] Осип[ович]?. Какой-то мужской голос сообщил: Скончался.
12 ч. ночи
Очень хотела поехать на первую панихиду, но Саша спешно писал28 в Русск[ие] ведомости] о Василии Осиповиче, писал, а в передней уже сидел и ждал его посыльный... Написал, говорит немного, но к панихиде мы все-таки не поехали, было поздно. Саша стал ходить, задумавшись, по комнате и говорить.
А у меня29 чувство осиротелости со смертью Вас[илия] Осиповича.
16 мая
Вчера предали земле тело Василия Осиповича. Не верится, что только пять дней прошло со дня его кончины, так много и сильно пережито за эти 5 дней.
В симпатичном домике — особнячке перебывало много народу поклониться телу почившего. Мы были на нескольких панихидах. Народу было много и на последней.
Мысль никак не хотела помириться с тем, что Василия Осиповича не стало. Мне казалось невероятным, чтобы он такой особенный и мог так просто умереть, от какого-то мочевого камня. Умереть еще полным своих могучих духовных сил.
Сегодня утром, когда я проснулась и вспомнила, что вчера схоронили Василия Осиповича — меня злоба охватила. Никогда не смогу осмыслить этой смерти — так много неиспользованных духовных сил оборвалось... Люди себе в утешение придумали загробное существование, а мне как-то не верится в него. Я спрашиваю у Саши, как он думает, верил ли Ключевский. Не знаю, у него ум был очень скептически настроен.
Саша чувствует остро потерю Василия Осиповича. Саша был к нему очень привязан, и Васил[ий] Осипович был с ним очень ласков, как говорит Саша. На Пасхе Ключевский в Киев прислал Саше письмо, где спрашивал может ли <...>30. Саша в ответном письме очень благодарил его и сообщил, что <...>31. Вернувшись в Москву, Саша звонил Борису Ключевскому, спрашивал, можно ли видеть Василия Осиповича. Борис обещал спросить отца и тогда ответить по телефону32. Это было в 20-х числах апреля. Дни протекали33. Борис ничего не отвечал. Потом кто-то сообщил, что Василий Осипович хуже себя чувствует. Ему сделали еще операцию; у него появилась апатия. Я подумала: это что-ниб[удь] нехорошее. Через два дня новые вести: Василию Осиповичу стало получше. А еще через 3 дня Василий Осипович скончался.
Последний раз Саша у него был с Степаном] Федоровичем] Фортунатовым в лечебнице. Отправились они с разрешения самого Вас[илия] Осип[овича] — (недели 3 до Пасхи). Застали Васил[ия] Осиповича] занимающимся: читал Сашенькину Посадскую общину34 и делал на ней заметки. Сначала Васил[ий] Осипов[ич] был как-то не в духе: может быть, ожидал, что отставные35 Саша и Ст[епан] Фед[орович] начнут вести разговоры об университетских] делах, но они этого разговора не думали заводить — боялись его взволновать — и Василий Осипович оживился, и они36 оживленно побеседовали некоторое время.
* * *
9-й день
Я не могла пойти. Почти все время говорили о Василии Осиповиче. Перед концом: Понимаешь ли ты весь ужас положения. Борис хотел его ободрить и что-то сказал. Вас[илий] Ос[ипович]: Ах, мы никогда не поймем друг друга. Борис понял, что Вас[илий] Осипович] хочет и стал с ним прощаться. Вас[илий] Осипович] наклонил голову — поклонился ему. После этого силы его совсем оставили. Доктор сказ[ал], что после этого он совсем ослабел.
Родственницы упрекали Бориса, что он не позвал священника. Борис боялся встревожить Вас[илия] Осиповича], не знал, как он к этому отнесется.
На похоронах Муромцева37 Соболевский38 упросил у Вас[илия] Ос[иповича] статью о 19 февр[аля]. Ключевский обещал и написал, но когда появилось в Рус[ских] ведомостях] сообщение, все перевравшее — об операции (доктор Макаров вместо Мартынов — потом39 хотели испра[вить] — и опять переврали). Вас[илий] Осипович] рассердился (свиньи) и решил им не давать. А тут его начал Милюков40 бомбардировать письмами и просьбой статьи. Вас[илий] Осипович] и решил отправить ее в Речь41. Но приезжает Соболевский и напоминает об обещании. Вас[илий] Осипович] — в Русс[кие] ведомости] не дал и в Речь42 не послал.
Курс43. Работа по литографированным курсам. Выборка и диктовка набело. По белому выправка еще и сдача в печать.
У Карповых44.
М.М.БОГОСЛОВСКИЙ
В. О. Ключевский как ученый*
I
Прошло уже более четырех месяцев со дня кончины В. О. Ключевского, а все еще не хочется верить в эту смерть; все еще кажется, что вот он сейчас войдет в наше собрание своей осторожной походкой, скромно займет место так, чтобы быть наименее заметным, и станет вдумчиво и внимательно прислушиваться к происходящему. Трудно свыкнуться с мыслью, что его уже более нет, что более никогда нигде его не встретишь, не увидишь острого, проницательного, сверкающего умом взора его глаз, не услышишь гибких и мягких переливов его привлекательного голоса, не услышишь его искрящейся остроумными блёстками речи, в минуты одушевления переходящей в ослепительный фейерверк остроумия.
Глубокий и тонкий исследователь исторических явлений, он сам стал теперь законченным историческим явлением, крупным историческим фактом нашей умственной жизни. Этот факт ждет и требует исследования, объяснения и изучения. Вспоминая его сегодня, мы делаем первую слабую попытку его объяснить,— попытку, за которою должно последовать обстоятельное, подробное и всестороннее его изучение.
Ключевский во всем, начиная с самой своей приметной, выразительной, приковывавшей к себе невольное внимание внешности, был своеобразен и самобытен, и в общении с ним чувствовалось, что имеешь дело с оригиналом-самородком, а не с копией с кого-нибудь или в чем-либо. Он был талантлив до гениальности. Но неразгаданной остается и, может быть, навсегда останется тайна гениального дарования. Какие таинственные силы созидают гений? Откуда
* Речь, произнесенная в торжественном заседании Исторической комиссии О. Р. Т.З., посвященном памяти В.О. Ключевского, 30 сентября 1911 г.
является он к нам в лучезарном сиянии, озаряя нас и оставляя широкий и светлый след за собою? В нем всегда остается нечто иррациональное, не поддающееся объяснению.
Однако и гений живет в окружающей его среде и в условиях своего времени. Сам оказывая воздействие на эту среду, он все же испытывает на себе и ее влияние, отражает на себе ее более или менее глубокую печать. С этой стороны и только пока с этой и можно подойти к его объяснению.
Неизгладимый, не стирающийся позднейшими восприятиями след оставляют иногда первые впечатления детства, и кто знает, может быть, они определяют наклонности и вкусы всей последующей жизни. В. О. Ключевский родился под сенью храма; он был сын приходского священника в далекой провинциальной глуши. Звон утреннего колокола не раз отгонял детские сновидения от его колыбели. От близкого ему родного храма он унес теплое чувство к церкви и возвышенный взгляд на нее как на организацию, долженствующую просветлять окрестный мрак и смягчать окружающую грубость, на организацию, которая, по его выражению, «воспитывая верующего для грядущего града, постепенно обновляет и перестраивает и град зде пребывающий» *. Таким теплым чувством согрета его знаменитая речь о преподобном Сергии; таким возвышенным взглядом проникнуты те страницы его научных исследований, где он касается вопроса о влиянии церкви на положение женщины**, об отношении ее к несвободным и обездоленным элементам русского общества***, об ее смягчающем действии на грубые нравы народа.
Ключевский происходил из той общественной среды, в которой более, чем в какой-либо другой, сохраняется чувство привязанности и любви к старине, из которой вышел С.М. Соловьев, из которой в древности выходили наши летописцы. Расставаясь с тою средой,
* Ключевский В.О. Содействие Церкви успехам русского гражданского права и порядка // Творения святых отцов. 1888. Кн. 4. С. 383.
** Там же. С. 409. «Гражданскую правоспособность и материнский авторитет женщины церковь строила на ее нравственном совершенстве и высоте ее семейного долга, и если русская женщина разберется в своем юридическом и нравственном имуществе, которым она живет как жена, как мать и гражданка, она увидит, что всем, чем наиболее дорожит в ней общество и что в ней наиболее дорого ей самой — всей своей исторической опричниной,— она обязана преимущественно церкви, ее проповеди, ее законодательству. Это — мое историческое убеждение, а не удастся оправдать его историческими документами, оно превратится в мое верование».
*** Ключевский В.О. Подушная подать и отмена холопства в России. Церковь и холопство /! Русская мысль. 1886. Кн. 5.
с которой он был связан происхождением, и выходя из нее на более широкое поприще, он не порвал, однако, с нею; печать среды лежала на всей внешней обстановке его домашнего уклада. В комнатах его квартиры, выходящих непременно окнами на солнце, с протянутыми по диагоналям пола «дорожками», со множеством заботливо расставленных домашних растений, было что-то очень напоминавшее собою домик сельского священника. Даже в собственном его облике, в этой красивой голове, обрамленной довольно длинными волосами, в этой клинообразной негустой бороде, в остром взгляде его глаз через очки было что-то такое, что при всей оригинальности его облика роднило его с типами, встречающимися среди нашего духовенства.
Немаловажное значение в развитии таланта Ключевского надо приписать пройденной им школе, точнее, удачному сочетанию двух разных типов школы, в которых он получил воспитание. Он прошел низшую и среднюю духовную школу, обучался в провинциальном духовном училище и затем в семинарии. Своей спартанской обстановкой эта суровая школа давала физический закал своим питомцам и производила отбор среди них. Не всякий ее выносил; но кто ее вынес, мог действительно похвалиться прочной и сильной организацией. Василий Осипович был богатырь по своей физической природе. Правда, он не производил такого впечатления при первом взгляде. Худощавый, необыкновенно живой и подвижной, своею подвижностью как бы отражавший гибкость одушевлявшей его мысли, он не казался обладателем большой физической силы; но его организм скрывал в себе неистощимый запас здоровья, позволявший ему развивать такую поразительную работоспособность. Провести целую ночь напролет без сна за письменным столом, а иногда и в оживленной беседе с друзьями, превзойти при этом бодростью и оживлением окружавшую молодежь — затем, отдохнув час-другой, прочесть полную вдохновения и огня лекцию, и это на седьмом десятке лет, было для него обыкновенным делом. Давая физический закал, отбирая сильнейших, духовная школа середины XIX века своею учебною стороною сообщала такой же закал мыслительной работе, давала мышлению выправку. Эта школа не обогащала учащегося знаниями и фактами; все ее усилия, все преподававшиеся в ней дисциплины: толкование латинских и греческих авторов, логика, бесконечные упражнения в писании рассуждений по хриям — все это было направлено тогда к изощрению формальной мыслительной работы.
Быть может, именно этой школе Ключевский был обязан логической выправкой мысли и необыкновенной точностью своего языка.
Точность языка была особенно ценным свойством при занятиях историей, которая, хотя и давно уже признана наукой, но все же не отошла еще и от изящной словесности и не имеет своего специального языка подобно, напр., математическому языку или даже языку юридических дисциплин. Историки говорят и пишут нередко очень литературным и красивым языком, но всегда довольно расплывчатым и неточным. Первое, что поражало в лекциях и научных трудах Ключевского, была необыкновенная, непривычная для исторического ума точность его выражений. Каждому явлению, которое он исследовал, он давал ясное и точное определение; каждое отношение, которое он устанавливал, он выражал в сжатой и отчетливой формуле, запоминавшейся потом со студенческой скамьи на всю жизнь. Эта математическая точность определений и формул вместе с художественной красотой и меткостью сравнений и эпитетов составляет то оригинальное и особенное, чем отличается стиль Ключевского. Его всегда возмущала ученая порча русского языка в научных сочинениях. «Наш ученый язык,— не без раздражения замечает он в одной из своих рецензий,— благодаря небрежному обращению с русским лексиконом стал превращаться в неуклюжий и неудобопонятный жаргон, который только мешает распространению и ясному пониманию идей, добываемых учеными работами»*.
Но формальная мыслительная гимнастика, получаемая в духовной школе, его не удовлетворила. Он не создан был чистым логиком, как Сперанский Ч Его живой конкретный ум не был только мыслительным аппаратом, механизмом для построения отвлеченных схем; этот ум нуждался в конкретном содержании, в знаниях и фактах, как материал для мыслительной работы,— и вот Ключевский затосковал в семинарии, стал рваться в светскую высшую школу, в университет с его позитивной наукой, а склонность к изучению прошлого, вызванная чтением Карамзина и Соловьева, подсказывала ему и выбор факультета. Духовная школа не легко расставалась с лучшим своим украшением; на пути к университету встретились для Ключевского какие-то формальные препятствия, которые были, однако, устранены снисходительной рукой тогдашнего пензенского епископа.
Что же дал Ключевскому университет? Всего важнее было именно самое это сочетание высшей светской школы с средней духовной, самое сочетание двух методов, которыми действовала каждая. Семинария логической гимнастикой дисциплинировала мысль;
Православное обозрение. 1877. Кн. II. С. 176.
университет обогащал развитую мысль положительным знанием; семинария развивала формальное мышление, университет вооружал его фактом, опытом и наблюдением. Ключевский попал в высшую школу если, может быть, и не в самую блестящую эпоху, то все же и не в сумерках Московского университета. На небосклоне филологического факультета, на который он поступил, блистало тогда немало светил первой величины; на юридическом это было время знаменитого Никиты Ивановича Крылова2 и только что начинавшего свои лекции Чичерина. Сам Василий Осипович, в многократных беседах вспоминая годы своего студенчества, рассказывал, что он на экзамене у известного профессора П. М. Леонтьева3 обнаружил такие успехи по латинской филологии, что Леонтьев первый возбудил вопрос об оставлении его при университете по своей кафедре. Очень возможно, что именно в занятиях интерпретацией классических авторов надо искать начало того мастерства, которое впоследствии Ключевский проявлял в толковании текстов летописей, Русской Правды и других памятников, в объяснении запутанней-ших и труднейших мест в этих текстах, в предложении поражающих проницательностью конъектур, равно как и в исчерпывающей критике, которой он подверг многочисленные тексты житий святых. Изучение древних авторов представляло хорошую школу для воспитания критического таланта. В наши дни эта область в цикле преподавания на историко-филологических факультетах как-то отошла на второй план; есть лица, склонные считать греческую филологию даже и совсем необязательной. В этом поистине прискорбном недоразумении надо видеть, конечно, лишь временную реакцию против того искусственно повышенного, надутого значения, которое стремились придать классической филологии на историко-филологических факультетах творцы устава 1884 года, ставя ее во главе угла всего преподавания на этих факультетах и подавляя ею все остальные дисциплины. Все это преувеличения то в одну, то в другую сторону; но мы искренно убеждены, что для историка, которому предстоит работа над древними периодами с их ограниченным количеством памятников, притом памятников искаженных, сохранившихся в различных редакциях, словом, для историка, которому предстоит иметь дело с критикой текстов, лучшею школою до сих пор остается интерпретация классических авторов, методы которой так тщательно разработаны и доведены до такой высокой степени совершенства в западной науке.
Не раз говорил Василий Осипович о большом влиянии на него лекций Чичерина, которые он слушал уже по окончании универси
тетского курса в качестве оставленного при университете. Может быть, эти лекции, как и вообще труды Чичерина, содействовали развитию в нем вкуса к вопросам права; может быть, они именно направляли его мысль на историю учреждений и на историю общественных классов преимущественно с юридической стороны. Работы Ключевского по истории холопства можно считать непосредственным продолжением статей Чичерина о несвободных состояниях, помещенных в его «Опытах по истории русского права». Такая тема, как «Боярская Дума древней Руси», не выходит ли из того же круга вопросов, к которому относятся и знаменитые «Областные учреждения XVII века»?4 Щедрую дань признательности своему учителю благодарный ученик выразил впоследствии, украсив посвящением Б. Н. Чичерину одну из замечательнейших своих работ — статью о земских соборах, которыми также занимался и Чичерин. Василий Осипович передавал нам, что на него производил сильное впечатление и самый язык Чичерина, кристальноясный, сжатый и точный, необыкновенно приспособленный для выражения юридических понятий и отношений.
Но более всего Ключевский ценил в себе как в ученом влияние С. М. Соловьева. О Соловьеве он отзывался с самым глубоким уважением и себя, кажется, до последних дней все считал учеником Соловьева, по удивительной своей скромности не замечая, что давно уже перерос учителя. Раз, на одной из лекций, которые мне довелось слушать на студенческой скамье в конце 80-х годов, Василий Осипович, отсылая нас по какому-то вопросу, которого он не успел за недостатком времени развить в своем чтении, к большой истории Соловьева, сказал: «Там вы найдете те же взгляды; я передаю вам то, что получил от Соловьева; я — ученик Соловьева, вот все, чем я могу гордиться как ученый», и надо было слышать, с какою гордостью произносилось при этом имя Соловьева. В основу своего преподавания в университете Ключевский, кстати сказать, очень умелый, но и требовательный и строгий педагог, клал не свой курс, а большой, очень сухой и трудный, наполненный фактами учебник Соловьева, отчетливого знания которого он и требовал весьма взыскательно — в те, по крайней мере, годы на экзаменах. На свой курс он смотрел только как на дополнение к учебнику Соловьева; такой взгляд на курс проведен у него печатно в известном его «Кратком пособии по русской истории»5.
В чем же могло выразиться влияние на него Соловьева, которое так высоко ценил Ключевский? Воздействие университетского учителя, если оно не ограничивается пределами аудитории, может
быть очень сильно и глубоко и при этом не всегда поддается точному учету. Оно не заключается только в идеях и знаниях, сообщенных на лекциях, или в методах, указанных на практических работах. Обмен взглядов по специальным вопросам, споры, передача накопленного долгим временем опыта — все это, при общении с учителем, пути влияния, сумму которого нельзя точно измерить и выразить; а Ключевский поддерживал дружные отношения к Соловьеву до кончины последнего.
С. М. Соловьев в свое время сам был блестящим явлением на кафедре Московского университета. Он занял ее во всеоружии эрудиции и на уровне того общего понимания исторической науки, которого достигла тогда западноевропейская научная мысль. С выходом первых томов его «Истории России с древнейших времен» произведение Карамзина — самый текст, конечно, его «Истории Государства Российского», а не примечания, сохранившие научную цену до наших дней — было сдано в архив разряда изящной словесности, а летописные выписки Погодина оказались не более, как подготовительными черновиками. Главная заслуга Соловьева, его бессмертная заслуга в науке состояла именно в накоплении фактов, тех исторических фактов, без которых так же немыслима история, как немыслима математика без величин и чисел. Обладая невероятною среди русских людей постоянной размеренной и выдержанной, поистине немецкой трудоспособностью, он всю свою жизнь посвятил собиранию фактов, многие годы неутомимо рылся в архивах, делая все новые и новые открытия. Как тот древнерусский славянин-колонист, который по мастерскому изображению Ключевского одиноко с топором в руке работал в глухом лесу верхне-волжского края, Соловьев расчищал непочатые архивные дебри и прокладывал в них путь для новых работников. Долгое время он нес эту тяжелую работу действительно один. Затем возле его стола в архиве министерства юстиции, тогда еще помещавшемся на Старой Басманной в неудобном и неприспособленном здании, был отведен стол для его ученика — Ключевского. Василий Осипович любил вспоминать об этой их совместной работе, отдавая всегда Соловьеву бесспорное преимущество в знании архивов. Может быть, самым своим примером более, чем каким-либо намеренным указанием, Соловьев вводил Ключевского в сокровищницу архивов.
Но и Соловьев отдал дань своему времени. Он выходил на научное поприще в ту эпоху, когда в развитом и передовом русском обществе царила философия Гегеля и Шеллинга, когда увлекались отвлеченными началами, когда всему многообразию явлений стремились
/
отыскать единое основание и когда историю начинали не с того конца, откуда привыкли начинать ее мы, не с фактов, восходя затем к обобщениям, а с какого-нибудь основного отвлеченного начала, набирая затем в подкрепление этого начала кое-какие подходящие факты из скудного, имевшегося тогда налицо их запаса. Каждый, кто прикасался к русской истории, К. Аксаков6, Кавелин, Чичерин, Никитский7, непременно выводил ее из какого-либо отвлеченного начала. И Соловьев также положил было в основу своих взглядов такое единое начало — родовой быт; но это начало оказалось потом, когда он занялся добыванием фактов, слишком тесным, чтобы вместить в себя все их обилйе и разнообразие, уже в первых томах «Истории России с древнейших времен» оказалось чем-то извне приставленным, а в дальнейших томах и совсем забытым.
Было бы, однако, совершенно неправильно смотреть на Соловьева только как на собирателя фактов. Ему, правда, не удалось отыскать для истории России единого общего начала; но кому это удалось или удастся? Соловьеву принадлежат некоторые теории частного порядка, принятые затем Ключевским, усвоенные им и вошедшие в плоть и кровь его «Боярской Думы» и курса. В этом заимствовании теории можно видеть прямое влияние самых идей учителя, непосредственное идейное преемство; работая над ними, Ключевский продолжал и развивал взгляды Соловьева. Таковы, напр., две столь известные теории, составляющие органическую принадлежность воззрений Ключевского: во-первых, учение об очередном порядке княжеского владения в Киевской Руси; во-вторых, учение о колонизации северной верхне-волжской Руси как основе нового политического порядка, установившегося в этой Руси и подготовившего Московское государство. Соловьев вывел теорию княжеского владения из родовых отношений Рюрикова дома, определил порядок княжеских счетов, сопоставил лествицу волостей с лествицей князей, которые должны были двигаться по волостям по очереди старшинства. Выяснив самый порядок княжеских отношений, Соловьев наметил и те условия, которыми этот порядок разрушался: усобицы и договоры князей, вмешательство вечевых собраний городов, положение князей-изгоев, и он же обозначил элементы, скреплявшие тогда земское единство готовой распасться Руси. Все эти основные черты учения Соловьева о княжеском владении в Киевской Руси были повторены Ключевским, систематизированы и изложены в стройной схеме и тем блестящим языком, в котором крылась одна из тайн его очарования. Точно так же кто не читал, даже более, кто не зачитывался дивными, как бы проникнутыми
поэзией великорусского лесного пейзажа, страницами «Боярской Думы» и курса, посвященными колонизации верхнего Поволожья, Суздальской земли, образование великорусского племени, возникновение на северо-востоке новых экономических, социальных и политических отношений? А между тем ведь это только блестящее развитее соловьевского взгляда! Самый факт колонизации верхневолжского края установлен Соловьевым, много вообще твердившим о движении славянского племени с запада на восток. Им же выяснены и политические последствия этого факта, Соловьев — первый установил учение о княжеском северном уделе как о частной собственности князя в противоположность южно-русской волости как временному владению князя и вывел такую политическую перемену из тех отношений, которые завязывались колонизацией, выдвигавшей значение князя как создателя и хозяина-устроителя своего удела. «Мысль: это — мое, потому что мною сделано — легла в основу удельного владения» — эти слова, характеризующие отношение князя к уделу, сказаны были Соловьевым и буквально затем повторены Ключевским в его описании возникшего на севере княжеского удела. Факт колонизации, указанный Соловьевым, привлек к себе особенное внимание Ключевского, который имел намерение сделать его темой своей магистерской диссертации. Как известно, работы над житиями святых были предприняты в надежде найти в житиях источник для истории колонизации. Приняв теорию Соловьева, Ключевский дополнил, расширил и развил ее. Соловьев коснулся только новых политических отношений на севере; Ключевский кроме политических отношений подверг внимательному исследованию еще и отношения, оставленные Соловьевым в тени — экономические и социальные. Получилась ярко написанная картина княжеского хозяйства в уделе и вообще нового земледельческого и землевладельческого порядка, установившегося на севере, в противоположность торговле как основной экономической силе южной Руси.
Так мысли, только в общих очертаниях намеченные учителем, нашли себе блестящий расцвет в трудах ученика.
II
Не напрасно, стало быть, Ключевский хранил такую благодарную память о Соловьеве и других своих учителях. Но как бы ни были заметны в нем испытанные им влияния, не они создали Ключевского. Драгоценные камни-самородки — не создания ювелиров; последние
придают им только те или другие грани, те или другие внешние формы; тайну своего чарующего блеска они заключают в самой своей природе. Таким талантом-самородком и был Ключевский.
Я далек от намерения исчерпывающим образом характеризовать всю силу и всю глубину дарований покойного историка. Мне хочется только указать те стороны его таланта, которые всегда мне казались наиболее для этого таланта существенными, наиболее составляющими его отличительную особенность. Основным свойством его мощного ума было поразительно изощренное и развитое, сильное и тонкое, но всегда конкретное, если так можно выразиться, мышление. Отвлеченная работа мысли была ему чужда; он обладал слишком ярким воображением, он был слишком художник для абстракций; самый его язык был слишком образным для передачи отвлеченных понятий. Высшие отвлеченные понятия его не занимали, высшими философскими вопросами он, по-видимому, очень мало интересовался. Даже и к теориям той самой науки, которой он всего себя отдал, он оставался довольно равнодушным; разговор, касавшийся теории исторического процесса, его не воодушевлял, и кроме первой лекции курса нигде, кажется, больше он этой теории не касался. Его работы писались не по теоретическим шаблонам, да и не Ключевскому, конечно, было держаться в своих работах каких-либо принятых шаблонов, когда сами эти его работы в их практическом исполнении должны служить образцами и основами, отправными точками для методологических теорий! К Ключевскому менее всего пошло бы название отвлеченного мыслителя. Как топливо для огня, для его мысли всегда нужен был конкретный, реальный, фактический материал. Фактами как бы заменялись для него логические понятия. «Исторические факты,— писал он в одной из своих статей,— по существу своему — выводы, обобщения отдельных явлений, сходных по характеру; они — то же, что понятия в логической сфере. Подобно последним они могут разниться по своей широте, по количеству обобщаемого в них материала; но подобно последним же они всегда должны сохранять логическое соответствие своему материалу»*. Неутомимый исследователь фактов, он оригинально их анализировал, разлагая их на части, и комбинировал отдельные факты в стройные системы, которые обобщал затем в грандиозную общую схему своего курса; он открывал в исследуемых фактах новые, никем раньше не замеченные
* Ключевский В.О. Церковь по отношению к умственному развитию древней Руси // Православное обозрение. 1870. Кн. I.C. 311.
черты, своеобразно их освещал, отыскивал их причины и выводил следствия,— но он работал всю жизнь над историческими фактами и только над ними. Вот почему он органически был неспособен задаваться задачей вывести весь ход русской истории из какого-либо единого отвлеченного начала, не сотворил себе того единого кумира, которому покланялись гегелианцы славянофилы и западники и от поклонения которому в начале своей научной деятельности не остался свободен и Соловьев.
Не вся масса исторических фактов привлекала к себе безразлично, в одинаковой степени научное внимание Ключевского; можно наметить некоторые группы их, возбуждавшие в нем особый, преимущественный интерес. Его манили к себе в исследовании исторического процесса явления политические, социальные и экономические, и главным образом социальные. Явлений иного порядка, истории мысли, религии, литературы, искусства он, разумеется, не обходит и, когда коснется их, дает превосходные вещи; но не на этих вопросах были сосредоточены его главные силы. Свой курс он ограничивает, как он заявляет во вступлении, лишь политической, социальной и экономической сторонами исторического процесса и, припомним, весь ход русской истории он делит на периоды по признакам этих трех категорий. Киевская торговая, городовая Русь сменяется у него Суздальскою, вольно-земледельческой, удельно-княжеской, которую в свою очередь сменяет Русь Московская царско-боярская, военно-землевладельческая, и эта последняя, наконец, переходит в Русь всероссийскую, императорско-дворянскую, крепостную, земледельческую и фабрично-заводскую. В основе этой классификации, как видим, строго выдержаны экономические, социальные и политические признаки. Тяготение к вопросам указанных порядков у Ключевского может быть объясняемо, конечно, общим направлением европейской, а также и русской историографии второй половины XIX века, выдвинувшей эти стороны исторического процесса на первый план научного исследования. Ключевский в этой области работал не одиноко, и его можно считать членом той историко-юридической школы в русской историографии, к которой принадлежит немало славных имен, каковы Неволин8, Кавелин, Чичерин, Соловьев, Сергеевич9, Градовский, Дитятин10.
Но даже и к указанным трем категориям исторических явлений интерес Ключевского устремлялся неравномерно. Всего охотнее его мысль направляется к истории общественных классов, и в этом, быть может, надо видеть влияние той эпохи, с которою совпали наиболее восприимчивые годы его юности, когда в России разре
шалась великая социальная проблема — освобождение крестьян. Практическое решение этого вопроса сопровождалось в нашем обществе подъемом теоретического, научного интереса к истории тех двух общественных классов: дворянства и крестьянства, которые входили, как две данные величины в подлежавшую решению задачу. Две неравные по объему, но совершенно равные по ценности работы Ключевского посвящены истории высших государственных учреждений древней Руси: боярской думе и земским соборам. Но, работая над историей учреждений, он интересуется в них главным образом их социальной стороной. В статье о земских соборах он вскрывает общественный состав этих собраний, а его «Боярская Дума»11 с полным правом может быть названа подробною историей русского боярства, до такой степени исследование ее как института уступает место истории того общественного класса, представители которого ее наполняли. Новые, неожиданные, оригинальные комбинации, к которым Ключевский приходил в этих исследованиях, можно назвать поистине гениальными. В самом деле, элементы, которыми работает гений, те же, что встречаются и в окружающей его среде в ту эпоху, когда он живет и действует. Но те небывалые, оригинальные сочетания, в которые он эти элементы приводит, и те неожиданные сопоставления, которые он из них делает, составляют то его личное, что никем ему не дано, что ни от какой среды и эпохи, ни от каких влияний не зависит и что он сам вносит в мир. Элементы давно были известны; знали о Думе и о Земских соборах, с одной стороны, известны были и классы русского общества — с другой. Но только Ключевскому пришла счастливая мысль сочетать эти элементы, рассмотреть их во взаимной связи, и получились поразительные результаты, настоящие открытия. Точно так же примененное им изучение социальной основы внесло смысл в историю Смутного времени. Ход событий Смутного времени представлялся до Ключевского какой-то действительно смутной фантасмагорией, каким-то калейдоскопом, в котором в причудливом беспорядке сцеплялись случайные факты. Только Ключевский проницательным взглядом различил выдвигавшиеся в Смуте социальные силы, наметил участие в этой революции на рубеже XVI и XVII веков различных общественных классов с их идеалами и программами и с их кандидатами на престол как средствами для осуществления этих программ. Ключевский, не занимаясь сам Смутой специально, указал настоящий путь к ее научному изучению, и в дальнейших посвященных ей специальных исследованиях это его указание принесло ценные и обильные результаты.
Было бы ошибкой утверждать, что научный интерес Ключевского привлекали к себе исторические судьбы преимущественно низших классов, ошибкой хотя бы уже по одному тому, что большую часть своих ученых сил он отдал работе над историей как раз высшего класса русского общества — боярства. Справедливее будет сказать, что совершенно одинаково притягивали к себе его внимание как низы, так и верхи русского общества, и решительно никакого демократического предпочтения в его ученых исследованиях уловить нельзя. И в «Боярской Думе», и в курсе он подробно изучает эволюцию высших правящих слоев, торговую аристократию днепровской Руси, землевладельческую дружину и монастырское общество верхне-волжской, титулованное московское боярство XV-XVH веков и пришедшее ему на смену пестрое по составу мелкопоместное дворянство XVIII и XIX столетий, производящее через гвардию дворцовые перевороты. Общественным низам посвящены две небольшие по объему, но не менее значительные по важности работы, статьи о происхождении крепостного права и о холопстве, также могущие служить образцами оригинального и неожиданного сочетания данных, известных и ранее. Вопросом о происхождении крепостного права давно занимались, но источника этого права все искали в правительственных указах, и только Ключевскому пришла мысль поискать его в крестьянской порядной, сопоставив эту порядную с кабальной холопской записью. Получился в результате целый переворот в изучении вопроса.
В истории общественных классов Ключевский изучает главным образом их юридическое положение. Чисто экономическим вопросам он посвятил два специальных исследования: «Хозяйство Соловецкого монастыря на Беломорском побережье»12 и затем исследование о ценности русского рубля13. Но вообще экономические отношения привлекаются в его работах лишь постольку, поскольку они нужны для объяснения создававшихся на их основе юридических явлений. Права и обязанности общественных классов, их взаимоотношение, положение их в государстве как сословий — вот вопросы, на которые отвечают отдельные исследования Ключевского. Эти отдельные исследования он сводит в курсе в единую схему процесса постепенного закрепощения сословий, достигающего своей кульминационной точки к половине XVIII века, и затем излагает развитие обратного процесса раскрепощения сословий, начавшегося изданием законов, облегчающих обязательную дворянскую службу, и закончившегося манифестом 19 февраля 1861 года. На этой схеме, изображающей восходящий процесс закрепощения и затем
нисходящую линию освобождения, зиждется структура его общего курса, и если бы нужно было определить главную, господствующую склонность Ключевского как историка, я бы назвал его историком общественных классов.
Таковы факты, таково фактическое содержание, над которым работала его мысль. Но эта могучая и вместе с тем поразительно тонкая мысль не скользила по фактам поверхностно, не вбирала их в себя пассивно, чтобы передать их затем с эпическим равнодушием. Она воздействовала на исторический материал подобно солнечному лучу, который, падая на предмет, не только озаряет его и делает видимым, но и оказывает на него глубокое интенсивное, физическое и химическое воздействие, разлагая его на составные части или, наоборот, содействуя его сочетанию с другими элементами. Ключевский не подносил читателю не переработанного сырья, рассказывал исторические эпизоды только, когда это было необходимо, при чтении лекций излагал факты бегло, как бы нехотя, торопясь скорее к тем выводам и размышлениям, для которых собственно и рассказывались факты. Факты были для него то же, что логические понятия; вот почему он и совершал с ними ту же мыслительную операцию, которая совершается с логическими понятиями. Факты были только служебными элементами, питавшими его мышление. Не самое изложение события как таковое, а размышление над событием было его главной целью, и едва его мысль касалась факта, как она уже начинала либо расчленять его на составные его части, анализировать его, либо подыскивать сходные ему факты, соединять частные и мелкие факты в более общие, связывать общие факты в группы и системы и, наконец, обобщать системы в единое стройное целое — словом, проделывать над фактами другую, синтетическую работу. В обоих этих методах, и в анализе, и в синтезе, мы видим в Ключевском первоклассного мастера, не знающего себе равных. Он одинаково велик и в миниатюрных микроскопических изысканиях, и в грандиозных общих построениях.
Его совершенно не тяготила предварительная, черная, кропотливая, неблагодарная, казалось бы, работа над просмотром массы источников, на которую приходится исследователям затрачивать много времени и сил и в результате которой может оказаться всего несколько крупинок, но, правда, он добывал крупинки чистого золота. Он не затруднялся внимательнейшим образом пересмотреть груды архивного сырья, перечитать множество каких-нибудь де-сятен или писцовых книг для того, чтобы получить две-три необходимые ему цифры. Такую работу он вел поистине с соловьевскою
трудоспособностью. Стремясь найти в житиях святых несколько данных для интересовавшего его факта колонизации северной Руси, он собрал по разным древлехранилищам и библиотекам громадное количество рукописных житий, подверг каждое из них самому тщательному критическому исследованию, и результаты, к которым приводила его эта египетская работа, положения, которые были им добыты, служат с тех пор прочным базисом и надежным отправным пунктом для дальнейших тружеников в этой области. Какую массу скучнейшего, казалось бы, и однообразнейшего цифрового сырья надо было собрать и переработать для того, чтобы получить ровно девять заключительных строк всего этого обширного исследования о ценности русского рубля, тех строк, в которых изложены результаты изысканий и с которыми и справляются обыкновенно все те, кто имеет дело с ценностью наших денег в прошлом. Предпринять такой труд было настоящим самопожертвованием для науки. Анализ исторических фактов Ключевский вел как бы вооруженный микроскопом. Такую микроскопическую работу он производил, когда подвергал исследованию мельчайше детали крестьянских порядных и разного рода холопьих записей для своих статей о происхождении крепостного права и об отмене холопства в России, когда разыскивал по писцовым книгам и десятням имя каждого участника земских соборов 1566 и 1598 годов для статей о составе представительства на земских соборах или когда изучал родословные и разрядные записи, собирая гомеопатическими дозами материал для страниц «Боярской Думы», посвященных характеристике состава московского боярства. И эти миниатюрные, скрупулезные изыскания, всю эту тончайшую работу он сводил всегда к определенным, ясным, сочным, отчетливо изложенным выводам, составляющим завоевание науки и показывающим, что вся эта труднейшая, египетская предварительная работа была отважно предпринята и с упорством проведена не напрасно.
Столь же неподражаем был Ключевский и в синтезе, в искусстве комбинировать факты и восходить от мелких, частных фактов и отношений к общим и крупным, давая им точные определения, строить системы, чтобы в конечном результате этих систем создать общее построение русской истории. Тайну его синтетического мастерства надо искать в его ярком художественном таланте, в силе его воображения и чувства. В Ключевском счастливо слились свойства историка-мыслителя и художника, а что можно представить себе удачнее сочетания тонкости мысли с яркостью художественного образа? Как будто несколько муз согласились принести свои дары
его восприимчивой природе, и, одаренный ими, он столько же был посвящен в тайны зодчества, сколько и живописи, поэзии и даже, если хотите, музыки. В самом деле, разве не служат доказательством способности его как зодчего его удивительные отдельные построения и все это величественное сооружение курса русской истории, поражающее глубиною мысли и в то же время изяществом и красотой очертаний? Притом Ключевский умел строить из всякого материала одинаково умно и изящно, были ли это полновесные, тщательно выверенные критикой источники, из которых он складывал учение о московском боярстве, или же это были несколько уцелевших летописных обрывков, из которых он создавал гипотезу городового строя Киевской Руси.
Художественный талант бил в нем ключом, прорывался в нем, заставляя его нарушать обещания и отступать от принятого плана. Своему общему курсу Ключевский ставил социологические задачи. Во вступительной лекции он развивал взгляд на историю как на подготовительную или предварительную ступень к социологии; рассуждал о специальном интересе местной истории, на которой можно следить за своеобразным, неповторяемым в других местах сочетанием основных элементов человеческого общежития... но кисть живописца не давала покоя руке, и среди социологических формул, в которых он выражал подмеченные отношения, он вдруг рисовал, как живой, портрет Андрея Боголюбского, Ивана Калиты, Грозного, Алексея Михайловича, Петра Великого. Его преобладающим ученым интересом было изображение юридического положения общественных классов, их прав и обязанностей к государству, и он при чтении лекций обещал держаться в их изображении только этой стороны, но к величайшему счастью для слушателей он как бы забывал свое обещание и давал яркую характеристику умственного и нравственного состояния дворянства в XVIII и XIX веках, его взглядов, вкусов, чувств и настроений, ту характеристику, которая легла в основу его знаменитой лекции о Евгении Онегине и его предках14. А разве можно читать некоторые страницы его курса без того эстетического волнения, которое вызывают в нас лучшие поэтические произведения, и разве мы не поставим, например, дивной характеристики великорусского племени наряду с лучшими страницами наших величайших поэтов? Разве стиль Ключевского, его точное, меткое, сильное, как будто выкованное слово не производит на нас действия какой-то музыки — я уже и не говорю о тех из нас, которые имели счастье слышать его лекции в его собственном чтении! То было обаяние настоящей, в буквальном смысле слова
музыки, благодаря его необыкновенно привлекательному голосу и дикции. И теперь еще, когда перелистываешь его курс, воскресают слуховые впечатления, и отдельные фразы курса слышатся так, как они были когда-то произносимы.
Несравненный художественный талант, которым обладал Ключевский, открывал ему особый прием изображения изучаемых им явлений и особый путь их познавания, неведомый для патентованных ученых исследователей, но только исследователей. Тот предмет, над обстоятельным описанием и над тщательным измерением которого со всех его сторон в его целом и в частях ученый исследователь потратит много времени, тот самый предмет художник несколькими мазками кисти или, подобрав удачный эпитет, представит в ярком, непосредственно воспринимаемом образе. Это потому, что художник познает предмет путем непосредственной, художественной интуиции, путем какого-то внутреннего проникновения в самую суть предмета. Когда Ключевский в архиве или в тиши своего ученого кабинета погружался в чтение древних документов, он вживался в ту эпоху, которую исследовал, он проникал в миросозерцание, в чувства и настроения людей того времени, постигал их внутренним художественным чутьем. Он на эти минуты как бы жил с людьми прошлого, мыслил и чувствовал вместе с ними. Этого непосредственного художественного проникновения в былое, и в его внешнюю обстановку, и в психологию давно сошедших с исторической сцены людей, и отдельных личностей, и народных масс, этой способности постигать, усваивать и воскрешать отдуманные думы, угасшие чувства и отзвучавшие речи не могли понять в Ключевском ученые юристы, видные представители того же историко-юридического направления, к которому и сам он принадлежал. И вот раздавались упреки: откуда взял то или иное положение, почему не подкрепил его цитатами, ссылками. Откуда взял? Из минувшей жизни, во всей своей жизненной яркости проходившей перед его художественными очами, которую глубоко понял и которую воспроизвел, воскресив ее волшебной силой своего творчества. Какими цитатами и ссылками нужно подтверждать еще правду, почерпнутую таким художественным восприятием? Среди великих русских художников Ключевский должен быть отнесен к тому их направлению, расцвет которого совпадает со второй половиной XIX века, к которому в живописи принадлежит Репин и которое в литературе нашло себе высшее проявление в Толстом. Как и эти великие представители русского искусства, он так же был художником-реалистом. Как и они,
он так же был одарен тонко развитым чувством правды, указывающим каждую неверную линию и позволяющим расслышать каждую фальшивую ноту. В его изображениях, так сильно приподнимающих читателя, нет ничего приподнятого, нет ни одного ходульного приема, преувеличенного жеста, какого-нибудь излишне-торжественного, напускного выражения. У него нет богов и героев на земле, есть только люди, люди менее или более сильные и даровитые, даже гениальные и святые, но все это люди в реальных условиях и в реальной обстановке.
Что же оставил нам Ключевский как ученый, силой своей мысли раскрывавший нам смысл минувшего и как художник воскрешавший перед нами образы былого? Теперь еще невозможно оценить все им сделанное, нельзя еще точно учесть силы оказанного им влияния. Настанет пора, когда появятся о нем специальные исследования; тогда найдут себе беспристрастную оценку и данная им общая концепция русского исторического процесса и предложенные им решения отдельных вопросов этого процесса. В его крупных произведениях и мелких статьях специалисты найдут наряду с решением одних задач постановку других и вместе с тем ценные указания методов к их решению. Этих указаний теперь не перечислишь, но без них долго нельзя будет обойтись при дальнейших работах в тех областях, которых касался Ключевский. Может быть, и придется признавать иные его решения неудачными, но нельзя будет никогда обходить их равнодушно.
Широким и, надо думать, все более имеющим расширяться кругам русского общества Ключевский оставил свой курс, замечательный памятник нашего национального самосознания, в котором можно видеть итог мыслительной работы русского народа над своим прошлым, подведенный одним из талантливейших его сынов. Курс стал уже настольною книгой каждого русского образованного человека, и недалеко то время, когда, будучи переведен на иностранные языки, он сделается светом откровения и для западноевропейского мира, которому он откроет глаза на истину нашего прошлого. Широкою волной основные выводы курса льются через учебную литературу в нашу среднюю и низшую школу, и таким образом его положения входят в плоть и в кровь нашего исторического миросозерцания. Отрывки из него мы скоро увидим в хрестоматиях по русскому языку как образцы русского художественного слова наряду с лучшими произведениями нашей прозы. И долгое время эта книга Ключевского будет зажигать юные сердца любовью к изучению родной истории и порождать склонность к специальному
занятию ею, оказывать то же действие, какое на него самого оказали книги Карамзина и Соловьева.
Собравшись сегодня, чтобы вспомнить учителя, запечатлеем в благодарной памяти его дорогой нам образ. Вот он на славной кафедре московского университета, перед которой, сменяя друг друга, чередуются многие поколения его всегда одинаково восторженных слушателей. Во вдохновенном, полном огня и красок слове передает он им «грустные звуки былого», чутко воспринятые его чуткою, отзывчивою душою. Вспомним и призыв его, обращенный к своей аудитории, а через нее и ко всему русскому обществу. Такой призыв, может быть, делался и до него, но никем не был лучше Ключевского сказан. Историк-социолог и художник-реалист, человек, вынесший взгляды из школы 60-х годов, он ценил свою науку преимущественно с ее практической, прикладной стороны. Без этой цены, говорил он, история была бы ненужным балластом, напрасно обременяющим нашу память. Изучению местной, отечественной истории он придавал большое гражданско-воспитательное значение. Все мы — участники общежития, все мы — его строители в настоящем и в будущем. Чтобы участвовать в этом строительстве сознательно, чтобы лучше созидать будущее, надо прежде всего быть знакомым с прошлым. «Чтобы знать, куда и как нам идти, надо прежде всего знать, откуда мы пришли; чтобы быть гражданином, надо хоть немного знать родную историю». И сам же Ключевский дал нам лучшее средство к практическому выполнению своего завета. На его книге будут воспитываться не только специалисты-работники на научной ниве русской истории, но и многие поколения русских граждан.
С.Ф. ПЛАТОНОВ
Памяти В.О. Ключевского
Что могу я сказать о В.О. Ключевском, не слушав его курсов и не принадлежав к числу его учеников по университету? Мои личные воспоминания о В. О. не имеют общего интереса; чем излагать их,— не лучше ли будет представить здесь несколько строк, посвященных тому, каков казался В.О. «на расстоянии», людям, судившим о нем более по слухам и печатной строке, чем по личным впечатлениям?
Я отчетливо помню, как, будучи петербургским студентом, узнал я от московских сверстников о первых шагах «доцента» Ключевского в Московском университете. Я помню, что исключительный лекторский дар В.О. Ключевского произвел сильнейшее впечатление на аудиторию, в которой тогда были студенты: М. К. Любавский, П. Н. Милюков, М. С. Корелин, Р. Ю. Виппер... Семинарий Ключевского сразу стал цениться столь же высоко, как и семинарий В. И. Герье. Одновременно с блестящим университетским выступлением В. О. Ключевского начался его литературный успех. В январской книге «Русской мысли» за 1880 год появилось начало его знаменитого исследования «Боярская дума древней Руси». Выпущенное в 1882 году отдельным изданием, оно послужило В. О. Ключевскому докторской диссертацией, защита которой обратилась в триумф. Московский корреспондент газеты «Голос» писал о диспуте Ключевского: «Истинным событием дня на нынешней неделе был диспут известного ученого г. Ключевского, занимающего уже несколько лет в здешнем университете столь ответственную кафедру русской истории, осиротевшую после смерти Соловьева. Давно уже, а может быть и никогда, древние стены здешней almae matris не были свидетелями такого шумного и единодушного восторга, как тот, которым встретила многочисленная публика и студенты появление г. Ключевского на кафедре. Среди благоговейной тишины оратор произнес свою вступительную речь, которая поражала как
глубиною содержания, так и изяществом формы. Скромно и очень просто изложил он главные выводы своей диссертации, имеющие, по единогласному отзыву официальных и неофициальных оппонентов, громадное значение для историографии... Впечатление, произведенное диспутом г. Ключевского, было близко к восторженному энтузиазму. Знание предмета, меткость ответов, исполненный достоинства тон возражений — все это свидетельствовало, что мы имеем дело не с восходящим, а уже взошедшим светилом русской науки. Нужно же было и видеть, каким громом аплодисментов встретила публика и учащаяся молодежь провозглашение г. Ключевского доктором русской истории. Кто видел это сердечное, безграничное, восторженное поклонение таланту высокого учителя, тот не забудет никогда этих минут...» (Голос, 4-го октября 1882 г., № 269).
С той поры имя В. О. Ключевского получило широкую, всероссийскую известность. Не только его ученики и слушатели, но и читатели его произведений, любители и специалисты, признавали в нем исключительные дарования и познания. Авторитет В. О. Ключевского рос непрерывно, и сам В. О. Ключевский умел содействовать этому росту новыми трудами. Двоякого рода были его дальнейшие труды. Во-первых, В.О. Ключевский печатал в журнале «Русская мысль» ряд специальных монографий большого историографического значения; во-вторых, он выступал по разным случаям с «речами», обращенными к широкой публике. Из его монографий особенно замечательны: «Происхождение крепостного права в России» (1885), «Подушная подать и отмена холопства в России (1886), «Состав представительства на земских соборах в древней Руси» (1890-1892)1. К числу таких же монографий относится и «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему» (Чтения Моск. Общ. Истории и Др. Росс., 1884)2. Во всех этих исследованиях читатели находили любопытнейшие выводы, оригинальные точки зрения, свежий и ценный материал. Монографии В.О. Ключевского давали толчок к дальнейшему изучению и исследованию, будили мысль, создавали направление. Популярные «речи» В.О. Ключевского обыкновенно приурочивались к общественным торжествам и юбилейным дням. Весьма известны две речи о Пушкине (1880 и 1887 гг.) — по поводу открытия Пушкинского памятника и в пятидесятилетие кончины Пушкина3. Не менее известны слово в память преп. Сергия Радонежского (1892) и лекция о «добрых людях древней Руси» (1892)4. Все эти и подобные им произведения В. О. Ключевского так обдумывались и обрабатывались, что не только служили украшением праздника, на котором были сказаны, но и навсегда делались образцами научно-изящной популяризации.
Репутация Ключевского как большого ученого и превосходного лектора поднялась и до весьма высоких кругов. Московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович5 в своем дворце не раз устраивал избранную аудиторию для Василия Осиповича. В 1893-1895 гг. В.О. Ключевский был приглашаем в Аббас-Туман для чтения лекций великому князю Георгию Александровичу6. Позднее, в 1902 году, университетский общий курс русской истории В. О. Ключевского был издан в весьма высоких сферах (по газетным сообщениям — графом С.Ю. Витте) в количестве всего 50 экземпляров и без ведома самого Ключевского, который по этому поводу писал, что «автор не принимал участия в этом издании, даже не знал о нем долгое время, не имеет его экземпляра и не искал его иметь». Столь же неожиданный, сколь и лестный симптом популярности курса, по-видимому, озаботил Василия Осиповича не меньше, чем те литографские его издания, в которых со многими неисправностями и без всяких разрешений печатались «пестрые студенческие записи, приблизительно и на свой страх воспроизводящие изложение профессора». С 1904 года В.О. Ключевский сам начал публиковать свой «Курс русской истории». Последние семь-восемь лет жизни были им посвящены исключительно обработке этого курса, которую В. О. Ключевский решился, по его словам, предпринять «в близости конца преподавательской работы». Покойный не успел довершить этого дела: вышло всего четыре части «Курса»7 — до Екатерининской эпохи. Предсмертная болезнь застала Василия Осиповича на пятой части труда, издания которой ждем от его сына и наследника.
Таков научный формуляр В.О. Ключевского. В.О. Ключевский всегда и всецело принадлежал науке. Можно сказать, что у него не было «биографии»: вся его жизнь прошла в Москве, за книгами и рукописями, за чтением лекций и за кабинетною работою. Его отдыхом бывала, говорят, рыбная ловля да беседы в оживленных кружках московской университетской интеллигенции. Охотно выступая на кафедре и много работая в кабинете, он был, в сущности, доступен очень немногим, близким к нему лицам. Трудно поэтому дать его характеристику и изобразить генезис его взглядов и основы его миросозерцания.
Для людей, которые не стояли близко к Ключевскому и знали его по его трудам или же видали его на кафедре и в ученых собраниях, знаменитый историк представлялся обаятельным, своеобразным и даже несколько загадочным по своей сложности лицом. К Ключевскому влекла необыкновенная сила его ума и остроумия и яркая красота его языка и речи. Когда он говорил свои обдуманные и даже, казалось, заученные лекции и доклады, невозможно бывало оторвать
внимания от его фразы и отвести глаз от его сосредоточенного лица. Властная мощь его неторопливо действовавшей логики подчиняла ему ваш ум, художественная картинность изложения пленяла душу, а неожиданные вспышки едкого и оригинального юмора, вызывая неудержимую улыбку, надолго западали в вашу память. Подобные же впечатления вызывали и те статьи Ключевского, которые были рассчитаны не на одних специалистов. Их чтение не только вас убеждало и учило, но и давало вам эстетическое наслаждение — богатством и точностью языка, блеском выразительной и красивой фразы, художественностью концепций. Ключевский совмещал в себе силу ума и богатство ученого знания с талантом поэтического восприятия и воспроизведения. В этом секрет его обаяния. Не на всех, однако, равным образом действовали особенности научного дарования Ключевского. Были критики, указывавшие на то, что изобразительность изложения Ключевского, переходившая иногда в вычурность и манерность, являет собою ученое безвкусие и литературную искусственность. Известно, например, нетерпимое отношение проф. В. И. Сергеевича ко всему, что ни писал Ключевский. По мнению покойного юриста, «в сочинениях такого рода (каковы сочинения Ключевского)... выяснить себе настоящую мысль автора нередко представляется делом очень нелегким». Обусловленное разностью ученых приемов и взглядов, осуждение Сергеевича имело и субъективно-психологическую основу — в чрезвычайном различии духовной природы обоих исследователей. Формально точный и сухой логический ум Сергеевича был очень далек от понимания манеры, с какой создавались труды Ключевского. Иногда сам В. О. Ключевский отступал от своего обычного способа изложения и печатал некоторые монографии без полной стилистической отделки. Таков, например, его очерк первоначальной истории городов на Руси, помещенный в первой редакции «Боярской думы» («Русская мысль», 1880 г. № № I, 3, 4 и 10). Таков «Русский рубль» и отчасти — исследования по истории крепостного права и земских соборов. Обращаясь от этих специальных работ к более популярным и общим трудам Ключевского, легко можно чувствовать, как много содействовала целости и силе впечатления усвоенная Ключевским в последних трудах своеобразная литературная манера. Да, великим мастером слова был Ключевский! Никто другой не умел дать читателю таких цельных и гармоничных настроений, как он; никто другой не умел так обвеять вас впечатлениями отжитых эпох.
Спокойствие объективного историка в высшей степени было присуще трудам Ключевского. Он умел не увлекаться полемикой ни с настоящими историками, ни с деятелями прошедшего. Полемический
элемент вовсе отсутствует в исследованиях В. О. Ключевского; обходятся даже такие ученые мнения и выводы, с которыми, казалось бы, естественно было сосчитаться*. И в прошлое смотрит наш историк если далеко не равнодушно, то весьма сдержанно, не показывая «ни жалости, ни гнева». Суд историка у Ключевского действует чаще всего посредством мимолетного сарказма или же благодушного, но меткого юмора. На читателя очень воспитательно влияет постоянное уменье Ключевского быть спокойным и серьезным, несмотря на способность к едкой шутке. Тем неожиданнее проблески некоторого пессимизма и скорбного настроения в Ключевском. Иногда читатель чувствует, что историк как бы не удовлетворен настоящим. В одном из курсов Ключевский, например, так отзывался о своей современности: «Надо признаться, что это поколение, к которому принадлежит и говорящий, доселе плохо разрешало свои задачи, и надо думать, что оно сойдет с поприща, не разрешивши их». Иногда же (и чем позднее, тем чаще) скорбь и негодование историка обращались в русское прошлое. В IV-й части «Курса» можно отметить несколько поразительных в этом отношении мест. Они таковы, что заставляют думать о росте пессимизма в пожилые годы историка и о некоторой убыли прежнего научного самообладания. Но и вообще и всегда внутренние настроения Ключевского могли порождать недоумение своею сложностью и неожиданностью. Мы помним, какое удивление вызвала всеми именно Ключевскому усвоенная статья «Грусть», подписанная буквою К и напечатанная в «Русской мысли» 1891 года в память 50-летия кончины М. Ю. Лермонтова8. В статье звучали такие элегические струны, царило такое настроение «поэтической резиньяции», каких нельзя было и предполагать в «историке Ключевском». Столь же мало от историка Ключевского можно было ожидать той степени лиризма, с какою была им написана речь памяти императора Александра III (1894) ®. Эти два выступления Ключевского были учтены как симптомы душевного перелома, переместившие его вправо от прежних позиций. Но прошло десятилетие, и последние годы застали нашего историка на прежних позициях. Душевный «перелом» не был переменою взглядов и чувств; он оказался только симптомом большой душевной сложности, в которой сплелись мудреным узлом самые разнородные элементы русской стихии и общечеловеческой мысли.
* Так, В.О. совсем не полемизировал с В. И. Сергеевичем. Любопытно сказанное мне им когда-то шутливое замечание, что Сергеевич тем похож на Грозного, что оба они привыкли идеи перекладывать на нервы. Этою шуткою В. О. дал мне понять, как он относился к нападкам Сергеевича.
с.д. яхонтов
12 мая 1911 г.
Памяти В.О. Ключевского*
12 мая скончался известный всей образованной России историк В. О. Ключевский. Исполняя долг Председателя Комиссии не молчать об утрате своих сочленов, я прошу разрешения Собрания сказать несколько не мудреных слов о потере, какую понесла наша историческая наука, какого своего бытописателя опустила в могилу Россия и кого лишились все мыслящие русские люди. Как ученик покойного по Академии (чем горжусь!), 4 года непосредственно соприкасавшийся с его талантом и знаниями в расцвете его сил, я поневоле буду держаться в пределах личных впечатлений и воспоминаний. О нем так много было писано после его смерти, что оценка личности Ключевского и без меня сделана. Не касаюсь его особых душевных свойств. Надобно было бывать в его обществе, чтоб представить себе ту притягательную силу, с какой он собирал около себя «непраздных» людей.
Пред нами прежде всего он историк, ученый.
Дорого не только то, что он открывал в истории, а и как. В том и другом нераздельно его значение и обаяние. Когда он входил на кафедру (1878-1880 гг.) и начинал получтение, полубеседу — лекцию, сразу водворялась живая тишина: все замирали, но усиленно жили. Разыгрывалась сцена, знакомая нам по детским рассказам об очарованиях при помощи глаз, постепенно приводящих жертву в неподвижность. Сравнение, если угодно, грубое. По мере того, как страница за страницей раскрывалась пред нами история русской жизни, внимание наше втягивалось все больше и больше, но не в грубый водоворот, которому вы не в состоянии противиться, а как бы в прелесть ландшафта, очарование поэзии, царство света.
Из речи, сказанной в годичном Собрании Комиссии 26 мая 1911 г.
Шире и шире раздвигался горизонт мысли: она просветлевала. Оригинальность и увлекательность его сообщений делали давно знакомый материал новым: мимо чего проходил раньше без интереса, без внимания,— с ним останавливался, рассматривал и маленькая соринка общественной жизни вырастала в нечто крупное, солидное, ценное и необходимое по связи с общим течением жизни. Удивительно, как он умел отыскать то маленькое колесико, без которого, однако, нейдут гиганты колеса и вся машина делается неподвижной! Малозначащему, по-видимому, Ключевский умел дать ценность, смысл, важность и необходимость. Так чудесный мир насекомых ожил, в нашем понимании получил свою целесообразность в мировой гармонии и неиссякаемую прелесть и значение, когда к нему с любовью подошел, гениально подсмотрел и художественно раскрыл его тайны естествоиспытатель Фабр1. То же сделал Ключевский и в истории давно минувшей и, по-видимому, умершей жизни. Отряхнувши толстый слой пыли с полуистлевших хартий, он с любовью прочитал их и в своих исторических «сказах» воскресил всю минувшую жизнь русского народа. Получалось впечатление: да, жизнь не умерла; все живо! «Лазаре, гряди вон!» — сказал он прошлой жизни Руси. Читая, а еще более слушая Ключевского, вы чувствуете, что уходите, уходите... от нынешней жизни и как по ниточке добираетесь до самых отдаленных по времени и самых потаенных уголков русской жизни и встает как живая седая старина, облекаются в плоть и кровь тени былого. В изучении русской истории Ключевский давал ариаднину нить, с которой не страшны были никакие извивы и извороты исторической народной жизни. Чувствуется, что водит по лабиринту сам хозяин. Его курс теперь — уложатся указатель спутник историка в его научной экскурсии; указаны пути дороги и по Северу, и по Заволжью, и чрез Муромские и Брянские леса в окраину степную; все поставлены на свое место: и служилые бояре — дворяне, и посадские люди, и перекочевывающие по шири русской — «хрещеныя души», мужики-крестьяне. Ключевский вводил своих слушателей не в праздничную жизнь русского народа, а в будничную, простую, мирскую, в поле, в Суздальское болото, к холодным озерам, в Залесье*. И какою являлась из-под его исследования глубоко-осмысленною, а подчас и красочною, эффектною эта повседневщина! Но зато мы увидели настоящую подлинную жизнь. Слой на слой ложилась его историческая краска: жизнь экономическая, на нее социальная, наконец,
Сборник, посвящ. Ключевскому.
их покрывала государственно-политическая и создавалась полная, понятная, яркая, правдивая картина. Этот метод исследования исторических явлений, выдвинутый Ключевским не теоретически, а практически, стал руководством для современных историков. Благодаря ему исследования исторические приобрели надлежащую всестороннюю полноту и жизненную правду, мелочи экономической и социальной жизни, в которых он с особенным вниманием разбирался, этот, по его собственному выражению, «мусор» подбирался в мозаику, создававшую живую картину: Исторические лица, события, явления ставились в такую перспективу, что слушателям начинало чудиться и небо Украйны, и болотно-лесной воздух Залесья, дикие взвизгивания налетающей Орды и тяжелое сопение плохо работающего мозгами боярина. Вот в этом уменье научить не только понимать, но и чувствовать прошлую жизнь Ключевский и доселе не имеет себе равных. Могучая сила анализирующего ума, углублявшаяся в самые корни народной жизни, соединялась у него с необычайным художественным творчеством синтеза. В аудитории старорусской постройки, с тусклыми окнами*, под чудодейственным словом Василия Осиповича мы, слушатели, иногда доходили до исторических галлюцинаций... Вот они идут люди давние, вот она движется, то заминаясь, то бурля, русская жизнь. Проходили, сменяясь и причудливо сплетаясь, картины горя и радости, величия и падения. Московская старина с ее бытом и порядками трепетала, как живая, под волшебным словом Ключевского. Лектор заставлял и содрогаться, и тосковать, и смеяться, перенося из эпохи в эпоху.
У нас два великих историка — Соловьев и Ключевский. Соловьев — это исторический архив: к нему за справками пожалуйте; к Ключевскому — за освещением, за уразумением истории. Ключевский — это вышка княжего терема, откуда, как на ладони, виден весь удел его — Русь необъятная. Собственно говоря, только благодаря ему мы уразумели всю целиком русскую историю.
Но Ключевский не только историк ученый, а и воспитатель народный. Он выучивал любить и привязываться к своей истории. И это не было умением, искусством. После его лекций любовь к истории сама собою зарождалась. Вот почему, кто с ним занимался, тот не переставал интересоваться историей, на какую бы дорогу ни поставила его судьба впоследствии. Достигалось это без эффектов, без позы. Маленькая, немного согнутая фигурка, склонившаяся на кафедре, сидя над записочкой с цифрами,— она
Москов. Академия.
то подергивает очки, то закладывает палец за воротник сюртука,— своеобразный, ему только принадлежавший, жест... Маленькое заикание, так шедшее к Ключевскому, придавало своеобразную прелесть его художественной спокойной речи. И все эти жесты и привычки кафедры вызывали подражание в его учениках, когда они сами со временем выходили на кафедры*. Но счастливо то, что это подражание внешнему соединялось с любовью к русской истории. Как после того, как Ив.Ег. Забелин обследовал старинную ложку, скворешницу, коробью, хотелось все эти предметы целовать, любоваться ими: так мила становилась русская земля после лекции дивного профессора. В этом отношении Ключевский не исследователь, а историк — воспитатель народный. И тысячи его учеников из одной священной памяти к нему не дерзнут произносить хулу на свое прошлое родное. В какую цену оценить этот благородной подарок учителя своим ученикам! Оттого-то он так успокоительно действовал на нервы, и особенно политические, давая всюду понять, что государственное строительство не такая простая вещь, чтоб по народной поговорке — тяп да ляп корабль. В истории все целое — корни, ствол и ветви.
Василий Осипович мало думал о таких последствиях его работ. Он только спокойно любил родную историческую жизнь, как спокойно светит солнце; пользуйся, кто хочет и кто может, на всех хватит. Он спокойно читает, спокойно говорит о минувшей русской жизни, но в этом спокойствии такая же тихая, глубокая любовь к русской земле, как у русской милой женщины — к ее семье. И дурно, и хорошо было на Руси,— но все с всепрощением и душевной теплотой...
Не могу не отметить строгое отношение Ключевского к печатному слову. Помню: во время обычного (по должности) приезда его в Сергиев Посад, в старую Лаврскую гостиницу, пришел я для беседы с ним о семестровом сочинении. В разговоре я заметил, что он слишком мало печатает. Он мне сказал: «В истории никогда не торопитесь ». Печатный станок был « вымучен » и не для того изобретен, чтобы на нем «все печатать. Печатай, когда все продумано».
И он сравнительно мало печатал: за то, что напечатано, то свято. С ним почти не спорили. Полемики нет.
Для нас, археологов, он оказал великую услугу, установивши взгляд, не поучениями и трактатами, а наглядно, своим курсом, что угасшей народной жизни нет, а есть только претворение одной
Факты.
формы в другую. Вся жизнь — и старая и новая — цельная жизнь, нераздельная. Менее всего нам ведома будничная жизнь и менее всего она интересовала историков до него, а он дал ей смысл и интерес. Дело археологии — открывать скрывшуюся душу народную. Это только и ценно, и нужно, а эта душа, как она есть, более всего воплощается в обыденной жизни. Без уменья объяснять, понимать ее проявления археология — простой музей, лавочка старьевщика. Руководство к глубокому, всестороннему пониманию действительной народной жизни Руси дал нам Ключевский...
Есть разные виды счастья: счастлив и тот, кто был слушателем или учеником Ключевского!...
Я думаю, что я не превысил свое право в день смерти Василия Осиповича, выразивши от имени Архивной комиссии соболезнование сыну его такой телеграммой:
«Рязанская архивная комиссия, со всей мыслящей Россией, оплакивает невознаградимую утрату великого историка и неподражаемого художника слова».
25 мая 1911 г.
Ill
В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ
А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ
Исторические взгляды В.О. Ключевского
В лице Василия Осиповича Ключевского Россия лишилась человека с ярко выраженной индивидуальностью и крупным талантом: своеобразный творческий ум и научная пытливость соединялись в нем с глубоким чутьем исторической действительности и с редким даром художественного ее воспроизведения.
Русская историческая наука многим обязана Ключевскому и, конечно, не замедлит надлежащим образом оценить его заслуги и разобраться в той массе мыслей, наблюдений и выводов, которые он с таким мастерством расточал на своих лекциях и в своих научных трудах, всегда возбуждая умственную деятельность слушателей или читателей, часто очаровывая их яркостью образов и оживленностью своей речи; но перед еле закрывшейся могилой великого историка и свежим воспоминанием о тяжелой утрате, трудно дать всестороннюю оценку его личности и значения; легче отметить, хотя бы в самых кратких и беглых чертах, несколько важнейших особенностей его научного мировоззрения и, не входя в подробное изучение их генезиса, выяснить то влияние, которое они оказали на его понимание общего хода нашей истории.
В образованных кругах московского общества шестидесятых годов Ключевский уже не застал ни прежнего интереса к немецкому идеализму, ни той борьбы, которую западники вели с «первыми славянофилами». Благодаря изменившимся условиям, молодой ученый мог свободно пользоваться взглядами и выводами разных школ и направлений и вырабатывал свои собственные воззрения
* Эта статья под заглавием «Памяти В. О. Ключевского» была первоначально напечатана в «Вестнике Европы» за 1911 г., август, стр. 337-353 и воспроизводится здесь с незначительными изменениями.
не без влияния тех впечатлений, какие он вынес из эпохи великих реформ и социального переустройства нашей жизни.
Воспитывающее действие «западного направления» Ключевский испытал на себе со времени поступления своего в Московский университет; правда, он уже не мог учиться ни у Грановского, ни у Кудрявцева' и мало слушал Ешевского2, который читал древнюю и среднюю историю с большими перерывами; но Соловьева Ключевский узнал в цвете сил и студентом третьего курса стал записывать его лекции. Внимательно вслушиваясь в его «говорящее размышление», даровитый студент старался ухватиться за нить развиваемых им мыслей и не замечал его отрывистой речи: он чувствовал, что с ним беседует человек с стройным и цельным миросозерцанием и с выработанным, столь же цельным, взглядом на ход русской истории, крупные факты которой он всегда рассматривал при свете общих исторических идей. На лекциях своего учителя, большого поклонника Гизо3, Ключевский научился ценить его общие взгляды; он сроднился с мыслью «о закономерности» исторических явлений и привык изучать их в «естественной и необходимой» их связи между собою и в их органическом развитии; на тех же лекциях он знакомился, конечно, с историей русского государства, а отчасти и с «историей сословий», не говоря о целом ряде более частных замечаний, вводивших его в изучение нашего прошлого. И впоследствии он продолжал думать, что для того, чтобы «идти прямо и твердо к своей работе, каждый исследователь русского прошедшего должен начинать с того, чем кончил Соловьев свою речь о том же», и что Соловьев, «как маяк, еще долго будет служить первым указателем пути даже для того, кто далеко разойдется с ним в своих последних выводах».
Действительно, Ключевский во многом разошелся с Соловьевым, и прежде всего в исходных положениях, а не только в «последних выводах»: он исходил из другой социологической оценки исторических факторов и иначе строил исторический процесс.
С социологической точки зрения, не чуждой, впрочем, и Соловьеву, Ключевский представлял себе человеческое общежитие таким же фактом мирового бытия, как и жизнь окружающей нас природы, а возникновение, рост и смену подобного рода союзов, со всеми условиями и последствиями их жизни, называл историческим процессом. С той же социологической точки зрения Ключевский различал и «предметы исторического изучения»: подобно тому, как социологи делят свою науку на социальную статику и социальную динамику, и наш историк полагал, что история должна изучать «строение общества», «свойства и действия созидающих и направ
ляющих его сил», и следить за выработкою человека и человеческого общежития, за его «успехами», или его «прогрессом»; но тогда как Соловьев, подобно Боклю4, стал указывать на возрастающее влияние «духовных сил» в истории, Ключевский, следуя иному социологическому направлению, обращал особенное внимание на материальные факторы. С такой социологической точки зрения Ключевский не мог придавать идеям того значения, какое приписывал им Соловьев*. Ключевский полагал, что историк, занимающийся историей общества, а не отдельных личностей и их идей, интересуется плодами личного творчества лишь с точки зрения их дееспособности »; лишь та идея, которая становится историческим фактором общежития, т.е. выходит из пределов личного существования и делается общим достоянием, и не только общим, но и обязательным, т. е. общепризнанным правилом или убеждением, заслуживает внимания историка; лишь добившись общего признания и став руководительницей политики, законодательства или хозяйственного оборота, она может быть признана «историческим явлением». Следовательно, историку приходится сосредоточивать свое внимание на изучении более видных факторов исторического развития, т. е. экономических и социальных отношений, а также политического строя. В позднейшее время, кажется, сам Ключевский ввел, однако, существенную оговорку в такое понимание: заявляя, что «умственный труд и нравственный подвиг всегда останутся лучшими строителями общества, самыми мощными двигателями человеческого развития», он стал придавать «чисто методологическое значение» изучению преимущественно фактов «политических и экономических», т. е. настаивал на известном порядке изучения исторических факторов, по мере того, как они входят в общий исторический процесс, а не в соответствии с их последующим значением. С такой точки зрения Ключевский должен был, однако, признать, что историк «идет от следствий к причинам, от явлений к силам», т. е., что он должен пользоваться фактами «экономическими и политическими» (да и многими другими) и для изучения истории идей, разумеется, тех, которые имели историческое значение; сам он принимал во внимание такое требование, когда утверждал, например, что история задает каждому народу «работу
* Впрочем, в известной рецензии своей на книгу Щапова о социально-педагогических условиях умственного развития русского народа (1870 г.), Ключевский обнаружил, по-видимому, иное отношение к «истории интеллектуальной жизни»: развитие ее «совершается вообще правильнее других сфер жизни»... «по существу она проще и легче для изучения в сравнении с историей общественной жизни»...
над своей собственной природой», т.е. «работу над самим собою», неосуществимую, конечно, без руководящих «идей» или «идеалов»; или когда высказывал, что «энергия личного материального интереса возбуждается не самым этим интересом, а стремлением обеспечить личную свободу, как внешнюю, так и внутреннюю, умственную и нравственную» и что «эта последняя на высшей ступени своего развития выражается в сознании общих интересов и в чувстве нравственного долга действовать на пользу общую».
В понимании «процессов», образующих историю, Ключевский также несколько разошелся с Соловьевым: сам он, говоря о современных ему течениях, заметил, что, хотя одни изучают «генезис и развитие политических форм и социальных отношений», а другие — «рост национальных преданий и обычаев, дух и быт народа», но различие их взглядов не имеет принципиального значения; напротив, он признавал такие направления лишь «простым разделением труда в работе над одним и тем же предметом» и, значит, считал возможным пользоваться выводами обоих; не придерживаясь исключительно ни того, ни другого, он мог почерпать из обоих то, что ему казалось нужным для выработки своего собственного понимания нашего прошлого. Действительно, Ключевский пополнил схему, принятую Соловьевым: сохранив, конечно, понятие о государстве, но приписывая большое значение и «народности» — началу, на котором в то время уже сходились сторонники разных течений,— он ввел ее в свое построение русской истории. Таким образом, он сосредоточил свое внимание на выяснении двух процессов: он следил за тем, как понятие о государстве вырабатывалось в практике жизни и выяснялось в сознании народа; вместе с тем он не упускал из виду, однако, и того, как, в связи с ростом государства, завязывались и сплетались основные нити, образовавшие своей сложной тканью нашу народность.
Естественно, что ввиду такого понимания исторических факторов и «процессов», а также, вероятно, и под влиянием переживаемой им эпохи великих реформ и социального переустройства нашей жизни, Ключевский должен был преимущественно интересоваться теми ее элементами, которые он называл «политическими, социальными и экономическими» фактами; принимая во внимание учение о народности, он не считал возможным изучать историю «политических и общественных форм» без заполнявшего их содержания, т. е. вне их связи с социальной жизнью, составом общества, борьбою классов и тому подобными процессами; он ставил их, в свою очередь, в тесную зависимость от «экономических отношений» и в особенности от «производительности народного труда», но не упускал,
однако, из виду и обратной зависимости «фактов экономических» от «политических», особенно заметной в моменты напряженного развития военных сил нашей страны.
В самом деле, в большинстве главнейших трудов Ключевского можно подыскать немало примеров того социологического интереса, с каким он относился к «политическим, социальным и экономическим фактам» русской истории. В студенческой работе, посвященной обозрению сказаний иностранцев о России5, он уже обратил преимущественное внимание на те сведения, какие они сообщали о географии страны, о некоторых явлениях государственной и общественной жизни, а также о «материальной», но не о нравственной ее стороне, «гораздо менее открытой для постороннего глаза»; с того времени он не переставал изучать те же категории фактов. В другой работе, также предпринятой, вероятно, под влиянием своего учителя, Ключевский, правда, занялся критическим разбором материала, который, казалось бы, имел очень мало отношения к таким процессам, а именно обратился к исследованию древнерусских житий святых6; но он приступил к ознакомлению с ними в надежде найти в них обильный и свежий источник для выяснения того участия, какое монастыри принимали в колонизации северо-восточной Руси, и только ввиду особенностей самих источников должен был изменить постановку своей темы. И в последнем случае, однако, он все же придерживался социологической точки зрения при изучении, например, той среды, в которой зародилась литературная форма житий, ее типических черт и последующих ее превращений, распространения житий в обществе, а также того воздействия, какое «древнерусский читатель оказывал на биографа». Во всяком случае, в позднейших своих специальных исследованиях Ключевский преимущественно сосредоточил свое внимание на истории учреждений и социально-экономических отношений, касаясь иногда и других тем в статьях и речах более случайного происхождения.
В связи с принятою им социологической точкой зрения и интересом к народности, Ключевский, при изучении учреждений, гораздо более Соловьева обращал внимание на социальные и экономические отношения. В капитальном своем труде о боярской думе, например, Ключевский довольно резко обнаружил такое именно свое отношение к истории учреждений: проводя различие между их содержанием и формою, он полагал, что нельзя изучать их без выяснеция наполнявшего форму материала, так как в противном случае трудно понять, почему один и тот же «порядок» в разных условиях получал различное значение. Тот же взгляд наш историк
применил и в специальном своем исследовании о боярской думе: он интересовался не тем, «откуда взялись формы, свои они или чужие», а тем, «какое туземное содержание влилось в них и переработало их»; он изучал «социальную историю думы», «в связи с историей общества», в связи с «процессом образования верхних его слоев»; он подчеркивал влияние социального состава управления на развитие боярской думы и следил за образованием московской правительственной аристократии, бывшей политическою силой, но не властью, права которой были бы приобретены оружием или ограждены законом; он выяснял и те перемены, которые происходили в социальном и правительственном составе думы, постепенное превращение ее в центральный орган управления и ее законодательное значение, а также ее перерождение из аристократического совета в бюрократическое учреждение, вплоть до замены ее сенатом. Свой интерес к социально-политической истории Ключевский проявил и в известных статьях о «составе представительства на земских соборах древней Руси»7; подвергнув его тонкому анализу, он пришел и к новому выводу касательно характера самого учреждения: он полагал, что «основным принципом» представительства на земских соборах XVI века было, в сущности, «представительство по должностному правительственному положению, а не по общественному выбору», хотя, впрочем, не забыл отметить в составе последнего из соборов того же века и «выборных представителей уездных дворянских обществ». Кроме того, связав историю земских соборов XVI века с историей земских учреждений, он выяснил происхождение и значение представительства в XVI веке как «высшей формы поруки в управлении»: он показал, что правительство, созывая собор, стремилось «обеспечить себе дружное и усиленное содействие всех местных обществ», должностные представители которых, «поручившись за исполнимость соборного приговора, должны были принять на себя и провести в местные общества ответственное его исполнение».
В других работах Ключевский приступил к изучению социально-экономических, а не социально политических отношений: уже до появления статей о земских соборах он напечатал замечательные свои исследования по истории прикрепления крестьян и крепостного права8, падение которого произвело на него сильное впечатление. Вместо того чтобы сводить процесс прикрепления к истории мер, предпринимаемых московским правительством, Ключевский впервые выяснил значение возраставшей частной зависимости владельческого крестьянина от землевладельца, обусловленной, главным образом, экономическими отношениями, и обратил особенное
внимание на то, каким образом движение холопства в сторону крестьянства встретилось с противоположным движением крестьянства в сторону холопства и как этот двойной процесс завершился первой ревизией и привел к образованию крепостного состояния.
В разысканиях подобного рода Ключевский должен был, конечно, натолкнуться на целый ряд проблем, касавшихся чисто экономической истории Московской Руси и до того времени очень мало затронутых в нашей историографии; он обратил серьезное внимание, например, на один из самых основных и труднейших вопросов экономической истории, а именно на вопрос о ценности денег, и попытался определить отношение покупательной силы или меновой ценности нашего рубля XVI-XVII веков к современной и постепенное ее падение, совершившееся, впрочем, не без некоторых колебаний9.
Такой же социологический интерес к «политическим, социальным и экономическим фактам» в их совокупности Ключевский обнаружил, наконец, и в своем «Курсе русской истории». В введении к нему он заявляет, что имеет в виду заняться «социологическим» изучением ее как «местной истории» и будет излагать «факты политические и экономические, с их разнообразными следствиями и способами проявления и — только, ничего более». И действительно, в своих лекциях он обращает большое внимание на ход колонизации и ее результаты, на «политические и общественные формы», на внутренние политические отношения, на состав общества, на то положение и взаимное отношение, какое устанавливалось между социальными классами под влиянием экономических и иных условий, и т. п.
«Социологическое изучение» русской истории Ключевский понимал, однако, не в смысле абстрактного рассмотрения «политических, социальных и экономических фактов»: по примеру Соловьева исходя из мысли о «связи явлений», о том, что «в истории, как и в природе, ничто не действует одиноко, особняком», он давно уже обратил внимание на многообразие исторического процесса; при изучении того, а не иного сочетания «политических, социальных и экономических фактов» он стремился комбинировать свою социологическую точку зрения с собственно исторической и, подобно Соловьеву, но с большею последовательностью оттенял «своеобразность» русской истории. Вообще, обнаружив такое стремление уже в одной из своих статей, писанных лет сорок тому назад, по поводу «социально-педагогических условий умственного развития русского народа», он более систематично проводит его, например, в «Боярской Думе» и особенно в «Курсе русской истории».
В самом понимании задач местной истории, какое Ключевский предлагает в начале своего «Курса», он высказывает такой именно взгляд на «социологическое изучение» нашего прошлого: он полагает, что «местная история» дает готовый и обильный материал и для «исторической социологии», т.е. для учения о «строении общества», и для знакомства с «законами движения» людского общежития или с тем, «при каких условиях известный элемент его двигает человечество вперед по пути мирового прогресса и когда задерживает его движение »; но он признает вместе с тем, что « отдельная история известного народа может быть важна своеобразностью своих явлений», т. е. своеобразием сочетаний ее элементов, хотя бы они, порознь взятые, и были сходны с элементами других историй, и что, следовательно, «научный интерес истории того или другого народа определяется количеством своеобразных местных сочетаний и вскрываемых ими свойств тех или иных элементов общежития». С такой двойственной точки зрения Ключевский приступает и к изучению русской истории: она представляет сравнительно простые процессы, «в которых можно достаточно отчетливо разглядеть работу исторических сил, действие и значение различных пружин, входивших в сравнительно несложный состав нашего общежития»; но она отличается и «своеобразным сочетанием действовавших в ней условий народной жизни».
Итак, «своеобразие» нашей истории Ключевский понимает прежде всего в смысле своеобразного сочетания хотя бы и сходных с другими элементов русской жизни и характеризует каждый ее период особого рода сочетанием их, отличным от того, какое они получали в другом. В зависимости, например, от различия в комбинациях между элементами государственной власти, социальной жизни и производительности народного труда, обусловленных частью местными условиями колонизации, частью «внешними обстоятельствами», Ключевский и построяет в своем «Курсе» общий ход нашей истории: он полагает, что колонизация, которую, впрочем, не упускал из виду и его предшественник, была «основным» ее фактом и что все другие ее факты стояли в близкой или отдаленной связи с колонизацией; он заявляет, что этот факт и служит основанием плана курса». Ближайшую с ним связь он усматривает и в некоторых «политических и экономических фактах»: он полагает, что Русь с VIII до XIII века была «днепровской, городовой, торговой»; с XIII до середины XV века — «верхневолжской, удельно-княжеской, вольно-земледельческой»; с середины XV до второго десятилетия XVII века — «великой, московской, царско-боярской, военно-земледельческой и наконец, с начала XVII до се
редины XIX века — «всероссийской, императорско-дворянской, с крепостным хозяйством, земледельческим и фабрично-заводским».
В предлагаемой им периодизации русской истории Ключевский, как видно, остался верен своей первоначальной концепции исторического процесса: он рассуждает о своеобразном сочетании «политических, социальных и экономических фактов», но не уделяет в нем особого места для «идей», несмотря на то, что сам высоко ценит развитие национального самосознания и процесс образования исторической личности русского народа, которые нельзя сводить к одним только внешним проявлениям его деятельности, не нарушая целесообразности и непрерывности ее эволюции. Впрочем, в указанном выше смысле Ключевский принимает во внимание и «интеллектуальные факторы», действовавшие в русской истории, особенно позднейшей. Хотя вместо древней религии восточных славян он и говорит только о их «мифологии», да и касается ее лишь в связи с следствиями колонизации, хотя он и не останавливается на подробном рассмотрении влияния христианской и византийской культуры на древнерусскую жизнь и довольствуется преимущественно изучением церковных уставов русских князей и влиянием церкви на гражданский быт и политический порядок, мимоходом упоминая об «успехах гражданственности и просвещения» в среде «господствующего класса», но в других случаях он отмечает и роль идей в нашем историческом развитии. Возвышение московских князей Ключевский ставит, например, в зависимость от отношения их к русской церкви и замечает, что им удалось успешно собрать в своих руках «материальные, политические силы русского народа» благодаря дружному содействию добровольно соединившихся его духовных сил; он следит за ростом «политического самосознания великорусского общества», за развитием московской политической теории, приведшей к резкому отделению московского государя от всего остального общества и к «идее подданства»,— словом, за образованием того «кодекса политических понятий, которым так долго жила потом Московская Русь». Вслед за тем он указывает на «национальные и религиозные связи, спасшие общество в смутное время», и останавливается на характеристике тех двух направлений «в умственной жизни русского общества», которые сложились под влияниями греческим и западным и, в борьбе друг с другом, «всего более оживляли вялую общественную жизнь, направляемую темной, тяжелой и пустой государственной деятельностью, какая с некоторыми перерывами, томительно длилась до половины XIX века». При изображении эпохи преобразований он также замечает, что уже
в XVII веке русская мысль «тронулась и пыталась повлечь за собой застоявшуюся жизнь», а «в пробуждении простодушной веры русских людей того времени в науку и доверчивой надежды с ее помощью все исправить» усматривает «главный нравственный успех в деле подготовки реформы Петра Великого» и руководящие начала его собственной преобразовательной деятельности; вместе с тем он полагает, что такое влечение, неравномерно действуя на разные классы русского общества, нарушало прежнее «духовное согласие, господствовавшее в нем вопреки социальной розни», но что «та же вера, поддерживала нас и после преобразователя всякий раз, когда мы, изнемогая в погоне за успехами западной Европы, готовы были упасть с мыслью, что мы не рождены для цивилизации и с ожесточением бросались в самоуничижение». Итак, по мере пристального изучения позднейших периодов нашей истории, Ключевский все более подчеркивает значение «идей» в ее ходе, что и дает ему возможность отмечать новые различия в сочетаниях элементов русской жизни, характеризующих данный период ее развития.
Нельзя не заметить, однако, что Ключевский часто придает понятию о «своеобразии русской истории» еще более узкое значение: при изучении ее «хода» он едва ли даже не преимущественно интересуется индивидуальным характером данного сочетания элементов, в его зависимости от «встречи» данных условий места и времени, а не только сходством каждого из элементов, отдельно взятого, с другими; вместе с тем он обращает внимание на такой же характер субъекта развития — носителя этого сочетания и не упускает из виду своеобразия некоторых из главнейших составных его элементов и частей изучаемого им целого. Сам Ключевский указывает, например, на то, что исследователь местной истории встречает ее моменты и условия «в своеобразных сочетаниях и при невиданных им внешних обстоятельствах» и что они, следовательно, «вне данного места, неповторимы»; что отдельные народы, принимавшие наиболее заметное участие в историческом процессе, раскрывают природу человечества с разных сторон и особенно ярко проявляют ту или другую силу ее; что народ становится в государстве не только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения, и это сознание возрастает по мере усиливающегося влияния его на другие народы. Такую точку зрения Ключевский готов был, конечно, приложить и к изучению русской истории; сам он говорит, что «научная цель» его «Курса» будет достигнута, если ему удастся дать изображение русского народа «как исторической лич
ности». И действительно, он следит за тем, в каких именно условиях места и времени этот народ действовал, как его жизнедеятельность надолго сосредоточилась в великорусском племени, каков был его характер и какие именно люди всего более двигали его историей, какие «внешние обстоятельства» или исторические события оказывали влияние на его прошлое, какую роль он играл среди других европейских наций, и т. п. С такой точки зрения Ключевский, в сущности, пытается отметить и те исторические моменты, которые придают каждому из периодов нашей истории своеобразный характер, отличный от соответствующих периодов в истории других народов.
В собственно историческом понимании древнего киевского периода нашей истории Ключевский расходится, однако, с Соловьевым. Вместо того чтобы говорить о родовом быте древней Руси, сходном с древним патриархальным бытом других народов, наш историк выясняет те местные условия и «внешние обстоятельства», под влиянием которых он разлагался и роды взаимно сближались между собой; в зависимости от того именно положения, какое заняли восточные славяне на «круговой водной дороге, опоясавшей всю Европу», он объясняет возникновение и тех древнейших торговых городов на Руси, которые укреплялись под влиянием печенежских набегов и главнейшие из которых стали политическими центрами областей, образовавшихся не из племенных союзов, а из торговых округов. Ключевский замечает также, что и норманы-варяги появились извне на том же большом водном и торговом пути не в том виде, в каком они являлись на западе: они проникли сюда в качестве вооруженных купцов, пробиравшихся через Русь в богатую Византию, а не пиратов, и, оседая в русских городах, усиливали собою тот туземный класс «военно-торговой аристократии», из которой выделился князь и образовалась его дружина; он приходит к заключению, что в то время «внешние и внутренние отношения в торгово-промышленном мире русских городов сложились в такую комбинацию, в силу которой охрана границ страны и ее внешней торговли стала их общим интересом, подчинившим их князю киевскому и сделавшим киевское варяжское княжество зерном русского государства». В связи с таким явлением и с «внешними обстоятельствами» Ключевский рассматривает и дальнейшие процессы подчинения старинных «городовых областей» киевским князьям, превратившим свою вооруженную силу в политическую власть и объединившим под нею, посредством очередного княжеского владения, восточных славян в одно «земское целое»; словом, он выясняет, каким образом Киевская Русь стала «колыбелью русской народности».
Вообще, настаивая на «своеобразии» русской истории, Ключевский не забывает отметить ее особенности и в «удельные века»: он и тут исходит именно из того положения, какое заняло великорусское племя в «гидрографическом узле» верхневолжской Руси и из ее колонизации, оказавшей влияние на образование понятия о князе, как о личном собственнике удела. Вместе с тем Ключевский менее Соловьева склонен подчеркивать сходство княжеского удела-вотчины с феодальными порядками: он, конечно, замечает все более усиливавшееся распадение верхневолжской Руси «на мелкие тела, в строе которых, с наивным безразличием, элементы государственного порядка сливались с нормами гражданского права», и готов признать в юридическом значении самого удельного князя, соединявшего в своем лице государя и верховного собственника земли, черты сходства с феодализмом; но он не усматривает его ни в процессе возникновения такого смешения, ни в отношениях князя к его боярам и вольным слугам: отношения их были лично-служебными, так же, как отношения черных людей были лично поземельными*. Вместе с тем, считая возвышение московских князей из среды удельных державцев, потерявших прежнее значение, залогом собирания элементов верховной власти и будущего государственного единства Московской Руси, он указывает на ту «встречу» благоприятных условий и обстоятельств, благодаря которой оно стало возможным, хотя сами московские Даниловичи, за исключением разве Дмитрия Донского, и не выдавались какими-либо особыми личными качествами: изучая этот процесс, да и то отношение, какое в продолжение XIV века установилось среди северного населения к московскому княжеству и его «хозяевам-вотчинникам», руководившим народной обороной, он настаивает на том, что их государство развивалось в связи с внешним расширением их территории и стало складываться под гнетом внешнего ига и в национальной борьбе с ним.
В изображении следующего периода русской истории, начинающегося со времени вступления Ивана III на великокняжеский стол, Ключевский обнаруживает то же стремление оттенить ее особенности. В отличие от Соловьева он усматривает, например, «основной факт» нашей истории XV-XVI веков не в общем процессе смены родовых отношений между князьями — отношениями государственными, а в превращении московского княжества в «национальное великорус-
В своей «Боярской Думе» Ключевский резче подчеркивает землевладельческое значение боярства в удельное время, но первый том его «Курса» вышел более двадцати лет после издания « Боярской Думы».
ское государство». Московское государство образовалось из великорусского племени, благодаря стремлению к политическому единству на народной основе, слагавшемуся под влиянием той борьбы, которую оно вело на «два фронта: на западе — за национальное единство, на юго-востоке — за христианскую цивилизацию, там и здесь за свое существование». Таким образом, «оборона государства от внешних врагов» становилась тем «высшим интересом», который не допускал окончательного разрыва враждовавших общественных сил, заставляя их против воли действовать дружно: «под руководством командира» каждый становился или солдатом, оборонявшим отечество, или работником, который должен был кормить тех, кто его обороняет. Впрочем, в то время верховная власть с неопределенным, т. е. неограниченным пространством ее действия и с нерешенным вопросом об отношении к собственным органам, именно к главному из них — к боярской аристократии, не могла еще достигнуть внутреннего государственного единства: даже Иван Грозный, с его «настоящим великорусским умом», сознав себя национальным государем, «наполовину своего самосознания остался удельным вотчинником» и больше задумывал, чем сделал для того, чтобы завершить образование «национального великорусского государства». Да и в позднейшее время «вотчиннодинастический взгляд на государство» не совсем утратился: он послужил одною из основных причин смуты, и только в смутное время, впервые глубоко затронувшее политическое сознание русских людей, они «опытом убедились, что государство, по крайней мере некоторое время, может быть без государя, но ни государь, ни государство не могут обойтись без народа».
Все более входя в область «автобиографии», Ключевский сильнее Соловьева обнаруживает, наконец, ту же наклонность выдвигать «своеобразие» нашей истории и в своем понимании нового ее периода — времени, когда русские государи завершили собирание всей русской народности и государственная территория вобрала в себя всю русскую равнину. В своей характеристике этого периода наш историк придает особенно важное значение международному положению страны: «неестественное отношение внешней политики государства к внутреннему росту народа», который в развитии своих сил отставал от задач, становившихся перед государством, вследствие ускоренного внешнего роста, — таков, по его мнению, главный факт, оказавший существенное влияние и на соотношение остальных фактов того времени — политических, социальных и экономических; он обусловил стеснение «внутренней свободы народа», усиление социального неравенства и ухудшение в положении трудящихся классов.
С такой точки зрения Ключевский дает сжатую характеристику последнего периода нашей истории; различая во внешней политике того времени два момента — оборонительный и наступательный, он приходит к следующей формуле: «по мере того, как усиливалось напряжение внешней оборонительной борьбы, усложнялись специальные государственные повинности, падавшие на разные классы общества, и по мере того, как оборонительная борьба превращалась в наступательную, с верхних общественных классов снимались их специальные повинности, заменяясь специальными сословными правами, и скучивались на низших классах; но по мере того, как росло чувство народного недовольства таким неравенством, правительство начинало подумывать о более справедливом устройстве общества».
В связи с таким пониманием «хода дел» в новый период нашей истории Ключевский допускает еще одно характерное уклонение от схемы Соловьева: он начинает этот период с начала XVII века, а не с эпохи преобразований, и таким образом еще более сглаживает кажущийся разрыв между временем до и после реформы. В своем построении, однако, Ключевский не только усиливает, но и изменяет взгляд Соловьева: не начиная нового периода с эпохи преобразований Петра Великого, новейший наш историк не разрывает тесной ее связи с предшествующим нашим развитием и, значит, не приписывает реформе того чрезмерного значения, которое будто бы состояло в «крутом повороте на запад» и в «заимствовании плодов европейской цивилизации»; но, подчеркивая значительную зависимость реформы от времени, наступавшего после смуты, он отмечает и то, что явилось, «сверх чаяния», в качестве «непредвиденных» последствий.
В самом деле, Ключевский полагает, что XVII век весь был эпохой, подготовлявшей реформу Петра Великого, и что «его программа была вся готова еще до начала деятельности преобразователя» и даже шла «дальше того, что он сделал». После тщательного изучения реформы он приходит к заключению, что Петр сберег в себе «слишком много допетровского царя» и многое взял из старой Руси: государственные силы, верховную власть, право и сословия, иногда, впрочем, соединяя элементы старины в новые сочетания или разделяя слитые; у Запада он заимствовал лишь технические средства для устройства армии, флота, государственного и народного хозяйства и правительственных учреждений, не всегда сохраняя западноевропейские образцы в прежнем их виде и «переделывая их на московский лад». Вместе с тем, однако, наш историк не упускает из виду и того, что преобразования Петра «направлялись условиями его времени, до него не действовавшими», что они частью вторгнулись в его дело со стороны, частью были созданы
им самим. С такой точки зрения Ключевский вскрывает и своеобразие реформы: в том именно виде, в каком она произошла, реформа зависела прежде всего от «северной» войны и ее случайностей. Северная война была «главным движущим рычагом» реформы; она указала порядок реформы, сообщила ей темп и самые приемы ее осуществления. Реформа, по своему исходному моменту и по своей конечной цели, была военно-финансовая; все остальные меры оказались либо неизбежными следствиями, либо подготовительными средствами к достижению главной цели; факты, вытекавшие из этого двойственного значения реформы, коснулись всех классов, отозвались на всем народе. Наряду с своеобразными обстоятельствами, при которых преобразователю приходилось действовать, Ключевский указывает и на своеобразие его личности; он немало посвятил труда выяснению ее особенностей: хотя реформа «сама собою вышла из насущных нужд государства и народа», но эти нужды были «почувствованы властным человеком с чутким умом и сильным характером, талантами, дружно совместившимися в одной из тех исключительно счастливо сложенных натур, какие, по неизведанным еще причинам, от времени до времени появляются в человечестве». Такою личностью он признает Петра Великого, предпринявшего борьбу деспотизма с народом и с его косностью, но не чуждого мысли, что его военно-финансовая реформа, в своем продолжении, должна стать социально-экономической и быть направленной к усилению производительных сил страны, с помощью общественной самодеятельности. Наш историк не забывает отметить и те последствия, которые «сверх чаяния» непредвиденно возникли из реформы: они оказались или в известной мере благотворными для русской жизни, или, напротив, зловредными искажениями, в том случае, например, когда стремление поднять производительность народного труда средствами европейской культуры превратилось по смерти преобразователя «в усиленную фискальную эксплуатацию и полицейское порабощение самого народа».
Пристально всматриваясь в ход реформы, Ключевский, как видно, сильно подчеркивает своеобразное влияние внешних обстоятельств на внутренние преобразования и ограничивает их значение, а также и роль самого преобразователя; но вместе с тем он признает, что сам Петр «проникся мыслью о народном благе, как никто из наших царей», и не отрицает того нового исторического момента, который его реформа отчасти обусловила: из забытого Европой арьергарда, оберегавшего тыл европейской цивилизации, Россия стала государством, впервые деятельно вступившим, как органический член, в семью европейских держав.
Итак, в своем построении последнего периода нашей истории Ключевский сливает время до и после реформы; но он все же придает ей особого рода значение и отмечает весьма важное влияние ее на последующее наше развитие. Долго остановившись на характеристике преобразований и их последствий, он не успел, однако, с той же индивидуализирующей точки зрения рассмотреть своеобразие дальнейшего хода русской истории; он довел изображение ее лишь до того времени, когда «дворцовое государство преемников Петра I получило вид сословно-дворянского», а «правовое народное государство было еще впереди и не близко».
Таким образом, в своем общем курсе Ключевский преимущественно придерживается собственно исторического понимания нашего прошлого, в значительной мере соподчиняя ему ту социологическую точку зрения, с которой он приступил к своим исследованиям по истории учреждений и социально-экономических отношений: для такого именно понимания он и пользуется социологическим методом изучения фактов русской истории. В самом деле, Ключевский изображает историческую личность русского народа в ее развитии, оттеняет зависимость хода нашей истории от «встречи» разного рода условий, от местных особенностей и от «внешних обстоятельств», даже как будто подчеркивает сравнительно большее с течением времени влияние последних и не упускает из виду исторических лиц, «по неизведанным еще причинам от времени до времени появляющихся в человечестве»; но вместе с тем он все же продолжает применять «социологический метод» к изучению причин и последствий этих фактов: он не столько описывает их, сколько исследует, каким образом они возникли и в особенности какое влияние они оказали на жизнь русского общества, на его «строение» и его «движение». С такой точки зрения наш историк изучает, например, и основание киевского княжества, и образование великорусского московского государства, и политическую, а также социальную борьбу, наступившую в Смутное время, и эпоху преобразований, в особенности военно-финансовую реформу, оказавшую «глубокое действие на склад общества и на дальнейший ход событий», и многие другие менее крупные явления нашей истории.
В задачи настоящей заметки не входит рассмотрение более частных, но не менее ценных наблюдений и выводов, которые Ключевский высказывает чуть ли не на каждой странице своих трудов, всегда освещенных творческою мыслью и богатых свежим фактическим содержанием; но и сказанного, может быть, достаточно для того, чтобы напомнить главнейшие принципы его
социологических и собственно исторических изысканий и дать почувствовать, что его научная деятельность составляет целую эпоху в нашей историографии.
Все шире и глубже охватывая русскую историческую действительность в ее целостности, Ключевский много сделал для научной ее конструкции и для последующей ее разработки: он высказал немало блестящих гипотез и построений, которые всего более будили нашу историческую мысль и двигают ее вперед даже в тех случаях, когда она подвергает критике его собственные предположения. Вместе с тем Ключевский умел «говорить» не только отвлеченными формулами, но и живыми образами; они подсказывают читателю многое, что он не мог бы воспринять из строго размеренной речи кабинетного ученого: они дают чувство прошлой жизни и заставляют переживать историческую действительность, а переживание ее облегчает деятельное, иногда даже новое понимание того, что было. Ключевский не довольствовался, однако, такими результатами: сам глубоко переживая и прошлые судьбы нашей родины, и социальные реформы шестидесятых годов, и тяжелую политическую борьбу последних лет, он думал, что история отечества должна иметь также прикладную цель для детей его; своими трудами он хотел содействовать тому, чтобы каждый из нас был «хоть немного историком» и мог «стать сознательно и добросовестно действующим гражданином». И едва ли можно сомневаться в том, что Ключевский в значительной мере достиг своей цели: читая его историю русской народности, каждый из нас чувствует, что он живет не только в ее прошлом, но и для ее будущего...
Записка об ученых трудах ординарного профессора Императорского Московского университета
В.О. Ключевского
Всякому, кто сколько-нибудь следил за развитием русской историографии в течение последних тридцати лет, хорошо известны труды профессора В.О. Ключевского: его крупный исторический талант говорит сам за себя, а научные заслуги, так ярко проявившиеся в целом ряде специальных исследований, не нуждаются в подробной мотивировке. В нашей записке мы поэтому лишь в самых главных
чертах припомним результаты ученой деятельности профессора Ключевского и укажем на общее ее значение.
Ученик С.М. Соловьева, В.О. Ключевский легко усвоил себе то историческое мировоззрение, приверженцы которого, помимо пищи, доставляемой историей философскому и эстетическому созерцанию, признавали еще «сторону, более важную для изучения и более нужную для практических потребностей настоящего и будущего», а именно обращали особое внимание на «природу и действие сил и условий, участвующих в построении человеческих обществ». Лекции С. М. Соловьева, посвященные изучению органического развития русской государственности, наряду с которою он не упускал из виду и «истории сословий», оказали влияние на слушателей, в числе которых едва ли не первое место занимал некогда и В. О. Ключевский: еще в бытность свою студентом Московского университета он написал рассуждение «Сказания иностранцев о Московском государстве» (М., 1866) и до сих пор не потерявшее значения довольно полного свода иностранных известий о тех сторонах древнерусской жизни, изображение которых наименее могло потерпеть от произвола личных суждений писателей.
Тема для магистерской диссертации также была избрана В.О. Ключевским, вероятно, под влиянием С. Соловьева, как известно, придававшего большое значение процессам колонизации в нашей истории. В.О. Ключевский с такой же точки зрения обратился к древнерусским житиям; в них он надеялся найти обильный и свежий источник для изучения одного факта древнерусской истории, а именно: участия монастырей в колонизации северо-восточной Руси. По мере работы, однако, над значительным и большею частью рукописным материалом (150 житиями в 250 редакциях), рассеянным в различных древнехранилищах, частных и публичных, ему пришлось видоизменить самую постановку темы: так как в житии обыкновенно изображена не жизнь отдельного человека, а на судьбах его развит отвлеченный назидательно-христианский идеал, то В.О. Ключевский в содержании житий как историк не мог найти удовлетворения. В своем исследовании, чрезвычайно богатом фактическими данными по части русской агиографической литературы, он обратился к изучению житий не столько как источника, сколько как явления; он установил не только основные редакции большинства наших русских житий, но разъяснил и самые процессы агиографического творчества. Не ставя себе задачей ни рассмотрение тех путей, которыми приемы искусственной агиобиографии проникали в нашу старинную письменность,
ни исследование всех подробностей их развития у наших древних книжников, В.О. Ключевский значительно выяснил среду, в которой зародилась литературная форма житий, и последующий ее рост как по содержанию, так и по форме, причем обратил внимание и на воздействие читателей, видоизменившее их характер.
Уже в магистерской диссертации В. О. Ключевского заметны особенности его таланта: обнаруживая замечательную чуткость и тонкость наблюдения, он вместе с тем мастерски пользовался конкретными обломками старины для воспроизведения целого; в старинном памятнике он чувствовал биение жизни, распознавал в нем общие черты изучаемого явления и представлял его в живом образе. Те же качества, но в еще большем рельефе, встречаем мы и в последующих научно-исторических трудах профессора В. О. Ключевского.
Как указал В. О. Ключевский, С. М. Соловьев в своем в своем университетском курсе обращал внимание на «историю сословий», а не только на один «государственный быт». С такой же социально-политической точки зрения приступил В. О. Ключевский к изучению боярской думы; несмотря на первенствующее значение боярской думы в истории московского политического строя, в нашей исторической литературе не существовало ни одного специального исследования о ней, если не считать первый выпуск истории русского права профессора Н.П. Загоскина1, вышедшего за несколько месяцев до появления труда профессора В. О. Ключевского в 1880 году. Глубоко проникнутый идеей о согласованности общественных явлений между собою, автор «Боярской думы древней Руси» затронул в своей докторской диссертации множество самых разнообразных и общих тем, большею частью самостоятельно разработанных и оригинально освещенных. Таковы, например: роль колонизации в разложении родового быта племен славянорусских; правительственное значение древнерусского города вообще и старших городов в особенности; борьба прав: княжеского и городового в древнее время; земледельческий (а не торговый) характер населения в Московской Руси и соединение обычных прав частного собственника с государственною властью в лице удельного князя на севере; удельное управление, в особенности дворцовое; образование московской правительственной аристократии как политической силы, которая, однако, не имела власти, ограниченной законом; положение служилого князя на уделе с остатками суверенных прав, все еще не ускользнувших из его рук; общественный и политический кризис в Московском государстве во второй половине XVI века; влияние «социального состава
управления» на его развитие; положительное значение московской приказной администрации сравнительно с позднейшими органами центрального управления. Кроме целого ряда общих тем по социальной и политической истории Московского государства, намеченных и отчасти решенных В.О. Ключевским в «Боярской думе», мы находим здесь, разумеется, и специальное исследование о боярском совете с древнейших времен вплоть до превращения аристократического совета в бюрократическое учреждение и замены его Сенатом. Перемены в социальном и правительственном составе думы в XVI-XVII веков, постепенно приобретшей значение центрального органа управления, и законодательное значение ее были впервые обстоятельно выяснены В. О. Ключевским. Если не все гипотезы, высказанные автором, получили признание в нашей литературе, то во всяком случае все они вызывали на размышление и на дальнейшую работу: под влиянием «Боярской думы» возникло несколько новых трудов молодых ученых, развивавших взгляды профессора В. О. Ключевского.
Сам автор «Боярской думы» вскоре обратился к более специальным исследованиям частью по социальной, частью по специальнополитической истории Московского государства; в 1885-1886 годах он напечатал известные статьи об отмене холопства и прикреплении крестьян2, а в 1891-1892 годах приступил к изучению состава представительства на земских соборах3. Оба труда существенным образом изменили господствовавшие до того времени взгляды на некоторые из важнейших явлений древнерусской жизни.
До появления исследований профессора В. О. Ключевского наши историки сводили процесс прикрепления крестьян к истории московской правительственной политики: частную зависимость крестьян от землевладельцев и ее возрастающее влияние на ход прикрепления они почти вовсе упускали из виду. Благодаря обширным познаниям своим в области рукописных сборников юридических актов, укреплявших те или другие гражданские сделки, профессору В. О. Ключевскому удалось впервые несколько выяснить значение подобного рода явления в истории прикрепления. В одном ряде статей он проследил развитие холопства, состоявшее в постепенном осложнении его состава целым рядом разновидностей, что ослабляло безусловность холопской зависимости, и в любопытном превращении холопов, как вещей своих господ, в лиц, наделенных некоторыми личными и имущественными правами. Крайне тонкая и сложная работа, состоявшая в том, чтобы выделить влияние христианских идей и экономических интересов, а также роль
церкви и государства в таком процессе и определить их взаимное значение, мастерски выполнена профессором В. О. Ключевским. В другом ряде исследований, совершенно правильно исходя из положения, что древнерусское законодательство признавало крепостным человека прежде всего и преимущественно холопа, он выяснил личный, а не поземельных характер крепостного права, строго отличая его от крепостного состояния, которое слагалось не из одних крепостных отношений. В связи с указанною точкою зрения профессор В.О. Ключевский впервые дал блестящий анализ кабального холопства; приведши его в связь с издельным крестьянством, которое за подмогу создавало такую же личную крепостную зависимость крестьянина от владельца, в какую служба за рост ставила кабального холопа, он выяснил постепенное смешение договоров займа и найма в их юридических последствиях, способствовавших дальнейшему ходу прикрепления. Доказав возрастание личной зависимости крестьянина от землевладельца, профессор В.О. Ключевский изучил затем любопытное явление совладения крестьянским имуществом землевладельца и крестьянина, получавшего от него ссуду, что и порождало имущественную зависимость одного от другого. Профессор В.О. Ключевский открыл, кроме того, новый фактор в прикреплении, а именно «старину», причем и в ней попытался различить старину кабальную от старины тяглой и писцовой. Наконец, автор попытался выяснить, каким образом основные элементы долгового холопства, осложнившись условиями крепостного состояния, прежде и более всего государственным тяглом, получили особый юридический характер, присущий крестьянскому состоянию. Исследование профессора В. О. Ключевского о том, каким образом движение холопства в сторону крестьянства встретилось с противоположным движением крестьянства в сторону холопства и как этот двойной процесс завершился первою ревизией, можно считать одной из самых блестящих научно-исторических работ не только в русской, но и в иностранной исторической литературе последнего времени.
Важное значение имеет также исследование профессора В. О. Ключевского о «составе представительства на земских соборах древней Руси», написанное с той же социально-политической точки зрения, которая уже обнаружилась в «Боярской думе», но здесь проведена с большею строгостью и приложена к более определенно поставленной теме. Микроскопический анализ состава соборного представительства в XVI-XVII веках привел автора к совершенно новому выводу: представительство на первых земских соборах
было скорее представительством по служебному положению, чем по общественному доверию; кроме того, связав историю земских учреждений XVI века с историей земских соборов, профессор В.О. Ключевский выяснил происхождение и значение представительства в XVI веке как «высшей формы поруки в управлении», ибо правительство, созывая собор, стремилось «обеспечить себе дружное и усиленное содействие всех местных обществ, представители которых, поручившись за исполнимость соборного приговора, должны были принять на себя и провести в местные общества ответственное его исполнение».
В своих разысканиях по социально-политической истории России преимущественно московского времени профессор В. О. Ключевский, естественно, должен был натолкнуться на целый ряд тем по истории экономической и культурной. Одним из самых трудных вопросов, настоятельно требующих решения в области первой из них, конечно, надо признать вопрос о ценности рубля. Первая попытка правильной постановки его в нашей литературе, т. е. определение постепенных изменений, происшедших в соотношении меновой ценности рубля XVI-XVIII веков к современной, принадлежит профессору В.О. Ключевскому4. Для достижения вышеназванной цели он, не прибегая к так называемому index numbers и к истории стоимости драгоценных металлов на рынке, обратился, после весьма сложных метрологических изысканий, к изучению хлебных цен XVI-XIX веков. Хотя некоторые из выводов профессора В.О. Ключевского (относительно XVI в.) теперь уже несколько пошатнулись, но в его разысканиях нельзя не признать первой и весьма ценной попытки подойти к решению одного из самых основных вопросов по истории нашего хозяйства. Культурно-исторические очерки профессора В.О. Ключевского касаются, главным образом, состояния нашего просвещения в XVII-XVIII веках как в отдельных его представителях, так и целых течениях. Так, например, в своем сочинении о «западном влиянии в России XVII в. »5 профессор В. О. Ключевский изучил те «колебания и сомнения, с которыми русское общество сближалось с Западною Европой, страх его перед иноземною цивилизацией и образование того направления, представители которого не сумели преодолеть своей косности, не последовали за общим движением русской церкви и, оторвавшись от нее, образовали раскол старообрядства». Притом автор обратил свое внимание исключительно на тот нравственно-психологический переворот, который происходил в каждом старообрядце, отделившемся от церкви, что и придает вышеназванным статьям своеобразный интерес: здесь
профессор В. О. Ключевский дает характеристику вещественности религиозных представлений старинного русского общества, а также любопытный анализ понятий «обрядности» и «старообрядства»; далее, он выясняет значение идеи, возникшей у некоторых русских людей того времени, под влиянием падения Константинополя, о самодовлеющем, а следовательно, и косном характере русской православной церкви, и, наконец, останавливается на изучении той «латинобоязни», которая оправдывала первоначально их довольно робкий формализм религиозного чувства и была одною из главнейших причин раскола. Большим обилием наблюдений и ценных замечаний отличаются также статьи профессора В. О. Ключевского, главным образом, о некоторых из русских просвещенных деятелей XVIII века, в совокупности дающие довольно широкое понятие о нашей культуре во второй половине XVIII века.
В целом ряде научно-исторических разысканий профессора В. О. Ключевского, как видно, обнаружился крупный исторический талант, тем более редкий, что в его произведениях тонкий анализ «механизма общежития» обыкновенно соединяется с глубоким синтезом, постоянно имеющим в виду конкретно-жизненное содержание изучаемого объекта, а иногда доходящим до научно-художественного его изображения. Обширное знакомство профессора В.О. Ключевского с московскими архивами, его многолетняя опытность и научный характер его метода в специальных исторических работах дают нам полное основание надеяться, что в лице нашего кандидата Академия приобретет сочлена, который еще в течение многих лет будет принимать весьма важное для науки участие в академической деятельности по разработке отечественной истории. Ввиду вышеизложенного соображения и за отсутствием второй ординатуры по истории на нашем Отделении, мы считаем своим долгом, с разрешения Его Императорского Высочества Августейшего Президента, предложить избрать члена-корреспондента Императорской Академии наук и ординарного профессора Московского университета Василий Осиповича Ключевского в иногородние ординарные академики Императорской Академии наук.
в.м. хвостов
Историческое мировоззрение В.О. Ключевского
Не подлежит никакому сомнению, что быть историком или быть философом истории — это две совершенно различные вещи. История есть наука по самому существу своему конкретная, и даже более того — индивидуализирующая. Ее предметом является изучение отдельных, неповторяющихся событий, взятых во всей их единичности. Для историка не так важно то, что в различных исторических событиях оказывается сходным или общим, как то именно, что отличает их друг от друга. Вот почему в истории, в отличие от наук обобщающих, требуется от ученого одно особенное свойство: он должен быть немного и художником. Иначе ему не удастся наглядное изображение минувшей жизни в таком виде, чтобы его читатели действительно могли проникнуться ее настоящим характером. В науках обобщающих, имеющих дело не с жизнью, как она есть, но с жизнью, поскольку она укладывается в общие схемы, и потому говорящих не образами, взятыми прямо из жизни, а символами, такая художественность изображения и невозможна, и неуместна.
Напротив, философия истории или теория исторического процесса и познания есть дисциплина по существу абстрактная и систематизирующая. Она не имеет дела с единичными историческими процессами, которые представляют для нее только материал. Ее непосредственной задачей является сооружение на основании этих материалов общих схем, которые бы нам разъясняли, что представляет из себя исторический процесс вообще, где бы и при каких бы условиях он ни разыгрывался, какие в нем действуют силы, в какие сочетания вступают между собой эти силы, как познается историческая действительность и с какими специфическими затруднениями приходится считаться при ее познавании.
В.О. Ключевский в своем «Курсе русской истории» (II, 319) следующим образом характеризует эти два типа изучения действительности. «В каждом из нас есть более или менее напряженная потребность духовного творчества, выражающаяся в наклонности обобщать наблюдаемые явления. Человеческий дух тяготится хаотическим разнообразием воспринимаемых им впечатлений, скучает непрерывно льющимся их потоком; они кажутся нам навязчивыми случайностями и нам хочется уложить их в какое-либо русло, нами самими очерченное, дать им направление, нами указанное. Этого мы достигаем посредством обобщения конкретных явлений. Обобщение бывает двоякое. Кто эти мелочные, разбитые и разрозненный явления объединяет отвлеченной мыслью, сводя их в цельное миросозерцание, про того мы говорим, что он философствует. У кого житейские впечатления охватываются воображением или чувством, складываясь в стройное здание образов или в цельное жизненное настроение, того мы называем поэтом». Конечно, историк — не поэт. Но в его работе в значительной степени участвуют как раз те элементы, из которых строится поэзия. Мы требуем поэтому от историка, чтобы он был если не поэтом, то художником. Отличие историка от поэта состоит лишь в том, что историк более связан в своем творчестве. Поэт в настоящем смысле этого слова вполне свободен в полете своей фантазии. Он может сооружать какие угодно образы. Образы, создаваемые историком, не должны отступать от исторической действительности. Их назначение состоит в том, чтобы дать нам наглядное представление об этой действительности, как она была на самом деле, заставить нас самих до некоторой степени пережить ее.
Часто спорят о том, необходимо ли для историка иметь совершенно определенные соображения по вопросам теории исторического процесса и познания. Одни утверждают, что такие соображения необходимы, так как без всякой теории исторического процесса ни один мыслящий историк все равно не обойдется, и если у него не будет теории, критически проверенной, то все равно будет какая-нибудь теория доморощенная и непроверенная. Другие указывают на то, что теория исторического процесса не располагает пока положениями общепризнанными и не подлежащими сомнению. Поэтому ее построения у разных мыслителей отличаются субъективностью и могут внушить историку предвзятые идеи, которые вредно отразятся на его работе. Если же историк сам примется за разработку этих вопросов, то он вынужден будет оставить исторические занятия, так как эти занятия и исследования в области теории исторического
процесса и познания, как мы сейчас констатировали, лежат совершенно в разных плоскостях мысли.
Оставляя пока этот спор в стороне, мы можем сказать лишь одно. Верно, во всяком случае, что если историк и не занимается специально и систематически исследованиями в области философии истории, то, раз он человек, глубоко вдумывающийся в свой исторический материал, без какой-либо философии истории он в конце концов не обойдется. Эта философия истории сама собою у него сложится под влиянием размышлений над теми историческими материалами, которые он будет обрабатывать. Очень возможно, что, не имея привычки к философскому абстрактно-систематизи-рующему мышлению, историк сам не сумеет, а может быть, и не почувствует потребности в стройной и законченной форме изложить нам свое историко-философское credo. В подобных случаях необходимо считаться с тем, что способности отдельного человека всегда односторонни. Одному дан дар ясно и систематически разбираться в отвлеченных теориях и положениях, другой не имеет этой способности в такой мере, но зато обладает художественной жилкой, помогающей ему наглядно изобразить сложные индивидуальные содержания жизни. В таком случае ученый и возьмет своей специальностью исследование индивидуальных исторических событий, а свою философию истории, которой руководится в исторических изысканиях, изложит не как систематическое учение, а как ряд попутных размышлений над фактами исторической действительности. Это не значит, однако, чтобы подобная философия истории не поддавалась систематизации. Если у самого ее творца нет охоты заняться ее систематизированием, то такая работа может быть выполнена другим лицом.
Я думаю, что полученная таким путем теория исторического процесса может представить большой интерес. После всего сказанного не приходится удивляться, почему в области философии истории обыкновенно работают не историки по специальности, а представители других дисциплин, более питающие склонность к отвлеченной мысли. Но на их работах, в силу этой же причины, может вредно отражаться присущий им схематизм мысли. Занимаясь переработкой действительности в отвлеченно-логические схемы, мы невольно поддаемся стремлению упрощать действительность во имя ее логической стройности. Поэтому системы, построенные отвлеченными мыслителями и представителями обобщающих наук, нередко страдают излишним схематизмом и не дают нам представления о жизни во всей ее сложности. Хорошим противовесом им
может послужить философия истории, извлеченная из трудов настоящего историка, накопившаяся без заранее составленного плана при постоянном размышлении над вечно сменяющимися и глубоко разнообразными явлениями живой исторической действительности. Конечно, и этим путем нельзя окончательно разрешить трудных и сложных вопросов философии истории. Но добытый этим путем материал может представлять большую ценность при разработке этой дисциплины.
На той же точке зрения стоит один из самых крупных современных авторитетов в области философии истории — Генрих Риккерт1. «Сами историки,— говорить он,— далеко не всегда сознают, на каких основаниях они это делают (т. е. производят выбор и оценку исторического материала). Да и не могут этого сознавать, ибо часто они совершенно не знакомы с логической структурой своей науки, сплошь и рядом будучи уверены в том, что они далеки от всякого отнесения к ценности. Тем более важным представляется вскрыть и самым явным образом показать, какими именно предпосылками руководились они при обработке своего материала. Мы увидим при этом, что у всякого историка, в особенности если он не ограничивается уже очень специальными исследованиями, имеется своего рода философия истории, на основании которой он одни явления считает важными, другие — нет. Вскрыть подобные философии истории отдельных великих историков представляется, конечно, весьма благодарной задачей»*.
С такими мыслями принялся я за изучение с указанной специальной точки зрения курса русской истории нашего маститого историка В.О. Ключевского. Я старался извлечь из этого произведения историческое мировоззрение автора, пользуясь для этой цели не только тем общим очерком этого мировоззрения который самим Ключевским предпослан его курсу, но и всем остальным изложением курса. Просмотревши затем те заметки, которые у меня получились при этом чтении, я убедился в том, что их можно свести в довольно полную и, на мой взгляд, представляющую большой интерес систему исторического мировоззрения. Я сознаю, конечно, что не исчерпал того богатого материала, который дают для этого труды Ключевского. Я имею в виду, делая эту оговорку, не только то обстоятельство, что для данного очерка я ограничился только курсом русской истории и почти не привлекал других произведений; но и самый курс я, конечно, использовал не вполне, так как не мог
Риккерт Г. Философия истории, пер. Гессена. СПб., 1908. С. 191-192.
этой работе посвятить слишком много времени. Тем не менее я считаю не бесполезной и ту работу, которую я совершил. Мы не знаем, сколько времени придется нам ждать, пока труды В. О. Ключевского будут обработаны в указанном направлении достойным их образом и с надлежащей полнотою. Пока же такая работа никем не сделана, интерес могут представить и те неполные наблюдения, которые сделаны мною и излагаются ниже, по возможности, всюду словами самого автора. Мне в нижеследующем очерке принадлежит только система расположения материала и немногочисленные критические замечания. Эти замечания могли бы, конечно, быть гораздо полнее. Но в таком случай они разрослись бы в целую систему философии истории, изложение которой в настоящем очерке не входит в мои задачи. Во всяком случае, мне кажется, что нижеследующий очерк дает не лишенный интереса материал к построению таковой системы каждым, кто интересуется относящимися сюда вопросами. Отдельные замечания нашего первоклассного историка, разбросанные по всему его обширному курсу, при таком систематическом их сопоставлении между собою, как мне кажется, очень выигрывают в яркости и поучительности*.
В дальнейшем я изложу историческое мировоззрение В. О. Ключевского, поскольку оно может быть выяснено на основании указанного ограниченного материала, по следующим трем рубрикам: 1) история и ее задачи, 2) существо исторического процесса, 3) отдельные факторы исторического процесса. Как я уже сказал, я старался излагать повсюду, по возможности, подлинными словами самого историка. Ссылки на «Курс русской истории» сделаны путем указания на том — римской цифрой — и страницу — арабской. «Курсы русской истории» цитируется по первому изданию, за исключением первого тома, который я взял в третьем издании, привлекая для сравнения и первое. «Боярская дума» цитирована по четвертому изданию.
I. История и ее задачи. «Содержанием истории как отдельной науки, специальной отрасли научного знания, служит исторический процесс, т. е. ход, условия и успехи человеческого общежития или жизнь человечества в ее развитии и результатах. Человеческое общежитие — такой же факт мирового бытия, как и жизнь окружающей нас природы, и научное познание этого факта — такая же неустранимая потребность человеческого ума, как и изучение
Существует подобная же выборка — более обстоятельно сделанная, чем предлагаемая ниже — из сочинений Л.ф.— Ранке: A. Winckler. Leopold von Ranke. Lichtstrahlen aus seinen Werken. 1885.
жизни этой природы» (I, 2). «По условиям своего земного бытия человеческая природа как в отдельных лицах, так и в целых народах раскрывается не вся вдруг, целиком, а частично и прерывисто, подчиняясь обстоятельствам места и времени». «Мы хотим знать по этим сочетаниям и положениям, как раскрывалась внутренняя природа человека в общении с людьми и в борьбе с окружающей природой; хотим видеть, как в явлениях, составляющих содержание исторического процесса, человечество развертывало свои скрытые силы... познать самих себя, свои внутренние свойства и силы, чтобы по ним устроить свою земную жизнь» (I, 7). По условиям места и времени «отдельные народы, принимавшие наиболее видное участие в историческом процессе, особенно ярко проявляли ту или другую силу человеческой природы» (I, 7).
Но на этот процесс можно смотреть с двоякой точки зрения. Можно интересоваться, во-первых, определением степени выработки человека и человеческого общежития; это — предмет истории культуры или цивилизации. Можно, напротив, обращать внимание на природу и действие исторических сил, строящих человеческие общества; это — задача исторической социологии. (I, 3-4). «Из науки о том, как строилось человеческое общежитие, может со временем — и это будет торжеством исторической науки — выработаться и общая социологическая часть ее,— наука об общих законах строения человеческих обществ, приложимых независимо от преходящих местных условий» (I, 9; ср. по 1-му изд. I, 17). История отдельного народа, взятая как самостоятельный предмет изучения, открывает больше приложения второй точке зрения, чем первой, ибо на отдельном народе легко прослеживать силы, строения его истории; что же касается культурных завоеваний, то они составляют дело совместной работы многих народов и их легче проследить при изучении всеобщей истории (I, 4-6).
В этом различие истории как науки, которая дает материал для построения общей социологии, и истории как дисциплины, знакомящей нас с процессом выработки человека, создания культуры, я не могу не отметить мыслей, родственных тем, которые в последнее время защищает Риккерт. История, с одной стороны, интересна для нас как средство для целей другой науки — социологии, принадлежащей к типу наук обобщающих; с другой стороны, та же история важна и сама по себе как наука о единичном индивидуальном процессе выработки культурных ценностей. Местную историю В.О. Ключевский считает наиболее пригодной для изучения с первой из указанных точек зрения. Но следует отметить, что история русского народа
не утратила в его изложены и того значения, которое она должна иметь сама по себе, независимо от ее значения для социологии. Курс русской истории нашего автора является крупным вкладом в историю культурных ценностей, поскольку в процесс их выработки и усвоения участвовал русский народ.
II. Существо исторического процесса. Идеи имеют первостепенное значение в историческом процессе. «Я не знаю общества, свободного от идей, как бы мало оно ни было развито. Само общество это уже идея, потому что общество начинает существовать с той минуты, как люди, его составляющее, начинают сознавать, что они — общество» (I, 29). Соответственно с этим, начало истории народа следует искать в памяти самого народа. Первое, что о себе запомнил народ, и должно указать путь к началу его истории... В народной памяти обыкновенно надолго удерживаются события, которые впервые коснулись всего народа, в которых весь он принял участие и через это совокупное участие впервые почувствовал себя единым целым (I, 190-121). Военный союз восточных славян на Карпатах в V веке под предводительством князя дулебов и есть факт, который можно поставить в самом начале русской истории (I, 126).
Но не все идеи составляют достояние истории. Есть идеи, которые удержали характер личного достояния, не получили общественного характера; эти идеи проявляются в памятниках науки и литературы, в произведениях уединенной мастерской художника или в подвигах личной самоотверженной деятельности в пользу ближнего (I, 29). Напротив, другие идеи стали общественным достоянием. Чтобы личная идея получила значение общепризнанного правила или убеждения, нужен целый прибор средств, поддерживающих ее обязательное действие,— общественное мнение, требование закона или приличия, гнет полицейской силы. Только такие идеи становятся историческим фактом, так как история имеет дело не с человеком, а с людьми, ведает людские отношения, предоставляя одиночную деятельность человека другим наукам (I, 30). Не всякая идея попадает в исторический процесс, а попадая, не всегда сохраняет свой чистый первоначальный вид (I, 32). Таким образом, следует различать: 1) идеи необработанные, сырые идеи, не ставшие историческими фактами (I, 31, 33); 2) идеи исторические, среди которых различаются идеи реализовавшиеся, счастливые или деловые, отобранные жизнью (I, 31-2), и идеи, родившееся как выражение протеста против существующего порядка и затем усвоенные обществом (1, 33-34).
Идея, добившаяся общественного признания, становится руководительницей политики, законодательства или хозяйственная обо
рота (1, 31). Поэтому главнейшим предметом истории являются факты экономические и политические (1, 26). Изучению этих фактов почти целиком посвящен и курс и другие труды В. О. Ключевского (ср. оговорки в т. I, 36-38).
Обыкновенно в истории политические факты вытекают из экономических, как их последствия: господствующий капитал становится источником власти, его операции соединяются с привилегиями, его владельцы образуют правительство, экономические классы превращаются в политические сословия. Но бывает и обратное явление. Например, завоевание может привести к такому положению, когда политическая сила изменяет ход экономической жизни и развития страны (см. «Боярская Дума», стр. 7-9). «Политический порядок в своем окончательном виде всегда отражает в себе совокупность и общий характер частных людских интересов и отношений, которые он поддерживает и на которых сам держится» (I, 432). Из изложенного не следует, однако, что весь ход истории определяется людскими планами. В истории имеют место условия, «действующие помимо сознания людей, захваченных их действием» (I, 45). «В людских делах есть своя внутренняя закономерность, не поддающаяся усмотрению людей, которые их делают, и обыкновенно называемая силою вещей» (III, 164). Существует особая историческая логика, физиология народной жизни (IV, 60). Поэтому сами идеи часто возникают у людей под гнетом независящих от них условий. Это обнаруживается на ряде исторических примеров. Так, «в удельное время центральное управление было собственно дворцовым, ограждало и проводило личные и хозяйственные интересы удельного князя. С половины XV века в Московском государстве оно постепенно выходит из тесной сферы княжеского дворцового хозяйства и приноравливается к потребностям общегосударственным, усваивает задачи общенародного блага. Разумеется, эта перемена не была следствием какого-либо перелома в политических понятиях московского государя и московского правительственного класса. Наоборот, сами эти понятия изменились под влиянием перестройки управления, вынуждавшейся ходом дел, как говорится, силою вещей. Этот процесс, как бы сказать, исторического вымогания новых понятий* особенно наглядно отразился на переменах, происшедших в областном управлении Московского государства с половины XV века. Здесь сквозь новые государственные нужды в усложнявшихся правительственных учреждениях и отношениях пробиваются непривычные
Курсив везде принадлежит мне. В. X.
для тогдашних умов идеи о различии общих и местных интересов, центра и областей, о необходимости надзора за местными властями и о способах регулирования их деятельности. Эти идеи носят еще первичный, элементарный характер, представляются частичными попытками, однако они постепенно складываются в целый план, направленный к стеснению, а потом и к отмене кормления. Так, должности по областному управлению, бывшие удельными средствами содержания служилых людей, преобразовались в местные органы центрального управления» (II, 445-446). Такими же красками изображена и преобразовательная деятельность Петра I. «Мы склонны думать, что Петр I и родился с мыслью о реформе, считал ее своим провиденциальным призванием, своим историческим назначением. Между тем у самого Петра незаметно долго такого взгляда на себя. Его не воспитали в мысли, что ему предстоит править государством никуда негодным, подлежащим полному преобразованию... Он просто делал то, что подсказывала ему минута, не затрудняя себя предварительными соображениями и отдаленными планами, и все, что он делал, он как будто считал своим текущим очередным делом, а не реформой: он и сам не замечал, как этими текущими делами он все изменял вокруг себя, и людей и порядки... Только разве в последнее десятилетие своей 53-летней жизни, когда деятельность его уже достаточно себя показала, у него начинает высказываться сознание, что он сделал кое-что новое и даже очень не мало нового. Но такой взгляд является у него, так сказать, задним числом, как итог сделанного, а не как цель деятельности. Петр стал преобразователем как-то невзначай, как будто нехотя, поневоле. Война привела его и до конца жизни толкала к реформам» (IV, 272-273).
Так получаются исторические положения, характеризующиеся тем, что внешние учреждения и формы опережают появление соответствующих понятий, оказываются еще не наполненными содержанием. «Учреждения сами по себе только формы; для успешного их действия необходимо еще содержание, необходимы понятия, помогающая их деятелям уяснять себе их смысл и назначение, необходимы, наконец, нормы и нравы, направляющие их деятельность. Все это не дается сразу в готовом виде, а вырабатывается напряженной мыслью, трудным, подчас болезненным опытом. Московские государственные учреждения были готовы, когда угасала старая династия; но готовы ли были московские государственные умы к тому, чтобы вести в них дела согласно с задачами государства, в целях народного блага?.. В будничном обиходе, в ежедневном обороте понятий и отношений господствовала еще старая удельная
норма, служившая реальной, исторически сложившейся основой этой власти и состоявшая в том, что государство московского государя считалось его вотчиной, наследственной собственностью. Новые политические понятия, навязавшиеся ходом событий, неподатливое мышление перегибало в сторону этой привычной нормы... Так основные элементы государственного порядка еще не поддерживались соответственными их природе понятиями. Формы государственного строя, складывавшиеся исторически, силой стихийной закономерности народной жизни, не успели наполниться надлежащим содержанием, оказались выше наличного политического сознания людей, в них действовавших» (III, 15-17). В ту же эпоху «наблюдения над торгово-промышленной оборотливостью и мастеровым умением иноземцев и настойчивые указания своих торговых людей, внушенные такими же наблюдениями, постепенно вовлекали московских финансистов в круг незнакомых им народно-хозяйственных понятий и отношений и против их воли расширяли их правительственный кругозор, навязывали им трудные для их умов мысли, что возвышению налогов должен предшествовать подъем производительности народного труда, а для того он должен быть направлен на новые доходные производства, на открытие и разработку втуне лежащих богатств страны, для чего нужны мастера, знания, навыки, организация дела» (III, 345). Люди XVII века вообще «подготавливали не столько самую реформу, сколько себя самих, свои умы и совести к этой реформе, а это менее видная, но не менее трудная и необходимая работа» (III, 465). По поводу договора, на котором 17 августа 1610 года Москва присягнула Владиславу, делается следующее замечание. «Первостепенные бояре вычеркнули статью о возвышении незнатных людей по заслугам, заменив ее новым условием, чтобы “московских княжеских и боярских родов приезжими иноземцами в отечестве и в чести не теснить и не понижать”. Высшее боярство зачеркнуло и статью о праве московских людей выезжать в чужие христианские государства для науки: московская знать считала это право слишком опасным для заветных домашних порядков. Правящая знать оказалась на низшем уровне понятий сравнительно с средними служилыми классами, своими ближайшими исполнительными органами — участь, обычно постигающая общественные сферы, высоко поднимающиеся над низменной действительностью» (III, 52-3).
Рассуждая о территориальных приобретениях московских князей в XV и начале XVI века, Ключевский изображает процесс трудного и медленного развития в сознании тогдашних деятелей
соответственных политических идей. «Указанный факт заметно отразился на политическом самосознании московского государя и великорусского общества. Мы не можем, конечно, ожидать, чтобы новое положение, в каком очутился московский государь, как бы сильно оно ни почувствовалось, тотчас вызвало в московских правительственных умах соответственный ряд новых и отчетливых политических понятий. Ни в одном тогдашнем памятнике мы не найдем прямого и цельного выражения понятий, отлагавшихся в умах под влиянием изменившегося положения. Тогдашние политические дельцы не привыкли в своей деятельности не исходить из отвлеченных теорий, ни быстро переходить от новых фактов к новым идеям. Новая идея развивалась туго, долго оставаясь в фазе смутного помысла или шаткого настроения. Чтобы понять людей в этом состоянии, надобно искать более простых первичных проявлений человеческой души, смотреть на внешние подробности их жизни, на костюм, по которому они строят свою походку, на окружающую их обстановку по которой они подбирают себе осанку: эти признаки выдают их помыслы и ощущения, еще неясные для них самих, не созревшие для более понятного выражения. Почувствовав себя в новом положении, но еще не отдавая себе ясного отчета в своем новом значении, московская государственная власть ощупью искала дома и на стороне форм, которые бы соответствовали этому положению, и, уже облекшись в эти формы, старались с помощью их уяснить себе свое новое значение. С этой стороны получают немаловажный исторический интерес некоторые дипломатические формальности и новые придворные церемонии, появляющиеся в княжение Ивана III» (II, 147-8).
При таких условиях часто действия исторических лиц вызывают последствия, непредвиденные для них самих. Непредвиденным следствием поместной системы, увлекшей из города в деревню массу служилых людей и лишившей городских ремесленников целого класса заказчиков и потребителей, явился медленный, зяблый рост наших городов и городской промышленности в XVI и XVII веках (II, 303). Успехи Богдана Хмельницкого «превзошли его помышления: он вовсе не думал разрывать с Речью Посполитой, хотел только припугнуть зазнавшихся панов, а тут после трех побед почти вся Малороссия очутилась в его руках. Он сам признавался, что ему удалось сделать то, о чем он и не помышлял» (III, 148). В XVII веке «московское правительство и общество почувствовали настоятельную нужду в военной и промышленной технике Западной Европы, даже решимость поучиться той и другой. Может быть,
в первое время ничего, кроме этой техники, и не требовалось насущными потребностями государства; но общественное движение, раз возбужденное известным толчком, обыкновенно на самом ходу осложняется новыми мотивами, влекущими его дальше намеченного предела» (III, 346-7). О реформе Петра говорится: «Не достигнув всего, к чему направлялась реформа, она принесла или подготовила много такого, чего не предвидел преобразователь и чему, может быть, он не был бы рад, если бы предвидел» (IV, 294).
Иногда в этом сложном процессе жизнь «целесообразно перерабатывает самые рискованные мероприятия законодателей» (IV, 139). Так введенная Петром I подушная подать привела к расширению площади крестьянской запашки. Так народная жизнь вложила со временем смысл в ту законодательную фикцию, которой представляется ревизская душа (IV, 182). Но тот же процесс приводит и к тому, что известная мера порождает последствия, прямо ей самой противоположные, и таким образом возникают исторические антиномии. Так условия, расстраивающие очередной порядок владения киевских князей, вытекали из его же оснований и были средствами, к которым прибегали князья для его поддержания. «В том и состояло внутреннее противоречие этого порядка, что следствия, вытекавшие из его же оснований и служившие средствами его поддержания, вместе с тем разрушали самые эти основания» (I, 226). Так впоследствии «Орда стала слепым орудием, помощью которого создавалась политическая и народная сила, направившаяся против нее же» (II, 24). Так Петр, создавая регулярную армию и особенно гвардию, не подозревал, какое употребление сделают из них его преемники и преемницы и какое употребление они сделают из его преемников и преемниц (IV, 111).
В результате в истории получаются сложные и запутанные положения, исполненные внутренними противоречиями. Характеризуя правительственные и общественные отношения, сложившиеся в начале нашей новой истории, автор замечает: «Изложенные три процесса, полные таких противоречий и захватывающие все главные явления периода, не были аномалиями, отрицанием исторической закономерности: назовем их лучше историческими антиномиями, исключениями из правил исторической жизни, произведениями своеобразного местного склада условий, который, однако, раз образовавшись, в дальнейшем своем действии повинуется уже общим законам человеческой жизни, как организм с расстроенной нервной системой функционирует по общим нормам органической жизни, только производит соответствующие своему расстройству ненормальные явления» (III, 7-8). Таким образом, исторические противоречия
не нарушают общей картины закономерности исторического процесса. «Человеческое общежитие выражается в разнообразных людских союзах, которые могут быть названы историческими телами и которые возникают, растут и размножаются, переходят один в другой и, наконец, разрушаются,— словом, рождаются, живут и умирают подобно органическим телам природы. Возникновение, рост и смена этих союзов со всеми условиями и последствиями их жизни и есть то, что мы называем историческим процессом» (I, 2).
Все эти рассуждения нашего автора представляют собою интересную и подчас блестяще выраженную формулировку того основного закона исторической жизни, который Вундт2 предлагает называть «законом гетерогонии целей». Вообще весь курс В.О. Ключевского очень полезен для тех лиц, которые не вполне уяснили себе мысль об органическом характере общественных процессов и склонны к излишнему их рационализированию.
Закономерность исторического процесса проявляется в том историческом преемстве, которое постоянно может быть обнаружено и которое имеет свою почву в историческом предании, властно господствующем над людским сознанием. Историческое преемство «состоит в том, что достояние одного поколения, материальное и духовное, передается другому. Средствами передачи служат наследование и воспитание. Время закрепляет усвояемое наследие новой нравственной связью, историческим преданием, которое, действуя из поколения в поколение, претворяет наследуемые от отцов и дедов заветы и блага в наследственные свойства и склонности потомков» (I, 13). «Отступая от привычного, затверженного правила под гнетом обстоятельств, люди еще долго донашивают его в своем сознании, которое вообще консервативнее, неповоротливее жизни, ибо есть дело одиночное, индивидуальное, а жизнь изменяется коллективными усилиями и ошибками целых масс» (I, 205). Поэтому часто в общественной жизни учреждения и обряды держатся долго после того, как миновала реальная в них потребность и они утратили жизненную основу под собою. Старые формы жизни накладывают свой отпечаток на новые учреждения. Такой процесс обнаруживается в сложении наших земских соборов (II, 499 сл.). В силу той же причины для народной массы XVII века «выборный царь был такой же несообразностью, как выборный отец, выборная мать» (III, 65). Яркие примеры переживаний такого рода вскрывает нам история языка (I, 138, 141), обряды (I, 140). «Историческое предание действует, как инстинкт, бессознательно, и Петр испытал на себе его силу» (IV, 278). Несмотря на сознание
политического характера своей власти, Петр восстановил завещательное распоряжение престолом, т.е. воскресил отжившую вотчинную основу власти государя.
«Когда люди перестают действовать по привычке, выпускают из рук нить предания, они начинают усиленно и суетливо размышлять, а размышление делает их мнительными и колеблющимися, заставляет их пугливо пробовать различные образы действий» (III, 163). Этим объясняются характерные особенности эпох переходных и эпох смутных, революционных. Переходные времена нередко ложатся широкими и темными полосами между двумя периодами. «Такие эпохи перерабатывают развалины погибшего порядка в элементы порядка, после них возникающего. К таким переходным временам, передаточным историческим стадиям, принадлежат и наши удельные века: их значение не в них самих, а в их последствиях, в том, что из них вышло» (I, 439). Смутные времена имеют большое значение, как это ясно из соответствующей эпохи в русской истории XVII века. «Прежде всего из потрясения, пережитого в Смутное время, люди московского государства вынесли обильный запас новых политических понятий, с которыми не были знакомы их отцы, люди XVI века. Это печальная выгода тревожных времен: они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен того дают опыт и идеи. Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так смутные времена в народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и при виде их люди, привыкшие замечать лицевую сторону жизни, невольно задумываются и начинают думать, что они доселе видели далеко не все. Это и есть начало политического размышления. Его лучшая, хотя и тяжелая школа — народные перевороты. Этим объясняется обычное явление — усиленная работа политической мысли во время и тотчас после общественных потрясений. Понятия, которыми обогатились московские умы в продолжение смуты, глубоко изменили старый привычный взгляд на государя и государство» (III, 83). «Недовольство становится и до конца века остается господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь Смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее, чем был прежде, утратил ту политическую выносливость, какой удивлялись в нем иноземные наблюдатели XVII века, был уже далеко не прежним безропотным и послушным орудием в руках правительства. Эта перемена выразилась в явлении, какого мы не замечали прежде в жизни московского государства: XVII век был в нашей истории временем народных мятежей. Это явление тем неожиданнее, что обнаруживается при царях, которые своими личными качествами
и образом действий, по-видимому, всего менее его оправдывали» (III, 112; ср. 170, 309, 337). «Но крутые переломы в умах и порядках всегда несут с собой одну опасность: сумеют ли люди воспользоваться ими как следует, не создадут ли из новых средств новых для себя затруднений? Следствия смуты обнаруживали произведенный насильственный перерыв старого политического предания, разрушение государственного обычая, а люди, даже овладевшие значительным запасом соответствующих перелому понятий, ступают шатко, пока эти понятия, оторвавшие их от старого обычая, сами не переработаются в твердые навыки» (III, 108).
III. Отдельные факторы исторического процесса. «Человеческая личность, людское общество и природа страны — вот те три основные исторические силы, которые строят людское общежитие. Каждая из этих сил вносит в состав общежития свой запас элементов или связей, в которых проявляется ее деятельность и которыми завязываются и держатся людские союзы. Элементы общежития — это либо свойства и потребности нашей природы, физической и духовной, либо стремления и цели, какие рождаются из этих свойств и потребностей при участии внешней природы и других людей, т. е. общества, либо, наконец, отношения, какие возникают между людьми из их целей и стремлений. Сообразно с таким или иным происхождением одни из этих элементов могут быть названы простыми или первичными, другие — производными, вторичными и дальнейшие образованы из совместного действия простых. По основным свойствам и потребностям человека эти элементы можно разделить на физиологические — пол, возраст, кровное родство; экономические — труд, капитал, кредит; юридические и политические — власть, закон, право, обязанности; духовные — религия, наука, искусство, нравственное чувство» (I, 11-12).
Значение внешней природы в истории очень велико, в особенности на ранних ступенях развития. «Внешняя природа нигде и никогда не действует на человечество одинаково, всей совокупностью своих средств и влияний. Ее действие подчинено многообразным географическим изменениям: разным частям человечества по его размещению на земном шаре она отпускает неодинаковое количество света, тепла, воды, миазмов, болезней,— даров и бедствий, а от этой неравномерности зависят местные особенности людей. Я говорю не об известных антропологических расах, белой, темно-желтой, коричневой и проч., происхождение которых во всяком случае нельзя объяснить только местными физическими влияниями; я разумею те преимущественно бытовые условия и духовные особенности,
какие вырабатываются в людских массах под очевидным влиянием окружающей природы и совокупность которых составляет то, что мы называем народным темпераментом. Так и внешняя природа наблюдается в исторической жизни, как природа страны, где живет известное людское общество, и наблюдается как сила, поскольку она влияет на быт и духовный склад людей» (I, 11).
Природа страны есть та сила, «которая держит в своих руках колыбель каждого народа» (I, 43). Самым коренным фактом киевской эпохи В.О. Ключевский считает пробуждение во всем обществе мысли о Русской земле как о чем-то цельном, об общем земском деле (I, 248). По этому поводу, однако, отмечается следующее. «Везде Русская земля, и нигде, ни в одном памятнике не встретим выражения: русский народ. Пробуждающееся чувство народного единства цеплялось еще за территориальные пределы земли, а не за национальные особенности народа. Народ — понятие слишком сложное, заключающее в себе духовно-нравственные признаки, еще не дававшиеся тогдашнему сознанию или даже не успевшие достаточно обнаружиться в самом русском населении. Притом не успели еще сгладиться остатки старинного племенного деления, и в пределах Русской земли было много нетронутых ассимиляцией иноплеменников, которых еще нельзя было ввести в понятие русского общества. Из всех элементов, входящих в состав государства, территория наиболее доступна пониманию; она и служила определением народности. Потому чувство народного единства пока выражалось еще только в идее общего отечества, а не в сознании национального характера и исторического назначения и не в мысли о долге служения народному благу, хотя и пробуждалось уже помышление о нравственной ответственности перед отечеством наравне со святыней. На Любецком съезде князья, поцеловав крест на том, чтобы всем дружно вставать на нарушителя договора, скрепили свое решение заклятием против зачинщика: “Да будет на него крест честной и вся земля Русская’’» (I, 250).
Во вступительных лекциях автор подробно останавливается на особенностях русской территории и природы и подвергает анализу влияние равнинного характера, климата, леса, степи на ход русской истории. В особенности большое значение он придает рекам. «Государственная сила, основавшись в области истоков главных рек равнины, естественно стремилась расширить сферу своего владычества до их устьев, по направлению главных речных бассейнов двигая и население, необходимое для их защиты. Так центр государственной территории определился верховьями рек, окружность — их устьями, дальнейшее расселение — направлением речных бассейнов. На этот
раз наша история пошла в достаточном соглашении с естественными условиями: реки во многом начертали ее программу» (I, 70). «История России есть история страны, которая колонизуется» (I, 24). Между тем именно «речными бассейнами направлялось географическое размещение населения, а этим размещением определялось политическое значение страны. Служа готовыми первобытными дорогами, ручные бассейны своими разносторонними направлениями рассеивали население по своим ветвям» (I, 67-8).
В заключение очерка внешней природы России Ключевский обращает внимание еще на одно ее свойство. «Природа нашей страны при видимой простоте и однообразии отличается недостатком устойчивости: ее сравнительно легко вывести из равновесия. Человеку трудно уничтожить источники питания горных рек в Западной Европе; но в России стоит только оголить или осушить верховья реки и ее верхних притоков, и река обмелеет» (I, 78). Такое же значение имеют характерные для России летучие пески и овраги.
Что касается личности, то, прежде всего, Ключевский не знает личности изолированной. Для него существует только личность, находящаяся в общении. «Общество составляется из лиц: но лица, составляющие общество, сами по себе каждое — далеко не то, что все они вместе, в составе общества: здесь одни усиленно проявляют одни свойства и скрывают другие, развивают стремления, которым нет места в одинокой жизни, посредством сложения личных сил производят действия, непосильные для каждого сотрудника в отдельности. Известно, какую важную роль играют в людских отношениях пример, подражание, зависть, соперничество, а ведь эти могущественные пружины общежития вызываются к действию только при нашей встречи с ближними, т.е. навязываются нам обществом» (I, 19). «Между этими обеими силами, лицом и обществом, между индивидуальным умом и коллективным сознанием происходит постоянный обмен услуг и влияний. Общественный порядок питает уединенное размышление и воспитывает характеры, служит предметом личных убеждений, источником нравственных правил и чувств, эстетических возбуждений; у каждого порядка есть свой культ, свое credo, своя поэзия. Зато и личные убеждения, становясь господствующими в обществе, входят в общее сознание, в нравы, в право, становятся правилами, обязательными и для тех, кто их не разделяет, т.е. делаются общественными фактами» (I, 30).
Историк, который сделал главным предметом своего изучения факты политические и экономические, а таким и является Ключевский, тем самым неизбежно попадает в разряд историков-
коллективистов: у него личность в конце концов должна оказаться на заднем плане. Так это и случилось. На всем протяжении курса мы встречаемся с отдельной личностью сравнительно очень редко, а когда встречаемся, то в общем оценка историка сводится к тому, что личность оказала сравнительно второстепенное влияние на ход событий. Физиономия эпохи и событий определяется силами, независящими от личности; эти силы в конечном счете создают и самую личность. И только детали событий определяются свойствами той личности, которая оказалась в руководящем положении.
Уже по поводу одной из самых первых исторических личностей, которые нам встречаются на протяжении курса — Андрея Боголюбского,— мы читаем: «Не все в образе действий Андрея было случайным явлением, делом его личного характера, исключительного темперамента. Можно думать, что его политические понятия и правительственные привычки в значительной степени были воспитаны общественной средой, в которой он вырос и действовал. Этой средой был пригород Владимир, где Андрей провел большую половину своей жизни. Суздальские пригороды составляли тогда особый мир, созданный русской колонизацией, с отношениями и понятиями, каких не знали в старых областях России» (I, 403). Московские князья в роли собирателей Руси вызывают такое замечание: «Я хочу сказать, что фамильный характер московских князей не принадлежал к числу коренных условий их успехов, а сам был произведением тех же условий: их фамильные свойства не создали политического и национального могущества Москвы, а сами были делом исторических сил и условий, создавших это могущество, были такой же второстепенной, производной причиной возвышения Московского княжества, какою, например, было содействие плотного московского боярства, привлеченного в Москву удобным ее положением,— боярства, которое не раз и выручало своих князей в трудные минуты. Условия жизни нередко складываются так своенравно, что крупные люди размениваются на мелкие дела подобно князю Андрею Боголюбскому, а людям некрупным приходится делать большие дела подобно князьям московским» (II, 63). О царях новой династии историк замечает: «У нового царя являлось правительственное окружение прежде, чем он приобретал уменье и охоту распознавать окружающих, и первые сотрудники давали окраску и направление всему царствованию» (III, 307). Наконец, и о Петре говорится следующее: «Так Петр вышел непохож на своих предшественников, хотя между ними и можно заметить некоторую генетическую связь, историческую
преемственность ролей и типов. Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший экономические интересы, всего более чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были и его предшественники, цари старой и новой династии; но те были хозяева-сидни, белоручки, привыкшие хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижный хозяин-чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой» (IV, 61). Во всех этих цитатах сквозит одна и та же идея: стремление показать, что каждая историческая личность есть прежде всего продукт исторического преемства, тех общественных условий, в которых она появилась.
Поэтому нельзя преувеличивать исторического значения личности. «Часто дают преобладающее значение в ходе возвышения московского княжества личным качествам его князей. Окончив обзор политического роста Москвы, мы можем оценить и значение этих качеств в ее истории. Нет надобности преувеличивать это значение, считать политическое и национальное могущество московского княжества исключительно делом его князей, созданием их личного творчества, их талантов... Всматриваясь в них, легко заметить, что перед нами проходят не своеобразные личности, а однообразные повторения одного и того же фамильного типа. Все московские князья до Ивана III, как две капли воды, похожи друг на друга, так что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий. В их деятельности заметны некоторые индивидуальные особенности; но они объясняются различием возраста князей или исключительными внешними обстоятельствами, в которые попадали некоторые из них; эти особенности не идут далее того, насколько изменяется деятельность одного и того же лица от таких же условий» (II, 58).
Тем не менее известное влияние личность со своими особенностями оказывает на ход исторических событий. Относительно Софьи Палеолог, которую барон Герберштейн3 характеризует как женщину необыкновенно хитрою, имевшую большое влияние на великого князя, отмечается, что ее влиянию приписывали даже решимость Ивана III сбросить с себя татарское иго и что «особенно понятливо воспринята была мысль, что она, царевна, своим московским замужеством делает московских государей преемниками византийских императоров со всеми интересами православного востока, какие держались за этих императоров» (II, 149-150). О реформе Петра I говорится вообще, что она «сама собою вышла из насущных нужд государства и народа, инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким умом и сильным характером, талантами, дружно совместившимися в одной из тех исключительно счастливо
сложенных натур, какие по неизведанным еще причинам от времени появляются в человечестве» (IV, 291). Но в то же время величие Петра признается «заслуженным» (IV, 340), и реформа, как она была им исполнена, хотя делом непроизвольным и необходимым, но его «личным делом, делом беспримерно насильственным» (IV, 275). В предыдущей истории «подготавливалось преобразование вообще, а не реформа Петра. Это преобразование могло пойти так и этак, при мирном ходе дел могло рассрочиться на целый ряд поколений» (IV, 275). В особенности внешние приемы реформы «вырабатывались при участии личного характера Петра», а именно эти приемы и сообщили революционный характер реформе. «Реформа если не обновила, то взбудоражила, взволновала русскую жизнь до дна не столько своими нововведениями, сколько некоторыми приемами, не характером своим, а темпераментом, если можно так выразиться» (IV, 285-286). Во всяком случае «дело сильного человека обыкновенно его переживает, имеет посмертное продолжение» (IV, 277).
Только те люди имеют историческое влияние, которые подходят к своей эпохе, могут быть ею поняты и усвоены. «У каждого времени свои герои, ему подходящее, а XIII и XIV века были порой всеобщего упадка на Руси, временами узких чувств и мелких интересов, мелких ничтожных характеров. Среди внешних и внутренних бедствий люди становились робки и малодушны, впадали в уныние, покидали высокие помыслы и стремления; в летописи XIII-XIV веков не услышим прежних речей о Русской земле, о необходимости оберегать ее от поганых, о том, что не сходило с языка южно-русских князей и летописцев XI-XII веков. Люди замыкались в кругу своих частных интересов и выходили оттуда только для того, чтобы попользоваться на счет других. Когда в обществе падают общие интересы и помыслы его руководителей замыкаются в сердоликовую коробку, положением дел обыкновенно овладевают те, которые энергичнее других действуют во имя интересов личных, а такими чаще всего бывают не наиболее даровитые, а наиболее угрожаемые, те, кому наиболее грозит это падение общих интересов. Московские князья были именно в таком положении: по своему генеалогическому значению это были более бесправные, приниженные князья, а условия их экономического положения давали им обильные средства действовать во имя личной выгоды. Потому они лучше других умели приноровиться к характеру и условиям своего времени и решительнее стали действовать ради личного интереса» (II, 62). Этот пример показывает, что иногда в силу исторических условий именно небольшим людям
приходится играть весьма видную историческую роль, если такова эпоха, в которой они действуют. Вообще историческое положение лица иногда придает большое значение даже его слабостям. По поводу Ивана Грозного историк говорит: «Описанные свойства царя Ивана сами по себе могли бы послужить только любопытным материалом для психолога — скорее для психиатра, скажут иные: ведь так легко нравственную распущенность, особенно на историческом расстоянии принять за душевную болезнь и под этим предлогом освободить память мнимобольных от исторической ответственности. К сожалению, одно обстоятельство сообщило описанным свойствам значение гораздо более важное, чем какое обыкновенно имеют психологические курьезы, появляющееся в людской жизни, особенно такой обильной всякими душевными курьезами, как русская: Иван был царь. Черты его личного характера дали особое направление его политическому образу мыслей, а политический его образ мыслей оказал сильное, притом вредное влияние на его политический образ действий, испортил его» (II, 240).
Но не одни слабости людские имеют историческое значение. Выше уже отмечено, что величие Петра признается заслуженным. А по поводу московских западников допетровской эпохи делается замечание: «Во всяком обществе всегда найдутся чуткие люди, которые раньше других начинают думать и делать то, что потом будут думать и делать все, не сознавая, почему они начинают так думать и делать, как есть болезненно-чуткие люди, которые предчувствуют перемену погоды раньше, чем здоровые заметят ее наступление» (III, 338).
Несколько раз подчеркивается необходимость гражданского чувства, гражданской этики для исторического деятеля. По поводу представителей первых трех царствований новой династии говорится: «При трех-четырех исключениях все это были люди с очень возбужденным честолюбием, но без оправдывающих его талантов, даже без правительственных навыков, заменяющих таланты, и — что еще хуже всего этого — совсем лишенных гражданского чувства» (III, 306). И Петру I делается один основной упрек: «Необходимая для каждого мыслящего человека область понятий об обществе и общественных обязанностях, гражданская этика, долго, очень долго оставалась заброшенным углом в духовном хозяйстве Петра. Он перестал думать об обществе раньше, нежели успел сообразить, чем мог быть для него» (IV, 17).
Но наиболее важным фактором истории для Ключевского является, конечно, общество. Мы видели, что главным предметом изучения он делает факты общественные, экономические и поли
тические. «Чего я желал бы больше всего,— говорит он в начале курса,— это чтобы из моего курса вы вынесли ясное представление о двух процессах, коими полагались основы нашего политического и общественного быта и в которых, кажется мне, всего явственнее обнаруживались сочетания и положения, составляющие особенности нашей истории. Изучая один из этих процессов, мы будем следить, как вырабатывалось в практике жизни и выяснялось в сознании народа понятие о государстве и как это понятие выражалось в идее и деятельности верховной власти; другой процесс покажет, как в связи с ростом государства завязывались и сплетались основные нити, образовавшие своей сложной тканью нашу народность» (I, 37). Но эти два процесса не всегда находятся между собою в согласии. Общество повинуется естественным законам своего развитая; государство, как принудительная организация, не всегда удачно вторгается в этот процесс развития. Естественный рост народной жизни оказывается в антагонизме с насильственной социальной работой государства (IV, 443). Такое именно положение создалось в русской истории нового времени. «Объяснения... антиномий нашей новой истории надобно искать в том отношении, какое установилось у нас между государственными потребностями и народными средствами для их удовлетворения. Когда перед европейским государством становятся новые и трудные задачи, оно ищет новых средств в своем народе и обыкновенно их находит, потому что европейский народ, живя нормальной последовательной жизнью, свободно работая и размышляя, без особенной натуги уделяет на помощь своему государству заранее заготовленный избыток своего труда и мысли, — избыток труда в виде усиленных налогов, избыток мысли в лице подготовленных умелых и добросовестных государственных дельцов. Все дело в том, что в таком народе культурная работа ведется незримыми и неуловимыми, но дружными усилиями отдельных лиц и частных союзов независимо от государства и обыкновенно предупреждает его нужды. У нас дело шло в обратном порядке... Государство запутывалось в нарождавшихся затруднениях; правительство, обыкновенно их не предусматривавшее и не предупреждавшее, начинало искать в обществе идей и людей, которые выручили бы его; и, не находя ни тех ни других, скрепя сердце обращалось к Западу, где видело старый и сложный культурный прибор, изготовлявший и людей, и идеи, спешно вызывало оттуда мастеров и ученых, которые завели бы нечто подобное и у нас, наскоро строило фабрики и учреждало школы, куда загоняло учеников. Но государственная нужда
не терпела отсрочки, не ждала, пока загнанные школьники доучат свои буквари, и удовлетворить ее приходилось, так сказать, сырьем, принудительными жертвами, надрывающими народное благосостояние и стеснявшими общественную свободу. Государственные требования, донельзя напрягая народные силы, не поднимали их, а только истощали: просвещение по казенной надобности, а не по внутренней потребности, давало тощие, мерзлые плоды, и эти припадочные порывы к образованию порождали в подраставших поколениях только скуку и отвращение к науке, как рекрутской повинности. Народное образование получило характер правительственного заказа или казенной поставки подростков для выучки по определенной программе... Так случилось, что расширение государственной территории, напрягая не в меру и истощая народные средства, только усиливало государственную власть, не поднимая народного самосознания, вталкивало в состав управления новые более демократические элементы и при этом обостряло неравенство и рознь общественного состава, осложняло народно-хозяйственный труд новыми производствами, обогащая не народ, а казну и отдельных предпринимателей, и вместе с тем принижало политически трудящиеся классы. Все эти неправильности имели один общий источник — неестественное отношение внешней политики государства к внутреннему росту народа: народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства. Государство пухло, а народ хирел» (III, 8 11).
Но что такое народ как историческая единица? Ключевский не смотрит на народ и его темперамент как на нечто раз навсегда данное. Напротив, он утверждает, что «тайна исторического процесса, собственно, не в странах и народах, по крайней мере не исключительно в них самих, в их внутренних особенностях, постоянных, данных раз навсегда особенностях, а в тех разнообразных и изменчивых, счастливых или неудачных сочетаниях внешних и внутренних условий развития, какие складываются в известных странах для того или другого народа на более или менее продолжительное время. Эти сочетания — основной предмет исторической социологии. Хотя они запечатлены местным характером и вне данного места неповторимы, но это не лишает их научного интереса. Через общества, подпадавшие под их действие, они вызывали наружу те или другие свойства человечества, раскрывали его природу с разных сторон. Все исторически слагавшиеся общества — все различные местные соче--.
тания разных условий развития» (I, 8-9). «Судьба народа слагается из совокупности внешних условий, среди которых ему приходится жить и действовать. Назначение народа выражается в том употреблении, какое народ делает из этих условий, какое он вырабатывает из них для своей жизни и деятельности» (II, 50-507). Уже в этих телеологически звучащих словах о назначении народа видно, что не все заключается в одних только внешних условиях, что кое-что зависит и от свойств самого народа. И действительно, в другом месте мы находим следующее рассуждение. «Должно быть, каждому народу от природы положено воспринимать из окружающего мира, как и из переживаемых судеб, и претворять в свой характер не всякие, а только известные впечатления, и отсюда происходит разнообразие национальных складов и типов, подобно тому, как неодинаковая световая восприимчивость производит разнообразие цветов. Сообразно с этим и народ смотрит на окружающее и переживаемое под известным углом, отражает то и другое в своем сознании с известным преломлением. Природа страны, наверное, не без участия в степени и направлении этого преломления. Невозможность рассчитать наперед, заранее сообразить план действий и прямо идти к намеченной цели заметно отразилась на складе ума великоросса, на манере его мышления. Житейские неровности и случайности приучили его более обсуждать пройденный путь, чем соображать дальнейшее, больше оглядываться назад, чем заглядывать вперед. В борьбе с нежданными метелями и оттепелями, с непредвиденными августовскими морозами и январской слякотью он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели, воспитал в себе умение подводить итоги насчет искусства составлять сметы. Это умение и есть то, что мы называем задним умом. Поговорка: “Русский человек задним умом крепок — вполне принадлежит великороссу”» (I, 390-391). Ключевский поэтому не боится говорить и об исторической личности народа как об основном предмете изучения его истории. «Значение народа как исторической личности заключается в его историческом призвании, а это призвание народа выражается в том мировом положении, какое он создает себе своими усилиями, и в той идее, какую он стремится осуществить своею деятельностью в этом положении. Свою роль на мировой сцене он выполняет теми силами, какие успел развить в себе своим историческим воспитанием. Идеал исторического воспитания народа состоит в полном и стройном развитии всех элементов общежития и в таком их соотношении, при котором каждый элемент развивается и действует в меру своего
нормального значения в общественном составе, не принижая себя и не угнетая других. Только историческим изучением проверяется ход этого воспитания. История народа, научно воспроизведенная, становится приходо-расходной его книгой, по которой подсчитываются недочеты и передержки его прошлого. Прямое дело ближайшего будущего — сократить передержки и пополнить недоимки, восстановить равновесие народных задач и средств. Здесь историческое изучение своими конечными выводами подходит вплоть к практическим потребностям текущей минуты» (I, 38-39).
Ни один народ не стоит и не развивается изолированно. На его судьбах отражается общение его с другими народами. «Яс большой оговоркой принимаю мысль,— говорит наш автор,— будто Древняя Русь жила полным особняком от Западной Европы, игнорируя ее и игнорируемая ею, не оказывала на нее и не воспринимала от нее никакого влияния. Западная Европа знала древнюю Россию не лучше, чем новую. Но как и теперь, три-четыре века назад Россия если и не понимала хода дел на Западе, как должно, то его следствия испытывала на себе иногда сильнее, чем было нужно» (HI, 1 24). «Обращаясь к началу западного влияния в России, необходимо наперед точнее определить самое понятие влияния. И прежде, в XV-XVI веках, Россия была знакома с Западной Европой, вела с ней кое-какие дела, дипломатические и торговые, заимствовала плоды ее просвещения, призывала ее художников, врачей, военных людей. Это было общение, а не влияние. Влияние наступает, когда общество, его воспринимающее, начинает сознавать превосходство среды или культуры влияющей и необходимость у нее учиться, нравственно ей подчиняться, заимствуя у нее не одни только житейские удобства, но и самые основы житейского порядка, взгляды, понятия, обычаи, общественные отношения. Такие признаки появляются у нас в отношении к Западной Европе только с XVII века. Вот в каком смысле говорю я о начале западного влияния с этого времени» (III, 330). Так как «заимствовать чужое учреждение несколько легче, чем усвоить идею, положенную в его основание» (IV, 246), то неудивительно, что у нас долго старались заимствовать у Европы только внешние удобства жизни и технические приспособления, не думая расстаться с обычным укладом мысли и уступить хоть одну пядь иноземному влиянию в заветной области чувств, понятий, верований, где господствуют высшие, руководящие интересы жизни (III, 339, 353).
Но важно не только прямое влияние одного народа на другой. Огромное значение имеет просто историческое положение народа среди других народов, в значительной мере определяемое его гео
графическим положением. «Едва ли в истории какой-либо другой страны влияние международного положения государства на его внутренний строй было более могущественно, и ни в какой период нашей истории оно не обнаруживалось так явственно, как» в период с начала XVII века. В это время «произошел перелом и во внешней политике государства. Доселе его войны на Западе были по существу оборонительные, имели целью возвратить земли, недавно от него отторгнутые или считавшиеся его исконным достоянием. С Полтавы они получают наступательный характер, направляются к укреплению завоеванного Петром преобладания России в Восточной Европе или к поддержанию европейского равновесия, как элегантно выражались русские дипломаты. С поворота на этот притязательный путь государство стало обходиться народу в несколько раз дороже прежнего, и без могучего подъема производительных сил России, совершенного Петром, народ не оплатил бы роли, какую ему пришлось играть в Европе» (III, 11-13).
Оценивая природу русской равнины, В. О. Ключевский замечает: «Исторически Россия, конечно, не Азия; но географически она не совсем и Европа. Это переходная страна, посредница между двумя мирами. Культура неразрывно связала ее с Европой; но природа положила на нее особенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии или в нее влекли Азию» (I, 46). «Сама Азия, настоящая кочевая Азия, испокон веков наводняя своими кибитками и стадами нынешнюю южную Россию, по-видимому, слабо чувствовала, что она попадала в Европу. Перевалив за Карпаты, в нынешнюю Венгрию, ее орлы становились в невозможность продолжать прежний азиатский образ жизни и скоро делались оседлыми. На широких полях между Волгой и Днестром, по обе стороны Дона, они не чувствовали этой необходимости и целые века проживали здесь, как жили в степях средней Азии» (I, 44).
Это географическое положение создало историческую заслугу России, оно же является главной причиной ее теперешних недостатков.
«Наш народ поставлен был судьбой у восточных ворот Европы, на страже ломившейся в них кочевой хищной Азии. Целые века истощал он свои силы, сдерживая этот напор азиатов, одних отбивал, удобряя широкие донские и волжские степи своими и ихними костями, других через двери христианской церкви мирно вводил в европейское общество. Между тем Западная Европа, освободившись от магометанского напора, обратилась за океан, в Новый Свет, где нашла широкое и благодарное поприще для своего труда
и ума, эксплуатируя его нетронутые богатства. Повернувшись лицом на Запад к своим колониальным богатствам, к своей корице и гвоздике, эта Европа чувствовала, что сзади, со стороны урало-алтайского востока, ей ничто не угрожает, и плохо замечала, что там идет упорная борьба, что, переменив две главные боевые квартиры на Днепре и Клязьме, штаб этой борьбы переместился на берега Москвы и что здесь в XVI веке образовался центр государства, которое наконец перешло от обороны в наступление на азиатские гнезда, спасая европейскую культуру от татарских ударов. Так мы очутились в арьергарде Европы, оберегали тыл европейской цивилизации. Но сторожевая служба везде неблагодарна и скоро забывается, особенно когда она исправна: чем бдительнее охрана, тем спокойнее спится охраняемым и тем менее расположены они ценить жертвы своего покоя» (II, 507-508).
Итог русской истории характеризуется следующими словами: «Вековыми усилиями и жертвами Россия образовала государство, подобного которому по составу, размерам и мировому положению не видим со времени падения Римской империи. Но народ, создавший это государство, по своим духовным и материальным средствам еще не стоит в первом ряду среди других европейских государств. По неблагоприятным историческим условиям его внутренний рост не шел в уровень с его международным положением, даже по временам задерживался этим положением. Мы еще не начинали жить в полную меру своих народных сил, чувствуемых, но еще не вполне развернувшихся, не можем соперничать с другими ни в научной, ни в общественно-политической, ни во многих других областях. Достигнутый уровень народных сил, накопленный запас народных средств — это плоды многовекового труда наших предков, результаты того, что они успели сделать. Нам нужно знать, чего они не успели сделать; их недоимки — наши задачи» (I, 39-40).
Некоторые скажут, что в этих рассуждениях об историческом назначении или призвании народов, о возлагаемой на них исторической миссии, В.О. Ключевский весьма приближается уже к исторической метафизике. Не знаю, насколько это замечание было бы основательно. Возможно, что, действительно, в таких рассуждениях нашего автора сквозит скрытая метафизика. Следует отметить, что Ключевский сознательно и открыто вообще старается избегать метафизических элементов в своих рассуждениях и нигде прямо не сходить с точки зрения изучения эмпирической действительности. Это не мешает ему, однако, придавать большое значение религиозному чувству и совершенно определенно указывать
на необходимость веры наряду с научным знанием. «Религиозное мышление,— говорит он,— или познание есть такой же способ человеческого разумения, отличный от логического или рассудочного, как и понимание художественное; оно только обращено на другие, более возвышенные предметы. Человек далеко не все постигает логическим мышлением и, может быть, даже постигает им наименьшую долю постижимого» (III, 371). Он настаивает также и на необходимости догматической и обрядовой стороны религии. «Религиозное миросозерцание и настроение каждого общества неразрывно связано с текстами и обрядами, их воспитавшими.— Но, может быть, такая тесная связь религиозных обрядов и вообще форм с сущностью вероучения сама по себе есть только недостаток религиозного воспитания и верующий дух может обойтись без этих тяжелых обрядовых накладок, а потому надобно помогать ему без них обходиться? Да, может быть, со временем, когда-нибудь эти накладки и станут излишними, когда человеческий дух путем дальнейшего совершенствования освободит свое религиозное чувство от влияния внешних впечатлений и от самой потребности в них, будет молиться “духом и истиною”. Тогда и религиозная психология будет другая, непохожая на ту, какую воспитывала практика всех доселе известных религий. Но с тех пор как люди стали себя помнить, в продолжение тысячелетий и до наших дней они не умели обойтись без обряда ни в религии, ни в других житейских отношениях нравственного характера. Надобно строго различать способ усвоения истины сознанием и волей. Для сознания достаточно известного усилия мысли и памяти, чтобы понять и запомнить истину. Но этого очень мало, чтобы сделать истину руководительницей воли, направительницей жизни целых обществ. Для этого нужно облечь истину в формы, в обряды, в целое устройство, которое непрерывным потоком надлежащих впечатлений приводило бы наши мысли в известный порядок, наши чувства в известное настроение, долбило бы и размягчало нашу грубую волю и, таким образом, посредством непрерывного упражнения и навыка, превращало бы требования истины в привычную нравственную потребность, в непроизвольное влечение воли. Сколько прекрасных истин, озарявших дух человеческий и способных осветить и согреть людское общежитие, погибло бесследно для него только потому, что они не успели вовремя облечься в такое устройство и помощью его не были достаточно разучены людьми. Так не в одной религии, так и во всем. Какой угодно великолепный музыкальный мотив не произведет на нас должного художественного впечатления в том
простом схематическом виде, в каком он родится в художественном воображении композитора; его надобно разработать, положить на инструмент или на целый оркестр, повторить в десятке ладов и вариаций и разыграть перед целым собранием, где маленький восторг каждого слушателя заразит его соседей справа и слева, и из этих миниатюрных личных восторгов составится громадное общее впечатление, которое каждый слушатель унесет к себе домой и много дней будет им обороняться от невзгод и пошлостей ежедневной жизни. Люди, слышавшие проповедь Христа на горе, давно умерли и унесли с собою пережитое ими впечатление; но и мы переживаем долю этого впечатления, потому что текст этой проповеди вставлен в рамки нашего богослужения. Обряд или текст — это своего рода фонограф, в котором застыл нравственный мотив, когда-то вызвавший в людях добрые дела и чувства. Этих людей давно нет, и момент с тех пор не повторился; но помощью обряда или текста, в который он скрылся от людского забвения, мы по мере желания воспроизводим его и по степени своей нравственной восприимчивости переживаем его действие. Из таких обрядов, обычаев, условных отношений и приличий, в которые отлились мысли и чувства, исправлявшие жизнь людей и служившие для них идеалами, постепенно путем колебаний, споров, борьбы и крови складывалось людское общежитие. Я не знаю, каков будет человек через тысячу лет, но отнимите у современного человека этот нажитый и доставшийся ему по наследству скарб обрядов, обычаев и всяких условностей — и он все забудет, всему разучится и должен будет все начинать сызнова» (III, 373-4).
Я позволил себе привести целиком эту длинную выдержку, так как она содержит в себе целое рассуждение об очень важном вопросе человеческого общежития и служит прекрасным образцом того, как тонок и глубок бывает анализ этих вопросов у нашего маститого ученого, который в одно и то же время проявляет себя и как великого художника исторической действительности и как глубокого мыслителя, умеющего в немногих строках сказать иногда больше, чем сколько содержится в толстых философских трактатах.
А. А. КИЗЕВЕТТЕР
Ключевский и «социализация» классиков
В каждую годовщину со дня кончины великого русского историка В. О. Ключевского мы отмечали то, что было сделано за минувший год по части обнародования оставленного им литературного наследства. На этот раз мы приступаем к таким литературным поминкам с сугубо тяжелым чувством. Сочинения Ключевского только что объявлены государственной собственностью. В газетах было напечатано заявление М. О. Гершензона1 и П. Н. Сакулина2 с подробным указанием на все несообразности, вытекающие из установления правительственной монополии на издание произведений классиков. Справедливость этих указаний самоочевидна и в среде непредубежденных людей не может быть, думается нам, двух мнений относительного того, что эта «реформа», проводимая под флагом удовлетворения интересов культуры и просвещения, на самом деле представляет собой грубейше посягательство на эти именно интересы.
Но в заявлении М. О. Гершензона и П. Н. Сакулина затронуты еще не все стороны вредоносного значения этой меры. И на одну их таких незатронутых ими сторон мы не можем не указать, в связи с сегодняшней годовщиной кончины Ключевского.
Как быть с необнародованными рукописями писателей классиков? Декрет новоявленных ревнителей просвещения воздвигает несносную преграду для их беспрепятственного обнародования. Обладатель таких рукописей теперь издать их уже не может. Все, что он может сделать, это — передать их государственным властям, которые издадут их с своими пояснениями и примечаниями. Вполне возможно, однако, что обладатель таких рукописей из уважения к памяти автора не пожелает вверить их судьбу людям, литературный вкус, или научная подготовка, или политическое беспристрастие которых
не будет внушать ему полного доверия, тем более, что допущенные ими при издании погрешности никем уже не смогут быть исправлены, так как правительственное издание будет монопольным. И вот драгоценные для культуры рукописи останутся лежать под спудом, в ожидании наступления новых времен.
Эти соображения невольно приходят на мысль применительно к литературному наследию Ключевского. Это литературное наследие еще не все напечатано. Для подготовки к печати необнародован-ной его части предприняты сложные работы. Теперь, с изданием декрета о правительственной монополии на издание произведений писателей-классиков, созданы условия, могущие отдалить тот момент, когда русское общество получит возможность ознакомиться со всем тем, что вышло из-под пера великого русского историка.
Невольно является вопрос: отчего бы не ограничить действие декрета рамками произведений социалистической литературы, не распространяя его на «буржуазных» классиков? Для социалистического правительства было бы только выгоднее возможно более узкое применение начал правительственной монополии и регламентации в области литературы и науки.
Только что вышло правительственное издание III тома курса Ключевского. Мы довольны лишь тем, что это произошло уже по кончине автора этого курса. Со всей живостью представляем мы себе, с каким чувством увидел бы он на обложке своего курса означение этой неожиданной издательской фирмы.
л. и. ЛЬВОВ
Ключевский о России
I
«Старый государственный порядок разложился, но его формы и методы мышления, его импульсы и инстинкты оказываются еще весьма живучими в правящих кругах. С другой стороны, соответствующий старому государственному порядку тяжкий сон народного ума безвозвратно нарушен. Таким образом, с одной стороны, власть окаменевших старых форм и привычек властвования, с другой стороны — то бурное, то медленное, но безостановочное движение народного ума, проснувшегося к самочинному умствованию. И поверх этого глубокого язвенного противоречия — слабый тонкий обруч новых государственных учреждений. Спасет ли эта новизна, даст ли она окрепнуть новой государственной ткани, или и под ней гниение будет продолжаться, язва будет расти?»
Это — резюме одной из частных бесед Ключевского, записанное его собеседником. В самой формулировке и постановке вопроса о «глубоком и язвенном противоречии» слышаться ноты пессимизма. Статья, из которой взята эта цитата, озаглавлена «Пессимизм и оптимизм», и автор ее, не называя его имени, пишет про Ключевского: «Я поразился тому, как мрачно он смотрит на судьбы России, какими безысходными противоречиями полна для него наша современная политическая жизнь» '.
Нам этот пессимизм ближе и понятнее теперь, чем в 1908 году, когда эта статья была впервые напечатана. Теперь слова нашего историка встают перед нами уже оправданным и сбывшимся предостережение и пророчеством.
Что случилось на наших глазах? «Старый государственный порядок», «разложившийся», рухнул и правящие круги пали жертвой своего пренебрежения к стихийному и болезненному пробуждению «народного ума». А «слабый и тонкий» слой «новой»
государственности не мог приостановить разлагающегося процесса и не сумел овладеть народным «самочинным умствованием».
Но это пессимистическое предсказание было ли лишь данью импрессионизму и только мимолетным, преходящим настроением Ключевского? Или, может быть, оно глубоко коренилось в его размышлениях над русской историей?
Раскроем книги Ключевского и поищем в них ответа. Конечно, прежде всего на память приходит первая лекция III тома его «Курса»,— введение в нашу «новую историю». Здесь внешние успехи «новой» России образно охарактеризованы сравнением с «полетом птицы, которую вихрь несет и подбрасывает не в меру силы ее крыльев». Здесь же в четырех коротких словах дана формула и общей тенденции русского исторического процесса последних 2 !6 веков: «Государство пухло, а народ хирел». Эти слова, отчеканенные в формулу поговорки, стали знаменитыми, и в контексте изложения они завершают рассуждение о том «неестественном отношении внешней политики государства к внутреннему росту народа», которое, по концепции Ключевского, является роковым и несчастным для России.
«Народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства». Таков рок России в ее истории. Это — следствие той жестокой международной конъюнктуры, в которой русскому государству приходилось существовать в течение многовекового периода. «Едва ли,— замечает Ключевский,— в истории какой-либо другой страны влияние международного положения государства на его внутренний строй было более могущественно»2.
В другом месте «Курса» читаем: «Россия образовала государство, подобного которому по составу, размерам и мировому положению не видим со времен падения Римской империи. Но народ, создавший это государство, по своим духовным и материальным средствам еще не стоит в первом ряду среди других европейских народов. По неблагоприятным историческим условиям его внутренний рост не шел в уровень с его международным положением, даже по временам задерживался этим положением» 3. Это несоответствие между внутренним состоянием народа и внешним престижем государства остро сказывается в эпоху Петра Великого, и опять-таки внешний фактор — война — прежде всего обусловливает кипучее реформаторство Петра. «Реформа, как она была исполнена Петром, была его личным делом, делом беспримерно насильственным и, однако,
непроизвольным и необходимым. Внешние опасности государства опережали естественный рост народа, закосневшего в своем развитии». Не будь реформы Петра «какой-нибудь Карл XII или Фридрих II поотрывали бы себе части России и тем еще более замедлили бы ее развитие»4.
Так «перед старой романо-германской Европой с выработанными формами общежития, с нормами порядка, превратившимися в общественные привычки и даже в предрассудки, с громадным запасом знаний, идей и материальных сбережений, накопившихся чуть не со времен Ромула и Рема, предстала новая русская Европа с одними способностями, подававшими только надежды, с большим количеством рекрутов и вывозного сырья, но без прочных культурных запасов: общежитие держалось только бытовой косностью, покоившейся на вере в стихийную неизменность отцовского и дедовского предания; вместо порядка существовала только привычка повиноваться до первого бунта, вместо знания одна любознательность, только что пробудившееся; все юридическое сознание заключалось в смутном чувстве потребности права, все богатство — в способности к терпеливой работе».
Какие же взаимоотношения могли возникнуть между старым Западом и только что вступившим на авансцену Востоком Европы?
«Эти столь несоизмеримые исторические величины, как Россия и Западная Европа, стали не только соседками, но и соперницами, вошли в разнообразные прямые соприкосновения и даже вступили в столкновения; по крайней мере, одна вовсе не была расположена щадить другую, а другая силилась не отстать от первой из страха стать ее жертвой»5.
Россия не стала жертвой Западной Европы и великой державой дожила до 1917 года. Но дисгармония между ее внешним положением и внутренним состоянием дожила до наших дней. Недаром с каждым словом только что цитированной страницы мы невольно вспоминаем черты нашей современности, факты нашей общей политической «автобиографии». На протяжении последних 2 !6 веков, прочно окрепнув, начал разлагаться и тот «старый порядок», катастрофический финал которого приходится переживать нашему поколению. При этом старом порядке «всеми льготами и выгодами, какими мола поступиться власть, осыпаны были верхи общества, а на низы свалили только тяжесть и лишения». «Если бы народ терпеливо вынес такой порядок, Россия была бы из числа европейских стран», но со времени пугачевщины до того момента, когда «Севастополь ударил по застоявшимся умам», народ переживает
вспышки тревожного брожения и толкает правительственную мысль к необходимости переработки этого «старого порядка»6. Но реформам не суждено было справиться с выдвигаемой жизнью задачей до конца. Теперь, когда Ключевский в могиле, мы узнали, что этот старый порядок мирно не сдал своих позиций до своего последнего конца.
II
Ключевский был пессимистом, так как он живо ощущал нависшую над Россией тяжесть грядущих и теперь еже пришедших испытаний. Но означает ли это, что России был произнесен беспощадный приговор ее вдохновеннейшим историком? Верил ли Ключевский в Россию?
Народ, «из всех европейских народов наименее удачно поставленный исторически» 7 создал «государство, подобного которому по составу, размерам и мировому положению не видим со времен падения Римской империи». В этом — право России на дань уважения к себе. А для нас, современников, небывалого ее унижения, может быть, это — залог того, что сегодняшняя нищета наша преходяща и временна. Ключевский учил нас объективности и реализму: «Обязанные во всем быть искренними искателями истины,— заявляет он,— мы всего менее можем обольщать самих себя, когда хотим измерить свой исторический рост, определить свою общественную зрелость»8.
Ирония была одной из резко выраженных черт индивидуальности Ключевского, и потому в его лекциях так много едкого обличения, насмешки. Отсюда и чуть ли не котошихинские темные тона его многочисленных отзывов и характеристик о русских людях и о тех нелепых положениях, в которых ставила их жизнь. Но его склонность к юмору умещалась в его духовном облике рядом с тончайшей задушевностью, и его задушевный патриотизм вынуждал его выступать и апологетом русского достоинства, вдохновеннейших истолкователем русского исторического миссионизма. Чаадаевское осуждение болезненно задевало его патриотическое чувство, и словно в ответ на чаадаевское: «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя», у него вырываются слова: «Если представить себе, сколько времени и сил материальных и духовных гибло в этой однообразной и грубой, мучительной погоне за лукавым степным хищником, едва ли кто спросит, что делали люди Восточной Европы, когда
Европа Западная достигала своих успехов в промышленности и торговле, в общежитии, науках и искусствах»9. «Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом,— это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни» 10. Но еще резче и с большей горечью о том же он говорил другой раз: «Мы отвели и от Западной Европы и вынесли на своих плечах ряд нашествий, угрожавших миру порабощением, начиная с Батыя и кончая Наполеоном I, а Европа смотрела на Россию, как на переднюю Азию, как на врага европейской свободы... продолжала видеть в нас представителей монгольской косности, каких-то навязанных приемышей культурного мира».
Читая вступительные лекции в свой «Курс», Ключевский не думал, что мы так скоро будем ловить в его книгах отраженный свет его веры в Россию. Сам Ключевский, читая свои лекции в университетской аудитории, подчеркивал практическую цель нашего изучения русской истории. Но это практическое значение он видел тогда и ином: «История народа, научно-воспроизведенная,— говорил он,— становится приходно-расходной его книгой, по которой подсчитываются недочеты и передержки его прошлого. Прямое дело ближайшего будущего — сократить передержки и пополнить недоимки, восстановить равновесие народных задач и средств». Это спокойные слова академического курса после вышеприведенной беседы Ключевского со Струве для нас оживают овеянными некоторым тревожным оттенком. Эта тревога и этот призыв Ключевского исправить и дополнить то, что еще не поздно, к несчастью, оказались напрасными и не достигшими своего назначения. России не была дана отсрочка для того, чтобы ее «новые государственные учреждения» могли получить надлежащую силу,— для того, чтобы ее «новая государственная ткань» смогла окрепнуть. Старыми «правящими кругами» голос историка не был услышан и не был понят. Мы знаем, что и в Петергофском дворце осторожные предостережения Ключевского прозвучали диссонансом среди речей сановников, трудившихся над булыгинским законом о Государственной думе11.
Кажется, мы вступаем теперь в эпоху, близкую по своим настроениям и безверию в будущее с той чуть ли не полутысячелетием отдаленной от нас порой безвременья на Руси, о которой Ключевский так взволнованно говорил в своей знаменитой речи «о значении преподобного Сергия» ,2. Тогда русские переживали монгольское разорение и были задавлены татарским завоеванием. «Это было одно из тех
народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее... Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа» ,3. Тогда этой «темной страницы» не прибавилось, и Ключевский объясняет это чудо возрождения древней России ссылкой на то, что «одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься после падения». «Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы» и выйдет «на покинутую им временно прямую историческую дорогу». Про Россию в другом месте Ключевский писал: «В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, приученного менее ждать от природы и судьбы и более выносливого» 14.
В наши страшные дни потеряли ли мы окончательно ту веру, которой учит нас наш историк?
И неужели мы придем к конечному безверию и к последнему отчаянию?
М.К. ЛЮБАВСКИЙ
Соловьев и Ключевский*
Когда сосредоточиваешься мыслью на незабвенном В.О. Ключевском и начинаешь рассматривать сделанное им великое дело жизни, неизменно позади его дивного образа вырастает величавая фигура его наставника С.М. Соловьева. Соловьев и Ключевский занимают воображение, как два неразрывно связанных деятеля, учитель и ученик, начинатель и продолжатель, сливающиеся в единый образ мощного духовного гения, лучезарно осветившего прошлое России. Велик и оригинален был талант, данный Богом Василию Осиповичу Ключевскому; но свое применение и направление этот талант получил благодаря Сергею Михайловичу Соловьеву. Велики заслуги Василия Осиповича в деле разработки науки русской истории и в постановке ее преподавания. Но почва для него была расчищена здесь и подготовлена главным образом Соловьевым. Памятуя, что Василий Осипович, когда трактовал великих людей и их деяния, всегда старался ввести их в историческую перспективу, всегда рассматривал великие культурные деяния, как плоды коллективного творчества поколений, находя, что Василий Осипович завещал нам не только преклоняться перед гениями и талантами, но и исторически объяснять их, я и беру на себя смелость поделиться здесь своими беглыми наблюдениями над тем, что дал Соловьев Ключевскому, в чем сказалось духовное влияние учителя на ученика.
В деле научного образования огромное значение имеет первое руководство, которое дается при самом приступе к научным занятиям.
* Речь, произнесенная в заседании Императорского Общества Истории и Древностей Российских, посвященном памяти В.О. Ключевского, 12 ноября 1911 года.
Ключевский-студент в этом отношении поставлен был в счастливые условия, и это благодаря главным образом Соловьеву. Припомним, в каком положении находилось преподавание русской истории в Московском университете до Соловьева. Ближайшим предшественником Соловьева был М. П. Погодин, энтузиаст так называемого математического метода в истории. Погодин тщательно избегал общих концепций исторического процесса, излагал одни только частные наблюдения над точно установленными фактами, не заботясь о том, чтобы связать их в какую-нибудь систему, для которой, по его мнению, не наступило еще время. Он читал с кафедры одни только частные исследования, преимущественно по древней русской истории Киевского периода, исследования в свое время, конечно, имевшие научную цену, но в аудитории только подавлявшие внимание обилием событий, имен и годов. От покойного инспектора Московского учебного округа Якова Игнатьевича Вейнберга1 мне пришлось слышать, как Погодин боролся с гнетущим впечатлением от своих лекций. Взойдя на кафедру и объявив студентам, что всех удельных князей было 500, заметив при этом некоторый ужас на их глазах, Погодин приглашал их не пугаться этого числа, ибо на Всеволоде III это число как раз разбивается пополам, так что запомнить всех их будет уже не так трудно. Едва ли большее научное возбуждение давали в свое время исследования и лекции предшественника Погодина — Михаила Трофимовича Каченовского, главного представителя так называемой «скептической» школы в русской историографии, с его грубым и наивным критицизмом. Популярность этих исследований и лекций основывалась, конечно, не на их научной ценности, а на их направлении, шедшем вразрез с укоренившеюся идеализацией и славословием древнерусской старины. Не будем заглядывать в более ранние времена, во времена Чеботарева2, преподававшего и русскую словесность соединенно с латинским языком, и логику с нравоучением, и географию, и русскую историю. То был еще период младенчества в постановке университетского преподавания вообще, мало разнившегося от гимназического. На надлежащую высоту преподавание русской истории в Московском университете впервые поставлено было только С. М. Соловьевым, и В. О. Ключевскому выпало на долю счастье в полную меру воспользоваться этим преподаванием.
Вот как сам он говорил о том действии, какое оказали на него лекции Соловьева: «Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройною нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для
молодого ума, начинающего научное изучение, чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет... Обобщая факты, Соловьев вводил в их изложение, осторожной мозаикой общие исторические идеи, их объяснявшие... Благодаря этому курс Соловьева, излагая факты местной истории, оказывал на нас сильное методологическое влияние, будил и складывал историческое мышление: мы сознавали, что не только узнаем новое, но и понимаем узнаваемое, и вместе учились, как надо понимать, что узнаем. Ученическая мысль наша не только пробуждалась, но и формировалась, не чувствуя на себе гнета учительского авторитета: думалось, как будто мы сами додумались до всего того, что нам осторожно подсказывалось»*.
С самого начала своей преподавательской деятельности С. М. Соловьев читал два курса русской истории — общий и специальный, причем первый был как бы введением ко второму. По словам Василия Осиповича, «начав специальное изложение с эпохи, на которой прервалась “История Государства Российского” Карамзина3, Соловьев с каждым годом понемногу подвигался все дальше вперед; но студент специально знакомился с доставшейся ему эпохой уже подготовленный к тому общим курсом русской истории с древнейших времен. Содержанием этого курса была именно смена политических форм с объяснением исторических обстоятельств, при которых одна из них зарождалась, падала и переходила в другую, и с указанием перемен, какие при господстве той или другой из них происходили в составе общества и во взаимных отношениях его частей. С течением времени фактические подробности в этом курсе сглаживалась все более, так что он превратился наконец в непрерывную цепь обобщений, в историко-философскую формулу политического и социального развития России»**. Такую постановку преподавания нельзя не признать в высшей степени удачною. Из такого преподавания студент выносил и цельный, стройный взгляд на ход русской истории, и специальное знакомство с эпохою из первых рук, и знакомство с методами научного исследования, и, что особенно важно, уважение к кропотливому научному труду и к званию профессора, которое в свою очередь
* Ключевский В.О.С. М. Соловьев как преподаватель. Издания Исторического общества при Императорском Московском университете. Рефераты, читанные в 1895 г. (Год I). М., 1896. Стр. 191, 192.
** Некролог С. М. Соловьева, составленный В.О. Ключевским. Стр. 10. Отчет Московского университета за 1879 год.
обусловливало собственную охоту к научным занятиям. Василий Осипович в данном случае был тем счастливее, что ему пришлось учиться у Соловьева в то самое время, когда тот уже вполне созрел и как ученый, и как профессор. В 1863 году, когда Ключевский начал слушать Соловьева, последний уже закончил свои научные труды по древней русской истории и подвел итоги в своем знаменитом XIII томе. Первоначальная концепция древней русской истории, содержавшаяся в его диссертации «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» и в его общих курсах, к тому времени была продумана, окончательно исправлена и дополнена на основании колоссального изучения источников по древней русской истории. И Ключевский теперь сразу попал под обаяние этой концепции и ее автора. «Слушая Соловьева,— говорит он в одной из своих статей о нем,— мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное миросозерцание, чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим собою этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком. Этим особенно и усиливалось впечатление лекций Соловьева: его слова представлялись нам яркими строками на освященном изнутри фонаре». «С кафедры слышался не профессор, читающей в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете». «Но Соловьев так рассуждал со студентами о былом, что они живо представляли себе, как это происходило»*. Василий Осипович высоко ценил «Историю России с древнейших времен». По его словам, это — «одна из страниц истории русского просвещения, и таких страниц, на которых с отрадою будет всегда останавливаться и раздумываться мыслящий русский человек» **.
Из этих отзывов Василия Осиповича ясно видно, как много он получил от Соловьева к началу своих самостоятельных занятий русскою историей. Соловьев дал ему цельный и стройный взгляд на ход русской истории, несомненно облегчивший ему выработку собственного, не менее цельного и стройного взгляда, дал в его распоряжение огромный и хорошо рассортированный подбор данных источников, облегчивший ему дальнейшие разыскания в источни
* Ключевский В.О.С. М. Соловьев как преподаватель. Стр. 188, 189, 194.
** Там же, стр. 190.
ках, возбудил его творческое воображение и, наконец, что особенно важно, создал известное ученое настроение, тот нравственный подъем, с которым работал Василий Осипович в избранной им специальности. Василий Осипович не только косвенно, но и прямо признал, как много обязан он и другие современные ему историки Соловьеву. «В движении русской историографии,— говорит он в одной из своих статей о Соловьеве,— это время можно смело обозначить именем Соловьева: живущие ныне писатели, вместе с ним наиболее поработавшие над историей своего отечества, охотно согласятся с этим. Вооружившись приемами и задачами, выработанными историческою наукой первой половины нашего века, он первый пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося от жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII века, связал одною мыслью разорванные лоскуты исторических памятников и вынес на свет всю наличность уцелевших фактов нашей истории. Есть и будут десятки трудолюбивых исследователей русского прошедшего, которые останавливаются и будут останавливаться на том или другом факте дольше Соловьева, изучают и будут изучать то или другое явление подробнее, тем изучил он; но каждый из них, чтобы идти прямо и твердо в своей работе, должен начинать с того, чем кончил Соловьев свою речь о том же, и он, как маяк, еще долго будет служить указателем пути даже для тех, кто далеко разойдется с ним в своих последних выводах»*.
Влиянием Соловьева и сделанного им научного дела определился как преимущественный интерес, так и круг самостоятельных разысканий Василия Осиповича. Василий Осипович уделял свое внимание, посвящал свои труды многообразным вопросам и всем эпохам русской истории. Но преимущественно его изучение сосредоточивалось на тех веках, на тех вопросах, которые уже обняты были «Историею России с древнейших времен», и он все время как бы углублял, исправлял и дополнял труды своего учителя. Обе его диссертации, четыре части курса и большая часть статей посвящены древней допетровской Руси и эпохе Петра Великого. При этом больше всего внимания и усилий мысли уделено Василием Осиповичем на более глубокое раскрытие генезиса и смены форм политического и социального строя Руси до Петра Великого включительно, т. е. на более тщательную разработку и выполнение тех же самых научных задач, которые ставил себе и Соловьев. Захватив
* Ключевский В.О. Памяти С.М. Соловьева // Научное слово. 1904, кн. VIII, стр. 118.
массу нового материала и более тщательно продумав его данные, Василий Осипович, как известно, во многом ушел от положений своего наставника, изменил их и дополнил. Прежде всего, он выработал иной взгляд на общественный быт Древней Руси в момент утверждения в ней варяжских князей. Он не счел уже возможным довольствоваться теорией родового быта, которую развивал Соловьев, признал, что общество к тому времени сорганизовалось уже в крупные политические союзы — городовые волости. Ту работу жизни, которую Соловьев приурочивал к княжескому периоду, Василий Осипович отнес на более ранние времена и не признал возможным приписывать князьям ту организующую роль, которую отвел им Соловьем. В данном случае Ключевский сошелся более с учеными противниками Соловьева, чем с своим наставником. Весь так называемый Киевский период русской истории получил у Василия Осиповича новое освещение благодаря тому значению, которое он отвел в жизни Киевской Руси, в формировке ее общественного и политического строя, во всем бытовом складе — внешней торговле. Но особенно далеко ушел Василий Осипович от Соловьева в разработке удельной эпохи. Он гораздо резче, чем Соловьев подчеркнул своеобразие этого периода русской истории, его полное отличие от предшествующего Киевского периода, облек в плоть и кровь те общие схемы, которые даны были в изложении Соловьева, наложил детали и краски на изображение. Очевидно, здесь сыграли огромную роль работы Василия Осиповича по написанию магистерской диссертации4. Изучая критически жития святых, стараясь оценить их как исторический источник, Василий Осипович естественно должен был прежде всего всесторонне уяснить себе то самое время, к которому относилось большинство этих житий. Блуждая воображением вместе с своими святыми по лесным дебрям и моховым болотам русского севера, Василий Осипович с его художественною восприимчивостью попутно брал в свою историческую перспективу все персонажи, которые попадались около монастырей или были в каких-нибудь с ними отношениях: и новгородских бояр с их страдниками-холопами, и князей-колонизаторов и хозяев севера, и их бояр, и крестьян. Из глухих пустынь его воображение невольно должно было переноситься и в те самые центры, куда сходились все нити тогдашней хозяйственной, политической и нравственной жизни русского общества. Так, в результате специального изучения получилось у Василия Осиповича превосходное общее знакомство с эпохою, которое и нашло себе потом художественное выражение частью q «Боярской думе», частью
в общем курсе русской истории. Страницы, посвященные в этих трудах удельной эпохи, навсегда останутся одною из лучших частей его исторической картины. Более глубокое и широкое изучение источников дало возможность Василию Осиповичу наложить новые краски и на Московский период русской истории, дополнить изображение Соловьева новыми существенными подробностями и, кроме того, углубить и изменить понимание некоторых основных процессов этого периода. В особенности надо отметить здесь выяснение экономических условий зарождения и развития крепостного права на Руси. Для XVIII и XIX века Василий Осипович не только углублял, исправлял и дополнял труд своего учителя, но и продолжал его. Он первый из русских историков дал в своих лекциях и статьях общую, но при этом в высшей степени живую, исполненную красок времени концепцию Екатерининского царствования. В своих лекциях и статьях Василий Осипович дал превосходные абрисы и яркие картинки и из истории XIX века.
Но как ни самостоятелен был в своих научных разысканиях Василий Осипович, как ни оригинален в своих воззрениях, все же в его исторических построениях нельзя не заметить и соловьевского наследства. Таким наследством является, прежде всего, его теория очередного порядка княжеского владения в Киевской Руси. Хотя Василий Осипович и отверг соловьевскую теорию родового быта, все же он не мог отвергнуть тех наблюдений, которые сделал Соловьев относительно распределения волостей между князьями XI-XII веков, принял установленную Соловьевым схему и только позаботился о том, чтобы дать ей иное обоснование. Соловьев в известной мере был родоначальником и того объяснения, которое дал Василий Осипович происхождению удельного строя и положению в нем князя. Соловьев первый обратил внимание на условия колонизации Суздальской земли, на роль в ее политической жизни новых городов и селений, возникших при князьях и благодаря им. Ключевский развил эту мысль своего учителя, обставил ее новыми аргументами и данными источников. Соловьевским наследством является у Василия Осиповича и объяснение возвышения Москвы из сгущения в ее области населения, эмигрировавшего с юга на север. Наконец, оценка и изложение реформы Петра Великого являются у Василия Осиповича дальнейшим развитием и усовершенствованием воззрений на этот предмет и изображения его у Соловьева. Можно было бы указать и на другие подробности из исторических построений Ключевского, свидетельствующие о наследовании после Соловьева, но и сказанного, думается мне,
совершенно достаточно для доказательства ученой зависимости Василия Осиповича от его учителя.
Духовное влияние Соловьева отразилось не только на самых исторических построениях Ключевского, но и на его историко-философских и методологических воззрениях. Известно, что Соловьев увлекался идеею органического развития народов, естественности, внутренней логики этого развития. «У Соловьева,— говорил Василий Осипович, — аналогия жизни народов с жизнью отдельного человека, отвлеченные аргументы и, наконец, его столь известная и любимая фраза естественно и необходимо, повторявшаяся при каждом случае, как припев,— все вызывало в сознании слушателя эту идею исторической закономерности»*. Василий Осипович не так резко подчеркивал эту идею, не так часто, быть может, выражал ее, но, несомненно, разделял ее и применял на деле в своем историческом изложении. Этим и объясняется тот факт, что внутренняя история России доминирует у Василия Осиповича как в исследованиях, так и в изложении. Его интересовали именно те внутренние, логические процессы исторической жизни, которые развивались из внутренних свойств человеческого общежития под воздействием природы и других внешних условий. Известно, что Соловьев в данном случае находился под некоторым влиянием воззрений, распространенных в области исторического мышления Гегелем. Некоторые отзвуки этого отраженного гегельянства можно подслушать и у Василия Осиповича. «По условиям своего земного бытия,— говорил он на лекциях,— человеческая природа как в отдельных лицах, так и в цельных народах раскрывается не вся вдруг, а частично и прерывисто, подчиняясь обстоятельствам места и времени». По условиям места и времени «отдельные народы, принимавшие наиболее видное участие в историческом процессе, особенно ярко проявляли ту или другую силу человеческой природы»**. Но Василий Осипович, как и Соловьев, далек был от того, чтобы смотреть на народ, как на простой механический аппарат, воспринимающий и перерабатывающий внешние влияния. Народы в данном случае не одинаковы, имеют каждый свою личность, свою индивидуальность. «Должно быть, каждому народу от природы,— говорил он,— положено воспринимать из окружающего мира, как и из переживаемых судеб, и претворять в свой характер не всякие, а только известные впечатления, и отсюда происходит
* Ключевский В.О.С. М. Соловьев как преподаватель. Стр. 192.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I, стр. 6, Москва, 1904.
разнообразие национальных складов и типов» *. «Значение народа как исторической личности заключается в его историческом призвании, а это призвание народа выражается в том мировом положении, какое он создает себе своими усилиями, и в той идее, какую он стремится осуществить своею деятельностью в этом положении» **. Все это были любимые мысли и его наставника — Сергея Михайловича Соловьева. Василий Осипович солидарен был с Соловьевым и в общем взгляде на основные факторы исторического процесса. «Человеческая личность, людское общество и природа страны — вот те три основные исторические силы, которые строят людское общежитие» ***. Василий Осипович подобно своему учителю уделил большое внимание влиянию природы на историю русского народа, и высказанные им здесь соображения во многом повторяют и развивают соображения Соловьева. Подобно Соловьеву Ключевский придавал огромное значение рекам русской равнины. «Государственная сила, основавшись в области истоков главных рек равнины, естественно стремилась расширить сферу своего владычества до их устьев, по направлению главных речных бассейнов, двигая и население, необходимое для их защиты. Так центр государственной территории определился верховьями рек, окружность — их устьями, дальнейшее расселение — направлением речных бассейнов. На этот раз наша история пошла в достаточном согласии с естественными условиями: реки во многом начертали ее программу» ****. Как и Соловьев, Ключевский придавал огромное значение равнинному характеру нашей страны и ее естественной связи с равнинами Азии, откуда прикатывались к нам волны кочевников. Что касается значения личности в истории, то и тут можно заметить родство взглядов Соловьева и Василия Осиповича. Для Соловьева каждая историческая личность была детищем своей эпохи, продуктом исторического развития и сама характеризовала эпоху. Великими, по оценке Соловьева, были те исторические деятели, которые чутки были к народным и государственным потребностям своего времени, сильнее других их ощущали, яснее других понимали и энергичнее других удовлетворяли. Подобные же оценки рассеяны и в курсе Василия Осиповича, напр., относительно Петра Великого. Реформа Петра I, по словам Ключевского, «сама собою
* Там же, стр. 386.
** Там же, стр. 38.
*** Там же, стр. 11.
**** Там же, стр. 69.
вышла из насущных нужд государства и народа, инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким умом и сильным характером, талантами дружно совместившимися в одной из тех исключительно счастливо сложенных натур, какие по неизведанным еще причинам от времени появляются в человечестве. Хотя эта реформа была делом непроизвольным и необходимым, но в способе, приемах и размере выполнения она была личным делом великого Петра. Преобразование, несомненно, подготовлялось предыдущею историею, но это преобразование могло пойти и так, и этак, при мирном ходе дел могло рассрочиться на целый ряд поколений. Но если этого не случилось, то это уже благодаря личности Петра Великого» *.
Ключевского нередко противополагают Соловьеву как историка-экономиста историку-юристу. Но это противоположение в сущности не совсем правильно характеризует взаимные между ними отношения. Разница между Соловьевым и Ключевским в данном случае была не столько принципиальная, сколько фактическая или, если так можно выразиться, очередная. Соловьев сначала разработал лицевую сторону русского социально-политического процесса, которая естественно прежде всего подпадала под наблюдения, освещаемая к тому же и общею историческою теориею Соловьева. Ключевский в своем изучении и размышлении сосредоточился преимущественно на той стороне исторического процесса, которая скрывалась за лицевою стороною, уходила в самую глубь народной жизни. Такой интерес Василия Осиповича обусловился не какими-либо теориями, противными теориям Соловьева, а его творческим инстинктом, склонностью к будничной житейской правде, к живому, конкретному пониманию и воспроизведению исторической действительности. Экономист Ключевский не отрицал, а только дополнял юриста Соловьева. Но как Соловьев не отвергал значения экономических факторов в историческом развитии русского народа, так и Василий Осипович чужд был всякой односторонности в своем экономизме. Всем памятно его классическое рассуждение на эту тему, вставленное во введение к «Боярской думе». Сказав, что обыкновенно в истории политические факты вытекают из экономических, как их последствия, Василий Осипович заявляет, однако: «Но бывают и обратные явления. Например, завоевание может привести к такому положению, когда политическая сила изменяет ход экономической жизни
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. М., 1910. Стр. 275, 291.
и развития страны»*. И это не пустые слова. Припомним, какое важное значение отвел Василий Осипович в ходе экономической жизни Древней Руси прибытие и утверждение кочевников, в какую тесную связь поставил возникновение фабрично-заводской промышленности от внешних задач, которые легли на Московское государство в новый период его истории. Василий Осипович, как известно, один из первых выяснил экономические условия происхождения и развития крепостного права. Но в то же самое время никто из русских историков не раскрыл в такой полноте и определенности все те последствия, какие в свою очередь оказал этот социальный факт на экономическое развитие русского народа, как это сделал в своих лекциях Василий Осипович. Ключевский, как и его учитель, чужд был монистического понимания исторического процесса, старался подметить и уловить в нем действие не только внешней природы, хозяйственных условий, но и психических причин — в виде привычек, культурных навыков, нравов и идей. Он любил говорить не только о денежном, но и нравственном капитале русского народа в разные исторические времена, поддерживая традицию своего учителя, дававшего в своей истории периодические обозрения внутреннего состояния русского общества, но далеко превосходя его полнотою и художественностью изображения.
Эти изображения, а также некоторые личные характеристики проникнуты у Василия Осиповича сплошь и рядом юмором, а подчас и едким сарказмом. Как это ни странно может показаться с первого взгляда, но нельзя не признать и в этой особенности литературной и преподавательской деятельности Ключевского известного духовного влияния Соловьева. По словам Василия Осиповича, Соловьев был не только историк-прагматик, но и историк-моралист, произносивший исторический суд над людьми и их деяниями. «Я не вижу,— говорит он,— в этом научного греха: эта моралистика у Соловьева была та же прагматика, только обращенная к сознанию своею нравственною стороною, та же научная связь причин и следствий, только приложенная к явлениям добра и зла, помышления и действия» **. Таким же прагматиком-моралистом был и В. О. Ключевский, но только по свойствам его таланта эта нравственная оценка людей и их деяний выражалась у него не в отвлеченных рассуждениях, а в художественных образах и описаниях. Юмор и сарказм Василия Осиповича — художественные средства
* Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. М., 1882. Стр. 9.
** Ключевский В.О.С. М. Соловьев как преподаватель. Стр. 192.
того же самого исторического суда, который признавал делом своей совести и его великий наставник. При этом добродушный юмор Василия Осиповича пал на долю преимущественно древней допетровской и петровской Руси, едкий сарказм на долю екатерининской эпохи и XIX века. Древняя Русь была вообще как-то милее Василию Осиповичу, чем Русь новая, после-петровская. На этом основании Василия Осиповича зачисляли даже в ряды славянофилов, упрекали в идеализации русской старины. Объяснение такому предпочтению древнерусской старины надо искать, конечно, прежде всего в личных симпатиях Василия Осиповича, который как художник должен был ценить простоту, прямоту и искренность, болезненно воспринимать все крикливое, показное и ходульное, всякое искажение действительности. Но, несомненно, известный толчок его симпатиям в этом направлении дан был и Соловьевым, указывавшим на величие Древней Руси, заключавшееся в ее скромности, «в сознании своих несовершенств, в сбереженной ею способности не мириться со злом, в искреннем и горячем искании выхода в положение лучшее посредством просвещения»*.
Подобно своему учителю и в том же духе, как и Соловьев, подводил Ключевский и свои итоги русской истории. «Вековыми усилиями и жертвами,— говорил он на своих лекциях,— Россия образовала государство, подобного которому по составу, размерам и мировому положению не видим со времени падения Римской империи. Но народ, создавший это государство, по своим духовным и материальным средствам, еще не стоит в первом ряду среди других европейских государств. По неблагоприятным историческим условиям его внутренний рост не шел в уровень с его международным положением, даже по временам задерживался этим положением. Мы еще не начинали жить в полную меру своих народных сил, чувствуемых, но еще не вполне развернувшихся, не можем соперничать с другими ни в научной, ни в общественно-политической, ни во многих других областях. Достигнутый уровень народных сил, накопленный запас народных средств — это плоды многовекового труда наших предков, результаты того, что они успели сделать. Нам нужно знать, чего они не успели сделать; их недоимки наши задачи»**. Этот итог является резюме и исторических трудов, и рассуждений С. М. Соловьева, рассеянных в XIII томе «Истории России», и в публичных лекциях, и в популярных ста
* Там же, стр. 193.
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I, стр. 39, 40.
тьях по русской истории. Василий Осипович говорил тут in verba magistri5. Как и Соловьев, Василий Осипович не относился с ученым олимпийством, с холодным безразличием к такому результату русской истории. Русская история не была для него только одною из местных историй, поставщицею материала для сооружения научного здания социологии. У него для русских людей находились не только юмористические или сатирические характеристики, но и теплые слова сочувствия и подчас тихой элегической скорби. «Наш народ,— говорил он на одной из своих лекций,— поставлен был судьбою у восточных ворот Европы, на страже ломившейся в них кочевой хищной Азии. Целые века истощал он свои силы, сдерживая этот напор азиатов, одних отбивал, удобряя широкие донские и волжские степи своими и ихними костями, других через дверь христианской церкви мирно вводил в европейское общество... Так мы очутились в арьергарде Европы, оберегали тыл европейской цивилизации. Но сторожевая служба везде неблагодарна и скоро забывается, особенно когда она исправна: чем бдительнее охрана, тем спокойнее спится охраняемым и тем менее расположены они ценить жертвы своего покоя»*. С такою же душевною скорбью говорил и писал об исторических заслугах русского народа, мало ценимых на Западе, и Сергей Михайлович Соловьев. Душевным теплом, глубоким сочувствием к многострадальному русскому народу проникнуты все творения Соловьева и Ключевского. Это были историки-патриоты в лучшем, благороднейшем смысле слова, любившие свой народ, свое отечество и в то же время умевшие говорить о нем и писать правду.
Не одинакова была манера речи и письма у Соловьева и Ключевского. Соловьев всегда парил над действительностью, над морем фактов и событий, указывая их отображения в мире идей. Тон его речи и письма был какой-то торжественный. Он развертывал перед своими слушателями и читателями русскую историю в виде своего рода философской мистерии. Василий Осипович давал своим слушателям и читателям художественные образы, не отрывавшие их от действительности, но также возвышавшие до идеальных высот. Он развертывал перед ними не мистерии, а реальную жизненную драму, оставлявшую, однако, его слушателей и читателей с теми же чувствами, которые выносятся из художественной мистерии. Не одинаков был склад ума и таланта у Соловьева и Ключевского. Психические различия нередко порождают взаимную холодность и отчуждение
Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. II. М., 1906. Стр. 507, 508.
людей. Ничего подобного не было, насколько мне известно, в отношениях между Соловьевым и Ключевским. Соловьев любовно относился к своему ученику, к его кропотливым разысканиям, к его мастерскому изображению прошлого, видя в этом дальнейшее продолжение и исправление своего труда. Сам возвышенно настроенный, он любил отдыхать от этого напряжения нравственного сознания в проникнутых юмором и сарказмом рассказах своего ученика. Василий Осипович не оставался в долгу у своего учителя и до конца дней своих не переставал поминать его с великим пиететом и признательностью, не переставал ценить то огромное дело, которое было им сделано. Поэтому, думается мне, напрасны и тщетны предпринимаемые иногда усилия отделить духовно Ключевского от Соловьева, перессорить их, так сказать, после смерти. Они останутся близкими по духу, по совместной работе над прошлым русского народа, по любви к этому народу.
Да будет им вечная память и благодарность от всех нас и от последующих за нами поколений!
А. АЛЕКСАНДРОВ (M.C. ОЛЬМИНСКИМ)
В. Ключевский
Теперь нам предстоит рассмотреть взгляды на «государство» проф. В. Ключевского. На них следует остановиться подробнее как в виду особой, заслуженной авторитетности этого историка, так и потому, что он дал наиболее яркую и цельную характеристику политических отношений в России XVII века*.
История, как она излагается В. Ключевским, ушла далеко вперед от истории, излагаемой, например, А. Романовичем-Славатин-ским1. В изложении Ключевского мы видим, как постепенно складывается на востоке Европы, на почве экономических нужд и форм хозяйства, обширное классовое государство Российское. В. Ключевский в своем изложении фактов умеет отделять «государя» от «государства». И пока речь идет собственно о выяснении и изложении фактов, до тех пор можно оставаться только признательным нашему историку за его работу. К сожалению, совсем иначе приходится отнестись к его попыткам дать политическое освещение событий: здесь В. Ключевский разделяет общую судьбу нераскаянных и кающихся дворян: он поддерживает теории, придуманные когда-то крепостниками-помещиками для оправдания крепостного права, и не выдерживающие, по выражению Ю.Ф. Самарина2, самой поверхностной критики.
Проф. В. Ключевский исходит из признания наличности и надклассового «государства», и факта «закрепощения дворян государству».
Благодаря этому он, проф. В. Ключевский, нередко высказывает суждения, не выдерживающие самой поверхностной критики проф. В. Ключевского.
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. М., 1908. В дальнейшем цифры в скобках означают страницы этого тома «Курса».
Проф. В. Ключевский хорошо показывает, как слагалось, росло, изменялось и развивалось государство в силу экономических потребностей, на основе борьбы классов. И рядом с этим у него первенствующую роль играют понятия населения о государстве, религии, нации и т. п. Он может показать, как хозяйственные потребности (ввоза и вывоза) стихийно ведут Россию к сближению с Западом, и в то же время считать, что идейные течения в русской жизни порождены не внутренними потребностями, а «влияниями», в частности западным (335), и что общественная жизнь «направляется» «темной, тяжелой и пустой» государственной деятельностью.
О государстве у В. Ключевского понятия довольно разнообразные. Он говорит, например, что «великорусская ветвь» сомкнулась в государство, и видит дефект московской политической мысли в том, что она принимала государство не как союз народный, управляемый верховной властью, а как государево хозяйство: формы государственные складывались стихийно, понятия отставали (16). По понятию В. Ключевского, необходимыми элементами государства, принимая простейшее его определение, являются верховная власть, народ, закон и общее благо (15). Не станем говорить о том, насколько это определение удачно. Посмотрим, удерживает ли его сам В. Ключевский. Сплошь и рядом у него государственная деятельность отождествляется с правительственной, государственные нужды — с правительственными нуждами, государство — с правительством. Но и на этом дело не останавливается. Мы знаем, что дворяне были «закрепощены государству»; но «под недостойными преемниками и преемницами Преобразователя Престол заколебался и искал опоры в обществе, прежде всего в дворянстве... дворянство эмансипируется, снимает с себя тягчайшую повинность обязательной службы» (13). В XVIII веке «дворянство само пытается править обществом посредством правительства» (16). И вся беда — в недостойных преемниках! «Государство», «закрепощавшее дворян», через посредство понятия правительства, сведено к личности правителя. Обычная история!
Кстати о недостойных преемниках и преемницах Петра. Не знаю, за что, с какой точки зрения и кого именно из них считает В. Ключевский недостойными. Но один признак недостой-ности, по-видимому, ясен: это — слабость Престола, искание опоры в обществе, прежде всего в дворянстве. С этой точки зрения в XVIII веке все преемники и преемницы Петра I были недостойны, кроме Петра III и Павла I, плохо искавших опоры в дворянстве.
Но от В. Ключевского мы знаем, что и все предшественники Петра с 1613 года были слабы, искали опоры в дворянстве и т. д. Остается один Петр I. В. Ключевский, по-видимому, думает, что Петр I не искал опоры в дворянстве; сейчас не станем об этом спорить. Итак, вот правило: при «достойных» правителях дворянство закрепощено государству; а вот исключение: при недостойных — оно правит или пытается править государством через правительство. В течение XVII и XVIII веков «правило» действует при Петре I, исключение — все остальное время;-«травило — при одном царе, исключение — при десяти или более. Удивительное правило! Замечательные исключения! На самом деле, впрочем, и эпоха Петра I была исключением; а «правило» существует только в суждениях историков, свято чтущих крепостнические фикции или фантазии...
В. Ключевский, конечно, знает, что крепостное право на крестьян создалось стихийно, без предварительно задуманного плана, составленного кем бы то ни было; также стихийно была и раздача поместий. Но фикция «государства», закрепостившего будто бы не только крестьян, но и дворян, вынуждает историка поставить вопросы: почему же не были точно определены государством повинности крестьян? как могло правительство «так доверчиво» подчинить частному интересу (при раздаче поместий) труд огромной массы населения, которым «питалось государство»? И В. Ключевский отвечает на первый вопрос: «Это была либо недоглядка, либо малодушная уступка небрежного законодательства интересам дворянства» (227). На второй вопрос: «Здесь недальнозоркое правительство опиралось на наличное положение дел, созданное частью законодательством (чьим?), частью фактическими отношениями (какими?) прежнего времени» (236). Итак, всесильное государство, заскрепостившее все классы, только тем и занимается, что недоглядывает за дворянами, малодушествует, уступает им, оказывается недальнозорким, небрежным и т. д.,— и это всякий раз, когда заходить речь об ограничении власти дворянства над крестьянами. Поистине фантастическое государство! Что же касается вообще не-научности ссылок на недоглядку, малодушие и проч.,— то об этом и говорить излишне.
Рассмотрим теперь отдельно и более подробно, по возможности, все отдельные случаи, когда В. Ключевскому приходится, для объяснения явления, говорить о «государстве», допускать фикцию или, если угодно, гипотезу надклассового государства. Посмотрим: выясняется ли что-нибудь этой гипотезой или же, наоборот, ею создается только лишняя путаница?
Централизация. После смуты, рассказывает В. Ключевский, правительство прежде всего хотело собраться с силами. Оно принялось централизовать управление. Вводятся повсеместно воеводы. Самоуправление областей стесняется, круг его действия суживается. «Централизация местного управления уронила земские учреждения, исказила их первоначальный характер, лишила их самостоятельности, не уменьшив их обязанностей и ответственности. Это была также одна из жертв, принесенных обществом государству (188-195). Упадком местных учреждений и закрепощением сословий «разбит был земский собор, служивший высшим органом участия местных сословных миров в законодательстве. Обе эти основные перемены вытекали из одного источника, из финансовых нужд государства; эти нужды были скрытой пружиной, направлявшей и административные, и социальные меры правительства... и заставившей принести столько жертв насчет общественного благоустройства и народного благосостояния» (274).
Жертвы государству! Жертвы общества, а не дворянства; жертвы на счет народного, а не дворянского благосостояния. Самоуправление посадских и крестьян сводится на нет, власть дворян (в лице воевод) растет. Посадские и крестьяне лишаются последней, минимальной легальной возможности влиять на центральную власть через соборы; центральная власть сосредоточивается в руках дворян. Не описка ли у В. Ключевского? Не хотел ли он сказать «жертвы дворянству», а сказалось случайно: жертвы государству?
Закрепощение дворян. «Повинностью служилых людей, землевладельцев была наследственная служба ратная и соединенная с нею придворная и административная; по степени ее важности и тяжести, соответствовавшей размерам землевладения и породе, служилый класс распадался на чины думные, служилые московские и городовые». (199). «Ратная служба стала наследственной, безысходной сословной повинностью служилых людей. Тогда же определились и специальные их сословные права как землевладельцев... Личное землевладение, вотчинное и поместное, стало теперь сословной привилегией служилого класса, как ратная служба осталась его специальной сословной повинностью». (203) «С установлением крепостной неволи крестьян дворянство, поглощая в себе боярство, стало на деле господствующим классом». Оно предпочло земским соборам непосредственное обращение к царю с коллективными челобитьями, причем «боярско-дворянские кружки, преемственно обседавшие престол слабых царей, облегчали этот путь». Столичное
купечество не было в силах отстоять соборы. «Земское представительство пало вследствие усиления централизации в управлении и государственного закрепощения сословий». (273). «Крепостное право делало самих душевладельцев холопами наличной власти... и врагами всякой власти иного направления» (241). Ровно через пять строк на той же странице читаем: «Землевладельческое дворянство как руководящий класс дало извращенное, уродливое направление всей русской культуре».
Безысходная сословная повинность и господствующий класс; холопы — руководящий класс. Редко случается видеть, чтобы автор так хорошо разбивал самого себя, как разбивает себя В. Ключевский. Желая в этом случав предоставить на долю проф. В. Ключевского всю честь опровержения взглядов проф. В. Ключевского, перехожу к рассмотрению фактов, когда «государство» приходило, по-видимому, в столкновение с землевладельческим дворянством.
Бегство дворян в холопы. Бывали у нас и такие случаи: дворяне бегали в холопы. В 1622 году целая партия елецких помещиков бросила свои вотчины и ушла в казаки; потом эти помещики зачислились к боярам в холопы и в монастыри служками. При царе Михаиле наблюдалось массовое бегство в холопы дворянских братьев, детей, племянников. Указом 1642 года велено было взять таких дворян-холопов из боярских дворов на службу, если они имели поместья или вотчины и были уже зачислены в службу, а впредь запрещалось принимать в холопство всяких дворян и детей боярских (202). На первый взгляд, эти бегства будто подтверждают теории закрепощения дворян государству. Но отчасти у Ключевского же находим и объяснение факта, не нуждающееся в этой теории. Дело в том, что сословия не были резко разграничены; были и переходные ступени. «Между служилыми людьми и холопством кружился слой мелкопоместных или беспоместных детей боярских, которые то отбывали ратную службу со своих или отцовых поместий, то поступали холопами во дворы к боярам и другим служилым людям высших чинов, образуя особый слой боярских служилых людей» (200).
В холопы бежали мелкопоместные и беспоместные дворяне. Этим только подчеркивается классовый, землевладельческий, а не сословный характер государства. Аналогичный факт имеем в позднейшее время: безземельные дворяне и после 1785 года не входили в состав дворянских обществ, не имели голоса на дворянских собраниях. В указе 1642 года интересна и другая сторона: боярам запрещалось принимать к себе в холопы дворян и детей
боярских. Здесь «государство» как будто уже сталкивается с боярством. Но после всего, что мы уже знаем о господствующем руководящем положении землевладельческого класса, гораздо проще и естественнее видеть в этом запрещении, с одной стороны, и его нарушениях, с другой — столкновение между классовой организацией и отдельными представителями класса. Всякая организация налагает те или иные обязанности на своих членов; и внутри классовых организаций всегда находятся люди, готовые преследовать свои личные интересы, не считаясь с интересами классовыми. Тем больше должно было встречаться таких людей среди мало дисциплинированных, по самому своему положению, государей-бояр и государей-дворян. То, что обыкновенно принимают за борьбу «государства» с дворянами, на самом деле представляет собою не что иное, как столкновение центробежных и центростремительных тенденций внутри самого дворянства.
Тяглец и холоп. Как раз случай такого столкновения между частными и общеклассовыми интересами рассказан В. Ключевским на стр. 224. «Закон и помещик,— говорит он,— по-видимому, поддерживали друг друга в погоне за крестьянином. Но согласие было только наружное: обе стороны тянули в разных направлениях: государству нужен был усидчивый тяглец... а помещик искал пахотного холопа». Приходится возразить В. Ключевскому: если и тянули в разные стороны, то все же тянули в одной плоскости эксплуатации крестьянина. Только закон, в некоторых случаях, заботился о доходах общедворянских, а помещик — о своих личных. Тяглец составлял общую собственность класса, холоп — частную собственность отдельного землевладельца. Сманиванию тяглеца в холопы ставились препятствия как покушению на частицу общедворянской собственности.
Из поместья в вотчину. Правительство запрещало переводить крестьян из поместья в вотчину, потому что это «разоряло государственные имущества» (231). С равным правом мы можем сказать: «Потому что разоряло общедворянские имущества».
Помещик и казенный интерес. «Власть помещика встречала законную преграду только при столкновении с казенным интересом». (231). Но казенные интересы охранялись исключительно помещиками же, благополучие казны было благополучием помещиков, и государственная казна была, следовательно, помещичьей казной. Столкновение между казенным и помещичьим интересом опять-таки было не чем иным, как столкновением между частным интересом одного помещика и интересом общепомещичьим.
Организация была сильнее отдельной личности, и потому власть помещика встречала «законную преграду».
Обложение крепостных крестьян. Мы видели, почему общедворянская организация препятствовала произвольным переводам тяглецов в холопы. Но и крепостные крестьяне не были освобождены от тягла. Помещик должен был отвечать за податную исправность своих крестьян. «Это делало землевладельца даровым инспектором крепостного труда и ответственным сборщиком казенных податей со своих крестьян... Частное землевладение стало рассеянной по всему государству полицейско-финансовой агентурой государственного казначейства, из его соперника превратилось в его сотрудника» (237-238). Соперниками они не могли быть, как мы только что видели. Но и идиллии «сотрудничества» не могло наступить: ведь повинности крестьян помещику не были ограничены; что давал крестьянин в казну, того не додавал помещику. Фактически, следовательно, был обложен помещик по числу своих крестьян. И конечно, он не всегда охотно «сотрудничал». При первой возможности помещики должны были принять меры к ограничению своих взносов в общепомещичью казну. Это и случилось. В 1679 году, например, полоняничные и ямские деньги были слиты в одну подать, причем по ее распределении дворцовые и владельческие крестьяне подверглись обложению в 8-16 раз меньшему, по сравнению с обложением посадского населения и черных (не крепостных) крестьян. Проф. В. Ключевский с наивной грустью замечает: «Из этого видно, какой громадный источник дохода уступила казна в безотчетное пользование владельцев крепостных крестьян. Так и финансовая политика следовала общему плану сословной розни» (296-297). Почтенный профессор не замечает того, что тут не какая-то наддворянская казна уступила дворянам, а дворяне «уступили» самим себе, так как они были, по его же признанию, господствующим и руководящим классом; не замечает вследствие того, что видит рознь и не хочет видеть содержания этой розни — господства одного класса над другими.
Запрещение закладничества. Закладничество несколько отличалось от холопства. В XVII веке оно стало быстро расти, причем закладчики не платили государственных повинностей. Закладничество было выгодно отдельным боярам, но наносило ущерб общедворянской казне. Понятно, что дворянская государственная власть выступила против закладничества, которое «для многих бедных людей... было выходом из тяжелого хозяйственного положения... да и государство, воспрещая лицу частную зависимость, не оберегало в нем
человека или гражданина, а берегло для себя своего солдата или плательщика» (184-185). И здесь для объяснения действий правительства (государства, по выражению В. Ключевского) нет никакой надобности в фикции внеклассового государства. Закладничество — явление того же порядка, что и холопство, о котором говорено выше.
Западное влияние. Его источник — недовольство своей жизнью, затруднительное положение, «в котором очутилось московское правительство новой династии и которое отозвалось с большей или меньшей тягостью во всем обществе, во всех его классах. Затруднение состояло в невозможности справиться с насущными потребностями государства при наличных домашних средствах, какие давал существующий порядок, т. е. в сознании необходимости новой перестройки этого порядка, которая дала бы не достававшие государству средства... Западное влияние проводилось государством (правительством?) и призвано было первоначально для удовлетворения его материальных потребностей» (331 и 334). «Это влияние, насколько оно воспринималось и проводилось правительством, развивалось довольно последовательно, постепенно расширяя поле своего действия... Правительство стало обращаться к иноземцам за содействием прежде всего для удовлетворения наиболее насущных материальных своих потребностей, касавшихся обороны страны, военного дела, в чем особенно больно чувствовалась отсталость»(339).
К этим рассуждениям нужны маленькие поправки. Правительство, говорит Ключевский, было в затруднительном положении, и это отозвалось на всех классах. Обыкновенно, как известно, бывает наоборот: затруднительное положение всех классов отзывается на правительстве. Мы знаем, что торговые сношения с Западом начались раньше XVII века,— и естественно, что они росли. Сближение с Западом диктовалось не только потребностями правительства, но и интересами частного хозяйства,— и прежде всего крупного землевладельческого. Интерес правительства развивался не обособленно от частных интересов господствующего класса, а параллельно с ними. У правительства на первом плане был интерес военный,— но ведь это же был и самый насущный, самый непосредственный интерес дворянства. Как сословие ратное, оно в первую голову страдало от военных поражений. Затем важнейшим интересом дворян было облегчить себя в деле самозащиты («ратной службы»), а для этого нужна была и техника, и кассовая наличность на наем иностранцев или на набор солдат внутри страны. Интерес правительства или, как иногда выражается
В. Ключевский,— «государства» был совершенно тождествен с интересом дворянства. В вопросе о западном влиянии, как и в других вопросах, нет ни малейшей надобности прибегать к гипотезе надклассового государства.
Внешняя политика. Внешней политикой В. Ключевский мало занимается, но зато приписывает ей,— собственно внешним войнам,— очень большое влияние на внутреннее развитие России. Довольно указать, что тягостям войн с Польшей и Швецией он приписывает то обстоятельство, что в XVII веке «прежние дробные экономические состояния, чины, еще сохранявшие признаки свободы труда и передвижения, в интересах казны и службы были сбиты в крупные сословия, а большая часть сельского населения попала в крепостную неволю» (12). Притом войны не были только оборонительными: «старая московская династия действовала наступательно» (113). В XVII веке войны «сами собою, незаметно, помимо воли московских политиков, превратились в наступательные, в прямое продолжение объединительной политики прежней династии» (115). «С Полтавы они получают наступательный характер» (12). Войну ведет государство с государством; из характеристики причин и следствий войны мы должны бы получить наиболее ясное представление о том, что же такое, наконец, надклассовое государство, закрепощающее все сословия. Мы и получили его: государство — это династия. После столь научного определения мы должны ожидать не менее научных определений причин и целей различных войн. Мы их и получаем от В. Ключевского. Причины, конечно, воля династии. А цели — восстановление «политического и национального единства всей русской земли» (11), «завершение политического объединения русской народности», «расширение государственной территории до пределов русской равнины» (114) и, наконец, «укрепление завоеванного Петром преобладания России в Восточной Европе» или «поддержание европейского равновесия, как элегантно выражались русские дипломаты» (12). В. Ключевский, по-видимому, и не подозревает, что такие цели, как национальное единство, завершение объединения народности или расширение до пределов равнины представляют собою не цели, а только «элегантные выражения» дипломатов и историков. Он забывает о таких менее элегантных целях, как желание дворян увеличить свои земельные владения «пожалованиями» в новоза-воеванных областях, или потребность в лучших, чем Архангельску гаванях для сбыта продуктов землевладельческого хозяйства и для приобретения изделий европейской промышленности. Трудно
было бы даже нарочно, доводя идею до абсурда, придумать такую форму полнейшего банкротства теории надклассового государства, какую придумал сам В. Ключевский, сводя государство к династии и приписывая такие фантастические внешние цели своему фантастическому государству.
Мы рассмотрели, мне кажется, все без исключения случаи, когда В. Ключевскому понадобилось, как он думает, прибегнуть к идее государства, противостоящего всем классам. Мы видели, что гипотеза такого государства решительно ничего не выясняет, а только запутывает вопросы. Мы знаем, как благодаря этой гипотезе В. Ключевскому приходится прибегать к таким ненаучным объяснениям социальных явлений, как ссылки на недоглядку, небрежность, малодушие, уступчивость, доверчивость или недаль-нозоркость правительства. К чему же нужна подобная гипотеза?
Мы знаем, к чему она нужна была крепостникам первой половины XIX века. Теперь же единственный резон ее существования — столетнее родословное древо. Кому угодно запутывать и затемнять историческое факты, тот может еще с сомнительным успехом прибегать под сень этого славного древа, которое кровно связано с идеологией крепостного права.
Д.А. КОРСАКОВ
По поводу двух монографий В.О. Ключевского
Скончавшийся 12-го мая сего года Василий Осипович Ключевский занимает, бесспорно, весьма видное положение между современными нам историками России. Это положение определяется, во-первых, тем, что он обобщил, синтезировал исторические явления русской не только политической, но и общественной, жизни, в самом широком понимании этого термина; во-вторых, тем, что он обосновал эти явления главным образом факторами хозяйственно-экономическими, которые до него хотя и подмечались некоторыми исследователями русской истории, но в большинстве случаев составляли, если можно так выразиться, специальную привилегию историков-юристов и не получили полного права гражданства при рассмотрении общего исторического развития русского народа; в-третьих, тем, что он необыкновенно талантливо излагал и в печати, и с кафедры свои воззрения; Ключевский был не только художником слова, но художником мысли; в-четвертых, наконец, тем, что он создал целую школу историков России, воспринявших и развивших далее его общественные, хозяйственно-экономические обоснования. В наши дни эти обоснования получают все более и более прав гражданства в общих построениях, а потому весьма понятно, что в появляющихся в периодической печати заметках и воспоминаниях о Ключевском он рисуется одним из самых ярких представителей в наше время научной истории России. Но современное положение каждой науки, а следовательно, и русской истории, есть логический результат прошлого, длинного ряда ее развития, а потому для всесторонней оценки научного значения Ключевского необходимо выяснить, во-первых, в какой мере его ученые воззрения обусловливаются «умоначертани-ем» — употребляю удачное выражение историка и публициста второй половины XVIII века, князя М.М. Щербатова1,— того времени, когда
учился, потом сам учил и печатался Ключевский. Это необходимо потому, что общественная мысль современности неизбежно влияет, особенно у нас в России, на постановку и образование научных исторических проблем; во-вторых, в какой степени воззрения и приемы научного исследования Ключевского находятся в зависимости от воззрений и приемов научного исследования, по крайней мере, ближайших его предшественников в области русской историографии.
Будучи далек от мысли представить полный критический разбор всех исторических трудов В. О. Ключевского в их научной эволюции, на что потребовалось бы более продолжительное время, чем то, которым я могу теперь располагать, я ограничусь некоторыми заметками по выставленным выше задачам и остановлюсь лишь на двух печатных трудах Ключевского, вышедших отдельными изданиями в одиннадцать лет его ученой деятельности, с 1871 по 1882 г., а именно: 1) на «Древнерусских житиях святых как историческом источнике»; 2) на «Боярской думе древней Руси».
I
Ключевский поступил в Московский университет из Пензенской духовной семинарии в 1861 году и окончил университетский курс в 1865 году. Но еще в пензенской семинарии, без сомнения, он, наряду с воспитанниками других русских духовных учебных заведений, не мог не подпасть влиянию того возбуждения русской общественной мысли, которое особенно обнаруживалось во второй половине пятидесятых годов XIX века, после крымского погрома. Я хорошо помню это время и как очевидец могу засвидетельствовать тот идейно-общественный подъем, который проявился с исхода 1865 года среди студентов Казанской духовной академии и среди учеников Казанской же духовной семинарии. Вслед за Парижским миром, прекратившим в 1856 году Крымскую войну, передовые люди из тогдашних образованных классов стали громко говорить о необходимости уничтожения крепостного права; император Александр II публично заявил, что лучше, если освобождение крестьян пойдет сверху, а не снизу; вся пресса исхода пятидесятых годов стала разрабатывать общественные явления, непосредственно связанные с освобождением крестьян. Эти явления, по их природе, касались, прежде всего, области хозяйственно-экономической, потому что после освобождения крестьян от крепостной зависимости и с заменой подневольного труда вольнонаемным хозяйство, как помещичье, так и крестьянское, должно было неизбежно измениться. Журналы
западнического направления — «Русский вестник» Каткова, «Современник» Некрасова и Чернышевского, «Отечественные записки» Краевского, «Атеней» Корша, славянофильская «Русская беседа» и «Сельское благоустройство» и зарубежный герценовский «Колокол»2 с разных точек зрения освещали как вопросы о крепостном праве и об улучшении быта крестьян, так и тесно связанные с ними бытовые и хозяйственно-экономические основы двух общественных классов — дворянства и крестьянства в их современном положении и историческом развитии. Начали появляться и научные исследования по истории крестьянства и дворянства. В 1861 году . освобождение крестьян стало свершившимся фактом, и русская общественная мысль, исходя из уничтожения крепостного права, стремительно двинулась вперед по пути скорейшего освобождения России от целого ряда «дореформенных» общественных устоев, а правительство готовило дальнейшие реформы гражданской жизни. Общественное значение дворянства при новых условиях быта и положение других общественных классов — крестьян, горожан, духовенства, черного и белого, новая организация управления и суда — вот те вопросы, которые преимущественно исследуются в то время в публицистике и русской исторической науке.
В этих-то общественных течениях второй половины пятидесятых годов и первой половины шестидесятых годов XIX века, мне кажется, следует искать первый стимул возбуждения в Ключевском интереса к историческому изучению хозяйственно-экономических основ русской общественности в ее классовых, сословных группах. Вторым стимулом для его исторических изучений в этом направлении явилось влияние русской исторической науки в том ее состоянии, какое выражалось в Московском университете шестидесятых годов XIX века.
За 1861-1865 года в Московском университете наука стояла высоко. На историко-филологическом факультете этого университета были столь выдающиеся профессора, как С.М. Соловьев, С. В. Ешевский3, Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов4, О. М. Бодянский5, П.М. Леонтьев. Из числа этих профессоров Соловьев был в то время главой школы, в русской историографии известной под именем школы родового быта, или историко-юридической. На юридическом факультете пользовались большим научным влиянием на аудиторию Б. Н. Чичерин, крайний западник из ученых школы родового быта, и ученые противоположного ему славянофильского направления В. И. Лешков6 и И. Д. Беляев.
Преподавание Соловьева оказало на Ключевского всего более влияния. Вот как он характеризует ученые и преподавательские
достоинства Соловьева в речи, произнесенной им в 1895 году в историческом обществе при московском университете (основатель Герье), в шестнадцатую годовщину кончины Соловьева. «Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувство, ни на воображение,— говорит он,— но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Вслушиваясь в это, как бы сказать, говорящее размышление, мы старались ухватиться за нить развиваемых перед нами мыслей и не замечали слов» *.
Но кроме Соловьева в то время пользовался большим научным авторитетом в области русской истории другой ученый, в шестидесятых годах XIX века уже не занимавший кафедру в Московском университете. То был К. Д. Кавелин, являющийся рядом с Соловьевым основателем школы «родового быта». В 1859 году вышло в Москве первое издание его сочинений, и воззрения Кавелина, высказанные им в половине и в исходе сороковых годов, ожили и оказали снова влияние и на учащуюся молодежь, и на ученых в области русской истории. Эта-то школа родового быта послужила исходным пунктом для последующих исторических воззрений Ключевского; но кроме нее в его исторических воззрениях мы можем подметить и влияние противоположного ей по воззрениям учения славянофилов. А потому припомним, хотя в общих чертах, основные положения ученых этих двух направлений.
II
Школа родового быта возникла в русской историографии в первой половине сороковых годов XIX века. Основателями ее были два профессора Московского университета, К. Д. Кавелин и С. М. Соловьев. Их историческая теория, или, лучше сказать, гипотеза, в самых общих чертах заключается в следующем: первоначальный общественный быт русских славян был патриархальный, основанный на кровном родстве, выражавшемся в семьях, которые с течением времени, путем нарождения, разрослись в род. Эти семейные и родовые отношения более всего возможно изучать по семейным и родовым отношениям князей, так как в них повторяется тот же процесс, какой происходил и в остальных славяно-русских семьях, но эти семьи не выступают перед историком в большинстве доступных ему письменных источ
* Издания исторического общества при Императорском Московском университете. Рефераты, читанные в 1896 г. (Год I). М., 1896, стр. 187-188.
ников, скрываясь, так сказать, во мраке ненавистности, между тем как о княжеских семьях и родовых отношениях подробно повествуют летописцы, постепенное изменение, эволюция русской общественности из быта родового в государственный становится содержанием внутренней русской истории. По воззрениям Кавелина, дальнейшим развитием общественности у русских славян, когда узы кровного родства начинают забываться, возникают отношения гражданско-юридические, которые, в свою очередь, при большем развитии общественности, сменяются государственными, политическими. Кавелин особенно останавливается на второй фазе этого общественного развития и указывает, что основой гражданского юридического общежития является начало вотчинное, т. е. наследственная земельная собственность князей, и это начало устанавливается преимущественно на северо-востоке, в верхнем Поволжье в ХП-ХШ веках. Соловьев несколько иначе объясняет этот же переход. Он для такого перехода выставляет гипотезу о старых и новых городах. Последние, построенные в среднем Поволжье тамошними князьями, главным образом в XII веке, были заселены, колонизированы сбродным населением, всем обязанным этим князьям, вследствие чего укрепляется и вырастает единоличная власть князя и являются в России впервые уделы в смысле особых наследственных княжеских владений. Затем оба историка сходятся в том, что Московское государство было национальным выражением русской государственности и, сопоставляя ход общественного развития России с развитием западноевропейским, усматривают коренное различие в том и другом. Соловьев рельефно и доказательно формулирует наше различие от Западной Европы. Он видит это различие прежде всего в природных, географических и климатических условиях между двумя половинами Европы — Восточной, Россией, и Западной. Первая половина — равнина, переходящая на юго-востоке в степь, лишенная удобных морей и придвинутая своим географическим положением к чужеродцам племен финского, тюркского и монгольского. Западная Европа — страна гор и морей, в своих позднейших насельниках унаследовавшая греко-римскую культуру. Славяно-руссы, постепенно двигаясь с запада на восток, заселили, колонизировали северо-восточную равнину, постоянно разбрасывая свои поселки среди некультурных финских племен и полукультурных тюрков и с азиатской культурой монголов. Славяно-руссы в своей колонизации двигались, главным образом, по рекам, которые орошали северо-восточную часть Европы, более обильно, чем мы это встречаем в Европе Западной. Эти реки с своими притоками образовали несколько речных бассейнов, в территории которых и начали возникать
отдельные княжения, а так как Московское княжество выросло среди притоков Оки, впадающей в Волгу, то вследствие такого географического положения московским князьям и населению было очень удобно проникнуть на эту величайшую водную артерию земли русской. Волжский бассейн занимает главнейшую преобладающую часть территории северо-восточной Европы — вот причина, почему Московское государство могло так быстро расшириться и сплотиться.
И Кавелин, и Соловьев исходили в своих воззрениях на семейнородовой быт восточных славян из воззрений дерптского профессора Густава Эверса (t 1830 г.)7, впервые высказавшего эти воззрения, но доводившего их лишь до эпохи «Русской Правды». После Кавелина и Соловьева их ученики и последователи прилагали их воззрения к разным сторонам истории русской общественности и быта. Калачов8 и Дмитриев9 — к отношениям юридическим, Чичерин и Плат. Вас. Павлов10 — к общественно-государственным, Забелин — к бытовым, Афанасьев — к славяно-русской мифологии, причем Дмитриев и Чичерин явились крайними представителями учения о господстве частного права в распорядках московской государственности. Первый приложил его к московскому судоустройству и судопроизводству, второй — к развитию русской, или, правильнее, московской государственности, особенно подробно разработав вотчинную теорию Кавелина. Все названные ученые вместе с основателями учения о родовом быте и составили школу в русской историографии, впервые представившую эволюцию общественных, юридических и политических форм в исторической жизни русского народа. Это был первый научный успех в разработке внутренней русской истории после воззрений Карамзина, который обосновал все движение русской истории исключительно на личностях русских великих князей и царей, и после кропотливых, но отрывочных исследований норманистов, с Погодиным во главе, и скептической школы Каченовского. При распространении воззрений школы родового быта среди русской публики эта школа получила наименование школы органической, ибо она считала русский народ, как вообще всякий народ, общественным организмом и рассматривала органическое развитие во времени русской общественности.
Ни Кавелин, ни Соловьев в своих общих историко-общественных построениях не употребляют прямо терминов «экономические основы» и «экономические явления» в русской исторической жизни, но теория Кавелина о вотчинном начале и географические условия Восточной Европы с ее колонизацией славяно-руссов уже заключают в себе те явления в общественной народной жизни, которые принято
называть экономическими. Вотчина как наследственное землевладение уже не может быть понята без хозяйственной деятельности.
Представителями славянофильского учения на юридическом факультете Московского университета были, как замечено выше, профессора И.Д. Беляев и И. В. Лешков. Первый из них, стоявший, кроме того, в течение долгих лет во главе ученого издания «Временник» Московского общества истории и древностей российских, исследовавший, главным образом, юридические и экономические основы Древней Руси и преимущественно Московского государства. В своих исследованиях обращает он особое внимание на землевладение в Московском государстве на развитие крепостного права и на связь этих двух элементов с значением московского боярства, служилого дворянства и крестьянства. В «Рассказах из русской истории», в особенности в «Истории Новгорода, Пскова и Полоцка», Беляев излагает историю общества этих русских земель, историю отдельных общественных классов, причем обосновывает их политическое и общественное (земское) значение началами хозяйственно-экономическими и промышленно-торговыми. Немало уделяет он также места (в изданных лекциях по истории русского законодательства и в отдельных монографиях) истории общества и земли (разных классов населения русских областей и Московского государства — земщин) и отношениям земщины к государству в разные периоды русской исторической жизни и истории земских и государственных учреждений, главным образом вечу и земским соборам. Лешков в своей книге «Русский народ и государство» анализирует также русскую общественность, основанную на началах экономических, главным образом за время «Русской Правды».
Оба названные учение развивали в своих трудах учение К. С. Аксакова, который один из первых славянофилов приложил их воззрения к русской истории, но Беляев и Лешков более реально, практичнее взглянули на явления русской общественности, отрешившись от преувеличенной идеализации Аксаковым древнего, допетровского нашего общественного быта.
III
До 1880 года Ключевский был известен только специалистам по русской истории и студентам и ученым Московской духовной академии, где он занимал кафедру русской истории. В этот начальный период своей учено-литературной деятельности В. О. Ключевский написал и напечатал немало. Начиная с его студенческой работы
«Сказания иностранцев о Московском государстве», впервые появившейся в «Московских университетских известиях» 1866 1867 годов, мы имеем за этот период его учено-литературной деятельности семнадцать работ, в которых уже намечаются главнейшие темы последующих его изучений в области русской истории. Характерной чертой в большинстве этих первоначальных работ Ключевского должен быть отмечен тот интерес, который молодой ученый выражает к хозяйственно-экономической деятельности русских монастырей, к имущественному и правовому положению русской церковной иерархии и к житиям русских святых как одному из источников по истории славяно-русской колонизации, которая является весьма существенным экономическим фактором в исторической жизни русского народа. Экономическое и правовое положение русских монастырей, главным образом северных и северо-восточных, и русской церковной иерархии служит ему исходным пунктом для изучения других общественных классов русского народа. Он начинает это изучение с класса боярского как наиболее влиятельного, после церкви, общественного класса в Древней Руси.
Вслед за упомянутым выше студенческим сочинением Ключевский изучает хозяйственную деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае (напечатано в «Московских университетских известиях» 1867 г.), для чего он приезжает в Казань работать в соловецкой библиотеке, находящейся с 1854 года в Казанской духовной академии и столь богатой житиями русских северных святых*, а в 1871 году выходит в свет основной труд Ключевского за этот первоначальный период ученой его деятельности, его магистерская диссертация «Древнерусские жития святых как исторический источник». Эта монография служит, прежде всего, наглядным доказательством, как Ключевский предварительно внимательно изучал для своих ученых работ исторические источники. В последующих своих трудах он пускал в печать лишь выводы из этих предварительных изучений. С другой стороны, эта же монография приводит к заключению, что Ключевский не был чужд историко-литературным и историографическим запросам.
В предисловии к этому труду автор заявляет, что он обратился к древнерусским житиям как самому обильному и свежему источнику для изучения одного факта древней русской истории: участию монастырей в колонизации северо-восточной Руси. Таким
* См. Список ученых трудов В.О. Ключевского в «Сборнике статей», ему посвященных. М., 1909, стр. I—VII, № № 1-17.
образом, то действительно своеобразное и присущее только русской истории явление — колонизация славяно-руссами всей северо-восточной европейской равнины, а в особенности ее северо-востока, явление, которое по справедливости положил Василий Осипович впоследствии в основу своих университетских чтений, занимало его издавна и создалось непосредственно под влиянием Соловьева. Но помимо этого влияния в книге Ключевского о житиях русских святых легко подметить влияние и других профессоров Московского университета, слушателем которых он был и которые упомянуты мною выше. С. В. Ешевский читал в Московском университете за время студенчества Ключевского всеобщую историю; но до профессорства в Москве, а именно в 1856-1858 годах, он занимал в Казанском университете кафедру русской истории и впервые обратил внимание на жития северно-русских святых подвижников, хранящиеся в соловецкой библиотеке как на богатый источник для истории колонизации северо-восточной России. На них указал Ешевский даровитому казанскому историку А. П. Щапову, только что окончившему курс в Казанской духовной академии и бывшему в то время скромным бакалавром русской истории в этой академии. Ешевский, по всей вероятности, и направил Ключевского в Казань.
Вторым ученым, очевидно, побудившим Ключевского заняться изучением житий русских святых, был Ф. И. Буслаев, столь много сделавший для выяснения этого любопытного и важного памятника древней русской письменности как источника для бытовой и культурной истории Древней Руси. Буслаев по справедливости может быть почтен талантливым комментатором житий, напечатанных под редакцией Щапова в периодическом органе Казанской духовной академии «Православный собеседник» (1858-1859 гг.), двух Авраамиев: смоленского и ростовского, Антония Римлянина (новгородского) и Леонтия и Исаии ростовских.
Третьим ученым, повлиявшим на работу Ключевского, был не менее Ф. И. Буслаева известный исследователь истории русской литературы Н. С. Тихонравов, также очень много сделавший по изучению русских житий святых.
Рукописями житий русских святых, принадлежавшими Буслаеву и Тихонравову, в обилии пользовался для своего труда В.О. Ключевский, о чем он и заявляет печатно в предисловии к своей книге.
В. О. Ключевский, при изучении громадной массы рукописных житий русских святых, пришел к следующим выводам о значении их в качестве исторического источника: во-первых, этот источник представился ему далеко не столь свежим и обильным, как об нем
думали в то время; во-вторых, по его справедливому мнению, жития русских святых, не отличаясь богатым историческим содержанием, не дают возможности воспользоваться ими без особого предварительного изучения их в полном объеме. Эту-то последнюю работу и исполнил Ключевский, ограничившись, впрочем, житиями северо-восточной Руси и не коснувшись южных.
Книга Ключевского о житиях русских святых представляет собою в высшей степени интересное, вполне научное историко-критическое обозрение житий более ста шестидесяти святых, составленных начиная с XIII века по XVIII век включительно, и не одних только основателей монастырей и духовных иерархов и иноков, но и многих князей и лиц других общественных классов. Таким образом, сущность содержания книги охватывает собою поле более широкое, чем предполагал почтенный автор при начале своих занятий на эту тему. Книга Ключевского доказывает прежде всего глубину историко-критического анализа автора и громадную предварительную подготовку его не только в избранной им теме, но и вообще в древнерусской письменности и литературе. Расчленение житий на их составные части, их историко-литературные наслоения, многочисленные их редакции, или «изводы», точное разграничение в житиях данных исторических от легендарных, определение значения самых известных русских агиографов — митрополита Киприана, Епифания, Пахомия Логофета и их русских подражателей, затем московского митрополита Макария (XVI в.) и позднейших составителей Четий-Миней и отдельных житий — вот те несомненные ученые достоинства, которые ставят книгу Ключевского по отношению к житиям русских святых в уровень с почтенными историко-критическими исследованиями русских ученых XIX века о русских летописях, труд его доселе должен составлять настольную справочную книгу для каждого специалиста по изучению житий русских святых. Нельзя только согласиться с Ключевским об относительной бедности житий русских святых как исторического источника.
IV
С исхода декабря 1879 года открывается второй период ученолитературной и преподавательской деятельности В. О. Ключевского. 4-го октября 1879 года скончался С. М. Соловьев, а 5-го декабря этого года его кафедру в Московском университете занял Ключевский. В этот-то период и создается его известность как среди учащейся университетской молодежи, так и в широких слоях русской
публики. Известность эта начинается вторым крупным ученым трудом Ключевского: «Боярской думой древней Руси». Этот труд первоначально появляется в «Русской мысли» 1880-1881 годов, а затем в 1881 году в виде отдельного оттиска из этого журнала. Но Ключевский, очевидно, недоволен этой первоначальной редакцией своего труда и в 1882 году печатает переработанный его текст, который и защищает с большим успехом в Московском университете на степень доктора русской истории. Начиная этим годом, в течение семнадцати лет (до 1900 г. включительно) вышло в свет четыре издания «Боярской думы». Уже одно это обстоятельство, помимо действительно научной ценности «Боярской думы», заставляет внимательно отнестись к этой монографии. Оно, несомненно, доказывает, что эта книга возбудила большой интерес среди читателей. Но еще более значения приобретают эти многочисленные издания, если мы, путем их сличения, увидим, как Ключевский неустанно трудился в течение долгих лет над переработкой своей книги, которую он в «первоначальном» издании скромно называет «опытом истории правительственного учреждения в связи с историей общества».
«Первоначальное» издание, начинаясь с обзора боярской думы в X веке на юге Руси, заканчивается общей характеристикой московской боярской думы в исходе XVII века и заключает в себе двадцать одну главу; издание 1882 года доводит обзор думы до времени Петра Великого, когда боярская дума должна была уступить место созданному им сенату, и состоит уже из двадцати шести глав, причем самое распределение их гораздо систематичнее, а обработка полнее и глубже: в этом издании югу России отведено сравнительно менее места, а Московская Русь — расширена. Но еще более успеха в разработке материала представляет издание 1902 года. Число глав в нем то же, что в издании 1882 года, но многое, в особенности относительно Галицко-Волынского княжества и Новгорода, переработано на основании обнародованных в восьмидесятых и девятидесятых годах источников и исследований. В. О. Ключевский считает сам свой труд лишь «опытом», а не окончательным решением вопроса о столь сложном общественном элементе, каковым является в Древней Руси боярство и его «дума» с русским князем и затем «царем московским и всея Руси». В издании 1902 года В. О. Ключевский еще сдержаннее, так сказать, скромнее, отзывается о своем труде: «В среде учреждения,— говорит он в начале введения,— история которого послужила предметом предлагаемого опыта, изучающий встречает много неясного, много неразрешимых пока вопросов; но и в том, что доступно изучению, в чем можно отдать полный исторический отчет,
остается много любопытного, возбуждающего живейший научный интерес. Этим, с одной стороны, объясняются недостатки предлагаемого исследования, с другой — оправдывается решимость автора предпринять его, невзирая на встречаемые исследователем затруднения». На «Боярской думе», как в постановке вопроса, так и в его разработке, всего более отразилось влияние ученых школы родового быта и славянофила И. Д. Беляева.
В введении к изданию «Русской мысли» В.О. Ключевский заявляет, что историки русского права, главным образом государственного, изучали очень основательно историю наших древних учреждений, в особенности административные учреждения Московского государства; но вследствие такого изучения получилось не полное освещение картины древнерусского управления, только со стороны технической. «Механизм правительственных учреждений, вместе с главным управителем машины,— продолжает далее Ключевский,— были любимыми темами изысканий в области нашей политической истории: понятия и нравы, характер, домашняя обстановка и далее генеалогия этого управителя подвергались тщательному разбору; машина, которой он правил, описывалась и в вертикальном, и в горизонтальном разрезе; изображались и ее действия, особенно неправильные, причем административные недостатки и злоупотребления XVI и XVII веков особенно поражали наших исследователей...» (стр. 2).
В таком техническом, так сказать, направлении изучений историков русского права Ключевский видит важные научные неудобства, потому что не затрагивается тот социальный, т. е. общественный материал, те общественные классы, из которых создавались, или, правильнее, которые создавали учреждения, потому что, говорит он, «в истории политических учреждений строительный материал часто важнее самого строя». В числе наименее обследованных учреждений Древней Руси Ключевский считает боярскую думу.
Изложенные заявления В.О. Ключевского не совсем точны. Из приведенных выше замечаний можно усмотреть, что предшественники Василия Осиповича — ученые школы родового быта, а также и славянофилы — обращали большое внимание на материал, т. е. общественные классы, из которых образовывались древнерусские учреждения. Семейно-родовой быт Кавелина и Соловьева уже носит в себе зачатки изучения этого общественного материала. Вотчинная теория первого как переход от семейно-родового быта к государственному, теория, в особенности развитая Чичериным, и «родовые междукняжеские отношения» Соловьева — разве это не ученая постановка изучения общественных классов? Разве князья
в Древней Руси, как на юге и юго-западе, так и на севере и северо-востоке, не составляли особого общественного класса? А представители славянофильского учения, в особенности Беляев, как замечено было выше, обращали большое внимание на общественный материал, из которого созидались государственные учреждения на Руси. Что касается специально боярской думы, то заметим, что незадолго до В. О. Ключевского изучением этого учреждения был занят в то время молодой профессор истории русского права в Казанском университете Н. П. Загоскин, издавший в Казани в 1879 году свою книгу о боярской думе. Очень может быть, что Ключевскому, когда он писал введение к своей монографии в 1880 году, не была известна эта специальная монография провинциального ученого.
«Боярская дума древней Руси» является широкою кистью написанной картиной из истории боярства, главным образом северо-восточной Московской Руси, касаясь остальных древнерусских областей далеко не столь подробно. Южная Русь, в особенности Киев — служат как бы введением в историю боярства Московской Руси. Боярские классы Новгорода и Пскова, а также и княжеств Ростовского, Тверского и Рязанского обследованы не вполне. Все значение боярского класса, всю его многовековую эволюцию, с X по XII век включительно, Ключевский обосновывает экономическими началами', на юге, в Новгороде и Пскове — торговыми, а в северо-восточной Руси, в верхнем Поволжье и затем во всем Московском государстве — хозяйственно-землевладельческими. Остановимся подробнее на ученых аргументациях В.О. Ключевского. Юг России, среднее Поднепровье с его притоками, издавна заселился — колонизировался славянами, двинувшимися туда с Карпатской горной возвышенности; эта колонизация произвела весьма важный экономический переворот в жизни русского юга, вызвав в пришлом славянском населении оживленную хозяйственную деятельность, и затем изменила направление этой деятельности, указав ей новые пути и промыслы — торговлю. Развитая богато внешняя торговля южной Руси еще задолго до X века повела к образованию там крупных торгово-промышленных центров-городов, которые, при необходимости постоянной защиты от набега тюркских племен, естественно делались военными, защитными пунктами, поэтому южный князь являлся, прежде всего, военным сторожем и должен был «думать думу» с градскими старцами, представителями городского торгово-военного населения; рядом с ними он постоянно совещался с своими дружинниками-воинами (старшая дружина — бояре).
Градские старцы сначала сливались с дружиной, а затем дружина пересилила их.
На северо-востоке, в плоскогорье истоков Днепра, Западной Двины, Волги и южных притоков озера Ильменя, мы встречаем иную картину. Там отхлынувшее с юга славянское население, начиная с XIII века, вынуждено было заняться земледелием, вследствие чего вся славяно-русская колонизация этой местности и дальнейшее ее распространение на восток приняли характер земледельческий. Южный князь — военный сторож и подвижной вотчич всей земли русской — становится на севере (правильнее на северо-востоке) сельским хозяином, вотчинником своего удела. Здесь село, деревня преобладают над городом. Вместе с князем преобразуется в этом же направлении и его дружина, его боярство, а следовательно, и его управление, которое составляет довольно точную копию устройства древнерусской боярской вотчины. Во главе этого управления становится боярская дума, являющаяся при северо-восточном князе удельного времени советом главных дворцовых приказчиков по особо важным делам, а затем в XV веке преобразуется в дворцовый совет по недворцовым делам.
Такова в общих чертах схема первых семи глав «Боярской думы» по изданию 1882 года. VIII глава посвящена общественному строю Новгорода и Пскова, причем высказывается попытка представить новгородский совет господ также боярской думой, но не при князе, а при вече.
Все дальнейшие главы книги (IX-XXVI), т.е. восемнадцать глав, посвящены изложению распорядка московской боярской думы за XVI и XVII века, ее правительственных и политических функций за это время и изменений в составе боярского класса за эти два столетия. В таком отношении к Московскому государству опять-таки нельзя не видеть продолжателя воззрений С.М. Соловьева. Ключевский внимательно следит за этими изменениями, останавливаясь главным образом на различии боярства XVI века от боярства XVII века. Первое характеризуется наплывом, начиная с XV века, в немногочисленное «изстаринное» московское удельное боярство удельных князей северо-восточной и Западной Руси — Рюриковичей и Гедиминовичей, «княжья», по выражению современников. Это «княжье» внесло в Московское государство свои удельные притязания и проявило стремление на участие в правлении Московским государством, которые выразились в боярской публицистической литературе XVI века; но это участие основывалось не на каком-нибудь писаном акте, а на обычае, на традиции
(отсюда местничество). Боярство начала XVII века при прекращении на московском царском престоле династии Ивана Калиты, заявляет политические стремления, основанные на договоре боярской думы с государем. Эти стремления были результатом борьбы Иоанна Грозного с боярством, опричнины и влияния на бояр соседнего польского государства (эмиграция бояр в Польшу при Грозном). Боярство XVII века при новой династии Романовых отличается уже иным составом. После преследования и казней Иоанна IV, эмиграции бояр в его царствование и событий Смутного времени, ряды прежнего боярства поредели; стало образовываться новое боярство, выслуженное, жалованное. Оно уже не имеет такой силы и значения, какое имело московское боярство XVI века, и его место заступает московское дворянство. Ключевский, указав на такие изменения в составе московского боярства, излагает те влияния, какие имели эти изменения на характер правительственного значения думы, которая все более и более слабеет к исходу XVII века. Анализируя все эти изменения, Ключевский касается весьма существенных вопросов из классовой истории московского боярства.
Не все из этих вопросов он разрешает, некоторые намечает только, но и в такой постановке их — большая с его стороны заслуга. Какие же эти вопросы?
1) Аристократический состав боярства и боярской думы в XVI веке вследствие наплыва в московское боярство удельного «княжья» — и вследствие этого кажущееся общественное противоречие в управлении Московским государством: необходимость сильного своей властью московского государя управлять посредством аристократической администрации. Ключевский обращает внимание на коренное различие между аристократией московско-боярской и западноевропейской. На Западе — аристократию составили покорители-, в Московском государстве — покоренные — удельные князья, сошедшиеся в Москву на службу, по лишении их политических прав.
2) Определение первоначального термина самодержец, в смысле не абсолютного самовластца-государя, а в смысле главы государства независимого ни от какого другого « потентата». Боярский аристократизм не противоречил московскому самодержавию, напротив, оно опиралось на него.
3) Московское боярство XVI веке не проводило в XVI веке никакого плана государственного устройства, достаточно обеспеченного, в смысле своих притязаний, что зависело, главным образом, от состояния народного хозяйства за это время. Хозяйство же это определялось непрочностью землевладения в верхневолжской Руси.
Земледельцы-крестьяне, густо засевшие в территории до Оки, не находили себе уже достаточно удобной для пашни земли и должны были искать таковой в восточной окраине Московского государства, в среднем и нижнем Поволжье, во вновь приобретенных Москвою восточных татарских царствах и лежащих на юг от Москвы степях; вследствие этого земледельческое население переходило и бежало из верхнего Поволжья, и боярские вотчины верхнего Поволжья оскудевали вследствие недостатка рабочих рук.
4) Боярская дума (не в одной Московской, а во всей Древней Руси) являлась показателем общественных классов, руководивших в данное время народным трудом.
5) Боярство в отношении землевладения имело лишь одного соперника — в лице монастырей и архиерейских кафедр.
В моих заметках я желал указать на влияние русских общественных течений исхода пятидесятых годов и начала шестидесятых годов, а также и ученых воззрений в русской исторической науке тех же лет на начальные работы В. О. Ключевского.
На этих работах особенно сильно отразились ученые воззрения профессоров Московского университета факультетов историко-филологического и юридического шестидесятых годов. Их воззрения явились для Ключевского прежде всего точкой отправления при его собственных ученых обоснованиях, точно так же как точками отправления для ученых школы родового быта, в свою очередь, послужили воззрения Эверса, а для И. Д. Беляева — славянофильская схема К. С. Аксакова.
Таким образом, устанавливается преемство научных теорий и проблем в русской исторической науке от ученых воззрений двадцатых и тридцатых годов XIX века до исхода этого столетия. Но наука продолжает развиваться далее, и общественно-экономические обоснования Ключевского, несомненно, поведут и даже уже повели ученых русских историков к новым обоснованиям и иным обобщениям.
И.Н. БОРОЗДИН
Памяти В. О. Ключевского
(Умер 12 мая 1911 года)
Еще новая тяжкая утрата русской науки и русской культуры... Не стало Василия Осиповича Ключевского, не стало этого замечательного и единственного в своем роде историка, великого летописца-художника родной старины. И горе нежданной утраты раздвоить с Москвой и родным университетом Ключевского вся Россия; нет ведь ни одного уголка, где бы не знали и не чтили высоко гениального историка, нашу национальную гордость и славу.
Теперь, под первым впечатлением происшедшего, трудно дать какую-либо исчерпывающую характеристику научного и культурного значения почившего учителя; хочется лишь отметить главнейшее, вызвать в воспоминании его дорогой образ...
Великие заслуги Ключевского-ученого давно признаны всеми и вся; без преувеличения можно сказать, что почти все новейшее течение русской историографии находилось «под знаком Ключевского». И его собственные труды и труды его учеников — его славной «московской школы» — и труды ученых, так или иначе находящихся под его мощным влиянием, создали целую эпоху в науке русской истории.
На смену прежней прагматики или сухим формально-правовым построениям теперь появилась история народа, история общества; в трудах Ключевского и его школы русская история впервые предстала в широком социологическом охвате. Сам глубокий ученый-аналитик, нисходящий в недра первоисточников и от них исходящий, Ключевский в то же время был великим синтетиком, мастером широких и образных построений. Ничто не ускользало от пристального взгляда исследователя, каждая мельчайшая деталь, до конца использованная, занимала свое
определенное место — фундамент ставился прочный и неприступный; и на этом фундаменте гениальной рукой первоклассного художника возводилось грациозное архитектурное здание, где строгая пропорциональность форм и стильная выдержанность самых причудливых узоров соответствовали красоте всего замысла. Ключевский оставил нам недосягаемые образцы и строгоспециальных, скрупулезных штудий, и широких всеобъемлющих концепций. Но как работы первого рода имели в конечном счете ту или иную детали общего построения, так и работы второго рода исходили от тонкой, инкрустационной, порой незаметной, но пристальной и глубокой работы. У Ключевского никогда нет книжной схемы, отвлеченной голой абстракции; у него все живет, все одухотворено, все красочно. Берется ли история учреждения, она трактуется не с внешней формальной стороны, но в тесной связи с историей общества, с общей социальной структурой; рисуется ли яркая бытовая картина помещичьего уклада или убогого крестьянского житья, не надо забывать за яркостью и сочностью красок бесконечного цифрового и статистического материала хозяйственной истории. Никто как Ключевский не сумел слить так в стройное и гармоническое целое и экономическую, и социальную, и политическую, и культурную стороны исторического процесса. Все эти отличительные особенности ученого и художественного таланта Ключевского сказываются и в его специальных исследованиях, и в его знаменитом общем курсе русской истории. Если его магистерская диссертация о житиях святых как историческом источнике представляет образец и «Quellenforschungen» *, то его классическая «Боярская дума» и известные статьи о земских соборах дают мастерское изображение историй учреждений на общем социальном фоне; статьи о хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря и о прикреплении крестьян трактуют о сложных и важных проблемах социально-экономической истории, а публичные речи о Сергии Радонежском, Екатерине II, «Капитанской дочке» Пушкина, «Евгении Онегине» и «Недоросле» 2 ярко свидетельствуют об исключительном художественном даровании автора, бесподобного мастера стиля и формы.
Но кульминационного пункта гениальное дарование Ключевского достигает, в его ставшем уже классическим «Курсе русской истории». В этом замечательном курс все ценно — и главы, посвященные сложным и спорным вопросами социальной и экономической истории, и отделы, отведенные общим характери
стикам эпох и исторических деятелей и духовно-нравственной эволюции русского общества. Говорит ли Ключевский о начале русского государства, давая своеобразную картину Днепровской Руси, или о заселении Суздальцами, мастерски воспроизводя быт русских по пословицам, повествует ли о грозных временах опричнины, разбирается ли в бурных событиях Смутного времени, пристально следя за резко определившимися классовыми противоречиями, или систематизирует неукротимо-скачущую и неутомимую реформационную работу Петра Великого — всюду и везде одинаково силен историк-художник, своему знанию и таланту подчинившей и отдаленные времена, и истекшие события. А знаменитая портретная галерея деятелей русского прошлого, воспроизведенная на страницах курса, разве забудется хоть один из портретов, разве поблекнут когда-нибудь волшебно-оживляю-щие краски! Вот северный князь-залешанин Андрей Боголюбский, который и «не величав был на ратный чин, но ждал похвалы лишь от Бога», вот шумливый и причудливый «грозный царь», вот ранний вольнодумец князь Хворостинин, который «в вере пошатался и православную веру хулил», вот привлекательный образ «тишайшего» царя, ставшего на перепутье от старого к новому, вот «тучная и некрасивая полудевица» царевна Софья, которая «властолюбию пожертвовала совестью, а темпераменту стыдом», вот царь-реформатор, царь-работник, вот добрая и своенравная русская барыня, императрица Елизавета — незабываемый образ, начертанный антитезами, вот беспощадный портрет Петра III. И много, много таких счастливых и образных характеристик можно встретить на протяжении курса.
Но если велико наслаждение читать и перечитывать этот курс, то ни с чем несравнимо наслаждение имевшего счастье слушать его непосредственно из уст самого лектора. Для историка-москвича самые светлые и радостные воспоминания студенческих лет связаны с именем Ключевского, с его «историческими» лекциями...
Чтения Ключевского — это был праздник, это было высшее умственное и эстетическое наслаждение. Так и вспоминается большая словесная еще не перестроенного нового здания; аудитория набита битком, собрались студенты всех факультетов и различных курсов (напрасны были попытки целой заставы «субов» и педелей пропускать только филологов), все горят нетерпением, ждут Ключевского. Вот все стихло, показался Ключевский и медленно взошел на кафедру; слегка поблескивая сквозь очки на аудиторию, согнувшись над кафедрой и все время стоя, начинает чтение
Ключевский. И сразу, с первых же слов охватывает какое-то чарованье, восторг и преклонение перед дивным чародеем-лектором, так умело воскрешающим седую старину, так ярко рисующим причудливые образы минувшего... Аудитория вся во власти лектора, вся живет с ним, она по его слову содрогается, горюет или весело смеется. Все современное как-то исчезает, мы все в прошлом; оно не умерло, нет, оно живо — и мы в нем, оно в нас. Прозвонил резкий, отрывочный звонок, лекция окончена, дивная сказка рассказана... Но нет, до следующей недели, до следующего раза. И как был радостен этот день...
Я. Л.БАРСКОВ
Василий Осипович Ключевский
[Не позже 12 мая 1921 г.]
По смерти С. М. Соловьева кафедру русской истории в Московском университете занял В.О. Ключевский. Он продолжал курс, доведенный Соловьевым до смерти Петра Великого, и 5 декабря 1879 года прочел свою первую лекцию. У него было до 20 печатных работ, в том числе1 «Древнерусские жития святых как исторический источник». Книга вышла в 1871 году, а в следующем году 26 января 1872 года состоялся в университете диспут. Автор получил степень магистра. Вскоре он стал доцентом гражданской истории в Московской духовной академии. Василий Осипович преподавал также с 1867 года политическую историю — всеобщую и русскую — в Александровском военном училище. Тогда уже высоко ценили его талант2: но именно связь с церковной и военной школой была не по душе3 студентам университета; кроме того, Соловьев отбил у них охоту заниматься русской историей. Наконец, тот путь, которым шли учителя Ключевского, юридическая школа русской историографии, был не по душе молодежи, знакомой с новыми течениями исторической науки. Несмотря на эти неблагие условия, Ключевский быстро покорил аудиторию. В следующем 1880-1881 году он читал курс древней4 русской истории5, пользуясь глубоким вниманием аудитории6. Тяга к нему стала еще сильнее, когда появилась новая работа Ключевского, появившаяся в журнале «Русская мысль» и вышедшая отдельно под заглавием «Боярская дума древней Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества» (М., 1881). В следующем году вышло новое издание, а 29 сентября состоялся диспут, и Василий Осипович получил степень доктора русской истории7. Ему устроили шумную овацию. Аплодисменты не смолкали добрых 10 или 15 минут. Под конец вынесли его из университета на руках, а потом и сами его
слушатели [оказались] в чужих руках, чтобы выбраться на улицу оттуда, где одни до поздней ночи, а другие до утра, справляли праздник любимой науки и столь же горячо любимого профессора. Я был тогда студентом первого курса и прослушал ничтожное количество лекций, но и у меня часто радостно билось сердце, как у старших товарищей, от которых я еще на гимназической скамье слышал много разговоров о Ключевском8. Как манифест Маркса вывел на новый путь9 общественные науки, так и «Боярская дума» Ключевского стала манифестом основных сил русской исторической школы. Я имею в виду преимущественно главы «Боярской думы», опубликованные «Русской мыслью» и не перепечатанные в новых изданиях10. Ключевский, разумеется, не случайно назвал свою книгу опытом истории правительственного учреждения в связи с историей общества. Он хотел дать и действительно дал в «Боярской думе» историю древнерусского общества. Это дало повод одному из наиболее упорных противников Ключевского, профессору Сергеевичу, назвать «Боярскую думу» «многопредметным сочинением». Правда, в ней речь идет о многих и очень важных предметах. Однако труды самого Сергеевича не вызвали нового движения в русской юридической науке, а с «Боярской думы» начинается новый период русской историографии, и в течение 40 лет не появилось ни одной выдающейся работы, в которой бы русский историк не цитировал бы «Боярскую думу», подобно тому, как в трудах преподавателей-социалистов неизбежно цитируется «Коммунистический манифест» или «Капитал» Маркса.
Я сказал уже, что в 1880-1881 годах Василий Осипович начал общий курс русской истории, это значит, что в следующем 1881/2 он прочел вторую половину — т. е. новую историю от Смуты до Александра II. В 1882/3 году он снова читал древнюю историю, издавал под редакцией Василия Осиповича Н. А. Котляревский1' курс новой истории. 1883/4 академического года — издавал я и сохранил свою студенческую запись с поправками Василия Осиповича. Разумеется, я имел в руках и первое издание [литографированных] лекций.
Школа эта12 заменила логику фактов логикой понятий, превратила исторический процесс в диалектический. Историки этой школы орудовали общими понятиями: народ, государство, общество, строили отвлеченные схемы и подгоняли под них исторический процесс. Государство, читаем мы у Чичерина, есть высшая форма общежития, в нем неопределенная народность получает единое отечество, становится народом. Отсюда возникало учение, опреде
лившее историю государства с историей народа. Мало того, представители этой школы утверждали, что единственным движением всей народной жизни была государственная власть, и сам народ, по выражению Соловьева, представлял собой «жидкую массу». «Вся русская история есть по преимуществу государственная»,— писал один13. «А у нас княжеская власть сделалась единственным движением народной жизни»,— утверждал другой. Дух русского народа выразился преимущественно в создании государства; это последнее организовалось сверху действиями правительства, а не усилиями граждан, благодаря правительству оно получило организацию. «Правительственное начало,— писал Соловьев, — кружило по неизмеримым просторам бродячей Руси, как Дух Святой над первобытным хаосом, пока не сказало своего “да будет свет”, “да будет Русское государство и русский народ”». «В Европе все делалось снизу, — утверждал Кавелин,— а у нас сверху». Западникам возражали славянофилы, сосредоточившие свое внимание на свойствах как самой почвы, так и материале, который у нее извлекался для построения государства и общества; они изучали рост национальных преданий и обычаев, дух и быт народа14. Против этих теорий выступил Ключевский и также поставил с головы на ноги15, как Маркс диалектику Гегеля.
Правда, влияние Соловьева и Чичерина на Ключевского было не первым, как влияние Гегеля на Маркса, но оба они, Ключевский и Маркс, пошли своими путями, порвали с традицией.
Ключевский, приступая к изучению махового колеса Московского государства, задумал написать историю учреждения в связи с историей общества. Обратился к той движущей силе, которая работала внизу, производя изменения наверху. «В истории наших учреждений,— писал он во введении к “Боярской думе”,— создаются и жизни общественные классы и интересы, которые за ним скрывались и через них действовали. Не изучены достаточно ни основание государственного здания, ни строительный материал, ни скрытые внутренние связи, когда мы изучаем все это, тогда, может даже, и процесс образования нашего государственного порядка и значение его правительственных учреждений предстанут перед нами несколько в ином виде». В истории политических учений, замечает Василий Осипович, строительный материал часто важнее самого строя.
На вопрос, как образовалось Московское государство, чаще всего получается такой ответ: путем возведения частного права в государственное или, говоря проще, путем превращения вотчины
московских князей во всероссийской государство. Легко видеть, что это — формула, схваченная на глазомер, изображающая ряд явлений более диалектически, чем исторически.
Политический порядок, пишет Ключевский в 1-й части «Курса», всегда отражает в себе совокупность и облик, характер частных людских интересов и отношений, которые он поддерживает и на которые он опирается16.
Выявление этой связи порядка с интересами и отношениями стало одной из очередных задач17 новой исторической школы. Идеалистическая историография уступила место реалистической; на смену национально-государственной историографии явилась история социальная.
Сообразно с этой переменой выдвинулись и новые методы, которые сближали историческую науку с естественным знанием. Человеческое общежитие, по мнению Ключевского, такой же факт мирового бытия, как жизнь окружающей природы. Исторические тела рождаются, живут и умирают подобно органическим телам природы. В раскрытии законов развития человеческих обществ, стихийной закономерности народной жизни видит Василий Осипович общую задачу исторического изучения.
Отказавшись от национально-государственной точки зрения, он в истории русского народа готов наблюдать действие тех же исторических сил и элементов общежития, как и в других европейских обществах.
Из общей задачи исторического изучения вытекали для него и научная тема изучения местной истории, и тот метод, который сам Ключевский называет историко-социологическим. История в глазах Ключевского имеет дело не с человеком-индивидуумом, а с людьми, массами.
Настоящий объект изучения — социальная эволюция, а эта последняя18 эволюция познается только при изучении социально-экономического порядка или материальной культуры.
Все это давно и хорошо известно; но 30-40 лет назад19 эти задачи и методы не только в русской, но и в западноевропейской историографии только выдвигались, а вместе с ним выдвигались на первый план20 географические и экономические условия, материальные интересы, классовые противоречия21.
Помню, как в октябре 1885 года на страницах «Русской мысли» мы прочли формулу Ключевского: «Крепостное право в России было создано не государством, а только с участием государства, последнему принадлежит не основание права, а его границы».
Интерес землевладельца, решили мы тогда22, проходит красной нитью сквозь историю России из глубины веков до наших дней, благодаря дворянству, а не царскому самовластию, думали мы23, возникло и окрепло крепостное право.
Весной 1883 года я впервые пришел к Василию Осиповичу на дом. Я тщательно готовился к этой первой беседе с учителем, и мне думалось, что я постою за себя, когда зайдет речь о моей начитанности. Еще в гимназии я увлекался сочинениями24 Карамзина, Костомарова, Забелина, Пыпина...25
К великому моему смущению Василий Осипович обратил мало внимания на мое знакомство с этими историками; ему хотелось знать, каковы мои сведения по вопросам юридическим и экономическим и тут же рекомендовал Кавелина, Андреевского26, Дмитриева, Чичерина. Вы представляете себе, как трудно еще было примирить отвлеченные логические схемы юридической школы с живым конкретным содержанием и «Курса», и «Думы»27.
Ключевский был именно лектор, чтец, он читал, а не говорил, но это чтение было исполнением, надо было не только слышать, но и видеть Ключевского — его живые проницательные глаза, которые то разгорались, то потухали; вспыхивая, как зарницы, они освещали умное, нервное, выразительное лицо, которое стоило раз увидеть, чтобы никогда не забыть; это был лектор = виртуоз, который быстро покорял аудиторию и не минутами, а часами держал ее в напряжении; с изумительным искусством, легко и свободно Ключевский вкладывал в слушателя свои мысли и чувства. Мы покидали его аудиторию всегда обогащенные, насыщенные новыми знаниями и всегда одушевленные желанием знать больше, двигаться дальше.
Одним из главных средств, которыми пользовался Ключевский для влияния на слушателей, для господства над аудиторией, был язык. Ключевский не рассказывал, а объяснял, беседуя со слушателем, которому казалось, будто он сам ведет диалог с Василием Осиповичем, сам ставит вопрос или дает ответы; оригинальные обороты речи соответствовали неожиданным оборотам мысли. Это не были первые, нечаянно сорвавшиеся с языка слова, это был искусственный, иногда даже вычурный язык, но в нем было столько силы, красоты, юмора, сарказма, пафоса, меткости, точности, живости, что слушатель без труда схватывал и твердо запоминал целые выражения. «Легкое дело — тяжело писать и говорить,— заключает Ключевский в статье о Соловьеве,— но легко писать и говорить — тяжелое дело, у кого не делается это само собой,
как бы физиологически». «Слово, что походка: иной ступает всей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит». «Гармония мысли и слова,— пишет он далее,— это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата, преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в данном случае, корень многих тяжелых неудач наших — в неуменье высказать свою мысль, одеть ее, как следует. Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облачаем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подкову. Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и не договорить».
Гармония слова и мысли совпадала у Ключевского с художественным творчеством, с удивительным даром воскрешать прошлое. Проникая в строй жизни и мысли, Ключевский оживлял изложение образцами, которые он сам создавал вместе с историей. Он был как бы творцом царя Алексея28 или протопопа Аввакума29, наряду с историей. Это его собственные создания те лица, которые выдвигаются им на историческую сцену и участвуют в исторической драме, им же написанной. Ключевский словно когда-то видел и переживал, о чем говорил. Вот письмо одной из его слушательниц30: «Сейчас возвратилась с лекции Ключевского. Какой это талантливый человек! Он читает теперь о древнем Новгороде и прямо производит впечатление, будто это путешественник, который очень недавно побывал в XIII—XIV веке, приехал и под свежим впечатлением рассказывает все, что там делалось у него на глазах и как там живут люди, и чем интересуются, и чего добиваются, и какие они там».
Я и теперь слышу, перечитывая свои записи, этот мягкий, гибкий, богатый переливами голос, который не пропадал в большой аудитории Исторического музея и не резал ухо в тесной комнате, где мы, бывало, собирались для практических занятий31.
Объектом практических занятий были, конечно, памятники русской истории. Не только в их интерпретации, но просто в чтении Василий Осипович обнаруживал замечательное мастерство. Благодаря этому мастерскому чтению мы легко запоминали тексты и далее без труда следили за рассуждением Ключевского, основанным на этих текстах.
В сочинениях Василия Осиповича очень мало ссылок не только на чужие труды, но даже на источники. Он не любил загромождать текст примечаниями и в особенности считал их нежелательными в «Курсе». Отсюда иногда заключали, что Ключевский обычно берет материал из вторых или третьих рук. Очень жалко, что не изданы многочисленные тетрадки и листочки, которые приходилось мне видеть, когда я заставал Василия Осиповича за работой. То на клочке от конверта, то на обложке или обертке, то на осьмушке писчей или почтовой бумаги, гораздо реже на четвертушке, четким бисерным почерком записывал Василий Осипович и отдельные выражения, свои или чужие, и цифровые данные, и ссылки на рукописный или печатный материал. Некоторое, очень приблизительное понятие об этих выписках можно составить по приложениям к III и IV частям «Курса».
Мне бы хотелось по мере сил и уменья ввести вас в рабочую комнату гениального историка, показать вам, с каким упорным и неустанным трудолюбием, с какой тщательностью в вычислениях он добывал те выводы, которые считаются теперь общепризнанными, идет ли речь об учреждениях, порядках или об интересах, отношениях.
Еще до революции я закончил сравнение всех изданий «Боярской думы», предполагая, что сын Василия Осиповича издаст эту работу32. Если бы она была напечатана, вы бы видели, как изменялся текст «Думы», и догадались бы, почему он изменялся. Не надо забывать, что все ученые работы Василия Осиповича отражались на его «Курсе», и в свою очередь работа над «Курсом» выдвигала темы следующих работ.
Какую книгу не прочесть, а изучишь «Курс», тот должен изучить, по крайней мере, «Боярскую думу» и статьи о земских соборах и крепостном праве. Кто хочет изучить «Боярскую думу», должен знать «Курс» [...]33.
[В тексты] университетского курса включены некоторые лекции, прочитанные на Высших женских курсах, в Московской духовной академии, в Училище живописи. Но таких вставок очень мало. Курс разрастался частью и потому, что автор включил в него отдельные исследования. А всего более он расширял изложение, вновь разрабатывая лекции. Правда, многое напечатано так именно, как было прочитано в аудиториях, но чуть не половина текста написана вновь для печатного издания. «Нельзя говорить, как пишешь, нельзя и писать, как говоришь»,— замечал Василий Осипович, исправляя мою студенческую запись, хотя и не стенографическую, но не уступавшую стенограмме по точности.
В этой заботе об устном и печатном слове заключалась одна из главных причин, по которой Василий Осипович так долго и упорно отказывался отдать свои лекции в печать. Правда, они были написаны, и у Василия Осиповича был под рукой готовый текст, он читал, а не говорил, однако это был текст именно для чтения вслух, а не для печати, рассчитанный на слуховую память, а не на зрительную. Были и другие мотивы, по которым Василий Осипович отказывал[ся] от печатного издания «Курса»34. К печатанию его Ключевский был вынужден появлением подпольных изданий, выходивших без ведома автора. «Курс» неудержимо распространялся, и вместе с тем накоплялись все новые и новые ошибки, так как Василий Осипович не исправлял записи. «Краткое пособие для слушателей автора», конечно, не убило подпольных изданий; эти последние выходили сами по себе, а «Пособие» распространялось далеко за пределами аудитории. Скрепя сердце, Василий Осипович согласился печатать курс, но тут начались новые неприятности из-за борьбы, которую вел наследник Василия Осиповича с типографиями и складами бумаги. Василий Осипович энергично повел свою работу — подготовку текста к печати. Мне приходилось наблюдать ее.
Представьте себе листы литографированных лекций с бесчисленными поправками отдельных слов и выражений, с перестановками и слов, и фраз, и целых страниц со вставками, приписками, приклейками. Это какая-то сложная мозаика, в которой не сразу разберешь, что значит тот или иной крючок, куда именно надо отнести ту или другую полоску бумаги, табличку, фразу, цифру35.
Получаются любопытные выводы, если сравнить литографированное издание36. Так, например, 42 страницы 1-й части содержат введение, которое в литографированном издании занимает всего 9 страниц. Нелегко было бы прослушать эти 42 страницы в аудитории даже хорошо подготовленным студентам. Введение написано для печати и значительно изменяет весь облик «Курса». Как раз благодаря сжатой, краткой форме вступительные замечания сразу врезывались в память первокурсника. Одно место, я помню, вызывало у нас оживленные и продолжительные беседы.
Василий Осипович говорил', какая же может быть практическая цель изучения нашей истории? Чему могут научить нас сочетания общественных стихий, которые мы изучаем? Они научат нас: 1) какие элементы имели у нас преобладающее значение и какие действовали слабее,— следовательно, какие мы должны выдвинуть вперед, чтобы достигнуть возможной полноты общественного развития. Если мы, например, заметим, что право у нас всегда было
только слугой капитала, то нашей задачей должно стать усиленное развитие права как оплота общественной правды и личной свободы и не как только выражение перевеса материальных сил.
Чуть не сорок лет назад37 эти строки выслушивались с напряженным вниманием и давали повод к размышлению.
В печатном издании это место изменено так, что нет и намека на перевес материальных сил или на зависимость права от капитала. Мы читаем (1, 40): «Если мы заметим, например, что в нашем прошлом одни общественные элементы не в меру развились за счет и в ущерб другим, столь же законным, мы поймем, какие именно предстоит нам усиленно развивать, чтобы достигнуть возможной стройности и справедливости общественного состава. Каждому народу история задает двустороннюю культурную работу — над природой страны, в которой ему суждено жить, и над своей собственной природой, над своими духовными силами и общественными отношениями »38.
Сравним еще одно место все в том же введении. В литографированном курсе сказано: «Мы живем в эпоху усиленной разработки проектов наилучшего устроения общежития. Эти проекты создаются или нами самими, или заимствуются из чужих рук, и как иногда трудно бывает различить, какие из них удадутся, какие нет. Изучение того наличного запаса сил и средств, какой накопил народ, поможет нам решить, какие предполагаемые формы общежития ниже этого запаса и какие выше, не под силу народу».
Помню, как мы прислушивались к этим словам39, принимая их за намек на выбор между конституционной монархией и республикой — одни, между защитниками и противниками общины — другие; но всех нас равно волновал именно этот вопрос о грядущих формах общежития.
В печатном издании эти строки развиты в следующий параграф: 1, 41-42. Почти вслед за приведенным мною отрывке о формах общежития в литографированном курсе помещалась лекция о «Начальной летописи». Мы сразу приступали к первоисточнику. Мастерский анализ летописи был целым откровением, и уходя из аудитории, мы чувствовали себя вдвойне обогащенными — и как будущие граждане, и как исследователи русской истории. Не надо забывать, что Ключевский обладал изумительной способностью вкладывать знания даже в таких слушателей, которые были равнодушны и к общественности, и к науке40.
В печатном издании между введением и летописью имеется обширная вставка в 36 страниц о природе и ее влиянии на образ жизни,
нравы, верования, которые могли оказать влияние на судьбы народа. Я пересмотрел много литографированных изданий и не встретил в них вставки; к ней близко подходят некоторые страницы «Краткого пособия», но уже здесь этой теме уделено несравнимо меньше места, чем в печатном «Курсе». Летопись в печати занимает 71 страницу вместо 10 рукописных.
Следующий отдел о славянах, их жизни на Карпатах и расселении по русской равнине занимает отдел в 60 страниц печатных вместо 6 рукописных, а следствия расселения юридические 47 страниц вместо 13. Деятельности киевских князей, очередному порядку и истории Руси в XI-XII в[еках] посвящено в литографированных изданиях 28 страниц, а в печатных 67. «Русская Правда» в печатном издании занимает 56 страниц, а в литографированном — 16.
Как вырабатывался печатный текст, можно судить по параграфу «Русская Правда — кодекс капитала» (1, 304-306).
Далее помещена в печатном издании обширная глава о церковных уставах и влиянии церкви на политический порядок, на гражданский и семейный быт. Наконец, последний отдел 1-го тома посвящен истории колонизации Верхнего Поволжья и образованию удельных княжеств; и тут значительная разница между печатным и рукописным текстом — в первом 120 страниц, а во втором 47.
Таким образом, весь первый том печатного издания в 460 страниц убористого шрифта соответствует 140 страницам рукописного текста. Если же принять во внимание, что по числу букв каждая рукописная страница составляет лишь 2/3 печатной, то различие между обоими текстами станет еще значительнее.
Я не буду подробно сравнивать II том печатных лекций с рукописным изданием. Замечу только, что здесь переделок и вставок еще больше. Помню живо, какое впечатление произвела на всю аудиторию характеристика Ивана Грозного. Мне кажется, я сейчас слышу голос Василия Осиповича, вижу его нервное лицо, его умные, проницательные глаза, из которых так и сыпались молнии, которые повышали напряжение слушателей. Всегда ли Ключевский читал эту характеристику с таким воодушевлением и с таким мастерством, я не знаю, но прошло более тридцати лет, а она еще живет в моей памяти. Однако и эта лекция подверглась переработке41. Вот несколько строк старого и нового текста42. Говорят, под старость мы согреваем себя воспоминаниями юности и видим ее в лучшем свете. Может быть, на мне оправдывается это наблюдение. Но я искренне предпочитаю старую редакцию новой
или, лучше сказать, отличаю лекции от книг. Мне кажется, что последний курс при чтении вслух не захватит слушателей с такой силой, как, было, захватывал прежний курс.
Следует подольше остановиться на III томе. Здесь мы наблюдаем ту же разницу в объеме. В печатном издании 473 страницы, а в рукописном им соответствуют 93. Характеристика IV периода русской истории занимает в печати 16 страниц, а в рукописи — 2, Московское государство (до раскола) 345 страниц вместо 60, раскол и церковь — 48 вместо 14; характеристики царя Алексея, Ордина Нащокина и Голицына43 60 вместо 16 рукописных. Та же разница и в IV части. Здесь 478 страниц печатных соответствуют 110 рукописным. Курс разрастался по мере того, как продвигался вперед44.
И.А. ЛИННИЧЕНКО
Василий Осипович Ключевский*
12 мая в Москве скончался один из крупнейших и оригинальнейших русских историков проф. В.О. Ключевский.
В течение 30 лет его аудитория была едва ли не наиболее популярной в старшем русском университете. Едва ли найдется студент, какого бы факультета он ни был, который в течение своего университетского курса не заходил бы в аудитории историко-филологического факультета послушать лекцию одного из талантливейших и оригинальнейших по способу изложения лекторов своей alma mater. Правда, студенты не филологи искали в лекциях талантливого оратора только того, что составляло, быть может, самую слабую сторону его тонко обдуманных мастерских чтений — острого слова, пикантной характеристики, тонких аллегорий, пряных, волнующих приправ. В ту эпоху, когда популярность талантливого лектора временно поколебалась, эти случайные слушатели собрали в один букет все пряные ароматы его чтений и преподнесли их, кому надлежит. Но для его непосредственных слушателей, конечно, были важны не эти приправы, какими бы мотивами они не объяснялись, а глубоко обдуманное содержание его лекций, оригинальность его ученых взглядов, постоянное стремление к историософическому толкованию нашего многовекового прошлого.
Имя Ключевского очень громкое и в интеллигентной публике, и однако, до появления в печати его курса, слава этого имени принималась более на веру. Едва ли многие прочли капитальнейший из его трудов — итоги его многолетних работ — «Боярскую думу» *. Из многочисленных его статей (до 50, часть которых вошла в его
* Речь, произнесенная в собрании Одесского Библиографического Общества при Императорском Новороссийском университете 14-го мая 1911 года.
курс русской истории) широкой публике была знакома, гл. обр., его публичная лекция «Евгений Онегин и его предки»2, да, пожалуй, его статьи о земских соборах3. Оригинальность его ученых воззрений, имевших столько последователей, создавших целую научную школу, понятна только специалистам, знакомым с учеными работами, предшествовавшими трудам Ключевского.
Оставивши кафедру в 1879 году, знаменитый историк С. М. Соловьев указал Моск, университету в качестве своего преемника на В. О. Ключевского, хотя в предыдущих его работах, в том числе в его «Житии святых как исторический источник», еще в слабой сравнительно степени выступают те черты оригинального научного творчества, какими отличался капитальнейший из его трудов — «Боярская дума».
В короткой речи, конечно, невозможно изложить сущность наиболее оригинальных взглядов почившего знаменитого ученого. Я ограничусь только попыткой указать несколько общих лейтмотивов его оригинального научного творчества.
В одном из общих обзоров русской историографии проф. Ключевскому ставится в упрек отсутствие общего исторического миросозерцания; по мнению критика, талантливый ученый не связал своих положений в одно целое. Недавно проф. Хвостов4 пытался, извлекая из курса Ключевского общие положения, определить основные историософические взгляды историка, его историческое миросозерцание. Попытку эту нельзя назвать особенно удачной; правда, проф. Хвостов передает взгляды Ключевского на отдельные вопросы историософии, но цельной системы историософической ему в отрывочных замечаниях историка уловить не удалось.
Но проф. Ключевский по натуре своей был противником широких историософических обобщений. Общая социология для него — дело далекого будущего. По его мнению, теперь возможно лишь изучение исторической социологии; задача ее — определить природу и действия исторических сил, строящих человеческое общество, а силы, строящие историю, легко проследить на истории отдельного народа. Отдельными факторами исторического процесса для него являются — человеческая личность, людское общество и природа страны (I, 11-12)5.
Поэтому у Ключевского мы и не находим таких широких попыток обобщения явлений древнерусской жизни, как у Соловьева, выводившего из родового быта весь строй удельного периода, или у Кавелина и Чичерина, искавших юридической схемы всей древнерусской жизни. Таких широких обобщений мы у Ключевского
не найдем, хотя вообще он и любит прибегать к юридическим определениям.
Но если у К<лючевского> нет склонности, а может быть, и способности, к таким широким историософическим обобщениям, то у него, несомненно, есть редкая способность к теоретическим построениям, хотя в сфере более ограниченной. Нужно удивляться тому искусству, с которым он из отдельных фактов и намеков источников строит цельную, красивую и логическую теорию какого-нибудь исторического явления. Правда, строгая историческая критика может указать, что автор для своих теоретических построений подчас пользуется источниками не вполне достоверными, увлекаясь каким-нибудь сообщением, особенно выгодным для его теории (как, напр., в его теории карпато-русского военного союза, основанной на известии арабского писателя, не относящемся к нашим славянам, частью в его теории экономического происхождения русского государства, в которой, особенно в ее первой редакции, несомненные следы перенесения более поздних явлений в отдаленное прошлое, отчасти и в теории возникновения земских соборов, исходящей из мысли Б. Н. Чичерина, не имевшего в своем распоряжении тех фактов, какими мы обладаем теперь). Но мы видим везде вдумчивого талантливого историка, для которого факт важен не сам по себе, а по сцеплению его с другими фактами, ученого, стремящегося осмыслить события прошлого и учащего других искать такого осмысления.
В своих историософических взглядах К<лючевского> примыкает к теории неославянофилов, более всего к теории Данилевского6. Для К<лючевского> «судьба народа слагается из совокупности внешних условий, среди которых ему приходится жить и действовать. Назначение народа выражается в том употреблении, какое народ делает из этих условий, какое он вырабатывает из них для своей жизни и деятельности» (II, 507). Если цель изучения истории познать, как раскрывалась внутренняя природа человека в общении с людьми и в борьбе с окружающей природой,— познать самих себя, свои внутренние свойства и силы, чтобы по ним устроить свою земную жизнь, то по условиям своего земного быта человеческая природа, как в отдельных лицах, так и целых народах, раскрывается не вся вдруг целиком, а частично и прерывисто, подчиняясь обстоятельствам места и времени. По этим условиям отдельные народы, принимавшее наиболее видное участие в историческом процессе, особенно ярко проявляли ту или другую силу человеческой природы (1, 6-7). Тайна исторического процесса, собственно,
не в странах и народах, по крайней мере, не исключительно в них самих, а в их внутренних постоянных, данных раз навсегда особенностях, и в тех многообразных и изменчивых, счастливых или неудачных, сочетаниях внешних и внутренних условий развития истории, складывавшихся в известных странах для того и другого народа на б<олее> или м<енее> продолжительное время. Эти сочетания и вызывали наружу чрез народы, подпавшие под их действия, те или другие свойства человечества, раскрывали его природу с разных сторон (I, 7-8). Значение народа как исторической личности заключается в его историческом призвании, а это призвание народа выражается в том мирровом положении, какое он создал себе своими условиями, в той идее, какую он стремится осуществить своею деятельностью в этом положении. Свою роль на мировой сцене он выполняет теми силами, какие успел развить в себе историческим воспитанием (I, 38-9).
Кто в этих словах о назначении, миссии народов не узнает теорию исторического прогресса Данилевского?
Давая характеристику наших земских соборов, К<лючевский> восстает против аналогии между нашими земскими соборами и западными народными представительствами — при другом складе политических отношений и представительные собрания получили у нас другое значение, усвоили иной характер, потому что при различном сочетании политических сил не одинаковы и потребности, удовлетворить которые призывается народное представительство, не одинаково и его назначение.
И эту частную мысль К<лючевский> обобщает в отношении всех явлений русской истории — она вполне самобытна, своеобразна; аналогия с явлениями западноевропейской жизни может быть только внешней — разные сочетания сил усвояют нашей истории вполне отличный от зап.— европ. истории характер, и если К<лючевский> порой и прибегает к аналогиям, то с целью отметить не сходство, а коренное отличие явлений жизни русской от зап.— европейской. По мнению К<лючевского> (а это сближает его частью с Соловьевым, частью с славянофилами), в основе нашего политического и общественного быта лежат два процесса — выяснение в сознании народа понятая о государстве, и выражение последнего в идее и деятельности верховной власти — и образование народности (I, 37).
Однако как ученик Соловьева, а может быть, еще более по складу своего характера, К<лючевский> обратил все свое внимание именно на первый вопрос, и он, пожалуй, во многих отношениях заслонил для него второй.
Из трех китов славянофильского учения К<лючевскому>, как и славянофилам, не удалось уловить последнего — народности. В характеристике условий, под влиянием которых создавалась у нас народность, национальный характер, мы находим у К<лючевского> очень мало, сравнительно с соображениями Соловьева и Забелина, и, помимо климата и почвенных условий, роль которых уже была очерчена двумя предыдущими историками, К<лючевский> не выдвинул в достаточной мере огромного влияния некоторых других агентов, могущественным образом влиявших на образование национального характера.
По зато К<лючевский> не имеет себе равного в нашей историографии в искусстве разлагать на составные части сложный государственный механизм и определять роль как его махового колеса, так и отдельных колес и других частей этой колоссальной машины. В этом отношении его «Боярская дума» останется надолго произведением классическим.
Ключевский обладал редким даром диалектики. В спорах он был неподражаем и неуязвим. Редко высказывая свое мнение, он задавал противнику часто роковые для него вопросы, с необыкновенным искусством загоняя его в капкан, или circulus viciosus7. Если порою в таких диалектических прениях и проглядывали софистические приемы, то нельзя было без особенного рода духовного наслаждения слушать его удивительно находчивую, полную метких выстрелов, неожиданных оборотов и остроумных образных замечаний речи. На публичных диспутах он был противником опасным. Одно известие об его участии в ученом диспуте привлекало в университетский актовый зал tout Moscou8.
Ключевского нельзя назвать историком-художником в общепринятом значении — у него для этого было мало, так сказать, пластического воображения. В его характеристике отдельных лиц недостает той неуловимой черты, которой художник одним последним мазком вдруг заставляет жить свой портрета. И замечательно, что К<лючевский> не дает нам живых характеристик даже лиц, которых он знал близко и глубоко ценил — так, одна из немногих таких его характеристик, проф. С. А. Усова9, очень бледна. И это, быть может, происходит вследствие того, что сам К<лючевский>, любивший посещать общество, был натурой очень замкнутой,— в обществе он был, собственно, не собеседником, а незаменимым, остроумным монологистом, и эта черта давала ему мало возможности для внешней наблюдательности. Вследствие всех указанных причин и главный труд К- лючевского * — «Курс русской исто
рии» — явление совершенно единичное в нашей литературе — это не учебник, хотя бы и университетский,— это скорее мысли и заметки по русской истории большого ученого и человека редкого ума и остроумия. Его курс так же мало пригоден к изучению, как философские системы Гегеля и Шеллинга. Читающие его курс не в состоянии различать мыслей Ключевского от положений его предшественников, тем более что изложение автора чаще догматическое, чем аналитическое. Долгий путь, которым автор приходит к тому или иному выводу, остается часто неизвестным читателю. Многие из положении К<лючевского>, конечно, спорны; в свое время они вызывали горячую полемику. Что из его выводов останется прочным достоянием науки, что отойдет в сферу более или менее остроумных гипотез,— скажет будущее. Но одно верно — такого оригинального, своеобразного таланта, такого блестящего лектора мы, быть может, еще долго не увидим на кафедре университета.
С Соловьевым, Забелиным, Антоновичем10 и Ключевским в нашей науке русской истории минул век богатырей.
м.в. клочков
Из траурных воспоминаний.
В.О. Ключевский (1839-1911)
Русская историческая наука на протяжении нескольких месяцев понесла две крупнейшие потери: в ноябре схоронили виднейшего историка — юриста В. И. Сергеевича, а в мае безжалостная рука смерти унесла от нас патриарха русской истории Василия Осиповича Ключевского.
Покойный был всецело предан науке и аудитории. Вся его продолжительная жизнь мирно протекла в тиши кабинета за рукописями и книгами, в ученой работе, чтении лекций и товарищеской беседе с близкими ему по науке людьми. Внешне жизнь его не сложна: В.О. Ключевский родился в 1839 году в семьи священника г. Пензы. Среднее образование получил в Духовной семинарии, откуда поступил в Московский университета на историко-филологический факультет. По окончании курса стал заниматься педагогической деятельностью, а также посвятил себя специальному изучению русской истории. В 1871 году был избран доцентом Московской духовной академии, а в 1879 году — штатным доцентом Московского университета по кафедре русской истории, заменив собой С. М. Соловьева. С того времени и до последних дней жизнь В.О. Ключевского была почти всецело посвящена Московскому университету.
Впервые Ключевский появился в аудитории университета 5 декабря 1879 года. По словам его первых слушателей, этот день был ярким, радостным праздником. Дело в том, что последние годы своей жизни предшественник Ключевского по кафедре знаменитый С. М. Соловьев явно дряхлел. Его серьезные, обильные фактическим материалом лекции и раньше были мало доступны студентам, к концу же его жизни он почти вовсе не возбуждали интереса в слушателях. Звезда же Ключевского как талантливого
исследователя и лектора уже начинала сиять. Когда приглашен был В. О. в университет, то его собрался слушать в так называемой «большой словесной» аудитории весь немногочисленный тогда состав факультета. Вступительная лекция Ключевского была посвящена общей характеристике времени ближайших преемников Петра Великого. Предмет лекции не был выбран им по своему желанию: В.О. продолжал тот курс, который раньше был читан Соловьевым и оборвался на эпохе Петра со смертью знаменитого историка. Первая же лекция, несмотря на свой будничный характер, показала, какого превосходного ученого и талантливого лектора приобрел Московский университет в лице нового доцента русской истории. Слушатели были очарованы живым проникновенным словом лектора, глубиной его понимания, широтой размаха и красочным изображением событий прошлого. Скоро во всем университете заговорили о новом русском историке; аудитория В.О. начинает расти: не только филологи, но и юристы, и даже медики наполняют аудиторию В.О. Ключевского, жаждут послушать его хотя бы несколько раз. С годами популярность В. О. растет: ни одна аудитория не вмещает в себя всех желающих послушать любимого и уважаемого профессора. В часы, когда читал В. О., во всем здании аудитории пустовали и все студенты собирались в его аудитории, и так продолжалось до последних лет.
Ключевский принадлежал науке и университету. Немногие случаи общественных и политических выступлений Ключевского обнаружили его малую пригодность к такого рода деятельности. Известен нашумевший в свое время случай, когда он в нескольких местах выступил с похвальным словом по случаю кончины императора Александра III (речь его напечатана в «Чтениях Москов. Общ. ист.», за 1894 г.). Одни по этому поводу торжествовали, другие возмущались, видя в этом перемену его взглядов. В другом случае, когда Ключевский был выбран членом государственного совета от Академии наук и университетов, он отказался от этого звания.
В частной жизни Ключевский вел себя уединенно. Жил в Замоскворечье, на Житной улице, в собственном небольшом домике, со старым садом, среди незатейливой обстановки, напоминающей тихую московскую старину. Любил ловить рыбу да побеседовать с близкими ему людьми за стаканом доброго вина.
Внешность В.О. описывают так: «Сухая, изможденная фигура, которую злые языки сравнивали с допетровским подьячим, а добрые — с идеальным типом древнего летописца. Лукавство и мудрость: лукавство, подчас злое, подчас веселое, насмешливое,
задорное — в глазах; мудрость — в неторопливом чекане строго взвешенной речи, в этих всегда неожиданных оборотах и сравнениях, сперва поражавших и приковывавших воображение, потом сердивших своей кажущейся случайностью, потом снова притягивавших бездонной глубиной, и опять сердивших, и опять чаровавших. Асреди кованной речи вдруг яркая, яркая картина, навсегда врезавшаяся в памяти, или острое словцо, неожиданный поворот анекдота, заражавшие смехом, или короткая сентенция, суровая характеристика, попадавшая, как удар бича, прямо в намеченную точку. Нервные пальцы, от времени до времени поправлявшие прядь волос, прикрывавшую характерный шрам на лбу. Размеренные остановки речи, смягчавшие естественное заикание и превращавшие в милую особенность самый недостаток произношения. Все какое-то свое, особенное, ни с кем несравнимое и недоступное подражанию»...
Два года тому назад умерла жена В. О. — Анисья Михайловна1. Старец затосковал по своем верном друге, временно перестал читать лекции в университете, летом приободрился, но не надолго. Еще в прошлом году тяжко заболел, а теперь, 12 мая, скончался. Такова вкратце несложная по внешности биография историка.
Литературная деятельность В. О. Ключевского началась с 60-х годов. Это было время господства так называемой юридической школы, виднейшими представителями которой были: С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин. Временами еще доносились отголоски прежней борьбы 30-40 годов между славянофилами и западниками, но они не омрачали торжества главенствовавшего направления.
Юридическая школа выросла под сильным влиянием идеалистической философии Запада, в особенности же под воздействием философии Гегеля. Благодаря этому возник и окреп исключительный интерес к «государственности», к решению вопроса об основном направлении государственного развития России. Главнейшими предметами изучения были историко-юридические памятники древности, история власти и законодательства; создавался и упрочивался взгляд, что у нас всегда все шло сверху, население представлялось сырой массой, «жидким элементом», из которого правительственная власть как единственное творческое начало лепила по своей мысли и воле прочное государственное здание. Теория родового быта, по которой сущность исторического процесса России сводилась к замене господствовавшего в древности родового быта началом государственным, как нельзя лучше отве
чала требованию найти отвлеченный принцип, схему, в которую легко, логично и стройно могла бы уложиться вся многообразная и шероховатая жизнь старой Руси.
Но эта теория, оплодотворив на время русскую историческую науку, затем была бессильна повести научную мысль дальше. Сама теория ветшала, накоплялись новые факты, которые никак не могли уложиться в готовую схему. К тому же в 60-х годах поднялся интерес к явлениям экономическим и социальным, усиливалось желание знать жизнь и деятельность общества, народа. Новые запросы с блестящим мастерством и были удовлетворены покойным историком В.О. Ключевским, ученая деятельность которого составляет эпоху в русской исторической науке.
Первые шаги В. О. Ключевского были, однако, довольно скромны. В 1866-1867 годах было напечатано его первое крупное исследование «Сказания иностранцев о Московском государстве». Это было не что иное, как «рассуждение студента Василия Ключевского, написанное для получения степени кандидата по историко-филологическому факультету» («Москов. унив. изв.», № 7-9, стр. 1-264; отдельное издание — М., 1886). Второй, более значительной работой было исследование: «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871, 465 стр.); за него автор получил степень магистра русской истории.
Хотя В.О. Ключевский показал себя в указанных работах недюжинным исследователем, но вместе с тем чего-либо существенно нового в историческое понимание он ими не вносил.
Новое понимание русской истории, живое и яркое освещение прошлого раньше всего сказались у Ключевского не в печати, а на лекциях. По словам Ключевского, университетская аудитория является местом, где в наиболее плодотворной форме совершается взаимная шлифовка роста индивидуального сознания с коллективными успехами общественной мысли. Этим огненным горнилом и пользовался прежде всего В. О. для выработки и чеканки своих идей.
1880 год был знаменательным годом в русской историографии: в журнале «Русская мысль» стала печататься знаменитая «Боярская дума древней Руси», вышедшая в следующем году отдельной книгой (М., 1881, 401 стр.)2. Эта книга, как говорил подзаголовок, была «опытом истории правительственного учреждения в связи с историей общества». Подзаголовок многозначительно указывал, что автор намерен рассматривать формы государственного бытия не сами по себе, а в связи с тем фундаментом, на котором государство строилось, в тесной связи с историей общества. Перемещение
основной позиции исследователя в дальнейшем привело к весьма плодотворным результатам.
Во «вступлении» к своей книге В. О. Ключевский заявлял, что помимо политического значения и правительственной деятельности боярской думы, этого «махового колеса древнерусской администрации» , он «тем больше внимания обращал на то, в чем выражалась непосредственная связь учреждения с обществом, на социальный состав думы, на происхождение и значение классов, представители которых находили в ней место». В истории классов он отмечал «два главных момента»: экономический и политический. Их взаимоотношение таково: «обыкновенно политический момент завершает социальную работу народного хозяйства; господствующий капитал становится источником власти, его операции соединяются с привилегиями, его владельцы образуют правительство, экономические классы превращаются в политические сословия». Но возможен, напр., при завоевании обратный порядок; тогда при образовании классов политически момент предшествует экономическому и кладет свой отпечаток на всю последующую историю общества.
В те годы такие идеи были своего рода откровением, ярко освещавшим новым блеском прошедшую судьбу Древней Руси.
Поставив себе задачей изучение боярской думы, не как учреждения только, но как отражения всей совокупности социально-экономических и политических факторов жизни, Ключевский в своей книге дал, в сущности, глубоко проникновенную историю Древней Руси на протяжении почти целого тысячелетия, историю, в которой развернулась многообразная и богатая по краскам панорама жизни, с ее борьбой интересов и общественных сил, с ее сменой лица, групп и общественных настроений.
Вот в каком виде Ключевский представляет читателю социальную историю боярской думы. «В продолжение столетий,— читаем у него,— в думе встречаем людей, которые носят одно и то же звание бояр, думцев князя-государя; но какое разнообразие ролей и физиономий! Русский боярин X века не то купец, не то воин, хорошо помнивший, что он — варяг, морской наездник-викинг, на славянском Днепре переименованный в витязя и не успевший еще пересесть с лодки на коня, чтобы стать степным наездников, “удалой полицией”; киевский боярин XI-XII веков, вольный товарищ своего князя и, подобно ему, политический бродяга, нигде не пускавший глубоких корней, не завязывавший прочных связей ни с каким местным обществом; галицкий боярин-крамольник XIII века, старавшийся прочно укрепиться в крае, став между князем и простым
обывателем, держа в руках того и другого; северный великорусский боярин XIV века, служилый кочевник, подобно своим южным предкам, но очутившийся среди множества князей-хозяев, столь непохожих на своих южных предков, не знавший, что делать, как стать между князем, плотно усевшимся в своей вотчиной, и между подвижным, текучим населением, и, наконец, подобно князю, принявшийся за землевладельческое хозяйство; новгородский боярин XV века, по-видимому, бессильный и покорный пред вечевой сходкой, не раз ею битый и грабленый, но богатый капиталист, крепко державший в своем кулаке нити народного труда и помощью их веривший вечевою сходкой; московский боярин XVI века, недавно переименовавшийся из удельного князя, жалевший о своем ростовском или ярославском прошлом и недовольный московским настоящим, ни политическим, ни хозяйственным, не знавший, как поладить со своим государем; наконец, московский боярин XVII века, смирившийся князь или выслужившийся разночинец, отказавшийся от политических грез XVI века, покорный и преданный своему государю и широко забиравший нити крестьянского труда. Такой ряд фигур проходит перед наблюдателем через боярскую думу в разных краях Древней Руси и в разные века ее истории. Каждый из этих типов сообщил свой особый склад и характер боярской думе, в которой он господствовал, но каждый из них отражал в себе склад и характер общества в разных краях Руси и в разные века ее истории».
Такими чертами рисовал социальный состав боярской думы Ключевский, чем связал рост и видоизменение высшего государственного учреждения с изменениями, происходившими среди общества.
«Боярская дума» Ключевского встретила злую критику со стороны видного представителя юридической школы, покойного В. И. Сергеевича (Древности, т. II)3, который очень метко указал на слабые места юридической конструкции «Боярской думы». Тем не менее для историков книга Ключевского явилась классическим произведением, составившим эпоху в русской историографии. От нее идет новая школа историков, которую можно назвать школой социологической ввиду того, что она ставит своей главнейшей целью изучение прежде всего общества в его структуре и действиях. Достаточно было бы одной «Боярской думы», чтобы имя Ключевского было написано золотыми буквами на скрижалях деятелей русской исторической науки, но им сделано гораздо больше.
Из последующих работ отметим: «Русский рубль XVI-XVIII в. в его отношении к нынешнему» (М., 1884, 72 стр.); в этом исследовании определена была меновая стоимость старинного рубля по хлебным ценам.
Более важны и интересны статьи, посвященные истории крепостного права («Происхождение крепостного права в России» — «Русская мысль», 1885, № № 8 и 10; «Подушная подать и отмена холопства в России» — «Русская мысль», 1886, № № 5, 7, 9 и 10). Чтобы выяснить их значение, нужно иметь в виду, что историки-юристы долго и безуспешно бились над вопросом о происхождении крепостного права. Ключевскому и удалось решить его настолько убедительно, что в настоящее время его взгляд признается в науке господствующим: им очень тонко подмечено и установлено, что крепостное право экономически возникло на почве задолженности крестьянина землевладельцу, юридически же выросло из кабального холопства, условия которого были приложены к свободному крестьянству. Поясню последнее: кабальным холопом назывался в XVI веке должник, находившийся во временной зависимости у своего кредитора, со смертью которого он получал освобождение; в такое же положение временного холопа, по Ключевскому, попадал задолжавший своему помещику крестьянин; ко времени Петра два разнородных состояния (свободное крестьянство и кабальное холопство) настолько сблизились, что достаточно было одного занесения в ревизские сказки как крестьян, так и холопов, чтобы образовать из них нечто среднее, известное под именем крепостного состояния.
Благодаря теории Ключевского просто и ясно разрешался сложнейший и вместе с тем капитальнейший вопрос нашей древности.
Не менее блестящи следующие статьи: «Состав представительства на земских соборах древней Руси» («Русск. мысль», 1890, № 1, 1891, № 1; 1892, № 1). Ключевскому принадлежит любопытная мысль — по именам участников соборов — XVI века определить, какие классы общества были представлены на земских соборах, насколько члены соборов были выразителями нужд и желаний известного класса и местного общества. И вот к каким выводам он пришел.
Объединенное Московское государство нуждалось в сильном цементирующем элементе, так как составные части государства были слабо связаны между собою. Повсюду чувствовалась рознь, непонимание общих интересов. Власть и принялась за создание прочных связей, она призывала на службу все население, которое
постепенно стягивалось в крупные общественные классы и закрепощалось в своем положении с целью более точной разверстки государственных податей и повинностей. В основу этого сословного и крепостного устройства было положено начало строгой ответственности перед государством: повсюду возникали местные уездные общества с точно определенными обязанностями, корпорации, связанный круговой порукой, в которых каждый ручался за всех и все за каждого в том, что они будут «государеву службу служить». Частная и общественная порука явилась новым основанием всего государственного устройства. А из этого начала ответственности перед государем выросла высшая порука — земский собор.
Земский собор был вершиною той пирамиды, которую строили московские государи, положив в основание ее сельские волости. Собор служил высшею формою поруки в управлении; здесь провинциальные представители ручались за свой мир, ручались за исполнение местным обществом постановления, принятого властью. Особенно характерны в этом отношении земские соборы XVI века: на них правительство имело дело не с народными представителями, в точном смысле этого слова, а со своими собственными агентами и искало не полномочия или совета, а выражения готовности собрания поступать так, как намечено было властью. Это не было представительным собранием, а скорее всего административнораспорядительным уговором правительства с своими органами, уговором, целью которого было обеспечить правительству точное и повсеместное исполнение принятого решения. Земский собор, родившись не из политической борьбы, а из административной нужды, восполнял правительству недостаток рук, а не воли или мысли.
Несмотря на то что до Ключевского целый ряд историков (Соловьев, Аксаков, Щапов, Чичерин, Беляев, Сергеевич, Загоскин, Костомаров и Латкин4) с особенным вниманием занимались историей земских соборов, статьи В.О. были настолько оригинальны и глубоки, что совершенно по новому осветили первоначальную историю земских соборов и послужили толчком к дальнейшей разработке того же вопроса.
Кроме указанных исследований и статей перу Ключевского принадлежит немало трудов, список которых приложен к «Сборнику статей, посвященных В. О. его учениками и почитателями по случаю 30-летия его профессорской деятельности»5. Из них исключительное место занимает «Курс русской истории».
Курс Ключевского более 25 лет тому назад начал издаваться литографским путем для слушателей В. О., но был известен и широкому
кругу читателей; с 1904 года стал печататься и вышел в 10-ках тысячах экземпляров. Напечатано 4 тома, доводящие историю России до царствования Екатерины II. Пятый и последний том, увы, не будет окончательно обработан Ключевским.
Этот курс занимает первое место как по своим научным, так и по чисто художественным достоинствам. Неспециалист* так описывает свои непосредственные впечатления после прочтения 4-х томов «русской истории» Ключевского:
«Вот вереница киевских и иных удельных князей,— этих полупиратов, полуторгашей, для которых княжеские “столы” — такой же предмет торга, как и все, чем только в то время можно было торговать. Вот бурливый, своевольный и бестолковый Новгород, так далекий от идеального образа “народоправства”,— Новгород с его сторонами и концами, с его вечем, феодалами-боярами и побоищами на волховском мосту. Вот удивительно ласковыми, теплыми словами написанный образ отшельника-монаха, одного из пионеров и духовных вождей северорусской народной колонизации, и тут же рядом — монах-стяжатель, делец и притеснитель. Вот московские, сначала просто, потом великие князья, копившие мошну, копившие земельный владения, готовые и на крупный политический шаг, и на мелкую интригу, и в конце концов скопившие великое Московское государство. Вот серия московских государей, вечно борющихся с финансовою нуждою и воюющих с жадным, своекорыстным, бесчестным московским боярством; среди этой серии трагический образ Ивана Грозного, который истребил боярство, но сам пал нравственною жертвой собственной победы; и еще гораздо более трагический образ Бориса Годунова, этого русского Макбета, может быть, единственного из московских государей по широте и ясности ума и по благородству своих намерений, но павшего жертвой тени убитого младенца. Вот благородный, рыцарски-чистый облик Ордина-Нащокина,— этого белого лебедя среди черных воронов московского боярства. Вот неизмеримо выше всего и выше всех колоссальная фигура Великого Петра, Петра, которого покойный историк немножко недолюбливал, к которому он подходил с скептицизмом и некоторою иронией и который все-таки вышел из-под его пера таким же стихийно-великим, каким он предстал изумленному потомству в произведении Фальконета. И горькая ирония судьбы: на смену ему — почти полувековое царство случайных людей, так и вызывающее в памяти салтыковскую “Историю одного города”».
* А. Кауфман. «Памяти великого художника» («Речь», 21 мая).
Справедливость, однако, требует сказать, что неумолимое время наложило печать и на этот несравненный курс. В своей основе он создавался в 80-х годах: к нашим дням некоторые части его обветшали. Так, напр., после исследований Шахматова6 о летописях, Павлова-Сильванского7 об удельном периоде, Платонова о смуте, соответствующие этому отделу курса, уже носят на себе следы архаизма. Тем не менее другого такого же курса в русской литературе нет.
Оценивая деятельность В.О. Ключевского, нужно сказать, что и до него у нас были превосходные историки: нельзя не вспомнить с чувством глубокого уважения такого труженика и серьезнейшего знатока нашей истории, каким был С. М. Соловьев, в свое время это был колосс. Но всякое время имеет своих героев и своих любимцев. С 60-х годов у нас народились иные запросы, иное настроение. Эти основные запросы общественной мысли необыкновенно живо восприняты были В.О. Ключевским, который в своих исторических трудах давал в изумительно яркой и привлекательной форме ответы на требования и запросы общества, в лекциях же являлся глашатаем и вдохновенным истолкователем своих идей. Своими трудами он дал начало новой исторической школе, сам оставаясь ее главой и наиболее талантливым представителем. Достаточно назвать в числе учеников и почитателей В. О.— М. Богословского, А. Кизеветтера, А. Лаппо-Данилевского, М. А. Дьяконова8, С.Ф. Платонова, чтобы сказать, что цвет современных историков идет по тому пути, какой впервые указан Ключевским. Нельзя не высказать чувства глубокой скорби при виде свежей могилы незабвенного историка.
Б. И. СЫРОМЯТНИКОВ
В. О. Ключевский и Б. Н. Чичерин
При оценке научных заслуг В.О. Ключевского необходимо иметь в виду, что великий русский историк был не только первоклассным исследователем, который продолжал дело своих предшественников и учителей, но и ученым, принадлежавшим к числу немногих избранных натур, призванных прокладывать новые пути человеческой мысли. Такие люди, как говорится,— «делают эпохи» в тех областях, куда направляют они творческие силы своего оригинального гения. Их имена отмечают поворотные моменты в процессе развития культуры духа, полагая глубокие грани в пространстве времен. Это творцы новых ценностей, люди, которые не только оставляют позади себя неизгладимый след, но и надолго предопределяют грядущее. Порывая со старой, они создают новую традицию.
Таков именно и был В. О. Ключевский, ученый первого ранга, родоначальник новой исторической школы, великий учитель, несравненный художник слова и мысли, гордость науки и гордость России.
Понятно, что при таких условиях совершенно немыслимо подходить к Ключевскому с обычным масштабом академической оценки, применимой к любому рядовому деятелю науки. Мы положительно рисковали бы вовсе не понять Ключевского, если бы взглянули на него только как на продолжателя его учителей или отнесли его к числу «учеников С. М. Соловьева», как любил — с преувеличенной скромностью — называть себя сам великий историк. Незабвенная заслуга Ключевского в том именно и заключалась, что он имел смелость не идти по проторенным уже путям и решительно выступил в роли историка-реформатора. Являясь действительно университетским учеником Соловьева, автор «Боярской думы», однако, не сделался последователем его «школы» и пошел своей
собственной дорогой. Рожденный для того, чтобы стать учителем, Ключевский естественно не мог быть ничьим учеником. Он должен был, в силу своего научного призвания, занять совершенно самостоятельное положение в русской исторической науке, сменив Соловьева на его учительском месте. Поэтому установить правильный взгляд на Ключевского возможно только в том случае, если мы выдвинем на первый план его значение как главы нового исторического направления, утвердившего новый метод в русской исторической науке.
Только с этой точки зрения сумеем мы как оценить по достоинству тот вклад, который внес он в сокровищницу исторического знания, так и установить надлежащее соотношение между ним и его предшественниками. Таким образом, совершенно очевидно, что в конечном счете обе указанные проблемы сводятся все к тому же основному вопросу о взаимоотношении двух, сменивших одна другую, исторических школ — школы Ключевского и той, к которой принадлежали его учителя, С.М. Соловьев и Б.Н. Чичерин, наиболее повлиявшие на автора «Боярской думы» и «Курса русской истории». Только установив необходимые перспективные точки зрения, мы будем в состоянии понять, как мог Ключевский, сохраняя органическую преемственность научной работы, в то же время решительно порвать с научной традицией старой исторической школы. Ключевский, действительно, сумел, с одной стороны, выделить в трудах своих предшественников все наиболее ценное и существенное, что должно было войти как прочное достояние в научный оборот, с другой — сумел вложить в реципированные схемы столько нового понимания и содержания, что в его интерпретации знакомые построения и факты приобретали совершенно новый смысл и как бы перерождались. Творческий гений Ключевского не мог довольствоваться простым «заимствованием» готового. Великий историк всегда сохранял свое независимое и свободное отношение к трудам своих предшественников, являясь во всеоружии специальной эрудиции. Он принимал только то, на что его уполномочивал проникновенный анализ источников, в таком совершенстве им изученных. Неудивительно, что при таких условиях он становился как бы вторым творцом научных теорий, высказанных до него, но окончательно установленных и, так сказать, канонизированных им. При этом необходимо иметь в виду, что Ключевский, являясь по преимуществу созидателем, никогда не подчеркивает оригинальности своих взглядов. Чуждаясь всякой полемики, никогда не выступая в роли «разрушителя», он лишь в исключительно редких
случаях вдавался в критику чьих-либо воззрений. Его внимание было всецело поглощено положительной, конструктивной задачей построения законченных научных выводов, отмеченных печатью тонкого изящества мысли. Автор даже как будто бы сознательно маскировал новаторский характер своих руководящих выводов. Не растрачивая своих сил на литературную борьбу, не заявляя о своих авторских правах, Ключевский прямо шел к своей цели — познанию сокровенных тайн исторического процесса. Он имел дело только с историей, а не с историками. Замкнувшись в самом себе, он творил, не задевая чужих самолюбий, не отвечая и на злые нападки, направленные против него. Само собою разумеется, что научные положения, утвержденные им, нимало не теряли от этого в своей силе и своем влиянии. В них implicite1 был уже заключен и суд, и приговор, и санкция и отрицание. Традиционные схемы в процессе подобного рода созидательной органической работы падали, так сказать, сами собой, не требуя особого развенчания. При этом великий мастер с таким искусством умел вкладывать новый смысл и содержание в привычные исторические факты и категории, что с первого взгляда, пожалуй, могло даже показаться, что никаких существенных изменений в действительности и не произошло. Однако при более внимательном рассмотрении не трудно было заметить, какое огромное расстояние отделяет «ученика» от его «учителей».
Это расстояние — как уже было указано выше — измерялось принципиальным различием тех методов, которыми оперировала та и другая сторона. Вопрос шел не о замене одной очередной «теории», напр., «родовой», какой-либо иной, напр., «общинной», а о двух исторических миросозерцаниях, двух школах, преемственно связанных между собой и последовательно отрицавших одна другую. Поэтому, не выяснив отмеченной принципиальной стороны вопроса, мы не сумели бы установить правильного соотношения между Ключевским и его предшественниками, в частности между им и Б. Н. Чичериным. Конечно, не трудно было бы указать те общие точки соприкосновения, которые в одних случаях ставят вне всякого сомнения, в других — делают весьма вероятным влияние на взгляды Ключевского таких авторов, как С. Соловьев, К. Кавелин, Б. Чичерин, И. Забелин, А. Щапов, К. Аксаков и др. Однако одного простого установления подобного рода связи далеко еще не достаточно для решения поставленного вопроса. Сущность проблемы в данном случае лежит гораздо глубже, она заключается в самом отношении Ключевского к построениям его предшествен
ников,— отношении, которое обусловливалось различием миросо-зерцаний историков двух школ. С определения этого различия мы и должны начать наш анализ.
Прежде всего, остановимся на предшественниках Ключевского.
Историческая школа, к которой принадлежали и Соловьев и Чичерин, наиболее чтимые учителя автора «Боярской думы», сложилась у нас в 40-х годах прошлого столетия. Школа эта образовалась под мощным влиянием руководящих идейных течений начала XIX века — идеалистической философии Шеллинга и Гегеля, с одной стороны, и так называемой «исторической школы» Савиньи2 — с другой. Отмеченный факт, можно сказать, имел решающее значение в процессе развития русской исторической мысли дореформенной эпохи. Им определялось именно самое направление исторической науки, ее метод и конечные цели исследования.
В самом деле, мы не должны забывать, что это было время, когда на широком общефилософском основании впервые было воздвигнуто стройное здание романтической «философии истории», безраздельно покорившей себе наиболее видные умы как на Западе, так и в России. Новая доктрина, действительно, подкупала своим всеобъемлющим универсализмом и строгой выдержанностью монистического принципа. Она поняла мир, со всем его бесконечным многообразием, как единый логический процесс саморазвития вселенского Духа, стремящегося в истории к своему самосознанию. В таинстве этого извечного пресуществления всемирно-историческая жизнь человечества должна была манифестировать не что иное, как непрерывное и вместе с тем необходимое восхождение мирового Духа в царство абсолютной свободы. Отдельные «исторические» народы, в свою очередь, должны были знаменовать собой в указанном процессе только известные моменты, состояния или «возрасты», раз навсегда пройденные божественной идей по пути к ее конечной цели. Но зато каждый из этих «избранных» народов, приобщаясь тем самым мировой жизни, становился носителем какого-нибудь общечеловеческого субстанционального «начала», которое постепенно раскрывалось по мере того, как данный народ достигал своего национального самоопределения. При таких условиях абсолютное, всемирно-историческое значение «национальной идеи» не подлежало никакому сомнению. Этой идеей в конце концов — согласно теории — и должна была определяться как историческая «миссия» или «мировое призвание» народа, так и тот самобытный «вклад», который суждено было ему внести в сокровищницу общечеловеческой культуры. Отсюда понятно, что целью исторического
познания, при такой точке зрения, поставлялось историческое самопознание*, т.е. определение тех «исконных» начал народной жизни, которые, являясь исключительной принадлежностью известной нации, были глубоко сокрыты в тайниках ее «народного духа», органически «из себя» развивающегося. Из этих-то «начал» и должна была быть выведена сама история народа.
Таким образом национальная идея становилась одним из руководящих принципов идеалистической историографии. Не трудно, однако, предугадать, к каким последствиям должна была привести усиленная культивировка этой идеи на исторической почве. Прежде всего, она должна была вызвать мысль о «совершенном своеобразии» всякой национальной истории, призванной сказать «свое слово» миру и потому не соизмеримой ни с какой иной историей. Каждый народ с этой точки зрения являлся, в полном смысле слова, историческим unicum. Так именно и решили данный вопрос русские историки-идеалисты. Устами Кавелина провозгласили они категорическую формулу, что «русская история не похожа ни на какую другую историю» в мире** и что русский народ представляет из себя совершенно «небывалую социальную формацию» ***. Но дело не ограничивалось одной только декларацией «беспримерной своеобразности» русского исторического процесса. В дальнейшем эта своеобразность русской истории была истолкована в смысле ее полной противоположности истории западноевропейских народов. Сложилась даже целая теория, утверждавшая, что историческое развитие русской народности — «этого удивительного племени» — шло как раз «обратно» тому, как оно шло на Западе****. Мир славянский и мир германский с указанной точки зрения должны были являться двумя мирами качественно отличными, диалектически и субстанционально непримиримыми в своей «противоположности»...
И как бы ни расходились иногда историки романтической школы в самой оценке национальных основ русской жизни,— которые одним из них представлялись как великое преимущество России, другим — как ее печальное историческое наследие,— они все,
* Соловьев С. М. История России с древнейших времён. Т. I. М., 1859. С. 6; Соловьев С.М. Исторические поминки по историке // Моск. унив. известия. 1866-1867. №3. С. 177.
** Кавелин К.Д. Сочинения. Т. I. М., 1859. С. 7.
*** Там же. С. 626.
**** Тамже. С. 201.
однако, согласно утверждали, что русская история, в противовес западноевропейской, не знала ни внутренней «борьбы», ни сословий, ни общественных классов, ни аристократии землевладения, ни аристократии капитала, ни «городов», ни пролетариата, ни феодализма, ни революций — словом, ничего, чем обычно характеризуется история цивилизации народов Запада. И даже в тех случаях, когда историкам приходилось все же констатировать некоторые «разительные сходства» в прошлом русского и западных народов, они спешили подчеркнуть, что за этим «внешним» и «поверхностным» сходством скрывается резкая «противоположность предметов разнородных» по самой своей природе*. Призвание историков романтической школы в том именно и заключалось, чтобы, не поддаваясь соблазнам исторической действительности, вскрыть . те метаисторические «начала» и «стихии», которые направляли жизнь каждого отдельного народа. Здесь-то и сказывалась наиболее ярко одна из методологических особенностей идеалистической историографии, особенность, определявшая, прежде всего, довольно своеобразное отношение историков этой школы к историческим материалам и фактам.
Поняв развитие вселенной как развитие единой в себе мировой идеи, последовательно воплощавшейся в жизни «избранных» наций, философия истории XIX ст. тем самым последовательно превращала процесс исторический в процесс диалектический: историческую логику событий она заменяла логикой понятий, априористически постулируя свои произвольные схемы, где начала «личности», «государственности» и т. п. чередовались в самых причудливых сочетаниях. В своих «диалектических импровизациях» — по удачному выражению Ключевского — историки старой школы, действительно, обнаруживали довольно ограниченный интерес к разработке сырого исторического материала. Последний в их построениях «на глазомер» играл вообще подчиненную, второстепенную роль. Предоставляя любителям древностей «рыться в старой пыли истории», они сами предпочитали философически «размышлять над фактами» **. Мы не должны забывать, что — согласно теории — самобытные руководящие «начала» национального развития известной народности должны были быть выведены непосредственно из ее «народного духа» как нечто наперед данное, исконное, сверхисторическое. Неудивительно, что при таких условиях идеалистическая
* Там же. С. 201, 120.
** Слова Чаадаева.
историография была так богата всякого рода «теориями» и «взглядами» на сущность русского исторического процесса, и взгляды эти отличались столь разительной противоречивостью*. Иначе, конечно, и быть не могло при том «вольном обращении с историей», каким отличалась вообще идеалистическая школа историков в лице даже наиболее умеренных своих представителей. Строить те или иные схемы при указанных условиях было тем легче, что исследователь не затруднял себя микроскопическими наблюдениями над историческими явлениями и их всесторонним анализом. Он ограничивался минимумом фактических данных, привлекая их скорее в качестве иллюстраций, чем доказательства. В этом смысле нельзя, напр., не отметить поразительной бедности того исторического материала, на котором базировал свою знаменитую теорию автор «Взгляда на юридический быт древней Руси»3.
Но скользя таким образом взыскующей мыслью по поверхности исторической действительности, историк-философ с тем большей готовностью оперировал такими общими понятиями, как «народ», «государство», «общество», «народный дух», которыми он пользовался всякий раз, когда требовалось объяснить тайный смысл процесса национальной истории. Его подкупала при этом кристаллическая ясность импровизированных им логических схем и спекулятивных построений, создававшая иллюзию законченной научной теории. Историк, по-видимому, и не подозревал, что на самом деле он останавливался в своих изысканиях, так сказать, у самого порога истории даже и в тех случаях, когда ему удавалось сделать очень удачное наблюдение, бросить светлую мысль. Действительно, вместо того, чтобы раскрыть исторический смысл и содержание названных выше понятий, он, напротив, с помощью этих «неизвестных» пытался разрешить все вопросы и все контроверзы, стоявшие перед ним. В результате же при таких условиях оказывалось, что схема русского исторического процесса была дана прежде, чем самый этот процесс сделался предметом специальной научной разработки. Но зато основная цель, поставленная на очередь историками старой школы, была достигнута: spiritus movens4 русской истории, ее руководящее «начало» в той или иной форме было найдено.
Таковы были конечные результаты торжества национальной идеи в русской исторической науке. И следует признать, что торже
* Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси // Рус. мысль. 1880. Кн. III.
С. 47-50.
ство названной идеи было настолько полным и решительным, что с отголосками ее нам до сих пор еще приходится считаться в русской исторической науке, где до последнего времени можно было встретить воспроизведение знаменитых парадоксов Погодинской «Параллели русской истории с историей западных государств»5.
Однако указанными результатами далеко еще не исчерпывалось влияние идеалистической философии истории на русскую историческую мысль. Наряду с идеей национального развития она выдвинула с такой же силой и идею государства как наивысшего выражения «народного духа» во всемирной истории.
Идеалистическая философия, можно сказать, обоготворила государство, увидев в нем откровенный символ «исторического» призвания народов, совершенную форму национального самоопределения. «Государство,— говорил Чичерин,— есть высшая форма общежития, высшее проявление народности в общественной сфере. В нем неопределенная народность... собирается в единое тело, получает единое отечество, становится народом* (курс. Ч.). «Только в государстве народ заявляет свое историческое существование, свою способность исторической жизни», — заключает ту же мысль и Соловьев**.
Естественно, что при подобных предпосылках русские историки солидарно переносили главный интерес научного наследования на проблему о государстве. Вопрос о происхождении, развитии и национальных особенностях русского государства положительно гипнотизировал их умы. С этого именно момента в русской исторической литературе и утверждается окончательно государственная точка зрения, т. е. тот взгляд «сверху» на прошлое русского народа, которым в значительной мере предопределялись самые пути развития научной мысли. И действительно, при указанной постановке вопроса в глазах исследователей вся русская история по существу сводилась к истории русской государственности» или, что то же, к истории государственной власти и правительственной регламентации. Говоря иначе, совершался сознательный подмен самого объекта исторической науки: все необозримое богатство ее содержания оказывалось втиснутым в узкие рамки одной определенной группы исторических явлений. С точки зрения основных принципов господствовавшей тогда философии истории подобный метод не только не заключал в себе ничего недопустимого, но и являлся вполне
* Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 309.
** Соловьев С.М. Исторические поминки по историке. С. 179.
целесообразным. В самом деле, не забудем, что романтическая школа смело ставила знак равенства между такими понятиями, как «государство», «правительство», «государственная власть», с одной стороны, и «народ», «общество» — с другой. В ее глазах, как мы видели, государство являлось живым воплощением «народного духа», а потому она и считала себя вправе отожествлять историю государства с историей народа, заменяя в то же время одно другим.
Задача историка при таких условиях, очевидно, значительно упрощалась. Ему не было необходимости и в данном случае спускаться в самые недра исторического процесса, к истокам народной жизни, он прямо восходил к ее политическим вершинам, бросая оттуда свой «взгляд» в пространство веков и затем зачерчивал ту или иную схему «истории русского государства». «Правительство,— писал Соловьев, — какая бы ни была его форма, представляет свой народ; в нем народ олицетворяется, а потому оно было, есть и будет всегда на первом плане для историка. История имеет дело только с тем, что движется, видно, действует, заявляет о себе, и потому (!) для истории нет возможности иметь дело с народными массами, она имеет дело только с представителями народа, историческими деятелями». Вычеркнув таким путем «народные массы» из истории, Соловьев делает при этом и характерное разъяснение. Если, говорит он, правительство олицетворяет свой народ, то ясно, что «историк, имеющий на первом плане государственную жизнь, на том же плане имеет и народную жизнь» *. Таким образом победа государственной точки зрения оказывалась полной, а «внутренняя» история народа приносилась в жертву «историческим личностям», официальным героям всемирной истории, как того и требовала теория.
Совершенно очевидно, что при таком аспекте социальная история должна была отойти у историков-идеалистов на самый задний план, уступив свое место истории политической в собственном смысле этого слова. И они, действительно, принялись за ее систематическую разработку.
Конечно, столь исключительное внимание к вопросам государственной истории не могло не наложить особого отпечатка и с этой стороны на идеалистическую историографию. Можно было бы далее сказать, что именно под влиянием «государственной» идеи русская историческая мысль первой половины XIX ст. окончательно завершила процесс своего самоопределения, создав национально
* Соловьев С.М. Собрание сочинений. СПб., 1901. Стб. 1123-1127; Чичерин Б.Н.
Опыты по истории русского права. С. 234.
государственную историческую школу, т. е. школу предшественников Ключевского.
Влияние государственной точки зрения сказалось прежде всего на самом подборе подлежащего научной обработке исторического материала. Доминирующая роль в настоящем случае, как и следовало ожидать, выпала на долю актов государственной власти, официальных памятников законодательства, дипломатических документов — словом, материала юридического по преимуществу. При этом рука об руку с историками шли также и историки права. Последние принялись с особенной энергией разрабатывать историю институтов публичного права и государственных учреждений, почти совершенно игнорируя историю права гражданского. Естественно, что в трудах юристов означенная выше государственная точка зрения получила еще более специфическое развитие. История права у них нередко превращалась просто в «историю законодательства», а история политических учреждений и публично-правовых институтов сводилась к детальному описанию государственного механизма России и «указной» интерпретации. Не удивительно поэтому, что даже и в сфере очерченного круга ограниченного научного интереса историки-государственники далеко не выполнили своего призвания. Говоря словами Ключевского, они не пошли далее установления чисто «технического взгляда» на историю государства российского*. Описав устройство государственной машины, ее составных частей, передач, они, однако, оставляли без рассмотрения вопрос о тех живых исторических силах, которые приводили в движение этот сложный аппарат, и о том «социальном материале», из которого были сделаны его отдельные части**. В данном пункте историки старой школы подходили к той заколдованной черте, через которую они никогда не дерзали переступить и которая так резко отделяла их от школы Ключевского.
Но доведенная до своего предела указанная односторонность взгляда приводила историков национально-государственной школы и к другой крайности. Вращаясь постоянно в «порочном круге» одних и тех же исторических фактов и представлений, сосредоточив все свое внимание на государственной истории «русского народа», они в конце концов настолько сжились с известными традиционными понятиями и схемами, что свои собственные односторонние обобщения
* Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси // Рус. мысль. 1880. Кн. I. С. 41-42.
** Там же. С. 53.
приняли за историческую действительность и даже, в довершение всего, возвели их на степень национальных самобытных «начал» русской истории. В самом деле, не углубляя своего анализа внутрь исторического процесса и будучи хорошо знакомы только с «государственной» историей России, историки дореформенной эпохи в конечном итоге своих построений сделали тот заключительный вывод, что русская история и не знает никакой иной истории, кроме государственной, т. е. что единственным двигателем и вершителем судеб русского народа во все времена его исторического развития была всесозидающая государственная власть. Что же касается этого самого народа, то, по утверждению тех же историков, он, напротив, представлял из себя не что иное, как «жидкую» массу, пассивный сырой материал, «калужское тесто», по выражению Кавелина, из которого правительство пекло все, что ему было угодно*.
Таким образом оказывалось, что русский народ сам не принимал никакого активного участия как в своих собственных судьбах, так и в судьбах того государства, которое должно было, однако, являться отражением его «национального духа». Этот народ объявлен был даже, по своей природе, народом «негосударственным». И действительно, по утверждению историков, особенно Чичерина, оказывалось, что в то время, как государственная власть не покладая рук трудилась над возведением своеобразной «храмины» русского государства, народ, напротив, только и делал, что уклонялся от «государева тягла», «брел розно», бежал в казаки и непрерывно «кочевал»**. Таким образом, по словам автора «Областных учреждений», «государство» на Руси «нашло вокруг себя чистое поле» и вынуждено было с великими «хлопотами» приняться за постройку на «пустом месте» своего собственного здания, которое при таких условиях должно было получить совершенно оригинальный вид и оборудование***. Понятно, что с указанной точки зрения русскому «народу» не находилось самостоятельного места в истории русского «государства» и он третировался, как quantity negligeable®.
Заключительный вывод из всех этих положений напрашивался сам собой, и историки национально-государственной школы не замедлили его сделать: «Вся русская история, — писал Кавелин,— как
* Соловьев С.М. Собрание сочинений. Стб. 789, 876-867, 888; Вестник Европы. 1886. Кн.Х. С. 745-746.
** Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 25, 173-174,385.
*** Чичерин Б.Н. Областные учреждения в России XVII века. М., 1856. С. 575.
древняя, так и новая, есть по преимуществу государственная... Еще Карамзин, руководимый верным чувством, назвал свое знаменитое сочинение “Историей государства Российского”. Действительно, политический, государственный элемент представляет покуда единственно-живую сторону нашей истории, сосредоточивает в себе весь смысл и всю жизнь древней Руси»*. Еще конкретнее ту же мысль выразил Чичерин, заявивши, что «у нас княжеская власть сделалась единственным двигателем народной жизни»**. Но, как уже было отмечено выше, усиленно подчеркивая столь «беспримерный» характер русского исторического процесса, идеалисты-историки в то же время возводили эту «характерическую особенность» русского народа на степень его исключительно национального свойства, видели в ней проявление его «национального гения». Именно в «развитии государства», по их мнению, не только сказалось коренное, «существенное значение» русской истории, но и ее «всемирно-историческое» призвание. «Дух русского народа,— резюмировал Чичерин,— выразился преимущественно в создании государства: отсюда истекают основные начала его общественной жизни» ***. Оставалось, следовательно, разъяснить только, в какой мере эти «основные начала» могли получить свое признание в русской истории. Но ответ и в данном случае был уже предрешен.
Как мы видели, «школа» признала, что русский народ не принимал никакого участия в деле строительства русского государства и что это самое «государство,— говоря словами того же Чичерина,— организовалось сверху, действием правительства, а не самостоятельными усилиями граждан » ****. Отсюда понятно, что и «ключом к уразумению всего нашего общественного быта» она должна была считать все ту же историю государственной власти. Созданием этой последней с ее точки зрения должен был являться не только государственный строй, но и общественный порядок, сменявшийся в зависимости от тех или иных «государственных» потребностей. Являясь «исходной точкой общественного движения» , верховная власть в России и в дальнейшем, согласно той же
* Там же. С. 134.
** Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 10-11, 285.
*** Там же. С. 139, 232, 358.
**** Там же. С. 381-382; Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866.
С. 525, 528; Чичерин Б.Н. Областные учреждения в России XVII века.
С. 36, 47.
теории, продолжала оставаться единственным «зодчим» русского общества*. Именно правительству, а никому иному обязана Россия тем, что она есть; благодаря его попечению безразличная масса русского народа получила известную организацию, сгруппировалась по разным «чинам» и общественным «состояниям». Долго, по картинному выражению Соловьева, «правительственное начало кружило по неизмеримым пространствам» бродячей Руси**, как Дух Святой над первобытным хаосом, пока не сказало оно, наконец, своего исторического «да будет свет», «да будет русское государство и русский народ»! Так «сверху вниз», вопреки всем правилам архитектуры, строилось здание русского общества из века в век. «Совершенная своеобразность» нашего национального развития и в данном случае, по сравнению с западноевропейскими народами, была поставлена вне всякого сомнения: «то общественное устройство, которое на Западе,— по утверждению Чичерина,— установилось само собой, деятельностью общества, вследствие взаимных отношений разнообразных его элементов, в России получило бытие от государства... подчиняясь мановению сверху»***. Таким образом, в исторической литературе середины XIX ст., в конце концов был прочно утвержден научный принцип, лаконически, но выразительно формулированный Кавелиным, что «в Европе все делалось снизу, а у нас — сверху»****.
Таковы в основных своих чертах были ближайшие последствия длительного деспотического господства национально-государственной точки зрения в русской исторической науке.
Мы видели вместе с тем, что в общем хоре согласных голосов историков идеалистической школы одно из видных мест принадлежало также и Б. Н. Чичерину, который едва ли не более, чем кто-либо, испытал на себе влияние направляющих идейных течений своего времени. Про Чичерина можно было бы даже сказать, что в кругу своих академических сверстников он был бесспорно самой философской натурой и в этом смысле был особенно глубоко захвачен философскими переживаниями эпохи «трансцендентальной реакции». В самом деле, если увлечение гегельянством, напр., у С. Соловьева, было довольно поверхностным и скоропреходящим, и ему пришлось, в конце концов, со
* Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 382-3.
** Соловьев С.М. Собрание сочинений. Стб. 789.
*** Чичерин Б.Н. О народном представительстве. С. 525, 528.
**** Кавелин К.Д. Сочинения. Т. I. С. 566 (О книге г. Чичерина).
знаться, что «отвлеченность была не по нем» *, то Б. Н. Чичерин, напротив, как на это указал в свое время К. Бестужев-Рюмин7, был страстным поклонником и проповедником философии Гегеля**. И действительно, несмотря на то, что в своих исторических «опытах» Чичерин не раз высказывался против «умозрительных» построений в истории и даже заявлял, что «в настоящую эпоху науки естественные и исторические двигаются другим путем... посредством наблюдений и опытного анализа» ***, тем не менее неисправимый гегельянец смотрит на нас с каждой страницы его блестящих трактатов. Несомненно, автор обнаруживал довольно ясную тенденцию к примирению умозрительного и опытного знания**** и неоднократно подчеркивал при этом, что он далек всяких «предвзятых теорий», что его выводы и заключения только «совпадают с выводами умозрения» и т. д, *****, однако мы должны относиться с большой осторожностью к этим его оговоркам. Гегельянская основа миросозерцания Чичерина слишком демонстративно заявляет о себе, чтобы можно было в данном случае ставить вопрос по существу. Чичерин не только принял ту самую схему основных стадий развития человеческих обществ, «какую Гегель начертал в своей философии права»6*, но и в дальнейшем все время продолжал оставаться на почве идеалистической «философии истории», исходя из ее предпосылок, оперируя ее методом. И надо отдать ему справедливость, поскольку гениальная система Гегеля являлась величайшим предвосхищением грядущих завоеваний положительного научного знания, постольку, опираясь на нее, автор «Опытов по истории русского права», в свою очередь, сумел дать в терминах философской концепции немецкого идеализма ряд высокоценных исторических обобщений. В последнем отношении Чичерину особенно помогал его ясный и трезвый ум, совершенно не мирившийся с «мистическим методом» в науке, тем методом, против которого с таким блеском выступил он 1857 г. на страницах «Русского вестника»7*8.
* Записки С. Соловьева //Вест. Европы. 1907. Кн. IV. С. 455.
** Бестужев-Рюмин К.Н. Воспоминания (до 1860 года). СПб., 1900. С. 37.
*** Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 371-374.
**** Он положительно стремился, по его признанию, к «установлению вожделенного согласия различных областей знания и различных путей исследования» (Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 373).
***** Там же. С. 373.
6* Там же. С. 371.
7* Рус. Вест. 1857. Кн. Х.С. 757-768.
Однако как ни было значительно тяготение Чичерина в сторону «опытного анализа» исторических явлений, тем не менее он продолжал оставаться во власти очаровавшей его философской доктрины, усвоив одновременно и все руководящие выводы национальногосударственной исторической школы. Сочетая идеалистическую и «историко-органическую» точки зрения, Чичерин, таким образом, непосредственно примыкал к тому научному направлению, которое являлось господствующим в его время.
Исходным пунктом его философско-исторических построений являлась идея всемирно-исторического развития. В этом смысле автор говорил о мировом «призвании» или «назначении» народов, которое выражалось в том, что каждый народ исчерпывал свое «историческое содержание», развив «до крайности» какое-нибудь определенное, присущее ему в особенности, «общечеловеческое начало» (начало права, обязанности, личности, государственности и т.п.)*. Но что особенно знаменательно — автор выдвигал при этом мысль о «разумной необходимости исторического хода» событий, рассматривая вместе с тем самый исторический процесс, как эманацию «народного естества» или «народного характера» **.
На той же почве оставался Чичерин также и в том случае, когда ему приходилось определять свое отношение к так называемым «историческим личностям». Высказываясь в том смысле, что «великие люди» всегда являются «сынами своего века» и имеют своим призванием реализацию давно назревших уже в обществе «требований», он видел, однако, в этих избранных личностях носителей великого мирового начала «свободы» как начала абсолютного. Эти «герои» всемирной истории должны были, таким образом, вносить в жизнь «исторических» народов те новые идеи и начала, которые не в силах была создать косная традиция истории. Только этим избранникам неба дано было разрешать те самые задачи, «которых последняя не в силах была разрешить сама собой» ***.
Наконец, и в понимании хода исторического процесса Чичерин также обнаруживал свою несомненную принадлежность к идеалистической школе. Историческое развитие он мыслил как диалек
* Чичерин Б.Н. О народном представительстве. С. 23, 46, 296; Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 358; Рус. вести. Кн. XI.С. 180.
** Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 374-375, 358; Рус. вести. 1857. Ки. Х.С. 749.
*** Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 388; Чичерин Б.Н. О народном представительстве. С. 284.
тический процесс согласно абстрактному закону трех состояний по формуле Гегеля. «Известная форма общественной жизни», говорил он, должна непременно «исчерпать» себя «до крайних пределов», чтобы, дойдя таким путем до самоотрицания, вызвать появление нового, совершенно «противоположного» общественного распорядка. «Таков диалектический процесс различных общественных элементов». По мнению Чичерина, указанная борьба «противоречий» и является «главной пружиной движения вперед» в историческом процессе*. Однако он понимает эту смену общественных форм как процесс логический. Указав, напр., что в.Древней Руси безраздельно господствовало «начало личности», он затем делает вывод, что необузданное развитие этой личности должно было «необходимо» вызвать появление противоположного начала, начала государственного закрепощения: одна крайность должна была привести к другой**. И он показывает далее, что указанное им начало, действительно, доминировало в Московском государстве. Но подчеркнув столь категорически логическую необходимость смены одного исторического состояния другим, автор совершенно не выясняет ее исторической необходимости. Фигура долженствования заменяет у него специальную работу исследователя: он постулирует от одного комплекса фактов к другому, прикрывая образовавшуюся между ними пропасть такими бессодержательными декларациями, как, напр.: «возникающее государство, чтобы иметь возможность развить свои начала и устроить свой организм, необходимо требовало...», государство «должно было» положить предел «разгулу личности», «потребность общего союза» требовала «образования государства» и т. д.*** Не трудно видеть, что все эти и подобные им утверждения или просто являлись тавтологией, или самой очевидной petitio principle9. С исторической же точки зрения они не выдерживали критики просто потому, что не вкладывали никакого конкретного содержания во все эти «должно» и «требовалось» ****. Впрочем, установление внутренней исторической связи в данном случае вовсе и не предполагалось
* Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 74, 336, 357, 369; Чичерин Б.Н. Областные учреждения в России в XVII веке. С. 21, 587; Рус. вести. 1857. Кн. XI.С. 181; Чичерин Б.Н. О народном представительстве. С. 285.
** Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 336.
*** Там же. С. 31, 127, 230-231, 336, 380.
**** Подобного рода аргументацию или «припев» столь же часто встречаем мы как у Соловьева, так и у Кавелина.
в теории. Чичерин нередко даже прямо заявлял, что требуемое в тот или иной исторический момент новое движущее «начало» не было и не могло быть выработано самим русским народом, и тем не менее оно являлось, так как «должно» было явиться. В таких случаях обыкновенно и выступали на историческую сцену «провиденциальные» личности, великие двигатели народов, которые и совершали то, что должны были совершить в силу требований высшей, так сказать, надисторической логики. Так именно и смотрел Чичерин, напр., на Петра I: «великий зодчий», по его словам, призван был совершить то, чего «сама собой» не могла создать «древняя Россия», осужденная иначе окаменеть в тупике ее «исключительно национального развития». «Нужен был исход» — явился Петр!* Точно так же в свое время поступил и Кавелин, которому, согласно его схеме, нужно было ввести в русскую историю то самое «начало личности», которого не могла развить из себя «древняя русская жизнь», застывшая в патриархальных формах «родового быта», в корень уже изжившего себя. Необходимо было, таким образом, заимствовать это начало «извне», нужен был исход — явились князья, а с ними и вожделенная «личность». Историческое движение началось...**
Не удивительно, что при таких отправных точках зрения, сделав русское государство центром своего внимания, Чичерин последовательно из самого понятия этого государства пытался вывести всю русскую историю. В конце концов у него, действительно, оказывалось, что и русская община, и институт холопства, и крепостное право, и организация «сословий», и обособление города от села — словом, все было созданием государственной власти, которая своими «правительственными мерами и распоряжениями» «водворяла» с немалыми усилиями и даже насилием те или иные порядки***. Понятно, что при таких условиях автор должен был отнестись также совершенно отрицательно и к такому проявлению «ничтожества» русской земли, как земские соборы****. Его, можно сказать, положительно подавляла мысль о всеобъемлющей созидательной роли «государства» в русской истории, с одной стороны, и анархическом, беспомощном состоянии текучей, инертной «массы» русского на
* Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 386.
** Кавелин К.Д. Сочинения. Т. I. С. 45, 57, 65.
*** Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 13, 27, 31, 36, 47, 57, 127, 145, 163, 189, 227, 229, 230.
'*** Чичерин Б.Н. О народном представительстве. С. 528, 530, 560-562.
рода — с другой. Но в этом противопоставлении «разумной силы» государства и его «великих зодчих» мертвой материи «народа»* мы, по существу, еще раз встречаемся с одним из основных принципов идеалистической философии истории, которая рассматривала исторический процесс как процесс «разложения (коснеющих) масс мыслию», говоря словами Грановского**.
Позволим себе, наконец, отметить и еще одну характерную черту в научном творчестве Чичерина, которая вытекала из того же источника.
Нельзя оспаривать, что центральной идеей, вокруг которой неустанно вращалась подвижная мысль Чичерина, а вместе с тем и его научным открытием в области русской истории, как это подчеркивал он сам, была идея гражданского общества как переходной стадии от «родового», кровного союзного быта к быту государственному. Идея эта была целиком воспринята им от того же Гегеля, величайшей заслугой которого Чичерин считал именно установленное им принципиальное различие между состоянием «гражданского общества» и «государством». Автор до того при этом был увлечен «гениальной» идеей великого немецкого философа, что положительно возвращался к ней в каждой своей исторической монографии и статье, как в «Опытах», так и в «Областных учреждениях», как в трактате «О народном представительстве», так и в своих полемических статьях по вопросам методологии истории***. Определив понятие «гражданского общества», Чичерин говорит: «В самом деле, к этому понятию сводятся все разнообразные явления, которые мы встречаем в удельной России: родовые отношения, вотчинное начало, общинный быт, княжеские и служебные договоры, сословные стремления, крепостная зависимость; во всем этом проявляется одно начало, которое составляет юридическую основу гражданского общества — частное право»****. Таким образом, автор взял понятие
* Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 366.
** Грановский Т.Н. Сочинения. М., 1900. С. 445. «Массы, как природа или как Скандинавский Тор, бессмысленно жестоки и бессмысленно добродушны. Они коснеют под тяжестью исторических и естественных определений, от которых освобождается мыслию только отдельная личность. В этом разложении масс мыслию заключается процесс истории».
*** Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 70-71, 236-237, 365-367, 374; Чичерин Б.Н. Областные учреждения в России в XVII веке. С. 21; Русск. вести. 1857. Кн. Х.С. 744-747; Кн. XI, стр. 192; Чичерин Б.Н. О народном представительстве. С. 288.
**** русск. вест. 1857. Кн. Х.С. 747.
«гражданского общества» как готовую уже категорию. Он не вывел его из русской истории, а напротив, сделал попытку подвести явления этой истории под наперед уже данную схему. Естественно, что, подгоняя факты к известному шаблону, Чичерин многого не видел вовсе, на многое же смотрел с своей предвзятой точки зрения. Однако, вне всякого сомнения, он с полным правом мог считать своей крупной заслугой блестящую историческую интерпретацию гегелевской схемы на русской почве, благодаря чему ему действительно удалось раз и навсегда решить вопрос о «средней эпохе» в русской истории. Чичерин был совершенно прав поэтому, когда говорил, что «значение союзов кровного и государственного давно уже известно в нашей истории и утверждено в ней на незыблемом основании... Значение же средней между ними эпохи не было, как нам кажется, выставлено в надлежащем свете»*. Эта последняя задача и была им разрешена его «Опытами».
Вот почему, когда приходится говорить о Чичерине как об историке русского права, нельзя не признать, что в его лице мы имеем по преимуществу творца «вотчинной» теории происхождения «удельных» княжеств. С его именем в указанной области должна быть связана именно эта теория, точно так же как «теория родового быта» с именем Соловьева.
Но в данном пункте мы как раз и подходим к вопросу о взаимоотношении Чичерина и Ключевского.
Бесспорно, после Соловьева среди университетских учителей Ключевского Б. Н. Чичерину принадлежит самое почетное место. Мы сказали бы даже, что в умственном складе В. О. Ключевского было что-то «чичеринское». Та ясность и острота мысли, сила логики и мастерство конструкции, законченность формы и точность языка, которые так привлекательны в Чичерине, несомненно, роднят с ним нашего великого историка. Недаром Ключевский так высоко ценил в нем профессора и учителя. Дисциплина ума автора «Опытов», по-видимому, передалась и его «ученику», послужив доброй школой для развития исключительных дарований последнего. И действительно, влияние Чичерина на Ключевского было весьма значительно и многообразно. Оно выразилось, прежде всего, в том, что автор «Опытов» воздействовал, так сказать, на самое направление научного интереса главы новой исторической школы. В самом деле, едва ли можно отрицать, что выбор целого ряда тем для специальных работ Ключевского был как бы подсказан ему историческими трудами
Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 374.
и «опытами» Чичерина. Такая связь могла бы быть установлена, напр., между статьями Ключевского по истории крепостного права и холопства10 и этюдом Чичерина о «Холопах и крестьянах в России до XVI в.», а также между историческим очерком земских соборов последнего в его книге «О народном представительстве» и статьями того же Ключевского о «Составе представительства на земских соборах в древней Руси», статьями, которые сам автор «посвятил Чичерину»11. Наконец, нельзя не обратить внимания также и на тот факт, что, по-видимому, и «Боярская дума» Ключевского обязана была своим появлением «Областным учреждениям» Чичерина. В своем «Опыте истории правительственного учреждения в связи с историей общества» Ключевский именно хотел противопоставить свой метод изучения «государственной» истории Древней Руси той «технической» точке зрения, которая безраздельно господствовала в национально-государственной историографии того времени и так ярко отразилась в монографии Чичерина. Недаром автор «Боярской думы» начинает свое знаменитое введение к последней прямым указанием на результаты новейшего изучения «наших древних учреждений... преимущественно областных», т.е. очевидным намеком на труд Чичерина*.
Но если в указанном выше смысле влияние Чичерина выразилось, главным образом, в том, что он пробудил в своем ученике научный интерес к известным историческим явлениям, увлекая его в определенном направлении на путь самостоятельных изысканий, то — с другой стороны — это влияние сказалось также и в прямом воздействии творца «вотчинной теории» на автора «Боярской думы» . Мы разумеем именно взгляд Ключевского на удельную Русь. Правда, в данном вопросе Ключевский, прежде всего, являлся продолжателем Соловьева, однако общая конструкция удельного порядка, вне всякого сомнения, взята им была у Чичерина. Только опираясь на мастерской анализ «духовных и договорных грамот великих и удельных князей», который дал Чичерин в своих «Опытах», выделив раз навсегда под видом «гражданского общества» целый период в русской истории, Ключевский, в свою очередь, мог подарить нам поистине классическую характеристику древнерусского государства-поместья. При этом Ключевский не только принял теорию Чичерина об определяющем значении «вотчинных», «частно-правовых» отношений в удельной Руси,
* Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси // Рус. мысль. 1880. Кн. I.
С. 40 и сл.
но и последовал за ним в целом ряде других вопросов. Автор курса «Русской истории» местами почти буквально повторяет формулировки, выводы и отдельные мысли своего предшественника, хотя нигде и не называет его по имени. В самом деле, когда Ключевский говорит об удельных князьях как первых «заселителях и устроителях» своих земель, он — по существу — лишь повторяет мысль Чичерина, что «князья первые сделались оседлыми» в северо-восточной Руси и первые начали собирать вокруг себя «блуждающие» элементы подвижного удельного общества*. Называя это последнее «случайным сборищем людей» и указывая, что у князя удельной эпохи не было, собственно говоря, «подданных», так как свободное население в княжеской вотчине являлось «не политической единицей... а экономической случайностью», Ключевский и в данном случае только воспроизводит наиболее удачные наблюдения своего учителя**. И далее, говоря о том, что удельный «князь, переставая быть государем, оставался только землевладельцем, простым хозяином», что своим уделом он владеет как «частной собственностью», что «государем» он был только для своих холопов и что, наконец, ему было совершенно чуждо всякое представление о политической территории, которую он не отличал от своей домашней «рухляди» и прочей движимости,— говоря все это, Ключевский продолжал, так сказать, оставаться в пределах «Опытов по истории русского права» ***. В том же смысле можно было бы также отметить и взгляд Ключевского на «договорный» характер общественных связей в период уделов, и его сопоставления «удельных порядков» с феодальными отношениями на Западе, отличие которых от первых он объяснял,— подобно Чичерину,— все той же «подвижностью» населения данной эпохи****.
Уже приведенных примеров с избытком достаточно, чтобы установить тот факт, какое глубокое влияние оказали труды Б. Н.
* Ср.: Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 175; Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 91; Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч.1.М., 1904. С. 431.
** Ср.: Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 343; Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 76. Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 440.
*** Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 217, 219, 343; Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 76-78, 81; Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 440-441, 443.
'*** Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 81; Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 445-447.
на автора «Боярской думы». Тесная преемственная связь между русским историком и историком права является, таким образом, совершенно очевидной. И тем не менее мы вынуждены сказать, что связь эта не уничтожает того расстояния, которое отделяло обоих исследователей, казалось, столь сочувственных один другому. Необходимо принять во внимание, что устанавливая известное соотношение между Ключевским и Чичериным, мы тем самым, однако, еще не решаем поставленного на очередь вопроса по существу. Решение его лежит в совершенно иной плоскости. Как бы ни были объективно ценны отдельные исторические наблюдения того и другого автора, мы не должны забывать, что в настоящем случае, когда речь идет о судьбах самой исторической мысли, для нас первенствующее значение имеет как раз противоположный субъективный момент. Один и тот же факт или вывод с этой точки зрения может получить совершенно различный смысл в зависимости от того, как он будет понят. Только в общем контексте законченного исторического построения раскрывает он перед нами свое научное, «историко-философское» содержание. Поэтому, говоря о Чичерине и Ключевском, мы должны также углубить наш анализ и, не смущаясь видимым сродством отдельных заключений того или другого исследователя, выявить то историческое миросозерцание, на котором базировали они свое понимание русского исторического процесса. Что касается Чичерина, то мы уже определили его место в русской исторической науке, видели, в какую схему укладывались у него факты русской истории и каковы были его методологические приемы. Остается, следовательно, посмотреть, как подошел к тем же фактам и готовым «историко-философским формулам» незабвенный автор «Боярской думы».
Несомненно, в центре всего исключительно богатого научного наследства Ключевского стоит его гениальная книга — «Боярская дума древней Руси». В этой книге, можно сказать, вылился весь Ключевский! В ней дал он одновременно и непревзойденный до сих пор образец исторического исследования по «истории государственных учреждений», и наиболее яркое исповедание своего научного credo, и, наконец, блестящую критику старой школы историков. В частности, как уже было указано выше, Ключевский имел в виду также противопоставить свою историю «боярской думы» истории «областных учреждений» Чичерина, демонстрировав таким образом коренное различие двух исторических школ, двух исторических методов. В этом смысле про «Боярскую думу» Ключевского можно сказать, что она явилась как бы манифестом
новой исторической школы. И действительно, когда в январской книжке «Русской мысли» за 1880 год появились первые главы «Боярской думы», уже одно заглавие «введения» к этому «опыту истории правительственного учреждения» должно было поразить ученый мир своей вызывающей дерзостью: «В предлагаемом опыте,— читаем мы там,— боярская дума рассматривается в связи с классами и интересами, господствовавшими в древнерусском обществе»*. В этих строках автор, на самом деле, смело бросил перчатку историкам национально-государственной школы, резко подчеркнув принципиальную основу своего разногласия с ними. Действительно, автор поставил себе целью написать, так сказать, классовую историю русского общества, связав с его интересами историю одного из старейших «правительственных учреждений». Но ведь с точки зрения господствовавшей тогда традиционной академической теории это значило — писать историю того, чего не было. Казалось, при таких ауспициях попытка смелого новатора должна была окончиться полной неудачей и здание, воздвигнутое им «на песце», должно было рухнуть. Однако случилось как раз наоборот. Именно «Боярской думе» суждено было сделаться той новой школой, откуда вышла современная нам историческая наука. Новые поколения историков пошли, действительно, за Ключевским, и этим фактом дальнейшая судьба национально-государственной историографии была предрешена...
Автор «Боярской думы», конечно, отлично понимал, «на что он руку поднимал», и потому не замедлил объясниться со своими предшественниками и «учителями». «В истории наших древних учреждений,— писал он в том же введении,— остаются в тени общественные. классы и интересы, которые за ними скрывались и через них действовали. Рассмотрев внимательно лицевую сторону старого государственного здания и окинув беглым взглядом его внутреннее расположение, мы (автор говорит о своих предшественниках) не изучили достаточно ни его оснований, ни его строительного материала, ни скрытых внутренних связей, которыми скреплены были его части, а когда мы изучим все это,— заключает автор,— тогда, может быть, и процесс образования нашего государственного порядка и значение его правительственных учреждений предстанут перед нами несколько в ином виде, чем как представляются теперь» ** (курсив наш).
* Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 40.
** Там же. С. 48.
Этими сдержанными словами Ключевский, по существу, опрокидывал все здание идеалистической историографии. Предшественники его, как мы видели, изучали русский исторический процесс «сверху», с лицевой стороны, он, наоборот, начал изучать его «снизу», изнутри; их интересовала только «техника правительственного механизма», за которым они ничего не видели, он же сразу выдвинул вопрос о тех живых исторических силах, которые приводят этот механизм в движение, и о тех материалах, из которых он сделан. «Что забываем мы,— спрашивал он,— при изучении механизма правительственных учреждений? — А забываем то, что они — не механизм только, что изучение их не следует ограничивать вопросами правительственной механики... Перед нами остается еще социальный материал, из которого они были построены», а «в истории политических учреждений,— заключает автор,— строительный материал часто важнее самого строя» *. Этими словами, можно сказать, автор наносил роковой удар старой исторической школе и прежде всего Чичерину как наиболее сильному ее представителю. Он особенно подчеркивал при этом бессодержательность исторических схем историков-государственников и опять-таки, не называя имен, направлял самые острые свои стрелы по адресу автора «Опытов» и «Областных учреждений». «Когда нам (!) приходится отвечать на вопрос, как образовалось московское государство,— писал автор “Боярской думы” — мы чаще всего даем такой ответ: путем возведения частного права в государственное**, или, говоря проще, путем превращения удельной вотчины московских князей во всероссийское государство. Легко видеть, что это — формула, метко схваченная на глазомер, изображающая ход явлений более диалектически, чем исторически; ее надобно еще раскрыть и доказать сложным анализом многих исторических явлений, чтобы сделать понятным скрытый в ней исторический процесс... В указанной диалектической схеме собственно выражается смена начал, развитие идеи государства, точнее — идеи государственной власти, а не самого государственного порядка» *** (курс. наш). Таким образом задача была поставлена ясно и определенно — требовалось подвести историческое основание под те фасады, которые так старательно выводили представители старой исторической
* Там же. С. 53-54.
** Формула Чичерина.
*** Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси //Рус. мысль. 1880. Кн. I.
С. 43-44, 52.
школы, а вместе с тем надо было вложить историческое содержание в те диалектические формулы, которыми оперировали историки-идеалисты*. Понимая так глубоко и широко задачу исторического исследования, Ключевский, в полном смысле слова, должен был заново переработать весь огромный запас исторического материала. И действительно, в научной лаборатории Ключевского впервые абстрактные схемы историков старой школы стали облекаться в плоть и кровь исторической жизни. Мистическая пустота «мирового» или «народного духа» и всякого рода «начал», в которой так долго вращалась научная мысль, теперь должна была обнаружить всю свою несостоятельность и уступить свое место представлению о живом процессе истории. Эта история превратилась теперь в скромное дело рук человеческих, развернулась как сложный процесс борьбы тех самых общественных сил и интересов, которые, по удачному выражению Ключевского, «скрываются» под формами преходящих государственных учреждений. «Политический порядок,— говорил автор “Курса”,— в своем окончательном виде всегда отражает в себе совокупность и общий характер частных людских интересов и отношений, которые он поддерживает и на которых опирается» **. Такую постановку вопроса мы, действительно, вправе квалифицировать как переворот в исторической науке. Правда, историки идеалистической школы также любили говорить о «тесной связи между государством и народом » и даже называли эту связь «органической», тем не менее понятия «государства» и «народа» у них являлись чисто логическими категориями, лишенными всякого исторического содержания. Поэтому в мистическом, абстрактном представлении о «народе» как некоторой идеальной «сущности» у них исчезало, растворялось конкретное представление о нем как о сложном комплексе реальных общественных отношений. Ключевский, напротив, перенес все свое внимание в сферу этих жизненных отношений, потребовала чтобы были раскрыты таинственные скобки диалектических формул и чтобы историки приступили, наконец, к решению того уравнения со многими «неизвестными», которое носило громкое имя «философии русской истории». Стоит только сопоставить «Боярскую думу», это «многопредметное сочинение», по ироническому замечанию В. Сергеевича, с «Областными учреждениями», чтобы понять, какая, действительно, огромная пропасть
* Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси // Рус. мысль. 1880. Кн. III. С. 47, 50-52.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 428.
лежит между этими двумя зрелыми плодами исторической мысли, выросшими на совершенно различной идейной почве. «Боярская дума» — это почти целый курс древней русской истории, на фоне которой автор изображает эволюцию политической и «социальной истории думы»*; «Областные учреждения» — это техническая схема «правительственной механики» Московского государства, построенная по диалектическому шаблону вне непосредственной «связи» с исторической действительностью, хотя и при помощи «исторических» фактов. Перед нами, в данном случае, действительно, два глубоко различных исторических миросозерцания, противоположность которых объяснялась принципиальным различием идейных влияний, воздействовавших в свое время на того и другого исследователя.
В самом деле, если про идеалистическую школу историков можно сказать, что она явилась на смену просветительной историографии, противопоставив предпосылкам французского рационализма немецкую романтическую философию, то про социологическую школу Ключевского с таким же правом можно было бы утверждать, что она, в свою очередь, пришла на смену национально-государственной историографии, поставив на место философского идеализма чисто реалистическое миропонимание. Последнее заключение станет для нас совершенно понятным, если мы вспомним, что исторические взгляды Ключевского, его духовный облик складывались как раз в ту эпоху, когда и на Западе, и у нас, около середины XIX ст., начался пышный расцвет положительного знания, в особенности естествознания с его позитивными методами исследования. Это было время блестящего дебюта и необыкновенно быстрого развития общественных наук, эпоха, когда под влиянием величайших внутренних потрясений в жизни Европы всеобщее внимание было привлечено к вопросам социальным. Выступление широких масс народа на историческую сцену, борьба партий и классов, рост общественной культуры — все это, конечно, не могло остаться незамеченным со стороны ученых историков, внимание которых также должно было переместиться с периферии исторического процесса в его жизненные глубины. Не забудем, что одновременно и в России, в пору так называемых шестидесятых годов, также совершались не менее великие события. То была «эпоха великих реформ», первая весна русской жизни, когда идея национального воскресения народа
* Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси // Рус. мысль. 1880. Кн. III.
С. 5, 7.
овладела всеми умами и сердцами. В обществе началось небывалое оживление, и вместе с тем начался пересмотр старых верований, научных догматов и общественных идеалов. Открылась новая эра «помрачения кумиров», старые жертвенники были опрокинуты, явились новые пророки. Под шум публицистических витий «обличительной» литературы в русском обществе в это время появился и скоро сделался господином положения «мыслящий реалист», проповедовавший естественные науки, как новую религию. Старые боги при таких условиях были окончательно низложены: на место непререкаемого авторитета Шеллинга, Гегеля, Кузена, Гердера12, Савиньи и др. теперь водворились новые не менее деспотические «властители дум» — Конт, Милль, Спенсер13, Маркс и пр. Создалась совершенно особая идейная атмосфера, которой все дышали и которая оказывала могущественное давление на общественное сознание и научную мысль.
В этой-то богатой глубокими переживаниями атмосфере и выковал В. О. Ключевский свое собственное историческое миросозерцание, чуждое каких-либо предвзятых точек зрения и оригинальное, как все, на чем лежала печать его глубокой мысли. Но само собою разумеется, что общий дух его многогранного миросозерцания был проникнут теми самыми руководящими принципами, на которых покоился весь умственный склад современной ему эпохи.
Прежде всего, Ключевский был и всю жизнь оставался реалистом. Он решительно отверг «умозрительное» направление в истории, являясь непримиримым противником всякого исторического мистицизма, в какие бы формы он ни облекался, в формы ли, как выражался он, «созерцательного, богословского видения» * или же «философских» метаисторических откровений. «История народа», говорил он, должна являться «изображением действительного его состояния в известное время с указанием исторического происхождения этого состояния, а не диалектической импровизацией на ту или другую бытовую тему без времени и места с одними общими местами вместо фактов»**. Таким образом, Ключевский относил историю к «области опытного или наблюдательного знания», а потому и от историка, прежде всего и после всего, требовал систематической работы над сырым историческим материалом, требовал раскопок. При этом самые способы, методы историческо
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 9.
** Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси // Рус. мысль. 1880.
Кн. IV. С. 2.
го изучения он склонен был заимствовать из наук естественных, не видя принципиального различия между явлениями социальной жизни и жизни природы. «Человеческое общежитие,— по мнению автора “Курса русской истории”,— такой же факт мирового бытия, как жизнь окружающей природы... Исторические тела... рождаются, живут и умирают подобно органическим телам природы»*. И Ключевский любил возвращаться к этим аналогиям, проводя параллели между процессом историческим и биологическим, говоря об «анатомии» и «физиологии» общественной жизни, «возрастах» людского общежития, органическом и социальном разделении труда и т. п.** Отсюда понятно, что и для исторической науки он ставил те же самые цели, как и для всякого вообще научного знания. В противоположность современной «риккертовской» школе14 он относил историю к разряду наук номотетических, генерализирующих, полагая, что она имеет своей основной задачей «изучение свойств и действия сил, созидающих и направляющих людское общежитие» ***. Таким образом, раскрытие законов развития человеческих обществ, «стихийной закономерности народной жизни» — вот, по Ключевскому, в чем заключается «общая задача исторического изучения»****.
Но относя историю к группе наук номотетических, Ключевский, разумеется, не отвергал научной важности изучения индивидуальных особенностей того или иного «местного» исторического процесса, так как отлично понимал, что история никогда буквально не повторяется и, подчиняясь известным законам, не знает вовсе шаблонов. По мысли Ключевского, подобного рода изучение исторических «своеобразий» в прошлом отдельных народов не только не противоречит основной задаче исторической науки, но — напротив — положительно содействует более углубленному ее разрешению. «Изучение местной истории,— говорит он,— дает готовый и наиболее обильный материал для исторической социологии», посредством него «мы познаем не только природу людского общежития, но и законы его движения». Ключевский думает даже, что раскрытие «законов строения человеческих обществ» еще более
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 2.
** Там же. С. 6; Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. М., 1908. С. 7-8;
Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. М., 1910. С. 60.
*** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 3.
**** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 5, 8, 7, 23; Ключевский В.О.
Курс русской истории. Ч. III. С. 16, 164.
облегчится, если мы предварительно «сосредоточим внимание на частичных местных строениях, представляемых жизнью того или другого народа»*. В частности, русскую историю он считает особенно «удобной для отдельного социологического изучения» ввиду ее «сравнительной простоты и некоторых характерных «особенностей», которые, однако, вовсе не уничтожают того общего положения, что и в истории русского народа мы «наблюдаем действие тех же исторических сил и элементов общежития, что и в других европейских обществах»**. Таким образом «из общей задачи исторического изучения» Ключевский выводил, говоря его собственными словами, и «научную цель изучения местной истории» ***.
Отсюда понятно, какого метода будет держаться автор «Боярской думы» в «своих исторических изысканиях. Это будет метод, которому он сам дал имя метода историко-социологического.
И Ключевский, действительно, выступает перед нами в роли историка-социолога. Героем его истории была не абстрактная «личность» и не индивид, а общество, те самые «массы», с которыми историки старой школы не желали входить в непосредственное соприкосновение. «История,— говорил он,— имеет дело не с человеком, а с людьми, ведает людские отношения, предоставляя одиночную деятельность человека другим наукам****. Поэтому автора интересовали не исторические события, а стихийные процессы истории, социальная эволюция в собственном смысле, история культуры, а не «политическая» история. С той же точки зрения он решал и проблему «об исторической дееспособности идей». Его занимали исключительно общественные идеи, которые одни только, по его убеждению, и могут являться предметом научного исследования историка. Это те «конкретные» идеи-силы, которые, по его словам, непроизвольно «отлагаются от общественных отношений» и в свою очередь «перерабатываются в общественные отношения» *****. «История,— говорил при этом Ключевский,— не наблюдает деятельности отвлеченного человеческого духа: это область метафизики», ей доступны и подведомы только те идеи,
* Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 7-8, 9, 1 7-18.
** Там же. С. 18-19.
*** там же, с, 38,
**** там же с 30. «Человек сам по себе не есть предмет исторического изучения»,— говорит он в другом месте. (Там же. С. 9, 202).
***** Там же. С. 30; Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. II. М., 1906. С. 147-148, 445-446; Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III.С. 15, 148, 338; Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV.С. 272-273, 294.
которые «становятся историческими факторами, подобно тому, как делаются ими силы природы»*. «Вы поймете,— говорил с кафедры своим слушателям великий историк,— когда личная идея становится общественной, т. е. историческим фактом: это — когда она выходит из пределов личного существования и делается общим достоянием, и не только общим, но и обязательными. Идеи, блеснувшие и погасшие в отдельных умах, в частном личном существовании, столь же мало обогащают запас общежития, как мало обогащают инвентарь народного хозяйства замысловатые маленькие мельницы, которые строят дети на дождевых потоках» **. Таким образом, и в данном случае Ключевский оставался все на той же социологической почве, оставался все тем же историком-общественником.
Но подчеркивая с таким ударением чисто теоретическую задачу исторического изучения, великий ученый наряду с этим не забывал и важной практической, т.е. общественной ценности исторического знания. Ясновидящий прозорливец, читающий в веках, Ключевский и на историю смотрел как на пророчицу в будущем. Наука, по его представлению,— должна стремиться — «знать» и «видеть», чтобы предвидеть и целесообразно и планомерно творить. Поэтому Ключевский высказывал надежду, что настанет и для исторической науки такой момент, когда « из науки о том, как строится человеческое общежитие, может со временем — и это будет торжеством исторической науки — выработаться и прикладная часть ее — наука о том, как наилучше строить его,— это общежитие» ***. Знание — по его мнению — призвано служить жизненным потребностям и нуждам человека, иначе оно «становится простым балластом памяти, пригодным для ослабления житейской качки разве только пустому кораблю, который идет без настоящего ценного груза»... ****
Нетрудно видеть, как неизмеримо далеко уводит нас это новое понимание задач и метода исторической науки от преданий и традиции идеалистической историографии, которая, как бы скользя по поверхности исторических событий, стремилась создать для каждого народа свою собственную «философию истории», открыть только ему одному присущие таинственные «начала» его жизни
* Там же. С. 9. 30.
** Там же. С. 30-32.
*** Там же. С. 17.
**** Тамже. С. 38.
и отрицала всякую возможность прикладывать «европейский» или какой-нибудь иной «аршин» к такому «беспримерному» явлению во всемирной истории, как «русское государство»*.
Понятно, каковы должны были получиться, при подобной постановке задачи исторического изучения, непосредственные результаты глубокомысленных разысканий гениального историка. На первый план сами собой должны были выдвинуться те факты и отношения, которые почти совершенно игнорировались предшественниками Ключевского, но которым он придавал особенное значение,— отношения социально-экономического порядка, культура материальная.
Но усиленное внимание Ключевского именно к этой стороне исторического процесса вовсе не было простым результатом его стремления пополнить наиболее вопиющий пробел в русской исторической литературе. Автор придавал такой постановке исторической проблемы первостепенное методологическое значение**, не говоря уже о том, что он вообще склонен был приписывать особую силу хозяйственному моменту в общественных отношениях. В данном пункте, можно сказать, наиболее ярко отразилось основное различие двух интересующих нас исторических школ. Отвергнув традиционный «взгляд сверху» на судьбы русского государства и общества, Ключевский, действительно, в корне преобразил общепринятые представления о русском историческом процессе, дав новые ответы на старые вопросы***.
В последнем случае сопоставление Чичерина и Ключевского должно быть особенно поучительно, и мы позволим себе поэтому сделать два-три таких наиболее показательных сближения.
Выше уже было отмечено, что «единственным двигателем народной жизни» в русской истории Чичерин считал «княжескую власть». Означенная точка зрения автора «Опытов» должна была, прежде всего, отразиться на его понимании древнейшего периода русской исторической жизни. Согласно теории Чичерина, первые князья принесли с собой на Русь совершенно «новые стихии» государственного и общественного быта. «Расширяясь и развиваясь», эти стихии, по его словам, «обняли наконец все общественные отно
* Кавелин К.Д. Сочинения. T.I. С. 203, 233; Соловьев С.М. Собрание сочинений. Стб. 872, 972 и др.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 33.
*** Ср., напр., взгляд Ключевского на реформу Петра (Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 271-273).
шения народа», вытеснив окончательно прежние «родовые союзы» с их неподвижным патриархальным укладом жизни*. Продолжая далее развивать свою мысль, Чичерин последовательно вывел весь политический и социальный строй древней Руси из «особенного характера» — «начала владельческого, а впоследствии государственного** — все той же княжеской власти. Князья-завоеватели, по его мнению, тем легче могли распоряжаться судьбами русского народа, что этот последний не мог противопоставить их «разумной» организующей силе ничего самостоятельного, прочного, устойчивого***. При таких условиях, говорит Чичерин, князья и «водворяли» необходимый порядок на Руси, создав систему древних княжеств так называемого Киевского и последующего периодов.
Как же отнесся Ключевский к этой теории своего «учителя»? Он подверг ее самой тщательной критике, посвятив всю III главу своей «Боярской думы» **** разъяснению вопроса о происхождении древнерусских «городовых областей» или «волостных городов». Углубившись в доисторические времена и дав подробный анализ процесса заселения территории Днепровского бассейна, Ключевский в результате своих детальных и кропотливых разысканий в конце концов разрушил, можно сказать, до основания завоевательную теорию Чичерина. Он показал, как в условиях колонизации и хозяйственного быта (торгового обмена) Древней Руси в ней совершенно самобытно сложились автономные политические союзы городов — земли-волости, интересам которых и были призваны служить первые князья. Эти «крупные городовые миры,— говорит Ключевский,— обозначившиеся при первых князьях и образовавшиеся независимо от них, легли потом в основание княжеского деления русской земли» *****. Их взаимными отношениями в конечном счете и объясняется вся история Киевского периода. Таким образом, автор приходит к тому выводу, что не князья «были первыми творцами политического порядка, обозначившегося в памятниках X и двух следующих веков», а та «политическая сила», которая в лице городской «правительственной старшины» сложилась в самых недрах древнерусского общества и руководила им задолго до появления
* Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 7.
** Там же. С. 8.
*** Там же. С. 230, 366, 383-384.
**** Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси // Рус. мысль. 1880. Кн. Ш.
С. 45-51.
***** грам же с 5?( go
князей. В этом смысле Ключевский говорит, что «история старых волостных городов на Руси старше княжеской» *. Князья, по его словам, не внесли вообще ничего нового в земский волостной строй того времени, они только «продолжали дело, начатое до них волостным городом» **. С этой точки зрения совершенно новый смысл должны были получить в глазах историка и пресловутые «междоусобия» древнерусских князей. За династическими братоубийственными «счетами и спорами» последних, по мысли Ключевского, в действительности скрывалась все та же исконная «борьба городов за волости, начавшаяся (также) до князей» ***. И как бы для того, чтобы еще сильнее подчеркнуть резкий контраст своей теории с теорий Чичерина, Ключевский неоднократно повторяет свой основной вывод, говоря, что первые «князья» только «довершили дело, начатое при господстве власти, им предшествовавшей, волостных городов» ****. При этом он добавляет, что в изучаемом периоде вовсе не князь был хозяином русской земли, а, наоборот, «волостной город преобладал над князем» *****, который, « явившись в Русскую землю, вошел в готовый уже общественный строй, до него сложившийся». Таким образом, автор «Боярской думы» установил совершенно противоположный чичеринскому взгляд на происхождение социально-политического уклада Древней Руси и на ту роль, какую призван был сыграть в истории этой Руси «наемный страж» ее внешней безопасности.
Совершенно к тем же результатам пришел Ключевский и при дальнейшем изучении следующего исторического периода, которому особенное внимание посвятил именно Б. Н. Чичерин.
Как уже было отмечено выше, оба автора довольно близко сошлись во взгляде на так называемый «удельный порядок», господствовавший в северо-восточной Руси, признав его «вотчинную» основу. Однако близость эта в значительной мере является кажущейся, и дело резко меняется, едва только вопрос переносится на почву исторического понимания этого порядка и выяснения причин его образования. Как всегда, так и в данном случае, Чичерин стоит в своих «Опытах» целиком на «политической» точке зрения, фиксируя все свое внимание специально на князьях. Он строит свою теорию «гражданского общества», опираясь единственно
* Там же. С. 61.
** Там же. С. 66.
*** Там же. С. 68.
**** Там же. С. 69-70, 73.
***** Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 429.
на разбор нескольких «духовных и договорных грамот» удельных князей и, имея на все вопросы готовый уже ответ, он в конце концов и самое происхождение «вотчинного» режима удельной эпохи объясняет не чем иным, как все тем же «завоеванием» *. Совершенно иначе к той же задаче подходит Ключевский. Он и на этот раз пишет целую главу в своей «Боярской думе» о «происхождении удельного порядка», посвящая ее рассмотрению вопроса «о влиянии колонизации на складе общества верхневолжской Руси»**. И так же, как и в первом случае, автор приходит в результате своего блестящего анализа исторических фактов к аналогичному заключению, что «причины, создавшие удельный порядок, лежали вне круга князей» и что порядок этот «сам был одним из политических следствий русской колонизации верхнего Поволожья»***. Таким образом, «причиной» образования удельного строя Ключевский считает те «географические и экономические» условия, «под действием которых» складывалось самое удельное общество****. Эти условия, говорит он, привели к тому, что «господствующей экономической силой страны» и ее «господствующим интересом» в то время сделалось «земледельческое и землевладельческое хозяйство» *****. И автор в дальнейшем показывает, каким образом все эти обстоятельства должны были отразиться и на «политическом характере удельного князя», и на всем «удельном управлении», являвшемся «довольно точной копией устройства древнерусской боярской вотчины» и, наконец, на «Боярской думе», этом «совете главных дворцовых приказчиков» при князе6*. Перед читателем при этом развертывается, можно сказать, целая панорама древнерусской жизни, исполненная с таким художественным талантом и чутьем исторической перспективы, что бледные схемы Чичерина положительно исчезают за ней без остатка.
Не менее разительный пример в том же смысле представляет и следующий случай. Как известно, Ключевский и Чичерин еще раз, так сказать, померились своими силами на другом труднейшем вопросе русской истории. Мы разумеем вопрос о происхождении
* Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 64, 75.
** Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси, С. 1, 83 и сл.
*** Там же. С. 83; Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 483.
**** Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 83-86, 93.
***** Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 93-94, 97; Ключевский В.О.
Курс русской истории. Ч. I. С. 451-452 и др.
6* Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 76-78, 100, 111, 119 и сл.
&
крепостного права. Чичерин и здесь остался до конца верен заветам национально-государственной школы. Он не мог себе иначе объяснить происхождение этого института, как «мановением сверху», и потому решительно высказался в пользу теории «государственного» прикрепления крестьян. «Крепостное право,— говорил он,— вышло из потребности государства устроиться и укрепиться». И с этой точки зрения самый процесс закрепощения крестьянского населения интересовал автора главным образом в той мере, насколько «из всего этого было видно, что княжеская власть растет и развивается»*. И радуясь успехам государственного роста русского народа, Чичерин, естественно, не видел «ничего исключительного и несправедливого» в такой форме «государственного тягла», какою являлась, по его взгляду, крепостная зависимость крестьян**. Понятно, что в конце концов автор «Опытов» должен был и в данном вопросе встать на типическую для старой исторической школы так называемую «указную» точку зрения, предположив, что «в 1592 или 93 г.» должно было «последовать» законодательное укрепление крестьян, хотя «самый указ до нас и не дошел» *** ****.
Совершенно противоположное решение той же задачи, конечно, должен был дать Ключевский. Вместо бесплодных поисков не существовавших указов, которые с точки зрения историков-государственников «должны» были, однако, существовать, Ключевский обратился и на этот раз к детальному изучению реального соотношения общественных элементов, т.е. к изучению взаимных отношений ближайших, наиболее заинтересованных в настоящем случае, сторон. А такими сторонами, как известно, являлись, с одной стороны, землевладелец, с другой — земледелец, рядившийся «во крестьяни» на землю первого. В результате тщательного анализа актового материала Ключевский и пришел к тому заключительному выводу, что крепостное право вовсе не было «введено» государственной властью, а сложилось «само собой», постепенно, в практике арендного договора, осложненного долговым обязательством. «Итак,— говорит автор,— законодательство не устанавливало крепостного права на крестьян ни прямо, ни косвенно» *'***.
* Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. С. 92, 189, 227, 229, 230.
** Там же. С. 227.
*** Там же q 223 и 226. Ср.: Сергеевич В.И. Русские юридические древности. Т. I. СПб., 1890. С. 246, 248, 258 и сл.
**** Ключевский В.О. Происхождение крепостного права // Рус. мысль. 1885.
Кн. Х.С. 19, 25.
Государство вообще довольно поздно, по мнению Ключевского, обратило внимание на этот институт и начало так или иначе считаться с его последствиями. «Крепостное право в России,— заключает он свои знаменитые статьи,— было создано не государством, а только с участием государства: последнему принадлежат не основания права, а его границы* *. Согласимся, что этими выводами беспощадно опрокидывались все построения талантливого автора «Опытов».
Из приведенных примеров нетрудно уразуметь, каково было действительное отношение Ключевского к его учителям и предшественникам. Даже и в тех случаях, когда великий историк шел по их следам, он, по существу, как мы только что могли в том убедиться, прокладывал совершенно новые пути. Продолжая труды своих учителей, Ключевский, таким образом, в корне разрушал те основания, на которых они строили свои «воздушные замки», и в то же время, подводя новый фундамент под старые схемы, он создавал твердую почву для возведения прочного здания научной теории русского исторического процесса. Но Ключевского нельзя обвинить в неблагодарности к своим учителям. Он с редким вниманием отнесся к их выдающимся и в свое время также «bahnbrechenden»15 трудам, сохранил все, что было в них положительно ценного, и сторицею, можно сказать, умножил данный ему «талант». Но он дерзнул вместе с тем на нечто неизмеримо большее, чем скромная роль хотя бы и блестящего «ученика». Он сам выступил в качестве учителя новых поколений историков! Послушный своему великому призванию, прокладывая новые пути, Ключевский, однако, сохранил глубочайшее чувство признательности к тем из своих учителей, кто впервые зажег в нем «священный пламень вдохновенья». И не его, и не их вина была в том, что они являлись людьми двух поколений, разделенных великой гранью двух исторических эпох.
Вот почему только поняв с этой точки зрения высокое призвание незабвенного творца «Боярской думы» и возможно дать надлежащий ответ на вопрос, насколько в самом деле был он близок или далек своим учителям.
* Ключевский В.О. Происхождение крепостного права // Рус. мысль. 1885.
Кн. I.C. 46.
Ю.И.АИХЕНВАЛЬД
Ключевский мыслитель и художник
В некрологе М. С. Корелина теперь сам вызывающий некрологи Ключевский говорит про своего усопшего товарища-профессора, что он был «настолько основательный историк, чтобы знать, какой коловорот ужасов представляет история»*. И если все-таки из своих научных занятий Корелин вынес оптимистическое миросозерцание, то это потому, что он верил в силу идей. «Если оно (человечество) еще не погибло в хаосе внешних бедствий и своих собственных заблуждений, значит, есть в нем спасительные силы могущественнее этого хаоса, которые со временем одолеют его, водворят прочный порядок: это идеи, выражающие лучшие свойства и стремления человеческого духа, его идеалы». Но так излагая верования историка-гуманиста, излагая их не без скептического налета, Ключевский ни здесь, ни на какой-либо другой из своих талантливых страниц не высказался определенно и явственно, верит ли он сам или нет в спасительную мощь идеалов и идей. Мы знаем, с его слов, наверное, только одно: поскольку идеи — плоды личного творчества, поскольку они остаются духовной собственностью своих индивидуальных носителей, не больше, постольку они в его глазах не имеют исторической ценности, не имеют даже исторического бытия. Предмет истории не человек, а люди, и потому только те мысли, которые нашли для себя целый «прибор» воплощения и организации и в этом своем качестве стали воздействовать на собирательность, на группы,— только они приобретают характер исторических факторов. Впрочем, говорить о Ключевском лучше всего словами Ключевского, а своими словами его не расскажешь, и потому читатели не посетуют на цитаты из него, между прочим —
и на те, которые образно и ярко освещают его мнение по затронутому вопросу. «Сколько веков,— говорит он,— от создания мира молния, по-видимому, бесполезно и даже разрушительно озаряла ночную мглу, пугая воображение и не увеличивая количества света потребляемая человеком, не заменяя даже ночника при колыбели! Но потом электрическую искру поймали и приручили, дисциплинировали, запрягли в придуманный для нее снаряд и заставили освещать улицы и залы, пересылать письма и таскать тяжести — словом, превратили ее в культурное средство. И идеи нуждаются в подобной же обработке, чтобы стать культурно-историческими факторами... Идеи, блеснувшие и погасшие в отдельных умах, в частном личном существовании, столь же мало увеличивают запас общежития, как мало обогащают инвентарь народного хозяйства замысловатые маленькие мельницы, которые строят дети на дождевых потоках»*. Подобно тому как «набожное представление выси небесной отливается в купол Софийского собора» и лишь тогда является ощутимым объектом для историка, так и всякое другое представление, всякая идея получает «дееспособность» исключительно в том случае, если они овладевают какой-нибудь практической силой и становятся заметны или властны для общества.
Едва ли можно оспаривать утверждение, что только те идеи представляют для историка реальную величину, которые покинули свою одинокую родину — чье-нибудь отдельное сознание. Но эта аксиома сама по себе еще не указывает, принадлежит ли исповедующий ее к тем историкам-оптимистам, которые убеждены, что «коловорот ужасов», хаос мировых событий будет покорён силой торжествующей идеи, светлым влиянием идеала. И не отсюда, не из подобных изъявлений Василия Осиповича, а из общего духа и смысла его книг ясно, что сам он был далек не только от того «вечно-безоблачного лазурного миросозерцания», которому не считал причастным и оптимиста Корелина, но и вообще не был историком-энтузиастом, тем менее — историком-эвдемонистом. Он, правда, говоря о долге, завещанном предками, утверждал, что «их недоимки — наши задачи»; он дорожил «историческим сознанием», потому что оно предохраняет «как от косности, так и от торопливости», и, по его поощряющему слову, «каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином»**. Но, вообще, в перспективах и далях грядущего он
* Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1904. Ч. I. С. 31, 32.
** Там же. С. 40-42.
не усматривал, кажется, какого-нибудь несомненного и желанного благополучия. Прошлое не обнадеживало его в будущем,— по крайней мере, ничего не обещало, ни за что не ручалось. Ведь он часто на протяжении русского исторического пути отмечал не только остановки, но и попятные шаги. Ведь он рассказал нам, что «в исходе XVII в. люди, задумавшие учредить в Москве академию, первое у нас высшее училище, находили возможным открыть доступ в нее “всякого чина, сана и возраста людям без оговорок”», а «полтораста лет спустя, при Николае I, секретный комитет гр. Кочубея... решительно высказался по поводу самоубийства обучавшегося живописи дворового человека за вред допущения крепостных людей “в такие училища, где они приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию”» *. Ключевский знал, что эту линию регресса можно было бы провести и дальше, что изгнание из школы «кухаркиных сыновей» было провозглашено гораздо позднее кочубеевского комитета. Он слишком знал вообще, что, употребляя одно из его любимых выражений, «походка» истории очень неровна и «пугливая оглядка назад» неизбежно сопутствует многим движениям вперед. Такое сознание не обрекает фатализму, но, во всяком случае, мало поощряет оптимистические надежды. И если, по определению Ключевского, история — «коловорот ужасов», то разве мы теперь из этого коловорота вышли? И не правы ли те мыслители, которые утверждают, что, по существу, в конце всех концов, по своему последнему внутреннему смыслу настоящее ничем не отличается от прошлого и мир — одно и то же, и на протяжении веков и пространств перед нами только разыгрываются вариации на одну и ту же тему, так что прошлое ничем не интереснее настоящего, и все равно, с какого момента и в каком месте ни стать зрителем человеческой трагикомедии? Ключевский был такой историк, которому в одной фактической истории было тесно, и он уходил из нее в общие мысли, в практическую психологию, в литературную критику: уже одно это, в связи с тою жизненной мудростью, которая богато рассыпала по его страницам свои полновесные зерна,— уже одно это позволяет думать, что идеи коловорота, коловращения, вечной смены и повторения событий не могли не посещать его большого ума и от изучения времен не отвлекать его к тому, что сверхвременно и надисторично. Однако было бы ошибочно и произвольно считать его пессимистом — уже потому, что пессимизм категоричен в самом отрицании своем, а Василий Осипович, воплощение осторожности,
Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1908. Ч. III.С. 7.
одинаково избегал и решительных утверждений, и решительных отрицаний. Его книги имеют особенный тон, который и делает их исключительную внутреннюю музыку; и вот, вслушиваясь в этот единственный тон Ключевского, в тембр его исторического повествования, вы невольно замечаете, что перед вами — скептик. Аттической солью шутки, всегда готовой и всегда уместной, столь же тонкой, сколько и увлекательной, пересыпает он свое изложение и разрешает ею то настроение серьезности, которое овладело было и им самим, и уж наверное его читателями. Серьезное от этого не улетучивается,— оно приходит опять, и еще более углубленное; но через несколько шагов нас встречает новая острота, и мы уже сами идем ей навстречу и ждем ее. Правда, это почти совсем отсутствует в «Житиях святых» и гораздо, несравненно меньше характеризует «Боярскую думу», чем его «Курс» и его небольшие этюды. Вообще, особенности его стиля для нас будут необъяснимы, если мы забудем, что большинство его произведений — скрытые диалоги: он читает лекции, он произносит речи,— он беседует. Конечно, его собеседники хранят внешнее молчание, но потенциально они отвечают, подают реплики, безмолвно участвуют в каком-то разговоре; Ключевский видит или воображает пред собою аудиторию; он непременно с нею считается; как писатель, вернее — как сказатель, он почти всегда — на людях, и люди ему необходимы. Он слушает себя их слухом, он читает себя их глазами. Внутренне одинокий, уединенный работник не только библиотек и архивов, но и собственного духа, едва ли кому-нибудь доступный в самой средине своего сердца, он, однако, тихо и бережно взращенные плоды своих дум и изысканий имеет потребность выносить наружу, не только в том обычном смысле, в каком это свойственно каждому преподавателю, но и в более глубоком, в смысле психологическом. Ключевский — прирожденный и преднамеренный собеседник; ему нужно, чтобы его слушали (недаром в частной жизни был он такой гений разговора, властитель беседы). Но так как, повторяем, в глубине-то сердца, на дне своей мысли, он всегда остается один и наедине с собою, то его умственная словесная общительность не есть настоящий лиризм души, и может быть, именно поэтому она чаще всего принимает блестящую форму остроумия, неотразимой насмешливости, и по всей его речи излучисто вьется прихотливая змейка тончайшей иронии, здесь и там загораясь неожиданными переливами своей окраски. Шутка порою заслоняет человека от других, устанавливает, говоря словами Ницше1, «пафос расстояния», и не оттого ли, между прочим, так широко пользовался ею, одновременно общительный и уединенный,
Ключевский? Как бы то ни было, уже эта манера его, эта склонность к иронии,— уже она, по-видимому, говорит о его скептицизме, и с первого взгляда, читая его, представляешь себе, что подобно тому, как был, у Виктора Гюго2, «человек, который смеется», так Ключевский — историк, который смеется. Бесстрастное лицо Клио было бы ему не к лицу. На его устах — если не постоянная, то частая усмешка. И он слишком остроумен, чтобы для этой способности своего духа не использовать того изобильного материала, какой предлагает человеческая история. Это и придает его рассказу особое освещение, характерный колорит. Василий Осипович — такая выдающаяся индивидуальность, что в его передаче меньше, нежели в чьей-либо, может быть эпическое спокойствие. Неизменно верный истине, он, однако, людей и события обращает к себе той стороною, какую он сам выбирает, и этот выбор есть уже оценка и приговор. Замечательно, что при своей щепетильной научной добросовестности он все-таки не может не вмешиваться в ход исторического процесса. Он всегда — рядом с теми, о ком передает, собою оттеняет их, и только через его изысканную призму можем мы глядеть на русских деятелей (впрочем, последнего слова он почти не употребляет, заменяя его — без всякого умысла — словом «делец»). Относясь к истории необычайно серьезно, но в то же время подчас обращая ее также и в оселок для своего остроумия, в мишень своей меткости, он в результате достигает того, что герои истории — вместе с тем и его герои. Не только история, но и он — автор Алексея Михайловича или Петра III. Совместное творчество объективного факта и самого Ключевского — они и создают ту живую книгу, которая называется «Курс русской истории».
Огромная доля, вносимая в эту русскую историю самою личностью историка, выступает перед читателями не только в виде оригинального дарования, но и как та скептическая окраска, о которой мы только что говорили. Однако более пристальное изучение Ключевского значительно колеблет первоначальную мысль о нем как о скептике и нигилисте, как об ученом-Мефистофеле.
Нигилистические искры, иронию, сомнительный ореол уничтожающей насмешливости и отрицания над умной головою Ключевского тушит его сердце. Как мало он ни склонен показывать его, как ни дорожит он помянутым уже пафосом расстояния, удаляющей преградой острой шутки,— он все же не умел скрыть своей прекрасной тайны,— не скрыл того, что сам он — добрый и благоволящей человек, что он также — усердный искатель и ценитель чужой доброты. До умиленности, правда, он никогда не доходит,
ни пред кем и ни пред чем; но «добрые люди древней Руси» привлекают его собственное доброе внимание. Он славит «ежедневную, молчаливую, тысячерукую милостыню»; он сердечно говорит про русскую женщину, что жалость к бедному и убогому это — чувство, с которым она на свет родится, и оправдывает свою ласковую мысль образом Юлиании Лазаревской3; он благотворителя Ртищева4 присоединяет к числу «тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия, по крайней мере, в простом ходячем смысле этого слова... Ртищев не понимал обиды, как иные не знают вкуса в вине, не считая этого за воздержание, а просто не понимая, как это можно пить такую неприятную и бесполезную вещь. Своему обидчику он первый шел навстречу с просьбой о прощении и примирении» . И, может быть, Ключевский не считал неправыми всех этих Ульян и Ртищевых, которые оставили такой завет жизни: «Жить — значит любить ближнего, то есть помогать ему жить; больше ничего не значит жить и больше не для чего жить» *.
В речи о Новикове он говорит, что не вспоминать, а видеть хотелось бы ему доброго человека: «А для изображения Сем. Ив. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он воевал непримиримо, это — с своим собственным, с его пороками и страстями, и с какими страстями! — с нюханьем табаку, например, и т. п... Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали “Божьим человеком!”» **.
В публичной лекции «Два воспитания» Ключевский сказал: «Видеть детей и любить их — это одно и то же», и эту лекцию он заключил не менее выразительными, такими же незабвенными словами: «Нам нет нужды опасаться, что жизненный путь наших детей по выходе из школы будет скудно усыпан печалью. У нашей молодежи того и другого пола много сердца, а было бы сердце — печали найдутся» ***.
* Ключевский В.О. Добрые люди древней Руси. Москва, 1907. С. 7, 9, 19, 20, 30.
** Ключевский В.О. Воспоминание о Н.И. Новикове и его времени // Русская мысль. 1895. Кн. I.C. 52.
*** Ключевский В.О. Два воспитания // Русская мысль. 1893. Кн. III. С. 85, 99.
Вся эта апология сердца и непритворный хвалы доброму человеку, эти афоризмы: «видеть детей и любить их — это одно и то же», «было бы сердце — печали найдутся» — все это не вышло бы из уст Мефистофеля, и надо всем этим только насмеялся бы действительный насмешник или кто-нибудь из тех «нравственных сухарей», которым наш историк уподобляет Анну Иоанновну и Бирона5. Очевидно, Ключевский сложнее, чем он кажется сначала, и присуща ему не одна только змеиная мудрость. И если историческая дистанция, если даже отдаленность времен не заглушала в нем живых эмоций, симпатического отношения к давнишней доброте, то еще более вызывало в нем отклики чувства то, что только будет историей, станет прошлым, а пока представляет собою трепет настоящего, злобу и волнение сегодняшнего дня. Те, которые стояли к нему близко, свидетельствуют, что русско-японскую войну и все последние русские события вообще он переносил далеко не исторически, не бесстрастно, и как раз эти впечатления значительно повлияли на строй его политических взглядов, на его заметный уклон влево, на его оценку русского самовластия. И это не случайно, что именно после наших бурных годин появились в печати его слова: «Самовластие само по себе противно как политический принцип. Его никогда не признает гражданская совесть»*. Но помимо этих, в печатном слове не выраженных или выраженных недостаточно определительно, политических сочувствий усопшего историка; помимо его общего отношения к «правительственному испугу»** и к тем испуганным, которые обращаются к власти «со стереотипным предложением cavcant consoles6, а это значит в переводе, чтобы опасность была предотвращена соответственным испугу градусом восточной долготы» ***, — помимо всего этого, мы имеем один подлинный и никаких сомнений не оставляющий документ, который совершенно ясными и прекрасными словами говорит о том, что живые факты, просто и непосредственно задевающие человеческую душу, возмущающие сердце, сводили Ключевского с его обычной осторожной колеи и побуждали его высказываться столь же авторитетно и прямо, сколько и задушевно. В самом деле, этот ученый, доводивший обдуманность своих утверждений до такой степени, что, например, изложив перед аудиторией сущность западничества и славянофильства, он не по
* Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1910. Ч. IV.С. 293.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1908. Ч. III. С. 170.
*** Ключевский В.О. Памяти С. М. Соловьева // Научное слово. 1904. Кн. VIII.
С. 128.
желал дать им своей оценки и решительно выяснить, на какой же он сам стороне и во что же верует он сам, а предпочел от этого уклониться («теперь не время») и «мимоходом отметить привлекательные особенности обоих направлений»*,— этот зоркий наблюдатель собственных шагов и нещедрый охотник на обязывающие слова, их ревнивый сберегатель, господин своих уст, под свежим и тягостным впечатлением убийства Г. Б. Иоллоса7, написал о нем такие строки: «С покойным Г. Б. судьба свела меня в конце 80-х годов, в памятную тяжелую пору. Мы тогда разделили с ним много дружеских печальных бесед. Мне глубоко симпатичен был прямой и ясный * взгляд покойного в оценке исторических явлений, полный тонкого 'понимания жизни, чуждый догматизма. Увидавшись после многих лет при ином настроении умов, при новом складе общественных отношений, мы встретились старыми друзьями. Герценштейн& пал за русский народ, за русского земледельца, и Иоллос обагрил своею кровью чисто-русскую землю, землю города Москвы, собирательницы и устроительницы русской земли (курсив наш.— Ю.А.). Пусть такие смерти останутся в русской памяти символом обновленной России, объединяющей в своем сердце собранные ею народности» **,
Эти слова говорят сами за себя; но, произнесенные Ключевским, так внятно сказанные им на всю Россию, они получают особый смысл и углубляются в своем историческом и этическом значении, в своем благородстве и духовной красоте. Так настойчиво и так : даровито высказывавшийся в своем «Курсе» о роли собиратель-ницы-Москвы Ключевский в 1907 году породнил с нею людей чужого племени и показал, что есть родственность высшего порядка, , та родственность идей и общего служения, в силу которой русская земля обагряется еврейской кровью и падает еврей за русский народ, за русского земледельца. Эта возвышенная концепция создана самой жизнью, эта романтика реальна; но для того чтобы ее подтвердить компетентным словом историка, для того чтобы в эпоху жестокого воинствующего национализма, под гул и угрозы злорадствующих убийству голосов, сказать, что Герценштейн и Иоллос продолжают русскую историю, великое дело собирательницы-Москвы, сказать это именно Ключевскому,— для этого нужно было особенное мужество, и Ключевский нашел его в себе, мужество чести и сердца.
Но, разумеется, не только в этой области непосредственно-сердечных чувств было для него убежище и спасение от поглощающего
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 337.
* Русские ведомости. 16 марта 1907. № 61.
скептицизма, от нигилистической разрушительности. Когда ищешь credo Ключевского, его положительных вероучений, то скоро убеждаешься, что они находятся для него и в самом процессе научной работы, в его отношении к истине, в его умственной честности. Внимательное и бескорыстное изучение факта — уже это одно религиозно, уже это одно предполагает в изучающем наличность каких-то неколебимых догматов. Только специалисты, конечно, имеют право и возможность оценивать все то, что Ключевский сделал для науки, и характеризовать по существу те новые идеи, которыми он щедро одарил своих учеников, свою школу, русскую историографию в ее целом. Но не надо быть специалистом, для того чтобы видеть не только красоту, но и общую значительность его исторического рассказа и его обращение со своими темами, его серьезную стихию вообще. Каждому его читателю ясно, что не чертою беспечального нигилизма, а проявлением глубоко-добросовестного и утвердительного отношения к признанным ценностям служит, например, едва ли не главная внутренняя сторона его первой диссертации «Древнерусские жития святых как исторический источник» . Проделать огромный и скучный труд над «житиями» как над историческими источниками и уже на протяжении его заметить, что в сущности это — источник очень скудный, в общих местах и трафаретах, в церковной риторике, в «плетении словес» (как один из агиографов, Епифаний9, сам характеризует свое изложение)*, топящий почти все реальное, конкретно-фактическое, для историка ценное, и в этом сознаться, этот отрицательный результат своего исследования явить откровенно, нисколько не затушевывая всей его безотрадной скудости, — для этого нужна именно та мужественная честность духа, та победа над инстинктом самосохранения, от которых, наверное, был бы свободен настоящий скептик. У Ключевского, значит, не было тенденции во что бы то ни стало оправдать свою работу мнимой значительностью выводов, и мы прямо слышим от него хотя бы такое заявление: «Разобранные жития древнейших северных святых не могут служить ни верными образчиками древнейшей северной агиобиографии, ни чистым историческим источником: их литературные приемы и точка зрения на описываемые лица не принадлежат этому периоду, а основные фактические источники не принадлежат непосредственно истории» **. Правда,
* Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник.
М., 1871. С. 93.
** Там же. С. 51.
можно уловить у него естественную горечь исследователя, собравшего со своей ученой нивы очень необильный урожай, печально жалующегося, в данном случае, на ту несчастливую «заботливость, с какою древнерусские биографы предвосхищают у него работу: ему нечего обобщать, нет нужды по мелким отрывочным и случайным чертам путем утомительного наблюдения воспроизводить общий образ древнерусского агиобиографа; так старательно последний заботился сам спрятать свою действительную, живую личность под ходячими чертами общего типа» *.
Кроме того, Василий Осипович при всей своей склонности к общим картинам и характеристикам, к линиям объединяющим, однако, во имя научной правды, нисколько не торопился их рисовать и проводить и, употребляя одно из его любимых выражений, не «скучал» предварительной кропотливой работой, и не оберегал от своей иронии тех, кто в этом повинен. Черной работой он не гнушался, белоручкой не был и никогда не увенчивал здания недостроенного. Оставаться навсегда в мелочах и подробностях было бы ему тягостно и невозможно, и на только что цитированной странице его «Древнерусских житий» мы встречаем его насмешку над тем состоянием «торжественного самосозерцательного покоя, в котором навсегда поселяются самоуверенные историки, посвятившие свою многолетнюю ученую жизнь начертанию пяти с половиной месяцев из истории маленького народа»; но мелочи и подробности он покидал лишь после того, как их изучил. Только анализ дает право на синтез. И право на свои замечательные обобщения Ключевский приобрел себе неоспоримо, так как он не презрел частного. У него была наклонность к общему, он выходил за пределы факта, но лишь после того как факт исчерпывался до дна. Изложение Ключевский пронизывает мыслью, и он не однажды высказывается о том, что «без историко-философской основы история становится забавой праздного любопытства», что в строении исторического процесса есть свой «силлогизм», есть «своя таблица умножения, свое непререкаемое дважды два, без которого немыслимо никакое историческое мышление»**; ему кажется, что именно в русском обществе XVIII века, где тон давали «случайные» люди, жившие «день за день, мыслившие сами себя только минутными дождевыми пузырями», именно там всего труднее было вкоренить мысль, что «в истории нет ничего случайного и мир не творится вновь каждый
* Там же. С. 403.
** Ключевский В.О. Памяти С.М. Соловьева. С. 120, 123, 131.
день с восходом солнца, что эти постоянно лопавшиеся пузыри возникают и исчезают по точному смыслу законов вековечного исторического процесса и эти безродные знаменитости, выкидываемые капризом фортуны на поверхность жизни, могут, буде того пожелают, умирать без потомства, но не сумеют обойтись без предков» *. Но это совмещается у него, вполне естественно и необходимо, с доверием только к такому миросозерцанию, которое выработано «путем опыта и наблюдения на самом толоке жизни, а не в тишине закупоренного кабинета, где отвлеченным мышлением отливаются математические схемы, прозрачные и кристаллически-правильные, как альпийские льды, но зато ломкие и холодные, как они же» **.
Он не любил ученого щегольства; внешний и внутренний эстетизм не позволял ему выставлять напоказ будничную обстановку той подготовительной мастерской, в которой вырабатываются научные истины, и даже от характеристики Ивана Грозного он на минуту уклонился, чтобы кольнуть слишком усердных поклонников цитаты: «Не менее иных нынешних записных ученых Иван любил пестрить свои сочинения цитатами кстати и некстати...» *** Но внутренне он носил в себе, конечно, цитаты, знания изо всей русской истории и изо всех книг о ней. И удивительно то еще, что хотя у него был неодолимый вкус к людям (именно не столько любовь, сколько вкус к ним) и он очень охотно давал свои знаменитые характеристики исторических фигур; хотя его привлекало человеческое, драматизм истории, ее живые лица, ее лицедеи, ее конкретные спектакли, он, однако, был одинаково силен и в личном, и в безличном элементе исторического процесса, во внутренних причинах и в реальных оказательствах истории, и учреждениям он уделял не меньше, а больше внимания, чем людям. К внешнему описанию, к занимательной иллюстрации он не спешил. Его не отпугивала сухость, и он ее уничтожал, так что везде, на всем пространстве своих книг, он поддерживает в своих читателях почти одинаковую напряженность интереса. Талантливейший рассказчик, знаток и ценитель действенности, далеко не враг анекдота, он тем не менее углубляется и в экономику, в системы и отношения сверхличного характера, в самый механизм прошлого. При этом он не заграждает реальности предвзятыми схемами и, свободный ум, каждое учреждение улавливает в его динамике и жизненном сво
* Ключевский В.О.И. Н. Болтин // Русская мысль. 1892. Кн. XI. С. 120.
** Там же. С. 119.
*** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 243.
еобразие. Он предостерегает от всяческой модернизации: «В умах минувших времен надобно осторожно искать своих любимых мыслей»*, и так же осторожно надобно мерить прежние учреждения мерками теперешними. Оттого, например, земские соборы XVI века в изображении Ключевского имеют право на титул народного представительства, хотя представителями народа являлись там все должностные, служащие лица и хотя «догматика права» не узаконила юридически подобных форм участия общества в управлении**. «Народное представительство возникло у нас не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть: в этом его отличие от западноевропейского представительства» ***. Или пусть в Западной Европе аристократия обыкновенно создавалась из верхнего слоя общества завоевателей,— это не обязывает историка находить такой же процесс и в Московском государстве: здесь, наоборот, «цвет боярства составился из людей, которые или предки которых подверглись завоеванию, вооруженному или дипломатическому, из князей, сведенных с своих престолов или поспешивших сойти с них, не дожидаясь, пока их сведут. В Москве именно от того и явилось слишком много знатных, что там собралось чересчур много павших и побежденных. Но эта черта может дать больше материала для назидательных размышлений об иронии истории, чем для научного объяснения исторического факта» ****. Или к боярской думе нельзя подходить, увлекаясь слишком симметрическими построениями, ревниво оберегая теорию разделения властей, чрезмерно помня о разнице между совещательным и обязательным для власти значением думы: «Люди тех веков не различали столь тонких понятий, возникавшие столкновения разрешали практически в каждом отдельном случае, отдельные случаи не любили обобщать, возводить в постоянные нормы, и не подготовили нам прямого ответа на наш вопрос» *****.
Вот это живое чувство факта, практики, понимание того, чем жили и как мыслили «люди тех веков», умение от сухой и формальной абстракции уходить в самую средину действительности, in medias res10, искусственной плотиной логической схемы не задерживать той естественной подвижности, той вечной текучести,
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV.С. 245.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. II. С. 498, 499.
*** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III.С. 272.
**** Ключевский В.О. Боярская дума. М., 1902. С. 294.
***** Там же. С. 5.
какую представляет собою реальная жизнь,— это все и позволяло Ключевскому прошлое воскрешать, а не препарировать его. До такой степени история у него живет, горит и дышит, что, как это и необходимо, он соединяет ее жанр, ее баталии с ее пейзажем: у него действующим лицом является природа, он не только как условный трафарет, но и ощутительно воспринимает влияние на людей климата и почвы. И оттого самые увлекательные из своих увлекательных страниц он посвящает художественному изображению того, как природа России созидала историю России, то «историческое тело», каким среди других исторических тел является русский народ. Говоря о том факте, который можно бы назвать парадоксом русской истории, о том именно, что когда главная масса населения из черноземной области среднего Днепра передвинулась в область верхней Волги, на волжский суглинок, то поневоле на открытом днепровском черноземе Русь стала «усиленно эксплуатировать лесные богатства и торговать, а на лесистом верхневолжском суглинке стала усиленно выжигать лес и пахать», Ключевский дает потом характеристику этих черноземов и лесов, рисует нам ту силу, которая «держит в своих руках колыбель каждого народа — природу его страны». В противоположность «береговому кружеву» Западной и Южной Европы, Россия лишь малой долей своих границ имеет море. Соседство с Азией оказало на Россию не только моральное действие: «Деятельное участие азиатских ветров составляет климатическое отличие Европейской России от Западной Европы... Воздушная борьба Азии с Европой в пределах нашей равнины невольно напоминает те давние исторические времена, когда Россия служила широкой ареной борьбы азиатских народов с европейскими, напоминала бы, может быть, и более поздние времена, когда в северной полосе завязалась нравственная борьба между веяниями западными и восточными, если бы это явление не было так далеко от метеорологии». Поверхность русской равнины, ее «узорчатая рябь»; лес, который когда-то «назойливыми зарослями оспаривал с трудом расчищенные луг и поле, медведем и волком грозил самому и домашнему скоту», а теперь в южной полосе средней России стоит как «все реющее напоминание» о прошлом; степь с ее «злыми эпизодами, татарскими нашествиями да казацкими бунтами»; русская река, с которой у русского человека не бывало «никаких недоразумений», с которой он жил «душа в душу», «никакой другой стихии, не говоря в песне таких ласковых слов»,— недаром Петр Великий «с удивительной силой внимания изучал эту единственную в мире сеть вечно движущихся и не требующих ремонта шоссейных
дорог» *: когда читаешь все это и еще многое другое, посвященное русской природе, то трудно не отдаться глубокому восхищению перед этим изяществом слова и мысли, и видишь перед собою уже не только ученого, но и поэта, и вспоминаешь им самим нарисованный облик летописца, у которого «природа прямо вовлечена в историю» и сама — «живое, действующее лицо истории, живет вместе с человеком, радеет ему» **. Так происходит знаменательное совпадение, осуществляется благое наследование: в Ключевском находит себе преемника Нестор11; наивный отшельник, элементарная душа, в знамениях природы чующая волю Божью, через вереницу столетий встречает своего продолжателя в лице тончайшего, изысканного, свободолюбивого мыслителя, и под сенью одной общей природы и одного к ней сыновнего чувства стоят летописец и прагматик, простодушный рассказчик и скептический исследователь, монах и профессор...
Те намеки, которые у этого летописца и многих других профессор нашел, он удивительно дополнил и развил в яркие картины. Для того чтобы это суметь, надо быть не только профессором, ученым, но и художником. Этому условию так удовлетворяет Ключевский. Он не философ, и в отвлеченных рассуждениях слог его несколько теряет в своей уверенности, и себя как мыслителя Василий Осипович выявляет именно в своих отношениях к конкретному, в той сфере явлений, где он чувствует себя привольно, как их полновластный господин. Такая философия, не уложенная в определенную абстрактную систему, а претворенная в распорядок фактов и запечатленная образным словом,— это и характеризует ученого-художника.
Русская история должна быть рассказана русским языком. Напоминать ли, что Ключевский этот долг исполнил и как он его исполнил? Любая страница его книг говорит об этом сама, говорит каждой строкою, почти каждым предложением своего текста. У него — редкое чувство речи. Он знает, что язык памятливее памяти, консервативнее сознания и в недрах слова нерушимо хранит прошлое: «Язык запомнил много старины, свеянной временем с людской памяти»***. Это так удобно, так счастливо для Ключевского: к его непосредственному ощущению слова присоединяется сознательное убеждение, что язык — исторический источник,
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 19, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 69, 70, 71, 73; Ч. IV.C. 161.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 112.
*** Там же. С. 141.
вечный памятник старины, в нем находящей свое бессмертие. И вот Ключевский любовно вслушивается в русские звуки, поговорки, в названия древних урочищ, и вы такое выносите впечатление, точно прежние люди не все ушли, а оставили одного, завещали и наказали ему, чтобы он их представил и воспроизвел, дал понятие новым о старых, рассказал будущему о прошедшем, и рассказал не как ученый только, не просто как искусный знаток и начетчик, а как оставшийся в живых современник старины. Прошлое для Ключевского как бы и не проходило,.— так он вживается в него; исчезает граница между прежним и настоящим, когда читаешь его драгоценные книги. И эта связь между древностью и новизной чувствуется так ясно именно потому, что автор говорит по-русски и стилем своим побеждает время. Иной раз самый подбор слов, прежних и теперешних, уже показывает это единство жизни, эту сплошность, которая из Руси и России делает одно целое, одну живую, одушевленную ткань. Вот, например, как воспроизводит Ключевский образ монаха XVI века по представлению современного ему боярства, перемежая тогдашние и теперешние слова, свои и чужие, и сливая их в одну чистую русскую струю, в один синтезированный склад красивой речи: «Это раболепный ласкатель и потаковщик властей, исполненный презорства и гордыни с низшими, расхититель и наставник расхитителей, тунеядец, питающийся мирскими крестьянскими слезами, шатающийся по городам, чтобы бесстыдно выманить у вельможи село или де-ревнишку, жестокосердый притеснитель своей братии крестьян, бросающийся на них диким зверем, сребролюбец ненасытный, жидовин-ростовщик, лихоимец и прасол, пьяница и чревоугодник, помышляющий только о пирах и селах с крестьянами, возлюбивший «вся неподобная мира сего», не десятый чин ангельский, не свет мирянам, а «соблазн и смех всему миру»*. Такая слиянность отзвучавших и еще звучащих слов, внешнее проявление внутренней родственности времен, не служит ли новым объяснением той убежденности историка, в силу которой он, подходя к XVII веку, искренне считает себя уже автобиографически ему сопричастным, ему современным, так как это столетие начинает собою новый период истории, тот период, когда возникали уже «ранние зародыши идей, соприкасающихся с нашим сознанием»? «Изучая явления этого времени, чувствуешь, что чем дальше, тем больше входишь в область автобиографии, подступаешь к изучению самого себя,
своего собственного духовного содержания, насколько оно связано с прошлым нашего отечества» *.
Если вообще деление литературы на форму и содержание не достаточно правильно, не достаточно глубоко, потому что они органически срастаются между собой, проникают друг друга и часто форма является только оттенками содержания, и особенности слога, это — особенности мысли, то по отношению к Ключевскому это надо сказать по преимуществу. Его речь имеет особую интонацию, которой не убивает, не заглушает бумага и напечатанная строка. Кто слышал его лекции и беседы, те знают, что одно из их очарований заключалось именно в переливах интонации, в модуляциях голоса; и нельзя было не удивляться, как много мысли и мудрости, как много сути и содержания можно вложить в самую фонетику речи. И вот эта черта живого Ключевского сохранилась в его книгах. Слышатся в них повышения и понижения голоса,— или, может быть, это — иллюзия, призрачное эхо его реальных речей, воспоминание его умолкнувших уст?.. Во всяком случае, несомненно, что если уж делить на части то единое целое, какое представляют собою его страницы, то в нем, кроме традиционных формы и содержания, надо различать еще и тон. Часто последний звучит лукавством — там, где умная шутка только оттеняет умную серьезность и где автор отдается своей, нисколько его не огорчающей склонности — подмечать смешное в людях и отношениях, какой-нибудь изъян в них, какое-нибудь нарушение внешней или внутренней стильности. Где же лукавое отсутствует, там слышится, как мы уже заметили раньше, простая беседа, желание вовлечь в разговор слушателя, сделать его как будто своим сотрудником, установить с ним интимность или, по крайней мере, доброе знакомство.
У Ключевского стиль — каллиграфия. А каллиграфия имеет, кроме положительных, и отрицательные стороны. Она дается нелегко, это не естественный почерк, и она медлительна. Такие особенности мы и видим у нашего писателя. Его фраза построена умно, слишком умно; она не непосредственна, и она не первой и не сама собою сорвалась с пера. Самопроизвольно перо не могло бы создать такого изящества,— нужна для этого еще обдуманная и медленная работа мысли. Первые слова это не те, которые употребляет Ключевский. Он изыскан. Он нередко бывает вычурен; в самой простоте его — искусственность. Стиль его не любит чертить прямые линии, и в этой области автор вовсе и не хочет кратчайших расстояний. Наоборот, он
здесь предпочитает кружные пути, окольные дороги. Он неторопливо, размеренными шагами идет к своей цели. И прежде чем он один раз отрежет, он больше, чем семь раз примерит. Иной раз боишься даже, как бы необычайная обдуманность слова не помешала размаху мысли,— ее широте. Невольно припоминаются цитируемые у этого великоросса великорусские пословицы и вся следующая за ними тирада: «Ведь лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают... Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу»*. Так и словесный проселок самого Ключевского приведет куда надо. И получается у него фраза, в которой ничего не переставишь, не изменишь, в которой точность дошла до щепетильности, — фраза слишком готовая. Она не вдохновенная, не горячая, в ней слышится далеко не одна импровизация; но ей присуща вся та красота, которая отличает ум. Отдельные слова и предложения соединяются в общий узор, где каждая черточка тщательно взвешена и смерена, где на каждой детали видна печать настойчивой отделки. Ювелир слова, старинный мастер мозаики, Ключевский и дает в своих произведениях непрерывную художественную вязь. Всегда себе равный, ровный, без уклонений и отступлений, он тихо движется по своим словесным колеям. Филигранная работа над претворением идеи в соответственное слово еще усиливает принципиальную, самодовлеющую, бескорыстную осторожность, которая и вообще так свойственна Ключевскому; и если даже вас поражают иногда стилистические неожиданности, внезапные обороты речи, то вы наверное знаете, что все это, не предвиденное вами, не является таким же для него. Мысль его и слово вспыхивают вдруг; но потом он сам уже тщательно поддерживает этот из темноты бессознательного выплывший огонек. Однако пусть в его фразах не переливается горячая кровь, пусть они не трепещут, не имеют сангвинического темперамента,— от них не веет, однако, охлаждающее дуновение напряженности; нельзя сказать, чтобы читатель ощущал здесь усилия автора, борьбу со словом, упорное одолевание лексического материала. Ключевский не побеждает, он уже победил, и вы любуетесь его трофеями, и хотя понимаете, как нелегко и как планомерно они победителю достались, все-таки не испытываете впечатления предварительной усидчивости и принужденности. И настолько сроднились у него мысль и слово, что (как
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 387.
это, впрочем, относится и ко всем большим писателям) вы не знаете, что отнести на счет первой и что — на счет последнего. Они помогают ДРУГ другу. Излюбленные приемы Ключевского — антитезы и сравнения и далее его хиазмы (крестообразные соединения одних и тех же слов) — одинаково принадлежат и форме, и содержанию его книг.
«Государство пухло, а народ хирел»*. «Личная свобода становилась обязательной и поддерживалась кнутом» **. «Корректура — не реформа» (по поводу Никонова исправления церковных книг). «Что умели делать все, то он (Никон) делал хуже всех» ***. «Петр (Великий) отлился односторонне, но рельефно, вышел тяжелым и вместе вечно-подвижным, холодным, но ежеминутно готовым к шумным взрывам — точь-в-точь как чугунная пушка его петрозаводской отливки» ****. «Простой народ относился к временщикам с самой задушевной ненавистью » *****, « Он (предок Онегина) старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими»6*. Это все — несколько наудачу взятых примеров из фразеологии Ключевского, и не говорят ли они о том, что трудно отличить, где, собственно, кончается самое содержание его идей и где начинается их внешняя оболочка; и, в конце концов, не вернее ли будет сказать, что у него совсем никакой оболочки нет, а его мысли одеты сами в себя? Полутоны и обертоны мыслей, оттенки идей, это и составляет его слог, как это, в сущности, составляет и каждый хороший слог — единый организм мысли и слова. Точно так же характерное для Ключевского остроумие не является каким-то внешним придатком к его мышлению и речи, а сливается с ними в одну гармонию и поэтому всегда уместно, никогда не звучит отчуждающей нотой. Его красное словцо всегда содержательно, и вопреки поговорке ему в жертву не приносится ни родной отец, ни матушка-правда. Ум, далее играющий, все-таки — ум.
Про опричнину, про этих «штатных разбойников», мы читаем: «Учреждение это всегда казалось очень странным как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал»7*. Генерал-прокурор
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III.С. 11.
** Там же. С. 185.
*** Там же. С. 385, 399.
**** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV.С. 33.
***** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III.С. 169.
в* Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки // Русская мысль. 1887.
Кн. II. С. 301.
7* Ключевский В.О. Боярская дума. С. 331.
сената должен был по песочным часам следить за интенсивностью и работоспособностью сенаторовых мыслей; он «посредством своих песочных часов руководил его (сената) рассуждениями и превращал его в политическое сооружение на песке»*. Москвичи даже «величали своего государя ключником и постельничим Божиим, применяя язык московского двора к столь возвышенным отношениям»**. «Манифест 18 февраля (1762 г.), снимая с дворянства обязательную службу, ни слова не говорит о дворянском крепостном праве, вытекшем из нее, как из своего источника. По требованию исторической логики или общественной справедливости на другой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного права; она и последовала на другой день, только спустя 99 лет» ***. Что же, эти остроумные сопоставления, эти шутки, почти каламбуры — нуждаются ли они в оправдании? Не подсказаны ли они самою жизнью, не встретились ли в них субъективный ум и объективный факт, не глубокая ли мысль, целая историческая концепция, смотрит на нас из последнего примера, где показано, как сравнительно с 18 февраля 1762 года трагически запоздало 19 февраля 1861 года? И разве уж очень придирчивый ригоризм посетует, что Ключевский, комментируя и дополняя сатирический образ у Фонвизина12, дает волю своему остроумию и напоминает, что фонвизинская княгиня Халдина «не находила ничего странного в том, что все ее дети уродились в друзей ее мужа,— ведь в мужниных же друзей, а не каких-либо иных, поймите вы это»...****
Неожиданно-красивый оборот речи, остроумная диверсия нисколько не мешают существу изложения. Вот, например, в статье «Два воспитания», говоря о принципах древнерусской педагогии и приведя знаменитые слова; «Любя сына, учащай ему раны, не жалей жезла; дщерь ли имаши, положи на ней грозу свою...», Ключевский перебивает самого себя и говорит: «Впрочем, как скоро дело дошло до дочери, у меня не хватает духа продолжать изложение тех изысканных формул, в которых выражали этот прием древнерусские педагогические руководства». Ясно, что здесь дело не в дочери: и без того было бы излишне перечисление всех возможных манипуляций жезла, «т. е. простой глупой палки», но как
* Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. II. С. 171.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 238.
*** Там же. С. 431.
**** Ключевский В.О. Воспоминание о Новикове // Русская мысль. 1895. Кн. I.
С. 45.
находчиво, с каким нравственным и эстетическим изяществом освободил себя автор от дальнейшего углубления в действенные методы «Домостроя»!..
Характерной чертой в остроумии Ключевского и во всей его литературной манере вообще является то, что он никогда не употребляет многоточий,— между тем, казалось бы, ему они были бы к лицу больше, чем кому бы то ни было: ведь многоточие тогда ставится, когда не досказано, не все сказано, когда умолчанием автора открываются для читателя дальнейшие перспективы, а их ли нет у Василия Осиповича? Но в том и состоит его стилистическое лукавство, что он делает вид, будто он ни при чем, будто сказал все, сказал серьезно и не оставил позади и впереди своих слов никакой мысли, никакого умысла; так не подчеркивая себя, он от этого становится еще тоньше и ярче. «В университете при Академии наук лекций не читали, но студентов секли» (оцените это но!)*. При Петре «казнокрадство и взяточничество достигли размеров, небывалых прежде, разве только после»**. Сделав частой мишенью своих ядовитых, но все-таки не злых и не убивающих стрел прежнее духовенство, «полицию совести» (и как бы забыв об этом, когда писал свою речь о «Благодатном воспитателе русского народного духа»), он в самом серьезном тоне и с самым серьезным видом, как будто без внутренних и внешних многоточий, повествует нам, что на попойках у Петра в Летнем саду царь слишком щедро угощал водкой, и счастливыми считали себя те, кто мог от нее уклониться: «Только духовные власти не отвращали лиц своих от горькой чаши и весело сидели за своими столиками; от иных далеко отдавало редькой и луком». Или в те же петровские времена, когда всяческие сборы и налоги «назойливым июльским оводом приставали к плательщику на каждом шагу» и оплачивались даже борода и усы, «с которыми древнерусский человек соединял представление об образе и подобии Божьем»; когда явились разные «прибыльщики» и прожектеры (между ними и Посошков13, представивший Петру смелую и яркую, хотя «углем написанную картину» положения России, хоть самый Посошков, который был едва ли не первым фабрикантом игральных карт в России,— о чем не забудут «трудолюбивые люди, наклонные отдохнуть после трудов»),— так в те времена предлагали установить сборы даже с рождений. По этому поводу мы читаем:
* Ключевский В.О. Два воспитания // Русская мысль. 1893. Кн. III. С. 90.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 261.
«Дивиться надо, как могли прожектеры и прибыльщики проглядеть налог на похороны. Свадебная пошлина была уже изобретена древнерусской администрацией... и сама по себе еще понятна: женитьба — все-таки маленькая роскошь; но обложить русского человека пошлиной за решимость появиться на свет и позволить ему умирать беспошлинно — финансовая непоследовательность, впрочем, исправленная духовенством»*.
Конечно, от стиля Ключевского страдало не только духовенство, исправляющее всякие финансовые непоследовательности: всем и каждому приходилось нелегко,— хотя бы, например, этим московским князьям Даниловичам, которые при нападении врага уезжают «куда-нибудь подальше, на Волгу, собирать полки, оставляя в Москве для ее защиты владыку митрополита да жену с детьми»**; даже Петра Великого, который был «исключением из всяких правил», Ключевский из своего правила не исключил, даже своеобразную орфографию его вспомнил, то, что будущий преобразователь «между двумя согласными то и дело подозревал твердый знак»; на что уж тишайший был царь Алексей Михайлович, но и его не оставил своею шуткою историк и рассказал про его опыты в стихотворстве: «Сохранились несколько написанных им строк, которые могли казаться автору стихами»; а как поздние петербургские преемники государей-москвичей, «больше хронологических знаков, чем исторических лиц», потерпели от характеристик Ключевского, это помнят все.
Вообще, исчерпать хотя бы главные блестки ума, иронии, красоты, пересыпающие творчество Василия Осиповича, было бы задачей трудной, именно потому, что их слишком много. Но, с другой стороны, очень благодарную работу исполнил бы тот, кто извлек бы из его книг собрание его чеканных афоризмов, сравнений, эпиграмм.
Любовь к своему и чужому слову, бережное обращение с родною речью, подбор слов, нанизываемых одно к другому не в случайном, а в необходимом порядке, после предварительной их рекогносцировки,— это присуще Ключевскому до такой степени, что лишь ввиде редкого исключения встречаешь какую-нибудь неубранную соринку на его слишком гладкой стилистической дороге (мы бы предпочли, например, чтобы Василий Шуйский14 не назывался у него «изын-триганившийся»; странно прочесть, что в начале XVI века удельного дмитровского князя Юрия15 решили «арестовать»; оспоримо
* Там же. С. 46, 53, 170, 172, 174, 175.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 59.
слово «благоговеинство» *; зато хорошо в своей смелости необычное употребление: «и над своими горями, и над своими радостями» **. Образ он выдерживает тщательно, метафору следит на всем ее пространстве и почти всегда помнит о ее физическом происхождении, так что, например, слово «стало» не стерлось для него в своем буквальном, а не переносном смысле, и если первоначальное «житие стало во главе двух отдельных сказаний», то Ключевский скажет, что оно «неловко» стало***. Если легенду он однажды назовет «прозрачной», то, запомнив это хорошо, он дальше прибавит, что она «плохо закрывает действительные события, послужившие для нее основой»****. Русские умы были «больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями» *****. Мы нашли только одно исключение из этой выдержанности его метафор (правда, мы и не очень искали их): «Этому взгляду... критик не мог придать цельного изложения, высказывал его по частям, осколками»6* — тут разнородность образов: взгляда нельзя излагать, высказывать, а высказывать нельзя осколками.
В общем же Василий Осипович не только доводит свои образы до полной законченности, но иной раз конкретизация понятий заходит у него даже слишком далеко, становится не совсем приятной. «Преобразовательная увлекаемость и самоуверенное всевластие — это были две руки Петра, которые не мыли, а сжимали друг друга»7*. «К русской действительности этот ученый русский служака стал как-то криво, нечаянно и больно ушибся головой об ее угол и без особенной пользы, хотя и без вреда, всю остальную жизнь коптил небо, созерцая звезды»8* (впрочем, остроумна здесь встреча звезд, которые служака созерцает, и неба, которое он коптит).
Ключевский сам, на одной из своих страниц, слегка намечает свое стилистическое credo. «Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело, у кого не делается это само собой, как бы физиологически. Слово — что походка: иной
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 40; Ч. II. С. 169; Ч. III. С. 388.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 384.
*** Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник.
М., 1871. С. 29.
**** Тамже. С. 41.
***** Ключевский В.О. Воспоминание о Н.И. Новикове. С. 54.
6* Ключевский В.О.И. Н. Болтин // Русская мысль. 1892. Кн. XI. С. 114.
7* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 290.
8* Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки // Русская мысль. 1887.
Кн. II. С. 299.
ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит» *.
«Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело» — это не только одна из блестящих крестообразных антитез Ключевского, одно из его фигурных и филигранных изречений,— это и глубокая, хотя и простая истина. Как же одолеть трудность легкого слова? С. М. Соловьев, по Ключевскому, потому достигал этого и потому «резал свою мысль тонкими удобоприемле-мыми ломтиками», что у него именно мысль была ясная и умевшая отыскивать себе подходящее выражение в слове. «Гармония мысли и слова,— продолжает Василий Осипович,— это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в данном случае, и корень тяжких неудач наших — в неумении выразить свою мысль, одеть ее как следует. Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву. Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить»**.
Позволительно с этими рассуждениями в принципе не вполне согласиться. Пусть будет мысль,— остальное приложится, слово приложится. Слово — звучащая мысль, и последняя едва ли не сама собою облекается в подходящее выражение. Поиски слова — это поиски мысли. Когда она во всех ее оттенках, во всех ее изгибах и складках найдена,— найдено все. Впрочем, спорить с теорией Василия Осиповича лучше всего ссылкой на него самого,— на его практику, которая, как мы старались показать, при всей его заботе о стиле, представляет органически-слиянное единство мысли и слова. Тонкости его стиля — тонкости его йдей. И если он хвалит Соловьева за то, что общие исторические идеи органически вырастали у него из объясняемых ими фактов, как «старинные колонны, обвитые вьющимся растением» создают иллюзии, будто эта молодая жизнь, эти вьющиеся побеги «растут из самого мрамора»***,
* Ключевский В. О. С. М. Соловьев как преподаватель // Воспоминания о студенческой жизни. М., 1899. С. 9.
** Там же. С. 10.
*** Там же. С. 19.
то не только такая слитность мысли и факта присуща и самому Ключевскому, но его характеризует и подобная же внутренняя тожественность мысли и слова. Вообще, все то, что вменяет в заслугу ученик учителю, Ключевский Соловьеву,— все это характеризует обоих, и достойным преемником славного предтечи оказался тот студент III курса, Василий Ключевский, который начал слушать соловьевский курс русской истории в такую пору, когда, по одному из многих его счастливых выражений, студент уже чувствует себя «хозяином своего я» и уже в состоянии «ухватить себя за свои собственные усы» *.
Было бы, может быть, слишком специально и слишком детально входить в разбор того, насколько Ключевский сознательно прибегал к созвучию слов, к намекающим аллитерациям, насколько он ценил музыкальность речи. Такие выражения, как «правитель без правил» (о Петре), или «он упорным упражнением умел» (про И. В. Лопухина), или «логика полумыслей и политика полумер» (о московских князьях), говорит о том, что во всяком случае не уклонялся он от выразительности звуковых сочетаний.
Живая работа сердца, глубокий дух научного исследования и вот только что отмеченная нами в общих чертах эстетика — это все и является теми ernste und ewige Dingo**, теми моментами высшей серьезности, которые служили для Василия Осиповича палладиумом и охраной от могущественных соблазнов скептицизма и нигилизма. Эти же начала объясняют и то явление, что, как мы уже сказали, Ключевскому в одной только фактической истории было тесно. У него есть выражение: «Факт, отработанный историей»; если так, если история отрабатывает факты и они после этого исчезают, теряют свое значение и смысл, то ясно, что одной подобной истории, одной временности мало — мало тому, кто тяготеет к ценностям постоянным и непреходящим. Не оттого ли и уходил Ключевский в литературу, даже в литературную критику, на которую он, сам такой значительный художник, пестун слова, имел столь неоспоримое право?
Однако именно в этой области особенно сказалось, что он как-то не принимал человека без людей. «Единственный и его собственность» 16, индивидуализм вообще — это не его излюбленная сфера. Ему важно единое связать со многим, личность — с обществом, и человек одинокий, самодовлеющий, вне исторической солидарности со своими соседями, предками и потомками, не казался ему
* Там же. С. 7.
** Ernste und ewige Dingo — серьезные и вечные вещи (нем.).
важной, ценной, может быть — даже реальной величиной. Он был слишком практик (в лучшем смысле слова), чтобы думать иначе. Ведь даже самое знание он, жрец знания, ценил с его практической стороны, в его связях с нашими нуждами, стремлениями и поступками, а не само по себе: «Иначе знание становится простым балластом памяти, пригодным для ослабления житейской качки разве только пустому кораблю, который идет без настоящего ценного груза»*. Высшее бескорыстие чистой и одинокой идеи, личность, отрешенная от других,— это не входит в поле зрения историка. И «нравственный уровень общества так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в термометре, который держит теплая рука» **.
Между тем литературное творчество и всякое искусство вообще имеют свое сосредоточие как раз в личности творца, в индивидуальных особенностях художника. Впрочем, не все так думают: многие, наоборот, в искусстве выдвигают на первый план как раз его общественные моменты. Тогда, чтобы не спорить, скажем более миролюбиво и приемлемо: в искусстве есть и личная, и общественная сторона. Естественно, что экскурсы Ключевского в область русского искусства, русской художественной литературы, касаются именно последней, а не первой. Он — глубокий почитатель Пушкина, и так понимаешь, так приветствуешь его слова: «О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует» ***; но в первой своей речи о нем он осветил как раз исторический элемент его художества, его значение для русской историографии; мало того, он незаконно отделяет в Пушкине эстетическое от нравственного, не вполне отчетливо различает в нем вечное. «Художественная красота его произведений приучила нас с любовью повторять то, чего мы уже не разделяем, эстетически любоваться даже тем, чему мы не сочувствуем нравственно; в стихе, лучше которого мы не знаем доселе, подчас звучат воззрения, которые для нас — общественная или нравственная археология... И сам Пушкин — ...представитель исчезнувшего порядка идей... Мы ошибемся в цене его современников, если забудем, сколько сил этого великолепного таланта потрачено было на ветер,
* Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 38.
** Ключевский В.О. Воспоминание о Н.И. Новикове // Русская мысль. 1895.
Кн. I.C. 55.
*** Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки // Русская мысль. 1887.
Кн. II. С. 306.
на детские игрушки для взрослых» *. Для тех, кому Пушкин не прошлое, а вечное настоящее, тревожною загадкой звучат слова, что много его таланта ушло на игрушки, и непонятно, где, собственно, у Пушкина, в его личных воззрениях, нравственная археология... И в другой, знаменитой, статье о Пушкине «Евгений Онегин и его предки» Ключевский тоже говорит, что Евгений Онегин теперь — «просто предмет изучения, как историко-литературный памятник»: согласятся ли с этим те, кто из пушкинского романа и до сих пор черпает неисчерпаемое художественное наслаждение и вовсе не видит в Онегине просто историко-литературного памятника?... Очень ценны исторические комментарии Василия Осиповича к поэтическому, не бледнеющему тексту Пушкина, особенно установление своеобразной генеалогии Евгения Онегина, опирающееся на одну из любимых идей Ключевского,— на идею отражения и искажения западничества в России; но вечная сторона пушкинского дара не показана с такою же яркостью, вниманием и силой. Зато радостно читать лирические воспоминания Василия Осиповича о том, чем в молодости был Пушкин для него и для его сверстников, как он «беззащитно» отдавался обаянию пушкинского стиха, как он и каждый из его ровесников-единомышленников «давал себе слово не отвергать так холодно любви девушки, которая его так полюбит, как Татьяна любила Онегина, и особенно если напишет ему такое же хорошее письмо»... И, обращаясь к своей аудитории, ласково говорит Ключевский: «Некто из людей, начавших сознавать себя раньше, чем многие и многие из вас начали дышать, и решился занести свою строчку в эту посмертную часть, отважился выступить из редеющего уже ряда своих сверстников, чтобы сказать, чем был для него и для них Пушкин со своим романом» **.
На той же, конечно, исторической точке зрения стоит Ключевский и в своем, как всегда, утонченном и оригинальном «опыте исторического объяснения учебной пьесы», посвященном «Недорослю». Там очень явственными нитями связаны с русской жизнью образы Фонвизина: как его отрицательные типы, так и «академики добродетели» — Стародум, Правдин, Милон. Но трудно согласиться с мыслью автора, что комизм «Недоросля» основан на тонком различении людей и ролей: его «лица комичны, но не смешны, комичны, как роли, и вовсе не смешны, как люди. Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат и огорчают, когда встречаешь
* Венок на памятник Пушкина. СПб., 1880. С. 271-272.
** Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки. С. 292, 293.
их вне театра, дома или в обществе». Ведь это не специфично для «Недоросля», это характеризует не его одного: разве, например, Фамусов, Молчалин, городничий, Держиморда и унтер-офицерская вдова в реальной жизни, не на сцене, смешны? Разве и о них не думаешь той же тягостной думы, какая, по неизменно-красивому слову Василия Осиповича, посещает нас, когда после созерцания забавных положений в театре мы выходим «из душного марева электрического света на пронизывающую свежесть уличной мглы»?*
Ключевский был так знаменит, что incognito не могло ему удаться; своего стиля, своего умственного лица он не мог бы скрыть ни под какой личиной. Поэтому все читающее русское общество сразу, по когтям, узнало его под скромной буквой К., подписавшей статью «Грусть» в «Русской мысли» (1891. Кн. VII) — статью о Лермонтове. И есть нечто знаменательное в том, что как раз этот очерк мы не имеем формального права причислять к литературному наследству Василия Осиповича. Пусть и здесь автор в субъективных настроениях поэта видит одновременно и очень важный исторический симптом, пусть они в его глазах совпадают с душевной категорией всего русского народа, пусть сближает К. грусть Лермонтова с «практической русско-христианской грустью» царя Алексея Михайловича,— во всяком случае, только здесь, только у К., а не у Ключевского, на первое место поставлены личные эмоции, только здесь мы видим проникновение в самодовлеющий внутренний мир писательской индивидуальности. И надо сказать, что хотя статья эта была в свое время иными встречена резко и недружелюбно, как парадокс, как извращение истины, она, на наш взгляд, верно и глубоко прозревает основную стихию Лермонтова. И Владимир Соловьев, и Мережковский17, и многие другие критики, с разной оценкой, но с одинаковой настойчивостью, как факт, выдвигали демонизм, сверхчеловечество нашего поэта и главной его чертою считали гордыню; между тем К. раньше и лучше других понял, что Лермонтов только рядился в трагические маски, примерял к себе байронизм, хотел, по меткой характеристике автора, казаться «лейб-гвардии гусарским Мефистофелем», а на самом-то деле, в глубине сердца, был искренне-грустен, но прост и смиренен, как проста и смиренна русская природа и русская народная душа, и подлинными симпатиями своего духа тяготел не к эффектам злобы и сарказма, а к тихому величию доброты и отречения, не к Печорину, а к Максиму Максимычу.
* Ключевский В.О. Недоросль Фонвизина // Искусство и наука. 1896. Кн. I.
С. 12, 13.
Кроме исторического толкования литературы, возможно и отношение к ней чисто-имманентное, т. е. такое, при котором ее освещаешь ее собственным светом, не уходишь в сторону от литературного произведения, а, напротив, остаешься исключительно в нем, проникаешь в него все глубже и глубже и пользуешься только теми материалами, какие дает оно само. Можно рассматривать художника в пределах его личности, безотносительно к стране и эпохе, вне условий исторического времени и пространства. О таком понимании искусства, о таком абсолютизме литературной критики, в кружке «Научного слова», под гостеприимным кровом Г.К. Рахманова18, • с пишущим эти строки не однажды вел оживленные беседы Василий Осипович. Он соглашался брать каждого человека и каждого писателя только на определенной долготе и широте; он, разумеется, не поступался ни одной пядью своей исторической позиции, — но он понимал и другое мировоззрение, он чутко вслушивался и в другие мысли. И он говорит, что во всяком случае они представляют для него, уже как для историка, значительный интерес и что, может быть, при характеристике новейшего периода русской жизни ему придется отметить и подобное, не совсем традиционное отношение к нашей художественной литературе, он указывал даже, что есть одна родственная почва, на которой он со своим диспутантом может сойтись вполне... И не было большей поучительности, чем с этим историком разговаривать о внеисторических моментах и методах. И он хотел еще и еще вернуться к этой заинтересовавшей его теме.
Но смерть отнимает у нас наших собеседников, она не дает окончить разговора... И теперь, когда навсегда замолкли умные уста Василия Осиповича, в виде неискусной благодарности за то бодрящее, что пришлось из них слышать, один из его собеседников, не-историк, посвящает его памяти свои посильные страницы...
В. И. ПИЧЕТА
Исторические взгляды
и методологические приемы В. О. Ключевского
Тяжело сознавать, что Василия Осиповича Ключевского уже нет во главе русских историков, но чем тяжелее воспоминание, чем острее боль, тем сильнее является желание охарактеризовать его плодотворную и многогранную научную деятельность и разобраться в том бессмертном наследстве, которое оставил осиротевшей семье историков ее «патриарх», учитель и товарищ. Конечно, это работа слишком трудная и ответственная, да и выполнима она только дружными коллективными усилиями. Слишком был разносторонен и широк талант В. О., слишком разнообразна и глубока была его научная мысль, что во всем этом драгоценном научном наследстве мог разобраться один человек.
Ведь никто не станет отрицать, что вся наша историография последних двух десятилетий тесно связана с именем В. О. От него все исходили, и на всех он оказывал прямое или косвенное воздействие: одни изучали и разрабатывали вопросы, впервые намеченные и затронутые В. О., другие обратились к изучению и разработке той архивной сокровищницы, к которой чуть ли не впервые прикоснулся В.О., показавший в своих трудах, какое богатство непочатого материала, к которому еще не прикоснулась рука исследователя, там хранится, какое первостепенное значение он имеет для изучения народной жизни и для выяснения исторического облика русского народа.
Я не говорю о том, что мастерские методологические приемы изучения источников, впервые примененные В. О., всегда останутся образцом для всякого исследователя, к какой бы области исторического знания он не примыкал бы. Скрупулезность анализа и осторожность в выводах — точное понимание смысла источника и нежелание брать больше из источника, чем он может дать — на
всегда должны остаться «священным заветом» для осиротевшей семьи русских историков. Я, конечно, не преувеличу, если скажу, что в настоящее время в русской историографии живет и дышит дух Ключевского, все равно примыкает ли исследователь к нему или уходит от него в ту или другую сторону.
Его влияние коснулось не только историков, но и историков-юристов, в трудах которых стало чувствоваться биение пульса настоящей жизни народа. Можно сказать, что его влияние вышло за пределы русской историографии; коснулось даже украинских историков, которым пришлось считаться с выводами и наблюдени-• ями В.О. относительно исторических судеб украинского народа, как не были случайны и кратки его наблюдения над ними. Ведь они всегда отличались крайнею осторожностью и в то же время обоснованностью.
На все историческое мировоззрение В.О. сильно оказывало влияние пребывания в Московском университете. Шестидесятые годы — заметная эпоха в истории Московского университета и, в частности, русской историографии. Кончился диалектически-философский период русской историографии. Начало торжествовать научно-реалистическое направление, связанное с именем С. М. Соловьева и ставившее своей задачей постепенный естественный подбор реальных отношений, из которых сплетается история народов, отрицавшее какой бы то ни было предусмотренный план во всемирной и национальных историях. Это направление, конечно, оказало сильное воздействие на историко-философские взгляды В. О., и то, что в нем было прочно обосновано, тому В. О. оставался верен и впоследствии, когда более точные наблюдения над фактами обнаружили призрачность многих исторических построений, еще недавно казавшихся несокрушимыми. В последнем случае В. О. шел сам своей собственной дорогой, резко порвав идейную нить, связывавшую его с историкоюридической школой, и чем определеннее становились историко-философское взгляды В. О., тем интереснее и живописнее становилась научная дорога, по которой в годы молодости шествовал В. О.
Привычка не только описывать явление, но и вдумываться в его внутренний смысл, быть не только художественным рассказчиком, но и историком-социологом — позволило В.О. во многом порвать с традицией и подвинуть значительно вперед научно-реалистическое направление в русской историографии, прийти к целому ряду замечательных историко-философских наблюдений, совершенно видоизменивших взгляды на ход исторического процесса и на задачи и методы исторического изучения. В этом отношении Ключевский
произвел историко-методологическую революцию, чреватую последствиями. Но не все, конечно, сразу согласились с ним.
В.О. был ближайшим учеником С.М. Соловьева. С последним у него очень много точек соприкосновения, но едва ли не больше расхождения. Это расхождение довольно рано началось, чуть ли не на студенческой скамьи, когда талантливый студент, ловя мысли своего учителя, вдумывался скорее не в то, что было сказано, а в то, что находилось между строк, что было возможно обобщить на основании отрывистого и разбросанного материала сообщенного с кафедры Соловьевым. В. О., конечно, не мог не заметить некоторой односторонности в историко-философских взглядах С.М. Его по некоторым вопросам притягивала к себе славянофильская школа, в некоторых трудах которой, казалось, бился пульс настоящей исторической жизни народа и которая высказывала более правильные суждения относительно ближайших задач и целей исторического значения. Но славянофильская школа ценна своими отдельными историческими замечаниями — ей не удалось дать полную историю русского народа, в противовес истории Соловьева, поэтому в методологическом отношении она не могла оказать большого влияния на В.О. Будучи близок к славянофилам в вопросах исторического изучения, В.О. тем не менее работал под непосредственным влиянием С.М. Соловьева. Цельное мировоззрение последнего, хотя и несколько одностороннее, всегда обаятельно притягивало к себе В.О., старавшегося уловить и понять сущность и темп органического развития русского народа. К тому же Соловьев, при всей своей односторонности, всегда оставался на почве фактов и никогда в своих исторических построениях не касался никаких метафизических вопросов, не имеющих ничего общего с задачами и предметом исторического знания, к которым была так склонна славянофильская школа. Общение с Соловьевым позволило В. О. усвоить ценное свойство своего учителя — иметь дело только с историческими фактами и только, оперируя с ними, высказывать те или другие суждения. В этом отношении Соловьев так много дал своему ученику, столь многому его научил, что В.О. имеет полное право сказать, что Соловьев, «как памятник еще долго будет служить первым указателем пути даже для того, кто далеко разойдется с ним в своих последних выводах», как это случилось с самим В. О. Но зато С. М. Соловьев первый заговорил о закономерности исторического процесса и взаимодействии ряда условий и причин.
Историко-философское взгляды С.М. Соловьева, конечно, были слишком односторонни. Он, собственно, писал и читал не историю
русского народа, а историю русской государственности, будучи близок к схеме Карамзина. В исторических трудах Соловьева народ появляется весьма редко на исторической авансцене. Он не похож на живую группу. Это скорее театральные статисты, одетые в разного рода костюмы и симметрично расставленные режиссером, но зато стесненные в своих движениях и стремлениях. Для Соловьева в установлении государственности и в борьбе с антигосударственными началами вся сущность русской истории. Исторический процесс идет сверху вниз, а не наоборот. В этом отношении исторический процесс русского народа отличается за-. метным своеобразием. Судьбы народа мало похожи на историческое прошлое западноевропейских народов. Эту мысль своего учителя всегда поддерживал В. О., впрочем, находивший в нашей истории те же элементы, что и в западноевропейской истории, но только в совершенно иных сочетаниях. Он оставался верен даже тогда, когда некоторые наблюдения над нашим историческим прошлым позволили расстаться с мыслью о своеобразности нашего исторического процесса и дали достаточные основания для установления параллельных моментов в истории Западной Европы и России. Впрочем, никто так много не сделал в этом отношении, как сам В. О., отстаивавший своеобразие исторического процесса и отрицавший существование у нас феодальных отношений и в то же время давший полную картину этих отношений, правда, бывших в зародыше и не успевших развиться в полной мере.
Давая историю государства, С.М. Соловьев, конечно, касался и других вопросов, в особенности истории сословий, призванных к бытию и организованных волею верховной власти — сознательно стремившейся к телеологической цели — созданию государства. Конечно, все эти наблюдения Соловьева, поскольку они были основаны на фактическом материале, давали Ключевскому определенный комплекс знаний, в которых пришлось ему разобраться несколько позже, когда определилось более точно историко-философское мировоззрение В. О., когда он поставил своей задачей изучение не истории русского государства, а истории русского народа, когда у него явилось желание выяснить исторический облик русского народа, что это необходимо для ближайших целей исторического знания, так как, по фигуральному выражению В. О., «жизнь изменяется усилиями и ошибками отдельных масс». Давая историю государства, Соловьеву приходилось коснуться вопроса о движущих силах нашего исторического процесса. Для С. М. человеческая личность и внешняя природа являются едва ли
не основными факторами, определявшими закономерность нашей истории. Этим же объясняется, почему Соловьев придавал огромное значение духовному началу в истории — совершенно игнорируя материальные условия жизни русского народа, под влиянием которых складывался его быт, его нравы, его занятия. Какое значение для Соловьева имела личность в истории, это ясно из той оценки деятельности московских князей как создателей государственности, какую можно найти в его истории, и из преувеличенной оценки исторической личности Петра, поставленной им вне общества и над ним, так что та связь, которая, по словам Соловьева, существовала между преобразователем и русским народом, скорее чувствовалась, чем сознавалась. Ключевский также придает огромное значение «внешней природе» как историческому факту. История русской страны — есть история страны, которая колонизируется. Таково основное убеждение В.О. И уже в классическом труде, «Боярской думе», показано, какое могучее влияние оказала природа на ход нашей истории. Характером природы русской равнины объясняется первоначальная разбросанность славянской колонизации и быт славянства. Речными бассейнами направлялось географическое расселение русского народа, а в зависимости от размещения определялось и политическое положение страны. Это влияние природы особенно сказывается в днепровском и удельно-княжеском периоде нашей истории, когда, с одной стороны, зоологические богатства и торговые артерии давали тон хозяйственной жизни народа и определяли его государственное единство, а с другой стороны, система рек и речек, изрезывающих вдоль и поперек северо-восточную Русь,— явились основанием для формировки особых территориальных единиц, ставших основой нового политическая деления страны. Открытые восточные и южные границы страны, с их естественными богатствами, всегда тянули к себе русского человека, но в то же время потребовали от него колоссального напряжения физических сил, отчего задержалось его духовное развитие. Если для Соловьева — природа русской равнины является мачехой для народа, то и для Ключевского — географическое устройство нашей равнины весьма неблагоприятно сказалось как на культуре самого народа, так и на политическом укладе страны. Но природа страны определяла не только политическое строение страны. Под ее влиянием складывался хозяйственный быт населения, в зависимости от которого определилось и общественное положение человека. Так объясняет В. О. преобладание торговли в днепровской Руси и земледелия в Руси северо-восточной. То же влияние природы подчер
кивается В. О. в своем курсе и при изучении других исторических периодов в жизни народа.
В. О. резко разошелся с Соловьевым в вопросе о роли личности в истории. Для Ключевского, изучающего «строение» общества, неизвестна личность сама по себе, отдельно от общества. Ключевский изучает личность не саму по себе, а ее проявление в зависимости от влияния той общественной среды, частью которой она является и под влиянием которой формируются политические понятия и привычки. Вот отчего у Ключевского личности не выступают на историческую сцену с какими-то телеологическими целями. Их взгляды меняются, становятся другими, но все это отнюдь не является результатом их личного характера, их темперамента. Их мировоззрение постепенно видоизменяется под влиянием факторов политических и экономических. Раз Ключевский пришел к иному выводу относительно роли личности в истории, то ему пришлось на многие исторические вопросы дать иной ответ сравнительно с Соловьевым. Ибо для последнего на первом плане сознательно действующая личность, для Ключевского же — общество, в котором растворяется личность и теряет свои индивидуальные черты.
Ключевский тоже считается с образованием в северо-восточной Руси иных политических миров, новых пригородов, только последнее становится им в связь с колонизацией страны, а не с деятельностью князей, взгляды которых сформировались и приняли новый характер под влиянием привычек и навыков вновь образовавшейся общественной среды. Еще резче расходится Ключевский с Соловьевым в оценке деятельности московских князей, для Ключевского образование Московского государства — это дело рук общества. Личному вмешательству князей следует отвести третьестепенное место: «Московские князья,— по словам Ключевского,— были такою же второстепенною производной причиной возвышения московского княжества, какою напр., было содействие плотного московского боярства, привлеченного в Москву удобным ее положением». Ключевский не видит никакой оригинальности и самостоятельности в деятельности князей. Их физиономии, их привычки и движения так похожи друг на друга, что наблюдатель иногда затруднится решить, кто из них Иван и кто Василий. В их деятельности заметны некоторые индивидуальные особенности, но они объясняются различием возраста князей или исключительными внешними обстоятельствами, в которые попадали некоторые из них — эти особенности не идут далее того, насколько изменяется деятельность одного и того же лица от таких условий. Конечно, при
таком отношении к роли личности в истории, и оценка исторической личности Петра будет у Ключевского несколько иная, чем у Соловьева. Для последнего — Петр сознательный вождь русского народа, ведущий его по пути преобразований, которые смутно сознавались в глубине народной массы. Ключевский же полагает, что весь XVII век является подготовкой деятельности Петра, в целом виде намеченной просвещенными современниками. По его словам, в Петре гораздо более допетровского, чем петровского. Его административные и сословные реформы являются весьма удачным «соединением элементов старины в несколько иные сочетания». Несомненно, Петр много брал у Запада — технические средства для устройства армии и флота, мероприятия для развития народного хозяйства,— но все они не сохранили подлинных черт своего оригинала и довольно скоро переделывались на московский лад. В деятельности Петра, в противоположность Соловьеву, Ключевский не видит никакой программы, никакого сознательно-обдуманного плана. Сама реформа больше всего зависела от хода Северной войны. Многие из преобразовательных мер постольку привлекали внимание Петра, поскольку они могли содействовать более быстрому удовлетворению реальных нужд армии и флота. Смотря так на реформу Петра, Ключевский тем не менее останавливает свое внимание на личности Петра. Он, несомненно, смотрел гораздо дальше вперед своих современников. Мысль Петра вечно была занята всевозможными проектами, осуществление которых должно было содействовать культурному и экономическому прогрессу страны. Многие из этих мероприятий на деле не привились — слишком были неподходящие условия русской жизни для выполнения этих далеких планов, да к тому же более приходилось думать не об этих теоретических планах, осуществление которых возможно было только в очень далеком будущем, а об удовлетворении действительных нужд страны, настоятельно говоривших о самих себе.
Вот почему все планы, преломляясь сквозь призму московской действительности, оказывались на деле несколько иными, чем они отливались в сознании Петра. Неудача многих мероприятий Петра объясняется внешним и внутренними положением страны, но Ключевский, вслед за Соловьевым, готов признать, что с Петра начинается новый период истории. Этот новый момент сказался не столько во внутреннем культурном состоянии России, сколько в радикальном изменении международного положения государства: «Из забытого Европой арьергарда, оберегавшего тыл европейской цивилизации, Россия стала государством, впервые деятельно всту
пившим как органический член в семью европейских народов». Правда, эта точка зрения уже выдвигалась Соловьевым, но для него она в деятельности Петра имеет второстепенное значение, тогда как для Ключевского именно в этом и заключается вся историческая ценность реформ Петра, и по существу реформа «если не обновила, то взбудоражила, взволновала русскую жизнь до дна своими не столько нововведениями, сколько некоторыми приемами, не характером своим, а темпераментом».
Ключевский, как и его учитель, видит сущность исторического процесса в постепенном движении, видоизменении форм челове-ческого общежития. Но, сходясь в основных взглядах, они по существу расходились по вопросу о предмете исторического знания. Внимание Соловьева привлекали по преимуществу духовные факто-' ры человеческого общежития,— имеющее для него первостепенное значение в историческом процессе. Материальные факторы остаются вне поля зрения Соловьева. По мнению последнего — народ, “ в жизни которого преобладают материальные интересы,— обречен на историческое увядание.
Ключевский держится как раз обратного взгляда. Его внимание привлекают экономические факторы, коими определяется политическое строение общества. Поэтому задача историка и состоит по преимуществу в изучении экономических и социальных явлений, поскольку вместе с ними определялось политическое деление и общественное состояние страны, мысль, положенная в основу «Боярской думы» и других работ и с определенной отчетливостью проведенная в курсе русской истории.
Оставляя за экономическими и политическими факторами чисто методологическое значение, Ключевский все свое внимание сосредоточивает только на них, и в изучении различных их сочетаний им объясняются основные этапы в исторических судьбах русской народности, до сих пор остававшейся вне поля зрения историков.
Свое тяготение к экономическим и политическим факторам Ключевский обнаружил довольно ясно еще в своей кандидатской работе — «Сказание иностранцев о Московском государстве» ’. Эта работа очень характерна для молодого Ключевского. В ней сказалась не только художественная манера письма историка, но и его методологическое приемы — мастерской анализ изученных явлений и фактов. Подбирая разбросанные известия иностранцев, Ключевский немало своего внимания отдает изучению материальных сторон жизни народов, справедливо замечая, что «нравственная — гораздо менее открыта для постороннего взгляда». И тут уже
была попытка известные ему явления общественной и политической жизни поставить в связь с экономическими факторами. Если в своих «Жития святых как исторический источник» Ключевский обнаружил мастерской анализ жития и показал настоящую ценность жития для народно-хозяйственной жизни, если с него снять научным скальпелем все позднейшие наслоения и освободить остов жития от его литературной обработки, то «Боярская дума» является первой попыткой дать историю учреждения на общем фоне социально-политической жизни страны, ставя последнюю в непосредственную связь с экономическими факторами. Эта работа составила эпоху не только в истории самого вопроса, но и в истории самой науки. После нее приходилось идти или по пути, проложенному Ключевским, или, уйдя от него, доказать несостоятельность социологических идей и методологических приемов. Вокруг нее загоралась жаркая полемика, отголоски которой можно было слышать даже в наши дни. И до Ключевского занимались боярской думой. Ей отводится видное место Загоскиным в «Очерках служилого сословия» и в «Истории права Московского государства»2. Несомненно, между обоими авторами найдутся общие точки соприкосновения в выяснении юридического положения высшего правительственного учреждения, но едва ли между ними не больше разницы, чем сходства.
Это расхождение объясняется не только тем, что в руках Ключевского было гораздо больше изданных и неизданных материалов, чем у его предшественника. Основная причина — разница в их методологических приемах и исторических воззрениях. Первый исследователь — историк права. Его интересует не столько процессы возникновения и образования, сколько уже отлившееся и оформившееся учреждение. Он тщательно подбирает материалы для юридической конструкции «Боярской думы». Правда, и Загоскин подметил некоторую зависимость «Боярской думы» от состава служилого сословия, но отношение последнего к первой рассматривается сквозь призму историко-юридической школы. За «Боярской думой» не видно служилого сословия, высшие чины которого туда попадали.
Для Ключевского изучение правительственных учреждений — «это изучение не только механизма частей машины, но и того, как они свинчены». Перед исследователем всегда остается сырой материал, из которого они составлены. Вот отчего центр исторического изучения переносится на изучение этого социального состава, ибо в истории правительственных учреждений, повторяет Ключевский,
строительный материал часто важнее строения. Изучение строительного материала наших высших государственных учреждений — это изучение процесса образования нашего государственного порядка, который «предстанет перед нами в несколько ином виде, чем теперь». И действительно, «Боярская дума» дает совершенно иную картину нашего исторического развития, картину, в которой, может быть, даже не все приемлемо.
«Боярская дума» — это история руководящего класса древнерусского общества. Перемены в исторических судьбах последнего влекут за собой перемены в политическом складе государства.
Изучение руководящего класса ставится в тесную связь с экономическими условиями жизни народа, ибо «господствующей капитал становится источником власти, его операции соединяются с привилегиями; его владельцы образуют правительство, экономические классы превращаются в сословия. Ключевский и не пытается юридически формулировать положение «Боярской думы» в системе наших учреждений, но изучение наших социальных отношений дает возможность Ключевскому отметить эволюцию в нашем высшем правительственном учреждении вплоть до того момента, когда «Боярская дума» из аристократического совета незаметно превращается в бюрократическое учреждение и переходит в петровский Сенат, т. е. в тот момент, когда в по-смутную эпоху стало крепнуть самодержавие, когда в определенную форму успели отлиться элементы, составлявшие служилое сословие.
Изучая хозяйственные условия страны и высший правительственный класс, Ключевский дает иную схему исторического прошлого, полагая сущность исторического процесса допетровской России в образовании национального государства, расширяя точку зрения, выставленную Соловьевым,— мысль, еще резче подчеркнутая в его курсе, в котором выдвигается на первый план стремление великорусского племени к политическому единству на народной основе и внешняя борьба на два фронта: с Литвой — за старинные русские земли, на юго-востоке — с татарами за христианскую цивилизацию. Еще прежде, чем образовалось это национальное государство, московским государям пришлось быть военными командирами и выразителями этого стремления. Устанавливая этапы в процессе образования высшего правительственного класса, Ключевский обратил внимание на несколько своеобразные политические и экономические отношения, создававшиеся в северо-восточной Руси в XIII-XV веках благодаря народной колонизации. Страна разделилась на уделы — исчезло государственное единство,
верховная власть разделилась между представителями княжеского рода, понятия публично-правовые перемешались с частно-правовыми отношениями. Выяснение юридической природы удела и его экономической физиономии — это огромная заслуга Ключевского. Теперь нельзя не разграничивать эпоху областного строя от эпохи удельной, хотя некоторые из историков-юристов до последнего времени остались верны старым схемам и построениям. В первоначальном характере власти московских государей Ключевский справедливо видит пережиток удельных традиций, и стремление отделаться от них привело к столкновению с правящим классом, сбитым с своих позиций экономическим кризисом XVI века и разгромленным в эпоху опричнины. К тому же в это время начинается и постепенная демократизация служилого сословия, благодаря исчезновению многих знатных фамилий. Образование национального государства и разрыв власти с пережитками удельной эпохи произвело радикальные перемены в положении «Боярской думы», превратившейся из княжеского совета по дворцовым делам в высшее правительственное учреждение с законосовещательными функциями, учреждение, успевшее отлиться в по-смутную эпоху. Боярскую думу стали наполнять приказные дельцы — управители центральных приказов, и она постепенно превращается в бюрократическое учреждение, сначала действовавшее с царем, а потом получившее возможность действий и без государя. Характеризуя боярскую думу в последний момент ее развития, Ключевский коснулся ее компетенции. Богатый фактически материал, им приведенный, блестяще показал, как разнородна была компетенция думы и как трудно юридически определить ее действительное положение в среде правительственных учреждений, если оставить без внимания историю высшего правительственного класса, для которого боярская дума была органом власти и влияния, местом формировки новых политических взглядов, понятий, средством борьбы за власть, в особенности в эпоху смуты. Значительно позже внимание Ключевского сосредоточилось и на другом правительственном учреждении — земских соборах в момент их появления3. И до Ключевского не было недостатка в литературе по этому вопросу, хотя сведения, собираемые литературой по поводу соборов XVI веке, отличались некоторой сбивчивостью и неясностью.
Для исследователей земских соборов так и оставался неясным вопрос о составе представительства на земских соборах и о действительном значении их в русской истории. Правда, относительно последнего вопроса русская историография разбилась на два
лагеря — переоценивающих значение соборов и считающих их политическою ненужностью,— но оба эти мнения не столько отличались обоснованностью своих аргументов, сколько говорили о политических настроениях самих авторов. Была попытка подойти к изучению земских соборов, став на сравнительно историческую точку зрения, но дальше некоторого сравнения, установления некоторых общих черт в характере земских соборов и средневековых сословных представительных собраний дело не пошло.
К изучению земских соборов Ключевский приложил тот же метод, с помощью которого он изучил боярскую думу.
- Политическое значение земских соборов само собой станет ясным, когда будет изучен состав представительства на земских соборах, когда станет известным «строительный» материал, который часто важнее постройки. Отказавшись от беглого обзора соборных рукоприкладств, к которым так часто обращалась историография, Ключевский привлек к делу изучения совершенно новый материал: тысячную книгу, разрядные книги, десятни и стал изучать соборное представительство в связи с тогдашними условиями политической и общественной жизни. Конечно, такая точка зрения оставалась единственно верной, ибо изучив основные принципы, господствовавшие в местном и финансовом управлении, можно было попытаться и выяснить характер действительного значения земских соборов. До Ключевского исследователи прямо и косвенно говорили о сословном представительстве на земских соборах. Ключевский, с помощью замечательных методологических приемов, этот вопрос окончательно разрешил. Ключевский анализирует рукоприкладства, сохранившиеся на актах соборов (1566 и 1598), тщательно следя за служебной карьерой лица, бывшего на соборе, выясняя его отношения к населению, и приходит к печальному для прежней историографии выводу — об отсутствии на соборах XVI века действительного представительства.
По мнению Ключевского, соборное представительство было организовано следующим образом: «Дворяне и дети боярские вместе с Торопецкими и луцкими помещиками представляли на соборе многочисленный военно-служилый класс,— они составляли 55% всего состава и принадлежали к высшему столичному классу, делившемуся на три статьи. Занимая в Москве служебное положение, они в то же время явились на соборе представителями местных миров, уездных дворянских обществ, с которыми они были связаны. Такой представитель попадал на съезд с двойственным значением, которому и был обязан своими представительными полномочиями:
как землевладелец, он не выступал из корпорации военно-служилых землевладельцев известного уезда, несмотря на свою принадлежность к столичному дворянству, как столичный дворянин, он становился на походе во главе дворянского отряда своего уезда, наконец, в том и другом качестве он являлся представителем на соборе уездной дворянской корпорации, которой предводительствовал и на походе». Поэтому на соборах XVI века о каком бы то ни было представительстве в собственном смысле этого слова не может быть и речи: дворянские представители призывались на собор «по доверию правительства, а не общества, они являлись правительственным органом, обязанным говорить за своих подчиненных». Такой состав «по должностному правительственному положению, а не общественному выбору», Ключевский находит и на соборах 1598 года, хотя его состав несколько дробнее, сложнее. В то же время Ключевский отмечает новую черту в составе представительства, характерную для соборов XVII века, именно присутствие на соборе выборов представителей дворянских обществ — и притом из их среды... И относительно представительства торгово-промышленного класса Ключевский пришел к таким же выводам, к каким он пришел в исследовании характера дворянского представительства. Таким образом, представительство на соборах XVI века сводилось к совещанию должностных лиц, облеченных доверием правительства и связанных землевладельческими и другими материальными интересами с местными организациями. На организации соборов XVI века сказались принципы, которыми руководилось правительство во внутреннем управлении. В этом отношении земский собор XVI века по своему представительному составу служил высшей формой поруки в управлении — только «в местном управлении обыкновенно мир ручался за своего мирского управителя, а на земском соборе управитель ручался за весь мир». Так осуществлялась в организации собора та круговая порука самоуправляющихся общин, столь необходимая для правильного отбывания повинностей.
Ключевский вполне прав, говоря, что идее представительства стала вырабатываться в сознании общества только в эпоху смуты. Исследование Ключевского составило эпоху в истории земских соборов. Дальнейшие исследователи, воспользовавшись его методологическими приемами, вносили некоторые поправки, дополнения, но по существу не могли изменить выводов Ключевского. Несколько раньше выхода в свет статей, посвященных составу представительства на земских соборах, Ключевским был выпущен ряд статей первостепенной важности, посвященных генезису крепостного права
и его дальнёйшему юридическому закрепощению и фактическому развитию4. И в этих важнейших вопросах Ключевский идет собственной дорогой. Для Ключевского предыдущая историография, говоря о первоначальном закрепощении крестьян, только затемнила, запутала вопрос, а не разрешила. Изучали крепостное право как институт, установленный верховной властью в интересах государства, основывая свои мнимые доказательства на указе 1592 года. В этом отношении все существовавшие историографические направления сходились между собой. Историко-методологическое приемы, примененные в «Боярской думе», конечно, не допускали подобной конструкции генезиса крепостного права, несостоятельность которой была очевидна. Ключевский устанавливает генезис крепостного права в условиях тогдашней социально-политической жизни.
Правительство не отменяло Юрьева дня — крестьяне потеряли право выхода благодаря развивавшейся экономической задолженности, которая резко бросается в глаза при изучении соответствующего материала. В семнадцатом веке узел крепостного права затягивается все туже и туже, пока Уложение 1649 года не закрепостило всех сидевших на земле и записанных в писцовые книги. Ключевскому удалось установить не только первичный факт в истории крепостного права, — но и по-иному определить самый характер вновь образовавшегося института. Вопреки прежним исследователям, крепостное право с самого своего возникновения стало носить личный характер, что Ключевским ставится в связь с влиянием кабального холопства, на издельное крестьянство, ибо ссуда являлась элементом, сближающим эти два зависимых состояния. Раз крепостное право стало носить личный характер, то его сущность стала заключаться в праве помещиков на его труд, личность и имущество. Ключевский не только дал новую конструкцию генезиса крепостного права, но пустил в научный оборот много нового материала, тщательно изучив порядные грамоты и показав, как растущая задолженность изменила характер самой порядной, все больше и больше переходившей в ссудную запись. Последователи Ключевского внесли кое-какие дополнения и поправки, но основной его взгляд остался в качестве факта, прочно утвердившегося в научном сознании. Изучение крепостного права в XVII веке, во второй его половине, позволило Ключевскому подметить целый ряд любопытных явлений в жизни еще не окрепшего и не развившегося института. Условия помещичьего хозяйства требовали большого напряжения физического труда. Помещики сажают на земельные участки холопов под видом задворных и деловых людей, заставляя их «изделье всякое
делати». Так происходило приближение холопства к крестьянству и одновременно последнее спускалось до холопства. Сближение двух разрядов сельского населения не могло не отразиться на принижении его юридического состояния и на усилении помещичьей власти. Подушная подать, падавшая и на холопа, и на крестьянина, слила эти два разряда населения в один, закрепив за помещиком его полицейские и финансовые привилегии и окончательно дав сложившемуся крепостному институту личный характер. Эта работа потребовала кое-каких дополнений, в зависимости от накопления нового материала, но основные ее взгляды остались без изменения. Таким образом, в своих основных работах, очень важных для изучения исторических судеб нашего народа, Ключевский дал иную постановку вопроса, рассматривая исторический процесс не сверху, а снизу. В новой конструкции исторического процесса, в попытках дать историю народа-общества, поставив ее в зависимость от экономических и политических условий, и заключается основное научное значение Ключевского. В этом отношении его курс является замечательным трудом в смысле общей концепции русской истории — истории народа, темы для работ. Я не говорю, конечно, о том, что теперь можно идти только от Ключевского, сходясь или расходясь с ним. Приходится расстаться с старыми схемами, старыми догматическими построениями. И, кажется, это заметно во всей историографии, и это течение не вызывает сейчас особенно сильной оппозиции. Совсем не то было, когда появлялись работы В.О. Он ими разрушал вековые здания, уничтожал сложившиеся навыки и привычки. Началась борьба в историографии. Борьба была тяжелая, малоблагоприятная для спокойного обсуждения вопроса. Мысль не утомила Ключевского; наоборот, она толкала его вперед, заставляя ее касаться все новых и новых вопросов. Утомился не Ключевский, а его противники. Слишком метко было научное оружие В. О. Вот почему начался отбой по всей линии, мнения Ключевского стали приобретать права гражданства, и В. О. превратился в представителя целой школы, подарившей обществу много ценных работ и оказавшейся достойной своего великого учителя.
В. О. Ключевский как историк-славянин*
Эпоха великих потрясений конца XVIII века поставила на первый план понятия общества как отдельного организма, общей воли и суверенной ее власти. Человек как интегральная часть общества, его составной атом имел прирожденные права, защита коих вытекала из признания их со стороны общей воли.
Интересы общества как целого никогда не могли быть противопоставлены интересам отдельной его части, человека. Отправляясь от понятия общественного договора и чистого разума, политическая мысль, в эпоху общественных различий и разграничений, права человека выводила из суверенных прав общества, выдвигала момент равенства, устанавливала представление о человеке отвлеченном, имеющем повсюду одни и те же черты, одни и те же свойства и природу.
Это обобщающее начало производило всеобщую нивелировку, подводило всех к одному знаменателю и нашло наиболее яркое выражение в идеях космополитизма.
Как капля в море, в нем рождаясь, от него происходила и в нем тонула, так человек, по понятиям тогда господствовавшим, растворялся в общественном организме, от него же получая и свое право на бытие.
Двадцатому столетию пришлось быть свидетелем иных идей. На место старых храмов культа общественного начала и чистого разума стали воздвигать алтарь победы личности, ее культа, культа личности самодовлеющей и самоценной.
* Напечатанный доклад товарища председателя о-ва Славянской культуры А. Р. Ледницкого был заслушан как вступительная речь на публичном заседании, посвященном памяти В.О. Ключевского.
В противовес идеям Руссо и Канта1, в противовес торжеству уравнительного принципа, Ницше подчеркнул момент свободы, своеобразия и оригинальности. Вместо английского парка, старательно подстриженного и расчищенного, стали культивировать свободный рост ничем не связанных, живых личностей, имеющих самостоятельное и ни от кого независящее право на автономную жизнь и развитие, бесконечно ценных, мощных и красивых во всем их многоразличии и своеобразии.
Не нивелировка всех по одному типу и шаблону, а стремление к сохранению самобытных черт индивида, к укреплению и развитию индивидуального как источника силы и красоты стало предметом борьбы и общественных исканий.
Оказалось, что в общей сокровищнице человеческого духа наиболее ценный вклад дает свободное индивидуальное творчество, вытекающее не из шаблона, а из разнообразия прошлого, условий отдельного развития, отдельных черт индивида, отдельной нации, народа.
Понятие естественных прав человека как самодовлеющей и самоценной величины пришлось распространить на народности и нации; явилась необходимость признать за ними такое же право на свободное развитие и культурное самоопределение.
Идею космополитизма сменила властная национальная идея, вытекавшая из сознаний своего национального своеобразия и из того, что в спектре мировой культуры должно гореть всеми отливами цветов проявление национального творчества. Борьба за первенство не ограничилась одним соревнованием, она повлекла ожесточенные столкновения, стремление к власти одних над другими, к распределению наций на державные и подвластные, к порабощению слабейших, к установлению торжества силы над правом.
Во всей полноте были поставлены национальные проблемы. Объединились Италия и Германия; даже там, где, казалось, давно могильная плита векового владычества одних навсегда прикрыла угасший национальный дух других, началось возрождение мертвых; чехи, поляки в Силезии и Пруссии, хорваты и словаки в Венгрии, фламандцы в Бельгии, литовцы и русины под влиянием живительной силы национальной идеи затрепетали новою жизнью и потянулись к солнцу правды, понесли в общую сокровищницу человеческого духа свои драгоценные камни, жемчужины и перлы национального творчества. По всему миру в противовес торжеству силы разнесся победный гимн любви к родному, к оригинальному, к национальному.
«Наша эпоха есть эпоха оценки своеобразной индивидуальности, незаменимости личности и нации»,— говорит проф. Новгородцев2.
Ценно не то, что в них общего, а то, что многогранно, многоразлично, многообразно.
Общество Славянской Культуры поставило своей задачей углубление в обществе идей красоты разнообразия, индивидуальности, заботу о развитии и сохранении национального как проявления высшего человеческого творчества. Не делая кумира из какого бы то ни было народа, общество Славянской культуры ставит прежде всего своей задачей и целью ознакомление русского общества с национальным творчеством славянских народов, объединенных, несмотря на всю красоту различия отливов национальных цветов, • одним общим славянским корнем родственного происхождения и вы-'Текающей отсюда общностью многих взаимных интересов и задач.
Посвятив сегодняшний день памяти великого русского историка, общество Славянской культуры видело в В.О. Ключевском проявление могучего великорусского таланта, манящего к себе всей силой своей особой индивидуальной красоты национального духа. Своеобразная привлекательность его заключается в том, что в применяемом им синтетическом обобщении он являл свою художественную силу, которая с чувством любви ко всему родному дала возможность понять оригинальность русской культуры и проникнуть в самую глубину недоступного, быть может, для простого научного исследования.
Являя яркое доказательство силы русского, даже великорусского таланта, отдавая должное значение национальному творчеству, национальному самопознанию, он смело шел по широкому пути любви к родине и уважения к другим, никогда не сворачивая в темные переулки ненависти и злобы, проповеди торжества силы над правом. В 1904 году он произнес речь, посвященную памяти С.М. Соловьева3. Здесь он ясно определил свой взгляд на национальную проблему: «Живей многих и многих патриотов чувствовал он великие силы родного народа, крепче многих верил в его будущее, но он не творил из него кумира,— говорил о Соловьеве Ключевский.— Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы льстить ему и считал его слишком взрослым, чтобы под видом народной истории сказывались ему детские сказки о народном богатыре». «Русский до мозга костей, он не закрывал глаз, чтобы не видеть темных сторон в прошедшем и настоящем русского народа». «Изучая крупные и мелкие явления истории одного народа, он не терял из вида общих законов, правящих жизнью человечества, коренных оснований, на которых строятся людские общества».
Русский до мозга костей, повторим мы за Ключевским, он и сам не терял из вида общих законов, правящих жизнью человечества, коренных оснований, на которых строятся людские общества.
В оценке прошлого он оставался всегда верен этим коренным основаниям, коренным началам правды и справедливости. Великий мастер не только мысли, но и слова, силою которого «смутные тени прошлого становились живыми», «он по обломкам прошлого, по сору, оставшемуся от угасшей жизни восстанавливал»,— писали ему в день 30-летия его деятельности его ученики, «самую жизнь со всеми ее извилинами, сложными и причудливыми сочетаниями, во всей ее неуловимости». Проникновенная речь его, всегда строгая и сдержанная, точно наставление из глубины веков раздающееся, оставляла глубокий, неизгладимый след на всех, кто удостоился ее слышать. Но и здесь оригинальность его великорусского дарования сильно сказывалась, ярко вырисовывались изломы его души, столь свойственный русским, в особенности великороссам, и заключавшие в себе влияние прошлого и отражение настоящего.
«Бывали и в лекциях Ключевского патриотические места,— говорит проф. Кизеветтер,— когда голос лектора спускался почти до шепота и слова выговаривались с особенною многозначительною медленностью и аудитория замирала в жутком волнении. Так бывало, например, когда Ключевский описывал Ивана Грозного по его возвращении в Москву из бегства в Александровскую слободу и ярко обрисовывал, как разрушительно подействовала на организм Грозного перенесенная им только что “нравственная лихорадка”, или когда он цитировал трогательные места из переписки царя Алексея Михайловича и т. п. Большею частью в этих случаях, доведя слушателей до напряженнейшей взволнованности, Ключевский внезапно давал выход из этого напряжения неожиданной нотой комического сарказма, и аудитория, за минуту до того едва переводившая дух в глубоком молчании, вдруг разражалась продолжительным бурным смехом». От великого до смешного, сквозь слезы смех! Вот национальная черта творчества Ключевского.
Национальный вопрос, естественно, не мог быть ему чужд, ему как историку, оперировавшему с многообразными явлениями жизни и смерти, возрождения и умирания целых народов и государств, не раз приходилось разгадывать таинственное и, срывая покров прошлого, поднимать завесу будущего. Великий славянин и здесь не терял из вида ни общих законов, правящих жизнью человечества, ни коренных оснований, на которых строятся людские общества. Его любовь к славянскому особенно ярко сказывалась, когда ему
приходилось высказываться на тему об истории славянских народов о печальных, многострадальных страницах их прошлого.
Его глава об истории Малороссии, в которой необыкновенно ярко проявились его демократическое принципы, которым он остался верен в течение всей жизни, давно останавливали внимание всей Украины, заставляла с нею считаться. 18 мая 1895 года в 100-ю годовщину рождения Шафарика4 он произнес речь посвященную характеристике чешского народа: «Сто лет назад, когда в словацком селе Кобеляров родился Шафарик, в Чехии вымерло все чешское. Это вымирание началось за 175 лет до того времени, с того злополучного ноябрьского дня 1620 г., когда генерал католической лиги Тилли при Белой Горе разбил чешское протестантское ополчение графа Турна. Многовековая жизнь цветущей славянской страны сокрушена была в один час. Немцы и иезуиты наводнили ее. Десятки тысяч семейств были изгнаны или выселились. Карловский университет в Праге, возникший, когда не было еще ни одного университета в Германии, был запечатан, профессора его были разогнаны. Чехия, ставшая авансценой тридцатилетней войны, потеряла2/., своего населения. Вместе с истреблением парода выжигали его культуру. Более полутораста лет отбирали и жгли чешские книги. (Иезуиты хвалились, кто из них сколько тысяч чешских книг предал огню.) Чешский язык, язык Благослава и Кралицкой Библии забывался в высших классах, и мужицкая изба оставалась его последним убежищем. Во второй половине XVII века прерывается ряд чешских писателей, писавших по-чешски. Самая мысль народа гасла, и на протяжении почти двух столетий только имя Яна Коменского выделяется одинокой звездой среди все сгущавшегося мрака. Казалось, целая народность замерла и торжествующий враг готов был с веселым сердцем пропеть над ней Requiem aeternam»5.
Сколько безграничной тоски в этих словах историка-поэта. Как, обобщая этот крик протеста, можно отнести его ко всем картинам разрушения национальной жизни, самобытной культуры других славянских наций! Но пессимизму нет места в мировоззрении Ключевского. С какой затем силой он передает эпоху возрождения Чехии, какой бодрящий призыв слышен в его словах, точно новый грядущий победный гимн! Gloria victis!6
«Наступил XIX век,— продолжает Ключевский.— Жил тогда в Чехии ученейший аббат Иосиф Добровский7. Он изучал чешский и другие славянские языки, памятники старой чешской литературы, чешскую историю. Ученая любознательность была единственным
побуждением к этим историческим и филологическим изысканиям. Чешский язык, памятники чешской старины и литературы были для него только мертвыми останками угасшей жизни, научным материалом, археологическою ветошью. Когда ему говорили про эти вещи, про чешскую старину, литературу, чешский язык, он отвечал с набожностью могильщика: “Оставьте мертвых в покое”. Сам он не писал по-чешски и другим не советовал писать. Он разбирал эту ветошь, анатомировал ее, как труп, и удивительное дело — под его ученым ножом труп зашевелился и закричал живым, здоровым криком. Ученый принял за смерть летаргию, и анатом стал будильником. Оказалось, что народность только обмирала, но не умерла. Появился целый отряд большею частью еще молодых борцов национального возрождения, родного языка и литературы: Прохазка, Кромериус, Пухмейер8, Поллан и др.
В 1817 году через два года по издании “Слованки” Добровского Ганка9 открыл Краледворскую рукопись. В 1818 году, когда Добровский издал свою “Geschichte der Bomischen Sprache und altere Literatur”10, граф Коловрат Либштейнский" издал воззвание к отечественным друзьям науки, которое повело к основанию народного чешского музея, ставшего генеральным штабом ученолитературного национального движения, и в том же году на зубок этому новорожденному музею присланы были по почте два листика пергамента; прочитали их музейские ктиторы, библиотекарь Ганка с товарищами, и увидели, что это Любушин суд. Перед глазами могильщика воскресали мертвые им же пробужденные».
За год перед тем, возвращаясь на родину по окончании занятии в Йенском университете в Прагу, завернул и посетил 64-летнего Добровского 22-летний Словак, евангелический попович, происходивший от одного из тех 30 тысяч семейств, которые бежали из Чехии от иезуитов после Белогорской битвы.
Сколь властно из этих проникновенных слов мысли наставника выступает бодрящая надежда для всех, кому выпал печальный удел борьбы за национальное существование. Sursum corda12 — вот его для нас загробный призыв!
Но не одни страницы истории Чехии умиляли великого историка и направляли мысль исторического анализа на излюбленный им путь научного, справедливого исследования. В жертву правде он приносил все, он жертвовал своими демократическими симпатиями, некоторой предвзятостью, предупреждением к аристократическим принципам, и к тем народам, социальный строй и миросозерцание которых на этих именно принципах построены.
В курсе своем, говоря о разделе Речи Посполитой, он так разделяет свое отношение к этому событию: «Мысль о разделе Польши старая; ее внушали даже старым московским государям, но они всегда были против нее, говорили, что не хотят делить Польшу, а хотят отделить от Польши Западную Русь. Такой неожиданный исход ясного и просто разрешаемого вопроса был делом допущенного стороннего вмешательства. Раздел Польши был выгоден ее западным соседям, а не восточному соседу. Ни в каком случае русское правительство не должно было допускать до раздела Польши: нужно было отделить от Польши Западную Русь, а не делить Польшу с Австрией и Пруссией. Нужно было спасти Западную Русь от ополчения, а не отдавать Польшу на онемечение, иначе говоря, нужно было сделать Польшу настоящей польской Польшей, не делая ее немецкой, ввести ее в настоящую этнографию и в этих этнографических границах она была бы менее для нас опасна, сохраняя свою самостоятельность, чем в виде нескольких провинций Пруссии и Австрии.
Можно сказать, что Польша без Западной Руси, сохраняя политическую самостоятельность, не примирилась бы с Россией. Но примирилась же Швеция, лишившись своих восточных провинций, а с другой стороны, уничтожение польского государства не избавляло нас от борьбы с польской нацией. В XIX веке мы уже три раза воевали с этой нацией: в 1812, 1830-31 годах, и может быть, будем воевать еще. Может быть, для того, чтобы избегнуть необходимой борьбы с нацией, нужно было бы сохранить государство.
Итак, польские разделы я считаю решительной ошибкой даже и с общеславянской точки зрения. Когда исчезла Польша, одним славянским государством стало меньше, славянского полку, следовательно, убыло».
Да, славянского полку убыло. Угас светильник духа, замолкли навсегда уста, гласившие научную истину, и «чувства добрые пробуждавшие» , выпал из рук анатома ученый нож, под сильным ударом которого шевелились трупы прошлого, оживали умиравшие и читали смертный приговор живущие! В эту минуту, когда среди нас витает бессмертный дух почившего, воздадим должное светлой его памяти!
В. В. РОЗАНОВ
Ключевский
(К 75-летию со дня рождения)
...Читал весь вечер Ключевского — о Лермонтове, Нартове, Петре Великом, «Недоросль» Фонвизина и проч. И опять удивлен, и опять восхищен.
Что за ум, вкус и благородство отношения к русской истории. «Оглядываясь кругом» (литература, печать) — думаю, что это — последний русский ум, т. е. последний из великих умов, создавших от Ломоносова до него, вот Ключевского, славу «русского ума», славу, что «русские вообще не глупы». Ибо теперь, в настоящее время, русские решительно как-то глуповаты. Плоски, неинтересны.
Ключевский — полон интереса.
Историки до него, как равно и современные нам теперь, кажутся даже и не историками вовсе. Кажутся каким-то «подготовительным матерьялом». Он есть, в сущности, первый русский историк. Но мне хочется, от пресыщенности удовольствием, назвать его и «последним историком». Отвертывая страницу за страницей, учась из каждой строки, думаешь: «Лучше — не надо». Я даже не хочу, чтобы «лучше Ключевского объяснили историю»: я хочу, чтобы ее непременно объясняли и чувствовали, как Ключевский.
•А* А" А"
Даже удивительно, каким образом в такое пошлое время, как наше, мог появиться такой историк. Это его сохранила Троице-Сергиева лавра (долго был там профессором, до приглашения в университет), да (прости добрая память, если ошибусь в имени) Евпраксия Ивановна1. Говорят, он очень любил свою старушку.
Во всяком случае, за Ключевского мы обязаны 1) Церкви, 2) Сергию Радонежскому2, 3) Евпраксии Ивановне и 4) студенческой богеме, массе этих «нечесаных», которых он очень любил (рассказы).
* * *
Ключевский — весь благороден. Как он пользуется везде случаем сказать уважение о Болтине, Татищеве и пр. (своих предшественниках).
* * *
Фигуру его на кафедре я помню... Как сейчас... Она вся была прекрасная. Голос писклявый и смешной (бабий). Вертится (двигается) на кафедре... Ни о чем не думает, о слушателях не думает... Творит. И он творил, как соловей. Как соловей, «с мудростью человека в нем», т.е. как вещая птица.
Мне кажется, если сказать, что Ключевский был «русский историк», то этого недостаточно. Место его выше. Мне сейчас хотелось сказать, что его место «в литературе»: но, в сущности, и этого он выше. Его место среди «замечательных русских людей», или — вооружимся классицизмом — «среди достопамятных людей земли русской»... Это одна из фигур длинного ряда, начатого Ярославом Мудрым, Иоаннами и Василиями, Артамоном Матвеевым, Ордын-Нащекиным, Нартовым, Екатериною, Фонвизиным и Новиковым3, Пушкиным, С. М. Соловьевым и — им, Ключевским.
Это — создатели Русской Земли. Ключевский именно не «написал русскую историю», но создавал самую русскую землю,— орудием чего избрал курс лекций.
* * *
Как мало мы от него воспользовались! О, какое бедствие (профессора мне казались недоступными), что я не «попил у него (студентом) чайку»! бесконечное бы заприметил в нем. Как (студентом) мне всегда хотелось пойти к профессору («боги»). Но боялся. Ведь не помнил хорошенько латинских спряжений. «С такими-то сведениями пойду»...
Вдали моей юности какие это три столпа: Буслаев, Ключевский, Тихонравов. Самый рост их и вся фигура как-то достопримечательны
и высокодостойны. Теперь я таких людей (фигурою) не вижу. Обыкновенные.
Но договорю: самое слово его (стиль, слог) прекрасны, т. е. везде в уровень с предметом. Он не «отстает от тем», хотя темами этими были Лермонтов, Пушкин, Петр. Говорит он везде, как «господин дела». Нет, «господин» к нему не идет: говорит как друг и отец, как «верноподданый» великих государей своих и как сописатель писателей (о Лермонтове, о Пушкине4, о Фонвизине). Он еще не побежал тою «воющею собакою» около трона,— тем клеветником около сословий и исторических лиц, впечатление чего дают последующие «историки и публицисты», все эти Бильбасовы, Пыпины, Стасюлевичи, Лемке5,— и сколько их там еще есть...
Несчастные-
Но Бог с ними...
•Л* ‘к
Его место в рядах классической русской литературы, классических русских умов, поскольку проявлением ума своего они сделали не поступок, а — слово. Между Карамзиным, коего больше не читают (и читать невозможно), но на неговорящий памятник никогда не перестанет оглядываться всякий благородный русский человек, как бы далеко ни укатилась наша история и разнообразно она ни покатилась,— и между Львом Толстым с его постоянною (удачною или неудачною — другой вопрос) заботою о нравственном воспитании русского народа, возле «нашего наставника» Крылова6, певца — Кольцова7 и его (Ключевск.) семинарская тень. Не смейте улыбнуться. Без «семинарии» русская история не полна и однобока. Упрямо и могуче топнув, он сказал: «Семинария — не нигилизм. Семинария — не Чернышевский»8. Те были неучи, чего обо мне никто не скажет. Талантом я не убожее Чернышевского, и прыткости во мне не меньше, а ученостью, знанием и наукою я богаче, не только всего «Современника»9, но и кумиров его — Бокля, Дрэпера10 и какие там еще есть. Семинария — не нигилизм, и в Славяно-греко-латинской академии11 выучился Ломоносов.
Семинария имеет золотое в себе зернышко, золотую пшеничку, идущую от Иоаннов Златоустов, от Савватиев и Зосим12 и всех праведников Русской Земли. Нет, больше того: и не это еще — главное. От самого Иисуса Христа, пришедшего грешные спасти, хранится в семинарии луч, и он хранится только в семинарии, в университетах его нет, в Петербурге он погас, погас в чиновничестве и при
дворной жизни. Но этот дрожащий вечерний луч — он греет всю Землю Русскую, он просвещает всех,— и это одна Церковь напоминает на литургии каждый день:
Свет Христов просвещает всех.
Вот, господа. И этому лучу я остался верен. Пришел в университет — и верен; избран в ученые академики — и верен. Прославлен в печати, в журналистике — и все-таки верен. И не отрекаюсь и не хочу отрекаться от темной, заскорузлой, с гречневой кашей — семинарии, которая «при всей гречневой каше» одна тем не менее стоит не колеблющимся стражем у:
Бессмертия души Загробной жизни Памяти Бога
Совести человеческой,
Без чего вообще у вас,— и в журналах, и у Боклей, и в придворной жизни, и у чиновничества,— рассыпается все мелкою крупою, которую расклевывают воробьи. Верен и аминь.
* * *
Хорошо теперь Василию Осиповичу. Пошел он со своей бороденоч-кой и дьячковскими волосами, ковыляющей походкой, «на тот свет», не сняв даже мундира своего «Ведомства». Идет, ничего не думает, точно читает свои «столбцы» (мелкое письмо XVII-XVI века,— разных «приказов»). Без ответа и без страха, с одними столбцами.
И встречает его Господь Иисус Христос словами:
— Верным тебя послал, верным ты возвращаешься. Иди, сын Мой возлюбленный, семинарская голова,— вот тебе и куща заготовлена, и давно дожидается там тебя твоя спутница... Видишь, сияет вся, что остался верным ее друг, и оба вы, верные Мои, теперь загоритесь вечными звездочками на северной части Моего неба, в странах православных и русских.
С. И. СМИРНОВ
ИсследованиеВ.О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник»
В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли.
Ключевский
Покойному Василию Осиповичу Ключевскому принадлежит почетное место среди историков русской церкви. Его магистерская диссертация и издания житийных текстов, ряд интересных и содержательных статей из доуниверситетского периода службы и несколько блестящих речей посвящены разработке и решению разных церковно-исторических вопросов,— всего до 16 работ. Наконец, в его «Курсе» там и здесь рассыпаны чрезвычайно глубокомысленные замечания о судьбах и роли церкви в истории России, тонкие наблюдения, облеченные в меткие, не забывающиеся выражения. И я сознаю, что на мне, ученике и ставленнике В. О., лежит обязанность собрать все это богатство и кратко формулировать его теперь. Но, к сожалению, пока я не успел этого сделать. Остановлю внимание ученого собрания лишь на главном труде В. О., имеющем самое близкое и непосредственное отношение к истории русской церкви — на его «Древнерусских житиях».
Русская апология — молодая наука. До половины прошлого века вышли два словаря о святых, краткие с пропусками и ошибками. В 1854 году академик Куник1 жаловался на то, что гигантский сборник житий — Великие Макарьевские Четь-Минеи2 — еще даже не описан, и это оттого, что у нас не умеют пользоваться житиями святых для истории и самое содержание истории ограничивают дикими военными тревогами, внешним шумом и блеском прошлого*.
* «Не могу не выразить своего удивления,— пишет Куник,— что у нас никто не думает издать, хотя бы по частям, подробного описания большой Макарьевской Чети-Мннеи. Это равнодушие к такому гигантскому сборнику я могу объяснить себе только тем, что у нас еще не довольно умеют пользоваться
В 50-х годах (1855-1858) выходит труд Муравьева «Жития святых Российской церкви»3, в 60-х (1861—1865) — «Русские святые» Филарета Черниговского4. О последнем труде, несомненно, лучшем для того времени, наиболее обстоятельном, дающем, по крайней мере, много материала, В. О. отозвался так: «Это краткие биографии, предназначенные для читателя, который не претендует на звание специалиста по русской истории» *. Обслуживая читателя, ищущего назидания, оба названные труда мало давали ученому. Апология русская могла бы создаваться по частям, так сказать, попутно историками русской церкви. Но последние занимались больше всего киевскими житиями и лишь некоторыми из северо-восточных. Остальная масса житий была не тронута и входила в церковно-исторические книги лишь в виде общего обзора распространения монастырей в Древней России и краткого очерка деятельности главных подвижников русской церкви**. Еще слабее изучены были жития со стороны литературной. «Шевырев5, в историко-литературных изысканиях вообще скучавший предварительной критикой источников», пустил в оборот «историко-литературный предрассудок», что простонародные жития — первичные редакции. Под влиянием такого предположения стали разрабатывать северно-русские жития в ложном направлении, усматривая в «первичных редакциях» «зарождение национальной литературы в северной Руси»***. И только, кажется, один Буслаев дал несколько прекрасных историко-литературных очерков о житийных
житиями святых для истории; или, может быть, в нашем историческом взгляде продолжают еще действовать прежние пошлые понятия об истории, ограничивающие ее содержание дикими военными тревогами и вообще внешним шумом и блеском прошлого. Кто же понимает, что дело истории, кроме того,— исследовать и изобразить, как думали, чему веровали и что испытывали в своей душе люди прежних столетий, тот оценит историческую важность сказаний о жизни святых, не говоря уже об их осязательном значении в литературном и других отношениях. Что касается именно византийской и русской истории, то полное уразумение их, конечно, невозможно без тщательного сравнения их между собою и с историей Западной Европы и Востока; а для этой цели необходимо, между прочим, отчетливое изучение жизнеописаний святых в византийской и славяно-русской литературах». Ученые Записки Имп. Акад, наук по I и III отделениям И. Ак. Н. II том, СПб. 1854 г., стран. 759.
* Новые исследования по истории др.— русских монастырей. «Прав, обозрение», 1869 г., ч. II, стран. 440.
** Н. А. Попов. Древнерусские жития святых как исторический источник (разбор книги Ключевского). «Прав, обозр.» 1872 г., ч. I, стран. 411.
•'** Таково заглавие книги И. Некрасова, которую в основном ее положении вместе со взглядом Шевырева критически разобрал В. О. Ключевский. Др.-русские жития святых как исторический источник. М., 1871, стран. 373-381.
сказаниях. Между тем вопрос о древнерусских житиях становился на очередь. Славянофилы упрекали Соловьева за слишком формальное отношение к источникам, за то, что для своей «Истории» он пользуется летописями, актами, архивными материалами и оставляет нетронутым целый отдел источников, наиболее ценных, по их мнению, для изображения внутреннего быта и народного миросозерцания — оставляет в стороне жития святых. Начали усиленно собирать рукописные жития (напр., Ундольский6), на что прежде собирателями мало обращалось внимания. Соловьеву и самому было очень интересно знать, что представляет для него этот новый источник. Поэтому, всего вероятнее, тему для магистерской диссертации «Древнерусские жития святых как исторический источник» дал Василию Осиповичу не кто иной, как Соловьев. В исторической науке того времени ставился вопрос, для разрешения которого необходимо было обследование древнерусских житий — вопрос о колонизации северо-востока Руси. Вопрос о колонизации Руси твердо поставлен был Соловьевым, однако в его «Истории», если только я не ошибаюсь, нет определенных заявлений о значении древнерусского монастыря в заселении нашего севера. Но ученик Соловьева Ешевский7, сначала преподававший русскую историю в Казанском университете, поставил вопрос о колонизации северо-востока Руси с решительностью и определил значение монастыря в этом деле. В 1857 году он прочел в Казани три публичные лекции «О русской колонизации северо-восточного края», которые были напечатаны уже после его смерти в 1866 году. «Значение монастырей в великом деле распространения русской народности и гражданственности должно быть оценено по заслугам»,— пишет Ешевский и указывает на древние жития святых как на неразработанный источник для изучения вопроса о колонизации. «Если бы кто потрудился собрать из рукописных сборников житий и чудес русских угодников многочисленные рассеянные там указания на это влияние монастырей русских, на распространение первых начал гражданственности, тот оказал бы большую услугу русской истории, не говоря уже о том, что новое раскрытие этой стороны русского подвижничества необыкновенно важно для истории русской церкви. В житиях же русских святых можно найти и лучшие указания на первые трудности поселения среди чуждых племен, на борьбу с природой, на историю первых колонистов, на состояние страны в эпоху их поселений»*. В словах Ешевского слышится преувеличенный взгляд на достоин
* С. В. Ешевский. Сочинения по русской истории. М., 1900, стран. 316- 317.
ство житий как исторического источника. Но такой взгляд был тогда общераспространенным. Буслаев в Москве, Бычко8 в Петербурге, Щапов в Казани единогласно признавали жития самым важным источником для истории русских нравов и обычаев, истории быта и частной жизни. В житиях предполагали такие исторические факты, которых не находим в летописях. Изучение житий считали важным для истории земледелия, болезней, колонизации, семейного быта, воззрений на природу*.
В.О. взялся за древнерусские жития, чтобы найти в них данные для истории монастырской колонизации северо-восточного края * Руси, частного момента в истории колонизации, которую покойный ученый признавал основным фактом нашей истории. Большая часть его материала лежала неописанной и ненапечатанной в рукописных библиотеках разных городов. Получив эту тему вскоре по окончании курса, вероятно, в 1866 году, и прозанимавшись в рукописных собраниях Москвы, В. О. следующим летом едет в Казань изучать рукописи Соловецкой библиотеки. Профессор П. В. Знаменский9, тогда начинающий ученый, вспоминает В.О. того времени. «Это был еще очень молодой человек, корректный, скромный, сдержанный, даже немного недоверчивый, с каким-то пытливо высматривающим взглядом»... Знаменский тогда временно заведовал рукописной Соловецкой библиотекой, помещавшейся в особой комнате. Видя опытность В. О., не нуждавшегося ни в каких указаниях, и аккуратность, он оставлял его одного в библиотеке, даже предоставлял в его распоряжение и ключ на все время его занятий. В Казани познакомился В. О. с канонистом Павловым, тогда уже перешедшим на университетскую службу, который стал его другом. По свидетельству П.В. Знаменского, В.О. жил в Казани не более дней 10, но занимался ежедневно с утра до 2-3 часов. Ближайшим результатом работ в Казани была одна из самых замечательных статей В.О. «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае»10. Пользуясь вакационным временем, он ездил для занятий житиями в Петербург, в Поречье; несколько раз и не один год приезжал он в Троицкую лавру, библиотека которой, как известно, особенно богата житиями, и в Московскую академию. Из частных библиотек для своего труда В. О. использовал рукописи графа Уварова11, Буслаева, Тихонравова и, наконец, Е. В. Барсова12. В библиотеке последнего В. О. нашел редкие или даже единственные
* Подробнее см. у Иконникова В. С. Опыт русской историографии. Т. II. Ки. 2, Киев, 1908. стран. 1691-1692.
списки некоторых житий. Е. В. Барсов, назначенный помощником хранителя рукописей Московского публичного музея, перебрался из Петрозаводска в Москву в начале 1870 года; он привез с собою богатую рукописную библиотеку. В ней оказались списки таких житий, которых В. О., оканчивающий к тому времени свою работу, нигде не встречал. Он сильно обрадовался, просил у Барсова позволения заниматься у него на дому, но тот предоставил ему рукописи в полное распоряжение. Это и послужило началом тесной дружбы покойного историка с Е. В. Барсовым.
Много труда положено В. О-чем при изучении древних житий. Книга писалась пять лет, среди занятий, отвлекавших от этого дела — разумею уроки и репетиторство в Александровском военном училище,— и она свидетельствует об изумительной работоспособности автора. Он рассмотрел критически, сопоставляя взаимно и с другими источниками, главным образом с летописями, до 160 житий слишком в 250 редакциях по спискам, число которых доходит, по всей вероятности, до 5000, писанных иногда Бог знает какими почерками. Работал В.О. с удовольствием, чему немало содействовал, как он говорил, некоторый романтизм, отголоски воспоминаний духовной школы, и этот романтизм превращал для него убийственную работу в спокойное занятие. Но работа отвлекала его от изучения другцх очередных вопросов науки; поднималось порою горькое чувство раскаяния в том, что взялся за очень трудное дело. Разочаровывали в нем и некоторые друзья. Шахов говорил постоянно В. О-чу, что работа над житиями недостойна его таланта: ему надо бы заниматься прагматической разработкой истории, а он тратит время и силы на черное, «рудокопное» дело. В. О. отвечал обычно Шахову, что работа эта не так бесплодна, как может показаться стороннему наблюдателю. Но по временам исследователя житий подавляла масса рукописного материала, и он говорит в своей книге о тоскливом взгляде, которым приходилось смотреть мнительному библиографу на поздние списки житий, не отваживаясь на внимательный просмотр каждого. Когда В. О. пишет: «Кропотливый исследователь строго-научного направления, измучивший голову микроскопическими гипотезами, вправе позавидовать спокойствию» древнерусского агиобиографа*,— чувствуется эта усталость исследователя, обработавшего научно более полутораста памятников... В. О. не раз говаривал, что к концу работы у него появилось чувство человека, который нырнул в глубину,
* Др.-русские жития святых, 389, 407; ср. 409 ad fin.
затаив дыхание, движется под водой и думает, хватит ли у него сил выдержать, и что, окончив книгу, он почувствовал себя воскресшим.
В 1871 году напечатана была книга. От последующих книг В. О-ча «Древнерусские жития» отличаются тем, что автор не скрывает здесь от читателя процесс своей работы, тот путь, которым он пришел к тому или иному выводу; ставит цитаты. Правда, он очень мало делает выписок из своего рукописного материала, и его книгу нельзя читать, не прочитывая тексты памятников, о которых он трактует. Можно видеть, что работа над источником, мало дающим историку, но потребовавшая от него огромного напряжения сил, развила в молодом ученом необычайную зоркость взгляда, видящего едва уловимые штрихи житийного повествования,— уменье находить в источнике малейшие крохи исторически ценного: качества, которые остались с В. О. на всю жизнь. По книге о древнерусских житиях, сопоставляя ее с предшествующими и последующими трудами покойного историка, можно судить, что теперь вполне созрел и литературный талант Ключевского. Удивительная сжатость изложения, экономия на слова, меткость и художественность изображения, кованый стиль — все это уже есть в его «Житиях», особенно в превосходной заключительной главе. Результаты работы В. О. над житиями и выводы ее слишком известны, чтобы подробно останавливаться на тех и других. Проследив историю житийной письменности на Руси с XIII по XVIII столетие, указав массу новых списков и несколько совершенно неизвестных в науке житий, дав критический обзор каждого памятника, в заключительной главе своей книги В.О. представляет характеристику древнерусского жития со стороны его литературной формы и оценку его как исторического источника. Оказалось, что «литературной колыбелью жития была церковная песнь, а публикой общество, которому был чужд простой исторический интерес». Жития не дают нам биографий, даже изображений исторических лиц; они дают «образы без лиц»,— тип угодника, святого человека; вместо исторической обстановки, в которой он жил и действовал,— литературный шаблон, общие места, создавшиеся под влиянием восточной агиографии.
Такие выводы молодого ученого были крайне отважны и смелы, радикально расходились с господствовавшими тогда взглядами на наши древние жития. И автору пришлось защищать грудью выводы своей работы, прежде всего, на диспуте.
13 января 1872 года в заседании факультета читался отзыв Соловьева о диссертации Ключевского; назначен был день диспута и официальные оппоненты. Диспут происходил 26-го января.
Мы имеем обстоятельное описание его, сделанное участником Е. В. Барсовым. На диспут в актовый зал университета собралась многочисленная и разнообразная публика. Кроме студентов и профессоров были здесь чиновники, офицеры, коммерсанты, даже старообрядцы, множество дам. В краткой речи своей диспутант старался оправдаться в возможном возражении со стороны своих строгих и доброжелательных судей — в том, что его труд представляет некоторое несоответствие между историко-литературной ценой, какую автор дает исследуемому материалу, и теми усилиями, какие положены на его изучение. Оправдание таких усилий В.О. видел в том, что в древнерусском обществе под пестротою внешнего деления скрывается удивительное внутреннее однообразие: в составе древнерусского общества встречаем типы, созданные преданием и привычкой, и почти не замечаем характеров, лиц. Жития же — памятники, обещающие нам представить древнерусское лицо с его индивидуальными чертами: монашество — та сфера, которая в Древней Руси несравненно более других обладала средствами для развития нравственной свободы лица. Любопытна, далее, обстановка, в которой действуют эти лица — лесная пустыня. И только жития дают историку возможность взглянуть на древнерусского человека в таком индивидуальном его уединении. Этот научный интерес оправдывает микроскопические утомительные изыскания. «Остается решить, насколько эти изыскания помогают историку воспользоваться житиями для указанной цели».
Выступало пять оппонентов: официальные — Соловьев и Н. Попов, неофициальные — Буслаев, Тихонравов и Е. В. Барсов. Они критиковали книгу со всех возможных сторон,— с исторической, литературной, библиографической. Принципиальные возражения против выводов В. О. были высказаны только Соловьевым и Поповым. Первый заметил, что то, что автор назвал общими местами агиобиографии, не имеющими значения исторических фактов, — не общие места только, но и бытовые черты; повторение их во всех житиях может указывать на простоту и вместе живое и, так сказать, эпическое направление жизни. Попов оспаривал правильность самого вывода, будто форма в житиях подавляет фактическое содержание, будто общие места — господствующий элемент в содержании житий, и из книги В. О-ча привел целый ряд отзывов о житиях, признанных им самим ценными для истории*.
В «Прав, обозр.» 1872 г., I, Н.А. Попов поместил отзыв о «Древнерусских житиях», в котором изложены, вероятно, высказанные им на диспуте возражения.
В.О. отвечал на возражения очень метко и исчерпывающе, так что оппоненту не оставалось ничего для поддержки сделанных им возражений. Диспут был продолжительный, но очень интересный, прямо блестящий: публика отнеслась к нему с живейшим участием и вниманием от начала до конца.
Книга Ключевского была событием для русской церковно-исторической науки, весьма ценным в нее вкладом. Она давала обработку важного источника этой науки в то время, когда другие источники русской церковной истории еще не подвергались настоящей научной критике. Поэтому заслуживают внимания отзывы духовных журналов того времени о «Древнерусских житиях». Отзывы эти говорят, что книга «бесспорно займет видное место в нашей исторической литературе», что она «представляет только один из самых замечательных, какие только появились у нас, трудов, относящихся к истории религиозного просвещения древней Руси». Но «общая характеристика древнерусских житий и их писателей, представленная автором в заключительной главе, кажется» рецензентам «несколько преувеличенною и одностороннею, даже неумеренною». А некоторые миссионеры, соблазнившись защитою исторической ценности жития преп. Евфросина Псковского13 и указанием на то, что сугубая аллилуия встречается уже в рукописях XII века, обрушились на автора с известным полемическим азартом*.
* «Прав, обозр.» 1872 г., I, стран. 410 и 426, 422-423, прим. «Странник», 1874 г., III, стран. 123 и 133. Впрочем, подобные суждения есть и в светских журналах. «Беседа», 1872 г., марта, стран. 138. Г. Ключевский «слишком строг» к своим источникам, «чаще осуждает, нежели хвалит, и вообще высказывается в том смысле, что о богатстве житий как исторического материала составилось преувеличенное мнение». Без всяких оговорок приветствовал книгу «Вестник Европы», 1872 г., февраль, 3 стран, обложки. Целиком приводим краткий его отзыв. «Как западные монастыри, так и наши, в период Средних веков служили форпостами новой цивилизации; потому история этих монастырей, особенно на Западе, составляет важный отдел в общей истории, и жизнеописания их обитателей и подвижников служат превосходным источником для изучения нравов этой эпохи, бедной вообще на исторические памятники. Впрочем, наш автор, ввиду новизны дела, ограничился в своем труде одною первоначальною очисткою материала, и то только в отношении северо-восточных монастырей, не касаясь киевских. Но именно этим приемом он оказал большую услугу науке, облегчив последующих историков нашей древней цивилизации». Благоприятный отзыв о книге поместила еще «Русская старина», 1872 г., сентябрь, 2-3 стран, обложки. Заканчивается отзыв так. «В заключение отметим следующий курьез. По сообщениям московских газет, некто о. Пафнутий, недавно перешедший из раскола, в припадке ревности не по разуму, публично обозвал,
Книги имеют свою судьбу. «Древнерусские жития святых» имеют совсем другую судьбу, чем «Боярская дума» или «Курс русской истории». Книгу в 3000 экземпляров издал Солдатенков14,— у автора не было средств на издание. Издатель дал В. О-чу очень не много экземпляров и продавал книгу, пока не выручил затраченных денег; когда же их выручил, остальные экземпляры были переданы автору. Сначала книга пошла довольно бойко, потому что публика ожидала в ней встретить рассказы о святых, но потом значительно тише. Заведовал этим изданием Кетчер15 (как и всеми изданиями Солдатенкова): он медленно распространял «Древнерусские жития», когда же В.О. выкупил издание, оно начало распространяться быстрее. Но нужда во втором ее издании почувствовалась только в последние годы. В одной рецензии, писанной через три года после выхода «Житий», встречаем указание на удивительное равнодушие общества, не оценившего труд В. О.* Этому может быть две причины: книга слишком специальна и недоступна рядовому читателю, и В. О. в то время еще не был для большой публики звездою первой величины, какой он сделался в университете.
Высказано мнение, что книга В. О. о житиях сыграла особую роль в деле изучения этого отдела письменности: жития стали пользоваться меньшим вниманием, научная разработка содержащегося в них материала чрезвычайно ослабела. От книги получалось впечатление, что научная разработка предмета ею закончена, и дальнейшие изыскания представлялись ненужными. С другой стороны, древнерусские жития были дискредитированы автором в смысле исторического источника не только для вопроса о колонизации, но и для других вопросов по истории древнерусской жизни. Однако это мнение не вполне правильно. Едва ли я преувеличу, если скажу, что книгой В.О. создана была у нас новая наука — агиология. Интерес к житиям возрастает. Началось собирание списков житий (Барсуков16, «Источники русской агиографии»), усиливается издание их, появляются частичные исследования
с высоты кремлевского соборного крыльца, г. Ключевского — еретиком, а его книгу — еретическою». На эту выходку, сочувственно описанную в Московских епархиальных ведомостях (1872 г., № 11 ст. 12 марта), В.О. ответил письмом в редакцию «Современных известий» (1872 г., № 75) под заглавием: «Аллилуйя и о. Пафнутий».
* «Странник», 1874 г., III, стран. 123. «К сожалению, труд этот до сих пор еще не оценен как следует и не оценен главным образом потому, что наше общество слишком равнодушно отнеслось к нему, даже больше — оно, вероятно, почти и не знает о нем».
житий по местностям: северно-русских (Яхонтов17), вологодских (Верюжский, Коноплев18), псковских (Серебрянский19); по аги-обиографам,— о Пахомии Сербине (Некрасов, Яблоновский20)*. Разрабатывается вопрос о канонизации русских святых (Васильев, Голубинский21). Изучаются древне-русские жития, как литературный памятник в легендарной стороне своей в сопоставлении с греческими житийными сказаниями (Каблудовский22). И все эти труды в большей или меньшей мере опираются на выводах и наблюдениях В.О. или, по крайней мере, считаются с ними. Наши крупные исследователи — Голубинский, архиепископ Сергий23, пользуются книгой В. О. как самым надежным пособием, а порою и как источником. Но до сих пор не появилось работы, которая заменила бы «Древнерусские жития святых», и они являются, бесспорно, и теперь еще главным трудом по русской агиологии.
Разработка сырого материала в течение 40 лет со времени выхода этого труда, конечно, двинула вперед науку агиологии. По-новому решаются теперь некоторые вопросы, поднятые или решенные в книге В. О., иную оценку в ту или другую сторону получили несколько разобранных им памятников. Но история литературной формы жития, установленная В. О., его оценка житий как исторического источника в общем остаются непоколебленными. Открыто несколько новых житий или новых редакций, неизвестных В.О., но тех и других немного**.
* Сверх того о Печерском патерике, который не рассматривался в книге Василия Осиповича, появились работы Яковлева, Шахматова, Абрамовича24.
** Житие Александра Невского — особая редакция под заглавием «Слово о погибели Русской земли» (Памятники древней письменности и искусства. Вып. LXXXIV; Псковская Старина. 1910. Вып. 1); Акакия Тверского (Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. стран. 16. Ниже ссылок на этот труд мы не делаем); кн. Андрея Боголюбского; Антония Леохновского (издается И. А. Бычковым); Аркадия Новоторжского (сказание о мощах); Арсения юрод. Новгородского; Василия Мангазейского (Памятники древней письменности и искусства. Вып. LXXIX); Василия юрод. Московского — народная редакция (изд. прот. И. И. Кузнецовым. «Св. блаж. Василий и Иоанн, Христа ради московские чудотворцы». М., 1910, стран. 79-93); Василия Рязанского, сочин. Ермолая, протоиерея ц. Спаса на Бору (изд. проф. И. Д. Шляпкиным, «Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели» (СПб., 1911), стран. 547, 563-65); Довмонта Псковского (изд. проф. Н. К. Никольским, «Материалы для истории древне-русской духовной письменности». (Сборник Академии наук. 85. СПб., 1907, стран. 116-117); Евфимия Архангелогородского (сказание о обретении мощей); Евфросина Синеозерского (изд. Адриановым «Летопись занятий археографической комиссии» (СПб., 1900. Вып. XIII. С. 1-32);
Заявление о том, что В. О. дискредитировал житие как исторический источник, будет еще менее правильно, если мы проследим дальнейшее отношение покойного историка к этому источнику. Во II части его «Курса» есть краткая характеристика древнерусского жития (стран. 319-323), где В. О., мне кажется, несколько сглаживает решительность своих выводов в книге. Он замечает, что жизнеописатель изображает действительную жизнь, но только с известным подбором материала в потребных типических, можно было бы сказать, стереотипных ее проявлениях. Это значит, В.О. признал силу возражения Соловьева, которое повторялось потом в литературе. Далее, В.О. пишет, что у жизнеописателя, ученика святого «сквозь строгие условности житийного изложения проглядывают обаятельные черты живой личности». Следовательно, он ограничил свой тезис, что наши жития дают «образы без лиц».
Помню, в последний разговор наш я указал В. О-чу, что для своего «Курса» он немало взял материала из житий, и он с живостью
Иакова Ростовского еп.; Иоанна мученика Казанского; Иоанна Власатого, юрод. Ростовского; Иоакима патр. Московского (изд. Н.П. Барсуковым, Памятники древней письменности и искусства. Вып. XLVII); Корнилин и Аврамия Палеостровских; Лазаря Мурманского; Литовских мучеников сербское житие (изд. проф. М.Н. Сперанским); Логгина Коряжемского (Отчет Императорской публичной библиотеки за 1876 г. (СПб., 1877), стран. 54, Отчет Императорской публичной библиотеки за 1880 г. (СПб., 1881), стран. 10); Мартирия Зеленецкого (первонач. редакция изд. И. А. Бычковым, «Каталог собрания рукописей Ф.И. Буслаева, ныне принадлежащих Императорской публичной библиотеке». СПб., 1897, стран. 342); Никандра Псковского (первонач. редакция, изданная Н.И. Серебрянским, «Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле» (М., 1908).); Петраиерея Черевковского; Питирима еп. Пермского (изд. проф. И. А. Шляпкиным, «Журн. мин. нар. проев.» 1894 г., № 3, стран. 135-145); Савы Крыпецкого (проложная редакция, изд. Н.И. Серебрянским); Серапиона Псковского (Серебрянский Н. И. Очерки по истории псковского монашества // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1908. Кн. 3 (226); Сергия Радонежского новые редакции (Яблонский В. Пахомий серб и его агиогрфические писания. СПб., 1908, 9 стран.); Софии-Соломониды вел. княгини; Стефана Комельского (Памятники древней письменности и искусства. Вып. LXXXV); Феодора еп. Ростовского; Сказание о чудесах Костромской Феодоровской иконы Богоматери (издано И. В. Баженовым, «Вестник археологии и истории, издаваемый Императорским Археологическим институтом» (СПб., 1909. Вып. XIX.). Без сомнения, некоторые из указанных житий В. О. знал, но опустил сознательно (см. Приложение II ad fin.). Мы опустили в своем перечне жития, известные от XVIII и XIX вв., обследование которых и не входило в задачи автора «Древнерусских житий».
ответил: «Как же, ведь в житиях жизнь, которой вы не найдете в актах». И действительно, в «Курсе русской истории» есть немало данных, взятых из житийного материала: религиозная борьба при колонизации верхнего Поволжья в XI и XII столетиях по ростовским житиям, переливы населения в Московской области по житию преп. Сергия. Две лекции о монастырских вотчинах (XXIV-XXV), в которых дается и характеристика русского монашества, и история монастырской колонизации, есть результат превосходного изучения покойным историком северно-русских житий. Приход Андрея Боголюбского с юг с иконой Богоматери — по чудесам этой иконы. Возвышение Москвы — по житиям митр. Петра и предание о милостивом князе Московском Иване Калите,— из Волоколамского патерика и жития Пафнутия Боровского. Обеднение удельных князей — по житию Иоасафа Каменского. Характеристика царя Феодора, этого «блаженного на престоле», соткана из данных житий древнерусских юродивых*. Все это, конечно, дает право думать, что В.О. не только не дискредитировал жития святых, но он их первый научно и по достоинству оценил, в высшей степени умело ими воспользовался для гражданской истории. В большую заслугу В. О. надо поставить опровержение Шевыревской теории первичных редакций жития, выросшей потом в представление, будто в этих редакциях зарождалась национальная русская литература на севере. Направленное по ложному пути исследование древнерусских житий долго бы оставалось ненаучным. Излишнее увлечение малоценным источником было бы гораздо вреднее для научной его разработки, чем даже слишком строгое критическое отношение к нему.
Поступление В. О. в нашу академию, как известно, связано с его работой над житиями. Он ездил заниматься в Троицкую лавру и в академию. Библиотекарем последней состоял тогда А. Ф. Лавров (канонист, впоследствии Алексий, архиеп. Литовский)25. Он был положительно очарован молодым ученым, и именно Лаврову, его настойчивым представлениям наша академия была обязана великим счастьем получить В. О. профессором русской гражданской истории. Критическое направление работы его, смелость и отвага выводов не испугали академических церковных историков,
* К этому надо прибавить ссылки: на чудеса Николая Чудотворца (Курс русской истории. 4.1. 2-е изд. М., 1906, 336 стран.), на житие Михаила Клопского и Герасима Болдинского (Курс русской истории. Ч. II. М., 1906, стран. 126-127, 403); также в «Боярской думе», Каменского и Зосимы Соловецкого (3-е изд. М., 1902. стран., 87, 200).
оно не понравилось только некоторым людям старого поколения. В.О. рассказывал, зашел он раз к П.С. Казанскому26, который и сам занимался житиями, и ему В. О. незадолго пред тем поднес свою книгу. И вот старый академический профессор берет «Древнерусские жития», начинает перелистывать книгу и похваливать то тот, то другой отдел: «Хорошо это; ах, как хорошо!» Но дойдя до последней главы, он вдруг переменил тон и заметил: «А вот эту главу я бы оторвал да бросил в печку!» «А между тем последняя-то глава и была особенно близка моему сердцу», — заметил В. О. Но представители более молодого поколения приветствовали «Древнерусские жития» без всяких оговорок. Е. Е. Голубинский всецело присоединился к выводам В. О. относительно достоинства житий как исторического источника и высказал это не обинуясь в предисловие к своей «Истории»*. Книга о древнерусских житиях соответствовала как раз тому критическому направлению в церковной истории, которое было создано А. В. Горским и которое составляет бесспорную заслугу Московской духовной академии. Это взаимное сродство научной методологии и сделало В. О. в академии своим человеком не в меньшей степени, чем его духовное происхождение и семинарское образование. И надо пожелать, чтобы В. О. Ключевский как ученый не переставал быть своим для академии, навсегда оставался бы,— далее я пользуюсь выражением самого В. О-ча,— чтобы он оставался для академии «не только ее великим покойником, но и ее спутником, даже путеводителем».
Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. I. Первая половина тома. М., 1880. С. ХП-ХШ.
Г. В. ПЛЕХАНОВ
<В.О. Ключевский>
II
Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т. е., во-первых, их взаимной борьбой там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным сотрудничеством там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений. Стало быть, ходом развития и взаимными отношениями классов, составлявших русское общество, и должно быть объяснено неоспоримое относительное своеобразие русского исторического процесса.
Наша историческая наука давно уже поставила перед собой,— следуя поучительному примеру французских историков времен реставрации,— вопрос о том, каковы были взаимные классовые отношения в России. Как сказано мною выше, было время, когда люди самых противоположных взглядов сходились у нас в том убеждении, что история России совсем не похожа на историю Запада. Несходство это объяснялось тогда тем, будто бы несомненным, обстоятельством, что, в противоположность Западу, Россия не знала взаимной борьбы классов. Теперь это обстоятельство никак не может считаться несомненным. Теперь серьезному исследователю приходится спрашивать себя не о том, имела ли классовая борьба место в нашей стране, — теперь уже доказано, что имела,— а о том, походила ли она и в какой мере походила она на ту, которая совершалась в других странах.
За разрешением этого коренного вопроса мы, прежде всего, обратимся к одному из самых авторитетных,— если не самому авторитетному,— теперь русскому историку.
«История наших общественных классов,— говорит покойный проф. В. Ключевский,— представляет немало поучительного в научном отношении. В ходёГцх возникновения и развития, в процессе
определения их взаимных отношений видим действие условий, похожих на те, какими создавались общественные классы в других странах Европы. Но условия эти у нас являются в других сочетаниях, действуют при других внешних обстоятельствах, и потому созидаемое ими общество получает своеобразный склад и новые формы» *.
Подобно Павлову-Сильванскому, проф. Ключевский ограничивается односторонним,— завещанным эпохой тридцатых и сороковых годов прошлого века,— сравнением России с Западом. Если бы он дополнил это одностороннее сравнение, сопоставив наше отечество с Востоком, то сейчас же заметил бы, что чем более своеобразным становился ход нашего общественного развития в сравнении с западноевропейским, тем менее своеобразен был он по отношению к ходу развития восточных стран, — и наоборот. Это замечание очень пригодилось бы ему в его дальнейших соображениях. Но в границах своего сравнения он совершенно прав: общественное здание, сложившееся на русской почве, обнаруживает «своеобразный склад и новые формы». Поэтому нам остается только рассмотреть, чем же собственно отличались те сочетания условий, благодаря которым история наших общественных классов приняла не такой вид, какой получила она «в других странах Европы». Что узнаем мы на этот счет от проф. В. Ключевского?
По его словам, в истории всякого данного общественного класса нужно различать два момента: экономический и политический. Первый из них выражается в разделении общества согласно с разделением общественного труда. Второй — дополняет,— «завершает», — собою действие первого, распределяя общественную власть сообразно организации народного хозяйства, так что «экономические классы превращаются в политические сословия». Иначе сказать: «Политические факты вытекают из экономических, как их последствия». По-видимому, проф. В. Ключевский считал такой ход дела наиболее нормальным. Но он находил, что местами дело шло в обратном порядке. И вот почему. Страна, в которой народное хозяйство сложилось уже довольно прочно, может подвергнуться завоеванию, а завоевание введет в нее новый общественный класс и тем изменит положение и взаимные отношения прежних. Это вызовет многие перемены в ходе ее хозяйственной жизни. Очевидно, что они явятся «прямыми последствиями политического факта». Проф. В. Ключевскому казалось, что именно так или, по крайней
* Ключевский В.О. Боярская дума древней РуЪи. М., 1090. С. 7.
мере, очень близко к этой схеме, согласно которой политический момент предшествует экономическому, создавались многие государства Западной Европы*. И он приписывал огромное значение этому способу их возникновения. Он говорит, что далеко не все равно, вытекают ли политические факты из экономических, или же — наоборот.
Поясняя эту свою мысль, он рассуждал следующим образом.
Когда внешняя сила вторгается в общество и вооруженной рукой захватывает распоряжение народным трудом, тогда весь создаваемый ею государственный порядок приспособляется к защите приобретенных ею экономических выгод. Этим вызывается целый ряд чрезвычайно важных последствий. «Основания государственного устройства, отношения к верховной власти и к другим сословиям при таком ходе привлекают к себе заботливое внимание господствующего класса; вопросы государственного права выступают на первый план, составляют самые видные явления в истории общества; частные гражданские отношения лиц, как и их экономическое положение, устанавливаются под прямым влиянием этих вопросов, в прямой зависимости от того, как они разрешаются, а не наоборот,— и это потому, что господствующий класс старается так определить свои политические отношения, чтобы можно было мирно пользоваться экономическими выгодами, приобретенными завоеванием**. Благодаря всему этому, внутренняя история общества получает боевой характер, все общественные отношения обостряются, учреждения и классы получают резкие очертания. Наоборот, где завоевание не имело места, там основы общественного порядка обозначались не так явственно и не так последовательно проводились на практике, вследствие чего внутренняя история общества приобретала более мирный характер.
Покойный профессор не решался утверждать, что развитие русских общественных отношений шло этим последним путем. Но в то же время он не считал возможным уподобить ход этого развития западноевропейскому. Задавая себе вопрос: “Который из двух моментов, политический или экономический, предшествовал другому в образовании наших общественных классов, и всегда ли один и тот же из них шел впереди другого?”, он в конце концов склонялся к той мысли, что в истории нашего общества
* Легко заметить, что этот взгляд на ход общественного развития Запада прямо противоположен взгляду II. Н. Милюкова.
'* Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 9.
“господствовали смешанные процессы”, т.е. что у нас каждый из этих двух моментов поочередно играл роль то предшествующего, то последующего: иногда образование сословий начиналось политическим моментом, а иногда оно являлось следствием экономического развития общества. Вот почему исследователь, хорошо изучивший происхождение и развитие западноевропейских сословий, не встречает у нас повторения знакомых ему явлений» *.
III
Итак, на Западе экономический момент явился следствием политического, а у нас господствовали смешанные процессы. В этом заключается, по мнению проф. В. Ключевского, коренная причина относительного своеобразия, замечаемого в ходе русского исторического развития. Разберем это мнение.
Убеждение высокоталантливого историка в том, что на Западе политический момент предшествовал экономическому, основывалось на факте завоевания, которому он приписывал роль первого толчка в развитии западноевропейского общества. Но позволительно спросить: имеем ли мы сколько-нибудь серьезное основание думать, что политический момент предшествовал экономическому в истории какого бы то ни было общества?
На этот важный социологический вопрос западная наука ответила решительным отрицанием еще в лице Гизо и других французских историков времен реставрации. Мне уже не раз приходилось излагать взгляды этих историков, поэтому я не вижу никакой надобности входить в большие подробности по этому предмету. Однако мне все-таки придется повторить кое-что из сказанного мною в других местах.
Вот очень интересное и убедительное соображение Гизо: «Большая часть писателей, ученых или публицистов старалась объяснить данное состояние общества, степень или род его цивилизации, его политическими учреждениями. Было бы благоразумнее начинать с изучения самого общества, для того, чтобы узнать и понять его политические учреждения. Прежде, чем стать причиной, учреждения являются следствием, общество создает их прежде, чем начинает изменяться под их влиянием; и вместо того чтобы о состоянии народа судить по формам его правительства, надо прежде всего исследовать состояние народа, чтобы судить, каково должно было быть,
каково могло быть его правительство... Общество, его состав, образ жизни отдельных лиц в зависимости от их социального положения, отношения различных классов лиц — словом, гражданский быт людей,— таков, без сомнения, первый вопрос, который привлекает к себе внимание историка, желающего знать, как жили народы, и публициста, желающего знать, как они управлялись»*.
Я не буду приводить здесь выписки из сочинений Огюстэна Тьерри и Минье1, вполне разделявших этот взгляд Гизо**. Я считаю доказанным мною прежде, что еще в эпоху реставрации французские историки, сами приписывавшие завоеванию очень большую роль в развитии европейского общества, отвергали как отживший научный предрассудок ту мысль, что социальный строй данного народа может быть объяснен его политическими учреждениями. Они настойчиво и убедительно доказывали, что политические учреждения были следствием прежде, нежели стать причиной. И всякий новый успех в деле научного объяснения общественной жизни подтверждал и углублял это их учение. Исторический материализм Маркса-Энгельса, объясняющий политические учреждения социальным строем, а социальный строй общественной экономикой, окончательно выяснил взаимное отношение экономического и политического «моментов» общественного развития. Маркс и Энгельс прекрасно понимали огромное историческое значение политического «момента». Именно по этой причине они сами деятельно занимались политикой. Но они еще яснее, нежели Гизо, видели, что действие названного момента всегда представляет собою лишь обратное влияние следствия на вызвавшую его причину. И легко убедиться, что правильность их точки зрения подтверждается, между прочим, собственными рассуждениями проф. Ключевского.
Он так изображает ход общественного развития в тех странах, где политический «момент» шел, по его мнению, впереди экономического.
«В стране промышленная культура сделала уже некоторые успехи, труд населения успел до известной степени овладеть силами и средствами местной природы, народное хозяйство уже
* Guizot F. Essais sur 1’Histoire de France. Paris, 1823-1824. P. 73-74. Можно подумать, что Гизо возражает П. Н. Милюкову.
** Подробнее об этом см. в моей книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», изд. четвертое (СПб., 1906), стр. 13-26, в предисловии ко второму изданию моего перевода «Манифеста коммунистической партии» (М., 1883) и встатье «М.П. Погодин и борьба классов», «Современный мир», апрель и май 1911.
установилось с некоторой прочностью, когда эта страна подверглась завоеванию, которое ввело в нее новый общественный класс, изменив положение и отношения прежних туземных. Пользуясь правом победы, этот класс берет в свое распоряжение труд побежденного народа. Перемены, которые происходят от этого в течении народно-хозяйственной жизни, являются прямыми последствиями политического факта, вторжения нового класса, который начинает править обществом в силу завоевания»*.
Это, бесспорно, так: перемены, происходящие в экономике страны под влиянием политического факта завоевания, представляют собою последствия политического факта. Но ведь это простая тавтология. Вопрос заключается вовсе не в том, можно ли считать последствиями политического факта перемены, этим фактом вызываемые: само собою разумеется, что и можно, и должно. Вопрос заключается в том, отчего же зависит, чем же определяется характер тех перемен, которые вызываются политическим фактом. Другими словами: почему данный политический факт,— скажем, то же завоевание,— в одном случае вызывает одни перемены в народном хозяйстве, а в другом — совершенно другие? И на этот вопрос может быть только один ответ: потому, что в разных случаях различна та степень экономического развития, на которой находятся завоеванные; а также еще и потому, что в разных случаях различна та степень экономического развития, на которой находятся завоеватели. Но это значит, что возможные последствия политического факта заранее определяются экономическим моментом. Иначе сказать, возможное действие политического момента заранее определяется моментом экономическим.
Это до такой степени верно и до такой степени само собою разумеется, что сам проф. Ключевский молчаливо признает это, рисуя свою схему. В самом деле, посмотрите. Согласно его предположению, страна подвергается завоеванию уже после того, как промышленная культура сделала в ней некоторые успехи, а народное хозяйство уже установилось с некоторой прочностью. Ясно, что политический факт завоевания не предшествует здесь данному строю экономических отношений, а действует на него, как на уже существующий. И столь же ясно, что его действие будет изменяться в зависимости от характера этого, предварительно данного, склада экономических отношений. Это опять молчаливо признается самим проф. Ключевским.
* Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 7-8.
«Завоевателям для своего материального обеспечения,— рассуждает он,— нет нужды заводить вновь хозяйство в захваченной стране, указывать приемы и средства для эксплуатации ее естественных богатств. Они насильственно вторглись в установившийся экономический порядок, стали с оружием в руках у готового хозяйственного механизма; по указанию собственных потребностей им только нужно переставить некоторые его части, задать ему некоторые новые работы, направить народный труд преимущественно на разработку тех естественных богатств края, обладание которыми они нашли наиболее сподручным и прибыльным. После того у них оставалась бы забота не устроять технически этот механизм, а только обеспечить за собой послушное действие приставленных к нему рабочих рук»*.
Это «только» как нельзя более многозначительно: оно решает весь вопрос. Если завоевателям нет надобности «устроять технически» хозяйственный механизм попавшей в их распоряжение страны; если им остается «только» обеспечить за собою послушную деятельность рабочих рук, приводящих этот механизм в движение; если,— говоря языком политической экономии,— их роль и стремление сводятся к тому, чтобы присвоить себе прибавочный продукт, производимый трудящимся населением страны при таких хозяйственных условиях, которые существовали в ней еще до завоевания, то не ясно ли, что мы не имеем решительно никакого права считать политический момент предшествующим экономическому? Не очевидно ли, что и здесь политический момент выступает после экономического и что первый, как уже сказано выше, определяется вторым в характере своего действия? Наконец, не очевидно ли, что действие это по своему общему характеру ничем существенным не отличается от того, которого мы можем и должны ожидать от туземного господствующего класса, т. е. класса, возникающего независимо от завоевания, в силу экономического развития страны? Разве же такой класс не стремится обеспечить за собой послушную деятельность трудящегося населения? Разве же он не старается присвоить себе прибавочный продукт, создаваемый руками народной массы, не испытавшей завоевания, но все-таки находящейся в состоянии экономической зависимости?
«Этого обеспечения,— продолжает проф. Ключевский,— господствующий класс будет стараться достигнуть политическими средствами, известной системой законодательства, приспособленной
к цели организацией сословий, соответственным устройством правительственных учреждений»*.
Все это опять, бесспорно, так. Но если бы мы имели дело с господствующим классом, в происхождении которого завоевание не играло ровно никакой роли, то и тогда мы непременно увидели бы, что он заботится о создании такой системы законодательства, которая позволила бы ему отстаивать выгоды своего экономического положения. И точно так же мы убедились бы, что этот класс пользуется политическими средствами для достижения своей цели, ведь иначе и быть не может.
IV
Проф. Ключевский указывает на Новгород как на такую часть Древней Руси, где общественное развитие соответствовало первой схеме: расчленение общества по роду занятий, которому соответствует политическое значение разных его классов. «Рано освободившись от непосредственного давления со стороны князя и служилой аристократии, этот вольный городок усвоил себе формы демократического устройства. Но еще раньше успехи внешней торговли, ставшей главным жизненным нервом города, создали в нем несколько крупных торговых домов, которые были руководителями новгородской торговли, и в силу этого сделались потом руководителями новгородского управления, правительственной аристократией, господство которой, однако, всегда оставалось простым фактом, не сопровождалось отменой демократических форм новгородского устройства» **.
Тут мы видим то же самое, что уже видели выше: неоспоримые факты ложатся в основу такого заключения, которое никак не может быть признано неоспоримым. И это потому, что заключение гораздо шире своей фактической основы.
История показывает, что местами и иногда политическое господство высшего, — по своему экономическому положению, — класса «остается простым фактом», а в других местах или в другое время облекается в более или менее определенные и прочные юридические формы. Все зависит от обстоятельств времени и места. Если в Новгороде мы можем наблюдать первый случай, то второй представляется нам, например, в Венеции. Первоначально и в этом
«вольном городке» были только классы, отличавшиеся один от другого экономическим положением, но не было сословий с различными политическими правами. А потом дело резко изменилось. В конце XIII века произошла так называемая serrata del maggior Consiglio, положившая прочную основу юридическим привилегиям венецианской торговой аристократии. Что же? Имеем мы право считать эту перемену последствием,— хотя бы и очень отдаленным,— завоевания? Никакого! Адриатическая «царица морей» не знала иностранного завоевания вплоть до вступления в нее французских войск в мае 1797 года. Мы можем сказать словами проф. Ключевского, что там экономический момент всегда предшествовал политическому. А между тем мы наблюдаем в ней то самое явление — приобретение политических привилегий экономически господствующим классом, — которое, по мнению нашего автора, возникает лишь в таких странах, где, наоборот, политический момент предшествует экономическому. С другой стороны, Флоренция,— подвергавшаяся иностранному завоеванию,— в течение продолжительного времени неуклонно изменяла свое политическое устройство в направлении к демократии, т.е. в направлении прямо противоположном аристократическому направлению политического развития Венеции. По какой же причине? Потому ли, что отношение (во времени) политического момента к экономическому было там прямо противоположно тому, которое имело место в Венеции? Нет! Во Флоренции, как и в Венеции, как и во всем мире, экономический момент «предшествовал» политическому. Но во Флоренции он вызвал иное соотношение общественных сил, нежели в Венеции, и тем обусловил противоположное направление ее политического развития, т. е. совсем иную природу политического момента*.
Но хотя в Венеции утвердилось аристократическое, а во Флоренции демократическое устройство, однако и тут и там господствовавший класс усердно пользовался политическими средствами для защиты своих экономических выгод. То же было, разумеется, и в Новгороде. Только средства эти были различны, в зависимости от различий в политической конституции, вызванных
* Паскуало Виллари2 высказал несколько очень остроумных догадок насчет экономических причин, обусловивших собою разницу в ходе политического развития некоторых больших городов Италии. (См. его книгу «Nicolo Machiavelli е i suoi tempi», Firenze, 1887, introduzione). Выло бы большим преувеличением утверждать, что его догадки решают вопрос; но они вполне определенно указывают, где надо искать его решения, а этого здесь для нас вполне достаточно.
экономическими причинами. И то же самое мы видим и теперь. В Пруссии господствующий класс до сих пор имеет политические привилегии. Во Франции он уже не имеет их. Однако французская буржуазия так же усердно, как прусские юнкеры и богатые бюргеры, пользуется политическими средствами в борьбе за свое существование. И конечно, она нисколько не меньше их дорожит тем законодательством, которое охраняет ее экономическое господство. Это вряд ли нуждается в доказательствах.
А Россия? Экономическое, а потому и политическое развитие было неодинаково в различных частях этой обширной страны. Но в общем мы все-таки можем сказать, что домонгольская Русь знала классы, но не знала сословий, а в XIII-XV веках можно заметить постепенное появление различий в юридических правах и обязанностях различных классов. Эти различия приводят,— сначала в Литовской, а потом и в Московской Руси,— к образованию более или менее резко разграниченных одно от другого сословий. Mutatis mutandis3, дело шло здесь так же, как шло оно в Венеции, причем и здесь, как решительно везде, экономический момент предшествовал политическому, давая направление его развитию и определяя быстроту его хода и яркость его феноменов.
Ошибка проф. Ключевского состоит в том, что он слишком сузил понятие политического средства, совершенно произвольно отождествив его с понятием «политическая привилегия».
Устранив эту, чреватую ложными выводами, ошибку, мы,— опять на основании собственных соображений нашего автора,— с ясностью увидим, к чему сводится, в действительности, отношение между экономикой и политикой.
«Все это с течением времени во многом изменит народное хозяйство, вызовет в нем много новых отношений,— говорит почтенный историк, заметив, что завоеватели воспользуются политическими средствами для защиты своих экономических выгод,— и все эти новые экономические факты будут следствиями предшествовавших им фактов политических» *.
Правильно. Но здесь мы будем иметь перед собою именно типичный случай обратного действия политического «момента» на экономический, обусловивший собою его возникновение и характер.
Такие случаи очень часты в процессе общественного развития; однако ни один из них не подтверждает взгляда проф. Ключевского. Все они показывают не то, что в истории некоторых стран политический
* Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. С. 8.
момент предшествует экономическому, а только то, что политические отношения, возникшие на известной хозяйственной подкладке, в свою очередь, влияют на дальнейшее развитие народного хозяйства. Но,— и в этом все дело,— так бывает не только там, где господствующий класс пользуется известными юридическими привилегиями; так бывает решительно всюду, где находятся налицо известные политические отношения. Так было, между прочим, и в новгородской республике, на которую сослался проф. Ключевский.
Неоспоримо, что завоевание может обострить взаимные отношения общественных классов и придать много драматизма ходу общественного развития. Однако не всегда придает. Завоевание Китая манчжурами не помешало внутренней истории этой страны оставаться мало драматичной вплоть до самого последнего времени. Большая или меньшая степень драматизма в общественной жизни зависит только от того, как много поводов для резких и ярких столкновений между различными общественными силами создается существующим общественным порядком. А это определяется не тем, лежит или же не лежит в основе этого порядка завоевание. Внутренняя история Польши полна яркого драматизма. Потому ли это, что деление польского общества на классы явилось результатом завоевания? Мы еще не имеем права утверждать, что возникновение польского государства связано с завоеванием. Это вовсе не доказано.
Проф. Ключевский не верно и не ясно представлял себе взаимное отношение между экономикой и политикой. Кроме того, он сильно преувеличивал историческую роль завоеваний. В этом отношении он еще не вполне освободился от влияния взгляда, господствовавшего у нас в тридцатых и сороковых годах и заимствованного нашими писателями у французских историков времен реставрации. Гизо, Ог. Тьери, Минье и др., так правильно рассуждавшие о том, что политические учреждения должны быть следствием, прежде нежели сделаться причиной, не умели, однако, выяснить себе происхождение западноевропейского феодализма. Они не умели понять его как следствие внутреннего развития «гражданского быта» Западной Европы и потому целиком относили его на счет завоевания, т. е. политического действия. Это было противоречием, в которое они попали вследствие тогдашнего недостатка в фактическом материале. Но теперь с этим противоречием давно пора кончить.
Н.А. ЗАОЗЕРСКИЙ
Василий Осипович Ключевский в его рецензиях диссертаций на ученые степени профессоров и студентов М<осковской> Д<уховной> академии
То, что прежде всего обращает на себя внимание читателя рецензий В. О., это — выступление его по преимуществу историком церкви и даже богословом, хотя он занимал в академии кафедру Русской гражданской истории. Так, на самых первых порах службы в академии В. О. выступает рецензентом и официальным оппонентом по следующим диссертациям: «Полный месяцеслов востока. Восточная Агиология» А. Сергия, «История православного монашества в Египте» проф. П. Казанского1, «История русской церкви» проф. Е. Е. Голубинского, «Положение духовенства в царствование Екатерины II и Павла»2, «Светские архиерейские чиновники древней Руси»3 и т. д.
Как ни странно это явление, однако же оно легко объясняется теми условиями и требованиями высшей духовной школы, каковые предъявляются ею к преподаванию в ней так называемых светских наук, а именно:
1) По уставу Духовной академии последняя имеет право давать ученые степени (кандидата, магистра и доктора) богословия, церковной истории и церковного права. Это обстоятельство налагает и на профессора светской науки обязанность давать тему для сочинения хотя и из области своей специальности, но непременно с примесью богословского или церковного элемента (напр., о языке новозаветных книг, о священной поэзии евреев, о тарханных грамотах и т. п.).
2) Труд рецензирования сочинений на ученые степени в духовной школе — обязательный для всех преподавателей и в качестве повинности иногда довольно тяжкой — подневольный, назначаемый по поручению Совета или единолично ректором.
Что касается, в частности, В.О., то он отчасти и сам был виноват в том, что поработал в этой сверхдолжной сфере более других...
Эта вина его состояла, во-первых, в том, что он был как-то вообще не способен отказываться от исполнения просьб и поручений, исходивших от сослуживцев или Совета академии, которую он ценил очень высоко, и, во-вторых, в том, что не далее, как на второй год службы в академии он по собственному почину вмешался в дело специалистов церковной истории, каковое вмешательство сразу показало, как он был нужен академии даже и в этой чуждой его специальности сфере.
Об этом деянии В. О. будет сказано несколько позже.
Но чем бы ни вызывалась рассматриваемая особенность ученой деятельности В. О., она отнюдь не препятствовала ему быть строгим ревнителем своей специальности. Она только задавала ему сверхдолжную работу, отвлекала от прямых специальных занятий, была его крестным служением духовной школе, причинявшей иногда горькие неприятности... Но и отвлекаясь в эту сферу, он и в нее вносил свой талант, свои глубокие специальные знания и свой строго научный метод: и это было здесь весьма нужно и весьма важно. Дело в том, что постановка церковно-исторической науки в Духовной академии отличалась тогда довольно крайнею односторонностью: история церкви, как русской, так и общей, преподавалась и изучалась почти в полной изолированности от истории гражданской, социальной и политической. Этот недостаток постановки церковно-исторической науки постоянно занимал В. О.; с ним он боролся, руководя письменными работами студентов, на него указывал даже таким корифеям церковно-исторической науки, как Е. Е. Голубинский. В рецензии на его «Историю Русской Церкви» В. О., между прочим, писал: «Между выводами его (Голубинского) найдутся и такие, которые едва ли будут приняты исторической критикой. Это — выводы, составившиеся под исключительным влиянием двух особенностей, которыми в некоторых местах отличается исследование автора: это, во-первых, его наклонность, так сказать, уединять церковно-исторические явления от их обстановки, рассматривать их вне связи с исторической средой, в которой они возникли». В рецензии к магистерской диссертации г. Знаменского В.О., между прочим, писал: «Рассматривая положение одного из сословий (духовенства) и касавшиеся его миры правительства, автор не обращает внимания на положение других сословий и на отношение к ним правительства, хотя только такое сопоставление и могло дать ему твердую опору для правильного исторического суждения о положении духовенства среди других классов русского общества в данное время. Правда, в заключительном общем очерке, где автор
выводит “итоги” своего исследования, он в немногих строках сравнивает отношение императрицы Екатерины II к духовенству с ее отношением к другим сословиям, и особенно к дворянству; но это сравнение при краткости своей мало уясняет дело и притом само страдает неточностями».
В рецензиях студенческих работ В. О. энергично боролся с довольно обычною слабостью многоглаголания, склонностью к общим местам и обширным теоретическим рассуждениям, к поспешным обобщениям и выводам и недостаточно обоснованному догматизированию. Этою слабостью иногда прикрывался простой недостаток трудолюбия, но нередко давал себя знать, прямо как наследие схоластического метода преподавания средней духовной школы. В. О. требовал от своих учеников обширной начитанности, тщательного изучения источников, анализа фактов, умелого группирования их и сочетания по внутренней связи и основательности в выводах. В этом отношении внесением строго научного метода в письменные работы студентов В.О. приносил громадную пользу, и труды его принесли свой плод.
Обращал внимание В. О. и на внешнюю обработку сочинений. Он требовал литературной обработки, правильности, точности и чистоты языка и стиля. Однажды на диспуте он произнес общую укоризну студентам духовной школы: «Удивляюсь, куда вы, господа, девали перо Сперанского!» И эта укоризна долго потом повторялась самими студентами.
В своих рецензиях В. О. был довольно строг — в указании недостатков сочинения, но в окончательной оценке довольно снисходителен. Он весьма редко проваливал — как говорится — студента. Да это было и естественно: студенты любили писать сочинения В. О., знали его требования и соответственно этому старались действительно заниматься делом, а не сочинением общих мест. И в результате получалось, что рецензент прямо и отчетливо осудит недостатки сочинения, но никогда не преминет указать на трудолюбие, раз оно было приложено к делу, и даст удовлетворительную отметку.
Рецензии В. О. в большинстве сжаты и не велики по объему. Эта последняя их особенность, и именно по сравнению с рецензиями других профессоров, иногда представляющими длинные ученые трактаты, на поверхностный взгляд может показаться, пожалуй, недостатком их. Но применять эту внешнюю мерку к оценке рецензий В. О. весьма опасно. Критику рецензий его всегда нужно иметь пред глазами известную басню дедушки Крылова. Мне, конечно, неизвестно, как и сколько времени тратил В.О. на редактирова
ние своих кратких рецензий. Но мне известно, как он составлял самые обыкновенные деловые бумаги в Совет академии. Я иногда помогал ему в этих делах. По его просьбе единым духом прямо набело напишешь ему проект прошения, докладной записки и т. д. «Подписывайте, готово»,— скажешь ему. Но не тут-то было: прочитает В. О. написанную бумагу и начнет придираться: «Это слово мне не нравится, а это не то выражает, что я хотел сказать» и пойдет копаться в своей памяти — какое бы найти более подходящее слово: хоть за словарем беги! И вот в этих-то деловых экзерцициях для меня и открылась долго занимавшая меня тайна необыкновенной силы и обаятельности речи Василия Осиповича. Я вынес убеждение, что эта тайна — в точности: в точности характеристик лиц, явлений, отношений и в точности их выражения словом. В ряду академических рецензентов Василий Осипович выступает как соловей среди хора товарищей, разными голосами приветствующих солнечный восход.
Теперь я должен возвратиться к началу своего доклада, именно: рассказать о выступлении В. О. по собственному почину в область церковно-исторической науки, благодаря которому он занял выдающееся в ней значение и принес академической корпорация немало услуг.
В.О. поступил на академическую службу в июне 1871 года, а в следующем году в академии произошло «ученое событие», наделавшее немало шума.
Обстоятельства дела были следующие:
15 марта 1872 года ординарный профессор по кафедре Древней гражданской истории П.С. Казанский, дослуживавший к этому времени 25-летие, представил в Совет академии диссертацию на степень доктора богословия под заглавием «История православного монашества в Египте», ч. I, 1854 года; ч. II, 1856 года, с дополнительными статьями: 1) «Об источниках для истории монашества египетского в IV и V веках» 1871 года и 2) «Общий очерк жизни монахов египетских в IV и V веках», 1872 года.
Советом академии сочинение было препровождено в историческое отделение, избравшее для составления отзыва комиссию из трех лиц: проф. Н. И. Субботина, проф. Е. Е. Голубинского и доцента А. П. Лебедева (поступившего на академическую службу одновременно с Василием Осиповичем). Е. Е. Голубинский был в это время в командировке в славянских землях и о посланном ему сочинении отзыва не представил, так что впоследствии был совсем исключен из комиссии, и последняя работала над отзывом в составе
проф. Субботина и А. Лебедева. В начале ноября комиссия составила отзыв и внесла его в отделение. Отзыв дал заключение неблагоприятное для соискателя ученой степени, найдя сочинение его не заслуживающим искомой степени. С таким заключением согласились еще два члена отделения — доцент по новой церковной истории Д.Ф. Касицын4 и доцент по библейской истории А. П. Смирнов5. Но два члена — доцент новой гражданской истории Д. Корольков и доцент В. О. Ключевский не согласились и 3-го ноября представили Отделению свои «особые мнения».
Первое из них не обратило на себя внимания Отделения. Не то должно сказать о «мнении В.О. Ключевского». «Оно глубоко уязвило» авторов отзыва. 20 дней они думали о нем и к 23-му ноября представили весьма подробное опровержение его, каковое под названием «объяснительных примечаний к особому мнению доцента Ключевского» и было представлено затем в Совет академии. При этом в препроводительной записке Отделение так отзывалось о мнении В. О. Ключевского: «Так как мнение доцента Ключевского оказалось вовсе не мнением о книге профессора Казанского, на что, собственно, г. Ключевский и имел право, напротив, от первой и до последней строки посвящено критическому разбору отзыва комиссии, разбору, который, по мнению сей последней, должен быть признан более, нежели неправильным, то комиссия вынуждена была направленные против нее замечания одного из членов подвергнуть и с своей стороны надлежащему разбору».
Декабря 8-го составился Совет. Здесь мнение В.О. настолько поколебало справедливость отзыва комиссии, что ректор академии протоиерей А. В. Горский выразил желание представить свой особый отзыв о книге проф. Казанского; помощник ректора проф. Е. В. Амфитеатров6 выразил желание отложить дело для более достаточного ознакомления с книгою г. Казанского, проф. архимандрит Михаил7 заявил, что он также представит свой отзыв о книге «Принимая во уважение заявленные желания, дело о допущении к защите диссертации проф. Казанского и было отложено до январского заседания Совета».
25 января 1873 года состоялось это заседание Совета. Были выслушаны два новых отзыва: ректора прот. А. В. Горского и профессора арх. Михаила. Первый — весьма пространный и основательный — в пользу докторанта и В. О.,— второй — довольно слабая попытка поддержать отзыв комиссии. Результатом совещаний последовало решение о допущении диссертации проф. Казанского к защите. При этом оппонентами были назначены ректор и доцент А. Лебедев.
По соглашению ректора с докторантом диспут был назначен на 27-е марта.
Я хорошо помню этот день. С вечера 26-го студентам было объявлено, что завтра имеет быть докторский диспут (первый в Московской дух. академии), диспут очень торжественный и серьезный. Ожидались архиереи: Московский викарий Игнатий и Костромской Платон (брат проф. П. С. Казанского)8. Лавра готовила торжественный обед, так как наместник ее архим. Антоний9 был друг и почитатель П. С. Казанского. Настало утро, и вдруг разнеслась весть, что не будет ни диспута, ни лекций; причина — внезапная болезнь некоторых членов Совета. Между студентами ходил слух, что ректор накануне вечером, получив письма этих профессоров, лично навещал их, со слезами упрашивал не делать скандала на всю Россию; до 12 часов ночи будто бы упрашивал их, но — напрасно.
Слух этот подтверждается официальными бумагами.
В своем донесении митрополиту ректор объяснял, что накануне вечером им были получены письма от инспектора академии, помощника ректора и профессоров арх. Михаила и Н. Субботина, что по причине болезни они не могут быть в назначенном на 27-е число собрании Совета, а так как по уставу академии Совет может состояться не менее как при наличности 2/3 членов, какового количества за болезнью означенных членов не получилось, то диспут пришлось отложить на неопределенное время.
Враги П. С. Казанского на время восторжествовали, но не надолго.
18-го апреля состоялось новое собрание Совета, на котором ректором было заявлено, что, по соглашению с докторантом, диспут его назначается на 2-е октября. А 4-го мая из Св. Синода на имя ректора прислан был чрез митрополита следующий указ:
«Выслушав с особым прискорбием донесение об обстоятельствах настоящего дела и заключение учебного комитета, Синод приказали: заключение учебного комитета по сему предмету утвердить и для надлежащих распоряжений к исполнению препроводить в копии при указе Вашему Высокопреосвященству».
Заключение учебного комитета таково:
«Из обстоятельств настоящего дела усматривается, что внезапная болезнь некоторых членов Совета Моск. дух. академии накануне назначенного диспута г. Казанского на степень доктора богословия послужила препятствием к этому диспуту, и по невозможности своевременного о сем извещения могла быть причиной напрасной поездки желавших присутствовать при диспуте из Москвы
в Троицкую Сергиеву лавру — местопребывание академии,— а потому и могла подать повод, как справедливо опасается этого Высокопреосвященный митрополит Московский, к неблагоприятным толкам о действиях Совета Московской духовной академии. Хотя подобный странный случай повального заболевания более трети членов академического Совета должен быть признан исключительным и едва ли может повторяться, тем не менее учебный комитет полагал бы в случае повторения подобного обстоятельства при предполагаемом о. ректором академии новом назначении времени для диспута г. Казанского, предложить Совету академии освидетельствовать заболевших, для уяснения дела и для удаления всякого подозрения, чрез академического врача в присутствии назначенного Советом академии депутата и о последующем представить законным порядком на усмотрение Св. Синода».
2 октября 1873 года состоялся, наконец, диспут П. С. Казанского. Возражали только два официальных оппонента — ректор и доцент А. Лебедев. Возражения первого и ответы докторанта носили спокойный и серьезный характер обмена мнений двух равносильных ученых. А. Лебедев начал возражения повышенным и вызывающим тоном, но веский отпор докторанта скоро охладил оппонента, который из наступательного положения переведен был в оборонительное и, по мнению студентов, был совершенно разбит. Никто из воодушевлявших его более сильных противников П. С. Казанского не выступил для его поддержки и потому диспут окончился признанием защиты удовлетворительною*.
Как видно из этого дела, В. О. вмешался в него по собственному почину, вмешался в область, чуждую его специальности. Что за побуждения двигали им? Из «мнения» его легко заметить, что главным побуждением служила явная несправедливость комиссии исторического отделения, не пожелавшего по достоинству оценить ученых достоинств диссертации П. С. Казанского. Может быть, имело здесь значение и личное чувство благодарности к П. С. Казанскому, который лишь год тому назад явно содействовал поступлению В.О. в академию**. Во всяком случае, побуждения, им руководившие в этом деле, были только благородные: никаких иных подыскать
* См. также: Дневник и письма П. С. Казанского к брату архиеп. Платону. М., 1909.
** П.С. Казанский ранее предлагал кандидатом на кафедру русской гражданской истории своего ученика А.П. Смирнова, но когда выдвинута была кандидатура В. О. Ключевского, он отказался в пользу последнего от своего кандидата.
невозможно. Тем не менее за такое вмешательство В. О-чу пришлось поплатиться и довольно-таки ощутительно. Враги П. С. Казанского сделались на время и врагами В. О. Так, актом мести для него было то, что несколько лет спустя, когда освободилась кафедра экстраординарного профессора, на нее был избран не доцент Ключевский, а доцент Лебедев — к крайнему прискорбию ректора, лучшей части профессоров и студентов, уже успевших полюбить В. О.
Нельзя иначе объяснить как актом мести, только не таким грубым, и последовавшее через три года назначение В.О. рецензентом и оппонентом по делу о снискании степени доктора богословия архимандритом Сергием, ректором Вифанской семинарии, представившим в качестве диссертации огромный труд под заглавием «Полный месяцослов востока. Восточная агиология». Не могу иначе объяснить этого назначения, как актом мести потому, что не могу подыскать основания, почему бы не возложить этого тяжелого бремени на кого угодно из профессоров специалистов церковной истории, кроме именно В. О-ча — специалиста русской гражданской истории. Но к счастью, товарищем ему по этому делу назначен был Е. Е. Голубинский — большой знаток предмета. Эти два рецензента весьма строго отнеслись к докторанту: тщательно отметили немало и довольно важных недостатков в диссертации; но тем не менее за огромный труд и научные достоинства признали его вполне заслуживающим степени доктора богословия, потому что это были судьи весьма строгие, но справедливые*.
В 1880 году В. О., уже экстраординарный профессор, был назначен рецензентом книги Е. Е. Голубинского «История Русской церкви. 1-я половина I тома», представленной на соискание степени доктора церковной истории.
Это назначение было уже не актом мести, а делом необходимости, довольно затруднительного положения Совета: ибо кто же, кроме В. О., мог взяться за это дело? Опасно было это с двух сторон: во-первых, со стороны докторанта, который в случае какого-либо посягательства на научное достоинство его труда мог бы оказать весьма внушительное возмездие ученой репутации рецензента; во-вторых, со стороны духовного начальства в случае, если бы рецензент вздумал по достоинству хвалить этого докторанта, как известно, долго находившегося в опале, хотя и удостоенного докторской степени.
В. О. представил вполне научную и объективную оценку знаменитого труда Е. Е. Голубинского, не скрывая ни ученых достоинств,
* Отзыв был написан Е. Е. Голубинским.
ни недостатков ее и вообще так мастерски провел докторский диспут Е. Е. Голубинского, что с этого момента у него в академии не осталось, кажется, ни одного врага. Он сделался всеобщим любимцем академии, а «диспут с Ключевским» — настоящим ученым праздником академии.
Так счастливо разрешились как для В. О., так и для академии запутанные обстоятельства, при которых произошло поступление его на службу в академию.
Двадцатипятилетие профессорской службы В.О. Ключевского в Московской духовной академии
27 октября в залах елизаветинских «чертогов» — главного здания академии — происходило братское приветствование столь известного русскому миру историка — профессора В. О. Ключевского с исполнившимся двадцатипятилетием его профессорской службы при Москов. духовной академии.
Намерение сослуживцев юбиляра отпраздновать это событие в тесно замкнутом кругу — братскою трапезою — не совсем удалось: стоило появиться в газетах случайной заметке какого-то провинциального корреспондента о готовящемся товарищеском обеде в честь Ключевского, чтобы этот обед превратился, так сказать, в событие академической жизни, каковое многочисленные ученики и почитатели юбиляра и академии не замедлили сделать гласным по всей России: в день юбилея В. О. Ключевским получена масса приветственных телеграмм, свидетельствующих о том, что приветственные благожелания симпатичному юбиляру раздавались не только в залах елизаветинских чертогов, но и всюду по России в кружках почитателей и учеников высокоталантливого и примерно ревностного служителя русской строго национальной исторической науке. Неотразимо-симпатичная личность юбиляра и его верное служение ученой цели сделали то, что такое по внешности обычное явление жизни, как «товарищеский обед», стало событием, изложению которого заурядный летописец «Богословского вестника» должен уделить не малое число страниц.
Двадцать пять лет тому назад в научном движении русской мысли и общественного самосознания замечательно плодоносными результатами обнаруживало себя между прочим славянорусское направление. Имена влиятельнейших представителей славянофильства, историков и славистов русских и славянских принадлежат этому времени. Московская духовная академия имела в среде своей самых искренних поклонников и ученых деятелей этого направления. Естественно поэтому произошло, что когда появилась на свет магистерская диссертация одного из питомцев Московского университета под заглавием «Древнерусские жития святых как исторический источник» В. Ключевского1, Московская духовная академия постаралась привлечь в свою среду молодого ученого — автора этого произведения, изумившего и критическим тактом и талантом, и — мало сказать трудолюбием, а прямо-таки подвижничеством в изучении житийного рукописного и печатного материала. На профессорской кафедре В. Осипович познакомил своих слушателей с свойственною ему увлекательною красотою преподавания русской истории чистою, характерно-пластичною русскою речью. Строго научный тон лекций в соединении с художественным их изложением и мастерскою манерою произношения сделали аудиторию Ключевского весьма многолюдною и личность его необыкновенно популярною. Хотя в течении 25-летней своей службы Василий Осипович постоянно жил в Москве, однако ж своим сердечным участием во всех делах, затрагивающих интересы академии, он так с нею сроднился, что она всегда почитала его совсем «своим» и на каждый его приезд на «лекцию», «диспут» или какой-либо «акт» смотрела, как на приезд его в свой дом.
Такой же домашний, дружеский характер носило и празднование академиею двадцатипятилетия Василия Осиповича. Кроме сослуживцев его, в праздновании принимали участие только о. Ректор и преподаватели Вифанской духовной семинарии2.
В воскресный день, избранный для празднования двадцатипятилетия, по окончании литургии о. Ректором академии3 в сослужении с академическим духовенством был отслужен благодарственный молебен, за тем все сослуживцы Василия Осиповича собрались в комнатах о. Ректора — в чертогах академии. Кратко приветствуя юбиляра, о. Ректор при сем поднес ему просфору с вынутою за здравие его частицею. В залу вошли потом четыре студента — представители студентов академии, один из коих произнес юбиляру следующее приветствие:
«Ваше Превосходительство,
Глубокоуважаемый наставник
Василий Осипович.
К общему хору согласных поздравлений и благожеланий по поводу истекшего 25-летия Вашего служения русской исторической науке, решаемся и мы, студенты Духовной академии, присоединить свой скромный голос.
На Вашу долю выпала счастливая и завидная роль вести к свету истины и познания юношество в двух высших учебных заведениях столицы, и в течение целой четверти века Вы с достоинством, честью и большой славой выполняете эту насколько высокую и почтенную, настолько же трудную и ответственную задачу.
Не нам, конечно, входить в оценку Вашей научной деятельности; в общем она настолько известна каждому, что всякие комментарии тут, по крайней мере с нашей стороны, не уместны и излишни.
Как настоящие Ваши ученики и ближайшие слушатели, мы позволяем себе отметить в данную минуту ту сторону Вашей педагогической деятельности, которая наиболее непосредственно нас касается,— я разумею здесь Ваш блестящий лекторский талант.
Если до вступления в стены сего учебного заведения большинство из нас знало Вас как выдающегося современного историка, то все мы тотчас же по вступлении познакомились с Вами как блестящим лектором, способным увлекать и потрясать аудиторию.
Сходить на лекцию В. О. Ключевского, послушать его мастерские очерки русской истории, богатые запасом глубоких исторических познаний и тонкого психологического анализа,— значит получить не только большое умственное, но и высокое художественное наслаждение.
В Ваших увлекательно составленных очерках забытые картины нашего прошлого восставали во всей их неотразимой жизненной правде и осязательной реальности; давно отжившие лица снова выступали действующими на исторической сцене во всей их индивидуальности, со всеми их достоинствами и недостатками, как действительные, конкретные личности.
Словом — в своих исторических рассказах Вы с неподражаемою художественностью воскрешали прошлое нашей истории, а своим мастерским изложением приковывали к себе всеобщее внимание слушателей, ни на минуту не ослабевавшее в продолжение всей жизни.
За Вашу обширную, многостороннюю и благотворную деятельность как выдающегося ученого историка, за Ваше симпатичное к нам отношение и за Ваше неподражаемо-художественное и талантливое чтение лекций, мы, Ваши ученики и слушатели, приносим Вам свою искреннюю благодарность и глубокий поклон».
На эту речь юбиляр отвечал: «Так много оказывается мне внимания и со стороны моих сослуживцев, и с вашей! И за что же? За то только, что к исполнению прямого долга с моей стороны приложен труд и любовь к делу. Награда — весьма высокая! От всей души желаю и вам впоследствии,— когда вы будете действовать на поприще учительства,— иметь таких же внимательных и признательных учеников. Большое спасибо вам, а в лице вас и всем моим бывшим и настоящим ученикам».
После сего начался обед, в конце которого в обычное время тостов со стороны сослуживцев юбиляра полились речи, можно сказать, целым потоком. Первым говорил профессор Василий Александрович Соколов4 (старший из присутствовавших на обеде слушателей Василия Осиповича). Он говорил так:
«Глубокоуважаемый
Василий Осипович!
Двадцать пять лет, сильных и плодотворных лет своей жизни, Вы посвятили на служение нашей дорогой Московской академии. В нынешний знаменательный для всех тружеников по отечественной истории день, посвященный памяти препод. Нестора5, академия в лице всех нас, собравшихся здесь ее наличных представителей, выражает Вам свое искреннее сердечное спасибо за Вашу многолетнюю, доблестную службу.
Как учреждение ученое, академия и прежде всего и больше всего чтит Вас как ученого. Глубокий исследователь и знаток своего предмета, Вы приобрели себе такое почетное ученое имя, что академическая семья наша считает для себя предметом справедливой гордости иметь Вас в своей среде. В ученых трудах своих Вы обнаружили такие разносторонние достоинства, что всякий желающий историк может найти в них для себя высокие образцы, вполне достойные подражания. В “Древнерусских житиях” Вы показали, как нужно работать над источниками, как целые годы, не жалея времени, труда и сил, копаться в библиотеках и архивах, изучать многие сотни рукописей и, путем их тщательного сличения, строгой критической оценки, извлекать из массы материала крупицы скрывающейся в нем исторической истины. А в “Боярской думе”6 своей Вы показали, как из добытого материала нужно созидать изящное, стройное здание. Несмотря на трудность предпринятой Вами в этой работе задачи, на крайнюю часто скудость имеющихся данных, Вы силою своего таланта развернули пред читателем такую широкую картину, в которой он на судьбах одного лишь учреждения видит всю и политическую и социальную историю Древней Руси. Но и этого мало. Вы явили себя не только образцовым историком — критиком и историком-прагматиком, но и историком-художником. Ваши “Добрые
люди древней Руси”, Ваш “Евгений Онегин”, Ваше “Воспоминание о Новикове”, Ваша речь “о значении преп. Сергия Радонежского” представляют собою такие блестящие, истинно-художественные характеристики эпох и личностей, что смело могут поспорить с произведениями резца или кисти каких-либо известных маэстро.— Счастливое, редкое сочетание в Вас глубокой учености с выдающимся талантом всегда высоко ценила Московская академия и потому всегда видела и видит в Вас одно из своих лучших ученых украшений.
Но академия не ученое только учреждение, а вместе и школа, и как такая она приветствует теперь Вас как одного из достойнейших своих профессоров и руководителей ее питомцев. Я лично имею счастие принадлежать к первому курсу Ваших учеников. Мы впервые увидали Вас, когда Вы только еще в качестве претендента вступали на кафедру, чтобы в присутствии всего академического ареопага с незабвенным Алек. Васильевичем7 во главе прочитать свою пробную лекцию. Мы же были слушателями и первого курса Ваших лекций, которым Вы открыли свою достославную службу в академии. Не могу удержаться, что бы не засвидетельствовать теперь, что с первого же года Вы так сумели завладеть своими слушателями, что мы внимали Вам, можно сказать, с замиранием сердца, и мы начали собою тот длинный ряд Ваших поклонников, который непрерывно тянется теперь уже десятки лет. Если даже тогда в первый же год своей службы, при всех трудностях и слабостях неизбежных для всякого начинающего, Вы уже заставили нас преклоняться пред собою, то чем же стали Вы для своих учеников потом, когда вошли в пору полного расцвета своих сил? Об этом мы сейчас слышали от Ваших настоящих учеников, и еще поведает нам тот наш сослуживец, который в составе нашей корпорации является самым юным из Ваших слушателей.
Академия, далее, есть корпорация, и мы приветствуем Вас как своего прекрасного сослуживца и товарища. Не будучи питомцем академии, войдя в нее со стороны, даже и живя вдали от академии, Вы все-таки так сроднились духом с нею, что всегда были и остаетесь для нее близким и своим. Все наши академические радости и беды всегда были близки Вашему сердцу столько же, как и нам. Не раз на моей памяти бывали и бывают в жизни академии такие, напр., минуты, когда корпорация должна дружно сплотиться и твердо стать на защиту чести, доброго имени и интересов академии, и всегда в таких случаях Вы — наш Василий Осипович — всей душой являетесь нашим; и опытным советом, и эпоргическим содействием, и словом и делом готовы поддержать товарищей и постоять за свою академию. А сколько разного рода личных товарищеских услуг Вы оказывали и оказываете весьма многим из нас? Понадобится ли нам что-либо в университете или в Публичной библиотеке, или в архиве каком-нибудь, или в одном из ученых обществ московских, всегда
мы с просьбой к нашему Василью Осиповичу, и хлопочете Вы за нас, и добываете нам, что нужно, с такою готовностью и любезностью, как может делать только лучший бескорыстный друг и товарищ.
Наконец мы, члены академической корпорации, живем и своею общественною жизнью, составляем из себя маленький, но дружный товарищеский кружок, в котором проводим свои досуги и делимся друг с другом своими мыслями и чувствами. С искренним удовольствием мы можем сказать, что Вы, глубокоуважаемый Василий Осипович, и живя в Москве всегда были и остаетесь одним из самых близких и любимых членов нашего посадского академического кружка. Всегда Вы любезно откликаетесь на наш призыв и идете к нам, как к своим. Все мы испытали и знаем, как веселы и приятны те часы, когда Вы с нами!! Большое нам удовольствие, когда представится случай быть участниками Вашей интересной, остроумной и задушевной беседы. В товарищеском кружке нашем Вы всегда добрый, желанный гость.
Приветствуя теперь Вас с исполнившимся двадцатипятилетием Вашей академической службы, от души желаем, чтобы и впредь как ученый и профессор Вы еще многие годы служили украшением Московской академии и по-прежнему продолжали быть для нас добрым товарищем и дорогим желанным гостем».
Продолжительное лаврское многолетие, последовавшее за тем, служило выражением общего сочувствия оратору всех присутствующих. Потом начал говорить доцент С. И. Смирнов8 (младший из присутствующих учеников юбиляра).
« Глубокоуважаемый
Василий Осипович!
Я так недавно слушал Ваши лекции, а потом работал под Вашим руководством, что не могу относиться к Вам иначе, как к своему учителю. Позвольте же мне, младшему в академической корпорации и одному из последних учеников Ваших здесь, говорить как ученику. Только Вы меня простите, если мне придется повторить отчасти то, что Вам говорили Ваши ученики настоящего и давно прошедшего времени.
Из семинарии все мы являемся сюда немножко философами,— маленькими философами, берущимися за разрешение только самых великих вопросов миросозерцания. Естественно, что на всякую историю мы смотрим тогда свысока, а на русскую в особенности. Скучный семинарский учебник, длинный ряд княжеских и других имен, мало или ничего не говорящих ни уму ни сердцу, поселили в душе убеждение, что в русской истории негде развернуться мысли, не над чем думать,— что работа русского историка чисто механическая — корпеть по архивам и извлекать оттуда скучные факты. И мы, семинаристы,
как-то обходим родную историю в своих занятиях и, надо сознаться, в вашу аудиторию являемся во всеоружии неведения, с полузабытыми семинарскими уроками и с случайными сведениями из пятка книг, прочитанных без плана и разбора,— а главное, являемся с предубеждением против Вашей науки.
То, что мы слышали в Вашей аудитории, было совершенной неожиданностью. Пред нашими глазами стройно двигалась русская историческая жизнь, закованная в строгую систему, одетая в точную сжатую фразу,— и так от начала истории до конца, от жизни славян на Карпатах до преобразовательной эпохи в царствование Александра II включительно. Деятели нашего прошлого проходили пред нами в ряде мастерских характеристик. Как живые, они вставали во всем величии своего исторического подвига, в драматизме или комизме своего положения. Вместо голых имен наших учебников в представлении Ваших слушателей стояли такие же яркие человеческие типы, как литературные типы лучших художников слова; вместо ряда несвязанных между собою исторических эпизодов — строгая историческая система. И мы видели, какая энергия мысли требовалась для выработки этой системы, какая сила чувства и художественного проникновения нужна была для того, чтобы заставить жить снова людей нашей старины. Издали мы пугались исторических памятников. Но Вы извлекали из них образцы бесподобного народного лаконизма, своеобразные выражения всем близких движений человеческого ума и сердца, на основании этих памятников Вы рисовали такие цельные картины прошлого, что Ваши слушатели невольно проникались к ним живым интересом. Так сами собой и неприметно исчезали все наши сомнения насчет родной истории, и мы понимали, как можно полюбить ее всей душой и отдаться ей всей жизнью.
Но Вы являлись пред нами не только ученым и художником, но и артистом, талантливо передающим в чтении самые тонкие оттенки мысли, вливающим живое чувство в каждый образ. В Ваших лекциях нас поражала музыка Вашей блестящей речи. Завидев Вас на кафедре, мы целиком отдавались в Вашу власть. И Вы по временам владеете своей аудиторией, заставляя ее то издавать шепот восторга, то смеяться. Шумно проводив Вас из аудитории, мы ждали следующей Вашей лекции, следующего понедельника. И как, бывало, становилось досадно, когда в понедельник в большую аудиторию вместо Вас входил Степан и объявлял нам: “Василия Осипыча не будет... не приехал... прислал телеграмму!”... Одним словом, ученики Ваши должны Вам сказать, что учились они у Вас с наслаждением.
Впрочем, я думаю, Вы и не подозреваете, многоуважаемый Василий Осипович, как много в нашей академии всегда было учеников Ваших, сколько их перебывало у Вас в 25 лет Вашего профессорства. Если бы в одну из своих лекций Вы случайно заинтересовались и привели в из
вестность состав своей аудитории, то Вы узнали бы, что, кроме обязанной Вас слушать одной группы одного курса, Вас слушают со всех групп и курсов. Конечно, так охотно ходят на Ваши лекции недаром. Кто заинтересовался русской историей и занимается ею, внимает каждому Вашему слову, потому что даром они у Вас не говорятся. Кто работает в какой-нибудь другой области истории, идет к Вам учиться искусству анализировать явления и синтезировать факты,— идет учиться писать по истории. Наконец, многие являются к Вам с целью выслушать тонкие психологические наблюдения, оригинальные мысли, которые брызжут в каждой Вашей фразе,— перенять образцовую форму Вашей речи, сжатой и изящной. Так Ваши лекции для многих студенческих поколений служили и служат не только ближайшему делу ознакомления с научной постановкой русской гражданской истории... они имеют огромное значение в смысле общеобразовательном. И недаром, оставляя академию, каждый студент, у которого была возможность и деньги, везет с собой подробный курс Ваших лекций.
И вот наше желание Вам, многоуважаемый Василий Осипович! — желание учеников Ваших в день 25-летия Вашей профессорской службы: пусть и еще многие студенческие поколения слушают Вас с тем же наслаждением; пусть они учатся у Вас любить наше родное прошлое; пусть с восторгом вспоминают о Вас по выходе из школы. Пусть продолжится на многие годы Ваша блестящая профессорская деятельность!..»
Затем следовали речи профессоров; Д. О. Голубинского, Г. А. Воскресенского9, П.И. Горского.
Д. Ф. Голубинский говорил:
«Многоуважаемый Василий Осипович!
Вам как профессору истории России желаю предложить несколько относящихся к Вам исторических воспоминаний.
К сожалению, бывает с нами, что когда мы слушаем поучение в Церкви или что-либо подобное, то является у нас грешная, препятствующая действию поучений, такая мысль: человек говорит только по обязанности, а не по глубокому внутреннему убеждению. Но когда человек науки неожиданно скажет нам что-нибудь поучительное и назидательное для души, то это сильно действует на нас и надолго остается в душе.
Желаю привести несколько примеров того, когда приходилось мне слышать от Вас нечто назидательное.
Вспомните, что было почти девятнадцать лет тому назад. В ноябре 1877 года блаженной памяти отец протоиерей Александр Михайлович Иванцов-Платонов защищал диссертацию на степень доктора, и после того в гостинице предложил нам трапезу, к концу которой мы развеселились.
В то время и он, и Вы преподавали в Александровском военном училище. Тогда война с Турками еще не окончилась, и я говорил Александру Михайловичу и Вам краткую речь, в которой выражал желание, чтобы под Вашим руководством воспитывались патриоты, горячо любящие свое Отечество. Вспомните: что Вы отвечали на мою речь? Вы предложили тост: за изучение природы в духе веры.
Эти Ваши слова были для меня, во-первых, очень радостны: ибо за несколько лет пред сим, когда закрыт был в академиях класс физико-математических наук, мне предстояла опасность совсем оставить дорогую академию. И только благодаря доброму участию приснопамятных митрополита Иннокентия10 и отца ректора Александра Васильевича Горского я уцелел в звании преподавателя естественнонаучной апологетики.
Во-вторых, Ваши слова были для меня поучительны: ибо самая должность побуждает меня стараться об изучении видимой природы в духе веры.
С утешением воспоминаю и о Вашей речи в академический праздник, в 1888 году, — когда праздновалось девятисотлетие христианства в России. Весьма знаменательны на второй странице этой речи Ваши слова:
“Воспитывая верующего для грядущего града”, Церковь “постепенно обновляет и перестраивает и град, зде пребывающий. Эта перестройка гражданского общежития под действием Церкви — таинственный и поучительный процесс в жизни христианских обществ”. И эти слова были Вами раскрыты и доказаны историческими фактами.
Первое число октября было в 1888 году в субботу. Ваша речь так на меня подействовала, что, по окончании всенощной в приходском храме, я говорил о содержании вашей речи нашему церковному старосте, и он со вниманием и сочувствием это слушал.
Блаженной памяти родитель мой относился с благоговением к святому Димитрию Митрополиту Ростовскому, и в честь его дал мне имя. Несколько лет тому назад я обратился к Вам с вопросом о значении святого Димитрия в русской истории. Помню, Вы хорошо объяснили мне, что святый Димитрий является светлою личностию той не очень светлой эпохи, в которую он жил.
Вспомните и о Вашей поучительной речи в 1892 году,— когда праздновалось пятисотлетие памяти преподобного Сергия. Нет нужды говорить много о том, с каким сочувствием и здешнею святою обителью и обществом принята была сия речь. Скажу только, что и ко мне обращались с просьбами достать ее экземпляры. И еще с благодарностью воспоминаю, что в то время Вы передали мне новое пожертвование в Братство преподобного Сергия.
Из сказанного мною очевидно выходит такое следствие:
Весьма драгоценны относящиеся к истории России труды добросовестных ученых. Ибо эти труды побуждают нас любить наше Отечество и дорожить священным сокровищем Православия.
От души желаем Вам для блага дорогого Отечества и во славу святой Церкви потрудиться еще и еще на многая лета!»
Г. А. Воскресенский говорил:
«Глубокоуважаемый Василий Осипович!
Четвертый год Вы состоите председателем Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. Несколько ранее этого срока начались, но Вами деятельно поддержаны и ныне, можно надеяться, прочно установились наилучшие отношения членов академической корпорации к названному Обществу. Не редкость, что академический труженик, собрав ценный исторический материал или обработав его, затрудняется вопросом: где напечатать собранный материал или научно-обработанное исследование? Своих средств на издание нет. Наш академический журнал, равно как и другие духовные журналы, по совершенно понятным причинам отказываются помещать сырые материалы или слишком специальные и длинные исследования. Как тут быть? К кому обратиться? Кто придет на помощь? На помощь за последние годы приходит Общество истории и древностей российских. На страницах своих “Чтений” оно дает место и сырому материалу, если он представляет историческую ценность; не затруднится напечатать за один прием и целую диссертацию. Вместе с тем, благодаря именно участию тружеников высшей духовной школы, самые “Чтения” Общества получают отчасти характер церковно-исторический, церковно-археологический, столь любезный сердцу православного богослова. Примеры внимательно доброго отношения Московского общества к ученым трудам членов академической корпорации за последние годы у всех налицо. Достаточно назвать Евгения Евсигнеевича11, Николая Федоровича12, Александра Петровича13. Ровно год тому назад я также воспользовался услугами Общества и, зная Ваши, глубокоуважаемый Василий Осипович, сердечные отношения к дорогой нам академии, позволяю себе выразить твердое свое упование, что указанное мною отрадное явление и впредь будет иметь место в председательствуемом Вами Обществе.
Итак, позвольте, досточтимый Василий Осипович, провозгласить тост за Вас как за достойнейшего председателя Императорского Общества истории и древностей российских и пожелать, чтобы установившиеся добрые отношения членов академической корпорации к названному Обществу продолжались и впредь, на благо духовного просвещения и историко-археологической науки».
Н. И. Горский говорил так:
«Случалось мне не раз и хаживать, и сиживать около Вифанского пруда в лунные ночи, при легком ветерке, и любоваться игрой света на мелких волнах, катившихся иногда вдоль, иногда поперек узкой водной полосы, отражавшей блеск луны. Смотришь,— мелюзги — волночки бегут, будто наперегонки, и мелькая сверкают мгновенно вспыхивающими огоньками белоцветными, будто отпущенными из эдиссоновских лампочек на самый короткий срок. Игрой света на мелкой водной ряби любовался я подолгу.
Случалось мне, проходя мимо пашни, останавливаться и любоваться, как свет хороший посевщик. Крепко ступнет он левой ногой, быстро передвинет правую, нижним концом кисти правой руки стукнет слегка об лукошко,— и широким веером раскинутся из его горсти семена ржи или овса. Посмотришь: зерна легли правильно, с одинаковой густотой, совсем без прогалов. Рука посевщика сработала свое дело мастерски, не хуже сеялки. Смотришь,— и любуешься.
Слушаешь сонату или симфонию Бетховена, — и дивишься силе его мысли, его чувства, его фантазии. Щедрый, чуть не до расточительности, богач музыкального мира, он будто совсем невзначай походя, на все стороны раскидывает свое добро: куда — червонец полновесный, куда — целковый рубль, куда — блестящую, совсем новенькую, музыкальную мелочь. Только успевай замечать, куда и что летит, и только успевай хватать. Схватишь: но никак не угадаешь, чем на следующей же строке метнет он в твои жадно слушающие уши.
То же, по существу, что и в лунные ночи на Вифанском пруде, то же, что и около умелого посевщика на пашне, то же, что и слушая Бетховена, переживал я, читая ваши, Василий Осипович, статьи.
Еще раз поднимем бокалы за игру света, за мастерство сева, за Бетховеновский уклад русской мысли и речи,— и выпьем за Василья Осиповича Ключевского».
Ряд приветствий заключился речами проф. Н.А. Заозерского и инспектора Вифанской семинарии И. И. Лапенского.
На все приветствия Юбиляр отвечал с обычными ему любезностью, остроумием и задушевностью, и скромный обед затянулся на несколько часов, превратившись в задушевную дружескую беседу. Во время этой беседы к общей радости совсем неожиданно явился в залу преосвященный Аркадий, епископ Балахнинский14 — один из многочисленных учеников юбиляра, бывший проездом в Лавре,— и горячо приветствовал своего учителя. Было получено множество писем и телеграмм, приветствовавших юбиляра, которые и были тотчас же по получении прочитываемы.
Так простой товарищеский обед превратился в единодушное обнаружение самой искренней симпатии к тому, кто поставил целью своей жизни служить родной земле всеми силами своей души, неусыпным трудом над собою, употребляя в дело данный Богом талант и ценя более всего в жизни весьма скромное, но весьма трудное и весьма ответственное профессорское призвание.
Торжество юбиляра не ограничилось одним этим днем. На следующий день в 11 часов утра В.О. Ключевский явился на обычную свою лекцию в аудиторию. Здесь произошло совершенно неожиданное, неподдающееся описанию событие как по своей наружной простоте, так и по глубокому внутреннему содержанию. Собравшиеся в большем против обыкновенного количестве студенты встретили своего профессора-учителя радостными восторженными рукоплесканиями, и один из них — простыми и трогательными словами громко засвидетельствовал от лица всех собравшихся свою искреннюю любовь к учителю, испросив позволение запечатлеть ее дружеским целованием... Затем студенты попросили профессора сесть на кресло и своими руками понесли его на кафедру. Растроганный учитель в ответ на это выражение любви и уважения произнес редкую по воодушевлению и художественной красоте импровизацию, выразив свой взгляд на профессорское призвание и отозвавшись восторженно о некоторых профессорах академии — своих предшественниках — в особенности об А.В. Горском и А.Ф. Лаврове15,— с которыми он находился в самых дружеских отношениях, образовавшихся единственно на основании общности воззрения на профессорское призвание и служение научной истине.
Поведав кратко и скудно о сих событиях, летописец с своей стороны выражает искреннее желание, чтобы подобные простые события в жизни наших школ, особенно духовных, повторялись чаще и чаще. Они назидательны и плодотворны как выразители той истины, что скорби служения истине и меньшей юной братии, нередко венчающие скромного деятеля крестом и тернием, сплетенным завистью и злоречием, вознаграждают его неизбежно и искренними симпатиями, и совсем нежданно даруют радость и торжество, которых не в силах отнять ничто в мире.
С.И.ТХОРЖЕВСКИЙ
В. О. Ключевский как социолог и политический мыслитель* *
Тема моего доклада может показаться рискованной. Может показаться, что с моей стороны слишком смело говорить о Ключевском как социологе и политическом мыслителе,— потому что я лично никогда не знал, не слышал и даже не видел покойного ученого. Ведь Ключевский не оставил сочинений, специально посвященных социологии и политике; и поэтому, казалось бы, только личное, интимное общение с ним могло бы дать достаточный материал для суждения о его социологических и особенно политических взглядах. Конечно, это так. Лучше всего осветить Ключевского с этой стороны может тот, кто его знал лично — и многие из присутствующих сделали бы это, разумеется, лучше меня. Однако мне кажется, что и другой подход в этой теме, подход чисто-исторический, суждение не по личным впечатлениям, а по документам, является научно вполне законным и может быть плодотворным.
В подтверждение этой мысли позвольте мне сослаться на самого Ключевского. В одной из своих речей о Соловьеве он говорит, что главные биографические факты в жизни ученого и писателя — это книги**. И добавлю — именно в книгах, посвященных специальности данного писателя, полнее и лучше всего отражается весь его духовный облик, все его миросозерцание. И здесь позвольте опять сослаться на Ключевского. В статье, посвященной Пушкину, он говорит, что Пушкина нельзя обойти в нашей историографии, хотя он и не был историком по ремеслу. «Пушкин был историком там,
* Доклад, читанный в Историческом кружке имени А. С. Лаппо-Данилевского 2 ноября 1920 г.
* Ключевский В.О. Очерки и речи. 2-й сборник статей. Изд. Нар. Комиссариата
Просвещения, П., 1919 г., стр. 25.
где не думал быть и где часто не удается стать им настоящему историку. “Капитанская Дочка” была написана им между делом, среди работ над пугачевщиной; но в ней больше истории, чем в “Истории Пугачевского бунта”, которая кажется длинным историческим примечанием к ней» *.
И то же можно сказать о самом Ключевском: его нельзя обойти в истории русской общественной мысли, хотя он не был ни социологом, ни политиком по ремеслу.
Правда, относительно социологии это положение нуждается в оговорке: для Ключевского социология была очень тесно связана с историей. В «Курсе русской истории» он различает два главных направления в исторической науке — историю культуры, или цивилизации, и «историческую социологию»; содержание первой составляют «результаты исторического процесса», а второй — «силы и средства его движения», «исторические силы, строящие общежитие». Своим призванием он считал именно вторую, говоря, что при изучении всякой местной истории (следовательно, и русской в частности) «целый ряд соображений побуждает историка быть по преимуществу социологом» **. История должна быть подготовительной стадией к социологии, которая возникнет в результате массы исторических обобщений и явится, таким образом, «торжеством исторической наука». И поэтому первые две лекции его «Курса» посвящены специально социологическим вопросам об «основных силах общежития». К содержанию их я сейчас и перейду; но уже заранее скажу свой вывод: не они представляют главный интерес для социолога в сочинениях Ключевского. Мысль автора выражена тут довольно туманно***, многое очень спорно — словом, чувствуется, что тут автор не в своей стихии. Гораздо интереснее для социолога те места того же «Курса», где Ключевский остается историком — применяемый им на практике метод исследования (иногда, быть может,— бессознательно) одинаково поучителен и для историка, и для социолога.
Точно так же, когда мы хотим узнать и оценить Ключевского как политического мыслителя, мы должны обратиться не к речам
* Там же, стр. 59.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I, изд. 5-е, М., 1914, стр. 3 и 5-6.
*** Впрочем, эта неясность отчасти объясняется стремлением автора быть кратким. Это видно при сравнении этих страниц «Курса рус. истории» с более ранним курсом Ключевского по «методологии истории», читанном в 1884 г., где подробнее развиты однородные мысли.
его в Комиссии о печати Д. Ф. Кобеко1 или в Петергофских совещаниях, предшествовавших «Учреждению Государственной думы» 6 августа 1905 г*2,— но к его историческим трудам. В упомянутых политических речах Ключевского много гражданского мужества и здравые теоретические и практические соображения. Но ничего особенного мы в них не найдем — они звучат довольно шаблонно, даже труизмами (хотя тогда, в той обстановке, они звучали, конечно, иначе). Гораздо ярче проявляется политическое миросозерцание Ключевского в его «Курсе русской истории», в мимолетных замечаниях и метках эпитетах, как-то незаметно вплетающихся в изложение и придающих ему такую живость и красочность. Ключевский не был бесстрастным летописцем типа пушкинского Пимена. Он прямо заявлял, что не видит научного греха в «моралистике» (которую он отметил у Соловьева), потому что «моралистика» — «та же прагматика, только обращенная к сознанию своей нравственной стороны» **. Ключевский не только излагал события и деяния прошлого, но и оценивал их с абсолютной точки зрения своего этического идеала. Например, говоря о том, что в XVI веке в Москве правительство государственное и церковное всего требовало от народа и ничего, или почти ничего, не давало ему взамен, он прибавляет: «Может быть, ожидать от того и другого чего-либо большего в XVI веке значило бы предварять время; но установить отсутствие того, чего желательно было бы ожидать от них, бесспорно, значит определить их политический возраст, как и меру их внутренней нравственно-общественной силы»***. При этом оценка прошлого часто превращалась у него в самую недвусмысленную оценку настоящего,— что, конечно, много помогает выяснению политических взглядов Ключевского. Когда он называет опричников «легитимизованными мундирными анархистами», возмущавшими нравственное чувство христианского общества, которое, однако, терпело и молчало, а Малюту — «как бы шефом этого корпуса», и замечает, что опричники, «выводя крамолу, вводили анархию»****, то эти слова звучат в его устах определением политического возраста не только прошлого, но и современного ему русского общества.
* О речах Ключевского в комиссии Кобеко подробно рассказывает А.Ф. Кони а сборнике «В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания» М., 1912, изд. «Научного слова», стр. 157-160. См также «Петергофские совещания», изд. 2-ое Пг., 1917. изд-ва «Пламя» стр. 54, 60-62, 91-94, 138-139.
** Ключевский В.О. Очерки и речи. Второй сборник статей, стр. 35.
*** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. II, изд, 4-е, М., 1916, стр. 445.
Там же, стр. 513 и 231.
Значение Ключевского в русской исторической науке давно оценено и бесспорно. Мне об этом говорить незачем. Целые поколения русской интеллигенция воспитались на чтении его сочинений по русской истории. Отсюда ясен и тот интерес, который имеет выяснение социологических и политических взглядов Ключевского, поскольку они отразились в его исторических трудах.
I
Самым крупным «биографическим фактом» в жизни Ключевского как историка было появление знаменитой «Боярской думы», печатавшейся первоначально в «Русской мысли»3. Она была встречена восторженно; в ней увидели воплощение новых взглядов, пришедших на смену старым в исторической науке. Еще недавно ее назвали даже «манифестом новой исторической школы» *.
В предисловии к «Боярской думе» автор сам постарался выяснить, в чем заключается новизна, особенность его исследования. До сих пор, говорил он, историки наших учреждений — историки-юристы, по преимуществу — изображали исключительно их «техническую сторону», их строй и действие. Но «изучение их не следует ограничивать вопросами правительственной механики... Перед нами еще социальный материал, из которого они построены», а «в истории политических учреждений строительный материал часто важнее самого строя». С социальным составом учреждений тесно связан вопрос об интересах тех общественных классов, в руках которых находятся эти учреждения. Очередной задачей историков наших древних учреждений Ключевский признал поэтому выяснение тех общественных классов и интересов, «которые за ними скрывались и через них действовали» **. Та же мысль была суммарно выражена в подзаголовке «Боярской думы»: «Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества».
Все это как нельзя более соответствовало духу времени, когда в русском образованном обществе царили социологи и экономисты, от Конта до Маркса4. Но тогда же появилась и критика. Так, киевский профессор Владимирский-Буданов5 почувствовал себя задетым
* Б. И. Сыромятников — в сборнике: «В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания», стр. 80.
** «Русская мысль», 1880 г. № 1, стр. 53-54, 48. Ту же постановку вопроса видим в статье о «составе представительства на земских соборах XVI века» (Ключевский В.О. Опыты и исследования. Первый сборник статей, изд. 2-е. М., 1915. стр. 428-429).
как историк-юрист и в рецензии на первые главы «Боярской думы» указал, что метод Ключевского вовсе не нов, что уже Градовский и Дитятин6 изучали историю учреждений в связи с историей общества*. Действительно, если мы возьмем, например, «Историю местного управления в России» Градовского7, то увидим, что автор (следуя тому направлению, которое установилось в государственной науке с Лоренца ф. Штейна8) связывает судьбы местного управления на Западе и в России с составом местного общества, причем исторически «различие административного организма» у него «является только следствием перемен, происшедших в провинциальном обществе»**. Его книга (после теоретического вступления «Государство и провинция») состоит из двух разделов; первый (и притом больший по объему) озаглавлен: «Общественные классы в России XVI и XVII вв.», и только второй говорит собственно об «административном делении и местном управлении в России XVI и XVII вв.».
В своем ответе Владимирскому-Буданову Ключевский скромно заявил, что он не считает своего метода за «новое направление в науке», за «открытие», что мысль его «не нова»; напротив, он боялся, что его направление покажется очень узким, а узость направления, конечно, «не открытие, а очень старая старина». Историки-юристы хорошо решали свои задачи; теперь очередь за историками не-юристами, — к которым он причислял и себя, — осветить те стороны в истории наших учреждений, которые остались на их долю***.
Однако в этих словах больше скромности, чем истины. В «Боярской думе» было, несомненно, нечто «новое» в исторической науке. Между методом Градовского (и его ученика Дитятина) и методом Ключевского, кроме сходства, есть и существенное различие. Градовский говорит о классе в довольно неопределенном смысле, отождествляя его чаще всего с сословием. Если у него и проскальзывают иногда намеки на экономические интересы**** — этот глав
* Рецензия напечатана в «Сборнике государ. знаний». 1880. Т. VIII, отд. критики в библиографии.
** Градовский А.Д. Собрание соч. Т. II. СПб., 1899, стр. 309. «История местного управления в России» появилась на 12 лет раньше «Боярской думы», в 1868 г.
*** Ключевский В.О. Очерки и речи. Второй сборник статей, стр. 353-354 и 350.
**** так> Градовский отмечает ту разницу между русским дворянством XVI-XVII вв.
и западными феодалами, что первое не имело «прочных экономических основ в честности», что «экономические интересы не связывали его с местностью» (Градовский А.Д. Собрание соч. Т. II, стр. 309), но мысль эта не обосновывается и не развивается.
ный, конституирующий признак класса,— то делается это как бы невольно, и автор на них не задерживается. Напротив, Ключевский сознательно подчеркивает момент экономических интересов и экономики вообще; центр тяжести «Боярской думы», ее лучшие страницы, заключается в чрезвычайно ярком, конкретном воссоздании хозяйственного быта удельного княжества в верхнем Поволжье, на почве которого выросли своеобразные политические учреждения.
Однако экономическая точка зрения для Ключевского, историка и социолога, не была доминирующей. Правда, у него есть работы, специально посвященные экономической истории: «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» и весьма замечательная статья — «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему»9. Но экономический момент интересовал его не сам по себе, а лишь в связи с общественными классами. Эта черта была уже отмечена критикой, и на этом основании была сделана попытка охарактеризовать Ключевского как «историка общественных классов» *. Однако эта характеристика не может быть признана вполне точным и правильным выражением историко-социологических взглядов Ключевского.
Ключевский был большой мастер вскрывать подчас замаскированные материальные интересы, являвшиеся действительными стимулами массовых движений; при этом он безжалостно разрушал всякие иллюзии и сложившиеся традиции. Так, характеризуя малороссийское казачество в период польского владычества, он указывает, что ранние казацкие восстания против Речи Посполитой носили чисто-социальный характер без всякого религиозного или национального оттенка: главной целью их был просто грабеж. Но обстоятельства (гл. обр.— Брестская уния 1596 г.) навязали «этой продажной сабле без Бога и отечества» «религиозно-национальное знамя, судили высокую роль стать оплотом западно-русского православия» . Ключевский дает тут тонкий психологический анализ социального движения низов — казаков и хлопов — против высших классов. «Церковная уния не объединила этих классов, но дала им новый стимул их совместной борьбе и помогла им лучше понимать друг друга: и казаку, и хлопу легко было растолковать, что церковная уния — это есть союз ляшского короля, пана, ксендза и их общего агента жида против русского Бога, которого обязан защищать каждый русский. Сказать загнанному хлопу или своевольному казаку,
* М. М. Богословский — в сборнике: «В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания», стр. 39.
помышлявшим о погроме пана, на земле которого они жили, что они этим погромом поборают по обижаемом русском Боге, значило облегчить их совесть, придавленную шевелившимся где-то на дне ее чувством, что как никак, а погром, но есть доброе дело» *.
Особенно беспощаден Ключевский в IV части своего «Курса» по отношению к русскому дворянству. Уже в Смутное время, низложив царя Василия, дворянское ополчение объявило себя всей землей: «Игнорируя остальные классы населения, но заботливо ограждая свои интересы, и под предлогом стояния за дом Пресвятой Богородицы и за православную христианскую веру, провозгласило себя владыкой русской земли. Крепостное право, осуществившее эту лагерную затею... внесло в него объединяющий интерес и помогло разнородным слоям его сомкнуться в одну сословную массу». В дворянском ополчении, говорит он далее, «какой-то инстинктивной похотью сказалась мысль завоевать Россию под предлогом ее обороны от внешних врагов» **. В деле освобождения крестьян решающее значение имели не филантропические побуждения верхов, а стихийные возмущения низов, не желавших нести иго крепостного права. И «если бы народ терпеливо вынес такой порядок,— прибавляет Ключевский, — Россия выбыла бы из числа европейских стран» ***.
Ключевский умел также выпукло изобразить роль общественных классов в политическом строе страны. Так, основной причиной падения земских соборов он считал тот факт, что в русском обществе не образовалось влиятельного класса, для которого соборное представительство было бы настоятельной политически-осознанной потребностью****. Власть в XVIII веке он изображает орудием одного класса; правительство стало дворянским — сословие, доселе бывшее привычным орудием правительства, само стало управлять обществом посредством правительства. Власть стала слугою «своего окружения», общественного класса, которого она боялась и в котором искала опоры*****.
* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III, изд. 3-е, М., 1917, стр. 142-144.
** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV, изд. 2-е, М., 1916, стр. 92 и 111.
*** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III, стр. 13.
**** -рам же> стр_ 273.
***** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV стр. 133, 449, 441 и др. Ср. в «Истории сословий» (М., 1913. стр. 9) замечания о сравнительной значении для сословий гражданских прав, увеличивающих для каждого человека сферу личной свободы и средства материального обеспечения, и прав политических: первые гораздо важнее, они — настоящая цель, к которой вторые относятся как средства.
В этих и других, подобных им, выражениях, рассыпанных в сочинениях Ключевского, нам слышатся чисто-марксистские ноты. И наши ученые марксисты охотно ими пользуются. Однако Ключевский очень далек от «материалистического понимания истории».
Во-первых, Ключевский едва ли даже читал Маркса. Мы нигде не видим у него даже следов знакомства с марксистской терминологией. Капитал для него есть «сочетание труда и природы», или «средства работы»; классы «различаются между собой родом капитала, которым работает каждый». Эти фразы звучат непривычно, дико для марксиста*.
Во-вторых, общественная группировка, по Ключевскому, происходит не только на экономической основе. Во введении к «Боярской думе» и затем в «Истории сословий» «он устанавливает два возможных пути возникновения общественных классов. Иногда политические факты вытекают из экономических, как их следствия — тут экономические классы превращаются в политические сословия. Но возможен иной порядок: в случае завоевания экономические факты могут оказаться следствиями предшествовавших им фактов политических. Именно таким путем, думает Ключевский, создавались многие государства средневековой Европы; в истории же русского общества «господствовали, по-видимому, смешанные процессы»**.
* «Методология истории» 10 (литограф, курс, изданный в Петербурге с раз-реш. проф. Середонина), стр. 17; «Боярская дума», изд.4-е, М., 1909, стр. 10 и 7. Приведя слова Ключевского, что капитал есть «средства для работы», Плеханов замечает, что «понятия наших исследователей о капитализме довольно своеобразны». См. его «Историю рус. обществ, мысли», т. I (СПб., 1914), стр. 57, прим. 4. По экономическим вопросам Ключевский, по-видимому, черпал сведения, гл. обр., из сочинений Чичерина, который был для него авторитетом в вопросах юридических. Ср. определение Чичерина: «Капитал есть произведение, обращенное на новое производство. В нем сочетаются природа и труд» — «Курс госуд. науки», ч. II, М., 1896, стр. 122.
Предыдущие строки были уже написаны, когда проф. И.М. Греве11 сообщил мне очень интересные сведения, подтвердившие мои предположения. Ключевский никогда Маркса не читал; и общий друг их А. В. Гизетти 12, сам марксист, пытался «просветить» Ключевского, посылая ему произведения Н.И. Зибера13, известного популяризатора Маркса в России, хотя И. М. Греве убеждал его, что Ключевский, если бы захотел, прочел бы самого Маркса, а «изложений» Маркса читать не станет.
** «Боярская дума», стр. 7-12. Ср. «Историюсословий» (М., 1913), стр. 15-19.
Этот второй путь возникновения общественных классов, очевидно, противоречит марксистскому догмату об « экономическом фундаменте» и «политической надстройке». И в своей «Истории русской общественной мысли» основатель и признанный вождь русского марксизма, Плеханов, широко заимствуя материал у Ключевского, в этом пункте постарался его опровергнуть и доказать, что такого процесса, в котором момент политической предшествовал бы экономическому, вообще не может быть, а может быть «лишь обратное влияние следствия на вызвавшую его причину»*.
Я не буду сейчас вдаваться в рассмотрение этого спора по существу — кто из них прав, и правильна ли самая постановка вопроса. Для меня важно сейчас отметить, что Плеханов не признал Ключевского своим единомышленником. Но разногласие между ними не ограничивается вышеприведенным пунктом о соотношении политических и экономических фактов, а идет гораздо глубже. Тут — коренное расхождение в историческом миросозерцании.
Свое понимание задач и метода истории Ключевский изложил сначала в «Методологии истории» (к сожалению, оставшейся ненапечатанной) и затем во вступительных лекциях «Курса русской истории». Из сравнения этих двух курсов мы можем видеть, как развивались и изменялись его взгляды.
Предмет истории, говорит Ключевский в своей «Методологии», есть происхождение, развитие и свойство людских союзов. Людские союзы разделяются на два вида: первичные, или естественные, и вторичные, или искусственные. Естественных союзов он насчитывает 6: первобытное бессемейное общество, материнская семья, патриархальная семья, род, триба, племя. Два «главных искусственных союза, которыми живет в настоящее время культурное человечество»,— это государство и церковь. Естественные союзы строятся на инстинктах, искусственные — на целях. Особенное внимание Ключевский уделяет государству. «Когда встречаем ряд союзов, в которых нет естественных признаков, но которые чувствуют себя соединенными для цели общего блага, то это — государство... Как скоро племя становится на это новое основание единения, его следует называть государством. Итак, народ есть племя, которое стало государством». Под покровом двух главных союзов — государства и церкви — развиваются союзы частные, «из которых каждый примыкает к цели того или другого главного со
Плеханов, «История рус. обществ, мысли», т. I (М., 1914), стр. 16, 21, 24.
юза»; поэтому одни из них частные союзы государственные, другие духовные. «Сословие, например, союз частно-государственный»*.
В этом перечислении «людских союзов» мы не находим класса; можно только догадываться, что место его среди «частно-государственных» союзов. И на страницах «Методологии истории», которая все время трактует социологические вопросы — об «элементах» и «основных силах» общежития, об историческом процессе, о законах общежития,— нигде нет ни слова о классе.
В «Курсе русской истории», являющемся завершением научного творчества Ключевского, он выявляет свое историческое credo гораздо определеннее и ярче, чем в «Методологии истории». Предмет его изучения — народность, ставшая в государстве особой исторической личностью. Нарисовать «хотя бы в общих очертаниях образ русского народа как исторической личности» — вот какую «научную цель» ставит себе Ключевский**. Тут он считает себя историком русского парода, а не историком русских общественных классов. Но та же точка зрения, хотя и не получившая такой отчетливой формулировки, доминирует и в «Боярской думе». Устройство и значение боярской думы имело опору в обычае, созданном историей самого Московского государства. Это государство было народным лагерем, образовавшимся в Великороссии, боровшейся на три фронта. «Оно родилось на Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты». «Московская боярская дума по своему устройству и характеру деятельности была созданием того же факта, который послужил исходной точкой истории самого Московского государства. Это государство началось военным союзом местных государей Великороссии под руководством самого центрального из них, союзом, вызванным образованием великорусской народности и ее борьбой за свое бытие и самостоятельность. Дума стала во главе этого союза со значением военно-законодательного совета местных союзных государей с их вольными слугами-боярами, собравшихся в Москве под председательством своего вождя»***. Так, начав изучать
* «Методология истории», стр. 6-8. Учение о естественных союзах заимствовано Ключевским, по его собственным словам, из книжки Giraud-Teulon’a “Les origines du mariage et de la famille” u, в свою очередь являющейся популяризацией сочинений Бахофена и Мак-Леннана15. Эти заимствованные взгляды не стоят ни в какой органической связи с общими историческим миросозерцанием Ключевского и совершенно на нем не отразились.
** «Курс рус. истории», ч. I, стр. 34.
*** «Боярская дума», заключительная глава, стр. 524-530.
боярскую думу в связи с историей одного класса Московского общества, Ключевский в конце концов связал ее «устройство и значение» с судьбами великорусской народности и государства.
Ключевский знает, что в истории постоянно идет борьба классов; но он умеет выдвинуть и факторы, ей противодействующие. Так, при Грозном социальные несогласия умолкали перед лицом религиозных и национальных опасностей — «как будто какой-то высший интерес парил над общее том, над счетами и дрязгами враждовавших общественных сил». Точно так же, в Смутное время «спасли общество крепкие национальные и религиозные связи». «Казацкие и польские отряды, медленно, но постепенно вразумляя разоряемое ими население, заставили, наконец, враждующие классы общества соединиться не во имя какого-либо государственного порядка, а во имя национальной, религиозной и простой гражданской безопасности, которой угрожали казаки и ляхи». И вообще Московское общество, по мнению Ключевского, в противоположность обществу послепетровскому, составляло «однородную нравственную массу», в которой было «некоторое духовное согласие вопреки социальной розни» *.
Итак, Ключевский брал общество в целом, старался, как увидим дальше, определить для каждого данного момента «уровень общежития» всего народа как исторической личности. Ясно, что для этой цели противоречивые экономические интересы различных общественных классов не могли дать ему руководящей нити. Что же, опрашивается, может послужить этой руководящей нитью для историка и социолога, изучающего строение и развитие данного общежития?
«Факторами общежития» и источниками его «элементов» (т.е. общественных связей: элементами общежития являются язык, кровное родство, пол, возраст, труд, капитал, право и т.д.) в «Методологии истории» Ключевский признает четыре силы: 1) природу страны, 2) физическую природу человека, 3) личность и 4) общество. Первые две силы относятся к природе, вторые две являются проявлением «человеческого духа». При этом «общество» понимается просто как «потребность общения», а отнюдь не как «социальный организм». Кроме того, Ключевский склонен допустить («об этом, впрочем, надо еще подумать», замечает он) еще пятую силу. «Факты, часто вызванные временной необходимостью, превращаются в привычки, в предание, девствующее даже,
* «Курс рус. истории», ч. II, стр. 514; ч. III, стр. 61 и 469.
когда минет эта временная потребность». Это «бремя предков» передается следующим поколениям, и от него трудно, а иногда невозможно освободиться. Эта пятая сила, в которой проявляется (как и в личности и в обществе) «человеческий дух», может быть названа «историческим преемством». Каждая из этих первичных сил создает особые «элементы» общежития. Так, источником пола, возраста, инстинкта кровного родства является физическая природа человека; личность проявляется «в функциях мысли и чувства»; источник права, обмена, порядка надо искать в обществе; сила исторического преемства проявляется в обычае, в предании. Некоторые элементы являются продуктами совместного действия нескольких сил: таковы, например, труд и капитал, являющиеся результатом совместной деятельности личности и природы. Результат взаимодействия всех этих сил и называется «историческим процессом» *.
Эта схема факторов общежития как «первичных сил, создающих и движущих совместную жизнь людей», повторяется в «Курсе русской истории» в несколько измененном и сокращенном виде. Природа не подразделяется на природу страны и физическую природу человека. Пятая сила — историческое преемство — исчезает. Противоставление личности и общества поясняется и углубляется другим: противоставлением политических и экономических фактов тому, что Ключевский своеобразно называет «идеями». В план «Курса», говорит Ключевский, входит изложение политических и экономических фактов — и только. «Идеи», т.е., домашний быт, нравы, успехи знания и искусства, литература, духовные интересы, факты умственной и нравственной жизни — исключаются. Не потому, что они будто бы не факторы исторического процесса. «Я не знаю общества, свободного от идей, как бы мало оно ни было развито. Само общество — это уже идея, потому что общество начинает существовать с той минуты, как люди, его составляющие, начинают сознавать, что они — общество». Разделяя, таким образом, т. н. «психологическое» понимание общества, Ключевский не мог отрицать роли «идей» в истории. «Умственный труд и нравственный подвиг всегда останутся лучшими строителями общества, самыми могущественными двигателями человеческого развития»**. Если
* «Курс рус. истории», ч. I, стр. 26 и 33.
** «Методология истории», стр. 26-28, 32-34. Термин «элементобщежития», может быть, заимствован тоже у Чичерина,— см. в его «Социологии» («Курс восуд. науки», ч. II) гл. II «Элементы общества», а также в «Философии права», М., 1900. стр. 284-235. Впрочем, Чичерин не дает определения употребляемому им термину, и смысл его неясен. ।
тем не менее в основу курса Ключевский клал факты политические и экономические, то по соображениям методологическим.
История имеет дело не с человеком, а с людьми; она изучает людские отношения. Но идеи — это плоды личного творчества; и только будучи переработаны в общественные отношения, сделавшись общим достоянием, правилом, они становятся предметом истории. Политические и экономические факты — это те же идеи, но получившие надлежащую «обработку»; они «проявляются в актах не единоличного, а коллективного характера, в законодательстве, в деятельности разных учреждений, в юридических сделках, в промышленных предприятиях — в обороте политическом, гражданском, хозяйственном». Конечно, «не одними канцеляриями и рынками движется исторйческая жизнь, но с них удобнее начинать изучение этой жизни». Тут «мы входим в круг тех умственных и нравственных понятий и интересов, которые уже перестали быть делом отдельных умов» и стали «достоянием всего общества». И поэтому «политический и экономический порядок известного времени можно признать показателем его умственной и нравственной жизни» *.
Затем Ключевский устанавливает различие между политическими и экономическими фактами, чтобы показать необходимость совмертного их изучения для всестороннего понимания общества. Жизнь политическая и жизнь экономическая — это две различные области жизни, где «господствуют полярно-противоположные начала: в политической — общее благо, в экономической — личный материальный интерес; одно начало требует постоянных жертв, другое питдет ненасытный эгоизм». «Человеческое общежитие строится взаимодействием обоих вечно борющихся начал». Но как возможно это взаимодействие столь противоположных начал? Оно возможно потому, что «в составе частного интереса есть элементы, которые обуздывают его эгоистические увлечения». Действительно,
* «Курс рус. истории», ч. I, стр. 26-28, 30. Зародыш этого противоставления «идей» политическим и экономическим фактам можно найти в «Методологии истории», где изображается превращение личных ощущений в общественные обязанности. «Личная потребность, став общей, превращается в общественное учреждение, действующее обязательно и тогда, когда бездействуют условия, его вызвавшие» (стр. 1,56). Но тут нет еще понятия «политического» и «экономического» факта и всех связанных с ним рассуждений.
Исчезновение «исторического преемства» как особого фактора понятно: ведь «бремя предков» есть «достояние всего общества», оно отражается в политическом и экономическом порядке и потому должно быть отнесено к проявлению «общества». Сам Ключевский в одном месте «Методологии» (стр. 115) называет обычаи и предания продуктом «общества».
«в отличие от государственного порядка, основанного на власти и повиновении, экономическая жизнь есть область личной свободы и личной инициативы, как выражения свободной воли. Но эти силы, одушевляющие и. направляющие экономическую деятельность, составляют душу и деятельности духовной. Да и энергия личного материального интереса возбуждается не самим этим интересом, а стремлением обеспечить личную свободу, как внешнюю, так и внутреннюю»,— а внутренняя, умственная и нравственная, свобода «на высшей ступени своего развития» вырабатывает сознание нравственного долга действовать на пользу общую. Вот на этой-то нравственной почве и устанавливается соглашение вечно борющихся начал: «развивающееся нравственное сознание сдерживает личный интерес во имя общей пользы..., не стесняя законного простора, требуемого личным интересом. Следовательно, взаимным отношением обоих начал, политического и экономического, торжеством одного из них над другим или справедливым равновесием обоих измеряется уровень общежития»*.
Тут мы имеем перед собою стройную систему, целую политическую философию, которая говорит не только о том, что фактически бывает, но и что должно быть, что является «законным» и «справедливым»... Источник этой философии совершенно ясен: это гегельянство в той его формулировке, какую дал учитель Ключевского — Чичерин**.
* «Курс рус. истории», ч. I, стр. 31-32.
** Ключевский слушал лекции Чичерина уже по окончании университетского курса, будучи оставленным при университете; он сам не раз говорил впоследствии, что Чичерин оказал на него большое влияние. См. «В. О. Ключевский. Характ. и воспом.», стр. 31. Б. Сыромятников17, склонный противоставлять Ключевского как «реалиста» метафизику Чичерину, признает, что «в умственном складе Ключевского есть что-то чичеринское» (там же, стр. 76). Правильнее было бы сказать, что глубоко-философский ум Чичерина, с его ясной и непреклонной логикой, дал Ключевскому, который отнюдь не был философом, некоторые основные логические схемы, которые иногда бледнели в его сознании, но никогда уже не исчезали. Что касается «умственного склада», то Ключевский был прямой противоположностью Чичерину. Чичерин был непреклонный догматик, с удивительным постоянством и утомительным однообразием повторявшим одни и те же мысли в течение нескольких десятков лет. Напротив, «коренной чертой» всего духовного склада Ключевского признается « полная свобода от всякого догматизма». «Как очень чувствительный измерительный аппарат, его психика находится в вечном колебании» (Милюков — в сборнике: «В.О. Ключевский. Характ. и воспомин.», стр. 200). Для иллюстрации зависимости изложенных в тексте взглядов Ключев-
। ского от Чичерина я приведу несколько цитат из сочинений последнего.
Любопытно сравнить это место у Ключевского с одной из ранних статей Маркса — «К еврейскому вопросу»16. Исходя из гегелевского противоставления государства и гражданского общества, Маркс говорит, что современный человек ведет двойную жизнь — небесную и земную: «Жизнь в политическом обществе, где он является существом по преимуществу общественным, и жизнь в буржуазном обществе» (оно, в другом месте, называется «сферой эгоизма, войны всех против всех». С. Т.), в котором он участвует как человек частный. Но из одной и той же гегелевской схемы делаются совершенно различные выводы. Маркс видел исход из этого противоречия между государством и гражданским («буржуазным») обществом в уничтожении этой двойственности путем поглощения частного начала общественным, так что человек должен стать «настоящим родовым существом» во всех отношениях, «в своей эмпирической жизни, в своем индивидуальном труде», когда он «познает и организует свои личные силы как общественные силы» *. Ключевский же остается верен своему учителю. Подобно Чичерину, он, указывая и историческую возможность торжества то политического, то экономического начала, нормальным считает «справедливое равновесие обоих».
«От племени народность отличается тем, что в первом преобладает связь, основанная на происхождении, а во второй — сознание духовного единства» («Курс госуд. науки», т. I, М., 1894. стр. 80-81). «Народность становится личностью в государстве» («Философия права», стр. 75). Определение капитала и понятие «элементов общества» — см. выше, прим, на стр. 158 и 161. Противопоставление государства, где господствует цель «общего блага», гражданскому обществу, «области частных отношений и частных интересов» — «Курс госуд. науки», т. 1, стр. 84-89. О значении личной свободы как движущей силы не только экономического, но и духовного развития и о примирении начал нравственности и личного интереса: «Между экономическими отношениями и нравственными требованиями есть та общая черта, что те и другие суть явления свободы» («Философия права», стр. 264). «Улучшая свой материальный быт, человек заботится и о благосостоянии семейства, он хочет обеспечить своих детей, и это составляет одно из высших нравственных побуждений. Не лишенный нравственного чувства человек уделяет и другим часть своего избытка. Так. обр., преследование личного интереса служит вместе с тем источником нравственной деятельности». Но промышленное предприятие, основанное не на расчете, а на любви, будет разорительно. «Высшая задача человеческой жизни заключается не в замене одних начал другими, а в их соглашении... Это соглашение до--стигается тем, что в общем порядке человеческой жизни каждый элемент получает принадлежащее ему место» («Собственность и государство». Т. I. М., 1882, стр. 277-278).
* Маркс, «К еврейскому вопросу», перев. под ред; Луначарского, П., 1919, стр. 15, 17, 22, 23.
Но каким способом, по каким уловимым признакам можно определить этот «уровень общежития», устанавливаемый взаимными отношениями политического и экономического начал? Во-первых, отвечает Ключевский, он выясняется «самим ходом событий политической жизни и связью явлений экономических». Это — одна из тех темных, мало понятных фраз, которые, надо это признать, попадаются-таки у Ключевского. В данном случае, как бы чувствуя недостаточность первого указанного им способа, он спешит сейчас же указать и другой: «Во-вторых, наблюдения над этими событиями и явлениями находит себе проверку в законодательстве, в практике управления и суда» *.
Таким образом, показателем «уровня общежития» Ключевский признает действующее в нем право, находящее себе выражение в законодательстве и в практике управления и суда. Еще определеннее свой взгляд на значение юридических памятников для историка Ключевский формулировал в «Истории сословий» (читанной в 1886 г.) и затем при разборе «Русской Правды» в «Курсе русской истории».
«Общество, как живое и мыслящее существо», читаем в «Истории сословий», говорит своим особым языком, не похожим на тот, каким выражается индивидуальный ум. Последний выражает свои идеи логическими понятиями или художественными образами, а первое говорит юридическими нормами». Поэтому в истории сословий памятники права являются «единственно надежными источниками» **.
Разбирая содержание «Русской Правды», Ключевский развивает ту же мысль в применении к частным, гражданским отношениям. «Гражданское общество складывается из очень сложных отношений юридических, экономических, семейных, нравственных. Эти отношения строятся и приводятся в действие личными интересами, чувствами и понятиями. Это по преимуществу область личности». Но эти отношения постепенно складываются в известный порядок, «вырабатываются рамки, которыми сдерживаются частные отношения, правила, коими регулируется игра и борьба личных интересов, чувств и понятий. Совокупность этих рамок и правил составляет право», которое получает выражение в обычае или законе. «Личные стремления обыкновенно произвольны, личные чувства и понятия всегда случайны, те и другие — неуловимы, по ним нельзя определить общего настроения, уровня общественного развития.
* «Курс рус. истории», ч. I, стр. 32.
** «История сословий в России», стр. 26.
Мерилом для этого могут быть только отношения, признаваемые нормальными и общеобязательными, а они формулируются в праве и через то становятся доступными изучению... Таким образом, памятники права дают изучающему нить к самым глубоким основам изучаемой жизни» *.
Тут есть некоторое логическое противоречие: юридические отношения ставятся наряду с экономическими и семейными, тогда как из дальнейшего изложения ясно, что последние получают свое общеобязательное выражение в праве, т. е. становясь юридическими отношениями. Но основная мысль Ключевского ясна: историку-социологу, желающему проследить развитие данного общества, руководящую нить дает история права.
Очень характерным в этом отношении является курс Ключевского, читанный им в 1884/1885 акад, году под названием «Терминология русской истории». Задачей его было «изучение бытовых терминов, встречающихся в наших исторических источниках», смысл которых стал уже неясным,— терминов политических, юридических и экономических. Но фактически тут разобраны только «политические» термины, и получилось сочинение, по своим задачам, по методу изложения и по содержанию, очень похожее на сочинение нашего виднейшего историка-юриста, во многом бывшего антагонистом Ключевского: я говорю о «Древностях русского права» В. И. Сергеевича, первый том которых появился в 1890 году**. Предметы практических занятий, которые велись Ключевским в университете в 80-х годах, тоже указывают на преобладающий интерес его к вопросам истории права. Они заключались в разборе Русской Правды, Псковской Судной Грамоты, Судебника 1550 года, Котошихина, договоров Олега и Игоря с греками, Новгородской Судной Грамоты***. Все это — памятники
* «Курс рус. истории», ч. I, стр. 272-274.
** По мысли Сергеевича, три тома «Древностей» вместе с его «Лекциями и ис-ч следованиями по древней истории русского права » должны были послужить «материалом для будущего исторического словаря русских юридических понятий и терминов» — см. предисловие к 3-му изд. «Лекций и исследований» 1903 года. Таков же характер и «Терминологии русской истории» Ключевского; программа ее очень похожа на обычные программы по истории русского права.
Пользуюсь случаем, чтобы принести глубокую благодарность С. Ф. Платонову, предоставившему мне свой экземпляр литограф, изд. «Лекций» Ключевского, где содержатся его курсы «Методология истории», «Терминология» и «Дополнения к общему курсу рус. истории».
*** «В.О. Ключевский. Биографический очерк, речи и материалы для его биографии», изд. Моск. О-ва Истории и Древностей, М. 1914, стр. 20.
юридические (сочинение Котошихина18 представляет собой, в сущности, комментарий юриста-практика XVII века, приказного подьячего, к Уложению 1649 года); на них Ключевский считал нужным сосредоточить внимание занимающихся русской историей.
Ключевский пришел к тому выводу, к которому приходят разными путями многие современные мыслители. Так, известный французский социолог Вормс19 заметил, что «там, где успехи социологии были наиболее быстры и надежны, она опиралась на историю права и сравнительное правоведение», потому что юридические учреждения — это известная форма, которая обществом налагается на действия отдельных лиц. И эта форма, эти правила могут распространяться, охватывая их в большей или меньшей степени, на все явления совместной жизни людей: экономические, половые, нравственные и религиозные, эстетические, политические и т. д. * Ту же мысль, но в разной словесной оболочке, развивают в настоящее время и юристы: в Германии Штаммлер и у нас Петражицкий**20.
Но схема Ключевского нуждается, прежде всего, в терминологическом исправлении. Названия «политический» и «экономический» указывают на случайный признак факта и не передают существа различия между ними. Суть дела заключается в противопоставлении двух способов юридической нормировки общественных отношений: нормировки из единого центра на основах власти и подчинения и нормировки децентрализованной, предоставляющей решающее значение свободной воле и инициативе отдельных лиц. Выражаясь обычными терминами юридической науки, это есть противоположение публичного и частного права. Исторически граница между этими двумя системами юридической нормировки была весьма подвижна. В частности, экономическая, хозяйственная жизнь народов знала обе системы. До последнего времени во всех культурных странах экономическая деятельность была по преимуществу
* Вормс, «Социология и правоведение», перев. Ю. В. Пг., 1900, стр. 9, 13-14.
** Штаммлер. «Хозяйство и право». СПб., 1907, рус. перев. Давыдова, т.т. I—II.
Петражицкий; «Теория права и государства в связи с теорией нравственности», СПб., 1907. т. т. I—II. Следует отметить, что первыми стали настаивать на зависимости хозяйства от права германские «катедер-социалисты» Шмоллер и Вагнер21— см. разбор их у Чичерина («Собственность и государство», ч. I-П). Сам Чичерин близко подошел к формуле Штаммлера, что право есть «форма», а хозяйство — « материя »: « Экономические отношения движутся в формах, установленных правом, а право, с своей стороны, приспособляет свои формы к потребностям экономической жизни». «Философия права», стр. 268. Ср. его же «Курс госуд. науки», т. II, стр. 103.
предоставлена частной инициативе; поэтому и мог сложиться тот взгляд, который высказывается Ключевским, что задача устройства народного хозяйства и подъема производительности народного труда не есть по существу дело государства*. Тут сказывается — разрешите мне употребить это выражение — ограниченность буржуазного мировоззрения. До последнего времени рядовому европейцу экономическая жизнь казалась «естественной» областью личной свободы и личной инициативы; ему в голову не приходило, что и народное хозяйство может быть построено по тому же авторитарному принципу, как и военное дело, правосудие, иностранная политика и т. д. Но история говорит, что так бывало, и современность — по крайней мере, русская — возвращается к той же экономической системе.
И если мы заменим логически-неудачные термины: «политические и экономические факты» — понятиями «публичного» и «частного» права, то связь социологии с правоведением будет подчеркнута еще резче**.
Тут нам можно остановиться и подвести первые итоги. Основной заслугой Ключевского как социолога следует признать выяснение: 1) психологической природы общества и 2) методологического значения изучения права для познания общественных явлений. На втором месте, по моему мнению, стоит его работа по выяснению того процесса, которым вырабатываются новые идеи, процесса «исторического вымогания понятий», по образному выражению Ключевского. Тут решается проблема прогресса, вопрос о факторах движения в обществе — и решается совершенно самостоятельно.
* Устройство военных сил и финансовых средств и устройство народного хозяйства — это, говорит Ключевский, «очевидно, две существенно различные задачи; первая — основное дело государства; вторая ближе касается общества». «Курс рус. ист.», ч. IV, стр. 254. Это положение — мотто всех сочинений Чичерина. Ср. его утверждение что «экономические отношения не только фактически, но и по самому существу дела, управляются началами частного, а не публичного права». «Философия права», стр. 267.
** Эта мысль о двух порядках координирования поведения людей в общежитии, заложенная Гегелем, является одной из самых глубоких и, можно сказать, неискоренимых в социальной философии. У многих современных социологов замечается тяготение к возрождению гегелевской схемы. «Для социолога нет, быть может, различия более глубокого и более существенного, чем различие 'единства и системы», говорит, напр., Струве и подчеркивает заслуги Гегеля и Л. фон-Штейна(«ХЬзяйствоицена», т. I, стр. 38-39). Весьма последовательно применяет конструкцию двух основных способов юридической нормировки общественных отношений-проф. И. А. Покровский22 в своей прекрасной книге «Основные проблемы гражданского права», которая поэтому носит характер не только юридического, но и социологического исследования.
Мы уже видели, как «идеи перерабатываются в общественные отношения» . Но Ключевский указывает и обратные процессы, когда «от общественных отношений отлагаются идеи»*. Эту мысль он теоретически почти не обосновывает; но при изложении хода событий в «Курсе русской истории» он дает яркие примеры «вымогания идей», когда факты навязывают новые понятия, но неподатливое мышление упорно перегибает их в сторону привычной нормы. Так, объединение Великороссии рождало в умах идею народного русского государства; но государство мыслилось по-прежнему как вотчина государя. Новые идеи, вызываемые новыми фактами, долго остаются «в фазе смутного помысла и шаткого настроения». Отсюда — та «логика полумыслей и политика полумер», которая так характерна для династии Московских Даниловичей**23.
Большой запас новых политических понятий дало Смутное время. «Это — печальная выгода тревожных дней: они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен этого дают опыты и идеи. Как в бурю листья на деревьях перевертываются изнанкой, так смутные времена в народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и при виде их люди, привыкшие замечать лицевую сторону жизни, невольно задумываются и начинают думать, что они видели далеко не все. Это и есть начало политического размышления. Его лучшая, хотя и тяжелая школа — народные перевороты»***.
В Смутное время стали сознавать, что государство не есть вотчина государя. Высшего напряжения русская политическая мысль, по мнению Ключевского, достигает в договоре 4 февраля 1610 года с королем Сигизмундом24: тут появляется даже в определенных очертаниях идея личных прав. Но прошли эти беспокойные времена, и снова «мутный стихийный поток народной жизни затягивал илом частичные углубления народного сознания» ****.
В этих рассуждениях мы находим решение известной проблемы о соотношении «бытия» и «сознания» в общественной жизни. Социологический идеализм утверждает, что «идеи управляют миром и переворачивают его» и что «весь социальный механизм покоится на мнениях»*****. Материализм утверждает обратное: «не сознание
* «Курс рус. истории», ч. I, стр. 27.
** «Курс рус. истории», ч. II, стр. 152, 172, 217, и ч. III, стр. 15 и след.
*** «Курс рус. истории», ч. III, стр. 82.
**** «Курс рус. истории», ч. III, стр. 49 и 85.
***** о Конт «Курс позитивной философии», 1-я лекция («Родоначальники позитивизма», СПб., 1912. выпуск 4-й, изд. Брокгауз-Ефрон, стр. 19).
людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет сознание»*. С той точки зрения, на которой стоит Ключевский и которая кажется мне единственно правильной, нет вообще этого дуализма, этого разрыва между «бытием» и «сознанием» . Факты индивидуального сознания — это тоже часть бытия, не более и не менее реальная, чем факты внешнего мира. Поскольку какая-нибудь идея получает широкое признание, она порождает определенные общественные отношения и таким образом определяет общественное «бытие»; с другой стороны, внешние факты наводят людей на новые идеи или обнаруживают непригодность старых — постольку (и только постольку) и можно говорить, что «сознацие» определяется «бытием».
Таковы, по-моему, главные выводы — о природе общественных явлений, их развитии и о приемах их изучения,— которые может извлечь социолог из исторических трудов Ключевского. Конечно, у него можно найти еще очень много интересного материала, но для заключений уже более частного характера (напр., о роли личности в истории, об условиях «влияния» и «заимствования» между народами и т. д.). Я позволю себе на них не останавливаться и перейти прямо ко второй части моего доклада — характеристике Ключевского как политического мыслителя.
II
Каковы были политические взгляды Ключевского? Ответить на этот вопрос сразу затруднительно. Известно, что в 1905 году в комиссии Кобеко он защищал свободу печати, а в Петергофских совещаниях25 — демократический принцип представительства против сословного, произнеся в присутствии Николая II знаменитую фразу: «Да избавит нас Бог от того, чтобы в народном воображении восстал мрачный призрак сословного царя» **. Но до того он отнюдь не имел репутации политического радикала. То любовное отношение, которое он проявил к московскому прошлому в «Боярской думе» и в некоторых статьях, по-видимому, дало повод «сферам» считать его консерватором, и в 1893-1895 го
* Маркс «К критике политической экономии», предисловие. Цитирую по переводу Струве в «Сборнике статей, посвященных В.О. Ключевскому», М., 1909, стр. 460.
** «Петергофские совещания», 2-е изд. Пг., 1917. ст. 94. См. выше, прнм. на стр. 153.
дах Ключевский по поручению императора Александра III читал курс русской история великому князю Георгию Александровичу в Абас-Тумане26. Весьма вероятно, что его не пригласили бы на Петергофские совещания, если бы знали, что он там скажет*. Когда прошли тревожные дни первой русской революции, Ключевский был избран членом Государственного совета от академической курии, но от избрания отказался и вообще устранился от активного участия в политической жизни. Таким образом, тут мы видим некоторые колебания, которые разъяснятся, если мы установим эволюцию политических взглядов Ключевского, эволюцию, которая, по моему мнению, характерна для части русского общества.
Я различаю две фазы в развитии политического миросозерцания Ключевского, причем хронологическим рубежом между ними является смутный 1905 год.
В 80-х годах прошлого столетия, когда научная слава Ключевского была в полном расцвете, он относился к политическим учреждениям Западной Европы, которые были мечтой наших либералов, весьма сдержанно. Отчасти это обусловливалось тем, что Ключевскому политическая свобода Запада казалась неизбежно связанной с ее цензовыми ограничениями (как это утверждал Чичерин). В «Истории сословий» он дает такую картину политического строя Западной Европы. Общество разбито на множество пылинок, одиноко стоящих индивидов, участвующих в государственном управлении пропорционально количеству платимых налогов. «Благодаря такому сочетанию, современные европейские государства представляют сложный механический прибор, построенный на юридической и экономической сделке, который, соединяя в одно целое одинокие, разбитые лица, своей тяжелой деятельностью вырабатывает им благо, носящее на языке Западной Европы название политической свободы» **.
Тут деятельность механизма конституционного государства представляется «тяжелой», и «благо, называемое на языке Западной Европы политической свободой», очевидно, не вызывает восторга. Правда, немного раньше, в первоначальном тексте «Боярской думы», очевидно, имея в виду народнические настроения, сильные
* Ключевский рассказывал Милюкову «со свойственным ему лукавим юморок, как он попал в самое ядро дворянской группы, рассчитывавшей видеть в нем «своего» «В.О. Ключевский. Характ. ивоспомин.», стр. 215.
** «История сословий в России», стр. 14.
тогда в студенчестве, Ключевский предостерегал от излишнего пренебрежения к политической свободе, от политического индифферентизма. «На Западе... можно поручиться, что как бы далеко ни зашли там в равнодушии к политическим формам, новым или старым, ко многим из этих последних там уже не воротятся, не захотят и не сумеют воротиться». А у нас, «где не заметно ни такого навыка, ни таких вкусов... имеют ли право разделять это равнодушие? » Но и тут у него проскальзывает меланхолическая фраза, оправдывающая это равнодушие: «Опыт учил не раз, что благодеяния конституционного порядка могут, по крайней мере на некоторое время, ограничиться успехами парламентской риторики, что laissez-faire27 может превратиться в огражденную законом эксплуатацию общества одним классом». Эта фраза, по замечанию Милюкова, «сделала бы честь Прудону и Бакунину»*28. Но благодаря широте ума и мягкости своей натуры, Ключевский остался чужд революционному народничеству29, (хотя оно все-таки, несомненно, отразилось на тогдашних его взглядах): господствующей нотой его политического настроения долго оставался спокойный, мягкий скептицизм.
Но политический скептицизм Ключевского с течением времени, по-видимому, усиливался и в пору политического безвременья конца прошлого столетия принял оттенок глубокой грусти. Об этом настроении Ключевского мы можем судить по его замечательной статье «Грусть», посвященной Лермонтову (напечатана в 1891 г.)30. На эту статью уже обратил внимание С. Ф. Платонов. Однако я позволю себе остановиться на ней несколько подробнее, так как в ней мы найдем и объяснение причин этого настроения.
Лермонтов, по мнению Ключевского, вернее всех других поэтов отразил основное настроение русского народа — грусть; основная струна его поэзии до сих пор звучит в народной жизни. Грусть — это чувство, которое нелегко определить. Когда разрушается идеал, сознается его нелепость, наступает не грусть, а отрезвление. Когда люди признаются недостойными идеала, наступает разочарование, «мировая скорбь». Но грусть — ни то, ни другое. Грусть овладевает человеком, когда идеал остается непо-колебленным, и люди по прежнему кажутся достойными его
* См. статью Милюкова в сборнике «В. О. Ключевский, Характ. и воспомин.», стр. 213-214. Он же вспоминает, что в своих собеседованиях со студентами на политические темы Ключевский «мнения свои высказывал очень уклончиво, чем немало сердил нас». Там же, стр. 195.
и достойными любви — но не видно средств достигнуть идеала. Тогда рождается грусть, в которой мечта о недостижимом согрета любовью к грустной действительности. «В грусти теряют надежду достигнуть желаемого и любимого и даже мирятся с этой безнадежностью, но не теряют ни любви, ни желанья». Это есть «торжество печального сердца над своею печалью, примиряющее с грустной действительностью»: «как часто грустят, чтоб не злиться!» *
Эта грусть, по мнению Ключевского, имеет глубокие корни в русской жизни. Необычайная теплота, искренность и лиризм статьи свидетельствуют, что она вполне соответствовала и личному настроению автора. Но почему? Какой недостижимый, но все-таки непоколебленный, любимый идеал носился перед его умственным взором?
Об этом идеале Ключевский поведал нам как-то вскользь в своей «Истории сословий».
Он устанавливает такую схему «преимущественно сменявшихся общественных союзов»: кровный союз, сословное государство, современное классовое государство и «государство будущего». В кровных союзах правят старейшие по возрасту; современным государством прямо или косвенно управляют более состоятельные. В будущем «может быть, и капитал утратит политический вес, уступив свое место другой силе, например, науке, знанию; по крайней мере, о возможности управлять посредством этой силы давно мечтали многие, мечтают и теперь». Место ценза займут ученые степени, «и в законодательных собраниях депутаты с цензом очистят скамьи для делегатов ученых обществ с дипломами». Прототипом кровного союза является семья; прототипом современного цензового государства — акционерная компания; наконец, будущее государство знания устроится по образцу школы**.
В будущем «государстве знания», разумеется, не нужно будет такого огромного аппарата принуждения, который составляет неотъемлемую принадлежность современного государства. В том же направлении наряду с наукой работает церковь. Она воспитывает людей с целью заменить принудительные требования права свободной потребностью в правде, и когда эта цель будет достигнута,
* «Второй сборник статей», статья «Грусть», гл. обр., стр. 123-127. Ср. статью Платонова в сборн. «В.О. Ключевский. Характ. ивоспомин.», стр. 98.
** История сословий в России. С. 21-22.
«когда эта потребность станет достаточно сильной и общей, тогда исчезнет и нужда в самом праве» *.
В этих упованиях мы поднимаемся на чисто платоновские высоты. Идеал этот стар, как стара политическая философия, и, по-видимому, прочен: ученые всегда будут мечтать, что общество так же внимательно будет слушать их, как слушает их аудитория. Но откуда почерпнуть надежду в его осуществимость?
Ключевский, по собственному своему заявлению, не был оптимистом — оптимизм, как и фатализм, говорит он, не склонен к историческому размышлению. Он исходит из анализа русской действительности, а этот анализ давал грустные выводы. Наша культура — чахлое, слабое растение; и главное — она у нас не сближает людей, не объединяет общества, как в Западной Европе, где она творится дружными усилиями множества лиц и частных союзов. У нас «социальное неравенство еще усиливалось нравственным отчуждением правящего класса от управляемой массы». Западноевропейская культура в России захватила только верхи общества**.
Духовенство наше, которое в глазах Ключевского должно было бы играть важную роль в воспитании народа, оказалось ниже всякой критики. На страницах своего «Курса русской истории» он неоднократно бичует его недостатки в самых резких выражениях: оно не сумело «внушить уважения к себе, ни к храму Божию» и «дело церковно-пастырского воспитания нравственного чувства в народе превратило в полицию совести» ***. Об отношении Ключевского к русскому дворянству мне уже пришлось говорить. Что касается среднего, торгово-промышленного, класса, то у нас его почти нет: попытки Петра I и Екатерины II насадить у нас буржуазию по западному образцу оказались неудачными****.
* Второй сборник статей. С. 114 — статья «Содействие церкви успехам русского гражданского права и порядка». В данном случае Ключевский дальше всего отходит от Чичерина, который утверждал, что право вечно, что нравственный идеал не осуществим принудительно, не осуществим и путем свободы, потому что «свобода добра» всегда останется и «свободой зла». «Философия права». С. 222.
** Курс русской истории. Ч. III.С. 7-8.
*** «Курс рус. истории», ч. IV, стр. 53, 221. Ср. «Курс», ч. II, стр. 355.
'*** ОдНа из мечтаний Екатерины II, говорит Ключевский, были осуществлены после нее так, как она и не мечтала, «а другие были упразднены самою жизнью, как излишние, какова была мысль о создании среднего рода людей в смысле западноевропейской буржуазии». «Второй сборник статей», стр. 303-304 (статья «Императрица Екатерина II» напечатана в 1896 г.).
Но ведь остаются еще многомиллионные народные низы, и прежде всего — пролетариат, новый класс, от которого многие ожидают нового слова, обновления старого мира! Как смотрел Ключевский на эту возможность?
Ключевский был, прежде всего, историк, который знал больше всего прошлое своего народа. А в прошлом народные низы им отнюдь не идеализировались. Мы знаем уже его характеристику малороссийских хлопов и казаков ко времени Богдана Хмельницкого31. Так же сурово он отнесся и к низам московского общества, поднявшимся во время Смуты против господ под предводительством Болотникова32: у них, говорит Ключевский, едва ли можно предполагать что-либо похожее на политическую мысль; они добивались не какого-либо нового порядка, а личных льгот — воли, чести и богатства, причем главным орудием борьбы было попросту истребление высших классов*.
Историческими судьбами русского крестьянства Ключевский очень интересовался и, помимо известных статей «Происхождение крепостного права в России» и «Подушная подать и отмена холопства в России»33, посвятил ему много внимания в «Курсе русской истории». Но нигде Ключевский не идеализировал крестьянина, не возлагая никаких надежд на «крестьянский мир», общину и т. д.
Что касается борьбы пролетариата с капитализмом, то Ключевский не считал ее неизбежной и признавал возможность мирного сотрудничества труда с капиталом. Бывает, говорит он в «Курсе русской истории», что «капитал убивает свободу труда, не усиливая его производительности», но бывает и так, что капитал «помогает труду стать более производительным, не порабощая его»**. О социализме он нигде не говорит ни слова и, как мы видели выше, не предполагает возможности его осуществления.
Итак, анализ культурного состояния русского общества приводил к неутешительным выводам. Пропасть между верхами и низами ничем не заполнялась — среднего сословия не было. В дополнительных лекциях к общему курсу русской истории, читанных в 1883 году, Ключевский так рисует классовый строй современного русского
* «Курс рус. истории», ч. III, стр. 58 и 57.
** «Курс рус. истории», ч. I, стр. 8. Ср. стр. 14. За институтом собственности Ключевский признавал «огромное нравственное влияние» — «на собственности впервые пробовала личность свою силу. Вот почему успехи лица связаны с развитием собственности; история собственности есть история постепенного высвобождения лица из под гнета массы, среди которой оно явилось». «Методология истории», стр. 60.
общества: «Во главе народа верховная власть, сосредоточенная в одном лице; под нею — масса черного народа, которым по поручению верховной власти руководит землевладельческий класс; и между этими тремя силами жмутся сравнительно маленькие переходные слои: чиновничество, духовенство, горожане — жмутся, как бы ожидая, не придет ли кто оправдать их существование»*. «Нравственное отчуждение», говорит Ключевский, начавшись еще в XVII веке, «легло между господами и простым народом, разъедая энергию нашей общественной жизни, дошло до нас и переживет всех теперь живущих» **.
Вот источник грусти Ключевского. Идеал — бесконечно высок, так что и западноевропейская культура вызывает скептическую усмешку у его последователя. А русское общество не только бесконечно далеко от него, но и не имеет основной предпосылки для приближения к нему, для прогресса,— единой культуры как действующей силы...
Это настроение преобладало в 80-х и 90-х годах. В статье, на- -писанной по поводу убийства Г. Б. Иоллоса34, Ключевский писал, вспоминая прошлое: «С покойным Г. Б. судьба свела меня в конце 80-х годов, в памятную тяжелую пору. Мы тогда разделяли с ним много дружеских печальных бесед» ***.
Но вот наступала японская война, а за нею смута 1905 года. Ключевский полностью использовал печальную выгоду этих тревожных дней. Политическое миросозерцание его вступило во вторую фазу и получило яркое воплощение на страницах «Курса русской истории».
Задачей «Курса» Ключевский ставил образование «сознательно и добросовестно действующего гражданина». У каждого поколения есть свои идеалы, для осуществления которых «необходимы энергия действия, энтузиазм убеждения» и неизбежны борьба и жертвы****. Но для «энергии действия» необходима уверенность в осуществимости идеала. И тут платоновский идеал «государства знания» слишком высок, чтобы стимулировать достаточную энергию; он хорош
* Литограф, издание А. Ф. Гартвиха (по экземпляру С.Ф. Платонова, стр. 46).
** «Курс рус. истории», ч. IV, стр. 442.
*** «В.О. Ключевский. Характ. и воспомин.», стр. 124. А.Ф. Кони35 вспоминает, что в первой половине 90-х годов в их беседах с Ключевским по поводу преследований «инако-мыслящих» «в голосе и выражениях Ключевского звучала негодующая скорбь». Там же, стр. 154-155.
**** «Курс рус. истории», ч. I. стр. 38 и 37.
только для ученых мечтателей. Поэтому Ключевский выставляет уже другой идеал, гораздо более элементарный: обеспечение свободы личности и развития народности в форме « народного правового государства». Но для защиты этих сравнительно скромных требований Ключевский нашел необычайно сильный, то вдохновенный, то резко-негодующий язык, которого у него не было для проповеди «государства знания»...
Искра просвещения постепенно разгорается «в осмысленное стремление к правде, т.е. к свободе». Правда и свобода тут синонимы. «Самовластие само по себе противно как политический принцип. Его никогда не признает гражданская совесть». Ошибку Петра он видел в том, что Петр пытался совместить просвещение с полным подавлением свободы. «Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства — это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе не разрешенная». Петр вводил все насильственно, «строил правомерный порядок на общем бесправии, и потому в его правомерном государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживляющего элемента, свободного лица, гражданина»*.
. Этот культ свободной личности как «всеоживляющего элемента» совмещается с культом государства. «Значение народа как исторической личности заключается в его историческом призвании, а это призвание народа выражается в том мировом положении, какое он создает себе своими усилиями, и в той идее, какую он стремится осуществить своею деятельностью в этом положении». Но это «призвание» народ может осуществить, лишь приобретя государственное бытие. «В государстве народ становится не только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения» **.
По поводу этих рассуждений Ключевского об историческом призвании народа проф. В. М. Хвостов замечает, что в них, пожалуй, «сквозит скрытая метафизика»***. Такая осторожность выражений здесь мне кажется совершенно излишней. Тут перед нами не скрытая, а вполне явная и совершенно определенная метафизика — именно гегельянская. Поэтому совершенно неправильна
* «Курс рус. истории», ч. IV, стр. 293 и 476.
** «Курс рус. истории», ч. I, стр. 35 и 12.
*** Хвостов, «Нравственная личность и общество», очерк VII — «Историческое мировоззрение Ключевского», М., 1910, стр. 237.
попытка Б. И. Сыромятникова противопоставить Ключевского как историка-реалиста старой метафизической, национально-государственной школе Соловьева и Чичерина. Ключевского нельзя отрывать от этой школы; он развивает, а не отрицает взгляды своих великих учителей*.
Корни его политической идеологии восходят к одному из тех двух общественных течений в русском прошлом, которые, по выражению Ключевского, «как речки в песчаной пустыне, всего более оживляли вялую общественную жизнь» — ум Ключевского воспитался в идеях «западничества». И именно после 1905 года Ключевский стал гораздо более определенным западником, чем был раньше. Смутные дни заставили его искать прочной идеологической базы для ответа на жгучие вопросы дня, и он нашел ее в той социальной философии, которая была воспринята им в годы учения, но затем затемнилась другими влияниями, господствовавшими в конце XIX века.
Правда, сам Ключевской старался сохранить видимость нейтралитета между славянофильством и западничеством, утверждал, что тут было просто «разделение труда». В «Курсе русской истории» он захотел «мимоходом отметить привлекательные особенности обоих направлений. Западники отличались дисциплиной мысли, любовью к точному изучению, уважением к общему знанию; славянофилы подкупали широкой размашистостью идеи, бодрой верой в народные силы и той струйкой лирической диалектики, которая так мило прикрывала в них промахи логики и прорехи эрудиции» **. Тут сразу видно, что оценка обоих направлений, с точки зрения ученого, очень различна: в западниках указываются черты крайне ценные в научной школе; напротив, отзыв о славянофилах столько же насмешлив, сколько добродушен. Вот почему я не могу согласиться с Милюковым, что «на стороне западников лежит ум Ключевского», а «к славянофильству он склоняется сердцем» и что он «сумел сочетать в одном высшем синтезе их привлекательные особенности» ***. Когда идет вопрос о преемственности идей и о научных школах,
* Это убедительно доказывают Любавский и Богословский36 в сборнике «В.О. Ключевский. Характ. и воспомин.». Статья Сыромятникова — там же (см. стр. 83). Но я не совсем согласен с формулировкой Любавского, что «экономист Ключевский не отрицал, а только дополнял юриста Соловьева» (там же, стр. 54). Конечно, Ключевский обращал больше внимания на экономику, чем Соловьев; но он был все-таки больше юристом, чем экономистом, и юристом он был более, чем Соловьев.
** «Второй сборник статей», стр. 12, «Курс рус. истории», ч. Ш, стр. 337.
*** «В.О. Ключевский. «Характ. и воспомин.», стр. 200.
противопоставление «ума» и «сердца» едва ли уместно. Конечно, Ключевский мог с одинаковой симпатией относиться к представителям обоих направлений. Он мог сочувствовать настроению славянофилов, их бодрой вере в народные силы (которой у него самого не было). Но как учений он не мог следовать направлению, в котором ему ясны были «промахи логики» и «прорехи эрудиции». И анализ исходных посылок и приемов исторического исследования Ключевского ясно указывает на связь их с западничеством.
Чтобы показать, как далек был в этом отношении Ключевский от славянофильства, я и приведу сначала длинную цитату из статьи • одного из виднейших славянофилов, К. Аксакова, написанной по поводу VII тома «Истории» Соловьева. «Человеку как общественному лицу и как народу предстоит путь внутренней правды, совести, свободы, или путь правды внешней, закона, неволи. Первый путь есть путь общественный, или, лучше, земский; второй путь есть путь государства. Первый путь есть путь истинный, вполне достойный человека». Но удержаться на нем трудно — «для Тех, которым совести мало, мало суда внутреннего, нужен суд и наказание внешнее. Человек прибегает к другому пути. Заманчив этот путь, гораздо, по-видимому, более удобный и простой: внутренний строй переносится во вне, свобода, источник которой внутри человека, понимается только как порядок, наряд, устройство, институт; основные начала жизни понимаются как правило; совесть понимается как закон. Это путь не внутренней, а внешней правды, не совести, а закона. Начало, лежащее в основе такого пути, есть начало неволи, начало, убивающее жизнь и свободу... Таков путь государства...
Путем государства пошла Западная Европа... Славянские народы представляют нам иное начало общины. Славянские народы, русский народ по преимуществу есть народ безгосударственный. История застает их в состоянии общины, следовательно, уже в высокой степени человеческого совершенства, ибо состояние общины не есть естественное состояние (такое состояние был бы родовой быт, которого и следов история у славян не находит)... На Западе государство — это принцип, идеал народов. В славянском мире государство — неизбежная крайность, средство ради несовершенства человеческого рода» *.
Тут, прежде всего, бросается в глаза резкое отрицание государства: начало государства есть неволя, оно убивает жизнь и свободу;
* Аксаков К.С. По поводу VII тома истории России г. Соловьева / Сочинения. М., 1883., стр. 242-243.
свидетельством особых духовных сил русского народа признается, что он народ безгосударственный. У Ключевского, как мы уже знаем, напротив, государство необходимо для образования и развития народности; только в государстве племя, естественный союз, становится народом, определенной «исторической личностью»; государство (наряду с церковью — тоже внешней, принудительной организацией) признается важнейшим фактором культуры и развития общежития.
Для славянофилов государство заменяется другим союзом — общиной, исконным явлением славянского мира. Известно, что вопрос о происхождении русской крестьянской общины был одним из коренных пунктов расхождения между историками-славянофилами и западниками; полемика по этому поводу между Чичериным и Беляевым очень характерна. На чьей же стороне в этом споре оказался Ключевский?
В «Методологии истории» мы находим совершенно определенный ответ. Критикуя мнение Мэна37, что русская община древнее индусской, он говорит, что «наша поземельная община, как известно (sic!), самая поздняя в мире и создана чисто искусственно... ее создали в XVII веке две чисто политические силы: помещик — крепостной владелец и дьяк финансового управления»*. Таким образом, Ключевский считал спор в общем решенным в пользу Чичерина.
Известно, какое значение придавали славянофилы земскому собору как самобытному явлению русской истории, смысл которого заключался в обнаружении свободного голоса народа, земли: «Царю — сила власти, земле — сила мнения». Напротив, западники, во главе с Чичериным, указывали на сходство земских соборов с западноевропейскими сословными собраниями и подчеркивали слабость и неразвитость первых по сравнению со вторыми. В статье «О составе представительства на земских соборах» (посвященной Чичерину) Ключевский примкнул опять-таки к западникам, заявив, что ему «предстоит не перерешать вопрос, а только продолжить его решение», выяснив социальный состав земских соборов. Выполненная им кропотливая работа над выяснением этого вопроса привела его к выводам, уничтожающим самые задушевные верования славянофилов. Оказалось, что в XVI веке соборы были всего только «совещанием правительства с своими собственными агентами», что собор восполнял недостаток рук, а не воли и мысли**.
* «Методология истории», стр. 135.
** Первый сборник статей. С. 474 и 586.
Но все это все-таки детали... Коренное расхождение со славянофилами ясно обнаруживается в историческом методе Ключевского. Действительно, он берет в основу исследования политические и экономические факты, облеченные в известную юридическую форму. Но ведь это — путь «внешней правды», путь государства, которое «каменит» народ законом, учреждением, определенным порядком. Русский народ не пошел по этому пути, он народ безгосударственный, и, следовательно, познать его душу по этим внешним проявлениям нельзя. Но Ключевский был историк-юрист по своему методу и думал проникнуть в самые глубокие основы русского прошлого, изучая его юридические памятники.
Любопытна та критика славянофильских взглядов на общественные классы в истории, которая дается Ключевским в «Истории сословий». У славянофилов, говорит он, термин «народ» покрывал собою общество, а под «народом» они разумели преимущественно или исключительно простонародье. Но нельзя было отрицать того очевидного факта, что в русской истории из народной массы выделялись высшие слои. Из этого противоречия выпутывались или утверждая, что высшие классы не отрывались от народа нравственно, проникались одинаковым духом, или же, напротив, уверяя, что высшие классы оторвались от народа и стали отщепенцами, изменившими народным началам и ставшими поэтому чуждым фактом в истории народа. «Честь единодушия всецело падала на народ, а ответственность за антагонизм возлагалась на высшие классы. Сообразно такому взгляду, главным источником изучения истории общества выбирались не памятники права, а либо предания о массовых, гуртовых движениях народа, либо жалобы древнерусских публицистов на неправды высших сословий по отношению к народу» *.
Идеал славянофильской «правды», как известно, «не влезал в формы узкие юридических начал». Тон «Курса русской истории», где все время чувствуется протест против «самовластия» во имя свободных политических, «внешних», форм, есть антитеза славянофильству.
* История сословий. С. 28-29. В «Дополнениях» к общему курсу русской истории, читанных Ключевским в 1882 г., к этим, приведенным в тексте, рассуждениям прибавлена фраза: «Такого направления держаться известные славянофилы, держаться и их позднейшие последователи» — тут, очевидно, разумеются народники (Литорафированное издание лекций Ключевского А. Б. Гартвиха. С. 45).
Очень показательна для характеристики отношения Ключевского к славянофильским идеалам речь его, посвященная «памяти в Бозе почившего Государя Императора Александра III»38. Ключевский оценил «историческое содержание» этого царствования как глубокий перелом в отношении западноевропейских народов к русскому и русского к ним — перелом в высшей степени важный для судеб цивилизации. «Еще при Александре II мы мирно совершили ряд глубоких реформ в духе христианских правил, следовательно (sic!), в духе европейских начал». При Александре III Западная Европа «признала Россию органической, необходимой частью своего культурного состава, природным членом семьи своих народов» *. Таким образом, вольное или невольное сближение с Западом представлялось Ключевскому главной заслугой царствования Александра III, этого «царя-националиста», постепенно перешедшего от декоративного славянофильства к грубому «истинно-русскому» национализму с его триединой формулой: «самодержавие, православие, народность».
Конечно, политическое миросозерцание Ключевского не было простым повторением старого западничества. Всякая политическая идеология развивается, имеет свою историю. Сущность этого развития хорошо выясняется сопоставлением взглядов Ключевского со взглядами Чичерина. Исходные пункты своего политического миросозерцания Ключевский заимствовал у последнего. Самое определение государства дается Ключевским по Чичерину: основными элементами его он считает верховную власть, народ, закон и общее благо**. Для нас, юристов, этот перечень звучит несколько странно; мы привыкли считать три (а не четыре) элемента государства — народ, территорию и верховную власть. У Чичерина заимствовано также отождествление «правды» и «свободы» и вообще культ свободы личности***.
Но между ними есть и очень существенная разница. Чичерин видел в цензовом конституционализме последнее слово политического развития, и всякий шаг к дальнейшей демократизации госу
* Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1894. Кн. IV. С. 4-7.
** Курс русской истории. Ч. III. С. 15. Определение Чичерина: «Государство есть союз народа, связанного законом в одно юридическое целое, управляемое верховной властью для общего блага» (Курс государственной науки. Т. I. С. 3).
*** Основание «правды» заключается «в признании лица самостоятельной целью и свободным деятелем во внешнем мире». «Корень всякого права есть свобода лица» (Философия права. С. 104).
дарственного строя казался ему признаком упадка. Демократия, утверждал он, «никогда не может быть идеалом общежития». Идеалом его был союз трех аристократий: аристократии родовой, денежной и умственной*. Идеалом Ключевского было демократическое, «народное правовое государство». И я думаю, что демократом Ключевский был не только потому, что происходил из глубоко-демократической среды. Политическое миросозерцание Чичерина рано остановилось в свое развитии и затем как бы окаменело. У Ключевского был совершенно другой склад ума — гибкий и чрезвычайно чуткий. Для него не прошло бесследно новейшее развитие политических учреждений цивилизованного мира в духе их демократизации. Он умел учиться у событий.
Ключевский не переоценивал значения перехода России к конституционному строю. Говоря об обещании указа 12 декабря 1904 года, он замечает, что около них «все еще, спустя половину десятилетия, уже при существовании народного представительства, ведется ожесточенная борьба непримиримых между собой общественных классов и политических понятий» **. Умиротворение общества не достигнуто; политическая борьба продолжается; но ей поставлены определенные цели, и она признается необходимой.
В общем, смысл эволюции политического миросозерцания Ключевского можно вкратце передать словами: «С небес на землю» . Первоначально идеал был настолько высок, что можно было не обижаться на людей, неспособных осуществить его. Поэтому Ключевский не сердился, а только грустил. Все политические достижения Западной Европы, всякие конституционные свободы и парламенты, казались мелкими, ничтожными, не стоящими особых усилий.
Но внешние факты «вразумили» тех, кто способен был на политическое размышление. Они доказали ценность этих благ западноевропейской культуры. Пусть они не устанавливают идеального состояния; пусть совершенно недостаточны с точки зрения отвлеченного морализма. Этим отвлеченным соображениям, по красивому выражению проф. Новгородцева39, русское общество могло противопоставить « непосредственное чувство людей, задыхающихся от недостатка воздуха и света». Конечно, жить в светлом и просторном доме не значит еще иметь все, что нужно для полноты
* Философия права. С. 276. О «возрождении аристократии» см. «Курс государственной науки». Т. II.С. 424-425.
** «Краткий обзор рус. истории», изд.8-е, М., 1917, стр. 228.
человеческого существования; но это такое наглядное и бесспорное благо, за которое стоит бороться*.
На этом я кончаю свой доклад. Тема его отнюдь не исчерпана; но я и не стремился к этому. Моей задачей было обрисовать в общих чертах значение и место Ключевского в развитии русской общественной мысли и выяснить самые основы его социальной философии. Взгляды Ключевского особенно интересны с точки зрения настоящего момента, когда рушились старые идеалы и старые верования, и ход событий «вымогает» новые понятия. Но основа всей культуры — в преемственности развития; поэтому выработку новой социальной философии надо начинать с разбора той, которая завещана нашими учителями. И я позволю себе заключить доклад словами Чичерина: «Наука только тогда идет твердым шагом и верным путем, когда она не начинает каждый раз сызнова, а примыкает к работам предшествующих поколений, исправляя недостатки, устраняя то, что оказалось ложным, восполняя пробелы, но сохраняя здоровое зерно, которое выдержало проверку логики и опыта» **.
* Новгородцев, «Кризис современного правосознания», стр. 5.
** Чичерин, «Философияправа», стр. 24.
А.Е. ПРЕСНЯКОВ
В.О. Ключевский
(1911-1921)
Десять лет прошло со времени кончины В. О. Ключевского (ум. 12 мая 1911 г.). Это десятилетие, насыщенное глубокими и сложными общественными переживаниями, отодвинуло много идеологических элементов нашей общественности, интересов и отношений в область изжитого прошлого; образами прошлого стали и типы, недавно столь современные.
Про Ключевского так не скажешь. Он живой, современный писатель; читают его и перечитывают, по трудам его учатся и над ними размышляют не только люди старших поколений, вполне сложившиеся в его время, но и нынешняя молодежь; и, по-видимому, томики сочинений Ключевского еще долго будут жить в составе текущей «чтомой» литературы. Если верно, что «изучать» по настоящему можно только то, что более или менее отдалено от нас в законченной перспективе, то изучать Ключевского, пожалуй, еще преждевременно. Однако тотчас после его кончины стала слагаться пока небольшая, но весьма ценная литература о нем, которая дает наряду с воспоминаниями и чертами личной характеристики попытки определить то новое, что внес Ключевский в наши исторические воззрения, и те влияния, под которыми слагались приемы и схемы его научного мышления, а также уловить особенности его крайне своеобразного восприятия жизни, прошлой и настоящей, его подхода к людям и к общественным явлениям. Изучение Ключевского задача весьма сложная. Она выходит далеко за пределы каких-либо историографических проблем. Если Ключевский прежде всего историк, то на очереди, казалось бы, задача подвести итог завещанному им вкладу в приобретения исторической науки. Но Ключевский не исследователь отдельных явлений. Его монографические этюды всегда связаны с глубокими и сложными
проблемами исторической жизни, носят характер экскурсов, подготовляющих или развивающих широкого общее построение. Это только отрывки большой и непрерывной общей работы над русской исторической жизнью в ее целом. А в общей концепции этой жизни Ключевский примкнул, по крайней мере формально, к установившейся в русской историографии традиции, творчески ее перерабатывая, но с нею не порывая. «Соловьев и Ключевский», «Ключевский и Чичерин» — таковы темы, которые естественно выступили на очередь при первых же попытках разобраться в его научно-литературном наследии; к ним Н. Г. Любомиров1 добавил, на основании тщательного изучения по студенческим записям первых редакций, университетского курса Ключевского, указания на его связь с Забелиным и Щаповым. Но если отчасти, и даже в значительной мере, верно, что Ключевский явился и в «Боярской думе» и в «Курсе русской истории» — «как бы вторым творцом научных теорий, высказанных до него», то все-таки как ни характерна для Ключевского его зависимость от историографической традиции, не в этом, конечно, ценное существо «нашего» Ключевского — насквозь оригинального, яркого, своеобразного. Самая зависимость эта, особенно от Соловьева, обусловлена, видимо, тем, что натуре Ключевского, по существу, схематические конструкции были весьма чужды. В одной из интереснейших своих памяток о Ключевском М.М. Богословский отмечает «сильное и тонкое, но всегда конкретное мышление» как характерную особенность своего учителя и добавляет, что «отвлеченная работа мысли была ему чужда, он обладал слишком сильным воображением, он был слишком художник для абстракций, самый его язык был слишком образным для передачи отвлеченных понятий». Но «схема» была нужна, «схематизация» была необходима для общего университетского курса, а «Курс русской истории» оказался в центре всей работы Ключевского, его влияния и значения. Ключевский мастерски овладел ее техникой, но она никогда не лежала в основе его исканий и его научного творчества, как, например, у Соловьева, а скорее связывала его и стесняла как неизбежный прием изложения.
Поэтому попытка отвлечь от этого изложения общую концепцию или общую теорию исторического процесса, в частности местного, русского, реконструировать «систему» исторических воззрений Ключевского было бы задачей мало благодарной и едва ли правильной: сам Ключевский такой «системы» не строил, а лишь в меру педагогической необходимости высказывал ряд общих соображений во введении к курсу или попутно, в иных его частях. Ключевский
слишком сложен, чтобы подходить к нему с обычными шаблонами обзоров «русской историографии» ради простого учета результатов его специальной ученой работы и общих исторических построений. Можно, конечно, сказать, что в этой специально-ученой области его значение весьма велико, что его труды, особенно «Боярская дума» и «Курс русской истории», занимают свое определенное место в развитии русской исторической литературы. Можно полнее раскрыть содержание такого общего суждения перечнем вопросов, которым Ключевский дал новую постановку и свое решение, возбудив в то же время усиленную работу над ними, чем мощно двинул вперед к новым успехам наше историческое знание. Можно, в итоге рассмотрения научного наследия Ключевского, обосновать вывод, что труды его, как всякое исключительно крупное историческое явление, составляют рубеж двух эпох в своей области, завершая целый период русской историографии, так как в них исчерпана соловьевская традиция, а тем самым освобождена русская историческая мысль для более свободной и широкой работы вне связанности ее преданием, которое стало шаблоном. Но все это не исчерпает представления о подлинном значении Ключевского и об особенностях его творчества. Крупным историческим явлением были не только его труды; под это понятие подходит и сам он в своей богатой и сложной индивидуальности. Про ученую работу, большую, напряженную и значительную, часто говорят, как про «подвиг». Вчитываясь в труды Ключевского, особенно в его «Курс», живо чувствуешь своеобразное подвижничество неустанной борьбы яркого жизненного и конкретного восприятия и творческого, эмоционально насыщенного воображения с неизбежными веригами схематизации и точных, чеканных формулировок. Ключевского часто называют великим мастером в построении исторических схем и четких определений. Но нелегко они ему давались. Напряженность сказывается в самой словесной их оболочке: подбор слов и их сочетание искусственны, часто вычурны и производят такое впечатление, точно только прикрывают мнимо-логичной формулой зажатый в них яркий бытовой образ или целую бытовую картину. Богатый любовной начитанностью в документальных и литературных источниках, сйльный проникновенным восприятием былых отношений, настроений, типов, бытовой обстановки, Ключевский в построении примыкал к схемам и формулам Соловьева, отчасти и Чичерина, вкладывая в них обычно совершенно иное и новое содержание. Он любил смиренно подчеркивать перед аудиторией свою зависимость от Соловьева; отсылал слушателей к «Истории России»
Соловьева словами: «Там вы найдете те же взгляды; я передаю вам то, что получил от Соловьева; я — ученик Соловьева, вот все, чем я могу гордиться как ученый». И не раз заявлял он (так сообщает М. М. Богословский), что его лекции должны служить только дополнением к учебнику Соловьева, который содержит изложение основных сведений по русской истории. Поэтому он считал возможным подробнее останавливаться на некоторых исторических моментах и явлениях, касаясь других только мимоходом, а за пополнением отсылать либо к учебнику Соловьева, либо к его большому труду. Это внешнее условие развития «Курса» Ключевского существенно для понимания, как он постепенно сложился: «Курс, читанный Ключевским,— замечает М. М. Богословский,— представлял собой ряд отдельных законченных исследований, из которых создавалась, однако, стройная общая схема». Такая схема слагалась постепенно по мере чтения «общего курса», путем переработки остова, данного Соловьевым, под давлением нового и нового изучения Ключевским отдельных исторических явлений.
Все ярче и глубже сказывалось различие в самом восприятии прошлого у Соловьева и Ключевского. Ведь не будет преувеличением сказать, что трудно найти более противоположные натуры, уклады мировоззрения, темперамента и дарования, чем Соловьев и Ключевский. По-видимому, это различие характеров и связало их крепкой связью: они как бы дополняли друг друга. Соловьев, «возвышенно настроенный (вспомним, что Ключевский отмечает «морализм» как характерную черту Соловьева), любил отдыхать от этого напряжения нравственного сознания в проникнутых юмором и сарказмом рассказах своего ученика». А ученик, впечатлительный ко всему конкретному и яркому в изучаемой им старине, бравший ее, прежде всего, с образной, художественной стороны, поддавался обаянию неуклонно-логичной мысли учителя, схематизирующей свое содержание в строгих и стройных формулах. Но в глубине своих переживаний и интересов Ключевский, несомненно, подошел к своим научным заданиям с решительно иными запросами, чем те, какие ставила традиция Соловьева. В начале труда о «Боярской думе», на тех его страницах, которые не вошли в отдельное издание, а погребены (к сожалению) в журнале «Русская мысль» за 1880 год, Ключевский как бы порывает с этой традицией. «В истории наших древних учреждений, читаем тут, остаются в тени общественные классы и интересы, которые за ними скрывались и через них действовали»; рассмотрена прежней литературой только «лицевая сторона»
старого государственного здания, но остается еще изучить «социальный материал», из которого оно построено: «Тогда, быть может, и процесс образования нашего государственного порядка и значение его правительственных учреждений предстанут перед нами несколько в ином виде, чем как представляются теперь». В наследии историко-юридической школы Соловьева и Чичерина Ключевский видит «диалектическую схему», которая выражает лишь «смену начал, развитие идеи государства, точнее, идеи государственной власти, а не самого государственного порядка». Эти строки должны были произвести впечатление выступления в русской историографии нового исторического мировоззрения, которое идет на смену старому, соловьевскому. По существу оно так и было. Ключевский подходил к русскому прошлому с иным настроением, с иными исканиями, с потребностью в принципиально ином общем построении исторического процесса, чем его учителя, корифеи «юридической» школы. Соловьев был историком русской государственности. Подойдя к изучению русского исторического процесса с готовой схемой постепенного перехода родового быта в быт государственный, он, на деле, применил теорию родового быта не как социологическую схему, объясняющую строй народной жизни, а как исходную точку развития древнерусских политических форм, организующих народную жизнь воздействием на нее «правительственного начала». «Родовой быт» у Соловьева — первичная форма отношений в кругу владетельного княжеского рода. Процесс разложения родового быта и его перехода в отношения государственные, как изображал его Соловьев, совершался собственно в правящей среде; стадии этого процесса — моменты в развитии русской государственности. Поэтому смена систем династических отношений и династического права получила в построениях Соловьева значение важнейшей стороны русской исторической жизни, потому что так выясняется история власти, которая руководит и внешними, и внутренними судьбами страны, строит государство и организует общественные классы. В представлении автора «Истории России с древнейших времен» эту историю творит правительственная сила, создает самый народ русский из косного этнографического материала.
Историки, поучал Соловьев, «должны изучать деятельность правительственных лиц, ибо в ней находится самый лучший, самый богатый материал для изучения народной жизни», и пояснял, что «подробности, анекдоты о государях, о дворах, известия о том, что было сказано одним министром, что думал другой, сохранят
навсегда свою важность, потому что от этих слов, от этих мыслей зависит судьба целого народа и очень часто судьба многих народов».
Все это весьма далеко от основных воззрений и настроений Ключевского, который в «Боярской думе» дал историю не столько учреждения, сколько боярского класса, а в «Курсе» вносит столько иронии и сарказма в характеристику и оценку правящих лиц и правительственных кругов. И тем не менее едва ли Ключевский намеренно преувеличивал свою зависимость от Соловьева. Он ощущал ее, по-видимому, столь же крепко, как признавал на словах. Можно, кажется, сказать при этом, что она была ему не легка. Пересказ, в статье «С.М. Соловьев»2, исторического построения учителя, изложение того ряда его мыслей, большая часть которых, по признанию Ключевского, «стала теперь достоянием нашего общественного сознания», звучит сдержанным, невысказанным, но сильным протестом, который сказывается в самой утрировке соловьевских формул.
Крайне сложно, внутренне-противоречиво все отношение Ключевского к столь ценимому им наследию Соловьева. В своих монографических исследованиях он идет иными, новыми путями. В отношении к «правительственному элементу», к его роли в русской жизни — он антипод Соловьеву. Даже принятые им построения и обобщения Соловьева получают столь иное содержание, что в корень перерождаются в самых основах своего смысла и значения. Так, прежде всего, Ключевский метко уловил ту особенность «теории родового быта», что она у Соловьева применима только к междукняжеским отношениям, и признал поэтому «родовые отношения» следствием «своеобразного положения династии», чертой «своеобразного политического порядка», который он и определил как «очередной порядок княжеского владения», чуждый строю народного быта. Как в этом случае, так и в ряде других, Ключевский работает по своему над построениями Соловьева, в корень их преображая и вкладывая в них свое, новое содержание. И тем не менее это содержание вкладывается им в соловьевские схемы, приспособляется к ним, хотя и тесно вину новому в мехах старых. И вся общая соловьевская схема распадается в переработке Ключевского на части, теряет свою стройную законченность и внутреннюю связность. А все таки она еще держится, определяя и связывая его собственные построения и все его изложение. Ряд ее элементов, и притом основных, сохранен и лишь частично переработан: порядок княжеского владения в Древней Руси, понятие удела как собственности, представление о колонизации верхневолжской Руси как основе нового
политического порядка, собирание земли под властью Москвы частноправовыми приемами прикупа и иных примыслов — все это элементы соловьевского наследия, обусловленные предпосылками и приемами его общей историко-юридической концепции русского исторического процесса. Они преображены у Ключевского в ярких картинах быта и конкретных характеристиках главных моментов русской исторической, жизни, но не переработаны до конца с той полной свободой личного отношения к первоисточнику, которая j так дорога в его монографических этюдах.
Ключевский и сам пристально и вдумчиво анализировал силу • влияния Соловьева на дальнейшую русскую историографию, в кото- рой был признанным его преемником. Необычайно содержательно ;; и метко указывал он на то, что дело не только в соловьевских схемах и формулах. Эта сила Соловьева в том, что он «первый пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося от жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII века» и «вынес на свет наличность уцелевших фактов нашей истории», поэтому, так заключал Ключевский, «даже при успешном ходе исторической критики в нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал Соловьев: исследователи долго будут их черпать прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первоисточникам». И действительно, «История России» Соловьева служила, в частности для «Курса» самого Ключевского, богатым источником готовых фактических данных, хотя бы материал этот был у него иначе использован, истолкован и освещен по своему. Переживая на себе эту сторону влияния Соловьева, Ключевский отчетливо сознавал все ее методологическое значение. Историческое мышление Соловьева, цельное и мощное, определи-тельно подчиняло себе при пользовании данными, им собранными, не только восприятие и анализ содержания источников, но и построение и комбинирование извлеченных из них сведений в самом фактическом изложении; так, влияние Соловьева не давало полной свободы в чтении текстов, в подборе данных, в построении «фактов» из данных первоисточника. Ключевский глубоко понимал это, поясняя, что «факт» не есть в историческом труде нечто объективное и безличное: «Исторические факты,— писал он в одной из своих монографий,— по существу своему выводы, обобщения рпределенных явлений, сходных по характеру; они — то же, что понятия в логической сфере; подобно последним они могут разниться по своей широте, по количеству обобщенного в них материала,
но, подобно последним же, они всегда должны сохранять логическое соответствие своему материалу». Поэтому вполне самостоятельное и свободное научное творчество исследователя требует непосредственной работы над источниками, вне преломления их данных через призму чужого исторического воззрения. «Курс русской истории» В. О. Ключевского и слагался постепенно в борьбе его личного творчества с идейным, методологическим и фактическим влиянием Соловьева. Глубоко ценя наследие Соловьева, Ключевский, однако, переживал эту борьбу за проявление своей богатой творческой индивидуальности весьма напряженно. Близкие ему ученики сообщают, что Ключевский, по крайней мере в течение известного периода, относился к необходимости читать общий курс русской истории с значительной долей страдания». Долго и упорно отказывался он от предложений сделать этот курс достоянием печати. «Мой общий курс,— пояснял он в кругу близких людей,— сделка между моей ученой совестью и сознанием обязанностей педагога»; он находил материал русской истории еще недостаточно разработанным для широких общих построений и фактическую, самостоятельную обоснованность всех отдельных утверждений недостаточно полной для публикаций «Курса». По-видимому, самое согласие Ключевского, под конец его жизни, напечатать этот «Курс» вызвано было в значительной мере широким распространением произвольных литографированных изданий, к которым он относился с такой нервной нетерпимостью.
Научно-литературное творчество В.О. Ключевского станет со временем, надо полагать, предметом монографического изучения. Такое изучение выяснит, между прочим, особое значение, какое имело во внутренней драме этого творчества указанное самим Ключевским сложное противоречие между «ученой совестью» и «обязанностями педагога». Недаром Ключевский ответил в 1896 году на приветствия в Духовной академии по случаю двадцатипятилетия своей профессуры «одушевленной речью о призвании профессора и служении научной истине». Познать минувшую жизнь, какой она была, понять ее в ее духе и истине, подслушать ее биение в мыслях и настроениях людей прошлых времен, представить ее определенно и ясно, конкретно и образно по ее отражениям в текстах письменности и в формах материальной культуры, связать и осмыслить это углубленное изучение анализом общественных и политических отношений и синтетическим представлением о социальном строе и политической организации страны в изучаемую эпоху — словом, восстановить возможно
цельную и научно-правдивую картину этой минувшей жизни было основным заданием Ключевского в его служении «научной истине». Его представление о ходе русской исторической жизни слагалось из ряда таких характеристик отдельных исторических моментов или периодов, изученных, по возможности, каждый в законченном исследовании. А в состав «общего курса» эти составные части входили как элементы схемы, заимствованной у Соловьева и постепенно претворяемой в новой форме. Так строилось в неустанной работе мысли и изучения здание «русской истории Ключевского, здание, которое осталось, по существу и по собственному сознанию строителя, недостроенным. Иначе и не могло быть. Как бы ни были велики силы отдельного ученого, состояние науки русской истории таково, что пройти все основное ее содержание «законченными исследованиями» превышает возможности одной человеческой жизни.
Личные особенности многогранного дарования манили Ключевского к проникновенным и широким обобщениям, но не отвлеченным, а насыщенным конкретностью, непосредственным трепетом минувшей жизни. Интимно понятными должны были быть для него такие суждения, как отзыв А. А. Иванова3, что «художнику нужны материалы, как они существуют», и поэтому у Карамзина «все, что сзади текста, в конце книги, то лучше самой книги», в которой «прекрасным русским слогом, очень вежливо и учтиво, выглажены все остроты, оригинальности и резкости»; или афоризм Пушкина, записанный Смирновой4: «Историческая правда есть настоящая иллюзия, заключающаяся в самой жизни». Общение с памятниками прошлого было любимым занятием Ключевского, и был он необычайно чуток к «оригинальностям» подлинных текстов. Отдаваясь этому чутью подлинной жизни, отразившейся в исторических документах, он любил с их помощью раскапывать жизненный «мусор», как иногда выражался про бытовые детали, так как в них порою лучше вскрываются подлинные черты минувшей жизни. Прирожденную наблюдательность свою Ключевский развил до редкого уменья уловлять в источниках мельчайшие черты исторически ценных намеков и указаний, работая над такими материалами, как сказания иностранцев о Московском государстве5 и древнерусские жития святых. Особенно эта последняя работа, создавшая магистерскую диссертацию Ключевского («Древнерусские жития святых как исторический источник», 1871), имела большое значение в научно-литературном творчестве Ключевского. Изучение обширного рукописного материала житийных текстов не оправдало первоначальных надежд исследователя. Он не нашел тут ни тех
обильных данных для истории колонизации, на какие рассчитывал, ни вообще значительного богатства фактических сведений. Кропотливая работа скорее филолога-археографа, чем историка, над критическим разбором рукописного сырья списков и редакций стала тяготить своим формальным и часто мелочным характером. Утомление, почти досада звучат иногда между строк изложения ее результатов; «с тяжелым чувством вспоминал он впоследствии годы, проведенные за изучением житий древнерусских святых, говаривал даже подчас, что результаты не были соразмерны потраченным на них усилиям», сообщает М. К. Любавский. Однако результаты этого труда оказались весьма значительными в других отношениях. Ключевский создал книгу, ценную, прежде всего (кроме ее осведомительного, так сказать, справочного характера), как исследование историко-литературное. Ключевский разносторонне и тонко обследовал тот вид литературного творчества, какой представляет житийная письменность, установил основные вехи истории литературной формы жития, выяснил ее свойства и технику. Как историк, ожидавший найти в житиях существенный источник исторических сведений, он тяготился, во время работы, тою особенностью своего материала, что «трудно, говоря его же словами, найти другой род литературных произведений, в котором форма в большей степени господствовала бы над содержанием, подчиняя последнее своим твердым неизменным правилам». Но самый подход к житийной письменности как к материалу историко-литературному, с полной свободой от казенно-церковного взгляда на них, был делом весьма существенным, и С. И. Смирнов, посвятивший этому труду Ключевского особый этап6, справедливо подчеркивает, что «книга о древнерусских житиях соответствовала как раз тому критическому направлению в церковной истории, которое было создано А. В. Горским и которое составляет бесспорную заслугу Московской духовной академии». И самому Ключевскому, помимо всяких его разочарований, работа над житиями была тем дорога, что глубоко вводила в разумение идейных настрое(йгй и книжного творчества, а также многих бытовых особенностей старой Руси, столь ему интересных и близких как выходцу из духовной среды и любителю русской бытовой старины. «В житиях жизнь,— говаривал он позднее,— которой вы не найдете в актах», и много черточек этой жизни, уловленной в житийных текстах, нашло свое отражение в разных местах его «Курса» и других трудов. Можно сказать, что начитанность в этих текстах немало обогатила палитру историка-художника, а их изучение дало ему повод определить
свое отношение к памятникам художественной литературы как к историческим источникам своеобразной ценности, отношение, столь характерное для позднейших статей и речей Ключевского о литературных и общественных типах различных эпох. Тонкая и меткая характеристика житийной литературы в 34-й лекции «Курса» существенно оживляет и освежает сказанное с ней в заключительной главе магистерской диссертации и составлена в иных тонах.
Столь же живо и чутко подходит Ключевский к изучению актового материала. Изучение деловых документов вводит его «в бур-. ливый поток гражданских интересов и отношений», ставит лицом к лицу с суровым механизмом гражданского общежития, который двигают «жестокие железные рычаги: черствый эгоизм, слепой инстинкт, суровый закон, обуздывающий порывы того и другого» ; но иногда среди стукотни этого механизма вдруг послышится наблюдателю звук совсем иного порядка, запавший в житейскую разноголосицу откуда-то сверху, точно звон колокола, раздавшийся среди рыночной суматохи: в ветхом и пылком свитке самого сухого содержания, в купчей, закладной, заемной, меновой или духовной, под юридической формальностью иногда зазвучит нравственный мотив, из-под хозяйственной мелочи блеснет искра религиозного чувства», и Ключевский ловит эти случайные намеки, как драгоценные следы духовной жизни изученной эпохи.
Собирая отовсюду, по мере разраставшейся все шире и шире работы над первоисточниками, такие разрозненные и разнообразные впечатления и наблюдения, Ключевский чутко и вдумчиво впитывал их в свое представление о былой жизни и претворял их творческим воображением в возможно цельную ее картину. На широком и сложном основании постоянного изучения и собирания данных строились его выводы и заключения, но, по-видимому, глубокие и характерные особенности его синтетического дарования делали для него ненужным и даже тягостным расчленение этих оснований на ряд аналитических моментов; анализ тонкий и точный служил первоначальным подходом к изучению поставленного вопроса, но не должен был связывать в дальнейшем изложении обобщающих выводов. По-видимому, так можно объяснить одну особенность работ Ключевского. Только в книге о «Древнерусских житиях» он делится с читателем своими материалами и знакомит его с ходом своей аналитической и критической работы. Обычно же ссылки и весь «критический аппарат» остаются в письменном столе Ключевского и в его памяти, а читатель получает блестящее
изложение результатов исследования. Поэтому так трудно установить документальный материал, на котором построено то или иное изложение Ключевского,— обстоятельство, которое вызвало, однажды, у М. А. Дьяконова7 досадливое замечание, что обширный архивный материал, использованный Ключевским для исследований по истории крестьянского прикрепления, «оказывается по прежнему почти недоступным новой переработке и остается вне научного оборота, так как Ключевский его использовал, но не поделился им со своими читателями». Источник, текст которого подлежит критическому анализу — разложению, чтобы вырвать у него искомые данные, представляется иногда Ключевскому «преградой, стоящей между историком и историческим фактом», преградой, которую надо преодолеть для достижения прямых, непосредственных и живых впечатлений отразившейся в нем действительности; отработанный, он только тяготит, как механический привесок доказательства или оправдательного документа к живому историческому изложению.
А воскрешение минувшей жизни в своем научно-дисциплинированном, но ярком воображении и ее воспроизведение в историческом изложении неизменное стремление историка Ключевского. Притом его отношение к этой общей задаче изучения и творчества глубоко личное, слишком интимное, чтобы назвать его сухим словом «объективно-научное». Оно для этого слишком проникнуто глубоким раздумьем над проблемами человеческой жизни — индивидуальной и общественной, особой ищущей мудростью, которая в научном изучении творит свое разумение этой жизни. У П. Н. Милюкова есть замечание про русских историков XVIII века, что их особенность в живом сознании органической связи между изучаемым прошлым и современной действительностью и что в их трудах поэтому много чутья реальности, биение настоящей жизни, надолго изгнанной из сферы изучения их преемниками, которые заменили его школьным пониманием истории. Ключевский (так и Милюков оценивает его дело) вновь водворил в русской историографии эту жизнь как необходимый и единственно возможный предмет научного анализа. Сильно у него и сознание связи прошлого, веками пережитого с настоящим, современным. «Важнейшие умственные и общественные движения,— писал он,— которые переживали мы в разные времена своей истории, важнейшие интересы, волновавшие наших близких и далеких предков, не успели скрыться и замереть под новой, наносимой новыми движениями и интересами, а живут и действуют поныне воочию наблюдателя и могут быть изучаемы не по одним
мертвым памятниками, но и по их живым остаткам, уцелевшим в разных углах нашего отечества». Поэтому изучить в разрезе все слои русского общества — значит пройти не один век русской жизни. И Ключевский призывает не сосредоточиваться исключительно на «верхах развития», а «спускаться вниманием в другие слои его», тем более что «эти другие слои представляют не бесплодные окаменелости, а свежую почву, на которой можно сеять и жать», в них исторические отложения, еще полные живой и сочной силы; «историческая почва, по которой мы ходим», не предмет археологических только раскопок, а живая действительность, связанная с вековым прошлым, которое в ней еще действенно и плодотворно.
«Отжитая жизнь лежит перед историком как сложный ряд слоев, скрывающихся один под другим. Историография начинает свое изучение с верхнего и постепенно углубляется внутрь. Умственная жизнь — один из наиболее сокровенных, глубоко лежащих слоев, и наша русско-историческая литература едва коснулась его, занятая ближе лежащими сферами, например, политическим или юридическим развитием Руси». Такие рассуждения Ключевского в статьях ранних, конца шестидесятых и начала семидесятых годов, выясняют еще одно отличие тех запросов, с какими он подходил к изучению истории, от руководящих точек зрения историко-юридической школы. Остро ощущал он недостаточную связь соловьевской схемы, следившей за сменой форм политической организации страны, с процессами, совершавшимися «в сокровенных глубинах народной жизни», с историей культуры, в частности духовной. В ее изучении задачи историка — сложнее. «Здесь недостаточно установить,— писал Ключевский,— случайную наружную связь в сложной игре общественных и международных интересов, под которой так часто скрывается недостаток внутреннего прагматизма; еще менее можно ограничиться здесь художественным воссозданием образов минувшего, созерцание которых иногда усыпляет мысль, ищущую внутреннего смысла событий» и заключал: «Ибо в интеллектуальной истории нет действий и характеров, а есть идеи и их внутренняя историческая преемственность в народном сознании». Так подходил Ключевский к проблеме исторического процесса, т.е. «внутренней исторической преемственности в течении народной жизни»; подходил путем конкретных исторических наблюдений, так сказать — ощупью, в размышлении над связью изучаемых явлений. Слишком художник для абстракций (как выразился о Ключевском М. М. Богословский), он «обходился —
в смысле теоретических предпосылок к своим научным разысканиям и построениям — общими соображениями вроде тех, какие находим во введении к “Курсу русской истории”,— довольно бледными отголосками пережитых в молодые годы влияний идеалистической философии сороковых годов в сочетании с отзвуками Соловьевского “морализма”». Тут особенно характерно признание «идей» — глубочайшим историческим фактором «умственного труда и нравственного подвига» — самыми мощными двигателями человеческого развития. И не будет преувеличением сказать, что изучение явлений интеллектуальной и нравственной жизни общества составляло для Ключевского любимую и, в его сознании, основную задачу историка русского прошлого.
Он дал нам в этой области лишь несколько блестящих этюдов, глубоко интересных по методу и весьма субъективных по настроению, не исследований и не ученых конструкций, а вызванных обычно тем или иным внешним поводом речей и эскизов, в которых поделился некоторыми итогами своих изучений по истории русской духовной культуры («Добрые люди древней Руси», «Значение препод. Сергия для русского народа и государства», «Западное влияние и церковный раскол в России XVII в.», «Два воспитания», «Воспоминание о Н.И. Новикове и его времени»), иногда в форме исторического комментария к произведениям художественной литературы (« Недоросль Фонвизина », « Речь в день открытия памятника Пушкину», «Евгений Онегин и его предки», «Грусть — памяти М. Ю. Лермонтова»8). В них только отрывки мысли Ключевского, стремившейся к познанию судеб русской духовной культуры, в изучении которой он видел преимущественно, согласно вскормившей его идеалистической традиции, «наше историческое самопознание». Но он рано, еще на заре своей научной деятельности пришел к выводу, что «работа еще далеко не дошла до того момента, когда становится возможным цельное и строгое прагматическое изложение нашей умственной истории». Поэтому, и только поэтому, полагает Ключевский, приходится положить в основу общего курса изложение «фактов политических и экономических с их разнообразными следствиями и способами проявления». Эти «факты политические и экономические,— пояснял он, — полагаю в основу курса по их значению не в историческом процессе, а только в историческом изучении». Значение этого приема чисто методологическое: «Порядок изучения не совпадает с порядком жизни, идет от следствий к причинам, от явлений к силам». Взаимоотношение духовной культуры, мира идей, и культуры общественной, мира
социально-политических отношений, представлялось Ключевскому, в духе идеалистической традиции, как взаимоотношение причинного ряда к ряду следствий, сил к явлениям. Методологический и историко-социологический принцип, согласно которому «не бытие определяется сознанием, а сознание бытием» остался ему чуждым. В своих теоретических размышлениях он представлял себе отношения социально-политические надстройкой над творческой жизнью духовной культуры, а не наоборот. Однако научная историческая работа и потребности университетского преподавания повели творчество Ключевского иными путями.
Основным условием, которое определило характер этой работы и направление этого творчества, было чтение общего курса русской истории. Как Соловьев в тёчение всей жизни, после первых подготовительных опытов, писал «Историю России с древнейших времен»9, так Ключевский отдал большую часть сил и времени «Курсу русской истории»10. Ведь несомненна органическая связь его «Боярской думы в древней Руси», книги, которую нельзя не назвать вторым основным явлением русской историографии после докторской диссертации С. М. Соловьева — «Истории отношений между русскими князьями Рюрикова дома» п, с задачей построения общего курса или общей схемы русского исторического процесса. Слишком широко содержание этого труда, чтобы назвать его монографией, да и не подходит он ни по характеру изложения, ни по содержанию под понятие «специального исследования», так как дает в стройной схеме итоги целого ряда таких исследований, оставшихся неопубликованными, но проработанными в тиши ученого кабинета, и объемлет основные явления государственной и общественной истории России за ряд столетий. «Курс» и «Боярская дума» неотделимы по задачам, методу и содержанию. К ним примыкают и такие основные в научном наследии Ключевского этюды, как «Состав представительства на земских соборах древней Руси», «Происхождение крепостного права в России», «Подушная подать и отмена холопства»12.
Помимо конкретных задач исторического изучения, Ключевский имеет дело во всех этих работах, примыкающих к «Курсу», с одной большой социологической проблемой — об отношении «политики» и «экономики». Так и сам он смотрит на дело, посвящая «Вступление» к «Боярской думе» теоретическому рассуждению о взаимоотношении «политических фактов» и «фактов экономических», в связи с «процессом образования общественных классов». Так и во введении к «Курсу» он сознает себя историком-социологом,
полагая задачей «исторической социологии», точка зрения которой ближайшим образом определяет задачи «местной истории», в данном случае русской,— «историческое изучение строения общества, организации людских союзов, развития и отправлений их отдельных органов — словом, изучение свойства действия сил, созидающих и направляющих людское общежитие», притом не в статике, а в историческом движении и в конкретной обстановке «многообразных и изменчивых» условий развития, «какие складываются в известных странах для того или другого народа на более или менее продолжительное время».
Если сделать попытку краткого определения важнейшей из научных заслуг В. О. Ключевского, которые дают ему исключительное положение в русской историографии, то можно назвать его создателем истории общественных классов в России. В «Боярской думе» он дал не только и даже не столько историю высшего « правительственного учреждения (для этого потребовалась бы большая разработка иных материалов и иных вопросов, которых Ключевский почти не коснулся, например, боярских приговоров и всего, что с ними связано), сколько истории боярского класса, при этом на широком фоне народно-хозяйственного быта, влияния колонизации на склад древнерусского общества, развития поземельных отношений, экономической жизни и сословного строя.
Не менее глубоко и значительно, а вернее сказать, еще более существенно все, что сделано Ключевским для истории крестьянства. «Курс русской истории, составленный В.О.,— пишет М.К. Любавский,— можно назвать самым полным и всесторонним изложением общей истории крестьянства в России; В.О. так крепко вдвинул историю крестьянства в общий курс русской истории, дал ей там такое органическое место, которое навсегда останется за нею и в последующих концепциях русской истории». Недаром Московский университет отметил пятидесятилетие освобождения крестьян избранием своего «крестьянского историка» В. О. Ключевского в почетные члены. Колонизационный труд крестьянина-земледельца и промышленника создает русскую землю; на трудовой страде крестьянства вырастает социально-политический строй Руси, несущий ему крепостную неволю; «крепостное право, крепостной быт, крепостное хозяйство, земледельческое и фабрично-заводское, составили основной фон в изображении В. О. Руси новой, императорско-дворянской», подчеркивает М.К. Любавский, отмечая и «многостороннюю оценку, которую нашло в изложении В. О. влияние крепостного права на экономическую, общественную
и политическую жизнь России во второй половине XVIII и в первой половине XIX века».
Таков был крупный вклад Ключевского в «историческую социологию» России. Но характерно и несколько загадочно, что эти важнейшие достижения исторической работы Ключевского не легли в основу его теоретических и методологических воззрений. Можно сказать, что они почти не отразились на «введении» в «Курс русской истории». Мало того: как выше было отмечено, строки первоначальной редакции приступа к «Боярской думе», возвещавшие выступление нового исторического воззрения, притом не без полемики против формализма и узости концепций «историко-юридической» школы,— исчезли из отдельного издания этого труда, а положение «вступления» в «Боярскую думу» о том, как «политический момент завершает социальную работу народного хозяйства», не нашло себе дальнейшего развития в работе мысли Ключевского.
П. Н. Милюков в одном из своих обзоров русской историографии обмолвился жестким словом: «Основной недостаток Ключевского,— читаем тут, — заключается в отсутствии того коренного нерва ученой работы, который дается цельным философским или общественным мировоззрением и которого не может заменить величайшее мастерство схематизации». Но Ключевский был слишком художник для абстракций и слишком историк для того, чтобы строить догматическую систему, подчиняя той или иной догме свое изучение и воспроизведение исторической жизни. Не только в теоретических суждениях о задачах и приемах своей науки, но и в той схематизации, которой он формально владел с такой блестящей техникой, он остался в большей зависимости от унаследованной им традиции, чем можно было ожидать от такого самобытного и огромного дарования. Лишь постепенно освобождался он от этой зависимости в конкретной работе широкого и углубленного изучения, но так и не проработал до конца основ своего оригинального и своеобразного воззрения на историческую действительность. «Коренной нерв» его ученой работы был более в гениальной интуиции, чем в каких-либо философских или социологических обобщениях и конструкциях.
По-видимому, в этой несогласованности личных исторических воззрений и тех предпосылок, на которые опирались их обобщение и схематизация, одна из особенностей внутренней драмы творчества Ключевского, противоречия между «ученой совестью», побуждавшей сосредоточиться на возможно полной проработке всего материала русской истории, и «обязанностями педагога», которые
заставляли безотлагательно давать изложение, хотя бы влагая новое содержание в готовые схемы, по существу ему не отвечавшие. Однако подлинные корни этой драмы заложены значительно глубже в свойствах многогранной натуры Ключевского.
Исключительный мастер и устной, и письменной речи, Ключевский искусно и сознательно вырабатывал оба эти орудия своей мысли. Они служили, особенно подлинная стихия Ключевского — живая устная речь, блестящим и неотразимым орудием выполнения «обязанностей педагога». В ряду произведений Ключевского выдающееся место занимают письменные отражения устной речи: таков его «Курс русской истории», таковы его «речи» о Соловьеве и Пушкине, о «Содействии Церкви успехам русского гражданского права и порядка»13, о преп. Сергии — «благодатном воспитателе русского народа», об Александре III, его публичные лекции («Добрые люди древней Руси», «Два воспитания»), его доклады в собраниях ученых обществ. «Гений разговора», как назвал его Айхенвальд14, «прирожденный и преднамеренный собеседник», Ключевский, однако, не импровизировал и своих речей и лекций, а тщательно их вырабатывал, как «ювелир слова», дороживший детальной и чеканной отделкой. И не беседа, а живая речь, покоряющая аудиторию блеском словесных форм и полной настроения, богатой оттенками гибкой мысли, кажется наиболее близкой Ключевскому формой творчества. Знакомы были этому мастеру речи неустранимые трудности в поисках «гармонии мысли и слова», опасности словесного щегольства, срывы недостаточного, слабого выражения. «Иногда,— размышлял он,— бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форуму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую, жесткую подошву».
В.О. Ключевский был прирожденный учитель. Чему он учил? Прежде всего, русской истории и любовному, вдумчивому отношению к ней. Его основная историко-педагогическая задача — сделать родное прошлое близким и понятным. Ключевский обладал редкостным даром преодолевать и в себе, и в других «то расстояние,— как говорит Кизеветтер в статье о Ключевском-преподавателе,— которое отделяет наши понятия от мировоззрения и склада мысли, лежавшего в основе древних жизненных порядков и отношений»15, сознательно и метко его определяя. Превосходно читал он и комментировал старинные памятники, неподражаемо
передавая оттенки народной речи, своеобразных выражений, движений мысли и чувства. Он учил воспринимать минувшую жизнь, воскрешать ее воображением ярко и прочувствованно, затем ее анализировать, изучать и оценивать. Его отношение к этой жизни, при всей научности изучения, было всегда определенно личным. Слишком отзывчивый на ее перипетии, он не мог, по выражению одного из его учеников, «не вмешиваться в исторический процесс», то с юмором, то с горьким сарказмом, то с сочувственным откликом и чутким пониманием жизненной драмы. Минувшее воскресало и жило полной жизнью в его изображении. И там, где обстановка и самые задачи преподавания давали ему свободу от сложных построений социально-политической эволюции, а выдвигали на первый план изучение бытовой истории, Ключевский чувствовал себя особенно привольно. Так он особенно любил занятия в Школе живописи, ваяния и зодчества16 и продолжал их даже по прекращении своего университетского преподавания. Читал он тут несколько сокращенный курс; зато «был здесь художник среди художников», обращая особое внимание на бытовую обстановку прошлого, и сопровождал свое изложение демонстрацией портретов, фотографий, снимков разного рода, а само изложение обогащал народными поговорками и пословицами, останавливался на поверьях, на народном календаре и т. п. Он, несомненно, много давал аудитории молодых художников, воспитывая в них интерес и любовное внимание к родному искусству и к художественному восприятию исторической действительности.
Но такой живой подход к этой действительности далеко не исчерпывался у Ключевского художественной стороной ее восприятия. Глубже и значительнее была его вдумчивость, своеобразный лиризм его отношения к изучаемой жизни. В этом вдумчивом лиризме одно из обаяний Ключевского и один из источников его огромного влияния, загадочного и трудноопределимого, как всякое влияние художественного воздействия. «Курс» Ключевского, как и другие его произведения, принадлежит не только русской историографии, но также истории русской литературы. «Говоря о Ключевском,— читаем в отчете Н. А. Котляревского о деятельности Отделения русского языка и словесности Российской Академии наук за 1911 год,— историк русской литературы приобщит к памятникам русской словесности ту картину исторического развития нашей родины с древнейших времен, которую Ключевский так скромно назвал своими лекциями». А в этом труде Н. А. Котляревский видит не только яркий и живой синтез исчезнувшего быта, угасших мировоззрений
и настроений, но и «характерную исповедь своего времени»: «как суд над прошлым и как показание чуткого современника». Основное настроение Ключевского Н. А. Котляревский склонен объяснять сочетанием «поэтического тяготения к старине» с «пониманием необходимости совершавшихся перемен». И Ключевский именно «дорог этим затаенным раздумьем над живою связью минувшего с настоящим», тою любовью, которая «с пытливой тревогой смотрела на труды наступившего дня и дня ближайшего». В самом языке Ключевского, столь же своеобразном, как «своеобразен и необычен был склад души историка», в его стиле «неровном и тревожном», Котляревский видит черты неспокойного состояния духа», осадок «недоверчивой тревоги и грусти»: нет в этом стиле той ровности, какая была бы в настроении человека, «бодро смотрящего в глаза ближайшим грядущим событиям».
Ключевский сложился во внутреннем укладе своем в эпоху шестидесятых годов. Но едва ли кто назовет его «шестидесятником». Он остался сам по себе, вне общественных течений, вне интеллигентских и университетских кружков. Стоит он в стороне от них, но в большой к ним близости, острый и чуткий наблюдатель, крепко переживая сам в себе наблюдаемое и кругом происходящее. «Внутренне одиноким» назвал его Айхенвальд, «едва ли кому доступным в самой средине своего сердца», таким, чья словесная общительность скорее заслоняла от других этого вдумчивого и отзывчивого наблюдателя, который «на дне своей мысли всегда остается один и наедине с собою». Я бы назвал его историком-созерцателем, который и окружающее изучает, и наблюдает так же отзывчиво и чутко, но так же со стороны, как и минувшее. В таком отношении к жизни нет равнодушия. Напротив, скажем словами С.Ф. Платонова, «Ключевский был очень стихиен и непосредствен в своих исторических симпатиях и вкусах; он не только много думал, но, видимо, много выстрадал. Оттого в его смехе и остротах столько сарказма, в его характеристике столько яда и в субъективных отзывах об эпохе его юности — скорбные ноты. Рассвет русской общественности, озарявший юность Ключевского, не сделал светлым его взгляда ни на русское прошлое, ни на русскую современность. Почему это так — объяснит нам когда-нибудь история личной жизни Ключевского».
Конечно, история личной жизни Ключевского, если когда-либо будет написан такой ценный памятник истории русской культуры, объяснит нам многое: его одиночество, его своеобразие, его адог-матизм и внутреннюю драму его творчества. Теперь пока лишь не
многие биографические черты дают некоторый намек на будущее выяснение.
В московскую университетскую среду Ключевский пришел со стороны, из иного мира, иного быта, иной культуры. Его дала нам глухая деревня, осиротелая семья сельского священника, близкая крестьянскому быту, близко знакомая с тяжкой и часто обидной нуждой. Вскормила его провинциальная семинарская школа с ее своеобразной серьезностью схоластического учения, крепкими традициями и тяжелой атмосферой произвола, то ломавшая, а то и закалявшая характеры, но редко оставлявшая их без надлома и ущемления. Питомцем этой сельской и семинарской среды пришел Ключевский в круг университетской профессуры и московского интеллигентного общества, выросший на иных корнях. Одно это давало ему печать обособленности, даже по внешности, по навыкам, по бытовым настроениям. «Начиная с лица,— так описывает Ключевского наблюдательный бытовик-литератор,— то подчеркнуто серьезного, то добродушно-лукавого, и кончая серебряными очками и широкополым сюртуком, вплоть до длинного черного, на шею надетого часового шнурка,— все в В. О. свидетельствовало, что он вырос “под колокольней” и с детства впитал в себя атмосферу церковного пения, звона и кадильного запаха»; и добавляет, что рядом с такими «европейцами», как Чичерин или Муромцев, Ключевский должен был казаться «слишком русским». И тот же наблюдатель идет дальше в своих заключениях. «Органически связанный с народной толщей,— говорит он,— Ключевский естественно и к России, как живому национальному организму, отнесся иначе, чем большинство современной ему интеллигенции». Ходкие в ее среде «философские» и «общественные» мировоззрения (вспомним вышеприведенное замечание П. Н. Милюкова) остались ему чужды. Он не мог стать ни «западником», ни «славянофилом», ни «народником» не только потому, что был «слишком художник для абстракций», но, прежде всего, потому, что слишком непосредственно знал жизнь народной массы для отвлеченно-доктринерского подхода к ней, да и слишком мало было в этих «мировоззрениях» того исторического реализма, которым силен был Ключевский. Окружившая его кафедру молодежь, которую он знал и любил, увлекалась течениями мысли, ему чуждыми, а он, ценя искренность ее увлечений, весьма скептически относился к ее умствованиям. Его разумение жизни было слишком реальным и многогранным, чтобы принять ее толкование в упрощенных идеологических схемах. Он видел в пристально изучаемой действительности ее
I
неразрешимые противоречия и воспроизводил ее ход меткой и нервной, напряженной и изысканной речью, а «сквозь вычурность затейливой фразы и соль забавной насмешки,— приведу опять слова С. Ф. Платонова,— смотрел на читателя вдумчивый и часто скорбный глаз исследователя, не желавшего скрыть за шуткой темные стороны русского прошлого». И с русским настоящим Ключевский расставался скорбно, почти безнадежно, по крайней мере, для своего поколения. «Надо признаться,— так закончил он один из курсов своих лекций,— что это поколение, к которому принадлежит и говорящий, доселе плохо разрешало свои задачи, и надо думать, что оно сойдет с поприща, не разрешивши их, но оно сойдет с уверенностью, что вы и те, которых вы будете воспитывать, разрешите их лучше нас». Для этого лучшего решения жизненных задач Ключевский призывал к коренному пересмотру унаследованных идей и к внимательному изучению действительности. Наследие наличной общественной мысли и общественного знания действительности оставило его глубоко неудовлетворенным. Борьба целой жизни за разумение исторически сложившейся действительности закончилась у Ключевского глубоким смирением, той «резиньяцией» грусти, какую он угадал в Лермонтове и признал коренным национально-русским настроением: это «настроение, проникнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой». Верой в лучшее будущее, но без уверенности, что оно придет, и без знания, как может оно прийти.
Своеобразная и сложная, богатая скрытыми внутренними переживаниями и выражавшая себя в увлекательно-ярких проявлениях фигура В.О. Ключевского будет долго еще предметом изучения и попыток разгадать ее тайны. А пока естественно закончить речь о нем, как он сам закончил речь свою о Пушкине: о нем всегда «хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует».
С. А. ГОЛУБЦОВ
Теоретические взгляды В. О. Ключевского
’(1911-12 мая 1921)
Прошло десять лет с того дня, который унес с собою Ключевского... За это десятилетие развернулись события катастрофической силы, необъятные по смыслу и все еще грозные в своей незавершенности. Уроки пережитого за последние годы, конечно, не останутся без влияния на идейное содержание, созданное предыдущей эпохой, и, в частности, вероятно, коснутся и наших исторических представлений о русском прошлом. Очень возможно, что многое из ученого наследства Ключевского окажется впоследствии поколебленным в своей признанной авторитетности; но, думается, отзвукам переживаемой драмы не придется торжествовать победы над той стороной научного творчества Ключевского, исследованию которой посвящаются эти строки*.
Василий Осипович Ключевский — такая крупная величина и столь яркое, близкое к нам явление, что до сих пор все еще нельзя говорить о нем без сознания серьезной ответственности за решимость говорить. Чарующий талант продолжает гипнотизировать и этим затрудняет попытки критической оценки результатов его научнотворческой работы, противопоставляя спокойствию анализа силу и колорит непосредственного впечатления. Теоретические взгляды Ключевского особенно нелегко изучать, когда не чувствуешь себя свободным. Есть и другая трудность. Василий Осипович не дал систематического и полного изложения своих общих исторических
* Печатаемая ниже статья воспроизводит с некоторыми дополнениями пробную лекцию, читанную автором в публичном заседании Факультета общественных наук 1-го Московского государственного университета, 2 декабря 1920 г. н. ст. В последующих ссылках цитируются: первый том «Курса» Ключевского — по пятому изданию, второй том — по третьему, третий и четвертый томы — по второму изданию.
воззрений; наблюдения приходится собирать зачастую по крупицам, воспроизводя потом цельную картину по этим разрозненным и разновременным данным. Рассеянные по всем крупным работам и статьям, начиная со «Сказаний иностранцев», эти данные ведут нас через «Жития святых», «Боярскую думу»1 и ряд промежуточных более мелких монографий к «Курсу», создавая в окончательном итоге впечатление там и здесь разбросанных следов неизменно эволюционирующего исторического синтеза.
Быть может, Ключевский и не любил философски отвлеченно мыслить. Зато в процессе анализа эмпирического прошлого он с несравненным мастерством поднимался на вершины глубоких обобщений и в эти минуты достигал выводов, как раз особенно и ценных своей органической связанностью с конкретной исследовательской работой. Человеческий дух, говорил Ключевский, тяготится хаотическим разнообразием воспринимаемых им впечатлений; мы стремимся уложить их в русло, нами самими очерченное, дать направление, нами указанное («Курс», т. II, с. 326). Вот почему Василий Осипович в Соловьеве ценил «цельный взгляд» на предмет, а славянофилам ставил в заслугу «размашистость идей» (III, 337). Точное знание путей, приводивших Василия Осиповича к синтезу, в данном случае может и не интересовать уже в силу того, что цель настоящего этюда — разбор и оценка общих исторических воззрений Ключевского лишь с точки зрения русской историографии, но не в отношении их самодовлеющей теоретической ценности.
В. О. Ключевский, несомненно, пережил известную эволюцию во взглядах на общие вопросы исторического знания. Сравнительнохронологическое изучение подобранных наблюдений, сличение текста разновременных изданий одной и той же работы, внимательно-осторожный просмотр литографированных студенческих записей уже и теперь дают почувствовать наличность этой эволюции; но по многим соображениям говорить о ней сейчас не представляется возможным, главным образом, ввиду недоступности многих основных источников, вводящих в процесс научной работы знаменитого историка. Точно так же приходится подождать пока с вопросом и о литературных источниках его исторического мировоззрения. Тем самым теоретический интерес к Ключевскому всеми очерченными обстоятельствами вводится в определенные рамки, сосредоточиваясь почти исключительно на окончательной формулировке его взглядов. Десятки лет шла по-ключевски неуловимая работа, прежде чем достаточно отчеканенные воззрения и сочувствия проникли собою печатный «Курс», сказываясь в нем
то целой теоретической главой, то вставленным удачно отдельным рассуждением, то вкрапленною фразой, мимоходом оброненным замечанием.
Исторического мировоззрения Ключевского нельзя понять вне атмосферы той скрытой и явной борьбы научных направлений, какая волновала русскую историографию в молодые годы Ключевского.
Шумливые споры славянофилов и западников в публицистике вскрывали наличность в русском мыслящем обществе глубокого идейного расслоения, которое, между прочим, коснулось и нашей науки. Русские историки, как примыкавшие к одному из названных лагерей, так и стоявшие в стороне, раскололись. Одни, вслед за Соловьевым, утверждали, что история имеет дело только с тем, что движется, действует, видно, поднимается на поверхность жизни, заявляет о себе; история поэтому не может заниматься народными массами; она в состоянии и хочет знать лишь представителей народа. Между тем правительство никогда не случайно, оно всегда олицетворяет свой народ, есть лучшая поверка жизни. Все подробности о государях и правительственных лицах, даже анекдоты из их жизни навсегда сохранят для историка первостепенную важность, так как ими часто определяются судьбы народов*. Так у историков этой школы, вопреки заявлению самого видного из них, что историческая наука имеет дело с жизнью человека во всех ее проявлениях, фактически история государства оказывалась не только на первом, но и на единственном плане.
В это самое время историки другого направления, группировавшиеся последовательно вокруг Беляева, Костомарова и Забелина, имея отправным пунктом противопоставление государству земли, при сосредоточенном внимании к судьбам народности доходили до почти полного устранения из своих представлений государства с его ролью в русском историческом процессе. Эти историки, при существенных порой разногласиях, однако все видели подлинную основу исторического движения в народном развитии и смотрели на государство как на механическую внешнюю силу, которая только тогда и может иметь успех, когда соответствует потребностям народной, т. е. собственно — исторической природы. Для этого направления характерен уклон в сторону явлений быта, домашней жизни, психологических народных типов и слабый интерес к фактам иных порядков. Невольно хочется думать, что у историков народности,
* Соловьев. Наблюдения над исторической жизнью народов.
даже и не связанных славянофильскою доктриной, было сильное стремление в явлениях быта искать русскую самобытность, в психологических характеристиках изучать подлинную народную душу.
Выгодно отличаясь от историков соловьевского типа большим приближением к истинному фокусу исторического изучения, историки «народности» — при своем романтическом отношении к ней — лишены были дара четких и рельефных изображений, какой мы встречаем у первых. Но как те, так и другие, в сущности, шли по родственным путям: оба направления усердно искали в русском историческом развитии обнаружения «начал»; и если одни стремились найти общечеловеческие начала, других влекли своеобразно-русские.
Разошедшиеся в своих симпатиях русские историки обоих направлений между тем воспитались в одной школе, хотя и у разных учителей. Общей школой, объединяющей в наших глазах эти сталкивавшиеся в свое время направления, был идеалистический монизм, десятки лет шедший к нам из Германии.
Время, однако, быстро подвигалось. Вслед за крупными социально-экономическими движениями в жизни и законодательстве всех стран рождались новые учения. Во всех науках все большую силу получал философский материализм и позитивизм; в частности, в истории все сильнее начинало чувствоваться влияние экономического материализма. Россия не оказалась в стороне от волновавших Запад разнообразных движений. «Великие реформы» 60-70 годов оказались тем клапаном, сквозь который повеяло свежестью на русское мыслящее общество. Появились другие люди с иным складом мыслей и симпатий, призывавшие от религии и идеализма к науке и материализму. К прежним единицам прибавились многие; вместо единичных настроений и призывов создавалась общественная атмосфера. Новые идеи толкались в дверь и русской исторической науки. Приходилось ориентироваться между идеалистическим и экономически-материалистическим монизмом. Ключевскому суждено было испытать на себе воздействие с разных сторон, освоить воспринятое и своим дарованием перевоплотить в иное, существенно-отличное, оригинальное.
Первые общественно-политические впечатления, спустившиеся на Василия Осиповича в конце 50-х и в 60-х годах, должны были дать ему почувствовать в событиях и реформах, волнами проносившихся в то время над Россией, действие и борьбу двух факторов, взаимным положением которых скрыто определялось все поднявшееся на поверхность и доступное наблюдению: я говорю о соотно
шении общества и государства. На живом опыте Ключевский мог понять, сколь много значит в историческом процессе то молчаливая, то бушующая, всегда грозная народная стихия; и как неизбежно государство с его организующей и руководящей ролью. К моменту «великих реформ» соотношение между «общественностью» и государственным началом стало глубоко иным, в сравнении с предыдущею эпохой, которою вскормлен был Соловьев. Очень возможно поэтому, что именно в эти годы уходит своими корнями основной замысел автора «Курса» — дать слушателям ясное понимание двух господствующих процессов нашей истории, из которых • один вырабатывал в практике жизни понятие государства и, путем обнаружения в деятельности верховной власти, содействовал выяснению его в сознании народа; между тем как при помощи другого, в связи с ростом государства, завязывались и сплетались основные нити, образовавшие своей сложной тканью нашу народность (I, 37). Верный своему замыслу, Ключевский в «Курсе» много раз возвращается к этим вопросам; внимательно изучает генезис и русской народности, и русского государства; следит за их взаимоотношением и особенно останавливается на тех моментах, когда — вслед за распадом связей одного порядка — с повышенной силой начинали действовать другие. Так в Смуту, наряду с политической анархией, обнаружились настолько прочные религиозные и национальные спайки, что ими государство было спасено (III, 61). Можно думать, что Ключевский очень рано пришел к разрешению старого спора «государственников» с «народниками». Свободный от мистического благоговения историков-юристов к государству (напр., IV, 476), но и не зараженный романтизмом историков «народности», Василий Осипович посмотрел на вопрос о государственном и народном элементе в нашем прошлом под углом своих общих исторических воззрений. Мысля под историей науку о развитии общества, Василий Осипович причислил народ и государство к основным формам общежития, знаменующим последовательные моменты его роста. Так была перевернута одна из самых существенных страниц русской историографии: крупные разногласия по поводу тех, а не иных «начал» как принципов содержания исторической науки отступили пред социологическим методом; недоразумения на почве предпочтенья внешней политической истории «народному» развитию или наоборот нашла свое объяснение, придя к единству, в эволюционном взгляде на русское прошлое.
По мнению Ключевского, человеческое общежитие такой же факт мирового бытия, как и жизнь окружающей нас природы.
он ищет всегда, для всех периодов исторического развития. Однако он остался далек от принципов и конечных выводов той доктрины, чьему влиянию подвергся. Достаточно напомнить, что в «Курсе» — наряду с обычным горизонтальным делением общества — мы встречаемся с попытками и вертикального его разреза по принципам идейно-морального порядка (1, 329 330). Ключевский зорко следит за расхождением экономического и политико-юридического моментов в общественной дифференциации, постоянно отграничивая экономические состояния от сословий (passim) и внимательно изучая процесс отвердения первых до степени политических реальностей (I, 466). Василий Осипович даже обронил однажды замечание, что в истории Новгорода приходится наблюдать довольно редкий случай совпадения экономической и политической классификации общества (II, 105). Разнообразием принципов общественного деления и тонкостью приемов объясняется, почему нас встречает в «Курсе» такое количество обозначенных автором как промежуточных состояний и деклассированных групп, так и мелких слоев в рамках какого-нибудь основного класса. Искавший в усобицах и смутах прежде всего социальных мотивов и подкладки и рассматривавший их как результат столкновения и борьбы общественных интересов, Ключевский в то же время знал эпохи с достаточно ярко выявленным классовым расслоением общества, при полном отсутствии в последнем социальных антагонизмов. Василий Осипович любил эти эпохи за характерные для них общенародные связи и спайки, которые, в частности московскому обществу, придавали такую «духовную цельность» (II, 514 и III, 334).
Ключевский разошелся с экономическим материализмом также во взглядах на характер и строение государства и власти. Изображавший политический порядок в связи с укладом общественных отношений, историю учреждения изучавший на фоне истории классов, на какие оно опиралось, Ключевский всегда был внимателен к взаимным отношениям верховной власти и руководящих общественных слоев и понимал зависимость как конструкции, так и политики власти от интересов этих слоев. И однако Василий Осипович никогда не забывал заботливо оттенять моменты обратного свойства (passim). Он охотно подмечал демократические тенденции у государственной власти и, может быть, ближе был к убеждению в надклассовом характере ее, чем к ортодоксальной теории историков-экономистов. Таким общенародным слугою был для Ключевского Петр Великий, дело которого его преемники постарались повернуть в интересах господствовавшего класса (IV, 332).
В «Курсе» нас встречает множество иллюстраций того, какими путями государственная власть, даже при ее связанности с определенной общественной ситуацией, все-таки может оставаться в своих действиях свободной и способной осуществлять независимую политику.
Взгляды Ключевского по вопросу об экономическом факторе и его месте в общей исторической эволюции удачно дополняются его воззрениями на роль идей и личности в историческом процессе. Несмотря на высокую оценку умственного труда и нравственного подвига в деле созидания общежития (I, 36), Ключевский понимал всю слабость значения культурно-идейного фактора в начальные стадии исторического процесса и крайнюю постепенность его вхождения в этот процесс в положении активной исторической силы. Это не мешало Василию Осиповичу говорить в отдельных случаях о влиянии идей даже в допетровской Руси, поскольку действительность давала на это право. Вспоминается та роль, какую отводил Ключевский христианству и церкви в деле переустройства русской жизни. Приходит на память лекция о землевладении в Московском государстве, где Василий Осипович подчеркивал, как неправильно понятая мысль молитвы за усопших повела к непомерному земельному обогащению монастырей (II, 353). Особого внимания историк требовал к идее национального государства, развившейся в XV-XVI веках (II, 146), и к настроению недовольства как весьма обильному последствиями поворотному моменту в русской жизни XVII века (III, 329).
Эти выхваченные наудачу иллюстрации — лишь слабый отблеск того интереса, с каким Ключевский следил за процессом пере-работывания идей в общественные отношения и порядки, равно и за количественным ростом этих явлений по мере поступательного движения исторического развития. В то же время с еще большею силой Ключевский указывал всегда, что и от общественных отношений отлагаются идеи, причем это происходит обычно очень медленно ввиду косности человеческой психики. Сила вещей, стихийный ход жизни часто опережает сознание; порядок останется тогда без соответствующих ему понятий, при старом строе их, начинается мучительный процесс приспособления сознания к жизни или, как неоднократно характеризует его Ключевский, процесс исторического вымогания новых понятий (II, 453). Эпохи народных потрясений и революций тем и ценны в глазах историка, что они, ломая старые представления и вместо них обнаруживая изнанку жизни, таким путем ускоряют работу нашего мышления, помогают, хотя и небезболезненно, перейти к новому душевному
укладу (III, 82). Так в понимании Ключевского параллельно, но разными темпами идут два процесса: один — дающий новые понятия из глубины народной жизни, и другой — вводящий их движущей пружиной в эту жизнь.
Ключевский знает, что идеи многолики и случайны, как сама человеческая личность, производящая их; что жизнь их часто недолга, и они гибнут во множестве, почти никем неузнанные, повлияв лишь на единицы. Он и думает поэтому, что не всякая идея может стать предметом научно-исторического изучения. Идеи, светившие немногим, должны найти себе место в биографии, в истории философии, где угодно — только не в исторической науке. Историк может принимать в расчет лишь те идеи, какие стали общим достоянием или общеобязательным правилом. Такие идеи глубоко проникают в общественную жизнь, овладевая какою-либо практическою силой: властью, капиталом, народной массой, и этими силами переработы-ваются в закон, учреждение, промышленное или иное предприятие, обычай, в поголовное увлечение, либо еще в художественное всем ощутительное сооружение. Только путем такого воплощения идея проявляет свойства исторической дееспособности, которая одна делает ее в глазах историка фактором в историческом процессе и может сообщить ей научно-исторический интерес. (I, 28-32).
Так производится необходимый отбор, который должен распространяться историком, помимо идей, и на всю область проявлений человеческой личности, на гражданские отношения, прежде всего. Ключевский думал, что эти последние — преимущественная сфера действия личности в историческом процессе. И однако именно здесь, при всей случайности и непостоянстве личных интересов и стремлений, наблюдается что-то общее, всеми признаваемое, что вносит в жизнь гармонию и умеряет остроту борьбы. Силою вещей, нивелирующей индивидуальные воли, от чувств и понятий отдельных личностей известной эпохи откладывается определенный порядок, который находит отражение в праве и держится спайкой юридических рамок и правил. Так историк в изучении права имеет ключ к познанию свойств личности как исторической силы; и в нем же он находит тот предел, за которым начинается случайность и произвольность невоплотившихся в общественные отношения индивидуальных стремлений и понятий (I, 293-294).
Анализируя роль личности в истории, Ключевский, в сущности, развивал те же мысли, что и относительно значимости идей в историческом процессе. В соответствии с этим он интересовался государственными людьми преобразовательного направ-
ления XVII века, ввиду того, что их личные помыслы и частные усилия превращались в законодательные вопросы, которые разрабатывались в политические направления либо в государственные учреждения (III, 431). Помимо деятелей, бороздой прошедшихся по жизни, Ключевский всматривался зорко в людей, весь смысл существования которых либо в их типичности для определенной эпохи, либо в пассивной значимости, как прообразов грядущего. Вы встретите в «Курсе» Крижанича2, предвестника Петра; познакомитесь с кн. И. А. Хворостининым3, отдаленным предком людей чаадаевской складки; вас захватит своим колоритом личность про-. топопа Аввакума, в которой, словно в фокусе, отразилась сущность ' московского религиозного мировоззрения. Ключевский старался разглядеть в обществе чутких людей, идущих впереди общества и раньше других начинающих думать и делать то, что потом будут думать и делать все. Он следил за тем, как в них чувства и стремления эпохи, уясняясь, превращаются в сознательные идеи, которые, становясь практическими задачами; помогают полнее изучить состав жизни, воспитавшей их. Василию Осиповичу казалось, что в этих типических личностях цельно собираются и выпукло проступают интересы и свойства их среды, теряющиеся в ежедневном обиходе под видом рассеянно бродящих по заурядным людям бессильных случайностей (III, 412).
Решения вопроса о личности в истории нельзя было достигнуть, не рассмотрев ее роли в практике власти. Ключевский не оставил без освещения и этой стороны дела. Он старался доказать, что даже образ жизни, личный характер и привычки незаурядных носителей власти вносит временами в жизнь свою долю влияния. Всякий помнит, какое значение признается в «Курсе» за личным темпераментом Грозного в связи с тем, а не иным уклоном развернувшихся столкновений власти с боярством (II, 239). Еще более четким рисуется в памяти другой образ — царя мастерового, царя-деспота и вместе беззаветнейшего слуги народа, великого и торопливого Петра. В связи с данными исторического изучения Василий Осипович думал, что великим личностям могут принадлежать приемы реформ, отчасти их темп, видоизменение сложившихся до них соотношений общественных сил и приспособление их к новым условиям государственного существования. Личность как фактор исторического развития иногда ускоряет процесс, организует его, доводит существующие явления до высшей степени напряжения (IV, 117, 275 и 281). Случается, что личность помогает истории даже не активным вмешательством в нее, а только непротивлением рвущимся
наружу молодым побегам назревших задач... таков столь любимый Ключевским царь Алексей.
Обобщая факты личных характеристик в «Курсе», столь оживляющих его чарующей прелестью воскрешаемой жизни и словно все еще неумерших наших предков, можно сказать, что их присутствие, как видим теперь, объясняется не только психологизмом и художественностью натуры Ключевского, но и продуманностью теоретических воззрений, проникающих «Курс». Но, отводя идее и личности известное место в своем «Курсе», Василий Осипович никогда не переставал подчеркивать, что сфера их действия в достаточной мере ограниченная, так как в основном исторический процесс протекает стихийно, чаще — вопреки человеческим планам, порою полный бессмыслицы или непонятной логики. Василий Осипович неоднократно повторял, что в процессе развития нередко следует различать два момента: историческую необходимость, созидающую процесс без участия идеи, и историческую потребность, которая может прийти много позднее как результат осознания исторической необходимости (напр., IV, 389). В отличие от историков-юристов, Ключевский внимательно относился к столь многочисленным случаям, свидетельствующим о слабости личного фактора в политике, о силе противоборствующего влияния народной психологии, среды вообще, традиции, обстоятельств, стихийности исторического процесса, наконец. Даже в деятельности Петра Великого постоянно видим отмечаемые Ключевским то необдуманность и отсутствие плана, то ощупью, в муках колебаний достигаемые принципы, то безотчетную наклонность воспроизводить отзвуки минувшего, то внутреннюю логику событий при отсутствии руководства со стороны власти, то гнет обстоятельств и ход дела, то даже новую европейскую конъюнктуру, перебрасывающую Петра, как игрушечный мяч, с устья Дона на Нарву и Неву. Петр просто делал то, что подсказывала ему минута; он стал преобразователем как-то невзначай, заключает автор «Курса». Так шутила история с Петром; что же видим в других случаях? Исключительные личности в Киевском периоде, возвышавшиеся над общим уровнем подобно Мономаху, приносили земле мир и тишину; а по смерти условия среды и кляузы родичей быстро заметали следы их плодотворной работы (I, 328). Владимиро-Суздальская Русь отмечена своим незаурядным князем. Что же дал Андрей Боголюбский? Условия жизни, замечает к слову автор «Курса», нередко складываются так своенравно, что крупные люди размениваются по мелочам, подобно Андрею Боголюбскому, а людям некрупным приходится делать большие
дела, подобно князьям Московским (II, 65). Совершенно так же из Смуты Московское государство выходило без героев; его выводили добрые, но посредственные люди (III, 76).
Так, ни личности, ни идее, ни экономическому моменту Ключевский не придавал значения абсолютных факторов в историческом процессе; для него вообще не существовало ни одной исторической силы, за которой с легкостью отвлеченной диалектики он признал бы примат в качестве основной причины исторического развития, действующей всегда и везде с безусловной неизбежностью и необходимостью.
Чем больше убеждался Василий Осипович в относительности действия отдельных исторических факторов, тем упорнее его мысль работала над признанием исключительной ценности для историка тех бесконечных сочетаний, в какие вступают исторические силы, никогда не проявляющиеся в истории изолированно. Положение одних факторов относительно других в этих многоликих комбинациях с трудом поддается учету историка; он то встречается с преобладанием одного элемента над остальными, то с совокупным действием равнозначащих сил, то с какою-нибудь иною особенностью. Порою создающееся в жизни сочетание сил и условий само становится фактором и составным элементом дальнейших новых сочетаний (I, 115-116). Исторический процесс нередко вырабатывает элементы, которые до времени словно лежат под спудом, не вступая в жизненный оборот, и только по истечении какого-то срока, как бы дождавшись недостающих соагентов, объединяются с ними в комбинированном действии (II, 384 и III, 331). Иногда у общественных движений в результате того, а не иного сочетания действующих в них элементов бывают в качестве последствий такие осложнения, которые, с некоторых пор становясь в свою очередь движущей силой, вступают с первоначальными элементами в новое соединение, придающее всему движению иную окраску и совершенно другой характер (III, 309 и 346-347). Или вот столь любимый Ключевским случай следствия, усиливающего актуальное значение свой причины (passim). Случается, что сочетания противоположного свойства, факторы обратной силы действуют в историческом процессе, друг другу помогая (III, 406 и 409). Присутствие в комбинациях, принципиально в целом несовместимых, общих элементов иногда вызывает их на совокупное действие. Часто рождаются своеобразные комбинации из встречи двух процессов с противоположными исходными пунктами, которые, однако, развиваются в направлении друг к другу (I, 450 и III, 217). Интересны случаи
своеобразного исторического магнетизма, когда под его влиянием, в сферу действия известного сочетания исторических сил необъяснимо втягиваются отдаленные и чуждые области жизни (III, 242).
Мы отметили лишь немногое из того огромного материала сочетаний, какой заключен в «Курсе». Их разнообразие и изменчивость не отпугивают и не смущают Ключевского; нет, он придает именно им исключительный научный интерес. Элементы общежития, думает он, в различных комбинациях и положениях обнаруживают неодинаковые свойства и действия, повертываются перед наблюдателем различными сторонами. Так создается возможность проникнуть в природу и в жизнь тех сил, что строят человеческие общества. Тайна исторического процесса — не в странах и народах, не в их данных раз и навсегда внутренних особенностях; чувствуется, что Ключевский определенно отмежевывается в этом пункте от донаучных точек зрения. Тайна исторического процесса — в многообразных сочетаниях исторических факторов и сил, в результате бесконечных изменений их взаимодействия под влиянием всякий раз иных условий народной жизни. Исторически слагавшиеся общества — всевозможные местные комбинации различных внутренних и внешних условий развития; чем больше изучим таких сочетаний, тем полнее узнаем свойства и действие этих сил и «условий». Методологическая значимость всякого местного исторического процесса определяется именно его своеобразием, количеством воскрешаемых им свойств элементов общежития, а не совпадениями с соответствующими моментами других местных историй. Только путем изучения местных исторических процессов, которые различаются не входящими в их состав элементами, но их проявлениями и всякий раз иными условиями образования этих проявлений,— только таким путем и достигается возможность построения исторической социологии как дисциплины, исследующей природу и действие сил, строящих человеческое общество (I, гл. 1).
С изложенными общими предпосылками Ключевский подходит к оценке истории нашего прошлого с точки зрения общего мирового процесса. В нашем прошлом, думает он, мы наблюдаем действие тех же исторических сил и элементов общежития, что и в других обществах. Но у нас эти силы действуют с иной напряженностью, эти элементы являются в ином подборе, принимают другие размеры, обнаруживают свойства, незаметные в других странах. Наблюдать за действием исторических сил в нашей истории тем удобнее, что мы встречаемся в ней с сравнительной простотой основных линий, помогающей достаточно отчетливо разглядеть работу созидающих
сил, и наблюдения эти в научном отношении могут быть чрезвычайно плодотворными, потому что сочетаниям исторических сил и элементов пришлось в нашей истории видоизменяться под влиянием своеобразно-русского комплекса условий народной жизни. Верный себе, Ключевский всякой аналогией пользуется для характеристики своеобразия нашего исторического развития. Это впечатление тонко подмеченных отличий русского исторического процесса сопровождает читателя чуть ли не в каждой лекции «Курса». Самое его построение дышит искусно оттененными особенностями нашего прошлого. Для Василия Осиповича история России — это история страны с огромной территорией и несоизмеримо малым населением, веками ее колонизовавшим и до сих пор еще не приостановившим своих массовых передвижек. Восточные славяне с первых же моментов своего появления на русской равнине оказались в менее благоприятной международной обстановке, чем их арийские родичи — германские племена, которым посчастливилось обосноваться в условиях соприкосновения с мощно действовавшей на них культурой предыдущей эпохи. И впоследствии колонизационные волны, перенося наших предков от одного края свободной пустующей равнины к другому, ставя их в другие внешние условия, всякий раз приводили к неудачно складывавшимся международным отношениям, благодаря которым приходилось разрешать непосильные задачи. Ненормальное соотношение между населением и территорией, периодически всплывавшее явление колонизации и гнет неблагоприятной международной обстановки в совокупном действии составили в нашей истории тот своеобразно-русский комплекс условий народной жизни, тяжелое влияние которого сообщило особую окраску и большинству сочетаний исторических сил и элементов общежития. Эти наблюдения не помешали Василию Осиповичу остаться далеким от всякого монистического догматизма. Убежденный в присущей историческому процессу некоей внутренней гармонии (1, 39), как бы исторического равновесия, которое регулирует борьбу и взаимодействие потенциально равновеликих сил,— Ключевский, по-видимому, был склонен даже воспользоваться наличностью в нашем прошлом элементов, окрашенных явной тенденцией к преобладанию над остальными, для объяснения свойственной русскому историческому развитию антиномичности. Василию Осиповичу казалось, что как раз в несоответствии населения стране заключена главная причина раннего развития у нас государства, которое пожирало все народное достояние, никогда не чувствуя себя удовлетворенным. Так создалось основное горе русского человека — гнет государственности и невозможность
без нее обойтись. Государство пухло, народ хирел — в этом главная особенность некоторых периодов нашего прошлого, создающая им научный интерес. Занимаясь судьбами русской государственности и отводя ей виднейшее место при обрисовке наших исторических судеб, Ключевский — позволяет себе думать — руководился лишь убеждением, что в пышном расцвете государственных тенденций — одна из особенностей русской истории, и был свободен от столь свойственного С. М. Соловьеву теоретического преклонения пред государством как «началом» и как методом всякого исторического изображения. Очень возможно, что и стремление автора «Курса» к истории русского государства, русской народности и их взаимоотношениям было навеяно его общим замыслом раскрыть своеобразие родного прошлого.
Говоря об антиномичности русского исторического развития, Ключевский предупреждал, что он вовсе не отождествляет ее с аномалией как отрицанием исторической закономерности. Может быть, в связи с наблюдениями над антиномичностью некоторые процессы русской истории казались Ключевскому уходящими в область исторической патологии, интересной и научно-ценной, несмотря на ненормальность, как организм с расстроенной нервной системой, все равно функционирующий по общим биологическим нормам, хотя и производящий соответствующие своему расстройству патологические явления (III, 8).
Высказывая мысли об антиномичности и патологичности русского исторического процесса, отмечая крупные и мелкие черты свойственного ему своеобразия, Василий Осипович между тем обнаружил ясно-отрицательное отношение ко всем, кто часто горячо настаивал на своеобразии и безусловной самобытности пройденного Россией исторического пути. Стремясь быть искренним искателем истины (I, 10 и III, 2), Василий Осипович с тем большей убежденностью остановился на точке зрения относительного своеобразия русской истории и неоднократно полемизировал в «Курсе» с сторонниками противоположения России и Запада как взаимно исключающих культур. Интерес к явлениям своеобразия нашего прошлого, социологически продуманный, сочетался у Ключевского с признанием тождественности основных линий во всех местных исторических процессах. В «Курсе», наряду с искусно подчеркнутыми явлениями местного русского колорита, нас довольно часто встречает интересное с сравнительно-исторической точки зрения учение об исторических возрастах, неизбежно сужденных всякому народу, которое автор обратил прежде всего против славянофиль-
ских представлений (III, 383 и IV, 437). Россия и Западная Европа, в момент их первой встречи и соприкосновения при Петре Великом, были, дает понять Ключевский, не двумя культурами, отсталой и передовой, навеки разделенными раз установившимся расстоянием; здесь встретились разные исторические возрасты со случайным и временным культурным неравенством (IV, 269 и 296). В соответствии с этим основным своим убеждением, Василий Осипович разошелся со сторонниками безусловного своеобразия русского исторического процесса и по ряду отдельных вопросов; так он, между прочим, отрицательно отнесся к одному из главных положе-. ний писателей славянофильского направления о том, что русская история не знала борьбы народа с властью, равно как опроверг и народническую гипотезу, будто в нашем прошлом не было места капиталу и связанным с ним социально-экономическим явлениям.
Та антиномичность, какую Ключевский усматривал в нашем прошлом, лишь одно из проявлений общемировой драмы, великой жизненной борьбы различных сил, дающей содержание истори-5 ческому развитию в целом. Однако в процессе этой борьбы и бес-$ конечной смены сочетаний и условий неизменно откладывается 4 и что-то более прочное, устойчивое, изучением чего достигаем । знания об уровне общежития. Знакомясь с движением, историк j задерживается на его этапах, которым Василий Осипович усвоял ) название форм. Для Ключевского форма — понятие чрезвычайно широкого охвата и многообразного содержания; с ней встречаешься и при обзоре политической истории и в анализе социальных отношений, и во время описаний явлений быта, церковной жизни, идейных настроений. Одним словом, «Курс» Ключевского как будто убеждает в том, что ни одно сочетание общественных элементов, исторических сил и условий развития не проходит в историческом процессе бесследно, мимолетной встречей; всякое сочетание всегда фиксируется в определенную форму и в таком виде живет более или менее продолжительное время, регулируя и оформливая жизнь. Что же такое эти формы? Если в сочетаниях общественных элементов и взаимодействии факторов с их бесконечной сменой и не приостанавливающимся движением имеем все внутреннее содержание исторического процесса, то в формах — так, по-видимому, представлял себе Ключевский — для нас открывается другая сторона этого процесса, фасад жизни, ее внешние очертания.
У всякой формы есть свой срок жизни; при этом формы могут погибать бесследно, не давая жизни новым формам; могут развиваться, то видоизменяясь постепенно, то созидая новые образования
без нее обойтись. Государство пухло, народ хирел — в этом главная особенность некоторых периодов нашего прошлого, создающая им научный интерес. Занимаясь судьбами русской государственности и отводя ей виднейшее место при обрисовке наших исторических судеб, Ключевский — позволяет себе думать — руководился лишь убеждением, что в пышном расцвете государственных тенденций — одна из особенностей русской истории, и был свободен от столь свойственного С. М. Соловьеву теоретического преклонения пред государством как «началом» и как методом всякого исторического изображения. Очень возможно, что и стремление автора «Курса» к истории русского государства, русской народности и их взаимоотношениям было навеяно его общим замыслом раскрыть своеобразие родного прошлого.
Говоря об антиномичности русского исторического развития, Ключевский предупреждал, что он вовсе не отождествляет ее с аномалией как отрицанием исторической закономерности. Может быть, в связи с наблюдениями над антиномичностью некоторые процессы русской истории казались Ключевскому уходящими в область исторической патологии, интересной и научно-ценной, несмотря на ненормальность, как организм с расстроенной нервной системой, все равно функционирующий по общим биологическим нормам, хотя и производящий соответствующие своему расстройству патологические явления (III, 8).
Высказывая мысли об антиномичности и патологичности русского исторического процесса, отмечая крупные и мелкие черты свойственного ему своеобразия, Василий Осипович между тем обнаружил ясно-отрицательное отношение ко всем, кто часто горячо настаивал на своеобразии и безусловной самобытности пройденного Россией исторического пути. Стремясь быть искренним искателем истины (I, 10 и III, 2), Василий Осипович с тем большей убежденностью остановился на точке зрения относительного своеобразия русской истории и неоднократно полемизировал в «Курсе» с сторонниками противоположения России и Запада как взаимно исключающих культур. Интерес к явлениям своеобразия нашего прошлого, социологически продуманный, сочетался у Ключевского с признанием тождественности основных линий во всех местных исторических процессах. В «Курсе», наряду с искусно подчеркнутыми явлениями местного русского колорита, нас довольно часто встречает интересное с сравнительно-исторической точки зрения учение об исторических возрастах, неизбежно сужденных всякому народу, которое автор обратил прежде всего против славянофиль-
ских представлений (III, 383 и IV, 437). Россия и Западная Европа, в момент их первой встречи и соприкосновения при Петре Великом, были, дает понять Ключевский, не двумя культурами, отсталой и передовой, навеки разделенными раз установившимся расстоянием; здесь встретились разные исторические возрасты со случайным и временным культурным неравенством (IV, 269 и 296). В соответствии с этим основным своим убеждением, Василий Осипович разошелся со сторонниками безусловного своеобразия русского исторического процесса и по ряду отдельных вопросов; так он, между прочим, отрицательно отнесся к одному из главных положе-. ний писателей славянофильского направления о том, что русская история не знала борьбы народа с властью, равно как опроверг и народническую гипотезу, будто в нашем прошлом не было места капиталу и связанным с ним социально-экономическим явлениям.
Та антиномичность, какую Ключевский усматривал в нашем прошлом, лишь одно из проявлений общемировой драмы, великой жизненной борьбы различных сил, дающей содержание истори-9 ческому развитию в целом. Однако в процессе этой борьбы и бес-Cj; конечной смены сочетаний и условий неизменно откладывается j и что-то более прочное, устойчивое, изучением чего достигаем знания об уровне общежития. Знакомясь с движением, историк задерживается на его этапах, которым Василий Осипович усвоял название форм. Для Ключевского форма — понятие чрезвычайно широкого охвата и многообразного содержания; с ней встречаешься и при обзоре политической истории и в анализе социальных отношений, и во время описаний явлений быта, церковной жизни, идейных настроений. Одним словом, «Курс» Ключевского как будто убеждает в том, что ни одно сочетание общественных элементов, исторических сил и условий развития не проходит в историческом процессе бесследно, мимолетной встречей; всякое сочетание всегда фиксируется в определенную форму и в таком виде живет более или менее продолжительное время, регулируя и оформливая жизнь. Что же такое эти формы? Если в сочетаниях общественных элементов и взаимодействии факторов с их бесконечной сменой и не приостанавливающимся движением имеем все внутреннее содержание исторического процесса, то в формах — так, по-видимому, представлял себе Ключевский — для нас открывается другая сторона этого процесса, фасад жизни, ее внешние очертания.
У всякой формы есть свой срок жизни; при этом формы могут погибать бесследно, не давая жизни новым формам; могут развиваться, то видоизменяясь постепенно, то созидая новые образования
из собственных руин, иногда длительным путем переходных форм, прежде чем дойдут до окончательного и прочного этапа (И, 424 и passim). Эволюционируя или погибая сама по себе в одних случаях, в других — форма живет и изменяется, принужденная быть отраженным развитием жизненных сочетаний.
Облекая содержание в плоть и привнося в жизнь внешнюю структуру, форма выполняет и другие функции. Иногда форма заключает в себе итог существующих отношений; нередко идея и сложившиеся комплексы исторических элементов находят в ней средство проявления (I, 29); часто форма служит средством действия, проводя в жизнь обобщенные и закрепленные ею соединения внутренних и внешних условий развития (I, 440). Получая с пути следования исторического процесса образовавшееся сочетание с тем или иным охватом жизненных отношений, форма претворяет его в очевидный всем факт, долженствующий стать и общепризнанным. Мысль отдельной личности, овладевая помыслами более или менее широкого круга общества, посредством формы делается направительницей жизни всего общества. Форма, наконец, может принять участие в процессе творчества новых жизненных отношений (II, 479). Так форма символизирует в историческом процессе общепринятое, общепризнанное либо общеобязательное.
Форма живет и действует при помощи ей присущих средств; так учреждения и правовые нормы, сами по себе составляя уже формы, в рамках общего политического уклада эпохи являются средствами действия этого уклада, данной политической формы. Жизнь часто идет впереди сознания, и формы, опираясь на сочетания общественных элементов, нередко остаются без понятий, соответствующих их природе. В таком случае форме приходится участвовать в образовании понятий (II, 152), что и дает основание говорить, например, о воспитательной рот]ги учреждений (IV, 257). Исходя из этой дееспособности форм, Ключевский допускал возможность исчезновения из жизни, вместе с гибелью подобных форм и содержания, скрытого за ними (IV, 340). На взгляды Василия Осиповича по вопросу о форме яркий свет бросают его известные размышления в одной из лекций третьего тома «Курса» о роли формы и обряда в различных областях человеческих отношений. «Я не разделяю пренебрежительного взгляда на религиозный обряд и текст,— говорил Ключевский...— Все это лишь формы верований, оболочка вероучения, а не его сущность. Но религиозное понимание, как и художественное, отличается от логического и математического тою особенностью, что в нем идея или мотив неразрывно связаны с формой, их выражающей... Надобно
строго различать способ усвоения истины сознанием и волей. Для сознания достаточно известного усилия мысли и памяти, чтобы понять и запомнить истину. Но этого очень мало, чтобы сделать истину руководительницей воли, направительницей жизни целых обществ. Для этого нужно облечь истину в формы, в обряды, в целое устройство, которое непрерывным потоком надлежащих впечатлений приводило бы наши мысли в известный порядок, наше чувство в известное настроение, долбило бы и размягчало нашу грубую волю и таким образом, посредством непрерывного упражнения и навыка, превращало бы требования истины в привычную нравственную потребность, в непроизвольное влечение воли... Так не в одной религии, так и во всем... Обряд или текст — это своего рода фонограф, в котором застыл нравственный момент, когда-то вызвавший в людях добрые дела и чувства. Этих людей давно нет, и момент с тех пор не повторился; но помощью обряда или текста, в который он скрылся от людского забвения, мы по мере желания воспроизводим его и по степени своей нравственной восприимчивости переживаем его действие. Из таких обрядов, обычаев, условных отношений и приличий, в которые отлились мысли и чувства, исправлявшие жизнь людей и служившие для них идеалами, постепенно путем колебаний, споров, борьбы и крови складывалось людское общежитие» (III, 370-374).
Органическая связь формы с содержанием, однако, не абсолютна; между ними — и очень часто — возможны противоречия и несоответствия. Так, в Новгороде Великом формы политического быта резко расходились с действительными общественными отношениями. Так, земский собор принял в Московском государстве формы, отрицавшие его идею. Однако формы, извратившие содержание, исказившие действительный отношения, редко в историческом процессе получают жизненно-реальное значение (II, 269 и 170). Вечно юная жизнь, с ее всегда готовыми новыми нуждами, запросами и способами действия, обычно торжествует и над формами стереотипными, периодически возвращающимися (III, 47), и над формами устарелыми, обветшавшими, необъяснимо существующими благодаря какому-то попустительству истории (II, 230; IV, 104). Выводя эту отсталость форм из той косности, какая свойственна всем расположениям человеческой души, Ключевский допускал и обратное явление, когда жизнь опережается формой. Формы, заимствованные «с примеру чужих стран» и сорванные таким образом с другого склада понятий и нравов, не находя себе необходимого питания на чуждой почве, куда их пересадили, погибают более или менее бесславной смертью (IV, 256).
Между тем возможны явления и другого порядка; Василий Осипович знает их и умеет заботливо оттенить. Большой научноисторический интерес приходится признать за теми случаями, которые открывают для формы возможность существовать и действовать вразрез с собственным содержанием и вопреки соответствующему сочетанию элементов общежития (IV, 341). Так в рамках определенного политического уклада не редкость наблюдать политику, которая расходится более или менее со смыслом общественной группировки, лежащей в основе этого уклада; так государственная власть, даже при классовой ее структуре, имеет возможность придавать своей деятельности внеклассовый характер.
Одним словом, историк должен зорко всматриваться во все оттенки соотношений содержания и формы; жизнь в ее реальности, даже не облекшаяся в форму,— предмет его глубокого интереса, формы, оказавшиеся без содержания, либо вовсе им не обладавшие, или же потерявшие с ним связь — могут то возбуждать в нем внимание археолога, то давать повод лишь скользнуть по ним своим взглядом. Историк помнит, что жизнь, при воплощении в форму, теряет много красок и колорита; подвергаясь ее действию, восполняет форму своими деталями, а часто и новым, несвойственным ей, смыслом (IV, 186 и passim). Форма и ее действие — моменты исторически различные и в научном отношении не равноценные (II, 280). Историк не может не делать выводов из того наблюдения, что юридические нормы, поступая из законодательной мастерской в житейский оборот, получают от него особый жизненный смысл, часто независимый от планов законодателя, им непредусмотренный (IV, 424).
Хорошим фоном для воззрений Ключевского на форму могут быть его представления о сущности и роли случайности в историческом процессе. Случай и необходимость, случай и право, случай и порядок, случай и норма были для Василия Осиповича категориями, друг друга объясняющими и методологически противоположными (I, 225; IV, 473; I, 45). Считая всю область проявлений общества как исторической силы свободной от элементов случайности, Ключевский отождествлял случайное с личным. «Личные стремления обыкновенно произвольны,— говорил он,— личные чувства и понятия всегда случайны, те и другие неуловимы» (I, 294). Это не мешало Василию Осиповичу ставить личность в ряду исторических сил и научно ею интересоваться. Он был убежден, что у личности есть свои пути, какими она доводит личное и случайное до степени общего, до степени порядка. Одним из таких путей он признавал повторяемость случая, которая создает для него воз
можность стать сначала прецедентом, а затем в силу традиции, привычки, обычая обратиться в общепризнанное правило или общеобязательный факт (II, 54 и IV, 136). Так могут получаться формы без норм, отношения, первичным моментом которых было единичное. Василий Осипович думал, что история Московского государства строилась главным образом традицией, обычаем, обобществленной случайностью (passim).
Вообще, учение о форме — как кажется — играет в «Курсе» Ключевского фундаментальную роль. В одном месте мы читаем у Василия Осиповича, что человеческое общежитие строится взаимодействием двух вечно борющихся начал: общего блага, проникающего политическую жизнь, и личного интереса, на котором строятся экономические отношения (I, 34). Из другой выдержки узнаем, что Ключевский находил возможным экономические явления в чистом виде, не осложненные юридическим моментом, квалифицировать как случайности (I, 445). Так получается возможность прийти к заключению, что в экономической стороне исторического процесса мы имеем преимущественную сферу действия личности как исторической силы; тогда как политическая история владеет ключом к познанию свойств общества как второго основного элемента общежития; при этом форма — обычный путь для превращения фактов экономических из случайных в факторы общежития. А так как «Курс», по замыслу Василия Осиповича, посвящен по преимуществу политической и экономической стороне русского исторического процесса, то не имеем ли мы права думать, что ученый — творец, занимаясь в подобной плоскости русским прошлым, быть может, попутно и тем самым разрешал теоретический вопрос о личности и обществе, о форме и случайности, который, ввиду некоторых обстоятельств современного ему развития русской историографии, мог и для него стать больным, настойчиво ожидавшим ответа.
Учение о форме, в сущности, стоит на грани тех двух исторических дисциплин — исторической социологии и истории цивилизации или культуры, которые своей совокупностью заполняют в глазах Ключевского всю область исторического ведения. Принадлежа, хотя и не в равной мере, им обоим, учение о форме дает нам случай вспомнить, как определял историк помянутые отрасли знания, как он разграничивал их. Если историческая социология — наука о строении общества и силах исторического движения, наука о кинетике исторического процесса, то в истории культуры Ключевский видел такую дисциплину, которая занята результатами исторического
движения и приводит в ясность успехи общежития, изучая степень выработки последнего. Не имея надобности говорить здесь об очень небесспорном принципе отнесения к ценности, неизбежном при только что очерченном понимании истории культуры, скажу лишь, что наш историк признавал неодинаковую значимость местного развития для помянутых дисциплин. Отводя всеобщему историку историю культуры, ввиду возможности для него больших масштабов и широких сопоставлений, изучению истории отдельного народа Василий Осипович ставил социологические задачи, говоря, что внимание местного историка само собой устремляется в глубины жизни, на исследование скрытых пружин движения.
Определяя так историческую науку и ее содержание, Ключевский верил в ее конечное торжество, рисовавшееся ему в виде общей социологической части; он был убежден, что со временем выработается наука об общих законах строения человеческих обществ, приложимых независимо от преходящих местных условий. Вера в торжество исторической науки, осложненная вызванным ею пафосом историка — гражданина, достигает великой яркости в тех пунктах «Курса», где умудренный учитель говорит о недоимках наших предков, составляющих наши задачи, и о практических потребностях текущей минуты, требующих от каждого из нас отчетливых знаний о накопленных народом средствах и допущенных или вынужденных недостатках нашего исторического воспитания. Правда, гражданственность эта приводит Ключевского к несколько рискованным в научном отношении рассуждениям об исторической личности народа и его призвании, но эти случайные вспышки чувства, не влияя на курс, не должны и от нас закрывать всей убежденности знаменитого историка относительно возможности обнаружения общих законов исторического развития. Так Василий Осипович Ключевский стал историком-социологом. Не разграничивая социологии от истории, он знал одну историческую науку, в которой намечал различные области или стадии ее изучения. Оставляя открытым вопрос о генезисе, в данном случае нам важно установить, что теоретические взгляды Ключевского в своем окончательном складе сложились в строчную продуманную социологическую систему. Несомненно, существующие в ней некоторые неслаженности могут влиять на ее общую теоретическую оценку и не лишают системы крупного историографического значения.
В свете общих исторических воззрений «Курс» Ключевского, безусловно, должен быть признан теоретически отличным от трудов предыдущих русских историков и качественно иным. При таком
теоретическом подходе к «Курсу» немало присущих ему позаимствований оказывается как раз балластом, влекущим Ключевского назад, а не тем, чем он ценен.
Поставив русской исторической науке новые задачи, иначе очертив ее объем, содержание и значимость, В.О. Ключевский укрепил в ней и новый метод, прямо вытекавший из основного определения исторической науки. Этот метод помог ему воссоздать в своем изображении то единство и гармоничность исторического процесса, который подорвали его предшественники, одни — выделением государственного начала, другие — противопоставлением . государству земли; те и другие сообща — отношением к Петровской реформе, что, однако, не мешало им заявлять себя последователями органического взгляда на историческое развитие. Ключевский был эволюционистом в лучшем и серьезном смысле слова. «Боярской думой» он ярко начал служение общему научному мировоззрению второй половины прошлого столетия и до конца жизни остался с верой в непрерывность исторического развития каждого общества, при ясном, однако, сознании, отсутствовавшем у старой теории прогресса, что целостного и единого мирового процесса не существует.
Понимая и русский исторический процесс как эволюцию общежития, Ключевский в народе и государстве видел только различные формы общественного союза; он не отделял форм политического быта от определявшего их и заполнявшего содержанием взаимоотношения общественных стихий; и в качестве завета оставил русской историографии «Боярскую думу» как образец единственного правильного подхода к политическому строю.
Ключевский указал и новые области изучения. Экономический материализм, первые победы которого совпали с началом научного пути Василия Осиповича, сказался на нем несомненным и сильным влиянием. Ключевский впервые сделал экономический фактор в такой мере достойным изучения, что положил в основание своего «Курса» политико-экономическую программу. Но уделяя самое серьезное внимание экономической стороне исторического процесса, соответствующим образом настраивая своих последователей, Василий Осипович и здесь обнаружил присущий ему талант остановиться во время, не переходить границ реальных наблюдений. Узаконив экономический момент в историческом изучении, Ключевский не сделал из экономического фактора всеобъясняющей и всеобъемлющей причины и основы всякого исторического движения.
Расширяя область исторического изучения, углубляя понимание русского прошлого, Ключевский указал и возможность к достижению
формулированных по новому задач нашей науки. Выше была сделана попытка очертить взгляд Василия Осиповича на роль формы и значимость сочетаний общественных элементов в историческом процессе. Отождествляя с сочетаниями содержание последнего и часто следя внимательно за отсталостью формы, Ключевский, думается, очень тонко намечал этим один из многих пунктов своего расхождения со старой школой. Историки-юристы, как будто дает понять Ключевский, в сущности говоря, интересовались одним развитием форм, почти исключительно политическим, и упускали из виду реальную жизнь, гораздо более сложную и подвижную, нежели формы, в которых ей тесно и душно, зачастую их приходится ломать. Не отвлекая внимания историков от изучения смены форм и в то же время направляя его на реальные соотношения общественных элементов, Ключевский позаботился указать и надежный материал для разрешения задач новой отрасли — исторической социологии. Соловьев указал путь в архивы, но использовал их богатства односторонне; выбор актов направлялся целями изучения, а их ответы определялись характером ставившихся вопросов. В лице Ключевского наука выдвинула новые запросы, понадобились иные типы документов, и они нашлись. Для обрисовки не фасада жизни, а ее реального изменчивого содержания, Ключевский не побоялся стать скромным и кропотливым собирателем ничем не выдававшихся документов; приоткрылись будни жизни, и по мере все более глубокого проникновения в архивы для новых искателей создавалась возможность новым светом озарять русское прошлое. По всему строю своих воззрений и укладу натуры Василий Осипович казался в состоянии заставить ожить под своим пером давно ушедших людей, вновь зазвучать отзвучавшие струны, привести в движение когда-то действовавшие сочетания общественных элементов, воскресить все оттенки их взаимоотношений и борьбы. Ключевский не пошел по тому пути, на который его звала старая идеалистическая школа, но он отказался и от другого пути, куда его мог влечь экономический материализм. Монистическое объяснение истории не было воспринято Ключевским. В «Курсе» мы встречаемся с множественностью действующих в истории сил и факторов; наблюдаем, как попадают они в различные положения, всякий раз выявляя разные стороны своего содержания. В «Курсе» нас встречает воскрешенная жизнь в ее вечной смене сочетаний и форм, совершающейся по определенным законам развития, и вместо метафизического догматизма, сознательного или невольного,— чутье реальной действительности. Талант и интуиция художника придавали силу убеждения этим теоретическим взглядам и содействовали
их замечательному приложению на страницах «Курса». Василий Осипович где-то обмолвился, что жизненная цельность исторического процесса — наименее податливый предмет исторического изучения. Но — думается — Ключевский вплотную подошел к разрешению этой нелегкой задачи только благодаря своей полной отрешенности от монистического взгляда на историю. Эта последняя особенность творчества Ключевского своим влиянием оставила глубокий след на дальнейшем развитии русской историографии. Призыв к изучению исторического процесса в его жизненной сложности и целостности нашел отражение и лучше всего запечатлелся в жизнеспособности самого построения. После Ключевского осталась многочисленная школа, как никогда широко поставившая дело изучения русского прошлого, неустанно привлекающая все новые виды источников и стремящаяся исследовательским взором охватить всю ширь русского исторического процесса.
«Мы шли вглубь отдельных вопросов,— писали ученики Василия Осиповича в сборнике своих статей, посвященных ему.— Изучая Смутное время, преобразования Петра, Литовскую Русь, историю русской верховной власти и государственного тягла, судьбы русской деревни, прошлое русского города, от южной окраины Московского государства через Замосковный край шли на далекий Поморский север с его мужицкими мирами — над чем бы мы ни работали, мы всегда исходили из Вашего “Курса” и возвращались к нему, как к тому целому, отдельные части которого мы изучали». Разве в этих словах не увидел себя осуществленным завет учителя — изучать прошлое в его жизненном многообразии, не привнося схемы и догматизма. Социолог Ключевский, ценя в русской истории ее своеобразие, тем самым привлекал исследовательское внимание именно к ней и таким образом давал новый импульс развитию русской историографии. Но создавая культ нашего прошлого, Василий Осипович руководился одним социологическим интересом, а не той или другой формой национальной идеологии; говоря о своеобразии русского исторического развития, он не обособлял его от действия общих исторических законов. Только Ключевский исходил не из тождества процессов, а из аналогичности сил, действующих у нас, как и везде, этим невольно отдавая, быть может, слабую дань тем временам, когда в нашей науке велись споры о «началах».
С. А. ПИОНТКОВСКИЙ
<В.О. Ключевский>
«Фрагменты >
Что представляет собой тематика исторических работ начала XX века и о чем она говорит? Если мы возьмем темы исторических работ Ключевского, Платонова, Любавского, Корнилова, Милюкова, Довнар-Запольского1, Кизеветтера — это почти все основные представители буржуазной историографии первого десятилетия XX века,— то мы увидим, что все они имеют нечто общее в тематике. Все их работы ограничены и сжаты вокруг определенных тем. Можно даже сказать более, что все они, в сущности говоря, посвящены одной теме, хотя по своему конкретному наполнению и выполнению трактуют о разном. Первое, что бросается в глаза при анализе работ этих историков,— это то, что все они занимаются историей государства, государственной власти и государственного аппарата. Общий курс Ключевского и Платонова, вышедшие один в конце XIX-го, другой в начале XX века, и курс русской истории Любавского, вышедший в начале второго десятилетия XX века2, сводят всю историю к истории государств и истории народов. Для Платонова и Ключевского основным стержнем русского исторического процесса является Московское великорусское государство. Такое же ударение на историю государств делает и Корнилов, Платонов, Ключевский, Любавский,— это фигуры вполне определенные, это представители кулацкой торговой буржуазии. Корнилов, секретарь ЦК кадетской партии, является представителем растущего аграрного промышленного капитализма. И всех их одинаково интересует только одно — государство. Корнилов в своем специальном курсе, посвященном истории XIX века, говорит о том, что под историей России он подразумевает процесс развития русского государства. «Государство, как известно, заключает в себе три элемента: территория, осевшее на этой территории население
и верховная власть, объединяющая это население в одно политическое целое»3. Это, в сущности говоря, формулировка целей исторического изложения, которую ставит себе и Ключевский. Эту же формулировку почти в таких же выражениях дают и другие историки, дает Милюков, дает Любавский. Ключевский свою задачу изучения государства формулирует в конце XIX века. Милюков говорит о ней в начале XX века. Любавский повторяет об этом во втором десятилетии XX века. Интерес к истории государства является не завоеванием буржуазной историографии XX века, а достался ей по наследству от пионеров буржуазной историографии XIX века. Чичерин и Соловьев первые поставили как основную цель своего исторического изучения изучение истории государства, а их неудачные ученики, эпигоны на протяжении второй половины XIX и всего существования буржуазной историографии в XX веке, неустанно повторяют о том, что они заняты изучением истории государства. Общая тематика буржуазной историографии чрезвычайно архаична.
Наряду с историей государства существуют еще две излюбленных темы, две излюбленных проблемы, которые всецело привлекают к себе внимание буржуазной историографии всех направлений. Это вопрос о национальности, вопрос о народе, как они его формулируют, и проблеме колонизации. Вопрос о национальности и колониальная проблема — две проблемы, которые наряду с проблемой государства были выдвинуты перед исторической наукой двумя историками — Чичериным и Соловьевым — в 50-х годах прошлого столетия. И с 50-х годов прошлого века вплоть до революции 1917 года эти два вопроса, так же как проблема государства, заполняли страницы исторических исследований буржуазной историографии. И Платонов, и Ключевский, и Корнилов — все они одинаково стояли на русских националистических позициях, все они одинаково предметом своего исторического исследования брали исключительно историю великорусского народа. У Корнилова, этого идеолога и практического руководителя империалистической буржуазии, имеется прямо-таки замечательная формулировка его позиций в национальном вопросе. «Я буду,— пишет он о задачах своего курса,— излагать главным образом историю русского народа, останавливаясь на истории прочих частей населения лишь постольку, поскольку события, составляющие эту историю, вопросы, тут возникающие, и процессы, среди этих народностей развивающиеся, касаются интересов всего русского государства»4. «Прочих частей населения» — это исключительная формулировка! Но такое разрешение национального вопроса, такое отношение к истории
России как истории великорусского народа, в котором «прочие части населения» допускаются как необходимый иногда исторический материал, имеется и в работах Платонова, Ключевского и Любавского, и это же имелось в работах Соловьева и Чичерина. В области национального вопроса в буржуазной историографии можно наметить некоторую эволюцию. Соловьев и Чичерин и их ученики вплоть до Ключевского стояли на великорусско-буржуазных национал-шовинистических позициях. В начале второго десятилетия XX века в этом вопросе в буржуазной историографии намечается некоторый сдвиг. Великорусские позиции начинают заменяться российскими, и историки начинают строить схему развития русского государства как слагаемое великорусского, белорусского и украинского ядра, превратившееся в российское государство. Это отражает шаг вперед в русификаторстве народов российской земли. Это означает количественное изменение соотношения между отдельными народами нашей страны в сторону создания единой не великорусской, а общерусской, общероссийской буржуазии. Эти нотки заметны в труде Любавского, и эти же нотки имеются и в работе Преснякова5. Пресняков отмечает, что Московское государство «перестало быть государством великорусским; переросло прежние национальные грани, выросло в империю всероссийскую». Украинский момент внес свой вклад в русскую культуру, но это привело лишь к тому, что создалась общероссийская культура с преобладанием в качестве основы великорусской. «Культурная жизнь,— пишет, Пресняков, — трех последних столетий является поистине созданием и достоянием всех ветвей русской народности, хотя и сложившимся на великорусской основе»6.
Эти теории являлись теориями крайнего русификаторства, русификаторства победоносного, русификаторства, которое отражало уничтожение особенностей отдельных ветвей русского племени, означало образование общероссийской буржуазии, захватившей в свои руки российский рынок и стремящейся распоряжаться бесконтрольно здесь и продолжать свою политику русификаторства и уничтожения всех национальностей российской земли.
Отдельная тема исторических исследований буржуазной историографии, которой наряду с темой о государстве, отдали дань буржуазные историки всех направлений,— это проблема колонизации, которая неразрывно связана, которая всецело вытекает из разрешения национального вопроса. Исключительное явление: в 1917 году мы имели работы, которые написаны на тему, представлявшую интерес в 50-х годах прошлого столетия. Тематика
исторических исследований держится одна и та же более чем в продолжение 70 лет. Все историки XX века — Платонов, Ключевский, Любавский — в общих курсах, ряде монографий одинаково подчеркивали вопрос о колонизации, выпячивали его как основной стержень своих книг и исследований. Ключевский заявил, что история России есть история страны, которая колонизируется. Платонов строил весь исторический процесс России как историю борьбы на три фронта с национальными врагами, как историю страны, которая колонизируется. Милюков в своих очерках культуры заявлял, что он разделяет вопрос о колонизации как вопрос об одном из основных стержней русского исторического процесса. В XX веке мы имеем ряд отдельных монографий, которые ставили своей задачей историю колонизации того или другого района. «Колонизация Сибири» Буцинского7, «История засечной черты» Яковлева8, история колонизации отдельных районов Поволжья, колонизация отдельных районов Украины — все это разрабатывалось с точки зрения русского народа, с точки зрения великорусского племени, с точки зрения, на которой стояла буржуазная историография в 50-х, 60-х, 70-х годах. Это было открытой проповедью национал-шовинизма. Русификатор и колонизатор 70-х годов Перетяткович9 в своих работах рассказывал о том, что русский народ, народ цивилизатор, нес свое просвещение в Среднее Поволжье, а московские историки XX века проф. Яковлев, Бахрушин10 выпускают работы о колонизации Сибири, о засечной черте Московского государства, в которых тоже доказывали колонизаторскую и просветительную роль великорусского народа по отношению ко всем национальностям российской земли.
Анализ тематики буржуазной историографии, прежде всего, говорит о чрезвычайной архаичности тем исторических исследований. Темы, которые ставили Соловьев и Чичерин в 50-х годах прошлого столетия, были несомненным шагом вперед сравнительно с тем положением, в котором находилась тогда историческая наука. В 50-х годах промышленная и аграрная буржуазия еще только зарождалась и отправлялась в свой исторический путь. Тогда, когда она ставила темы о государстве, о колонизации, о великорусском народе, она защищала стремление растущей молодой промышленной буржуазии, она стремилась разломать феодальные пережитки и пробиться сквозь них к предпринимательской прибыли. Когда буржуазная историография в течение 70 лет сохранила одни и те же темы и в начале второго десятилетия XX века продолжает трактовать и обсуждать те же проблемы, о которых говорила буржуазная
историография в 50-х годах, 70 лет тому назад, то это уже не свидетельствует о молодости буржуазии, это уже не свидетельствует о ее шагах вперед, а свидетельствует о том, что буржуазная историография застряла на месте, что темы ее архаичны. В течение 70 лет буржуазная историография не сумела выдвинуть ни одной темы, которая не была бы выдвинута в начале развития буржуазии, в начале образования промышленно-капиталистической системы в России. В эпоху промышленного переворота буржуазная историография России выдвинула ряд тем и заговорила новым языком, и эти темы буржуазия сохранила в продолжение всего существования буржуазной системы отношений в России. Анализируя тематику исторических работ начала XX века, можно сделать определенный вывод — тематика буржуазной историографии начала XX века говорит о том, что разные группы российской буржуазии занимают один определенный фронт по отношению к государственному аппарату, что разные группы российской буржуазии сливаются в одно единое целое, противостоят как единая национальная великорусская буржуазия всем остальным народам российской земли, что эта единая великорусская буржуазия озабочена обоснованием и непрерывным продолжением и расширением своей эксплуатации на все народы российский земли, озабочена расширением своей эксплуатации за пределами российских границ. Устойчивость тем буржуазной историографии начала XX века сигнализирует о том, что буржуазия заняла постоянный и довольно-таки неподвижный фронт. Наличие в XX веке тем, сформулированных в 50-х - 60-х годах, говорит о том, что буржуазная историография, а вслед за ней, следовательно, и тот класс, который она выражает, уже не двигается вперед, а защищает упорно занятые позиции. Неподвижность тематики буржуазной историографии — отличительная черта, которая вытекает из анализа тем исторических работ российской буржуазии первых девятилетий XX века. Чем объяснить эту неподвижность буржуазной историографии и ее тематики? Неподвижность тематики буржуазной историографии объясняется социальной сущностью российской буржуазии, особенностями ее социального бытия. На всем протяжении ее существования хотя и меняются, но все время воспроизводятся основные черты: сочетание высокоразвитого капитализма с самым диким землевладением, сочетание капиталистической и феодальной формации; господствующее положение великорусской буржуазии и эксплуатация ею российских колоний Сибири, Среднего Поволжья, Туркестана и Кавказа; стремление этой буржуазии к новым объектам эксплуатации, к новым колониям
как источникам быстрого получения высокой предпринимательской прибыли. Она шла по пути развития промышленно-капиталистической системы в России, но в то же самое время сохранялось определенное соотношение между феодальной формацией и растущей капиталистической системой. Это приводило к тому, что постоянно воспроизводились и политические стремления буржуазии по отношению к феодальным формациям. Власть оставалась в руках феодальных группировок, а буржуазия требовала твердой власти и, встав на ноги, неустанно стремилась к власти. Эта определенная устойчивость ее политических стремлений приводила к непод-. вижности и консервативности буржуазной тематики. Стремление великорусской буржуазии к господству и эксплуатации приводило к устойчивости и других частей буржуазной тематики — проблемы колонизации, народности и национальности.
Анализ тематики буржуазных исторических работ хотя и дает уже представление о политической сущности буржуазной историографии, но он недостаточен для того, чтобы вскрыть полностью политическую сущность и роль буржуазной историографии начала XX века. Необходимо связать анализ тематики исторических работ с анализом их содержания и с анализом их методологии. Только совокупность анализа тематики, анализа содержания и анализа методологии исторической работы дает возможность ясно представить истинное лицо, истинную роль и истинную программу, которые формулировала, защищала и пропагандировала буржуазия в своих исторических работах.
Политическая программа и Платонова и Ключевского в значительной степени совпадают. Ее можно было бы формулировать старыми, давно известными словами — православие и народность, у Платонова — самодержавие без оговорок, у Ключевского — правовое государство. Платонов по своим воззрениям ближе к правящей верхушке, вернее, к правящей бюрократии, чем Ключевский. Ключевский более упирается своими корнями в торгово-капиталистическую кулацкую мелкую буржуазию и буржуазную интеллигенцию. И тот и другой достаточно отрицательно относятся к феодальным пережиткам. Но если отрицательное отношение Ключевского к определенному социальному институту выражено им ясно и резко, то, наоборот, Платонов более говорит о положительной стороне своей политической программы и замалчивает свои критические оценки. Политическая программа Ключевского сформулирована в общей схеме его курса. «История России,—^учил Ключевский,— это история страны, которая колонизируется».
Мысль о колонизации взята у Соловьева, и от Соловьева она попала во все исторические работы русских буржуазных исследователей. Колонизируясь, страна расширяется. В процессе колонизации создается народность. Последствия колонизации — «весь политический и общественный быт Руси»11.
Ключевский сразу оговаривается; что в его исторических работах его интересует процесс образования государства и народности лишь одной чистокровной ветви славянского племени — великорусской народности. Он говорит, что стремится ограничиться только изучением «северо-восточной струи русской колонизации». Это вполне понятно. Для него стержнем исторического процесса всей России, всей русской земли является стержень существования современной ему России, является как раз та часть славянского племени, которая колонизировала Среднее Поволжье. Здесь как раз этими колонизаторами, возросшими в своем числе, и создавался остов государства, которое привлекает к себе внимание Ключевского не только в прошлом, а главным образом в настоящем. Здесь как раз и создавалось то государство, власть в котором и привлекала алчные взоры буржуазии. «Главная масса русского народа,— пишет Ключевский,— отступив перед непосильными внешними опасностями с днепровского юго-запада к Оке и верхней Волге, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах Центральной России, спасла свою народность и, вооружив ее силой сплоченного государства, опять пришла в днепровский юго-запад, чтобы спасти оставшуюся там слабейшую часть русского народа от чужеземного ига и влияния»12.
Но одной колонизации мало было, по мысли Ключевского, для создания единого государства, для создания национального единства; для этого необходима была связь нравственная — эту связь дала церковь. Только распространение этой нравственной связи крепило национальное сознание и выковывало идею государства. Русская церковь, по мысли Ключевского, была одной из создательниц государства Московского. Это она «благословила своим почином» сосредоточение раздробленной государственной власти «и приобщила восточно-европейских и азиатских инородцев к русской церкви и народности посредством христианской проповеди. Это она наконец дала русскому народу нравственные силы выполнить выпавшие на его долю задачи. Митрополит Алексей, Стефан Пермский, просветитель заволжских инородцев, и Сергей Радонежский — вот три деятеля, которые своими усилиями помогли созданию великорусского народа и великорусского государства. При
Л'" 1 ' " ..... ,—
' имени “преп. Сергия”,— писал Ключевский,— народ вспоминает \ свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правила, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравствен-' ной». Таким образом, существование государства политически тесно связано с существованием христианства и церкви. Христианство и церковь дают славянским племенам сознание национального единства. И эти имеющие национальное единство племена, колонизируя междуречье Оки и Волги, создают свое особое государство.
Здесь старая, как мир, идея, о связи православия с самодержа-, вием. Но это православие и самодержавие в учении Ключевского тесно связано с народностью, причем он не только обращает преимущественное внимание своего изучения на великоруссов, но он считает великоруссов основным ядром российского государства, чистым представителем российской народности. Ключевский рассматривает народы с точки зрения чистоты их крови. В этом отношении малоруссы, по терминологии Ключевского, стояли, по его мнению, гораздо ниже, так как они представляли собой не чисто славянское племя (буржуазные историки, и Ключевский в том числе, отлично знали, что великоруссы не чище славян), это были малоруссы, а великоруссы — была Русь.
«Возвращаясь теперь на свои старые пепелища, встретилась (Русь) с бродившими здесь остатками старинных кочевников, торков, берендеев, печенегов и др. Я не утверждаю решительно, что путем смешения возвращавшейся на свои древние днепровские жилища или оставшейся здесь Руси с этими восточными инородцами образовалось малорусское племя... Не нахожу достаточных оснований ни принимать, ни отвергать такое предложение»13.
В национализме, после этого высказывания Ключевского, дальше идти было некуда. Поставив себе целью изучение великорусского народа и характеризуя его как избранный на восточно-европейской равнине народ, Ключевский дальше указывает, как растет здесь идея национальности и идея государства, как превращается великорусское княжество в государство, объединяющее всю восточно-европейскую равнину в ее тогдашних границах и все народы, живущие на этой территории. Ключевский в прошлом истории России видел процесс непрерывной борьбы с врагами. Этой борьбой за национальное государство он и объясняет все процессы и все явления, происходящие в русской жизни. Он готов был даже, при всей своей нелюбви к дворянству и крепостничеству, признать крепостничество как элемент теории закрепощения государством
на службу государству все сословия и классы. Но как верный представитель буржуазии он считал, что основными факторами исторического процесса являются труд и мысль. Труд, писал Ключевский, «нравственный долг и основа нравственности — порядок» 14. «Мысль, — говорил он, — умственный труд и нравственный подвиг всегда остаются лучшими строителями, самыми мощными двигателями человеческого развития».
Для него исторический процесс образования государства и народности сводился к созданию такого строя, который соответствует «истинным потребностям человека и высшему назначению человечества ». А ясно, что истинным потребностям человека и человечества крепостное право отнюдь не соответствует. И Ключевский, допуская теорию всеобщего закрепощения на службу государству, жестоко бичует в своем курсе крепостничество и его пережитки, объясняя свою теорию тем, что за раскрепощением дворянства не последовало раскрепощения крестьянства. Он радикально и резко отмежевывается от дворянско-феодальных группировок. Но этим своим отрицательным отношением к крепостничеству он лишь резче подчеркивает сущность своей политической программы. Государство как центр, национализм как неотъемлемая связь с государством, народность, осуществляющая свою особую историческую миссию, великорусская народность в особенности, народность, спасшая все другие народности восточно-европейской равнины и присоединившая их к себе,— вот одна часть политической программы. Другая часть — отрицание крепостничества и признание труда и мысли — частного хозяйства как силы, создающей условия для развития человека и человечества в его индивидуальных свойствах. Под этой формулой труда и мысли заключается формула признания индивидуального хозяйства, буржуазного хозяйства по существу, а отсюда ясно, что Ключевский защищает именно эту форму хозяйствования. Он отрицает классовую борьбу. Для него в исторических процессах не классовая борьба двигает историю, а именно труд и мысль.
Анализируя XVII век, век народных мятежей, как он его характеризовал, он указывает, что недовольство высших и низших классов проявлялось по-разному. «Если в народной массе оно шевелило нервы, то наверху общества оно будило мысль и повело к усиленной критике домашних порядков, и как там толкает к движению злость на общественные верхи, так здесь господствующей нотой протестующих голосов звучит сознание народной отсталости и беспомощности» 1й.
Этим самым Ключевский дал сразу оценку своему отношению к классовой борьбе и к ее роли в истории. Процесс классовой борьбы, проявление злости одинаково бессмысленно и бесцельно по своему существу. И лишь мысль задумавшихся о народном благе, мысль осознавших себя представителей всего народа двигает историю. Локомотивом истории является идея, а не классовая борьба, учит Ключевский. Еще лучше отношение Ключевского к процессам классовой борьбы сформировано на тех страницах его «Курса», которые посвящены анализу так называемого Смутного времени, особенностям движения Болотникова, движения крестьян. В этих ' выступлениях ранней крестьянской революции Ключевский отказывается вообще видеть какой-нибудь политический смысл. Для него это просто движение тех, кто хотел хорошо пожить. Проблема классовой борьбы превращается в проблему простого грабежа. И вопрос о классовой борьбе вокруг отношений собственности Ключевский рассматривает как простое нарушение отношений собственности, предусмотренное соответствующими статьями буржуазного кодекса. Буржуазную оценку социальных конфликтов настоящего он переносит и на социальные конфликты прошлого, ища тем самым как в прошлом, так и в настоящем извечной буржуазной системы отношений. «Политические стремления,— писал Ключевский о движении Болотникова,— этих классов совсем неясны; да едва ли и можно предполагать у них что-либо похожее на политическую мысль. Они добивались в смуте не какого-либо нового государственного порядка, а просто только выхода из своего тяжелого положения, искали личных льгот, а не сословных обеспечений» !б.
Болотников, по словам Ключевского, набирал людей, «лежащих на дне общественного склада, и натравлял их против воевод, господ и всех власть имущих »11.
Классовая борьба, по учению Ключевского, не являлась фактором, движущим историю, она была лишь проявлением грабежа и буйства. В своем отрицании классовой борьбы Ключевский объявил даже казацкое движение на Украине против поляков тоже проявлением буйства и грабежа. Этот националист и русификатор, ставивший целью своего курса доказать необходимость и неизбежность обрусения всех народов восточно-европейской равнины, видевший в поляках вековечных врагов российского племени, тогда, когда он говорил о классовой борьбе, готов был забыть о своем национализме. Казаков, поднявших знамя восстания против польской эксплуатации, он клеймил так же, как клеймил движение
Болотникова и идущее за ним крестьянство, восставшее против эксплуатации великорусских имущих классов. «Казак,— характеризовал Ключевский силу революционной Украины,— оставался без всякого нравственного содержания. В Речи Посполитой едва ли был другой класс, стоявший на более низком уровне нравственного гражданского развития; разве только высшая иерархия малороссийской церкви перед церковной унией могла потягаться с казачеством в одичании. В своей Украине при крайне тугом мышлении оно еще не привыкло видеть отечество... Что могло объединить этот сброд? На шее у него сидел пан, а на боку висела сабля: бить и грабить пана и торговать саблей — в этих двух интересах замкнулось все политическое миросозерцание казака»!8.
«И вот,— пишет дальше Ключевский,— этой продажной сабле без Бога и отечества обстоятельства навязали религиозно-национальное знамя, судили высокую роль стать оплотом западно-русского православия». Это дало предлог казакам. Они стали понимать, что своими погромами они «поборают по обижаемом русском Боге, это значило облегчить и ободрить их совесть, придавленную шевелящимся где-то на дне ее чувством, что как-никак, а погром не есть доброе дело»19.
Это вскрывает отношение Ключевского к классовой борьбе. Но это же и дает необыкновенно злое буржуазно-сатирическое изображение истории Украины. Отрицая классовую борьбу, Ключевский готов видеть в казацких выступлениях лишь одни разбои. И характеризуя казака как разбойника и грабителя без программы и совести, он тем самым старается дискредитировать всю историю Украины, противопоставляя ей вместо этого Великороссию, Московию, которая и на Украине принуждена была завести крепкие и прочные порядки.
Национализм Ключевского тесно связан со всем его миросозерцанием. Своим великорусским национализмом он подкреплял и обосновывал неизбежность и необходимость господства великорусского племени и своим отрицанием национальной борьбы в истории классовой борьбы он затушевывал все протесты, вызывавшие великорусский гнет как в эксплуатируемых национальностях, так и внутри метрополии у угнетаемых классов.
Отрицая классовую борьбу и национальную рознь, Ключевский тем самым совершал охранительную работу, идеологически защищая господство буржуазии. А подчеркивая и выдвигая на первый план национальность великороссов, он тем самым защищал и обосновывал господствующее положение великороссийской буржуазии.
Ключевский был цельным буржуазным идеологом. Он отрицательно, не скрывая этого, относился к дворянско-феодальным пережиткам в виде крепостного права. Крепостное право, стеснявшее развитие буржуазных производственных сил, встречало жестокое осуждение на страницах «Курса русской истории» Ключевского. «Особенно вредно,— пишет Ключевский,— отразилось крепостное право на общественном положении и политическом воспитании землевладельческих классов»20.
Крепостное право не только губительно отзывалось на землевладельческих классах, но оно также губительно влияло и на крестьянство, на эксплуатируемых. Благодаря ему именно «мало накопилось культурных сбережений и у рабочего народа, так долго и непосильно работавшего на избранные классы»21.
Крепостное право задерживало развитие производительных сил. Оно мешало развитию творческой энергии. Оно воспитывало и поддерживало избранные классы. По мнению Ключевского, крепостное право имело еще основание в период закрепощения всех сословий, но с момента раскрепощения дворянства оно становилось неоправданным, ненужным превращалось в крепостной грех перед всем народом. Все пережитки крепостничества политически возмущали Ключевского. Протестуя против феодально-дворянского господства как задержки развития производительных сил, радуясь уничтожению его как необходимой предпосылке развития буржуазной системы отношений, Ключевский все свое внимание, все свои политические симпатии передает растущей буржуазии. Растущая буржуазия являлась в прошлом, по мысли Ключевского, тем небольшим слоем, где тлело сознание общественного блага, где билось еще стремление к организации общества не в целях господства немногих, а в целях развития всех. Описывая исчезновение земских соборов, Ключевский пишет, что идея, эта идея народного представительства, «погасая в правящих и привилегированных слоях», «еще держалась в небольших кучках тяглового земства, оставшихся с закрепощением владельческих крестьян под защитою закона», да едва заметной чертой проскользнуло «в заявлениях высшего московского купечества и московских черных сотен и слобод»22.
Все симпатии Ключевского всецело находились на стороне этих буржуазных элементов. С точки зрения растущей буржуазии он и формулирует свои политические идеалы. Народность, великорусский национализм, православие, христианство, но христианство не в виде господствующей церкви, связанной всецело с господствующими классами, а в виде древнего христианства, выразившего
идею национальности, сросшегося с ней. По мнению Ключевского, великорусская национальность и христианство неразделимы. Кулацкая буржуазия пером Ключевского заявила и о том, какая форма власти ей желательна. Ключевский отнюдь не противник самодержавия, но он сторонник такого самодержавия, которое не вырождалось бы в самовластие. Он сам говорит: «Самовластие само по себе противно. Как политический принцип его никогда не признает гражданская совесть»23. Само по себе самовластие превращает власть без наличности достаточных оправдывающих личных качеств носителя власти в игрушку и слугу своего окружения. «Абсолютная власть без оправдывающих ее личных качеств носителя одновременно становится слугою для своего окружения или общественного класса, которого она боится и в котором ищет себе опору. Обстоятельства сделали у нас такой силой дворянство с гвардией во главе»24.
Идеал Ключевского лежит отнюдь не на стороне самовластия. Он сторонник буржуазной законности, сторонник правового государства. По его мнению, как раз вся русская история страдала оттого, что самовластие превратилась в игрушку дворянства, тем самым родились неизгладимые противоречия между ним и простым народом, а идея законности долго не находила себе места на русской почве. «Если Уложение,— пишет он,— действовало у нас почти в продолжение двух столетий до Свода законов 1833 года, то это говорит не о достоинствах алексеевского Свода, а лишь о том, как долго у нас можно обойтись без удовлетворительного закона»25.
Ключевский всецело на стороне системы законности. Он мечтает о правовом государстве. По его мнению, исторические процессы русского народа шли именно в сторону развития правового государства, т.е. государства буржуазного. Петр, по его словам, «близко подошел к идее правомерного государства»26.
Эти черты как раз привлекали Ключевского к личности Петра и оправдывали в его глазах самовластие, поскольку как раз представитель самовластной власти создавал и вносил идею законности. Этим Ключевский показывал, что идея правового государства не находится в противоречии с монархизмом и монархией. Все дело в носителях власти. Если Петр мог вносить идею законности и смотрел на должность царя как на деятельность обслуживания государства, ставил вопрос о служении «государству», то преемники Петра этого не приняли. К моменту воцарения Екатерины II, писал Ключевский, «оно (дворянство) составляло народ в политическом смысле слова, и при его содействии дворцовое государство пре
емников Петра I получило вид государства сословно-дворянского. Правовое народное государство было еще впереди и не близко»27.
Таким образом, политически система взглядов Ключевского представляет собой довольно стройную и цельную картину. Это — идеолог торговой буржуазии города, кулацкой буржуазии деревни, представитель растущей буржуазии. Связанная через рынок со всей страной и сама проявляющаяся только с помощью рынка, буржуазия превращалась в единое целое, в народ, она сама себя оценивала как представителя народа, в то же самое время это был представитель шовинистическо-зоологической великорусской буржуазии. Ключевский защищал господство этой буржуазии, он стремился оформить и подвести под нее правовой фундамент. С этой точки зрения подбирал Ключевский исторические факты и исторический материал в своем «Курсе». Поэтому и привлекла его теория колонизации, отсюда шла его оценка значения христианства, его оценка народных выступлений, его отношение к классовой борьбе и революционным выступлениям, его оценка Петра, дворянства и крепостного права. Для него историческая работа была формой выражения его политических стремлений. Основной его задачей было обосновать господство великорусской буржуазии на восточно-европейской равнине, обосновать и защитить извечность отношений собственности, обосновать и защитить необходимость срастания самодержавия и торговой и промышленной буржуазии. Ключевский, если переводить его идеологию на политический язык, был несомненнейшим октябристом, хотя он и умудрился в период выборов в Думу выставить свою кандидатуру сразу по двум спискам — кадета по Москве и октябриста по Сергиеву Посаду. Интеллигент по профессии и представитель российской кулацкой буржуазии по своей социальной физиономии сказались здесь с чрезвычайной резкостью.
В том же «Историческом журнале» в 1922 году была напечатана статья Голубцова о теоретических взглядах Ключевского28, которая является не чем иным, как законченным политическим манифестом буржуазной историографии России. В этой статье были сформулированы задачи и цели, которые преследовала и преследует буржуазная историография, в ней была указана и показана ее связь с прошлым, ее идейная преемственность с буржуазной, дооктябрьской Россией, которая безвозвратно была уничтожена в октябре 1917 года. В этой статье Голубцов, анализируя теоретические взгляды Ключевского, формулирует политическую
платформу буржуазной историографии. Чем дорог буржуазной историографии Ключевский? Он дорог ей тем, что он не признавал монистического объяснения развития истории. В 1922 году, когда диктатура пролетариата наглядно доказала, что только пользуясь марксистским методом можно переделать жизнь, а следовательно, можно ее понять и изучить,— возводить в принцип и в ученое достоинство отрицание марксизма — это значит формулировать свое политическое отношение ко всей действительности, это значит формулировать свою политическую программу, противопоставляя ее растущей действительности. <...> Ключевский не понимал власть как диктатуру крепостников, как организацию классового господства. Он не стоял на классовой точке зрения.
В Ключевском буржуазная историография послеоктябрьской России видела свое политическое знамя. Его политические традиции старалась она пороводить и защищать в своих исторических работах. В чем состояла политическая программа Ключевского, известно. Почему именно Ключевский стал знаменем, объединившим всю буржуазную историографию? Это объясняется изменением хозяйственной структуры нашей страны. Буржуазия была уничтожена, но корни ее, кулак и нэпман, торговый капитал, перерастающий в промышленный, уничтожается как класс только сейчас, а Ключевский как раз и был идеологом кулака и торгового капитала, переходящего в промышленный.
Г. П. ФЕДОТОВ
Россия Ключевского
О прошедшем 1931 году зарубежная Россия отметила двадцатилетие кончины Василия Осиповича Ключевского (ум. 12 мая 1911 г.). Настоящий год связан с иной, очень значительной, юбилейной памятью в духовной биографии Ключевского — и России. Исполнилось полвека со времени появления «Боярской думы». Сначала на страницах «Русской мысли» (с 1880 г.), потом в отдельном издании этого классического труда Ключевского (1882) читающая Россия впервые ознакомилась, в художественном воплощении, с совершенно новой схемой русской истории. В «Боярской думе» заключены уже идеи всего знаменитого курса, который студенты Московского университета могли слушать с 1879 года. С этих пор схема Ключевского царствует почти неограниченно. Это не одна из многих, а единственная Русская История, на которой воспитаны два поколения русских людей. Специалисты могли делать свои возражения. Для всех нас Россия в ее истории дана такой, какой она привиделась Ключевскому.
Как, из каких элементов сложился образ этой России? Какие течения мысли, какие общественные влияния стояли у колыбели России Ключевского? Что в ней отмерло, что остается живым для нас? Вот вопросы, на которые мы попытаемся дать ответ в настоящем кратком очерке, поскольку этот ответ уже подготовлен в развитии русской исторической науки.
1
Историк лучше других знает, сколько субъективного заключено во всякой канонизированной схеме национальной истории. Художественному гению более, чем научному, удается впечатлеть свой образ национального прошлого, заворожить им целый народ.
Ранке, Мишле, Грин1 дали немцам, французам, англичанам устойчивый образ родины — икону или идол, которые могут принимать жертвы, вдохновлять на подвиги. Но время проходит, и краски тускнеют под разъедающим действием критических кислот. Старая схема превращается в груду устарелых гипотез. Это значит, время ждет нового построения, нового мастера, который отлил бы накопившийся материал исследований в новую форму.
Первый национальный образ России, в большом стиле, был создан Карамзиным. Его сравнительная недолговечность не должна нас обманывать. За ним, в прошлом, стоял весь XVIII век, историки которого влились в «Историю государства Российского». Карамзин завершитель. Это поэт Империи на вершине ее славы. Он дал классическое одеяние России, построил ее форум в стиле ампир — параллель: Захаров и Росси2,— заставив ее героев говорить языком римлян. Сейчас нам не пристало глумиться над русским ампиром. Это последний большой стиль России. Такой видел Россию Пушкин. Карамзин зачаровал Пушкина и был водителем его поколения на повороте от декабрьского либерализма к николаевскому консерватизму.
Карамзин дал душу и стиль николаевской эпохе, потому что и она имела свой стиль. Однако стиль этот был уже в состоянии окаменения. Разложение карамзинского стиля началось с тридцатых, даже двадцатых годов. С разных концов — критик Каченовский, демократ Полевой3, западники и славянофилы — разрывали классическую порфиру Государства Российского. Она была еще пригодна для учебников и официальных парадов: она доживает и в следующих царствованиях в холодных национальных монументах: памятник Тысячелетия России в Новгороде4 и Александра II в Кремле5. Но душа давно отлетела. Карамзин не пережил крушения николаевской России. Шестидесятые годы обходились без схемы русской истории. Соловьев писал для специалистов; его история не стала национальной. Костомаров не имел достаточно силы, чтобы стать новым, революционным Карамзиным. Шестидесятники охотно заменяли историю этнографией. На месте былого форума образовалось пустое место, «коровий выгон» (campo vachino). Здесь легко слагались пародии: писалась «История города Глупова»6. Но здесь же закладывались основы России Ключевского.
Читающая Россия слишком поздно познакомилась с новой блестящей конструкцией русской истории. Счастливые слушатели Ключевского — и притом не универсанты, а студенты Духовной академии, Александровского военного училища и Высших жен-
ских курсов — могли слышать Ключевского с начала семидесятых годов. Недавно профессор А. А. Кизеветтер* познакомил нас с попавшими в его руки студенческими записями курса Ключевского от 1873 года. Не без удивления мы узнаем отсюда, что в 1873 году курс Ключевского, как его знает наше поколение, уже сложился. Целые главы вошли без изменений в печатный текст. Работа последующих лет заключалась более всего в сокращениях и в художественной отделке. Не только историческое миросозерцание Ключевского, но и видение им русской истории было вполне законченным и цельным к началу семидесятых годов. Но это значит, что оно сложилось в ше-• стидесятые. Это значит, что Ключевский был «шестидесятником».
Такой вывод покажется многим неожиданным. Для поколения начала XX века Ключевский был еще современным, передовым. Его история удовлетворяла не только художественным, но и социологическим потребностям русского интеллигентного читателя времен первой революции. Это значит только, что Ключевский, как всякий большой человек, во многом упредил свое время — был зачинателем, а не завершителем эпохи. Но корни его — в далеком прошлом. Шестидесятые годы вскормили его, дали ему запас жизненных впечатлений и социальных идей, с которыми он вышел на творчество. Семидесятые прибавили кое-что — немногое.
Шестидесятые годы оставили печальный след в истории русской философской мысли и русского слова (не науки). Это эпоха во многом скорее разрушительная, чем созидательная. Творчество жизни нередко убивало творчество культуры. Но памятником огромного разлива бушевавших сил навсегда останутся: для разрушителей эстетики — Некрасов, Репин, Мусоргский, для антиисторического народничества — Ключевский. Ключевский один оправдывает собой шестидесятые годы.
В самом общем и широком охвате, включающем разные, даже противоположные направления мысли и политики, шестидесятые годы характеризуют реализм и народничество. Реализм в понимании того времени — это антиидеализм, возвращение на землю («природа не храм, а мастерская»), к низшим, натуральным сферам жизни: к материи, к физиологии, к экономике, к этнографии. Народничество, не в революционном, а в широком смысле слова,— как бы социальная транскрипция того же натурализма: глубокий интерес и сочувствие к жизни низших классов (крестьянства) —
* Кизеветтер А.А. Первый курс В. О. Ключевского // Западный Русский научный институт в Белграде. Вып. 3. 1931.
принесение в жертву им культурной утонченности и сложности: «все для народа», но, может быть, и не «через народ» (было народничество монархическое и якобинское). Нетрудно видеть, что обе эти черты неизгладимы в облике Ключевского.
Ключевский реалист: он враг в истории «созерцательного богословского ведения» и «философских откровений». Он хочет изучить «анатомию», «физиологию» общественной жизни. Он становится проницательным художником, когда спускается в низшие социальные пласты: географическую природу русской земли, хозяйственный быт народа. Его характеристика великорусса (в I томе) навсегда останется классической. Но в ней сильнее всего сказалось влияние Щапова и через него этнографической школы шестидесятых годов. Ключевский, с его развенчиванием героев, с его едкой усмешкой, многим приводил на память нигилиста. Правда, делали это сближение лишь для того, чтобы сейчас же его отбросить. Ключевский не нигилист: он слишком широк для этого, слишком верит в «нравственный капитал». Но метка нигилизма на нем недаром. Через нигилизм он прошел. Вчерашний семинарист, молодой московский студент (1862-1865) с жадностью набрасывается на передовые журналы, увлекается Добролюбовым, Чернышевским7, гордится ими как «нашими», поповичами. Его письма к другу в эти годы пестрят умственно-нигилистическими выпадами. Ключевский скоро переболел эту детскую болезнь, но следы ее остались. Они в значительной степени определяют его знаменитую иронию.
Ключевский-народник сам признается нам, что все его общественное миросозерцание определилось под знаком 19 февраля 1861 года: из памяти о недавней крепостнической неволе и из размышлений о ней. Более всего привлекает его в Московской Руси — внеклассовое единство культуры; отсутствие его всего более отталкивает его от императорской России. Ключевский остался чуждым дворянской традиции Империи. В карикатурном изображении XVIII века нельзя не видеть мстящего пера, водимого рукою сына бедного сельского священника, который, конечно, чувствовал себя ближе к мужицким избам, чем к дворянским усадьбам.
2
Ключевский не был бы Ключевским, если бы остался только шестидесятником. Он должен был перерасти свое время, найти в своей глубине сопротивление окружающим влияниям, чтобы выковать в себе великого историка из такой, по существу своему,
антиисторической общественной материи. Есть в нем черты, столь не сходные с обликом людей его поколения, что он и для поверхностного взгляда совершенно заслоняет шестидесятника.
Ключевский не радикал. И не только в политическом смысле: чрезвычайно трудно говорить о политических взглядах Ключевского. Но так же трудно говорить и о его религиозных взглядах. Ключевского считали своим люди самых противоположных воззрений. Он был свой и в либеральном салоне гольцевской «Русской мысли»8, и в допотопной профессорской среде Московской духовной академии. Он был учителем наследника Георгия Александровича9 . и в 1905 году приглашался на Петергофские совещания во дворец. Но в то же время П. Н. Милюков рассказал*, что в последние годы своей жизни Ключевский был в резкой оппозиции правительству и даже состоял членом конст<итуционно>-дем<ократической> партии. Это свидетельство не подлежит оспариванию. Однако оно получает свое полное объяснение лишь на фоне той нервности и горечи, которая все более охватывает Ключевского в годы революции и отчаяния в путях России. Тот же Ключевский в семидесятые годы был непроницаем для своих учеников, пытавших его на политические злобы дня, и в 1894 году неприятно поразил всю либеральную Россию своей речью над гробом Александра Ш10. Ключевский был слишком сложен, чтобы вложиться в направление. К тому же еще и скрытен. Он рано заковал себя в броню непроницаемых формул, точно и остро отточенных, столь поразительных в его буйное, богатое силами, но бесформенное, растрепанное и хаотическое время. Жизнь научила его сдержанности. Бедность и семинария были для него превосходной школой скрытности. Затаив нанесенную ему учительской несправедливостью обиду, он удивил всех своих товарищей неожиданным и неурочным выходом из семинарии до окончания курса. Какой огромной выдержкой, почти макиавеллистической, нужно было обладать, чтобы читать курс одновременно в духовной, военной и университетской аудитории, в течение сорока лет распаленных общественных страстей, всюду увлекая и пленяя, никогда ни в чем не возбудив подозрительности разных начальств. Будь он еще сухим собирателем и критиком исторических фактов! Но сохранить объективную принудительность в своих ярких художественных характеристиках — это дано лишь настоящему искусству.
* В сборнике «В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания». Изд. Научн. слова. М., 1912. См. также «Последние новости». Январь 1932 г.
Ключевский как художник — прямое отрицание шестидесятых годов. Как писатель, он совершенно одинок — до самого XX столетия. Его поколение, порвав с великой карамзинско-пушкинско-гоголев-ский традицией, размотало все формальные достижения русского слова, разболтало и развинтило синтаксис, засорило словарь. Даже Толстой и Достоевский, в своей свободе и беззаконии, не могут быть учителями безукоризненной русской речи. Ключевский был не только образным и ярким писателем (эти качества не были утрачены и в 60-х гг.), но и строгим, чеканным, изысканным мастером. Его искусство граничило с искусственностью, не допускало ни малейшей вольности. Каждая острота отшлифована, правится годами, получая классическую отточенность. В обращении со словом Ключевский может найти себе равных только среди символистов XX столетия, при всем различии их художественных средств. Непонятным, загадочным представляется Ключевский как стилистическое явление. Его можно поставить в связь с его моральной сдержанностью. Там и здесь — методическая работа над оформлением своей стихийности, отрицание «естественности», закованность в стиль. Классическая школа — в семинарии и университете,— которую Ключевский впитал в себя как наследие классического века,— отлило природную одаренность пензенского бурсака в чекан Вергилия. Надо уметь почувствовать элементы этой античной формы, вобравшей у Ключевского всю образность и жизненность русского московского говора XVII века.
3
Ключевский — шестидесятник. В качестве такового он совершает разрыв с историческими течениями сороковых годов. Линия разрыва, которая в сфере политики и культуры прошла между Чернышевским и Герценом11, в историософии проходит между Ключевским и историками-гегельянцами: Соловьевым и Чичериным. Старый спор между западниками и славянофилами утратил для Ключевского, как и для его эпохи, свою актуальность. Не то чтобы он был в какой бы то ни было степени научно исчерпан. Но был прежде времени сдан в архив, но трагическая тема его звучит и в конце столетия, и в эпоху ренессанса XX века,— с особой силой для нашего времени. Шестидесятники оказались глухи к ней потому, что сняли с порядка дня тему исторических идей. Практически западники торжествовали по всему фронту — торжествовали и в русской исторической науке. Ключевский как ученик Соловьева, как передовой человек своего времени, конечно,
находится в западнической традиции (что не мешало его сердцу порой славянофильствовать). Но он отходит от западничества, как оно сложилось в исторической школе сороковых годов.
Менее всего он хочет афишировать разрыв. Он не любит полемики, избегает даже точной формулировки расхождений. С он сводит счеты на нескольких страничках предисловия к «Боярской думе», не называя его имени. По отношению к Соловьеву он проникнут величайшим пиететом, хочет уверить своих слушателей и нас в том, что он остается верным последователем Соловьева — не более. «Я передал вам то, что получил от Соловьева: я ученик . Соловьева, вот все, чем я могу гордиться как ученый». Очередной порядок княжеского владения, колонизация Суздальской Руси, рост Москвы, корни Петровской реформы в XVII столетии — вот Соловьев в Ключевском. Чичерин, историк учреждений, завещал Ключевскому целый ряд тем, если не готовых построений: крепостное право, земские соборы,— в сущности, может быть, и самую боярскую думу. Еще значительнее для формации России Ключевского было открытие Чичериным русского средневековья: «гражданского общества» между родовым и государственным Соловьева,— иначе, «средней», удельной эпохи, в которой строение удельного княжества определяется частноправовыми и договорными отношениями.
Но, признавая в полной мере все, чем Ключевский обязан исторической школе сороковых годов, необходимо резко подчеркнуть разделяющие их грани. Для исторической философии гегельянства основными понятиями были: национальная идея, государство и историческая личность. Правда, национальная идея, доставшаяся в удел славянофильству — философскому и публицистическому,— выпала из обихода западнической исторической и юридической науки. Но остаются государство и личность, особенно первое, как главный субъект исторического процесса. «Государство есть высшая форма общежития, высшее проявление народности в общественной сфере»,— слова Чичерина. И Соловьев ему вторит: «Правительство будет всегда на первом плане для историка — для истории нет возможности иметь дела с народными массами». «Историческая личность решает задачи, которых история не в силах разрешить сама собой» (Чичерин). Именно это и отрицает Ключевский, отрицает практически, в опыте своего построения русской истории, где не государство, не правительство и не властная личность, а народ, в смысле общественных групп и классов,— на первом плане. Именно этот «негосударственный» народ, «жидкая масса», «калужское тесто» (Кавелин) всего более интересует Ключевского. Для Соловьева
прогрессивный момент русской истории — в торжестве государственных начал над пережитками родового быта. У Ключевского нет и схемы этого родового быта. Древняя Киевская Русь представляется ему созданием не князей государственников, а торгового общества, пригласившего князей для военно-полицейской охраны. Со своей высокой оценкой государства Соловьев мог посвятить всю свою жизнь «Истории России» как летописи успехов этого государства, его внешнего роста, внутреннего укрепления, его борьбы с окружающим политическим миром. История Соловьева — чисто политическая история, и внешняя политика в ней занимает подавляющее место. Конечно, есть разница между университетским курсом и научной историей. Конечно, в своем курсе Ключевский не отрицает, а дополняет (или думает, что дополняет) Соловьева. Но из всей совокупности его трудов совершенно ясно, что внешняя политика его совершенно не интересовала, да и судьба государства занимала весьма умеренно.
С «Боярской думой» Ключевский подходит вплотную к истории учреждений, к теме государственно-правовой, как бы завещанной ему Чичериным. Но подходит лишь для того, чтобы поставить ее по-новому, с первых же страниц отмежевавшись от историкоюридической школы. Старая школа изучает только «механизм правительственных учреждений.
При этом остаются в тени общественные классы и интересы, которые за ними скрывались и через них «действовали». Но, по мнению Ключевского, «в истории политических учреждений строительный материал часто важнее самого строя». В истории боярской думы Ключевского интересует не столько компетенция Думы и работа ее, сколько состав: те классы общества, которые в Думе и через Думу управляли Россией. Вот почему «Боярская дума» Ключевского развертывается в построение социальной истории России, в которой тема Думы совершенно тонет в иной, поглощающей теме правящих классов. Вполне естественно, что книга Ключевского должна была вызвать негодование историков-юристов, о которой свидетельствует полемика Владимирского-Буданова и Сергеевича. Тема Ключевского была нова, и разработка ее плодотворна, но изгнание правовой, институционной точки зрения из русской истории едва ли ее обогатило. История права и учреждений, оформляющих государство, предоставляется в удел чистым юристам. Размежевание с юристами оставило в русской истории и другой след: слабость формально-логической структуры, нечеткость исторических понятий. Напрасно пытались находить у Ключевского эту четкость. Не следует смешивать меткости и силы художественных описаний
с точностью определений. Образ не заменяет понятия. Обратной стороной блестящего художественного таланта Ключевского является известная, незаметная для среднего читателя и даже порой для историка расплывчатость исторических понятий.
4
В истории классов Ключевский нашел свою социальную тему, которую он противопоставил политической теме государства и завещал всей позднейшей русской историографии. Можно с уверенностью утверждать, что классовая тема Ключевского не стояла ни в какой связи с социализмом. Это доказывается хотя бы тем, что внимание Ключевского было приковано не к одним трудящимся классам. Его курс по «Истории сословий в России» об этом свидетельствует, как и тот факт, что главный труд его, «Боярская дума», есть история правящих классов. Менее всего Ключевский уделяет внимания буржуазии, как и пролетариату — торгово-промышленным группам Древней Руси,— и об этом нельзя не пожалеть. Но это лишний раз свидетельствует о том, что его социальная тема возникла не из европейской социальной борьбы (как русский социализм), а имеет более глубокие, народные и вместе с тем личные корни. Можно отважиться на утверждение, что Ключевский, по условиям своего рождения и воспитания, был как бы предназначен к тому, чтобы увидеть историю России в классовом разрезе. Сын сельского священника, современник освобождения 1861 года, он видел воочию столкновение двух России, взаимное непонимание, разность их культур. Но по своему собственному семейному быту он не принадлежал ни к миру ампирных усадеб, ни к миру соломенных крыш. Он мог смотреть на тяжбу барина с мужиком еще с третьей стороны. При всем демократизме Ключевского, его бытовые связи со своим сословием были так сильны, что он не стал политическим демократом и социальным революционером: он был лишь зрителем и историком классовой тяжбы. Но для него стало уже невозможным, как для типической, родившейся в дворянстве интеллигенции, исходить из единства национального и общественного сознания России. В этом он шел своим путем, параллельным пути революционной интеллигенции. Между Ключевским и ею можно сделать еще одно сближение. Известно отвращение русских социалистов шестидесятых и семидесятых годов к «чистой» политике, к юридическим формулам либерализма. Прямой аналогией этому является социальный историзм Ключевского с его ироническим отношением к «механизму» правительственных учреждений. Впрочем,
антиюридизм Ключевского не шел так далеко, как антилиберализм русских народников. Он всегда изучал классы общества в их отношении к государству, к власти, и в этом чувствуется ученик Соловьева. Общество не упразднило для него государства, а лишь оттеснило на задний план исторической сцены. И в этом он выполнил лишь правильно учтенный им «заказ» своей эпохи.
Почти то же можно сказать и об экономизме Ключевского. Он сказался не только в чисто экономических его работах, но и в том значении, которое экономические факторы имеют в его исторической конструкции. Специальные его работы делают Ключевского основателем научной экономической истории в России. Весь курс его дает начало историческому экономизму как особому и очень влиятельному именно в России историческому направлению. Некоторые из учеников Ключевского могли говорить даже о его «экономическом материализме», а русский марксизм просто аннексировал в свою пользу курс Ключевского в эпоху его полулегального, допечатного существования. Однако экономизм Ключевского так же органичен и почвенен, как и созвучен передовым течениям своего времени. Здесь приходится думать не столько о марксизме, сколько о возникавшей на Западе историко-экономической школе семидесятых годов: Родбертус, Инама-Штернегг, Роджерс12. Нам, к сожалению, неизвестны все эти западные влияния на Ключевского, но было бы неосторожным их оспаривать. Молодой студент, П.Н. Милюков, пришедший в аудиторию Ключевского с запасом идей новейшей западной науки (он говорит прямо о Роджерсе), нашел ее принципы выраженными в знаменитых вступительных лекциях Ключевского. Однако следует вспомнить, что первая экономическая работа Ключевского — о Соловецком монастырском хозяйстве — была напечатана в 1869 году. Едва ли в эти годы западная историография могла дать Ключевскому вдохновляющие опыты. Ключевский опередил расцвет исторического экономизма на Западе. Русских предшественников Ключевского П.Н. Милюков справедливо видит в славянофилах. Не богословы-идеалисты сороковых годов, а позднейшие славянофилы-почвенники с любовью к быту, обряду и этнографии вводили хозяйственный быт в круг изучения русской народности: Беляев, Забелин, Валуев, Ал. Попов13. По компетентному предположению Милюкова, идею торгового значения Киева (основную в его схеме) Ключевский мог найти уже у одного из историков XVIII века — у Шторха14. Но хочется сказать: то, как экономическая тема ставится у Ключевского, говорит о ее гораздо более органическом, не литературном только происхождении. Ключевский
принялся за изучение ее по житиям русских святых и памятникам монастырского хозяйства. Конечно, не иначе приходилось изучать экономическую историю средневековья и на Западе: таков весь сохранившийся состав исторических источников. Но Ключевский подходит к экономическим явлениям с такой теплотой, с такой бытовой и нравственной сращенностью с изображаемым миром, которые далеко выводят за пределы нормального отношения исследователя к своим «источникам». Сочинения Ключевского могут служить превосходным материалом для построения психологии и идеологии «православного», то есть церковно-бытового хозяйства. Задолго до Макса Вебера15, Ключевский, не теоретизируя, нащупал религиозно-психологические основы хозяйства. В этом смысле характерно, с какой любовью выписан им портрет преп. Пафнутия Боровского16, хозяйственного игумена и коренного московского патриота XV века. В разрыве с Костомаровым и либеральной интеллигенцией, которая из всех русских святых излюбила мистика и свободолюбца Нила Сорского17, Ключевский выдвинул сурового трудолюбца, учителя знаменитого противника Нилова, Иосифа Волоцкого18. Думается, что здесь Ключевский руководился бессознательно родовым опытом русского духовенства с его трудовым стяжанием, с его скопидомством, с его хозяйством, освященным, как и в крестьянстве, обрядностью годового церковного круга. Вот почему экономизм Ключевского, в отличие от западной науки, связан не с юридическим формами хозяйства и не с техникой (как в марксизме), а с бытом и нравственными основами жизни.
5
Ключевский был не только исследователем хозяйства и социальных отношений. Он дал в своем курсе целостное построение русского исторического процесса и во вступительных лекциях к нему — основы своей исторической философии. В этом курсе самое поразительное — исключение всей духовной культуры, при стремлении к законченному объяснению «процесса». Слушатель или читатель Ключевского ничего не узнает даже об утверждении на Руси христианства и встречается с этим фактом на окольных путях, при анализе некоторых юридических памятников. Нет и речи о влиянии Византии на культуру Древней Руси, как и влиянии (или отсутствии влияния) на нее со стороны татар. Эта односторонность курса Ключевского особенно бросается в глаза при сравнении его с знаменитым курсом Гизо. Из всех классических образцов курс Гизо обнаруживает
наибольшее сходство с лекциями Ключевского: в четкости общих линий и уменье заполнить рамки схем конкретностью красноречивых фактов, в художественности изложения без ущерба для строгой научности, а главное, в том равновесии между анализом и синтезом, между построением и фактической содержательностью, которое составляет секрет большого исторического стиля. Почти не может быть сомнений в знакомстве Ключевского с курсом Гизо. Гизо был учителем Соловьева, о Гизо Ключевский говорит как о профессоре со слов своего учителя, упоминая даже о тембре его голоса. Но из сравнения с курсом Гизо парадоксальная особенность построения Ключевского бросается в глаза: у Гизо внимание равномерно распределено между социальной и духовной культурой, между правом и государственным развитием, с одной стороны, наукой и религией — с другой. Что Ключевский пожертвовал половиной исторического содержания не из сознания своей некомпетентности, это ясно для всякого. Автор диссертации о «Русских житиях святых», в многочисленных рецензиях доказавший свой пристальный интерес к изучению духовной культуры русского прошлого,— более, чем кто-либо, был призван для синтетического построения всей русской культурной истории. Откуда же его самоограничение, его жертва?
Постараемся найти ответ в историософском кредо вступительных лекций. Здесь Ключевский развивает взгляд на историю как «предварительную ступень к социологии». Он ставит высшей целью историка открытие «законов», «закономерности», «механики исторической жизни». В другом месте он говорит «об анатомии и физиологии» общественной жизни и в «Боярской думе» выставляет следующее утверждение: «Исторические тела рождаются, живут и умирают подобно органическим телам природы». Во всем этом мы узнаем влияние той новой науки, «социологии», которая в семидесятых годах складывалась, с величайшими притязаниями на универсальность, на Западе и в России. В России ее идейная диктатура в широких массах интеллигенции, сменившая диктатуру естествознания шестидесятых годов, была особенно суровой. Ключевский как передовой человек своего времени не избежал общего духовного поветрия. Конечно, он не был социологом, не был теоретиком вообще. «Разговоры, касавшиеся теории исторического процесса, его не воодушевляли»,— вспоминает Богословский. Но он чувствовал себя обязанным оправдывать свою историческую работу перед судом социологии. Какое значение имеет «местная» (то есть национальная) история для познания общих исторических законов? «Научный интерес истории того или другого народа определяется
количеством своеобразных, местных сочетаний и вскрываемых ими свойств тех или иных элементов общежития». Это своеобразие, конечно, получает свой смысл лишь из сравнения с параллельным развитием других местных культур. Само по себе оно малоинтересно. «Культурное значение местной истории сравнительно ничтожно». Вступление Ключевского настраивает нас к ожиданию сравнительно-исторического метода исследования. Ничуть не бывало. Ключевский избегает его даже там, где оно напрашивается само собой (аналогии с западным феодализмом, например). Предисловие составлялось для очищения совести. Историк в Ключевском был терроризирован социологией и делал вид, что принимает ее социальный заказ. Только ученик его, Рожков19, уже на почве марксизма, сделал опыт «социологического» построения русской истории.
Однако от социологии нельзя было отделаться предисловием. Чтобы спасти «научность» истории, в духе своего времени, Ключевскому пришлось пожертвовать историей духовной культуры. Сама по себе духовная культура, казалось бы, допускает социологическое истолкование. Но для экономической или иной материалистической интерпретации духовной культуры Ключевский обладал слишком большой трезвостью и вкусом. Идеалистическая же социология возвращала назад к Гегелю, к его диалектике и «богословию», от которых Ключевский отталкивался. Будучи не в силах дать иное, кроме описательного, «идеографического», изображения духовной жизни и не желая портить строгости эволюционных линий своего процесса иррациональностью голых культурных фактов, Ключевский отказался от половины своей темы. Нельзя сказать, чтобы оправдание этого приема у самого Ключевского было удовлетворительно. Не будучи материалистом и доктринером, он допускает в истории возможность творчества духовных сил: «Человеческая личность, людское общежитие и природа страны — вот те три основные исторические силы, которые строят людское общество». Однако он не знает сам, что делать с личностью и особенно творимой ею духовной культурой. «А где же, может быть, спросите вы, домашний быт, нравы, успехи знания и искусств, литература, духовные интересы. Идея становится историческим фактором, когда овладевает какой-нибудь практической силой, властью, народной массой или капиталом. Политический и экономический порядок известного времени можно признать показателем его умственной и нравственной жизни». Это объяснение, читавшееся в первом издании, не особенно вразумительно. Если идеи обладают практической силой, почему они не имеют самостоятельного значения? Ключевский почувствовал неувязку и во втором
издании заменил это объяснение другим, всем нам памятным: только методологически, в порядке изучения, общественные факты идут впереди духовной культуры.
Во внутренней противоречивости «социологического» введения, в неустойчивости самого текста сказалась драматическая борьба историка с духом своего времени, с его «социальным заказом». Этот заказ, конечно, не был внешне навязанным, но внутренне принятым. Тем не менее он был известной тяжестью, ярмом, которое влачил на себе историк-художник большой чуткости и широты ума, принужденный замалчивать в общем историческом курсе многие из своих заветных исторических идей.
Эти заветные мысли Ключевский любил высказывать не в академических, а в публичных чтениях, где чувствовал себя свободным от обязательной «научности». В них-то и вскрываются неожиданные противоречия в его исторической схеме — вернее, та тирания, с которой она организует его исторический опыт. В знаменитой актовой речи о прей. Сергии20 Ключевский говорит не только о религиозном, но и общественном и государственном значении Радонежского старца для Древней Руси. В своем курсе он не нашел ни одного слова для характеристики этого значения и даже для упоминания самого Сергия. В публичной речи о русской женщине21 Ключевский выражает свое твердое убеждение (даже «веру»), что русская женщина всеми своими гражданскими правами обязана влиянию Церкви. В курсе мы напрасно стали бы искать доказательств этого влияния. Но ведь это факты социального, а не чисто морального порядка. Они должны были бы найти свое место в социальной истории России. Историк, утверждавший не раз примат экономики над политикой, должен сознаться: «Умственный труд и нравственный подвиг всегда останутся лучшими строителями общества и самыми мощными двигателями человеческого развития». Но это убеждение историка не отразилось в его историческом построении.
6
Художник сгладил шероховатости социолога, скрыл острые углы его схемы. Читая Ключевского, мы не задыхаемся от удушья, как, например, в геометризме марксистских исторических схем. Ключевский, в отличие от марксистов, не механизирует духовной культуры. Обходя ее молчанием, он, напротив, одухотворяет культуру экономическую и социальную. Под его пером она утрачивает свой схематизм, становится выражением конкретной человече
ской личности. Социальная история превращается в социальную характерологию. Все мы благодарно храним в памяти блестящие портреты исторических деятелей (Грозного, Алексея Михайловича), которыми нечаянно дарит нас Ключевский, забывая на час о своей строгой, конструктивной задаче. Эти портреты освежают, одухотворяют для нас русский исторический «процесс». Однако еще более значительны у Ключевского коллективные, социальные портреты, в которых он был такой мастер: древнерусского князя, великорусского земледельца, московского боярина и служилого человека. Эти социальные портреты, несомненно,— самое прочное в наследии Ключевского. Их не коснется переоценка социальных схем и принципов исторического построения. Самое ценное и редкое в них — это своеобразное отношение художника к своей модели. Создается впечатление, что между ними нет граней времени и культуры. Что пером Ключевского древнерусский человек рисует самого себя. Это относится особенно к московскому человеку XVI-XVII веков. Сам Ключевский, подходя к XVII веку, считает его историю уже «автобиографией»: до такой степени историк живет в его исторической среде. Не только в силу исторического и художественного вживания в искусственно воскрешенное прошлое. Это прошлое было для Ключевского настоящим, его подлинной живительной средой, питавшей его юность. В Ключевском мы видим московского человека XVII века, прошедшего сквозь «нигилистический» опыт XIX века, но сохранившего нетронутым, по крайней мере, свой душевный склад. XVII век действительно не умирал в России совершенно. Оттиснутый вниз петровской дворянской культурой, он доживает, в полной моральной силе и здоровье, в крестьянстве, купечестве и духовенстве, особенно сельском, из которого вышел Ключевский. Лесков22 — бытописатель XVII века в XIX-й. Шестидесятые годы начали стремительный процесс разложения допетровского массива русской жизни. Революция, по всей вероятности, смыла его остатки. Ключевский был последним очевидцем-свидетелем Московского царства. Даже тогда, когда уже нечему будет учиться у исследователя Ключевского, к нему будут обращаться как к первоисточнику.
Однако все отношения Ключевского к старой московской культуре — глубоко двойственно. Он высоко ставит ее моральный закал, хозяйственную крепость, жизненную доброту практического христианства. Но идейное содержание этой культуры, как и эстетические ее идеалы, для него не существуют. Он должен был смотреть на все это, с просветительской горки шестидесятых годов, как на наивное и невежественное варварство. Ничто не дает нам
основания думать, что Ключевский ценил древнерусское искусство. Оно осталось навсегда запечатанным даже для Кондакова23. Но научный и философский багаж Древней Руси может вызвать улыбку не только у человека шестидесятых годов. Так, ирония навсегда осталась наиболее резкой чертой в Ключевском — бытописателе и портретисте. Она спасает его от слащавости, невыносимой у славянофилов. Но она говорит и о болезненном разладе в отношении к действительности. Ирония возникает почти неизбежно там, где ум живет не в ладу с сердцем. Умом Ключевский, конечно, считал Древнюю Русь глуповатой, но сердцем отдавал предпочтение ей перед культурой своего времени, как обществу «антиков» Духовной академии перед либеральными салонами Москвы.
7
Велика историческая удача Ключевского. Полвека — огромный исторический срок,— Карамзин не выдержал и половины. Школа Ключевского до самой революции безраздельно господствовала в России. Если бы нужно было указать на самые крупные научные завоевания Ключевского, я отметил бы следующие: 1) характеристику смены различных слоев московского боярства и служилого класса — тема, особенно излюбленная «школой»; 2) очерк монастырской колонизации Русского Севера, хотя и оставшийся вместо задуманной диссертации в набросках нескольких лекций; 3) блестящее воссоздание хозяйственно-социального быта удельных столетий (XIII-XV) русской жизни, русского «средневековья». Последнее мне бы хотелось подчеркнуть особенно. Вместе с Ключевским впервые два века русской истории, от татарского завоевания до Ивана Ш, заполняются определенным социальным содержанием. У Карамзина и Соловьева они заняты безрадостной летописью смут и « возвышением Москвы». Ломка удельного строя московским объединительным деспотизмом представлялась единственным светлым явлением этих столетий. Ключевский (мы видели, вслед за Чичериным) подошел к ним с любовным вниманием. Он показал, как в хозяйственной страде здесь складывался великорусский характер. Он, несомненно, преувеличил, как и Чичерин, значение вотчинных элементов удельного строя в ущерб государственным. Автор «Русских житий», по принципиальному воздержанию, с одной стороны, и по нечувствию — с другой, не пожелал оценить этой эпохи как золотого века русской святости и русского искусства. Но остается фактом: он оценил положительную работу этих веков, завещав будущему их углубленное изучение.
Среди достижений Ключевского я обошел открытие им торговой Киевской Руси. Это потому, что при настоящем отношении к этому открытию русской исторической науки оно скорее должно быть отнесено в пассив Ключевского. Не то чтобы оно было опровергнуто новыми фактами и открытиями. Но оно осталось неподтвержденным, как гипотеза, облеченная в художественные краски, но лишенная исторической плоти. Пренебрежение Ключевского к археологии и лингвистике, игнорирование им племенного быта, засвидетельствованного на заре русской истории, заставляет теперь по-новому, из новых материалов строить первые столетия русской , истории. Как характерно, что знаменитые «градские старцы», истолкованные Ключевским как купеческая городская аристократия, оказались библейским заимствованием!
Но, переходя к пассиву в балансе Ключевского, к 1) торговому Киеву следует присоединить: 2) резкость отрыва великорусского периода нашей истории от киевского. Получается впечатление создания новой жизни на новом месте с полным уничтожением старых государственных форм. В школе Грушевского24 эта мысль Ключевского получила парадоксальное противопоставление двух независимых национальных процессов: русского и «украинского». 3) Игнорирование Ключевским судеб Литовской Руси и Украины, тоже как бы выделяющее половину Руси из русского исторического процесса. 4) Отсутствие изображения колонизации, государственного роста и внешней политики России. 5) Карикатурность изображения XVIII века, вытекающую из нечувствия Империи. Нетрудно было бы показать, что все эти пробелы и провалы Ключевского объясняются недооценкой у него момента государственности и увлечением одним социальным процессом. Наконец, 6) — мы уже достаточно настаивали на этом — отсутствие в построении Ключевского духовной культуры. Подводя итоги, приходится сказать, что слабость Ключевского в том, в чем он отказывается от традиции сороковых годов: от государства, исторической личности и национальной идеи. Его сила в разработке открытой им золотоносной жилы: социальной истории общества как совокупности классов.
8
Огромное влияние Ключевского в русской историографии не сводится к одному его личному таланту. Он оказался в основном русле — с редкой чуткостью нащупал это русло — русской общественной мысли, которая с девяностых годов испытывала огромное и все растущее
влияние социализма. Марксизм был политическим и радикальным выражением той тенденции интеллигентской мысли, которая в границах научного историзма удовлетворялась школой Ключевского.
Эта школа насчитывает десятки имен; к ней, в сущности, относятся все московские и петербургские историки последних десятилетий. Вне ее стоят лишь некоторые провинциалы: киевляне, харьковцы. Даже всегда противостоящий Москве Петербург на этот раз изменил своей традиции. Глава петербургской школы Платонов, по существу, является представителем той же историко-социальной школы. Совершенно в духе Ключевского он истолковал нам Смуту как борьбу классов и опричнину как революционную смену правящего класса. На этом отрезке времени он усовершенствовал схему Ключевского, продвинулся дальше его — в том же направлении. В стороне стоял Лаппо-Данилевский25, человек огромной культуры, мысливший в терминах философского идеализма, которого обесплодило собственное богатство. Придавленный критицизмом, он не мог отважиться на историческое построение в большом стиле и воспитал целую школу скрупулезных дипломатистов и архивистов, русскую Ecole des Charles26. Творческие петербургские силы идут в ногу с москвичами, разрабатывая темы Ключевского. Более всего посчастливилось теме московского служилого класса (Готье, Платонов, Рождественский27). Усердно изучалась экономическая история — в связи с социально-административным строем (Милюков28, Веселовский29, Богословский, Греков30, Заозерский). Павлов-Сильванский углубился в средневековую Русь с идеями западноевропейского феодализма. Менее всего, быть может, посчастливилось чистой экономической истории (Довнар-Запольский31), которая стоит еще в начале своей научной разработки. Но классовая социальная история в духе и даже догме марксизма представлена в школе Ключевского необычайно богато. Ключевский сам приветствовал первые экономические работы своего ученика Рожкова. Покровский32, научная карьера которого не удалась, блеснул лишь несколькими талантливыми статьями. Свою «школу» он создал лишь теперь, в условиях, свободных от конкуренции. Но и в свободной России число историков-марксистов, и притом настоящих историков, было очень велико. Парадоксальность этого явления особенно ощущается при сравнении с Западом, где, говоря серьезно, нет и не было ни одного марксиста-историка: тиранический схематизм доктрины претит и конкретности, и критицизму, вне которых немыслима научная история. Если в России исторический марксизм нашел для себя сравнительно благодарную почву, то это потому, что
она была подготовлена для него Ключевским. Экономический историзм его, столь жизненный и конкретный, предрасполагал ко всякому экономизму, даже материалистическому. Удача Ключевского вдохновляла на дерзание. Конечно, большинству за это дерзание пришлось заплатить самой дорогой ценой — ценой вульгарности. Но поскольку в революционной России разрабатывается русская история как наука — даже в марксистском освещении,— в ней доживает себя, изуродованная и стиснутая в колодки, школа Ключевского.
Оппозиция Ключевскому в его собственной школе проявилась в одном направлении: большей оценки государства. Очагом этой оппозиции был, естественно, Петербург, город Империи, город западников, где историки ближе, чем в Москве, стояли к юристам (Сергеевич), старым врагам Ключевского. Эта оппозиция была довольно сильна в рядах молодежи, которая, застигнутая войной и революцией, не успела создать определенного направления. Вождем этой молодежи был Пресняков, талантливый, но парадоксальный, который в двух своих больших работах шел вразрез с Ключевским, подчеркивая государственную роль княжеской власти в Киевской и удельной Руси. Односторонняя «великорусскость» Ключевского вызывала давно уже на исследования западно-литовской и южно-украинской Руси (работы Лаппо и Любавского, Грушевского и его школы, Багалея33 и др.). Однако эти исследования не только не вошли органически в состав русской историографии, но привели к образованию «национальной» украинской школы, более всех других явлений молодой украинской культуры грозящей распадом общерусского сознания. Накануне войны начинала назревать потребность и в создании научной международной историй России, которая начисто отсутствовала. В годы революции эту потребность с большой силой и остротой выразил Виппер34: историк-империалист, который в своем «Иване Грозном» показал русским историкам, при общем одобрении с их стороны, какое новое освещение могут получить русские исторические темы со стороны международной политики. Революция, которая в России была срывом не только власти, но и государства, вскрыла на месте кажущегося благополучия трагическую проблему государства в России. Историческая мысль углубляется в проблему о государстве, его носителях, его самостоятельном бытии. Лишь условия марксистской цензуры мешают пробиться наружу этой тенденции. Но она означает — возвращение к Соловьеву, обогащенное всем социальным опытом и школы, и жизни.
Другой огромный провал Ключевского до самой революции так и не дошел до сознания представителей русской исторической науки. Русские историки, в огромном большинстве своем, чуждались
проблем духовной культуры. Проблемы эти разрабатывались представителями специальных дисциплин: историками литературы, Церкви, искусства. До сих пор никто еще не попытался учесть огромный накопившийся материал специальных исследований для постановки общих вопросов древнерусской культуры. В этом отношении русская историография представляет любопытное уродство, не имеющее себе равных на Западе, где Церковь, литература, искусство не могут найти почетного места (хотя часто и вне органической связи) во всяком общем историческом построении. Русская историография оставалась и остается, конечно, наибольшей «материалисткой» в семье Клио. Лишь в годы революции кое у кого из научных внуков Ключевского начинает просыпаться интерес к давно забытым темам духовной культуры, когда жизнь самые эти темы сделала запретными для историка в России.
Революция была кризисом русского сознания в еще большей мере, чем кризисом государства. Раскрывшаяся пропасть между «интеллигенцией» и «народом» снова поставила на очередь трагический вопрос о русской культуре и ее «идее». Мысль возвращается к проблематике сороковых годов, к переоценке вечного спора между западниками и славянофилами: о содержании и смысле древнерусской культуры, о ее всемирно-историческом «месте». Но образованный читатель, который обращается теперь за решением этих вопросов к классикам русской исторической науки, остается без ответа. В школе Ключевского он не узнает, чем была жива Россия и для чего она жила. Отдельные сохранившиеся фрагменты ее древней культуры говорят непосредственно о ценности погребенных кладов: рублевская икона, житие Аввакума. Но смысл их остается загадочным. Россия, более чем когда-либо, темна, непонятна и грозна. Но только решив ее загадку или, по крайней мере, став на пути, ведущем к ее решению, русская интеллигенция может плодотворно участвовать в деле духовного возрождения родины. Что умерло без остатка? Что замерло в анабиозе? Что относится к исторически изношенным одеждам России и что к самой ее душе и телу, без которых Россия не Россия, а конгломерат, географическое пространство, Евразия, СССР? Наше поколение стоит перед повелительной необходимостью прорваться из магического круга Ключевского, из его «местной», тесной, социальной, бытовой темы, и выйти в мировые просторы сороковых годов.
IV
НАСЛЕДИЕ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Н.Л. РУБИНШТЕЙН
Буржуазный экономизм, ключевский
Основные сочинения Ключевского: Курс русской истории, ч. I-V, переиздание, Соцэкгиз, М., 1937.— Боярская дума древней Руси, изд. 4-е, М., 1909 (см. также первоначальный текст первых глав вжурн. «Русскаямысль», 1880: кн. I, стр. 40-70; кн. 3, стр. 45-75; кн. 4. стр. 1-38).— Происхождение крепостного права в России; в кн.: Опыты и исследования. Первый сборник статей, М., 1912, стр. 212-310.— Подушная подать и отмена холопства в России; там же, стр. 311-416.— Состав представительства на земских соборах древней Руси; там же, стр. 417-551.— Сказания иностранцев о Московском государстве, Птг., 1918.— Древнерусские жития святых как исторический источник, изд. Солдатенкова, М., 1871.— Письма В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву (1861-1870). Вступит, статья; и прим. С. А. Голубцова, М., 1924 (Труды Российской публичной б-ки им. Ленина и Гос. Румянцевского музея, вып. V).
Основная историографическая литература: Покровский М.Н., Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия; в кн.: Покровский М. Н., Историческая наука и борьба классов, вып. 1, Соцэкгиз, М.; Л., 1933, стр. 167—205.— Его же, Борьба классов и русская историческая литература; там же, стр. 7-100.— Ключевский, В. О., Характеристики и воспоминания, «Научное слово», М., 1912.— Василий Осипович Ключевский. Биографический очерк, речи, произнесенные на торжественном заседании 12 ноября 1911 г., и материалы для его биографии. Чтения Об-ва ист. и древн. росс, при Моск, ун-те, 1914, кн. 1.— Нечкина М. В., В. О. Ключевский; веб.: «Русская историческая литература и классовом освещении», т. II, изд. Комакадемии, М., 1930, стр. 217-350.— Пресняков А. Е., В.О. Ключевский (1911-1921); вжурн.: «Русский исторический журнал», кн. 8, Российская академия наук, Птг.,
1922, стр. 203-224.— Голубцов С. А., Теоретические взгляды В.О. Ключевского; в жури.: «Русский исторический журнал», кн. 8, Российская академия наук, Птг., 1922, стр. 178-202.— Тхор-жевскийС.И., В.О. Ключевский как социолог и политический мыслитель; в журн.: «Дела и дни», кн. 2, Птг., 1921, стр. 152-179.
Библиография: Белокуров С., Список печатных работ В. О. Ключевского (в хронологическом порядке); в кн.: Чтения Об-ва ист. идревн. росс., кн. 1, М., 1914.
Попытку исторического синтеза с включением начал буржуазного экономизма сделал Ключевский, но именно поэтому противоречия буржуазного экономизма и юридической схемы должны были стать перед ним со всей остротой и потребовали от него разрешения. Эта острота усиливалась реальным содержанием исторической эпохи — деятельность Ключевского протекала на стыке двух исторических эпох.
Ключевский сложился как ученый под непосредственным воздействием крупнейших представителей буржуазной историографии в России в период ее кратковременного расцвета, выйдя из школы Соловьева — Чичерина. Но годы его научной зрелости пришлись уже на период нарастания новых противоречий, а последний период его деятельности, 90-900-е годы, относится к эпохе империализма, к эпохе борьбы за пролетарскую революцию в России, он отмечен в русской исторической науке трудами Ленина, обозначившими новый этап в ее развитии.
Под влиянием нараставших экономических и социальных противоречий пореформенной России, в условиях временного обострения противоречий между буржуазией и правительством в период контрреформ, последний крупный представитель буржуазной исторической науки Ключевский сделал попытку исторического синтеза с буржуазных позиций. Он попытался подвергнуть пересмотру историческую концепцию Соловьева — Чичерина, внести в нее новое социальное и экономическое содержание, отразить в ней проблемы современности. Но историческое развитие исключало возможность примирения назревших противоречий; отсюда эклектизм исторической концепции Ключевского.
Когда на историческую арену выступил в России революционный пролетариат и когда Ленин указал путь к разрешению противоречий, создав уже в 90-е годы законченную научную концепцию русской истории на основе марксистского учения, Ключевский
как представитель буржуазной науки повернул назад к основам буржуазной схемы; он пришел к окончательному отказу от научного синтеза. В этом отношении Ключевский завершает творческий путь буржуазной историографии в России и в то же время отражает конечный кризис буржуазной научной мысли.
Биографические данные.
Развитие научной деятельности
Василий Осипович Ключевский (1841-1911) родился в селе Воскресенском (под Пензой) в семье бедного провинциального священника. Этим определилась та среда, в которой прошли первые 20 лет его жизни, дома и в школе — в Пензенской духовной семинарии.
Новые общественные настроения конца 50-х годов захватили Ключевского и наряду с научными интересами потянули его из затхлой семинарской атмосферы в Московский университет.
С 1860 г., с переходом в Московский университет, который он окончил в 1865 г., начинается новый период в жизни Ключевского — период учения, конец которого можно отнести к 1880 г., когда в своей докторской диссертации о «Боярской думе» Ключевский выступил уже сложившимся ученым.
Начало этого нового периода в жизни Ключевского совпало с крупнейшим событием в жизни страны — с реформой 1861 г. Сохранилась переписка Ключевского с его старым школьным товарищем Гвоздевым, отражающая настроения и мысли молодого Ключевского в период 60-х годов. Так, в письме от 21 апреля 1862 г. мы находим сочувственный отзыв о статьях Чернышевского в «Современнике», а в письме от 27 октября 1861 г.— упоминание о Щапове*.
Но все это не оказало на него глубокого влияния. Его отношение к студенческому движению сдержанное, он против крайних мер правительства, но он не одобряет и политических выступлений студенчества. Чувствуется, что его мысли на стороне профессорской группы. Решающим для Ключевского остается влияние Соловьева и Чичерина. Все упоминания о них свидетельствуют об этой внутренней идеологической близости. Ключевский в дальнейшем неоднократно подчеркивал исключительное влияние лекций Соловьева на формирование его научного миросозерцания: «Соловьев давал
* «Письма В.О. Ключевского к П. П. Гвоздеву (1861-1870)», М., 1924, стр. 153 и 67.
слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов, взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение, чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет» *,
Его интерес к Чичерину даже возрастал на протяжении 60-х годов; по окончании университета он ходил на лекции Чичерина и внимательно изучал его сочинения.
Уже в эти годы интересы историка сосредоточились на Московской Руси. Его первое сочинение «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1866) было первой разведкой в этом направлении.
Тема его магистерской диссертации, которую он защищал в 1872 г.— «Древнерусские жития святых как исторический источник»,— подвела его к этому же прошлому с другой стороны — от более скрытых внутренних процессов народной жизни и более ранних этапов складывания Московской Руси. Согласно собственному указанию Ключевского, «он обратился к древнерусским житиям как к самому обильному и свежему источнику для изучения одного факта древнерусской истории, участия монастырей в колонизации с-в. Руси»**. В исторической схеме Соловьева — Чичерина «колонизация» давала основную характеристику русского исторического процесса, и такое же значение сохранила она в данной Ключевским схеме истории России «как страны колонизующейся». Тема была указана Ключевскому Соловьевым. Впоследствии Ключевский жаловался, что работа над житиями себя не оправдала, оставила его неудовлетворенным. «Житие — не биография, а назидательный панегирик в рамках биографии, как и образ святого в житии — не портрет, а икона» ***. «Древнерусские жития святых» явились, прежде всего, методическим достижением автора, образцом исследовательской источниковедческой работы.
Значительная часть его научных работ за 1867-1878 гг. тематически связана с его кандидатской работой, с вопросами церковной истории: 1867 г.— «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае»; 1869 г.— «Новые исследования по истории древнерусских монастырей» (рецензия); 1870 г.—
* Ключевский, Очерки и речи, Птг., 1918, стр. 33-34.
** Ключевский, Древнерусские жития святых как исторический источник, М., 1871, стр. 1.
*** Ключевский, Курс русской истории, ч. П, стр. 272.
«Церковь по отношению к умственному развитию древней Руси» (рецензия на книгу Щапова); 1871 г.— «Древнерусские жития святых»; 1872 г.— «Псковские споры»; 1873-1877гг.— ряд рецензий на сочинения по вопросам церковной истории; 1878 г.— «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей матери».
Эта тематика непосредственно связывалась и с начавшейся в эти годы (1871) преподавательской деятельностью Ключевского в Московской духовной академии, продолжавшейся до 1906 г.
Но самая тематика взята Ключевским в ином, новом разрезе — не сама по себе, а как часть истории русского общества; его интересует хозяйственная деятельность церкви и духовенство как сословие, с его социальной функцией. Этой своей стороной указанный первый цикл работ Ключевского непосредственно смыкается уже с его последующей исследовательской деятельностью; богатый бытовой, жанровый материал, почерпнутый автором из житийной литературы, вошел органической частью в ту яркую, образную характеристику Северо-Восточной, Московской Руси, которую он дал во втором томе своего «Курса».
Работа над «Курсом русской истории» начата уже в этот период, в 70-е гг., в лекциях, читанных в Духовной академии.
В 1879 г. Ключевский был избран доцентом Московского университета, где вскоре занял место умершего в том же году С. М. Соловьева. Новая университетская среда, запросы студенческой аудитории конца 70-х — начала 80-х гг.должны были значительно усилить социальные мотивы в научной работе Ключевского. Еще острее ставились эти вопросы за стенами университета в обострившейся классовой борьбе, с одной стороны, и в проводимой правительством реакционной политике «контрреформ» — с другой.
Общественное движение 70-80-х гг. ставило перед исследователем-историком новые проблемы и задачи. В речи, посвященной Соловьеву, Ключевский в 1870 г. говорил: «Еще недавно думали: зачем оглядываться назад, когда так много дела и так светло? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесповоротно перешла на новые основы? Но при этом был допущен один немаловажный недосмотр. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская старина преображала реформу»*. В условиях усиливающейся классовой борьбы не было возможности замыкаться в сфере политической, государственной истории,
Ключевский, Очерки и речи, Птг., 1918, стр. 50,
в государственных указах искать решения всех вопросов истории общества. «Картины древнего русского управления освещены с одной только стороны — с той, которую можно назвать технической»,— писал Ключевский в своем введении к «Боярской думе». И с своей стороны он ставил себе задачей изучение «социального состава управления, «общественных классов и интересов, которые за ними скрывались и через них действовали»*. «Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества» стоит в подзаголовке исследования о «Боярской думе». Так, рядом с пониманием политической истории, господствующей в прежней русской историографии, которое ограничивалось шумихой государственных мероприятий, выступает социальная проблема, ставится вопрос истории классов.
Докторская диссертация Ключевского «Боярская дума древней Руси» составила в известной мере грань между двумя этапами его научно-исследовательской деятельности. Ее новый этап относится к 80-м гг. и ясно показан в самой тематике научного творчества Ключевского в эти годы: 1880-1881 гг.— «Боярская дума древней Руси»; 1884 г. — «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему»; 1885 г.— «Происхождение крепостного права в России»; 1886 г.— «Подушная подать и отмена холопства в России»; 1887 г.— «Евгений Онегин и его предки»; 1890 г.— «Состав представительства на земских соборах древней Руси».
Период 80-х гг. был временем высшего расцвета исследовательской деятельности Ключевского. Последние двадцать лет его жизни совпали с периодом утверждения марксизма в России, и творческая работа Ключевского закончилась фактически в 80-е гг. За последние двадцать лет своей жизни Ключевский не дал ни одного специального монографического исследования. Работа над «Курсом русской истории» свелась в значительной мере к литературной обработке литографированных текстов 80-х гг., в которой звучит уже определенная реакция против экономизма 80-х гг., против социальных мотивов «Боярской думы».
Такова биография Ключевского-ученого. «В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли»**,— писал Ключевский. Биография Ключевского редко выходит за рамки этих событий и фактов. Его немногочисленные политические выступления мало добав
«Русская мысль», 1880, ки. 1, стр. 40 и др.
** Ключевский, Очерки и речи, Птг., 1918, стр. 25.
ляют к характеристике его социальных позиций как выразителя русской буржуазной идеологии. В 1894 г. «Похвальное слово» Александру III, произнесенное Ключевским как председателем Московского общества истории и древностей и потом опубликованное в печати, глубоко возмутило передовую часть студенчества, вызвало резкий протест в его среде. В 1905 г. на Петергофских совещаниях по обсуждению булыгинского проекта Государственной думы его выступления против идеи «сословного царя», при всей их умеренности, были встречены весьма неблагожелательно правящей помещичьей группой, рассчитывавшей в Ключевском найти своего исторического адвоката. Неудачной баллотировкой в I Государственную думу от Троицкого Посада по кадетскому списку закончились непосредственные выступления Ключевского в области политики.
Теоретические основы, буржуазный экономизм и юридическая схема
Основное историографическое значение исторической работы Ключевского состоит, таким образом, в попытке пересмотра государственной теории русской истории, методологии юридической школы, что отражено в его исследованиях 80-х гг.
В своих теоретических истоках эти научные положения Ключевского отражают идеологические влияния общественной и научной мысли второй половины XIX в. От позитивизма идет, прежде всего, выделение природного фактора, значения географических условий в историческом развитии народа. Как и Соловьев, он ссылается при этом на Бокля1, как на образец. Но он идет дальше Соловьева в признании географического фактора: это не просто антитеза степи и гор, дерева и камня, как у Соловьева, а последовательное раскрытие природных условий в их воздействии на народную жизнь. Географический очерк остался составной частью «Курса русской истории» Ключевского. В связи с природными условиями раскрывается Ключевским и психология великоросса, художественно очерченная им в его «Курсе». В этом смысле Ключевский сближается со Щаповым. Но Щапов пытался найти органическое решение вопроса хотя бы в физиологическом воздействии географических условий. У Ключевского географические условия остаются внешним фактором и в конечном итоге разрешаются в проблеме колонизации, которая возвращает Ключевского к исходной исторической схеме Кавелина — Соловьева — Чичерина.
На той же позитивистской основе оформился и экономизм Ключевского. Как отмечено, принцип экономизма выдвинут Ключевским именно в 80-е гг. против исходных позиций государственной школы. Вопросам экономической и социальной истории посвящены исследования Ключевского 80-х гг. Это экономическое направление исследований Ключевского продолжено его школой и определяет историографическое значение последней. Но экономизм Ключевского не доведен до той принципиальной последовательности, которая характеризует материалистическую позицию Чернышевского и частично отражена Щаповым. И экономический материал остается лишь элементом в системе исторических знаний Ключевского, лишь одним из факторов исторического процесса в духе позитивистской методологии.
Экономическая история для Ключевского, как и для всей буржуазной исторической науки, как для Никитского, Аристова2 и др., остается лишь одной из тем исторического исследования, а не определяющим началом исторического развития. В историографии имеет место определенная переоценка экономизма Ключевского как попытки преодоления юридической схемы. Между тем юридическая схема продолжает довлеть у Ключевского даже в период расцвета его экономических исследований и окончательно подчиняет себе экономический материал в его «Курсе русской истории».
Экономизм Ключевского переходит в изучение быта, материальных условий народной жизни и ее идеологических проявлений. Это сказалось уже в характере тех источников, к которым он обращается и в которых ищет именно отражение народной жизни. Вместо официальных источников — летописей, актового материала — он обратился сперва к «Сказаниям иностранцев», затем к «Древнерусским житиям святых». Он ищет в них «...быт местного мирка... со своими нуждами и болезнями, семейными непорядками и общественными неурядицами»*. Тема народного быта связывается здесь и с другой темой исторического изучения — с вопросами народной психологии. Но и в этой двойной постановке тема народа у Ключевского ближе к Костомарову, чем к Щапову. Народ не становится основной действующей силой в истории, он выступает в своей ограниченной сфере; его быт и нравы — одно из проявлений исторической жизни, в известной мере исторический материал. Содержанием исторического процесса, его стержнем остается государственное начало.
Ключевский, Курс русской истории, ч. II, стр. 273.
Социология и «культурно-историческая точка зрения»
Развитие научной мысли Ключевского завершается в противопоставлении культурно-исторической и социологической точек зрения, утверждаемых в методологическом введении к «Курсу русской истории». Ключевский называл себя историком-социологом. Но понятие закономерности сохраняется Ключевским лишь в качестве социологического закона — «общих законов строения человеческих обществ, цриложимых независимо от преходящих местных условий»*.
Этой абстрактной социологической закономерности противостояла «тайна исторического процесса», которая раскрывалась «в тех многообразных и изменчивых счастливых или неудачных сочетаниях внешних и внутренних условий развития, какие складываются в известных странах для того или другого народа на более или менее продолжительное время»**. В конкретной исторической действительности он искал не внутреннюю закономерность, осуществляющуюся в самом развитии исторической действительности, а действующие силы или общие начала, стоящие за этой действительностью. Свое понимание действительности он искал не в единстве ее внутренних противоречий, а в сведении всего многообразия ее содержания к единому действующему началу, к общему логическому понятию. В конкретном историческом процессе он видел лишь его логическое развитие.
Так, боярская дума оказывалась логическим выражением боярского начала в русской истории до Петра I. Характеристика каждого отдельного периода русской истории становилась выражением одного единого начала, к которому сводилось все его содержание. Впоследствии, в «Курсе русской истории», Ключевский обозначил свои характеристики отдельных периодов характерным термином «формула», из которой логически выводится все содержание периода.
Этот абстрактный социологизм был методологической основой юридической теории. Она органически связывала Ключевского с государственной школой Соловьева — Чичерина, причем у Соловьева он брал именно его абстрактно-социологическую схему, которая связывала последнего с Чичериным.
* Ключевский, Курс русской истории, ч. I, М., 1937, стр. 8.
** Там же, стр. 7.
Общая социологическая формула лишь прикрывала выпадение самого понятия исторической закономерности. Противопоставленная социологическому учению, культурно-историческая точка зрения означала фактический переход на позиции буржуазной идеалистической философии конца XIX в. с ее последовательным, принципиальным отрицанием закономерности исторического развития. В «Курсе русской истории» развитие научной мысли Ключевского повторяет общий путь развития от позитивизма к субъективному идеализму; Ключевский кончает переходом на позиции неокантианства с противопоставлением наук о природе и исторических наук. В «Введении» к «Курсу» Ключевский по-своему воспроизводит учение Виндельбанда — Риккерта3 с его противопоставлением номотетических и идио-графических наук, «полагающих законы» точных наук и «описывающих индивидуальные явления» наук исторических. «...Научный интерес истории того или другого народа,— пишет Ключевский,— определяется количеством своеобразных местных сочетаний и вскрываемых ими свойств тех или иных элементов общежития. В этом отношении история страны, которая представляла бы повторение явлений и процессов, уже имевших место в других странах, если только в истории возможен подобный случай, представляла бы для наблюдателя не много научного интереса» *.
Художественность исторического мышления
Ключевский принадлежал к особой категории историков-художников, среди которых мало найдется равных ему по мастерству. Художественность Ключевского — не внешняя художественность стиля, а художественность мышления. Это не художественноописательное, литературно-риторическое направление XVIII в., идущее от Ломоносова к Карамзину4 и воскрешаемое старшими современниками Ключевского — Бестужевым-Рюминым5 и Костомаровым. Он ищет претворения логического единства в живом единстве конкретного образа. Художественное проникновение в прошлое характеризует и самый стиль Ключевского; живые следы прошедшего ищет он и в языковом наследии: «Язык запомнил много старины, свеянной временем с людской памяти» **.
* Ключевский, Курс русской истории, ч. I, М., 1937, стр. 15.
** Там же, стр. 117.
Непосредственный путь этого художественного познания состоит в воссоздании живых образов прошлого. Можно сказать, что Ключевский в известной мере мыслит образами: «Представительные типические лица, — пишет он, — помогут нам полнее изучить состав жизни, их воспитавшей. В таких лицах цельно собирались и выпукло проступали интересы и свойства их среды...»* Целая галерея портретов, живых образов проходит через весь «Курс русской истории» Ключевского и через ряд блестящих художественных историко-биографических очерков. Такова характеристика московских князей до Ивана III, которые «как две капли воды похожи друг на друга, так что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий»**; идеализированный Ключевским образ «тишайшего» царя Алексея Михайловича с его сотрудниками, красочные портреты преемников Петра I, портретная галерея «предков» Евгения Онегина.
В этой художественности известная сила Ключевского-историка, его путь проникновения в конкретную действительность. В живом образе ему иногда удается восстановить единство явления, разрушенное его схемой, почувствовать внутреннюю связь, объединяющую разорванные элементы в органическое целое.
Но в ней и слабость Ключевского, так как этот синтез не опирается на прочную научную базу, не подвергается критической проверке. Ошибка художника ведет к извращению исторического знания: яркий образец этому — трактовка опричнины, которая у Ключевского целиком подчинена его условно-психологическому образу Ивана IV и потому лишена своего реального исторического содержания, правильно вскрытого Соловьевым.
В этой же художественной трактовке коренится и другая общеметодологическая порочность. Воссоздавая отдельный конкретный образ, объединяя разрозненные элементы отдельной эпохи в одно единое целое, она этой замкнутой законченностью отдельной части углубляет и завершает разорванность целого, его внутреннее расчленение. Здесь завершение того процесса, который правильно подметил А. Е. Пресняков: «...вся общая соловьевская схема распадается в переработке Ключевского на части, теряет свою стройную законченность и внутреннюю связность»***. Художественность мышления Ключевского закрепляла итоги его социологического метода. Они достигли своего полного развития в его «Курсе русской истории».
* Ключевский, Курс русской истории, ч. II, стр. 344.
** Там же, стр. 51.
*** «Русский исторический журнал» № 8, 1922, стр. 208.
Методологические позиции Ключевского в 80-е гг.
Развитием внутренних противоречий методологической позиции Ключевского определяются последовательные этапы его научной деятельности.
Конец 70-х и 80-е гг.— период полной научной зрелости Ключевского и вместе с тем наиболее глубокого отражения в буржуазной идеологии новых течений научной мысли, порожденных социальными сдвигами пореформенного периода. Именно в этот период начала буржуазного экономизма, обращение к экономической и социальной тематике сказывается всего сильнее в работах Ключевского. В работах этого периода он делает попытку подойти к изучению народной жизни с ее материальной стороны, от ее экономического содержания, определяющего конкретную тематику всех его специальных исследований этого периода, посвященных, прежде всего, истории хозяйственного быта. От этой материальной основы, от расчленения общества «породу занятий, посвойству капитала», онкакбыподхо-дит и к определению содержания и характера общественной жизни, к вопросу о том, как «определялось политическое значение разных его классов, как распределялись между ними права и обязанности», к самому понятию классов, которые, по выражению Ключевского, «держали в своих руках нити народного труда в известное время» *. «В связи с историей общества», в действии «общественных классов и интересов» ищет он объяснения явлениям политической жизни, и в первой и наиболее крупной работе этого периода, «Боярской думе», делает попытку с этой точки зрения подойти и к общему пересмотру проблемы русского исторического процесса.
Отсюда и возврат к идее общей закономерности исторического развития, в силу которой в «истории наших общественных классов» он готов усмотреть «действие условий, похожих на те, какими создавались общественные классы в других странах Европы» **. Но даже в этот наиболее яркий период своей научной деятельности Ключевский в конечном итоге подчинял внесенные им новые элементы исторического изучения первоначальным теоретическим и методологическим основам государственной теории, определившим с первых шагов исходные позиции его научного миросозерцания.
* Ключевский, Боярская дума, стр. 10-11 и 386.
* Ключевский, Боярская дума, стр. 7.
Правда, к изучению исторических явлений, государственных институтов Ключевский идет теперь не от закона, не от юридической нормы, а от материальных явлений исторической действительности; он изучает не законодательные нормы, а фактические отношения. Именно эта сторона работы Ключевского вызвала резкую полемику Сергеевича против «Боярской думы» *. Фактические отношения превращаются Ключевским в норму поведения, получают значение юридической нормы; юридическое начало восстанавливается Ключевским, но только с другого конца.
Противоречие общественных отношений рассматривается им в конечном итоге в разрезе последовательного развития и расчленения правовых понятий и учреждений. Поэтому неслучайно история общественных отношений рассматривается сквозь призму государственного строя, в развитии государственного института — боярской думы.
Ключевский близко подходил к признанию примата экономики над правом, к утверждению, что «в этом порядке явлений политические факты вытекают из экономических, как их последствия», но он тут же спешил ограничить выдвинутое им новое обоснование исторической закономерности признанием равной правомерности и иного порядка, когда «явления следуют одни за другими в обратном порядке», когда «политические факты [идут] впереди, давая направление хозяйственной жизни народа»**: на деле это было восстановлением примата государственного начала. Вместе с тем это противоречие двух возможных путей развития он сводит к старой антитезе, идущей в русской исторической литературе еще от Погодина,— к антитезе завоевания и призвания, «боевого» и мирного пути развития народной жизни.
«Боярская дума»
Это внутреннее противоречие резко отражено в «Боярской думе» Ключевского. Ключевский, очевидно, чувствовал внутреннюю противоречивость своей позиции, и наиболее заостренные формулировки нового, экономического, социального направления, данного в первоначальной редакции первых глав***, были сняты им в окончательной редакции, в отдельном издании, официально представленном в качестве докторской диссертации.
* См.: Сергеевич, Русские юридические древности, т. П.
** Ключевский, Боярская дума, стр. 7-10.
к* Ключевский, Боярская дума: в жури.: «Русская мысль», кн. 1, 3 и 4, 1880.
История политических институтов принадлежала к основным темам государственной школы.
Целью своего исследования Ключевский объявил изучение социальной природы и деятельности боярской думы. В этой связи история Думы становится выражением истории самого боярства, истории служилого класса, а экономической основой социального и политического строя объявляется «древнерусская боярская вотчина». Именно эту сторону выделял впоследствии у Ключевского Павлов-Сильван-ский в введении к очерку «Феодализм в древней Руси», видя в этом приближение к пониманию феодального начала в русской истории.
В изучении истории самого боярства и боярского землевладения исследование Ключевского вскрыло новые моменты, важные в общей истории России, преимущественно XVI-XVII вв. Таков анализ изменений в составе боярства в итоге опричнины и «смуты» на протяжении XVI и XVII вв. Сюда относится далее вопрос об экономическом кризисе конца XVI в., впервые сформулированный именно Ключевским («земледельческий кризис» в его терминологии), развитый далее Рожковым и перешедший от него в последующую историографию. Наконец, здесь же дан Ключевским набросок той схемы истории «смуты», которая затем была развита в «Курсе» Ключевского и в то же время получила непосредственное отражение в «Очерках» Платонова.
Но в то же время у Ключевского боярским характером древнерусской вотчины исчерпывалось в конечном счете ее социальное значение в русской истории; точно так же история служилого класса и его внутренних противоречий исчерпывала социальную базу политического строя допетровской Руси, заслоняя всю сложность нараставших экономических и социальных противоречий. В результате и боярская дума как орган этого правящего класса постепенно превратилась в самодовлеющее выражение всей ее политической истории. Из продукта исторического развития она превращалась сама в его основную действующую силу. Боярская дума становится «маховым колесом, приводившим в движение весь правительственный механизм; она же большей частью и создавала этот механизм, законодательствовала, регулировала все отношения... Это учреждение было творцом сложного и во многих отношениях величественного государственного порядка... который только и сделал возможным смелые внешние и внутренние предприятия Петра, дал необходимые для того средства, людей и самые идеи» *.
* Ключевский, Боярская дума, стр. 3.
В результате вопрос развития классовых противоречий подменялся вопросом развития самого политического института, и формальная сторона развития правового государственного института лишь заслоняла и прикрывала собой реальные социальные и политические противоречия. Если развитие феодального объединения, рост княжеской власти и расслоение внутри самого феодального служилого класса привели к выделению Ближней, или Комнатной, думы, то Ключевский видит в этом лишь разделение функций дворцового хозяйства и земского управления и тем самым закрепление земского значения боярской думы, а отношение к ней . Ближней думы уподобляется роли современных парламентских комиссий*. Точно так же борьба с удельными притязаниями княжат в опричнине представляется Ключевским в виде дальнейшего развития того же размежевания функций, а сама опричнина, с ее казнями, оказывается лишь печальным недоразумением, «высшей полицией по делам государственной измены»**. Даже в XVII в., в период растущей изоляции Думы в общей системе царской приказной администрации, когда ее участие в управлении принимает все более формальный характер, Ключевский все еще пытается удержать идею размежевания функций. В преимущественно военном содержании думных заседаний он видит юридическое оформление военно-социальной природы самой боярской думы. В повторяющихся по традиции стереотипных формулах о боярском докладе и боярском приговоре он видит действенные отношения.
Факт превращается в юридическую норму, и сквозь призму этой юридической нормы воспринимаются затем самые факты.
«Происхождение крепостного права в России»
«Происхождение крепостного права в России» было другой узловой темой русской истории, поставленной Ключевским в 80-е гг.*** Он начинает с разрыва с теорией государственной школы о «закрепощении и раскрепощении сословий». Закрепощение крестьянина не было делом государственной власти, и напрасно искать пресловутый закон 1592 г. Он ищет экономического объяснения закрепощения в крестьянском разорении XVI в., в необходимости ссуды, приводящей к ссудной записи, к крестьянской кабале. В этой
* Там же, глава XVI.
** Ключевский, Курс русской истории, ч. II, стр. 191.
*** Ключевский, Опыты и исследования. Первый сборник статей.
постановке вопроса была своя ценная, положительная сторона. Она подвела исследователя к непосредственному изучению того, как складывались реальные отношения крестьянина и землевладельца-феодала в конкретной исторической действительности. Но она же привела и к обратной односторонности. Свое экономическое объяснение закрепощения Ключевский заимствовал из современного буржуазного общества с его экономическими формами закабаления трудящихся. Экономическими формами зависимости, присущими капиталистическому обществу, автор подменивал внеэкономическую систему принуждения феодального общества. В представлении о внутреннем, естественном процессе развития крепостной зависимости заключалась внешняя соблазнительность новой схемы, кажущаяся внутренняя закономерность предложенного ею объяснения. Но ее порочность лежала не только в ошибочности самого экономического истолкования, а во внутреннем противоречии ее методологических предпосылок. В основе ее лежало, прежде всего, фактическое смешение крепостного строя как социально-экономической системы отношений с крепостной зависимостью как системой правовых отношений. Поэтому Ключевский, вслед за юридической школой, считал крестьянство до XVI в. свободной, бродячей массой; для него крепостная зависимость возникла в XVI в. вместе с крепостным правом. Снова социальные отношения отожествлялись с юридической нормой.
Ключевский, отбросив закон как источник крепостной зависимости, экономические причины превращает в правовой акт; только место закона занимает частная сделка — ссудная запись, крестьянская кабала. Именно в этом формально-юридическом подходе источник смешения крепостной зависимости с кабальным холопством. Можно сказать, что Ключевский разрешение вопросов об источнике крепостничества лишь перенес из области публичного права в область частноправовых отношений. За развитием частноправовых отношений исчезали и реальные исторические силы и в их числе государство как орган классового господства; выпал, в частности, и вопрос о заповедных летах, отмеченный еще Беляевым и позже Дьяконовым*6.
Эта юридическая трактовка еще резче сказалась на второй статье Ключевского по крестьянскому вопросу — «Подушная подать и отмена холопства в России» **.
* В новейшей литературе эта проблема правильно выделена Б. Д. Грековым’.
** Ключевский, Опыты и исследования. Первый сборник статей.
Автор рассматривает холопство не как социально-экономическую категорию, связанную с особой системой производственных отношений, а в качестве юридической категории. Именно здесь объяснение того, что все явления, обозначаемые в источниках термином холопства на протяжении ряда веков, представляются ему как развитие единой социальной категории. Холопство Древней Руси, существующее в феодальном обществе как пережиток дофеодального, патриархального рабства, объединяется преемственной связью с кабальным холопством и с положением задворных людей, порожденными системой феодальной эксплуатации XVI-XVII вв. Вся эволюция холопства рисуется им как последовательный процесс отмирания холопства, завершающийся при Петре I. Он не видит, что феодальное перерождение холопства дано уже в Пространной Правде, что первоначальное холопство — рабство — отмерло к XV в. и что кабальное холопство XVI в. было уже продуктом новых отношений (наймитства).
Круг социальных вопросов до некоторой степени обобщается в «Истории сословий в России»*. Общая постановка вопроса возвращает к методологическим проблемам «Боярской думы», в самой трактовке еще резче подчеркнута юридическая «государственная» сторона общественных отношений.
Торжество юридической схемы «Курс русской истории»
Историографическое значение работ Ключевского первого периода заключается в том, что при всей их связанности исходными позициями старой государственной школы в них отразился общий поворот исторической мысли 60-80-х гг. XIX в. к новой тематике, к изучению отдельных сторон народной жизни. Они являлись отражением новых тенденций развития исторической науки в буржуазной историографии, попыткой расширить ее рамки, пересмотреть ее внутреннее содержание с точки зрения новых назревших проблем. Но этот пересмотр осуществлялся в рамках старой схемы, оставляя нетронутыми ее основные положения. И когда от постановки отдельных вопросов Ключевский попытался подойти к сведению их в одно целое, противоречие нового материала старой схеме должно было выступить с особенной отчетливостью. Самое обращение
* Ключевский, История сословий в России. Курс лекций, читанный в 1886 г. (было три издания).
к такому синтезу определяет особое место Ключевского в развитии буржуазного экономизма в России. Но обращение к синтезу привело вместе с тем к отказу от самых принципов экономизма.
«Курс русской истории» явился новым утверждением государственной теории в русской истории, хотя и дополненной новым материалом. Неслучайно этот поворот совершился именно в 90-е гг., когда отчетливо обозначались два направления, два пути в развитии исторической мысли. В то время как последовательное развитие новых начал осуществлялось на основе марксистско-ленинской теории, буржуазная мысль решительно повернула назад.
Теоретическое введение к «Курсу», изложенное в первых лекциях, содержит, прежде всего, непосредственное утверждение идеалистических принципов буржуазной исторической мысли.
В самой трактовке исторического процесса выдвигалось на первый план своеобразие русской истории, основанное на «своеобразном сочетании действовавших в нашей истории условий народной жизни»*. Единству общественной жизни противоставлялась теория факторов, множественность основных условий, определяющих историческое развитие. Если на первом этапе в ряде явлений народной жизни Ключевский выделял экономические явления и в них готов был признать в какой-то мере причину и определяющее начало в истории, то теперь он решительно возвращается к идеалистической схеме и подчиняет материальную жизнь общества действию «идей» как причине. «Идеи становятся историческими факторами, подобно тому, как делаются ими силы природы»**. «Умственный труд и нравственный подвиг всегда останутся лучшими строителями общества, самыми мощными двигателями человеческого развития»***. Теперь в качестве основных исторических сил, «которые строят людское общежитие», выступают «человеческая личность, людское общество и природа страны». Эта формула значительно менее конкретна, чем определение Соловьева, из нее выпала, прежде всего, идея живой ткани конкретного исторического процесса, а идея человеческой личности и людского общества выступает как чисто идеалистическое, абстрактное начало. «Элементы общежития» превращаются в общие «свойства и потребности нашей природы, физической и духовной» ****.
* Ключевский, Курс русской истории, ч. I, стр. 15.
** Там же, стр. 25.
*** Там же, стр. 30.
**** Там же, стр. 9-10.
Вместе с тем проблема народной жизни возвращается к исходному противоречию буржуазной историографии — к проблеме народности и государства. С одной стороны, Ключевский повторяет формулировку Чичерина: «Наконец, народ становится государством, когда чувство национального единства получает выражение в связях политических, в единстве верховной власти и закона. В государстве народ становится не только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения» *. А рядом с этим положением звучит другое, идущее уже от славянофилов, от романтизма: «Значение народа как исторической личности заключается в его историческом призвании... и в той идее, какую он стремится осуществить своею деятельностью» **.
В схеме «Курса» географический фактор определяет не столько развитие народа (областничество), как у Щапова, сколько колонизационное начало, как у государственников; «переселенческая бродячесть» *** — основная характеристика русского исторического процесса. Территориальное перемещение, т. е. процесс колонизации, определяет основные изменения в русской истории, ее внутреннюю периодизацию на днепровский, верхневолжский, великорусский и всероссийский периоды. «Переселения, колонизация страны были основным фактом нашей истории, с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты»****.
Еще сильнее, чем у Соловьева, выступает у Ключевского националистический великодержавный момент. Территориальноколонизационный процесс понимается как рост и политическое распространение единого великорусского народа. Процесс исторического развития заключается в росте государства, а последнее опирается на распространение великорусского народа и на национальную ассимиляцию — «поглощение встречных инородцев» *****. Так определялась и судьба украинского народа: «Главная масса русского народа, отступив перед непосильными внешними опасностями с днепровского юго-запада к Оке и верхней Волге, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах центральной России,
* Там же, стр. 11.
** Там же, стр. 32.
*** уам же> СТр g3. см также лекция XVI.
**** Ключевский, Курс русской истории, ч. I, стр. 21.
***** Там же.
спасла свою народность и, вооружив ее силой сплоченного государства, опять пришла на днепровский юго-запад, чтобы спасти оставшуюся там слабейшую часть русского народа от чужеземного ига и влияния» *.
Общая схема русской истории
На этой основе создалась и конечная периодизация русской истории в «Курсе» Ключевского. Ключевский пытается в своей периодизации соблюсти принцип всесторонней характеристики каждого этапа по территориальному, социально-экономическому и политическому, или государственному, признаку. Но основным в этом определении остается географический признак — в качестве главной предпосылки, государственный строй — в качестве определяющего результативного явления. Поэтому начало русской истории, как в свое время у Карамзина, связывается с призванием варягов и образованием государства. I период — это «Русь Днепровская, городовая, торговая (с VIII до XIII в.)»; II период (XIII-XV вв.) — «Русь верхневолжская, удельнокняжеская, вольно-земледельческая»; III период (с половины XV — до второго десятилетия XVII в.) — «Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-земледельческая»; IV период (с начала XVII — до половины XIX в.) — «всероссийский, императорско-дворянский, период крепостного хозяйства, земледельческого и фабрично-заводского» **.
В определениях данной Ключевским периодизации ярко выступает влияние юридической, государственной школы; экономическая характеристика подменяется на практике юридическим признаком «владения», а социальная характеристика сводится к сословной, т. е. также к государственно-правовой.
Периодизация Соловьева — Чичерина подверглась у Ключевского малозаметному, нр характерному изменению. Изменению подвергся, прежде всего, II период старой схемы, разделенный на два самостоятельных периода, что явилось результатом последовательной социологизации исторической схемы Соловьева. Соловьев характеризовал II период, охватывавший XIII-XVI вв., торжеством государственного начала в борьбе с родовым. В социологической схеме Ключевского каждый период определяется только одним началом.
* Там же, стр. 300.
** Там же, стр. 22-23.
Другое изменение коснулось последнего, IV периода. Формально он совпадает с III периодом схемы Соловьева и начинается XVII в., но в его характеристике отчетливо преобладает государственное , начало, а его определение как всероссийского и императорско- дворянского связано с Петровским периодом и едва ли может быть распространено на XVII в. Разрешение этого противоречия Ключевский ищет в оговорке, что «это не просто исторический период, а целая цепь эпох» *. Это выделение Петровской эпохи как грани исторического периода принадлежит исторической схеме Чичерина; в направлении последней перерабатывается Ключевским • схема Соловьева.
От социологической схемы Чичерина идет Ключевский и в понимании периодов и их взаимной связи. Соловьев искал, прежде всего, «связи эпох»,— «не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды». Ключевский, как бы намеренно подчеркивая, усиливает противопоставление периодов, разрыв процесса на обособленные, замкнутые разделы. Как отмечалось, его художественная интерпретация придает этому разрыву драматическую форму. За этой внешней формой стоит, как и у Чичерина, невозможность объяснить изменения изнутри, действием внутренних причин. Отсюда смена периодов превращается в своеобразную «перестановку исторической сцены» **. Новая сцена, новые действующие лица — таковы обычные элементы вступления в новый период. В начале I периода — призвание варягов; переход ко II периоду определен переселением с Днепра на Волгу; между II и III периодом — татарское иго; между III и IV периодом — «Смутная эпоха» в качестве переходного времени.
Что же представляют отдельные периоды и как разрешаются отдельные вопросы русской истории в этой измененной схеме?
Первый период — Киевская Русь
Наиболее резким изменениям подверглась характеристика I периода. Примкнув к летописной традиции в вопросе расселения славян и варяжского происхождения Руси, присоединившись к теории Соловьева о примитивном общественном строе славян в начале истории Киевской Руси, он, однако, подобно Карамзину, совершает неожиданный скачок к развитию городовой, торговой
* Ключевский, Курс русской истории, ч. III, гл. XLI, стр. 3.
** Ключевский, Курс русской истории, ч. I, стр. 279.
Руси. В основе здесь можно полагать учение Соловьева о старых городах с народно-вечевым строем, но на эти города соловьевской схемы Ключевский вслед за этим переносит представление о городском строе буржуазного общества с развитым торгом и промыслами и создает своеобразный «военно-промышленный класс» в этих городах. Вслед за этим варяжская дружина превращается в наемную охрану торговых караванов, погостная организация — в систему внутренних торговых связей, договоры с греками — в торговые трактаты, Русская Правда — в кодекс торгового капитала. Эту характеристику городской торговой Руси заимствовал позже у Ключевского Покровский.
За этими городовыми, торговыми отношениями исчезает и княжеско-боярское землевладение, исчезает вся система поземельновотчинных феодальных отношений. Торговля изучается не в реальной связи исторических фактов, а как внеисторическое явление. Непомерно выросший в своем значении древнерусский город превращается в центр политической жизни, в непосредственного творца политической организации — городовой волости.
В этой измененной интерпретации соловьевско-чичеринская концепция родовых междукняжеских отношений остается висеть в воздухе в качестве трудно объяснимого внешнего придатка. Чтобы связать их с системой городовых волостей, Ключевский и создает свою юридическую теорию лествичного восхождения. Искусственный характер этой схемы, ее противоречие реальным отношениям княжеских междоусобиц, реальному содержанию княжеского права показал еще Сергеевич и потом развил Пресняков.
Перед лицом такого стремительного подъема и высокого культурного расцвета Киевской Руси Ключевский столкнулся с той же трудностью понимания дальнейшего процесса развития, как и Карамзин. И для него вместо процесса последовательного поступательного движения концепции Соловьева наступал, по сути дела, период упадка. Наступал какой-то провал, после которого история должна была начинаться заново. Согласно художественно-драматизированному изображению Ключевского, «историческая сцена меняется как-то вдруг, неожиданно, без достаточной подготовки зрителя к такой перемене. Под первым впечатлением этой перемены мы не можем дать себе ясного отчета ни в том, куда девалась старая Киевская Русь, ни в том, откуда выросла Русь новая, верхневолжская»*.
* Ключевский, Курс русской истории, ч. I, стр. 279.
По образному выражению ученика Ключевского Милюкова, «занавес, опущенный в Киеве, поднимается на волжском суглинке» *.
Ключевский едва ли не ощущал внутреннюю противоречивость созданной им схемы Киевского периода. Разрыв между соловьевской схемой и экономической характеристикой периода так и не получил своего разрешения, и все специальные исследования Ключевского неизменно проходят мимо этого периода истории России.
Основные исследования Ключевского сосредоточены на истории Северо-Восточной и Московской Руси, представляющей у него наибольший научный интерес.
Русь верхневолжская, удельно-княжеская
В построении своего второго периода Ключевский, вслед за Кавелиным, выдвигает начало колонизации и образование великорусского народа, вслед за Соловьевым и Чичериным — новую форму хозяйства и быта, земледельческий строй и вотчинное начало как основную характеристику нового периода.
Противопоставление двух периодов в плане территориального перемещения, перенесения столицы из Киева во Владимир имело уже свою долгую историю; от него формально исходила и соловьевская схема. Но снова формально тожественные элементы получали по существу различную интерпретацию.
Прежде всего, колонизация окско-волжского бассейна никогда не получала у Соловьева того абсолютного характера чуть ли не полной эмиграции населения Приднепровья, как у Ключевского. Схема Соловьева говорила скорее о борьбе двух систем общественных и политических отношений и в самой этой борьбе находила элемент связи между двумя периодами. У Ключевского получился полный разрыв и полная смена.
С другой стороны, и вотчинное начало в схеме Ключевского ближе к Чичерину, чем к Соловьеву. В вотчинном начале Ключевский видит только одну сторону: оседание князя и создание его вотчинного землевладельческого хозяйства. «Под влиянием колонизации страны первый князь удела привыкал видеть в своем владении не готовое общество, достаточно устроенное, а пустыню, которую он заселял и устроял в общество» **. Отсюда вытекало, прежде всего, признание князя и его политической власти основным действующим
и организующим началом в жизни Северо-Восточной Руси, и эта чичеринская идея получила отсюда свое распространение и на последующие этапы. Во-вторых, как и у Чичерина, эта вотчинная организация с ее частновладельческими княжескими отношениями превращалась в основу политического разобщения удельно-княжеской системы. Ключевский строил на этом органическое противопоставление удельно-вотчинной системы западноевропейскому феодализму, в котором вотчинное начало сочетается с иерархией землевладения и власти с системой вассалитета, наличие которого Ключевский отрицает для удельной Руси* *.
Это создавало новое расхождение с концепцией Соловьева, который в системе вотчинного строя видел основу роста общественных связей и постепенного усиления княжеской власти, источник государственного развития и политического объединения Московской Руси. Поэтому когда Ключевский вслед за этим заимствует у Соловьева его схему возвышения Москвы, то эта схема фактически повисает в воздухе. Рост Москвы происходит у Ключевского в условиях общего политического распада. Ее первоначальное возвышение получает какой-то искусственный, неожиданный характер. Процесс объединения земли превращается действительно в «собирание удельной Руси», ее территории, Москвой и московскими князьями. Отсюда и необходимость для Ключевского, вслед за Карамзиным и за Чичериным, снова прибегнуть к вмешательству внешней силы — татарского ига. Ключевский повторяет мысль Карамзина, что без объединяющей власти золотоордынского хана, которая «давала хотя призрак единства», русские князья «разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно враждующие между собой удельные лоскутья». Власть хана явилась и реальной опорой московских князей в их политическом возвышении: «Власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли» **.
Русь Московская, царско-боярская
Таким образом, национальное объединение вокруг Москвы наступает сразу с середины XV в., с начала нового периода, при Иване III. И вместе с тем, как во всей периодизации у Ключевского, наступление нового периода сразу вводит в действие но
* Ключевский, Курс русской истории, ч. I, лекция XX.
* Ключевский, Курс русской истории, т. И, стр. 44-45.
вое начало и устраняет всякие реальные противоречия. Отсюда и определение нового периода как царско-боярского, снимавшее основной политический конфликт между царем и боярством из-за укрепления самодержавной власти царя. В представлении Ключевского царь и боярство были представителями одного и того же правопорядка и в сущности не имели оснований для принципиальных расхождений: «Разлад обеих сторон имел собственно не политический, а династический источник» *. Трижды возникавший на протяжении XV-XVI вв., он был вызван только вопросом о выборе наследника из среды московского великокняжеского рода.
Поэтому политический смысл опричнины, оцененный уже Соловьевым, мысль которого была дальше развита Платоновым, для Ключевского пропадает. Основной причиной возникновения опричнины оказываются личные переживания Ивана IV, который в результате «потерял нравственное равновесие»**, а в опричнине искал «политическое убежище от крамольного боярства». Опричнина была поэтому учреждением бесцельным, лишенным всякого политического смысла, «пародией удела» ***. И хотя под конец Ключевский не может не заметить выступления на сцену новой политической прослойки — дворянства, но сохранение старой терминологии заслоняет от него реальные сдвиги, и оттеснение боярства дворянством отодвигается им до эпохи Петра I.
В силу этих же условий лишалось реальной связи с внутренней эволюцией общественной жизни и другое крупное явление политической жизни XVI в.— земские соборы. Не видя ни реальных противоречий между царем и боярством, ни внутренней эволюции социальных отношений, Ключевский в земском соборе видел лишь расширение состава боярской думы, а не противопоставленный ей орган. «Земский собор XVI в. был не народным представительством, а расширением центрального правительства» ****, т. е. продуктом административной деятельности царя и боярства. В этой характеристике, развернутой еще в специальной статье 1890 г.*****, Ключевский непосредственно шел за Чичериным.
* Там же, стр. 182.
** Ключевский, Курс русской истории, ч. П, стр. 184.
*** Там же, стр. 190.
**** Там же, стр. 415.
***** Ключевский, Состав представительства на Земском соборе; см.: «Опыты и исследования. Первый сборник статей».
Наконец, и в важнейшем вопросе социальной истории XVI в.,— в вопросе о крепостном праве, Ключевский отчасти поворачивает назад к государственной теории закрепощения и раскрепощения сословий. Не снимая своей теории экономического характера закрепощения, связанного с ссудой, Ключевский начинает обращать внимание и на поставленный государственной школой вопрос государственного обеспечения отбывания повинностей служилым человеком. Отсюда устанавливаемая Ключевским связь закрепощения крестьян с развитием поместной системы: поместная система «подготовила радикальную, даже роковую перемену в судьбе этого класса». Поэтому автор думает, что «в заокских помещичьих усадах раньше, чем где-либо, встретились условия, завязавшие первый узел крепостной неволи крестьян» *.
«С предшествующим», т. е. с XVI в., связана своими признаками и «смутная эпоха». Поэтому совершенно последовательно автор и ее источником считает династический вопрос. Дворцовая борьба становится началом «смуты», которая отсюда, из дворца, начинает последовательно спускаться вниз, вовлекая все новые слои населения в «смуту»**. Дворцовая династическая смута, заслонила от Ключевского оба основных вопроса этого сложного периода: у Ключевского не получила соответствующего места ни польско-шведская интервенция, ни крестьянская война.
Период IV — императорско-дворянский
Как указывает самая характеристика этого периода, его содержание определяется для Ключевского ролью Петра и его реформы: развитие административной деятельности правительства и развитие идей в обществе. Однако и здесь уже назревает противоречие во взглядах Ключевского. У него сильна симпатия к Московской Руси, ярко отразившаяся в идеализированных образах Алексея Михайловича, Ртищева.
Эта раздвоенность в отношении к Московской и Петровской Руси постепенно нарастает у Ключевского. В развитии буржуазной историографии о Петре I Ключевский представляет как бы пере
Ключевский, Курс русской истории, ч. II, стр. 256-259.
Любопытно отметить в порядке сопоставления аналогичную схему происхождения французской революции 1789 г. у И. Тэна", изображающего, как революционные идеи постепенно спускаются с верхних этажей общественного здания в низшие.
ход от высокой оценки исторической роли Петра у Соловьева к его развенчанию в период полного кризиса буржуазной исторической науки у Милюкова: первый был учителем, второй — учеником Ключевского. Ключевский высоко ценит Петра I как историческую личность и как реформатора. Но в самой реформе все резче подчеркивается элемент стихийности, бесплановости. Именно у Ключевского война из составной части реформы превращается в основную движущую силу, в главную пружину реформ. И даже в характеристике личности Петра как бы сталкиваются два начала,— и мелкое, личное, постепенно заслоняет характеристику Петра I как исторической личности.
Эта двойственность со всей остротой сказалась уже в подходе к результатам реформ в дальнейшей истории России. Для представителя буржуазной историографии основное значение Петровских реформ состояло в сближении России с Западной Европой, в европеизации России — культурной, бытовой, политической. Но именно ценность этой европеизации как бы берется Ключевским под вопрос. Она в его освещении оказывается только внешней, и ее непосредственным следствием оказывается культурный, нравственный разрыв между верхушкой русского общества, его интеллигенцией, и народом. Эту мысль Ключевский особенно резко сформулировал в.статье «Евгений Онегин и его предки»*. Эта внутренняя раздвоенность новой России как бы противостоит единству и гармоничности Московской Руси в изображении Ключевского.
Перед этими противоречиями и остановилось, в сущности, исследование Ключевского. Эта трудность осложняется тем, что здесь «чем дальше, тем больше входишь в область автобиографии»**. «Наш XVIII в. гораздо труднее своих предшественников для изучения. Главная причина тому — большая сложность жизни,— писал сам Ключевский.— Общество заметно пестреет. Вместе с социальным разделением увеличивается в нем и разнообразие культурных слоев, типов. С половины века выступают рядом образчики типов разнохарактерного и разновременного происхождения... Часто недоумеваешь, к какой эпохе приурочить зарождение того или другого из них, в каком порядке разложить их по историческим витринам»***.
* Ключевский, Очерки и речи. Второй сборник статей, или: Курс русской истории, изд. 1937 г., т. V, Приложения.
** Ключевский, Курс русской истории, ч. III, стр. 4.
*** Ключевский, Речь на открытии памятника Пушкину. Очерки и речи, стр. 59-60.
В работе Ключевского этот период отражен лишь отдельными художественными образами, иногда тонкими, проникновенными характеристиками, среди которых одна из лучших — характеристика Екатерины II и ее деятельности.
Проблема народа в «Курсе» Ключевского
В «Курсе» Ключевского русская история превращалась в историю государства и в историю идей. Народа как действующей социальной силы в его истории снова не оказалось. У Соловьева это вело к оценке народного движения как борьбы анархии против государства; но верный принципам историзма, требованию строгого следования за исторической действительностью, Соловьев сохранил конкретному содержанию народных движений его место в своем историческом повествовании. У Ключевского не оказалось места и для этого. Из всех народных движений в его «Курсе» осталось лишь крестьянское движение «смутного времени», но в его изображений «настоящим царем этого люда был вор тушинский, олицетворение всякого непорядка и беззакония в глазах благонамеренных граждан» *. Городские движения, крестьянские восстания под руководством Разина и Пугачева вовсе отсутствуют в «Курсе». Декабристы же оказались только «одним дворянским поколением», их движение — только последним военно-дворянским движением.
Нет места у Ключевского и для истории отдельных народов России. Вся история России подчинена у него великодержавной националистической идее господствующего великорусского народа. Даже главы об Украине в III части его «Курса» входят лишь как тема «воссоединения Руси», а не как вопрос истории украинского народа.
Значение Ключевского
Как бы то ни было, историографическое значение Ключевского определяется, прежде всего, тем, что новые течения исторической мысли через него вошли в буржуазную историческую концепцию, получили в ней известное место. По-своему его «Курс» явился очередным итогом, состояния исторических знаний в последние десятилетия XIX в. Но научно-познавательное значение имели, прежде всего, его специальные монографии, продукт лучшего периода в исторической деятельности Ключевского, обращенные
Ключевский, Курс русской истории, ч. III, стр. 50.
более непосредственно к изучению народной жизни, к вопросам экономической истории. Неслучайно экономическое направление заняло видное место в дальнейшем в школе Ключевского, наиболее полно отразившей линию буржуазного экономизма в русской историографии. Индивидуальное значение Ключевского определилось и личными свойствами его таланта, творческим характером его научной мысли, выразившимися в яркости передачи идей и фактов, в особой запечатлеваемости образов, в которые облекалась у него трактовка прошлого. Оно сказалось в том художественном чутье народной жизни, которое прорывается в его «Курсе» сквозь . социологическую схему. Школа Ключевского оказалась в центре буржуазной исторической мысли конца XIX и начала XX в. Из школы Ключевского вышли многие наиболее видные представители последней.
Но вместе с тем, или именно в силу этого, банкротство буржуазной исторической мысли, бесплодность ее конечных итогов выступили у Ключевского с особенной остротой. Вскрывшиеся внутренние противоречия придали общей концепции сугубо формальный > и внешний характер, подменили реальный синтез условной формулой. Подмена научного синтеза внешней схемой, фактический уход от самой задачи синтеза становился в свою очередь принципом буржуазной науки, спешившей укрыться за формальную схему государственной теории. И в этом представители буржуазной науки могли пойти именно за Ключевским.
Своими теоретическими взглядами и своей схемой Ключевский ’ лишь подводил итоги прошлому. Идущее отсюда влияние Ключевского на следующее поколение историков устанавливало не связь Ключевского с будущим, а связь его преемников с прошедшим.
М. Н. ТИХОМИРОВ
<В.О. Ключевский>
Труды В. О. Ключевского (1841-1911) представляют собой крупнейшее достижение буржуазной историографии второй половины XIX — начала XX в. Научная и педагогическая деятельность В. О. Ключевского охватывает почти 50 лет — с середины 60-х гг. до 1911 г. За свою долгую творческую жизнь Ключевский опубликовал большое количество крупных исследований, статей, отзывов, рецензий, учебных пособий. Обобщением его взглядов явился «Курс русской истории» в пяти частях1.
Сам В. О. Ключевский в некрологе, посвященном С. М. Соловьеву, ярко и предельно кратко определил то главное, что, по его мнению, должен делать ученый. В жизни ученого, по словам Ключевского, «главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли» *.
Окончив историко-филологический факультет Московского университета в 1865 г., В. О. Ключевский до конца своих дней продолжал жить и работать в Москве. На протяжении 43 лет он преподавал в разных учебных заведениях. В. О. Ключевский читал лекции по истории России с древнейших времен вплоть до середины XIX в. В 1872 г. он защитил магистерскую диссертацию «Древнерусские жития святых как исторический источник», а в 1882 г.— докторскую диссертацию на тему «Боярская дума древней Руси». Ключевский был тесно связан с научными обществами своего времени: Московским археологическим обществом, Обществом любителей российской словесности, Обществом истории и древностей российских, председателем которого он был избран в 1893 г. В 1900 г. Академия наук избрала его академиком сверх штата по истории и древностям русским, а в 1908 г.— почетным академиком по разряду изящной словесности.
* В.О. Ключевский, Очерки и речи. Второй сборник статей, Пгр., 1918. стр. 25.
Мировоззрение В.О. Ключевского стало складываться в период проведения буржуазных реформ 60-х гг. в обстановке ожесточенной классовой борьбы. Самодержавие вынуждено было провести реформу 1861 г., «на смену крепостническому государству пришло государство капиталистическое»*. Прямой реакцией на обострение классовых противоречий явилось в середине XIX в. возникновение в буржуазной исторической науке так называемой государственной школы, наиболее крупные представители которой (Б. Н. Чичерин и др.) выдвигали на первое место деятельность и инициативу государства. Идеалистическая теория Б. Н. Чичерина и др. должна была служить • идеологической поддержкой самодержавной власти, способной предотвратить восстания народных масс и осуществить реформы, которые вполне удовлетворяли буржуазных либералов. По своим воззрениям к «государственной школе» примыкал и С. М. Соловьев, предшественник Ключевского по кафедре в Московском университете. Однако С. М. Соловьев в большей мере, чем историки «государственной школы», развивал мысль о закономерном характере исторического процесса, о тождестве основных моментов исторического процесса России и Западной Европы. В трудах Соловьева подчеркивалась роль «природных условий» (т.е. географического фактора) и колонизации страны в многовековой истории России.
При освещении основных проблем русской истории Соловьев исходил из идеалистического представления о государстве как решающей силе исторического процесса. Борьба народных масс за освобождение от социального гнета в его трудах обычно игнорировалась.
Творческая деятельность и взгляды В. О. Ключевского на различных этапах его жизни были сложны и противоречивы. Его исторические взгляды формировались сначала под влиянием историка литературы Ф. И. Буслаева, а затем С. М. Соловьева. В дальнейшем Ключевский в значительной степени отошел от своих учителей, уделяя большое внимание анализу социальных и экономических явлений. Но с 90-х гг., по мере обострения классовых противоречий в стране, обусловивших и кризис буржуазной исторической науки, буржуазно-либеральные взгляды Ключевского начали изменяться.
Наиболее отчетливо общие теоретические взгляды В.О. Ключевского прослеживаются в его обобщающем труде — «Курс русской истории». Работа над изданием «Курса» явилась для автора подведением определенных итогов научной работы. Большая часть общих теоретических положений была сформулирована автором
В. И. Ленин, О государстве, Соч., т. 29, стр. 446.
при подготовке первого издания, т. е. не позднее 1903 г. и в незначительной степени — при подготовке второго издания2, причем первые две лекции! тома, имеющие значение введения ко всему «Курсу» в целом, были написаны фактически заново. Историческая схема, сформулированная С. М. Соловьевым, не могла уже на рубеже XX в. удовлетворять даже либерально-буржуазные круги, ибо его концепция развития общества подводила к признанию самодовлеющего характера самодержавного государства. Вместе с тем в обстановке начала XX в. в русской буржуазной исторической науке наметилось возвращение к разного рода сугубо идеалистическим построениям общего хода исторического процесса России (А. С. Лаппо-Данилевский, С. Ф. Платонов и др.) и стремление к фактографическому изложению материала. Влияние идеалистической «государственной школы» отчетливо отразилось на взглядах и В. О. Ключевского. Излагая задачи исторической науки и своего «Курса» в частности, В. О. Ключевский пытался обосновать общие закономерности в развитии исторического прошлого человеческих обществ в виде сочетания внешних и внутренних условий развития, складывавшихся в «известных странах для того или другого народа на более или менее продолжительное время»*. Во вводных лекциях изданного «Курса» Ключевский всячески подчеркивает множественность факторов, определявших, по его мнению, ход исторического процесса, тем самым отодвигая на задний план явления экономической жизни общества. Тем не менее «Курс русской истории» В. О. Ключевского был неизмеримо выше всех других попыток изложения русской истории как единого целого.
«Курс русской истории» представлял собой единственную в русской буржуазной исторической науке сводную работу по истории России с древнейших времен до XIX в., в которой на первое место выдвигался не систематически изложенный фактический материал, а целый ряд теоретических проблем, считаемых автором важнейшими для уяснения исторического развития России. В отличие от сводных работ своих предшественников и современников (Д.И. Иловайского3, С.Ф. Платонова) В. О. Ключевский отошел от характеристики истории страны по царствованиям великих князей и царей и попытался наметить периодизацию, исходя из моментов определяющих, по его мнению, развитие исторического процесса.
Несмотря на то что во введении к «Курсу» отчетливо проявилось идеалистическое понимание исторического процесса, характерное для мировоззрения В. О. Ключевского середины 1890-х и 1900-х гг.,
в конкретном изложении истории России ученый зачастую в прямом противоречии со своими общетеоретическими позициями давал интересный материал, свидетельствовавший о роли экономического фактора в развитии страны.
В.О. Ключевский был далек от апологетики самодержавной власти. Его «Курс» привлекал читателей яркими характеристиками отдельных представителей этой власти, в которых была или сдержанная усмешка или острая критика (например, московских великих князей — Даниловичей, Ивана Грозного, цариц и фаворитов XVIII в. и т. д.).
Творчество В.О. Ключевского, при всей противоречивости мировоззрения этого крупного ученого, сохраняет большое значение и до настоящего времени не только как свидетельство достижений русской исторической науки второй половины XIX — начала XX в., но и как богатое наследие, помогающее нам лучше понять различные вопросы в истории России, некоторые из которых до сих пор остаются спорными.
В своих работах, преимущественно созданных до 90-х гг. XIX в., Ключевский поставил ряд интересных вопросов социально-экономического характера. Это было новизной по сравнению с предшествующей историографией. С особой полнотой Ключевский изучал историю боярского и помещичьего хозяйства, хозяйственную деятельность монастырей и духовенства, экономические причины закрепощения крестьянства. Таковы исследования Ключевского о хозяйстве Соловецкого монастыря, статьи — «Происхождение крепостного права в России» (1885 г.), «Подушная подать и отмена холопства в России» (1886 г.)4. В «Боярской думе» Ключевский пытался отвести большую роль в развитии общества экономическому фактору. При оценке крестьянской войны начала XVII в. В.О. Ключевский сумел подняться до понимания классового характера восстания Болотникова*.
Однако изучение экономических процессов истории России совмещалось у Ключевского с юридическим подходом к объяснению важнейших исторических явлений. Его ученик, впоследствии академик, М.М. Богословский подчеркивал, что «вообще экономические отношения привлекаются в его (В. О. Ключевского.— Cocm.) работах лишь постольку, поскольку они нужны для объяснения создавшихся на их основе юридических явлений»**8.
Как исследователя, Ключевского интересовал широкий круг разнообразных исторических тем, в частности источниковедческих.
* См.: И. И. Смирнов, Восстание Болотникова 1606-1607 гг., М., 1951, стр. 20, 21.
** Сб. «В.О. Ключевский, Характеристики и воспоминания», М., 1912, стр. 39.
Уже первые крупные его исследования: «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1866 г.), «Древнерусские жития святых как исторический источник» (1871 г.) являются фундаментальными монографиями источниковедческого характера. «Древнерусские жития» и в настоящее время не потеряли своего значения. Молодой Ключевский просмотрел громадное количество рукописей (до пяти тысяч житий). Эта работа остается самым надежным и полным руководством по русской агиографии. В дальнейшем в специальных курсах Ключевский продолжал уделять значительное внимание источниковедческим и историографическим вопросам.
Ключевский написал ряд статей по истории русской культуры, в которых были даны интересные характеристики Пушкина, Болтина, Новикова, отражено разложение дворянской культуры («Евгений Онегин и его предки», «Недоросль» и др.)6.
Характерной особенностью В. О. Ключевского как исследователя был тонкий анализ источников и вместе с тем яркое изображение изучаемых явлений. Образная форма изложения и умение создать художественные образы прошлого сочетались у него с глубокими знаниями широкого круга источников. И то и другое достигалось большим напряженным трудом.
В. О. Ключевский обращал громадное внимание на литературную обработку своих лекций, был замечательным лектором, производившим неизгладимое впечатление на своих слушателей. С большой теплотой он сам отзывался, например, об аудитории Училища живописи, ваяния и зодчества7. Видимо, общение с молодыми художниками, живо интересовавшимися историей, их восприятие лекций помогало ему при создании образных характеристик исторических лиц, бытовых сцен и т. и. Сам автор как бы подвел итоги своего труда в 1895 г.: «Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело» *. Особенно ярко это дарование Ключевского проявилось в его последней опубликованной большой работе — «Курс русской истории». «Курс» был создан на основании самостоятельных исследований в 80-х гг., но подготовлен к печати и издан автором много позднее — в 1904-1910 гг.
А. А. ЗИМИН
Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского в 60-е гг. XIX в.
Литература о В. О. Ключевском стала создаваться сразу же после его смерти. Появился ряд статей, освещавших творческий путь историка и, в частности, генезис его исторических взглядов. В большинстве статей всячески подчеркивалась роль «государственной школы» в формировании мировоззрения Ключевского, влияние его университетского учителя С. М. Соловьева и Б. Н. Чичерина. В качестве основных источников для такого вывода служили поздние высказывания самого Ключевского и окончательная редакция его «Курса русской истории», вышедшей в свет в начале XX в*.
Так, М. М. Богословский стремится, прежде всего, показать разносторонний характер влияния Соловьева и Чичерина на Ключевского, сводя историческую концепцию последнего, его понимание исторического процесса к развитию взглядов Соловьева. Одновременно Богословский рисует идиллическую картину «дружных отношений» Ключевского и Соловьева и замалчивает общеизвестные факты прохладного отношения учителя к своему ученику. М. К. Любавский посвятил Ключевскому несколько работ, из которых одна специально рассматривала вопрос о влиянии Соловьева на формирование исторической концепции В. О. Ключевского. Основная ее идея заключается в том, что «неизменно позади» Ключевского «вырастает величавая фигура его наставника С. М. Соловьева»**. «Уже на студенческой скамье,—
* Богословский, в частности, писал, что «Ключевский продолжал и развивал взгляды Соловьева» как по вопросу об очередном порядке княжеских владений в Киевской Руси, так и по вопросу о колонизации Северо-Восточной Руси (М. М. Богословский. Памяти В. О. Ключевского. М., 1912, стр. 10).
** М.К. Любавский. С.М. Соловьев и В. О. Ключевский. М., 1913, стр. 1.
писал Любавский в другой статье,— Василий Осипович стал продолжать дело своего учителя»*. Более того, «влиянием Соловьева и сделанного им научного дела определялся как преимущественный интерес, так и круг самостоятельных разысканий» Ключевского**. Говоря об экономизме Ключевского, Любавский и здесь считал нужным отметить, что «экономист Ключевский не отрицал, а только дополнял юриста Соловьева» ***.
Во многом сходится, но имеет существенные отличия характеристика генезиса мировоззрения Ключевского, данная А.Е. Пресняковым****. «Ключевский,— писал он,— сложился во внутреннем укладе своем в эпоху шестидесятых годов. Но едва ли кто назовет его “шестидесятником”. Он остался сам по себе, вне общественных течений, вне интеллигентских и университетских кружков» *****. Вместе с Богословским и Любавским Пресняков считал, что «Ключевский... примыкал к схемам и формулам Соловьева, отчасти и Чичерина...», но вкладывал в них «обычно совершенно иное и новое содержание»6*. Все дальнейшее развитие исторических взглядов Ключевского было, по Преснякову, даже постепенным разрушением соловьевской схемы, когда-то усвоенной Ключевским в университетские годы.
Из послеоктябрьских работ о Ключевском надо, прежде всего, отметить небольшую работу С.А. Голубцова «В.О. Ключевский в студенческие годы», представляющую собой вводную статью к публикации писем В. О. Ключевского к его другу юности П. П. Гвоздеву за 1861-1870 гг.7*, которые дают ценный материал для изучения мировоззрения Ключевского в 60-е гг. В этом этюде автор, и до это
* М.К. Любавский. Василий Осипович Ключевский. М., 1912, стр. 6.
** М. К. Любавский. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский, стр. 6.
*** Там же, стр. 11. В этом же плане трактует взгляды Ключевского и А. С. Лаппо-Данилевский. Ключевский вышел из «западнической школы» и только «пополнил схему, принятую Соловьевым» (А. С. Лаппо-Данилевский. Памяти В. О. Ключевского. — «Вестник Европы», 1911, август, стр. 339-340). В целом Ключевский — «ученик и почитатель С. М. Соловьева» (Его же. В. О. Ключевский. СПб:, 1911, стр. 921). Позднее А. А. Кизеветтер также писал, что уже «на первых порах пребывания в университете Ключевский увлекся Соловьевым и Чичериным, восприняв у них идеи “юридической школы”» (А. А. Кизеветтер. На рубеже двух столетий. Прага, 1929, стр. 56).
**** А.А. Пресняков. В.О. Ключевский(1911-1921).— «Русскийисторический журнал», 1922, кн. 8.
***** там же> СТр_ 222.
6* Там же, стр. 205.
7* ПисьмаВ.О.КлючевскогокП.П.Гвоздеву(1861-1870).М„ 1924(далее —Письма).
го изучавший взгляды Ключевского*, дал первый очерк идейных настроений будущего историка в его студенческие годы. Однако этот очерк страдает рядом недочетов, из которых главный состоит в голой фактологичности, в отсутствии сколько-нибудь широких исторических выводов. В сущности, статья излагает лишь материалы издаваемой переписки. Сама же переписка представляет идейные настроения Ключевского в этот период довольно однобоко. Из 18 писем 12 относятся к первому и началу второго года обучения Ключевского в университете (1861—1862 гг.) и только шесть — к 1867-1870 гг., причем эти последние письма ни по объему, ни по содержанию не могут сравниться с письмами 1861-1862 гг. (первые письма содержат 70 страниц, вторые — 12). Существенные стороны университетской жизни В. О. Ключевского не освещены в этих письмах. Нельзя забывать также их неполноту (наиболее интимные были уничтожены). Кроме того, письма совершенно не затрагивают творчества студента Ключевского как историка.
М.Н. Покровский, характеризуя воззрения Ключевского, целиком исходил из оценки, данной Богословским и Любавским. Вопроса о возникновении и развитии концепции Ключевского он вообще не ставил, считая, по-видимому, что она оставалась неизменной на всем протяжении жизни историка. «Ключевский,— писал он,— ученик Соловьева, в общем верный “государственной теории”»**. В другой работе он делает этот вывод в еще более резкой форме: «Это был Чичерин, помноженный на Соловьева, или Соловьев, привитый к Чичерину,— как угодно»***. Оценивая Соловьева как
* С. А. Голубцов. Теоретические взгляды В.О. Ключевского.— «Русский исторический журнал», 1922, кн. 8, стр. 178-202. Мы не разбираем эту статью, поскольку она целиком посвящена анализу «Курса» Ключевского, сложившегося позднее 60-х гг. Отметим только, что в ней автор в общей форме высказал мысль о том, что «исторического мировоззрения Ключевского нельзя понять вне атмосферы той скрытой и явной борьбы научных направлений, какая волновала русскую историографию в молодые годы Ключевского». Далее он указывал па «первые общественно-политические впечатления, спустившиеся на Василия Осиповича в конце 50-60-х годах» (там же, стр. 180-181).
** М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, ч. 1 и 2. М.; Л., 1931, стр. 271. «Целые главы курса Ключевского... не что иное, как художественная популяризация Соловьева» (М.Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, вып. I. М.; Л., 1933, стр. 53).
*** М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, стр. 189. «Прежде всего, он усвоил чичеринскую теорию с теми существенными дополнениями, которые в эту теорию внес Соловьев» (там же, стр. 51). «У Соловьева получилась та схема, которую мы имеем в развернутом виде у Ключевского» (там же, стр. 54) и др.
вершину буржуазной историографии*, Покровский Ключевского определял как эклектика, искусственно соединявшего в своем понимании «основные признаки нескольких теорий»**.
Единственное, что добавил Покровский к оценке Ключевского, данной Богословским, Любавским и др., состояло в том, что, кроме соловьевско-чичеринской государственной схемы, Ключевский якобы усвоил от Лаврова кусочки учения о роли идей и личности в историческом процессе, а от Щапова — роль природы***, причем никаких конкретных доводов для подтверждения этой идеи он так и не привел. Покровский оказался также не в состоянии дать классовую оценку творчества историка, заявив, что «Ключевский не может считаться выразителем какой-нибудь определенной классовой психологии, каким являлись Чичерин, Соловьев и Щапов. Это типичный представитель интеллигенции» ****.
Долгое время изучением творческого пути В. О. Ключевского занималась М. В. Нечкина*****. Заслугой М. В. Нечкиной является, прежде всего, тщательное изучение политических взглядов В. О. Ключевского в разные периоды его жизни. Для этой цели ею были использованы все известные публикации сочинений и писем Ключевского, все воспоминания современников о нем и другие источники. М.В. Нечкина верно подметила, что «Ключевский пришел в высшую школу типичным “разночинцем”»6*. Она указывает, что «журналистика 60-х годов оказала большое
* «Соловьев безусловно есть величайший русский историк XIX столетия» (там же, стр. 52).
** Там же, стр. 51. «Ключевский есть синтез, или, точнее говоря, Ключевский — эклектик» (там же, стр. 63). Об эклектизме Ключевского Покровский писал еще в 1904 г., после выхода в свет первой части его «Курса»: «главный недостаток нашего издания “Курса” — эклектизм» (там же, вып. II, М.; Л., 1933, стр. 52).
*** М.Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, вып. I, стр. 61-63.
**** Там же, стр 64
***** од. в. Нечкина. Русская история в освещении экономического материализма (историографический очерк). Казань, 1922, стр. 171, 176, 182-183, 195; Ее же. К характеристике В. О. Ключевского как социолога.— «Вестник просвещения», 1923, № 1-2, ее же. Взгляд В.О. Ключевского на роль «идей» в историческом процессе.— «Книга». 1923, № 5 (То же — «Красная новь», 1923, № 5, стр. 174-203); ее же. В.О. Ключевский.— Сб. «Русская историческая литература в классовом освещении», т. II.М., 1930, стр. 215-350. Изложение ее доклада «О неопубликованных материалах Ключевского» см. в «Историческом журнале», 1942, № 5, стр. 171-172.
e* М. В. Нечкина. В.О. Ключевский, стр. 217.
влияние на Ключевского», что он «чувствует симпатию к Чернышевскому» и т. д.* По ее мнению, «революционность своей эпохи он осознал, но результатом этого осознания был страх перед революцией, солидаризация с противореволюционными кругами и полное отрицание революционного метода действия. Этот страх и это отрицание Ключевский пронес через всю жизнь и глубоко отпечатлел в своем научном мировоззрении»**.
М. В. Нечкина считает, что влияние передовых кругов разночинной интеллигенции в 60-х гг. на Ключевского было значительным, а «солидаризация» его с «противореволюционными кругами» — де-. лом более позднего времени. Вместе с тем она говорит и о влиянии, которое оказывали на Ключевского в годы его университетской учебы Соловьев и Чичерин***.
Для Н. Л. Рубинштейна, как и для Покровского, Ключевский был, прежде всего, эклектиком, пытавшимся в систему государственной школы Соловьева — Чичерина включить экономические моменты****. Говоря о складывании мировоззрения Ключевского, Н. Л. Рубинштейн подчеркивает, что «в первый двадцатилетний период» деятельности Ключевского (т.е. в 1860-1880 гг.) для него «решающим... остается влияние Соловьева и Чичерина... Его интерес к Чичерину даже возрастал на протяжении 60-х годов» *****. Рубинштейн склонен отрицать идейное воздействие на Ключевского трудов Щапова6*, «географизм» и «экономизм» в творчестве историка он объясняет влияниями Бокля и позитивизма7*.
* Там же, стр. 223.
** Там же, стр. 222.
*** Там же> стр 225, 228, 283.
**** Н. Л. Рубинштейн. Русская историография. М., 1941, стр. 446.
***** Там же, СТр_ 447. «Юридическая схема продолжает довлеть у Ключевского даже в период расцвета его экономических исследований»,— писал Рубинштейн в другом месте (Н. Л. Рубинштейн. В.О. Ключевский,— «Исторический журнал», 1941, № 3, стр. 35). «Ключевский,— писал он,— ...шел за государственной теорией Соловьева — Чичерина в общих контурах своей схемы и в трактовке основных ее вопросов... продолжением школы Соловьева являлась в известной мере и вся школа Ключевского» (Н. Л. Рубинштейн. Русская историография, стр. 341-342).
6* Н. Л. Рубинштейн. В. О. Ключевский, стр. 34; его же. Русская историография, стр. 447.
7* «От позитивизма,— писал он,— идет, прежде всего, выделение природного фактора, значения географических условий в историческом развитии народа. Как и Соловьев, он ссылается при этом на Бокля, как на образец» (Н. Л. Рубинштейн. Русская историография, стр. 460).
Ни реформа 1861 г., ни «Современник» Чернышевского, ни вся напряженная борьба 60-х гг.— все это, по мнению Н. Л. Рубинштейна, «не оказало на него (Ключевского. — А.З.) глубокого влияния»*.
Из приведенного нами историографического очерка о Ключевском, по необходимости краткого, с неизбежностью вытекает следующий вывод: почти все перечисленные нами авторы, несмотря на оттенки и различия, сходятся в главном, а именно в том, что Ключевский на всем протяжении своей жизни как историка, в том числе и в 60-е гг. XIX в., был последовательным учеником Соловьева, принадлежал к «государственной школе» Соловьева — Чичерина. Однако этот статичный, если так можно выразиться, взгляд на одного из крупнейших представителей русской буржуазной историографии не согласуется с действительными фактами. На самом деле — и доказать это является целью настоящей статьи — процесс формирования мировоззрения Ключевского не был столь прямолинейным и неизменным, как принято считать до сих пор. Ключевский-историк 80-90-х гг. значительно отличался по своим взглядам и научным интересам от Ключевского-студента и начинающего историка. На формирование его исторических взглядов в 60-е гг., помимо объективных факторов, оказывали главное влияние другие идеи, чем идеи Соловьева и Чичерина. Лишь в последующий период картина меняется и концепция «государственной школы» кладется в основу его собственной схемы русской истории.
Значительная часть произведений молодого Ключевского до сих пор не опубликована и хранится в рукописных собраниях Государственной библиотеки им. В. И. Ленина и Института истории АН СССР**. Для характеристики общественно-политических взглядов Ключевского в 60-е гг. имеется очень мало материалов: несколько уцелевших писем к П. П. Гвоздеву и к И. В. Европейцеву, ряд записей в дневнике, отрывки из позднейших воспоминаний — вот, собственно, и все, чем располагает исследователь на сегодняшний день. Но хотя эти материалы не позволяют в полной мере восстановить идейные истоки исторической концепции Ключевского, они все же дают для этогр некоторые отправные данные.
В. О. Ключевский учился в Московском университете с осени 1861 г. по весну 1865 г. Именно в это время и формировались его идейные воззрения. Путь его в университет был нелегок. Клю-
* Там же, стр. 447.
** См. А. А. Зимин. Архив В.О. Ключевского.— «Записки Отдела рукописей Библиотеки им. В.И. Ленина», вып. 12. М., 1951, стр. 75-86.
невский был сыном бедного священника, и поэтому, окончив Пензенскую семинарию, он был вынужден своим трудом завоевать себе возможность дальнейшего образования*. Будучи студентом духовного ведомства, Ключевский обязан был поступить в Духовную академию. Однако, поборов сопротивление пензенского архиерея и выдержав вступительные экзамены, он поступил в Московский университет** в знаменательный для тогдашнего русского общества год — год отмены крепостного права.
Реформа 1861 г. произвела на Ключевского огромное впечатление***. С явным одобрением отзывался он и о растущем демократиче-• ском движении. В августе 1861 г. Ключевский писал своим родным:
«У нас ходят толки, любопытные в высшей степени, намекающие на то, что и на Руси не все шито-крыто, что и в ней кое-где движутся и борются, а не безмолвствуют покорно» ****.
Многие идеи Чернышевского и Добролюбова вызывали в эту пору сочувствие молодого В. О. Ключевского.
В письмах к П. П. Гвоздеву мы не раз находим благожелательные отзывы и о «Современнике» и о его руководителях. Так, в апреле 1862 г. Ключевский, касаясь полемики, разгоревшейся между журналами, писал: «Всех виднее в этой перепалке “Современник” с Чернышевским,— этим бесцеремонным семинаристом-социалистом и пр. Славно — что ни говори — отделывает он кой-кого»*****. Перечисляя тут же противников «Современника», он
* Об этом см.: И. А. Артоболевский. К биографии В. О. Ключевского.— «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 164-173; А. И. Яковлев. В. О. Ключевский (1841-1911).— «Записки Научно-исследовательского института при Совете министров Мордовской АССР», Саранск, 1946, вып. 6, стр. 99.
** А. А. Кизеветтер. Указ, соч., стр. 53.
*** «Многих из нас занимало выяснение, у кого же в свою очередь научился В. О. искусству социально-исторического прозрения,— вспоминал Р. Ю. Виппер.— Когда я раз спросил о том В. О., он ответил указанием на два источника: один — “История цивилизации” Гизо; другой — впечатления, вынесенные В. О. как студентом в годы освобождения крестьян» (Р. Ю. Виппер. Памяти великого ученого.— «Русские ведомости», 17 мая 1911 г.). Характерно, что о Соловьеве Ключевский даже не упомянул.
**** А. Храбровицкий. Письма В. О. Ключевского в Пензу. — «Сталинское знамя» (Пенза), 28 февраля 1945 г.
***** Письма стр. 103. Ниже Ключевский с сочувствием писал, что «Современник» «честит по-русски праздную умозрительную философию» (там же, стр. 104, стр. 80). Упоминает Ключевский и о Щапове (там же, стр. 67), в частности, в связи со студенческим движением 1861 г. (Из писем В. О. Ключевского.— «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 229).
называет Б. Н. Чичерина, К. Н. Бестужева-Рюмина, Ф. И. Буслаева и С.М. Соловьева. В письме, написанном, очевидно, вскоре после ареста Чернышевского, Ключевский писал: «Чернышевский — талантливая голова, ловкое перо», будущий историк русского просвещения не обойдет его имя молчанием*. Среди бумаг В.О. Ключевского той поры мы находим и «Манифест» утописта-социалиста Роберта Оуэна и выписки из статьи по этому поводу Н.А. Добролюбова — ценные свидетельства, характеризующие умозрение Ключевского-студента**. О смерти Добролюбова он отозвался с глубокой скорбью: «Эта потеря стоит того, чтобы пожалеть о ней в глубине души» ***.
Ключевский с восторгом пишет об «Отцах и детях», где в образе Базарова и других героев он увидел свое поколение****. Он увлекался также книгой Фейербаха «0 сущности религии» *****. Вопрос о сущности религии и христианства в особенности долго волновал Ключевского. Он интересовался также естественными науками, знал Дарвина, Гумбольта и других выдающихся естествоиспытателей6*. Ключевский в своих письмах указывает на тяжелую долю русского народа7*, интересуется крестьянским вопросом8*, с глубоким уважением отзываясь о семинарском учителе Глебове, занимавшемся этим вопросом и много читавшем «немецких материалистов»9*. О «высшем обществе» он отзывался с негодованием, честя его представителей, вслед за Буслаевым, «немецкими пантал онниками ».
Все это говорит о сочувствии Ключевского 60-х гг. настроениям разночинной интеллигенции той поры. Но было бы весьма ошибоч
* «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 165.
** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 32.
*** Письма, стр. 73.
**** Там же, стр. 99.
***** Там же, стр. 74-75, 77. «Фейербах — материалист и выдвигает на 1-й план природу» (там же, стр. 75).
6* Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 37; А. И. Яковлев. Указ, соч., стр. 100.
7* Письма, стр. 70-71.
8* Летом 1862 г., будучи репетитором в семье князя С. В. Волконского в с. Зи-марове Ранненбургского уезда Рязанской губ., Ключевский писал Гвоздеву: «Я теперь, кроме педагогических занятий, почитываю да подумываю. Часто вижусь с мировыми посредниками и слушаю о крестьянских делах» (Письма, стр. 107; см. также И. А. Артоболевский. Указ, соч., стр. 172).
9* Письма, стр. 107.
ным на этом основании не только ставить знак равенства, но и говорить о его близости к революционерам-демократам 60-х гг. Хотя Ключевский и находился под известным влиянием Чернышевского и Добролюбова, он был весьма далек от признания необходимости революционного переустройства общества. Более того, он выступал против студенческих забастовок, так как они грозили закрытием университета*.
Сознание тяжелых условий жизни народа порождало в нем не стремление к активной борьбе, а чувство безысходной тоски, стремление уйти от действительности, погрузиться в научную . работу. «Тоскливо, грустно отзываются во мне звуки жизни,— записал он в своем дневнике в 1867 г.— Сколько в них негармоничного, жестокого! Как раздражителен и восприимчив мой внутренний слух! Труд заглушает во мне эти отзывы, полные боли. Но как только на минуту станешь свободен, опять начинаются эти припадки уныния. В степь бы!., или в лес»!** Пессимизм той поры позднее перерос у Ключевского в скептицизм того рода, который В. И. Ленин определял как форму «перехода от демократии к либерализму» ***.
Посмотрим теперь, в какой мере политические настроения Ключевского-студента определяли его отношение к различным профессорам и как влияли на складывание его мировоззрения и исторических взглядов в частности.
* Письма, стр. 57 и др.; см. также письмо И. В. Европейцеву от 18 октября 1861 г. («Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 226-227). Подробнее об отношении Ключевского к студенческому движению 1861 г. см.: П. С. Ткаченко, Московское студенчество в общественно-политической жизни России второй половины XIX в. М., 1958, стр. 108-109.
** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 32. Об этом же чувстве он писал 25 февраля 1868 г. Н. И. Мизеровскому: «Чувство одиночества не только не пугает меня, даже доставляет мне эгоистическое удовольствие» («Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 233). О студенческих настроениях и связях Ключевского дает любопытные сведения дошедший до нас рассказ А. И. Яковлева, достоверность которого, однако, вызывает сомнение. «В студенческом кружке пензяков, к которому естественно примкнул Ключевский, он пришел в соприкосновение с будущими террористами каракозовцами». Брат Каракозова был даже пензенским учеником В. О. Ключевского. « Но попытка втянуть Ключевского в ряды каракозовцев... была пресечена одним из виднейших участников кружка — Ишутиным, ближайшим приятелем Каракозова. Ишутин,— говорит Яковлев,— положил мощную длань на жиденькое плечо В. О. и твердо заявил: “Вы его оставьте. У него другая дорога. Он будет ученым”» (А. И. Яковлев. Указ, соч., стр. 100).
*** В. И. Ленин. Соч.. т. 18, стр. 10.
В. О. Ключевский каждому из профессоров, которого ему приходилось слушать, давал совершенно определенную оценку, Так, например, уже в 1862 г. он писал: «Чичерин и Сергиевский (профессор богословия. — А.З.) — эти два великие софиста нашей науки»*. Еще менее жаловал Ключевский классика П. М. Леонтьева и философа Юркевича. «Это самые крупные подлецы»,— писал он в 1867 г**. Философские взгляды Юркевича отталкивали В. О. Ключевского, которому была чужда гегельянская историко-философская система***. Под руководством Леонтьева Ключевскому, однако, пришлось некоторое время поработать. Позднее Леонтьев хотел даже оставить его при своей кафедре, уговаривая Ключевского посвятить себя латинской словесности****.
Возможно, что под руководством Леонтьева в 1863 г. Ключевский написал большой реферат под названием «Сочинение Дюрана еп. Меранского о католическом богослужении»*****. В нем дается изложение двух книг (I и VII) произведения одного из представителей средневековой теологии (конца XIII в.). Несколько страниц было посвящено их критике. Работа не удалась. Несмотря на проявленную ученость и эрудицию (знание латыни, догматики, богословия), реферат вышел сухим, без всякой самостоятельной мысли. По-видимому, средневековая католическая схоластика не увлекла Ключевского. Впрочем, окончив свое сочинение, он продолжал изучение книги Дюрана, интересуясь, прежде всего, вопросом о близости церковных обрядов католической и православной церквей6*.
С глубоким уважением В. О. Ключевский относился к профессору С. В. Ешевскому, читавшему на первом курсе лекции по древней истории7*. Его записи лекций Ешевского8* были затем исполь
* Письма, стр. 80; ср. стр. 96.
** Там же, стр. 115; ср. стр. 117. Это не мешало Ключевскому отмечать ясную мысль изложения Леонтьева (В. О. Ключевский. Соч., т. VIII, М., 1969, стр. 254).
*** Письма, стр. 85.
**** А. И. Яковлев. Указ, соч., стр. 102; М.М. Богословский. Указ, соч., стр. 7.
***** Архив Института истории, д. 26; «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 231.
6* «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 231.
7* Письма, стр. 42-43, 51, 53, 54, 66. О любви студентов к Ешевскому Ключевский писал и позднее (В.О. Ключевский. Соч., т. VIII, стр. 254-256; см. также изложение его речи 1901 г. в «Историческом вестнике», 1901, № 12, стр. 1276).
8* В архиве В. О. Ключевского сохранились конспекты лекций Ешевского по истории Греции, сделанные Ключевским за второе полугодие 1862 г. (Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 70).
зованы для литографирования курса*. Трудно сейчас говорить о влиянии Ешевского на формирование взглядов Ключевского-историка, но на одно обстоятельство необходимо обратить внимание. В 1857 г. Ешевский прочел в Казани три лекции о колонизации Северо-Восточной России**. Эти лекции слушал А. П. Щапов, тогда еще студент академии, и именно ему Ешевский указал на жития святых из Соловецкой библиотеки как на источник по истории колонизации***. Впоследствии этими же сюжетами под влиянием Щапова стал заниматься и В. О. Ключевский.
Отношение В. О. Ключевского к С. М. Соловьеву было сложным, и ввиду важности вопроса на нем надо остановиться подробнее. Как известно, зрелый Ключевский неоднократно выступал с панегириками творчеству Соловьева. Первая статья Ключевского о Соловьеве представляет собой некролог, написанный сразу же после его смерти, когда Ключевский занял кафедру своего покойного учителя. Специальная речь Ключевского о Соловьеве была прочитана Ключевским в 16-ю годовщину его смерти, а статья «Памяти С. М. Соловьева» была написана им к 25-й годовщине смерти Соловьева****. Таким образом, все три указанные выступления Ключевского носили юбилейный характер, и это обстоятельство необходимо учитывать. В интимных же разговорах, как свидетельствует Глаголев, Ключевский делал несколько иные замечания*****.
* Сокурсник Ключевского П. Погожев писал: «У меня сохранились лекции проф. Ешевского по истории средних веков, писанные литографическими чернилами рукою самого Ключевского» (П. Погожев. Первая работа Ключевского.— «Новое время», 17 мая 1911 г.).
** Впервые напечатаны в «Вестнике Европы» за 1866 г.; вторично — в кн.: С. В. Ешевский. Сочинения по русской истории. М., 1900.
*** С. В. Ешевский. Сочинения по русской истории, стр. XXXIII.
**** в q Ключевский. Соч., т. VII. М., 1959, стр. 126-144; т. VIII, стр. 253-262, 351-367. В 1877 г. Ключевский опубликовал также статью «Двадцатипятилетие истории России С. М. Соловьева» («Древняя и новая Россия», т. I, СПб., 1877, стр. 107-113). Во время чествования его в университете в 1901 г. Ключевский подчеркнул, что он «последний, младший ученик Соловьева» («Чествование В.О. Ключевского».— «Исторический вестник», 1901, № 12, стр. 1276).
***** «Q своем учителе и предшественнике по университету С.М. Соловьеве он отзывался вообще с почтением, но вдруг неожиданно заявил “фанфара” и, повторив, что говорил в известной лекции, из всего этого сделал новый вывод, что манера читать у знаменитого историка была рисовкой, позой» (С. Глаголев. О В.О. Ключевском.— «Богословский вестник», 1916, октябрь — декабрь, стр. 493).
В этом плане требуют корректива и известные слова Ключевского, обращенные к его слушателям, о том, что его курс является лишь дополнением к учебнику Соловьева*. Зафиксированы по этому поводу его слова, произнесенные не в обширной аудитории, а в кругу близких людей. «Мой общий курс,— говорил Ключевский,— сделка между моей ученой совестью и сознанием обязанностей педагога»**. Схема университетского курса Ключевского, вынужденного считаться с учебником Соловьева, еще не определяет в полной мере его собственных воззрений. Тем более это относится к Ключевскому 60-х гг.
Принято считать, что Ключевский впервые услышал Соловьева только на третьем курсе, т.е. в 1863 г., когда Соловьев читал общий курс истории России. Это ошибка, в которой повинен сам Ключевский, неточно изложивший обстоятельства своего знакомства с Соловьевым в позднейших воспоминаниях***. На самом деле Ключевский слышал Соловьева на первом курсе, осенью 1861 г. **** Молодого студента задела «за живое... здоровая, критическая мысль, подчас не чуждая самой трезвой поэзии» *****. 20 декабря 1863 г. Ключевский, сообщая дяде о том, что Соловьев начал читать публичные лекции по новейшей истории Европы, отметил понравившуюся ему характеристику Наполеона как человека, рожденного французской революцией. Однако «государственная» схема Соловьева Ключевского не удовлетворяла6*. Ее основного защитника Б.Н. Чичерина он считал, как уже отмечалось, вели
* М. М. Богословский. Указ, соч., стр. 9.
** А.Е. Пресняков. Указ, соч., стр. 210.
*** Ключевский писал: «Мне не пришлось послушать его ни разу до третьего курса» (В.О. Ключевский. Соч., т. VIII., стр. 255).
**** Письма, стр. 69.
***** Там же. П. Погожев вспоминает о Ключевском: «Оба мы слушали тогдашних профессоров, а в особенности увлекались лекциями С. М. Соловьева» («Новое время», 1911, № 12, стр. 633); см. также «Голос минувшего», 1913, №5, стр. 231.
6‘* Критикуя известное положение Гегеля о соотношении разумного и действительного, Ключевский замечал: «При таком воззрении со всем нужно мириться, все оправдывать и ни против чего не действовать. Соловьев оправдывает же и даже защищает Московскую централизацию с ее беспардонным деспотизмом и самодурством» (Письма, стр. 84). Касаясь полемики Костомарова с Соловьевым относительно Ивана Сусанина, он восклицал: «Соловьев, западник, не прочь протянуть руку славянофилам?!» (там же, стр. 104). А славянофилов и славянофильствовавших историков (М.П. Погодина, И. Д. Беляева, И. Е. Забелина) Ключевский резко критиковал и позднее.
чайшим софистом и солидаризировался с критикой его теорий в «Современнике». Только в 1867 г. Ключевский проявляет известный, хотя и ограниченный интерес к книге Чичерина о народном представительстве*.
В произведениях Ключевского 60-х гг. мы не обнаружим сколько-нибудь заметного влияния государственной школы и трудов С. М. Соловьева. Личные же отношения между Ключевским и Соловьевым были более чем сдержанны. Только после появления «Сказаний иностранцев о Московском государстве» Соловьев обратил внимание на своего ученика. Впрочем, последний долгое время так и не знал, собирается ли его учитель оставить его при кафедре Русской истории или нет**. О позднейших ссорах Соловьева с Ключевским ярко рассказывает А. И. Яковлев***. Вряд ли поэтому можно согласиться с предположением С. Смирнова, поддержанным А. И. Яковлевым и рядом других ученых, что житиями святых Ключевский начал заниматься по указанию Соловьева****.
Для того чтобы разобраться в последнем вопросе, необходимо остановиться на взаимоотношениях молодого Ключевского еще с одним профессором-филологом — Ф. И. Буслаевым, который, на наш взгляд, оказал на будущего автора «Житий» большое влияние.
Ключевский сблизился с Буслаевым уже в первый год своего пребывания в университете; ходил к нему на дом, беседовал на всевозможные темы*****. В начале 1862 г. Ключевский работал
* Письма, стр. 80, 103-104; В письме к Гвоздеву от 22 января 1867 г. Ключевский писал: «Читаешь ли “О народном представительстве” Чичерина? Прочти хоть не всю, всю прочесть — большой подвиг» (там же, стр. 113).
** А. И. Яковлев. Указ, соч., стр. 102.
*** Там же, стр. 103. По воспоминаниям современников, Ключевский расходился с С. М. Соловьевым и по ряду частных вопросов, например о митрополите Филарете (См. Н. В-ский. В. О. Ключевский в духовной академии.— «Русское слово», 13 (26) мая 1911 г.).
**** А. И. Яковлев. Указ, соч., стр. 103; М.К. Любавский. В. О. Ключевский, стр. 7; А. С. Лаппо-Данилевский. Указ, соч., стр. 341; М. В. Нечкина. В. О. Ключевский, стр. 228.
***** Об этом много раз писал сам Ключевский (Письма, стр. 42, 51, 54, 56, 57-59, 69-73, 96, 104, 111; В.О. Ключевский. Соч., т. VIII, стр. 254). Ср. свидетельство А. И. Яковлева (Указ, соч., стр. 100-101). П. Погожев вспоминает, что ряд студентов, в том числе и В. О. Ключевский, «еженедельно по пятницам встречались у Ф. И. Буслаева, где для студентов устраивались своеобразные “журфиксы”. При этом Буслаев занимался у себя в кабинете, предоставляя студентам свою библиотеку. Часто он выходил к собравшимся
под руководством Буслаева в Синодальной библиотеке*. Даже в самом конце 1863 г. он считал себя филологом, а не историком**. Позднее, после смерти Буслаева в 1897 г., Ключевский высоко оценил его значение для русской исторической науки. «Главным предметом его внимания, — писал он, — была народность» ***.
Именно эта особенность творчества Буслаева пленила молодого Ключевского, уже в студенческие годы усиленно интересовавшегося историей русского народа. Буслаев, писал Ключевский, «растолковал нам значение языка как исторического источника» **** и призывал изучать его в тесной связи с историей народа. По словам Ключевского, трудами Буслаева «восстановлена была связь древнерусской письменности с ее туземными, народными источниками». В частности, в житиях святых, в легендах, помещавшихся в их текстах, Буслаев искал мотивы и образы народного происхождения.
Но при всем этом уже с первых лет между Буслаевым и его учеником возникли серьезные разногласия в подходе к изучению истории, и они, несомненно, были обусловлены тем идейным воздействием, которое было оказано на Ключевского Чернышевским и Добролюбовым.
В своих ранних работах по истории древнерусской литературы Ф. И. Буслаев исходил из гриммовской мифологической теории, которая выявляла разнообразие народно-поэтических сюжетов
и «принимал участие в студенческих беседах» («Новое время», 1911, № 12, стр. 633). Сам Ключевский писал о занятиях у Буслаева своим родным в 60-е гг. следующее: «Я хожу по воскресеньям к Буслаеву и вот зачем. Нас человека 4 обнаружили охоту к филологическим компаниям, и он решился с охотой читать нам у себя дома по воскресеньям сравнительное языкознание и общую грамматику индоевропейских языков. Нет ничего лучше этих чтений у него в кабинете без церемоний и формальностей» (А. Храбровицкий. Письма В. О. Ключевского в Пензу.— «Сталинское знамя», 8 февраля 1945 г.).
* «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 171.
** В письме от 20 декабря 1863 г. Ключевский сообщает: на лекции Соловьева «нас, филологов двух последних курсов, Соловьев пускает даром» («Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 231).
*** В.О. Ключевский. Соч., т. VIII, стр. 292.
**** Там же, стр. 290. Ключевский навсегда сохранил интерес к русскому языку. Ему принадлежит единственный в своем роде курс «Терминологии русской истории» (см.: В.О. Ключевский. Соч., т. VI). В Архиве Института истории АН СССР сохранились тетради Ключевского, куда он заносил все интересовавшие его древнерусские термины.
на доисторической (праарийской) основе*. Поэтому уже на первом курсе Ключевский под руководством Буслаева начал заниматься древнегерманской мифологией по песням древней Эдды**, читал основные труды своего учителя и т. п.*** В 1863 г., по-видимому, в конце второго курса, Ключевский уже пишет небольшой, но очень интересный реферат под названием «Сравнительный очерк народно-религиозных воззрений»****. По словам Ключевского, «элемент сравнительной филологии» и философия языкознания приняли в это время у него и его товарищей «свирепые размеры». «Каждая душонка наша,— писал он шутливо,— бредит корнями • и суффиксами» *****. На сохранившейся рукописи имеются пометки Ф. И. Буслаева, раскрывающие характер разногласий между ним и автором «Сравнительного очерка».
Несмотря на то что сочинение еще сильно отражает идеалистические умонастроения Ключевского (он охотно цитирует Шеллинга и Вайца применительно к вопросам философии, мифологии и т. п.), в нем уже подчеркивается влияние природы на человека, на выработку его религиозных верований6*, что было не вполне по вкусу Буслаеву. На полях против строк, где речь шла о перенесении в религиозную область явлений, всегда бросающихся в глаза «естественному человеку при его первоначальных наблюдениях окружающей природы», Буслаев отмечает: «Но главное, в зависимости от условий и обычаев самой жизни народа»7*. Или в другом месте: «Быт иногда сильнее природы оказывает действие на образование мифов»8*. Когда Ключевский вскользь замечает, что «быт народа
* Подробнее см.: Н.К. Гудзий. Изучение русской литературы в Московском университете. М., 1958, стр. 12.
** Письма, стр. 69-73.
*** В архиве Ключевского сохранились записи лекций Буслаева по истории русской словесности, лекции по древнерусской литературе 1862-1863 гг., выписки из учебников и др. (Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 76).
**** Там же, д. 26.
***** Письма, стр. 111.
6* «Одной из характеристических черт человека в естественном состоянии,— говорилось в “Очерке”,— служит то, что он находится под постоянным, неотразимым и непосредственным влиянием природы, которая могущественно действует на всю его жизнь. Ее явления дают те основы, на которых он строит весь круг своих религиозных представлений, все содержание религиозных представлений, все содержание религиозных верований» (Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26, л. 3 об.).
7* Там же, л. 4.
8* Там же, л. 4 об.
также кладет свою печать на создание религиозных воззрений его», Буслаев подчеркивает слово «также» и на полях замечает: «Это должно быть в связи с предыдущим, ибо через условия быта природа входит в мифологию»*.
Уже в этом первом самостоятельном произведении Ключевского мы видим зародыш его будущих историко-философских воззрений, уже здесь он резко подчеркивает влияние природы на миросозерцание первобытного человека. Впоследствии географический фактор приобретает у него первостепенное значение при построении схемы истории России. Уже в 1863 г. Ключевский не соглашался с бусла-евским неопределенным понятием «народного быта».
Сохранились и другие работы Ключевского-студента, показывающие его интерес к народу и народному быту, в частности, связанные с изучением русской народной поэзии («духовные» стихи о Егории Храбром, о Страшном суде, а также о «каликах перехожих» в связи с работой над исследованием Бессонова). Сохранились записи Ключевского о языке древнерусских былин, представляющие, по-видимому, конспекты его занятий с Буслаевым на эту тему.
Ключевский заинтересовался также циклом новгородских былин. Сохранились его записи о былине «Садко», «Об эпических сказаниях Новгорода» вообще**. Особенности новгородских былин Ключевский ищет в природных и исторических условиях жизни Новгорода. Отмечая типы киевских богатырей, сложившиеся в условиях напряженной борьбы Руси с кочевниками, он писал: «Географические и исторические условия Новгородской области не могли дать материала для образования подобных богатырских типов». Такие новгородские герои былин, как «Садко», «Василий Буслаев» и др., сложились, по его мнению, в иной обстановке: «Недостаток хорошей почвы в Новгородской области препятствовал раннему и прочному утверждению в ней оседлости и земледелия». Близость моря, обилие лесов — все это «тянуло вдаль смелых искателей счастья надеждой на быстрое, хотя рискованное обогащение».
Первым напечатанным исследованием Ключевского было его кандидатское сочинение, написанное на четвертом курсе университета (в конце 1864 — начале 1865 г.),— упомянутые «Сказания иностранцев о Московском государстве». В архиве Ключевского сохранились материалы, характеризующие первые этапы его работы над этим ис
* Там же, л. 2 об.
** ГБЛ, папка, 15, д. 20.
следованием*. «Сказания иностранцев», помимо прочего, интересны как новая ступень в развитии мировоззрения Ключевского, когда он постепенно освобождался от влияния Буслаева**. В то же время в этой работе не наблюдается еще никаких следов воздействия «государственной школы». Во введении, формулируя значение записок иностранцев «для изучения отечественной истории», Ключевский пишет, что обычно «иностранец не мог дать верного объяснения многих явлений русской жизни, часто не мог даже беспристрастно оценить их»***. Особенным искажениям подвергались «почти все изображаемые иностранцами картины древнерусского быта». Поэтому необходимо останавливаться главным образом на «тех сторонах древней России, изображение которых наименее могло потерпеть от произвола личных причуд писателей: таковы их географические сведения об области Московского государства, описание некоторых сторон и явлений государственной жизни, известия о материальных средствах страны и т. п.» ****. Для нас очень важно, что в своем исследовании Ключевский в первую очередь интересуется природными условиями Московского государства, а также «материальными средствами страны». Интерес к экономико-географическим вопросам у автора, несомненно, является лейтмотивом всего произведения.
Очевидно, уже вскоре после окончания университета, в 1865-1866 гг., Ключевский пишет еще одну работу в том же плане, что и «Сказания иностранцев»,— дополнения к книге П. Кирхманна по истории общественного и частного быта*****, посвященные истории земледелия, торговли, ремесла и промышленности на Руси6*.
* Сохранились первые тетради, содержавшие в основном выписки из сочинений иностранцев и замечания биографического характера (Архив Института истории, ср. Ключевского, д. 29).
** В начале 1867 г. Ключевский с горечью писал П. П. Гвоздеву: «Бусл[аев] оказывается вертихвостом и наивным, каким был всегда» (Письма, стр. 115).
*** В.О. Ключевский. Сказания иностранцев о Московском государстве. Пг., 1918, стр. 6, 8.
**** Там же, стр. 10-11.
***** п. Кирхманн. История общественного и частного быта. М., 1867.
6* В архиве Ключевского (Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26) сохранились подготовительные материалы для этого сочинения и наброски для предполагавшейся, но не появившейся в печати второй части книги Кирхманна, в частности, отрывок «Игры. Школа русского народа». Время написания работы определяется датой выхода ее в свет и ссылкой в ней на статистические данные за 1864 г. Во второй половине 1866 г. Ключевский был занят уже работой над исследованиями по хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря.
Это довольно большое сочинение, написанное главным образом по литературе и справочным пособиям, выпало из поля зрения всех историков, занимавшихся творчеством Ключевского*. Здесь также ярко выступает интерес Ключевского к проблемам экономической истории России. Он последовательно дает характеристику земледелия, обработки хлеба, производства различных видов напитков (молоко, вино, мед, водка), пряностей, посуды, строительного дела, текстильного производства и одежды, горного дела, добычи золота, металлообрабатывающей промышленности и, наконец, торговли и монетного дела. Ключевский в это время не сомневался в том, что земледелие было ведущим и исконным занятием славян с незапамятных времен. Ссылаясь на археологические материалы, Ключевский писал, что в VI в. «славяне занимались уже земледелием и скотоводством», что «хлебопашество издавна было у них лучшим занятием мужчин». Позднее, как мы знаем, он изменил эту точку зрения и стал защищать тезис о распространении в Древней Руси в первую очередь звероловства, бортничества и других промыслов.
С лета 1865 г. Ключевский начал работать над вопросом о монастырском землевладении и колонизации, на что затратил более пяти лет. Для этого он обращается к изучению актовых материалов и житий святых. В июне-июле 1865 г. им были написаны четыре лекции-беседы «О церковных земельных имуществах в древней Руси»**.
В первой беседе Ключевский подробно останавливается на характере и этапах монастырской колонизации. Говоря об основателях древнерусских монастырей XIV в., он отмечает, что «подобно богатырям наших песен, эти отшельники от мира были пролагателями путей в лесах нашей древней России». В той же лекции Ключевский стремился выяснить значение монастыря для древнерусского общества, обстоятельства, способствовавшие созданию крупных монастырских вотчин, и наконец, приводил сведения об общих размерах земельных богатств церкви в XVII-XVIII вв.*** Во второй лекции он давал характеристику «главных поземельных льгот», т.е. иммуни
* Оно не отмечено даже в наиболее полном списке трудов Ключевского, составленном С. А. Белокуровым («Чтения ОИДР», 1914, кн. 1).
** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26. Первая лекция помечена 21 июня, вторая — 5 июля 1865 г.
*** Для этой цели Ключевский использовал работу В. Милютина «О недвижимых имуществах духовенства в России», М., 1861, «Историю России» С. М. Соловьева, т. IV, VII и др.
тетных привилегий, которыми обладал монастырь. «Монастырские села составляли особенный юридический мир, где монастырь был государем»,— писал он. Именно поэтому Ключевский видел черты феодализма «в кругу духовных землевладельцев и особенно в богатом древнерусском монастыре»*. Крупные монастыри, например Троицкий, Соловецкий и др., «были значительными крепостями, хорошо вооруженными. Такие монастыри всего больше напоминали собой феодальные замки» **. Наблюдения весьма знаменательные. Далее Ключевский переходил к характеристике управления вотчинами, которое «было главной заботой монастыря». Третью лекцию-беседу он начинал описанием поборов, взимавшихся монастырем с подвластных ему волостей, как они рисуются монастырскими уставными грамотами. Вторая половина ее была посвящена вопросу о монастырском землевладении в русской публицистике XV — начале XVI в. (спор нестяжателей и осифлян и т. д.).
Выяснив, что монастырское землевладение «одинаково затрагивало существенные интересы Московского государства и московских бояр», Ключевский в четвертой лекции говорит о тех мероприятиях, которые предприняло в XVI в. московское правительство для ограничения, если не для ликвидации, земельных богатств церкви.
В 1866 г. Ключевский уже приступил к работе над житиями святых. Выше уже говорилось, что принято считать, будто эту тему он получил от С.М. Соловьева. На самом деле Соловьев никогда не интересовался житиями святых как историческим источником, за что его упрекали историки из лагеря славянофилов. Зато житиями интересовались и Ешевский, и Ф. И. Буслаев, и А. П. Щапов, к которым в то время с глубоким уважением относился Ключевский. Еще в 1862 г. Ф. И. Буслаев в «Разборе» произведений Костомарова указывал на то, что «рукописные жития русских святых представляют разнообразный и очень важный материал для нашей истории» ***.
Первоначальный план Ключевского заключался в изучении житий как источника по истории колонизации страны. Проблема колонизации Руси была поставлена Соловьевым, который, впрочем, о роли монастырей в этом процессе ничего не писал. Зато Ешевский указывал на жития как на ценнейший источник в этом плане, привлекая
* Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26.
** Там же.
*** ф.и. Буслаев. Разбор сочинений Н.И. Костомарова. Демидовский отчет за 1862 г., стр. 144-159.
для своих лекций материалы Соловецкого архива, хранившиеся в Казани*. Именно в 1866 г., когда Ключевский отправился в Казань для изучения рукописей Соловецкой библиотеки**, вышли из печати лекции Ешевского о русской колонизации. Рукописный сборник соловецких грамот, житие Савватия и Зосимы и Соловецкий летописец дали Ключевскому материал для небольшого специального исследования, называвшегося «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» ***. Ключевский изучал деятельность этого монастыря в тесной связи с проблемой колонизации Поморья. Он выяснил характер новгородской колонизации, которая достигла значительных размеров к середине XV в., т. е. ко времени основания Соловецкого монастыря. Большинство новгородских вотчин было приобретено монастырем от «именитых людей» (Борецких и др.)****. Они, впрочем, не представляли сколько-нибудь округленных земельных владений: «разбросанность поселений обусловливалась, главным образом, свойствами Поморского края» *****, обилием рек и в первую очередь близостью моря, свойствами почвы и пр. Можно сопоставить это высказывание Ключевского со статьей А. П. Щапова «О влиянии гор и моря на характер поселений» (1864)6*, где последний также на основании рукописей Соловецкой библиотеки устанавливает «самое главное, насущное, жизненное значение моря на русских поморцев»7*.
Ключевский подробно характеризует хозяйственную деятельность Соловецкого монастыря и его землевладение. Примерно
* «Монастырь и острожек — вот два постоянные центра, около которых начинает собираться мирное, оседлое население на северо-востоке». «Если бы кто потрудился собрать из рукописных сборников житий и чудес русских угодников многочисленные, рассеянные там указания на это влияние монастырей... тот оказал бы большую услугу русской истории»,— писал Ешевский (С. Ешевский. Сочинения по русской истории, стр. 316, 317). Он часто говорил о колонизации Севера и А.П. Щапову, советуя ему заняться рукописными соловецкими сборниками, дающими материал по этой теме (А. П. Щапов. Соч., т. III, СПб., 1908, стр. XXII).
** С. Смирнов ошибочно датирует поездку летом 1867 г. («Чтения ОИДР», кн. 1, 1914, стр. 56. Ср. письма Ключевского от января-февраля 1867 г. (Письма, стр. 114, 116).
*** Впервые издано в «Московских университетских известиях» за 1866-1867 г., № 7.
**** В.О. Ключевский. Соч., т. VII, стр. 8-9.
***** Там же, стр. 10.
6* А.П. Щапов. О влиянии гор и моря на характер поселений.— «Русское слово», 1864, № 3; ср. А.П. Щапов. Соч., т. II. СПб., 1906.
7* А.П. Щапов. Соч., т. II, стр. 179-180.
в том же плане в 1867-1868 гг. он ведет работу и над житиями святых, которые он избрал основным источником своей магистерской диссертации*.
По первоначальному плану работы над житиями и по наброскам первых глав видно, что историко-литературному обзору житий автор будущей книги «Древнерусские жития святых как исторический источник» намеревался вначале посвятить только введение, из которого затем и выросла вся магистерская диссертация. После этого первый очерк должен был рассказать читателю об общих особенностях колонизации на Руси. Во втором предполагалось осветить географическое распространение крестьянской колонизации на северо-востоке Руси; в третьем — образование «монастырских обществ» и в следующих, основных очерках — четвертом, пятом и шестом, рассказать о разностороннем влиянии монастырей на колонизацию страны.
Сохранившиеся материалы показывают, как автор приступил к разрешению поставленных проблем. Во введении Ключевский подчеркивал, что его главным героем должен быть простой русский человек. «Не за монахом, не за монастырской братией следил он по лесным и болотным пустыням Севера: он старался не выпускать из вида русского человека, как он, соединяясь в маленькие общины... развивал в себе путем этого соединения силы и средства для борьбы с физическими и общественными препятствиями, которые затрудняли исполнение общенародной задачи — внести историческую европейски-христианскую жизнь в пустыни Северо-Восточной Европы»**. За несомненной идеализацией характера монастырской колонизации в этих словах просвечивает глубокий интерес Ключевского к русскому народу как к активному творческому началу в историческом процессе. В упомянутом выше письме к Н. И. Мизеровскому он писал по поводу своих исследований житий святых: «Занятие это доставляет мне большое наслаждение, оно укрепляет веру в русский народ» ***.
* 25 февраля 1868г. Ключевский писал Н.И. Мизеровскому: «Я занимаюсь историей древнерусских монастырей, читаю жития русских святых в рукописях, которых так много в здешних библиотеках». О ранних своих трудах он уже отзывается пренебрежительно: «напечатанные трудишки меня не удовлетворяют» («Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 233). В сентябре 1869 г. Ключевский сообщил П. П. Гвоздеву о своей работе над рукописями Ундольского (Письма, стр. 121).
** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26.
*** «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 233.
В наброске первого очерка Ключевский рассматривает деятельность монастырей в качестве одного из видов колонизации на Руси. Первоначально, по его мнению, колонизация «уславливалась естественным развитием русского народонаселения»*. «Не государство вызвало и направило это передвижение русского народонаселения со всеми его последствиями; оно само было в значительной мере результатом этого передвижения, которое определило и его географическое распространение и многие черты его внутреннего характера». Для полного представления об областях Древней Руси, пишет далее Ключевский, «надо узнать естественные условия и свойства этих краев». И здесь он перекликается со Щаповым, который подчеркивал значение и влияние на характер земледельческой колонизации природных условий, почвы, климата и др**. Еще в 1860 г. Щапов в своей вводной лекции в Казанском университете***, по словам Е. Чернышева, «в основу исторического процесса положил теорию колонизации...» ****. Но Щапова в первую очередь интересовала колонизация не монастырская, а крестьянская (ср. его статью «Сельский мир и сельских сход», написанную в 1862 г.), а Ключевский обратил внимание на колонизацию монастырскую, которую рассматривал в связи «со стремлением народных сил»*****. Так, ее оживление во второй половине XIV в. он связывал с переменой, которая произошла в положении этих «народных сил» (усиление Московского княжества, уменьшение числа внешних набегов и др.).
Ключевский самым решительным образом протестовал против увлечения какими-либо иноземными элементами в изучении проблем колонизации: «Ведь нельзя же серьезно говорить о значении в нашей истории византийского, варяжского или финского элемента,— писал он,— ибо говорить серьезно об этих элементах — значит преувеличивать их значение»6*.
Таковы были отправные пункты первоначального варианта работы о житиях святых. Как видим, они противоречат всем дог
* Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26.
** А. П. Щапов. Историко-географическое распределение русского народонаселения.— «Русское слово», 1864. № 8, 9, 10; то же в кн.: А.II. Щапов. Соч., т. II, стр. 201, 217-218 и др.).
*** Ср. А.П. Щапов. Неизданные сочинения, стр. 19.
**** Е. Чернышев. Революционный демократ — историк А.П. Щапов (1830-1876 гг.).— «Вопросы истории», 1951, № 8, стр. 51.
**** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26.
6* Там же.
мам государственной школы, основным идейным положениям концепции С.М. Соловьева*. Народ, а не государство является творцом колонизации, а самый процесс обусловливался, по мысли автора, природными (географическими) условиями и ростом народонаселения.
Для своего исследования Ключевский проделал громадную подготовительную работу. Он писал, что изучил до 160 житий в 250 редакциях. В его архиве сохранилось до 400 листов предварительных этюдов, посвященных отдельным агиографическим произведениям и содержащих выписки из разных списков житий, замечания об авторах, времени составления того или иного сочинения и т.д. Этюды Ключевского, напоминающие по структуре его материалы к «Сказаниям иностранцев», заслуживают специального рассмотрения. Они помогут выяснить всю лабораторию творчества молодого Ключевского и дадут ряд важных сведений об отдельных агиографических произведениях, не вошедших в его монографию.
Ключевский работал в архивохранилищах Москвы, Петербурга, Казани, Троице-Сергиевской лавры и др., использовал материалы частных собраний — Буслаева, Барсова, Уварова, Тихонравова. Не ограничиваясь изучением нарративных памятников, он привлек значительный актовый материал (Соловецкие акты и Троицкие копийные книги №> 530, 532)**.
И все же работы о житиях святых как источнике по истории монастырской колонизации Ключевский так и не написал. Сам автор «Древнерусских житий» в предисловии объясняет это тем, что, во-первых, источники не дали ему необходимого материала для решения поставленной проблемы, и, во-вторых, необходимо было исследовать литературные и прочие особенности житий, прежде чем изучать их историческое содержание. В своем произведении Ключевский резко характеризовал шаблонность житий святых, их бедность как исторического источника. Дальнейшая разработка житий показала, что Ключевский был неправ в своей оценке. Впрочем, и сам он в своих сочинениях неоднократно приводил
* Характерно, что в работе упоминается однажды К. Д. Кавелин, но наряду с ним и А. П. Щапов. «Родовые отношения» фигурируют у Ключевского один раз, и то очень ограничительно, в связи с междукняжескими отношениями — «Русь в период родовых княжеских отношений» (там же).
** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 38. Эти материалы позднее, в 80-х гг., были использованы Ключевским для его исследований о крестьянстве и холопстве.
ценные исторические сведения, заимствованные им из житий. В перестройке его первоначального плана работы немалую роль сыграл также выход в свет исследований В. Иконникова (1869)* и А. Горчакова (1871)**, посвященных монастырской колонизации и землевладению. В обширном исследовании Иконникова специально разбирался вопрос о значении монастырей в колонизации Северо-Восточной Руси, т. е. вопрос, которому должна была быть посвящена магистерская диссертация Ключевского. Возможно, по выходе этой книги Ключевский отказался от своего первоначального намерения, не желая дублировать работу Иконникова.
Так или иначе, вместо изучения процессов социально-экономической истории «Древнерусские жития» оказались посвященными изучению историко-литературных форм этих памятников прошлого и выяснению обстоятельств, вызвавших их к жизни. Годы учения у Ф. И. Буслаева оказали несомненное влияние на то, что с этой постановкой вопроса Ключевскому удалось с честью справиться. В 1871 г. книга появилась в печати***, а 26 января 1872 г. автор защитил ее как магистерскую диссертацию****.
Работу над житиями Ключевский совмещал с преподаванием в Александровском военном училище (с 1867 до 1884 г.), где он читал курс новейшей истории от преддверия Французской революции до текущего момента. Курс 1868 г. сохранился в виде конспектов самого лектора, причем довольно неполных*****. Лекция Ключевского основаны на идеалистически-психологической оценке важнейших вопросов, центр тяжести перенесен в них на изложение внешнеполитических фактов, французские просветители критикуются
* В. Иконников. Исследование о главных направлениях в науке русской истории в связи с ходом образованности, ч. I.— «Киевские университетские известия», Киев, 1869.
** А. Горчаков. О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и св. синода. СПб., 1871.
*** В. О. Ключевский. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. Отдельные части книги печатались ранее, см., в частности, статью Ключевского «Образцовые писатели русских житий в XV в.» — «Православное обозрение», 1870, № 8, 9, 10. В конце марта 1870 г. Ключевский уже завершал книгу: «Спешу домарать свою книжицу»,— писал он Гвоздеву (Письма, стр. 124).
**** Изложение диспута см. «Чтения ОИДР», 1914, кн. 1, стр. 65-71; см. также ответ В. Ключевского «Аллилуйя и отец Пафнутий» на заметку о его диспуте.— «Современные известия», 1872, № 75 (переиздано в сб. «В.О. Ключевский. Отзывы и ответы», Пг., 1918).
***** ГБЛ, ф. Ключевского, папка 1, д. 1, лл. 72-116.
справа, деятельность вождей французской революции оценивается весьма субъективно.
Но и при всех этих минусах в курсе имеется множество интересных моментов в освещении проблем новой истории. В частности, Ключевский начинал свои лекции с показа всемирно-исторической роли России в международных отношениях начала XVIII в. Он подробно характеризовал «всемирно-исторические результаты деятельности Петра», которые привели, во-первых, к тому, что «целая половина Европы с особыми свежими началами входит в жизнь Европы, отчего только теперь собирается на исторической сцене вся Европа», и, во-вторых, что «является государство, представляющее славянское племя, впервые выступающее теперь в лице России самостоятельно». «Это открытие России для Европы,— подчеркивал он,— важнее открытия Америки по своему значению для Европы» *.
Ключевский указывал на односторонность германских ученых, заключающуюся «в исключительном присвоении своему племени монополии на произведение всех новых исторических начал Европы». В связи с этим «на славянских ученых лежит обязанность рассеять эту односторонность, обратить внимание на значение своего племени в европейской истории. Славянское племя, заняв обширные страны восточной Европы, не имеет нужды в наступательном движении на Запад; ему довольно укрепиться здесь» **. Налет буслаевской и славянофильской терминологии нас не должен удивлять; гораздо интереснее новые нотки, которые позднее будут звучать у Ключевского сильнее всех остальных: определяющее начало географических условий и народонаселения***.
Курс всеобщей истории, прочитанный Ключевским в Александровском училище в 1871/72 и 1872/73 гг., дошел до нас в литографированном виде****. Он начинается обширным вступлением, в котором нарисована широкая картина исторической обстановки, сложившейся в Европе в XVII-XVIII вв. В центре внимания
* Там же, л. 73-73 об.; «Северная война исторически важнее испанской» (л. 73 об.); накануне французской революции конца XVIII в. «Восточная Европа занимает первое место» в Европе (л. 106) и др.
** ГБЛ, ф. Ключевского, папка I, д. 7, л. 75 об.
*** Говоря о допетровской России, Ключевский писал: «Основная причина, мешавшая промышленному развитию прежде, оставалась — несоответствие народонаселения пространствам страны; потребности континентального государства не соответствовали средствам малочисленного населения» (там же, л. 81 об.).
**** ГБЛ, ф. 131, д. 40, л. 13.
находилась Великая французская революция и ее исторические последствия. Уже одно это обстоятельство весьма знаменательно. Курс Ключевского был одной из первых попыток в русской историографии показать значение событий, которые нанесли решительный удар европейскому феодализму. Падение крепостного права в России в 1861 г. и буржуазные реформы 60-х гг. пробудили в Ключевском интерес к буржуазной революции конца XVIII в., приведшей к падению французского абсолютизма. «Французская революция,— писал Ключевский,— потому и представляет интерес для исследования, что она имеет всемирный, общечеловеческий характер» *.
Ключевский осуждает Людовика XIV за то, что тот забыл свою обязанность в отношении подданных, забыл об опеке над низшими классами народа, что и привело к революции**. Политическим идеалом Ключевского того времени была конституционная монархия. Он отрицательно оценивает деятельность якобинцев, отмечая при этом, что они опирались «на вооруженный пролетариат» ***. Гораздо больше сочувствия вызывают в нем жирондисты, которых он называет «очаровательными молодыми людьми», сторонниками демократии в духе Руссо, но определяет их в конечном счете как беспочвенных мечтателей****.
9 июня 1871 г. Ключевский был избран на должность приват-доцента по русской истории Московской духовной академии*****, и с этого времени начинается новый период его творческой жизни. Именно в этот период Ключевский начал создавать свой общий курс русской истории, который он читал в академии.
В то же время, начиная с периода завершения работы над «Древнерусскими житиями святых» и позднее, в 70-х гг., он выпускает целую серию небольших работ и публ1/каций, в которых старается реализовать свои прежние замыслы по исследованию монастырской колонизации и землевладения и дополнить ими вышедшую в свет монографию. Так, в частности, он подвергает тщательному разбору исследование В. С. Иконникова6* и книгу М.И. Горчакова
* Там же, л. 56.
** Там же, лл. 30-31.
*** Там же, лл. 107, 116.
**** Там же, лл. 86, 99.
***** «Чтения ОИДР», 1914, кн. 1, стр. 388-389.
6* В. О. Ключевский. Новое исследование по истории древнерусских монастырей.— «Православное обозрение», 1869, № 10; его же. Поправка к одной антикритике (там же, 1870, №40, перепечатаны в сб. «В.О. Ключевский. Отзывы и ответы»).
о митрополичьем землевладении*. Первую работу Ключевский подверг беспощадной критике, увидев ее главные недостатки в том, что «автор приступил к специальному исследованию без твердого общего взгляда на ход древнерусской истории», без точно выработанного, строгого плана работы, основанного на внимательном изучении источников**. В первой статье, посвященной работе Горчакова (1871), Ключевский пытается увязать частный вопрос о землевладении патриархов с общим вопросом о происхождении частного землевладения в Северо-Восточной Руси, и здесь мы замечаем некоторые следы «государственной школы». Он говорит уже об особенностях страны, имея в виду Северо-Восточную Русь, и ходе ее заселения русскими, которые «дали здесь перевес началу вотчинности над родовыми понятиями, прежде господствовавшими в княжеском владении» ***. Но в основу процесса по-прежнему положены географический фактор и рост народонаселения, а не факт развития государственного начала. Ключевский пытается подвести иной фундамент под обветшавшее здание государственной теории. Все настоятельнее чувствуется его стремление перейти от изучения частных проблем к построению общей схемы русского исторического процесса, что и было им сделано уже в 70-х гг. Другие статьи Ключевского этого периода в плане развития его мировоззрения менее интересны****, за исключением благожелательной рецензии на труд Щапова*****, как бы подчеркивающую его идейную близость с последним.
* В. О. Ключевский. Русская церковно-историческая литература.— «Православное обозрение» 1871, № 9. Разбор сочинения М.И. Горчакова; «Отчет о 15-м присуждении наград гр. Уварова», СПб., 1874 (перепечатаны в сб. «В. О. Ключевский. Отзывы и ответы»),
** «В.О. Ключевский. Отзывы и ответы», стр. 77.
*** Там же, стр. 176.
**** В.О. Ключевский. Великие Четьи Минеи.— «Москва», 1868, № 90; «Рукописная библиотека В. М. Ундольского».— «Православное обозрение», 1870, № 5 (обе работы переизданы в сб. «Отзывы и ответы»); «Греческая церковь в Лондоне в первой половине XVIII в.» — «Православное обозрение», 1871, № 1; «Аллилуйя и отец Пафнутий».— «Современные известия», 1872, № 75 (переиздано в сб. «Отзывы и ответы»); «Псковские споры».— «Православное обозрение», 1872, № 9, 10, 12 (переиздано и сб. «Опыты и исследования»). Кроме того, две публикации с предисловиями: «Сказания о чудесах Владимирской иконы божией матери» (изд. Об-ва любителей древней письменности, вып. XXX, СПб., 1878); «Житие Филиппа Ирапского» (там же, вып. XLVI, СПб., 1879).
***** в о. Ключевский. Церковь по отношению к умственному развитию древней Руси.— «Православное обозрение», 1870, № 2 (переиздано в сб. «Отзывы и ответы»).
Подведем итоги. Формирование мировоззрения В.О. Ключевского в 60-х гг. XIX в. проходило под идейным воздействием революционно-демократической историографии, включая и работы Щапова, а также Буслаева, от влияния которого ему позже помогает освободиться именно Щапов. Интерес к проблемам истории русского народа, экономической истории, колонизации страны возник у Ключевского под непосредственным воздействием передовой общественно-политической мысли того времени. Уже в 60-е гг. у него складывается представление о решающей роли географического фактора и роста народонаселения на русский исторический процесс. В трудах этого периода мы не обнаруживаем влияния государственной школы на молодого Ключевского, оно пришло позже, в 70-е и 80-е гг. Но в какой мере и в каких формах Ключевский испытал на себе воздействие исторических построений С. М. Соловьева, можно выяснить только после специального исследования.
• К. Г. ИСУПОВ
Эстетическая историография В.О. Ключевского
Это эссе писалось как вступление к избранным сочинениям В. О. Ключевского, так и не вышедшим в таллинском издательстве «Александра» в 1991 г., когда народилась в России новая разновидность читателя: «читатель счастливый»: на полках магазинов и библиотек ему уготованы были вещи, что в года недавние передавались из одних доверенных рук в другие, читались второпях, переписывались с риском для жизни, как последние заповеди последних времен. Ключевский не принадлежал к списку изданий первой необходимости, и все же купить его нельзя было (но можно было «достать»). Он выглядел старомодным и даже нелепым, как треуголка Бонапарта на стриженой голове милиционера. Но подошло время болезненных утрат привычных аспектов мира, борьбы со стереотипами восприятия прошлого, обновления исторического самосознания, узнавания истории, — и настал черед Ключевскому превратиться в объект лихорадочного поиска, перечитывания и передумывания. Эту судьбу делят с ним книги Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева. Но если первый так и остался в глазах большинства читателей раритетом, а второй — памятником тяжеловесному академизму, то с Ключевским произошло то, что и происходило обычно, когда он читал свои лекции: все — заворожены. Наш классик-историограф в высшей степени обладал тем качеством, которое навеки обеспечило притягательность его страниц: этот человек умел создать эффект ближнего присутствия старины. Проза Ключевского — это насыщенный страстями театр исторической драматургии жизни, это захватывающее зрелище. Как ему это удалось?
Стоит всмотреться в жизнь и творческое поведение автора исторических этюдов, если мы хотим хоть что-то понять в судьбах родной мысли о прошлом.
Внешняя биография ученого скудна фактами, они легко укладываются в анкетно-трафаретную схему и, как всякая схема, на вопрос о личности не отвечает. Подлинная биография разворачивается во внутреннем плане, в проблемной сфере научного поиска, в трудах, а не днях. Нам интересны теперь те внешние факты жизни Ключевского, которые прямо пересекаются с событиями духовного мужания исследователя. Первым таким узловым моментом является то, что родился Ключевский в семье священника (1841, Пенза). По сословному обычаю профессионального преемства его отдают в Пензенскую семинарию (1856-1860), каковую он, не закончив курса, покидает, чтобы в марте 1861 г. уехать в Москву и остаться в ней навсегда.
На историко-филологическом факультете Московского университета, где он слушает лекции по всеобщей истории С. В. Ешевского, а по древней русской литературе — Ф. И. Буслаева, ему пришлось окунуться в атмосферу напряженной духовности. Внимательный читатель «Современника», молодой Ключевский не мог не ощутить идеологического родства и родства сословного с наиболее популярными авторами этого органа отечественной демократии,— здесь отстаивала свои приоритеты мысль неудавшихся семинаристов Чернышевского, Добролюбова и пр. Конечно, не одни демократы-разночинцы определяли политическую погоду русского журнализма. Свое место заняли и славянофилы, и неоконсерваторы, и либералы всех оттенков, и охранительная публицистика, и «розовое христианство» (так означил Леонтьев религиозные поиски Достоевского и Толстого). Ключевский застал Москву в разгар дискуссий о русском пути, о Западе и Востоке, о терроризме и революции, о социальных реформах и народном просвещении. Над всем разноречием идеологий, прожектов и надежд вставала идея историзма как центрального мировоззренческого принципа, в соответствии с которым научная мысль только и может претендовать на истину. Расцвет естественнонаучных дисциплин, пришедшийся на третью четверть века, всех превратил в эмпириков. Пафос научного знания определялся теперь любовью к точно датированным мелочам, к «пестрому сору» бытия, говоря пушкинским словечком. Стало цениться положительное знание, трезвое суждение; эстетика демократов оказалась безнадежно утилитарной, литературу они призвали к «вынесению приговора» (формула Чернышевского), как Э. Золя в свое время определил статус натурального романа в терминах прокурорского:
«Мы романисты — судебные следователи по отношению к людям и их страстям» *.
Это направление мысли простодушно сказалось в знаменитом жесте тургеневского героя: у Кирсанова, читающего Пушкина, отбирается томик стихов и вручается труд Бюхнера. Эта смена «лирика» на «физика» красноречива: знание законов движения материи важнее эмоционального переживания. Культ видимой реальности и осязаемой реальности получил кличку «позитивизма»; мы увидим, как важна была эта установка для Ключевского и какие неожиданные последствия она имела для всей его историографии.
Какой была Москва времен Ключевского? Выразительно пишет об этом другой историк — Г. П. Федотов:
«Москва сохраняла провинциальный уклад, совмещая его с роскошью и культурными благами столицы. Приезжий мещанин из Рыбинска, из Чухломы мог найти здесь привычный уют уездного трактира и торговых бань, одноэтажные дворики, дворы, заросшие травой, где можно летом дуть самовар за самоваром, обливаясь потом и наслаждаясь пением кенаря или граммофоном, в зависимости от духа времени. <...> А чудесные дворянские усадьбы, с колоннами или без колонн, с мезонинами или без мезонинов, но непременно в мягком родном ампире — разве не кажутся перенесенными сюда прямо из глуши пензенских или тамбовских деревень? Хотите видеть теперь воочию, как жили в них поколения наших дедов? — Пойдите в дом Хомяковых на Собачьей площадке, где, кажется, ни один стул не сдвинут с 40-х годов. Какой тесный уют, какая очаровательная мелочность! Низкие потолки, диванчики, чубуки, бисерное бабушкино рукоделие — и полка с книгами: все больше немецкие романтики да любомудры. Если Бог убережет вас от экскурсии “с классовым подходом” и если вы еще не до конца растратили способность умиления, вы поймете здесь корни старого славянофильства. Да и не только славянофильства. Весь вклад Москвы в культуру двух протекших столетий таков: он неотделим от культуры русских дворянских усадеб и провинциальных иерейских домов. На всем лежит печать светлой наивности, доброй и здоровой лени. Здесь нет ни грана петербургского излома, мучительства,— зато нет и мучительной напряженности подвига. Свободная от тяжести власти, Москва жалела Россию, как жалеют отсталого, но милого ребенка, не имея сил принуждать его к учению.
* Золя Эмиль. Экспериментальный роман // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. М., 1967. С. 703.
Оттесняемая Петербургом, Москва не злобствовала, но пребывала — два столетия — в лояльнейшей, кротчайшей оппозиции. Москва по сердцу — не по идеям — всегда была либеральной. Не революция, не реакция, а особое московское просвещенное охранение. <...> Здесь либералы были православны, чуть-чуть толстовцы. Здесь Ключевский был гостем “Русской мысли” и ходил церковным старостой. Здесь именитое купечество с радостной готовностью жертвовало на богадельни, театры и на партию большевиков. <...> Основное русло нашей культуры пролегает здесь»*.
Выбор предметов научного интереса и вся стилистика Ключевского обязана своей фактурой специфично московскому жизнеотношению. Москва традиционно осознает себя Святой Землей — топосом почвенной изначальности. В жизнеощущении москвичей есть спокойная уверенность в том, что им жить — вечно. Все пройдет, все занесут пески забвения, а Москва стояла и стоять будет, ибо в ее земле — корни
* Федотов Г. П. Три столицы // Г. П. Федотов. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. СПб., 1991. Т. 1. С. 56-58; см. также: Федотов Г.П. Россия Ключевского // Наше наследие. 1991. № 3. С. 97-102; Айхенвальд Ю.И. Ключевский — мыслитель и художник // В. О. Ключевский — характеристики и воспоминания. М., 1912; Лаппо-Данилевский А.С. Исторические взгляды В.О. Ключевского // Там же; Амфитеатров А. Ключевский как художник слова // Литературный альманах «Грани»: В 2 т. Берлин, 1922-1923. Т. 1; Тхоржевский С. И .В.О. Ключевский как социолог и политический мыслитель // Русский исторический журнал. 1922. Кн. 8; Пресняков А. Е. В.О. Ключевский // Там же; Киреева Р.А.В.О. Ключевский как историк русской исторической науки. М., 1966; Гулыга А. В. Ключевский и русская культурная традиция // Традиция в истории культуры. М., 1978; Чумаченко Э.Г. Ключевский о русских писателях // Вопросы архивоведения. 1963. № 2; Карагодин А.И. Философия истории В. О. Ключевского. Саратов, 1976. Ср.: Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому его учениками, друзьями, почитателями. М., 1909; В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912; Василий Осипович Ключевский. Биографический очерк, речи, произнесенные в торжественном заседании 12 ноября 1911 года и материалы для его биографии. М., 1914; Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний // Юбилейный сборник. Париж: Современные записки, 1930; Нечкина М.В.В.О. Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974; Попов А.С. Ключевский и его «школа»: Синтез истории и социологии. М., 2001; Чирков С.В. В.О. Ключевский и развитие отечественной археографии в конце XIX — начале XX века //В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии: Материалы научной конференции. (Пенза, 25-26 июня 2001 г.) Кн. I. М., 2005. С. 117-138; Гришина Н.В. «Школа В. Л. Ключевского» в историографии: Научный дискурс и историографическая судьба // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 12 (150). История. Вып. 31. С. 131-137.
миллионов живых существ, съединенных круговой порукой кровного родства и соборной памяти. Поэтому чем пристальнее вглядывается историк в детали быта, узоры одежд, мимику и жесты, чем внимательнее вслушивается в далекие голоса родной старины, тем крепче в нем чувство исторической надежды. На жизненной философии исторического оптимизма и выросла московская школа историографии.
«Московское» сказалось в творчестве Ключевского не только выбором тем (в 1864-1865 гг. пишется сочинение «Сказания иностранцев о Московском государстве»; до 1870 г. создается магистерский труд «Жития святых как исторический источник», а в 1882 г. защищается докторская диссертация «Боярская дума в древней Руси»), но и особой привязанностью к московскому просветительству. Среди центров столичного образования, в которых работал, сколько мог, Ключевский (с 1867 г., шестнадцать лет подряд — в Александровском военном училище; с 1857 г.— на Московских Высших женских курсах в течение 15 лет; с 1882 г. и до конца — в Московском университете; в последние десять лет — в Училище живописи, ваяния и зодчества), мы особо выделим период с 1882 по 1905 г. — время преподавательской и исследовательской деятельности на кафедре русской гражданской истории церковно-исторического отделения Московской Духовной академии.
Этот фрагмент творческого пути Ключевского не оказался более насыщенным, чем другие, но разговор по теме «Ключевский и Троице-Сергиева Лавра» нам необходим на подступах к статье «Значение Преподобного Сергия для русского государства» (1892).
К фигуре игумена Троицкого монастыря и его эпохе современники нашего историка проявили исключительное внимание. Писали о том, что первое столетие под монголами было временем глубокого духовного обморока. В монашеской среде, т. е. той, где Древняя Русь копила умственную энергию народа, определились три пути: киновитское (т. е. общежительное) единство; отшельничество (анахореты); жизнь по своей воле (сарабаиты). В четырнадцати верстах от Радонежа, в лесном урочище (Маковце) Сергий основывает киновитское братство, духовные сотрапезники которого поставили в основу внутреннего совершенствования умную молитву и умное делание, а в принцип внешнего общения положили организованное милосердие. Вот этот-то последний момент — христианскую социализацию добросердечия и этический активизм — неустанно подчеркивает Ключевский, педагог и наследник учительных традиций древней культуры.
В Сергии явлен был тот особый тип отечественной святости, черты которого за пределами Ограды веками воспроизводились
в житиях русских мыслителей — вплоть до Соловьева, Федорова и «русских францисканцев» (так назвал Бердяев толстовцев и А. Добролюбова, с их «уходами в народ»). Это было поведение, в котором буквально воплощалась Христова заповедь о служении ближнему. Высочайший авторитет Сергия Радонежского подчеркнут в православном сознании сближением его образа с обликом Николая Чудотворца — центрального святого в русском пантеоне.
Преподобный Сергий — печальник и собиратель Руси, ее заступник и покровитель, ее духовный вождь. Сергий — живое воплощение идеи соборности и церковного купножития, что выражено в уникальном православном символе: в запрестольном семисвечнике Успенского собора, что «изображает древо Собора Радонежских святых, которое произрастает как бы из самого Престола Господа Славы» *. Имя Сергия связывают с установлением на Руси Троичного культа, что позволило некоторым исследователям считать «Троицу» Рублева вдохновленной основателем Северной Фиваиды. Лавру называют Домом Живоначальной Троицы, «а строителя этого Дома, Преподобного Сергия Радонежского,— “особым нашего Российского царства хранителем и помощником”, как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 г.,— особым покровителем, хранителем и вождем русского народа, может быть, точнее было бы сказать — Ангелом-Хранителем России» **. Добавим, что статья Ключевского,
* Игумен Андроник (Трубачев). Русская духовность в жизни Преподобного Сергия и его учеников // Богословские труды. М., 1989. Т. 29. С. 233.
** Флоренский П.А. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Свящ. Павел Флоренский. Собр. соч. Париж, 1986. Т. 1. С. 66. Имя прей. Сергия накрепко связалось в нашем эсхатологическом сознании с образами исторической надежды, внушенной Серебряному веку Ключевским. Внушенным не им одним, разумеется, и все же голосами современников эти имена озвучены единым аккордом. В письме М. К. Морозовой к Е. Н. Трубецкому от 22.03.1915: после причащения в Троице-Сергиевой Лавре: «Рака мощей св. Сергия на меня всегда потрясающе действует! Слова Ключевского, что пока она есть, и притекает к ней народ, до тех пор стоит Россия, вдохновенны» (Взыскующие Града. М., 1997. С. 632). Для корреспондента М.К. Морозовой имя Ключевского маркирует неоспоримые свидетельства исторической правоты в статьях «Национальный вопрос. Константинополь и святая София» (1915) и «Россия в ее иконе» (1918). Примеры можно умножить. И. А. Бунин в эмиграции в статье «Миссия русской эмиграции» (1924), на фоне рассуждений оЛенине — «московском Антихристе», и «планетарном злодее» — цитирует речь Ключевского «Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства» (1892) и вспоминает: «В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, я приводил слова великого русского Ключевского: “Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда
созданная в жанре нравственно-исторического мемуара к 500-летию Сергия Радонежского, вписывается и в широкий контекст тогдашних споров духовной публицистики об иночестве в миру, об участии священства в делах светской общественности; весьма скоро эта тема войдет в проблемный репертуар заседаний Религиозно-философских собраний в Петербурге (1901-1903). Эти дискуссии нередко связывались с именами героев Достоевского — Зосимы и Алеши Карамазова, подавшими читателю образцы деятельного в миру православия. Сергиев идеал общежития, по замыслу его инициаторов, должен был распространиться на все уровни социальной жизни — от семьи до государства, от кельи до человечества.
Герои портретов Ключевского — гении действия. Если когда-то будет писаться история русского энтузиазма, лучшего источника, чем эти очерки, не найти. Руководствуясь той мыслью, что история слагается совокупным участием в ней множества людей, общества и климата (эта формула положена в основу сочинений приверженцев географического детерминизма — от Гердера и Бокля до М. Погодина и Гоголя и «последнего евразийца» Л.Н. Гумилева). Ключевский ярче освещает те фигуры, чье присутствие в историческом процессе стало выражением национально осознанной необходимости. Ключевский, слава Богу, не разделил пути множества современных ему мыслителей «от марксизма к идеализму». Но это не означает, что ученый остался вне представлений об историческом детерминизме; он видел свой материал во всей диалектике трагических сцеплений и необратимых поступков. Подчеркнем: прозе Ключевского свойственно трезвое стоическое понимание истории как трагического действа.
Творчество нашего историка знаменовало новый этап эстетики истории. В этом словосочетании слово ‘история’ надобно понять в обоих смыслах — и как имя науки истории, и как именование живого процесса*.
погаснут лампады над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата Его Лавры”. Великие слова, ныне ставшие ужасными! Основы разрушены, врата закрыты, лампады погашены. Но без этих лампад не бывать русской земле — и нельзя преступно служить ее тьме». (Русская идея. В кругу писателей и мыслителей Русского Зарубежья: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 204-207).
* В этом значении слово «история» употреблено в книгах А. В. Гулыги «Эстетика истории» (М., 1974) и «Искусство истории» (М., 1980). Иной контекст термина мы развиваем в книгах: 1) «Русская эстетика истории» (СПб., 1992);
2) «Судьбы классического наследия и философско-эстетическая культура Серебряного века». См. также: Вахрушев В.С. Об истории с эстетической точки зрения //Российский исторический журнал. Балашов, 1993. № 1. С. 11-16.
Художническая акцентуация исторического повествования для России не новость, а, скорее, национальная привычка наших историографов. Важно, что Ключевский не привносит в жизненный материал некие принципы эстетической организации его, но пытается понять художественную выразительность самого прошлого как целостного смыслоозаренного организма. На этой «эйдетической» ориентации он настаивал принципиально. В заметках к лекции, читанной весной •1897 г. в Училище живописи, ваяния и зодчества «О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица», утверждена та мысль, что «формы художественного выражения создает сама жизнь: жесты, позы, костюмы, поговорки. <...> Жизнь — художница» *. Тысячу раз прав был Г. П. Федотов, сближавший стилистику Ключевского с символистской по признаку весьма специфического эстетизма (правда, напрямую об эстетизме речи не идет)**.Отметим существенную разницу: если символисты стремились наведенную на живую жизнь образную конструкцию держать на переднем плане картины мира, то Ключевский вникал в «художество» самой истории как эстетически самоценного процесса.
Трагедизованное ощущение материала не превращает его фигурантов в обреченных: в текстах Ключевского нет ссылок на Про
* Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 467. Далее цитируем Ключевского по этому изданию, указывая в скобках через запятую том и страницу арабскими цифрами.
** Эстетизм мы трактуем как 1) перенос явлений искусства на бытовую реальность; 2) восприятие исторически актуальной действительности как эстетического артефакта; 3) самоорганизация биографии как художественного произведения. См.: Аскольдов С.А. Психология характеров у Достоевского // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Л., 1924. Сб. 2; Варбье д'Оревильи Ж.А. О дендизме и Джордже Бреммеле (вступ. статья М. Кузмина), 1845. СПб., 1912; Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Париж, 1926; Мутные лики («Воспоминания о А. А. Блоке» А. Белого) // Эпопея. 1922. № 1-3) // София. Проблемы русской духовной культуры и религиозной философии. Берлин, 1923; Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. М., 1970‘1^альцева Р.А. Семь Злейших духов // Вопросы литературы, 1991. № 8. С.37-49; Гроссман Л. Дендизм Пушкина // Гроссман Л. Этюды о Пушкине. М., 1925; Исупов К.Г. Роман Ф. Степуна «Николай Переслегин» в истории отечественного эстетизма // Тезисы международной конференции, посвященной 120-летию И. А. Бунина. Елец, 1990; КутлунинА.Г., Малышев М.А. Эстетизм как способ понимания жизни в философии Ницше // Философские науки. 1990. № 9. С. 67-76; Леонтьев К.Н. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни (По двум письмам). М., 1912; Тезисы Всесоюзного семинара, посвященного творчеству К.Н. Леонтьева. Калуга, 1991; Вайнштейн О. Денди: Мода. Литература. Стиль жизни. М., 2006.
видение, которых так естественно было бы ждать от профессора Духовной академии. Внутренний трагизм истории и ее действователей показан в плане излюбленного историком приема: драматургической пружиной его сюжетов становятся антитезы намерения и результата, цели и средства, задачи и темперамента ее исполнителя (или, шире — «идеи» и «факты»): одинокое героическое циви-лизаторство Петра Великого вынуждает его к бесполезно-жестоким мерам; новиковская критика общественных пороков не достигает цели, поскольку живые образцы благонравия только планируются еще в проектах Екатерины и И. И. Бецкого; смех Фонвизина смешит Митрофанушек и простаковых, заполнивших партер.
Ключевский — великий ироник и знаток иронии истории; его комплименты двусмысленны, а осуждения снисходительны. Когда в статье о Новикове говорится (применительно к С. И. Гамалее) о «театральном рубище какого-то масонства» (9, 49), зто не означает, что Ключевскому неведом реальный масштаб нравственного и литературно-философского ренессанса, которым мы обязаны классическому масонству XVIII в. Ученый пытается остаться на позиции пушкинского трагического историзма (шире; шекспировского), с которой история представала не только как история идей, но и как история людей.
Человек в аспекте творческого дерзания — главная тема Ключевского. Таков его Петр Великий — не только «делец» (т. е. цивилизатор), но и «мыслитель» (здесь: культуртрегер). Ключевский с таким артистизмом вжился в культуру петровского времени, что, формулируя главные царские «долженства» («внутренний распорядок», «внешняя оборона» и пр.), он прямо переходит на жаргон эпохи, а конкретнее — на язык простодушного в своих амбициях князя Я. Ф. Долгорукого, диалог которого с императором цитируется тут же через несколько страниц. Из влубины быта подымается под пером Ключевского громадная личность Петра, всем смыслом своей исторической явленности достигающая предельных высот национально-государственного бытия. Ключевский — наблюдатель беспристрастный и свободный от партийно-оценочной конъюнктуры; он — «критический реалист» и объективист. Но как ни жестко порой звучали у него оценки Петрова дела, историка никогда не покидало видение исторической перспективы. Ключевский близко подошел к пониманию Петра Великого как личности ренессансного типа (о чем говорил, одним из первых, Н. Я. Данилевский).
Ключевский — просветитель. В его учительной повадке и письменной манере воскрешен ораторский жест красноречивого Просвещения; семинаристское начетничество и интонации проповедника закрепились
в повествовательной прозе о былом, которая знает, что «история есть школа жизни» и что «мнения правят миром».
На этих убеждениях держатся и статьи о Екатерининской эпохе. В портретах Екатерины II проявляется еще одно качество Ключевского-историка: корректность. Не потакая детективному ожиданию читателя, наслышанному о похождениях женщины на троне, Ключевский, руководствуясь внутренней мерой правды, неторопливо развертывает панорамы бытового обстояния императрицы, комментирует мотивы ее поведения, вкусовые пристрастия; даются колоритные зарисовки образцов общественного лицемерия. Особое место в екатерининском цикле занял труд о новиковском кружке.
На фоне вновь популярного (в наше время) мифа о масонской угрозе (благодаря чему в восприятии нашего современника классическое масонство XVIII в. безнадежно спутано с его позднейшими вторично-подражательными и самопародийными формами*) статья Ключевского приобретает значение целительного первоисточника. Как и его учитель С. В. Ешевский, ученый и здесь пытается остаться на позициях возможной объективности, хотя не во всем ему это удается. И все же в ярких репрезентативных поступках, в беспримерной по масштабам просветительской и филантропистской деятельности живых носителей масонской этики перед нами встает образ этого странного — надконфессионального, наднационального и надгосударственного — содружества вольных каменыциков, мечтавших, как каждый из братьев придаст «дикому камню» своей души благородные очертания, чтобы его грани совпали с гранями других братских камней,— и так созиждется храм всеобщей приязни, и вспыхнет в нем огонь Любви, Истины и Красоты.
Ключевский сознавал, что масонство в истории русской культуры — огромная и плохо изученная проблема, научный статус которой подорван массой безответственных спекуляций на этот счет. На нашей почве масонство оказалось зоной пересечения европейского свободомыслия и «народного христианства»; мы обязаны ему фактом появления нового типа мыслителя — кабинетного (в Москве — усадебного) диссидента и рождением в России профессиональной философии (М. М. Щербатов, А. Н. Радищев,
* Не могу не поделиться воспоминанием. Когда автор этой статьи в 1983 г. приехал к Ю. М. Лотману в Тарту для консультации по поводу масонов, Юрий Михайлович с улыбкой сказал: «Вы думаете, Ваш интерес к масонам специфичен? Недавно на Вашем месте сидел один космонавт и спрашивал о том же. Он ушел в полном убеждении, что этот еврей — т. е. я — так и не выдал ему тайны масонства». Впечатляюще.
И. Г. Шварц, П.Я. Чаадаев). Масоны выполняли роль субкультуры, порождающей такие явления, как предромантизм и сентиментализм; в этой среде отрабатывались навыки философической полемики и ее языки. Через масонские ложи шло усвоение философско-литературной культуры Запада. Масоны выполняли культуротворческую миссию — исповедание культуры. Очень точное название носит одна масонская брошюра: «Масонство, или Великое царственное искусство братства вольных каменщиков, как культуроисповедание» (СПб., 1911).
Судьба русских масонов трагична: на борьбе с ними совер-. шенствовались отечественные средства репрессий инакомыслия.
В статье Ключевского «Воспоминания о Н. И. Новикове и его времени» (1995) показан горький опыт первоначальной свободы духа; историк напоминает нам знаменательный эпизод из мемуаров И. В. Лопухина, который перевел, вероятно, во фрагментах, еретическую «Систему природы, или О законах мира физического и мира духовного» (1770) П. А. Гольбаха, красиво переписал в тетрадку и снабдил изящным переплетом, но вдруг сжег ее и создал своего «Анти-Гольбаха» — «Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями» (М., 1780). Лопухин, розенкрейцер, автор масонских катехизисов и драматург, филантроп и сенатор, испугался собственной свободы!
Европа Вольтера и Дидро могла войти в состав общественного умонастроения России лишь ценой вытеснения того злокозненного качества всесословной психологии, которое Чаадаев обозначил словом «рабство». Так, кстати, и сложилась у наших демократов-прокуроров — от Чернышевского до кремлевского мечтателя — самоедская кличка для русского народа: «нация рабов».
Масонство стало исторически первым порывом к духовной свободе, к творчеству внутренней истории духа. Волны христианского просветительства, идущие от масонов, пересекли определенную им запретом Александра I черту (1821) в историческом пространстве и широко разошлись: масонские гимны создает А. А. Григорьев, а в прозе А. Ф. Писемского, Л. Н. Толстого и далее — до М. А. Осоргина (1935) вольные каменьщики требуют своей культурной реабилитации.
Автору «Курса...» масонство не мешало православию, как Новикову и Лопухину; говорят, Василий Осипович и сам состоял в ложе*.
* Серков А.И. Русское масонство 1731-2000: Энциклопедический словарь.
М., 2001. С. 397.
Ключевский, в отличие от других наследников семинаристского начетничества, не встал в ряды демократов-нигилистов, но остроты исторической критики не терял никогда. Как аналитик отечественного прошлого и как стилист, владеющий преимуществами иронико-апофатического суждения, автор “Курса...” широко использовал поэтику инверсивных (обратимо-оценочных, на манер смыслового палиндрома) апофатических характеристик. Их амбивалентный характер точно подмечен Толстым (в передаче М. Горького): «Хитрый, читаешь — будто хвалит, а вникнешь — отругает»*. «Косой» и «хитроватый» взгляд Ключевского отметили люди, знавшие его в быту.
Вот пример на тему «философского смеха» щегольской эпохи: «...Открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятывались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ как указание или требование природы. Новые идеи нравились как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерьянца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических,— словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность; да этот смех и сам, кажется, был преемником, едва ли даже не был натуральным сыном этой самой индульгенции» («Воспоминания о Н. И. Новикове»; 9, 35).
Историкам русской смеховдй культуры стоит присмотреться к тому типу светского юродства, с каким профанированные формы деизма и руссоизма самоопределялись в антикультурном быте Просвещения. Поскольку на тематический запрос конкурса в Дижонской Академии: «Способствует ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?» — последовал отрицательный
* Горький А.М. Лев Толстой // Горький А. М. Собр. соч. В 30 т. М., 1951. Т. 14.
С. 257.
ответ сына женевского часовщика («Рассуждение о науках и ис- кусствах», 1750),— стало быть, решили наши культуртрегеры, । можно быть умным без учения. Когда третья волна «просвещенства» । (термин В. В. Зеньковского) настигнет современников Ключевского в формах позитивизма, эмпиризма и атеизма, а также сектантских филиаций христианского гуманизма (ярчайшие примеры — Л. Толстой и все многообразие хлыстовства), мы получим образ той почвы, на которой возросла отвратительная и лишенная малейших признаков исторического катарсиса форма жизнеощущения русского человека в мировом историческом пространстве, называемое теперь самоненавистью.
Принято говорить, что с Ключевского начинается развитие экономической историографии в пику юридической школе и что в его наследии снимается противостояние петербургской и московской школ (глава первой, С. Ф. Платонов, был учеником Ключевского).
Однако на самом Ключевском лежат отсветы двойных оценок. Человек московской закваски и близкий славянофилам, он не упускал повода ругнуть Петра Великого («Понимал только результаты и никогда не мог понять жертв» <8, 441>). Однако и благодатные посулы русского европеизма были ему достаточно внятны (недаром столь душевные письма обращены к двоюродным братьям и сестре и тетке, носящим фамилию Европейцовых; вспомним, как назывался славянофильский журнал братьев Киреевских: «Европеец»).
Зрелищный драматизм родного прошлого Ключевский переживал как факты личной биографии и с христианской позиции совестного суда. Он мыслил былое архитектурно и пластически, в жесте и интонации*,— на этом качестве выросла его способность эстетического суждения об исторической правде событийной современности. Вот его реплики и афористические записи 1905 г.: о Николае II — «Это — последний царь, Алексей царствовать
* Из «Послесловия» Р. А. Киреевой к восьмому тому: «Широко известно о его помощи Ф. И. Шаляпину в работе над образами Бориса Годунова и Досифея. Чрезвычайно образно описал эти встречи Ф. И. Шаляпин: говорил Ключевский «так много и удивительно ярко, что я видел людей, изображаемых им. <...> Иногда Шаляпину даже казалось, что воскрес Василий Шуйский, особенно когда Ключевский “остановится, отступит шага на два, протянет вкрадчиво ко мне — царю Борису — руку и рассудительно, сладко говорит. <...> Говорит, а сам с хитрыми глазами мне в глаза смотрит, как бы прощупывает меня, какое впечатление на меня производят его слова”. И уже репетируя и играя с профессиональными актерами, Шаляпин невольно думал: “Эх, если б эту роль играл Василий Осипович Ключевский”» (Федор Иванович Шаляпин. М., 1957. Т. 1. С. 148, 290, 149; ' 8, 452>).
не будет»; о династии Романовых — «Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могли жить лишь в допотопные времена»; «С Александра III, с его детей вырождение нравственное сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую династию, варяжка испортила последнюю. Она, эта династия, не доживет до своей политической смерти, вымрет раньше, чем перестанет быть нужна, и будет прогнана» (8, 477).
к Я -к
Для современников Ключевского и ближайшего поколения наследников его проза была инструментом дешифровки смысла текущих событий. Александр Блок за объяснением событий 9 июня 1915 года (сдача Львова русскими войсками и взятие немцами Митавы) обращается к прошлому: «Мама, по поводу сдачи Львова <...> я обратился к истории Ключевского. <...> В конце концов, с Петра прошло только двести лет, и многое с тех пор не переменилось. И Петр бывал в беспомощном положении до смешного, затягивая шведов к Полтаве, а Кутузов затягивал Наполеона к Москве, когда Пушкину было тринадцать лет...»* Близкие по времени записи (1 ноября 1916 г.; 7 марта 1918 г.) объясняют контексты обращения Блока к аналогиям из Ключевского. Блок дважды цитирует 41-ю лекцию «Курса русской истории», где речь идет об «исторической антиномии» как законе русского пути. «Ключевский делает из этого основного положения тот вывод, что русская жизнь порождала “ненормальные явления” и что ход развития России напоминает “полет птицы, которую вихрь несет и подбрасывает не в меру силы ее крыльев”» (VI, 288). Образ птицы, подбрасываемой ветром (см. IX, 393), у Блока становится поэтическим оправданием нелогичности русской истории и своего рода художнической хронодицей (говоря словечком Шефтсбери). Заметим, что и самого Блока еще при жизни облекут в «ключевские» дешифровальные коннотации. Так, корреспондент вологодских «Известий», И. В. Евд'окимов, в статье о поэме Блока «Двенадцать» заявил в апреле 1919 г.: «Будущий историк-художник, Ключевский нового строя, сделает ее настольной, чтобы
* Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1965. Т. VIII. С. 447. Далее ссылаемся на это издание в тексте; в скобках указываем тома римской и страницу — арабской цифрами). «Записные книжки» (М., 1965) обозначаем как том IX.
яснее и зорче перед нами встало наше бурное, небывалое в истории время...» *
Г. В. Флоровский не мог знать домашнего письма Блока матери; и все же в следующем за смертью поэта году он почти буквально скажет то же самое о тех же событиях и той же цитатой из 41-й лекции курса «Истории...» (3, 8) Ключевского: «Глубоко пророческим является сделанное уже Ключевским сравнение новой России с птицей, которую несет и подымает ввысь не в меру силы ее крыльев: неизбежно наступить моменту, когда птица упадет на землю и больно расшибется...»**.
Еще ранее, в 1908 г., сошлется в оценке современности на тот же третий том Ключевского П.Б. Струве в статье «Пессимизм и оптимизм»: «В только что вышедшем III томе “Русской истории” В. О. Ключевского автор мастерскою рукою очерчивает глубочайшие исторические противоречия, напоминающие тот период русской истории, гранями которого является вступление на престол Михаила Романова (1613) и смерть Николая I (1955)» ***.
С. Л. Франк, возможно, выразил общее для Серебряного века отношение к Ключевскому как пророку, предсказывающему не только «назад». Наука исторической психологии в России еще не родилась (ее заменяли широко переводимые книги Габриэля Тарда), а в трактате «Душа человека» (1917) уже прямо сказано: «Достоевский и Толстой, Мопассан и Ибсен,— Флобер, Геббель, Амиель в своих дневниках и письмах,— Карлейль, Моммзен и Ключевский — вот единственные учителя психологии в наше время... »****.
Через девять лет метаисторические концепты «Курса русской истории» решительно подтвердил Н.И. Новгородцев. В статье «Восстановление святынь» (1926) сказано: «...Какими бы новыми коммунистическими лозунгами ни прикрывалась русская смута XX века, самым резким проявлением ее, так же как и Смуты XVII века, было “стремление общественных низов прорваться наверх и столкнуть оттуда верховников”» (слова В. О. Ключевского о Смуте XVII века — П.Н.). И в другом месте: «Каждый раз,
* Александр Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 92. М., 1982. Кн. 4. С. 498.
** Флоровский Г.В. О патриотизме праведном и греховном // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей Русского Зарубежья. В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 108.
*** Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 117; впервые: «Слово», 1908. 15 апреля.
**** франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995. С. 423.
когда я перечитываю замечательное изображение Смутного времени в курсе Ключевского и по обыкновению нахожу множество сходств того времени с нашим, я с особенным вниманием останавливаюсь на следующих словах нашего блестящего историка: “В конце 1611 года Московское государство представляло зрелище полного видимого разрушения... Государство преображалось в какую-то бесформенную, мятущуюся федерацию. Но с конца 1611 года, когда изнемогли физические силы, начинают пробуждаться силы религиозные и национальные, которые пошли на выручку гибнущей земли”. В этих словах я вижу не только превосходное историческое обобщение, но и не менее замечательное предуказание, важное для будущего» *.
Обостренное внимание к Ключевскому проявил В. В. Розанов. Как родственный своему жизнеощущению он принял пластический дискурс историка — мыслителя и бытописателя. Их объединяет любовь к плотяной, выразительно утяжеленной яркости повседневного существования и к прошлому в его эстетической свершенное™. Ученик К. Н. Леонтьева и автор статьи «Эстетическое понимание истории» (1892), Розанов, по свойственной ему языческой привычке, воспринял слово Ключевского как предметно-вещное увековеченье здесь и теперь присутствующего прошлого в статусе вечного настоящего. Только язычник, не разнящий слова от вещи, мог сказать: «Чистый понедельник, грибные и рыбные лавки — первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка и чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского»**.
Если в раннем опусе сочинение Ключевского «Добрые люди Древней Руси» (1892) — лишь повод для самоопределения в актуальном для эпохи проблемно-тематическом репертуаре, то в статье-некрологе «Памяти В. О. Ключевского» (1911) Розанов решительно говорит о тропе русского исторического письма к эстетике истории как пути научно-художнического пресуществления материала истории внутри самой истории.
Розанов выясняет эстетическую прерогативу музы Ключевского внутри коллегиальной триады. «Великолепный Карамзин, захотевший дать отечеству красноречивого Тита Ливия, явно не соответствовал “новгородским мужикам”». С другой стороны, «в Костомарове историк явно разжиживался беллетристом»; «не был хозяином» I
* Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 569, 572. В обоих случаях цитируется лекция 43-я части 3-й “Курса...” (3, 53, 56).
** Розанов В. В. Опавшие листья. Короб первый // Розанов В. В. Соч. В 2 т. М., 1990. Т. 1. Уединенное. С. 289.
истории и Соловьев: «в 29 томах “Истории России” он будто распоряжался ею, почти как господин или арендатор... Весь тон его таков, как бы историк стоит выше истории». А «Ключевский “как раз пришелся по русской истории”,— этим все сказано. Не мудрил, но старался понять ее. Везде стоял в уровень с нею: мысль, что его ум мог бы быть применен к занятиям историею более сложных народов, так сказать, “всемирных”, оскорбила бы его. Его нельзя было бы отнять от русской истории, как ребенка от мамки или мамку от ребенка. Только вместе они составляли “одно”. Эта взаимная приспособленность “питания”, где индивидуум просто не жил бы, не питай его соком своим “прародительская история”, а “историю” эту, в свою очередь, никто не умел бы так “разжевать” другим, как он,— это-то и образовало полную гармонию ученого и науки» *.
Общественно-учебные и научные институции, размах издательского дела и в целом успехи представителей исторических наук в эмиграции Русского Зарубежья оказались на порядок выше реальных итогов работы всех других уровней гуманитарной специализации**.
Имя Ключевского для изгнанников, в рассеяньи сущих, стало знаковым: это имя-маркер, т. е. анамнетически переживаемый факт неутраченной связи с родной исторической почвой. Памятником этого историографического анамнезиса стала статья-мемуар Г. П. Федотова «Россия Ключевского» (1932).
* Розанов В. В. Собр. соч. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М., 1996. С. 567-568 Розановым особо отмечен киевско-московский колорит исторических картин Ключевского (Там же. С. 572).
** Пашуто В. Т. Русские историки эмигранты в Европе. М., 1992. См., в частности: Кизеветтер А.А. 1) Письма Ключевского (По поводу публикации “Письма В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву, 1861-1870’’) // Руль. 1926. 7 января. № 1549; 2) Ключевский // Утро. Вильно, 1928. 22 января. № 20; 3) Как созидалась русская культура. Соловьев и Ключевский // Сегодня, 1930. 4 мая. № 12; 4) Первый курс Ключевского // Записки Русского Научного института в Белграде. Белград, 1931. Вып. 13. С. 279-306; Кнорринг Н.Н. 1) Пятый том В. О. Ключевского // Последние новости, Париж, 1923. 28 апреля. № 927; 2) В. О. Ключевский и его первые московские годы // Голос минувшего. Париж, 1926. Т. 2. Как уяснил современный исследователь, «“Очерки по истории русской культуры” П. Милюкова <...> были наиболее читаемой книгой по русской истории после лекций В. Ключевского» (Раев Марк. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919-1939. М., 1994. С. 105-106). Трудно, однако, согласиться, что наше зарубежной историографии был свойствен «неоригинальный и нетворческий» характер (Там же. С. 207).
Историк культуры и светский богослов, Федотов, вслед за Розановым, подчеркивает московскую субстанцию «ключевского» существа и всей его эстетики истории: «Ключевский как художник прямое отрицание 60-х годов. Как писатель он совершенно одинок — до самого XIX столетия. Его поколение, порвав с великой карамзинско-пушкинско-гоголевской традицией, размотало все формальные достижения русского слова, разболтало и развинтило синтаксис, засорило словарь. Даже Толстой и Достоевский, в своей свободе и беззаконии, не могут быть учителями безукоризненной русской речи. Ключевский был не только образным и ярким писателем (эти качества не были утрачены и в 60-х годах), но и строгим, чеканным, изысканным мастером. Его искусство граничило с искусственностью, не допускало ни малейшей вольности. Каждая острота отшлифована, правится годами, получая классическую отточенность. В отношении со словом Ключевский может найти себе равных только среди символистов XX столетия, при всем различии их художественных средств. Непонятным, загадочным представляется Ключевский как стилистическое явление. Его можно поставить в связь с его моральной сдержанностью. Там и здесь — методическая работа над своей стихийностью, отрицание “естественности” (в руссоистском смысле.— К.И.), закованность в стиль. Классическая школа — в семинарии и университете,— которую Ключевский впитал в себя как наследие классического века,— отлила природную одаренность пензенского бурсака в чекан Вергилия. Надо уметь почувствовать элементы этой классической формы, вобравшей у Ключевского всю образность и жизненность русского московского говора XVII века»*. Федотов не прочь
* Федотов Г.И. Россия Ключевского // Наше наследие. 1991. № 3. С. 98 (далее в скобках указываем страницу этой републикации). Ср.: «...Между Россией и Западом было известное сродство; иначе чуждая стихия искалечила бы и погубила национальную жизнь. Уродств и деформаций было немало. Но из галлицизмов XVIII века вырос Пушкин; из варварства 60-х годов Толстой, Мусоргский и Ключевский. Значит, за ориентализмом московского типа лежали нетронутыми древние пласты киево-новгородской Руси, и в них легко и свободно свершался обмен духовных веществ с христианским Западом» (Федотов Г.П. Россия и свобода (1945) // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. СПб., 1992. Т. 2. С. 289). О связи стилистики Ключевского с модерном Серебряного века говорит и современный автор: «Курс Ключевского стал своего рода научным аналогом импрессионистской живописи и поэзии символизма. Кроме того, Ключевский привлек внимание общественности к роли психологического фактора, политических и культурных символов в национальной истории» (Раев Марк. Цит соч. С. 221).
высказать свои претензии к своему предшественнику («Обратной стороной блестящего художественного таланта Ключевского является... расплывчатость исторических понятий» — С. 99); среди них два замечания заслуживают самого пристального внимания.
Первое: «...Он не стал политическим демократом и социальным революционером: он был лишь зрителем и историком классовой тяжбы. Но для него стало уже невозможным, как для типической, родившейся в дворянстве интеллигенции, исходить из единства национального и общественного сознания России» (Там же). Для Федотова — культуролога и основателя богословия культуры — важнейшим типологическим признаком национального единства является религиозно-нравственная общность народа и вероисповедное сознавание своей почвы, этноса и языка. Однако именно этого критерия единства культуры он не нашел у Ключевского. Отсюда — вторая его претензия: историк Отечества исключил из объектов своего внимания духовную культуру и творящую ее личность (не потому ли, отмечает не без злорадства Федотов, столь характерно для основателя экономической истории России предпочтение жестокосердного Иосифа Волоцкого Нилу Сорскому?).
Упреки эти небезосновательны и не одним Федотовым высказаны. Так, П. А. Сорокин рассуждает: Ключевский разделял изучение «материальнойкультуры» (она — предмет «истории культуры, или цивилизации») и деятельность людей (она — предмет « исторической социологии»). Для федотовско-сорокинского поколения историков разрыв объекта и принципа герменевтики стал методологически нетерпимым*.
к к к
Ключевский работал, как умел, в жанре «исторического объяснения» — так гласит подзаголовок этюда о «Недоросле» Фонвизина (1896). Эти опыты Ключевского давно стали и литературоведческой классикой; дай Бог войти им, наконец, в общий круг чтения. Их автор возвращает нас к школьным текстам, сплошь и рядом непрозрачным, чтобы мы могли совершить путешествие на всю глубину исторической ретроспективы, которая за ними открывается. Не будем жаловаться на среднюю школу, а скажем то, что есть: в головах ее воспитанников большинство «программных» произведений так и остаются семантически плоскими
* Сорокин II.А. Система социологйи: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 216.
и притемненными памятниками нашей лености и нелюбопытства. Разъятие плоскости свершается в профессиональном уточнении контекста. Тогда текст начинает дышать и играть всеми смыслами своей исторической памяти. Комментарий Ключевского как раз и направлен на пробуждение накопленной текстом культурной памяти, на жанрово-исторический анамнезис. Это качество, с особенным блеском проявившееся в статье «Евгений Онегин и его предки» (1887), позволяет современным исследователям включать тексты Ключевского в рекомендательные списки самой актуальной научной продукции, что и делает, например, Ю. М. Лотман в своем «Комментарии» романа Пушкина «Евгений Онегин» (Л., 1983), в отличие от В. В. Набокова.
Для Ключевского-эмпирика непосредственная, исторически-простодушная выразительность факта дороже его интерпретаций. Ключевский любит факт=событие как свидетельство исторической непрерывности и культурного преемства. Ключевский был историческим критиком событийного прошлого. Формой этой не самой обычной критики стала эстетическая драматизация материала, сведение его к узловым внутренним коллизиям, почти романное переживание «театра жизни». «Бог деталей» (Б. Пастернак) царит на этом театре, бог опыта и бог позитивизма. Именно эта безоглядная отданность пестрой эмпирии фактов оставила Ключевского на той грани, по одну сторону которой кончается наука истории, а по другую начинается философия и эстетика истории. В этом смысле Ключевский, наследник Сергиево-Лаврской духовности и последний «очевидец-свидетель московского царства» (Г. П. Федотов), оказался в стороне от большинства течений отечественной философии и социологии. Бесполезно спрашивать — хорошо это или плохо. Историком был свершен «подвиг честного человека», о котором сказано Пушкиным применительно к «Истории...» Н. М. Карамзина. Будем благодарны Василию Осиповичу Ключевскому за осуществленный им синтез истории и художества и шагнем в пространство открытого им для всех трагического театра былых времен.
Его тексты живут в нашей памяти апокрифами метаисториче-ского предвестия.
1991;2011
КОММЕНТАРИИ
I МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО
Магистерский диспут В. О. Ключевского
Протоколы факультетских заседаний
<Фрагменты>
Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248).
Опубликована в качестве приложения к статье С. И. Смирнова «Исследование В. О. Ключевского “Древнерусские жития святых как исторический источник”». Описание диспута дано Е. В. Барсовым, на что указывает примечание С. И. Смирнова: «Печатаем описание в приложении в виду его ценности для биографии В. О. Ключевского и для выяснения самого вопроса о научной ценности древнерусских житий. Е.В. Барсов обязательно поделился с пишущим эти строки своими воспоминаниями о магистерском диспуте покойного историка и об обстоятельствах, сопровождавших написание “Древнерусских житий”».
Барсов Елпидифор Васильевич (1836-1917) — русский фольклорист, этнограф, исследователь древнерусской литературы. Секретарь Общества истории и древностей российских при Московском университете (1891-1907).
1 Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879) — русский историк, профессор Московского университета (1848-1879), ректор Московского университета (187-1877), академик (1872). Учитель Ключевского.
2 Попов Нил Александрович (183-1891) — русский историк, славист, профессор Московского университета, декан историко-филологического университета, член-корреспондент Академии наук (1883).
3 Юркевич Памфил Данилович (1826-1874) — русский философ, выпускник Киевской духовной академии, профессор философии Киевской духовной
академии, с 1861 г. ординарный профессор кафедры философии Московского университета, декан историко-филологического факультета (1869-1873).
4 Куторга Михаил Семенович. (1809-1886) — русский историк антиковед, учился в Петербургском университете, выпускник Профессорского института при Дерптском университете, профессор всеобщей истории Петербургского университета (1834-1869), профессор Московского университета (1869-1874), член-корреспондент Академии наук (1848).
5 Леонтьев Павел Михайлович (1822-1874) — русский филолог-классик и публицист консервативного направления, профессор кафедры римской словесности Московского университета (с 1847), член-корреспондент Академии наук (1856).
6 Буслаев Федор Иванович (1818-1897) — русский филолог, искусствовед, профессор Московского университета, академик (1860).
7 Тихонравов Николай Савич (1832-1893) — русский филолог, археограф, историк русской литературы, профессор Московского университета (1859-1889), академик (1890).
8 Герье Владимир Иванович (1837-1919) — русский историк и общественный деятель, профессор кафедры всеобщей истории Московского университета (1868-1904), член-корреспондент Академии наук (1902), член Государственного совета.
9 Корш Федор Евгеньевич (184-1915) — русский филолог-классик, востоковед, славист, приват-доцент (1868-1877), профессор (1877-1905) Московского университета, профессор Новороссийского университета (с 1882), преподавал в Лазаревском институте восточных языков (1892-1915), академик (1900).
10 Шевырёв Степан Петрович (1806-1864) — русский историк литературы, литературный критик, поэт, профессор Московского университета (с 1837).
11 Этому вопросу посвящена еще одна публикация В. О. Ключевского: «Аллилуия и отец Пафнутий. (Письмо редактору)», вышедшая в «Современных известиях» (1872. № 75). Статья Ключевского была ответом на публикацию в «Московских епархиальных ведомостях» (1872. № 11) рассказа Б. «О воскресных собеседованиях в Пудовом монастыре».
12 Горский Александр Васильевич (1812-1875) — русский историк и богослов, ректор Московской духовной академии (1864-1875).
И. А. Артоболевский
К биографии В.О. Ключевского (Ключевский до университета)
Печатается по: Голос минувшего. 1913. № 5. С. 158-173.
Артоболевский Иван Алексеевич (1872-1938) — священник, односельчанин В. О. Ключевского. В 1891-1895 гг. обучался в Московской духовной академии. В 1905-1907 гг. настоятель домовной церкви св. Марии Магдалины
при Императорском Коммерческом училище и законоучитель этого училища. В 1911-1922 гг. профессор Петровской сельскохозяйственной академии. Член Священного Собора Российской Православной Церкви (1917-1918). Неоднократно арестовывался при советской власти. Расстрелян в 1938 г. Канонизирован Русской Православной Церковью как новомученник (2000).
В начале статьи И. А. Артоболевский упоминает издание «В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания» (М., 1912), статьи из которого публикуются в настоящей антологии.
1 Любавский Матвей Кузьмич (1860-1936) — русский историк, ученик В. О. Ключевского, ректор Московского университета (1911-1917), академик (1929).
2 Богословский Михаил Михайлович (1867-1929) — русский историк, ученик В. О. Ключевского, профессор Московского университета и Московской духовной академии.
3 Милюков Павел Николаевич (1859-1943) — русский историк и политический деятель. Ученик В. О. Ключевского. Лидер конституционно-демократической партии. Министр иностранных дел Временного правительства.
4 Европейцев Иван Васильевич (1823-1867) — священник Боголюбской церкви в Пензе. Его жена Евдокия Федоровна (1826-1866) была родной сестрой матери Ключевского Анны Федоровны (урожд. Мошковой; 1821-1866). Сохранились письма В. О. Ключевского к И. В. и Е. Ф. Европейцевым.
5 Вирганская (урожд. Ключевская) Елизавета Осиповна — сестра В. О. Ключевского.
6 Дед В. О. Ключевского Василий Степанов еще не носил фамилию Ключевский (фамилия Степанов была дана по отчеству), служил начала дьячком, а затем дьяконом церкви села Ключи Чембарского уезда Пензенской губернии.
7 Ключевский Осип Васильевич (1816-1850) — отец историка, священник.
8 Дед В. О. Ключевского по матери Федор Исаакович Мошков служил протоиереем Духосошественной церкви в Пензе.
9 Архиепископ Варлаам (Успенский Василий Иванович; 1801-1876) — епископ Архангельский, архиепископ Пензенский, затем Тобольский и Сибирский.
1( 1 Татищев Василий Никитич (1686-1750) — русский историк и государственный деятель. Автор «Истории Российской».
11 Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) — русский писатель, историк, поэт. Автор двенадцатитомной «Истории Государства Российского» (1803-1826).
12 Бурлуцкий Иаков Петрович (1819-1886) — протоиерей и церковный писатель, выпускник Московской духовной академии (1844), преподаватель Пензенской семинарии (до 1884 г.), основатель и редактор «Пензенских епархиальных ведомостей».
13 Морозова (урожд. Симонова) Мария Федоровна (1830-1911) — жена миллионера-фабриканта Тимофея Савича Морозова (1824-1889).
14 В. О. Ключевский готовил в университет Ивана и Александра Маршевых, с которыми вместе и поступал, однако братья Маршевы смогли поступить в Московский университет лишь через год после В. О. Ключевского.
15 Евпсихий (Горенко Иван Васильевич; 1803-1875) — архимандрит, ректор Пензенской духовной семинарии, настоятель Нижнеломовского Казанского мужского монастыря.
16 Гвоздев Порфирий Петрович (1840-1901) — одноклассник В.О. Ключевского по Пензенской духовной семинарии, учился в Казанской духовной академии, закончил историко-филологический факультет Казанского университета (1869), приват-доцент кафедры римской словесности Казанского университета (1871-1883) и Казанской духовной академии, в 1889-1890 гг. преподавал в 3-й мужской гимназии г. Москвы.
17 Сергиевский Николай Александрович (1827-1892) — священник, профессор богословия Московского университета.
18 Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879) — русский историк, профессор Московского университета (1848-1879), ректор Московского университета (1871-1877), академик (1872).
19 Буслаев Федор Иванович (1818-1897) — русский филолог, фольклорист и искусствовед, академик (1860), профессор Московского университета (с 1859 г.).
20 Дюран де Сен Пурсан Гильом (ум. ок. 1333) — епископ города Манд (Mende), богослов. Трактат Дюрана “Rationale divinorum officiprum” был написан в 1286-1295 гг.
21 Волконский Сергей Васильевич (1819-1884) — князь, член рязанского губернского комитета, председатель рязанской губернской земской управы.
22 Каблуков Иван Александрович (1857-1942) — профессор химии Московского сельскохозяйственного института и Московского университета, почетный академик АН СССР.
Е. О. Виргинская
Воспоминания о В.О. Ключевском
Печатается с незначительными сокращениями по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 414-417.
Вирганская (урожд. Ключевская) Елизавета Осиповна (1844-?) — сестра В.О. Ключевского.
1 Ключевская (урожд. Мошкова) Анна Федоровна (1821-1866) — мать В.О. Ключевского.
2 Отец В. О. Ключевского Осип Васильевич (1816-1850) трагически погиб 28 августа 1850 г.
3 Дед В. О. Ключевского по материнской линии Федор Исаакович Мошков служил протоиереем Духосошественной церкви в Пензе.
1 Бурлуцкий Иаков Петрович (1819-1887) — протоиерей и церковный писатель, окончил Пензенскую семинарию (1840), затем Московскую духовную академию (1844), преподаватель и инспектор Пензенской семинарии (до 1884 г.), основатель и редактор «Пензенских епархиальных ведомостей», инициатор учреждения Общества взаимного вспомоществования духовенства Пензенской епархии.
5 В 1860-1861 гг. Ключевский готовил к поступлению в университет Александра и Ивана Маршевых.
6 Европейцев Иван Васильевич (1823-1867) — священник Боголюбской церкви в Пензе. Его жена Евдокия Федоровна (1826-1866) была родной сестрой матери Ключевского Анны Федоровны.
7 Архиепископ Варлаам (Успенский Василий Иванович; 1801-1876) — епископ Архангельский, архиепископ Пензенский, затем Тобольский и Сибирский.
8 Ключевская Надежда Осиповна (1849-?) — сестра В. О. Ключевского.
9 Бородина Александра Ильинична — мать жены Ключевского Анисьи Михайловны.
10 Мошкова Анастасия Алексеевна — бабушка В. О. Ключевского по материнской линии.
В.П.Маловский
Воспоминания о В. О. Ключевском
Печатается с незначительными сокращениями по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 419-422.
Маловский Василий Петрович — протоиерей, священник Пензенского женского монастыря.
1 Масловский Степан (Стефан) Васильевич (1830-1891) — протоиерей, выпускник Пензенской семинарии (1852) и Московской духовной академии (1856), более тридцати лет преподавал в семинарии психологию, патрологию и латинский язык, в 1875-1887 гг. ректор Пензенской семинарии, с 1887 г. кафедральный протоиерей.
2 По мнению М. В. Нечкиной, таким репетитором мог быть ученик старшего отделения Пензенской Духовной семинарии Василий Покровский (см.: Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974. С. 62.
А. А Рождественский
Воспоминания о В. О. Ключевском
Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С.422-423,426-434.
Рождественский Алексей Андреевич. (1838-?) — в 1850-е гг. ученик Краснослободского Духовного училища, заштатный священник. Воспоминания датированы 8 июля 1913 г.
1 На указанных страницах «Чтений в ими. общ. ист. и др. российских при Моск. унив. 1914. Кн. 1 (248)» приводятся «Обозрение уроков по классу Православного исповедания веры кафолической и апостольской церкви Восточной, преподанных ученика Пензенской семинарии 2-го класса низшего отделения в течение сентябрьской трети текущего 1856 года», включающее 65 вопросов, составленных В.М. Розовым и «Обозрение предметов по изъяснению Священного Писания, преподанных ученикам среднего отделения в течение сентябрьской трети 1858 г.», включающее 20 вопросов, составленных С. В. Масловским.
2 Розов Василий Михайлович (ум. 1890) — выпускник Пензенской семинарии (1850) и Казанской духовной академии (1854), в течение семнадцати лет преподавал в Пензенской семинарии, затем ректор Черниговской семинарии (1873-1882), в конце жизни ключарь Киевского кафедрального собора.
3 На указанных страницах «Чтениий в имп. общ. ист. и др. российских при Моск. унив. 1914. Кн. 1 (248)» приводятся «Ведомость ос сочинениях учеников Пензенской семинарии низшего отделения 2-го класса за сентябрьскую треть 1856 года» (учитель Н. Сменковский) и «Ведомость о сочинениях учеников низшего отделения 2-го класса за 1857 год».
4 Куминский Петр Иванович учился в Рязанской духовной семинарии, затем в Рязанском главном народном училище, с 1787 г. учитель Пронского народного училища, а с 1808 г. смотритель (директор) Скопинского народного училища. Автор ряда учебников, в том числе по арифметике, который в первой половине XIX в. переиздавался девятнадцать раз.
5 Овсов Андрей Лукич (1796-1858) — протоиерей, учился в Галицком духовном училище и Костромской семинарии, выпускник Московской духовной академии (1820), инспектор и профессор философии Пензенской духовной академии (1820-1834), ректор Пензенских духовных училищ (с 1822).
6 Смирнов Аврамий (Абрам) Павлович (1816-1872) — протоиерей, выпускник Московской духовной академии (1842), около тридцати лет преподавал логику, психологию и латинский язык в Пензенской семинарии.
7 А. П. Смирнов был уроженцем Ярославской губернии, где служил священником его отец.
8 Архиепископ. Варлаам (Успенский Василий Иванович; 1801-1876) — епископ Архангельский, архиепископ Пензенский, затем Тобольский и Сибирский.
9 Масловский Степан (Стефан) Васильевич (1830-1891) — протоиерей, выпускник Пензенской семинарии (1852) и Московской духовной академии (1856), более тридцати лет преподавал в семинарии психологию, патрологию и латинский язык, в 1875-1887 гг. ректор Пензенской семинарии, с 1887 г. кафедральный протоиерей.
1( 1 Евпсихий (Горенко Иван Васильевич; 1803-1875) — архимандрит, ректор Пензенской духовной семинарии, настоятель Нижнеломовского Казанского мужского монастыря.
11 Бурлуцкий Иаков Петрович (1819-1887) — протоиерей и церковный писатель, окончил Пензенскую семинарию (1840), затем Московскую духовную академию (1844), преподаватель и инспектор Пензенской семинарии (до 1884), основатель и редактор «Пензенских епархиальных ведомостей», инициатор учреждения Общества взаимного вспомоществования духовенства Пензенской епархии.
12 Ам.вросий (Морев Алексей Иванович; 1785-1854) — выпускник Александро-Невской академии (1807), префект, профессор философии и инспектор Новгородской семинарии (1813-1816), ректор Новгородской семинарии (1816-1822), ректор Орловской семинарии (1822-1823), епископ Оренбургский и Уфимский (1823-1828), епископ Волынский и Житомирский (1828-1835), епископ Пензенский и Саранский (1835-1854). Отличался неуравновешенным и деспотичным характером. В 1836 г. подвергался осуждению со стороны Синода за назначение на епархиальные должности своих родственников.
13 Гвоздев Порфирий Петрович (1840-1901) — одноклассник В. О. Клюиев-ского по Пензенской духовной семинарии, учился в Казанской духовной академии, закончил историко-филологический факультет Казанского университета (1869), приват-доцент кафедры римской словесности Казанского университета (1871-1883) и Казанской духовной академии, в 1889-1890 гг. преподавал в 3-й мужской гимназии г. Москвы.
14 Парадизов Степан Андреевич — одноклассник В. О. Ключевского по Пензенской духовной семинарии, впоследствии закончил Казанский университет, служил судебным следователем в Казани, затем адвокатом в Нижнем Новгороде.
15 На указанной странице «Чтений в имп. общ. ист. и др. российских при Моск. унив. 1914. Кн. 1 (248)» приводится «Ведомость о сочинениях учеников среднего отделения Пензенской духовной семинарии за сентябрьскую треть 1858 года».
16 Попов Михаил Митрофанови ч — преподаватель церковно-библейской истории и греческого языка в Пензенской семинарии (1858-1864).
17 А.А. Рождественский приводит на память письмо В. О. Ключевского П. П. Гвоздеву от 3 сентября 1861 г. В пересказе Рождественского много неточностей. Подлинный текст письма впервые был опубликован в книге «Письма В. О. Ключевского к П.П. Гвоздеву. 1861-1870» (М., 1924), одно из последних переизданий: Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. IX. М., 1989. С. 129-138.
18 «Пензенские епархиальные ведомости» выходили с 1866 по 1917 г. А.А. Рождественский имеет в виду статью А. Троицкого, напечатанную в номере от 1 октября 1901 г.
19 Ильминский Николай Иванович (1822-1891) — русский тюрколог, выпускник Пензенской семинарии (1842) и Казанской духовной академии (1846),
преподавал восточные языки в Казанской духовной академии и Казанском университете, с 1872 г, директор инородческой учительской семинарии в Казани, член-корреспондент Академии наук (1870).
20 Маловский Василий Петрович — протоиерей, священник Пензенского женского монастыря. Воспоминания Маловского см. в наст. изд.
21 Архиепископ Варлаам (Успенский Василий Иванович; 1801-1876) — епископ Архангельский, архиепископ Пензенский, затем Тобольский и Сибирский.
22 А. А. Рождественский ошибается: В.О. Ключевский получал половинный оклад (см.: Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974. С. 582).
Н. П. Нечаев
<Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского в Александровском военном училище>
Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 434-435.
Нечаев Николай Павлович (1841-?) — преподаватель химии Александровского военного училища (1863-1880, 1884-1894), директор Ярославской военной прогимназии (1880-1884), преподаватель химии Константиновского артиллерийского училища (1861-1863, 1894-1901), почетный член Императорского Русского технического общества (1901), постоянный член IV класса и управляющий технического комитета Главного интендантского управления (с 1903 г.), генерал-лейтенант (1904). Воспоминания датированы 7 мая 1912 г.
1 Шванебах Борис Антонович (1823-1905) — участник Венгерского похода (1849) и Крымской войны (1854-1856), начальник 3-го Александровского военного училища (1863-1874), инженер-генерал (1892).
2 Герье Владимир Иванович (1837-1919) — русский историк и общественный деятель, профессор кафедры всеобщей истории Московского университета (1868-1904), член-корреспондент Академии наук (1902), член Государственного совета.
3 Капустин Михаил Николаевич (1828-1899) — русский правовед, выпускник юридического факультета Московского университета, с 1850 г. профессор кафедры общенародного (позднее международного) права Московского университета, директор Демидовского лицея в Ярославле (1870-1883), попечитель Дерптского учебного округа (1883-1891), попечитель Петербургского учебного округа (с 1891 г.).
4 Боголепов Николай Павлович (1846-1901) — ректор Московского университета (1883-1887, 1891-1893), попечитель Московского учебного округа (1895-1898), министр народного просвещения (1898-1901). Смертельно ранен 14 февраля 1901 г. студентом П. В. Карповичем.
r> Бабст Иван Кондратьевич (1824-1881) — русский историк, экономист и публицист, окончил Московский университет, профессор Казанского (1851-1857) и Московского (1857-1874) университетов, управляющий Московским купеческим банком (с 1867 г,).
6 Чупров Александр Иванович (1842-1908)— русский экономист, статистик и общественный деятель, выпускник юридического факультета Московского университета (1866), профессор кафедры политической экономии и статистики Московского университета (1878-1899), организатор Московского общества распространения технических знаний (1868), активный деятель земского движения, председатель статистического отделения Московского юридического общества (с 1883 г.), член-корреспондент Академии наук (1887).
7 Янжул Иван Иванович (1846-1914) — русский экономист и статистик. Профессор Московского университета (1876-1898), академик (1895).
8 Лясковский Николай Эрастович (1816-1871) — русский ученый-химик польского происхождения, выпускник медицинского факультета Московского университета (1841), «ученый аптекарь» при Московском университета (с 1846 г.), с 1847 г. читал курс органической химии в Московском университете, ординарный профессор химии Московского университета (1859-1871).
В.А. Петров
<Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского в Александровском военном училище>
Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 435-440.
Петров Виктор Александрович (1858-?) — выпускник 3-го Александровского военного училища, репетитор артиллерии (1883-1888) и инспектор классов (с 1900 г.) того же училища, полковник (1893), участник Белого движения, после 1921 г. в эмиграции. Находился в свойстве с А.П. Чеховым и был приглашен им в качестве консультанта при постановке «Трех сестер» во МХТе.
1 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912) — русский военный историк и государственный деятель, участник Кавказской войны (1839-1844, 1856-1860), военный министр (1861-1881), генерал-фельдмаршал (1898), граф (1878), член-корреспондент Академии наук (1857).
1 2 Исаков Николай Васильевич (1821-1891) — военный педагог, участник
войны на Кавказе (1846-1849), Венгерской кампании (1849), Крымской войны (1854-1856), попечитель Московского учебного округа (1859-1863), главный начальник военно-учебных заведений (1863-1881), генерал от инфантерии (1878).
3 Самохвалов Михаил Петрович (1833 — после 1891) — генерал-лейтенант (с 1888 г.), в 1874-1886 гг. начальник 3-го Александровского военного училища.
4 Алексеев Александр Семенович (1851-1916) — русский юрист, профессор кафедры государственного права Московского университета (с 1885 г.), председатель Юридического общества при Московском университете (с 1910г.).
5 Вейнберг Яков Игнатьевич (1824-1896) — педагог, выпускник физико-математического факультета Московского университета, преподавал в учебных заведениях Москвы, в том числе в Александровском военном училище, с 1870 г. окружной инспектор Московского учебного округа.
6 Стороженко Николай Ильич (1836-1906) — русский литературовед, шекспировед, профессор кафедры всеобщей литературы Московского университета (с 1872 г.), председатель Общества любителей российской словесности (1894-1901).
7 Юркевич Памфил Данилович (1826-1874) — русский философ, экстраординарный профессор Киевской духовной академии, профессор кафедры философии Московского университета (с 1861 г.), декан историко-филологического факультета (1869-1873).
8 Юшенов Павел Николаевич (1839-1879) — генерал-майор, инспектор Александровского военного училища (1866-1870), директор Владимирского Киевского кадетского корпуса (1871-1879).
9 Алексеев Павел Александрович (1836-1906) — генерал-майор, инспектор классов Александровского военного училища (1870-1875), директор Владимирского Киевского кадетского корпуса (1879-1897).
10 Боголепов Николай Павлович (1846-1901) — ректор Московского университета (1883-1887, 1891-1893), попечитель Московского учебного округа (1895-1898), министр народного просвещения (1898-1901).
11 «Былое и думы» — воспоминания А. И. Герцена (1812-1870), писавшиеся в эмиграции с 1852 по 1869 г.
12 Украинофильство — общественно-литературное движение в среде украинской интеллигенции середины XIX — начала XX в., берущее начало в деятельности «Кирилло-Мефодиевского общества» (1846-1847) и стремящееся к развитию украинского языка, литературы и культуры, как правило, в противопоставление русскому языку и культуре. Крупнейшими представителями украинофильства были Т. Г. Шевченко, Н. И. Костомаров, М. П. Драгоманов, А. А. Потебня, В. Б. Антонович и др.
13 Славянофильство — философско-литературное движение, возникшее в Москве в 1839 г. и просуществовавшее до Первой мировой войны. Славянофилы отстаивали самобытность православно-русской цивилизации, были сторонниками выработки самостоятельного философского мышления, выступали за отмену крепостного права, требовали свободы печати, вероисповеданий. Можно выделить несколько этапов в истории славянофильского движения: ранние славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин), поздние славянофилы (Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев), академическое славянофильство (В. И. Ламанский, О. Ф. Миллер, А. С. Будилович, М.О. Коялович, К. Н. Бестужев-Рюмин, московская философско-математическая школа) и неославянофильство начала XX в. (В. Ф. Эрн).
14 Нигилизм — движение в среде русской молодежи середины XIX в., близкое революционному народничеству, пропагандировавшее материализм, атеизм, выступавшее за изменение норм морали и существовавшего государственного строя. Термин «нигилист» стал популярен после выхода романа И. С. Тургена «Отцы и дети» (1862). В. А. Петров упоминает персонажей произведений И. С. Тургенева Базарова и Рудина.
15 Аксаков Иван Сергеевич (1823-1886) — русский публицист, поэт и общественный деятель славянофильского направления. Младший брат К. С. Аксакова, зять Ф. И. Тютчева.
16 «Дело» —ежемесячный «учено-литературный» (с 1869 г. «литературно-политический» журнал), издававшийся в Петербурге с 1866 по 1888 г., фактическим редактором которого был Г. Е. Благосветов.
17 «Вестник Европы» — двухнедельный журнал основанный в Москве Н. М. Карамзиным в 1802 г., выходил до 1830 г. под редакцией В. А. Жуковского.
II В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ
А.А. Кизеветтер
В. О. Ключевский как ученый историк России
<Фрагмент>
Печатается по: Русские ведомости. № ПО. 14 мая 1911 г.
Кизеветтер Александр Александрович (1866-1933) — русский историк, профессор Московского и Пражского университетов. Деятель партии кадетов. Ученик В. О. Ключевского.
В.Я.Уланов
Арфа сломана
Печатается по: Русские ведомости. № 110. 14 мая 1911 г.
Уланов Василии Яковлевич — литератор, сотрудник газеты «Русские ведомости».
Лигин
Ключевский-журналист
Печатается по: Русские ведомости. № 110. 14 мая 1911 г.
Лигин (Юровский Леонид Наумович; 1884-1938) — российский экономист и публицист, преподаватель Московского коммерческого института,
Народного университета Шанявского, декан факультета общественных наук Саратовского университета.
1 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Чья земля под городскими рядами на Красной площади?» (Русские ведомости. 1887. № 125; отдельное издание — М., 1887. С. 1-12), цитаты из которой приводятся далее.
2 Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855) — русский историк, профессор Московского университета (1839-1855), декан историко-филологического факультета.
3 Ключевский В.О. Памяти Т. Н. Грановского (умер 4 октября 1855) // Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. VII. С. 298-299.
4 Там же. С. 300.
5 Кавелин Константин Дмитриевич (1818-1885) — русский историк и правовед, профессор Московского (1844-1848) и Петербургского университетов (1857-1861).
6 Ключевский В.О. Памяти Т.Н. Грановского. С. 302.
Н.Н. Овсянников
В. О. Ключевский как историк
Печатается по; Московские ведомости. 1 июня 1911.
Овсянников Николай Николаевич (1834-1912) — русский историк, педагог, публицист.
1 Редкий Петр Григорьевич (1808-1891) — русский правовед, историк, профессор Московского университета (1834-1848), профессор Петербургского университета (с 1863 г.), ректор Петербургского университета (1873-1876).
2 Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855) — русский историк, профессор Московского университета (1839-1855), декан историко-филологического факультета.
3 Гегель Георг Фридрих Вильгельм (1770-1831) — немецкий философ.
4 Спенсер Герберт (1820-1903) — английский философ и социолог.
5 Дарвин Чарльз (1809-1882) — английский натуралист и путешественник.
6 Маркс Карл (1818-1883) — немецкий философ, социолог, экономист.
7 Виноградов Павел Гаврилович (1854-1925) — историк-медиевист, профессор Московского университета (1884-1901) и Оксфордского университета (1903-1925).
8 Рожков Николай Александрович (1868-1927) — русский историк и политический деятель, приват-доцент Московского университета.
9 Сторожев Василий Николаевич (1866-1924) — русский историк, археограф, сотрудник Московского архива министерства юстиции (1888-1895).
10 Ключевский В.О. Добрые люди древней Руси // Богословский вестник. Январь 1892.
11 Ключевский В.О. Значение преподобного Сергия Радонежского для русского народа и государства. Речь, произнесенная на торжественном со-, брании Московской духовной академии 26 сентября 1892 г. // Богословский вестник. 1892. № 11.
' 12 Ключевский В.О. Грусть (Памяти М.Ю. Лермонтова, умер 15 июля
1841 г.) // Русская мысль. 1891. Кн. VII.
13 Ключевский В.О. Памяти в бозе почившего государя императора Александра III. Речь, произнесенная в заседании Имп. общ. истории и древностей российских при Московском университете 28 октября 1894 г. М., 1894.
Н. Пелетчин
Памяти проф. Ключевского
Печатается по: Русские ведомости. 21 мая 1911 г.
1 Иван IV (1530-1584) — великий князь Московский и всея Руси (с 1533 г.) ’ и первый русский царь (с 1547 г.).
2 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть 11. М., 1906. С. 505.
3 Там же. С. 443.
4 Там же. С. 504.
5 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть III. М., 1908. С. 7.
, 6 Там же. С. 10.
; 7 Там же. С. 11.
Из жизни В. О. Ключевского
Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.
1 Витте Сергей Юльевич (1849-1915) — российский государственный деятель, министр финансов (1892-1903), председатель комитета министров, председатель Совета министров (1905-1906).
2 Путилов Алексей Иванович (1866 — после 1937) — русский промышленник и финансист, с 1890 г. служащий министерства финансов, с 1902 г.— директор общей канцелярии министерства.
3 Охочи некий Петр Владимирович (7-1909) — служащий министерства финансов.
4 Князьков Сергей Александрович (1873 — ок. 1920) — русский историк, сотрудник Архива министерства иностранных дел. Имеется в виду его брошюра «Самодержавие в его исконном смысле» (СПб., 1906), опубликованная с пометкой: «Вместо рукописи». Далее в тексте приводятся цитаты по этому изданию.
Ключевский на выборах в 1 -ю Государственную думу
Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.
<Отношение В.О. Ключевского к предсоборному присутствии^
Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.
<Лекции Ключевского великому князю Сергею Александровичу>
1 Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) — пятый сын императора Александра II, московский военный генерал-губернатор (1891-1905). Погиб от бомбы террориста И. Каляева.
2 Возможно, имеется в вицу Николай Владимирович Голицын (1874-1942), с 1897 г. служивший в Московском Главном архиве министерства иностранных дел.
И.М. Громогласов
<Воспоминания о В. О. Ключевском>
Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.
1 Тихомиров Павел Васильевич (1868-1925) — профессор кафедры истории философии Московской духовной академии (1898-1906).
2 Евдоким (Мещерский Василий Иванович) (1869-1935) — епископ Русской Православной Церкви, ректор Московской духовной академии (1903-1909), впоследствии митрополит Обновленческой церкви, председатель Обновленческого Синода (1923-1925).
А. И. Покровский
<Воспоминания о В. О. Ключевском>
Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.
Покровский Александр Иванович (1873 — после 1928) — богослов, преподаватель Московской духовной академии (1902-1909), впоследствии деятель Обновленческой церкви.
1 Горский Александр Васильевич (1812-1875) — русский историк и богослов, ректор Московской духовной академии (1864-1875).
2 Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834-1912) — русский историк и богослов, профессор Московской духовной академии.
3 Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910) — русский правовед, публицист, профессор Московского университета (1875-1884), председатель Первой Государственной думы (1906).
Ключевский и волнения в Духовной академии
Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.
• П. Погожев
Первая работа В. О. Ключевского
Печатается по: Новое время. 17 мая 1911 г.
Погожев Петр — однокурсник В. О. Ключевского по Московскому университету.
1 Ешевский Степан Васильевич (1829-1865) — русский историк, профессор Московского университета (1858-1865).
Р. Ю. Виппер
Памяти великого учителя (Письмо в редакцию)
Печатается по: Русские ведомости. 17 мая 1911 г. № 112.
Виппер Роберт Юрьевич (1859-1954) — русский историк, профессор Московского университета (1897-1922, 1941-1950), академик (1943).
1 Народничество — общественное движение и идеология российской интеллигенции 1860-х — 1910-х гг.
2 Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787-1874) — французский историк и государственный деятель. Его исследование «История цивилизации в Европе» вышла в 1828 г.
Ю. В. Готье
Университет
<Фрагмент>
Печатается по: Вестник МГУ. Серия 8. № 4. С. 20-22. Печатается с сокращениями.
Готье Юрий Владимирович (1873-1943) — русский историк, ученик В. О. Ключевского. В 1895 г. окончил историко-филологический факультет
Московского университета, затем служил в Московском архиве министерства юстиции, отделе русских древностей Румянцевского музея. С 1903 г.— приват-доцент Московского университета. Также преподавал на Высших женских курсах, в Константиновском межевом институте, Университете им. А. А. Шанявского. В 1906 г. защитил магистерскую диссертацию «Замосковный край в XVII в. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси», которая была удостоена Академией иаук Уваровской премии, в 1913 г.— докторскую диссертацию «История областного управления в России от Петра I до Екатерины II». С 1915 г. экстра-ординарный, а с 1917 г. ординарный профессор кафедры русской истории Московского университета. Работал также в Историческом музее, был заместителем директора Румянцевского музея (позднее Государственной библиотеки им. В. И. Ленина). В 1922 г. избран членом-корреспондентом Академии наук, с 1939 г.— академик. В 1930 г. был арестован по «академическому делу». Вернулся в Москву в 1933 г. Преподавал также в Историко-архивном институте и МИФЛИ.
1 Готье Эдуард Владимирович (1859-1921) — врач-терапевт, профессор медицины, работал в Первой Градской больнице.
2 Фортунатов Степан Федорович (1850-1918) — историк, выпускник Московского университета, с 1886 г. приват-доцент Московского университета, преподавал на высших женских курсах В. И. Герье (1872-1876).
3 Речь идет об «Учебной книге русской истории» С. М. Соловьева, впервые вышедшей в Москве в 1859 г.
4 Докторская диссертация Ключевского «Боярская Дума Древней Руси» вышла отдельным изданием в 1882 г.
5 Шаляпин Федор Иванович (1873-1938) — русский оперный певец.
6 «Псковитянка» — первая опера Н. А. Римского-Корсакова, впервые поставленная в 1873 г.
7 В.О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Александровичу (1871-1899) в Абастумане на Кавказе с ноября 1893 г. по апреля 1894 г. и с декабря 1894 по март 1895 г.
А. А. Кизеветтер
В. О. Ключевский как преподаватель
Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 164-176.
1 Докторская диссертация В.О. Ключевского «Боярская дума древней Руси» была опубликована отдельным изданием в 1882 г.
2 Гелертерский — от немецкого слова “gelehrter”, т.е. ученый в ироническом смысле. Гелертерский означает книжный, оторванный от реальной жизни, затрудняющий понимание излишней учёностью.
М. М. Ковалевский
Василий Осипович Ключевский
Печатается по: Вестник Европы. 1911. Кн. 6. С. 406-411.
Ковалевский Максим Максимович (1851-1916) — русский историк, правовед, социолог, профессор Московского (1877-1887) и Петербургского университетов (1905-1906), академик (1914), депутат Первой государственной думы (1906), член Государственного совета (1907).
’ Кони Анатолий Федорович (1844-1927) — русский юрист, государственный и общественный деятель, литератор. Профессор Петроградского университета (1918-1922), академик (1900), член Государственного совета (1907-1917).
2 В 1910 г. Ключевский начал работу над пятой частью «Курса русской истории», но успел подготовить к печати только треть текста. В 1921 г. пятая часть «Курса» на основе литографированного издания 1883-1884 гг. была издана Я. Л. Барсковым, а в 1937 г. на основе литографий 1880-1890-х гг. — С. К. Богоявленским. В 1958 г. на основе материалов, подготовленных Ключевским в 1910 г., а также литографированных курсов 1880-1890-х гг. и черновых материалов пятая часть была «Курса» была опубликована А. А. Зиминым и В. А. Александровым.
3 М. М. Ковалевский имеет в виду следующие работы Ключевского: «Евгений Онегин и его предки» (прочитана 1 февраля 1887 г. в заседании «Общества любителей российской словесности» и напечатана в журнале «Русская мысль», 1887. Кн. II); «Добрые люди Древней Руси» (прочитана в пользу пострадавших от неурожая и напечатана в журнале «Богословский вестник», 1892. № 1); «Воспоминания о Н.И. Новикове и его времени» (прочитана в заседании «Общества любителей российской словесности» 13 ноября 1894 г. и напечатана в журнале «Русская мысль», 1895. Кн. I).
4 Осенью 1886 г. Ключевский прочитал специальный курс «История сословий в России», который в 1887 г. был опубликован литографским способом, а в 1913 г. вышел в печатном варианте. Истории крестьянства были, в частности, посвящены его статьи «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10) и «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10).
5 Фюстель де Куланж Нюма-Дени (1830-1889) — французский историк. Исследование Фюстеля де Куланжа о римском колонате вышло в Париже в 1885 г. Русский перевод этой книги под редакцией И.М. Гревса под заглавием «Римский колонат» был опубликован в 1908 г.
6 Чичерин Борис Николаевич (1828-1904) — русский философ, историк права, экстраординарный профессор Московского университета (1861-1867).
7 Докторская диссертация Ключевского «Боярская дума древней Руси» была опубликована в 1880 г., отдельной книгой — в 1882 г.
" Магистерское исследование Ключевского «Жития святых как исторический источник» было опубликовано в 1871 г. и защищено в 1872 г.
9 Готье Юрий Владимирович (1873-1943) — русский историк, ученик В. О. Ключевского, профессор Московского университета, академик (1939).
10 М. М. Ковалевский упоминает немецких историков Леопольда фон Ранке (1795-1886), Генриха фон Трейчке (1834-1896) и Иоганна Густава Дройзена (1803-884).
11 Анисья Михайловна Ключевская умерла в 1909 г.
12 Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910) — русский юрист и политический деятель, профессор Московского университета, председатель Первой государственной думы (1906).
13 Дополнением к статье М. М. Ковалевского могут служить его воспоминания, в которых Ключевскому посвящен лишь один абзац.
«Появление на кафедре Ключевского, с его яркой и образной речью с его меткими характеристиками и редким умением подбирать эпитеты, встречено было поэтому молодежью с большим энтузиазмом. Редкий профессор сумел сразу завоевать себе больше внимания, чем мало известный еще в то время московский историограф. Все ранее написанное Ключевским носило слишком специальный характер, чтобы обратить на него внимание широких кругов. Его магистерская диссертация о житиях святых как источнике русской истории и более ранний трактат, написанный для получения золотой медали и озаглавленный “Сказания иностранцев о России”, создали ему репутацию строго исследователя. Но лекции в Троицко-Сергеевской духовной академии и статьи, напечатанные им, часто без подписи, в “Критическом обозрении”, не замедлили установить на его счет представление как о блестящем преподавателе и бойком публицисте. В числе не подписанных им статей одна была посвящена разбору сочинений Юрия Самарина, настолько определенному и резкому, что многие, разгадавшие, кто действительные его автор, составили о Ключевском представление как о несомненном западнике и вероятном радикале. Василий Осипович дружил в это время с молодым и талантливым историком литературы Шаховым. Последнего шутя называли Сен-Жюстом, а многие прибавляли к этому, что при нем Ключевский играет роль Робеспьера. Этой репутации Василий Осипович своей дальнейшей карьерой нимало не оправдал» (Ковалевский М.М. Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 210.).
А. М. Белов
В. О. Ключевский как лектор (Из воспоминаний его слушателя)
Печатается по: Исторический вестник. 1911. № 6. С. 986-990.
Белов Алексей Михайлович (1867-1936) — выпускник историко-филологического факультета Московского университета, библиотекарь Государственной думы.
’ В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Александровичу (1871-1899) с ноября 1893 г. по апрель 1894 г. и с декабря 1894 по март 1895 г.
Б. А. Щетинин
Из воспоминаний о В.О. Ключевском
Печатается по: Исторический вестник. 1911. № 7. С. 223-226.
Щетинин Борис Александрович — князь, литературовед, публицист.
1 Хитрое Михаил Иванович (1851-1899) — историк и духовный писатель, выпускник историко-филологического факультета Московского университета, преподавал в учебных заведениях Москвы, помощник председатель училищного совета при Святейшем Синоде, в 1895 г. принял сан священника, протоиерей.
2 Виноградов Павел Гаврилович (1854-1925) — русский историк-медиевист, профессор Московского (1884-1902) и Оксфордского (1903-1925) университетов, ученик В. И. Герье, академик (1914).
3 Иловайский Дмитрий. Иванович (1832-1920) — русский историк, выпускник историко-филологического факультета Московского университета (1854), адъюнкт кафедры всеобщей истории Московского университета (до 1862 г.), издатель газеты «Кремль» (1897-1916, с 1907 г.— «Кремль Иловайского»), автор многократно переиздававшихся гимназических учебников по русской и всеобщей истории.
Н.Н. Богородский
Василий Осипович Ключевский (Воспоминания слушателя)
Печатается по: Полоцко-Витебская старина. 1911. Кн. 11. Ч. 1.
С. 1-12.
Богородский Николай Николаевич (1877-1938) — выпускник Московской духовной академии (1904) и Витебского отделения Московского археологического института, заведующий церковно-археологическим древлехранилищем Полоцко-Витебской епархии (с 1908 г.), один из инициаторов создания и членов Витебской ученой архивной комиссии (1910), в 1914-1916 гг.— редактор неофициальной части «Полоцких епархиальных ведомостей», член комиссии по охране памятников истории и искусства, а также сотрудник комиссии по описанию архивных материалов Витебского губернского архива (1919-1924), член-корреспондент Института Белорусской культуры (1927), сотрудник Витебского культурно-исторического музея (с 1918 г.), заместитель директора Витебского государственного музея (1928-1931), с 1932 г. научный сотрудник Северо-Белорусского Центрального архивного управления. Репрессирован в 1937 г.
1 Попов Иван Васильевич (1867-1938) — русский богослов и церковный историк, окончил Московскую Духовную академию (1892), в которой
преподавал с 1893 г., профессор кафедры патристики. В 1901-1902 гг. находился в научной командировке в Берлинском и Мюнхенском университетах. Редактор «Богословского вестника» (1903-1906), член Поместного собора (1917-1918), преподавал в Московском университете (с 1907 г.). Репрессирован в 1937 г. Канонизирован Русской Православной Церковью в 2003 г.
2 Казанский Петр Симонович (1819-1878) — профессор Московской Духовной академии.
3 Смирнов Сергей Иванович (1870-1916) — профессор кафедры истории русской церкви Московской Духовной академии.
4 Имеются ввиду следующие работы В. О. Ключевского: «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871), «Боярская дума Древней Руси» (М., 1882), «Сказания иностранцев о Московском государстве» (М., 1866), «Русский рубль в XVI-XVII столетии в отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей российских. Кн. 1. 1884), «Происхождение крепостного права» (Русская мысль. 1885. № 8, 10.), «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10.), «Состав представительства на земских соборах Древней Руси» (Русская мысль. 1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1.), «Добрые люди Древней Руси» (Богословский вестник. 1892. № 1.), «Два воспитания» (Русская мысль. 1893. Кн. III.), «Воспоминание о Н.И. Новикове и его времени» (Русская мысль. 1895. Кн. I.), «Евгений Онегин и его предки» (Русская мысль. 1887. Кн. II), «Памяти императора Александра III» (М., 1894), «Курс русской истории» (Ч. I-IV.M., 1904-1910.).
5 Костомаров Николай Иванович (1817-1885) — русский историк, выпускник Харьковского университета, профессор Университета св. Владимира в Киеве (1846-1847) и участник Кирилло-Мефодиевского общества. С 1859 по 1862 г. профессор Петербургского университета.
А. А.Танков
Памяти В.О. Ключевского (Из воспоминаний его слушателя)
Печатается по: Исторический вестник. 1911. № 6. С. 692-696.
Танков Анатолий Алексеевич (1856-1930) — историк Курского края и дворянства, краевед. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1880), затем учительствовал в Курске и уездных городах губернии, член Губернского статистического комитета и Губернской ученой архивной комиссии.
1 «Голос» — ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в 1863-1884 гг. в Петербурге А. А. Краевским (с 1871 г. совместно с В. А. Бильбосовым).
2 Стороженко Николай Ильич (1836-1906) — русский литературовед, шекспировед, выпускник Московского университета, профессор кафедры истории всеобщей литературы Московского университета, преподавал также на Женских курсах и театральном училище, председатель Общества любителей российской словесности (1894-1901).
i 3 Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835-1894) — русский богослов и историк Церкви, выпускник Московской духовной акаде-; мии, профессор кафедры церковной истории Московского университета j (с 1872 г.).
4 Горчаков Михаил Иванович (1838-1910) — протоиерей, профессор кафедры церковного права Петербургского университета, член предсоборного
* присутствия и Государственного совета (с 1906 г.).
5 Павлов Алексей Степанович (1832-1898) — русский правовед и историк права, выпускник Казанской духовной академии, преподавал церковное право в Казанском, Новороссийском и Московском университетах.
6 Шахов Александр Александрович (1850-1877) — историк западноевропейской литературы, приват-доцент Московского университета и Высших женских курсов, один из ближайших друзей В. О. Ключевского.
7 Миллер Всеволод Федорович (1848-1913) — русский фольклорист, лингвист, этнограф и археолог, профессор Московского университета, директор Лазаревского института восточных языков, хранитель Дашковского этнографического музея (1884-1897), академик (1911).
М.М. Богословский
Из воспоминаний о В. О. Ключевском
Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 123-130.
Богословский Михаил Михайлович (1867-1929) — русский историк, ученик В. О. Ключевского, профессор Московского университета, академик (1921).
1 Гиляров Алексей Никитич (1856-1938) — историк античной философии, приват-доцент Московского университета (1885-1887), профессор университета Св. Владимира в Киеве.
2 Брызгалов Алексей Александрович (1844-1888) — помощник проректора Московского университета (1873-1883), инспектор Московского университета (1883-1887).
3 «Учебная книга русской истории» С. М. Соловьева была издана в 1859 г. Впоследствии неоднократно переиздавалась.
*Делянов Иван Давыдович (1818-1897) — граф, российский государственный деятель. Директор Публичной библиотеки (1861-1882), министр народного просвещения (1882-1897).
А. Ф. Кони
Воспоминания о В.О. Ключевском
Печатается по: В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 145-163.
Кони Анатолий Федорович (1844-1927) — русский юрист, государственный и общественный деятель, литератор. Профессор Петроградского университета (1918-1922), академик (1900), член Государственного совета (1907-1917). Однокурсник Ключевского по Московскому университету.
1 Возможно, речь идет об Антоне Германовиче Гизетти (1843-1890).
2 Куликов Николай Николаевич (1844-1898) — русский драматург, писавший под псевдонимом Николаев. Автор пьес «По особому поручению», «Тётенька», «Тайна» и др.
3 Кавос Михаил Альбертович (1842-1897) — литератор, секретарь Санкт-Петербургской земской управы.
4 Кирпичников Александр Иванович (1845-1903) — историк литературы, приват-доцент Харьковского (1874-1879), профессор Новороссийского (1879-1898) и Московского (1898-1903) университетов, декан историко-филологического факультета Московского университета, помощник ректора Московского университета, член-корреспондент Академии наук (1894).
5 Шопенгауэр Артур (1788-1860) — немецкий философ.
6 Vires unite agunt — силы, действующие сплоченно (лат.).
7 Щапов Афанасий Прокопьевич (1831-1876) — русский историк и публицист, один из идеологов сибирского областничества, создатель земско-областной концепции русской истории. Автор ряда исследований по истории раскола, в частности «Русский раскол старообрядчества» (1858), «Земство и раскол» (1862), «Исторические очерки народного миросозерцания (православного и старообрядческого)» (1863) и др.
8 Забелин Иван Егорович (1820-1909) — русский историк и археолог.
9 Шайкевич Самуил Соломонович (1842-1908) — присяжный поверенный, коллекционер.
10 Работа С. П. Никольского «О внешних таможенных пошлинах» была удостоена золотой медали Московского университета.
11 Поссевино Антонио (1534-1611) — иезуит, находился в России с дипломатической миссией в 1581-1582 гг. Автор сочинений «Московия» и «Московское посольство».
12 Wahrheit — правда (нем.).
13 Dichtung — вымысел (нем.).
14 «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях» Н. И. Костомарова был издан в Петербурге в 1860 г.
15 Горсей Джером. (1550-1626) — английский дворянин, дипломат, в 1573-1591 гг. с перерывами жил в России, управлял конторой Московской компании. Автор сочинений о России XVI в.
16 Первый Пушкинский праздник, организованный Обществом любителей российской словесности, Московским университетом и Московской городской думой, начался в Москве 5 июня 1880 г. и продолжался четыре дня. 6 июня был торжественно открыт памятник А. С. Пушкину работы скульптора А. М. Опекушина.
17 Глинка Михаил Иванович (1804-1857) — русский композитор, основоположник русской классической музыки. «Славься» — кант-молитва из оперы «Жизнь за царя» (1836).
18 Грот Яков Карлович (1812-1893) — филолог, академик (1858), вице-президент Академии наук (с 1889 г.).
19 Анненков Павел Васильевич (1813-1887) — русский литературный критик, историк литературы и мемуарист. Считается основателем отечественной пушкинистики. Автор первой подробной биографии А. С. Пушкина «Материалы для биографии Пушкина», а также исследования «Пушкин в александровскую эпоху» (1881), издатель первого критического собрания сочинений А. С. Пушкина (1855-1857).
20 Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) — русский писатель и поэт, член-корреспондент Академии наук (1860).
21 Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605-1680) — русский государственный деятель, глава Посольского приказа.
22 Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725-1796) — русский полководец и государственный деятель. Суворов Александр Васильевич (1729-1800) — выдающийся русский полководец, генералиссимус.
23 «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину» Ключевского была впервые опубликована в журнале «Русская мысль» (1880. Кн. VI) и в том же году в книге «Венок на памятник Пушкину» (СПб., 1880).
24 Цицерон Марк Тулий (106 г. до н.э.— 43 г. до н. э.) — древнеримский политик и философ.
25 Vita memoriae — жизнь памяти (лат.).
29 Testis temporum — свидетель времени (лат.).
27 Lux veritatis — свет истины (лат.).
28 Пассовер Александр Яковлевич (1840-1910) — присяжный поверенный, выпускник юридического факультета Московского университета.
29 Давыдов Николай Васильевич (1848-1920) — известный московский юрист.
30 Плеве Вячеслав Константинович, фон(1846-1904)— русский государственный деятель, министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов (1902-1904).
31 Муравьев Николай Валерианович (1850-1908) — русский государственный деятель, министр юстиции и генерал-прокурор (1894-1905), посол в Риме (1905-1908).
32 Идея создания на Дальнем востоке «желтой России» по аналогии с Малой и Белой Россией неоднократно высказывалась в русской консервативной публицистик начала XX в., в частности, в работах И. С. Левитова («Желтая Россия. Доклад». СПб., 1901; «Желтый Босфор». СПб., 1903; «Желтороссия как буферная колония». СПб., 1905).
33 Кобеко Дмитрий Фомич (1837-1918) — русский историк и государственный деятель, директор Публичной библиотеки. Председатель Особого совещания для составления нового устава о печати (1905).
34 Objectivverfahren — объективный процесс (нем.).
35 Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826-1911) — русский историк и общественный деятель, редактор-издатель журнала «Вестник Европы» (1866-1908).
36 Суворин Алексей Сергеевич (1834-1912) — русский журналист, издатель, драматург и театральный критик, сотрудник газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (1863-1874), редактор-издатель газеты «Новое время» (с 1876 г.).
37 Арсеньев Константин Константинович (1837-1919) — русский писатель и публицист, юрист и общественный деятель. Сотрудник журналов «Русский вестник», «Отечественные записки», «Вестник Европы», газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Почетный академик (1900).
38 Пихно Дмитрий Иванович (1853-1913) — русский экономист, журналист и государственный деятель. Профессор университета св. Владимира в Киеве, редактор националистической газеты «Киевлянин» (1878-1913), член Государственного совета (1907-1913).
39 Мещерский Владимир Петрович (1839-1914) — князь, русский писатель и публицист консервативного направления, издатель-редактор журнала (с 1887 г. газеты) «Гражданин».
40 Голенищев-Ку тузов Арсений Аркадьевич (1848-1913) — русский поэт и общественный деятель. Почетный академик (1900).
41 Цертелев Дмитрий Николаевич (1852-1911) — русский философ, поэт, публицист и литературный критик.
42 Епископ Антонин (Александр Андреевич Грановский; 1865-1927) — цензор Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета, епископ Нарвский, викарий Санкт-Петербургской епархии (1903-1908), епископ Владикавказский и Моздокский (1913-1917), один из лидеров Обновленческой церкви, митрополит Московский Обновленческой церкви (1922-1923). Участник религиозно-философских собраний в Петербурге (1901-1903).
13 Юзефович Борис Михайлович (1843-1911) — русский военный, государственный и общественный деятель, публицист. Издатель-редактор газеты «Закон и порядок»(1905-1908).
44 Речь идет о генерале Петре Семеновиче Ванновском (1822-1904), министре народного просвещения (1901-1902), бывшем военном министре (1881-1898).
45 Чичерин Борис Николаевич (1828-1904) — русский философ, историк права, экстраординарный профессор Московского университета (1861-1867). Исследование Чичерина «Наука и религия» вышло в 1879 г.
46 Index Llbrorum Prohlbitorum — список книг, запрещенных Римско-Католической Церковью. Впервые был опубликован в 1529 г. и неоднократно пополнялся. Последнее издание (32-е) вышло в 1948 г. и содержало 4000 наименований книг. Отменен решением Второго Ватиканского собора в 1966 г.
47 А. Ф. Кони имеет в виду смерть жены Ключевского в 1909 г.
48 Rien ne manque a sa gloire — il manque a la notre.— Для его славы уже ничего не нужно. Но он нужен для нашей славы (фр.).
49 А. Ф. Кони ошибается. Голосование состоялось 3 ноября 1908 г. Кандидатура Ключевского получила 28 голосов за, 1 против. Диплом на звание в почетного академика по Разряду изящной словесности Отделения Русского языка и словесности был выслан Ключевскому13 ноября 1908 г. Об избрании его официально уведомил академик А. А. Шахматов:
«В.О. Ключевскому
5 ноября 1908 г.
№ 143
М.Г.
Василий Осипович,
Имею честь уведомить Вас, что Разряд изящ[ной] слов[естности] И. А. Н. в совещании своем 3-го сего ноября избрал Вас в Почетные Академики.
Сообщая Вам о вышеизложенном, считаю долгом присовокупить, что установленный диплом на это звание будет Вам доставлен на днях, тотчас по отпечатании его подписании Авг[устейшим] Президентом Академии Наук.
Председательствующий А. Шахматов»
(Канцелярия Второго отделения академии наук (Отделение Русского языка и словесности) ОРЯС. СПбФАРАН.Ф. 9. Оп. 5. Ед. хр. 4. Л. 15.).
50 Воспоминания А. Ф. Кони «Лев Николаевич Толстой» впервые были опубликованы в журнале «Нива» (1908. Кн. III.),
51 Возможно, имеется в виду книга А.Ф. Кони «Очерки и воспоминания (Публичные чтения, речи, статьи и заметки)» (СПб., 1906).
52 С 5 по 19 октября 1874 г. в заседаниях Московского окружного суда слушалось дело о подлогах, мошенничестве, присвоении и растрате чужого имущества начальницы Московской Епархиальной Владычне-Покровской Общины сестер Милосердия и Серпуховского Владычного монастыря игуменьи Митрофании (баронесса Прасковья Григорьевна Розен). А. Ф. Кони был инициатором возбуждения уголовного дела. Процесс над игуменьей Митрофанией вызвал широкий общественный интерес. Игуменья была сослана в Енисейскую губернию на три с половиной года, и ей было запрещено покидать Сибирь в течение одиннадцати лет. По «особому высочайшему повелению» Александра II ссылка в Сибирь заменена водворением в Ставрополь-Кавказский. А. Ф. Кони посвятил этому делу очерк «Игуменья Митрофания».
Е.А. Ефимовский
Лекции В.О. Ключевского в жизни Московского студенчества
Печатается по: Известия общества славянской культуры. М., 1912. Т. I. Кн. 1. С. 9-12.
Ефимовский Евгений Амвросиевич (1885-1964) — историк и адвокат, политический деятель. Руководитель студенческой организации кадетов в Московском университете. С 1919 г. в эмиграции. В Праге редактировал газету «Славянская заря», основатель и руководитель Союза народно-конституционных монархистов.
Н. Г. Путинцев
Памяти историка Василия Осиповича Ключевского
<Фрагмент>
Печатается по: Военный мир. 1912. № 2. С. 57-65.
Путинцев Николай Григорьевич (I860-?) — офицер Сибирского казачьего войска, автор «Хронологического перечня событий из истории Сибирского казачьего войска: Со времени водворения западносибирских казаков на занимаемой ими ныне территории» (Омск, 1891).
1 «Боярская дума древней Руси» В.О. Ключевского первый раз вышла отдельным изданием в 1882 г., затем переиздавалась при жизни автора в 1883,1902 и 1909гг.
2 Ганецкий Николай Степанович (1815-1904) — генерал от инфантерии, участник Крымской войны. В 1879-1886 гг. командир Гренадерского корпуса, затем командующий войсками Виленского военного округа, член Государственного совета (с 1895 г.).
3 Духовский Сергей Михайлович (1838-1901) — генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., начальник штаба Московского военного округа (1879-1893), Приамурский (1893-1898) и Туркестанский (1898-1900) генерал-губернатор, член Государственного совета (с 1901 г.).
1 Самохвалов Михаил Петрович (1833 — после 1891) — генерал-лейтенант (с 1888 г.), в 1874-1886 гг. начальник 3-го Александровского военного училища.
’ Светлицкий Николай Николаевич — генерал-майор (с 1884 г.), инспектор классов 3-го Александровского военного училища (1875-1884), затем директор Орловского Бахтина кадетского корпуса (с 1884 г.).
8 Водар Владимир Карлович (ум. 1905) — генерал-майор.
7 Масловский Дмитрий Федорович (1848-1894) — генерал-майор (с 1891 г.), военный историк, начальник кафедры истории русского военного искусства Академии Генштаба (с 1890 г.).
8 Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824-1887) — русский публицист славянофильского направления. Окончил Московскую духовную академию, в которой преподавал с 1848 по 1854 г., в 1856-1863 гг. член Московского цензурного комитета, в 1862-1863 гг. чиновник особых поручений при министерстве народного просвещения.
9 Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835-1894) — русский богослов и историк церкви, протоиерей, выпускник Московской духовной академии, профессор кафедры церковной истории Московского университета.
10 Экстен Василий Александрович (1839-?) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., преподаватель 3-го Александровского военного училища (1871-1890).
11 Пржевальский Евгений Михайлович (1844-1925) — генерал-лейтенант (1908), преподаватель математики 3-го Александровского военного училища (1866-1908).
12 Самохвалова Людмила Александровна (урожд. Бродская).
13 Речь Ключевского «Памяти в Бозе почившего государя им. Александра III>> была прочитана в заседании Императорского Общества истории и древнностей Российских при Московском университете 18 октября 1894 г.
П. Н. Милюков
В. О. Ключевский
Печатается по: Милюков П. Н. В. О. Ключевский // В. О. Ключевский: Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 183-217. Автограф неизвестен.
Милюков Павел Николаевич (1859-1943) — русский историк и политический деятель. Ученик В. О. Ключевского. Лидер конституционно-демократической партии. Министр иностранных дел Временного правительства.
1 В. О. Ключевский жил в собственном доме по адресу: Москва, ул. Житная, д. 14 (см.: Вся Москва: адресная и справочная книга на 1909 год. М., 1909. С. 191 отд. паг.).
2 «Похороны В.О. Ключевского состоялись 15 мая 1911 г. Вынос тела был назначен на 8.30. После краткой панихиды гроб на руках был отнесен до университетской церкви. На службе присутствовали приехавшие из Санкт-Петербурга П. Н. Милюков, С. Ф. Платонов и другие лица. После отпевания похоронный кортеж отправился в Донской монастырь. В.О. Ключевский был похоронен рядом с женой, А. М. Ключевской. Были произнесены три прощальные речи — ректором Московского университета М. К. Любавским, профессором Московской духовной академии В. И. Смирновым и студентом Л. И. Львовым. Как сообщали газеты, «полицией разрешены были только три приведенные речи. Другие ораторы могли говорить лишь по представлении на цензуру полиции конспекта своих речей. Предполагали сказать речи П.Н. Милюков, А. А. Кизеветтер,
М.М. Богословский, И. И. Попов, но ввиду таких требований они не стали говорить» (Похороны В. О. Ключевского // Русские ведомости. 1911. 17 мая. № 112. С. 2; Похороны В. О. Ключевского//Русское слово. 1911. 17 мая. № 112. С. 3; Похороны В. О. Ключевского // Утро России. 1911. 17 мая. № 112. С. 4. Телеграммы П. Н. Милюкова с соболезнованиями сыну покойного, Б. В. Ключевскому, см.: Фракция Партии народной свободы в Государственной думе (за подписью П. Н. Милюкова) — Б. В. Ключевскому, 13 мая 1911 г. // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 131. К. 24 б. Д. 30. Л. 1; [Семья Милюковых — Б.В. Ключевскому, 13 мая 1911 г.] / КкончинеВ.О. Ключевского // Русские ведомости. 1911. 15 мая. № 111. С. 3).
3 Правильное название: Московское училище живописи, ваяния и зодчества — художественное учебное заведение (1866-1918).
В. О. Ключевский преподавал в училище с 1898 г. до первого полугодия 1910/11 учебного года. Последняя лекция прошла 29 октября 1910 г. Согласно посмертным публикациям, В. О. Ключевский называл студентов училища «моя любимая аудитория» (Памяти В. О. Ключевского. В училище живописи // Русское слово. 1911. 14 мая. № 110. С. 5; Любавский М. К. Василий Осипович Ключевский (| 12 мая 1911 г.) //Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских. 1914. № 1. С. 19, 21; Голубцова М. А. Воспоминания о В. О. Ключевском // У Троицы в Академии, 1814-1914: Юбилейный сборник исторических материалов. М., 1914. С. 680, 681).
4 Церковь св. мученицы Татианы — домовая церковь Московского университета на ул. Моховой (построена в 1836 г., архитектор Е. Д. Тюрин).
5 К моменту начала лекций в Московском университете В. О. Ключевский уже преподавал в Александровском военном училище (с 1867 г.), Московской духовной академии (с 1871 г.), и на Высших женских курсах В. И. Герье (с 1872 г.).
6 О взглядах П.Н. Милюкова на школу В. О. Ключевского см.: Трибунский П.А. «Школа Ключевского» в оценке П. Н. Милюкова // В. О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии: Материалы науч, конф., Пенза, 25-26 июня 2001 года. М., 2005. Кн. 1. С. 399-403.
7 П. Н. Милюков имеет в виду официальные прижизненные издания лекций В. О. Ключевского (см.: Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1904-1910. Ч. I—IV; 2-е изд. М., 1908. Ч. I-П; 3-е изд. М., 1908. Ч. I).
8 Опечатка. Следует: С. М. Соловьева.
В связи с болезненным состоянием С. М. Соловьева был поднят вопрос о его замещении. Н. А. Попов вошел в историко-филологический факультет Московского университета с предложением избрать В. О. Ключевского. Последний был выбран на должность доцента на заседании факультета 12 сентября 1879 г. Избрание было утверждено Советом университета 22 сентября. Первая лекция В. О. Ключевского была назначена на 28 ноября, однако была перенесена и состоялась 5 декабря (Василий Осипович Ключевский: Материалы для его биографии / Собр. С. А. Белокуров // Чтения
в имп. Обществе истории и древностей российских,- 1914. К° 1. С. 397, 399, 400, 402 отд. пат.; Любавский М.К. Василий Осипович Ключевский (t 12 мая 1911 г.). С. 14-15).
9 Ошибка П. Н. Милюкова. В. О. Ключевскому было 38 лет.
10 С. М. Соловьев вышел в отставку заслуженным ординарным профессором в 1877 г. В начале 1878/79 учебного года он был приглашен в качестве стороннего преподавателя для чтения лекций по новой русской истории для студентов третьего курса. Чтения должны были охватывать эпоху Петра I и его преемников, однако С. М. Соловьев начал лекции с очерка важнейших явлений древнерусской государственной и народной жизни (почти 20 лекций). По-видимому, на одной из таких лекций и был второкурсник П. Н. Милюков. В марте 1879 г. по болезни С. М. Соловьев прекратил курс, дойдя в изложении до отношения Петра I к славянским и персидским делам (см.: Танков А.С.М. Соловьев — как профессор // Колосья. 1885. № 8. С. 247, 248, 251, 258, 260, 263; Цимбаев Н.И.С.М. Соловьев // Русские писатели, 1800-1917: биографический словарь / Глав. ред. П. А. Николаев. М., 2007. Т. 5: П-С.С. 753).
11 «Жидкий элемент» — термин, означающий слабую привязанность основной массы населения Руси к конкретному месту жительства, что вело к противоречиям в развитии экономики и государственности. Введен в употребление С. М. Соловьевым (см.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М„ 1863. Т. 13. С. 19).
12 Попов Нил Александрович (1833-1891/92) — историк, славист, архивист. Член-корреспондент (1883) Петербургской АН. Управляющий Московского архива Министерства юстиции (1885-1891/92).
Гектографированные лекции Н. А. Попова, охватывавшие историю России с древнейших времен до конца XVII в., см.: Попов Н.А. Лекции русской истории. Б. м., б. г. // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 131. К. 36. Д. 13. Л. 1-110 об.
13 П. Н. Милюков намекает на учебную деятельность в Московском университете П. Г. Виноградова, в описываемое время стороннего преподавателя по всеобщей истории (см., например: Милюков П.Н. Величие и падение Покровского: (Эпизод из истории науки в СССР) // Современные записки. 1937. Т. LXV. С. 370).
14 Намек иа историков XVIII в., искавших объяснений хода исторических событий в сознательной деятельности личности и сводивших историческое объяснение к психологической мотивировке.
16 Каченовский Михаил Трофимович (1775-1842) — историк, переводчик, литературный критик. Член-корреспондент (1833), ординарный академик (1841) Петербургской АН. Ректор Московского университета (1837-1842). Издатель журнала «Вестник Европы» (1805-1830, с перерывами). Один из основателей т. н. скептической школы в русской историографии.
16 Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1904. 4.1. С. 1-42 (лекции 1 и 2).
17 По-видимому, опечатка. По нашему мнению, П. Н. Милюков имеет в виду первые две лекции первой части «Курса русской истории», посвященные теоретическим вопросам (см.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 1-42). В первых двух лекциях второй части «Курса» речь идет об истории становления и укрепления Московского княжества в XII--XV вв., об отношениях князей между собой, о влиянии татарского ига (см.: Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1906. Ч. II. С. 1-63).
18 Намек на статью Н. М. Карамзина «О любви к отечеству и народной гордости» (У. О. [Карамзин Н.М.]. О любви к отечеству и народной гордости // Вестник Европы. 1802. № 4. С. 56-69).
19 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 1-2, 3, 5, 18, 19.
20 Weltgeschichte ist Weltgericht (правильно: Die Weltgeschichte ist das Weltgericht) — «история есть суд» (нем.) (буквально: «всемирная история есть всемирный суд»). Впервые выражение встречается в стихотворениях И. К. Ф. фон Шиллера «Отречение» (1784) и «Письмо профессору истории 26 мая 1789» (1789). Указанное выражение было повторено в сочинении Г. В.Ф. Гегеля «Философия права» (1821), после чего стало крылатым.
21 Маркс Карл Генрих (1818-1883) — немецкий философ, экономист, социолог, публицист, общественный деятель. Основатель теории научного социализма, основоположник марксизма; Роджерс Джеймс Эдвин Соролд (1823-1890) — английский экономист, историк, политический деятель. Член Палаты общин (1880-1886).
22 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 28-29, 32, 33.
23 Ошибка П. Н. Милюкова. Во втором и третьем прижизненном изданиях первой части курса В. О. Ключевский сохранил все высказывания в неизменном виде (см.: Ключевский В.О. Курс русской истории. 2-е изд. М., 1906. Ч. I. С. 28-29, 32, 33; 3-е изд. М., 1908. Ч. I. С. 28-29, 32, 33).
24 Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 40.
25 П. Н. Милюковым приведена цитата из отдельного второго издания: Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. М., 1882. С. 5. В журнальном варианте и в первом отдельном издании схожая мысль была сформулирована по-иному: «В истории наших древних учреждений остаются в тени общественные классы и интересы, которые за ними скрывались и через них действовали» (Ключевский В.О. 1) Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 48; 2) Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества. М., 1881. С. 9).
26 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 48, 49.
27 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 52.
28 Кавелин Константин Дмитриевич (1818-1885) — историк, правовед, публицист. О полемике см. коммент. 51.
29 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 25-28.
30 Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 123-125.
31 О торговле в Киевской Руси см.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С.182-189.
32 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 228, 229.
33 Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1. С. 346-355.
Интермеццо (intermezzo, итал.) — небольшая музыкальная пьеса, вставка между двумя разделами произведения, имеющая иной характер и построение.
34 Опечатка. Отсылка должна идти на первую часть курса (см.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I. С. 356).
35 Михаил Федорович (1596-1645) — русский царь (1613); Александр II (1818-1881) — российский император (1855-1881).
36 Несколько измененная цитата из: Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1908. Ч. III. С. 1.
37 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. 4. III. С. 2-4.
38 См.: Сперанский Н.В. Из воспоминаний о В. О. Ключевском // Русские ведомости. 1911. 21 мая. № 115. С. 1—2. Оговорка о работе в семинариях В. О. Ключевского см.: Там же. С. 2.
39 П. Н. Милюков посещал семинарии В. О. Ключевского в 1880-1882 гг. Согласно «Отчетам о состоянии и действиях имп. Московского университета» в эти годы на семинариях были прочитаны и разобраны «Русская правда», «Псковская судная грамота», Судебник 1550 года, сочинение Г. К. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» (Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за 1880 год. М., 1881. С. 21; Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за 1881 год. М., 1882. С. 20; Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за 1882 год. М., 1883. С. 20-21).
40 П. Н. Милюков имеет в виду обострение внутриполитической ситуации в России (1879-1881 гг.), вызванное трудностями с проведением реформ и усилением общественного движения.
41 Фортунатов Степан Федорович (1850-1918) — историк; Шахов Александр Александрович (1850-1877) — историк литературы.
42 См.: Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 40-76; № 3. С. 45-74; № 4. С. 1-37; № 10. С. 64-95; №11. С. 126-154; 1881. № 3. С. 245-272; № 6. С. 184-230; № 8. С. 280-322; № 9. С. 228-271; № 10. С. 148-192; № 11. С. 80-113.
43 Ключевский В.О. 1) Происхождение крепостного права в России // Русская мысль. 1885. № 8. С. 1-36 отд. паг.; № 10. С. 1-46 отд. паг.; 2) Подушная подать
и отмена холопства в России // Там же. 1886. № 5. С. 106-122 отд. паг.; № 7. С. 1-19 отд. паг.; № 9. С. 72—87 отд. паг.; № 10. С. 1-20 отд. паг.; 3) Состав представительства на земских соборах древней Руси //Там же. 1890.№1.С. 141-178 отд. паг.; 1891. № 1. С. 134-147 отд. паг.; 1892. № 1. С. 140-172 отд. паг.
44 В посмертных статьях сообщалось о заметках В.О. Ключевского на полях и на титульных листах книг. Б. В. Ключевский высказывал желание «выписать и воспроизвести все сделанные его почившим родителем карандашные заметки... затем издать эти заметки, иногда заключающие ценные мысли» (см., например: К кончине В.О. Ключевского // Русские ведомости. 1911. 15 мая. № 111. С. 2; Памяти В.О. Ключевского. Научнолитературное наследие В.О. Ключевского // Рубеков слово. 1911. 15 мая. № 111. С. 6 и др.). Уже в 1912 г., в сборнике статей В. О. Ключевского «Опыты и исследования», в приложении были воспроизведены разного рода выписки, цитаты и размышления из архива ученого по истории крепостного права (Приложение / Приготов. к печати А. А. Кизеветтером // Ключевский В.О. Опыты и исследования: Первый сборник статей В. Ключевского. М., 1912. С. I-XXIV).
45 Дискуссия о том, под чьим влиянием В. О. Ключевский занялся исследованием житий святых, началась сразу после его смерти (см., например: Корсаков Д. А. По поводу двух монографий В. О. Ключевского // Исторический вестник. 1911. № 10. С. 244; Вознесенский С. Памяти Василия Осиповича Ключевского (Род. в 1839 г., ) 12 мая 1911 г.) // Русская школа. 1911. № 9. С. 128; Смирнов С.И. Исследование В.О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» // Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских. 1914. № 1. С. 54-55 и др.). Позже оформились два противоположных взгляда: а) С. М. Соловьев не интересовался житиями святых, и В. О. Ключевский обратился к их изучению под влиянием трудов А.П. Щапова, С.В. Ешевского, Ф.И. Буслаева(см.: Зимин А. А. Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского в 60-е годы XIX в. // Исторические записки. 1961. Т. 69. С. 185-191), б) С.М. Соловьев признавал ценность житий, использовал их в своих трудах, сформулировал тему магистерской диссертации В. О. Ключевского, который на тот момент не имел принципиальных разногласий с учителем (см.: Шаханов А. Н, Учитель и ученик: С.М. Соловьев и В.О. Ключевский в 1860-1870-е годы // Ключевский: сб. материалов / Редкол.: С. О. Шмидт (отв. ред.) и др. Пенза, 1995. Вып. 1. С. 315-318).
46 См.: Ключевский В. О. Сергей Михайлович Соловьев (f 4 октября 1879 г.) // Речь и отчет, читанное в торжественном собрании имп. Московского университета 12-го января 1880 года. М., 1880. С. 59.
47 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Сергей Михайлович Соловьев (f 4 октября 1879 г.). С. 58-59.
48 Несколько измененная цитата из: Ключевский В.О. Сергей Михайлович Соловьев (+ 4 октября 1879 г.). С. 59.
49 См.: Соловьев С.М. Шлецер и анти-историческое направление // Русский вестникП.857. Т. 8. С. 431-480. Славянофильские возражения (П. А. Бес
сонов, Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков, А. С. Хомяков) на статью С. М. Соловьева были опубликованы в одном томе «Русской беседы» (см.: Замечания на статью г. Соловьева Шлецер и анти-историческое направление (Русский вестник. 1857. Апрель. Кн. 2) // Русская беседа. 1857. Т. 3. С. 73-158 отд. паг.).
50 Аксаков Константин Сергеевич (1817-1860) — публицист, поэт, историк, лингвист. Один из идеологов славянофильства; Беляев Иван Дмитриевич (1810-1873) — историк, историк права, коллекционер. Секретарь и редактор «Временника» имп. Общества истории и древностей российских(1848-1857).
П.Н. Милюков имеет в виду две основные дискуссии в русской историографии 1840-1850-х гг.: о характере быта славян и о происхождении поземельной общины. Концепция родового быта, выдвинутая И.-Ф.-Г. Эверсом, была развита С. М. Соловьевым (родовой быт сменился государственным) (см.: Соловьев С.М. 1) Об отношениях Новгорода к великим князьям. М., 1845; 2) О родовых отношениях между князьями древней Руси // Московский литературный и ученый сборник. М., 1846. С. 203-215; 3) История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. М., 1847; 4) История России с древнейших времен. М., 1851; 5) Дополнения ко второму тому // Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1852. Т. 2. С. 1-12 отд. паг.). В схему С. М. Соловьева К. Д. Кавелин внес существенное изменение, введя промежуточную стадию (вотчинный быт) между родовым и государственным (см.: Кавелин К.Д. 1) Взгляд на юридический быт Древней России // Кавелин К. Д. Собрание сочинений / С биограф, очерком, и прим. Д.А. Корсакова. СПб., 1897. Т. 1: Монографии по русской истории. Стб. 5—66; 2) Рец. на: Соловьев С.М. Об отношении Новгорода к великим князьям. М., 1845 // Там же. Стб. 253—270; 3) Рец. на: Соловьев С.М. О родовых отношениях между князьями древней Руси / Московский литературный и ученый сборник. М., 1846 // Там же. Стб. 269—278; 4) Рец. на: Соловьев С.М. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. М., 1847 // Там же. Стб. 277—414; 5) Рец. на: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1851. Т. 1 // Там же. Стб. 413-508). Б.Н. Чичерин, взяв за основу развитие юридического начала (государственнвсти), отодвинул родовой быт в доисторическое время, разделив русскую историю на два периода — гражданского общества и государства (см.: Чичерин Б.Н. 1) Областные учреждения России bXVII-m веке. М., 1856; 2) Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей // Русский вестник. 1857. Т. 4. С. 649-694; Т. 8. С. 5-80). Славянофил К. С. Аксаков выступил оппонентом западников, отрицая родовой быт на Руси и выступая за общинный быт древних славян (Аксаков К.С. 1) О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности (По поводу мнений о родовом быте) // Аксаков К. С. Полное собрание сочинений. 2-е изд. М., 1889. Т. 1: Сочинения исторические. С. 63—123; 2) По поводу VI тома Истории России г. Соловьева // Там же. С. 124-168; 3) По поводу VII тома Истории России г. Соловьева // Там же. С. 211—245; 4) По поводу VIII тома Истории России г. Соловьева // Там же. С. 246—278. См. также статью, опубликованную посмертно: Аксаков К. С. Несколько
слов о русской истории, возбужденных Историею г. Соловьева. По поводу I тома // Там же. С. 44—62).
В споре о происхождении поземельной общины близкий к славянофильству И. Д. Беляев выступал сторонником естественного, родового происхождения общины, тогда как Б. Н. Чичерин настаивал на ее искусственном, фискальном характере. Основные труды участников спора, которые имеет в виду П. Н. Милюков, следующие: Чичерин Б.Н.Х) Обзор исторического развития сельской общины в России // Русский вестник. 1856. Т. 1. С. 373-396, 579-602; 2) Еще об общине (ответ г-ну Беляеву) // Там же. Т. 3. С. 773-794; Т. 4. С. 129-166; Беляев И. Д. Рец. на: Обзор исторического развития сельской общины в России (соч. Б. Чичерина (Русск. Вестник кн. 3 и 4)) // Русская беседа. 1856. Т. 1. С. 101-146; 3) Еще о сельской общине (На Ответ г. Чичерина, помещ, в Русск. Вести. № 12) // Там же. Т. 2. С. 114-141.
51 Герцен Александр Иванович (1812-1870) — публицист, писатель, философ. Издатель (совместно с Н.П. Огаревым) альманаха «Полярная звезда» (1855-1868) и газеты «Колокол» (1857-1867).
П. II. Милюков пересказывает слова А. И. Герцена, зафиксированные в воспоминаниях П. В. Анненкова (см.: Анненков П. В. Идеалисты тридцатых годов: Биографический этюд // Вестник Европы. 1883. № 4. С. 525).
52 Градовский Александр Дмитриевич (1841-1889) — историк права, публицист; Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829-1897) — историк, писатель. Член-корреспондент (1872), ординарный академик (1890) Петербургской АН; Забелин Иван Егорович (1820-1908) — историк, археолог. Член-корреспондент (1884), почетный академик (1907) Петербургской АН. Председатель имп. Общества истории и древностей российских (1879-1888); Афанасьев Александр Николаевич (1826-1871) — фольклорист, историк, литературовед.
53 Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868) — литературный критик, журналист; Киреевский Иван Васильевич (1806-1856) — философ, литературный критик, публицист. Один из основоположников славянофильства; Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) — писатель, экономист, философ; Самарин Юрий Федорович (1819-1876) — философ, публицист, историк.
Речь идет о работах: Писарев Д.И. Русский Дон-Кихот // Русское слово. 1862. № 2. С. 88-110 отд. паг.— Рец. на: Киреевский И. В. Сочинения. М., 1861. Т. I—II; [Чернышевский Н.Г.]. 1) Заметки о журналах. Март 1857 // Современник. 1857. № 4. С. 334, 339-340 отд. паг.; 2) Заметки о журналах. Апрель 1857 // Там же. № 5. С. 113 отд. паг.; 3) Устройство быта помещичьих крестьян. № II. По поводу статьи г. Тройницкого «О числе крепостных людей в России».— Библиография журнальных статей по вопросу об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян // Там же. 1858. № 7. С. 28-29 отд. паг.; 4) Устройство быта помещичьих крестьян. Ks X. Библиография журнальных статей по крестьянскому вопросу // Там же. 1859. № 7. С. 32-33 отд. паг.
;> | См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 2.
55 Несколько измененная цитата из: В. К. [Ключевский В. О.]. Церковь по отношению к умственному развитию Древней Руси // Православное обозрение. 1870. № 2. С. 337.— Рец. на: Щапов А.П. Социально-педагогические условия умственного развития русского народа. СПб., 1870.
56 Несколько измененная цитата из: Ключевский В.О. Сергей Михайлович Соловьев (f 4 октября 1879 г.). С. 59.
57 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 337.
58 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 337.
59 Перечень литографированных изданий лекций В.О. Ключевского см.: Ключевский В.О. Сочинения. В 8-ми т, М., 1958. Т. 5. С. 470-472.
60 Шторх Андрей Карлович (Генрих Фридрих), фон (1766-1835) — экономист, историк. Ординарный академик (1804), вице-президент (1830-1835) Петербургской АН.
В лекциях по русской историографии, прочитанных в Московском университете в 1886/87 учебном году, П. Н. Милюков отмечал торговую теорию Шторха, но не сделал намека на В.О. Ключевского (см.: Милюков П.Н. Русская историография: Лекции, читанные пр.— доц. П.Н. Милюковым в 1-м полугодии 1886/7 ак. г. в Московском университете. [М., 1887]. С. 65-66). Прозрачный намек на построения В.О. Ключевского (теория Шторха, «получившая в наши дни блестящее развитие и обставленная остроумною ученой аргументацией») появился позже в книге, в основу которой легли университетские лекции по историографии (см.: Милюков П.Н. Главные течений русской исторической мысли. М., 1897. Т. 1.С. 109-110).
61 Болтин Иван Никитич (1735-1792) — военный и государственный деятель, историк. Генерал-майор (1786).
62 Погодин Михаил Петрович (1800-1875) — историк, коллекционер, журналист, издатель. Член Российской Академии (1836). Издатель журналов «Московский вестник» (1827-1830), «Москвитянин» (1841-1856); Валуев Дмитрий Александрович (1820-1845) — историк; Попов Александр Николаевич (1820-1877) — историк.
63 Несколько измененная цитата из: Ключевский В.О. Сергей Михайлович Соловьев (f 4 октября 1879 г.). С. 58-59.
64 Работы упомянутых историков, на которые намекает П.Н. Милюков, приведены в коммент. 51.
65 «Москвитянин» — общественно-политический и литературный журнал (Москва, 1841-1856). Говоря о «старом “Москвитянине”», П.Н. Милюков, по-видимому, имел в виду период существования журнала до прихода в него «молодой редакции» (1851 г.). Термин «молодая редакция Москвитянина» закрепился в литературоведении после статьи С. А. Венгерова (см.: Венгеров С. А. Молодая редакция Москвитянина. Из истории русской журналистики // Вестник Европы. 1886. № 2. С. 581—612).
Киреевский Петр Васильевич (1808-1856) — фольклорист, историк, публицист.
Речь идет о статье: Киреевский II.В. О древней русской истории (письмо к М. П. Погодину) // Москвитянин. 1845. Ч. II, № 3. С. 11-46 отд. паг.
66 Уваров Сергей Семенович (1786-1855), граф (1846) — государственный деятель, историк. Почетный член (1811), президент(1818-1855) Петербургской АН. Министр народного просвещения (1833-1849).
Говоря о «народности» в «смысле казенно-патриотической проблемы», П. Н. Милюков имеет в виду консервативные общественно-политические взгляды российской элиты в области просвещения, науки и литературы эпохи Николая!, сформулированные преимущественно С. С. Уваровым (триада «православие, самодержавие, народность»), В русской исторической литературе триада с подачи А. Н. Пыпина получила название теория «официальной народности».
67 Ферула (ferula) — бдительный и гнетущий надзор (буквально: розга) (лат.).
68 Ошибка П. Н. Милюкова. Отец В. О. Ключевского — Иосиф Васильев — был священником в с. Воскресенское Пензенского уезда иве. Можаровке Городищенского уезда Пензенской губернии. В с. Ключи Чембарского уезда Тамбовской (позже — Пензенской) губернии служил его дед, Василий Степанов (см.: Василий Осипович Ключевский: Материалы для его биографии / Собр. С. А. Белокуров. С. Ill—V отд. паг.). На эту ошибку П. Н. Милюкова было указано уже в работе 1913 г. (см.: Артоболевский И.А. К биографии В.О. Ключевского (Ключевский до университета) // Голос минувшего. 1913. № 5. С. 160. Прим. 2).
69 И. В. Ключевский скончался от паралича 28 августа 1850 г. (см.: Василий Осипович Ключевский: Материалы для его биографии / Собр. С. А. Белокуров. С. 16 отд. паг.).
70 Намек на статью В.О. Ключевского «Добрые люди Древней Руси» (Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси // Богословский вестник. 1892. №1. С. 77-96).
71 П. Н. Милюков имеет в виду речь В. О. Ключевского, произнесенную 26 сентября 1892 г. в торжественном собрании Московской духовной академии в честь 500-летия со дня кончины св. Сергия Радонежского (Ключевский В.О. Значение преп. Сергия Радонежского для русского народа и государства // Богословский вестник. 1892. № 11. С. 190-204).
Филиппов Тертий Иванович (1825-1899) — государственный и общественный деятель, писатель. Почетный член (1893) Петербургской АН. Товарищ государственного контролера (1878-1889), государственный контролер(1889-1899).
72 Ключевский В.О. Содействие церкви успехам русского гражданского права и порядка // Годичный акт в Московской духовной академии 1-го октября 1888 года. М., 1888. С. 5-36.
73 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Содействие церкви успехам русского гражданского права и порядка. С. 6, 7.
74 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 2.
76 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 422-426.
76 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1910. Ч. IV.С. 34-61.
77 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 369-370.
78 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 289.
79 Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605-1680) — дипломат, государственный деятель. Глава Посольского приказа (1667-1671); Ртищев Федор Михайлович (1626-1673) — государственный деятель. В течение 1656-1670 гг. возглавлял ряд приказов (Литовский приказ, Приказ лифляндских дел, Дворцовый судный приказ, Приказ Большого дворца, Приказ тайных дел). Близкий советник царя Алексея Михайловича, вдохновитель ряда реформ.
80 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 267.
81 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 469, 470.
82 Обнаружить цитируемое письмо не удалось.
83 Помяловский Николай Герасимович (1835-1863) — писатель.
П. Н. Милюков имеет в виду романы Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1862-1863) и Н. Г. Помяловского «Очерки бурсы» (1862-1863).
84 См.: Герцен А. И. Россия // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 6. С. 187-188 («В нравственном смысле мы более свободны, чем европейцы, и это не только потому, что мы избавлены от великих испытаний, через которые проходит развитие Запада, но и потому, что у нас нет прошлого, которое бы нас себе подчиняло. История наша бедна, и первым условием нашей новой жизни было полное ее отрицание»), П. Н. Милюков, очевидно, пользовался одной из иностранных публикаций (французская, немецкая или итальянская), где была помещена упомянутая статья А. И. Герцена.
85 См., например: Петров В.А. [Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского в Александровском военном училище] // Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских. 1914. № 1. С. 440 отд. паг.
86 См.: Ключевский В.О. Содействие церкви успехам русского гражданского права и порядка. С.27.
87 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 2.
88 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 240,241.
89 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 243, 244.
90 Имеется в виду: Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки // Русская мысль. 1887. № 2. С. 291-306.
П. Н. Милюков перефразирует следующие высказывания Ключевского: «Далее мы увидели, что это не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая, созданная целым рядом предшествовавших поз, все таких же неловких и фальшивых» (Там же. С. 295) и «В этом положении культурного межеумка, исторической ненужности было много трагизма, и мы готовы жалеть о нем, предполагая, что ему самому подчас становилось невыразимо тяжело чувствовать себя в таком положении» (Там же. С. 301).
91 Кочубей Виктор Павлович (1768-1834), граф, князь— государственный деятель, дипломат, министр внутренних дел (1802-1807, 1819-1825), председатель Государственного совета и Комитета министров (1827-1834), канцлер по внутренним делам (1834).
П. Н. Милюков имеет в виду деятельность Комитета для рассмотрения разных предположений касательно улучшений в государственном устройстве (создан 6 декабря 1826 г., председатель — В. П. Кочубей).
92 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1908. Ч. III. С. 7.
В. О. Ключевский, а вслед за ним и П. Н. Милюков, ошибочно приписывают цитируемый документ занятиям комитета под председательством В. П. Кочубея. Речь идет о рескрипте Николая I министру народного просвещения А. С. Шишкову от 19 августа 1827 г. (см.: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1864. Т. 2: Царствование императора Николая I, 1825-1855, отд. 1: 1825-1839. Стб. 61). Появление рескрипта было связано с деятельностью главного начальника III отделения С.Е.И.В. канцелярии А.Х. Бенкендорфа, обратившего внимание царя на школу для крестьянских детей в имении Н. Н. Муравьева и выступившего за ограничение возможностей для недворян получать образование. Ознакомившись с докладом Бенкендорфа, Николай потребовал от председателя Государственного совета В. П. Кочубея подготовить закон с тем, чтобы «крепостные дети отнюдь не были отдаваемы для воспитания в такие учебные заведения, в коих они могли получить образование, превышающее состояние их, и чтоб были обучаемы в приходских училищах». Кочубей, всецело поддержавший замысел царя, предложил ограничиться рескриптом министру народного просвещения, ибо принятый Государственным советом закон стал бы известен в Европе и мог бы произвести неприятное впечатление. Император одобрил план Кочубея, поручив Д. Н. Блудову подготовить указ, подписанный 19 августа 1827 г. (см.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг.: По подлинным делам третьего отделении С.Е.И.В. канцелярии. СПб., 1908. С. 43-44).
93 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 9, 10.
91 Фонвизин Денис Иванович (1744 или 1745-1792) — писатель-просветитель, драматург, переводчик, журналист. Создатель русской социальной комедии.
Намек П.Н. Милюкова на комедию Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769), в которой драматург сатирически изобразил нравы русских дворян, их пристрастие ко всему французскому (галломанию).
95 Новиков Николай Иванович (1744-1818) — писатель-просветитель, журналист, книгоиздатель. Издатель журналов «Трутень» (1769-1770), «Пустомеля» (1770), «Живописец» (1772-1773), «Кошелек» (1774).
96 Намек на ответы Н.И. Новикова во время допроса в Шлиссельбурге в июне 1792 г. («взят был в Комиссию о сочинении проекта нового уложения
и определен в комиссию о среднем роде людей») (см.: Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 073).
97 См., например: Ведомости. Из некоторого приказа / Трутень. 1769. Лист IV // Трутень Н. И. Новикова, 1769-1770. 3-е изд. СПб., 1865. С. 26—27.
98 Несколько измененная цитата из: [Новиков Н.И.]. Английская прогулка / Живописец. 1772. Лист XIII //Живописец Н. И. Новикова, 1772-1773. 7-е изд. СПб., 1864. С. 79.
99 Намек П. Н. Милюкова на полемику о сатире и ее социальной направленности между журналами «Всякая всячина» (фактический редактор Екатерина II) и «Трутень» (редактор Н. И. Новиков) (1769 г.). «Всякая всячина» выступала за «хорошие» шутки (высмеивание порока вообще) в'противовес «дурным» шуткам (критика конкретных лиц) (Ст. 36), против «меланхоличных писем» (мрачного изображения действительности) (Ст. 52). «Трутень» считал целью сатиры исправление пороков, а не потакание им, выступая за критику конкретных лиц (Лист V). В дальнейшей полемике «Всякая всячина» резко отзывалась о противнике в манере, свойственной «самовластию». Новиков был вынужден ослабить остроту сатиры, и в 1770 г. «против желания» прекратить журнал (см.: Мой взор обращен к истине одной / Всякая всячина. 1769. Ст. 36 // Екатерина II. Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями А. Н. Пыпина. СПб., 1903. Т. 5. С. 293—295; Всякая всячина. 1769. Ст. 52 // Там же. С. 298; Перочинов А. Государь мой! / Всякая всячина. 1769. Ст. 53 // Там же. С. 299—300; Правдулюбов. Господин Трутень! / Трутень. 1769. Лист V // Трутень Н. И. Новикова, 1769-1770. С. 29—31; он же. Господин издатель! / Трутень. 1769. Лист VIII // Там же. С. 48; [Новиков Н.И.]. Расставание, или последнее прощание с читателями / Трутень. 1770. Лист XVII // Там же. С. 324). Некоторые исследователи склонны видеть в прекращении издания «Трутня» результат давления со стороны властей.
Пожелание Екатерины II о сатире «в улыбательном духе» появилось позднее полемики с Н.И. Новиковым, в 1783 г., в журнале «Собеседник любителей российского слова» в примечании к письму Д. И. Фонвизина (см.: [ Екатерина II ]. Примечание [к [Фонвизин Д. И.]. Кг. сочинителю Былей и Небылиц от сочинителя вопросов] / Собеседник любителей российского слова. 1783. Ч. V // Екатерина II. Сочинения императрицы Екатерины II... Т. 5. С. 71, 139. См. также: [Екатерина II]. Завещание / Собеседник любителей российского слова. 1783. Ч. VIII // Там же. С. 104, 170).
100 Н. И. Новиков обличал современную ему действительность (привнесенное новое чужое зло), противопоставляя ей нравы и обычаи предков (родное добро). См., например: [Новиков Н.И.]. Статьи из Русского словаря / Трутень. 1769. Лист V // Трутень Н.И. Новикова, 1769-1770. С. 31—33; Ведомости. Из Кронштата / Трутень. 1769. Лист VI // Там же. С. 38. См. также: Новиков Н.И. Предисловие к первому изданию // Древняя российская вивлиофика... / Изд. Н. И. Новиковым. 2-е изд. М., 1788. Ч. I. С. V-VII.
101 См.: Ключевский В.О.И. 1) Н. Болтин (t 6 октября 1792 г.) // Русская мысль. 1892. № 11. С. 107-130 отд. паг.; 2) Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени // Там же. 1895. № 1. С. 38-60 отд. паг.; 3) Недоросль Фонвизина (Опыт исторического объяснения учебной пьесы) // Искусство и наука. 1896. № 1. С. 5-26.
102 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 13.
103 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. HI. С. 13, 14.
104 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 14.
105 Радикальные высказывания П.Н. Милюкова на лекциях в Нижнем Новгороде (декабрь 1894 — январь 1895 г.) стали причиной воспрещения властями ему преподавательской деятельности в Московском университете и административной высылки из Москвы, состоявшейся 26 февраля 1895 г. (см.: Макушин А.В., Трибунский П.А. Павел Николаевич Милюков: труды и дни (1859-1904). Рязань, 2001. С. 140-150).
106 Ошибка П. Н. Милюкова. Статья была напечатан в 1891 г. (см.: К.[лю-чевский В.О.]. Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.) // Русская мысль. 1891. № 7. С. 1-18).
107 Император Александр III скончался 20 октября 1894 г. Новый император, Николай II, вступил на престол 21 октября 1894 г.
108 Laissez faire (правильно: laissez-faire) — невмешательство, попустительство (фр.).
109 Несколько измененная цитата из: Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 1880. №1.0. 49.
110 Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) — революционер, публицист. Один из основателей и теоретиков анархизма; Прудон Пьер Жозеф (1809-1865) — революционер, публицист, экономист. Один из основателей и теоретиков анархизма.
111 Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 1880. № 1.С. 49.
112 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 49-50.
113 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Сергей Михайлович Соловьев (+ 4 октября 1879 г.). С. 72-73.
114 Павлов Николай Михайлович (1836-1906) — историк, публицист.
115 Петергофские совещания под председательством императора Николая II, посвященные обсуждению проекта Государственной думы, подготовленного под руководством министра внутренних дел А. Г. Булыгина, прошли в Новом Петергофе 19, 21, 23, 25, 26 июля 1905 г. Результаты совещаний были закреплены в ряде документов, распубликованных 6 августа
1905 г.: манифест, именной указ Правительствующему сенату, «Учреждение Государственной думы» и «Положение о выборах в Государственную думу», что и дало П. Н. Милюкову повод говорить о «конституции» 6 августа.
116 См., например, выступления Н.М. Павлова против созыва Государственной думы, за сословность выборов и т. д. (Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. Какую Думу хотели дать народу Николай II и его министры. Птг., 1917. С. 127—130, 148—149 и др.).
117 По-видимому, П. Н. Милюков имел в виду вопрос о количестве депутатов от крестьян. На заседании 26 июля 1905 г. государственный контролер П. П. Лобко выступил с предложением обеспечить за крестьянами 44% мест в Государственной думе как за истинными защитниками самодержавия. В ходе обсуждения Н.С. Таганцев предложил изменить схему избрания депутатов от крестьян, таким образом, чтобы увеличить их число с 51 (проект Совета министров) до 82. С возражениями выступил В.Н. Коковцов, отстаивая собственную комбинацию, которая гарантировала бы крестьянам 72 места в Думе (обязательное избрание по 1 депутату от крестьян от каждой губернии. В тех губерниях, где избирался всего 1 депутат, их количество следовало увеличить еще на одного избранника от крестьян). Последнее предложение было одобрено Николаем II (см.: Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. С. 116—119, 145—146, 154—155). П.Н. Милюков ошибался, называя автором поддержанного предложения Н. С. Таганцева.
118 П. Н. Милюков имеет в виду следующие события. 24-27 мая 1905 г. в Москве прошел объединенный съезд представителей земств, городов и дворянских обществ, выработавший петицию для представления императору. 6 июня 1905 г. в Петергофе Николай II дал аудиенцию депутации земских и городских деятелей. От лица депутации речь произнес ординарный профессор Московского университета князь С. Н. Трубецкой, горячо выступивший против сословного представительства: «Народное представительство должно служить делу объединения и мира внутреннего. Поэтому также нельзя желать, чтобы представительство было сословным. Как русский царь — не царь дворян, не царь крестьян или купцов, не царь сословий,— а царь всея Руси, так и выборные люди от всего населения, призываемые, чтобы делать совместно с Вами Ваше государево дело, должны служить не сословным, а общегосударственным интересам. Сословное представительство неизбежно должно породить сословную рознь там, где ее не существует вовсе» (см.: [Представление 6-го сего июня его величеству государю императору земских и городских деятелей] // Правительственный вестник. 1905. 8 июня. № 121. С. 1).
119 П.Н. Милюков имеет в виду речь В.О. Ключевского на совещании 23 июля 1905 г. против сословных выборов. Согласно протоколам окончание речи историка было следующим: «Какое впечатление произведет сословность выборов на народ. Я не хочу быть зловещим пророком. Но она может быть истолкована в смысле создания Государственной Думы для защиты сословных интересов дворянства. Тогда восстанет в народном воображении
мрачный призрак сословного царя. Да избавит нас Бог от таких последствий. Я закончу тем, что при современных условиях несправедливо и больше чем неудобно, скажу прямо — опасно устанавливать выборы в Думу на сословном начале» (Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. С. 91—94). Другие выступления В. О. Ключевского на совещаниях см.: Там же. С. 54, 60—62, 138—139. О роли В.О. Ключевского в составлении манифеста 6 августа 1905 г. см.: К истории манифеста 6 августа 1905 года / Подг. к печати А. Чулошников // Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 264-265, 268-269; Таганцев Н.С. Пережитое: Учреждение Государственной думы в 1905—1906 гг. Птг., 1919. [Вып. 1]. С. 36, 37.
Отметим, что В. О. Ключевский, видимо, после петергофских совещаний передал П. Н. Милюкову документы по учреждению Государственной думы. Во время ареста П.Н. Милюкова 7 августа 1905 г. упомянутые материалы были конфискованы полицией, после чего В. О. Ключевский приложил ряд усилий для того, дабы их вернуть (см.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 201—202; По телефону (от наших корреспондентов) //Русские ведомости. 1905. 10 августа. № 215. С. 2).
120 Произведение, на которое намекает П. Н. Милюков, установить не удалось.
121 В периодической печати сообщалось о выставлении В. О. Ключевским своей кандидатуры в качестве выборщика в I Государственную думу по Сергиевому Посаду (см. коммент. 122) по списку конституционно-демократической партии, и о несостоявшемся выступлении его на одном из политических собраний от кадетов с докладом во время избирательной кампании во II Государственную думу в Москве (Кизеветтер А.А. В. О. Ключевский как ученый историк России // Русские ведомости. 1911. 15мая.№ 111.С. 2; Памяти В. О. Ключевского. Ключевский на выборах в 1-ю Государственную думу // Русское слово. 1911. 14 мая. № 110. С. 5).
122 Избрание выборщиков в городском съезде избирателей Сергиева Посада прошло 11 марта 1906 г. В. О. Ключевский баллотировался по списку конституционно-демократической партии. Он также входил в состав избирательной комиссии по Сергиеву Посаду. Выбранными оказались представители торгово-промышленной партии купец С. С. Шариков и бывший профессор Московской духовной академии В. А. Соколов. В результате жалоб на нарушения выборы были кассированы. На новых выборах, назначенных на 21 марта, В. О. Ключевский опять баллотировался от кадетов. На сей раз выборщиками от Сергиева Посада были избраны столяр А. В. Мокеев (кадет) и купец С. С. Шариков (торгово-промышленная партия). В. О. Ключевский по количеству голосов был третьим (Городенский Н. Письмо в редакцию // Русские ведомости. 1906. 14 марта. № 71. С. 3; Выборы // Там же. 15 марта. № 72. С. 4; Выборы // Там же. 19 марта. № 76. С. 4; Выборы // Там же. 20 марта. № 77. С. 2; Выборы // Там же. 24 марта. № 81. С. 4).
123 Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910) — юрист, публицист, политический деятель. Председатель I Государственной думы (1906).
Ошибка П. Н. Милюкова. Похороны С. А. Муромцева состоялись в Москве 7 октября 1910 г., вылившись в массовую демонстрацию.
121 В. О. Ключевский поместился в хирургическую лечебницу В. А. Стороженко 13 ноября 1910 г. На следующий день ему была сделана операция профессором И. К. Спижарным. Операция прошла успешно, но через некоторое время возникли осложнения. Вторую операцию в начале апреля 1911 г. сделал профессор А. В. Мартынов. Через 2 недели после операции у В.О. Ключевского ухудшилось состояние, и он скончался 12 мая в 15.05 (см.: Болезнь и смерть В. О. Ключевского // Русские ведомости. 1911. 13 мая. № 109. С. 1; В. О. Ключевский // Русское слово. 1911. 13 мая. № 109. С. 5).
125 На похоронах С. А. Муромцева редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский обратился к В. О. Ключевскому с просьбой написать статью, посвященную 50-летнему юбилею отмены крепостного права. Историк ответил неопределенно, однако Соболевский, навестивший его в лечебнице, напомнил об обещании. В письме от 3 февраля 1911 г. П. Н. Милюков от имени редакции газеты «Речь» обратился к В. О. Ключевскому с аналогичной просьбой. В ответном письме последний выразил желание написать статью и для «Речи», и для «Русских ведомостей», оговорившись, что в больнице трудно работать. По сведениям, попавшим в периодическую печать, статья об отмене крепостного права не была окончена (П. Н. Милюков — В. О. Ключевскому, Зфевраля 1911 г.; В.О. Ключевский — П.Н. Милюкову, между4и 19февраля 1911 г. Отпуск // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 131. К. 32. Д. 70. Л. 2-3 об.; Болезнь и смерть В.О. Ключевского // Русские ведомости. 1911. 13 мая. № 109. С. 1).
В архиве В.О. Ключевского сохранилась одна неоконченная статья, охватывающая период от смерти Николая I до рескриптов В. И. Назимову (озаглавлена публикаторами «Отмена крепостного права»), и небольшой отрывок, в котором речь идет о деятельности губернских комитетов. Оба произведения опубликованы в 1958 г. (см.: Ключевский В.О. 1) [Отмена крепостного права] // Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. М., 1958. Т. 5. С. 371-394; 2) [Фрагмент статьи] // Там же. С. 463-467).
М. А. Голубцова
Воспоминания о В.О. Ключевском
Печатается по: У Троицы в Академии. 1814-1914. М., 1914. С. 670-682.
Голубцова Мария Александровна (1888-1925) — дочь профессора Московской Духовной академии Александра Петровича Голубцова (1860-1911), ученика В. О. Ключевского. Работала научным сотрудником в Историческом музее.
1 Голубцова (урожд. Смирнова) Ольга Сергеевна (1867-1920) — дочь ректора Московской духовной академии С. К. Смирнова.
2 Вместе с воспоминаниями М. Голубцовой в том же сборнике напечатаны воспоминания об о. Рафаиле: Ст. Каверзнев «Non! (Из воспоминаний об о. Рафаиле)» (С. 733-736) и отчасти в статье Н. Колосова «Академическая
библиотека в 1890-98 годах (Из воспоминаний бывшего библиотекаря)» (С. 726).
3 Соколов Василий Александрович (1851-1918) — профессор Московской духовной академии.
4 Шариков С. С.— лесопромышленник, городской голова Сергиева Посада, староста Рождественской церкви, представитель торгово-промышленной партии.
5 Никитин Петр Васильевич (1849-1916) — филолог-классик, ректор Петербургского университета, вице-президент Академии наук, академик (1888).
6 В.О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Александровичу (1871-1899) в Абастумане на Кавказе с ноября 1893 г. по апреля 1894 г. и с декабря 1894 по март 1895 г.
7 Популярная студенческая песня «Из страны, страны далёкой» на слова Н. Языкова (1827) и музыку А. Алябьева (1839).
8 Готье Юрий Владимирович (1873-1943) — русский историк, академик (1939), профессор Московского университета, Историко-архивного института, МИФЛИ. Ученик В. О. Ключевского. В 1906 г. Ю. В. Готье защитил магистерскую диссертацию «Замосковный край в XVII в. Опыт исследования по истории экономического быта Московсой Руси», удостоенную Академией наук Уваровской премии.
9 Богословский Михаил Михайлович (1867-1929) — русский историк, профессор Московского университета и Московской духовной академии, академик. Ученик В.О. Ключевского. В 1909 г. защитил докторскую диссертацию «Земское самоуправление на русском севере в XVII в.».
10 Пастернак Леонид Осипович (1862-1945) — художник, преподаватель Московского училища живописи ваяния и зодчества (с 1894 г.). Портрет В. О. Ключевского написан в 1909 г.
11 Спижарный Иван Константинович (1857-1924) — хирург, профессор кафедры хирургической патологии медицинского факультета Московского университета.
Е.В. Барсов
В. О. Ключевский — как председатель Общества
Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 37-40.
Барсов Елпидифор Васильевич (1836-1917) — русский фольклорист, этнограф, исследователь древнерусской литературы. Секретарь Общества истории и древностей российских при Московском университете (1891-1907).
' Ключевская (урожд. Бородина) Анисья Михайловна (1837-1909) — жена В.О. Ключевского.
2 С. М. Соловьев был председателем Общества истории и древностей российских при Московском университете с 1877 по 1879 г. В. О. Ключевский возглавил Общество в 1893 г.
3 Попов Нил Александрович (1833-1892) — русский историк, славист, зять С. М. Соловьева.
4 Речь В. О. Ключевского о В. Н. Татищеве была прочитана иа заседании Общества 19 апреля 1886 г., а речь «Памяти И. Н. Болтина» — 21 декабря 1891 г.
5 24 апреля 1896 г. Ключевский произнес «Речь о просветительской деятельности св. Стефана Пермского» (Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 1898. Кн. II. Протоколы). В 1897 г. В.О. Ключевский представил отзыв о сочинении на степень кандидата богословия студента Московской духовной академии Модеста Вишерского «Значение просветительской деятельности св. Стефана Пермского в связи с движением русской колонизации Заволжского Севера в XIV в.» (Журнал заседаний Московской духовной академии за 1897 г. Сергиев Посад, 1898. С. 110-111).
6 Речь «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства» была произнесена 26 сентября 1892 г. в торжественном собрании Московской духовной академии в связи с 500-летием со дня кончины Сергея Радонежского. Впервые опубликована в «Богословском вестнике» (1892. № 11).
7 Речь В.О. Ключевского «Памяти в бозе почившего государя им. Александра III» была прочитана на заседании общества 26 октября 1894 г. (Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 1894. Кн. IV. С. 1-7). Тогда же опубликована отдельной брошюрой.
С. С. Глаголев
О В.О. Ключевском
Печатается по: Богословский вестник. Окт.— Нояб.— Дек. 1916.
С.491-510.
Глаголев Сергей Сергеевич (1865-1937) — профессор Московской духовной академии.
1 Золя Эмиль (1840-1992) — французский писатель. С. С. Глаголев упоминает роман «Разгром» (1892), завершающий социальную эпопею Э. Золя «Ругон-Маккары».
2 Лиза Калитина — героиня романа Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).
3 Приводится цитата из комедии «Укрощение строптивой».
4 Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — русский философ, поэт, публицист.
5 Трактат В. С. Соловьёва «Оправдание добра. Нравственная философия» публиковался частями с 1894 по 1896 г. в «Книжках недели», «Вестнике
Европы», «Вопросах философии и психологии», а также в «Литературном приложении к “Ниве”».
6 А. С. Пушкину В. С. Соловьев посвятил следующие статьи: «Судьба Пушкина» (Вестник Европы. 1897. № 9), «Особое чествование Пушкина» (Вестник Европы. 1899. № 7), «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (Вестник Европы. 1899. № 12). В. С. Соловьев задумал написать большой труд о поэте, частью которого должны были стать публикуемые в журнале статьи. Статья В. С. Соловьева «Лермонтов» была опубликована уже после смерти философа в журнале «Вестник Европы» (1901. № 2). В основе статьи лежала публичная лекция В. С. Соловьева, прочитанная в Петербурге в 1899 г.
7 Имеются виду следующие работы В. О. Ключевского: « Памяти А. С. Пушкина» (Ключевский В.О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII), «Евгений Онегин и его предки» (Русская мысль. 1887. Кн. 2), «Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)» (Русская мысль. 1897. № 7).
8 Грот Николай Яковлевич (1852-1899) — русский философ, профессор Новороссийского университета (1883-1886), профессор Московского университета (1886-1899), основатель журнала «Вопросы философии и психологии», председатель Психологического общества (с 1888).
9 Вейнингер Отто (1880-1903) — австрийский философ, автор сочинения «Пол и характер. Принципиальное исследование» (1902).
10 Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814) — немецкий философ.
11 Цитата из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».
12 Садовский (Ермилов) Пров Михайлович — (1818-1872) — русский актер.
13 «Начальная алгебра» профессора Московского университета А. Давидова неоднократно издавалась в конце XIX — начале XX в.
14 Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-1920) — физиолог, профессор Московского университета.
15 Non multa, sed multum — не так много, но очень хорошо (лат.).
lf i Георгий Александрович (1871-1899) — великий князь, третий сын Александра III. В.О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Александровичу в Абастумане с 1 ноября 1893 г. по 1 апреля 1894 г. и с декабря 1894 по март 1895 г.
17 Крумбахер Карл (1856-1909) — немецкий филолог, византолог.
18 Делянов Иван Давыдович (1818-1897) — граф, российский государственный деятель. Директор Публичной библиотеки (1861-1882), министр народного просвещения (1882-1897).
19 Победоносцев Константин Петрович (1827-1907) — русский государственный деятель, юрист, обер-прокурор Святейшего Синода.
20 Ключевский В.О. Памяти в бозе почившего государя им. Александра III. М., 1894.
21 В Абастумане на Кавказе В.О. Ключевский читал лекции великому князю Георгию Александровичу.
22 Евдоким (Мещерский Василий Иванович) (1869-1935) — епископ Русской православной церкви, ректор Московской духовной академии (1903-1909), впоследствии митрополит Обновленческой церкви, председатель Обновленческого Синода (1923-1925).
23 Per acclamationem — открытым голосованием (лат.).
24 Росси Эрнесто (1827-1896) — великий итальянский актер. Гастролировал в России в 1877, 1878, 1890, 1895 и 1896 гг.
25 Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) — философ и богослов, поэт, изобретатель, публицист. Один из лидеров славянофилов.
26 Речь идет о статье Л. Н. Толстого «Первая ступень» (1891), проповедующей вегетарианство.
27 Ренан Жозеф Эрнест (1823-1892) — французский писатель, историк и филолог.
> В. А. Маклаков
Отрывки из воспоминаний
Печатается по: Московский университет. 1755-1830. Париж. 1930.
Маклаков Василий Алексеевич (1869-1957) — русский политический деятель, адвокат, публицист, член II, III и IV Государственной думы, член ЦК партии кадетов. Учился на физико-математическом, а затем на историко-филологическом факультете Московского университета, который окончил в 1894 г., в 1896 г. экстерном закончил юридический факультет. Посол Временного правительства во Франции.
1 Статья «Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)», подписанная буквой К., впервые была опубликована в журнале «Русская мысль» (1891. Кн. VII.).
2 Давыдов Николай Васильевич (1848-1920) — русский юрист, профессор уголовного права Московского университета, председатель Московского окружного суда (с 1897), редактор журнала «Зритель».
3 Гольцев Виктор Александрович (1850-1906) — русский публицист, литературный критик и общественный деятель. Доцент Новороссийского и Московского университетов, редактор журналов «Юридический вестник», «Русский курьер», «Русская мысль».
4 Публичная лекция «Добрые люди Древней Руси» была прочитана в пользу пострадавших от неурожая и впервые опубликована в журнале «Богословский вестник» (1892. № 1).
5 Семевский Василий Иванович (1848-1916)— русский историк, приват-доцент Петербургского университета (1882-1886), один из создателей партии народных социалистов (1906), основатель и редактор журнала «Голос минувшего» (с 1913 г.). Защита магистерской диссертации В. И. Семевского «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II»
состоялась в Московском университете 17 февраля1882 г., а 16 февраля 1889 г. В. И. Семевский тамже защищал докторскую диссертацию «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в.». В. О. Ключевский выступал официальным оппонентом на обеих защитах. Описание докторского диспута В. И. Семевского см. в «Русских ведомостях» (1889. 17 февраля. № 48.).
6 Защита магистерской диссертации П. Н. Милюкова «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого» (М., 1892) состоялась 17 мая 1892 г. в Московском университете.
7 Корелин Михаил Сергеевич (1855-1899) — русский историк, ученик В. И. Герье. За магистерскую диссертацию «Ранний итальянский гуманизм и его историография» был удостоен советом Московского университета докторской степени. С 1889 г. приват-доцент московского университета.
8 Речь Ключевского «Памяти в бозе почившего государя им. Александра III» была прочитана в заседании Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете 18 октября 1894 г. и напечатана в том же году.
9 Булыгинская дума — проект представительного законосовещательного органа в России, о котором было объявлено царским манифестом от 6 августа 1905 г. в соответствии с «Положением о выборах в Государственную думу». Проект был составлен в министерстве внутренних дел, возглавляемом в то время А. Г. Булыгиным. Проект был утвержден на совещаниях в Новом Петергофе 19, 21, 23, 25 и 26 июля 1905 г. под председательством Николая II. Ключевский принимал участие в этих совещаниях, выступая против сословного принципа выборов.
'° Павлов Николаи М ихаилович (1835-1906) — писатель, публицист, общественный деятель, историк, близкий по своим взглядам славянофилам. Один из инициаторов создания монархического «Союза русских людей». В своих выступлениях на Петергофском совещании отстаивал принципы самодержавия, полагая, что даже совещательная дума — это путь к конституционному строю, противоречащему историческим устоям русского государства.
11 Струве Петр Бернгардович (1870-1944) — российский общественный и политический деятель, публицист, историк, экономист и философ. Выпускник юридического факультета Петербургского университета (1894), преподавал в университете и в Политехническом институте в Петербурге. Один из организаторов РСДРП, член ЦК партии кадетов, депутат II Государственной думы (1907), академик (1917). Редактор журнала «Полярная звезда» (1905-1906) и «Русская мысль» (1906-1918). С 1920 г. в эмиграции.
12 Mens sana in corpore sano — в здоровом теле, здоровый дух (лат.).
13 Бредихин Федор Александрович (1831-1904) — русский астроном, директор Николаевской Главной астрономической обсерватории в Пулково, академик (1890).
Е.В. Барсов Мнение В. О. Ключевского о Максиме Горьком
Печатается по: У Троицы в Академии. 1814-1914. М., 1914.
М. М. Богословский
Из воспоминаний о В. О. Ключевском
Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 123-130.
Богословский Михаил Михайлович. (1867-1929) — русский историк, ученик В.О. Ключевского, профессор Московского университета, академик (1921).
1 Гиляров Алексей Никитич (1856-1938) — историк античной философии, приват-доцент Московского университета (1885-1887), профессор университета Св. Владимира в Киеве.
2 Брызгалов Алексей Александрович (1844-1888) — помощник проректора Московского университета (1873-1883), инспектор Московского университета (1883-1887).
3 «Учебная книга русской истории» С.М. Соловьева была издана в 1859 г. Впоследствии неоднократно переиздавалась.
4 Делянов Иван Давыдович (1818-1897) — граф, российский государственный деятель. Директор Публичной библиотеки (1861-1882), министр народного просвещения (1882-1897).
Н.А. Колосов
Профессор В. О. Ключевский (Краткий некролог и личные воспоминания)
Печатается по: Душеполезное чтение. 1911. Июль-август. С. 304-316.
Колосов Николай Александрович (1863-?) — выпускник Московской духовной академии, библиотекарь академии (1890-1898), духовный писатель, священник.
1 Речь идет о магистерской диссертации В. О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871).
2 Мильтон Джон (1608-1674) — английский поэт, автор поэмы «Потерянный рай» (1667).
3 Кандидатская (дипломная) работа В.О. Ключевского «Сказания иностранцев о Московском государстве» была опубликована в 1866 г.
4 Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому его учениками, друзьями и почитателями ко дню тридцатилетия его профессорской деятельности в Московском университете (5 декабря 1879-5 декабря 1909 года)(М., 1909).
5 Речь идет о следующих работах В.О. Ключевского: «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства» (Богословском вестнике. 1892. № 11.); «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10.); «Состав представительства на Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б.Н. Чичерину)» (Русская мысль. 1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1.); «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей российских. Кн. 1. 1884.); Западное влияние в России XVII в. Историкопсихологический очерк (Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 36, 38, 39); «Добрые люди древней Руси» (Богословский вестник. 1892. № 1); «Содействии церкви успехам русского гражданского права и порядка» (Творения святых Отцов. 1888. Кн. 4); «Евгений Онегин и его предки» (Русская мысль. 1887. Кн. 2); «Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени» (Русская мысль. 1895. Кн. I.); «Грусть. (Памяти М.Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)» (Русская мысль. 1891. Кн. VII.); «Новооткрытый памятник по истории раскола [Рец. на: Лопарев Х.М. Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей: Вновь найденный старообрядческий трактат против самосожжения 1691 г.]» (Богословский вестник. 1896. № 3).
6 В Абастумане на Кавказе с ноября 1893 г. по апреля 1894 г. и с декабря 1894 по март 1895 г. В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Александровичу(1871-1899).
7 Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834-1912) — историк русской церкви, академик (1902), профессор Московской духовной академии; Субботин Николай Иванович (1827-1905) — профессор Московской духовной академии по кафедре истории и обличения русского раскола, помощник ректора по Церковно-историческому отделению; Лебедев Алексей Петрович (1845-1908) — историк церкви, византинист, профессор по кафедре церковной истории Московской духовной академии.
8 Брестская уния — принятое на соборе в Бресте в 1596 г. решение ряда епископов Киевской митрополии во главе с Киевским митрополитом Михаилом Рогозой присоединиться к Римско-Католической церкви.
9 Митрополит Макарий (Михаил Петрович Булгаков; 1816-1882) — историк церкви и богослов, митрополит Московский и Коломенский (с 1879 г.), академик (1854), автор двенадцатитомной «Истории русской церкви».
10 Крумбахер Карл (1856-1909) — немецкий филолог и византинист, профессор Мюнхенского университета, автор исследования «История визан
тийской литературы от Юстиниана до падения Восточной Римской империи» (Мюнхен, 1890).
11 Митрополит Леонтий (Иван Алексеевич Лебединский; 1822-1893) — выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (1847), профессор и помощник ректора Санкт-Петербургской духовной академии (1847), инспектор и экстраординарный профессор Киевской духовной академии (1847-1852), ректор Санкт-Петербургской семинарии (1859-1860), епископ Ревельский, викарий Санкт-Петербургской (1860-1863), епископ Подольский (1863-1874), архиепископ Херсонский (1874-1875), архиепископ Холмско-Варшавский (1875-1891), митрополии митрополит Московский (1891-1891).
Н. М. Ликин
Памяти В.О. Ключевского
Печатается по: Памяти профессора В. О. Ключевского. Нижний Новгород, 1911. С.6-8.
Ликин Н.М.— историк, сотрудник Нижегородской губернской ученой комиссии, в 1900-е гг. студент Московского университета.
Е.Я. Кизеветтер
Заметки о В.О. Ключевском.
1911 год
(Отрывки из дневника)
Печатается по: Автограф: Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 566. К. 19. Ед. хр. 1. Дневник Кизеветтер Е.Я. 1905-1922. Публикация и комментарии подготовлены Н. В. Гришиной.
Кизеветтер Екатерины Яковлевны — жена историка Александра Александровича Кизеветтера.
Настоящая публикация включает три отрывка из рукописного дневника. Первый фрагмент дневника (Л. 334-335 об.) описывает жизнь В.О. Ключевского за полгода до смерти. Второй фрагмент (Л. 328 об.— 329 об.) написан сразу после смерти историка, в нем идет речь о том, как семья Кизеветтеров восприняла траурную весть. Третий фрагмент (Л. 312-312 об.) представляет собой небольшой написанный карандашом набросок, который автор, видимо, планировала впоследствии доработать. Этот отрывок написан на 9-й день после смерти В. О. Ключевского.
1 Речь идет о хирургической лечебнице доктора Стороженко, куда В. О. Ключевский лег еще 13 ноября 1910 г. В ней ему была проведена операция по извлечению камней из мочевого пузыря.
2 Рахманов Георгий Карпович (1873-1931) — метеоролог, приват-доцент Московского университета, основатель издательства Научное слово.
3 Написано поверх зачеркнутого нему.
4 Написано поверх зачеркнутого относительно.
5 Речь идет о сборнике статей Освобождение крестьян. Деятели реформы (М.: Научное слово, 1911).
6 Слово написано над строкой.
7 Слово написано над строкой поверх зачеркнутого потом.
8 Кизеветтер Александр Александрович (1866-1933) — российский историк, политический деятель, публицист, ученик В.О. Ключевского.
9 Речь идет об А. А. Кизеветтере.
10 Милютин Н иколай Алексееви ч (1818-1872) — государственный деятель, один из главных разработчиков Крестьянской реформы 1861 г. В итоге сборнике Освобождение крестьян. Деятели реформы вышло две статьи А. А. Кизеветтера: 1) Император Александр II и реформа 19 февраля 1861 г.; 2)Н.А. Милютин.
11 Борис Ключевский — сын В. О. Ключевского.
12 Фортунатов Степан Федорович (1850-1918) — историк, публицист, приват-доцент Московского университета.
13 Фраза Батюшки! Говорит Саша написана над строкой.
14 Слово написано над строкой поверх зачеркнутого прямо.
15 Слово написано над строкой поверх зачеркнутого обсуждал с.
16 Слово написано над строкой поверх зачеркнутого в связи.
17 Слово написано над строкой.
18 Слово написано над строкой.
19 Слово написано над строкой.
20 Слово написано над строкой.
21 Слово написано над строкой.
22 Видимо, речь идет о сборнике Главные деятели освобождения крестьян (Под ред. С. А. Венгерова. Бесплатная премия к Вестнику и библиотеке самообразования на 1903 год. СПб., 1903).
23 Корнилов Александр Александрович (1862-1925) — российский историк, общественный деятель.
24 Слово написано над строкой поверх у Рахманова.
25 Фраза у Рахманова на Немецкой улице написана поверх зачеркнутого здесь.
26 Слово написано поверх зачеркнутого в.
27 Русские ведомости — российская общественно-политическая газета, выходившая с 1863 по 1918 г.
28 Далее зачеркнуто на смерть.
29 Далее зачеркнуто какое-то.
30 Далее текст обрывается. В дневнике оставлено место для более поздней вставки.
31 Далее текст обрывается. В дневнике оставлено место для более поздней вставки.
32 Далее зачеркнуто Дни шли.
33 Далее зачеркнуто быстро.
34 Речь идет о магистерской диссертации А. А. Кизеветтера Посадская община в России XVIII столетия, защищенной им 19 декабря 1903 г.
35 Имеются в виду события в Московском университете 1910-1911 гг., в результате которых ректор А. А. Мануйлов и два его помощника профессора М. А. Мензбир и П. А. Минаков, избранные на эти должности Советом университета, подали в отставку и министерство народного просвещения, возглавляемое Д.А. Кассо, уволило их. В знак протеста большая группа профессоров и приват-доцентов покинула университет. В числе отставных оказались А. А. Кизеветтер и С. Ф. Фортунатов.
36 Далее зачеркнуто мирно.
37 Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910) — юрист, профессор Московского университета, один из основателей и лидеров Конституционно-демократической партии, председатель I Государственной думы.
38 Соболевский Василий Михайлович (1846-1913) — юрист, редактор Русских ведомостей.
39 Слово зачеркнуто.
40 Милюков Павел Николаевич (1859-1943) — историк, ученик В.О. Ключевского, публицист, один из лидеров Конституционно-демократической партии.
41 Слово написано поверх зачеркнутого День. Газета Речь — ежедневная газета, печатный орган партии Конституционно-демократической партии. Выходила с февраля 1906 г. до октября 1917 г.
42 Слово написано поверх зачеркнутого День.
43 Имеется в виду Курс русской истории В. О. Ключевского, над котором он продолжал работать, находясь в больнице.
44 Карповы Анна Тимофеевна (сестра известного мецената Саввы Морозова) и Геннадий Федорович (историк, архивист). В.О. Ключевский был с ними дружен и часто бывал в их имении Сушнево.
М. М. Богословский
В.О. Ключевский как ученый
Печатается по: В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания.
М., 1912. С. 26-44.
Богословский Михаил Михайлович (1867-1929) — русский историк, ученик В.О. Ключевского, профессор Московского университета, академик (1921).
М. М. Богословский посвятил В. О. Ключевскому ряд публикаций. Публикуемый очерк с добавлением биографии В. О. Ключевского был переиздан под заглавием «Профессор В. О. Ключевский» в сборнике «Памяти почивших наставников» (Сергиев Посад, 1915. С. 325-356).
1 Сперанский Михаил Михайлович. (1772-1839) — русский общественный и государственный деятель. Сын священника. Обучался во Владимирской епархиальной семинарии и в Александро-Невской семинарии.
2 Крылов Никита Иванович (1807-1879) — профессор кафедры римского права Московского университета.
3 Леонтьев Павел Михайлович (1822-1874) — профессор греческой словесности Московского университета, член-корреспондент Академии наук (1856).
4 Исследование Б. Н. Чичерина «Областные учреждения России в XVII в.» вышло в 1857 г., «Опыты по истории русского права» — в 1859 г.
5 «Краткое пособие по русской истории. Частное издание только для слушателей автора» впервые было опубликовано в Москве в 1899 г.
f i Аксаков Константин Сергеевич (1817-1860) — философ, поэт, историк, языковед, публицист славянофильского направления.
7 Никитский Александр Иванович (1842-1886) — русский историк, профессор Варшавского университета.
8 Неволин Константин Алексеевич (1806-1855) — русский юрист, профессор и ректор университета Св. Владимира в Киеве, профессор и декан юридического факультета Петербургского университета.
9 Сергеевич Василий Иванович (1832-1911) — историк права, профессор Московского и Петербургского университетов, декан юридического факультета (1888-1897), ректор Петербургского университета (1897-1899).
10 Дитятин Иван Иванович (1847-1892) — историк права, государ-ствовед. Профессор Харьковского (1878-1887) и Дерптского (1889-1890) университетов.
11 Речь идето статье В. О. Ключевского «Состав представительства на Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б.Н. Чичерину)» (Русская мысль. 1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1) и его докторской диссертации «Боярская Дума в Древней Руси» (М., 1882).
12 Исследование В.О. Ключевского «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» впервые было опубликовано в «Московских университетских известиях» (1867-1868. № 7).
13 Исследование В. О. Ключевского «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его от--ошении к нынешнему» впервые было опубликовано в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских» (1884. Кн. 1).
14 Лекция В. О. Ключевского «Евгений Онегин и его предки» была прочитана на заседании Общества любителей российской словесности 1 февраля 1887 г. и впервые была опубликована в журнале «Русская мысль» (1887. Кн. 2).
С. Ф. Платонов
Памяти В.О. Ключевского
Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912.
Платонов Сергей Федорович (1860-1933) — русский историк, профессор Петербургского университета (1890-1925), декан историко-филологического факультета (1900-1905), директор Женского педагогического института (1903-1916), председатель Археографической комиссии (1918-1929), директор Пушкинского дома, директор Библиотеки АН, академик (1920).
1 Речь идет о следующих статьях В. О. Ключевского «Состав представительства на Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 1890. Кн. I; 1891. Кн. I; 1892. Кн. I); «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. Кн. VIII, X) и «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. Кн. V, VII, IX, X).
2 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей российских. Кн. 1. 1884).
3 «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину» В.О. Ключевского впервые была опубликована в журнале «Русская мысль» (1880. Кн. VI) и в том же году в книге «Венок на памятник Пушкину» (СПб., 1880). 1 февраля 1887 г. Ключевский прочитал в «Обществе любителей российского словесности» доклад «Евгений Онегин и его предки», опубликованный в журнале «Русская мысль» (1887. Кн. II), а 26 мая 1899 г. в связи со столетием со дня рождения А. С. Пушкина Ключевский произнес в торжественном заседании Московского университета речь «Памяти А. С. Пушкина», которая впервые была опубликована лишь в 8 томе «Сочинений» В.О. Ключевского (М., 1959).
4 Речь идет о следующих работах Ключевского: речи «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства» (Богословский вестник. 1892. № 11) и публичной лекции «Добрые люди древней Руси» (Богословский вестник. 1892. № 1).
5 Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) — пятый сын императора Александра II, Московский военный генерал-губернатор (1891-1905). Погиб от бомбы террориста И. Каляева.
6 В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Александровичу (1871-1899) в Абастумане на Кавказе с ноября 1893 г. по апрель 1894 г. и с декабря 1894 г. по март 1895 г.
7 «Курс русской истории» В.О. Ключевского печатался частями с 1904 по 1910 г. Пятую часть автор не успел до конца подготовить, и она издавалась на основе литографированных и рукописных материалов в 1921, 1937 и 1958 гг.
8 Статья «Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)» была опубликована в журнале «Русская мысль» (1891. № 7).
9 Речь Ключевского «Памяти в бозе почившего государя им. Александра III» была прочитана в заседании Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете 18 октября 1894 г. и издана отдельной брошюрой.
С. Д. Яхонтов
12 мая 1911 г.
Памяти В.О. Ключевского
Печатается по: Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Т. XXV.
Вып. I. Рязань. 1912. С. 75-79.
Яхонтов Степан Дмитриевич (1853-1942) — краевед, архивист, педагог, выпускник Московской духовной академии, редактор «Трудов Рязанской ученой архивной комиссии» (с 1894), председатель Рязанской ученой архивной комиссии (1905), директор Рязанского краеведческого музея.
1 Фабр Жан Анри (1823-1915) — французский энтомолог, автор десятитомных «Энтомологических воспоминаний» (1878-1909).
111 В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ
А. С. Лаппо-Данилевский
Исторические взгляды В.О. Ключевского
Печатается по: В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С.117-144.
Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863-1919) — русский историк, академик.
1 Кудрявцев Петр Николаевич (1816-1858) — русский историк и литератор, профессор Московского университета (1847-1856).
2 Ешевский Степан Васильевич (1829-1865) — русский историк, профессор кафедры русской истории Казанского университета (1855-1857) и кафедры всеобщей истории Московского университета (1858-1865).
3 Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787-1874) — французский историк, критик, политический и государственный деятель.
4 Бокль Генри Томас (1821-1862) — английский историк, автор «Истории цивилизации в Англии».
5 Исследование Ключевского «Сказания иностранцев о Московском государстве» было опубликовано в Москве в 1866 г.
6 Речь идет о работе Ключевского над магистерской диссертацией «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871).
7 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Состав представительства на Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1).
8 Речь идет о статьях В. О. Ключевского «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10) и «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10).
9 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей российских. Кн. 1. 1884).
Записка об ученых трудах ординарного профессора Императорского Московского университета
В.О. Ключевского
Печатается по IV приложению к протоколу заседания Общего Собрания Академии 2 сентября 1900 г. «Записка» была составлена академиком А. С. Лаппо-Данилевским, о чем свидетельствует рукописный оригинал (СПФА РАН.Ф. 2. Оп. 17. № 103. Л. 11-22.) и кроме А.С. Лаппо-Данилевского была подписана академиками К. Веселовским, В. Радловым, К. Залеманом и Н. Дубровиным. К «Записке» был приложен и список трудов В. О. Ключевского.
1 Загоскин Николай Павлович (1851-1912) — русский историк, юрист, профессор Казанского университета. Речь идет об исследовании Н. П. Загоскина «История права Московского государства: Т. 2: Центральное управление Московского государства. Вып. I. Боярская Дума — Приказы» (Казань, 1879).
2 Речь идет о статьях В.О. Ключевского «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10) и «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10).
3 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Состав представительства на Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б.Н. Чичерину)» (Русская мысль. 1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1).
4 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей российских. Кн. 1. 1884).
5 Ключевский В.О. Западное влияние в России XVII в. Историко-психологический очерк // Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 36, 38, 39.
В. М. Хвостов
Историческое мировоззрение В.О. Ключевского
Печатается по: Хвостов В.М. Историческое мировоззрение В.О. Ключевского. Москва. Типография Императорского Московского Университета, 1910.
Хвостов Вениамин Михайлович (1868-1920) — русский правовед, историк и социолог, выпускник юридического факультета Московского университета (1889), профессор римского права Московского университета (1899-1911, 1917-1920), Высших женских курсов и Народного университета А. Л. Шанявского, сопредседатель Московского психологического общества, один из организаторов Научного института, представитель русского неокантианства.
Брошюра В. М. Хвостова — одна из немногих прижизненных работ, посвященных анализу исторической концепции В. О. Ключевского. В. О. Ключевский был знаком с исследованием В. М. Хвостова. В библиотеке историка сохранился экземпляр книги с пометками В. О. Ключевского.
В работе даются ссылки на издание «Курса русской истории» В. О. Ключевского: Ч. I (3-е изд. М., 1908), Ч. II (М., 1906), Ч. Ill (М., 1908), Ч. IV (М., 1910). В тексте в скобках указывается номер части «Курса» и страница. Издание докторской диссертации В.О. Ключевского «Боярская дума древней Руси» (4-е изд. М., 1909).
1 Риккерт Генрих (1863-1936) — немецкий философ, один из лидеров Баденской школы неокантианства, профессор Фрейбургского (с 1894 г.) и Гейдельбергского (с 1916 г.) университетов, разрабатывал теорию ценностей. «Философия истории» вышла на немецком языке в 1905 г.
2 Вундт Вильгельм Максимилиан (1832-1920) — немецкий психолог, основатель экспериментальной психологии, занимался также социальной психологией и психологией народов.
3 Герберштейн Сигизмунд фон (1486-1566) — австрийский барон и дипломат. Дважды посещал Московское государство (в 1517 и 1526 гг.), оставил «Записки о Московии».
А. А. Кизеветтер
Ключевский и «социализация» классиков
Печатается по: Свобода России. 25 (12) мая 1918 г. № 34.
Кизеветтер Александр Александрович (1866-1933) — русский историк, профессор Московского и Пражского университетов. Деятель партии кадетов. Ученик В.О. Ключевского.
1 Гершензон Михаил Осипович (1869-1925) — литературовед, историк русской культуры и переводчик.
2 Сакулин Павел Никитич (1868-1930) — русский филолог, литературовед, историк русской мысли.
Л. И. Львов
Ключевский о России
Печатается по: Свобода России. 25 (12) мая 1918 г. № 34.
Львов Лоллий Иванович (1888-1967) — поэт, прозаик, историк литературы, литературный и художественный критик, журналист.
1 Струве П. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет (1905-1910). СПб., 1911. С. 200-202. Струве Петр Бернгардович (1870-1944) — русский философ, экономист, публицист и общественный деятель.
2 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть III.М., 1908. С. 5, 11.
3 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть I.M., 1904. С. 39-40.
4 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть IV. М., 1910. С. 285-286.
5 Там же. С. 296.
6 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть III. М., 1908. С. 13-14.
7 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть IV. М., 1910. С. 291.
8 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть III.М., 1908. С. 2.
9 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть II. М., 1906. С. 276.
10 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть I. М., 1904. С. 71.
11 Закон об учреждении Государственной думы (1905) был разработан комиссией под председательством министра внутренних дел А. Г. Булыгина (1851-1919).
12 «Значение преподобного Сергия Радонежского для русского народа и государства. Речь, произнесенная на торжественном собрании Московской духовной академии 26 сентября 1892 г.» впервые была опубликована в журнале «Богословский вестник» (1892. № 1).
13 Ключевский В.О. Очерки и речи. М., 1913. С. 202.
14 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть I. М., 1904. С. 385.
М. К. Любавский
Соловьев и Ключевский
Печатается по: В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания.
М., 1912. С. 45-68.
Любавский Матвей Кузьмич (1860-1936) — русский историк, архивист, профессор Московского университета (1894 -1930), декан историко
филологического факультета (1908-1911), ректор Московского университета (1911-1917), академик (1929). Ученик В. О. Ключевского.
1 Вейнберг Яков Игнатьевич (1825/6-1896) — педагог и естествоиспытатель, окружной инспектор Московского учебного округа (1870-1885), вице-президент Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.
2 Чеботарев Харитон Андреевич (1745-1815) — профессор Московского университета, первый выборный ректор Московского университета, первый председатель Московского общества истории и древностей российских, член-основатель Московского общества испытателей природы. В разные годы преподавал историю и географию, русский язык, состоял профессором по кафедре логики и нравоучения.
3 В «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина изложение событий доведено до 1612 г.
4 Защита магистерской диссертации Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» состоялась в Московском университете 26 января 1872 г.
5 In verba magistri — по словам мастера (лат.).
А. Александров (М.С. Ольминский)
В. Ключевский
Печатается по: Александров А. (Ольминскрй М.С.). Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России. СПб., 1911. С. 68-77.
Ольминский (настоящая фамилия Александров) Михаил Степанович (1863-1933) — российский политический деятель. Один из создателей группы народовольцев, с 1904 г. большевик, редактор ряда партийных газет. Руководитель Истпарта (1920-1924), председатель Общества старых большевиков, основатель и редактор журнала «Пролетарская революция». С 1928 г. член дирекции Института В. И. Ленина. Руководил изданием трудов В. И. Ленина и Г. В. Плеханова, материалов по истории революционного движения.
1 Романович-Славатинский Александр Васильевич (1832-1910) — историк права, профессор университета Св. Владимира в Киеве. Автор трудов: «Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права» (1870), «Пособие для изучения русского государственного права по методу историкодогматическому» (1871-1872), «Система русского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы» (1886).
2 Самарин Юрий Федорович (1819-1876) — философ-славянофил и общественный деятель.
Д.А. Корсаков
По поводу двух монографий В.О. Ключевского
Печатается по: Исторический вестник. 1911. № 10. С. 236-251.
Корсаков Дмитрий Александрович (1843-1919) — русский историк, профессор Казанского университета (с 1881 г.), декан историко-филологического факультета Казанского университета (1900-1905), член-корреспондент Академии наук (1905). Племянник К. Д. Кавелина.
1 Щербатов Михаил Михайлович (1733-1790) — князь, русский историк и публицист. Член Комиссии по составлению нового Уложения, президент Камер-коллегии и сенатор. Автор «Истории Российской от древнейших времен».
2 Д.А. Корсаков имеет в виду следующие журналы: «Русский вестник», издававшийся М.Н. Катковым и П.М. Леонтьевым в Москве (1856-1887) и Петербурге (1887-1906); «Современник» (1847-1866), руководителем которого с 1853 г. стали Н.А. Некрасов и Н.Г. Чернышевский, а с 1856 г. Н. А. Добролюбов; «Отечественные записки», издававшийся в Петербурге А. А. Краевским с 1839 по 1868 г., а затем переданным им Н.А. Некрасову; «Атеней», издававшийся в Москве Е. Коршем с 1858 по 1859 г.; «Русская беседа», издававшийся в Москве с 1858 по 1860 г. А. И. Кошелевым и редактировавшийся в разное время Т.Н. Филипповым, П. И. Бартеневым, М. А. Максимовичем и И.С. Аксаковым; «Сельское благоустройство», издававшийся в 1858-1859 гг. А. И. Кошелевым; «Колокол», издававшийся в 1858-862 гг. в Лондоне А. И. Герценом и Н. П. Огаревым.
3 Ешевский Степан Васильевич (1829-1865) — русский историк, профессор кафедры русской истории Казанского университета (1855-1857) и кафедры всеобщей истории Московского университетов (1858-1865).
4 Тихонравов Николай Савич (1832-1893) — русский филолог, археограф, историк русской литературы, профессор Московского университета (1859-1889), академик (1890).
5 Бодянский Осип Максимович (1808-1877) — филолог-славист, историк, археограф, поэт и переводчик. Профессор Московского университета (1842-1868) с перерывом в 1849 г., член-корреспондент Академии наук (1854).
6 Лешков Василий Николаевич (1810-1881) — русский историк права славянофильского направления. Профессор кафедры международного, а затем полицейского права Московского университета. Первый председатель Юридического общества, редактор «Юридического вестника» и «Юридической газеты».
7 Эверс Иоганн Филипп Густав фон (178-1830) — российский историк немецкого происхождения, профессор Дерптского университета (с 1810 г.), ректор Дерптского университета (с 1818 г.), почетный член Петербургской академии наук (1826). На становление государственной школы повлияла его работа
«Das alteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen Entwicklung» (1826), вышедшая в русском переводе в Петербурге в 1835 г. под заглавием «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии»,
8 Калачов Николай Васильевич (1819-1885) — русский историк и правовед, археограф и архивист, профессор кафедры истории русского законодательства Московского университета (1848-1852), директор Московского архива министерства юстиции (1865-1885).
9 Дмитриев Федор Михайлович (1829-1894) — историк и правовед, общественный деятель, профессор кафедры иностранных законодательств Московского университета (1859-1868), попечитель Петербургского учебного округа (1882-1886), сенатор.
10 Павлов Платон Васильевич (1823-1895) — русский историк, профессор университета Св. Владимира в Киеве (1847-1859, 1875-1885), профессор Петербургского университете (1861-1862), преподаватель Константиновского военного училища.
И. Н. Бороздин
Памяти В.О. Ключевского (Умер 12 мая 1911 года)
Печатается по: Современный мир. 1911. № 5. С, 309-312.
Вороздин Илья Николаевич (1883-1959) — историк и литературный критик. Закончил историко-филологический факультет Московского университета. Преподавал в Ашхабаде, профессор Воронежского университета (1948-1959).
1 Quellenforschungen — исследование источников (нем.).
2 И. Н. Бороздин имеет в виду следующие работы В.О. Ключевского: «Древнерусские жития святых» (М., 1871); «Боярская дума древней Руси» (М., 1882); «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» (Московские университетские известия. 1867-1868. № 7); «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10) «Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства» (Богословский вестник. 1892. № 11); «Императрица Екатерина II (1729-1796)» (Русская мысль. 1896. Кн, 11); «Евгений Онегин и его предки» (Русская мысль. 1887. Кн. 2); «Недоросль Фонвизина (Опыт исторического объяснения учебной пьесы)» (Искусство и наука. 1896. № 1).
Я. Л. Барское
Василий Осипович Ключевский [Не позже 12 мая 1921 г.]
Печатается по: Исторический архив. 2004. № 1. С. 56-68. Подготовка текста и примечания Р. А. Киреевой.
Барское Яков Лазаревич (1863-1937) — историк, ученик В. О. Ключевского, редактор журнала «Искусство и наука», в 1920-1930-е годы — действительный член Государственного института научной педагогики.
Доклад Я. Л. Барскова, посвященный памяти учителя, приурочивался автором к 10-й годовщине со дня смерти В.О. Ключевского, точный даты не содержит. Отсюда условная датировка рукописи: до мая 1921 г.
1 Далее зачеркнуто: «свою первую диссертацию».
2 Далее зачеркнуто: «всюду его любили, всюду».
Далее зачеркнуто: «при шумной овации, устроенной и профессорами, и студентами, и публикой».
3 Четыре слова написаны над зачеркнутым «вызывала отрицательное к нему отношение».
4 Три слова написаны над зачеркнутым: «начал общий курс».
5 Далее зачеркнуто: «с древнейших времен».
8 Семь слов написаны над зачеркнутым: «студенчества. Это внимание длилось благодаря второй диссертации».
7 Далее зачеркнуто: «при шумной овации, устроенной и профессорами, и студентами, и публикой».
8 Шесть слов написаны над зачеркнутым: «до поступления в университет знал, что значит слушать».
9 Пять слов написаны над зачеркнутым: «лег в основу нового направления».
]0 Далее зачеркнуто: «А между тем этот именно текст прокладывает новый путь для русской историографии и проводит грань между старой и новой школой».
11 Котляревский Нестор Алексеевич (1863-1925) — литературовед.
12 Имеется в виду историко-юридическая школа.
13 Над зачеркнутым: «Кавелин».
14 Восстановлено по второму докладу Я. Л. Барскова, где более полно написано о том же.
15 В рукописи ошибочно: «с ног на голову».
16 Далее зачеркнуто: «Курс, I, 428».
17 Далее двенадцать слов написаны над зачеркнутым: «На разработке этой связи порядка с отношением и сосредоточил все свое внимание гениальный основатель».
18 Два слова написаны над: «А социальная».
19 Восемь слов написано над: «в наши дни стало общеизвестным и общепринятым. Не так отчетливо выступали».
20 Девять слов написаны вместо зачеркнуто: «Когда мы вчитывались в исследование Ключевского о боярской думе, земских соборах, крепостном праве, мы узнавали, что очередной порядок княжеского владения опирался на города и волости, что удельный порядок был одним из политических следствий колонизации Верхнего Поволжья. Словом».
21 Далее зачеркнуто: «общественных классов выдвигались на первый план. Давно знакомые явления — города и княжества Киевской Руси, уделы,
Московское государство, земские соборы, опричнина, смута, крепостное право, реформа Петра — все получало новый смысл, выступало в новом свете».
22 Два слова написаны над зачеркнутым: «думали мы под влиянием Ключевского».
23 Семь слов написано вместо зачеркнутых: «Не случайно свое и наше внимание задерживал Василий Осипович на судьбах боярства и дворянства как господствующих, правящих классов, лишь на фоне дворянского, а не только царского самовластия, можно понять как».
24 Далее зачеркнуто: «Не по одним только именам на корешках я знал Карамзина».
25 Над зачеркнутым: «Соловьева». ПыпинАлександрНиколаевич(1833-1904)— литературовед.
26 Андреевский Иван Ефимович (1831-1891) — историк права.
27 Абзац написан над зачеркнутым: «Изучая их летом и даже в течение нового академического года, я живо чувствовал, как трудно примирить известные мне взгляды Василия Осиповича с традицией старой юридической школы. Привожу это воспоминание, чтобы на личном примере показать, как мы относились к лекциям Василия Осиповича».
28 Имеется в виду Алексей Михайлович (1629-1676) — с 1645 г. царь.
29 Аввакум Петрович (1620/21-1682) — протопоп, писатель.
30 Написано вместо: «творцом царя Алексея или патриарха Никона, наряду с историей; это его собственные создания те лица, которые он выдвигал на историческую сцену, чтобы привлечь внимание слушателя, объяснить ему понимание фактов. Казалось, Ключевский сам видел то, о чем говорил. Одна из слушательниц пишет». Никон (Минов Никита) (1605-1681) — патриарх с 1652 г.
31 Написано вместо: «[не] гудел, раздражая ухо, в тесной аудитории университета, в Нижней словесной, где мы собирались для практических занятии, и голос-то, в сущности, был слабым, но он везде был слышан благодаря тому же мастерству, с которым читает или, вернее сказать, говорит здесь в Петербурге другой знаменитый русский историк С. Ф. Платонов».
32 Далее зачеркнуто: «я не сомневаюсь, что издание было бы выполнено; скоро исполнится 10 лет с тех пор, как скончался Василий Осипович. Я был бы рад, если бы».
33 Далее в рукописи: « Некоторые сведения об этом последнем я предложу вам после пятиминутного перерыва». В рукописи отсутствует следующий, 26-й лист.
34 Далее зачеркнуто: «не все его участки были равномерно разработаны по первоисточникам; волей-неволей приходилось брать материал из вторых рук, довольствоваться чужими работами. Были и такие темы, которые требовали переработки готового текста, или новые исследования, а между тем Василий Осипович был занят текущей и сложной работой, иапример, “земскими соборами”, “крепостным правом”».
35 Далее зачеркнуто. «Меня живо интересовали в этой мозаике ссылки на материал и на литературу. Некоторое понятие об этих ссылках дают “Приложения” к частям 3-й и 4-й во 2-м издании».
36 Фраза исправлена из: «Очень любопытный вывод получаете, если сравнить некоторые отделы литографированного издания».
37 Написано над зачеркнутым: «В настоящее время — это младенческий лепет начинающего мыслить марксиста, тогда».
38 В рукописи Я. Л. Барскова эта цитата не приведена. Видимо, он предполагал зачитать ее в ходе доклада по книге. Восстановлена по тексту В. О. Ключевского.
39 Исправлено из: «Чуть не сорок лет назад, я помню, мы вслушивались в эти слова».
40 Позднее автор зачеркнул этот текст.
41 Исправлено из: «не изгладился в моей памяти этой изумительной лекции. Переполненная аудитория была вся во власти лектора, и я даже в настоящую минуту испытываю некоторое волнение, вспоминая далекую старину. Но и эта лекция, которую мы считали неподражаемой, подверглась переработке в последнем издании. Приведу лишь».
42 Этот текст в рукописи не воспроизведен.
43 Голицын Василий Васильевич (1643-1714) — князь, государственный деятель.
44 Далее приписка: «Приведу несколько отрывков из печатного издания 3-й части». На этом рукопись заканчивается.
И. А. Линниченко
Василий Осипович Ключевский
Печатается по: Линниченко И. А. Василий Осипович Ключевский.
Одесса, 1911.
Линиченко Иван Андреевич (1857-1926) — русский историк и историк литературы, критик украинского национализма. Профессор Новороссийского университета (Одесса) (1884-1919), впоследствии профессор Таврического университета (Симферополь). Член-корреспондент Академии наук (1913).
1 Докторская диссертация Ключевского «Боярская дума древней Руси» опубликована отдельной книгой в 1882 г.
2 Статья Ключевского «Евгений Онегин и его предки» была опубликована в журнале «Русская мысль» (1887. Кн. II).
3 Статья Ключевского «Состав представительства на Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» была опубликована в журнале «Русская мысль» (1890. Кн. I; 1891. Кн. I; 1892. Кн. I).
4 Хвостов Михаил Михайлович (1868-1920) — русский правовед, историк и социолог, профессор римского права Московского университета. Последователь неокантианства. В 1910 г. в Москве Хвостов издал брошюру «Историческое мировоззрение В. О. Ключевского».
5 В тексте указываются ссылки на первое издание «Курса русской истории» В. О. Ключевского: Часть 1(М., 1904), Часть II (М., 1906).
6 Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885) — русский мыслитель, представитель позднего славянофильства, автор сочинения «Россия и Европа» (1871).
7 Circulus viciosus — порочный круг (лат.).
8 Tout Moscou — всю Москву (фр.).
9 Усов Сергей Алексеевич (1827-1886) — русский зоолог, историк искусства и археолог, профессор Московского университета (с 1868 г.).
10 Антонович Владимир Бонифатьевич (1834-1908) — украинский историк, этнограф, археолог, профессор русской истории университета Св. Владимира в Киеве (с 1878 г.), член-корреспондент Академии иаук (1901).
М.В. Клочков
Из траурных воспоминаний.
В.О. Ключевский (1839-1911)
Печатается по: Современник. 1911. № 5. С. 344-353.
Клочков Михаил Васильевич (1877-1951) — русский историк. Выпускник Юрьевского университета (1903). Работал старшим архивариусом в Сенатском архиве, одновременно преподавал в Петербургском университете и Александровском лицее. В 1911 г. защитил магистерскую диссертацию «Наследие России при Петре Великом», а в 1916 г. докторскую диссертацию «Очерки правительственной деятельности времени Павла I». С 1913 г. экстраординарный профессор Харьковского университета. С 1920 г. профессор и декан социально-исторического факультета Кубанского университета. Преподавал также в Кубанском политехническом институте, работал в Архивном управлении, был директором Научно-исследовательского института экономики и культуры. В начале 1930-х гг. работал старшим консультантов Наркомхоза. В 1934 г. был арестован. В 1939-1940 гг. преподавал в Архангельском пединституте, ас 1944 г. в Ростовском университете.
1 Ключевская (урожд. Бородина) Анисья Михайловна (1837-1909) — жена В. О. Ключевского
2 Здесь ошибка: отдельное издание «Боярской думы древней Руси» вышло в 1882 г.
3 Второй том «Русских юридических древностей» В.И. Сергеевича выходил двумя выпусками (Вып. 1. 1893; Вып. 2. 1896).
4 Паткин Василий Николаевич (1858-1927) — историк права, профессор Петербургского университета.
5 Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому его учениками, друзьями и почетателями ко дню тридцатилетия его профессорской деятельности в Московском университете (5 дек. 1879-5 дек. 1909 г.). В 2 ч. М., 1909.
6 Шахматов Алексей Александрович (1864-1920) — русский филолог и историк, академик (1899), профессор Петербургского университета (с 1910 г.). Посвятил ряд исследований русским летописям: «Разыскания о древнейших русских летописных сводах» (СПб., 1908), «Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв.» (М.; Л., 1938) и др.
7 Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869-1908) — русский историк. Выпускник Петербургского университета, работал в министерстве иностранных дел, профессор Высших женских курсов. Автор исследований «Феодализм в Древней Руси» (1907); «Феодализм в удельной Руси» (1910).
3 Дьяконов Михаил Александрович (1855-1919) — русский историк, профессор Дерптского университета и Политехнического института в Петербурге, академик (1912).
Б. И. Сыромятников
В. О. Ключевский и Б. Н. Чичерин
Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания.
М., 1912. С. 69-93.
Сыромятников Борис Иванович (1874-1947) — историк русского права, доктор юридических наук (1938), выпускник юридического факультета Московского университета, приват-доцент кафедры государственного права, экстра-ординарный профессор кафедры истории русского права Константиновского Межевого института (1906-1922), преподавал на Высших женских юридических курсах, в Московском коммерческом институте, в Казанском университете, декан общественно-философского отделения Университета им. А. Л. Шанявского, один из основателей Московского общества народных университетов, заведующий секцией государственного права Института государства и права АН СССР (с 1938 г.).
1 Implicite — неявно (фр.).
2 Савиньи Фридрих Карл фон (1779-1861) — немецкий историк и правовед, основатель «исторической школы права».
3 Статья К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» была опубликована в первом номере журнала «Современник» за 1847 г. по инициативе В. Г. Белинского. В основе статьи был положен курс лекций К. Д. Кавелина по истории русского права в Московском университете. Статья стала программным документом как «государственной школы», так и русского западничества, поскольку в ней была сформулирована антиславя-нофильская концепция русской истории, вызвавшая полемику со стороны славянофилов (А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин).
' Spiritus movens — движущий дух (лат..).
5 Статья М. П. Погодина «Параллель русской истории с историей европейских государств относительно начала» была опубликована в январском номере журнала «Москвитянин» за 1845 г.
6 Quantity negligeable — незначительное количество (фр.).
7 Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829-1897) — русский историк, выпускник Московского университета, ученик С. М. Соловьева, профессор Петербургского университета (1865-1882), академик (1890).
8 Речь идет об ответе Б. Н. Чичерина на «Критические замечания, высказанные профессором [Н. И.] Крыловым на публичном диспуте в Московском университете 21 декабря 1856 года на сочинение г. Чичерина “Областные учреждения в России в XVII веке”» (М., 1857).
9 Petitio principia — предвосхищение основания (лат.).
10 Речь идет о статьях В.О. Ключевского «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10) и «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10).
11 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Состав представительства на Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1).
12 Кузен Виктор (1792-1867) — французский философ и политический деятель; Гердер Иоганн Готфрид (1744-1803) — немецкий мыслитель, поэт, критик, историк культуры, один из крупнейших представителей эпохи «Бури и натиска».
13 Конт Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье (1798-1857) — французский философ, родоначальник позитивизма и основоположник социологии; Милль Джон Стюарт (1806-1873) — английский философ и экономист, последователь позитивизма; Спенсер Герберт (1820-1903) — английский философ, один из основоположников социологии.
11 Под «риккертовской школой» имеется в виду баденская школа неокантианства, одним из лидеров которой был немецкий философ Генрих Риккерт (1863-1936).
15 Bahnbrechenden — новаторским (нем.).
Ю. И. Айхенвальд
Ключевский мыслитель и художник
Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания.
М., 1912. С. 117-144.
Айхенвальд Юлий Исаевич (1872-1928) — литературный критик, публицист. Сотрудник журналов «Вопросы философии и психологии» и «Русская мысль».
1 Ницше Фридрих (1844-1900) — немецкий философ.
2 Гюго Виктор Мари (1802-1885) — французский писатель, автор романа «Человек, который смеется» (1869).
3 Юлиания (Ульяна) Лазаревская (ок. 1533-1604) — русская святая.
4 Ртищев Федор Михайлович (1626-1673) — русский государственный деятель, основал ряд больниц, школ и богаделен, за что получил от современников прозвище «милостивого мужа».
5 Анна Иоанновна (1693-1740) — российская императрица (1730-1740) из династии Романовых; Бирон Иоганн Эрнст (1690-1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны.
6 Caveant consoles! — «Пусть консулы будут бдительны!» (лат.).
7 Иоллос Григорий Борисович (1859-1907) — российский публицист, сотрудник «Русских ведомостей», депутат! Государственной думы от партии кадетов. Убит 14 марта 1907 г. черносотенцами. В газете «Русские ведомости» (1907. 16 марта. № 61) Ключевский опубликовал заметку «Памяти Г. Б. Иоллоса».
8 Герценштейн Михаил Яковлевич (1859-1906) — российский экономист и политический деятель, депутат I Государственной думы от партии кадетов. Убит 18 июля 1906 г. черносотенцами.
9 Епифаний Премудрый (ум. ок. 1420) — православный святой, составитель житий преподобного Сергея Радонежского и Стефана Пермского.
10 In medias res — в середину дела (лат.).
11 Нестор Летописец (конец XI — начало XII) — древнерусский писатель и агиограф. Канонизирован русской православной церковью.
12 Фонвизин Денис Иванович (1745-1792) — русский писатель, комедиограф.
13 Посошков Иван Тихонович (1652-1726) — русский экономист, предприниматель и публицист. Автор «Книги о скудости и богатстве» (1724).
14 Шуйский Василий (1552-1612) — русский царь (1606-1610).
15 Юрий Иванович (1480-1536) — удельный князь Дмитровский, второй сын Ивана III и Софьи Палеолог.
16 «Единственный и его собственник» — книга немецкого философа М. Штирнера (1806-1856), опубликованная в 1844 г. и ставшая своеобразным манифестом анархо-индивидуализма.
17 Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — русский религиозный философ, поэт и публицист; Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865-1941) — русский философ, поэт, писатель.
18 Рахманов Георгий Карпович (1873-1931) •— профессор Московского университета, издатель журнала «Научное слово» и газеты «Московская неделя» («Московский еженедельник»),
В. И. Пичета
Исторические взгляды
и методологические приемы В.О. Ключевского
Печатается по: Известия общества славянской культуры. М., 1912.
Т. I. Кн. 1. С. 13-29.
Пичета Владимир Иванович (1878-1947) — российский историк, ученик В. О. Ключевского, приват-доцент, затем профессор Московского университета
(1910-1911, 1917-1921), ректор Белорусского государственного университета (1921-1929), старший научный сотрудник Института истории АН СССР (с 1937 г.), профессор Московского педагогического института им. В. И. Ленина (с 1938 г.), заместитель директора Института славяноведения АН СССР (с 1946 г.), академик (1946).
1 Кандидатская (дипломная) работа Ключевского «Сказание иностранцев о Московском государстве» первоначально была напечатана частями в 1866 г. в «Ученых записках Московского университета» и в том же году вышла отдельным изданием.
2 Речь идет об исследованиях историка русского права казанского профессора Н.П. Загоскина: «Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси» (Казань, 1875), «История права Московского государства: Т. 1: Введение. Внешняя история права. О верховной власти в Московском государстве и о земских соборах» (Казань, 1877), «История права Московского государства: Т. 2: Центральное управление Московского государства. Вып. I. Боярская Дума — Приказы» (Казань, 1879).
3 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Состав представительства па Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 1890. Кн. I; 1891. Кн. I; 1892. Кн. I).
4 Речь идет о статьях В.О. Ключевского «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. Кн. VIII, X.) и «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. Кн. V, VII, IX, X).
А. Р. Ледницкий
В.О. Ключевский как историк-славянин
Печатается по: Известия общества славянской культуры. М., 1912.
Т. I. Кн. 1. С. 1-8.
Ледницкий Александр Робертович (1866-1934) — польский адвокат, журналист и общественный деятель, сотрудник «Русских ведомостей», «Русской мысли», «Московского еженедельника», «Речи»; один из основателей партии кадетов и член ЦК (1905-1916), член I Государственной думы (1906); член президиума Комитета помощи голодающим в России (1921-1922).
1 Руссо Жан Жак (1712-1778) — французский философ, писатель и композитор, представитель сентиментализма; Кант Эммануил (1724-1804) — немецкий философ.
2 Новгородцев Павел Иванович (1866-1924) — русский философ и правовед, политический и общественный деятель. Профессор Московского университета, ректор Московского коммерческого института (1906-1917), член ЦК партии кадетов.
3 Ключевский В.О. Памяти С. М. Соловьева // Научное слово. 1904. Кн. 8.
4 Шафарик Павел Йозеф (1795-1861) — словацкий и чешский славист, историк и поэт, деятель национального возрождения. П. Й Шафарику был
посвящено выступление В.О. Ключевского «Речь при открытии заседания Императорского Общества истории и древностей российских 18 мая 1895 г. в память П.Й. Шафарика» (Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 1896. Кн. IV. С. 26-27).
5 Requiem aeternam — реквием, месса мертвых (лат.).
8 Gloria victis — слава побежденным (лат.).
7 Добровский Иосиф(ПЫ-1^29) — чешский филолог-славист, литературовед, историк, фольклорист, деятель национального возрождения.
8 Прохазка Франтишек Фаустин (1849-1809) — переводчик Библии на чешский язык; Крамериус Вацлав Матфей (1753-1808) — чешский писатель, журналист и издатель; Пухмайер Антонин Ярослав (1769-1820) — чешский поэт, филолог-славист.
9 Ганка Вацлав (1791-1861) — чешский филолог, поэт, деятель национального возрождения. Ганкой были изготовлены подложные Краледворская и Зеленогорская рукописи, «обнаруженные» в 1817 и 1818 гг., включающие славянский эпос. Другое название Зеленогорской рукописи — «Суд Любуши».
10 «История чешского языка и литературы» И. Добровского была опубликована в Праге в 1792 г., второе издание вышло в 1818 г.
11 Коловрат-Либштейнский Франц Антон фон (1778-1861) — австрийский государственный деятель, губернатор Чехии, глава правительства Австрии (1848), президент Королевского чешского научного общества и основатель Чешского национального музея.
12 Sursum corda — горе сердца (лат.).
В. В. Розанов
Ключевский
(К 75-летию со дня рождения)
Печатается по: Колокол. 22.1.1916. № 2908. Подпись: В. Ветлугин.
Розанов Василий Васильевич (1856-1919, Сергиев Посад) — русский религиозный философ, литературный критик и публицист.
1 Ключевская (урожд. Бородина) Анисья Михайловна (1837-1909) — жена В. О. Ключевского. В. В. Розанов путает имя жены Ключевского.
2 Сергий Радонежский (ок. 1314-1392) — святой Русской православной церкви, основатель Троицкого монастыря под Москвой. Ему посвящена работа Ключевского «Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства» (Богословский вестник. 1892. № 11)
3 Ярослав (Владимирович) Мудрый (ок. 978-1054) — великий князь Киевский (1016-1018, 1019-1054); Иван I Данилович Калита (1283-1340), Иван II Иванович Красный (1326-1359), Иван III Васильевич (Великий) (1440-1505), Иван IV Васильевич (Грозный) (1530-1584) — московские великие князья и цари; Василий I Дмитриевич (1371-1425), Василий II Васильевич (Темный) (1415-1462), Василий III Иванович (1479-1533) —
московские великие князья; Матвеев Артамон Сергеевич (1625-1882) — русский государственный деятель, боярин, дядя Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I; Екатерина II (1729-1796) — русская императрица с 1762 по 1796 г.; Нартов Андрей Константинович (1693-1756) — русский ученый и механик; Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605-1680) — русский государственный деятель, глава Посольского приказа; Новиков Николай Иванович (1744-1818) — русский просветитель, общественный деятель, журналист, издатель. Ключевский посвятил ему статью «Воспоминания о Н.И. Новикове и его времени» (Русская мысль. 1895. Кн. I).
4 А. С. Пушикину В. О. Ключевский посвятил несколько работ: «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину», которая впервые была опубликована в журнале «Русская мысль» (1880. Кн. VI) и в том же году в книге «Венок на памятник Пушкину» (СПб., 1880). 1 февраля 1887 г. Ключевский прочитал в «Обществе любителей российского словесности» доклад «Евгений Онегин и его предки», опубликованный в журнале «Русская мысль» (1887. Кн. II), а 26 мая 1899 г. в связи со столетием со дня рождения А. С. Пушкина Ключевский произнес в торжественном заседании Московского университета речь «Памяти А. С. Пушкина», которая впервые была опубликована лишь в 8 томе «Сочинений» В. О. Ключевского (М., 1959).
5 Бильбасов Василий Алексеевич (1838-1904) — русский историк и публицист, автор трехтомной «Истории Екатерины II», редактор либеральной газеты «Голос», приват-доцент Петербургского университета, профессор Университета св. Владимира в Киеве; Стасюлевич Михаил-Матвеевич (1826-1911) — русский историк и общественный деятель, редактор-издатель журнала «Вестник Европы» (1866-1908); Лемке Михаил Константинович (1872-1923) — русский историк и журналист, издатель сочинений Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена и др.
6 Крылов Иван Андреевич (1769-1844) — русский поэт-баснописец и переводчик, академик (1841).
7 Кольцов Алексей Васильевич (1809-1842) — русский поэт.
8 Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) — русский мыслитель, публицист революционно-демократического направления, литературный критик и писатель.
9 «Современник» — литературный и общественно-политический, основанный А. С. Пушкиным в 1836 г. и выходивший до 1866 г. под разными редакциями; с 1847 г. журналом фактически руководил Н. А. Некрасов, привлекший к редактированию в 1853 г. Н.Г. Чернышевского, а в 1856 г. Н. А. Добролюбова.
10 Бокль Генри Томас (1821-1862) — английский историк, автор «Истории цивилизации в Англии»; Дрэпер (Дрейпер) Джон Уильям (1811-1882) — американский ученый, историк и философ позитивистского направления, автор двухтомной «Истории умственного развития Европы» (1862).
'1 Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учебное заведение в России, открытое в 1687 г. Просуществовала до 1814 г.
12 Савватий Тверской (ум. ок. 1434) — святой Русской православной церкви, основатель Савватьевского монастыря под Тверью, закрытого в XVIII в.; Савватий Соловецкий (ум. 1435) — преподобный Русской православной церкви, основатель Соловецкого монастыря; Иоанн Златоуст (ок. 347-407) — архиепископ Константинопольский, богослов, один из отцов Церкви; Зосима Соловецкий (ум. 1478) — святой Русской православной церкви, основатель Соловецкого монастыря; Зосима (XV в.) — иеромонах Троице-Сергиеева монастыря, автор сочинения «Книга, глаголемая Ксенос, сиречь Странник диакона Зосима о пути иерусалимском до Царяграда и до Иерусалима»; Зосима (Захария Васильевич (Богданович) Верховский (1768-1833) — преподобный Русской православной церкви, основатель Туринского Николаевского монастыря и Троице-Одигитриевской Пустыни.
С. И. Смирнов
Исследование В.О. Ключевского
«Древнерусские жития святых как исторический источник»
Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 53-71.
Смирнов Сергей Иванович (1870-1916) — профессор кафедры истории русской церкви Московской духовной академии.
1 Куник Арист Аристович (1814-1899) — российский историк немецкого происхождения, академик, старший хранитель Эрмитажа, член Археографической комиссии.
2 «Великие Четьи Минеи» — сборник житий святых православной церкви, расположенных по порядку месяцев и дней. Подготовлен в XVI в. под руководством новгородского архиепископа, а впоследствии московского митрополита Макария (1528-1563). «Великие Четьи Минеи» состоят из 12 томов. Включают в себя не только агиографические сочинения, но и другие произведения древнерусской литературы, а также переводы. Археографическая комиссия Академии наук печатала научное издание Четьи Миней с 1863 до 1916 г., но полностью они так и не были опубликованы.
3 Муравьев Андрей Николаевич (1806-1874) — духовный писатель, историк церкви, драматург и поэт, обер-секретарь Святейшего Синода, почетный член Академии наук (1836), автор книги «Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских» (СПб., 1855-1858).
4 Архиепископ Филарет (Дмитрий Григорьевич Гумилевский; 1805-1866) — историк церкви и богослов, ректор Московской духовной академии (1835-1841), епископ Рижский, викарий Псковской епархии (1841-1848), епископ Харьковский и Ахтьгрский (1848-1859), архиепископ Черниговский и Нежинский
(1859-1866), автор книги «Русские святые, чтимые всей Церковью или местно: Опыт описания жизни их» (Чернигов, 1861-1864).
3 Шевырев Степан Петрович (1806-1864) — русский историк литературы, литературный критик, поэт, профессор Московского университета (с 1837).
6 Ундольский Вукол Михайлович (1816-1864) — русский литературовед и библиограф, собиратель памятников древнерусской письменности, служащий архива министерства юстиции, библиотекарь Обществ истории и древностей российских.
7 Ешевский Степан Васильевич (1829-1865) — русский историк, профессор кафедры русской истории Казанского университета (1855-1857) и кафедры всеобщей истории Московского университетов (1858-1865).
8 Бычков Афанисий Федорович (1818-1899) — русский историк, археограф, библиограф, палеограф, академик (1869), директор Императорской публичной библиотеки(1882-1899).
9 Знаменский Петр Васильевич (1836-1917) — историк церкви, профессор кафедры математики (1861-1862) и кафедры русской церковной истории Казанской духовной академии (1862-1895), профессор Казанского университета, заведовал библиотекой Соловецкого монастыря, возглавлял научную комиссию для описания рукописей Соловецкого монастыря (с 1875 г.).
10 Исследование В. О. Ключевского «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» впервые было опубликовано в «Московских университетских известиях» (1867-1868. № 7).
11 Уваров Алексей Сергеевич (1825-1884) — граф, служащий министерства иностранных дел, затем министерства внутренних дел, русский археолог, основатель и председатель Московского археологического общества (1864-1884), один из организаторов Исторического музея и его директор (1881-1884).
12 Барсов Елпидифор Васильевич (1836-1917) — русский фольклорист, этнограф, исследователь древнерусской литературы. Секретарь Общества истории и древностей российских при Московском университете (1891-1907).
13 Преподобный Ефросин Псковский (1386-1481) — православный святой, основатель Спасо-Елеазаровского монастыря, канонизирован в 1549 г.
14 Солдатенков Козьма Терентьевич (1818-1901) — московский предприниматель и книгоиздатель (с 1846 г.), владелец художественной галереи.
13 Кетчер Николай Христофорович (1809-1886) — российский писатель и переводчик В. Шекспира, врач, сотрудник журнала «Отечественные записки», участник кружка русских западников.
16 Барсуков Николай Платонович (1838-1906) — русский историк литературы и общественной мысли, археограф, библиограф и издатель, автор исследования «Источники русской агиографии» (СПб., 1882).
17 Яхонтов Иван Андреевич — русский церковный историк, выпускник Казанской духовной академии, его магистерская диссертация «Жития северно-русских подвижников Поморского края как исторический источ
ник: составлено по рукописям Соловецкой библиотеки» была опубликована в Казани в 1881 г.
18 Верюжский Василии Максимович (1874-1955) — протоиерей, русский богослов и историк, экстра-ординарный профессор Петроградской духовной академии, профессор Петроградского богословского института, с 1951 г, заведующий кафедрой византологии и истории славянских церквей Ленинградской духовной академии. Автор магистерского исследования «Афанасий, архиепископ холмогорский. Его жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее существования и вообще русской церкви в конце XVII века: церковно-исторический» (СПб., 1908); Коноплёв Николай Алексеевич (1865-?) — протоиерей, выпускник Казанской духовной академии (1889), автор исследования «Святые Вологодского края» (М., 1895).
19 Серебрянский Николай Ильич (1872-1938) — историк русской церкви, учился в Варшавском университете, окончил Московскую духовную академию, преподавал в Псковской семинарии, профессор Московской духовной академии (с 1917 г.), Православной народной академии (с 1918 г.), Воронежского университета (1919-1920), Московской богословской академии (с 1923 г.), член Славянской научной комиссии при отделении русского языка и словесности Академии наук, научный сотрудник Славянского отделения библиотеки Академии наук в Ленинграде. Автор исследования «Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле» (М., 1908).
20 Некрасов Иван Степанович (1836-1895) — историк древнерусской литературы, выпускник Московского университета, профессор (с 1868 г.) и ректор Новороссийского университета (1890-1895). Автор исследования «Пахомий, сербский писательXV в.» (Одесса, 1871).
Возможно, речь идет о польском историке Александре Валериане Яблоновском (1829-1913).
21 Васильев Василий Павлович (1861-?) — протоиерей, историк церкви, автор исследования «История канонизации русских святых» (М., 1893); Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834-1912) — историк русской церкви, академик (1902), профессор Московской духовной академии.
22 Каблудовский — вероятно, в тексте опечатка. С. И. Смирнов, скорее всего, имеет в виду Арсения Петровича Кадлубовского (1867-1921) — русского литературоведа, выпускника Нежинского историко-филологического института, защитившего в 1902 г. в Варшавском университете магистерскую диссертацию «Очерки по истории древнерусской литературы житий святых», затем профессора Харьковского университета, Петроградского университета, декана историко-филологического факультета Пермского университета (1916-917), профессора Таврического университета (1919-1920). С 1921 г. в эмиграции.
23 Сергий (Спасский Иван Александрович; 1830-1904) — архиепископ Ковенский, затем Владимирский и Суздальский.
24 Речь идет о следующих исследованиях: Яковлев В.А. 1) Памятники русской литературы XII и XIII вв. СПб., 1872; 2) Древнекиевские религиозные
сказания. Варшава, 1875; Шахматов А.А. 1) Киево-Печерский и Печерская летопись. СПб., 1897; 2) Житие Антония и Печерская летопись // Журнал министерства народного просвещения. 1898. Март; Абрамович Д.И. 1) Несколько слов в дополнение к исследованию А. А. Шахматова «Киево-Печерский патерик и Печерская летопись». СПб., 1898; 2) Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике. СПб., 1902.
25 Алексий (Александр Федорович Лавров-Платонов; 1829-1890) — историк русской церкви, экстра-ординарный профессор Московской духовной академии по кафедре греческого языка (1864-1870) и библиотекарь академии, профессор кафедры церковного законоведения (1870-1878), епископ Можайский (1878-1883), епископ Дмитровский (1883-1885), епископ Таврический (1885), епископ Литовский (1885-1890).
26 Казанский Петр Симонович (1819-1878) — профессор Московской духовной академии.
Г. В. Плеханов
<В.О. Ключевский>
Печатается по: Плеханов Г. В. История русской общественной мысли.
Т. 1. СПб., 1914. С. 11-22. Главы II-IV.
Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) — русский философ-марксист, один из основателей РСДРП.
1 Тьерри Жак Никола Огюстен (1795-1856) — французский историк романтического направления; Минье Франсуа-Огюст (1796-1884) — французский историк.
2 Виллари Паскуале. (1827-1917) — итальянский историк и философ позитивистского направления.
3 Mutatis mutandis — с соответствующими изменениями (лат.).
Н.А. Заозерский
Василий Осипович Ключевский
в его рецензиях диссертаций на ученые степени профессоров и студентов М<осковской> Д<уховной> академии
Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С.72-79.
Заозерский Николай Александрович (1851-1919) — профессор кафедры церковного права Московской духовной академии.
1 Казанский Петр Симонович (1819-1878) — профессор Московской духовной академии. Автор «Истории православного монашества на Вос
токе. Ч. 1: Монашество в Египте» (Ч. 1-2. М., 1854); «Истории православного русского монашества, от основания Печерской обители преподобным Антонием до основания лавры св. Троицы преподобным Сергием» (М., 1855). «Мнение доцента Василия Ключевского по поводу “Отзыва”, составленного комиссией исторического отделения Академии о диссертации проф. Казанского» опубликовано в «Чтениях в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете» (М.. 1914. Кн. 1. С. 80-82.).
2 Речь идет о магистерской диссертации Иоанна Павлиновича Знаменского «Положение духовенства в царствование Екатерины II и Павла I» (М., 1880).
3 Речь идет о магистерской диссертации профессора Московской духовной академии Николая Федоровича Каптерева (1847-1917) «Светские архиерейские чиновники древней Руси» (М., 1874).
4 Касицын Дмитрий Федорович (1838-1901) — протоиерей, профессор Московской духовной академии по кафедре истории и разбора западных исповеданий.
5 Смирнов Андрей Петрович (1843-1896) — доцент (с 1870 г.), экстраординарный профессор (с 1881 г.), заслуженный профессор кафедры библейской истории Московской духовной академии.
6 Амфитеатров Егор Васильевич (1815-1888) — профессор Московской духовной академии по кафедре словесности и истории литературы.
7 Архимандрит Михаил (Матвей Иванович Лузин; 1830-1887) — профессор Московской духовной академии по кафедре Священного Писания. С 1878 г.епископ Уманский.
8 Игнатий (Рождественский Николай Дмитриевич; 1827-1883) — епископ Можайский, викарий Московской епархии; Платон (Фивейский Павел Симонович; 1809-1877) — архиепископ Костромской и Галичский.
9 Архимандрит Антоний (Медведев Андрей Гаврилович; 1792-1877) — наместник Троице-Сергиевой лавры (с 1831 г.).
Двадцатипятилетие профессорской службы В.О. Ключевского в Московской духовной академии
Печатается по; Богословский вестник. 1896. Дек. С. 475-489.
1 Защита магистерской диссертации Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» состоялась в Московском университете 26 января 1872 г.
2 Вифанская православная духовная семинария была основана в 1797 г. при Спасо-Вифанском монастыре и открыта в 1800 г.
3 Ректор Московской духовной академии епископ Лаврентий (Михаил Иванович Некрасов; 1836-1908).
4 Соколов Василий Александрович (1851-1918) — русский богослов, выпускник Московской духовной академии (1874), доктор богословия (1897), профессор кафедры истории и разбора западных исповеданий Московской духовной академии (1881-1904), редактор журнала «Богословский вестник» (1893-1897).
5 Нестор Летописец (ок. 1056-114) — русский агиограф и летописец, монах Киево-Печерского монастыря, считается одним из авторов «Повести временных лет».
6 Докторская диссертация В.О. Ключевского «Боярская дума древней Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества» первоначально печаталась в журнале «Русская мысль» (1880. Кн. I, III, IV, X, XI; 1881. Кн. Ill, VI, VIII, IX, X, XI). Отдельное издание вышло в 1882 г.
7 Горский Александр Васильевич (1812-1875) — русский историк и богослов, ректор Московской духовной академии (1864-1875).
8 Смирнов Сергей Иванович (1870-1916) — доцент, впоследствии профессор кафедры истории русской церкви Московской духовной академии.
9 Воскресенский Григорий Александрович (1849-1918) — русский фило-лог-славист, выпускник Московской духовной академии (1871), заслуженный профессор Московской духовной академии по кафедре русского и церковно-славянского языка (с палеографией и историей литературы), член-корреспондент Академии наук.
10 Митрополит Иннокентий (Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 1797-1879) — митрополит Московский (с 1868 г.), первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки. Канонизирован в 1977 г.
11 Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834-1912) — историк русской церкви, академик (1902), профессор Московской духовной академии.
12 Каптерев Николай Федорович (1847-1917) — профессор Московской духовной академии.
13 Голубцов Александр Петрович (1860-1911) — профессор Московской духовной академии.
14 Епископ Аркадий (Аркадий Константинович Карпинский; 1851-1913) — выпускник Московской духовной академии (1877), епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии (1896-1897), епископ Туркестанский и Ташкентский (1897-1902), епископ Рязанский и Зарайский (1902-1906).
15 Архиепископ Алексий (Алексей Федорович Лавров-Платонов; 1829-1890) — русский богослов, выпускник Московской духовной академии (1854), профессор по кафедре греческого языка и библиотекарь Московской духовной академии, затем профессор по кафедре церковного законоведения, епископ Можайский (1878), епископ Таврический (1885), епископ Литовский и Виленский (1885), архиепископ (1886).
С. И. Тхоржевский
В.О. Ключевский
как социолог и политический мыслитель
Печатается по: Дела и дни. Кн. 2. Пг., 1921. С. 152-179.
Тхоржевский Сергеи Иванович (1893-1942) — русский историк, выпускник юридического факультета Петербургского университета, ученик Л. И. Петражицкого. С начала 1920-х гг. преподавал в университете, других вузах, затем в школе. В начале 1920-х гг. председатель Исторического кружка имени А. С. Лаппо-Данилевского. В 1927-1930 гг. секретарь Клуба научных работников. В 1931 г. арестован по «Академическому делу», после освобождения в 1933 г. до 1940 г. работал экономистом в управлении Бамлага в г. Свободном, умер от голода в блокадном Ленинграде.
1 Кобеко Дмитрий Фомич (1837-1918) — русский историк и государственный деятель, директор Публичной библиотеки. Председатель Особого совещания для составления нового устава о печати (1905).
2 На Петергофских совещаниях, проходивших в летней резиденции Николая II и под его председательством, 19, 21, 23, 25 и 26 июля 1905 г. рассматривался проект Законосовещательной думы, разработанный А. Г. Булыгиным. В них участвовали члены Совета министров, ряд сенаторов, члены Государственного совета, великие князья, специально приглашенные лица (всего 43 чел.).
3 Докторская диссертация В. О. Ключевского «Боярская дума древней Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества» первоначально печаталась в журнале «Русская мысль» (1880. Кн. I, III, IV, X, XI; 1881. Кн. Ill, VI, VIII, IX, X, XI), а в 1882 г. вышла отдельным изданием.
4 Конт Исидор Мари Огюст Франсу Ксавье (1798-1857) — французский философ и социолог, родоначальник позитивизма; Маркс Карл Генрих (1818-1883) — немецкий философ, экономист, политический мыслитель и общественный деятель, основоположник марксизма.
5 Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович (1838-1916) — историк русского права, преподавал в Ярославском юридическом лицее (1870-1875), с 1875 г. профессор кафедры истории русского права Университета Св. Владимира в Киеве, председатель исторического общества Нестора летописца (с 1887 г.). В «Сборнике государственных знаний» (1880. Т. 8)М. Ф. Владимирский-Буданов опубликовал рецензию « Новые исследования о Боярской Думе. Н. П. Загоскин. История права Московского государства. Т. II. Центральное управление Московского государства. Вып. I. Боярская Дума. Казань, 1879 г.— Ключевский. Боярская дума древней Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества. (Русская мысль. 1880 г., январь, март, апрель, сочинение продолжающееся)».
6 Градовский Александр Дмитриевич (1841-1889) — русский правовед и публицист, профессор Петербургского университета; Дитятин Иван Иванович (1847-1892) — русский историк права и государствовед, учился на юридическом факультете Петербургского университета, профессор Демидовского юридического лицея в Ярославле, затем профессор Харьковского (1878-1887) и Дерптского (1889-1890) университетов.
7 Докторская диссертация А. Д. Градовского «История местного управления в России» (Т. 1) была издана в Петербурге в 1868 г.
8 Штейн Лоренц фон (1815-1890) — немецкий философ-гегельянец, экономист, историк и правовед, профессор Кильского (1846-1851) и Венского (1855-1885) университетов.
9 Речь идет о следующих статьях В.О. Ключевского: «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» (Московские университетские известия. 1866-1867. № 7) и «Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей российских. Кн. 1. 1884.).
10 Курс «Методология русской истории» В.О. Ключевский читал в 1884/ 1885 академическом году.
11 Греве Иван Михайлович (1860-1941) — русский историк-медиевист, профессор Высших женских курсов (1892-1918) и Петербургского университета (1898-1923, 1934-1941).
12 Гизетти Алексей Викторович (1840-е-1914) — революционер-народник, заведующий статистическим бюро Петербургского уездного земства.
13 Зибер Николай Иванович (1844-1888) — русский экономист, выпускник Университета Св. Владимира в Киеве, приват-доцент кафедры политической экономии и статистики этого университета (1873-1875). Изложению теории К. Маркса посвящена статья Зибера «Экономическая теория Карла Маркса» («Знание», 1876, № 10, 12; 1877, № 2; «Слово», 1878, № 1, 3, 9, 12) и книга «Рикардо и К. Маркс в их общественно-экономических исследованиях» (СПб., 1885).
14 Жиро Тёлон Алексис (1839-1916) — французский антропологи историк, профессор в Женеве. Автор сочинения «Происхождение брака и семьи» (1867).
15 Бахофен Иоганн Яков (1815-1887) — швейцарский юрист и этнограф, автор сочинения «Теория материнского права» (1861); Мак-Леннан Джон Фергюсон (1827-1881) — шотландский этнограф и историк первобытного общества, сторонник эволюционистского направления, автор сочинения «Примитивный брак. Исследование происхождения формы похищения в свадебных обрядах» (1865); Сыромятников Борис Иванович (1874-1947) — историк русского права, доктор юридических наук (1938), выпускник юридического факультета Московского университета, приват-доцент кафедры государственного права, экстра-ординарный профессор кафедры истории русского права Константиновского Межевого института (1906-1922), преподавал иа Высших женских юридических курсах, в Московском коммерческом институте, в Казанском университете, декан общественно-философ
ского отделения Университета им. А. Л. Шанявского, один из основателей Московского общества народных университетов, заведующий секцией государственного права Института государства и права АН СССР (с 1938 г.). Статья Б. И. Сыромятникова «В.О. Ключевский и Б. Н. Чичерин» была опубликована в сборнике «В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания» (М., 1912). См. также настоящее издание.
16 Статья К. Маркса «К еврейскому вопросу» впервые была опубликована в 1844 г. в журнале «Deutch-Franzosische Jahrbucher».
17 СтатьюП.Н. Милюкова «В.О. Ключевский» см.в настоящем издании.
18 Котошихин Григории Карпович. — писец, а затем подьячий в Посольском приказе в Москве. В начале 1664 г. бежал сначала в Польшу, затем в Пруссию и Швецию, где перешёл в протестантизм и принял имя Ивана-Александра Селицкого. Автор сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича». Казнен в Стокгольме в 1667 г.
19 Вормс Рене (1869-1926) — французский социолог и философ, основатель журнала «Revue internationale de sociolocrie» (1893), Международного института социологии (1894) и Парижского социологического общества (1895).
20 Штаммле.р Рудольф (1856-1938) — немецкий юрист, представитель школы «возрожденного естественного права». Профессор университетов в Марбурге (с 1882 г.), Гисене (с 1884 г.), Галле (с 1885 г.), Берлине (1916-1923); Петражицкий Лев Иосифович (1867-1931) — российско-польский правовед и социолог. Закончил Университет Св. Владимира в Киеве, в 1898-1918 гг. возглавлял кафедру энциклопедии права в Петербургском университете, в 1921-1931 гг.— кафедру социологии в Варшавском университете. Последователь психологической теории права и неокантианства.
21 Катедер-социализм (нем. Kathedersozialismus, от Katheder — кафедра), разновидность социализма, возникшая в Германии в 1860-е-1870-е гг. и настаивающая на вмешательстве государства в общественные и экономическое отношения для проведения социалистических принципов (государственный капитализм). Сторонниками катедер-социализма были немецкий экономист и историк Густав фон Шмоллер (1838-1917) и экономист Адольф Вагнер (1835-1917).
22 Покровский Иосиф Алексеевич (1868-1920) — русский правовед, выпускник Университета Св. Владимирав Киеве, в 1903-1912 гг. возглавлял кафедру римского права в Петербургском университете, декан юридического факультета (1910-1912). Преподавал на Высших женских курсах, а с 1912 г. в Москве в Московском коммерческом институте и Университете Шанявского, профессор Московского университета (1917-1920). Автор книги «Основные проблемы гражданского права» (Пг., 1917).
23 Речь идет о потомках Московского князя Даниила Александровича (1261-1303) — первого удельного князя Московского.
24 Сигизмунд Ш (1566-1632) — король польский и великий князь литовский (с 1587 г.), король шведский (1592-1599).
25 Петергофские совещания проходили в Петергофе 19, 21, 23, 25, 26 июля 1905 г. под председательством императора Николая II и были посвящены обсуждению проекта Государственной думы, подготовленного под руководством министра внутренних дел А. Г. Булыгина.
26 В.О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Александровичу (1871-1899) в Абастумане на Кавказе с ноября 1893 г. по апрель 1894 г. и с декабря 1894 г. по март 1895 г.
27 Laissez-faire — невмешательство, попустительство (фр.).
28 Прудон Пьер Жозеф (1809-1865) — французский философ и экономист, один из основоположников анархизма; Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) — русский философ и революционер, один из идеологов анархизма.
29 Революционное народничество — движение в среде русской разночинной интеллигенции 1860-х — 1870-х гг., лидерами которого были П. Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин. К революционному народничеству принадлежали члены организаций «Земля и воля», «Народная воля».
30 Статья В.О. Ключевского «Грусть (Памяти М.Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)» была опубликована в журнале «Русская мысль» (1891. № 7).
31 Богдан Хмельницкий (1596-1657) — гетман запорожского войска, возглавивший восстание казаков против Речи Посполитой.
32 Болотников Иван Исаевич (?-1608) — предводитель восстания 1606-1607 гг.
33 Речь идет о статьях В.О. Ключевского «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. Кн. VIII, X.), «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. Кн. V, VII, IX, X.),
34 Иоллос Григорий Борисович (1859-1907) — российский публицист, сотрудник «Русских ведомостей», депутат I Государственной думы от партии кадетов. Убит 14 марта 1907 г. черносотенцами. В газете «Русские ведомости» (1907. 16 марта. № 61) Ключевский опубликовал заметку «Памяти Г. Б. Иоллоса».
33 Кони Анатолий Федорович (1844-1927) — русский юрист, государственный и общественный деятель, литератор. Профессор Петроградского университета (1918-1922), академик (1900), член Государственного совета (1907-1917). Однокурсник Ключевского по Московскому университету.
36 Речь идет об учениках В.О. Ключевского Матвее Кузьмиче Любав-ском (1860-1936) и Михаиле Михайловиче Богословском (1867-1929). Статью М.К. Любавского «Соловьев и Ключевский» и М.М. Богословского «В.О. Ключевский, как ученый» см. в настоящем издании.
37 Мэн Генри Джеймс (1822-1888) — английский правовед и историк, основоположник социологии права и юридической антропологии.
38 Речь В. О. Ключевского «Памяти в бозе почившего государя им. Александра III» была прочитана на заседании общества 26 октября 1894 г. (Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. 1894. Кн. IV. С. 1-7). Тогда же опубликована отдельной брошюрой.
39 Новгородцев Павел Иванович. (1866-1924) — русский правовед, философ и общественный деятель. Окончил юридический факультет Московского университета, профессор Московского университета, ректор Московского коммерческого института (1906-1918), с 1921 г. в эмиграции.
А. Е. Пресняков
В. О. Ключевский(1911-1921)
Печатается по: Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг., 1922.
Пресняков Александр Евгеньевич (1870-1929) — русский историк, выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета, ученик С.Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского, профессор Петроградского университета (с 1918 г.), профессор Педагогического института и Института красной профессуры.
1 Возможно, речь идет оЛюбомирове Павел? Григорьевиче (1885-1935) — русском историке, выпускнике историко-филологического факультета Петербургского университета(1911), ученике С.Ф. Платонова. Преподавал в средних учебных заведениях Петрограда (1915-1917), профессор Томского университета и заведующий Институтом изучения Сибири (1917-1920), с 1920 г. профессор, заведующий кафедрой русский истории Саратовского университета, в 1932-1935 гг. сотрудник Государственного исторического музея, Московского института философии, литературы и истории.
2 В.О. Ключевский посвятил С. М. Соловьеву ряд мемориальных публикаций: «С. М. Соловьев (умер 4 октября 1879 г.» (Речи и отчет, читанные в торжественном собрании Московского университета 12 января 1880 г. М., 1880); «С.М. Соловьев как преподаватель» (Издания Исторического общества при Московском университете. М., 1896); «Памяти С. М. Соловьева (умер 4 октября 1879 г.)» (Научное слово. 1904. Кн. 8).
3 Иванов Александр Андреевич (1806-1858) — русский художник, автор картины «Явление Христа народу» (1836-1857).
4 Смирнова-Россет Александра Осиповна (1809-1882) — фрейлина двора, автор воспоминаний о жизни русского общества первой половины XIX в.
5 «Сказания иностранцев о Московском государстве» — кандидатская (дипломная) работа В. О. Ключевского (1866).
6 Речь идет о статье С. И. Смирнова «Исследование В.О. Ключевского “Древнерусские жития святых как исторический источник”, опубликованном в «Чтениях в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете» (1914. Кн. 1 (248)). См. также настоящее издание.
1 Дьяконов Михаил Александрович (1855-1919) — русский историк права, закончил юридический факультет Петербургского университета (1881), профессор Дерптского (Юрьевского) университета, Петербургского Политехнического института (с 1905 г.), Петербургского университета (1907-1912), академик (1912).
8 Речь идет о следующих работах В. О. Ключевского: «Добрые люди древней Руси» (Богословский вестник, 1892. № 1); «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства» (Богословский вестник. 1892. № 11); «Западное влияние в России XVII в. Историко-психологический очерк» (Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 36, 38, 39); «Двавоспитания» (Русская мысль. 1893. Кн. III); «Воспоминания о Н. И. Новикове и его времени» (Русская мысль, 1895. Кн. I); «Недоросль Фонвизина (Опыт исторического объяснения учебной пьесы)» (Искусство и наука. 1896. № 1); «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину» (Русская мысль. 1880. Кн. VI); «Евгений Онегин и его предки» (Русская мысль. 1887. Кн. II); «Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)» (Русская мысль.1891. Кн. VII.).
9 Двадцать девять томов «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева выходили с 1851 по 1879 г.
10 Четыре части «Курсарусской истории» В.О. Ключевского печатались с 1904 по 1910 г.
11 Докторская диссертация С. М. Соловьева « Истории отношений между русскими князьями Рюрикова дома» вышла в 1847 г.
12 Речь идет о следующих работах В. О. Ключевского: «Состав представительства на Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1); «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10) и «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10).
18 Речь В.О. Ключевского «Содействии церкви успехам русского гражданского права и порядка» впервые была опубликована в «Творениях святых Отцов» (1888. Кн. 4).
11 Статья Ю. И. Ахейнвальда «Ключевский мыслитель и художник» впервые была опубликована в сборнике «В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания» (М., 1912). См. также настоящее издание.
15 Статья А. А. Кизеветтера «В. О. Ключевский как преподаватель» впервые была опубликована в сборнике «В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания» (М., 1912). См. также настоящее издание.
16 В. О. Ключевский преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества с 1898 по 1910 г.
С. А. Голубцов
Теоретические взгляды В.О. Ключевского (1911-12 мая 1921)
Печатается по: Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг. 1922.
Голубцов Сергей Александрович (1893-1930) — русский историк и архивист, сын профессора Московской духовной академии А. П. Голубцова (1860-1911), ученика В.О. Ключевского, внук ректора Московской духов
ной академии С. К. Смирнова (1818-1889), окончил историко-филологический факультет Московского университета, с 1918 г. служил старшим архивистом в Государственном архиве РСФСР. В 1924 г. подготовил к изданию письма В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву.
«Курс русской истории» В.О. Ключевского цитируется по следующим изданиям: 4.1.М„ 1914; Ч. П.М., 1912.; Ч. III.М., 1912; Ч. IV.М., 1915.
1 Имеются в виду кандидатское сочинение В. О. Ключевского «Сказание иностранцев о Московском государстве» (М., 1866), магистерская диссертация «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М.,1871) и докторская диссертация «Боярская дума древней Руси» (М.,1882).
2 Крижанич Юрий (1617-1683) — хорватский богослов, историк и мыслитель, один из первых идеологов панславизма. В 1659-676 гг. служил в России.
3 Хворостинин Иван Андреевич (ум. 1625) — князь, «уклонявшися в латинскую ересь» и ругавший русские нравы, за что и был признан «первым русским западником».
С. А. Пионтковский
<В.О. Ключевский>
<Фрагменты>
Печатается по: Пионтковский С.А. Буржуазная наука в России. М., 1931. С. 14-15, 18-33, 67-69.
Пионтковский Сергей Андреевич (1891-1937) — советский историк, окончил историко-филологический факультет Казанского университета (1914). С 1921 г. профессор Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, заместитель редактора журнала «Пролетарская революция». С 1922 г. преподаватель, а затем профессор Московского государственного университета и Московского института философии, литературы, истории и института красной профессуры, член-корреспондент АН Белоруссии. В 1936 г. репрессирован.
1 Довнар-Запольский Митрофан Викторович (1867-1934) — белорусский историк, этнограф, экономист, учился в Университете св. Владимира в Киеве (1889-1894), служил в Московском архиве министерства юстиции, профессор Московского, Киевского, Белорусского университетов.
2 «Лекции по древней русской истории до конца XVI века» М. К. Любарского вышли в Москве в 1915 г., хотя литографированные издания появились раньше (например, «Древняя русская история. Курс 1910-1911». Ч. 1-2. [СПб., 1911]).
3 Корнилов А. А. Курс русской истории XIX века. Ч. 1. СПб., 1912. С. 2.
4 Корнилов А. А. Курс русской истории XIX века. Ч. 1. С. 4.
5 Пресняков Александр Евгеньевич (1870-1929) — русский историк, выпускник историко-филологического факультета Петербургского университете,
ученик С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского, профессор Петроградского университета (с 1918 г.), профессор Педагогического института и Института красной профессуры. Автор исследований: «Княжое право в Древней Руси» (СПб., 1909) и «Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII-XV столетий» (Пг., 1918).
6 Три века. Россия от Смуты до нашего времени. Т. I. СПб., 1912. С. 2.
7 Вероятно, имеются в виду следующие исследования: Буцинский П.Н. 1) Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889; 2) К истории Сибири: Сургут, Нарым и Кетск до 1645 г. // Записки Имп. Харьковского университета. 1893. Вып. II.
8 Вероятно, имеется в виду следующее исследование: Яковлев А. И. Засечная черта Московского государства в XVII веке: Очерк из истории обороны южной окраины Московского государства. М., 1916.
9 Перетяткович Георгий Иванович (1840-1908) — русский историк, выпускник Московского университета, ученик С.М. Соловьева, профессор кафедры славянской филологии Новороссийского университета (с 1886 г.), автор исследований «Поволжье в XV и XVI веках. Очерки из истории колонизации края (1877), «Поволжье в XVII и в начале XVIII в. Очерки из истории Низовья» (1882) и др.
10 Яковлев Алексей Иванович (1878-1951) — русский историк, закончил историко-филологический факультет Московского университета, ученик В.О. Ключевского. С 1906 г. преподавал в Московском университете, профессор кафедры русской истории (1917-1920). В 1920-1922 гг. профессор истории и заведующий учебной частью Чувашского института народного образования. В 1922-1930 гг. действительный член института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН), профессор этнологического факультета Московского университета (1927-1929), заведующий учебной частью, директор библиотеки ВСНХ СССР (1924-1930). В 1930 г. арестован по «академическому делу» и сослан в Минусинск. Заведующий бюро транскрипции географических названий при Картографическом тресте Наркомтяжпрома (1934-1937), старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1938-1951), профессор исторического факультета Московского государственного университета (1943-1951). Член-корреспондент АН СССР (1929). Автор исследований: «Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государства» (М., 1909), «Засечная черта Московского государства в XVII веке: Очерк из истории обороны южной окраины Московского государства» (М., 1916), «Приказ сбора ратных людей» (М., 1917) и др.; Бахрушин Сергей Владимирович (1882-1950) — русский историк, выпускник историко-филологического факультета Московского университета (1904), ученик В.О. Ключевского и М.К. Любавского. С 1909 г. преподавал в Московском университете, профессор (1927-1950), сотрудник Института истории АН СССР (с 1937 г.), зав. сектором истории феодализма. Член-корреспондент АН СССР (1939). В 1930 г. арестован по «академическому делу», сослан в Семипалатинск. Автор около 60 работ по истории Сибири:
«Туземные легенды в “Сибирской истории” С. Ремизова» (1916), «Самоеды в XVII в.» (1925), наиболее известны «Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв.» (М., 1927).
" Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч.1.М., 1904. С. 360.
12 Там же.
13 Там же. С. 352.
14 Там же. С. 16.
15 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. М., 1908. С. 304.
16 Там же. С. 58.
17 Там же.
18 Там же. С. 139-140.
• 19 Там де. С. 141-142.
20 Там же. С. 236.
21 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. М., 1910. С. 429.
22 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 259.
23 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 283.
24 Там же. С. 427.
25 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 179.
26 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 459.
27 Там же. С. 461.
28 Голубцов С.А. Теоретические взгляды В. О. Ключевского (1911-12 мая 1921) // Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг. 1922. См. настоящее издание.
Г. П. Федотов
Россия Ключевского
Печатается по: Федотов Г.П. Судьба и грехи России / Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2-х т. / Составл., вступительная статья, примечания Бойкова В. Ф. С.— Петербург: София, 1991.
Впервые опубликована в журнале «Современные записки» (1932. Т. 50).
Федотов Георгий Петрович (1886-1951) — русский философ, историки публицист. Приват-доцент Петербургского университета, один из организаторов религиозно-философского кружка «Воскресенье», с 1925 г. в эмиграции.
1 Ранке Леопольд фон (1795-1886) — немецкий историк, представитель историзма; Мишле Жюль (1798-1874) — французский историк и публицист, представитель романтической историографии; Грин Джон Ричард (1837-1883) — английский историк, автор «Краткой истории английского народа» (1874) и «Истории английского народа» (1880).
2 Захаров Андреян Дмитриевич (1761-1811) — русский архитектор, последователь стиля ампир; Росси Карл Иванович (1775-1849) — российский архитектор итальянского происхождения, последователь стиля ампир.
3 Полевой Николай Алексеевич (1796-1846) — русский писатель и публицист, драматург, литературный критик и историк, издатель журнала «Московский телеграф» (1825-1834), автор шеститомной «Истории русского народа» (1829-1833).
4 Памятник «Тысячелетие России» был установлен в Новгороде в 1862 г. по проекту скульптора М, О. Микешина и архитектора В. Гартмана.
5 Памятник Александру II в Московском Кремле был открыт в 1898 г. по проекту скульпторов А. М. Опекушина и Н.В. Султанова и художника В. П. Жуковского. Уничтожен в 1918 г.
6 «История города Глупова» — имеется в виду сатирическое произведение М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (1869), в котором излагается история вымышленного города Глупова.
7 Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) — русский литературный критик и публицист революционно-демократического направления; Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) — русский философ, литературный критик, писатель и публицист, деятель революционно-демократического направления.
8 «Русская мысль» —ежемесячный литературно-политический журнал, выходивший в Москве с 1880 по 1918 г. Одним из редакторов журнала был В. А. Гольцев, работавший в «Русской мысли» с 1880 г., а с 1885 г. после смерти С. А. Юрьева фактически возглавивший редакцию. При В. А. Гольцеве журнал получил либерально-прогрессистское направление. В журнале «Русская мысль» В.О. Ключевский печатал многие свои исследования, тексты публичных выступлений, докторскую диссертацию «Боярская дума древней Руси», отдельные главы «Курса русской истории».
9 В.О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Александре вичу (1871-1899) с 1 ноября 1893 г. по 1 апреля 1894 г. и с декабря 1894 по март 1895 г.
10 Речь Ключевского «Памяти в бозе почившего государя им. Александра III» была прочитана в заседании Императорского Общества истории и древностей Российских при Московском университете 18 октября 1894 г. и напечатана в том же году.
Публий Вергилий Марон (70 г. до н. э. — 19 г. до н. э.) — древнеримский поэт, создатель нового типа эпической поэмы.
11 Герцен Александр Иванович (1812-1870) — русский философ, публицист и писатель.
12 Родбертус-Ягецов Карл Иоганн (1805-1875) — немецкий экономист, один из основоположников теории «государственного социализма»; Инама-Штернегг Карл Теодор Фердинанд Михиэль фон (1843-1908) — немецкий и австрийский статистик, демограф, историк-экономист, представитель «исторического направления», профессор университетов в Инсбурке, Праге, Вене; Роджерс Джеймс Элвин Торолд (1823-1890) — английский экономист и историк, основатель историко-экономического направления,
профессор Лондонского (с 1859 г.) и Оксфордского (1862-1867, 1888-1890) университетов.
13 Валуев Дмитрий Александрович (1820-1845) — русский историк славянофильского направления; Попов Александр Николаевич (1820-1877) — русский историк славянофильского направления, член-корреспондент Академии наук (1873).
14 Шторх Андрей Карлович (1766-1835) — российский экономист, историк и библиограф немецкого происхождения, академик (1804), вице-президент Академии наук (1830).
15 Вебер Максимилиан Карл Эмиль (1864-1920) — немецкий социолог, юрист, историк и экономист.
’16 Пафнутий Воровский (1394-1477) — русский святой, наставник Иосифа Волоцкого.
17 Нил Сорский (1433-508) — православный святой, лидер нестяжателей.
18 Иосиф Волоцкий (1439/1440-1515) — православный святой, основатель и настоятель Волоколамского монастыря, лидер противоположного нестя-жательству направления, получившего название «иосифлянства».
19 Рожков Николай Александрович (1868-1927) — русский историк и политический деятель, выпускник Московского университета (1890), приват-доцент Московского университета (с 1898 г.), с 1922 г. профессор, преподавал в Ленинградском университете, Институте красной профессуры, Академии коммунистического воспитания, директор Государственного исторического музея (с 1926 г.). Автор исследований «Обзор русской истории с социологической точки зрения» (Ч. 1-2. СПб., 1903-1905) и «Русская история в сравнительно-историческом освещении. (Основы социальной динамики)» (Т. 1-12. Пг.; М., 1919-1926).
20 Речь «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства» была произнесена 26 сентября 1892 г. в торжественном собрании Московской духовной академии в связи с 500-летием со дня кончины Сергея Радонежского. Впервые опубликована в «Богословском вестнике» (1892. № 11).
21 Г. П. Федотов, вероятно, имеет в виду публичную лекцию В. О. Ключевского «Два воспитания», прочитанную 1 февраля 1893 г. в пользу Московского комитета грамотности, где он, в частности, говорил о роли женщины в системе древнерусского воспитания. Впервые опубликована в журнале «Русская мысль» (1893. Кн. III).
22 Лесков Николай Семенович (1831-1895) — русский писатель.
23 Кондаков Никодим Павлович (1844-1925) — историк византийского и древнерусского искусства, археолог. Однокурсник В. О. Ключевского по историко-филологическому факультету Московского университета (1861-1865). С 1870 по 1888 г. преподавал в Новороссийском университете (с 1870 г. доцент, с 1877 г. профессор). Профессор кафедры истории искусств Санкт-Петербургского университета (1888-1897), старший хранитель отдела искусства Средних веков и Возрождения Эрмитажа (1888-1893).
Академик Петербургской академии наук (1898) и Петербургской академии художеств (1893). Один из основателей Русского археологического института в Константинополе. С 1920 г. в эмиграции. Профессор Софийского университета (1920-1922) и Карлова университета (1922-1925). Умер в Праге.
24 Грушевский Михаил Сергеевич (1866-1934) — украинский историк и политический деятель, один из лидеров националистического движения, профессор Львовского университета (1894-1914), председатель Украинской центральной рады, автор «Истории Украины-Руси» (Т. 1-10. 1896-1936).
25 Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863-1919) — русский историк, академик, последователь неокантианства, считается основателем русской школы дипломатики частных актов.
26 Ecole des Chartes — Школа хартий (фр.) — французское государственное учреждение в сфере высшего образования, которая специализируется на вспомогательных исторических дисциплинах.
27 Рождественский Сергей Васильевич (1868-1934) — русский историк, архивист. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, ученик С. Ф. Платонова, профессор Петербургского университета (с 1913 г.), автор исследований «Служилое землевладение в Московском государстве XVI в.» (СПб., 1897), «Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII-XIX вв.» (СПб., 1912) и др.
28 17 мая 1892 г. в Московском университете П.Н. Милюков защитил магистерскую диссертацию «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого» (М., 1892).
29 Веселовский Степан Борисович (1874-1952) — русский историк и археограф, выпускник юридического факультета Московского университета, сотрудник Московского археологического института (с 1912 г.), профессор Московского университета (1917-1923), Московского государственного историко-архивного института (1938-1941), работал в Институте истории (1923-1929), старший научный сотрудник Института истории АН СССР (с 1936 г.), академик (1946). Автор исследований: «Семь сборов запросных и пятинных денег в первые годы царствования Михаила Федоровича» (М., 1908), «Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства» (Т. 1-2, М.; СПб., 1915-1916), «К вопросу о происхождении вотчинного режима» (М., 1926) и др.
30 Греков Борис Дмитриевич (1882-1953) — русский историк, учился в Варшавском и Московском университетах, профессор Петроградского университета, профессор Таврического университета (Симферополь), Историко-археографического института, директор Института истории АН СССР (1937-1953), директор Института истории материальной культуры АН СССР (1944-1946), академик (1935). Автор исследований: «Новгородский дом святой Софии. (Опыт изучения организации и внутренних отношений церковной вотчины)» (Ч. 1. СПб., 1914), «Монастырское хозяйство XVI-XVII веков» (Л., 1924), «История русского народного хозяйства. (Материалы для лабораторной проработки вопроса)» (Т. 1. Л., 1926) и др.
Довнар-Запольский Митрофан Викторович (1867-1934) — белорусский историк, этнограф, экономист, учился в Университете св. Владимира в Киеве (1889-1894), служил в Московском архиве министерства юстиции, профессор Московского, Киевского, Белорусского университетов. Автор исследований: «Белорусская свадьба и свадебные песни: Этнографический очерк» (К., 1888), «Очерк истории кривичской и дреговичской земель до конца XII столетия» (К., 1891), «Очерки обычного семейного права крестьян Минской губернии» (М., 1897), «Западнорусская семейная община в XV веке» (СПб., 1897), «Польско-Литовская уния на сеймах до 1569 г.: Исторический очерк» (М., 1897), «Государственное хозяйство великого княжества Литовского при Ягеллонах» (К., 1901), «Старинные описи Литовской метрики» (СПб., 1901), «Спорные вопросы в истории Литовско-Русского сейма» (СПб., 1901), «Очерки по организации западнорусского крестьянства в XVI в.» (К., 1905), «Из истории общественных течений в России. Сб. статей» (М., 1906), «Церковь и духовенство в домонгольской Руси» (М., 1906), «Политический строй Древней Руси. Вече и князь» (М., 1906), «Страницы из истории крепостного права в XVIII-XIX вв.» (М., 1906), «Торговля и промышленность московского периода» (М., 1912), «Народное хозяйство Белоруссии, 1861-1914» (Минск, 1926) и др.
32 Покровский Михаил Николаевич (1868-1932) — русский историк-марксист, государственный и партийный деятель, закончил историко-филологический факультет Московского университета (1891), ученик В. О. Ключевского и П. Г. Виноградова. Заместитель наркома просвещения РСФСР (1918-1932), один из организаторов Коммунистической академии, Государственного ученого совета, Института истории АН СССР, Института красной профессуры, возглавлял Коммунистическую академию, Институт красной профессуры, Общество историков-марксистов, Центрархив, редактор журналов «Красный архив», «Историк-марксист». «Борьба классов». В 1920-е гг. возглавил «марксистскую историческую школу в СССР», академик (1929). К ранним работам М.Н. Покровского относятся статьи «Средневековые ереси и инквизиция», «Хозяйственная жизнь Западной Европы в конце средних веков» в четырехтомной «Книге для чтения по истории средних веков» (под. ред. П.Г. Виноградова), «Местное самоуправление в древней Руси» (Мелкая земская единица. СПб., 1903) и др.
33 Багалей Дмитрий Иванович (1857-1932) — украинский историк, окончил историко-филологический факультет Харьковского университета (1880), профессор Харьковского университета, ректор Харьковского университета (1906-1910). Автор исследований: «История Северской земли до половины XIV века» (К., 1882), «Очерки из истории колонизации и быта» (М., 1887), «КолонизацияНовороссийскогоКрая» (К., 1889), «Новый историк Малороссии» (СПб., 1891), «К истории учений о быте древних славян» (К., 1892), «Кистории заселения и хозяйственного быта Курской и Воронежской губерний» (СПб., 1896), «Украинская старина» (Харьков, 1896), «Русская история» (Ч. 1-2. Харьков, 1909-1911), «Очерки из русской истории. Т. 1. Статьи по истории просвещения» (Харьков, 1911) и др.
34 Виппер Роберт Юрьевич (1859-1954) — русский историк, профессор Московского университета (1897-1922, 1941-1950), академик (1943). Исследование Р. Ю. Виппера «Иван Грозный» вышло в 1922 г.
IV НАСЛЕДИЕ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Н.Л. Рубинштейн
Буржуазный экономизм. Ключевский
Печатается по: Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 441-469.
Рубинштейн Николай Леонидович (1897-1963) — советский историк, выпускник Новороссийского университета (1922), с 1931 г. работал в Москве в Институте иностранной библиографии, в исторической редакции Соцэкгиза, преподавал в Московском областном пединституте, Московском институте философии, истории и литературы, Московском университете, Московском библиотечном и Историко-архивном институтах.
1 Бокль Генри Томас (1821-1862) — английский историк, автор «Истории цивилизации в Англии».
2 Никитский Александр Иванович (1842-1886) — русский историк, выпускник Университета св. Владимира в Киеве, профессор (с 1873 г.) и декан в Варшавском университете. Н.Л. Рубинштейн объединяет А. И. Никитского, Н.Я. Аристова вместе с В.О. Ключевским в направление буржуазного экономизма; Аристов Николай Яковлевич (1834-1882) — русский историк и публицист, выпускник Казанской духовной академии, преподаватель русской истории в Казанском (1867-1869), Варшавском (1869-1873) и Харьковском (1873-1875) университетах, а также в Нежинском историко-филологическом институте (1875-1882).
3 Н. Л. Рубинштейн упоминает немецких философов Вильгельма Виндель-банда (1848-1915) и Генриха Риккерта (1863-1936), представителей баденской школы неокантианства.
4 Помимо М. В. Ломоносова и Н. М. Карамзина к « риторической историографии» (по выражению С. М. Соловьева) принадлежали Ф. А. Эмин и И. П. Елагин.
5 Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829-1897) — русский историк, выпускник Московского университета, ученик С. М. Соловьева, профессор Петербургского университета (1865-1882), академик (1890).
(i Дьяконов Михаил Александрович (1855-1919) — историк русского права, профессор Дерптского (Юрьевского) университета, Петербургского политехнического института и Петербургского университета, академик (1912).
7 Греков Борис Дмитриевич (1882-1953) — русский историк, учился в Варшавском и Московском университетах, профессор Петроградского университета, профессор Таврического университета (Симферополь), Историко-археографического института, директор Института истории АН СССР (1937-953), директор Института истории материальной культуры АН СССР (1944-1946), академик (1935).
8 Тэн Ипполит Адольф (1828-1893) — французский историк, искусствовед, историк литературы, его «История французской революции» была .опубликована в русском переводе (Ч. 1-6. Харьков, 1906-1913).
М. Н. Тихомиров
<В.О. Ключевский>
Печатается по: Ключевский В.О. Сочинения в восьми томах. Т. I. М., 1956. С. 5-12. Статья представляет собой предисловие к первому тому сочинений В.О. Ключевского.
Тихомиров Михаил Николаевич (1893-1965) — советский историк, окончил историко-филологический факультет Московского университета (1917), ученик С. В. Бахрушина. Преподавал в Самарском университете (1921-1923), сотрудник Государственного исторического музея (с 1923 г.), старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1935-1953) и Института славяноведения АН СССР (1957-1965), с 1934 г. преподавал на историческом факультете Московского государственного университета, декан (1946-1948), заведующий кафедрой источниковедения истории СССР (1952-1965). Академик АН СССР (1953), председатель Археографической комиссии АН СССР (1956-1965).
1 «Курс русской истории» В.О. Ключевского издавался: Ч. 1 (М., 1904), Ч. 2 (М., 1906), Ч. 3 (М., 1908), Ч. 4 (М., 1910). В 1910 г. Ключевский начал работу над пятой частью «Курса русской истории», но успел подготовить к печати только треть текста. В 1921 г. пятая часть «Курса» на основе литографированного издания 1883-1884 гг. была издана Я. Л. Барсковым, а в 1937 г. на основе литографий 1880-х — 1890-х гг.— С. К. Богоявленским. В 1958 г. на основе материалов, подготовленных Ключевским в 1910 г., а также литографированных курсов 1880-х — 1890-х гг. и черновых материалов, пятая часть «Курса» была опубликована А. А. Зиминым и В. А. Александровым в изданных под редакцией М. Н. Тихомирова «Сочинениях» В.О. Ключевского.
2 Второе издание первой части «Курса русской истории» вышлов Москве в 1906 г.
3 Иловайский Дмитрий Иванович (1832-1920) — русский историк, выпускник историко-филологического факультета Московского университета (1854),
адъюнкт кафедры всеобщей истории Московского университета (до 1862 г.), издатель газеты «Кремль» (1897-1916, с 1907 г. «Кремль Иловайского»), автор многократно переиздававшихся гимназических учебников по русской и всеобщей истории.
4 Речь идет о следующих статьях В.О. Ключевского: «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. Кн. V, VII, IX, X) и «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. Кн. VIII, X).
5 Цитируемую статью М. М. Богословского см. в настоящем издании.
6 Речь идет о следующих работах В.О. Ключевского:: «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину» (Русская мысль. 1880. Кн. VI) и «Памяти А.С. Пушкина»; «П.Н. Болтин (Умер в октябре 1792 г.)» (Русская мысль. 1892. Кн. XI); «Памяти И. Н. Болтина»; «Воспоминания о Н. И. Новикове и его времени» (Русская мысль, 1895. Кн. I); «Евгений Онегин и его предки» (Русская мысль. 1887. Кн. II); «Недоросль Фонвизина (Опыт исторического объяснения учебной пьесы)» (Искусство и наука. 1896. № 1).
7 В. О. Ключевский преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества с 1898 по 1910 г.
А. А. Зимин
Формирование исторических взглядов В.О. Ключевского в 60-е годы XIX в.
Печатается по: Исторические записки. Т. 69. М., 1961. С. 178-196.
Зимин Александр Александрович (1920-1980) — советский историк, доктор исторических наук, профессор. Учился на историческом факультете Московского государственного университета (1938-1941), закончил историко-филологический факультет Среднеазиатского университета (1942). С 1947 г. работал в Институте истории АН СССР, преподавал в Московском государственном историко-архивном институте. Специалист по истории русского средневековья, готовил к изданию собрание сочинений В.О. Ключевского.
К. Г. Исупов
Эстетическая историография В. О. Ключевского
Исупов Константин Глебович — доктор философских наук, профессор кафедры эстетики и этики Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аввакум Петрович 484, 707, 756, 904
Айхенвальд Юлий Исаевич 692, 694, 824,909
Аксаков Константин Сергеевич 45, 110, 253, 351, 465, 474, 503, 508, 669, 850, 851,873, 894, 901
Александр! 112,135,172,189,282, 831
Александр II 26, 48, 112, 135, 180, 190, 235, 249, 260, 311, 339-341, 460, 480, 634, 672, 738, 854, 865, 871,892, 896, 928
Александр III 59, 129, 193, 236, 288, 299, 311, 367, 497, 661,672, 692, 741, 765, 834, 853, 860, 867, 880, 885-886, 888, 896, 923, 928
Александр Невский 66-67,605
Алексей Михайлович 141, 156, 163, 169, 183, 260, 266, 293, 359, 546, 568, 588, 751, 769, 784,871,877,921
Алексий, архиепископ (Алексей Федорович Лавров-Платонов) 607, 916, 919
Амвросий (Морев Алексей Иванович) 100, 847
Амфитеатров Егор Васильевич 624, 824,917
Андреевский Иван Ефимович 483, 904
Анна Иоанновна 230, 548, 909
Анненков Павел Васильевич 215, 863, 874
Антоний, архимандрит (Медведев Андрей Гаврилович) 69, 467, 605, 625,916-917
Антонин, епископ (Грановский Александр Андреевич) 220,223,864
Антонович Владимир Бонифатьевич 78, 495, 850, 906
Аристов Николай Яковлевич 766, 932
Аркадий, епископ (Аркадий Константинович Карпинский) 605,638,919 Арсеньев Константин Константинович 220, 864
Артоболевский Иван Алексеевич 799-800, 842-843, 876
Афанасьев Александр Николаевич 253, 464, 874
Бабст Иван Кондратьевич 106, 109, 849
Багалей Дмитрий Иванович 755, 931
Бакунин Михаил Александрович 268, 662, 880, 922
Барсков Яков Лазаревич 19, 857, 903-905, 933
Барсов Елпидифор Васильевич 63-64, 69, 599-600, 602, 815, 841, 884, 889, 914
Барсуков Николай Платонович 604-606,915
Бахофен Иоганн Яков 649, 920
Бахрушин Сергей Владимирович 725, 927, 933
Беляев Иван Дмитиревич 253, 257, 461,465,470-471,474,503,670, 699, 746, 774, 804, 873-874
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич 18, 253, 519, 768, 850, 874, 908, 933
Бильбасов Василий Алексеевич 594, 912
Бирон Иоганн Эрнст 548, 909
Боголепов Николай Павлович 106, 109, 848, 850
Богородский Николай Николаевич 126, 859
Богословский Михаил Михайлович 71, 175, 282, 505, 628, 645, 668, 676, 678, 687, 748, 754, 791, 793-796, 802-804, 843, 853, 857, 860-861, 868,876,884-885,887,889-891,894, 896,900,903,912,918,922-924,934
Бодянский Осип Максимович 461, 902
Бокль Генри Томас 377, 594-595, 765, 797, 827, 897, 913, 932
Болотников Иван Исаевич 665, 731-732, 791, 922
Болтин Иван Никитич 41, 257, 265, 288, 552, 563, 593, 792, 875, 880, 885, 934
Бороздин Илья Николаевич 902
Бредихин Федор Александрович 314, 888
Брызгалов Алексей Александрович 202, 319, 861, 890
Булыгин Александр Григорьевич 880, 888,900, 919, 922
Бурлуцкий Иаков Петрович 100,843, 845,847
Буслаев Федор Иванович 10, 18, 63, 67,85, 149-150, 199,213, 253, 461, 467, 593, 597, 599, 602, 606, 789,800,805-809, 811, 815-816, 820, 822, 842, 844, 872
Бычков Афанисий Федорович 18, 605-606,914
Валуев Дмитрий Александрович 257, 746, 875, 929
Ванновский Петр Семенович 864
Варлаам,архиепископ(Успенский
Василий Иванович 76, 80-84, 89, 97, 101,104-105,843,845-846,848
Василий I Дмитриевич 912
Василий II Васильевич (Темный) 912
Василий III Иванович 912
Васильев Василий Павлович 915
Васильев Иосиф 605, 876
Вебер Максимилиан Карл Эмиль 747, 929
Вейнберг Яков Игнатьевич 109,436, 850,900
ВейнингерОтто 294,886
Венгеров С. А. 875,893
Верюжский Василий Максимович 605,915
Веселовский Степан Борисович 754, 898, 930
ВиллариПаскуале 617,916
Виндельбанд Вильгельм 768, 932
Виноградов Павел Гаврилович 128, 182, 199, 852, 859, 869, 931
Виппер Роберт Юрьевич 363, 755, 799, 855, 932
Вирганская (урожд. Ключевская) Елизавета Осиповна 72, 80, 83, 88,843-844
Витте Сергей Юльевич 134-136,365, 853
Владимирский-Буданов Михаил Фле-гонтович 28,643-644, 744,919-920
Водар Владимир Карлович 234, 866
Волконский Сергей Васильевич 86, 844
Вормс Рене 657, 921
Воскресенский Григорий Александрович 635,637,918
Вундт Вильгельм Максимилиан 410, 899
Ганецкий Николай Степанович 234, 866
Ганка Вацлав 590,911
Гвоздев Порфирий Петрович 22, 40, 82, 100, 784, 787, 844, 847
Гегель Георг Вильгельм Фридрих 33, 127-128, 350, 481, 495, 498, 509, 519, 521, 523, 532, 658, 804, 852,870
Георгий Александрович, великий князь 48, 157, 113, 181, 193, 298, 327, 365, 661, 741, 856, 858, 884, 886, 891,896, 922, 928
Герберштейн Сигизмунд фон 416, 899
Гердер Иоганн Готфрид 532, 827, 908
Герцен Александр Иванович 253, 262, 742, 850, 874, 877, 901, 912, 928, 934
Герценштейн Михаил Яковлевич 549, 909
Гершензон Михаил Осипович 427, 899
Герье Владимир Иванович 22, 40, 63,106,109,182,193,199,309, 363, 462, 842, 848, 856, 859, 868, 888
Гёте Иоганн Вольфганг фон 296, 298
Гизетти Алексей Викторович 647, 862, 920
Гизетти Антон Германович 209,647, 862, 920
Гизо Франсуа Пьер Гийом 153, 376, 612-613,619,747,748,799, 855, 897
Гиляров Алексей Никитич 201,318, 861,890
Гиляров-Платонов Никита Петрович 234,867
Глаголев Сергей Сергеевич 803, 885
Глинка Михаил Иванович 214,863
Гоголь Николай Васильевич 7, 45 -47, 827
Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич 220,864
Голицын Василий Васильевич 489, 905
Голицын Николай Владимирович 139, 854
Голубинский Евгений Евсигнеевич 145, 273, 329, 605, 608, 620-621, 623, 627-628, 635, 855, 891,915,918
Голубцов Александр Петрович 273, 282, 735,883, 918
Голубцов Сергей Александрович 759-760, 794-795,925, 927
Голубцова (урожд. Смирнова) Ольга Сергеевна 883
Голубцова Мария Александровна 868, 883
Гольцев Виктор Александрович 308-309, 887, 928
Горсей Джером 213,863
Горский Александр Васильевич 68,145, 191, 294, 327, 608, 624, 635-636, 638-639, 684,842,854,918
Горчаков Михаил Иванович 20,198, 816,818-819, 861
Горький Максим 45,55,59,316-317, 832, 889
Готье Эдуард Владимирович 154, 856
Готье Юрий Владимирович 56,154, 175, 282, 754, 855-856,858, 884
Градовский Александр Дмитриевич 253, 354, 644, 874, 920
Грановский Тимофей Николаевич 124-125,127,523,584,852, 860
Греве Иван Михайлович 647, 857, 920
Греков Борис Дмитриевич 754,774, 930, 933
Грин Джон Ричард 738, 928
Грот Николай Яковлевич 293,886
Грот Яков Карлович 215,863
Грушевский Михаил Сергеевич 753, 755, 930
Гюго Виктор Мари 7, 546, 909
Давыдов Николай Васильевич 218, 308, 657, 863, 887
Данилевский Николай Яковлевич 492-493,829,850, 906
Дарвин Чарльз 128-129, 800,852
Делянов Иван Давыдович 208, 298, 325,861,886, 890
Дитятин Иван Иванович 354, 644, 895, 920
Дмитриев Федор Михайлович 464, 483,902
Добровский Иосиф 590, 911
Добролюбов Николай Александрович 740, 799-801,806,822,826,901, 912-913, 928
Довнар-Запольский Митрофан Викторович 722, 754, 925, 931
Достоевский Федор Михайлович 45, 226, 291, 742, 822, 827-828, 835, 837-838
Дройзен Иоганн Густав 175, 858
Дрэпер (Дрейпер) Джон Уильям 594, 913
Духовский Сергей Михайлович 234, 866
Дьяконов Михаил Александрович 505, 686, 774, 907, 924, 933
Дюран де Сен Пурсан Гильом 85, 802, 844
Евдоким (Мещерский Василий Иванович) 143,147-148, 192,854,887
Евпсихий, архимандрит(Горенко Иван Васильевич) 81,98-99,544, 847
Европейцев Иван Васильевич 71, 76-77, 80-82, 84,87, 798, 801, 843, 845
Екатерина II 59, 156, 173, 188,216, 328, 476, 504, 593, 620, 622, 664, 734, 786, 830, 856, 879, 887, 903, 912, 917
Елизавета 119,123,221,417
Епифаний Премудрый 468, 550, 909
Ефимовский Евгений Амвросиевич 228,866
Ефросин Псковский 68, 603, 605, 915
Ешевский Степан Васильевич 149, 376, 461, 467, 598, 802-803, 811-812, 822, 830, 855,872, 897, 901,914
Жиро-Тёлон Алексис 33, 920
Забелин Иван Егорович 211, 253, 257,371,464, 483, 494-495, 508, 676, 699, 746, 804, 862, 874
Загоскин Николай Павлович 393, 471, 503, 578,595, 910, 920
Заозерский Николай Александрович 620, 638, 754, 917
Захаров Андреян Дмитриевич 738, 928 ЗиберНиколай Иванович 647, 920 Зимин Александр Александрович 17, 48, 793, 798, 857, 872, 933-934
Знаменский Петр Васильевич 140, 599, 621, 914, 917
Золя Эмиль 290,822-823,555
Зосима (XV в.) 594,913
Зосима (Захария Васильевич (Богданович) Верховский 68, 594, 812, 827, 913
Зосима Соловецкий 594,607, 913
Иван I Данилович Калита 156, 359, 473, 607, 649, 912, 937
Иван II Иванович Красный 912
Иван III Васильевич (Великий) 211, 386, 408, 416, 752, 769, 782, 909, 912
Иван IV Васильевич (Грозный) 56-57, 132, 141, 155, 157, 162-163, 188, 211-212, 359, 367, 418, 473, 488, 504, 552, 588, 650, 707, 751, 755, 769, 783, 791, 853,912
Иванов Александр Андреевич 315, 683, 923
Иванцов-Платонов Александр Михайлович 198-199, 200, 234, 635, 861,867
Игнатий (Рождественский Николай Дмитриевич) 625,917
Иловайский Дмитрий Иванович 184, 790, 859, 934
Ильминский Николай Иванович 103, 847
Инама-Штернегг Карл Теодор Фердинанд Михиэль фон 746, 929
Иннокентий, митрополит (Иван Евсеевич Попов-Вениаминов) 636,915
Иоанн Златоуст 594, 913
Иоллос Григорий Борисович 549, 666, 909, 922
Иосиф Волоцкий 747, 839, 929
Исаков Николай Васильевич 108-109, 849
Исупов Константин Глебович 4, 828, 934
Каблудовский Арсений Петрович 605,916
Каблуков Иван Александрович 86, 844
Кавелин Константин Дмитриевич 9, 126, 247, 253, 257, 351, 354, 462-464,470,481, 483, 491, 498, 508, 510, 516, 518, 521-522, 536, 743, 765, 781, 815, 852, 871, 873, 901,903, 908
Кавос Михаил Альбертович 209, 862
Казанский Петр Симонович 99,191, 608, 620, 623-627, 860, 916, 91 7
Калачов Николай Васильевич 464, 902
Кант Эммануил 586,911
Каптерев Николай Федорович 917-918
Капустин Михаил Николаевич 106, 109,848
Карамзин Николай Михайлович 8-9, 78, 194, 286, 347, 350, 362, 437, 464, 483, 517, 573, 594, 683, 738, 752, 768, 778-780, 782, 821, 836, 840, 843, 851, 870, 900, 904, 933
Карл XII 179, 281, 431
Карпов Геннадий Федорович 343, 894 Карпова Анна Тимофеевна 343,894 Касицын Дмитрий Федорович 624, 917
Каченовский Михаил Трофимович 242,436,464, 738, 869
Кетчер Николай Христофорович 604, 915
Кизеветтер Александр Александрович 4, 23, 175, 505, 588, 692, 722, 739, 794, 799, 837, 851, 867, 872, 882, 889, 892-893, 899, 924
Кизеветтер Екатерина Яковлевна 339,892
Киреевский Иван Васильевич 833, 850, 874
Киреевский Петр Васильевич 257, 833, 875-876
Кирпичников Александр Иванович 210, 862
Клочков Михаил Васильевич 906
Ключевская Надежда Осиповна 845
Ключевская (урожд. Бородина) Анисья Михайловна 845, 858, 867, 884,907,912
Ключевская (урожд. Мошкова) Анна Федоровна 844
Ключевский Борис 892
Ключевский Осип 843
Князьков Сергей Александрович 853
Кобеко Дмитрий Фомич 51,219,642, 660, 864,919
Ковалевский Максим Максимович 198, 298, 857-858
Коловрат- Либштейнский Франц Антон фон 590, 911
Колосов Николай Александрович 883, 890
Кольцов Алексей Васильевич 594, 912 Кондаков Никодим Павлович 752,930 Кони Анатолий Федорович 11,51,55, 171, 642, 666, 857, 862, 865, 922
Коноплёв Николай Алексеевич 605, 915
Конт Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье 532, 643, 659, 908, 919
Корелин Михаил Сергеевич 309, 363, 542-543,888
Корнилов Александр Александрович 722-723,893, 926
Корсаков Дмитрий Александрович 872-873, 901
Корш Федор Евгеньевич 63, 461, 842, 901
Костомаров Николай Иванович 9, 194,197,210-211, 213-214, 253, 483, 503, 699, 738, 747, 766, 768, 804, 811, 836, 850, 860, 862
Котляревский Нестор Алексеевич 28, 480, 693-694,903
Котошихин Григорий Карпович 656-657,871,92/
Кочубей Виктор Павлович 265, 544, 878
Крамериус Вацлав Матфей 590, 911
Крижанич Юрий 707, 925
Крумбахер Карл 298, 334,886, 891
Крылов Иван Андреевич 594, 622, 912
Крылов Никита Иванович 894, 908
Кудрявцев Петр Николаевич 9, 376, 896
Кузен Виктор 532, 908
Куликов Николай Николаевич 209, 862
Куминский Петр Иванович 96, 846
Куник Арист Аристович 596, 9/3
Куторга Михаил Семенович 63, 842
Лаврентий (Михаил Иванович Некрасов) 918
Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич 29, 505, 640, 754-755, 790, 794, 805, 824, 896-897, 919, 923, 926, 930
Латкин Василий Николаевич 503, 907
Лебедев Алексей Петрович 329,332, 623-624,626-627,89/
Ледницкий Александр Робертович 585,910
Лемке Михаил Константинович 594, 878, 912
Леонтий, митрополит (Иван Алексеевич Лебединский) 334, 467,891
Леонтьев Павел Михайлович 10,63, 348, 461, 802, 822, 828, 836, 842, 850, 894, 901
Лермонтов Михаил Юрьевич 45-46, 293, 307, 328, 367, 568, 592, 594, 662, 688, 696, 853, 880, 886-887, 891, 896, 922, 924
Лесков Николай Семенович 56,751, 929
Лешков Василий Николаевич 461, 465,902
Лигин (Юровский Леонид Наумович) 63, 851
Линиченко Иван Андреевич 905 Львов Лоллий Иванович 867,899 Любавский Матвей Кузьмич 21, 71, 82, 175, 363, 668, 684,690, 722-725,755,793-796,805,843, 867-869,900, 923, 927
Любомиров Павел Григорьевич 676, 923
Лясковский Николай Эрастович 106, 109,849
Макарий, митрополит (Михаил Петрович Булгаков) 69, 331, 468, 89/, 9/3
Маклаков Василий Алексеевич 824, 887
Мак-Леннан Джон Фергюсон 649, 920
Маловский Василий Петрович 103, 845,848
Маркс Карл Генрих 128, 245, 480, 481, 532, 613, 643, 647, 654, 660, 852,870,919-921
Масловский Дмитрий Федорович 92, 97,100,103-105, 234, 845-846,866
Матвеев Артамон Сергеевич 912
Мережковский Дмитрий Сергеевич 568,909
Мещерский Владимир Петрович 220, 864
Миллер Всеволод Федорович 199, 850,861
Милль Джон Стюарт 532, 908
Мильтон Джон 8, 326, 890
Милюков Павел Николаевич 29, 44, 59, 71, 73, 128, 157, 309-311, 343,363,611,613, 653, 661-662, 668, 686, 691, 695, 722, 723, 725, 741, 746, 754, 781, 785, 837, 843, 867-871, 873-894, 921, 930
Милютин Николай Алексеевич 20, 108, 339, 810, 849, 892
Минье Франсуа-Огюст 613, 619, 916 Митрофания, игуменья (баронесса
Розен Прасковья Григорьевна) 226,865
Михаил, архимандрит (Матвей Иванович Лузин) 249
Михаил Федорович 871
Мишле Жюль 738, 928
Морозова (урожд. Симонова) Мария Федоровна 79,826,843
Мошков Федор Исаакович 73, 75, 843-845
Муравьев Андрей Николаевич 218, 597,914
Муравьев Николай Валерианович 863
Муромцев Сергей Андреевич 146, 176, 199, 271, 343, 695, 855, 858, 882-883, 893
Мэн Генри Джеймс 33, 670, 923
Нартов Андрей Константинович 592-593, 912
Неволин Константин Алексеевич 354,894
Некрасов Иван Степанович 915
Некрасов Н. А. 210,226,308-309, 461,597, 605, 739,901,913
Нестор Летописец 555, 631, 909, 918, 920
Никитин Петр Васильевич 278, 884 Н икитский Александр Иванович 351, 766, 894, 932
Николай I 112, 265, 544, 835, 876, 878, 883
Николай II 59, 660, 833, 880-881, 888, 919, 922
Никон (Минов Никита), патриарх 559, 904
НилСорский 747,839,929
Ницше Фридрих 545, 586, 828, 909
Новгородцев Павел Иванович 586, 673-674,835-836,911, 923
Новиков Николай Иванович 8, 173, 193, 265, 328, 547, 560, 563, 566, 593, 632, 688, 792, 829, 831, 832, 857,860,878-880,891,912,924,934
Овсов Андрей Лукич 96, 103, 846
Ольминский (настоящая фамилия Александров) Михаил Степанович 449,900
Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич 215, 260, 489, 504, 863,877,912
Охочинский Петр Владимирович 134,853
Павел! 450, 620, 906,917
Павлов Алексей Степанович 861
Павлов Николай Михайлович 199-198, 269, 311, 599, 880-881,888
Павлов Платон Васильевич 464, 902 Павлов-Сильванский Николай Павлович 505,610,754,772, 907
Парадизов Степан Андреевич 100, 105, 847
Пассовер Александр Яковлевич 218, 863
Пастернак Борис Леонидович 50, 840 Пастернак Леонид Осипович 49-50, 55, 283, 884
Пафнутий Боровский 603-604,607, 747, 816, 819, 842, 929
Перетяткович Георгий Иванович 725, 926
Петр I 25, 38, 40, 44, 49, 59, 126,173, 175, 179, 216-217, 260, 281, 295-297,309,314-315,359,388-390, 406,409,416-418,423,431,439, 443,450-451,457,477,522, 554, 559,561-563,574,576-577,664, 667, 704, 708, 713, 721, 734-735, 767, 769, 775, 783-785, 829, 856, 869, 906, 912
Петр III 179,182,295,450,477,546
Петражицкий Лев Иосифович 657, 919, 921
Пионтковский Сергей Андреевич 925 Писарев Дмитрий Иванович 253,874 Пихно Дмитрий Иванович 220,864 Пичета Владимир Иванович 510,9/0 Платон (Фивейский Павел Симонович) 625-626, 917
Платонов Сергей Федорович 28, 44, 198-200, 505, 605, 635,656, 662-663,666,694,696, 722-725, 727, 754, 772, 783, 790, 833, 867, 895, 905, 923, 926, 930
Плеве Вячеслав Константинович, фон 218,863
Плеханов Георгий Валентинович 647-648, 901, 916
Победоносцев Константин Петрович 10,299,886
Погодин Михаил Петрович 125, 257, 350, 436, 464, 513, 613, 771, 804, 827, 875-876, 908
Погожев Петр 803-805, 855
Покровский Александр Иванович 854
Покровский Иосиф Алексеевич 658, 921
Покровский Михаил Николаевич 55, 754, 759, 795-797, 869, 931
Полевой Николай Алексеевич 738, 928
Помяловский Николай Герасимович 262,877
Попов Александр Николаевич 257, 746, 824, 875, 929
Попов Иван Васильевич 190, 602, 859, 868
Попов Михаил Митрофанович 101, 847
Попов Нил Александрович 63, 66, 241, 286, 327, 597, 602, 841, 869, 868,885
Посошков Иван Тихонович 561,909 ПоссевиноАнтонио 213, 862 Пресняков Александр Евгеньевич 724, 755, 759, 769, 780, 794, 804, 824, 923, 926
Пржевальский Евгений Михайлович 234,867
Прохазка Франтишек Фаустин 590, 911
Прудон Пьер Жозеф 268, 662, 880, 922
Публий Вергилий Марон 742, 838, 928
Путилов Алексей Иванович 134, 853 Пухмайер Антонин Ярослав 590, 911 Пушкин Александр Сергеевич 7, 45-46, 214-216, 293, 364,476, 566-567,593-594,640,683, 688, 692, 696, 738, 785, 792, 823, 828, 834, 838, 840,863,886, 895-896, 912-913, 924, 934
Пыпин Александр Николаевич 483, 594, 876, 879, 904
Ранке Леопольд фон 175, 402, 738, 858, 928
Рахманов Георгий Карпович 339-341, 569,892-893, 910
Редкин Петр Григорьевич 127, 852
Ренан Жозеф Эрнест 305, 887
Риккерт Генрих 401, 403, 768,899, 908, 932
Римский-Корсаков Николай Андреевич 57, 856
Родбертус-Ягецов Карл Иоганн 746, 929
Роджерс Джеймс Элвин Торолд 245, 746, 870, 929
Рождественский Алексей Андреевич 95,845-848
Рождественский Сергей Васильевич 754,930
Рожков Николай Александрович 128, 749, 754, 772, 852, 929
Розанов Василий Васильевич 7, 836-838,911-912
Розов Василий Михайлович 95-96, 846
Романович-Славатинский Александр Васильевич 449, 901
Росси Карл Иванович 302, 738, 928
Росси Эрнесто 887
Ртищев Федор Михайлович 260,547, 784, 877, 909
Рубинштейн Николай Леонидович 797-798,932
Румянцев-Задунайский Петр Александрович 216,863
РуссоЖан-Жак 586,818,91/
Савватий Соловецкий 594, 913
Савватий Тверской 594, 913
Савиньи Фридрих Карл фон 509, 532, 908
Садовский (Ермилов) Пров Михайлович 296, 886
Сакулин Павел Никитич 427, 899
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 47, 111, 113, 928
Самарин Юрий Федорович 253, 449, 850, 858, 873-874, 901, 908
Самохвалов Михаил Петрович 109, ’ 111,234,849,866
Самохвалова Людмила Александровна (урожд. Бродская) 234,867
Светлицкий Николай Николаевич 234,866
Семевский Василий Иванович 42, 309, 887-888
Сергеевич Василий Иванович 354, 366 .367, 480, 496, 501, 503, 530, 540, 656, 744, 755, 771, 780, 895, 907
Сергей Александрович, великий князь 139, 327, 365,854, 896
Сергиевский Николай Александрович 85, 802, 844
Сергий (Спасский Иван Александрович) 79, 259, 288, 328, 334, 345, 433, 605, 607, 627, 636, 688, 692, 729, 750, 825-827, 890, 896, 903, 916, 924, 929
Сергий Радонежский 45, 259, 315, 364, 476, 593, 606, 632, 728, 750, 826-827, 853, 876, 885, 900, 909, 912, 929
Серебрянский Николай Ильич 605-606,915
Сигизмунд III 659,922
Смирнов Авраамий 97-99,100-101, 104-105, 846
Смирнов Андрей Петрович 624,626, 846, 917
Смирнов Сергей Иванович 192,596, 633, 684, 805, 812, 841,860, 872, 913,916. 918, 924
Смирнова-Россет Александра Осиповна 683,923
Соболевский Василий Михайлович 343,883, 893
Соколов Василий Александрович 277, 631,882, 884,918
Солдатенков Козьма Терентьевич 604, 759, 915
Соловьев Владимир Сергеевич 292, 568,828, 885-886, 909
Соловьев Сергей Михайлович 10, 18, 22, 29, 63, 65, 85, 106, 109, 119, 126-129, 149, 154, 160, 172, 174-175, 188, 193-194, 196-197,199-200, 205, 217, 233,242,247, 252-253, 255, 258, 269, 276, 285-288, 292-293, 322, 326-327, 330, 335, 345, 347, 349-352, 354, 362-363, 370, 376-378, 381, 385-388, 392-393, 435-448, 461-464, 467-468, 470, 472, 479, 481, 491, 493-498,503, 505-510, 513-514, 516,518-519,521,524-525, 536, 548,551, 564-565, 571-577, 579, 587, 593, 598, 601-602, 606, 640, 642,668-669, 676-677, 678-683, 689, 692, 698-699, 701, 712, 720, 723-725,728, ?38, 742-744, 746, 748, 752, 755, 760-763, 765, 767, 769, 776-783, 785-786, 788-790, 793-800, 803-806,. 810-811, 815, 820, 821, 826, 837, 841, 844, 856, 861,868-869. 872-875, 880, 885, 890, 908, 911, 923-924, 926, 933
Спенсер Герберт 128, 532, 852, 908 Сперанский Михаил Михайлович 347, 606, 622, 894
Сперанский Николай Васильевич 250, 871
Спижарный Иван Константинович 283, 883-884
Стасюлевич Михаил Матвеевич 220, 227, 594,864,912
Стефан Пермский 288, 728,885, 909
Сторожев Василий Николаевич 128, 852
Стороженко В. А. 283,329,883,892
Стороженко Николай Ильич 109, 199,850,861
Струве Петр Бернгардович 312,433, 658, 660, 835, 888, 899
Субботин Николай Иванович 329, 623-625,891
Суворин Алексей Сергеевич 220, 864
Суворов Александр Васильевич 216, 863
Сыромятников Борис Иванович 12, 506, 643, 653, 668, 907, 921
Танков Анатолий Алексеевич 196, 860, 869
Татищев Василий Никитич 9, 41, 78, 288, 593, 843, 885
Тимирязев Климент Аркадьевич 297, 886
Тихомиров Михаил Николаевич 788, 933
Тихомиров Павел Васильевич 143, 854
Тихонравов Николай Савич 10, 19, 63, 68, 461, 467, 593, 599, 602, 815, 842, 902
Толстой Лев Николаевич 7, 46, 55, 226, 290, 294, 304, 360, 594, 742, 822,831-833,835,838,865, 887
Трубецкой Сергей Николаевич 270, 826,881
Тургенев Иван Сергеевич 46, 215, 226, 291,851,863, 885
Тхоржевский Сергей Иванович 760, 824,919
Тьерри Жак Никола Огюстен 613, 619, 916
Тэн Ипполит Адольф 33, 784, 933
Уваров Алексей Сергеевич 599, 914
Уваров Сергей Семенович 258,815, 819, 876
Уланов Василий Яковлевич 120, 851
У идольский Вукол Михайлович 598, 813, 819, 914
Усов Сергей Алексеевич 494,906
Фабр Жан Анри 369, 896
Федотов Георгий Петрович 8, 23, 27-28, 823-824, 828, 837-840, 927, 929
Филарет, архиепископ (Дмитрий Григорьевич Гумилевский) 68, 100, 102, 597, 805, 914
Филиппов Тертий Иванович 259, 876, 901
Фихте Иоганн Готлиб 78, 295, 886
Фонвизин Денис Иванович 45, 265, 560,567-568,592-594,688,829, 839, 878-879, 903, 909, 924, 934
Фортунатов Степан Федорович 154, 250, 342, 856, 871.892-893
Фюстель де Куланж Нюма-Дени 33, 256,857
Хворостинин Иван Андреевич 477, 707, 925
Хвостов Вениамин Михайлович 667, 898
Хвостов Михаил Михайлович 491, 906
Хитров Михаил Иванович 182-185, 859
Хмельницкий Богдан 408, 665, 922
Хомяков Алексей Степанович 253, 303,850,873, 887, 908
Цертелев Дмитрий Николаевич 220, 864
Цицерон Марк Тулий 217, 863
Чеботарев Харитон Андреевич 436, 900
Чернышевский Николай Гаврилович 77-78, 253, 262, 461, 594, 740, 742,761,766,797-801, 806, 822, 831, 874,877, 901, 913, 928
Чехов Антон Павлович 45, 47, 110, 849
Чичерин Борис Николаевич 10,126, 174, 223, 247, 253, 257, 348-349, 351,354,461,464,470,480-481, 483, 491-492,498,503, 506-509, 513-514, 516-527,529,536-540, 647, 651, 653-654,657-658,661, 664, 668, 670, 672-674, 676-677, 679,695, 723-725, 742-744,752, 760-762, 766-767, 777-779, 781-783,789,793-798,800,802, 804-805, 857, 864, 873-874, 890, 894-895, 897-898, 906-908, 910, 921,924
Чупров Александр Иванович 106, 109,198,849
Шайкевич Самуил Соломонович 212, 862
Шаляпин Федор Иванович 45, 55-56, 157, 833, 856
Шариков С. С. 277,882,884
Шафарик Павел Йозеф 589, 911
Шахматов Алексей Александрович 505,605,865, 907, 916
Шахов Александр Александрович 20, 199, 250, 600,858,861,871
Шванебах Борис Антонович 106,108, 111,848
Шевырев Степан Петрович 68, 597, 607, 842, 914
Шопенгауэр Артур 210, 862 Штаммлер Рудольф 657,921 Штейн Лоренц фон 644, 658, 920
Шторх Андрей Карлович (Генрих Фридрих), фон 257, 746, 875, 929
Шуйский Василий 56,562,833,909
Щапов Афанасий Прокопьевич 18,211, 253-254, 263, 377, 467, 503, 508, 599, 676, 740, 761, 763, 765-766, 777, 796-797, 799, 803, 811-812, 814-815, 819-820, 862,872,875
Щербатов Михаил Михайлович 459, 830,901
Эверс Иоганн Филипп Густав фон 464, 474,873, 902
Экстен Василий Александрович 234, 867
Юзефович Борис Михайлович 220, 864
Юлиания (Ульяна) Лазаревская 547, 909
Юркевич Памфил Данилович 63, 109,802,841,850
Юшенов Павел Николаевич 109, 850
Яблоновский Александр Валериан 605,915
Яковлев Алексей Иванович 605,725, 799,800-802, 805, 926
Янжул Иван Иванович 106,109,111, 199,849
Ярослав Мудрый 593, 912
Яхонтов Иван Андреевич 605,915
Яхонтов Степан Дмитриевич 896
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя............................................... 5
Р.А. Киреева
За художником скрывается мыслитель:
Василий Осипович Ключевский........................... 7
I
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО
Магистерский диспут В.О. Ключевского
Протоколы факультетских заседаний <Фрагменты>............ 63
И.А. Артоболевский
К биографии В. О. Ключевского (Ключевский до университета)......................... 71
Е.О. Виргинская Воспоминания о В. О. Ключевском...................... 88
В.П. Маловский Воспоминания о В. О. Ключевском...................... 92
А. А. Рождественский Воспоминания о В. О. Ключевском.......................... 95
Н.П. Нечаев
<Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского в Александровском военном училище>.................. 106
В. А. Петров
•Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского в Александровском военном училище>.................. 108
II
В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ
А. А. Кизеветтер
В.О. Ключевский как ученый историк России <Фрагмент>.......................................... 117
В.Я. Уланов
Арфа сломана........................................ 120
Лигин Ключевский-журналист................................... 123
Н.Н. Овсянников
В.О. Ключевский как историк............................ 127
Н. Пелетчин
Памяти проф. Ключевского............................... 131
Из жизни В.О. Ключевского.................................. 134
Ключевский на выборах в 1-ю Государственную думу........... 137
<Отношение В.О. Ключевского к предсоборному присутствии»............................... 138
<Лекции Ключевского великому князю Сергею Александровичу>.................... 139
И. М. Громогласов
'Воспоминания о В. О. Ключевском>..................... 140
А. И. Покровский <Воспоминания о В. О. Ключевском>...................... 144
Ключевский и волнения в Духовной академии.................. 147
П. Погожев
Первая работа В. О. Ключевского........................ 149
Р.Ю. Виппер
Памяти великого учителя (Письмо в редакцию)............ 151
Ю. В. Готье
Университет < Фрагмент >........................................... 154
А. А. Кизеветтер
В. О. Ключевский как преподаватель..................... 158
М.М. Ковалевский
Василий Осипович Ключевский............................ 171
А. М. Белов
В.О. Ключевский как лектор (Из воспоминаний его слушателя)........................ 177
Б.А. Щетинин
Из воспоминаний о В. О. Ключевском..................... 182
Н.Н. Богородский
Василий Осипович Ключевский (Воспоминания слушателя)............................... 186
А.А. Танков Памяти В.О. Ключевского
(Из воспоминаний его слушателя)........................ 196
М.М. Богословский
Из воспоминаний о В. О. Ключевском..................... 201
А.Ф. Кони Воспоминания о В.О. Ключевском......................... 209
Е.А. Ефимовский
Лекции В. О. Ключевского в жизни Московского студенчества....................... 228
Н.Г. Путинцев
Памяти историка Василия Осиповича Ключевского <Фрагмент>............................................. 232
П.Н. Милюков В. О. Ключевский....................................... 238
М.А. Голубцова Воспоминания о В. О. Ключевском........................ 273
Е. В. Барсов
В. О. Ключевский — как председатель Общества........... 285
С. С. Глаголев
О В. О. Ключевском..................................... 290
В.А. Маклаков Отрывки из воспоминаний................................ 307
Е.В. Барсов Мнение В. О. Ключевского о Максиме Горьком............. 316
М.М. Богословский Из воспоминаний о В. О. Ключевском..................... 318
Н.А. Колосов
Профессор В. О. Ключевский
(Краткий некролог и личные воспоминания)............... 326
Н.М. Ликин
Памяти В.О. Ключевского................................ 335
Е.Я. Кизеветтер
Заметки о В.О. Ключевском. 1911 год
(Отрывки из дневника).................................. 339
М. М. Богословский
В. О. Ключевский как ученый............................ 344
С. Ф. Платонов Памяти В. О. Ключевского............................... 363
С.Д. Яхонтов
12 мая 1911 г. Памяти В.О. Ключевского................. 368
III
В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ
А. С. Лаппо-Данилевский Исторические взгляды В. О. Ключевского................. 375
Записка об ученых трудах ординарного профессора
Императорского Московского университета В. О. Ключевского. . . . 391 В.М. Хвостов
Историческое мировоззрение В. О. Ключевского........... 398
А.А. Кизеветтер Ключевский и «социализация» классиков.................. 427
Л. И. Львов Ключевский о России.................................... 429
М. К. Любавский Соловьев и Ключевский.................................. 435
А. Александров (М.С. Ольминский) В. Ключевский.......................................... 449
Д.А. Корсаков По поводу двух монографий В. О. Ключевского............ 459
И.Н. Бороздин
Памяти В.О. Ключевского (Умер 12 мая 1911 года)................................ 475
Я,Л. Барское
Василий Осипович Ключевский [Не позже 12 мая 1921 г.].............................. 479
И.А. Линниченко Василий Осипович Ключевский............................ 490
М.В. Клочков
Из траурных воспоминаний. В.О. Ключевский (1839-1911)............................ 496
Б. И. Сыромятников В. О. Ключевский и Б. Н. Чичерин....................... 506
Ю.И. Айхенвальд Ключевский мыслитель и художник........................ 542
1 В.И.Пичета
Исторические взгляды и методологические приемы В.О. Ключевского............. 570
А.Р. Ледницкий В.О. Ключевский как историк-славянин................... 585
В. В. Розанов Ключевский (К 75-летию со дня рождения)................ 592
С.И. Смирнов
Исследование В. О. Ключевского
«Древнерусские жития святых как исторический источник».... 596
Г. В. Плеханов <В.О. Ключевский>...................................... 609
Н.А. Заозерский
Василий Осипович Ключевский в его рецензиях диссертаций на ученые степени профессоров и студентов
М- осковской * Д<уховной> академии..................... 620
Двадцатипятилетие профессорской службы В.О. Ключевского в Московской духовной академии......................... 628
С. И. Тхоржевский
В. О. Ключевский как социолог и политический мыслитель. 640
А. Е. Пресняков В. О. Ключевский (1911-1921).......................... 675
С.А. Голубцов
Теоретические взгляды В. О. Ключевского (1911-12мая 1921)..................................... 697
С.А. Пионтковский
<В. О. Ключевский> <Фрагменты>........................................... 722
Г.П. Федотов Россия Ключевского.................................... 737
IV
НАСЛЕДИЕ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Н.Л. Рубинштейн Буржуазный экономизм. Ключевский...................... 759
М.Н. Тихомиров • В. О. Ключевский ................................... 788
АА Зимин
Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского в 60-е гг. XIX в...................................... 793
К. Г. Исупов Эстетическая историография В. О. Ключевского.......... 821
Комментарии............................................... 841
Указатель имен............................................ 935
В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ: PRO ЕТ CONTRA
Антология
Составитель
Алексей Валерьевич Малинов
Редактор В.Н. Подгорбунских Корректор С. А. Авдеев Верстка Т. О. Прокофьевой
Подписано в печать 13.10.2013. Формат 60 х 90 '/16 Бум. офсетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 59,50. Тираж 1500 экз.
Зак. №110
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15, Некоммерческое партнерство Межцерковная организация «Апостольский город — Невская перспектива».
Тел.:(812)310-97-91
Отпечатано в типографии ООО «Премиум», 196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 21, лит. А