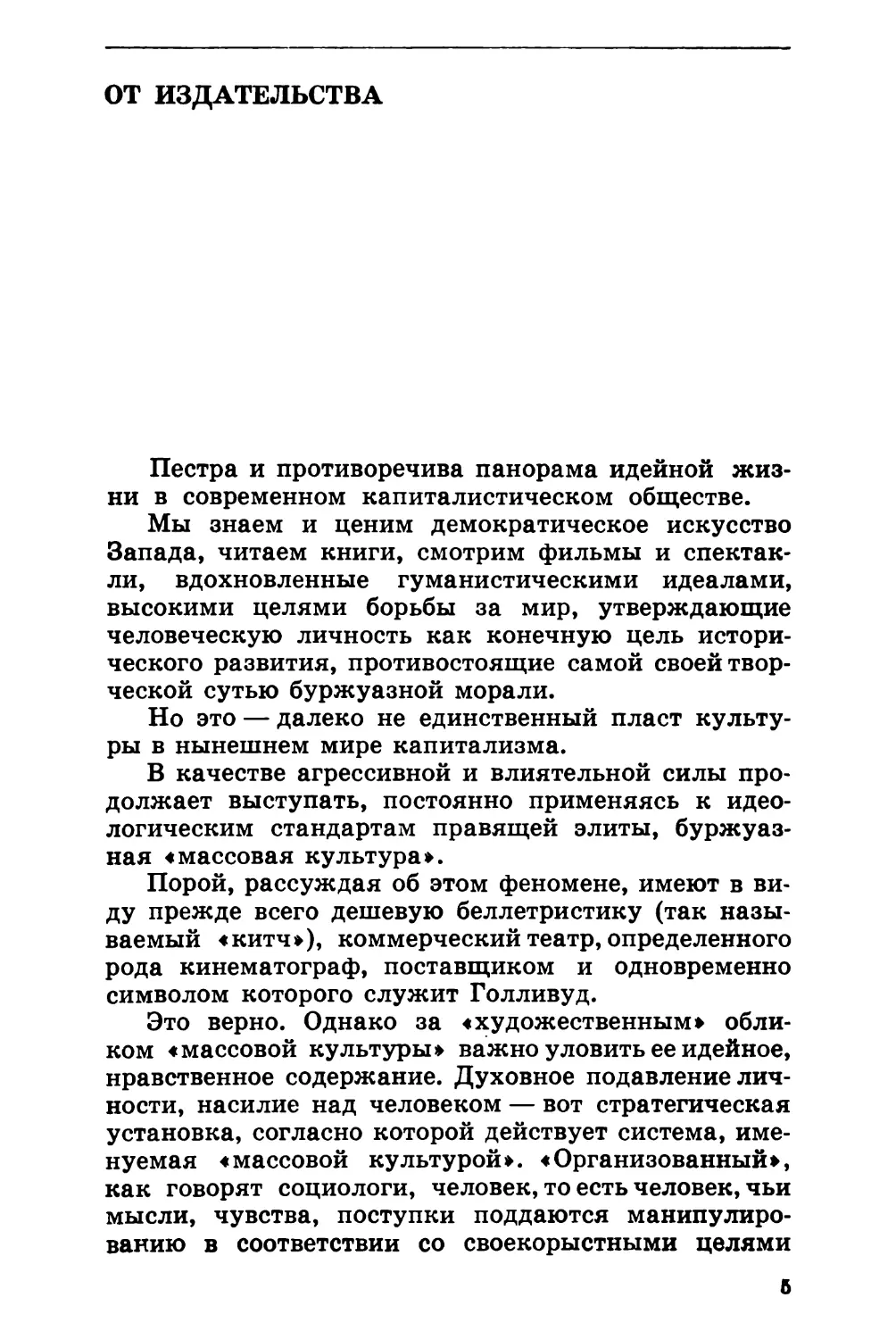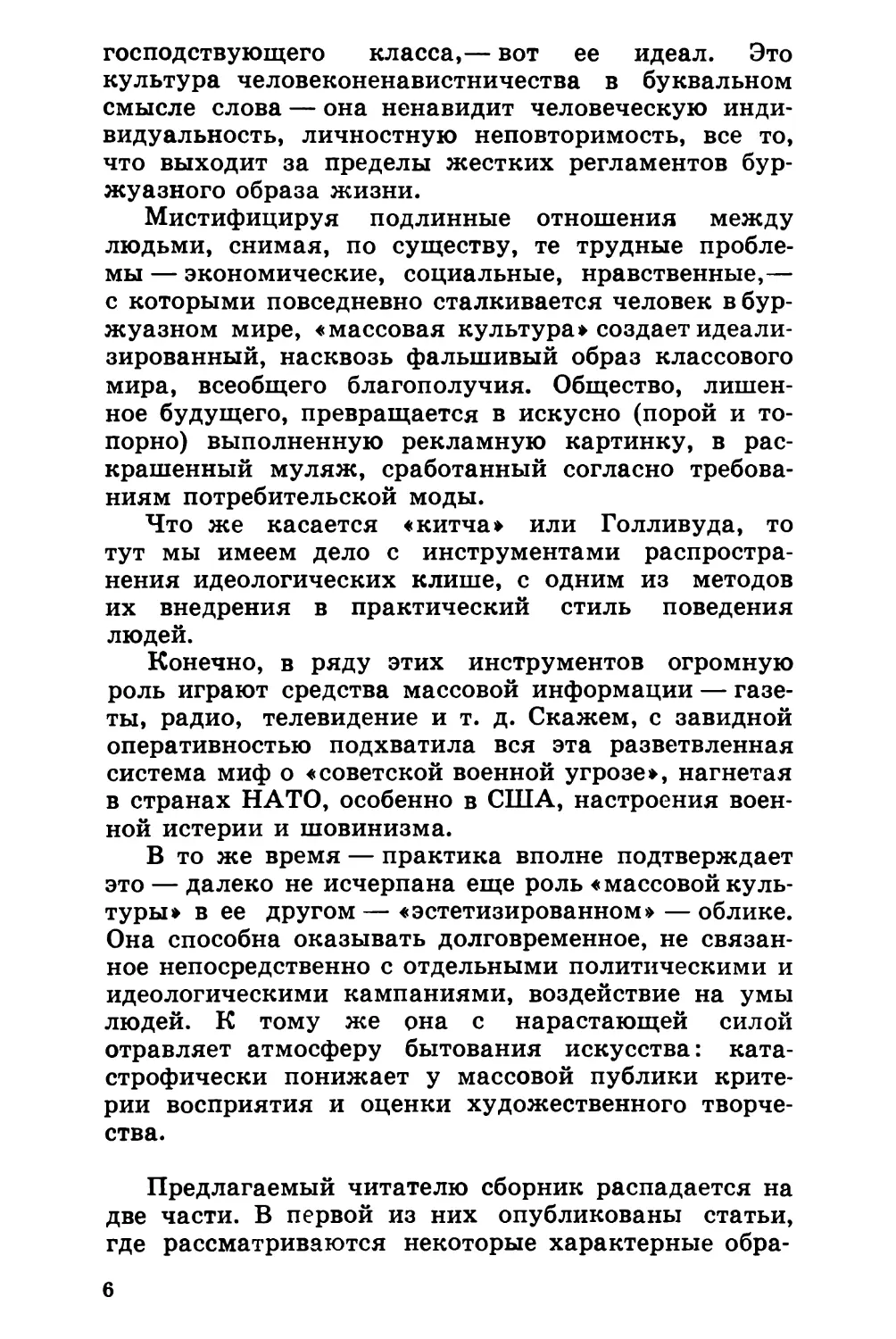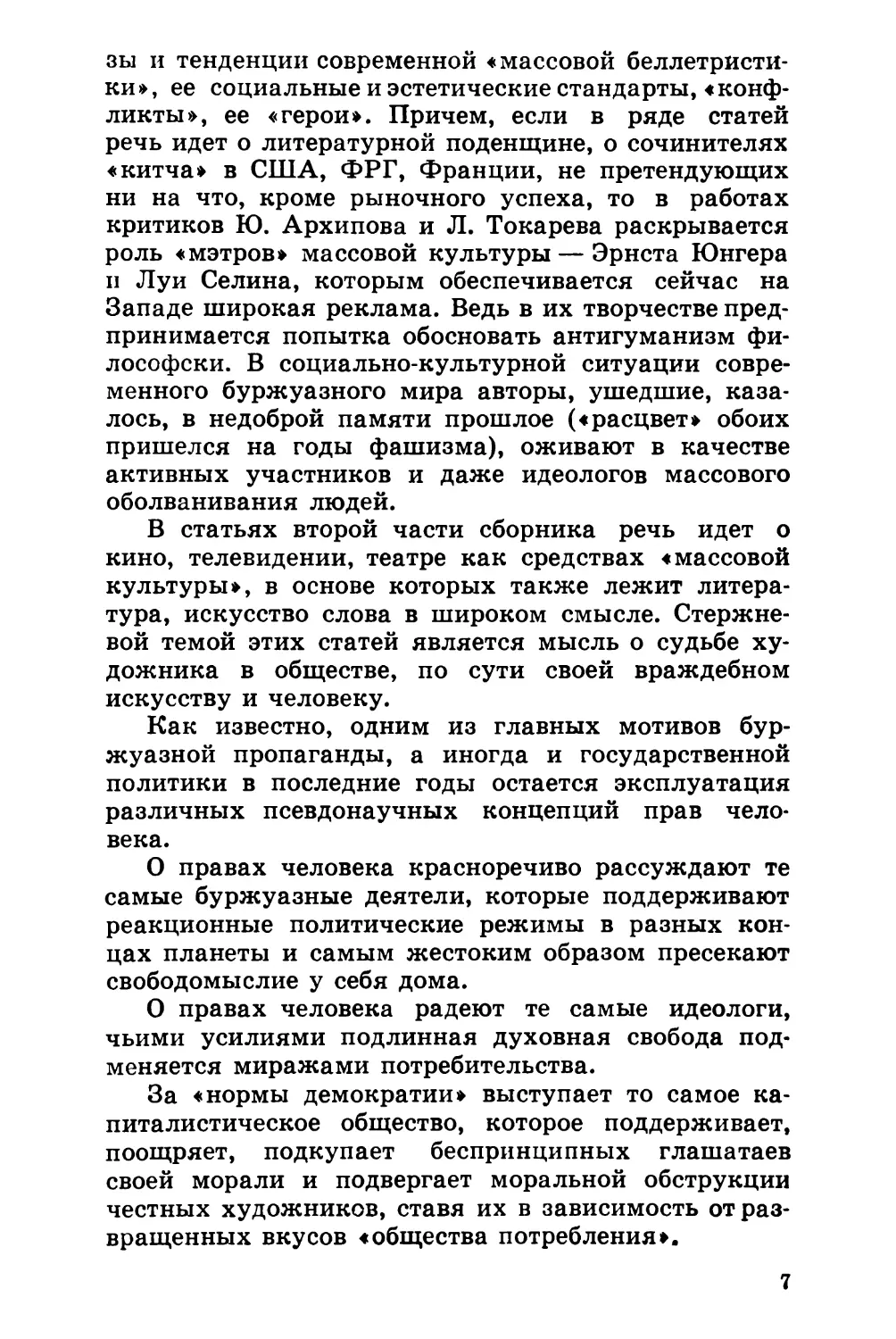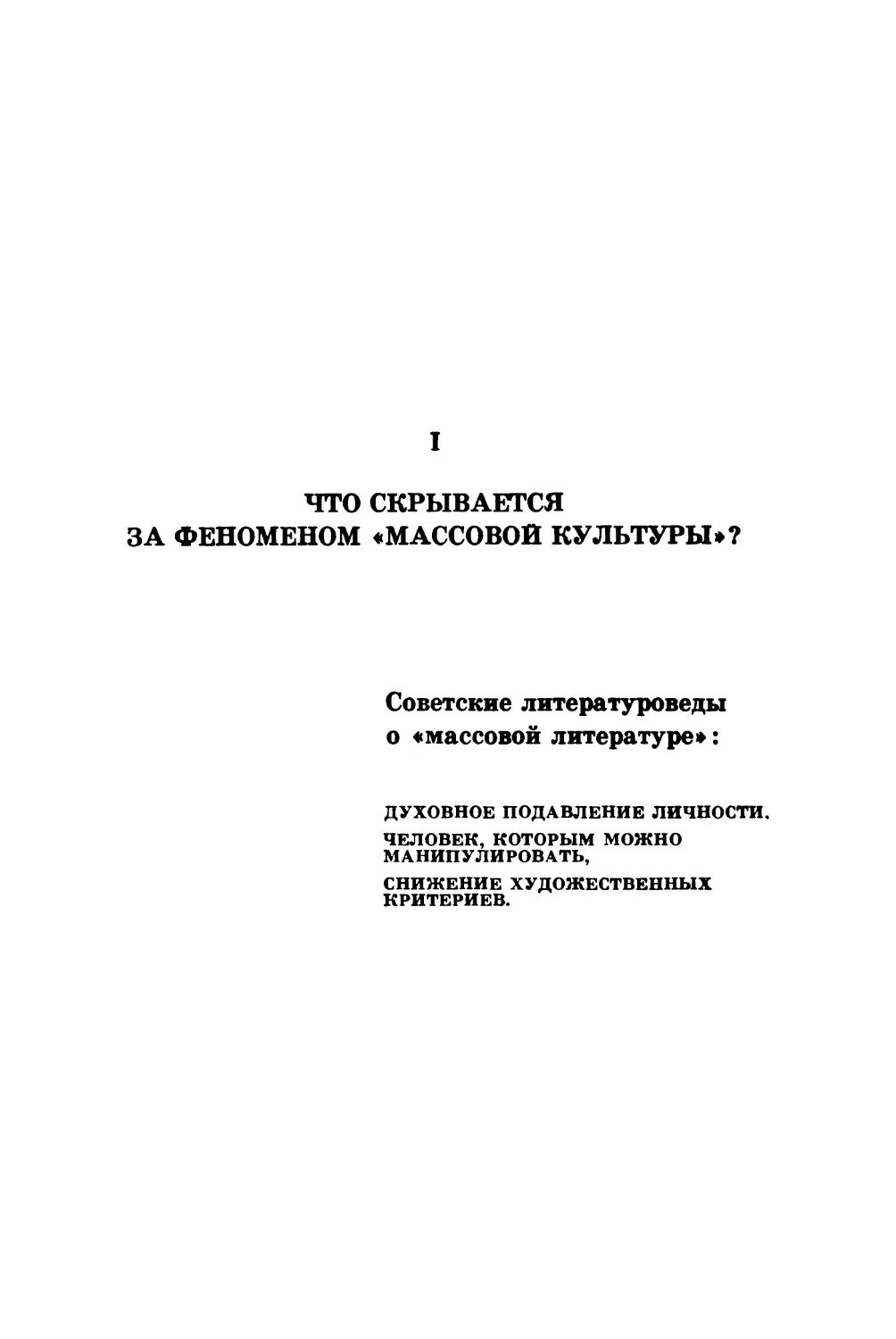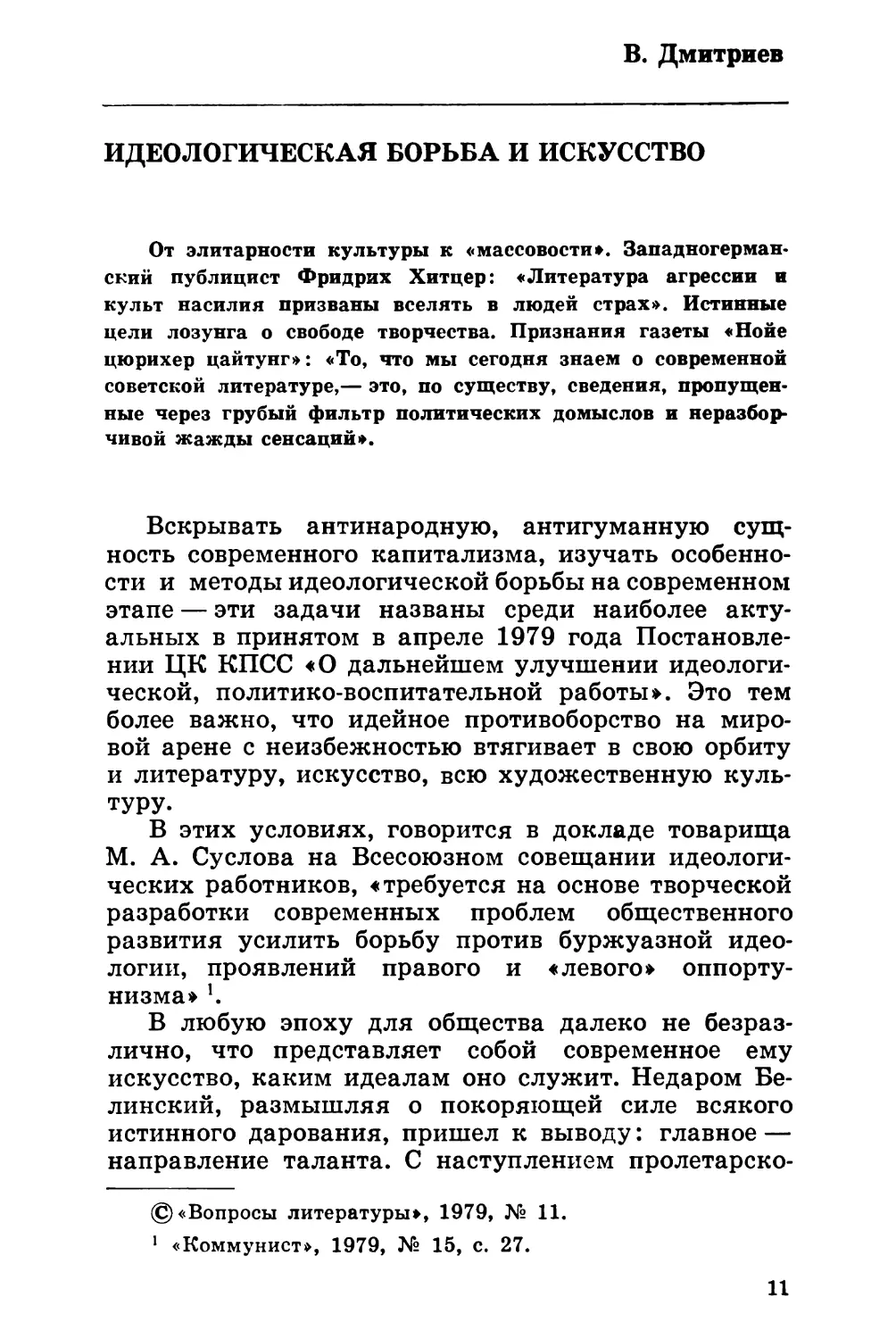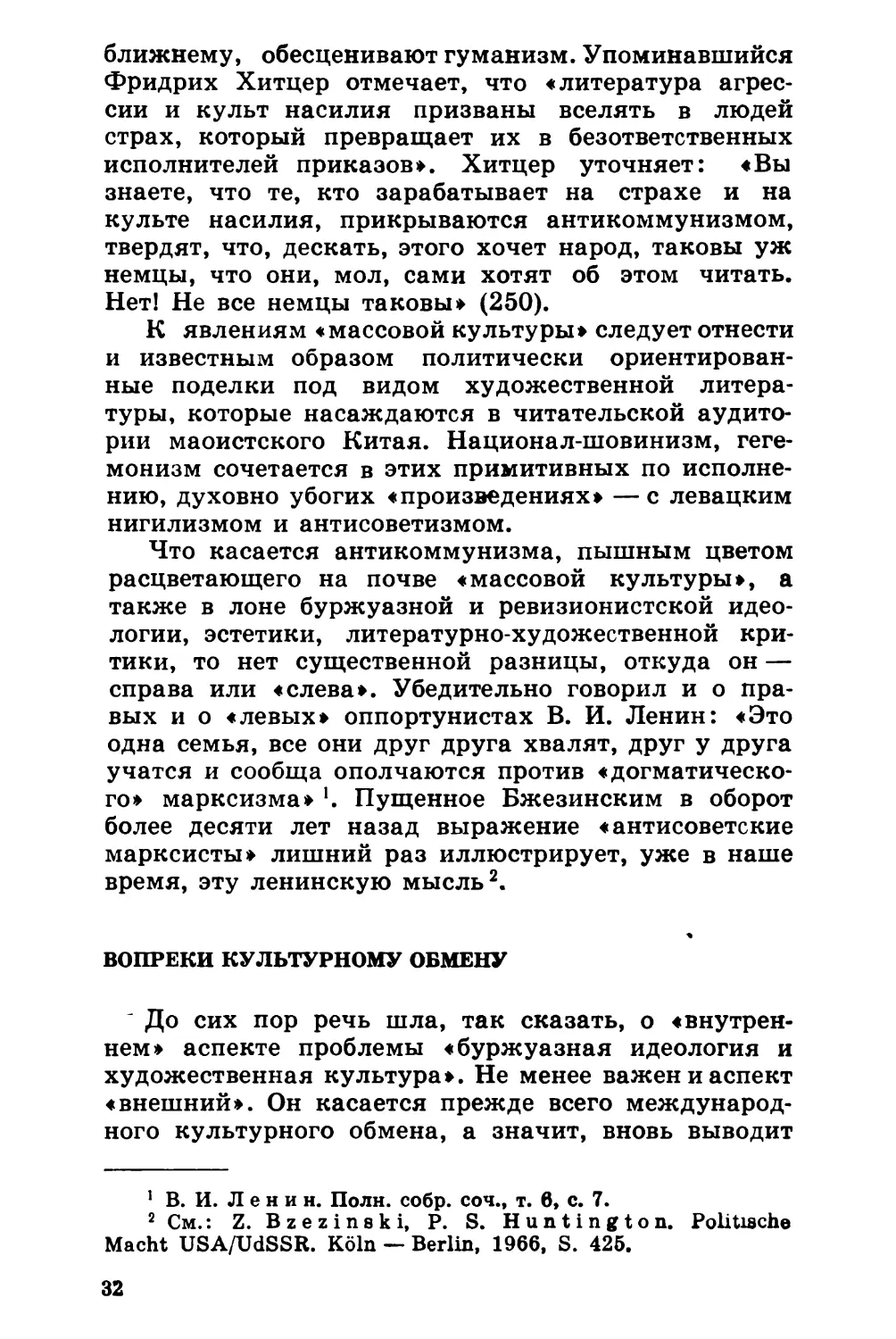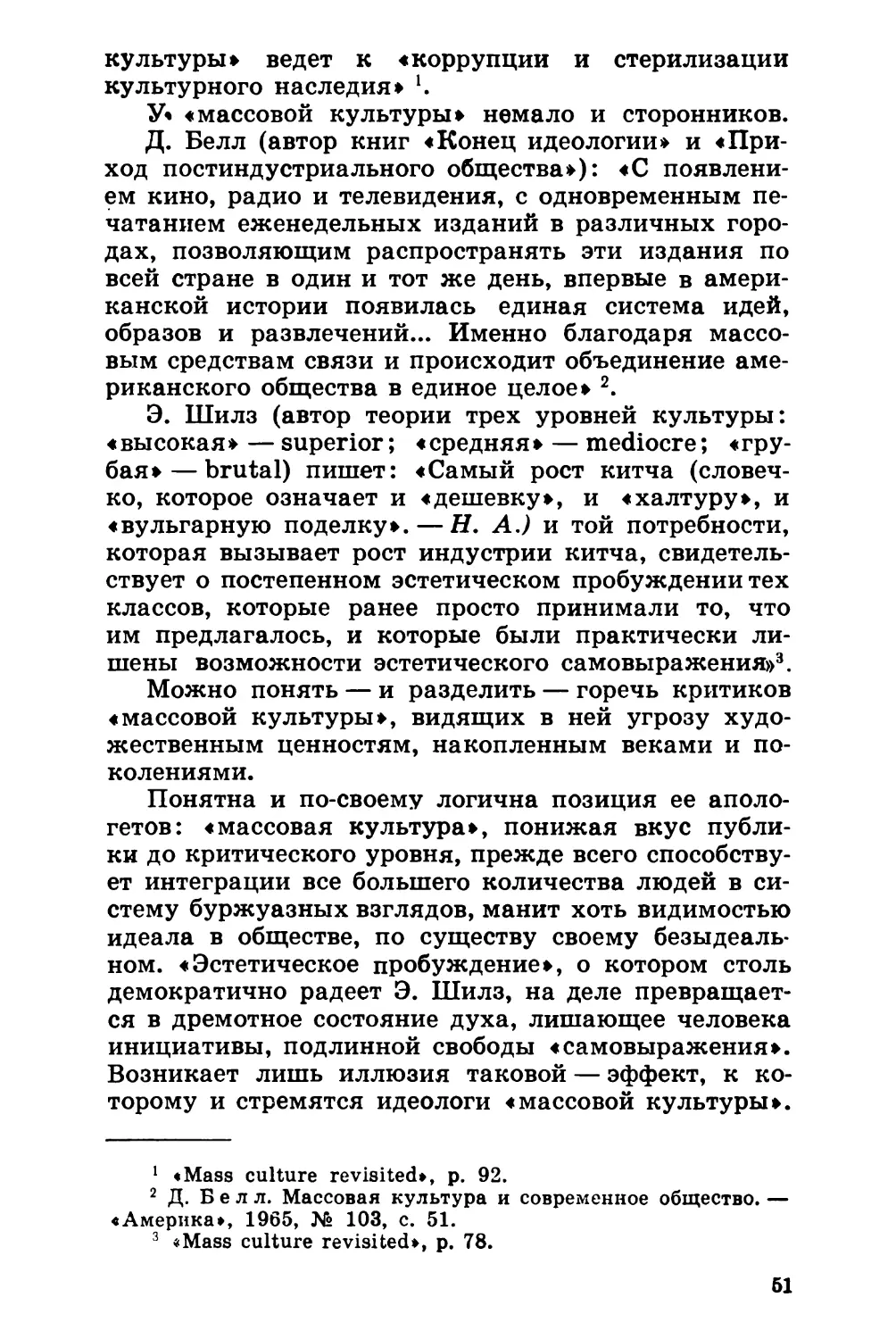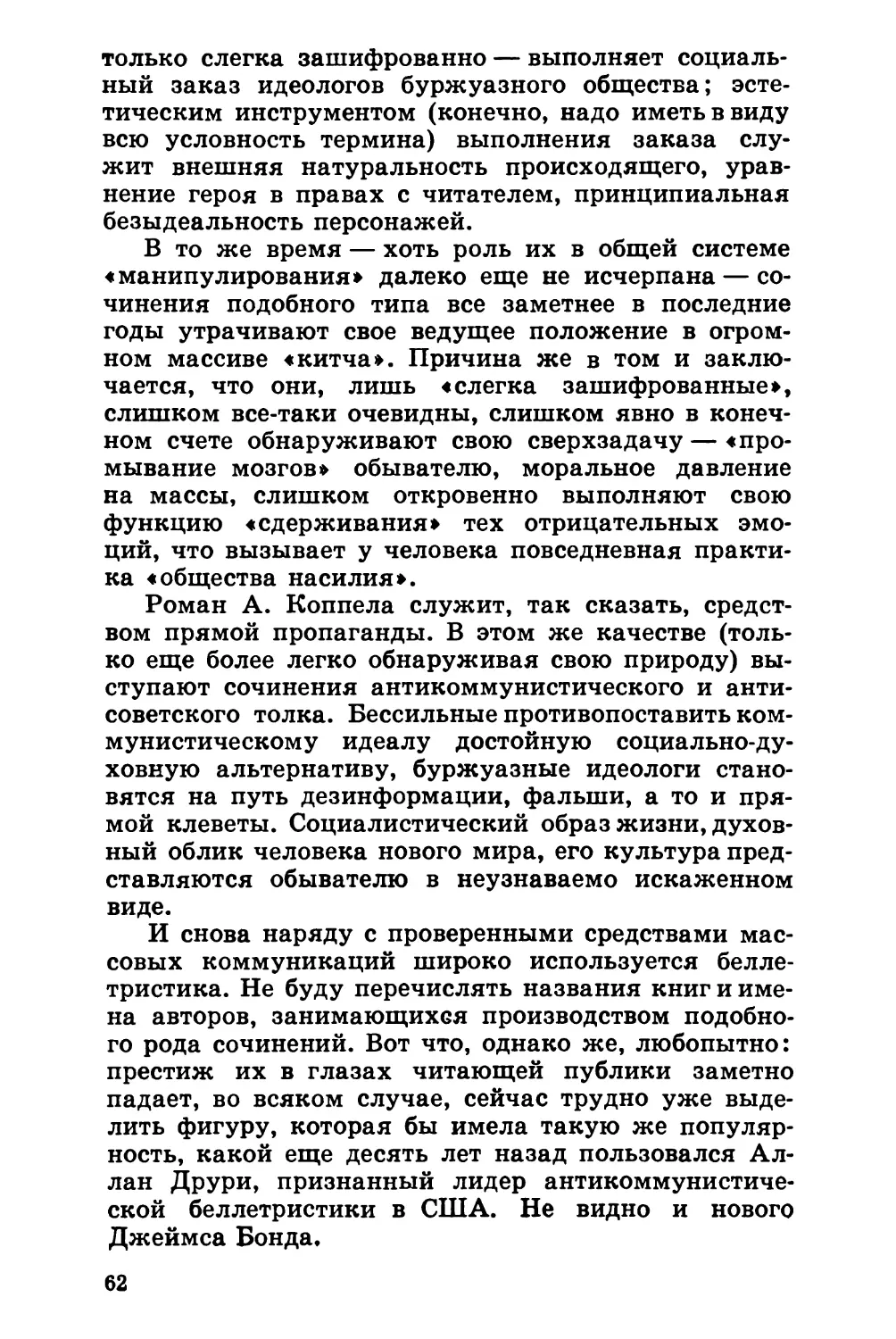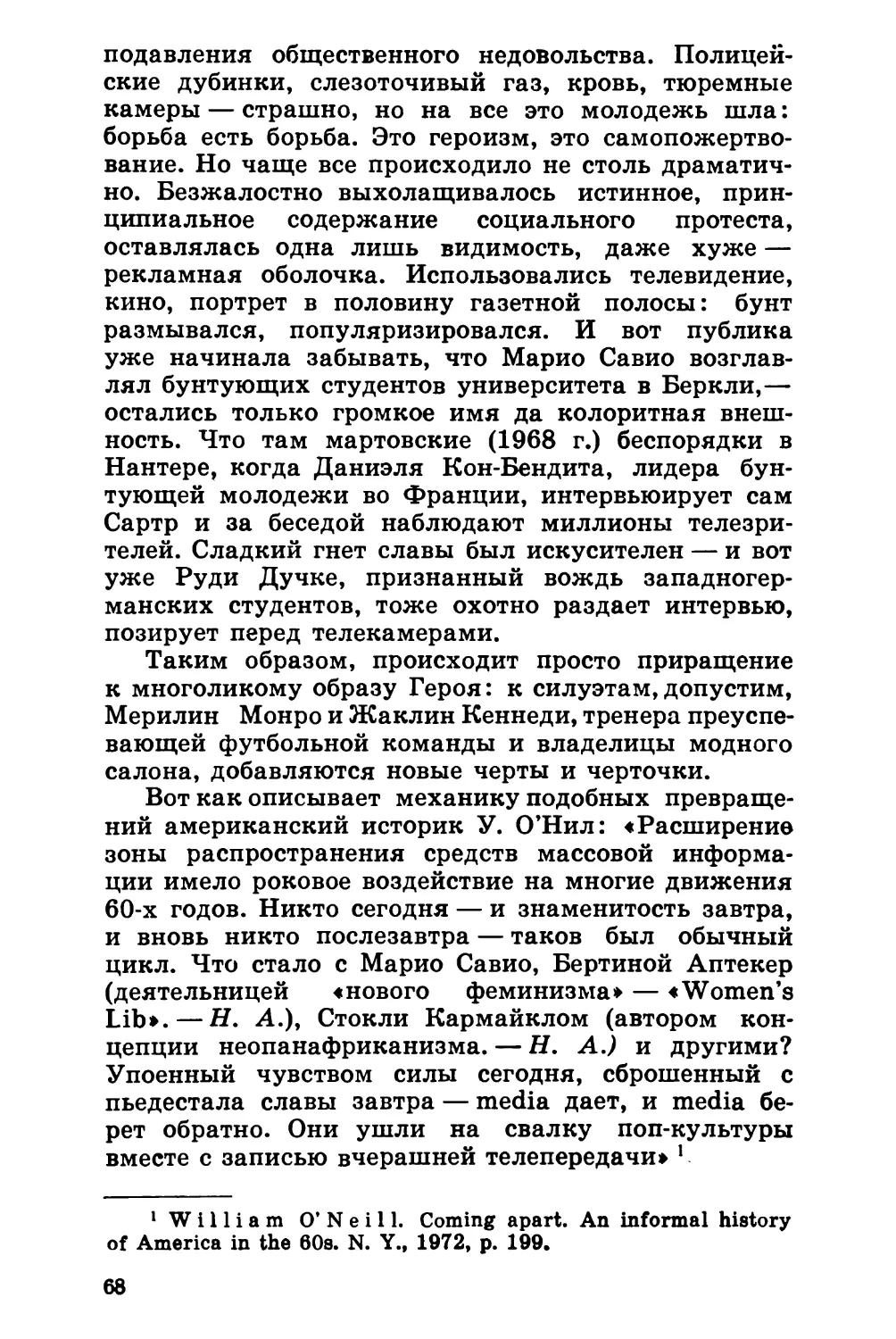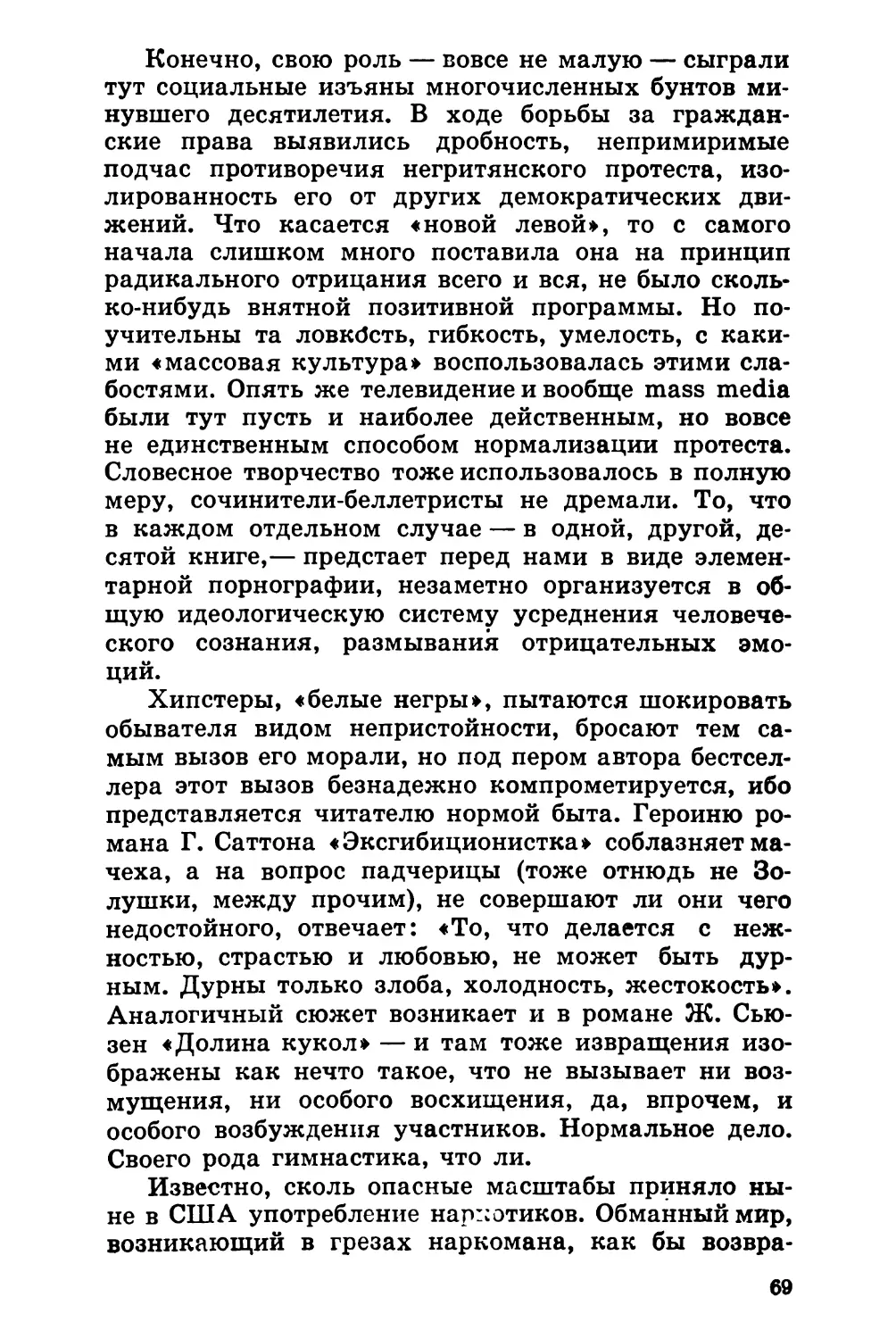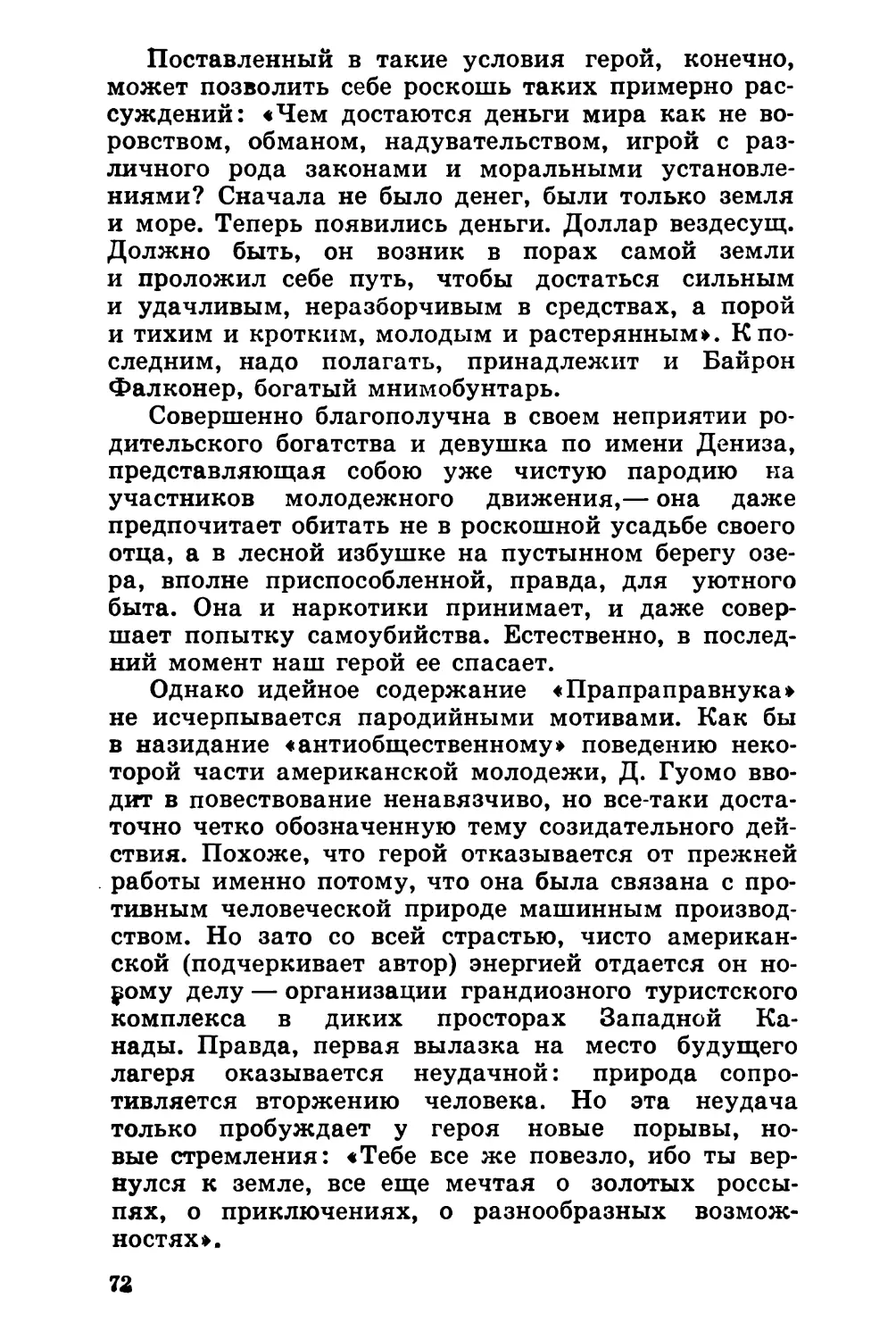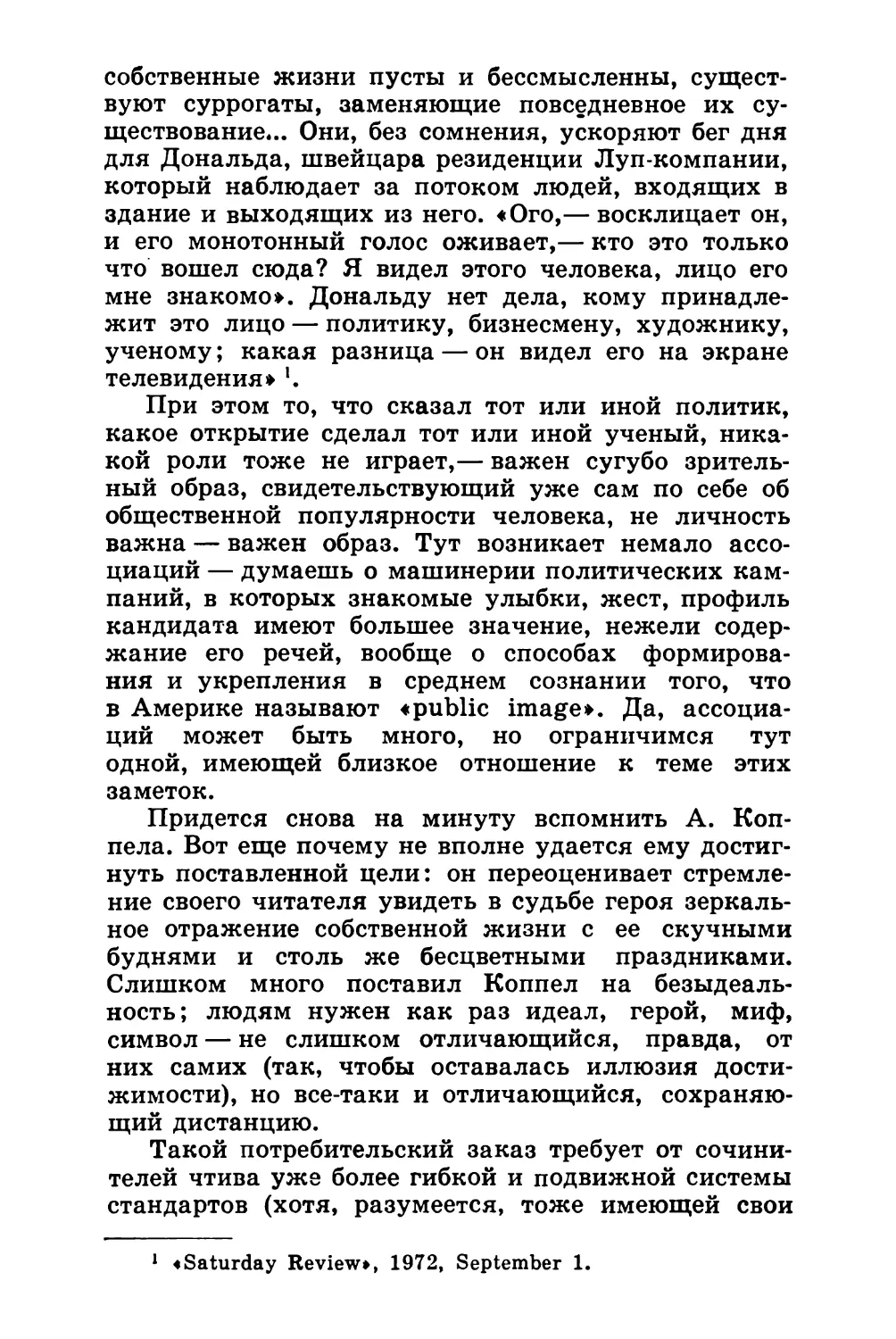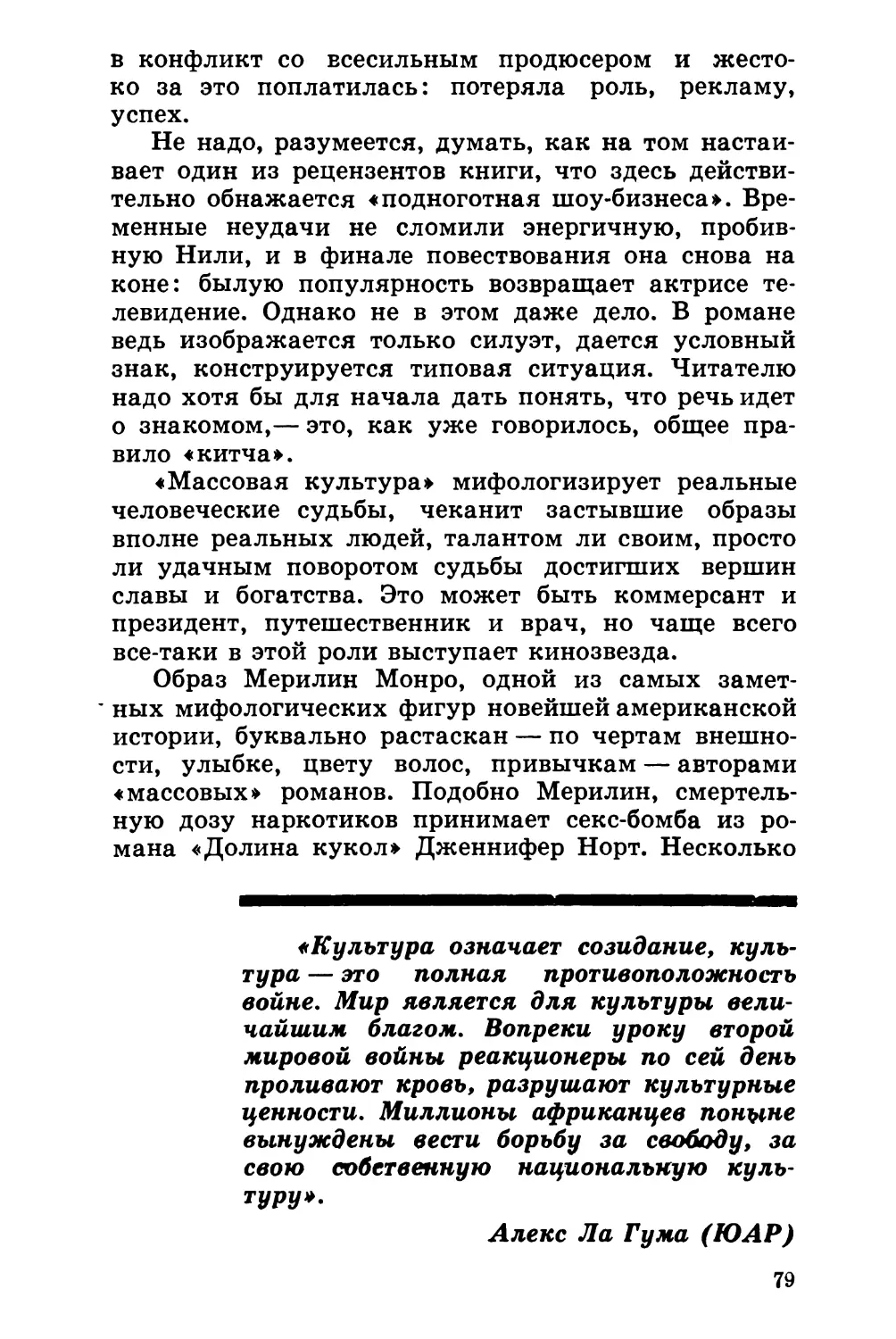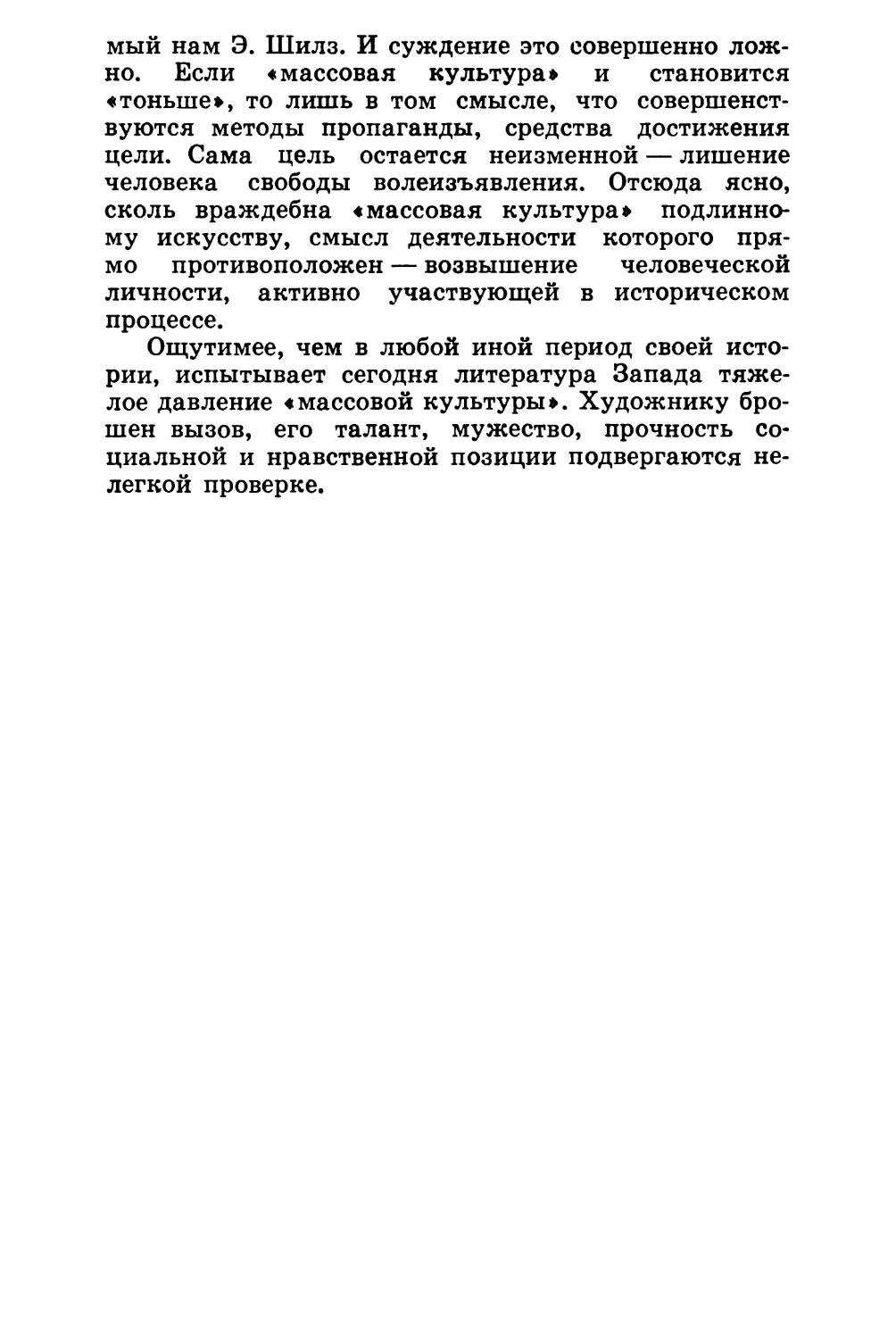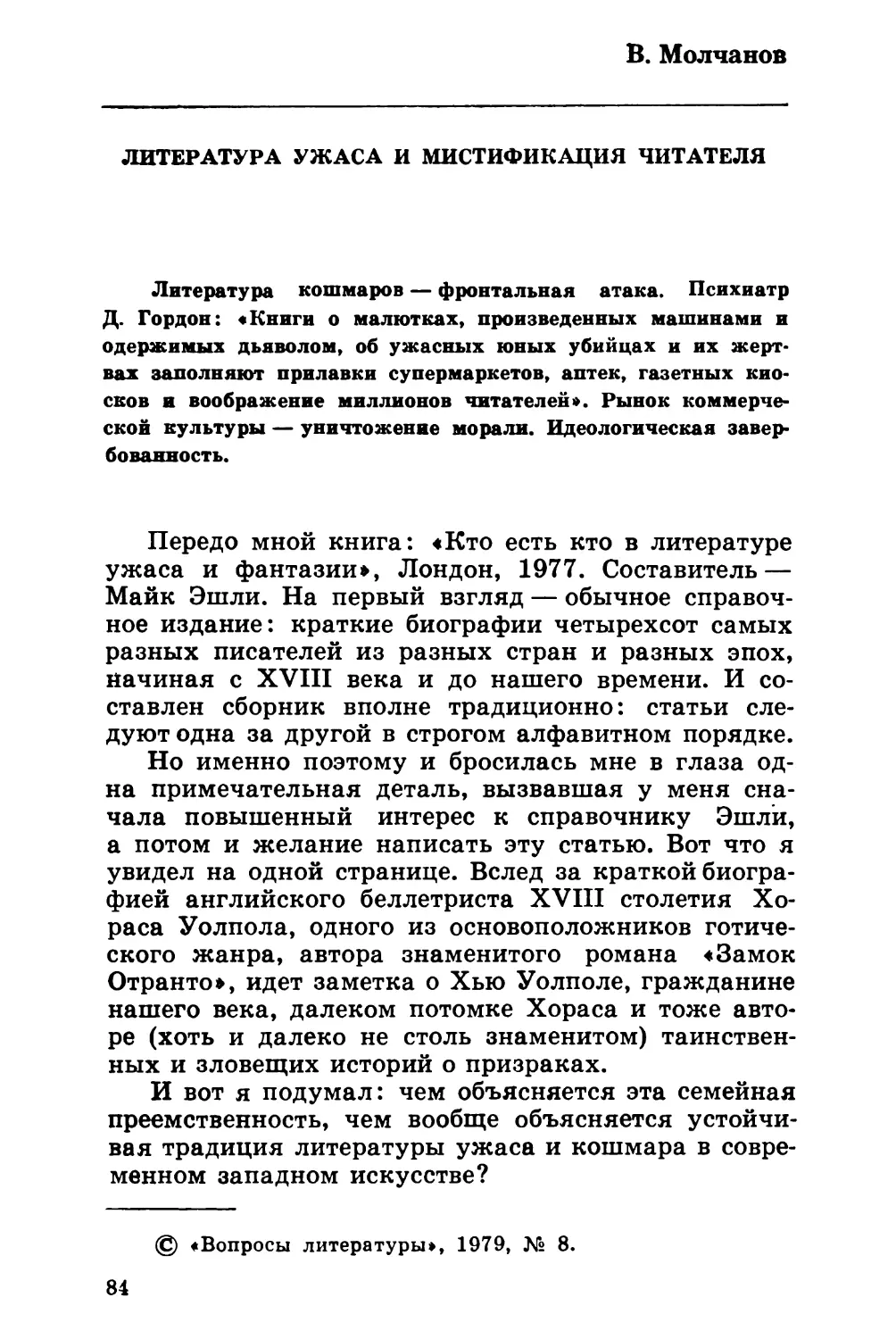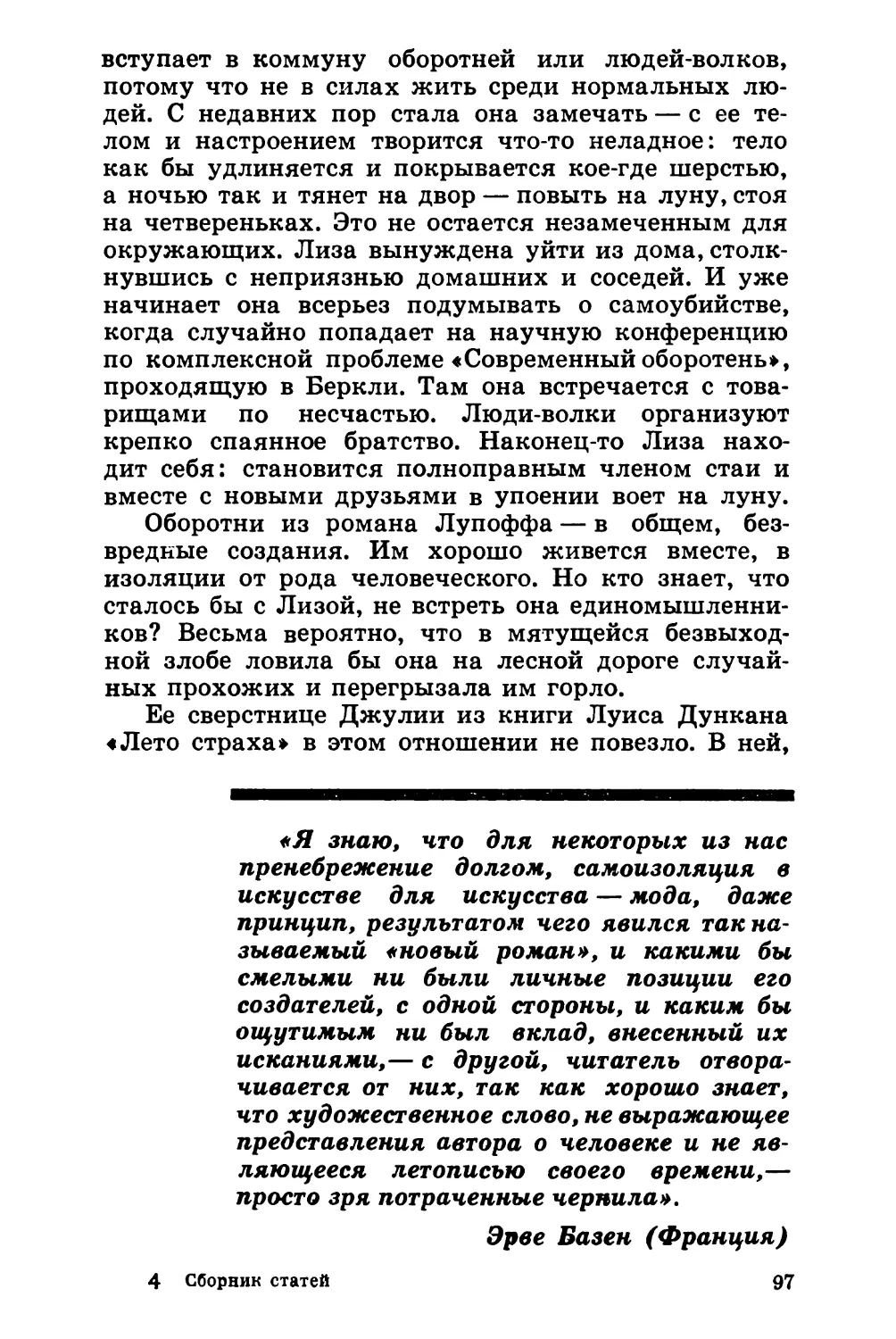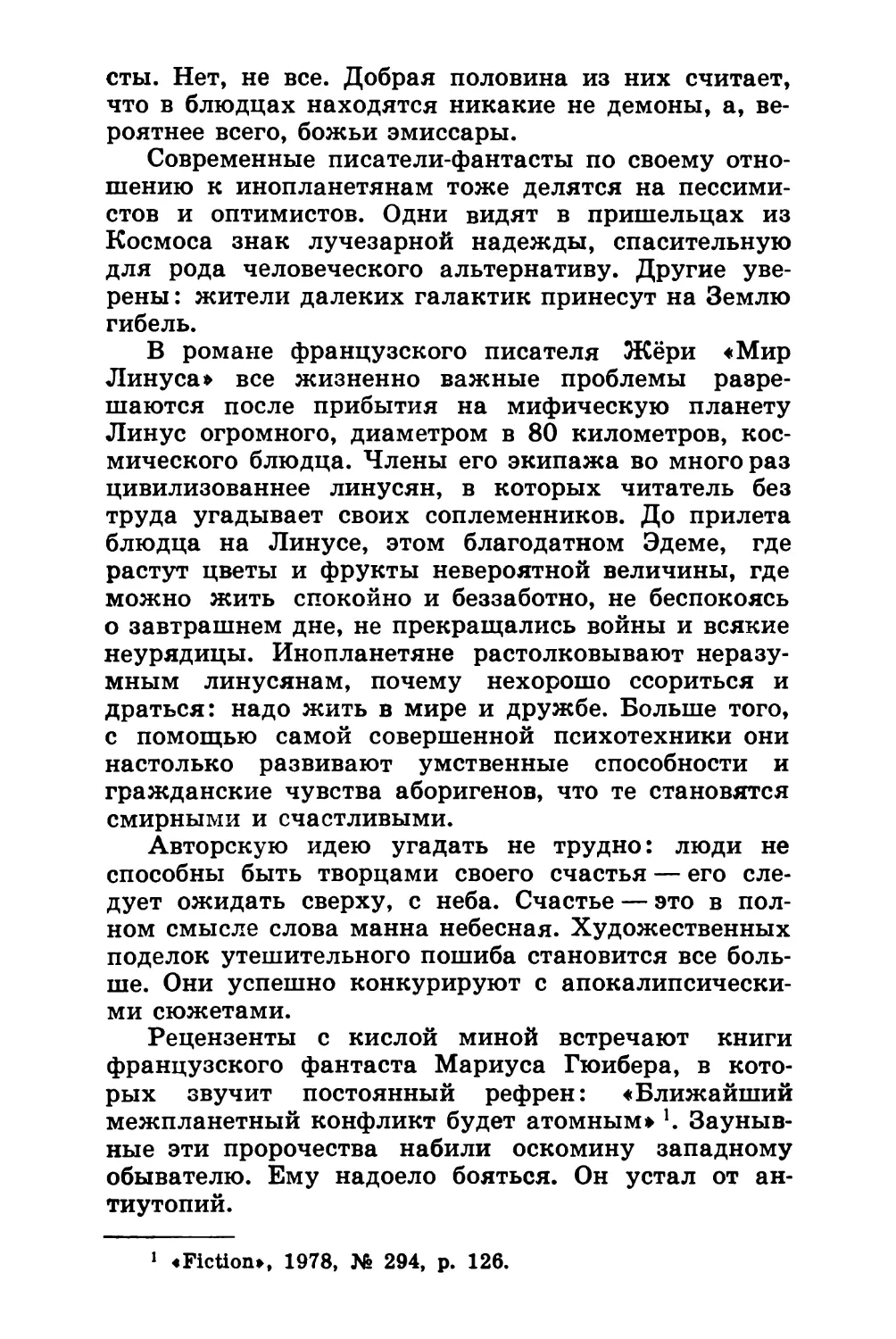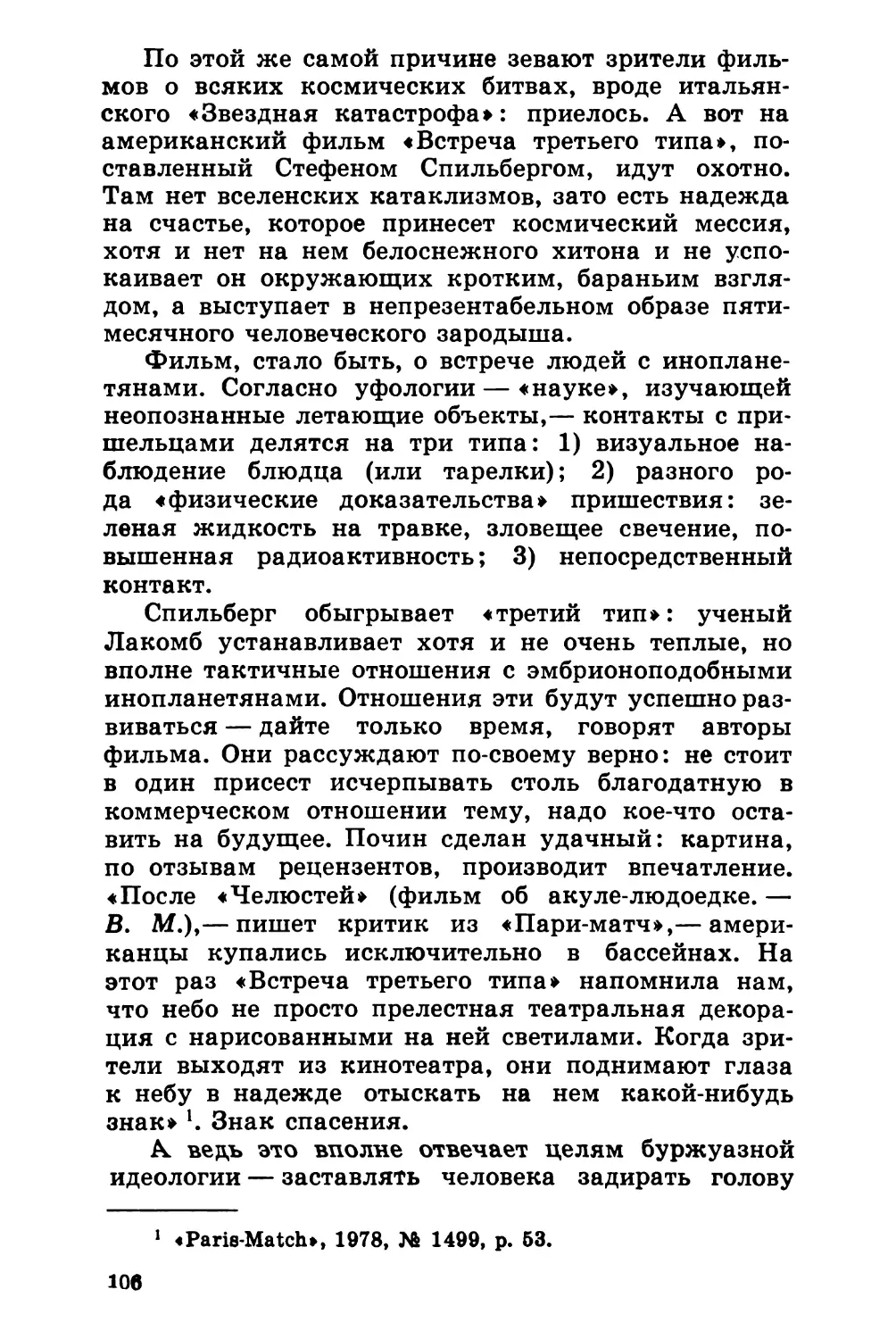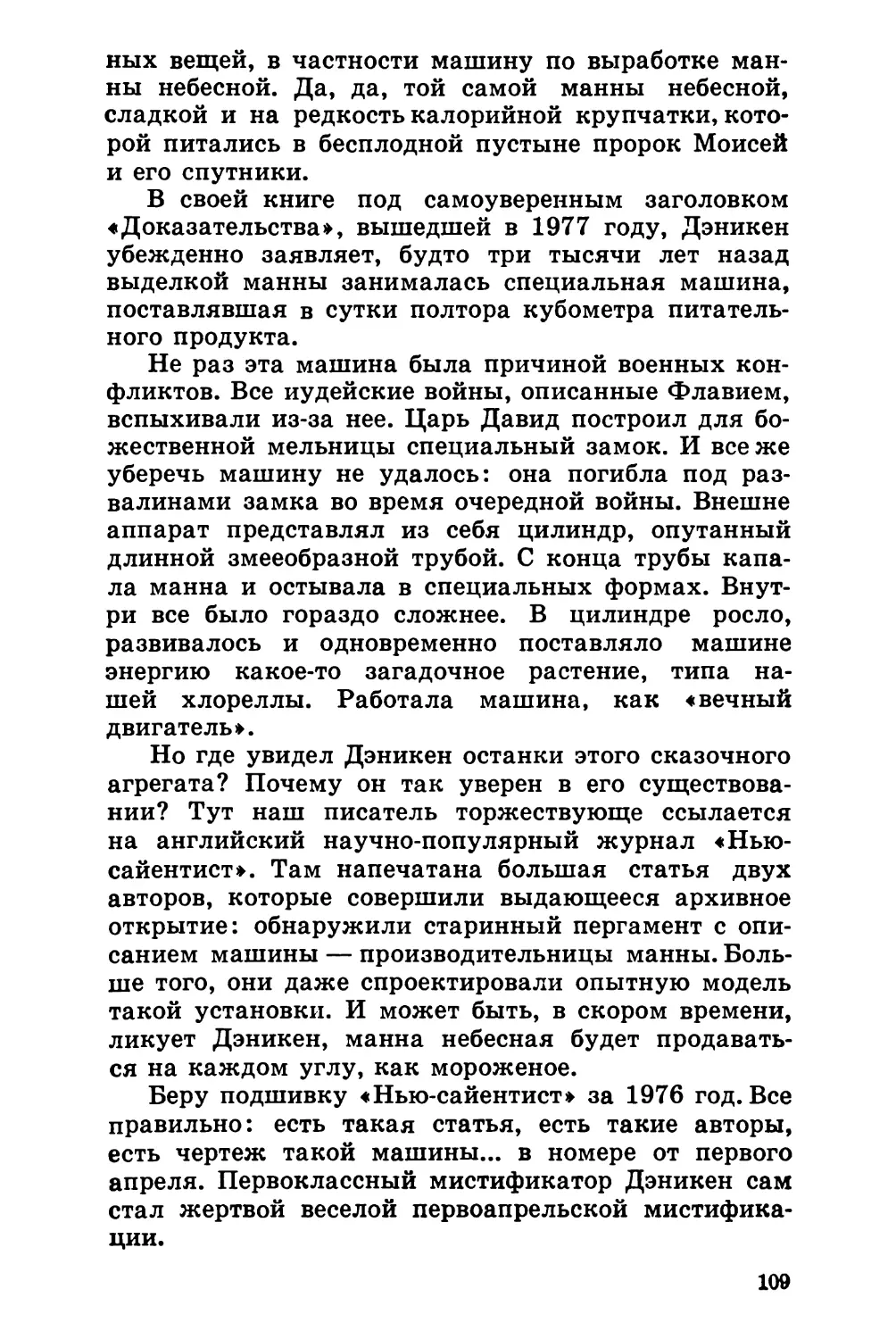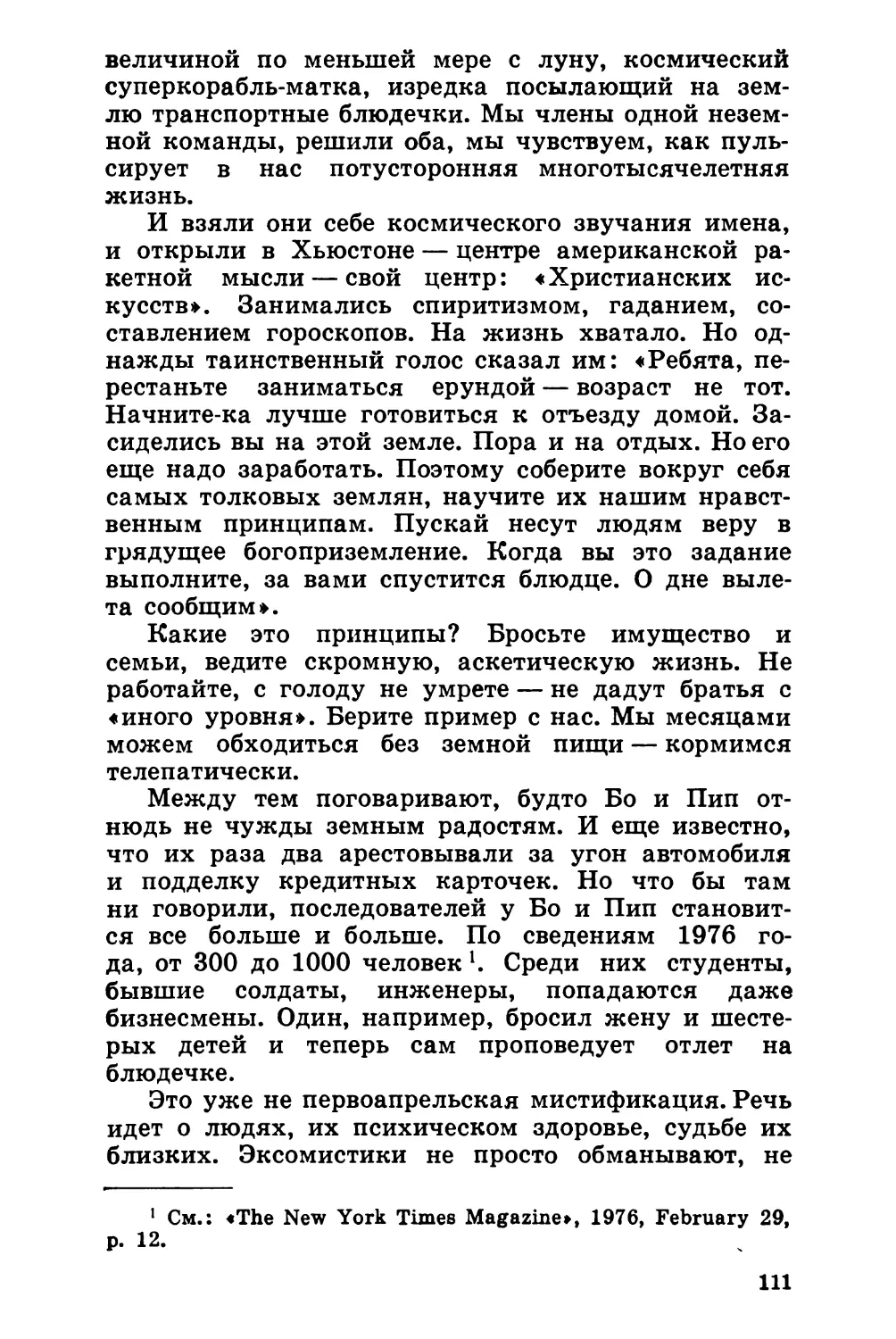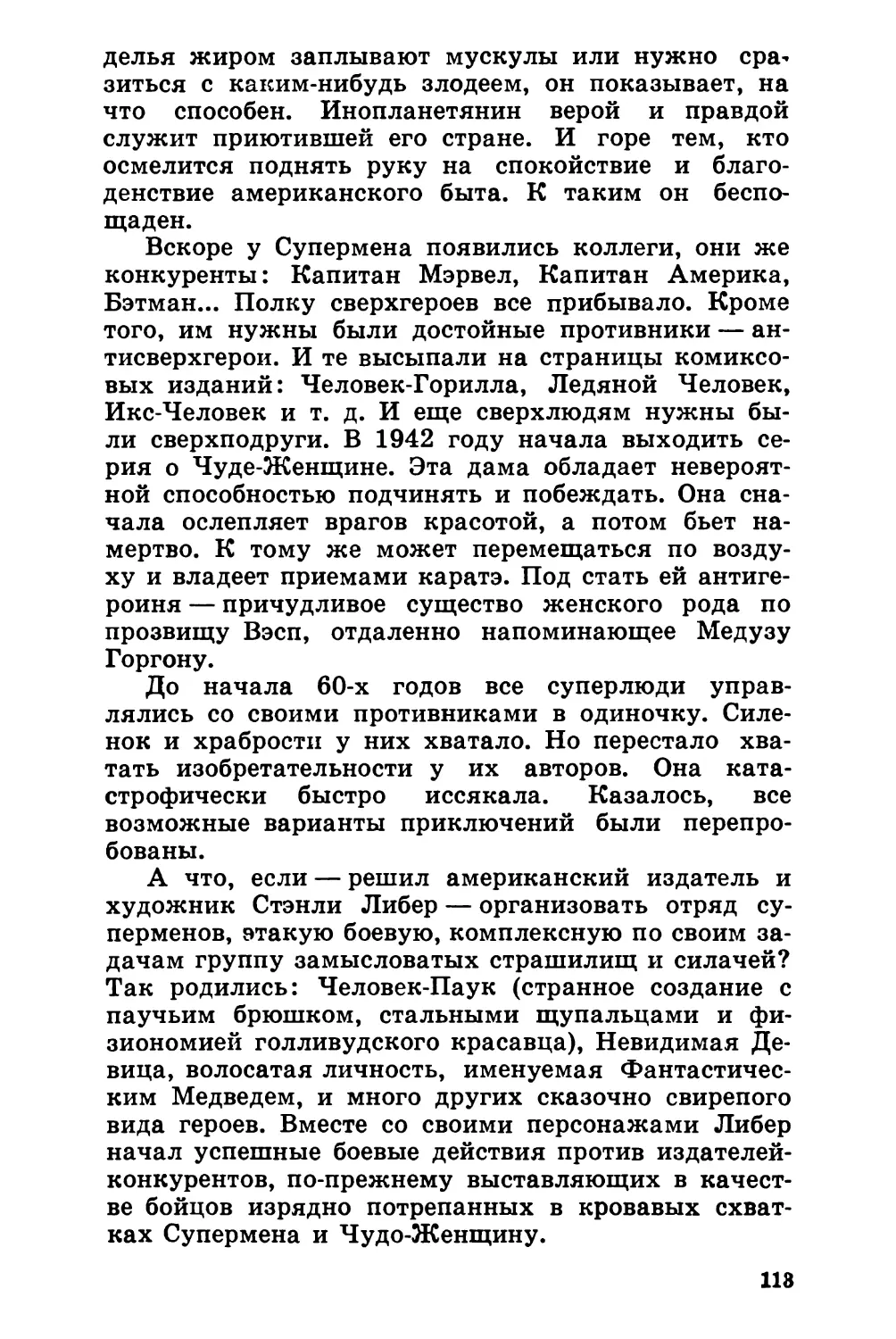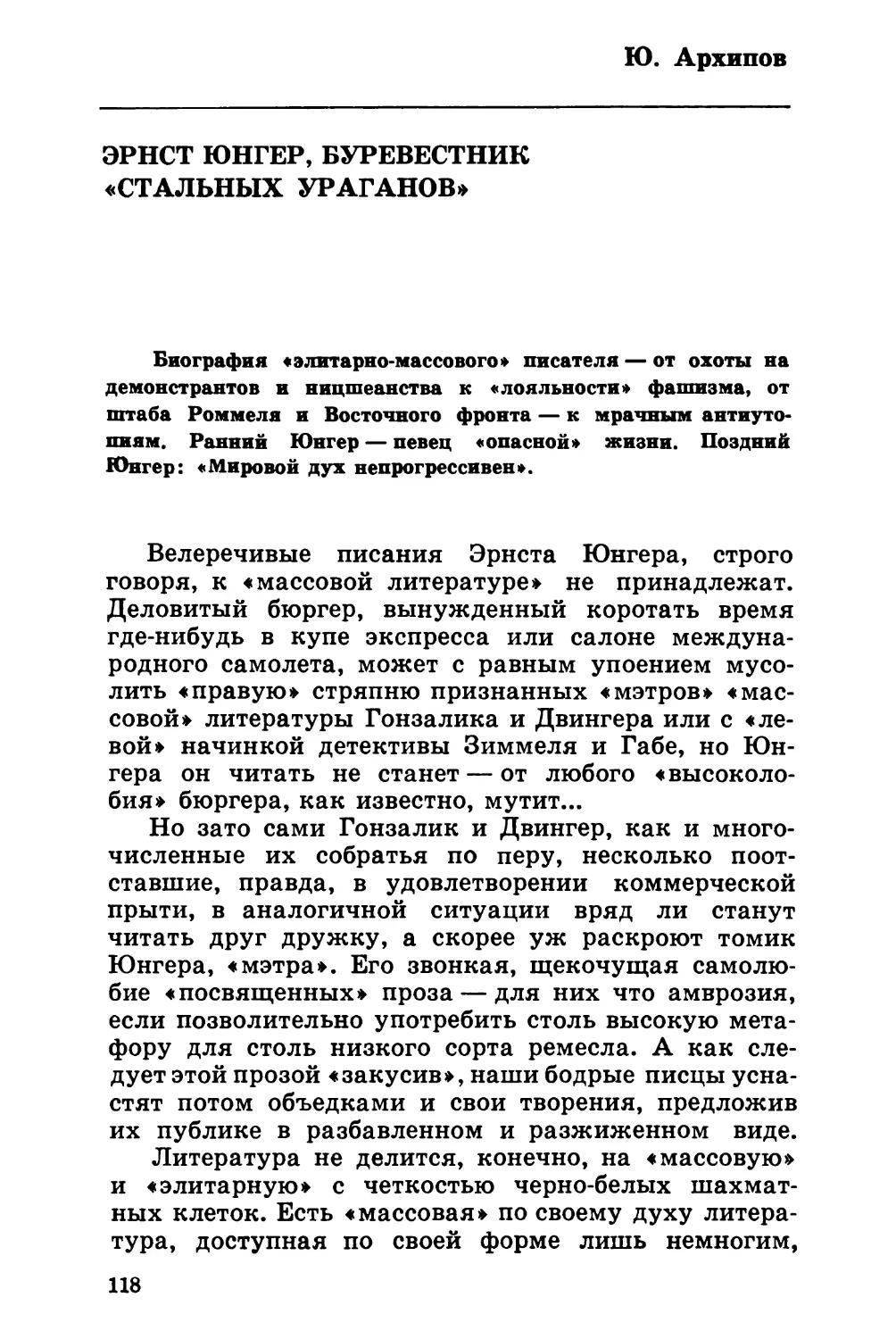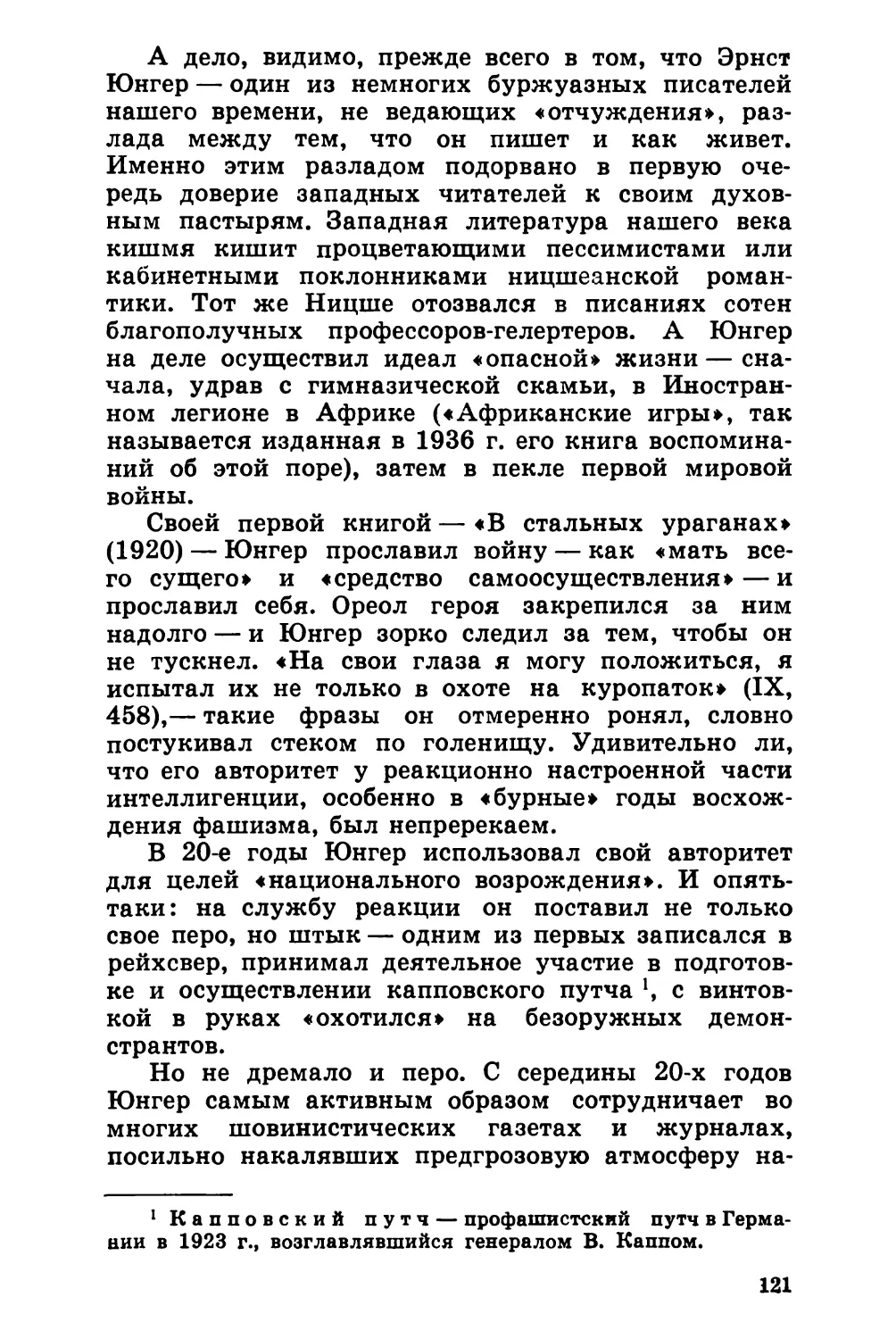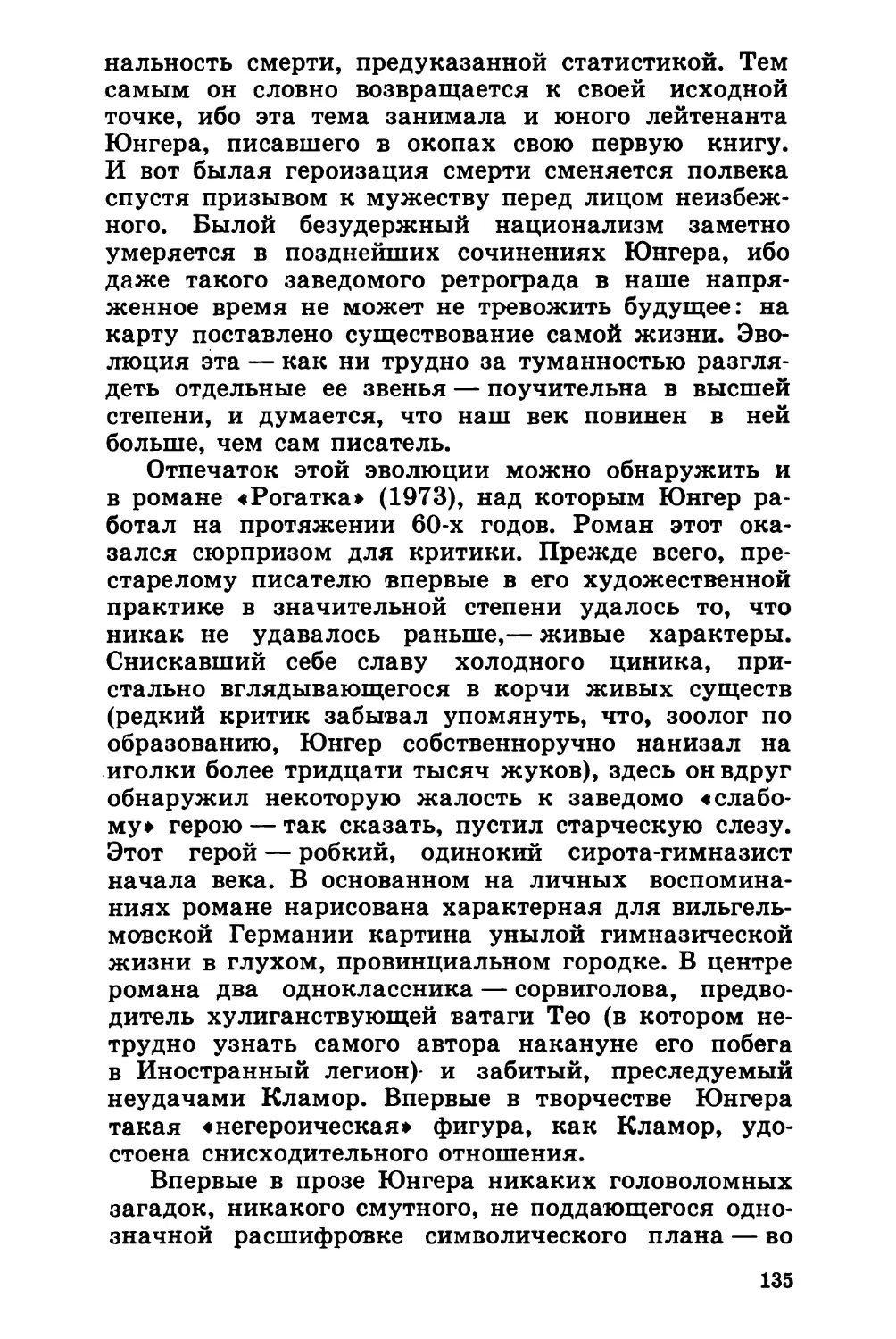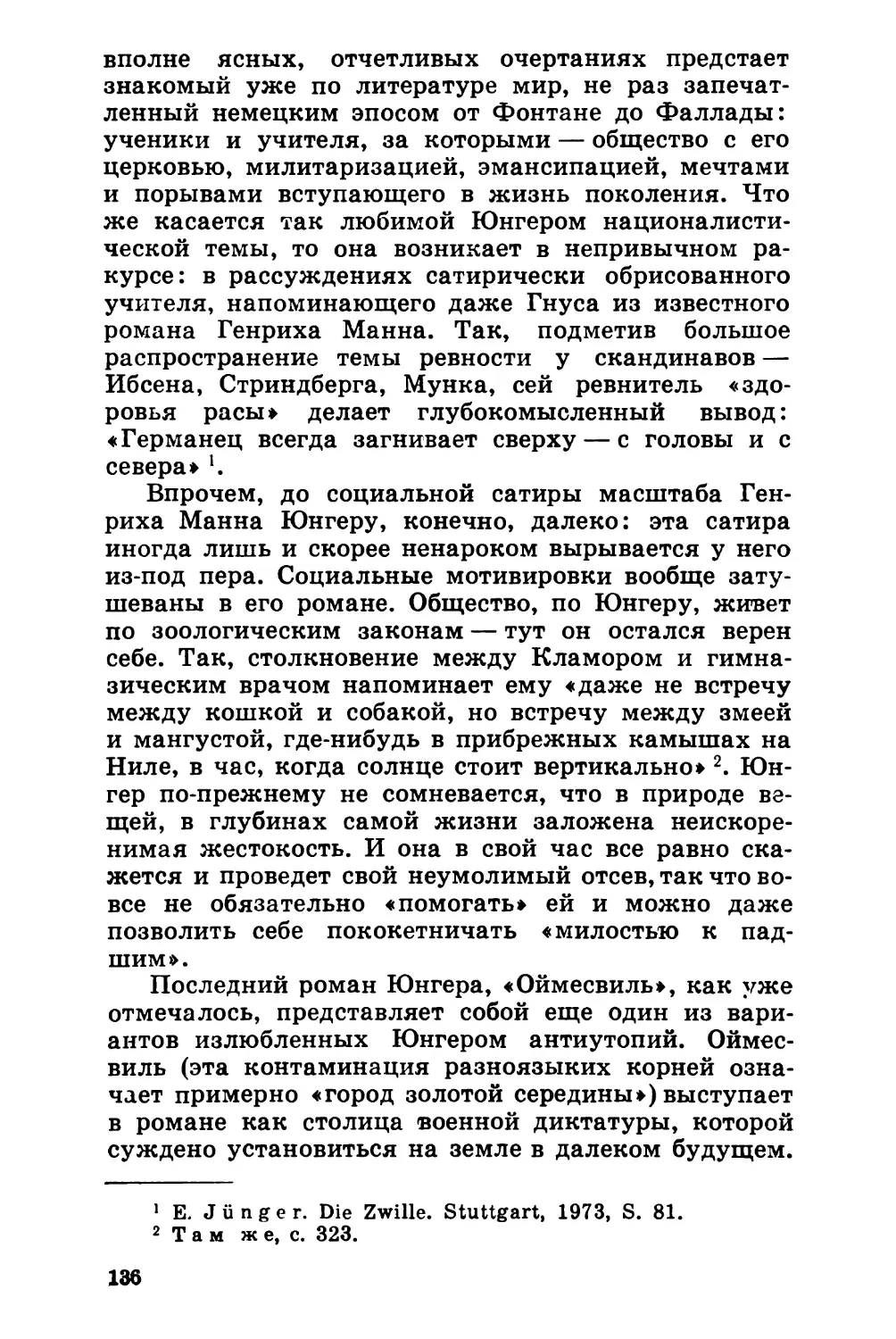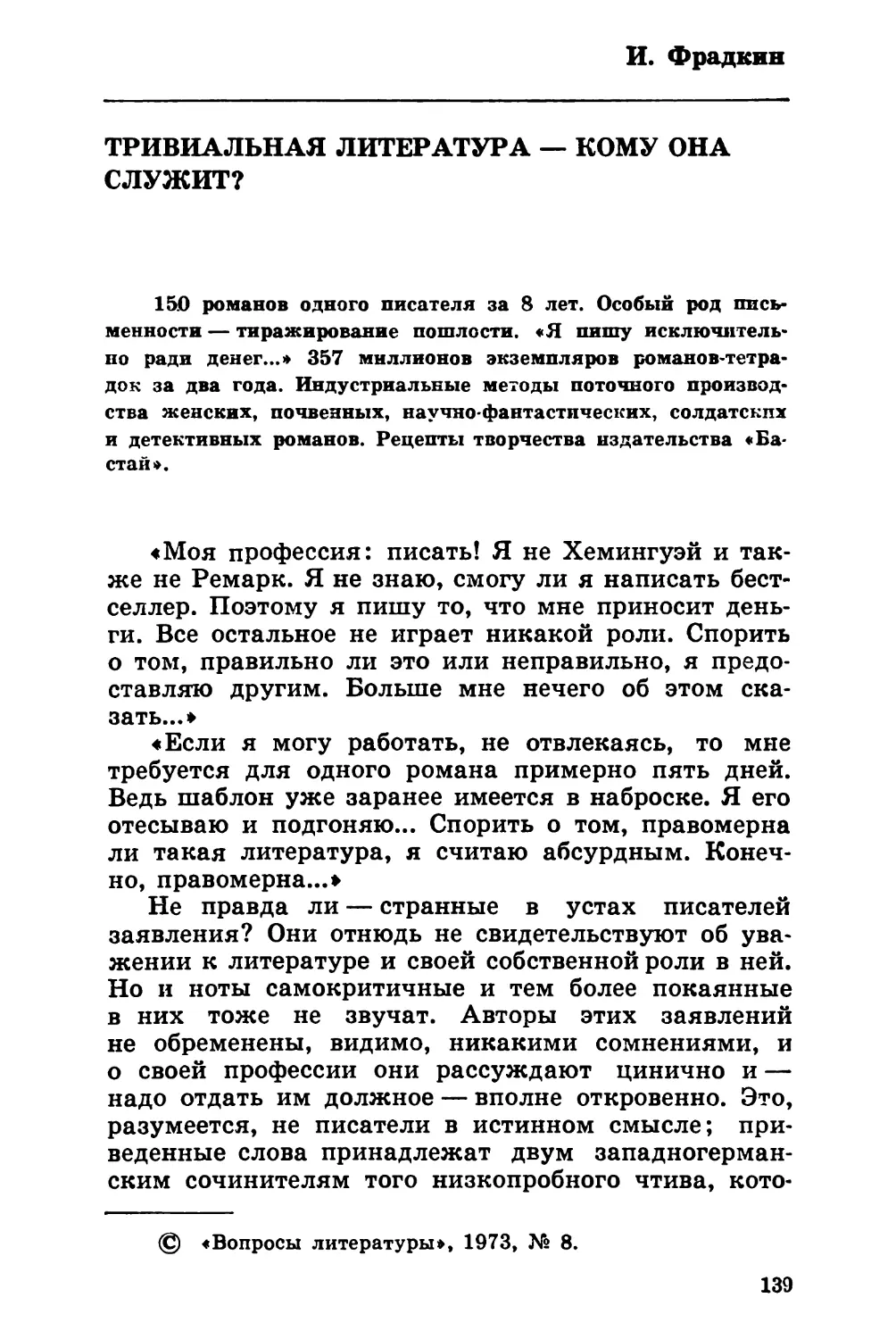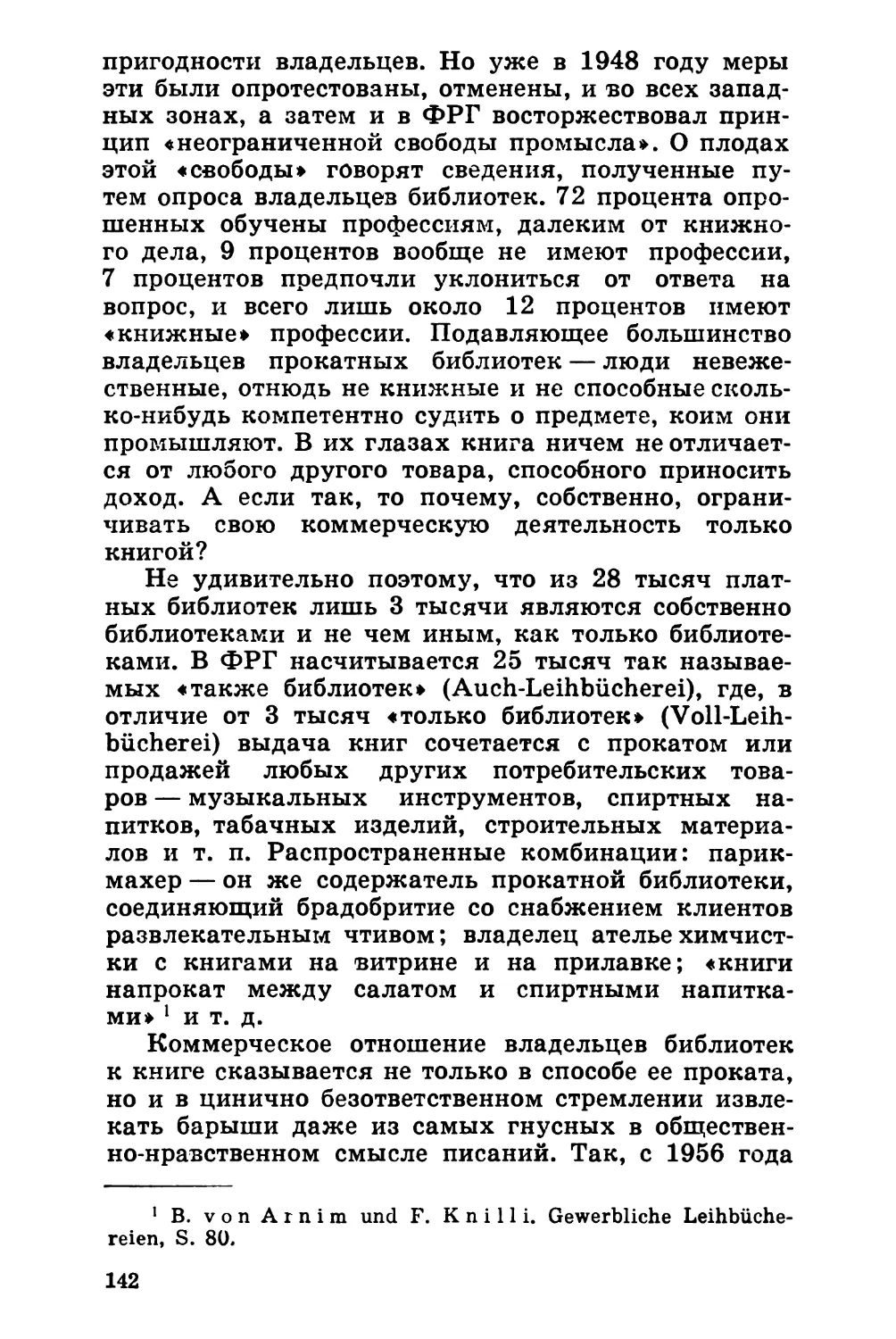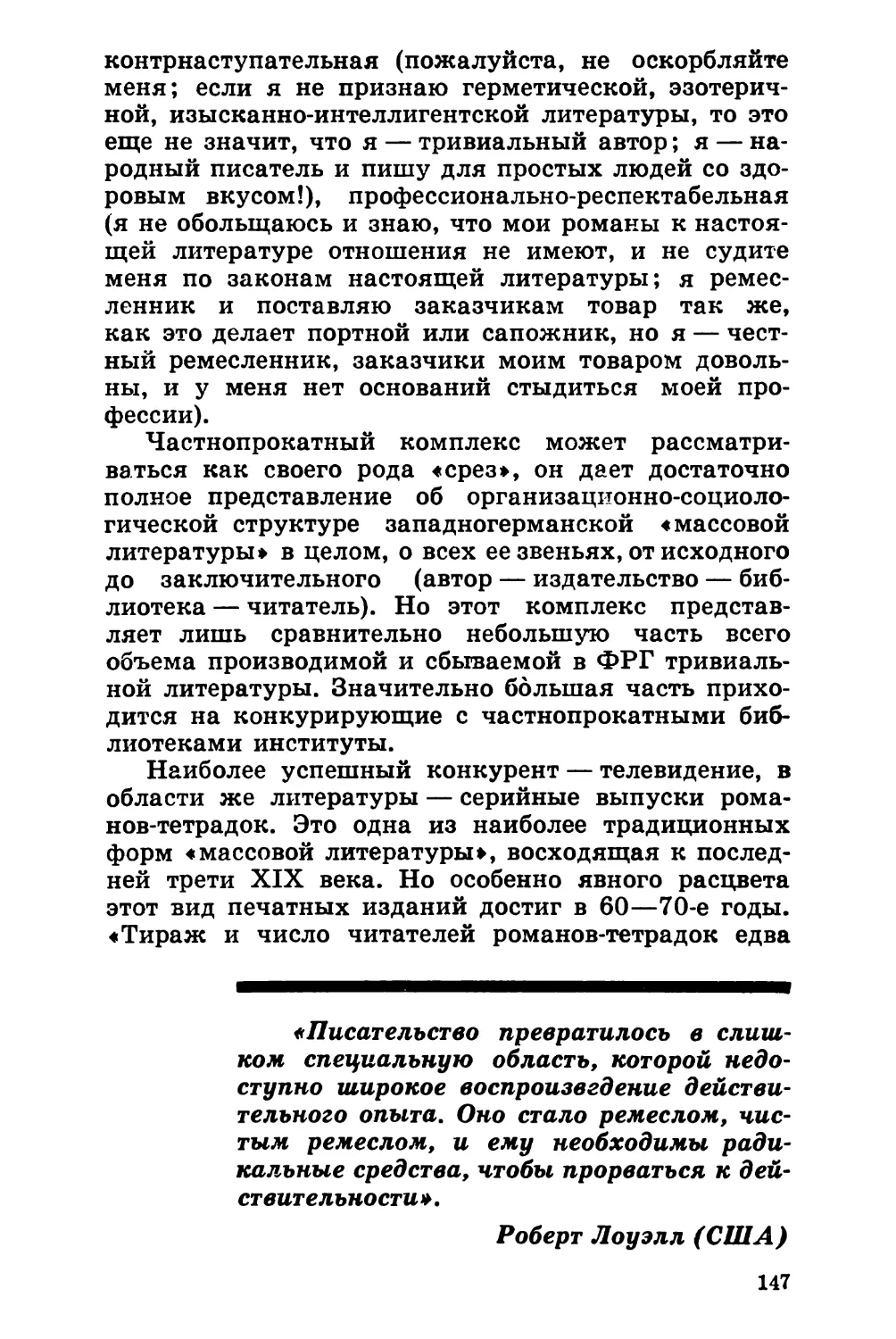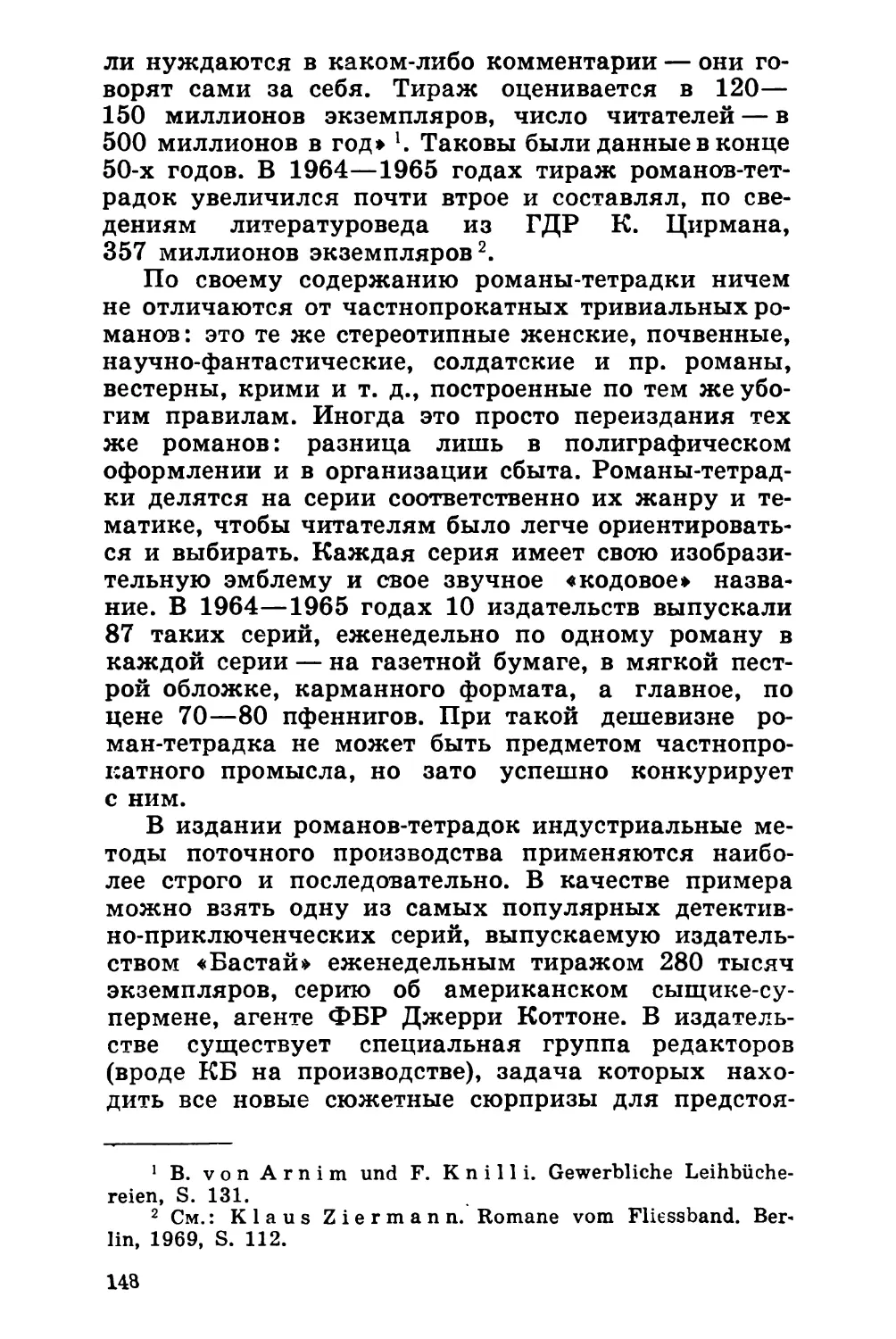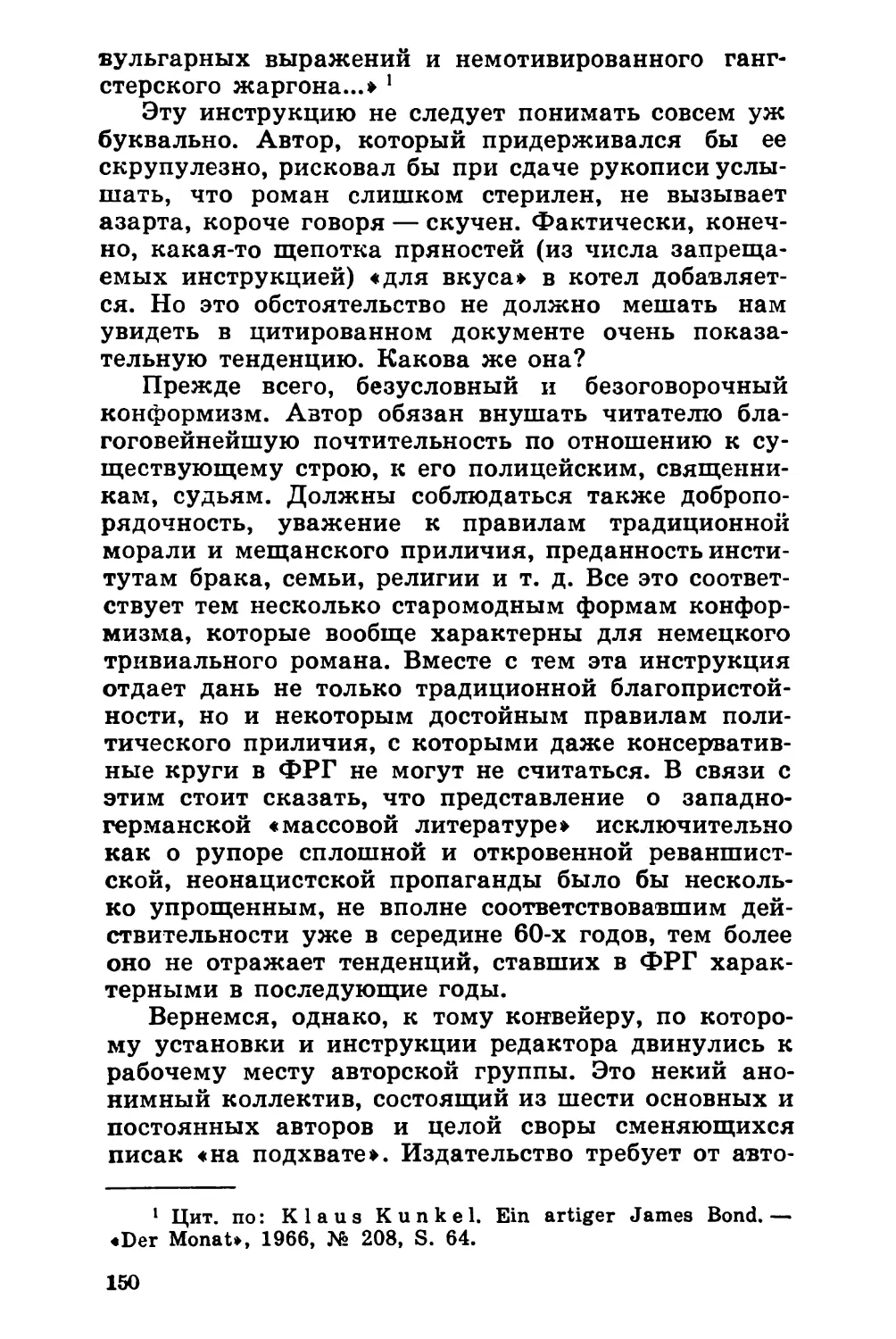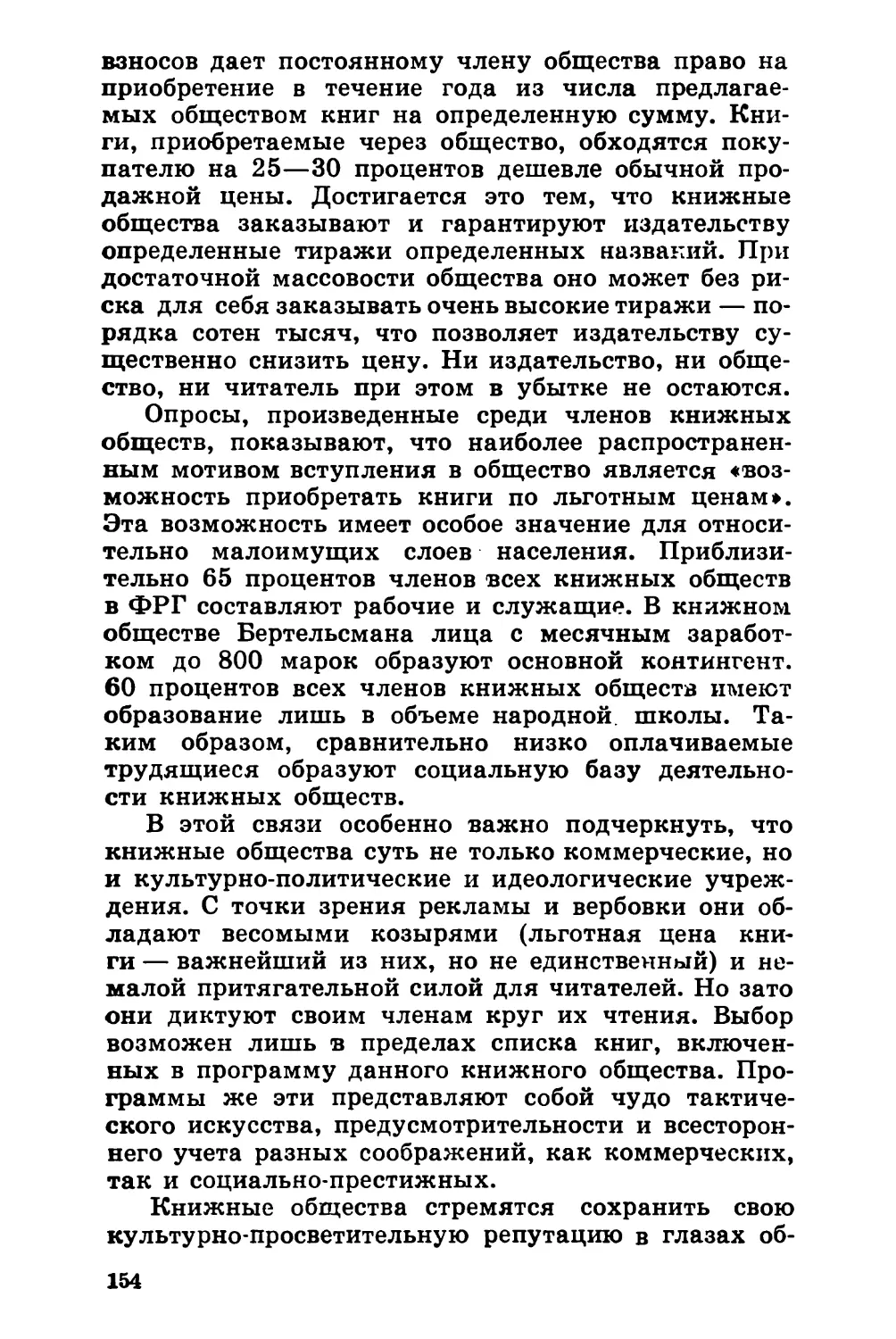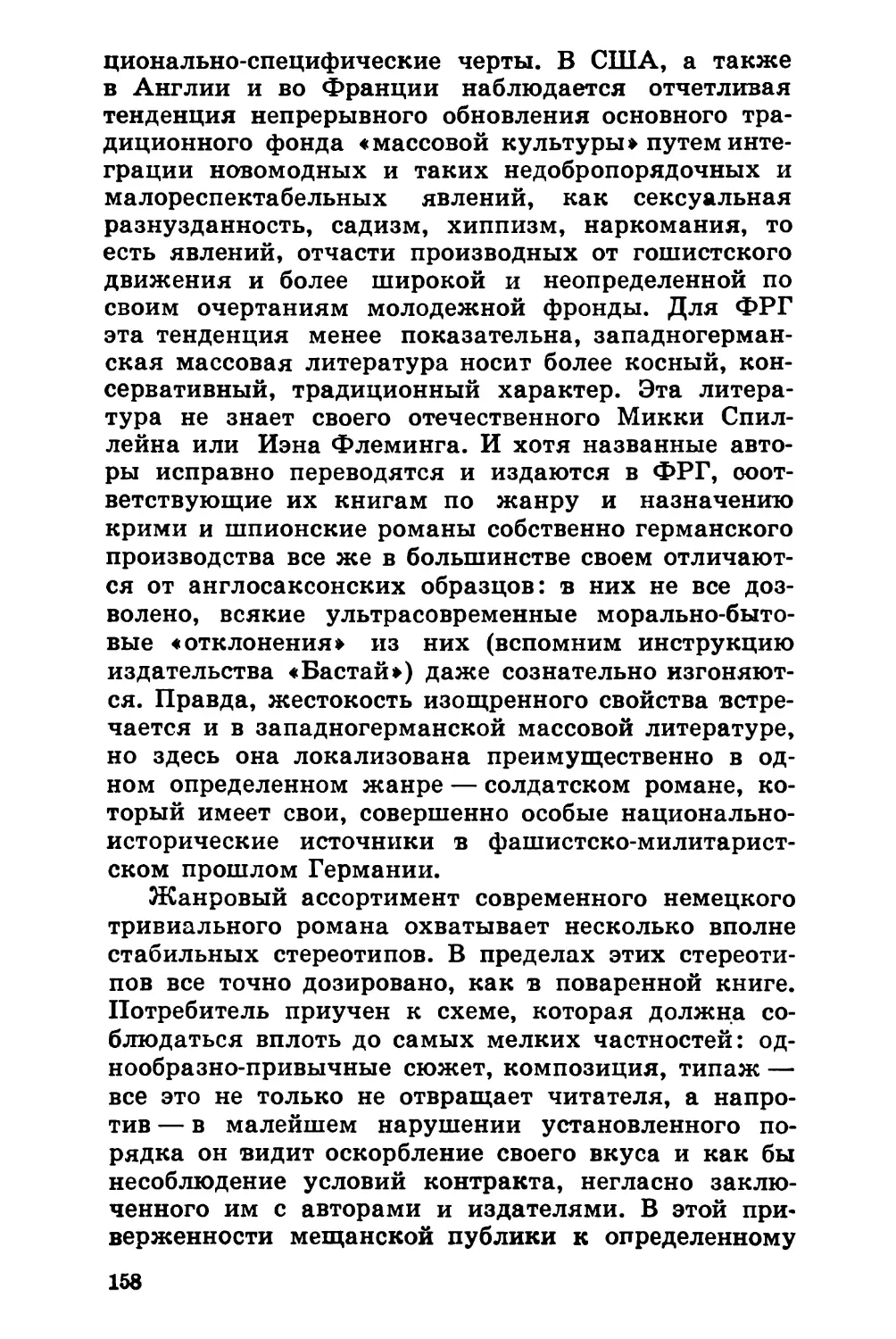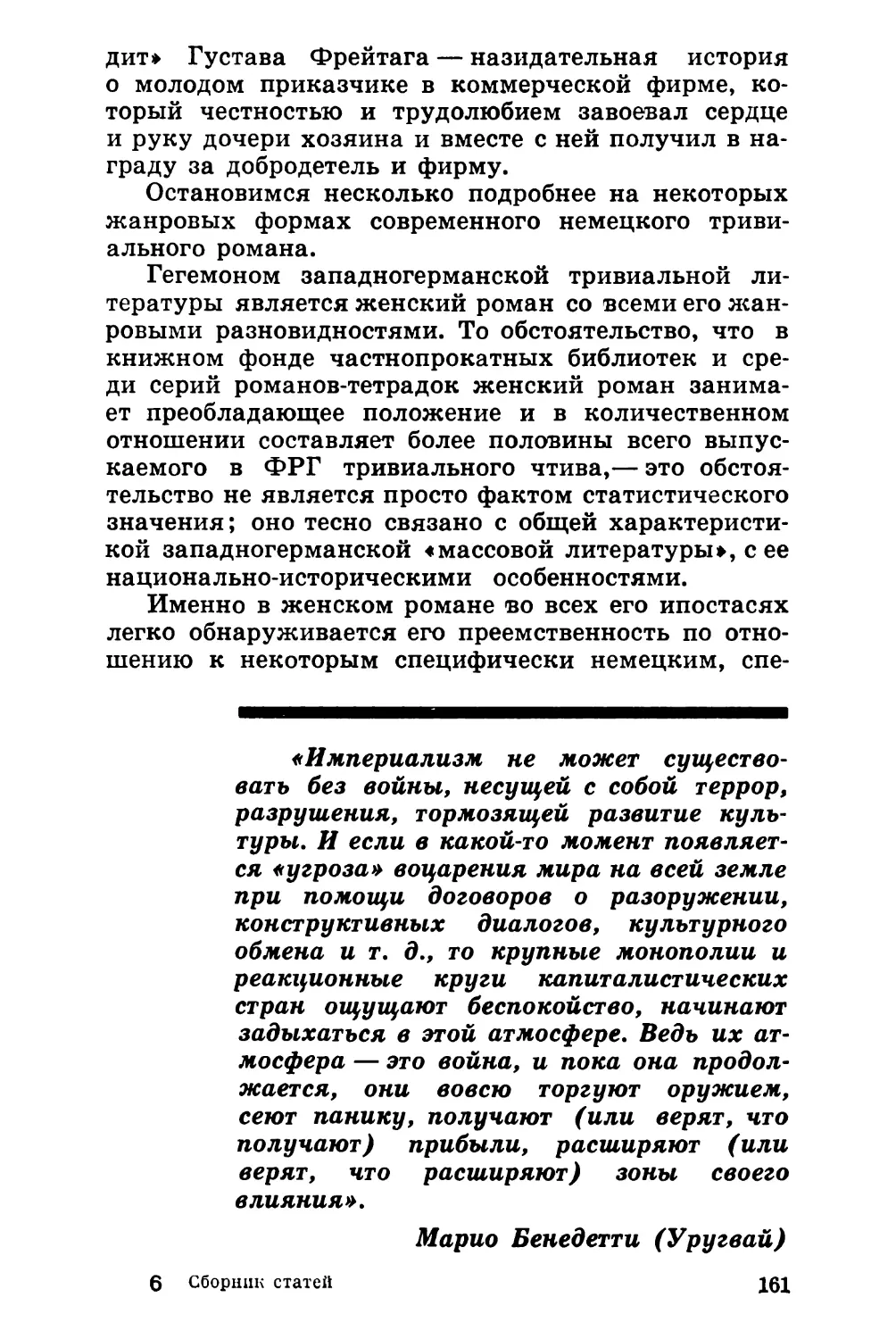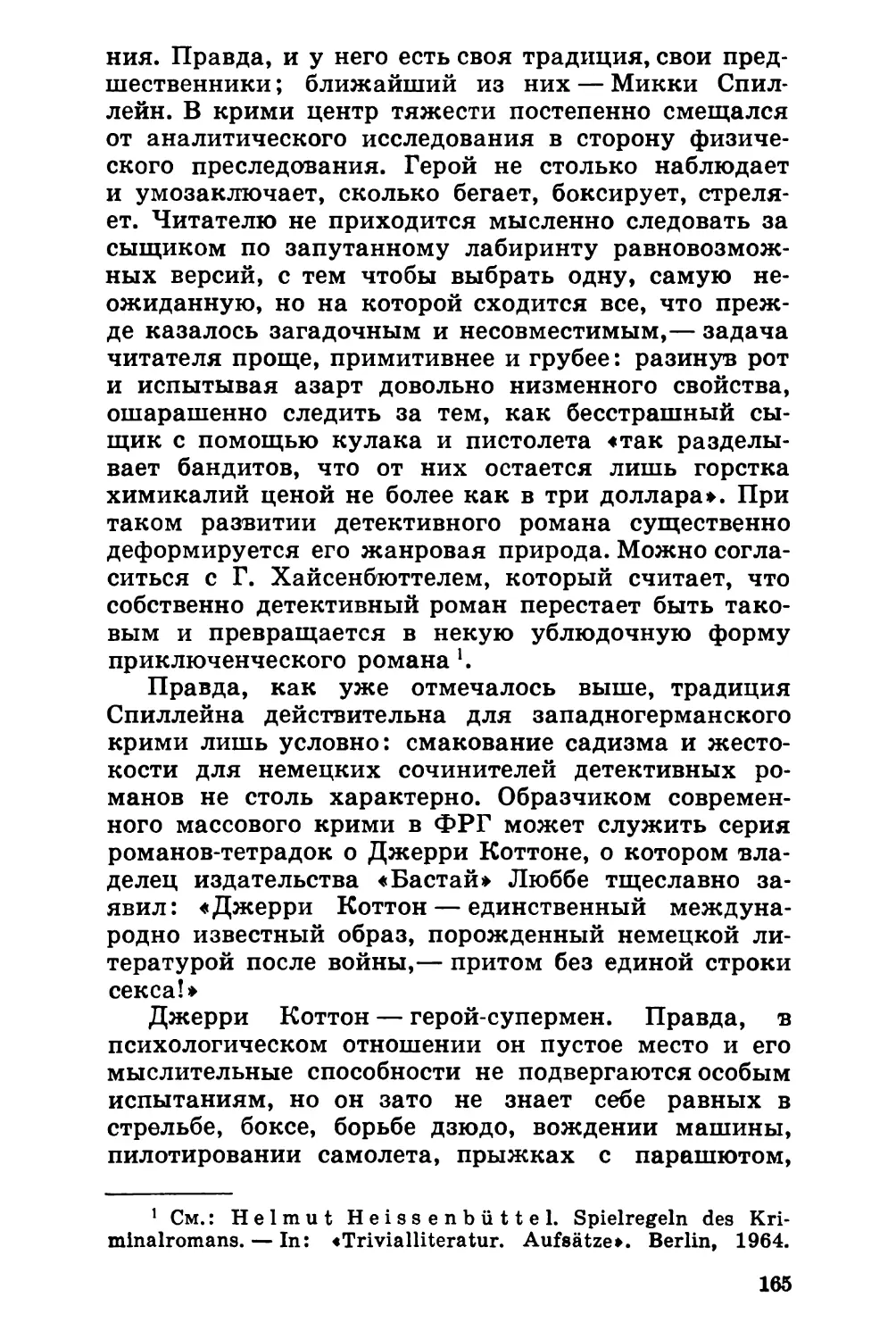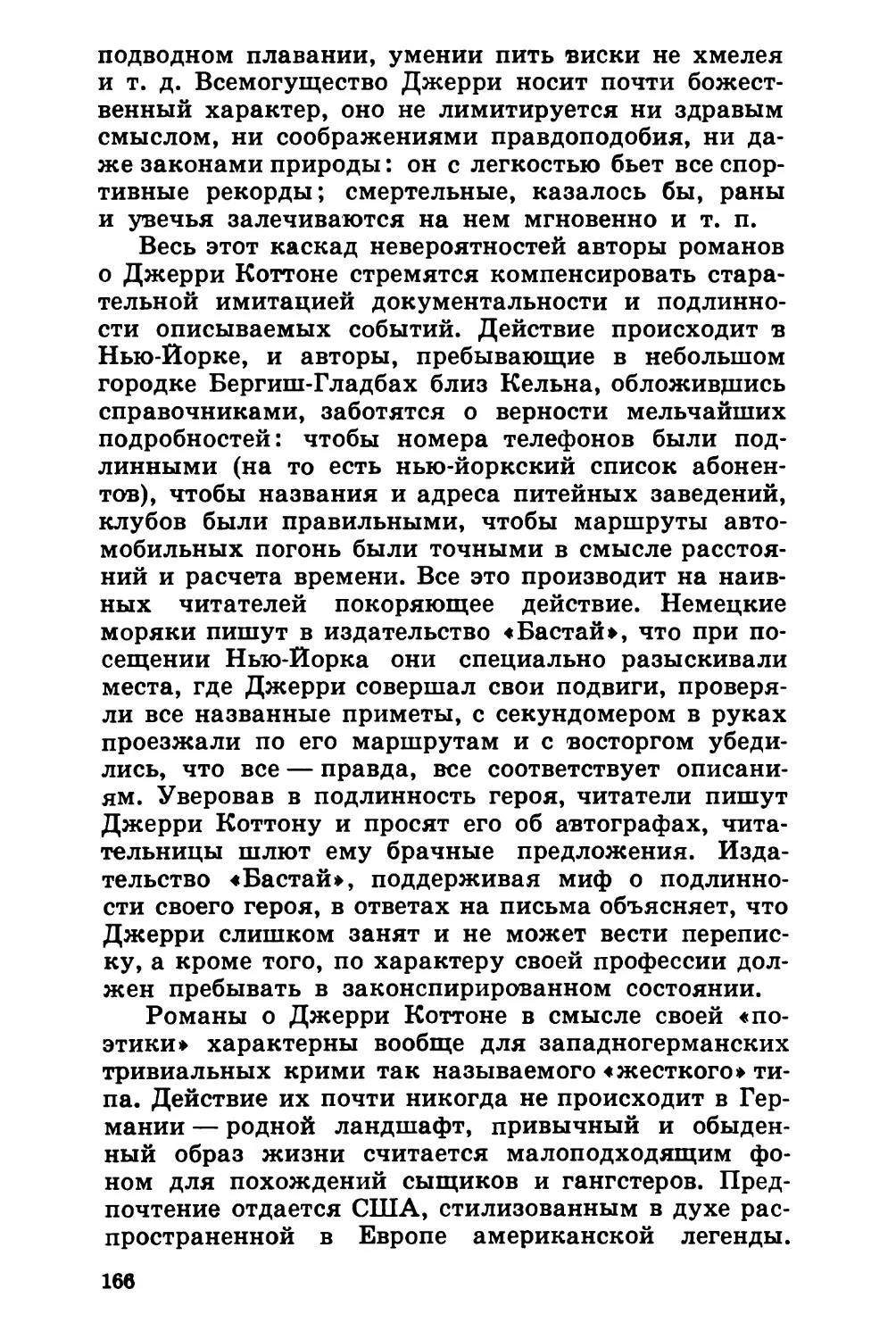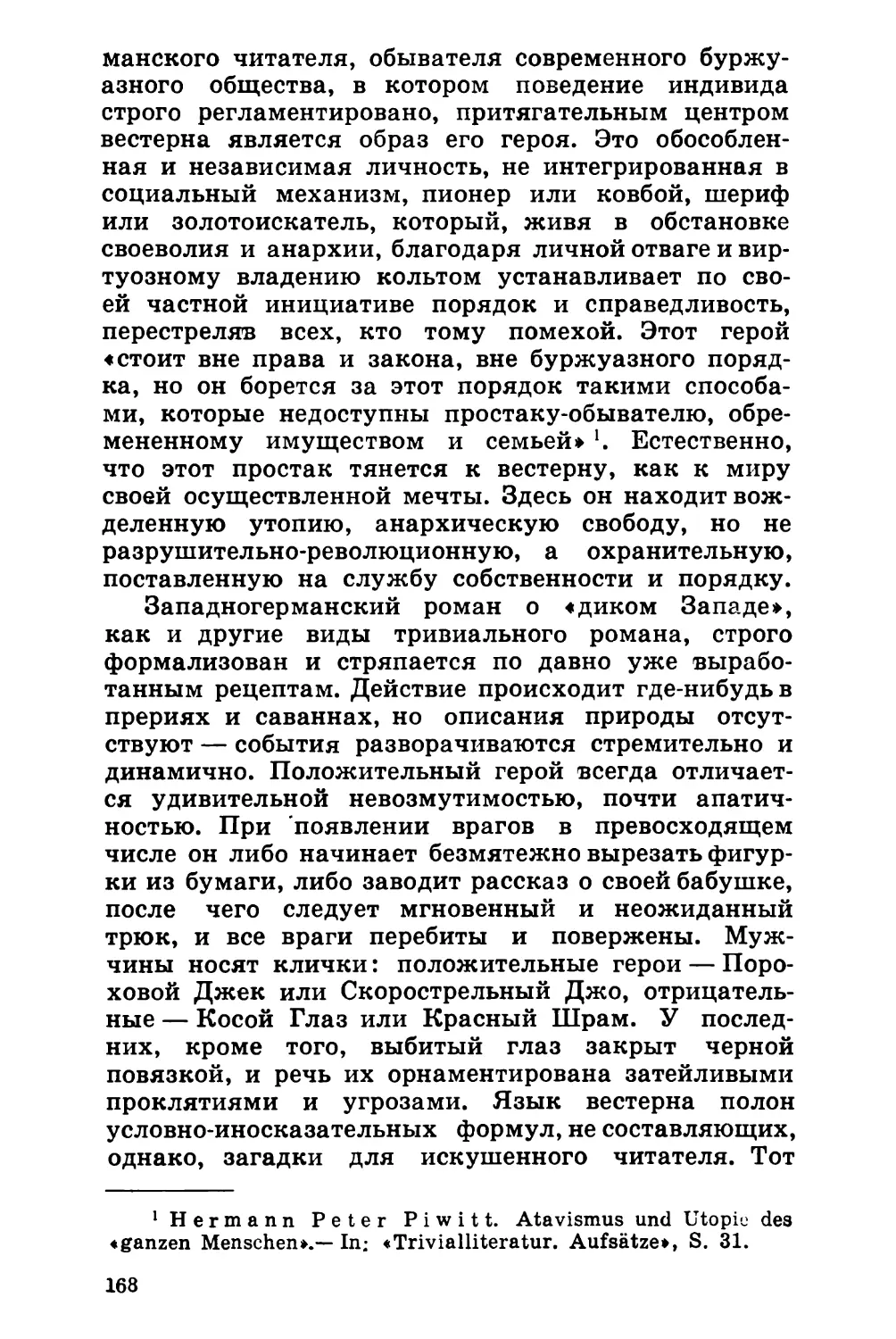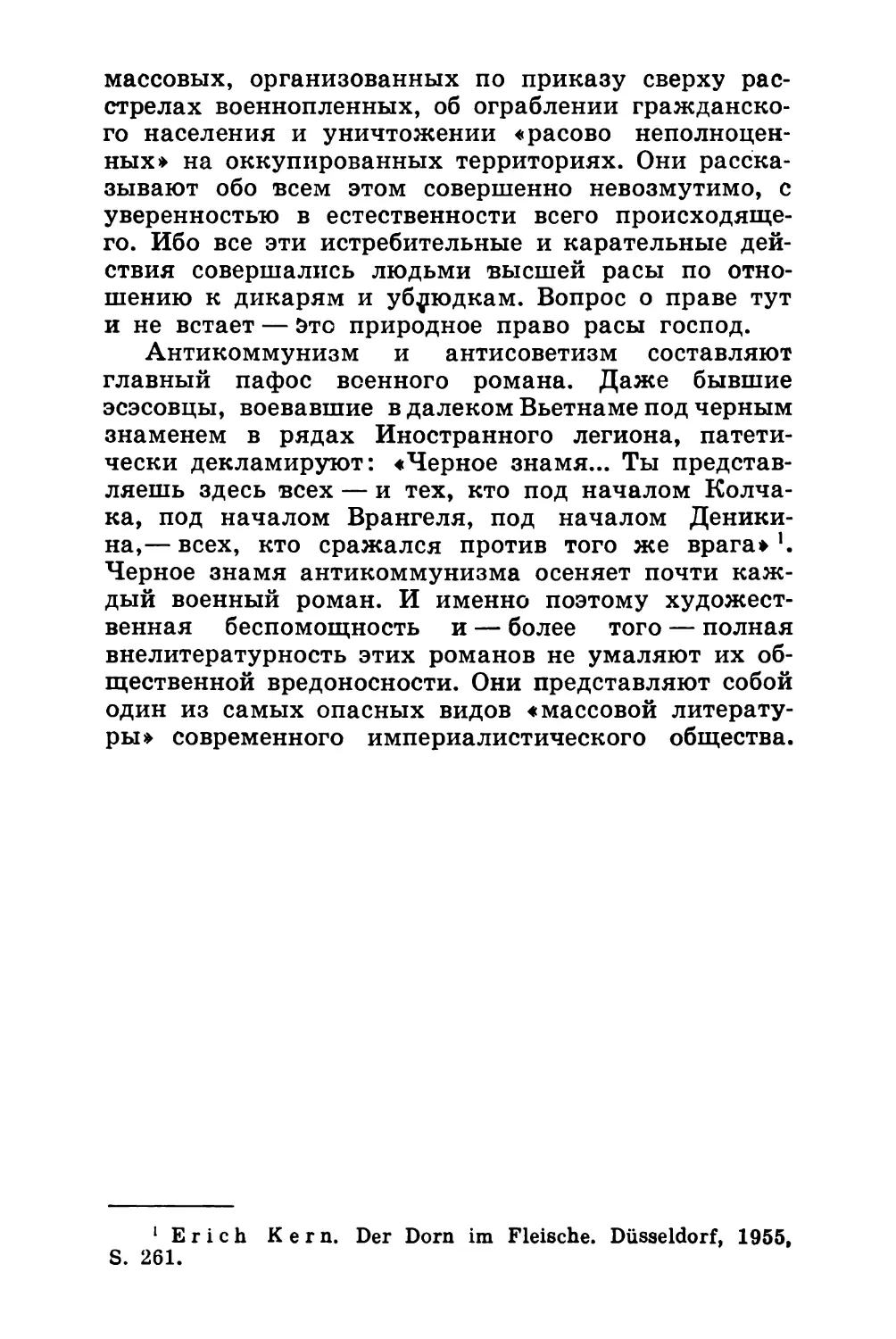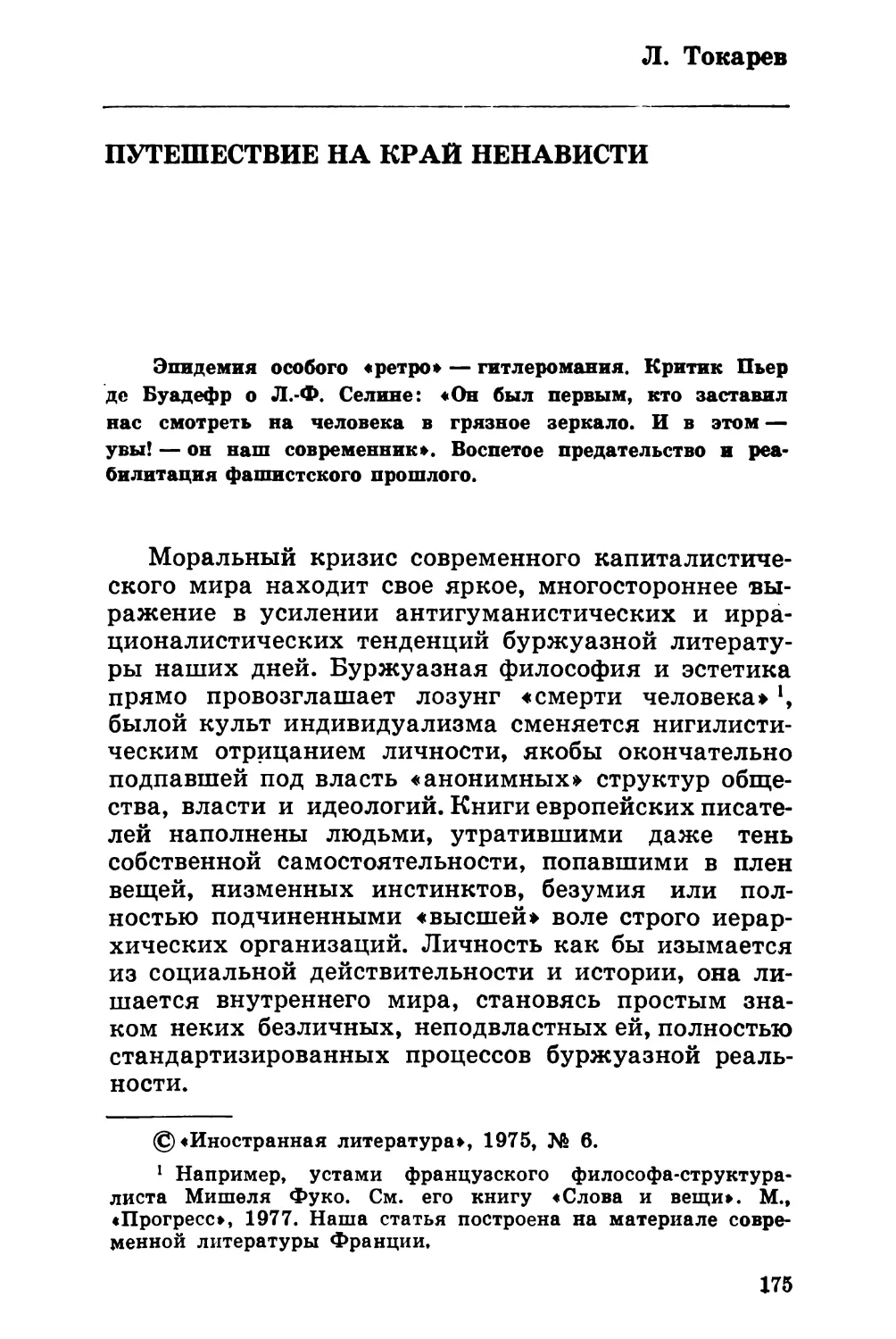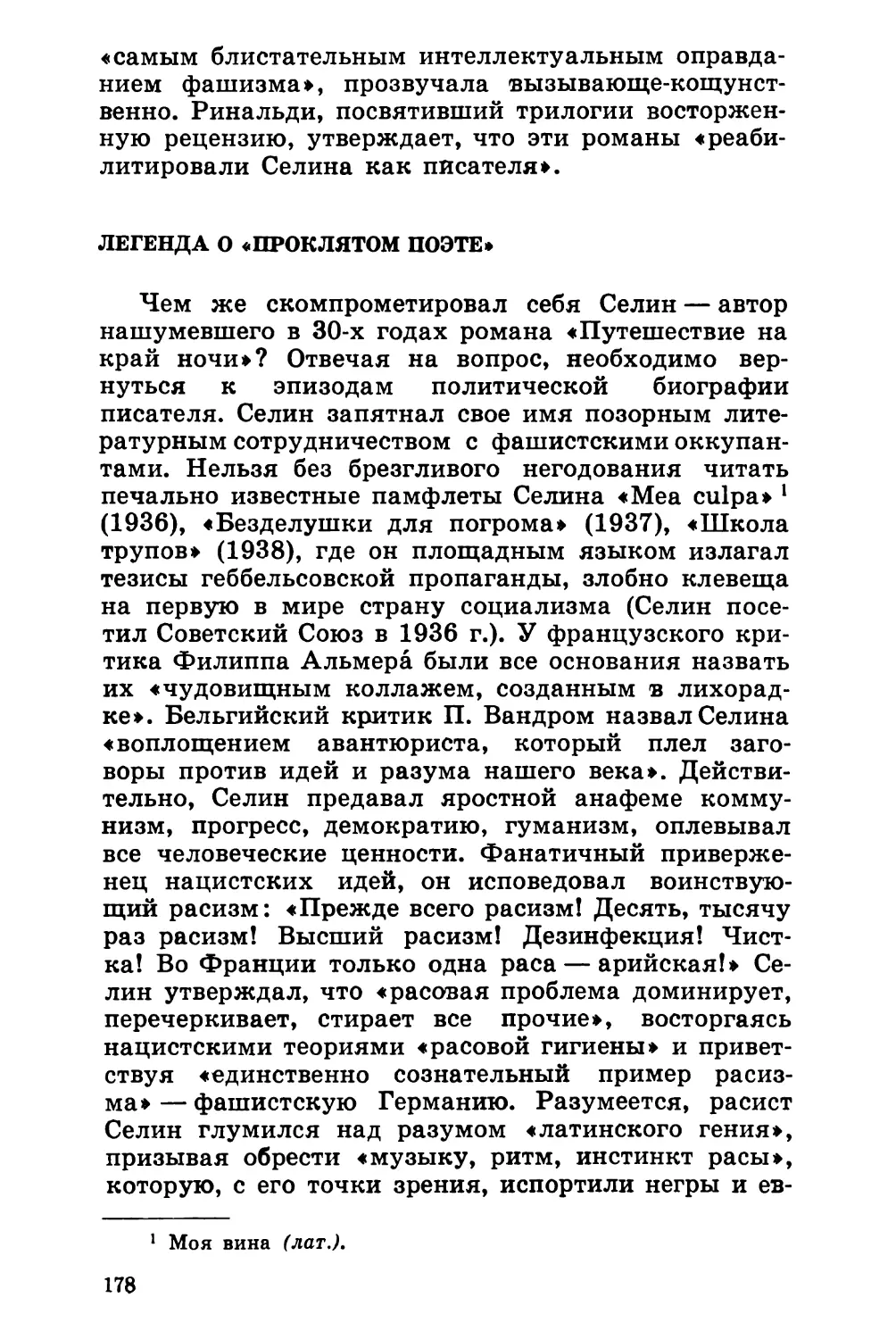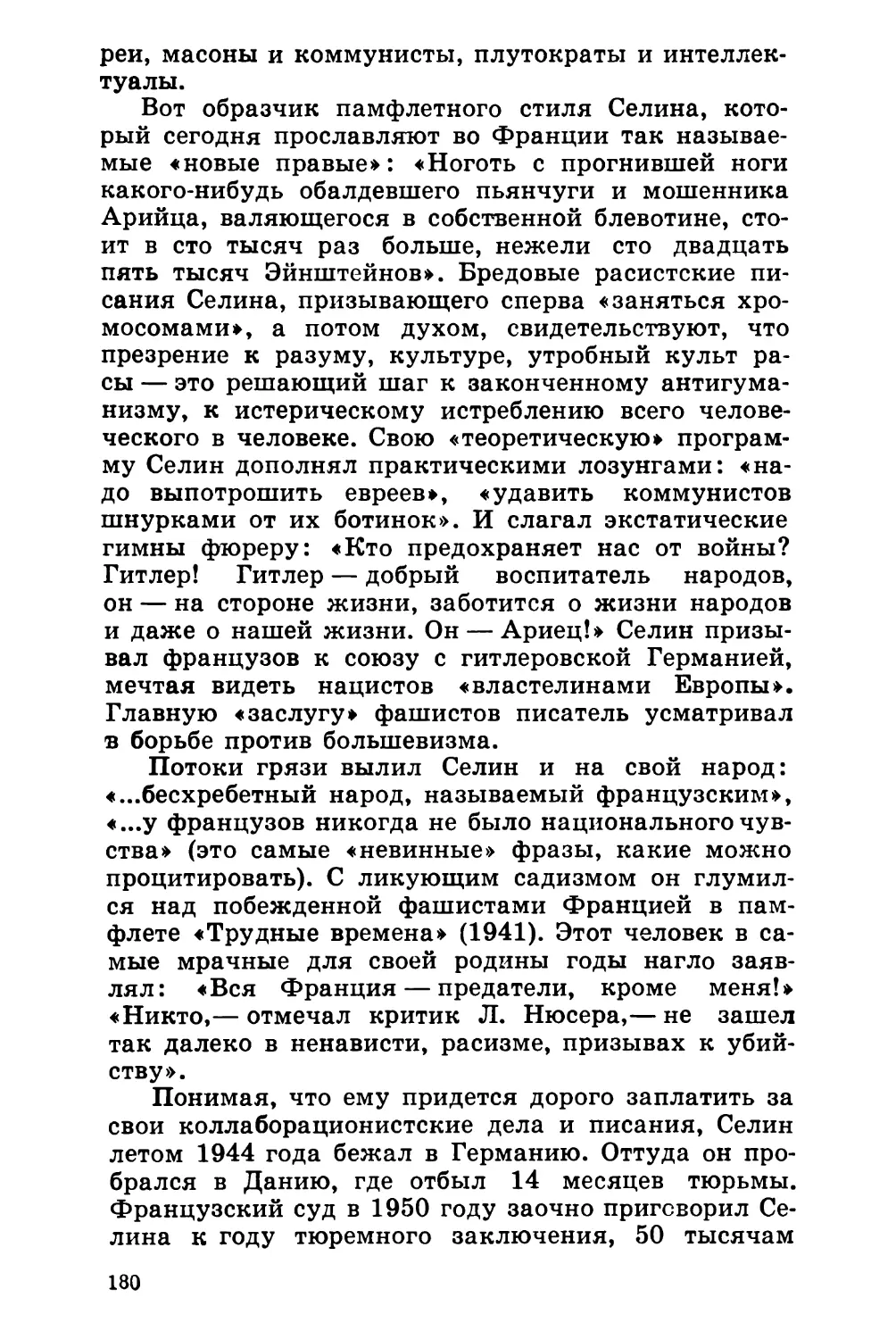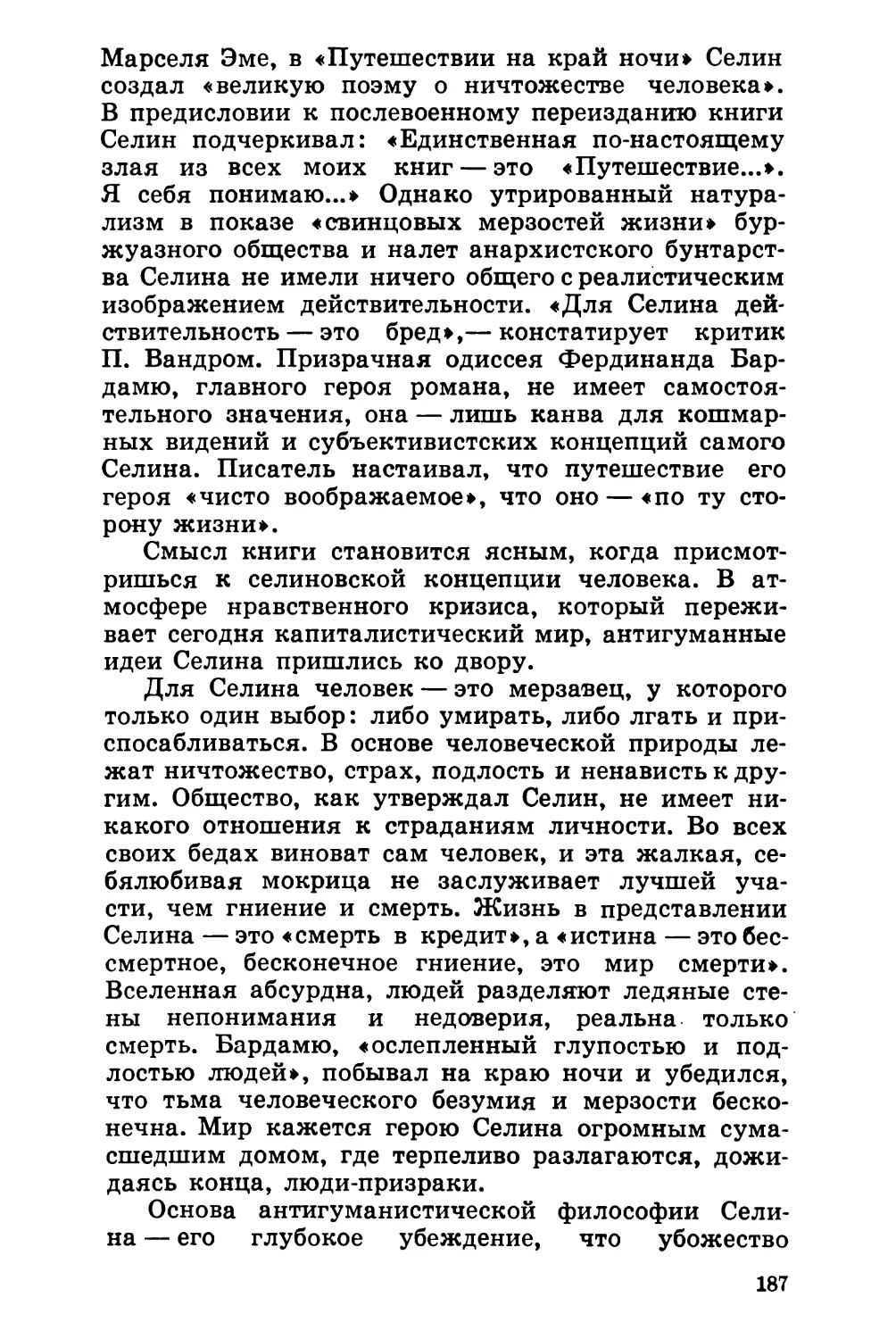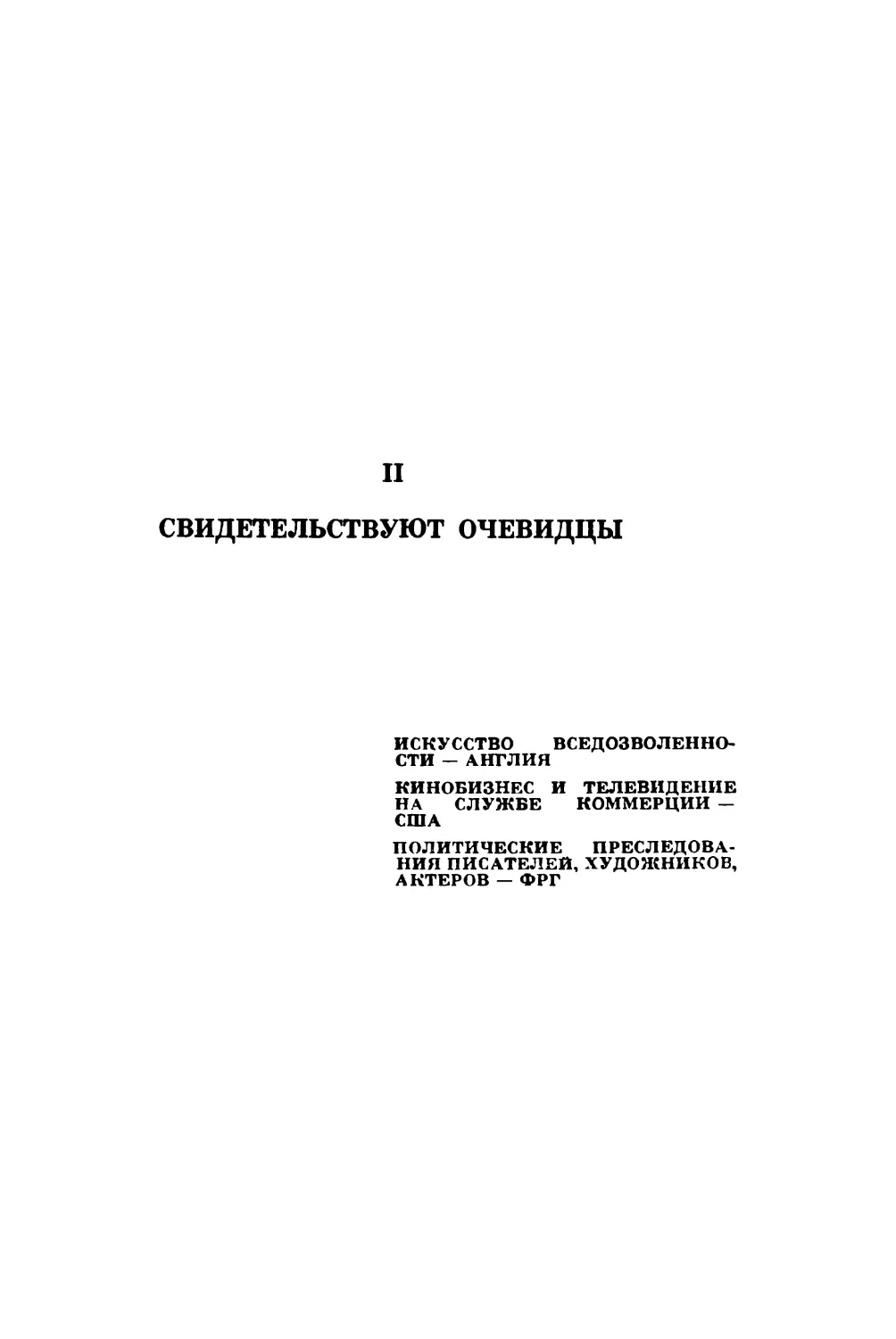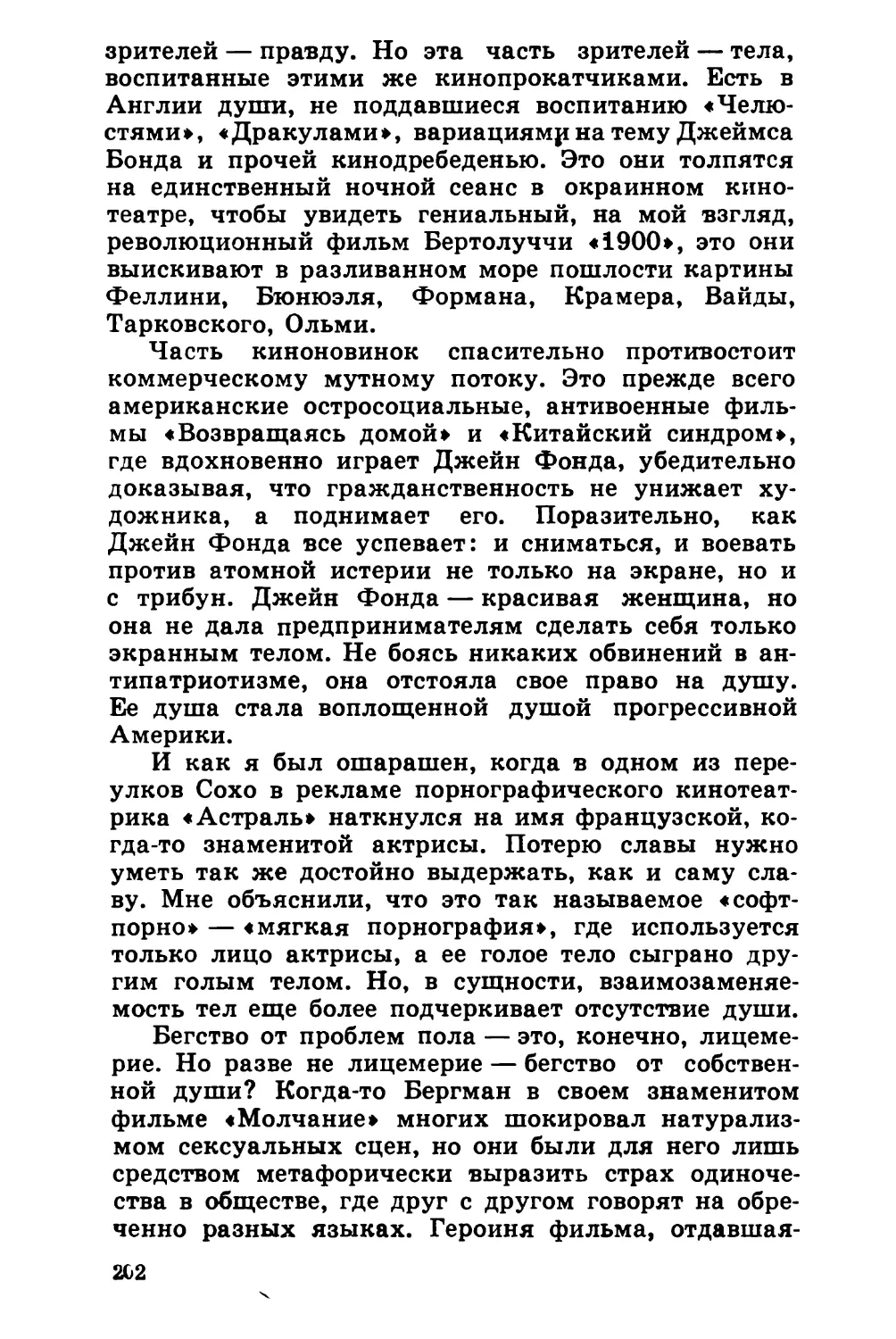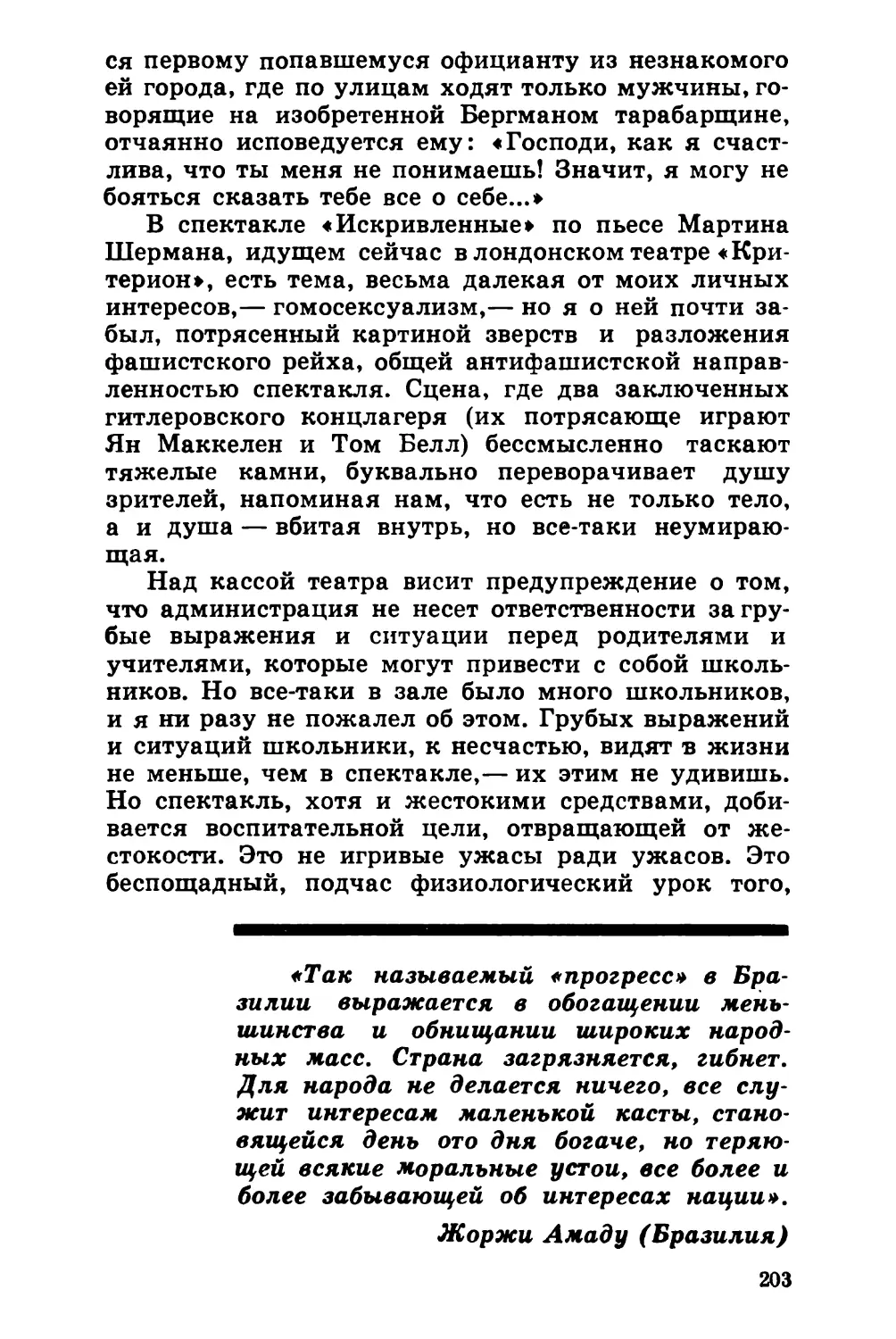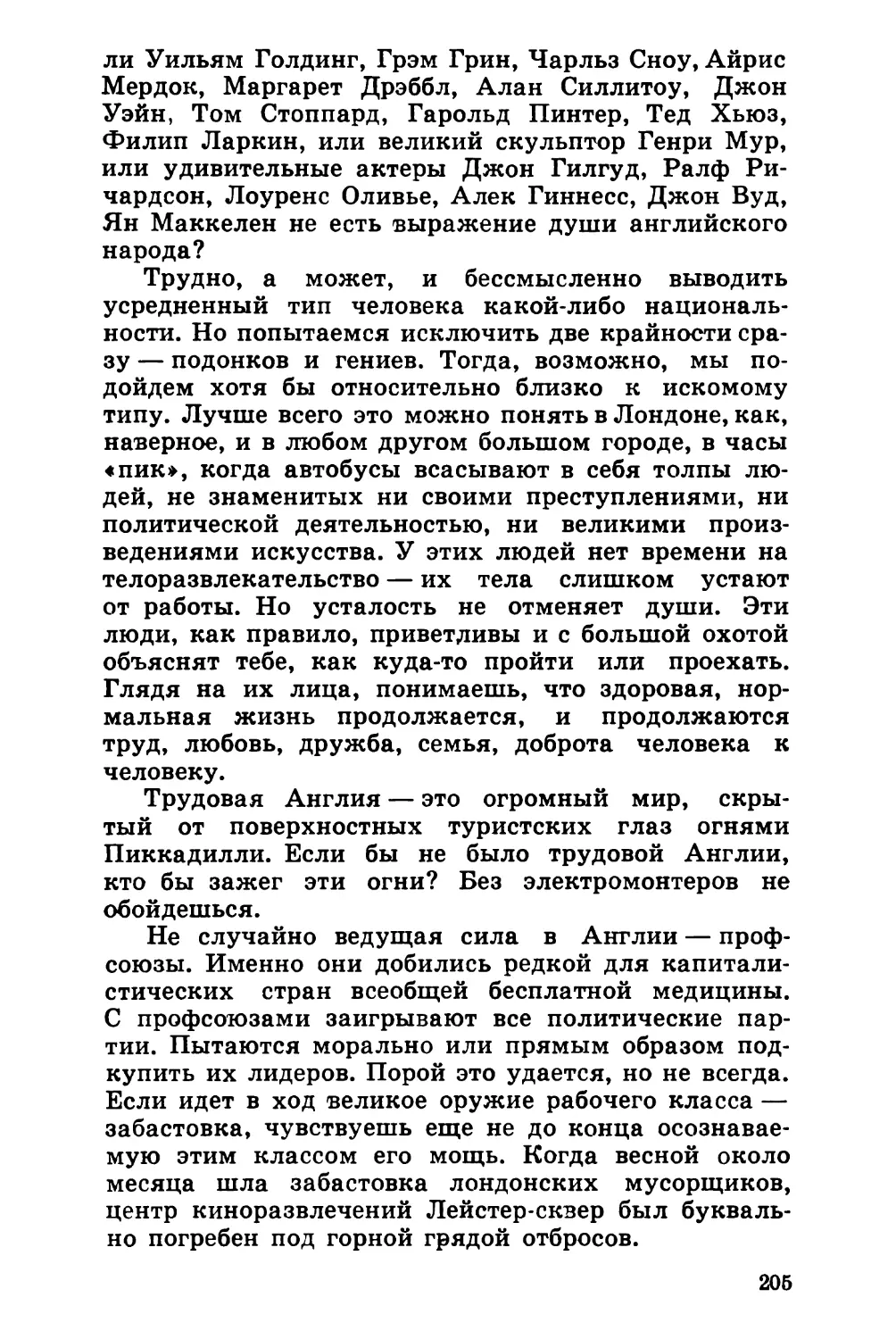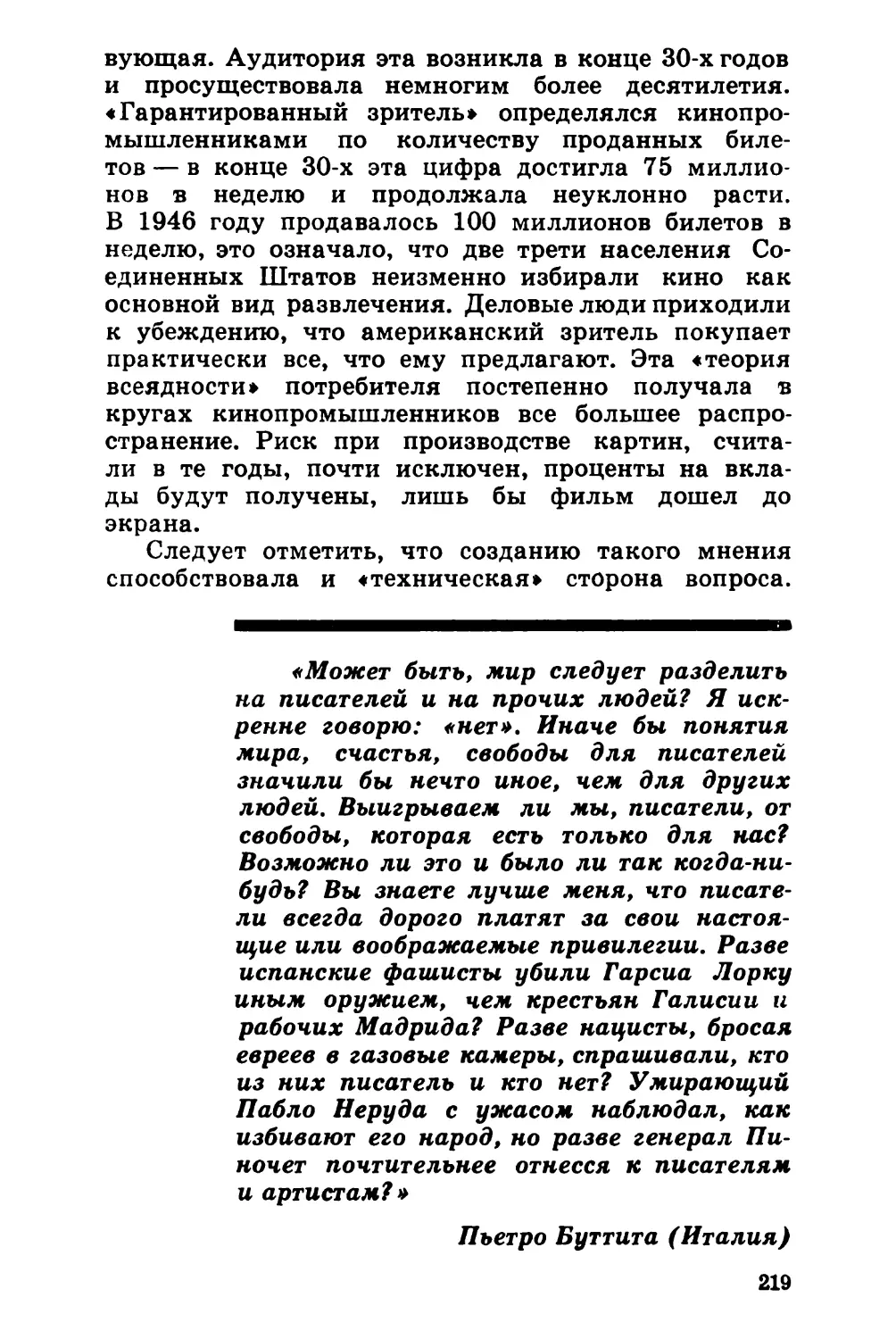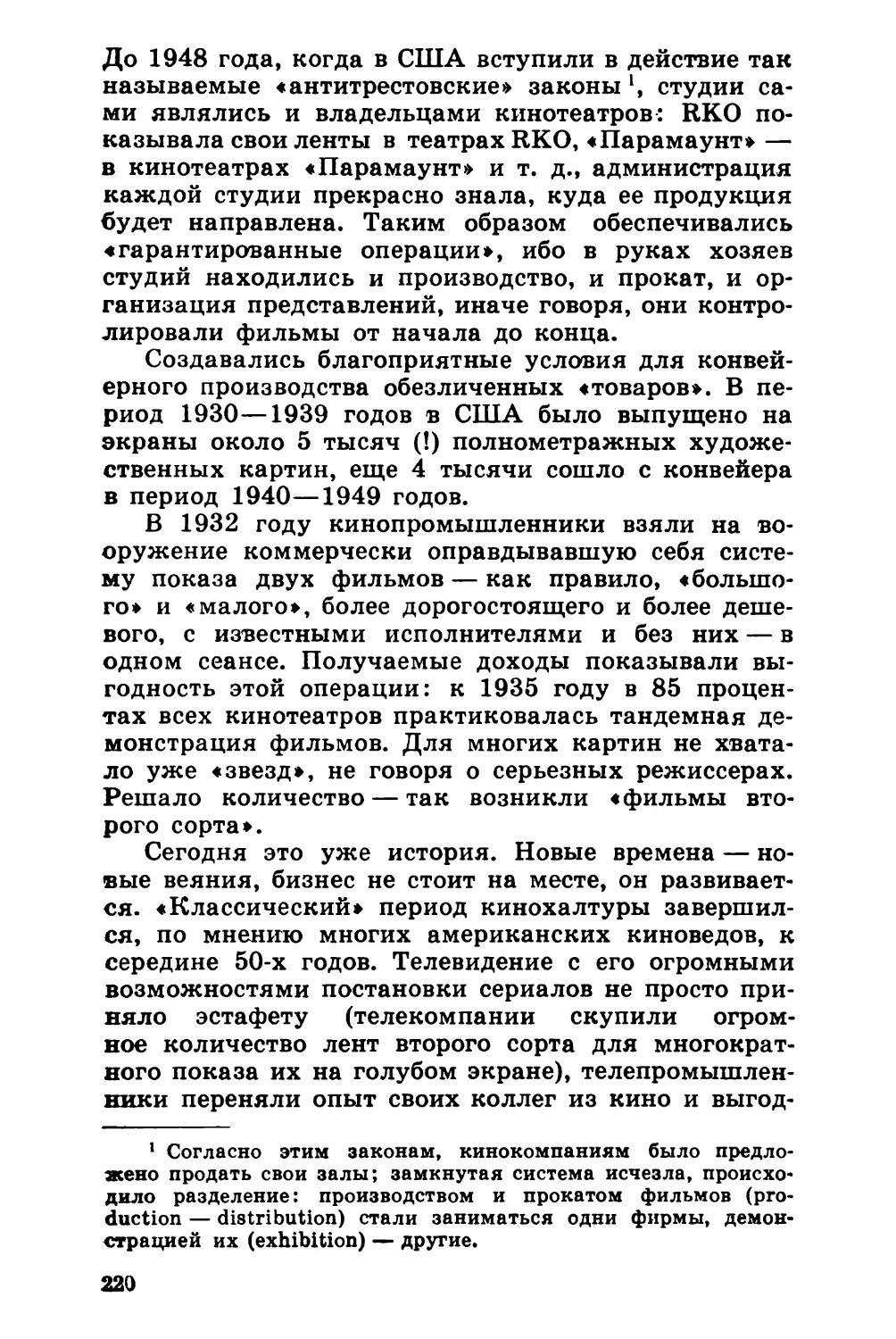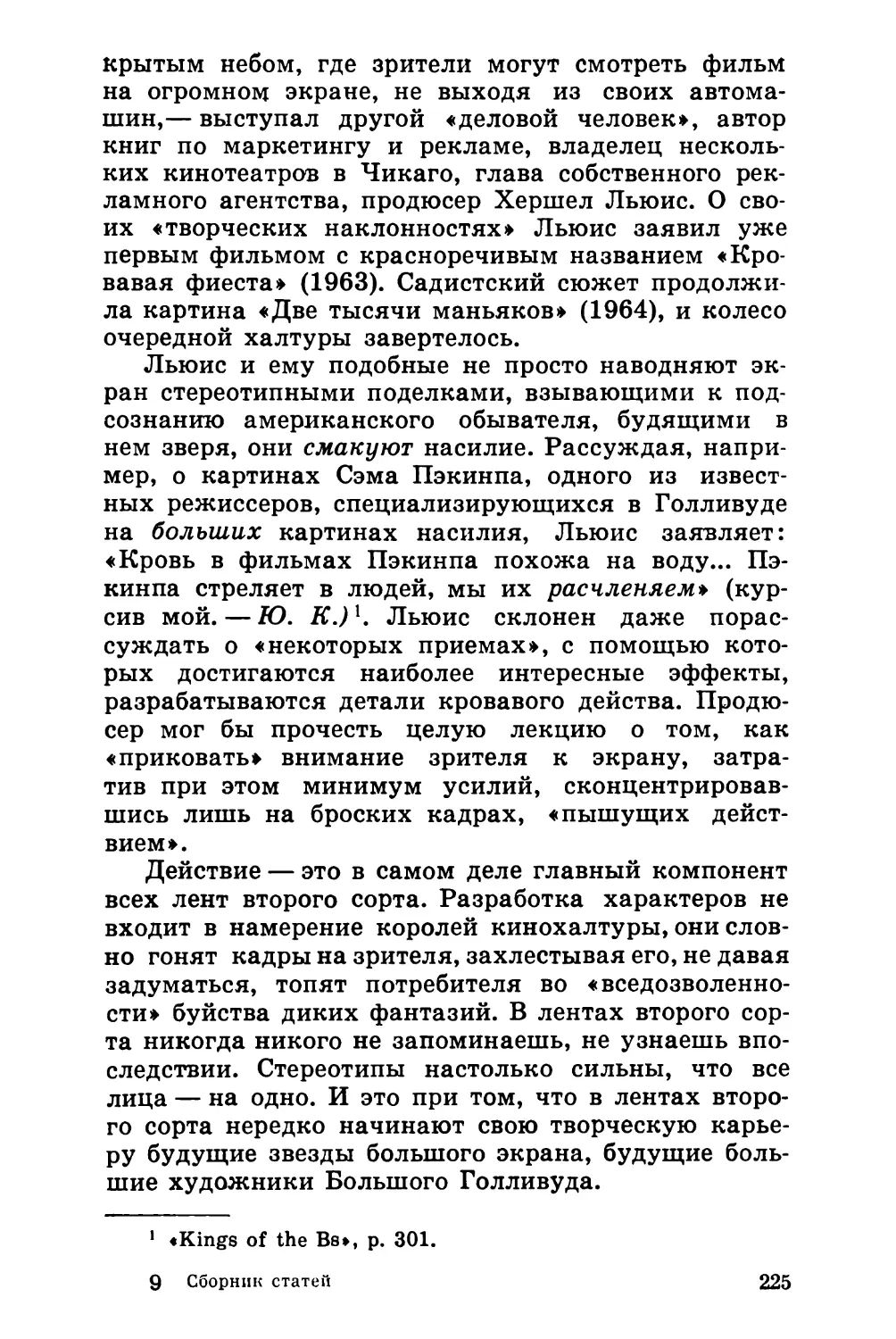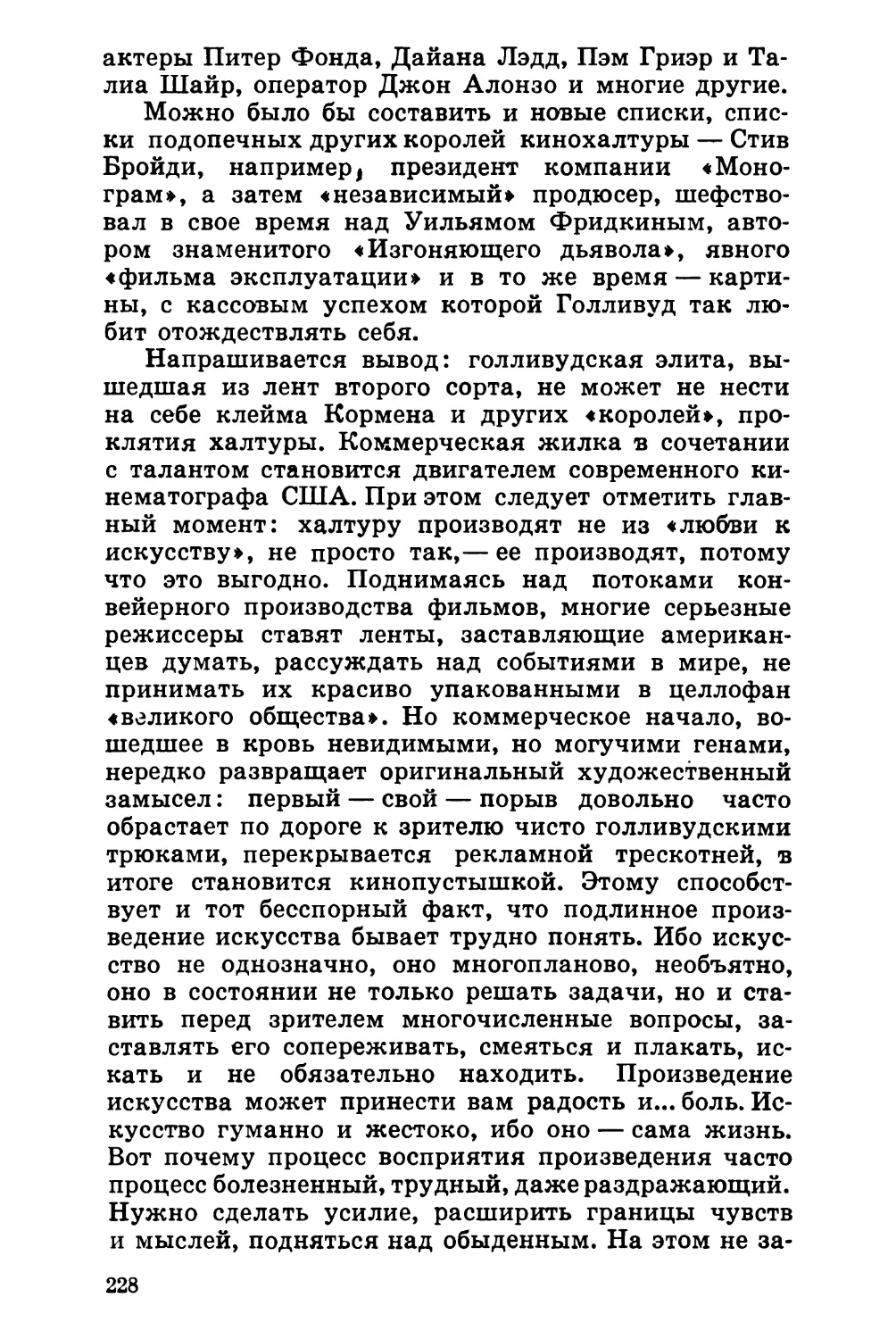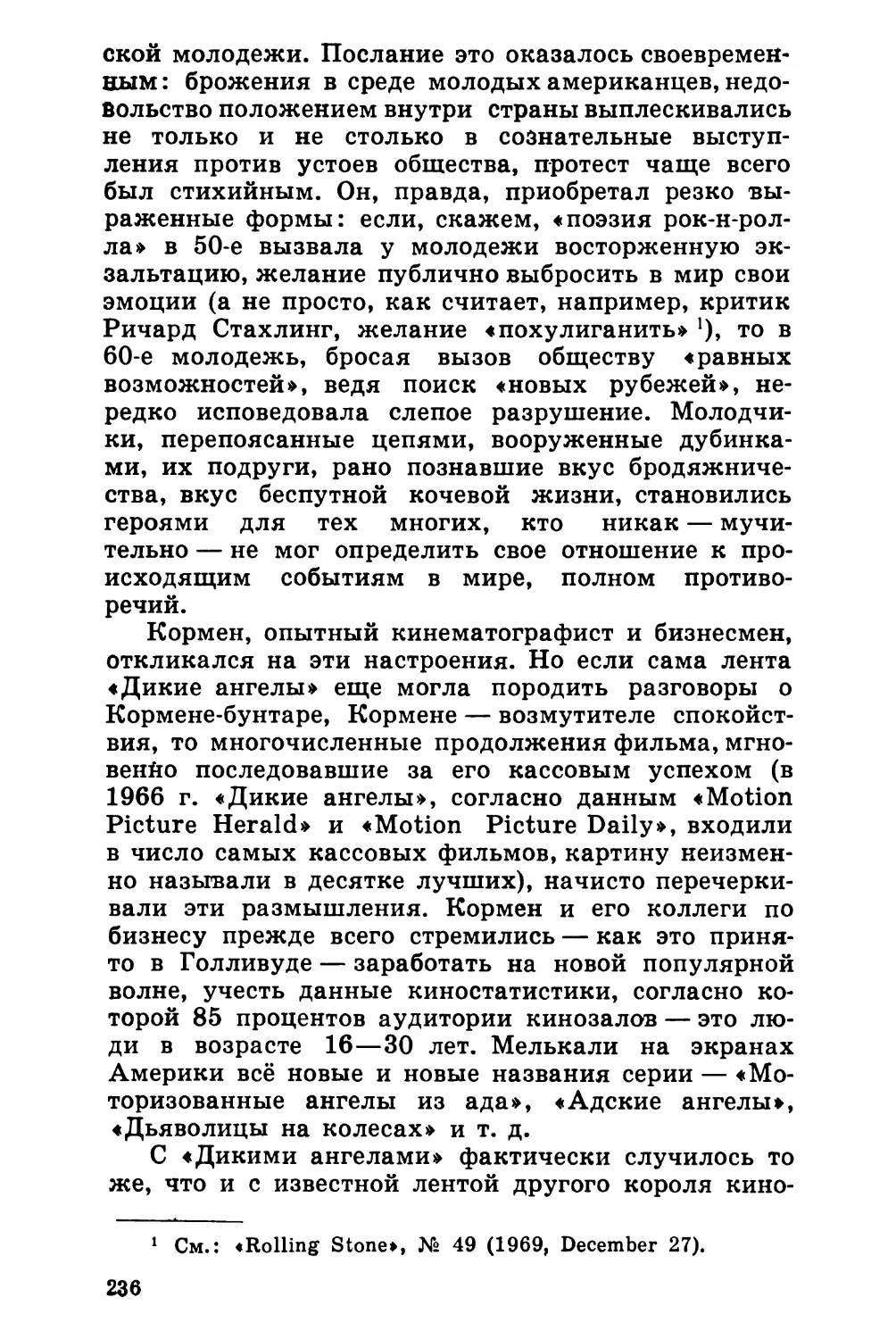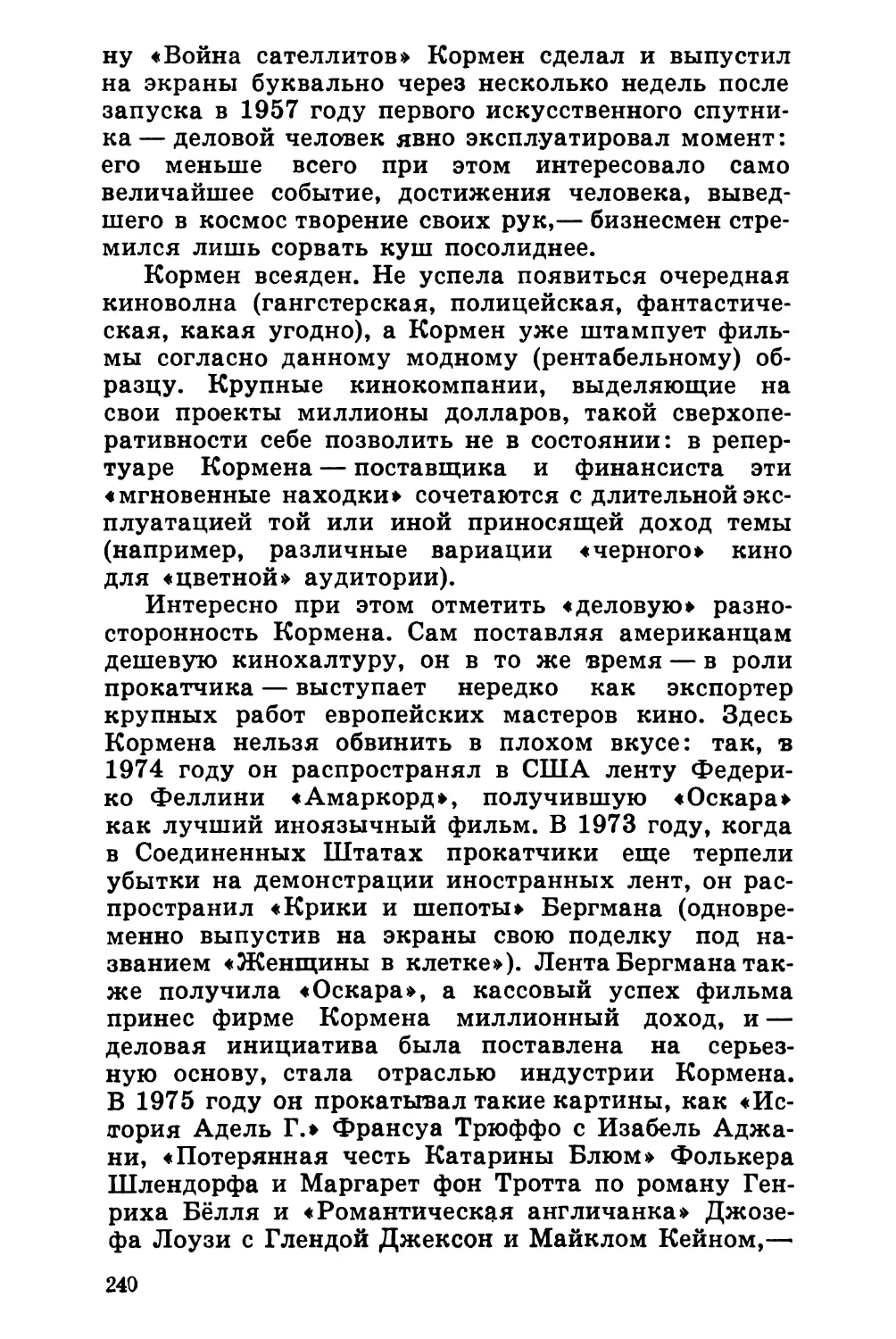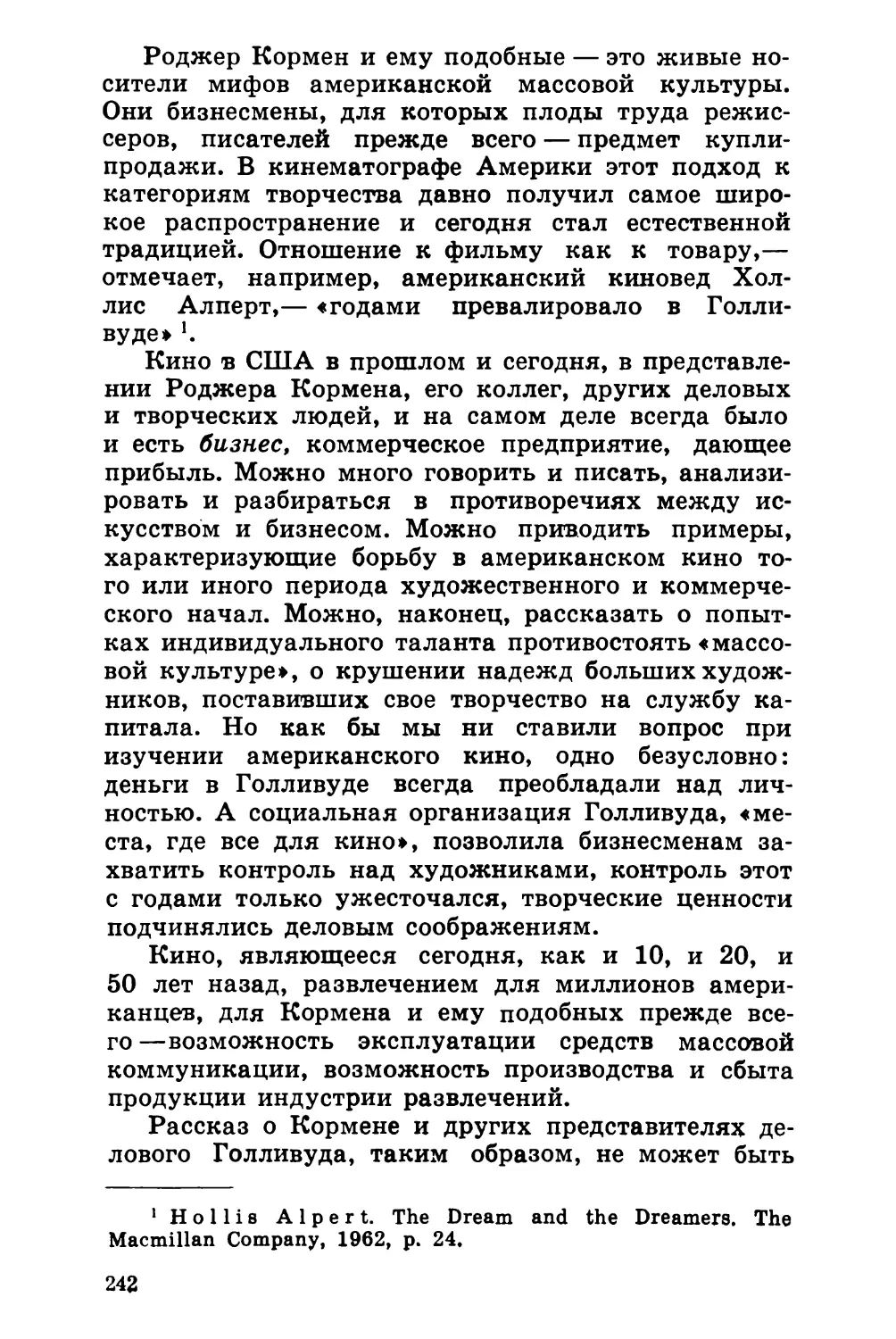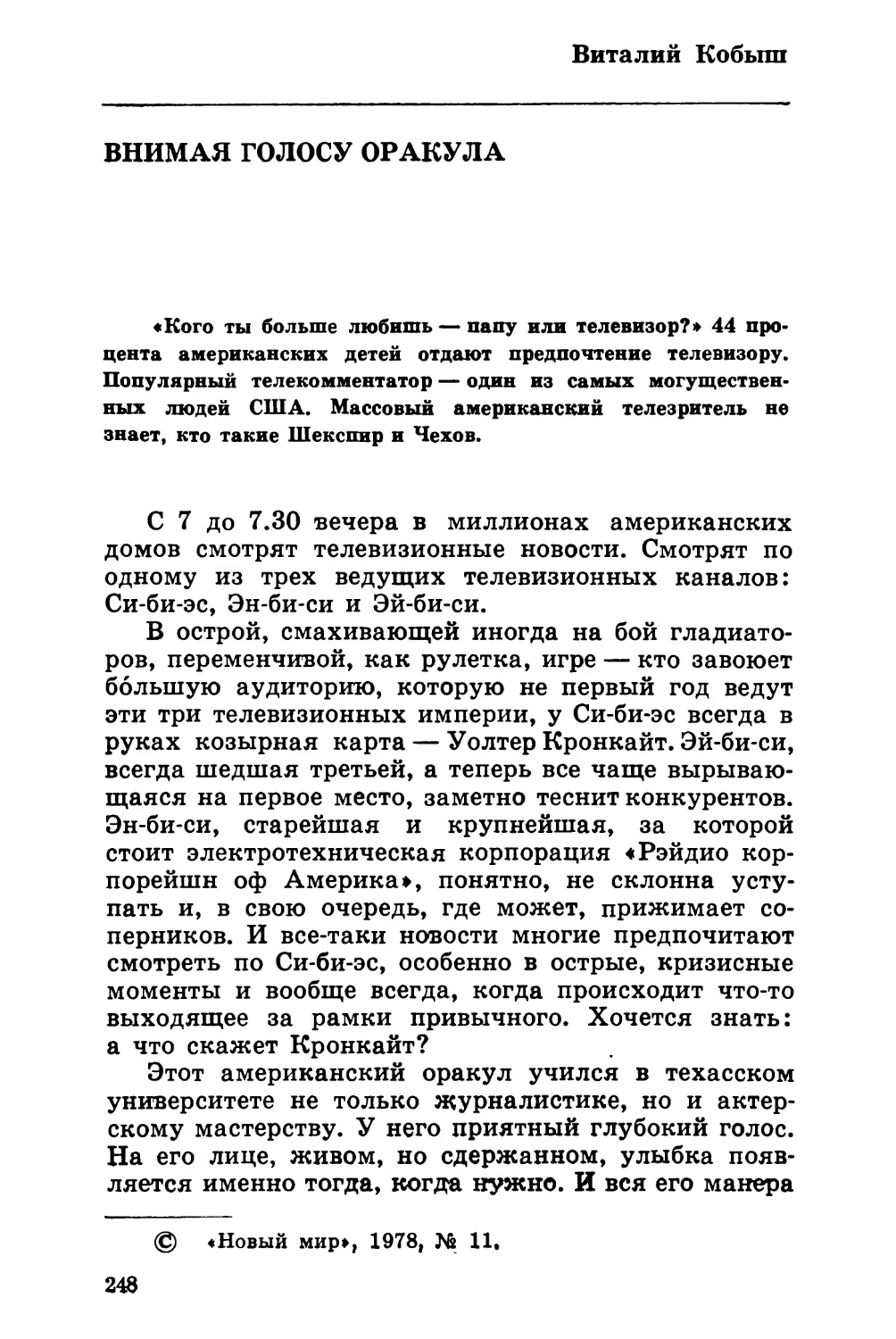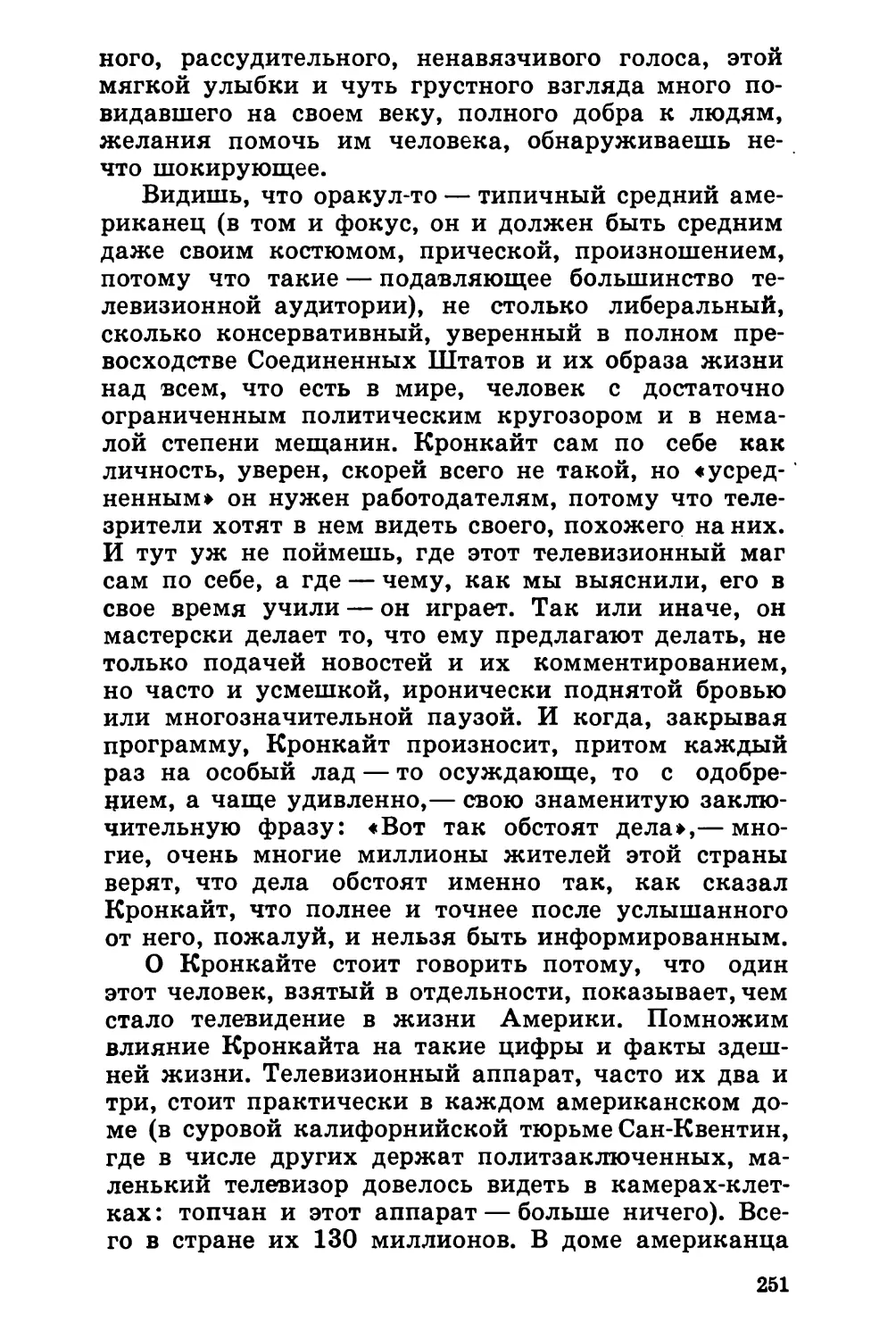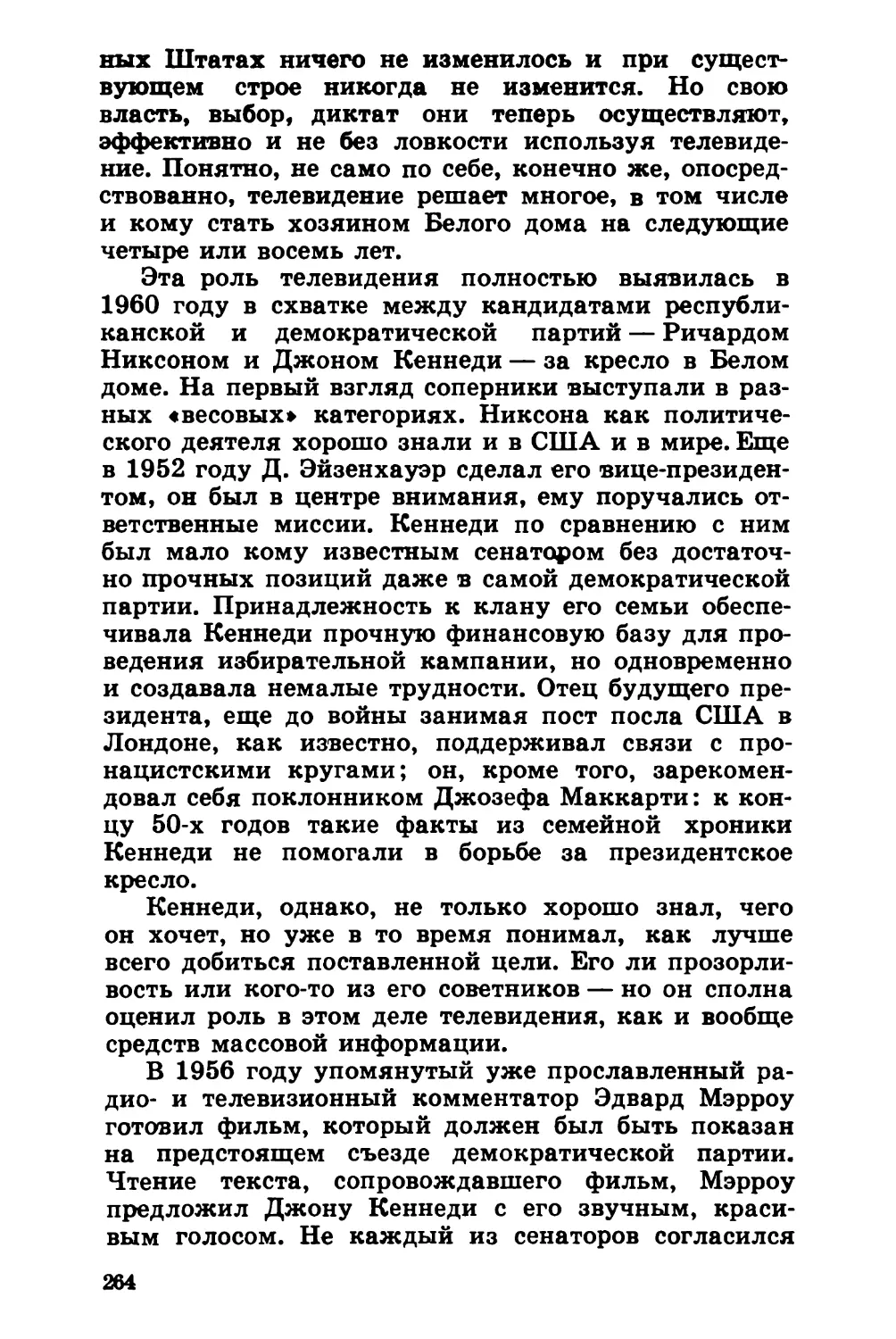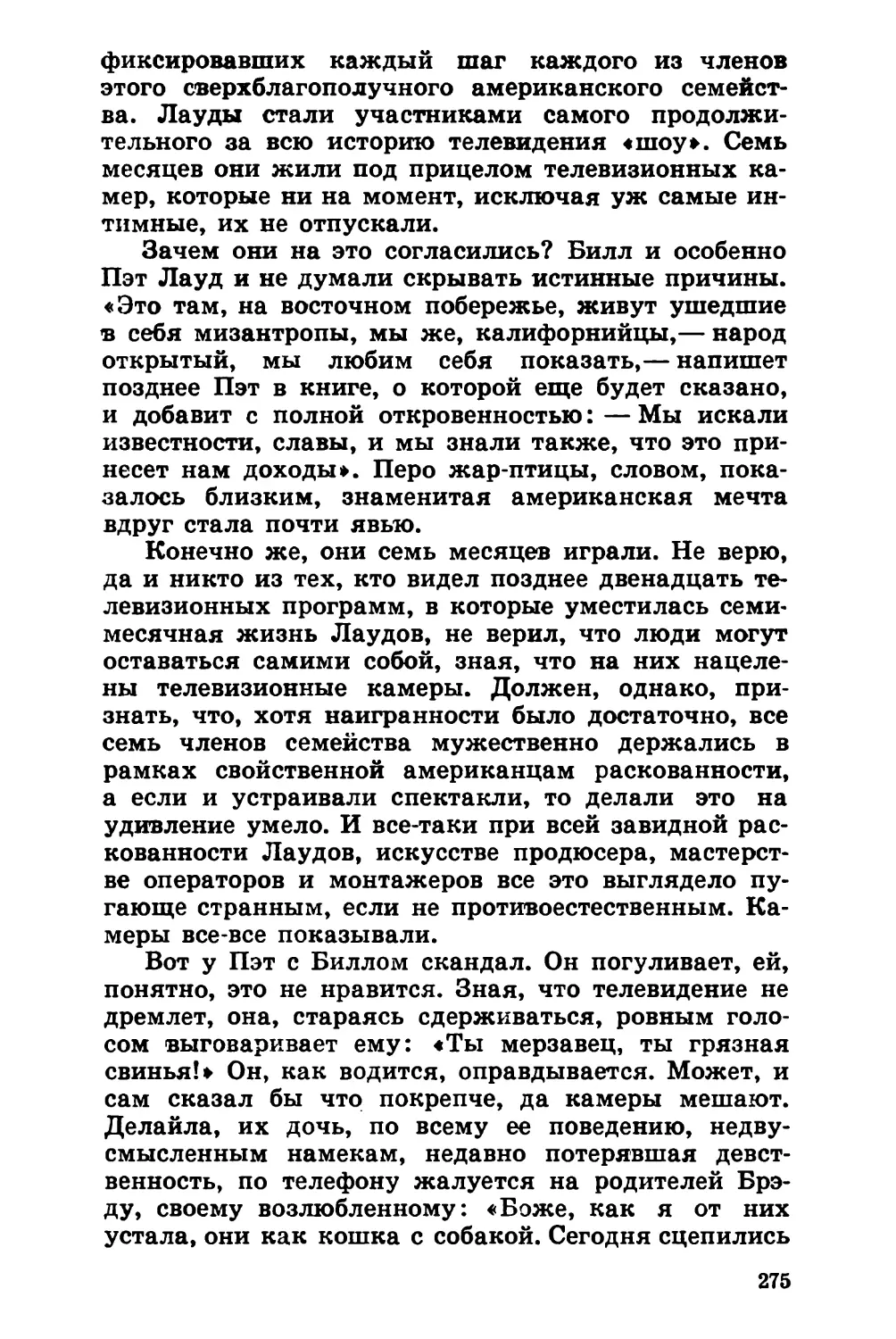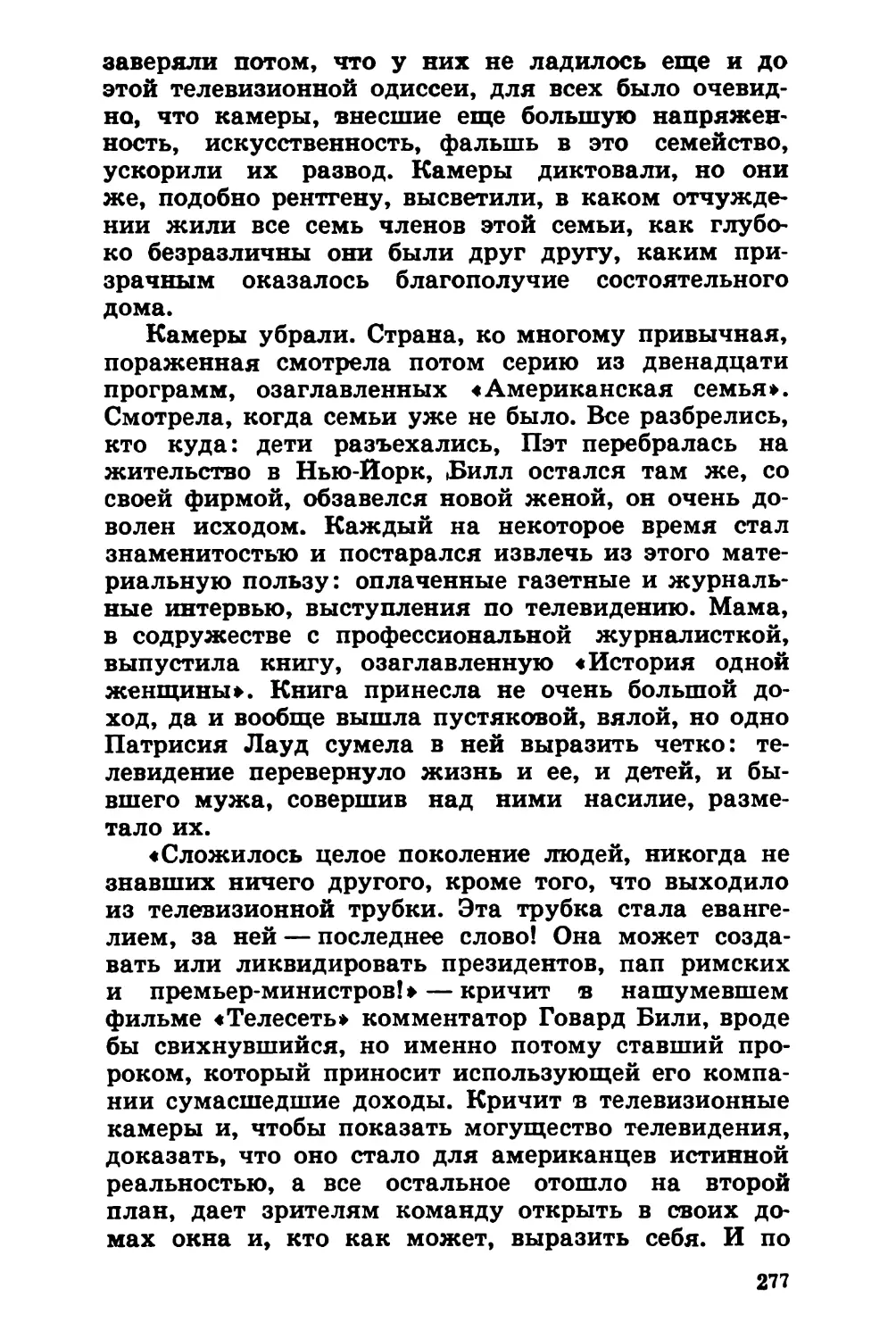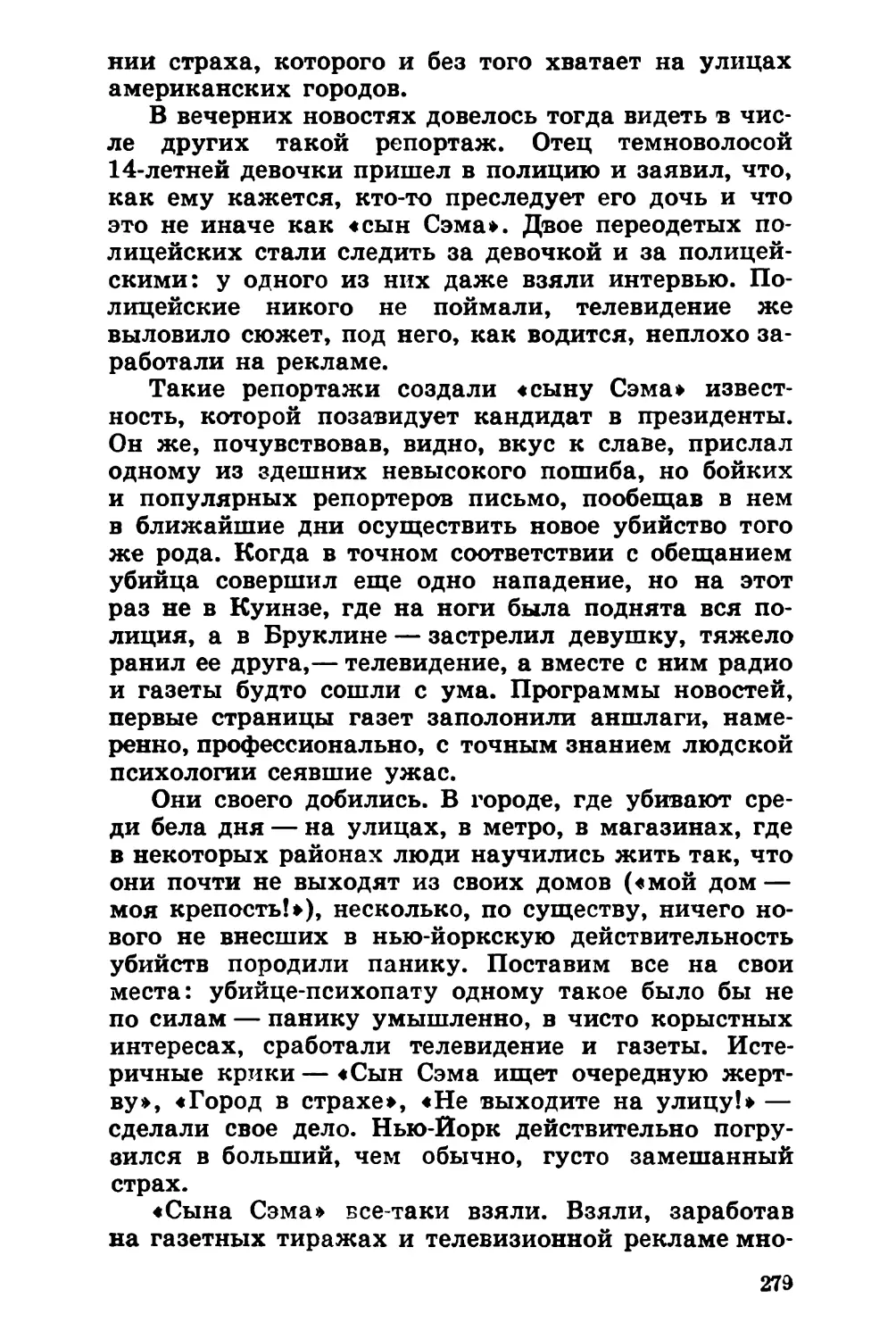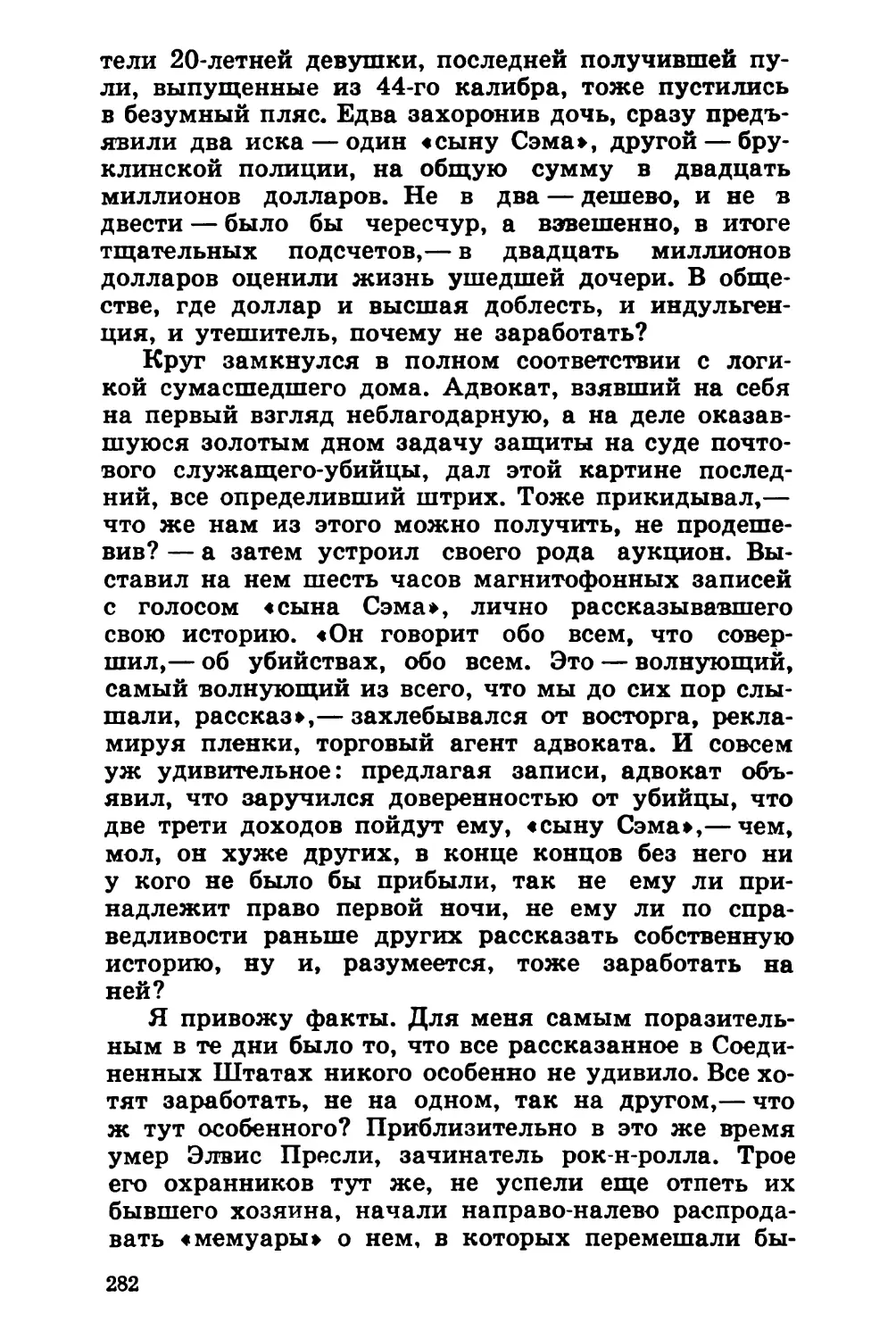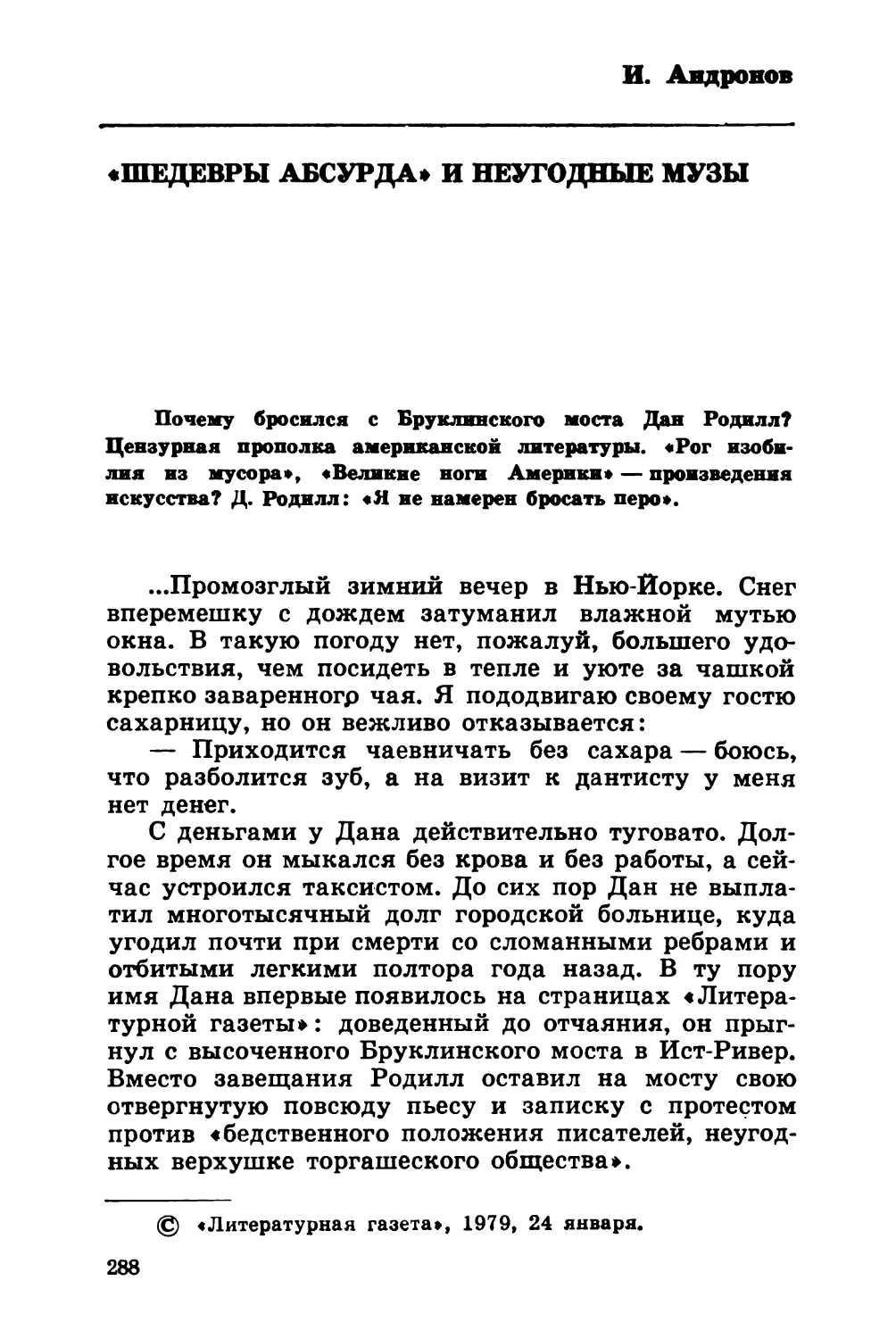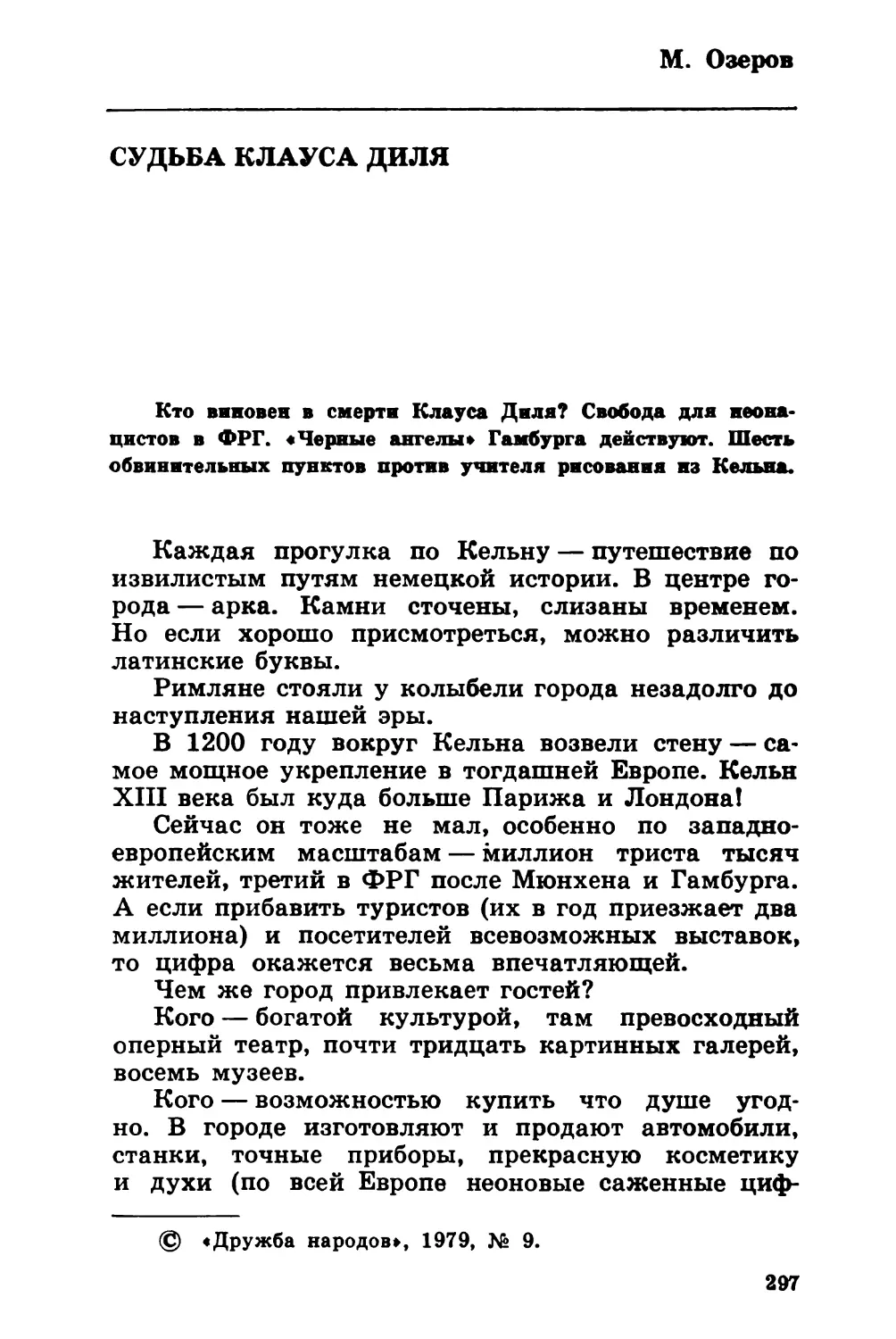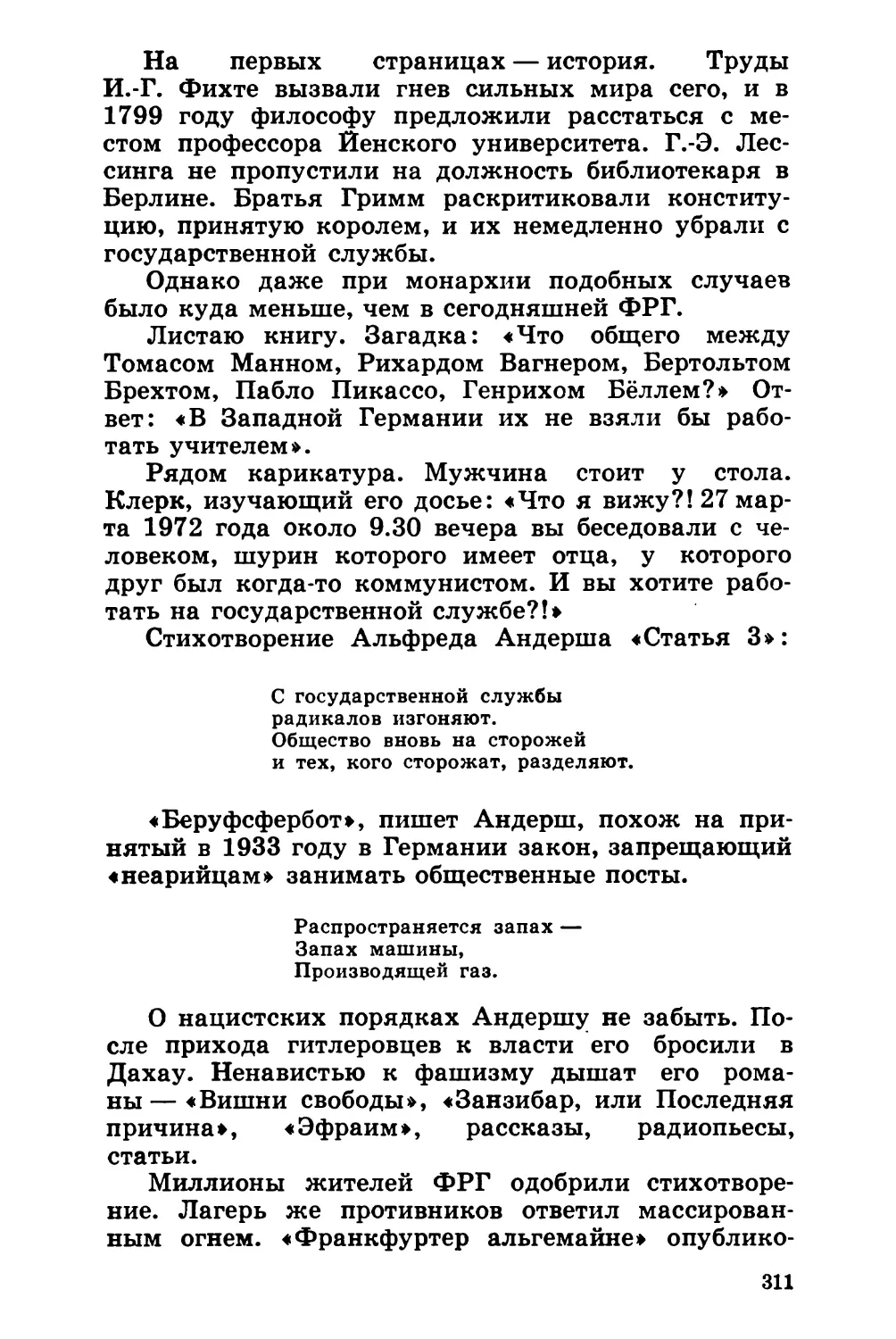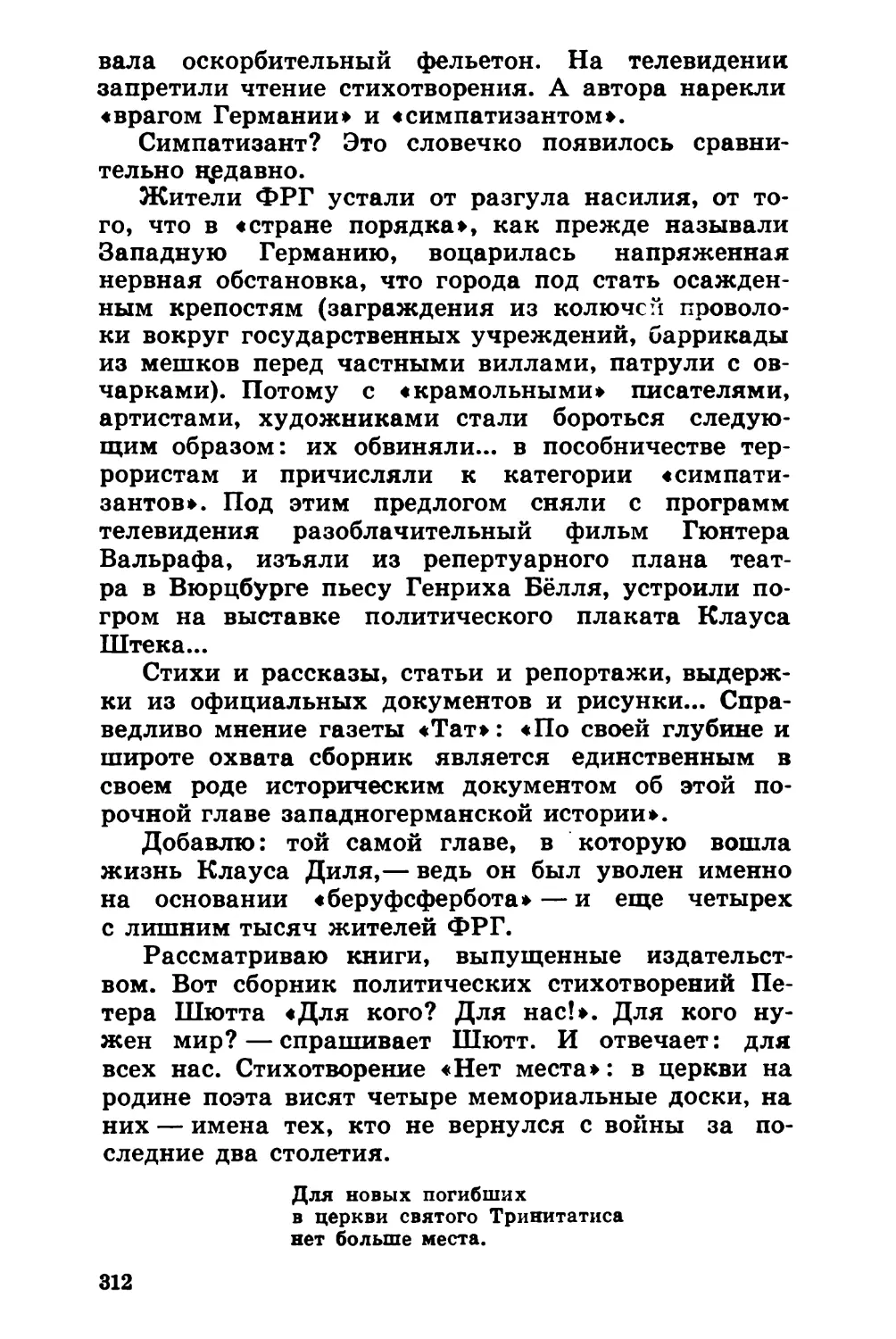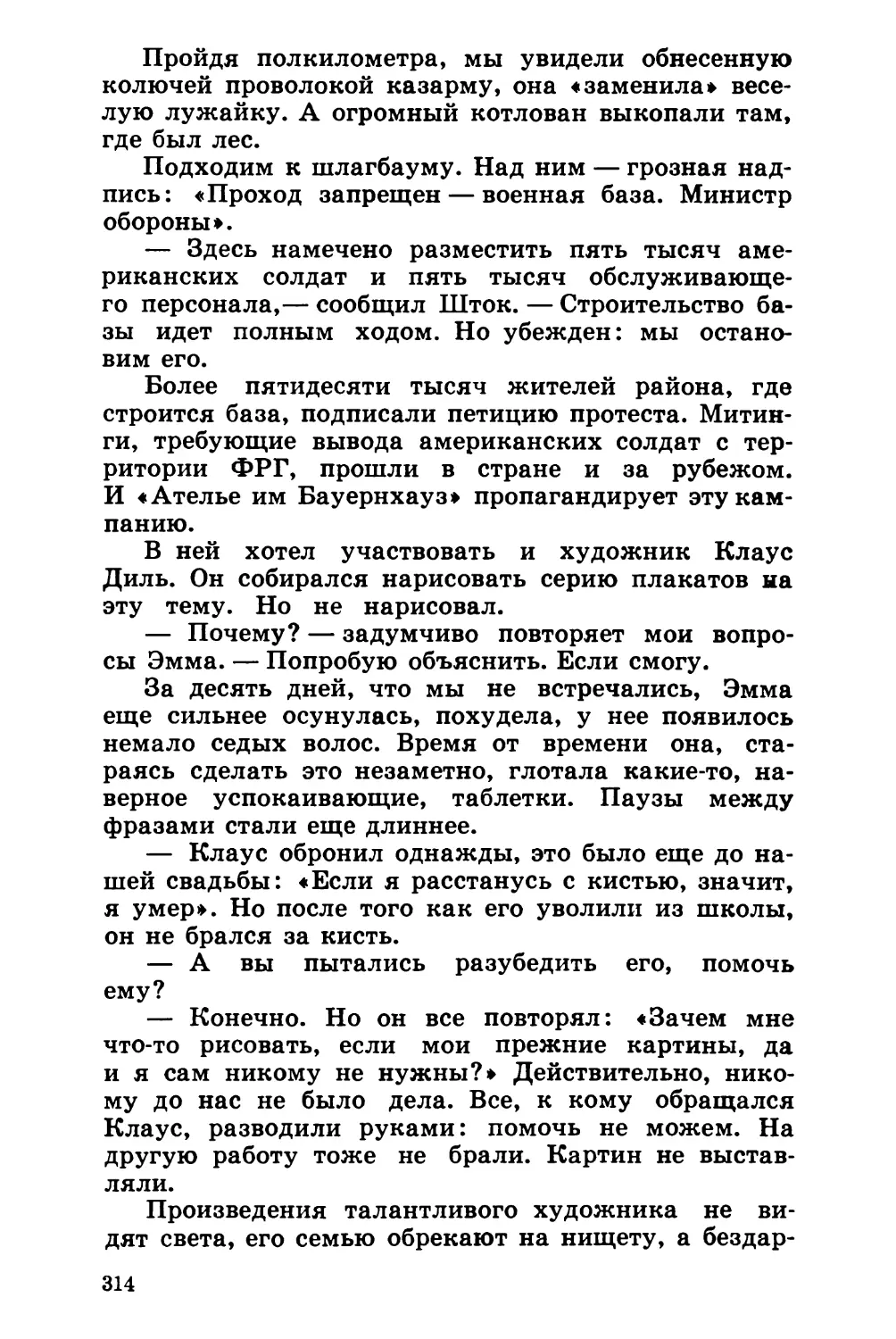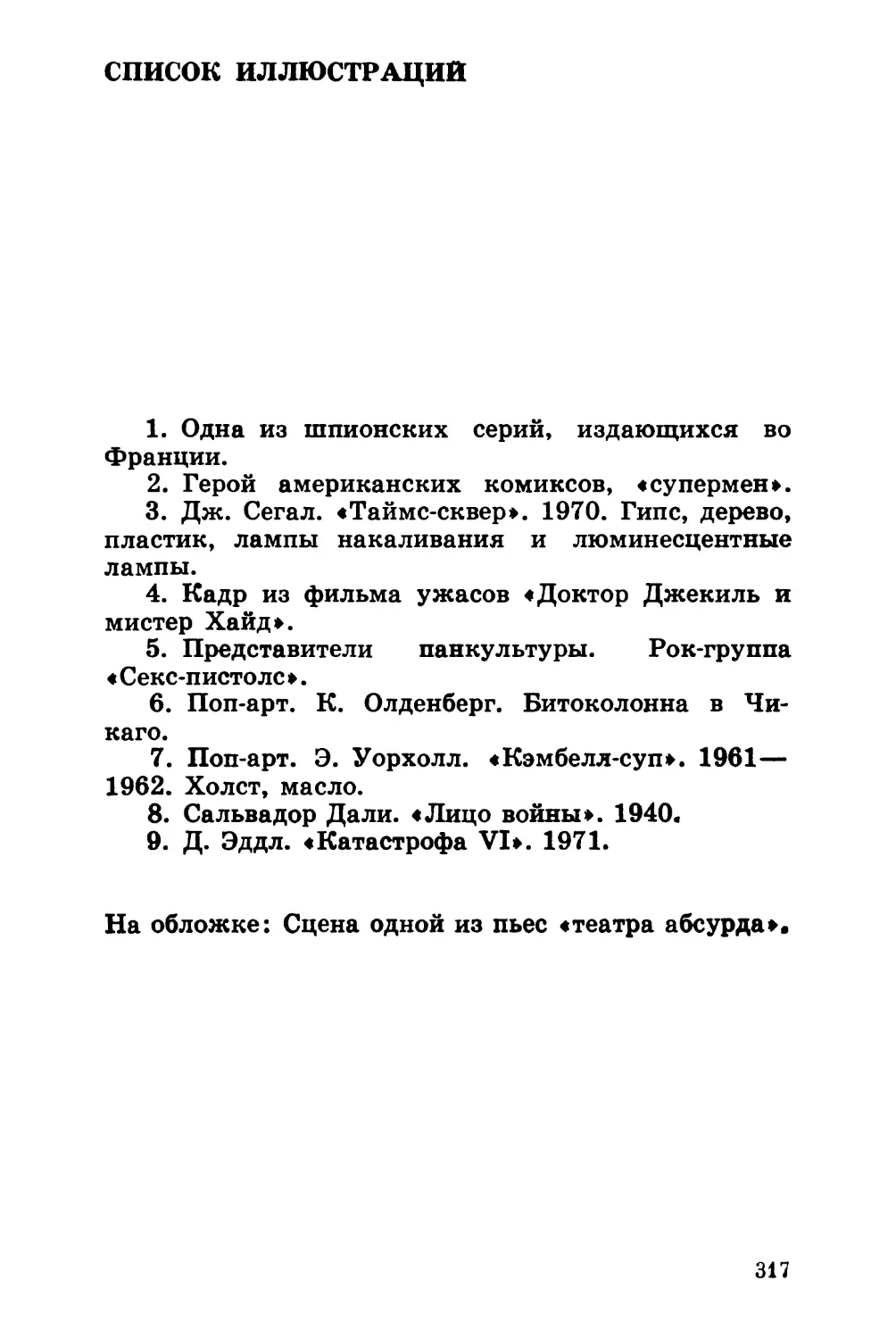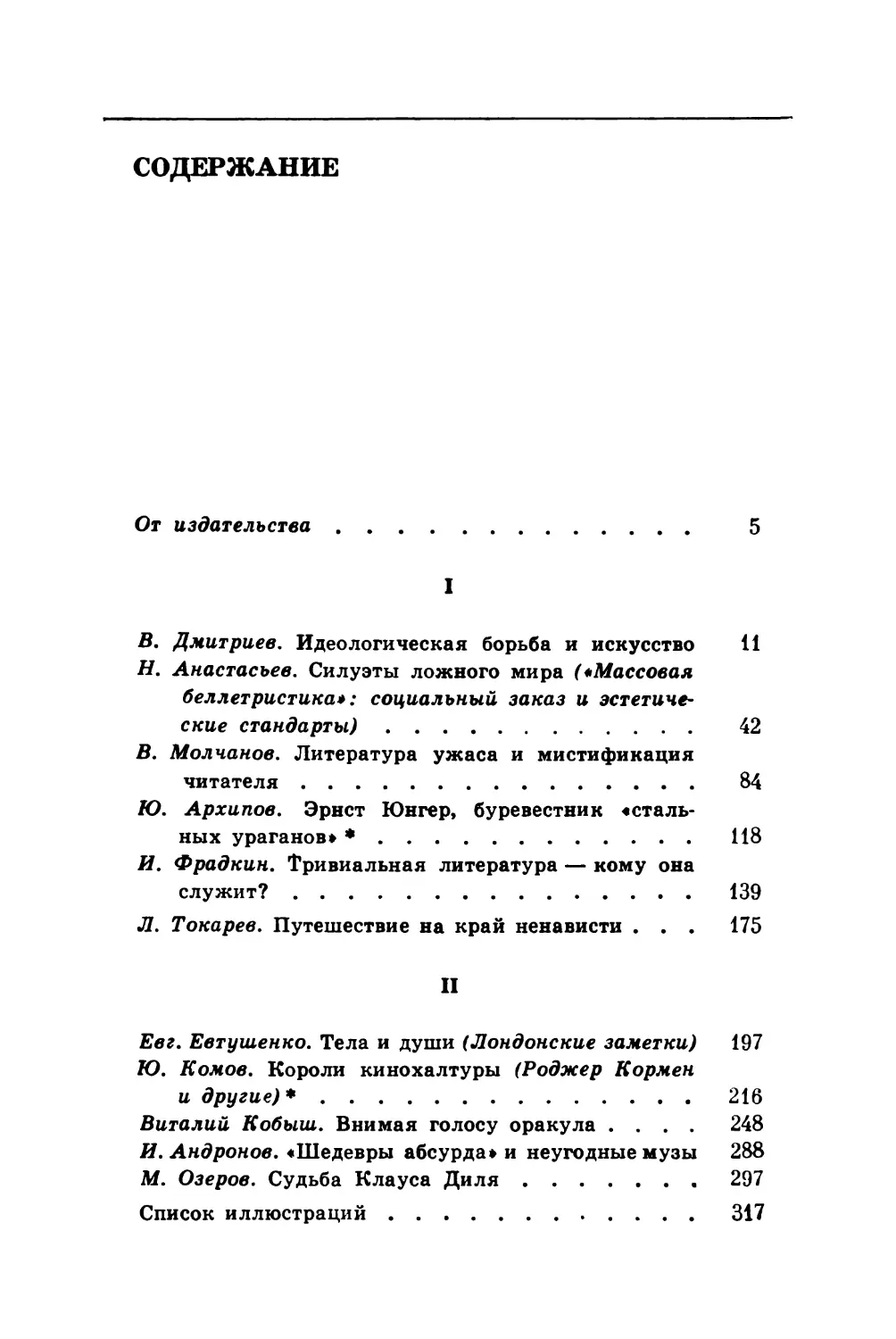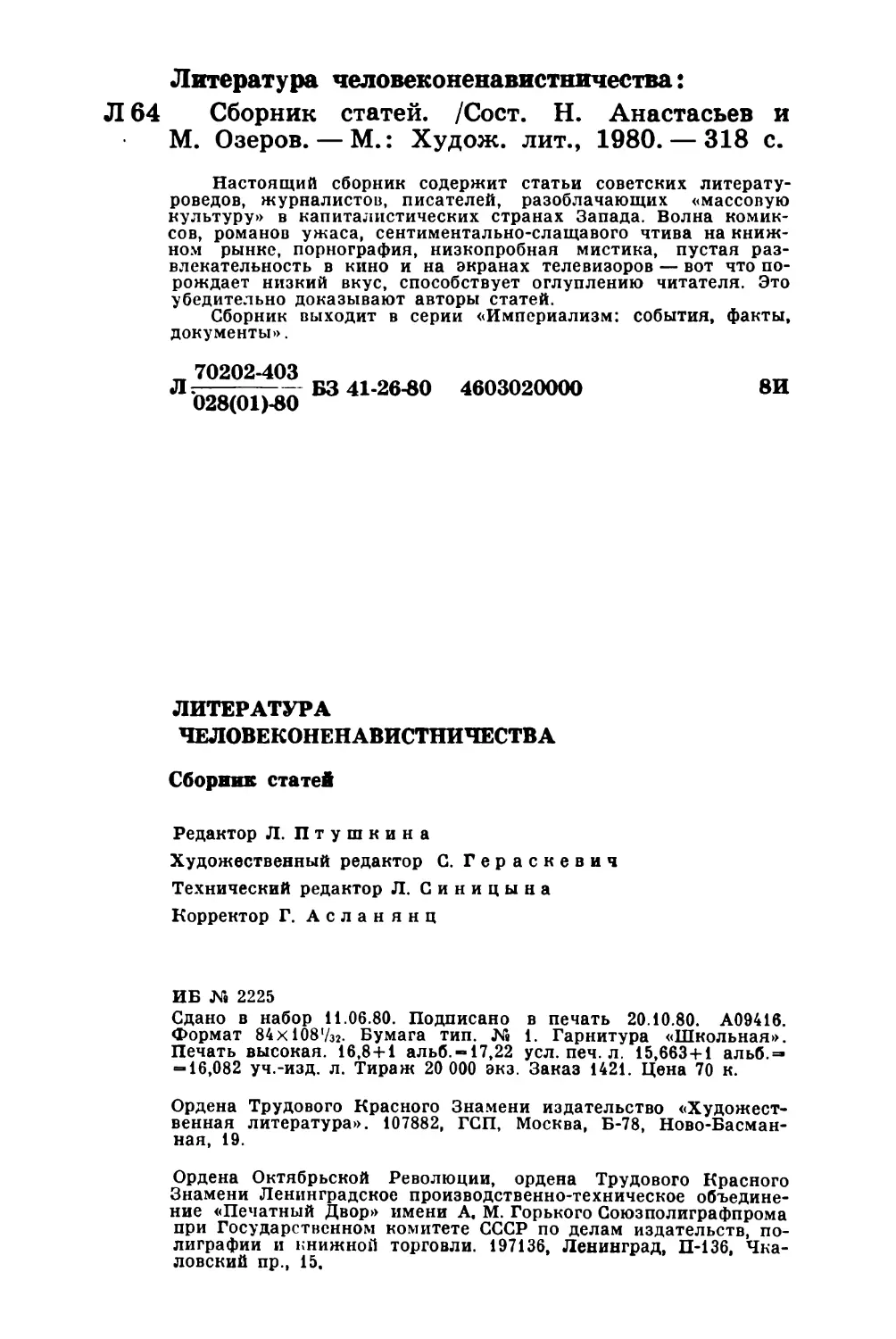Текст
ИМПЕРИАЛИЗМ
ИМПЕРИАЛИЗМ
События
Факты
Документы
Литература
человеко¬
ненавистничества
Литература
человеко¬
ненавистничества
ИМПЕРИАЛИЗМ
s
со
События
Фанты
Донументы
S
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980
Литература
человеко¬
ненавистничества
Сборник статей
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА* 1980
8И
Л64
Составители:
Н. Анастасьев и М. Озеров
Оформление художника Г. Басырова
Оформление серии художника А. Боброва
© Составление, предисловие, оформление, статьи, отмеченные в содержании *.
Издательство «Художественная литература», 1980 г.
70202-403
Л ВЗ 41-26-80 4603020000
028(01)-80
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Пестра и противоречива панорама идейной жизни в современном капиталистическом обществе.
Мы знаем и ценим демократическое искусство Запада, читаем книги, смотрим фильмы и спектакли, вдохновленные гуманистическими идеалами, высокими целями борьбы за мир, утверждающие человеческую личность как конечную цель исторического развития, противостоящие самой своей творческой сутью буржуазной морали.
Но это — далеко не единственный пласт культуры в нынешнем мире капитализма.
В качестве агрессивной и влиятельной силы продолжает выступать, постоянно применяясь к идеологическим стандартам правящей элиты, буржуазная «массовая культура».
Порой, рассуждая об этом феномене, имеют в виду прежде всего дешевую беллетристику (так называемый «китч»), коммерческий театр, определенного рода кинематограф, поставщиком и одновременно символом которого служит Голливуд.
Это верно. Однако за «художественным» обликом «массовой культуры» важно уловить ее идейное, нравственное содержание. Духовное подавление личности, насилие над человеком — вот стратегическая установка, согласно которой действует система, именуемая «массовой культурой». «Организованный», как говорят социологи, человек, то есть человек, чьи мысли, чувства, поступки поддаются манипулированию в соответствии со своекорыстными целями
б
господствующего класса,— вот ее идеал. Это культура человеконенавистничества в буквальном смысле слова — она ненавидит человеческую индивидуальность, личностную неповторимость, все то, что выходит за пределы жестких регламентов буржуазного образа жизни.
Мистифицируя подлинные отношения между людьми, снимая, по существу, те трудные проблемы — экономические, социальные, нравственные,— с которыми повседневно сталкивается человек в буржуазном мире, «массовая культура» создает идеализированный, насквозь фальшивый образ классового мира, всеобщего благополучия. Общество, лишенное будущего, превращается в искусно (порой и топорно) выполненную рекламную картинку, в раскрашенный муляж, сработанный согласно требованиям потребительской моды.
Что же касается «китча» или Голливуда, то тут мы имеем дело с инструментами распространения идеологических клише, с одним из методов их внедрения в практический стиль поведения людей.
Конечно, в ряду этих инструментов огромную роль играют средства массовой информации — газеты, радио, телевидение и т. д. Скажем, с завидной оперативностью подхватила вся эта разветвленная система миф о «советской военной угрозе», нагнетая в странах НАТО, особенно в США, настроения военной истерии и шовинизма.
В то же время — практика вполне подтверждает это — далеко не исчерпана еще роль «массовой культуры» в ее другом — «эстетизированном» — облике. Она способна оказывать долговременное, не связанное непосредственно с отдельными политическими и идеологическими кампаниями, воздействие на умы людей. К тому же она с нарастающей силой отравляет атмосферу бытования искусства: катастрофически понижает у массовой публики критерии восприятия и оценки художественного творчества.
Предлагаемый читателю сборник распадается на две части. В первой из них опубликованы статьи, где рассматриваются некоторые характерные обра¬
6
зы и тенденции современной «массовой беллетристики», ее социальные и эстетические стандарты, «конфликты», ее «герои». Причем, если в ряде статей речь идет о литературной поденщине, о сочинителях «китча» в США, ФРГ, Франции, не претендующих ни на что, кроме рыночного успеха, то в работах критиков Ю. Архипова и Л. Токарева раскрывается роль «мэтров» массовой культуры — Эрнста Юнгера и Луи Селина, которым обеспечивается сейчас на Западе широкая реклама. Ведь в их творчестве предпринимается попытка обосновать антигуманизм философски. В социально-культурной ситуации современного буржуазного мира авторы, ушедшие, казалось, в недоброй памяти прошлое («расцвет» обоих пришелся на годы фашизма), оживают в качестве активных участников и даже идеологов массового оболванивания людей.
В статьях второй части сборника речь идет о кино, телевидении, театре как средствах «массовой культуры», в основе которых также лежит литература, искусство слова в широком смысле. Стержневой темой этих статей является мысль о судьбе художника в обществе, по сути своей враждебном искусству и человеку.
Как известно, одним из главных мотивов буржуазной пропаганды, а иногда и государственной политики в последние годы остается эксплуатация различных псевдонаучных концепций прав человека.
О правах человека красноречиво рассуждают те самые буржуазные деятели, которые поддерживают реакционные политические режимы в разных концах планеты и самым жестоким образом пресекают свободомыслие у себя дома.
О правах человека радеют те самые идеологи, чьими усилиями подлинная духовная свобода подменяется миражами потребительства.
За «нормы демократии» выступает то самое капиталистическое общество, которое поддерживает, поощряет, подкупает беспринципных глашатаев своей морали и подвергает моральной обструкции честных художников, ставя их в зависимость от развращенных вкусов «общества потребления».
7
Между пропагандистскими лозунгами и реальной практикой образуется зияющая трещина.
«Массовая культура» — явление не новое, по сути дела она сопровождает всю историю буржуазного общества. Но во второй половине XX века она приобрела широкие, можно сказать, глобальные масштабы. Одновременно с особенной ясностью проступила ее человеконенавистническая суть — об этом пишут авторы книги.
Под общей рубрикой «Буржуазное общество и литература. Размышления, оценки» в нее введены проходящие через весь текст сборника высказывания писателей разных стран и континентов, в которых кризис буржуазной культуры увиден глазами зарубежных художников.
I
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ
ЗА ФЕНОМЕНОМ «МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ*?
Советские литературоведы о «массовой литературе*:
ДУХОВНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ,
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫМ МОЖНО МАНИПУЛИРОВАТЬ,
СНИЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ.
В. Дмитриев
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ИСКУССТВО
От элитарности культуры к «массовости». Западногерманский публицист Фридрих Хитцер: «Литература агрессии и культ насилия призваны вселять в людей страх». Истинные цели лозунга о свободе творчества. Признания газеты «Нойе цюрихер цайтунг»: «То, что мы сегодня знаем о современной советской литературе,— это, по существу, сведения, пропущенные через грубый фильтр политических домыслов и неразборчивой жажды сенсаций».
Вскрывать антинародную, антигуманную сущность современного капитализма, изучать особенности и методы идеологической борьбы на современном этапе — эти задачи названы среди наиболее актуальных в принятом в апреле 1979 года Постановлении ЦК КПСС 4(0 дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». Это тем более важно, что идейное противоборство на мировой арене с неизбежностью втягивает в свою орбиту и литературу, искусство, всю художественную культуру.
В этих условиях, говорится в докладе товарища М. А. Суслова на Всесоюзном совещании идеологических работников, 4( требуется на основе творческой разработки современных проблем общественного развития усилить борьбу против буржуазной идеологии, проявлений правого и ^ левого» оппортунизма» !.
В любую эпоху для общества далеко не безразлично, что представляет собой современное ему искусство, каким идеалам оно служит. Недаром Белинский, размышляя о покоряющей силе всякого истинного дарования, пришел к выводу: главное — направление таланта. С наступлением пролетарско- * 1© «Вопросы литературы», 1979, № 11.
1 «Коммунист», 1979, № 15, с. 27.
11
го этапа освободительного движения строгая партийность становится, по словам В. И. Ленина, спутником и результатом высокоразвитой классовой борьбы1. Партийность как направление таланта, как осознанный писателем выбор своего места в историческом противоборстве сил социализма и капитализма,— исходя из этого обратился М. Горький к деятелям литературы и искусства всего мира с вопросом: «С кем вы, ♦мастера культуры»?*
ИДЕЯ КУЛЬТУРНОЙ элиты
Без таланта нет искусства, но мы знаем, что талант таланту рознь. Высокоталантливая, по характеристике В. И. Ленина, книжка А. Аверченко ♦Дюжина ножей в спину революции* представила читателю нарождение нового строя так, как «должна казаться революция представителям командующих классов. Огнем пышущая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большей частью — яркими до поразите л ьности* 1 2. И напротив, вспомним, чем увлек и насколько потряс В. И. Ленина роман Н. Чернышевского «Что делать?*: Юн меня всего глубоко перепахал... Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют» 3.
Наряду с отчетливой, как в приведенных выше случаях, идейной определенностью талантов известно немало иных примеров, когда коллизии общественной жизни отзываются сложными противоречиями в мировоззрении писателя, тем самым и в его произведениях.
Глубинные причины тому могут быть самыми разными, но правильно их понять можно только тогда, когда удается проникнуть за поверхность наблюдаемого, добраться до классовой природы анализируемых явлений.
1 См.: В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 12, с. 133.
2 Там же, т. 44, с. 249.
3 «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., «Художественная литература», 1976, с. 647—648.
Рассмотрим одну из очерченных ситуаций, которую с большой наглядностью раскрыл Ф. Энгельс на примере Бальзака: «Все его симпатии на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставлял действовать именно тех мужчин и женщин, которым он больше всего симпатизировал,— дворян. И единственные люди, о которых он всегда говорит с нескрываемым восхищением, это его самые ярые политические противники, республиканцы... которые в то время (1830—1836) действительно были представителями народных масс. В том, что Бальзак таким образом вынужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, в том, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и в том, что он видел настоящих людей будущего там, где их в то время единственно и можно было найти,— в этом я вижу одну из величайших побед реализма и одну из величайших черт старого Бальзака» К
Итак, исторический опыт дает определенные основания считать: если художник верен правде жизни, то его произведения объективно могут иметь прогрессивное общественное значение, даже и не во всем совпадающее с идеологическими представлениями автора.
Генрик Ибсен, говоривший о себе, что он никогда не принадлежал ни к какой партии и что впредь не собирается поступать иначе, признался в 1890 году: «Я высказал только свое удивление по поводу того, что я, поставив себе главной задачей всей своей жизни изображать характеры и судьбу людей, приходил при разработке некоторых вопросов, бессознательно и совершенно не стремясь к этому, к тем же выводам, к каким приходили социал-демократические философы-моралисты путем научных исследований» 1 2.
1 К. Маркс иФ. Энгельс. Соч., т. 37, с. 36—37.
2 Г. Ибсен. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4. М., «Искусство», 1958, с. 727.
13
Здесь примечательно не только то, что Ибсен однажды обнаружил, несказанно удивленный таким оборотом дела, что при художественной разработке ряда вопросов оказался солидарным с идеологами социал-демократии, от взглядов которых считал себя независимым. Для марксистов в этом ничего удивительного нет. Правдивое отображение действительности — столбовая дорога искусства. А поскольку, осуществляя социалистические преобразования (или готовя себя к ним), рабочий класс утверждает высшие идеалы человечества, то и объективная природа, цели художественного познания органично совпадают с коренными интересами освободительного движения пролетариата. Но приведенный пример интересен и в другом отношении.
В конце XIX столетия, когда главные классовые битвы новой эпохи были еще впереди, идеологи буржуазии, как мы ныне можем судить, только подступали к выработке и опытной проверке более уточненных (нежели рыночное принуждение или грубое политическое давление), более эффективных средств воздействия на творцов эстетических ценностей и, стало быть, не располагали арсеналом изощренных средств воздействия на художника, какой ими накоплен и широко применяется в наше время. И это одна из причин, почему в тогдашних условиях отмеченная Ибсеном его беспартийность, а на самом деле его стихийная независимость и от официальной идеологии, в известной степени избавляла личность, творчество писателя от прямого вмешательства господствовавших взглядов. Отчасти это помогло ему остаться верным своему таланту, подняться до большой художественной правды, которая принесла создателю «Пера Гюнта», «Кукольного дома» и других не менее известных произведений заслуженное признание.
При всем том непонимание подобного рода художниками революционно-социалистической идеологии, разумеется, породило в их мировоззрении и творчестве известные противоречия. В России так было с Львом Толстым, Чеховым. На Западе — с Золя, Мопассаном, тем же Ибсеном и многими другими. Однако в условиях еще не наступившей
14
эпохи высокоразвитой классовой борьбы, то есть прямого и всеобъемлющего противоборства сил социализма и капитализма, когда строгая партийность, в том числе и художественного творчества, становится неизбежным спутником и результатом этой борьбы, в тех исторических обстоятельствах объективно имелось больше возможностей достигать выдающихся идейно-художественных результатов, несмотря на указанные выше противоречия.
Ныне же намного более настоятельно дает о себе знать диктуемая временем потребность для деятелей литературы, искусства развивать и совершенствовать в себе способность оценивать явления действительности и искусства с позиций революционного рабочего класса. В современных условиях острейшей идейной борьбы на мировой арене упование на то, что беспартийность, аполитичность сохранят художнику самостоятельность, все чаще оборачивается мировоззренческой незащищенностью таланта от посягательств реакционных сил, стремящихся в интересах сохранения империализма также и к духовной экспансии.
Каким образом? Поставленный вопрос вплотную подводит к проблеме многократно возросшей враждебности капитализма искусству, агрессивности буржуазной идеологии. Ее адепты еще в начале XX века нашли, что одним из средств их духовного давления на деятелей культуры может стать идея элитарности художественного творчества — противопоставления искусства народу. Вполне логичное для господствующих верхов решение: буржуазия перестала быть исторически восходящим классом и с народом ей было больше не по пути.
«г...Писать сегодня книги или пьесы или создавать картины и думать, что можно держаться в стороне от конфликтов, которые разрывают мир,— это не только иллюзии, но намеренная слепота».
Петер Вайс (Швеция)
15
Почувствовав (особенно после революционных событий 1905 г. в России), что почва уходит из-под ног эксплуататоров, некоторые буржуазные теоретики выдвинули наряду с прочим концепцию, согласно которой, коль скоро правящий класс покидает в обозримом будущем историческую арену, уступает ее народным массам,— неизбежна гибель культуры.
Кое-кто из первых авторов этой концепции был вполне искренним в своем заблуждении. В частности, можно назвать весьма сильно повлиявшую на многих тогдашних читателей книгу Освальда Шпенглера 4Закат Европы», вышедшую в свет после первой мировой войны, что придало пессимистическим пророчествам Шпенглера еще более зловещую окраску. Сходным образом, хотя и на свой лад, Николай Бердяев, основоположник русской ветви экзистенциализма, буквально за неделю до Октябрьской революции выступил в Москве с публичной лекцией ♦ Кризис искусства», тотчас вышедшей отдельным изданием. Не прошло и нескольких лет после победы Октября, как испанский философ X. Ортега-и-Гассет предложил западной творческой интеллигенции еще один вариант безысходности — в книге ♦Дегуманизация искусства».
Подобная по мысли и настроению литература поистине наводнила буржуазный рынок. Идеи, о которых идет речь, разумеется, находили отклик в декадентской эстетике и художественной практике. Одним из худших следствий этого было полное пренебрежение и даже открыто враждебное отношение к народу: некоторые деятели искусства противопоставили свое творчество и в целом культуру (в их понимании) демократическим интересам трудящегося большинства. Например, в разгар гражданской войны поэтесса Зинаида Гиппиус угрожала: ♦Скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, йе уважающий святынь». Для Гиппиус святыни культуры — это одно, а народ, вознамерившийся стать хозяином своей судьбы,— другое, и между ними словно бы вечная пропасть.
Насколько разительной противоположностью этому является отношение к народу художественной интеллигенции, отдавшей свой талант служению ре¬
волюции, как и отношение к передовому искусству, его творцам со стороны людей из народа! Сормовский рабочий Петр Заломов — прототип Павла Власова, одного из главных героев повести «Мать»,— вспоминая о первой встрече с Горьким в 1905 году, сохранил для нас следующую подробность: «Я сказал ему, что люблю «Песню о Соколе» и загорожу его в бою своей грудью. Он ответил: «Я тоже загорожу вас своей грудью в бою» *.
Обратимся к более позднему времени.
После разгрома фашизма во второй мировой войне, когда демократическое искусство на Западе, опираясь на подъем народного самосознания, стало теснить реакцию (вспомним хотя бы общественный резонанс фильмов итальянского неореализма), буржуазные идеологи в противовес этому вновь подняли на щит идею элитарности — искусства для посвященных.
Сугубо спекулятивными, беззастенчиво экспансионистскими методами, в которых уже не было ни грана трагического заблуждения, какое встречалось у некоторых первых декадентов, буржуазия искусственно создала и взвинтила моду на абстракционизм, сделала все, от нее зависящее, чтобы надолго установить поистине диктат этого порвавшего связи с реальной действительностью элитарного искусства.
Лишь во второй половине 60-х годов диктат был разрушен, но какой ущерб нанес он за многие годы мировой культуре!
Современному читателю полезно было бы мысленно перенестись в то время, чему поможет, например, книга документов, собранных западногерманским художником Гансом Мюнхом, хорошо знавшим изнутри «кухню» абстракционистского произвола и выступившим против него публично, когда абстракционизм был в зените своего могущества. Эта вышедшая двумя изданиями (Штутгарт — Вена) впечатляющая книга при ее более чем скромных достоинствах в теоретическом отношении есть, как справедливо сказано в предисловии Вильгельма Рёпке, с одной стороны, «свидетельство ужасающей 11 «М. Горький в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1955, с. 169.
17
тирании, с помощью которой... пытаются отстаивать свои совершенно несостоятельные позиции против возмущённых выступлений людей, обладающих простым здравым смыслом и желающих защитить хоть какие-нибудь критерии ценности», а с другой — «свидетельство мужества, с которым один человек отважился вступить в бой с этой тиранией».
Книга называется «Беспредметное искусство — ошибка против логики (С фактическим материалом к вопросу о гангстеризме в искусстве)». На русском языке она вышла в издательстве «Советский художник» (М., 1965). Чтение ее было бы хорошо дополнить превосходной монографией болгарского исследователя Атанаса Стойкова «Критика абстрактного искусства и его теорий» (М., «Искусство», 1964). Имеется немало интересных, в том числе более поздних, трудов советских авторов.
В буржуазной идеологии по-прежнему бытует космополитическая идея элитарности искусства, противопоставления творческой интеллигенции обществу, массам. На Западе вновь предпринимаются попытки представить народ как враждебную подлинной культуре, едва ли не разрушительную силу.
В попытках навязать художественной интеллигенции антидемократические, антинародные, эгоистические идеалы и цели нетрудно видеть стремление буржуазных идеологов в конечном итоге вбить клин между творческими работниками и ведущей политической силой современности — коммунистическим движением, укрепить правое крыло культурного фронта. Идея элитарности, хотя бы и под флагом «неангажированного», беспартийного творчества, ведет на практике к пассивной, а чаще активной оппозиции демократическому лагерю культуры, вслед за чем следуют нападки на реальный социализм и прочее — по известному сценарию.
Важно подчеркнуть: в скрытой или открытой форме в империалистическом обществе господствует, по характеристике В. И. Ленина, идейное принуждение, от которого задыхается все живое и свежее Ч
Элитарность — синоним аполитичности, демонстративного стремления быть «над схваткой», что ста- 11 См.: В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 12, с. 100,
18
вит писателя, художника в зависимость от навязываемых реакционными господствующими классами взглядов, лишает свободы выбора, являющегося результатом самостоятельного и деятельного, а не умозрительного искания истины.
Альтернативой выступает прямая, открытая связь с животрепещущими проблемами века — на стороне передовых сил, прогрессивных общественных движений.
«Кое-кто пытается успокоить нас, говоря: «Оставьте политику политикам, занимайтесь своим божественным искусством, собой, своей любовью к себе. Как прекрасна стихия вдохновения, когда оно ищет самое себя в самом себе»,— напомнил, обращаясь к этой проблеме, болгарский литературовед Пантелей Зарев, выступая на Международной встрече писателей в Софии в 1977 году. — Подобные голоса порождают иллюзии, которым, как известно, верят порой даже иные политики. После того как несколько политиков собрались в 1938 году в Мюнхене, они принялись трубить на весь свет, что мир обеспечен на десятилетия, чуть ли не на века вперед. А всего через год разразилась вторая мировая война. Вот почему мы не должны прислушиваться к баюкающим голосам и забывать о действительности... Поэтому нас волнует вопрос о мире. Поэтому мы вступаем в область политики»
Отвечая на вопрос, какая политика имеется в виду, Зарев, ссылаясь на Томаса Манна, сказал, что «художественная литература есть не что иное, как гуманизм в соединении с политикой. Вот о какой политике идет речь» (32).
Таким образом, элитарности противостоит в первую очередь гуманистическая концепция исторического оптимизма, основанного на вере в человека, в его возможности, в его будущее и на ответственности писателя за человека и судьбы человечества.
Буржуазная идеология стремится сделать своей добычей не только людей искусства, но и их произ- 11 «Мир — надежда планеты. Международная встреча писателей (София, 7—10 июня 1977 г.)», София Пресс, 1978, с. 31—32. Там, где далее цитируется это издание, страницы указываются непосредственно в тексте.
19
ведения. Концепция элитарности, адаптированная к обстоятельствам, и здесь играет свою провокационную роль, хотя порою в завуалированной форме. Культивируется идея превращения высокого искусства в товар — не более того, а производителя этого товара — в «свободного» человека наемного труда, правомочного извлечь из своего таланта максимальную прибыль. Товар же попадает туда, где больше платят. Кто «законные» покупатели? Разумеется, эксплуататорские классы.
Кстати, это одна из причин и того, почему в искусстве «нет такой пакости или мерзкого явления, катастрофы или преступления, жестокости или мании уничтожения, чтобы не нашлись у нас люди, которые за изображение этого заплатят большие деньги, и люди, которые возьмут эти деньги»,— отмечает западногерманский публицист Фридрих Хитцер, добавив к этому: «Те, в чьих руках власть, располагают значительным арсеналом средств как щедрого материального вознаграждения, так и сурового принуждения и наказания. Они, в соответствии со своей стратегией, могут покупать и увольнять писателей и политиков» (246, 248).
Элитарность — фундамент индивидуалистски понимаемой, анархической свободы творчества, заслоняющей истинное положение художника в капиталистическом обществе.
В свою очередь, элитарность — закономерное порождение крайнего индивидуализма, об этом говорила Эмма Смит из Великобритании на Второй Международной встрече писателей в Софии (1979 г.). Отметив, что «в современном западном обществе абсолютно доминирующая роль принадлежит культу индивидуализма», который изолирует личность от личности, исповедует эгоистический уход человека в свое «я» («ты — один; один — значит, свободен ; быть свободным — твое право: ты имеешь право отвечать только за себя и только перед самим собой»), указав, что подобным образом «человек оказывается в замкнутом круге» \ Э. Смит особо подчеркнула важность творческого неприятия прогрессивными литераторами этого псевдогумани- 11 «Иностранная литература», 1979, № 10, с. 242.
20
стического культа индивидуализма, всего, что с ним связано,— в любых проявлениях.
«Я убеждена в том,— заявила Э. Смит,— что мы, писатели, живущие в западном обществе, должны осознать до конца, как бы ни было это для нас трудно и неудобно, далеко идущие последствия сегодняшней разновидности индивидуализма. И, осознав всю его извращенность и способность извращать человеческое сознание, понимая, куда он ведет и какую угрозу несет всему, в том числе и существованию самой литературы,— мы не имеем права вести себя подобно коммивояжерам индивидуализма. Нам следовало бы отказаться от тенденции сужать поле своего писательского зрения и приспосабливать его к тривиальному, нарочито об- мельченному видению мира... Нам следовало бы решительно отказаться способствовать отрыву личности от окружающей среды и от других человеческих существ, потому что мы знаем, такая изоляция не только разрушает в нем человеческое начало, но и делает его бессильным. А когда человек изолирован и бессилен, страшные дела могут твориться — и творятся — власть имущими от его имени. Идеи, которые должны внушать мы — не важно, прямо или подспудно, публицистично или тонко, художественно,— непосредственно противостоят тем тезисам, что непрестанно, день и ночь, широко рекламируются поборниками индивидуалистической этики» 1.
В противоположность Элитарным и всем другим анархо-индивидуалистским тенденциям в творчестве, «долг современного западного писателя,— считает Э. Смит,— состоит в том, чтобы вернуть индивидуальной личности чувство ответственности за жизни других людей» 1 2.
АГРЕССИЯ «МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ»
Длительное время (нельзя сказать, что оно полностью миновало) элитарная концепция в области художественной культуры имела своим следствием
1 «Иностранная литература», 1979, № 10, с. 243.
2 Там же.
получившие большое распространение и поддержку буржуазные формалистические тенденции в искусстве.
Сутью всех без исключения формалистических течений было и остается пренебрежение к правде жизни, вообще к действительности, признание формотворчества высшей и единственной целью. Спекулируя на громадном значении формы в литературе, искусстве, буржуазные идеологи провозгласили самоценность формы независимо от содержания, попытались похоронить само понятие содержательной формы. Художественный образ предстал в такой трактовке как нечто не связанное с действительностью. Искусство этого рода создало для себя особый мир, в котором не было места земным проблемам человека и человечества. Аполитичность, безыдейность пронизывают всю теорию и практику этого направления в эстетике, литературе, искусстве.
С точки зрения интересов буржуазии, формализм оказался сущим кладом в борьбе за эстетическую, а в глубине ее — политическую, мировоззренческую дезориентацию творческих работников, за то, чтобы последние не представляли опасности для капиталистического строя и даже стали (чем бы при этом себя ни тешили) его духовной опорой.
Закономерно, что формалистическое искусство, замкнутое в своей скорлупе, демонстративно отгороженное от жизни, стало сдавать свои позиции, вытесняться демократическим творчеством, обращенным к животрепещущим проблемам, волнующим миллионы людей.
Так было с абстракционизмом. Еще в 1960 году буржуазный Запад с огромной помпой отмечал 50-летие этого глубоко эзотеричного искусства, а уже через каких-то два-три года интерес к нему упал. С тех пор ни одному из нарождавшихся и быстро умирающих формалистических «измов» не удалось стать лидером, привлечь к себе сколько-нибудь устойчивое внимание. Когда, например, в художественном фильме Энди Уорхола «Сон» (США) на протяжении шестичасового сеанса показывается лишь спящий, один и тот же человек или пупок этого спящего, то убедить массы зрителей, что это очень тонко, изощренно, эстетически значительно,
22
стало невозможно. Попытки организовывать всё новые грандиозные выставки формалистов, несмотря на мощную рекламу, терпят провал: выставочные залы пусты — публика не идет. Не только абстракционизм, но и театр абсурда, летристская поэзия, школа «нового романа» и другие течения модернизма вошли в полосу жесточайшего кризиса, стали на глазах увядать, терять аудиторию. О некоторых из них, еще вчера, казалось бы, столь громких, заметных, сегодня помнят по большей части лишь специалисты-искусствоведы.
Буржуазные идеологи извлекли из этого поражения соответствующие уроки. Страх утратить важнейшие сферы духовного влияния на массы заставил буржуазных идеологов сделать определенные выводы: более невозможно, как это позволяет себе в любых модификациях модернизм, столь явно уклоняться от того, что волнует миллионы, надо пойти массам «навстречу», то есть подхватить хотя бы некоторые животрепещущие вопросы, первыми откликнуться на них, в том числе образным языком искусства, однако сделать это так, чтобы уже постановка общезначимых вопросов осуществлялась под углом зрения, выгодным власть имущим, не говоря об ответах на эти вопросы.
Так был санкционирован и получил размах процесс политизации буржуазной литературы, искусства — насыщения последних актуальной политической проблематикой в выгодном буржуазным идеологам освещении. Для этого им пришлось принять ряд специальных мер.
Прежде всего надо было поднять престиж «массового искусства», чрезвычайно скомпрометировавшего себя дешевыми, пошлыми, серийно штампованными «изделиями», реабилитировать в целом «массовую культуру», которая еще вчера противопоставлялась модернизму, как низкое высокому. Выход был найден в том, чтобы потерпевшим фиаско модернистам дать другую работу, а именно втянуть всех этих «особо посвященных», «неангажиро- ванных», «свободных» в создание общепонятной, притом впечатляющей по исполнению продукции более высокого художественного качества, нежели пресловутые поделки « маскульта».
23
Английский кинорежиссер Г. Лози, прежде не опускавшийся (чем он весьма гордился) так низко, чтобы быть понятным широкой публике, и снимавший полувнятные, зашифрованные фильмы, которые адресовались только элите, уловив новый социальный заказ, стал работать иначе, обратившись для начала к теме «Ленин и Троцкий» и до неузнаваемости сместив, исказив реальные факты.
Один из лидеров драматургии абсурда — С. Бек- кет — вместе с другими авторами, подобными ему, тоже продемонстрировал «поворот к массам»—по другой линии, приняв участие в создании нашумевшего ревю 4О, Калькутта». Показав на сцене половой акт в натуре, эти перекрасившиеся модернисты как бы благословили поход за то, чтобы придать откровенной порнографии статус искусства и тем самым узаконить ее распространение. И действительно, как писал датский публицист Эллас Бресс- дорф в литературном приложении к газете «Таймс» (10 сентября 1971 г.), «речь идет о решительном низвержении сексуальных табу в литературе... Свобода (от этих табу. — В. Д.), за которую долго боролись скандинавские писатели и которую они получили, была дарована Англии всего за несколько лет». Что же касается фильмопродукции, то здесь процесс «низвержения табу» шел лишь короткие месяцы. В итоге отменена была так называемая «цензура нравов» во Франции, Италии, Японии, США.
Ходовые в эпоху господства формализма теории деидеологизации искусства ныне пошли на убыль (хотя по-прежнему остаются в арсенале буржуазной идеологии). Еще бы! Идущую полным ходом на Западе политизацию художественной культуры уже не спрячешь, не замаскируешь.
Итак, не отказываясь от поддержки формализма, модернистских течений, буржуазия главную ставку сделала на «массовую культуру».
Логика господствующего класса относительно «массовой культуры» всегда оставалась неизменной: цель в том, чтобы благодаря последней пролетариат воспринимал культурные модели буржуазии, считая их своими собственными, и чтобы народным массам была навязана пассивная роль
потребителей, подавляемых огромным идеологическим аппаратом буржуазии, производящим и распространяющим выгодные верхам идеи и образы. Но при этом во многом изменилось содержание некогда нацеленной больше на развлекательность «массовой культуры»—она переполнена политиканством, стала открыто агрессивной в идеологическом отношении. Лейтмотив — антикоммунизм, антисоветизм.
Один из наших идейных противников — Л. Метцль — в своей обзорной статье «Идеологическая борьба —основа Советского государства» следующим образом объясняет, а вернее сказать, оправдывает отмеченный выше поворот: «Климат разрядки принес с собой относительное снижение уровня антикоммунистических настроений на Западе и соответствующее увеличение восприимчивости к коммунистическим идеям и идеологии» 1. Даже 3. Бжезинскому пришлось признать, что «коммунистическая идеология убедительнее других концепций» (цитирую по статье американского советолога О. Зи- нама «Влияние модернизации на СССР: конфликт двух революций» 2).
На «массовую культуру» возложена миссия идеологического реванша, то есть, если использовать формулу Метцля, задача повышения уровня антикоммунистических настроений, уменьшения восприимчивости к коммунистической идеологии.
Не обойдены вниманием даже дети младшего возраста. По шестому каналу крупнейшей американской телекомпании Си-би-эс идут, в частности, передачи — сказки для дошкольников. Один из постоянных персонажей, Бармалей,— конечно же, коммунист, «красный». Во французской кинокомедии «Китайцы в Париже» (режиссер Жан Ян) оплевывается коммунистическая партия Франции, понесшая наибольшие жертвы в рядах Сопротивления в годы фашизма. Как бы напоминая об этом, фильм внушает, что, случись аналогичная ситуация
1 L. М е t z 1. The ideological struggle: a case of Soviet lineage. — «Orbis*, Philadelphia, 1973, vol. 16, p. 368.
2 0. Zinam. Impact of modernisation on USSR: two revolutions in conflict. — «Economia internationale*, Genova, 1973, vol. 26, № 2, p. 301.
26
(оккупация) ныне, теперешние коммунисты уже не смогут спасти нацию, это-де совсем другие, ничтожные люди, над которыми стоит разве что весело и едко посмеяться.
Особенно активно эксплуатируются в политиканских, идеологических целях всякого рода исторические сюжеты. Обращаясь к далекой истории, еще чаще — к сравнительно недавнему прошлому (две мировые войны, революции, восстания против тирании или, наоборот, преступления тирании), буржуазное «массовое искусство», даже в тех случаях, когда оно не прибегает к открытому, махровому антикоммунизму, создает произведения словно специально для того, чтобы подтвердить циничное высказывание, гласящее: единственный урок, который преподала нам история, тот, что еще никто и никогда не извлекал из нее уроков.
В романах, книгах, фильмах мало того что обеляется — теперь уже нередко поэтизируется фашизм, дискредитируется само понятие героизма, наново переписывается, фальсифицируется, в сущности, вся история второй мировой войны с целью внушить по меньшей мере, что «Красная Армия отнюдь не была главным архитектором Победы».
Ныне питательная почва «массовой культуры», повторим еще раз,— это в первую очередь антикоммунизм, разносчиком которого и является данная культура.
Нельзя обойти в этой связи характеристики искусства и общих концепций «новых левых». В свое время Ж.-П. Сартр демагогически заявил, будто «коммунисты боятся революции». В итоге «левые» французские студенты скандировали весной 1968 года: «Мы против всех, кто «за», и за всех, кто «против». Попытки создать на этой основе «антикультуру параллельного общества» весьма быстро вылились в коммерческое мероприятие, интегрированное капиталистическим бизнесом и тем самым политически нейтрализованное.
Яркий пример — «контркультура» американских хиппи. В свое время социологи США писали об одной из только что образовавшихся цитаделей хиппи: «Калифорния — первая коммунистическая страна мира», «это—подлинная революция». Чем вы¬
2S
звана такая похвала буржуазных профессоров? Тем, что и хиппи, и, как позднее выяснилось, все «новые левые* (в их числе анархисты, маоисты, троцкисты) согласно отрицают реальный, то есть осуществленный социализм. При всей искренности в отрицании и капитализма, характерной для многих, особенно рядовых участников этого движения, «новые левые» освежают и в глазах сведущих людей радикально обновляют старые доводы антикоммунизма — тем, что ставят между социализмом и капитализмом знак равенства. Отрицая ценность всякой идеологии, «новые левые» подпали под идеологическое влияние наиболее реакционных сил. Теперь это очевидный факт.
Примечательны суждения японского писателя Тацудзо Исикава (на русском языке вышли его романы «Тростник под ветром», «Стена человеческая» и книги стихов) на тему о творческой свободе и свободе, как таковой. В статье «Тупик свободного общества» писатель, в частности, говорит: «Со времен Ренессанса свобода в течение нескольких веков была ядром, движущей силой культуры человечества. Требование свободы исходило обычно от народа, и объектом этого протеста была власть. Будь то власть государства, власть церкви, власть социального контроля или мораль, закон, режим или другие силы порядка. В борьбе с этими силами непреходящее требование свободы обновляло общество... Стремительно развивалась его культура. До поры до времени все было прекрасно».
Далее Исикава переходит к современной эпохе, когда лозунг свободы, притом неограниченной, пытается всячески узурпировать буржуазия, крупный капитал, разумеется, только для себя. «Пока свобода была привлекательной, человечество могло гордиться ею. Но сейчас свобода сама загнивает, начинает играть роль дезорганизатора общества. Существует ли сила, способная остановить это загнивание?» 1
К сожалению, автор цитированной статьи делает в итоге глубоко ошибочное заключение: надо
1 «Бунгакукай*, 1971, № 1.
27
возродить тоталитарный порядок, «твердую» власть. При всем том наблюдения японского литератора заслуживают внимания — они подтверждают наличие глубокого кризиса буржуазной идеи свободы.
Агрессия буржуазной «массовой культуры» материализуется прежде всего в том, что концентрация власти крупного капитала, включая и власть над средствами информации, позволяет любому сильному мира сего выдавать за правду все, что ему заблагорассудится.
Писатель Филипп Боноски (США) обратил внимание, в частности, на то, что по милости средств массовой информации «одним из основных и крайне опасным... является убеждение, будто мы — мы, американцы, имею я в виду,— не можем делить планету с «нашими противниками» (под этим выражением обычно подразумеваются русские) и «неизбежно» должны вступить с ними в смертельную схватку, так как они представляют образ жизни, враждебный нашему, и лишь тогда мы вновь обретем спокойствие... Миллионы американцев росли в твердой уверенности, что modus vivendi между двумя мирами не только невозможен, но и весьма нежелателен. К этому выводу они пришли не сами, не через прямое изучение вопроса» (192—193).
Уругвайский писатель Альфредо Гравина особо отметил беззастенчивую игру словами, характерную для буржуазной пропаганды,— «ведь для чего-то существуют и действуют североамериканские эксперты по психологии масс. «Государственный переворот», «насильственное свержение правительства» — звучит отталкивающе, отдает попранием прав, беззаконием, грубым насилием и кровью. «Стабилизация», наоборот, звучит совсем по-другому, этим словом можно удачно прикрыть противозаконные акции с применением огнестрельного оружия и танков, оно придает им даже оттенок неких законных действий оппозиции. Грязную, преступную, проводимую тайком работу, подготавливающую свержение того или иного прогрессивного правительства, кое- кто пытается зачастую выдать за чисто техническую задачу... Заговор, подкуп, коррупция, террористические акции и их последствия — все это якобы не бо¬
28
лее чем «грубые нарушения». Но ведь наемный убийца не нарушает стабильность, он убивает! Разве Сальвадора Альенде лишили стабильности?» (252—253).
Обратимся к материалам вышедшего в Мюнхене сборника статей «Табу западногерманской прессы» (1973). Искажение информации, читаем в этой книге, не результат злого умысла журналистов, а следствие материальных условий существования средств массовой коммуникации. Две трети своих производственных расходов газеты ФРГ покрывают за счет рекламы. Поэтому, например, когда редакция либерального журнала «Zeit» вознамерилась опубликовать с пацифистской целью фотоснимок убитого горем отца в Омане, склонившегося над сраженным сыном, вмешался отдел рекламы, запланировавший поместить на соседней странице рекламу кока- колы. «Мы должны прежде проконсультироваться с фирмой «Кока-кола», нет ли у нее возражений»,— сказали в отделе рекламы. Фирма запротестовала, фотоснимок не был опубликован. Как сказано в книге, на которую я ссылаюсь, «никому не должно быть позволено подрывать доверие к «свободной», независимой надпартийной печати».
И в тех случаях, когда зависимость от «денежного мешка» замаскирована, правящий класс является исключительным монополистом средств массовой информации и пропаганды. Например, Би-би-си в передачах на свою страну не разрешается прибегать к коммерческой рекламе и, следовательно, получать
«Я позволю себе привести две цифры: на 16 500 точек распродажи бульварной литературы приходится 450 магазинов, где можно купить художественную и специальную литературу. Таким образом, настоящая литература становится малодоступной. Литературная деятельность превращается в производство беллетристики- ширпотреба*.
Сара Лидман (Швеция)
29
за это деньги, что создает иллюзию независимости. Однако последняя оказывается мифом, как только мы узнаем, что министр внутренних дел, который выдает лицензию на право вещания, может отобрать ее, может потребовать передачи тех или иных программ или, наоборот, задержать трансляцию любой программы на любой установленный срок ит.д.1.
Как указывал В. И. Ленин, «свобода печати во всем мире, где есть капиталисты, есть свобода яо- купать газеты, покупать писателей, подкупать и покупать и фабриковать «общественное мнение» в пользу буржуазии» 2. И мы ясно видим, что, например, в тех буржуазных странах, где легально выходят коммунистические газеты, печатаются революционные по духу книги, в том числе и художественные, перед нами отнюдь не свобода, якобы дарованная буржуазным строем классовому противнику. Нет, здесь иное, а именно одно из социальных завоеваний революционного пролетариата, достигнутое и удерживаемое в повседневной, напряженной борьбе под руководством политического авангарда трудящихся — марксистско-ленинских партий. Иными словами, это свидетельство возрастающей силы пролетариата, а отнюдь не либерализма буржуазии. Попытки наших идейных противников выдать за добровольно даруемое благо то, что у них отвоевано в борьбе, не могут ввести в заблуждение.
Настойчиво осуществляемое господствующим классом обесценивание литературы и искусства в ♦обществе потребления» отмечается не только коммунистами. Например, западногерманский социал- демократ Д. Латман, выступая на страницах далекой от вопросов художественной литературы газеты «Парламент», отмечает: «В ФРГ много говорится об участии писателей и художников в выполнении общественных задач, но чаще всего дело сводится к тому, что литература и искусство должны служить оправданию мнимых преимуществ существующего положения дел. Принимается только уме-
1 См.: В. Артёмов, В. Семенов. Би-би-си. История. Аппарат. Методы радиопропаганды (раздел «Би-би-си у себя дома*). М., «Искусство*, 1978, с. 56.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 44, с. 79.
30
ренная критика общественной ситуации. Политики вынуждены ее одобрить, они и не ждут, что писатели и художники создадут произведение, имеющее реальную ценность для современности... Почти любое выступление писателя, посвященное политическим проблемам, воспринимается как вмешательство в дела чужого «ведомства». Оно неверно истолковывается и отвергается» 1.
Еще резче говорит о том же видный австрийский историк культуры и критик Ф. Хеер в своей книге «Почему нет духовной жизни в ФРГ?»: «Холодная война», которая ведется за закрытыми дверьми,— умерщвление творческих людей, погибающих из-за невозможности выразить себя, не прекращается ни на миг. Большое число издателей, менеджеров массовой информации немы и слепы в отношении проблем и тем, не имеющих для них интереса. Издательства... отвергают все, что для них неприемлемо: романы, лирику, а также авторов не подходящих для рубрик «наука», «социология», «политология» и т.д.
Для творческого человека нет места, нет жизненного пространства в современном обществе ФРГ. Если его творчество не считается модным в обществе, то оно для этого общества не существует. Крупное произведение должно иметь большое дыхание, должно созревать много лет, десятилетия. Именно это долгое дыхание позволяет соотносить произведение с вечностью. Оно вбирает в себя много жизней, оно живет ими. Для такого произведения время еще не наступило» 2.
Ученый приходит к выводу, что в буржуазном обществе «литература—это политика наивысшего ранга, причем именно в своих тривиальных, вульгарных, аполитичных формах» 3.
Капитализм и его «массовая литература», «массовое искусство» наносят огромный ущерб духовной культуре.
Известно, к примеру, что романы и фильмы ужасов ожесточают, учат быть безжалостным к
1 «Das Parlament», 1978, 14. Oktober.
2 F. H e e г. Warum gibt es kein Geistesleben in Deutschland? Miinchen, Paul-List-Verlag, 1978, S. 16.
3 T а м же.
31
ближнему, обесценивают гуманизм. Упоминавшийся Фридрих Хитцер отмечает, что «литература агрессии и культ насилия призваны вселять в людей страх, который превращает их в безответственных исполнителей приказов*. Хитцер уточняет: «Вы знаете, что те, кто зарабатывает на страхе и на культе насилия, прикрываются антикоммунизмом, твердят, что, дескать, этого хочет народ, таковы уж немцы, что они, мол, сами хотят об этом читать. Нет! Не все немцы таковы* (250).
К явлениям «массовой культуры* следует отнести и известным образом политически ориентированные поделки под видом художественной литературы, которые насаждаются в читательской аудитории маоистского Китая. Национал-шовинизм, гегемонизм сочетается в этих примитивных по исполнению, духовно убогих «произведениях* — с левацким нигилизмом и антисоветизмом.
Что касается антикоммунизма, пышным цветом расцветающего на почве «массовой культуры*, а также в лоне буржуазной и ревизионистской идеологии, эстетики, литературно-художественной критики, то нет существенной разницы, откуда он — справа или «слева». Убедительно говорил и о правых и о «левых» оппортунистах В. И. Ленин: «Это одна семья, все они друг друга хвалят, друг у друга учатся и сообща ополчаются против «догматического» марксизма» !. Пущенное Бжезинским в оборот более десяти лет назад выражение «антисоветские марксисты» лишний раз иллюстрирует, уже в наше время, эту ленинскую мысль1 2.
ВОПРЕКИ КУЛЬТУРНОМУ ОБМЕНУ
‘ До сих пор речь шла, так сказать, о «внутреннем» аспекте проблемы «буржуазная идеология и художественная культура». Не менее важен и аспект «внешний». Он касается прежде всего международного культурного обмена, а значит, вновь выводит
1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. в, с. 7.
2 См.: Z. Bzezinski, Р. S. Huntington. Politische Macht USA/UdSSR. Koln — Berlin, 1966, S. 426.
32
нас (но уже под новым углом зрения) к вопросу о роли средств массовой информации в судьбах современной культуры.
В настоящее время во всех странах насчитывается более 300 миллионов телевизоров. Телепередачи смотрят свыше миллиарда человек. Некоторые репортажи и другие передачи, направляемые по международным каналам телевидения, одновременно принимает население всех материков Земли.
На земном шаре более 22 тысяч радиостанций и 700 миллионов приемников. Ежедневно в мире вы-* ходит 8 тысяч газет, разовым тиражом 500 миллионов экземпляров. В год выходит более 550 тысяч фильмов, что составляет примерно 1500 названий каждые сутки 1.
Однако в несоциалистической зоне мира контроль над средствами массовой информации, как правило, сосредоточен в рамках немногих крупных монополий или непосредственно буржуазного государства. Скажем, в Англии газетная продукция страны контролируется четырьмя корпорациями. В США три вещательных концерна (Си-би-эс, Эн-би-си, Эй- би-си) держат в руках программы 600 телевизионных станций.
Это привело прежде всего к острой межимпериалистической конкуренции, причем в основу отношений обмена был положен буржуазный принцип ♦ свободного потока информации».
Так, вещание на другие страны ведет 161 телекомпания США — до 2000 тысяч часов в год. Телевидение Англии — примерно 30 тысяч часов. Далее следуют Франция, ФРГ, Япония2.
Если взять кинопрокат, то, по данным того же бюллетеня IOHECKQ, из 386 полнометражных фильмов, показываемых на экранах Великобритании (в год), более 150 — американских. Даже во Франции, гордящейся своей национальной культурой, 70 процентов демонстрируемых фильмов — иностранного производства (в основном из США). Фильмы
1 См. сб. «Культура и идеологическая борьба». М., «Мысль», 1979, с. 73.
2 См.: «Бюллетень комиссии по делам ЮНЕСКО», 1977, № 2 (28) — 3 (29), с. 18.
2 Сборник статей
33
США занимают более 50 процентов времени на экранах кинотеатров за пределами социалистического мира. То же и в прессе. К примеру, американский журнал «Ридерс дайджест» распространяется за границей в количестве 10 миллионов экземпляров.
Американская экспансия по каналам средств массовой информации приняла такие масштабы, что собравшаяся в Монреале группа экспертов ЮНЕСКО пришла к выводу: то, что фигурирует как «свободный поток информации», на деле часто представляет собой односторонний поток, а не подлинный обмен. Как писал по этому поводу канадский исследователь Г. Комор, «Америка уничтожает не только наше телевидение, но и наши ценности и саму нашу культуру». Стокгольмская вечерняя газета «Афтонбладет» сообщила, что даже опытные журналисты страны, привыкшие к весьма заметному крену шведского телевидения в пользу американских и английских программ, развели руками, когда выяснилось: Швеция закупает их больше, чем любая другая страна, что неминуемо искажает картину происходящего в мире Подобного рода сетований немало и в других государствах.
Недаром многие капиталистические страны приняли в последнее время специальные постановления, чтобы создать барьер на пути американской идеологической экспансии. Теперь показ иностранных программ по телевидению ограничен (по линии государственного вещания) в Великобритании до 14 процентов, в Канаде — до 45 процентов, в Австралии — до 50 процентов. Принимаемые ими контрмеры, в сущности, отвергают ^ идею абсолютной, абстрактной свободы при распространении сообщений, не исключая и культурной информации. Таким образом, логика развития международных отношений даже внутри капиталистического мира ведет к тому, что проблема обмена информацией между странами, как важнейшая отрасль духовного, культурного общения, должна решаться на иной базе, нежели принцип «свободного потока информации». 11 См.: «Правда», 1979, 19 августа.
34
Такой базой могут и должны стать принципы мирного сосуществования государств Ч
Между тем империалистические круги пытаются привнести обанкротившийся, не оправдавший себя принцип «свободного потока информации» и в область духовного, культурного обмена с мировой социалистической системой.
Конечно, осуществление культурного обмена социалистических государств с капиталистическими затруднено попытками последних экспортировать в страны социализма откровенный антигуманизм; многие из произведений этого ряда насквозь пропитаны контрреволюцией, антисоветизмом, антикоммунизмом, милитаризмом, национализмом, расизмом и прочими «откровениями* реакции. Ясно, что эти порождения буржуазной идеологии и культуры не могут служить основой культурного обмена между двумя мирами — социализмом и капитализмом.
«Встречи с произведениями великого искусства,— отметил Л. И. Брежнев в приветствии посетителям экспонировавшихся в США выставок «Шедевры итальянской живописи из коллекции Государственного Эрмитажа» и «Сокровища музеев Московского Кремля»,— всегда побуждают задуматься над преемственностью поколений, обостряют чувство ответственности перед историей, перед мировой культурой, перед грядущим. Наверное, в этом и состоит высокий смысл гуманистической культуры и искусства» 1 2.
Вопросы содержания распространяемой информации и целенаправленности международных культурных обменов стали объектом острой идеологической борьбы на XX Генеральной конференции ЮНЕСКО (1978 г.), которая, несмотря на упорное сопротивление противников разрядки, приняла
1 Подробнее см.: В. С. Коробейников. Духовное общение, обмен информацией, идеологическая борьба (гл. «Средства массовой информации на слубже монополий»). М., Политиздат, 1976; а также: С. Н. Кононыхин. Идеологические аспекты культурного обмена. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 1979.
2 «Правда», 1979, 11 мая.
35
Декларацию по информации в пользу мира и резолюцию об использовании культурных связей в интересах мира.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что, во многом саботируя выполнение положений третьего раздела Заключительного акта, подписанного в Хельсинки и подтвержденного в Белграде (этот раздел посвящен сотрудничеству в гуманитарных и других областях), империалистические круги стремятся толковать Хельсинкское соглашение в том смысле, что мир социализма должен в одностороннем порядке прекратить борьбу с буржуазной идеологией, предоставив последней возможность беспрепятственного распространения в социалистических странах. Эта идея муссируется с начала 70-х годов. Как было сказано в одной из тогдашних редакционных статей лондонского еженедельника «Обсервер» (26 ноября 1972 г.), «грубо говоря, Запад заявляет следующее: если мы согласимся ослабить наше военное и дипломатическое давление на коммунизм, то нам должно быть позволено наше культурное давление».
Этот лозунг действует и поныне. В таких условиях ослабление с нашей стороны классовых позиций было бы «равносильно полному разоружению пролетариата в пользу буржуазии» К
Существо того, что снова пытаются навязать практике культурного обмена реакционные круги, хорошо известно. Нельзя назвать культурным обменом, заметил писатель Эрвин Фишер (ФРГ), то положение вещей, когда пропагандистская шумиха «дискриминирует расы, когда фальсифицируются исторические факты, когда лжесвидетелей с помощью различных ухищрений выдают за мучеников, а подонков с помощью манипуляций и в угоду корыстным интересам превращают в достойных людей...» (84).
Под флагом «свободного распространения информации», «свободного обмена идеями» протаскивается мысль фактически о принудительном по отношению к СССР и другим социалистическим странам навязывании буржуазной идеологии и культуры. 11 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 26.
36
Иными словами, перед нами попытка выторговать в обмен на разрядку международной напряженности некие привилегии для экспорта буржуазных идей в мир социализма.
Разрядка не предмет для торга. Она одинаково нужна народам всех стран. Борьба за дальнейшее углубление процесса разрядки ведется совсем не для того, чтобы позволить империалистам подорвать социалистические завоевания, посягать на передовую культуру, литературу, искусство.
Вместе с тем, подчеркивал Л. И. Брежнев, страны социализма не «закрытое общество», как пытаются представить их буржуазные пропагандисты. «Мы открыты для всего правдивого и честного, и мы готовы всемерно умножать контакты... Но наши двери будут всегда закрыты для изданий, пропагандирующих войну, насилие, расизм, человеконенавистничество. И тем более они будут закрыты для эмиссаров зарубежных секретных служб и созданных ими эмигрантских антисоветских организаций» К
Если уж воспользоваться понятием «закрытое общество» — в определенном, разумеется, смысле,— то оно применимо как раз к тем кругам Запада, которые ввели это понятие в оборот. К примеру, по словам швейцарского прозаика и драматурга Вальтера Матиаса Диггельмана, швейцарцы очень редко имеют «возможность познакомиться с книгами писателей из социалистических стран... У нас издают преимущественно диссидентов, независимо от того, хорошие они писатели или плохие. Но нам не хватает, например, книг Симонова или многих других друзей из Советского Союза и Болгарии. Должен признаться, что не знаком ни с одной болгарской книгой... Но каким образом я могу понять болгар, понять русских, украинцев, если я не знаю их литературы, если их книги мне недоступны?» (186— 187).
В противоположность охарактеризованной ситуации примечательные данные и аргументы привел писатель Имре Добози. 11 Л. И. Брежнев. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС, т. 2. М., Политиздат, 1978, с. 208.
87
«Венгрия — маленькая страна. Ее население насчитывает немногим более десяти миллионов. Но за последние 30 лет в этой маленькой стране издано 722 произведения американских авторов общим тиражом 18 миллионов, 946 произведений английских писателей тиражом 22,5 миллиона, 1347 произведений французских авторов тиражом 33,5 миллиона экземпляров.
Если бы я захотел сравнить то, что делается в ответ на это, то факты разочаровали бы нас. Конечно, я понимаю, что полное соответствие недостижимо — оно было бы нереальным,— но пропорциональное соответствие возможно. Это было бы в интересах наших партнеров, так как вместо пристрастной и поверхностной информации они могли бы увидеть нас глазами наших писателей, описывающих жизнь достоверно, с чувством нравственной ответственности и художественной силой, и понять, как мы живем, кто мы, чего хотим на самом деле.
Западные издательства обычно говорят, что им невыгодно издавать книги социалистических стран. Нам также с материальной точки зрения невыгодно издавать литературу несоциалистических стран, поскольку из-за низких цен на книги издание этих произведений, равно как и произведений венгерских писателей, требует дотаций от государства.
Дотации, выделенные за 30 лет на издание переводной литературы, составляют несколько сот миллионов форинтов.
Если это имеет смысл для нас, то почему не имеет смысла для наших партнеров? Если у нас издание мировой литературы считается не сферой коммерции, а обменом ценностями, то почему бы и нашим партнерам не сделать то же самое — ведь это было бы в духе Хельсинки?» (98—100).
Достаточно сказать в продолжение, что только советское телевидение поддерживает рабочие контакты с соответствующими телеорганизациями 118 государств, а постоянные договорные отношения установлены с 40 капиталистическими странами. Интервидение значительно чаще использует сюжеты, фильмы, передачи, получаемые от телекомпаний капиталистических государств, тогда как последние весьма неохотно обращаются к жизни стран
33
социализма, причем стремятся так отбирать сюжеты, чтобы не позволить телезрителям сколько-нибудь полно ознакомиться с нею. Словом, ширятся культурные связи нашей страны со странами иного социального устройства. Советская печать широко освещает этот благотворный процесс, инициатором которого выступает СССР.
Наиболее значительным достижением совместных усилий в рассматриваемом плане является создание и широкий показ советско-американского, двадцатисерийного фильма о Великой Отечественной войне, демонстрировавшегося на телеэкранах США под названием «Неизвестная война». Это — пример положительного исторического сдвига в отношениях между двумя странами, важный вклад в улучшение взаимопонимания между народами СССР и США.
Все же остается фактом, что на пути расшире ния плодотворного культурного обмена еще много препятствий, чинимых идеологами и политиками империализма. Мало того, что этот обмен до сих пор является неэквивалентным, то есть Советский Союз несравненно больше приобретает и переводит произведений художественной литературы из этих стран, несопоставимо больше кинопроизведений и т. п., нежели это делают западные партнеры по соглашениям Но дело не только в количественной диспропорции, хотя последняя отрицательно сказывается на дальнейшем развитии культурного обмена. Еще важнее качественные показатели.
«То, что мы сегодня знаем о современной советской литературе,— констатировала швейцарская газета «Нойе цюрихер цайтунг»,— это, по существу, сведения, пропущенные через грубый фильтр политических домыслов и неразборчивой жажды сенсаций». Литературовед из США Присцилла Майер писала в американском журнале: «Сборники и антологии не дают представления о лучших образцах советской литературы. Напротив, в них включаются лишь те произведения, которые могут еще больше 11 См.: «Правда о культурном обмене». М., Политиздат, 1976; «От Хельсинки до Белграда. Советский Союз и осуществление Заключительного акта общеевропейского совещания. Документы и материалы». М., Политиздат, 1977.
39
укрепить предвзятое отношение американцев к Советскому Союзу». И далее: «Мы должны избавиться от идеологической предвзятости, препятствующей верному подходу к советской литературе» Пока что положение мало изменилось к лучшему.
Идеологическая борьба — составная часть и реальность мирного сосуществования, ее нельзя аннулировать. «Разрядка,— говорил Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду КПСС,— ни в коей мере не отменяет и не может отменить или изменить законы классовой борьбы. Никто не может рассчитывать на то, что в условиях разрядки коммунисты примирятся с капиталистической эксплуатацией или монополисты станут сторонниками революции. А вот строгое соблюдение принципа невмешательства в дела других государств, уважение их независимости и суверенитета — это одно из непременных условий разрядки» 1 2.
Такой взгляд разделяет подавляющее большинство художественной интеллигенции; выступления участников Первой, а затем и Второй (1979 г.) Международных писательских встреч в Софии подтверждают это.
Прибегнув к пропагандистскому трюку, буржуазные идеологи, выдвигая в качестве условия разрядки прекращение идеологической борьбы против сил империалистической реакции, ставят вопрос о мирном сосуществовании с ног на голову, пытаются тем самым нанести удар и по прогрессивной культуре.
Опыт подтверждает: идеологическая борьба между силами социализма и капитализма не исключает расширения культурного обмена между странами и народами. Дело лишь в том, что идеологические различия вводят процесс духовного, культурного обмена в определенные рамки, в пределах которых этот обмен осуществляется и может быть намного расширен.
Эти рамки, как уже говорилось, определяются самим мирным сосуществованием. «Мирное, честное
1 «Russian Literature Triquarterly», 1971, № 1, р. 420, 423.
2 «Материалы XXV съезда КПСС». М., Политиздат, 1976, с. 33.
4Э
соревнование идей и общественной практики — вот наш принцип» !,— сказал Л. И. Брежнев. Империалистические круги вынуждены считаться с концепцией мирного сосуществования, ибо боятся потерять все. Американский публицист Г. Пэтчер, в понимании которого свободы — это лишь буржуазные свободы, тем не менее приходит к выводу (в статье ♦ Разрядка — реальность и миф»): «Как ни тяжело признать это некоторым из нас, в атомный век сохранение мира должнз превалировать над борьбой за свободы» 1 2.
Миролюбие, сотрудничество — в природе социализма, и, само собой разумеется, дело культурного обмена, как оно поставлено и осуществляется Советским Союзом, братскими социалистическими странами, зиждется, в частности, на том, что наша критика буржуазного искусства ни в малейшей мере не заслоняет широкого фронта прогрессивной зарубежной культуры. Так будет и впредь, но это уже особая тема, заслуживающая специального рассмотрения, как и тема авангардной роли советской, шире — всей социалистической, в том числе художественной, культуры в мировом прогрессе, в борьбе с реакционной идеологией и культурой.
В. И. Ленин учит, что бороться с реакцией — значит прежде всего оторвать массы идейно от реакции. Борьба с буржуазной идеологией, защита, утверждение высоких гуманистических начал в жизни и художественной культуре — почетный долг деятелей литературы, искусства, науки во всем мире.
1 «Правда*, 1978, 6 мая.
2Н. Patcher. Detente — reality and myth. —«Dissent*, N. Y., 1974, vol. 21, № 1, p. 24.
Н. Анастасьев
СИЛУЭТЫ ЛОЖНОГО МИРА
(«Массовая беллетристика»: социальный заказ и эстетические стандарты)
Под давлением литературных стандартов. Неучтенная наркомания — бестселлеры. Утрата индивидуального и общественного сознания — свидетельствуют физиолог А. Лоуэлл, социолог В. Пакард и писатель Д. Барт... Три уровня культуры : высокая, средняя, грубая — что предпочтительнее? С. Теркел: «Для миллионов безымянных людей, чьи собственные жизни пусты и бессмысленны, существуют суррогаты, заменяющие повседневное их существование...»
Романы «черной серии», издающиеся во Франции, «солдатские романы», публикуемые в ФРГ, сексуальные романы, выходящие в США и повсюду в западном мире, можно начинать с любой страницы и на любом же месте обрывать чтение. Да они и рассчитаны даже одним своим внешним видом — карманный формат, мягкая обложка — на одноразовое пользование. Их листают на перегонах метро, на пляже, под жарким солнцем, когда ум отказывается воспринимать нечто более серьезное.
О чем же тут писать?
О стереотипности ситуаций и персонажей? О дурном вкусе и столь же дурном, безликом стиле? Об усреднении, о жалкой беллетризации жизненных реалий? Все это, конечно, тема, но не статьи, а фельетона.
Однако же за откровенностью литературного стандарта скрывается уже далеко не столь очевидный и элементарный социальный смысл. Вот он-то и заставляет обращаться к этому малопривлекательному предмету — массовой «беллетристике».
© Н. Анастасьев. Разочарования и надежды. М., «Со ветский писатель», 1979.
42
1. «ДОБРАЯ ПОРЦИЯ ОПИУМА»
Келвин Кулидж, один из самых бесцветных американских президентов в XX веке, оставил по себе память в истории афоризмом: «Дело американского народа — это бизнес». При всей топорной прямолинейности этой формулы есть в ней, однако, и некое реальное содержание. Крупнейший миф национальной истории — «американская мечта» — всегда был неотделим от идеи процветания и успеха: любой чистильщик сапог или рядовой рабочий может при известном усердии и удачном стечении обстоятельств стать Рокфеллером и Карнеги. Столь прочно укоренилась эта идея в сознании американцев, что даже лучшие умы нации верили в ее осуществимость. Авраам Линкольн (чья судьба казалась его соотечественникам наиболее выразительным воплощением мифа: из фермерской избушки —в Белый дом) на заре индустриальной эры конструировал модель успеха: «Человек без гроша в кармане скромно начинает с того, что в течение известного времени работает на кого-то другого; тут он обретает опыт и умение и становится вскоре хозяином собственного дела; затем он нанимает работать других...» 1
В капиталистических условиях культ успеха, идеология процветания властно и неудержимо вовлекают в орбиту своего влияния не только материальное, но и духовое производство и потребление. Культура превращается в товар, обладающий — наравне с другими товарами — рыночной стоимостью. Разумеется, прогрессивное искусство, высшим идеалом своим полагающее нравственное возвышение человека, обогащение духовного мира личности, всегда противостоит потребительскому, буржуазному в своей основе, подходу к художественному творчеству. Но недаром Маркс указывал на то, что «капиталистическое производство враждебно извест-
1 Цит. по кн.: Bernard A. Weisberger. The new industrial society. N. Y., 1969, p. 218.
43
ным отраслям духовного производства, например искусству и поэзии» К
Подобное отношение к культуре может выявляться в разных формах, в том числе в самых грубых и элементарных. Используя все находящиеся в их распоряжении средства массовой информации, способы материального и морального давления на творческое сознание, правящие классы поощряют производство сочинений, утверждающих стереотипы буржуазной морали, освящающих экономическую, идеологическую и политическую программу общества авторитетом художественного слова; и те же средства и способы используются против произведений и авторов, которые подвергают сомнению принципы идеологии и нравственности господствующего класса.
В истории культуры достаточно примеров подобного рода. Еще в середине 80-х годов прошлого столетия, когда «позолоченный век» Америки начал откровенно обнаруживать свою социальную двойственность, когда в стране начало формироваться рабочее классовое сознание — именно в ту пору появился роман Джона Хэя «Кормильцы», автор которого попытался подорвать моральные кредиты профсоюзного движения, изобразив рабочих лидеров людьми своекорыстными и нечистоплотными. А много десятков лет спустя, уже в наше время, в США большими тиражами издавались сочинения Слоуна Уилсона, взахлеб прославляющие добродетели американского капиталиста. Не говорю уж о той рекламе, которая была сделана Джеймсу Бонду, герою известных супербоевиков английского беллетриста И. Флеминга.
И все же безудержная апология бизнеса либо, напротив, откровенная клевета — это только частная форма давления господствующих идеологических стандартов на духовную жизнь людей, на художественное творчество. А требуются долговременные средства, не зависящие от конъюнктуры дня, от колебаний экономики, от преобладающих настроений в обществе. Точнее — способные вводить эти настроения в определенное русло. 11 К. Ма ркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. I, с. 279—280.
44
«Наиболее значительный эффект влияния индустриализации на популярную культуру состоял в широком распространении еженедельных изданий... публикующих из номера в номер в основном рома- ны-«сенсации»,— читаем в солидном социологическом исследовании, озаглавленном «Популярная культура и индустриализация. 1865—1890». Тут же приводится свидетельство преподобного Д.-Б. Харрисона, обследовавшего в конце минувшего века условия жизни в фабричных городах Новой Англии: «Подобные сочинения (романы-«сенсации».— Н.А.) чаще всего не несут ни воспитательной функции, ни идеи, доброй или дурной. Это просто сюжеты — безвкусные, глупенькие, напыщенные и дурно написанные... Обычно единственный эффект подобного рода чтения состоит в том, что оно, предлагая уму и сердцу нечто вроде отдохновения и развлечения, ускоряет бег времени; постепенно люди начинают чувствовать в нем потребность, подобно тому как алкоголики или наркоманы нуждаются в виски и опиуме» хш
Недавно ту же метафорическую фигуру употребил известный английский журналист и прозаик Клод Кокберн. В предисловии к своему исследованию «Бестселлер. Книги, которые читались всеми. 1900—1939» он пишет: «Быть может, в мире, устроенном лучше, чем наш, бестселлеры воспринимались бы как поверхностное чтиво и к ним относились бы с презрением. Но при нынешнем положении вещей они по крайней мере представляют собой добрую порцию опиума» 1 2.
Не только бестселлеры — это массовая наркомания, не учитываемая и не могущая быть учтенной никакой статистикой. Производство «сенсационной» (удовлетворимся пока этим определением) литературы,— а оно, как видим, уже давно поставлено на поток,— представляет собой не меньшую социальную опасность, нежели откровенная апология системы. Заключается эта опасность в создании определенного рода духовной атмосферы, которая диктует свои
1 «Popular culture and industrialism. 1865—1890*. N. Y., 1950, p. 403.
2 Claud Cockburn. Bestseller. London, 1972, p. 17.
46
условия и читателю и писателю. Утверждаются более или менее определенные стереотипы, отклонение от которых грозит коммерческим провалом книги. Идеологический заказ правящего класса, таким образом, теряет в процессе своей реализации императивные очертания, обезличивается и начинает — на уровне текущей литературной жизни — восприниматься как потребность читательская, как глас самого народа. Подобно тому как, по известному определению Маркса, в буржуазном обществе мистифицируются материальные отношения между людьми, так же искажаются отношения духовные.
Лет двадцать назад в США вышла весьма поучительная книга ♦История американского литературного вкуса» — комментированный свод бестселлеров с конца XVII века до момента издания книги. Конечно, зафиксированная статистикой популярность того или иного произведения в каждый данный момент — это еще не абсолютный показатель уровня читательского вкуса: тут играют роль внешние моменты — реклама, далеко не абсолютное соответствие тиража книги и реального количества читателей, неточность самих методов обследования и т. д. Все же известное представление о культурных запросах массового потребителя книга дает. Что же обнаруживается? Чаще всего — очевидное несовпадение популярности и художественного уровня произведений. Только один пример, зато, как мне кажется, довольно впечатляющий. 1929 год был истинно звездным годом американской прозы XX века — появились ♦ Прощай, оружие!» Хемингуэя, «Шум и
«У нас в ходу выражение «марктге- рехт», что примерно означает: соответствие потребностям рынка. Литературу приспосабливают к рынку. Каждую неделю на этот рынок выбрасывается несколько миллионов дешевых «романов-тетрадок». Литературная политика — объект постоянных манипуляций».
Макс фон дер Грюн (ФРГ)
47
ярость» Фолкнера, «Взгляни на дом свой, ангел» Вулфа, «42-я параллель» Дос Пассоса. Согласно статистике, однако, на литературном рынке в это время наибольшим спросом пользовались совсем другие книги. Во главе списка бестселлеров стоял роман К. Браш «Молодой человек из Манхеттена» (кто помнит его теперь?), живописующий превратности супружеской жизни спортивного журналиста, протекающей на фоне бесконечных попоек в редакциях газет, ночных клубах и мастерских художников.
Я вовсе не хочу сказать, что подобного рода «ножницы» — ненарушаемая норма художественной жизни в буржуазном обществе. В том же своде бестселлеров мы встретим имена и Мелвилла, и Марка Твена, и Драйзера, и Хемингуэя. Но речь-то идет о тенденции. Буржуазное общество создает климат, особенно благоприятный для извращения и развращения читательского вкуса, что в свою очередь не может не оказывать влияния и на творческое сознание художника.
В этом по преимуществу и сказывается враждебность капиталистической системы по отношению к духовному производству, о чем писал Маркс.
С развитием буржуазного общества неистинное, потребительское отношение к искусству приобретает и новые масштабы, и новое качество. «Популярная культура» XIX века сменяется «массовой культурой» века XX. Точнее — второй его половины.
2. «МАССОВАЯ КУЛЬТУРА»— СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ
Джекобу Хорнеру, герою романа известного современного американского прозаика Джона Барта «Конец пути», во сне является работник метеослужбы и прогнозирует ему на завтра «день без погоды». Метафора обнаженно ясна: в ней отразилась социальная невесомость героя, катастрофическая неуверенность его и в самом себе, и в окружающем его мире, утрата сколько-нибудь ясно очерченных жизненных целей. Автор книги толкует эту катастрофу во всевечно-апокалипсическом плане —
48
духовная пассивность кажется ему неизбежным человеческим уделом, что придает его художественной концепции явно выраженную модернистскую окраску. Все же следует признать, что Барт весьма точно уловил — и в болезненной форме запечатлел — состояние духа очень многих людей западного мира.
Вот свидетельство уже не художника, склонного к гротескному изображению действительности, а представителя точных наук — физиолога А. Лоуэлла. Ученый пишет о характерной для американцев «утрате чувства равновесия, ослабляющейся мере осознания собственной индивидуальности, упадке способности к самовыражению и переживанию чувства радости» *.
Почти совпадением звучит и мрачная констатация известного социолога В. Пакарда: «Роковымобразом растет число людей, не знающих чувства гордости за проявленную инициативу и творческую деятельность» 1 2.
Речь идет об усиливающемся отчуждении людей друг от друга в условиях буржуазного общества, о кризисе индивидуального и общественного сознания, о формировании такого социального положения, при котором свобода мыслей и поступков человека приобретает все более иллюзорный характер. Эти процессы, описанные еще классиками марксизма, в нынешнюю эпоху бурного технического развития стремительно расширяют зону своего действия. Возникает парадоксально-трагическая ситуация: научно-технический прогресс, неизбежно вовлекающий в свою сферу большие массы людей и объединяющий их как будто единым знанием, единой целью, единым чувством, на самом деле способствует еще более резкой их духовной разъединенности, превращению их в людей «частичных». Технический прогресс при всех своих впечатляющих масштабах оказывается бессильным осуществить то, что ставит своей высшей задачей прогресс социальный: реализацию всех физических и духовных резервов личности, ее гармоническое развитие.
1 «Saturday Review*, 1972, August 26.
2 V. Packard. The Status Seekers. London, 1960, p. 317.
49
Это ощущают ныне даже безусловные сторонники буржуазной системы мироустройства. Теоретические модели, основанные на идеях технократии и материального процветания, все откровеннее обнаруживают разрыв с реальными ощущениями людей, которым нужны не только крыша над головой и сносное существование, но и то, что издавна называется идеалом, что превышает сиюминутные потребности текущего дня. Не хлебом, как говорится, единым...
В качестве такого идеала и была предложена ♦массовая культура*. И, надобно признать, оказалась она в рамках общей системы буржуазной идеологии куда более мощным и устойчивым средством социального и нравственного воздействия на людей (а в этом ее назначение и состоит), нежели многие построения социологов и футурологов — авторов теорий ♦нового индустриального общества *, ♦ постиндустриального общества*, ♦общества изобилия* и т. д.
У ♦массовой культуры* много противников1. Определяя ее как ♦счастливое рабство*, Б. Розенберг, профессор социологии Нью-Йоркского университета, один из составителей сборника ♦Снова о массовой культуре*, пишет: ♦Вряд ли кто-нибудь сомневается, что 95 процентов продукции, поставляемой нам средствами массовой коммуникации, в эстетическом и интеллектуальном отношении представляют собой совершенную банальщину* 2. Б. Розенбергу вторит другой либеральный критик ♦массовой культуры* — Эрнст ван ден Хааг: ♦ Средства массовой информации по самой природе своей должны ориентироваться на клише среднего вкуса. Они не могут способствовать расцвету искусств, более того — они заменяют искусство*. И поэтому расцвет * массовой
1 Необходимая оговорка: речь идет о «массовой культуре* в ее практическом, повседневном обличье, при этом не рассматриваются ни история, ни теория вопроса. Поэтому такие критики «массовой культуры*, как Т.-С. Элиот или Ортега-и- Гассет, не принимавшие ее с элитарных позиций, здесь останутся в стороне.
2 «Mass culture revisited*, ed. by В. Rosenberg and D. White. N. Y., 1971, p. 7.
50
культуры» ведет к « коррупции и стерилизации культурного наследия* 1.
У« * массовой культуры* немало и сторонников.
Д. Белл (автор книг «Конец идеологии* и «Приход постиндустриального общества*): «С появлением кино, радио и телевидения, с одновременным печатанием еженедельных изданий в различных городах, позволяющим распространять эти издания по всей стране в один и тот же день, впервые в американской истории появилась единая система идей, образов и развлечений... Именно благодаря массовым средствам связи и происходит объединение американского общества в единое целое* 2.
Э. Шилз (автор теории трех уровней культуры: «высокая» — superior; «средняя» — mediocre; «грубая»— brutal) пишет: «Самый рост китча (словечко, которое означает и «дешевку», и «халтуру», и «вульгарную поделку*. — Н. А.) и той потребности, которая вызывает рост индустрии китча, свидетельствует о постепенном эстетическом пробуждении тех классов, которые ранее просто принимали то, что им предлагалось, и которые были практически лишены возможности эстетического самовыражения»3.
Можно понять — и разделить — горечь критиков «массовой культуры», видящих в ней угрозу художественным ценностям, накопленным веками и поколениями.
Понятна и по-своему логична позиция ее апологетов: «массовая культура», понижая вкус публики до критического уровня, прежде всего способствует интеграции все большего количества людей в систему буржуазных взглядов, манит хоть видимостью идеала в обществе, по существу своему безыдеаль- ном. «Эстетическое пробуждение», о котором столь демократично радеет Э. Шилз, на деле превращается в дремотное состояние духа, лишающее человека инициативы, подлинной свободы «самовыражения». Возникает лишь иллюзия таковой — эффект, к которому и стремятся идеологи «массовой культуры».
1 «Mass culture revisited*, р. 92.
2 Д. Белл. Массовая культура и современное общество. — «Америка*, 1965, № 103, с. 51.
3 «Mass culture revisited*, р. 78.
51
Нетрудно заметить, однако, что существует точка, на которой оппоненты встречаются: и обвинители и защитники фатально связывают рост •♦массовой культуры» с распространением средств массовых коммуникаций.
Что миллионные тиражи еженедельников с их стандартной продукцией, что тысячи кинокопий с вестернами, а более всего телевидение, без устали демонстрирующее комиксы и детективы,— что вся эта мощно развитая техника является важнейшим средством распространения и пропаганды «китча», сомнений не вызывает. Бесспорно и то, что на пути от театральной сцены к телевизионному экрану игра актера во многом утрачивает свои неповторимые особенности: интимный контакт со зрителем, сидящим в зале, подменяется безличной связью. Так что, наверное, в известной формуле канадского профессора Маршалла Маклюэна — «Средство — это и есть сообщение» — заключена немалая доля истины.
Но в том-то все и дело, что комиксы, вестерны, сексуальные романы, адаптированные — да так, что не узнать,— классики — это только средство, функция, пусть и могучая, пусть и единственно замечаемая и воспринимаемая, но все-таки функция системы, именуемой «массовая культура».
Содержание же ее — это определенный тип отношений, предполагающий устранение индивидуального сознания личности, манипулирование ее эмоциями, усреднение — в соответствии со стандартами буржуазной морали — ее чувств, мыслей, побуждений. Это условная знаковая система, это миф современного буржуазного общества, это, используя популярный ныне в Америке термин, токенизм (token — знак) — своего рода жесты, иероглифы общения людей друг с другом в условиях системы, которая по объективной своей сути обрекает их на разобщенность.
«Самой серьезной проблемой для США... в последнюю треть этого века будут поиски цели и смысла жизни, ответ на вопрос: зачем все это?» 1 — пишет один из теоретиков «постиндустриального общества» Г. Кан. Сфера производства, обеспечи¬
1 «Business Week», 1967, March, р. 11.
52
вающая обществу экономический прогресс, не может уже дать ответа на этот вопрос даже тем, чье личное благосостояние непосредственно питается этим прогрессом, в частности квалифицированным, высокооплачиваемым рабочим космических центров, автомобильных заводов, предприятий по производству медицинского оборудования и т. д. Журнал ♦ Лайф» с тревогой констатирует возникновение феномена «рабочей скуки»: «Уровень абсентеизма на некоторых заводах поднялся до 13 процентов, в то время как несколько лет назад он составлял лишь 3 процента. Было время, когда забастовки велись ради повышения заработной платы; ныне на первый план все больше выдвигается недовольство самой работой... Для молодого поколения рабочих... заработная плата перестает быть достаточной компенсацией за жизнь, растрачиваемую на конвейере» Автор статьи, конечно, выдает желаемое за действительное, когда говорит о своего рода классовом балансе сил на современном капиталистическом производстве: борьба рабочих за свои экономические права продолжается и сегодня. Более того, как свидетельствуют статистики, в настоящее время резко повысился уровень безработицы. Так что и ныне забастовки ведутся и за право на труд, и за справедливое материальное вознаграждение. В то же время наблюдения журналиста наталкивают на существенный вывод: нынче правящие классы уже менее, чем когда-либо, могут привлечь на свою сторону людей одними только материальными благами, возможностью — иллюзорной, реальной ли — участия в распределении национальных богатств. В пору юности капиталистическое общество довольствовалось тем, что покупало у производителей их рабочее время. Теперь, в эпоху научно-технической революции, все расширяющейся автоматизации производства, этого уже оказывается мало. Теперь идеологи буржуазного общества стремятся взять под контроль досуг человека, создавая условный, ложный по сути своей язык «массовой культуры», приводя — пытаясь привести — к единому знаменателю вкусы, привычки, культурные запросы и в конеч- 11 «Life», 1972, September 1.
53
ном счете само мышление людей, формируя — пытаясь сформировать — среднего «манипулируемого* человека. Создается суррогат реальной действительности, который весьма натурально воссоздает внешний облик жизни — потому и пленяет потребителя,— но который совершенно фальсифицирует ее истинное содержание.
«Герои производства», как говорят социологи на Западе, уступают место «героям потребления». Люди, пишет В. Пакард, утрачивают чувство удовлетворенности работой и вынуждены искать это чувство за пределами конвейерной ленты. И они ищут его в «страстном потреблении, подобно тому как беспокойные массы Древнего Рима искали рассеяния в цирках, заботливо устроенных императорами» К
А что же кинематограф, журналы, радио и, конечно, в первую очередь телевидение? Об этом уже шла речь — они обеспечивают безграничные, по существу, технические возможности распространения «знаков» «массовой культуры», превращают идеологические стандарты в практический стиль жизненного поведения.
Вот этой иерархической связи и не могут — или не хотят — понять противники «массовой культуры», искренне озабоченные упадком эстетического чувства современников. И это делает их позицию при всей ее кажущейся безусловности весьма уязвимой. Они могут сколь угодно презрительно третировать ту псевдокультуру, которая стремится вытеснить Шекспира и Сервантеса, сколь угодно гневно обрушиваться на ее адвокатов, но существует тезис, перед которым они в растерянности останавливаются. Звучит он так: «Средняя Америка с ее молчаливым большинством воздействует на средства массовой информации куда ощутимее, чем последние воздействуют на нее». Или так: «Массовая культура... скорее отвечает запросам людей, нежели формирует их» 1 2. Эти слова принадлежат Д.-М. Уайту, декану факультета журналистики Бостонского университета, но они, можно сказать, безымянны, ибо
1 V. Packard. The Status Seekers, p. 317.
2 «Mass culture revisited», p. 19.
54
устойчиво формулируют позицию всех тех, кто видит в «массовой культуре» общественное благо.
Оставаясь в пределах чисто технологического толкования проблем «массовой культуры», сводя ее лишь к средствам передачи — радио, телевидение и т. д.,— подобные аргументы действительно не опровергнешь. Однако их неуязвимость — мнимая.
Конечно, телепередачу можно выбрать по вкусу, а не найдется — так и просто выключить телевизор. Но это возможность, так сказать, теоретическая. На практике же «Сон в летнюю ночь* смотрят на телеэкране 23 процента зрителей, а идущий параллельно по другой программе слащаво-сентиментальный фильм «Спартак» — 40 *. В чем тут дело? Настроение, которое одних располагает к общению с высоким искусством, а других — с глянцево отделанной историей? Инерция вкуса? Наконец, более развитое эстетическое чувство одних и менее развитое других? Допустим. Но вот вопрос: можно ли в этом случае говорить только о личных вкусах и склонностях или же в их «процентном распределении» скрывается некая закономерность? И каковы все же подлинные связи и рычаги, механизмы действия в системе: производитель «массовой культуры» — потребитель «массовой культуры»?
В исследованиях советских социологов немало написано на эту тему, но мне хотелось бы сослаться не на ученого, а на литератора, критика. В своей свежей наблюдениями и выводами книге «Герои «безгеройного времени» М. Туровская исследует пути и пружины мифологизации среднего буржуазного сознания и пишет в этой связи: «Сначала человек дорого платит за комфорт, чтобы освободить себе максимум досуга; потом он платит еще дороже за то, чтобы убить этот досуг с помощью телевидения, комиксов, кино, радио, газет, детективов, мод, спорта 11 Цифры приводит тот же Д.-М. Уайт, который связывает будущее американской цивилизации именно с развитием «массовой культуры*. Можно вспомнить страшные миражи телевизионной наркомании, что возникают у Р. Брэдбери в его романе «451° по Фаренгейту*. При всей своей гротескной неправдоподобности эти миражи, пожалуй, точно выражают тенденцию движения 'среднего вкуса. «Зона Шекспира» сокращается.
55
и прочая и прочая. Он должен вернуть в оборот плату, полученную за Труд, уплатив за это своим Досугом. Таким образом, если раньше человек продавал лишь свой Труд, то теперь, благодаря ухищрениям Комфорта и mass media, создающих множество новых и новейших материальных и психологических потребностей, он продает также свой Досуг, а с ним и свою личность. Она уравнивается, стандартизируется, программируется, перестает существовать...
Как ни странно, но это дает себя знать даже в тех случаях, когда материальные возможности еще далеко отстают от диктата Моды, когда высокий жизненный стандарт есть лишь умозрительный образец» 1.
Последнее соображение особенно важно: в условиях, когда формула «равные возможности всем» уже давно обнаружила свой ложный характер, когда постоянные колебания рыночной конъюнктуры лишают людей сколько-нибудь прочной уверенности в завтрашнем дне, определенным образом ориентированная система культурного потребления («массовая культура») оказывается силой стойкой и духовно влиятельной: она захватывает в сферу среднего сознания и тех людей, которые в области материального потребления еще не достигли этого желаемого среднего стандарта.
Таким образом, свобода досуга, свобода потребления тех или иных культурных ценностей оказывается иллюзорной. Настройка телевизора, выбор фасона платья, предпочтение, отданное той или иной магнитофонной записи, оказываются более или менее жестко запрограммированными господствующей Модой. Активность индивидуальной мысли, независимость поступка скрыто подавляются; средин- ность утверждается как культ, а он в свою очередь порождает, по словам социолога С. де Грация, автора книги «О времени, работе и досуге», «некритически настроенную и недумающую аудиторию»1 2. Такая аудитория на веру принимает идеологиче¬
1 М. Туровская. Герои «безгеройного времени*. М., «Искусство*, 1971, с. 157.
2 «Mass culture revisited*, р. 33.
56
ские клише буржуазного общества, с ее молчаливого одобрения творились преступления во Вьетнаме, продолжает твориться насилие дома, когда людей убивают прямо на улицах. В недрах такой аудитории, как писала в дни траура по президенту Кеннеди одна вовсе не либеральная американская газета, возникает атмосфера «ненависти и фанатизма, гнилой дух самодовольства, придающий проповедникам этого фанатизма и ненависти вид респектабельности... уверенности в собственной непогрешимости» 1.
Так и пришли мы к ответу на поставленный выше вопрос: то, что выступает на поверхности как заказ, адресуемый «массовой культуре» от имени потребителя, на деле представляет сложный, многогранно опосредованный результат скрытого манипулирования чувствами и запросами самого этого потребителя. Мы сталкиваемся здесь, следовательно, как и на заре формирования «массовой культуры» (хотя термина тогда еще и не существовало), с искажением реально существующих зависимостей. Обратная связь принимается за прямую.
3. ♦МАССОВАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА»: СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ И ЭРЗАЦ-ГЕРОИ
Столь велика завораживающая сила телевидения, столь обширную роль действительно играют в формировании вкусов людей средства массовых коммуникаций вообще, что, рассуждая о «массовой культуре», социологи и критики — на Западе, да во многом и у нас — упускают из виду еще один способ передачи сообщений культурной Моды, старый способ — печатное слово. Не то слово, что в виде газетной строки становится ежедневной псевдодуховной пищей человека в западном мире, а то, что в красивой и дешевой упакове (paper back) приходит к нему как роман, повесть. «Массовая беллетристика», конечно, не обладает техническими возможностями телевидения, охватывает, естественно,
1 Цит. по кн.: У. Манчестер. Убийство президента Кеннеди. М., «Прогресс», 1969, с. 361.
57
более узкий круг людей (хоть в абсолютном исчислении и достаточно внушительный), но зато и влияние, которое она оказывает на умы и сердца, может считаться более устойчивым, ибо она опирается на веками проверенный авторитет художественного слова. К тому же, столкнувшись с необходимостью конкуренции с техническими средствами информации, беллетристика и сама кое-что берет у них на вооружение, в частности принцип однотипности сообщения: подобно телевидению, «массовая беллетристика» выработала довольно стойкую, из книги в книгу повторяющуюся схему ситуации, героя, идей, конфликтов.
Не странно ли — конфликты в литературе, которая по природе своей бесконфликтна, ибо стремится отлить в сознании читателя такой образ современного общества, в котором нет места сомнению и недовольству?
Но давно уже ушли в историю те времена, когда на страницах романа возникал чеканный профиль молодого, белозубого, улыбающегося любимца удачи — бизнесмена, юриста, врача,— жизненный путь которого накатанно вел его к вершинам богатства и славы. То есть самый-то образ не исчез, но теперь его больше использует чистая реклама. Литературе же, даже и ориентирующейся на среднее сознание, приходится уже, дабы завоевать успех и достигнуть цели, осложнять каким-то образом неподвижность рекламной картинки, создавать хотя бы видимость реальных противоречий, сталкивать своих персонажей с известными — естественно, поддающимися легкому преодолению — преградами.
Скажем, адвоката Лукаса Гуерина, главного героя романа А. Коппела «Немножко времени для веселья» \ к преуспеянию привела как будто не совсем гладкая дорога — на ней и булыжники случались, и завалы. Юность его пришлась на последние предвоенные годы, когда тень фашизма уже задела и Америку; далее он надевает мундир офицера американской армии, после войны ему приходится близко 11 В статье идет речь об американских авторах и американских романах, но «массовое искусство» буржуазного мира безнационально, и приводящиеся тут примеры легко заменимы — английскими, западногерманскими и т. д.
58
столкнуться с маккартизмом; да и нынешний день нашего героя тоже не совсем безоблачен: материально он, правда, вполне благополучен, но, с другой стороны, семейная жизнь не особенно складывается, к тому же досаждают некоторые «безответственные» молодые люди, подвергающие сомнению его, Лукаса, право на покой и счастье и вообще сеющие в стране смуту.
Зачем понадобилась автору такая схема? А затем, чтобы лишить героя любого намека на исключительность, подчеркнуть как раз его негероич- ность — обыденность, заурядность, близость «среднеамериканскому» жизненному опыту. Хоть автор и предуведомляет рассказанную им историю общепринятой оговоркой («...герои этого романа — фигуры вымышленные, и судьбы их вымышлены тоже. Они существуют только на этих страницах, и нигде больше»), очень скоро обнаруживается, что Коппел стремится как раз к противоположному эффекту — эффекту сиюминутной достоверности. О том, что подобного рода достоверность ничего общего не имеет с настоящей правдой, говорить не приходится.
«Один из существенных моментов («массового искусства». — Н. А.),— пишет А. Хаузер, автор книги «Философия истории искусств»,— состоит в том, что определенные вопросы считается неуместным рассматривать или даже затрагивать. К ним относятся в основном следующие: здоровые половые отношения, классовая борьба и рабочее движение, всякая критика существующего порядка или власти, все, что ведет к религиозным сомнениям или оппозиции церкви. Уход от подобных тем означает, очевидно, молчаливое принятие существующих условий. Что касается позитивной пропаганды, то она... не идет дальше слабых заверений о том, что этот мир есть лучший из всех возможных миров» х.
Действительно, изображение, допустим, рабочего движения резко нарушило бы, пожалуй, сложившуюся схему, заставило бы задеть истинное содержание жизни; но это представило бы уже непо- 11 A. Hauser. The Philosophy of art history. N. Y., 1966, p. 340.
69
средственную угрозу общему оптимистическому выводу, ради которого и сочиняется «массовая беллетристика».
Точно очертив запретные для нее зоны, А. Хаузер, однако, этой вот жизнерадостности «китча» явно недооценил: он весь как раз и построен на каменной уверенности в том, что «этот мир есть лучший из всех возможных миров».
Именно за этот мир, за его государственные и моральные установления, доблестно сражается во Вьетнаме сын Лукаса Гуерина — возвращаемся к роману Коппела — Макс. Вот он, в представлении романиста, герой без оговорок, защищает здоровое американское общество от посягательств «внутренних и внешних врагов». «Внешние»—это, понятно, коммунисты, о них автор не раз отзывается с самой неприкрытой злобой (вообще мотив антикоммунизма вновь и вновь, почти непременно, возникает в конформистском романе,— подробно написал об этом Я. Засурский в своей брошюре «Антикоммунизм и литература США» 1). «Внутренние» же — это главным образом студенты, бунтующая молодежь. В финале романа происходит весьма примечательный диалог между Лукасом Гуерином и юным радикалом, участником одной из многочисленных антивоенных демонстраций — Ларри Беллоу. Это не соперничество взглядов и жизненных позиций — скорее игра в одни ворота. Верх, естественно, берет солидный, респектабельный адвокат, да и не удивительно: его оппонент изображен суетливым маленьким человеком, бесконечно напуганным собственным протестом и прикрывающим свой страх напускной бравадой и развязностью; несогласие же его (и, понятно, в его лице всей бунтующей молодежи) выглядит несерьезным, данью случайной и скоропреходящей моде.
Заставив молодого бунтаря поспешно расстаться со своими взглядами, откровенно окарикатурив их носителя, А. Коппел тем самым как бы снимает маскировочные приспособления, им же самим расставленные по всему полю романа, и выдает идею, 11 Я. Н. 3 а с у р с к и й. Антикоммунизм и литература США. М., «Знание», 1972.
60
так сказать, открытым текстом. Идея эта самая дорогая для него — единство поколений в американском обществе, моральная сплоченность Есех американцев под звездами и полосами государственного флага.
«Немножко времени для веселья» (название и само весьма выразительно) — это откровенный гимн среднему американцу, похвала обывателю. Что с того, что действие одной из частей романа разворачивается на фронтах второй мировой войны? Высокие гуманистические цели борьбы народов с фашизмом, трагизм этой борьбы, жизнь и смерть людей на войне не слишком интересуют автора, по существу остаются за кадром. Куда важнее для него то обстоятельство, что именно в эти годы Лукасу Гуери- ну удается освободиться от преследовавшего его образа давно погибшей девушки, его прежней возлюбленной. Женитьба Лукаса, его банальные переживания (получающие не менее банальное словесное оформление) становятся для автора книги главным итогом военной судьбы героя. Боевые же действия американских летчиков — это всего лишь фон, техническое средство, ускоряющее и оживляющее повествование.
Но книга Коппела не только апология среднего сознания. Похоже, автор несколько обеспокоен инертностью соотечественников, он призывает их к бдительности перед лицом «безответственных» нападок «антипатриотов» (все это говорится с предельной серьезностью), демагогически призывающих бороться — ну, скажем, с «ветряными мельницами маккартизма», как их аттестует Лукас Гуерин.
Однако же тут Коппел сделал, кажется, лишний шаг, пересек черту, за которой могут утратить действенность все те усилия, которые он положил на создание атмосферы жизненности происходящего. Уж слишком низки сейчас моральные кредиты покойного Джо Маккарти, не говоря уже о моральных кредитах войны во Вьетнаме, чтобы потребитель, к которому апеллирует романист, легко согласился с его инвективами и призывами.
Роман Коппела, разумеется, совсем не оригинален: подобно бесчисленным своим двойникам он,—
61
только слегка зашифрованно — выполняет социальный заказ идеологов буржуазного общества; эстетическим инструментом (конечно, надо иметь в виду всю условность термина) выполнения заказа служит внешняя натуральность происходящего, уравнение героя в правах с читателем, принципиальная безыдеальность персонажей.
В то же время — хоть роль их в общей системе «манипулирования» далеко еще не исчерпана — сочинения подобного типа все заметнее в последние годы утрачивают свое ведущее положение в огромном массиве «китча». Причина же в том и заключается, что они, лишь «слегка зашифрованные», слишком все-таки очевидны, слишком явно в конечном счете обнаруживают свою сверхзадачу — «промывание мозгов» обывателю, моральное давление на массы, слишком откровенно выполняют свою функцию «сдерживания» тех отрицательных эмоций, что вызывает у человека повседневная практика «общества насилия».
Роман А. Коппела служит, так сказать, средством прямой пропаганды. В этом же качестве (только еще более легко обнаруживая свою природу) выступают сочинения антикоммунистического и антисоветского толка. Бессильные противопоставить коммунистическому идеалу достойную социально-духовную альтернативу, буржуазные идеологи становятся на путь дезинформации, фальши, а то и прямой клеветы. Социалистический образ жизни, духовный облик человека нового мира, его культура представляются обывателю в неузнаваемо искаженном виде.
И снова наряду с проверенными средствами массовых коммуникаций широко используется беллетристика. Не буду перечислять названия книг и имена авторов, занимающихся производством подобного рода сочинений. Вот что, однако же, любопытно: престиж их в глазах читающей публики заметно падает, во всяком случае, сейчас трудно уже выделить фигуру, которая бы имела такую же популярность, какой еще десять лет назад пользовался Аллан Друри, признанный лидер антикоммунистической беллетристики в США. Не видно и нового Джеймса Бонда.
62
Ощущается острая потребность в более тонких, более деликатных инструментах пропаганды. На смену топору зачастую приходит циркуль-рейсфедер.
...Джеймс Болдуин, знаменитый негритянский прозаик, публицист, драматург, называет современное американское общество «сексуально помешанным».
Не менее знаменитый писатель, Норман Мейлер, утверждает, что в его стране «чуть ли не весь быт построен на сексуальных символах».
Ванс Пакард издает книгу под названием «Сексуальные дебри», а Э. ван денХааг свидетельствует, что «даже секс ныне в широких масштабах социализируется и обесчувствливается».
Что же причиной тому?
Внезапное и катастрофическое падение нравов?
Но пуританская мораль, во всяком случае на официальных кафедрах Америки (а США вполне могут служить символом общей ситуации), продолжает утверждаться в качестве высокой добродетели, семейные узы продолжают почитаться священными, и, скажем, известный мультимиллионер Нельсон Рокфеллер потерял всякие шансы в президентской кампании 1960 года потому, в частности, что незадолго до того развелся с женой.
Может быть, дело в какой-то особой распущенности молодежи?
«Во Франции цензура ныне действует не в прямой, открытой форме, а более изощренно, не допуская те или иные произведения на радио и телевидение и тщательно оберегая монополию над средствами массовой информации. Могу сослаться, в частности, на молчание прессы по поводу целого ряда прекрасных книг. Не говоря уже о тех вполне достойных произведениях, которые валяются в запасниках или просто пускаются под нож».
Клеман Лепидис (Франция)
63
Но эскалация эротизма задела не только ее — q6 этом вполне наглядно свидетельствуют упомянутые социологические исследования.
Предположим наконец, что виною всему отмена цензуры на порнографию — будь то киноленты, которые рекламируются на Бродвее под тремя звездочками (знак «гиперсексуальности»), или открытки определенного содержания. Но то и другое, как мы сейчас увидим, является следствием, а не причиной «сексуальной революции».
Причина же заключается все в том же — в растущей неуверенности человека буржуазного общества, в отчужденности его, утрате истинных ценностных ориентаций. В такой общественно-психологической атмосфере «секс рассматривается,— по словам советского социолога И. Кона,— как важнейшая сфера индивидуального самоутверждения, как последнее убежище человека в обезличенном, стандартном мире» К
Это своего рода рубеж свободы, взыскуемый человеком в условиях насквозь регламентированной системы, последняя попытка освободиться от власти механизмов «манипулирования».
Но и эта свобода иллюзорна. Стены «убежища» размываются, и оно становится шумным перекрестком, доступным многообразным внешним влияниям. Секс приобретает своего рода общественно престижное значение, интегрируется в общую систему «массовой культуры». Дело тут не только в давней традиции извлечения коммерческой выгоды из показа обнаженного тела — срабатывают более общие тенденции развития современного буржуазного общества. «Рост эротизма... — пишет И. Кон,— отражает... процесс перемещения личных идеалов из сферы труда и производства в сферу досуга и потребления» 1 2.
Порнографические картинки, стриптиз — это только внешние сигналы такого перемещения. В известном роде таким же сигналом служит и «сексу-
1 И. Кон. Секс, общество, культура.—«Иностранная литература*, 1970, № 1, с. 248.
2 Т а м же.
64
альная беллетристика», занимающая внушительную часть общего объема «китча».
В романах Жаклин Сьюзен («Машина любви» и «Долина кукол»), Генри Саттона («Эксгибиционистка» и «Соглядатай»), Терри Сазерна и Мэйсона Хоф- фенберга («Кэнди») — романах, прочно удерживающих читательский интерес,— описанию любовных переживаний и опыта героев и героинь уделено, прямо скажем, немало места. А автор «Соглядатая» выступает даже принципиальным, воинствующим поборником свободы секса, оберегающим ее от посягательств тех, кто хотел бы вернуть общество в «до- сексу альную эру». Герой повествования Ирвин Кейн, редактор и издатель журнала «Томкэт» (сильно напоминающего вполне реальный «Плейбой»), отбиваясь от обвинений в пропаганде безнравственности и пробуждении в людях низменных инстинктов, заявляет, что «его журнал помогает читателям освободиться от предрассудков и ограничений». В более же развернутом виде программа героя запечатлена в анонсе задуманной им серии сексуальных романов: «Вышибить еще несколько кирпичей из фундамента уродливой, тлетворной викторианской морали! Утвердить в правах старую здоровую идею, что секс может быть развлечением — живым и красочным. Позабавить психически здорового читателя, способного по достоинству оценить земную атмосферу чувственности, царящую в произведениях Чосера, Боккаччо, Аполлинера! А робких, испуганных, всего на свете опасающихся — немного встряхнуть, помочь им освободиться от власти ограниченных норм литературы прошлого поколения».
«Соглядатай» написан скверно, ситуации его стереотипны и герои тоже. Читать роман просто скучно, а пространно рассуждая о нем, рискуешь поставить себя в смешное положение человека, попусту тратящего полемический пыл.
Но в том-то и дело, что «массовая беллетристика» при всей своей видимой легкости, чистой вроде бы развлекательности в культурной ситуации нынешней Америки вырастает в серьезную, я бы сказал, мучительно серьезную, проблему.
Конечно, популярностью своей «китч» в немалой степени обязан той безудержной свободе, с которой
3 Сборник статей
65
авторы его обращаются с человеческим телом. Но все-таки порнография — это, повторяю, только внешний, поверхностный слой, как бы приманка, возбуждающая читательское любопытство. По сути же «масовая беллетристика» и в этом своем, сугубо не политическом, потребительском обличье тоже выполняет социальный заказ правящего класса, хотя, надо полагать, ни автор, ни издатель этого, как правило, не осознают. Тут придется сделать небольшое отступление — в область движения и культуры «новых левых»; надеюсь, впрочем, это отступление поможет точнее понять тенденции культуры «массовой».
В ходе «сексуальной революции», как было сказано, человек стремится осуществить последнюю, обманчивую и бессильную, надежду утвердить в условиях буржуазного общества свою независимость, отвоевать право на свободу. Не удивительно поэтому, что символы и практика «сексуальной свободы» столь глубоко проникли в молодежное движение,— для «новых левых» это способ шокировать «молчаливое большинство» Америки, нарушить инертность чувств его и мысли, бросить вызов бужуазным стандартам, это одна из форм тотального протеста, которым и живет, собственно, движение молодежи. Немало верного у нас написано и о безысходности, и даже о потенциальной общественной опасности, которой чреват подобного рода револю- ционаризм. Но неправильно было бы при этом упускать из виду, что сами-то бунтари воспринимают свой протест, в том числе и «протест сексом», весьма искренне и беззаветно. С такой же искренностью он предстает перед нами и в ликах «контркультуры» — эстетического выражения многообразных, противоречивых и движущихся потоков «нового левого» движения.
Я видел спектакль «Performance Group», одного из студенческих театральных коллективов Америки, руководимого известным практиком и теоретиком «подземного театра» Р. Шехнером. По ходу действия актеры часто обнажаются, но обнаженное тело тут призвано было сыграть роль психологического шока, выводящего зрителя из состояния покоя и созерцательности. С другой стороны, обна¬
66
женность являла в спектакле некий символ природной чистоты и неиспорченности, противопоставляемой моральной коррупции нынешнего мира. В центре сценической площадки было сооружено подобие бассейна, в который исполнители время от времени погружались, дабы очиститься от мировой скверны, а скверна эта материализуется в сценах насилия, происходящих в самой Америке, в бомбежках беззащитной вьетнамской деревушки.
Бессилен такой протест, наивен? Конечно. Но — повторяю — сами-то исполнители (а участники спектакля — это те же участники жизни, ибо искусство «новых левых» — откровенно прямая проекция самой действительности, мера условности здесь почти неразличима) осуществляют его с большой искренностью.
Однако ведь знаем же мы, что в течение нескольких лет на Бродвее, этой давней и безраздельной территории коммерческого театра, шел боевик под названием «О, Калькутта», почти целиком построенный на демонстрации обнаженной натуры. Только здесь уже никакой серьезности, никакого протеста, естественно, не было. Была — беззастенчивая и грубая апелляция к низменным инстинктам публики, расчет на неразвитый вкус.
Было также и нечто иное, и тут-то мы и возвращаемся к предмету разговора — к «массовой культуре». Для подавления гражданского недовольства, когда оно принимает формы, опасные для существующего порядка или кажущиеся таковыми,— хорошо памятны еще демонстрации против войны во Вьетнаме, движение за гражданские права,— власти применяют жестокую силу; об этом пронзительно написал Н. Мей л ер в своей книге «Майами и осада Чикаго» : «Затем перед самыми окнами отеля «Хилтон» на остановленную, окруженную демонстрацию обрушились полицейские. В ход были пущены слезоточивые газы и дубинки. Полицейские вгрызались в толпу, словно циркулярная пила в дерево, причем зубьями этой пилы служили дубинки».
Но существуют и иные, мирные, что ли, и не менее, а может быть, ц более действенные способы
3*
67
подавления общественного недовольства. Полицейские дубинки, слезоточивый газ, кровь, тюремные камеры — страшно, но на все это молодежь шла: борьба есть борьба. Это героизм, это самопожертвование. Но чаще все происходило не столь драматично. Безжалостно выхолащивалось истинное, принципиальное содержание социального протеста, оставлялась одна лишь видимость, даже хуже — рекламная оболочка. Использовались телевидение, кино, портрет в половину газетной полосы: бунт размывался, популяризировался. И вот публика уже начинала забывать, что Марио Савио возглавлял бунтующих студентов университета в Беркли,— остались только громкое имя да колоритная внешность. Что там мартовские (1968 г.) беспорядки в Нантере, когда Даниэля Кон-Бендита, лидера бунтующей молодежи во Франции, интервьюирует сам Сартр и за беседой наблюдают миллионы телезрителей. Сладкий гнет славы был искусителен — и вот уже Руди Дучке, признанный вождь западногерманских студентов, тоже охотно раздает интервью, позирует перед телекамерами.
Таким образом, происходит просто приращение к многоликому образу Героя: к силуэтам, допустим, Мерилин Монро и Жаклин Кеннеди, тренера преуспевающей футбольной команды и владелицы модного салона, добавляются новые черты и черточки.
Вот как описывает механику подобных превращений американский историк У. О’Нил: «Расширение зоны распространения средств массовой информации имело роковое воздействие на многие движения 60-х годов. Никто сегодня — и знаменитость завтра, и вновь никто послезавтра — таков был обычный цикл. Что стало с Марио Савио, Бертиной Аптекер (деятельницей «нового феминизма» — «Women’s Lib». — Я. А.), Стокли Кармайклом (автором концепции неопанафриканизма. — Я. А.) и другими? Упоенный чувством силы сегодня, сброшенный с пьедестала славы завтра — media дает, и media берет обратно. Они ушли на свалку поп-культуры вместе с записью вчерашней телепередачи» 1
1 William О* Neill. Coming apart. An informal history of America in the 60s. N. Y., 1972, p. 199.
68
Конечно, свою роль — вовсе не малую — сыграли тут социальные изъяны многочисленных бунтов минувшего десятилетия. В ходе борьбы за гражданские права выявились дробность, непримиримые подчас противоречия негритянского протеста, изолированность его от других демократических движений. Что касается «новой левой», то с самого начала слишком много поставила она на принцип радикального отрицания всего и вся, не было сколько-нибудь внятной позитивной программы. Но поучительны та ловкбсть, гибкость, умелость, с какими «массовая культура» воспользовалась этими слабостями. Опять же телевидение и вообще mass media были тут пусть и наиболее действенным, но вовсе не единственным способом нормализации протеста. Словесное творчество тоже использовалось в полную меру, сочинители-беллетристы не дремали. То, что в каждом отдельном случае — в одной, другой, десятой книге,— предстает перед нами в виде элементарной порнографии, незаметно организуется в общую идеологическую систему усреднения человеческого сознания, размывания отрицательных эмоций.
Хипстеры, «белые негры», пытаются шокировать обывателя видом непристойности, бросают тем самым вызов его морали, но под пером автора бестселлера этот вызов безнадежно компрометируется, ибо представляется читателю нормой быта. Героиню романа Г. Саттона «Эксгибиционистка» соблазняет мачеха, а на вопрос падчерицы (тоже отнюдь не Золушки, между прочим), не совершают ли они чего недостойного, отвечает: «То, что делается с нежностью, страстью и любовью, не может быть дурным. Дурны только злоба, холодность, жестокость». Аналогичный сюжет возникает и в романе Ж. Сьюзен «Долина кукол» — и там тоже извращения изображены как нечто такое, что не вызывает ни возмущения, ни особого восхищения, да, впрочем, и особого возбуждения участников. Нормальное дело. Своего рода гимнастика, что ли.
Известно, сколь опасные масштабы приняло ныне в США употребление наркотиков. Обманный мир, возникающий в грезах наркомана, как бы возвра¬
щает ощущение утраченной независимости. Но в рамках «массовой культуры» и это — крайнее, больное — средство борьбы за индивидуальную свободу превращается в расхожий элемент «среднечеловеческого », повседневно-нормального существования. «Куклы», обозначенные в названии романа Ж. Сьюзен,— это и есть различного сорта барбитураты, которые в непомерных количествах поглощают персонажи книги — кинозвезды Нили О’Хара и Дженнифер Норт. Перед нами тут, однако, даже нечто большее, нежели просто возведение' наркотика в норму быта,— тут своеобразный гимн опиуму как универсальному средству решений всяческих проблем (в основном любовных, конечно). Все беды главной героини романа — Анны Уэллс — проистекают, оказывается, оттого, что она пренебрегает «куклами»: моральный стоицизм может дать трещину, но секо- нал не подведет никогда. Завершается роман нотой обретенного покоя: «Отныне ее уже ничто не сможет ранить всерьез. Днем она всегда найдет себе дело, а ночами — одинокими ночами — ей неизменно будут сопутствовать прекрасные куколки».
Лондонская «Санди телеграф» следующим образом аттестовала «Долину кукол»: «Своим романом Жаклин Сьюзен весело шокирует миллионы американцев». Точная характеристика: если недовольные шокируют (стремятся шокировать) обывательскую публику отчаянно, то авторы чтива шокируют ее действительно «весело».
В конце 60-х годов в движении студенческого активизма в Америке выделилось еще одно направление, приверженцев которого назвали «новыми новыми левыми». Они отказываются от радикального экстаза своих предшественников и переходят к более умеренным, более «тихим» формам протеста. Силуэт противника видится уже не в обличье «репрессивного общества» в целом; главным врагом объявляется железо, машина, система технократии. Способ оппозиции ей не нов — проповедь девственной чистоты природы, призыв к размежеванию с техникой, к созерцанию глубин, сосредоточенных в человеческом духе. Недаром в среде «новых новьщ
7Q
левых» активно возрождается ныне интерес к
восточным религиям, особенно к дзен-буддизму. И в истории собственной культуры отыскиваются соответствующие явления и имена — уолден- ский эксперимент Торо почитается едва ли не образцом.
Очевидно, сколь ничтожно малую угрозу может нести установленному порядку подобная идеологическая концепция. Однако и она попадает в сферу влияния « массовой культуры», приближаясь к средним стандартам мысли и поведения.
...Молодой, энергичный, преуспевающий, вполне американский коммерсант по имени Байрон Фалко- нер отправляется в Канаду с заданием организовать в небольшом городке филиал нью-йоркской фирмы по производству кассовых автоматов. Так завязывается сюжет романа Д. Гуомо «Прапраправнук героя». Прибыв к месту новой службы, Байрон вдруг пронзительно остро ощущает тщету своих стремлений к карьере и богатству. Перед его внутренним взором возникает «жуткое видение Нью-Йорка с его шумом и насилием, с его громыхающим транспортом и людьми, исходящими потом, прокладывающими себе путь локтями, с его пьяницами и попрошайками, с его детьми, вступающими в жестокие потасовки друг с другом в парках». И такой «мягкой, тихой, соблазнительной» кажется ему по контрасту Виктория (название города): «Это был зеленый город, город деревьев и опрятных садов, за которыми ухаживали стройные — ни грамма лишнего веса — мужчины и женщины».
То, к чему с такой смертельной самозабвен- ностью, отказываясь принять стандарты общества, обрекая себя на существование изгоев, стремятся и чего не могут достичь молодые люди,— покой, свобода,— вполне легко и комфортабельно достается герою «массового» романа. В райские кущи доставляет его современный лайнер, живет он вовсе не в хипстер- ской общине, а в весьма удобных апартаментах, те самые автоматы, которые ассоциируются у него с неподлинной жизнью, аккуратно отщелкивают ему внушительную зарплату, несмотря на то что он явно пренебрегает своими служебными обязанностями.
71
Поставленный в такие условия герой, конечно, может позволить себе роскошь таких примерно рас- суждений: «Чем достаются деньги мира как не воровством, обманом, надувательством, игрой с различного рода законами и моральными установлениями? Сначала не было денег, были только земля и море. Теперь появились деньги. Доллар вездесущ. Должно быть, он возник в порах самой земли и проложил себе путь, чтобы достаться сильным и удачливым, неразборчивым в средствах, а порой и тихим и кротким, молодым и растерянным». К последним, надо полагать, принадлежит и Байрон Фалконер, богатый мнимобунтарь.
Совершенно благополучна в своем неприятии родительского богатства и девушка по имени Дениза, представляющая собою уже чистую пародию на участников молодежного движения,— она даже предпочитает обитать не в роскошной усадьбе своего отца, а в лесной избушке на пустынном берегу озера, вполне приспособленной, правда, для уютного быта. Она и наркотики принимает, и даже совершает попытку самоубийства. Естественно, в последний момент наш герой ее спасает.
Однако идейное содержание «Прапраправнука» не исчерпывается пародийными мотивами. Как бы в назидание «антиобщественному» поведению некоторой части американской молодежи, Д. Гуомо вводит в повествование ненавязчиво, но все-таки достаточно четко обозначенную тему созидательного действия. Похоже, что герой отказывается от прежней работы именно потому, что она была связана с противным человеческой природе машинным производством. Но зато со всей страстью, чисто американской (подчеркивает автор) энергией отдается он новому делу — организации грандиозного туристского комплекса в диких просторах Западной Канады. Правда, первая вылазка на место будущего лагеря оказывается неудачной: природа сопротивляется вторжению человека. Но эта неудача только пробуждает у героя новые порывы, новые стремления: «Тебе все же повезло, ибо ты вернулся к земле, все еще мечтая о золотых россыпях, о приключениях, о разнообразных возможностях».
72
Остаются, правда, разные вопросы: вот, например,— кто будет обеспечивать материальное благополучие героя (а отказываться от него он вовсе не хочет) во время его романтической борьбы с природой? Или посерьезнее — как согласуются личные устремления Байрона Фалконера с общим благом его соотечественников? И в чем все-таки оно, благо это, заключается? Но такого рода вопросы, по цитированным уже словам А. Хаузера, «считается неуместным рассматривать или даже затрагивать».
В редакторском предисловии к известной книге М. Маклюэна «Познавая средства коммуникации» сказано: «Автор, желающий добиться успеха, может позволить себе риск не более чем десятипроцентной новизны своей книги» !. К «массовой беллетристике» это наблюдение приложимо в полной мере, только ее авторы чаще предпочитают не рисковать вовсе.
С прапраправнуком мы познакомились. Кто же был прапрапрадедом, кто был героем? «Грубый, безграмотный парень по имени Даниэль Фалконер, который сопровождал Даниэля Буна в лесах Кентукки, и с тех пор для каждого нового поколения Фал- конеров эти времена вновь открываются и возрождаются во всей их торжественности».
Даниэль Фалконер здесь фигура совершенно условная и необязательная. А вот другой Даниэль — реально существовавший Даниэль Бун — появился в книге не случайно. Дабы на этот счет не оставалось никаких сомнений, автор повторяет это имя вновь и вновь, выделяя его в тексте курсивом.
Зачем понадобился тут этот герой американской истории, поднявшийся на волне освоения пустынных земель Запада?
А затем и понадобился, что с его именем ассоциируется идеальное представление об американце — сильном, не страшащемся трудностей, своими руками добывающем себе счастье и удачу парне.
Есть в английском языке слово «frontier», по- русски— «граница». Этим словом в свое время обоз* 11 М. McLuhan. Understanding Media: The extentions of man. N. Y., 1968, p. 7.
73
началась подвижная, все время отодвигавшаяся дальше на запад черта, за которой оставались свободные земли. В какой-то момент (по свидетельствам историков, это произошло еще в конце прошлого века) черта естественно совместилась с океанским побережьем: неосвоенных пространств не осталось. Но осталось, не умерло другое, то, что не измерить милями и гектарами: «граница» как психологический комплекс, граница как символ американского первооткрывательства, мужества, упорства в достижении цели. К этой психологической реальности и апеллирует автор «массового» романа. Расчет точный — степень читательского доверия к той безвкусной и насквозь ложной истории, которую поведал Гуомо, должна повыситься.
Таким образом, появляется возможность сформулировать нечто вроде эстетического закона «массовой беллетристики»: она паразитирует, извращает, перетолковывает на собственный лад и в собственных целях реальные тенденции общественной жизни страны, притом тенденции, имеющие близкое, кровное, мучительное порой отношение к индивидуальному бытию человека.
Маскируясь более или менее умело под самое жизнь, «китч» в то же время маскируется под литературу; при этом также используются ситуации и образы, завоевавшие — по праву — наиболее широкую читательскую популярность.
Писатели «потерянного поколения», запечатлевшие в своих произведениях трагический нравственный итог первой мировой войны, единственное прибежище для своих надломленных, утративших веру в былые идеалы героев видели в заповедной области любви. Иллюзию возможности «сепаратного мира» Фредерику Генри, герою «Прощай, оружие!», дарят недолговечные минуты счастья вдвоем с Кэт Баркли. А Олдингтон в романе «Все люди — враги» даже описывает придуманный им островок Эа, где обретают покой покалеченные, смятые войной Тони и Ката.
Предельно огрубляя эту ситуацию, безжалостно выхолащивая истинное ее содержание, уже известная нам Ж. Сьюзен сочиняет историю любви Анны
74
Уэллс, девушки, заброшенной судьбою из провинциального городка Новой Англии в бешеный безнравственный мир «шоу-бизнеса», к некоему Лайону Бурке, драматургу, продюсеру, светскому льву. Эта любовь, по замыслу автора, своей искренностью и бескорыстностью (в какой-то момент Анна даже оказывает тайную — дабы не оскорбить — материальную помощь своему возлюбленному) должна противостоять распущенности нравов, безумной жажде успеха, царящим в мире киноиндустрии. Разумеется, переживания героини совершенно мнимы,— какие тут переживания, когда сама же романистка прямо пишет: «Зазвонил будильник, и Анна проснулась с привычным ощущением благополучия». Такая откровенность, однако, вовсе не оплошность нечаянно проговорившегося человека. Автор бестселлера (речь тут не именно о Ж. Сьюзен, а о безымянном Авторе) сознательно, полагаю, эксплуатирует знакомую художественную ситуацию, превращая при этом трагедию в мелодраму, душевный надлом героя — в «благополучие».
Удешевление эстетических ценностей преследует, таким образом, ту же цель, что и фальсификация ценностей жизненных.
И поныне не утратила популярности в Америке «Сестра Керри» — история бедной фабричной работницы, ставшей звездой варьете. Г. Саттон, описывая стремительную карьеру юной Мери Хаусман, «эксгибиционистки», явно имеет в виду эту историю, но, конечно, начисто снимает моральную проблематику драйзеровского романа; даже не то что снимает, а словно бы выворачивает наизнанку: писатель- реалист обнажал иллюзорность, враждебность человеку «американской мечты» именно в момент ее кажущегося осуществления — автор «китча» стремится убедить читателя в достижимости и благотворности самых радужных мечтаний.
Наконец, Д. Гуомо в фигуре предпринимателя Отиса Гарви очевидно эксплуатирует сатирическое содержание одного из самых блестящих рассказов молодого Фитцджеральда — «Алмаз величиной с отель «Ритц». Только Фитцжеральд идет до конца: крах сказочно богатого Фитц-Нормана Калперера
75
Вашингтона откровенно символизирует духовную нищету «века джаза», автор же «массового» романа делает лишь микроскопический шажок: пробираясь через поросшие густым лесом холмы к месту будущих отелей и кемпингов, персонаж «Прапраправну- ка» повреждает себе ногу, и эта неприятность, по смелой мысли сочинителя, должна предостеречь его от дальнейших коммерческих набегов на природу.
Выходит, можно формулировать и еще одно общее эстетическое правило «массовой беллетристики» : нормализация, усреднение того, что запечатлелось в читательском сознании в качестве высокого художественного образца.
Но зачем вообще нужна апелляция (пусть и сугубо поверхностная), не идущая дальше сюжетных совпадений, к этим образцам? Ведь «манипулирование», даже и не столь грубо откровенное, как, скажем, у А. Коппела, предполагает как будто прямую, как раз безапелляционную связь с потребителем. В каждом конкретном случае, видимо, играет роль профессиональное честолюбие автора — эстетизация изображаемого входит в условия игры; не обладая талантом и временем («массовая беллетристика» — это ведь прежде всего поток), он и прибегает, безжалостно дробя его, к опыту мастеров.
Но речь здесь не об эпигонстве. В общей системе «массовой культуры» эксплуатация литературной классики является лишь одним из инструментов создания условного мира, подменяющего реальную буржуазную практику, которая все больше обнаруживает свою неспособность удовлетворить духовные потребности людей.
Известный американский публицист Стаде Терпел на своем богатом опыте теле- и радиокомментатора убедился: рабочие конвейерной ленты, домохозяйки, чистильщики обуви, бармены и прочая и прочая расцвечивают свою монотонную жизнь тем, что жадно ловят в толпе лица — просто лица, которые время от времени появляются на телеэкране; эти лица служат для них паролем того жизненного успеха, которым сами они обделены. «Для миллионов безымянных людей,— пишет С. Теркел,— чьи
76
собственные жизни пусты и бессмысленны, существуют суррогаты, заменяющие повседневное их существование... Они, без сомнения, ускоряют бег дня для Дональда, швейцара резиденции Луп-компании, который наблюдает за потоком людей, входящих в здание и выходящих из него. «Ого,— восклицает он, и его монотонный голос оживает,— кто это только что вошел сюда? Я видел этого человека, лицо его мне знакомо». Дональду нет дела, кому принадлежит это лицо — политику, бизнесмену, художнику, ученому; какая разница — он видел его на экране телевидения» !.
При этом то, что сказал тот или иной политик, какое открытие сделал тот или иной ученый, никакой роли тоже не играет,— важен сугубо зрительный образ, свидетельствующий уже сам по себе об общественной популярности человека, не личность важна — важен образ. Тут возникает немало ассоциаций — думаешь о машинерии политических кампаний, в которых знакомые улыбки, жест, профиль кандидата имеют большее значение, нежели содержание его речей, вообще о способах формирования и укрепления в среднем сознании того, что в Америке называют «public image». Да, ассоциаций может быть много, но ограничимся тут одной, имеющей близкое отношение к теме этих заметок.
Придется снова на минуту вспомнить А. Коп- пела. Вот еще почему не вполне удается ему достигнуть поставленной цели: он переоценивает стремление своего читателя увидеть в судьбе героя зеркальное отражение собственной жизни с ее скучными буднями и столь же бесцветными праздниками. Слишком много поставил Коппел на безыдеаль- ность; людям нужен как раз идеал, герой, миф, символ — не слишком отличающийся, правда, от них самих (так, чтобы оставалась иллюзия достижимости), но все-таки и отличающийся, сохраняющий дистанцию.
Такой потребительский заказ требует от сочинителей чтива уже более гибкой и подвижной системы стандартов (хотя, разумеется, тоже имеющей свои 11 «Saturday Review», 1972, September 1.
пределы); обманный мир здесь уже не стремится во что бы то ни стало доказать свою подлинность; она выдерживается лишь до определенной черты, за которой этот мир явно и сознательно обнаруживает свою кажимость, предлагая обывателю «добрую порцию опиума».
Разбирая некоторые характерные образцы «массовой беллетристики», мы больше внимания обращали на ее скрыто репрессивную функцию — приведения к средней норме того, что в реальности выявляет себя как оппозиция буржуазному стандарту. Но те же самые сочинения, нивелируя, «обытов- ляя» одно, в то же время обнаруживают тенденцию к «разбытовлению», денормализации другого.
Парадоксальность этой ситуации, однако, мнима: отказываясь в чем-то от стандартизации быта, «массовая беллетристика» одновременно сводит к достаточно жесткому стереотипу нечто большее — идеал, мечту. Таким образом, осуществляется дальняя цель всей системы «массовой культуры» — создать единообразие не только жизненного поведения человека, но и его вкусов и желаний, создать набор таких сигналов, которые вызывали бы более или менее одинаковые эмоции и реакции.
В рамках подобного социального заказа «массовая беллетристика» особенно охотно обращается к такой общественной среде, в которой сама действительность перемешала черты мира подлинного — неразборчивая в средствах борьба за успех, шантаж, подкуп, легко возникающие и столь же легко рвущиеся любовные связи — и мира ложного, мира с блестящим фасадом, мира идеально эстетизированного. Это, конечно, Голливуд с его постоянно угасающими и восходящими звездами.
В определенных пределах реальность этой среды воспроизводится и в «Эксгибиционистке», и особенно в «Долине кукол». Совершенно натурально изображена у Сьюзен схватка между стареющей звездой театрального ревю Элен Лоусон и ее соперницей, имеющей преимущество молодости, Нили О’Хара. Вполне характерны и злоключения, выпавшие на долю этой последней в Голливуде: хватив, как говорится, через край, она вступила
78
в конфликт со всесильным продюсером и жестоко за это поплатилась: потеряла роль, рекламу, успех.
Не надо, разумеется, думать, как на том настаивает один из рецензентов книги, что здесь действительно обнажается «подноготная шоу-бизнеса». Временные неудачи не сломили энергичную, пробивную Нили, и в финале повествования она снова на коне: былую популярность возвращает актрисе телевидение. Однако не в этом даже дело. В романе ведь изображается только силуэт, дается условный знак, конструируется типовая ситуация. Читателю надо хотя бы для начала дать понять, что речь идет о знакомом,— это, как уже говорилось, общее правило «китча».
«Массовая культура» мифологизирует реальные человеческие судьбы, чеканит застывшие образы вполне реальных людей, талантом ли своим, просто ли удачным поворотом судьбы достигших вершин славы и богатства. Это может быть коммерсант и президент, путешественник и врач, но чаще всего все-таки в этой роли выступает кинозвезда.
Образ Мерилин Монро, одной из самых заметных мифологических фигур новейшей американской истории, буквально растаскан — по чертам внешности, улыбке, цвету волос, привычкам — авторами «массовых» романов. Подобно Мерилин, смертельную дозу наркотиков принимает секс-бомба из романа «Долина кукол» Дженнифер Норт. Несколько
«Культура означает созидание, куль- тура — это полная противоположность войне. Мир является для культуры величайшим благом. Вопреки уроку второй мировой войны реакционеры по сей день проливают кровь, разрушают культурные ценности. Миллионы африканцев поныне вынуждены вести борьбу за свободу, за свою собственную национальную культуру*.
Алекс Ла Г ума (ЮАР)
79
иным способом (вскрывая вены) кончает счеты с жизнью Джилл Джефферсон («Соглядатай*), но и ее злоключения — лишь один из бледных типографских оттисков трагической судьбы знаменитой актрисы.
Наконец «эксгибиционистка» Мери Хаусман (в этом персонаже черты Мерилин сплелись с некоторыми подробностями биографии Брижит Бардо, но это ведь тоже символ) обретает то, чего не удалось достичь прототипу,— покой в лесной глуши Монтаны и ребенка.
Здесь впору вернуться к началу разговора. Воспроизводя, размножая приметы облика человека, ставшего символом, авторы «массового» романа все же не до конца растворяют его в атмосфере повседневности, сохраняют некоторую дистанцию между персонажем и читателем, создают своего рода заповедник идеальности, конструируют образ героя. Эрзац-героя, конечно.
Когда автор «Эксгибиционистки» говорит, что его героине «никогда не приходилось встречаться с людьми, которым нужно было думать о деньгах», он ясно дает читателю понять, что история, им рассказанная, происходит в полуреальном мире. И многочисленные описания кутежей в фешенебельных нью-йоркских ресторонах, где собирается артистическая богема, и роскошные приемы, устраиваемые организаторами кинофестивалей, и самые вознесения и падения кино- и телеидолов — на всем этом лежит заметный отпечаток феерии, иллюзии, не скрываемой, а, напротив, подчеркиваемой авторами.
«Его лицо было знакомо; его имя было известно; он был приманкой, кассовой приманкой, которая заставляет людей покидать свои квартиры для того, чтобы посмотреть на него»,— сказано в «Эксгибиционистке» об отце главной героини — Мередите Хаусмане, тоже популярном киноартисте. Буквально тот же эффект воздействия наблюдал, как мы помним, Стаде Теркел. «Человеку толпы» с его скучным, механическим существованием нужно Лицо в толпе — символ иной, счастливой и беззаботной, жизни.
80
С конечной определенностью это зафиксировано в «Соглядатае». «Джилл Джефферсон,— читаем там,— была воплощением американской мечты». А мечта ведь предполагает нечто отдаленное, чуть таинственное даже.
В анализе неизбежно приходится рассекать единое. Так и тут получилось, что «реальное» в «массовой беллетристике» оказалось отделенным некоторой пограничной полосой от «идеального». На самом деле оба эти сектора существуют нераздельно, легко размыкают свои пределы, взаимно переходя друг в друга.
Как уже говорилось, эта легкость взаимоперехо- дов — рассчитанная: идеал не должен казаться несбыточной химерой.
Процитирую еще раз книгу М. Туровской: в эрзац-герое современного «массового искусства» «слились воедино мечта обывателя о том, чего не бывает, и циничное отношение к этой мечте, и циничное отношение к самому цинизму» 1. Таким образом, средства «массовой культуры» удовлетворяют запросы, уже сложившиеся в среднечитательском сознании, отражают движение вкуса массового потребителя.
Однако же и в этом случае дело не ограничивается простейшей связью: спрос — предложение, и здесь скрыто действуют механизмы «манипулирования» сознанием человека и предпринимается попытка ориентировать его на определенную иерархию жизненных ценностей. Несколько пренебрежительное отношение авторов «китча» к творимому ими же самими пластмассовому миру не просто отражает соответственное отношение к нему потребителя. Не позволяя сфере идеального разрастись непомерно, давая читателю (до известных пределов) понять, что представляется ему только эрзац-герой, «массовая культура»—в своей беллетристической форме — стремится поднять престиж сущего, восстановить у человека этого мира «чувство гордости за проявленную инициативу», об утрате которого пишет В. Пакард.
М. Туровская. Герои «безгеройного времени», с. 94.
Ы
Непрямолинейным, тщательно маскируемым способом ♦ массовая культура» выполняет свою основную задачу — утверждение существующего социального порядка и тех нравственных норм, которые он диктует человеку.
♦ Китч»—не искусство. Подступаться к нему с привычными инструментами эстетического анализа бессмысленно и ненужно. Важнее, как говорилось, другое: понять социальную функцию этого явления в общей системе ♦массовой культуры». Есть и другая задача — определить меру воздействия ♦массового искусства» на прогрессивную, демократическую традицию в литературе развитых капиталистических стран. Традиция эта уходит в толщу истории и, разумеется, жива поныне. Замечательная мысль Ленина о том, что ♦в каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры» \ вполне подтверждается сегодняшней художественной жизнью Запада. Легко перечислить названия книг, театральных постановок, в которых утверждаются высокие нормы человечности, отвергаются клише буржуазного стиля жизни.
Но давайте вспомним и другие, не менее современно звучащие слова из той же ленинской статьи (♦Критические заметки по национальному вопросу»): ♦ ...в каждой нации есть также культура буржуазная... притом не в виде только ♦элементов», а в виде господствующей культуры» 1 2.
В настоящее время, используя новейшие достижения научно-технической революции, эта культура приобрела поистине безграничные возможности распространения. Соответственно усиливается ее давление на подлинное художественное сознание, на демократические элементы культуры. Порой, правда, приходится слышать, что, напротив, под влиянием высокого искусства ♦китч» обнаруживает склонность к ♦утонченности», к повышению эстетического уровня. Так, например, считает уже знако¬
82
1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 24, с. 120.
2 Т а м ж е, с. 121.
мый нам Э. Шилз. И суждение это совершенно ложно. Если «массовая культура» и становится «тоньше», то лишь в том смысле, что совершенствуются методы пропаганды, средства достижения цели. Сама цель остается неизменной — лишение человека свободы волеизъявления. Отсюда ясно, сколь враждебна «массовая культура» подлинному искусству, смысл деятельности которого прямо противоположен — возвышение человеческой личности, активно участвующей в историческом процессе.
Ощутимее, чем в любой иной период своей истории, испытывает сегодня литература Запада тяжелое давление «массовой культуры». Художнику брошен вызов, его талант, мужество, прочность социальной и нравственной позиции подвергаются нелегкой проверке.
В. Молчанов
ЛИТЕРАТУРА УЖАСА И МИСТИФИКАЦИЯ ЧИТАТЕЛЯ
Литература кошмаров — фронтальная атака. Психиатр Д. Гордон: «Книги о малютках, произведенных машинами и одержимых дьяволом, об ужасных юных убийцах и их жертвах заполняют прилавки супермаркетов, аптек, газетных киосков и воображение миллионов читателей». Рынок коммерческой культуры — уничтожение морали. Идеологическая завер- бованность.
Передо мной книга: «Кто есть кто в литературе ужаса и фантазии», Лондон, 1977. Составитель — Майк Эшли. На первый взгляд — обычное справочное издание: краткие биографии четырехсот самых разных писателей из разных стран и разных эпох, начиная с XVIII века и до нашего времени. И составлен сборник вполне традиционно: статьи следуют одна за другой в строгом алфавитном порядке.
Но именно поэтому и бросилась мне в глаза одна примечательная деталь, вызвавшая у меня сначала повышенный интерес к справочнику Эшли, а потом и желание написать эту статью. Вот что я увидел на одной странице. Вслед за краткой биографией английского беллетриста XVIII столетия Хораса Уолпола, одного из основоположников готического жанра, автора знаменитого романа «Замок Отранто», идет заметка о Хью Уолполе, гражданине нашего века, далеком потомке Хораса и тоже авторе (хоть и далеко не столь знаменитом) таинственных и зловещих историй о призраках.
И вот я подумал: чем объясняется эта семейная преемственность, чем вообще объясняется устойчивая традиция литературы ужаса и кошмара в современном западном искусстве?
© «Вопросы литературы», 1979, N° 8.
84
«Дело» Уолполов — всего лишь один из многих примеров этой традиции. В справочнике Эшли можно и не такое найти. В конце прошлого века англичанин Брэм Стокер написал «Дракулу»—роман о вампирах. Так был подан сигнал к вампирному буму в литературе. Но вскоре кровопийцы надоели читателям. И писатели поняли — хватит. И начали приканчивать упырей испытанным народным средством — деревянным колышком в сердце.
Но выяснилось — мерзкие вампиры все-таки бессмертны. Доказал это американец Роберт Лори, поставивший в 70-е годы на книжный рынок бестселлер «Дракула возвращается». За первой книжкой посыпались: «Рука Дракулы», «Брат Дракулы», «Ученик Дракулы» и т. д. У Лори мгновенно обнаружились последователи. Снова книжный вампир- ный бум. И не только книжный, но и кинематографический. В 1978 году на экраны западных стран вышел фильм немецкого режиссера Вернера Херцога «Носферату». Постановщик не скрывает, что заимствовал сюжетную канву и образы из знаменитой киноленты Фридриха Мурнау «Носферату» («Симфония ужаса») выпуска 1922 года. (Кстати, в основе сценария этого фильма лежал все тот же роман Стокера.) Разумеется, новая версия «Носферату» не во всем повторяет старую, и об этом еще пойдет речь впереди, но сейчас важно другое: на рынок коммерческого искусства выбрасывается все больше и больше книг о дьяволах, фильмов о вампирах, телепередач об инопланетянах, соединяющих в себе признаки дьяволов и вампиров... Словом, художественное производство кошмаров и ужасов работает на полную мощность. Оно успешно конкурирует с научной фантастикой — этим баловнем литературы послевоенного периода.
Свидетельство тому не только справочник Эшли. Он капля в море современной инфернальной фантастики и литературы о ней. Гораздо большее впечатление производят издания, подобные восьмитомной «Большой антологии фантастической литературы». Каждый том отведен какой-нибудь одной сверхъестественной особи: призракам, чертям, оборотням и т. д. Собрано, как утверждают составите-
85
ли, все лучшее, что было написано о сказочной нечисти за последние три века.
Казалось бы, кому интересно читать об этих примелькавшихся за столько времени страшилищах? Неужели можно сравнивать бесов и ведьм с антигероями научной фантастики, порожденными изощреннейшим творческим воображением? И вполне закономерен вопрос, который сам себе задает один из рецензентов мистического восьмитомника: «Не является ли эта антология посмертным изданием, похоронами фантастики по первому разряду?» И тут же отвечает: «Нет, речь скорее идет о пышных ритуальных похоронах бессмертного существа, которое рано или поздно восстанет из мертвых» х.
Уже восстало, ожило и процветает. Только почему? Кто обрызгал страховидный труп живой водой? Это я и хочу выяснить.
Теперь дело за методом. Какой метод исследования выбрать? Больно уж сложное, многоаспектное, комплексное явление — эта мистика. Комплексное... Метод сам собой напрашивается — комплексный. Говорят, будто он чрезвычайно перспективен. Вот я и решил придумать свой, так сказать, «карманный» комплексный метод. Пусть войдут в мою синтетическую артель герои моей статьи: авторы демонических сюжетов, социологи, литературоведы, психиатры и вдобавок мистификаторы, шаромыжники, ловко спекулирующие на суеверии и простодушии своих сограждан (много таких развелось на Западе за последнее время). Не хочу особенно окрылять себя надеждой, но кто знает: быть может, они помогут мне разобраться в комплексной природе художественной чертовщины.
ДЕМОНИЧЕСКИЙ жанр
Прежде всего необходимо выяснить: что же такое литература ужаса и кошмара, или, как ее еще называют, «фантастическая литература»? Каковы ее функции и особенности? 11 ♦Fiction», 1978, № 289, р. 163.
86
Для этого пока что можно вполне обойтись без групповых усилий. Известный французский литературовед Цветан Тодоров не причисляет себя к сторонникам комплексного метода и тем не менее предлагает в своей книге «Введение в фантастическую литературу» оригинальное определение фантастического. В качестве примера Тодоров берет роман французского писателя-мистика XVIII века Жака Казота «Влюбленный дьявол». Главный герой женат на особе, которая на поверку оказывается дьяволицей. Супруг, скептик и материалист по убеждениям, верит и одновременно не верит своей подруге, которая, надо отдать ей должное, чистосердечно признается в своей принадлежности к адскому племени. Раньше он начисто отрицал существование бога, дьявола, всяческой нечисти, а теперь выяснилось, что зря. Несчастный мучается и гадает: сон это или явь, грежу я или чувствую?
В этой психологической головоломке, в этом колебании и заключено, по мнению Тодорова, ядро фантастического. «В мире, в котором мы живем,— замечает он,— и в котором, как нам известно, нет дьяволов, сильфид, вампиров, происходит вдруг событие, которое невозможно объяснить с помощью известных нам законов. Тот, кто становится свидетелем этого события, должен выбрать одно из двух возможных решений: или это иллюзия, игра воображения и (физические. — В. М.) законы остаются незыблемыми; или событие действительно имеет место, является интеграционным элементом реальности, но в таком случае эта реальность управляется законами, неизвестными нам» !. Читатель, подобно герою «Влюбленного дьявола», должен под воздействием фантастического текста колебаться, сомневаться в подлинности окружающего мира: «Фантастическое основывается на колебании читателя, который идентифицирует себя с главным персонажем — относительно природы того или иного странного события» 1 2.
Но возникает вопрос: а разве может колебаться таким вот образом современный читатель, человек
1 Т. Т о d о г о у. Introduction a la litterature fantastique. Р., 1970, р. 29.
2 Т а м ж е, с. 165.
87
сегодняшнего донельзя рационального общества? Разве могут волновать его мистические сюжеты? Оказывается, да — могут. Тут я ссылаюсь на исследование, проведенное двумя американскими священ- никами-социологами — Эндрю Грили и Уильямом Маккриди. Они решили выяснить, до какой степени дошло «заражение» их сограждан мистическими настроениями. Результаты социологического анализа потрясают: в среднем четверо из десяти американцев были в течение своей жизни свидетелями чуда, таинственных потусторонних явлений. Одному привиделся ангел, другому — черт, третьему — призрак, закутанный в простыню, четвертому — летающее блюдце с инопланетянином. Словом, каждый четвертый американец, если верить социологам,— мистик. А мистик — это «неврастеник», «псих в начальной стадий», «неспособный идентифицировать себя с реальным миром и потому бегущий в мир собственного изобретения» !.
Для такого индивида фантастическая литература — целебный бальзам. Она, как выразился составитель «Большой антологии фантастической литературы» Жак Гуамар, «примиряет современного цивилизованного человека с его воображением, его подсознательным» 1 2.
Но зачем искать человеку забвения в адской фантастике? Что заставляет его добиваться общения с демонами и вампирами? Ответ на этот вопрос дали в свое время основоположники научного коммунизма: издавна (и по сей день) высшие классы насаждали (и насаждают) в эксплуататорском обществе «множество средневековых традиций, религию... суеверие, спиритизм,— словом, всю эту чепуху, которая непосредственно не мешала коммерческим делам, а сейчас весьма пригодна для оглупления масс» 3.
Заметную роль в системе такого массового оглупления буржуазная идеология отводит фантастической литературе и искусству. Им доверяется особая
1 «The New York Times Magazine», 1975, January 26, p. 16.
2 «Fiction», 1978, № 289, p. 164.
3 К. Маркс иФ. Энгельс. Соч., т. 36, с. 490,
88
функция: оглупляющего развлечения или развле¬
кательного оглупления — смысл один и тот же.
В книге Тодорова немало интересных наблюдений, находок, оценок. Однако он ошибается в своем определении социальной функции фантастической литературы. Дескать, сводится она к следующему: образными средствами этой литературы пользуются для описания тех явлений окружающей действительности, которые почему-либо неудобно изображать реалистически. «Функция сверхъестественного,— уточняет Тодоров,— заключается в том, чтобы сделать текст безупречным с точки зрения закона, и даже обойти его» *. Какой это закон? В некоторых западных странах писателю юридически запрещено касаться определенных тем: некрофилии, коллективной любви, гомосексуализма... Вот литераторы и подставляли в таких случаях эпизоды шабашей, вампирного кровопускания, дьявольской одержимости. Кроме внешней, казенной цензуры, есть еще цензура «внутренняя». Она гнездится в коре головного мозга каждого автора, бдительно следит за полетами его фантазии, не дает слишком далеко залетать.
Итак, если верить Тодорову, фантастическая литература есть средство своеобразного обхода общественных табу, эзопов язык, с помощью которого писатель выражает затаенные в глубинных сферах его души звериные инстинкты, маскирует различного рода явления, позорящие род человеческий, уподобляющие его стаду четвероногих скотов.
Возможно, рассуждения эти вполне справедливы по отношению к литературной практике двух предшествующих столетий, когда действительно откровенно эротические темы находились под запретом. Но сегодня подобные запреты существуют только на бумаге. Никто не обращает на них серьезного внимания. Эротики в современной западной литературе, в том числе фантастической, хоть отбавляй. Да и сам Тодоров это признает: «Приход психоанализа уничтожил табу» 1 2.
1 Т. Т о d о г о V. Introduction a la litterature tique, р. 167.
2 Там ж е, с. 168—169.
fantas-
90
И тут французский ученый, чувствуя, вероятно, насколько шатко его определение социальной функции фантастики, неожиданно заявляет: «Психоанализ заменил и даже сделал бесполезной фантастическую литературу. Сегодня не нужно звать на помощь дьявола, чтобы выразить нестерпимое сексуальное желание, или вампиров, чтобы изобразить пата логическое влечение к трупам » *.
Но фантастическая литература существует. И психоанализ никакого заметного урона ей не нанес, наоборот— «обогатил». Дьяволы и вампиры по- хозяйски обосновались в мире прекрасного и вытворяют там самые фантастические безобразия.
КОМПЛЕКС ДЬЯВОЛА
Сравнительно недавно в США был издан сборник повестей под названием «Залог дьявола: одержимость и экзорсизм пяти ныне здравствующих американцев». Сюжеты этих страшных, жестоких, но в конце концов «душеочистительных» историй (заимствованных, как уверяет читателя автор Мала- чи Мартин, прямо из жизни) объединены образом нахального и похотливого дьявола. На какие только трюки он не идет, чтобы помешать хорошим людям жить чисто и благопристойно. Марианна, сугубо положительная девица, студентка католического колледжа, вступает по неопытности и наивности в разнузданную любовную связь с дьяволом. Козлоногий совращает смирного и обаятельного священника, любителя живописи и поэзии. Ничто, никакие соображения гуманности не останавливают сатану: он забирается внутрь женоподобного парня Ричарда в момент сложной транссексуальной операции, которая должна была, по замыслу врачей, закончиться превращением пациента в нежную девушку Розу. Но у нечистого свои планы: он хочет соорудить в одной телесной оболочке два начала — мужское и женское, переплюнув таким образом господа бога.
Героиня романа другого американского писателя — Грэхема Мастертона — «Производитель ужа- 11 Т. Т о d о г о V. Introduction к la litterature fantas- tique, р. 169.
сов» замечает быстро развивающуюся на теле опухоль. Она, понятно, в панике: рак, смерть! Но в один прекрасный день дынеобразная опухоль лопается, и выскакивает оттуда маленький демон в костюмчике индейского вождя, с луком и томагавком. Он явился в мир, чтобы отомстить белым, поработившим вольных детей прерий. Что и говорить, цель благородная. Но чаще всего литературный лукавый, забираясь в человека, одержим нехорошими намерениями.
. Проникновение в человеческое нутро не столько любимая метода дьявола, сколько испытанный прием писателей-фантастов, особенно современных. Французский беллетрист Ж. Буке говорит об этом приеме как главном «правиле игры», «алгебре», выражающей «концепцию фантастического» !.
Не только ее. Дьявол внутри нас — излюбленная уловка буржуазной пропаганды. Она списывает на лукавого всевозможные общественные неурядицы и теневые стороны жизни. И если литература помогает в этом пропаганде, то вот она — функция оглупления. Изящная (а вернее сказать — неизящная) словесность становится разносчиком суеверия и мистики.
Очень может быть, что именно такими бестселлерами пичкали западногерманские священники- изуверы Ренц и Альт двадцатитрехлетнюю Аннели- зе Михель, прежде чем приступили к изгнанию из нее целого скопища чертей1 2. Аннелизе страдала эпилепсией. Не помогали никакие врачебные процедуры. Суеверные родители девушки отправились за советом к попам. Те быстро сообразили, в чем дело: дочка ваша одержима дьяволом, но ничего страшного : сеансов сто экзорсизма — и она поправится. И началось... До сотого сеанса бедняжка не дотянула: умерла на семьдесят втором по причине нервного истощения. Полиция вынуждена была начать расследование. Но святые отцы оказались хорошо подготовленными. Каждый сеанс они предусмотрительно записывали на магнитофонную ленту. И когда парочку бобин прокрутили прямо на судебном
92
1 «Fiction*, 1978* № 289, р. 189.
2 См.: «Time*, 1978, May 8, р. 12.
заседании, все были потрясены: «Священник. Выйди из этой девушки и никогда в нее не возвращайся! Аннелизе. Заткнись, свинья поганая, никуда я не уйду! Священник. Почему ты забрался в Аннелизе? Аннелизе. Потому что она проклята». Экзорсист Ренц заявил на суде, что на основании бесед с дьяволом (говорившим, кстати сказать, басом) он пришел к выводу: в девушку забралось шесть демонов, среди них Люцифер и Гитлер. Когда записи прослушали психиатры, они в один голос признали: девица находилась в состоянии тягчайшей истерии (вот откуда изменившийся голос), а сеансы изгнания нечистого это состояние усугубили. Результат — смерть. И произошло это наяву, а не на страницах демонического романа.
Впрочем, не совсем правильно обвинять в моде на экзорсизм фантастическую литературу как единственный канал суеверия и мистики. Сегодня (как и несколько лет назад, когда вышел фильм Уильяма Фридкина «Экзорсист», поставленный по одноименному роману Уильяма Блэтти) западные средства массовых коммуникаций, и кинематограф прежде всего, обыгрывают инфернальные приключения.
На кинофестивале фантастических фильмов в Аворьязе (Франция) в 1978 году первую премию получила картина англичанина Ричарда Лонкрейна «Адский круг». Кошмарные события происходят в викторианской Англии. Критики посчитали, что режиссер строго придерживается уолполовской традиции. Молодая дама по имени Джулия убегает от мужа. По его вине умерла их единственная дочь. Беглянка находит пристанище в мрачном, готической архитектуры доме — идеальном месте для привидений. Вскоре посещает ее очаровательная маленькая девочка, одного возраста с покойной дочерью. На самом деле милый ребеночек — дьявол. Он порабощает Джулию, жестоко измывается над ней.
В современной фантастической литературе и искусстве нечистый частенько напяливает на себя невинную детскую оболочку. Это существо—ребенок во плоти и дьявол в душе — особенно чудовищно. Американский психиатр Джеймс Гордон отмечает, что «за последние три года... дети стали эмис¬
93
сарами смерти и разрушения. Книги о малютках, произведенных машинами и одержимых дьяволом, оо ужасных юных убийцах и их жертвах заполняют прилавки супермаркетов, аптек, газетных киосков и воображение миллионов читателей» К
Раньше ребенок был олицетворением понятий чистоты, доброты, искренности. Теперь его душа стала вместилищем злобы, зависти, коварства, жестокости. Появились девочки — хладнокровные убийцы, мальчики — злобные демоны. Они уничтожают взрослых, поджигают дома, насилуют близких... Страх и отчаяние несут людям литературные отпрыски дьявола. «Не будучи интеллектуально серьезными или художественно интересными,— пишет Гордон,— эти бестселлеры о злобных и демонических детях являются тем не менее культурным феноменом» 1 2. Они отражают «новые» отношения взрослых к подрастающему поколению. На смену фетишу малютки пришел страх перед таинственными и темными силами, заключенными в юной душе. Книги о дьяволятах — своеобразные карикатуры на современных детей. Но кроме того, они предвещают разрушительные обстоятельства, к которым может привести стремление молодежи к независимости и сексуальной свободе. И нет, полагает Гордон, ничего удивительного в появлении таких персонажей: обильные всходы дала пресловутая контркультура.
Резкое увеличение тиражей детских демонических книг — «культурный феномен», пишет Джеймс Гордон. Добавлю от себя: заметный социально-культурный феномен — страх перед будущим: «Мы порабощены нашими детьми... будущее, которое они несут,— мрачно и вне нашего контроля» 3. Вот только главная ответственность за ужас перед завтрашним днем лежит не на «детях» (я имею в виду так называемую «непутевую молодежь» — рядовых контркультуры), а на «родителях», выпустивших своих наследников в изначально жестокое общество, объятое скепсисом, сомнением, страхом.
1 «The New York Times Book Review», 1977, September 11, p. 3.
2 Там ж e, c. 52.
3 T а м ж e, c. 53,
94
И сколько бы ни говорили о карикатурной сущности детской дьяволиады, она прежде всего отражает эти настроения.
Но макиавеллисты, заправляющие буржуазной идеологией, даже из таких настроений ухитряются извлекать выгоду. Особенно из страха. Недаром английский психолог и политолог Джеймс Браун называет страх «сильно действующим средством, используемым для того, чтобы положить конец нежелательному поведению» !.
Страхи бывают разными: животный страх перед смертью, голодом, нуждой и страх интеллектуальный, духовный. Именно на эту разновидность делала и делает ставку политиканствующая мистика. Ее главная задача — не позволить человеку выйти из состояния духовной забитости. Пусть, дескать, навсегда остается таким же смиренным и довольным жизнью членом общества, каким был Иов, с честью прошедший через сатанинские испытания.
Но добиться этого с каждым днем труднее: люди на Западе все активнее отвергают притязания духовных манипуляторов. А те, потеряв терпение, идут сплошь и рядом на сделку с дьяволом: приспосабливают для своих комплексно-политических нужд мистику, привлекают к работе не только сомнительного свойства пропагандистские средства, вроде демонического искусства, но и разного рода темных личностей, лжепророков, мистификаторов, которые, как мудро и поучительно гласит Библия, «приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Евангелие от Матфея, гл. VII, 15).
Много таких волков рыщет сегодня. Вот один из них — пятидесятилетний Отто Мюль, глава молодежной коммуны под громоздким названием «Практико-аналитическая организация по осознанию жизнедеятельности» 1 2. Мюль удивительно похож на традиционное изображение Мефистофеля: бородка, злобные и умные глаза, циничный изгиб рта. Штаб- квартира его секты находится в местечке Фридрихс- хоф (неподалеку от Вены), а первичные ее ячейки
1 J. Brown. Techniques of persuasion. Harmondsworth, 1965, p. 80.
2 Cm.: «Der Spiegel*, 1977, 20, S. 225.
95
разбросаны по разным западноевропейским странам. Из центра их снабжают литературой, шлют депеши с директивами.
Какова идеологическая платформа секты-коммуны? Сам Мюль разработал ее: дьявол—первопричина зла. Но он не приходит извне. Он передается человеку по наследству от папы с мамой. Это они, родители, превращают ребенка в злобного «гнома». Они лишают его жизненных радостей, препятствуя свободному развитию личности. (Явная спекуляция на отзвучавших лозунгах «студенческой революции». Только Мюль заставляет своих подопечных понимать их буквально.) Секс — вот единственное божество, символ добра и свободы, которому надобно поклоняться. Но для того чтобы проникнуться осознанием этого божества, почувствовать «правду жизни», надо изгнать из себя сатанинские гены.
На мюлевских бого — или дьяволо? — служениях юнцы, одурманенные наркотиками, в похотливом экстазе вопят: «Пусть умрет мать, пусть вырвут ей волосы, пусть ноги ей переломают!» Ибо мать — мерзкая ведьма. А отец — сатана. Их надо во что бы то ни стало выгнать из души. Набор рекрутов в коммуну подчиняется строго установленному Мюлем порядку. Новичок должен передать в общий котел все свое имущество. И кроме того, пройти предварительный курс обучения и испытательный срок. Подготовкой руководит верный помощник Мюля—врач-психиатр. Его задача — «психологическая тренировка» паствы. Пройдя несколько сеансов «психического перевоспитания», новообращенные становятся полноправными членами секты. Они слепо повинуются своему «паше» и «богу», его стальной дьявольской воле.
Коммуна Мюля —одна из тех многочисленных на Западе альтернативных групп, которые отчаянно соперничают друг с другом по части экстравагантности. Одни исповедуют сатанизм, другие — веру в инопланетян-пришельцев, третьи поклоняются койоту... И, понятное дело, эти распространенные в социальной жизни мотивы интерпретируются литературой, в том числе фантастической.
Лиза, главное действующее лицо романа американского писателя Ричарда Лупоффа «Лиза Кейн»,
96
вступает в коммуну оборотней или людей-волков, потому что не в силах жить среди нормальных людей. С недавних пор стала она замечать — с ее телом и настроением творится что-то неладное: тело как бы удлиняется и покрывается кое-где шерстью, а ночью так и тянет на двор — повыть на луну, стоя на четвереньках. Это не остается незамеченным для окружающих. Лиза вынуждена уйти из дома, столкнувшись с неприязнью домашних и соседей. И уже начинает она всерьез подумывать о самоубийстве, когда случайно попадает на научную конференцию по комплексной проблеме «Современный оборотень», проходящую в Беркли. Там она встречается с товарищами по несчастью. Люди-волки организуют крепко спаянное братство. Наконец-то Лиза находит себя: становится полноправным членом стаи и вместе с новыми друзьями в упоении воет на луну.
Оборотни из романа Лупоффа — в общем, безвредные создания. Им хорошо живется вместе, в изоляции от рода человеческого. Но кто знает, что сталось бы с Лизой, не встреть она единомышленников? Весьма вероятно, что в мятущейся безвыходной злобе ловила бы она на лесной дороге случайных прохожих и перегрызала им горло.
Ее сверстнице Джулии из книги Луиса Дункана «Лето страха» в этом отношении не повезло. В ней,
«Я знаю, что для некоторых из нас пренебрежение долгом, самоизоляция в искусстве для искусства — мода, даже принцип, результатом чего явился так называемый «новый роман», и какими бы смелыми ни были личные позиции его создателей, с одной стороны, и каким бы ощутимым ни был вклад, внесенный их исканиями,— с другой, читатель отворачивается от них, так как хорошо знает, что художественное слово, не выражающее представления автора о человеке и не являющееся летописью своего времени,— просто зря потраченные чернила».
Эрве Базен (Франция)
4 Сборник статей
97
как и в Лизе, заложено от рождения демоническое начало. Джулия — ведьма и вампир одновременно. Оставшись сиротой, она попадает в семью хороших людей и отвечает злом на добро: терроризирует сводную сестру, пакостит приемным родителям, убивает всеобщего любимца — старого симпатичного пса и с наслаждением пьет его кровь... Джулия беснуется, тяжко ей среди обыкновенных смертных с их мелкими страстями и обывательскими понятиями о добре и зле. Но отыскать романтических братьев по черной крови она не может.
И не мудрено: вампиры в современном индустриальном обществе ведут себя как заговорщики, затаившиеся в глубоком подполье. Но они упрямо ждут своего часа. Причем ждут, как это явствует из «нового» вампирного романа, для того, чтобы принести на землю не только смерть и разрушение, но и прометеев огонь бессмертия.
ЧЕРНО-ГОЛУБЫЕ ВАМПИРЫ
Предвижу удивление читателя: вампиры, эти гнусные «живые мертвецы», и вдруг — прометеевское подвижничество! Я удивился не меньше, когда столкнулся с современной трактовкой вампирной темы в западной литературе и искусстве. Ведь что такое вампир в его классическом обличье? Коварная и сладострастная бестия, которая днем мирно посапывает в могильном холодке, а ночью кусает честных людей, пьет их кровь и таким образом превращает в себе подобных. Поболев немного, несчастные доноры умирают, а на самом деле начинают новую жизнь: становятся сами безжалостными и ненасытными кровопийцами.
Разумеется, это слишком лаконичная характеристика упыриного племени. Вампиры делятся на несколько подгрупп, которые отличаются друг от друга по темпераменту и пристрастиям. В 1978 году Жан Мариньи выпустил в Париже книгу «Англосаксонские истории о вампирах». Составитель показал себя умелым классификатором. Он выделил семь вампирных видов: вампиры традиционные, вампиры-психопаты, ламии (прелестные
98
девушки с упыриными повадками), вампиры-животные, вампиры-растения, вампиры-чудовища, вампиры будущего.
И только одну очень распространенную сегодня разновидность не учитывает Мариньи — вампиров положительных. А ведь именно их появляется все больше и больше в современной литературе ужаса и кошмара.
В романе французского беллетриста Пьера Каста мистические кровососы выступают в роли тираноборцев, просветителей, гуманистов. Да, да, гуманистов! Граф Катор, глава вампирной общины, спасает находящуюся при последнем издыхании девочку. Правда, спасает не совсем обычно: вместо снадобий и хирургических инструментов он применяет собственные бульдожьи челюсти. Но тем не менее ребенок поправляется: ему дарована новая, сверхъестественная жизнь, которая к тому же, по уверению графа, будет намного длиннее старой.
Семейство вампиров — Катор и его дети — прибывает в Лиссабон XVIII столетия. Здесь, точнее в пригородном местечке Альфама, кишащем всякими чернокнижниками, алхимиками, колдунами, членами причудливых сект, эмигранты из Богемии надеются найти долгожданный покой и взаимопонимание. Несчастные пересекли всю Западную Европу, прежде чем добрались до этого мистического оазиса. Везде и повсюду их гнали, проклинали, преследовали. Везде и повсюду — незаслуженно. «Ужас и отвращение, которое мы внушаем, существуют искони,— жалуется Катор. — Но нет во всей вселенной более гонимых и оклеветанных созданий, чем мы». Как велика несправедливость человеческая! Вампиры дают людям новую жизнь, а те обвиняют их в смерти. А ведь не кто иной, как вампир, воплотил в действительность старую-престарую мечту человечества о бессмертии. Он, и только он, поддерживает «огонь, зажженный Прометеем»,— побеждает смерть !.
Если говорить по справедливости —не до конца побеждает. «Живые трупы» пока что вынуждены днем забираться в могильные склепы, а земными 11 Р. Kast. Les vampires de TAlfama. P., 1975, p. 40. 4* 99
радостями наслаждаются, увы, только в ночное время. Вот почему Катор и его ученики лихорадочно работают над проблемой полноценного бессмертия. Настанет день, надеется идеолог вампиризма, когда страдающий страхом смерти homo sapiens превратится в homo immortalis — бессмертного человека.
Нет, современный литературный вампир — это уже не кровожадный Дракула и не его киноблизнец Носферату из фильма Херцога.
Здесь напрашивается одно социально-психологическое отступление. Можно предположить: коль скоро вампир признается Тодоровым и другими исследователями фантастической литературы и искусства неким знаком, символом, что ли, патологического насилия и жестокости, то новая художественная трактовка кровопийцы отражает определенные изменения, происшедшие за последнее время в буржуазной теории о врожденной жестокости человеческой особи. Английский публицист и психолог Джеральд Пристленд доказывает (впрочем, чего тут доказывать?): человек от природы плохо приспособлен к насилию. У него мягкие ладошки, бегает он медленно, зубы у него хрупкие и тупые. Ну разве можно назвать человека «обезьяной-убийцей»? 1 Он — человек, и в этом все дело. Причина преступлений — военных, политических, уголовных — в честолюбии, амбиции, чувстве самоутверждения личности.
Может показаться, что жестокость уже не подается здесь, как врожденная и неизменная черта человеческого характера. Но одновременно Пристленд призывает не преувеличивать роль подлинных виновников агрессивности и преступности — социально-экономических факторов буржуазного общества. Однако не стоит слишком углубляться в теорию насилия и ее эстетипескую символику, вернемся лучше в таинственную Альфаму.
Бедному графу не дают завершить удачно начатую работу. Шеф лиссабонской охранки решает нанести упреждающий удар по вампирной столице. 11 См.: G. Priestland. The Future of Violence. L., 1974, p. 44.
100
Средь бела дня врываются в нее полчища солдат, вооруженных колами. Они вытряхивают из гробов сонных обитателей, сгоняют их на площади и начинают экзекуцию. Вампиры ведут себя как герои. Они не визжат и не беснуются при виде ужасной палки, как это бывало раньше. Одним словом, автор во что бы то ни стало стремится возбудить к ним сочувствие читателя: вот это люди! Впрочем, не совсем —скорее сверхлюди. Только лабораторию спасти не удалось. Многовековые усилия Катора пошли насмарку, хотя ему лично повезло: избежал смерти и эмигрировал в Южную Америку. Он «жив» до сих пор и по-прежнему бьется над секретом круглосуточного бессмертия.
По сию пору мыкается по свету герой бестселлера «Интервью с вампиром», принадлежащего перу американской писательницы Энн Райс. Ее роман (вышел в свет в 1976 г.), по отзывам рецензентов, нельзя расценивать как бульварную литературу — это одновременно «психологическое, философское, социологическое и сверх того поэтическое повествование» 1. Одним словом, комплексное произведение. Возможно, книга Райс по своим литературным качествам выделяется из черной массы бульварной фантастической литературы. И все же искать в ее тексте какой-то многозначный психо-социо-поэтиче- ский смысл — безнадежное дело. Это развлекательное чтиво, в котором все предельно обнажено, грубозанимательно.
Итак, вампир Луис, сидя в современной квартире, дает интервью молоденькой журналистке. Для своих двухсот с лишним лет он неплохо сохранился, хотя и жалуется на скверное душевное состояние. Давным-давно, еще в XVIII веке, молодой Луис стал наследником огромной хлопковой плантации в Луизиане. Тогда же он подпадает под зловещее влияние некоего Лестата, темной и демонической личности. Лестат награждает Луиса вампирным бессмертием. Правда, молодой плантатор, надо отдать ему должное, продолжает хранить в себе остатки человечности: он наотрез отказывается кусать своих рабов. Словом, являет собой тип вампира
1 «Fiction», 1978, № 290, р. 164.
101
положительного. Вот почему между ним и учителем возникает конфликт, который скоро перерастает во взаимную ненависть. Но упыри не расстаются. И не только потому, что связаны одной веревочкой: Ле- стат владеет многими тайнами вампиризма, которые любознательный Луис горит желанием познать. Но тут вдруг невольники узнают, кто такие на самом деле их белые господа, и угрожают чудовищам расправой. Вампиры вынуждены бежать в Новый Орлеан. Там к их компании присоединяется Кло- дия — на вид пятилетняя девчонка, а на самом деле женщина-вамп с шестидесятилетним упыриным стажем. Клодия по-своему, по-вампирному, привязывается и к Луису, и к Лестату. Первого она любит за интеллектуальную утонченность и обходительность, второго — за твердый характер и обширные теоретические познания в области кровопускания. Такая двойственность объяснима: малышка Клодия соединяет в себе самые гнусные и самые «светлые» качества вампирной породы. И все-таки она находит в себе силы сделать выбор — убивает Лестата. Но крупного специалиста по бессмертию уничтожить не так-то просто, и Лестат оживает. В ярости бросается он в погоню за взбунтовавшимися учениками. А те уже в Париже — столице не только великой наполеоновской империи, но и всех вампиров мира. Столичные кровопийцы открыли тайну дневного бодрствования (над которой все еще ломает голову бедный граф Катор) и охотно делятся ею с провинциалами. Но радость познания омрачена смертью Клодии: Лестат ничего не прощает. И Луис, поняв наконец, что с вампирами жить — по-вампирьи кусать, вступает в беспощадную, смертельную схватку со своим врагом. Начинается настоящая гражданская война. Из многочисленной вампирной колонии остается один Луис. Подобно Вечному жиду, бродит он по земле и страдает от одиночества и бессмертия, которое на поверку оказалось не вечным блаженством, а вечной пыткой.
Луис горюет напрасно: братья его далеко не истреблены и в большом количестве населяют грешную землю. Просто вампиры, наученные горьким опытом, замкнулись в своих подпольных группках. А вообще они могут приспособиться к лю¬
102
бой обстановке. Даже космос для вампиров — вполне подходящая среда: они прекрасно переносят астральные перегрузки. Это подтверждают те вам- пирные романы, действие которых развертывается не на кривых улочках старых западноевропейских городов, а на фоне бездонного звездного неба.
♦ Вампиры из космоса» — так называется детище английского писателя Колина Вильсона. Прекрасная ламия кружит вокруг нашей планеты на космическом блюдце. Как и Луис, ищет она своих земных родственников. Скотленд-ярД поднят на ноги. Смелый и сообразительный сыщик, копия Джеймса Бонда, берется поймать очаровательное чудовище. Вот он уже у цели! Но у парня опускаются руки, когда он узнает, какие это славные ребята — вампиры. И снова знакомый припев о ласковом целебном покусывании, выгоде бессмертия, вам- пирном гуманизме и т. д. Пожалуй, одна-единст- венная свежая мысль романа сводится к тому, что вампиров целесообразно посылать в путешествия на далекие галактики: время над ними не властно.
Но здесь незаметно для себя я вторгся в чужую область — научную фантастику. Впрочем, почему чужую? Разве бульварная научная фантастика и бульварная просто фантастика не родные сестры? С той лишь разницей, что в романах первой ведьмы, одетые в скафандры, летают на космопланах, а в зловещих историях второй — верхом на метлах. В данном случае я присоединяюсь к мнению Тодорова, который полагает, что тексты научной фантастики строятся аналогично текстам демонической литературы: и там и здесь «исходные данные носят сверхъестественный характер» К Так оно и есть. Взять хотя бы роман Вильсона. Его с одинаковым успехом можно отнести к обоим жанрам. Поэтому считаю: вторжение в сопредельную область вполне извинительно, даже допустимо и полезно. Подтверждение тому — следующая глава. 11 Т. Т о d о г о V. Introduction к la littSrature fantas- tlque, р. 180.
103
СПАСЕНИЕ НА КОСМИЧЕСКОМ БЛЮДЕЧКЕ
«Вампиров из космоса» можно рассматривать как своеобразное популярное изложение эксотеоло- гии, или космического богословия,— новомодного направления западной мистики и, разумеется, мистификации. Эксотеология широко пользуется громкими космоплавательными терминами, математическими формулами, даже теорией относительности, но в первую очередь сказками об инопланетных блюдцах, роящихся возле нашей Земли.
О размерах блюдечного психоза можно судить хотя бы по тому, что даже в официальных клерикальных кругах западных стран нынче допускают, будто господь был в состоянии создать не только человека и прочих земных тварей, но и расселить по другим планетам забавных страшилищ: говорящих ящеров, оранжевых обезьян, бегающие кактусы... Есть инопланетяне — тем лучше: еще одно доказательство величия божественного замысла.
Правда, некоторые эксотеологи делают из ♦ факта» обитаемости вселенной довольно-таки сумеречные выводы. Американский мистик Чарльз Ливис считает, будто инопланетяне все время курсируют по земным орбитам на блюдцах, метлах, на чем придется, но контакты между ними и людьми невозможны, потому как люди безнадежно погрязли в грехе. Морально устойчивые обитатели других миров не желают заражаться человеческими пороками. Еще мрачнее настроен эксотеолог Дэвид Фетчо: вся вселенная объята скверной. Шестирукие и змееголовые — тоже не ангелы. И быть может, еще похуже людей. А что касается летающей посуды, то сидят в ней не иначе, как демоны, черти, русалки и прочие сверхъестественные герои. Теперь и они в ногу с прогрессом мчатся на скоростном космическом транспорте.
Но пусть не складывается у читателя впечатление, будто все эксотеологи — безнадежные пессими-
104
сты. Нет, не все. Добрая половина из них считает, что в блюдцах находятся никакие не демоны, а, вероятнее всего, божьи эмиссары.
Современные писатели-фантасты по своему отношению к инопланетянам тоже делятся на пессимистов и оптимистов. Одни видят в пришельцах из Космоса знак лучезарной надежды, спасительную для рода человеческого альтернативу. Другие уверены : жители далеких галактик принесут на Землю гибель.
В романе французского писателя Жёри «Мир Линуса» все жизненно важные проблемы разрешаются после прибытия на мифическую планету Линус огромного, диаметром в 80 километров, космического блюдца. Члены его экипажа во много раз цивилизованнее линусян, в которых читатель без труда угадывает своих соплеменников. До прилета блюдца на Линусе, этом благодатном Эдеме, где растут цветы и фрукты невероятной величины, где можно жить спокойно и беззаботно, не беспокоясь о завтрашнем дне, не прекращались войны и всякие неурядицы. Инопланетяне растолковывают неразумным линусянам, почему нехорошо ссориться и драться: надо жить в мире и дружбе. Больше того, с помощью самой совершенной психотехники они настолько развивают умственные способности и гражданские чувства аборигенов, что те становятся смирными и счастливыми.
Авторскую идею угадать не трудно: люди не способны быть творцами своего счастья — его следует ожидать сверху, с неба. Счастье — это в полном смысле слова манна небесная. Художественных поделок утешительного пошиба становится все больше. Они успешно конкурируют с апокалипсическими сюжетами.
Рецензенты с кислой миной встречают книги французского фантаста Мариуса Гюибера, в которых звучит постоянный рефрен: «Ближайший межпланетный конфликт будет атомным» Ч Заунывные эти пророчества набили оскомину западному обывателю. Ему надоело бояться. Он устал от антиутопий.
1 «Fiction*, 1978, № 294, р. 126.
По этой же самой причине зевают зрители фильмов о всяких космических битвах, вроде итальянского «Звездная катастрофа»: приелось. А вот на американский фильм «Встреча третьего типа», поставленный Стефеном Спильбергом, идут охотно. Там нет вселенских катаклизмов, зато есть надежда на счастье, которое принесет космический мессия, хотя и нет на нем белоснежного хитона и не успокаивает он окружающих кротким, бараньим взглядом, а выступает в непрезентабельном образе пятимесячного человеческого зародыша.
Фильм, стало быть, о встрече людей с инопланетянами. Согласно уфологии — «науке», изучающей неопознанные летающие объекты,— контакты с пришельцами делятся на три типа: 1) визуальное наблюдение блюдца (или тарелки); 2) разного рода «физические доказательства» пришествия: зеленая жидкость на травке, зловещее свечение, повышенная радиоактивность; 3) непосредственный
контакт.
Спильберг обыгрывает «третий тип»: ученый Лакомб устанавливает хотя и не очень теплые, но вполне тактичные отношения с эмбрионоподобными инопланетянами. Отношения эти будут успешно развиваться — дайте только время, говорят авторы фильма. Они рассуждают по-своему верно: не стоит в один присест исчерпывать столь благодатную в коммерческом отношении тему, надо кое-что оставить на будущее. Почин сделан удачный: картина, по отзывам рецензентов, производит впечатление. «После «Челюстей» (фильм об акуле-людоедке. — В. М.),— пишет критик из «Пари-матч»,— американцы купались исключительно в бассейнах. На этот раз «Встреча третьего типа» напомнила нам, что небо не просто прелестная театральная декорация с нарисованными на ней светилами. Когда зрители выходят из кинотеатра, они поднимают глаза к небу в надежде отыскать на нем какой-нибудь знак» К Знак спасения.
А ведь это вполне отвечает целям буржуазной идеологии — заставлять человека задирать голову
1 «Paris-Match», 1978, № 1499, р. 63.
106
вверх и не обращать при этом внимания на то, что творится вокруг. Потому-то эксосуеверие искусно поддерживается и пропагандируется. И не случайно вокруг космического блюдца собралась такая пестрая и жадная компания.
♦Чем толще сыр, тем больше вокруг него крыс» 1 — остроумно заметил по этому поводу Бернар Мейо, автор вышедшей во Франции книги «Научная фантастика и летающие блюдца». В самом деле: версия о пришельцах—толстый и аппетитный кусок. В этом могли убедиться многие, в том числе швейцарец Эрих фон Дэникен.
Судя по его саморекламным заявлениям, он — археолог, палеограф, писатель и, добавлю от себя, неплохой делец: книги его начиная с 1968 года изданы тиражом в 38 миллионов экземпляров2. Воистину многосторонняя личность! Именно благодаря этому качеству он и привлек мое внимание.
Могут сказать: книги Дэникена — не художественная, а скорее научно-популярная литература, поэтому стоит ли говорить о нем как о писателе-фан- тасте? Но научно-популярная литература опирается на факты. А Дэникен строит свои сочинения на псевдофактах, вымысле. Впрочем, не буду настаивать на фантасте — назову Дэникена писателем-ми- стификатором. Все его концепции, в общем, сводятся к «смелой» идее: «Человек произошел от космонавта». В далекие-предалекие светоисчисляемые времена в глубинах галактики случилась жестокая битва между двумя армиями человекообразных, достигших трудно даже представить каких высот цивилизации. Побежденные бежали с поля боя на огромном космическом корабле и стали искать прибежища на каком-нибудь галактическом островке. На седьмой день полета увидели они нашу планету и плавно опустили многотонный звездолет на зеленую лужайку.
Беглецы принялись благоустраивать землю. Прежде всего они создали человека по образу и подобию своему. Для этой цели выбрали обезьяну. Гости вла¬
1 «Fiction*, 1978, № 291, р. 151.
2 См.: «Der Spiegel*, 1977, № 9, S. 174.
107
дели секретом мгновенного генетического усовершенствования. После специальной обработки мозга обезьянка сбросила с себя свалявшуюся шерсть, встала на задние лапы и научилась говорить. Но тут инопланетяне засомневались: а правильно ли мы делаем, перенося эту животину из дикости в техническую цивилизацию? За что ей честь такая? Мы-то сколько времени эволюционировали. Пусть теперь сама развивается, а мы за этим присмотрим. В человеке сохранились кое-какие повадки зверя. Был он часто непослушен, жесток, жаден. За это боги наказывали его: вплоть до высшей меры. Однако окончательно изничтожить плод своего генетического творчества они не хотели. В сущности, инопланетяне были добрыми ребятами. Иногда они женились на людях. Так появились избранные дети божьи. Пример: библейские пророки. Но большинство вчерашних обезьян, спасаясь от рокота реактивных двигателей, попряталось в пещерах. Вот откуда, заключает Дэникен, появились пещерные люди: от боязни нападения сверху, с воздуха. Тогда боги, потрясенные такой неблагодарностью, собрали вещички, взяли с собой самых послушных «детей» и отправились восвояси на другую планету.
Ну чем не фантастический роман! А какая захватывающая версия инопланетного визита! Главное — какая удобная. Все можно списать на пришельцев. Любую историческую загадку и загвоздку.
Но самые неотразимые доказательства обнаруживает Дэникен в сказках и легендах. Вам нужно подтверждение факта космической битвы? Пожалуйста: сатана был правой рукой бога, первым помощником, закадычным другом. И надо же — восстал, возомнив себя выше начальника. В наказание он был отправлен в почетную ссылку — заведовать адской кухней. Католики прозвали сатану Люцифером. А почему? Потому что это переиначенный латинский lux fare — несущий свет. Значит, заключает Дэникен, был Люцифер на самом деле сбитым звездолетом.
Но боги не только убивали, разрушали и сбивали. Они привезли на землю массу мирных и полез¬
108
ных вещей, в частности машину по выработке манны небесной. Да, да, той самой манны небесной, сладкой и на редкость калорийной крупчатки, которой питались в бесплодной пустыне пророк Моисей и его спутники.
В своей книге под самоуверенным заголовком ♦Доказательства», вышедшей в 1977 году, Дэникен убежденно заявляет, будто три тысячи лет назад выделкой манны занималась специальная машина, поставлявшая в сутки полтора кубометра питательного продукта.
Не раз эта машина была причиной военных конфликтов. Все иудейские войны, описанные Флавием, вспыхивали из-за нее. Царь Давид построил для божественной мельницы специальный замок. И все же уберечь машину не удалось: она погибла под развалинами замка во время очередной войны. Внешне аппарат представлял из себя цилиндр, опутанный длинной змееобразной трубой. С конца трубы капала манна и остывала в специальных формах. Внутри все было гораздо сложнее. В цилиндре росло, развивалось и одновременно поставляло машине энергию какое-то загадочное растение, типа нашей хлореллы. Работала машина, как «вечный двигатель».
Но где увидел Дэникен останки этого сказочного агрегата? Почему он так уверен в его существовании? Тут наш писатель торжествующе ссылается на английский научно-популярный журнал «Нью- сайентист». Там напечатана большая статья двух авторов, которые совершили выдающееся архивное открытие: обнаружили старинный пергамент с описанием машины — производительницы манны. Больше того, они даже спроектировали опытную модель такой установки. И может быть, в скором времени, ликует Дэникен, манна небесная будет продаваться на каждом углу, как мороженое.
Беру подшивку «Нью-сайентист» за 1976 год. Все правильно: есть такая статья, есть такие авторы, есть чертеж такой машины... в номере от первого апреля. Первоклассный мистификатор Дэникен сам стал жертвой веселой первоапрельской мистификации.
109
Если бы можно было всегда так легко и просто хватать за руку тех, кто спекулирует на людской наивности! Но тем и опасны мистификаторы, что действуют в большинстве случаев осторожно и ловко.
У читателя может возникнуть сомнение: дэни- кениада — в общем, безобидная и безвредная штука. Что, дескать, в ней такого? Верит человек в пришельцев и пускай верит. Никому от его забавных книжонок ни жарко ни холодно.
Явное заблуждение: литература о пришельцах и блюдцах, выражаясь ультрасовременным академическим языком, полифункциональна, она может быть и развлекательным чтивом, и в то же время своеобразным идеологическим пособием, проводником опасных для человека мистических представлений. Но не стоит слишком увлекаться голословными обвинениями — сошлюсь на один вроде бы забавный, а на самом деле страшный факт массового оглупления.
Восьмого октября 1975 года по американскому телевидению передали сногсшибательную новость: исчезли двое жителей — женщина и мужчина — городка в штате Орегон, ходят слухи, будто они были взяты на борт инопланетного летательного аппарата. Во всяком случае, до исчезновения они постоянно говорили своим ученикам и последователям о такой возможности. Те в панике и тревоге: а как же мы?
Тревога оказалась ложной: пастыри вскоре нашлись. Отсутствовали они по вполне земной причине: писали в уединении книгу о целях и задачах своей организации, нареченной «Процессом».
Чем вызван такой повышенный и повсеместный интерес к «Процессу»? Прежде всего личностями его руководителей: господина по имени Во и дамы— Пип. Раньше их звали иначе и обыкновенно: его — мистер Эпльуайт, ее — миссис Нетл. Он был певцом, недурным тенором в оперном театре города Хьюстона. Она —сиделкой в госпитале для душевнобольных. Там они встретились и выяснили, что давным-давно знают друг друга: подружились еще на ином, более высоком уровне жизни, на «четвертом измерении», по которому курсирует огромный,
110
величиной по меньшей мере с луну, космический суперкорабль-матка, изредка посылающий на землю транспортные блюдечки. Мы члены одной неземной команды, решили оба, мы чувствуем, как пульсирует в нас потусторонняя многотысячелетняя жизнь.
И взяли они себе космического звучания имена, и открыли в Хьюстоне — центре американской ракетной мысли — свой центр: «Христианских искусств». Занимались спиритизмом, гаданием, составлением гороскопов. На жизнь хватало. Но однажды таинственный голос сказал им: «Ребята, перестаньте заниматься ерундой — возраст не тот. Начните-ка лучше готовиться к отъезду домой. Засиделись вы на этой земле. Пора и на отдых. Но его еще надо заработать. Поэтому соберите вокруг себя самых толковых землян, научите их нашим нравственным принципам. Пускай несут людям веру в грядущее богоприземление. Когда вы это задание выполните, за вами спустится блюдце. О дне вылета сообщим».
Какие это принципы? Бросьте имущество и семьи, ведите скромную, аскетическую жизнь. Не работайте, с голоду не умрете — не дадут братья с «иного уровня». Берите пример с нас. Мы месяцами можем обходиться без земной пищи — кормимся телепатически.
Между тем поговаривают, будто Бо и Пип отнюдь не чужды земным радостям. И еще известно, что их раза два арестовывали за угон автомобиля и подделку кредитных карточек. Но что бы там ни говорили, последователей у Бо и Пип становится все больше и больше. По сведениям 1976 года, от 300 до 1000 человек Ч Среди них студенты, бывшие солдаты, инженеры, попадаются даже бизнесмены. Один, например, бросил жену и шестерых детей и теперь сам проповедует отлет на блюдечке.
Это уже не первоапрельская мистификация. Речь идет о людях, их психическом здоровье, судьбе их близких. Эксомистики не просто обманывают, не
1 См.: «The New York Times Magazine», 1976, February 29,
p. 12.
Ill
просто создают псевдоромантические видения, не просто отвлекают людей от реальных земных и космических забот — вся их деятельность направлена в конечном счете во вред человечеству.
И еще следует учесть: блюдечный психоз разжигается и распространяется могущественными средствами массовых коммуникаций. Для них он — ♦великая идея», наиболее испытанный и долговременный пропагандистский миф. Один из персонажей повести уже знакомого нам Ричарда Лупоффа ♦Вечерние новости» — редактор бульварной газетки— так и говорит: ♦Истории с неопознанными летающими объектами могут быть использованы в течение нескольких десятилетий»
Это действительно так. Немногие из ♦великих идей», созданных коммерческим искусством и паралитературой, могут по части долговечности соперничать с таинственными блюдцами. Среди них в первую очередь комиксовый, а сегодня уже и киномиф о Супермене. Он впервые появился в 1938 году (когда о блюдцах и слыхом не слыхали), этот результат содружества двух американцев — писателя Джерри Сигеля и художника Джо Шустера.
Супермен — не человек, а человекообразное инопланетное существо. Он прилетел совсем крошкой с далекой планеты Криптон, потерпевшей грандиозную катастрофу. Преодолев несколько миллионов космических километров, малыш приземлился на газоне перед домиком добропорядочных американских граждан — мистера и миссис Кент. Они усыновили небесного подкидыша.
Одно только смущало сердобольных супругов: малютка демонстрировал поминутно невиданную силу. Он одной рукой подбрасывал до небес дубовый комод и без труда перепрыгивал через пароч- ку-другую небоскребов. Чета Кент посоветовала Супермену не щеголять своими геркулесовыми данными: нехорошо выделяться. Ребенок, вняв их совету, утихомиривается, а став постарше, маскируется под интеллигентного близорукого репортера Кларка Кента-младшего. Лишь иной раз, когда от без- 11 «Fiction», 1978, № 294, р. 22.
112
делья жиром заплывают мускулы или нужно сразиться с каким-нибудь злодеем, он показывает, на что способен. Инопланетянин верой и правдой служит приютившей его стране. И горе тем, кто осмелится поднять руку на спокойствие и благоденствие американского быта. К таким он беспощаден.
Вскоре у Супермена появились коллеги, они же конкуренты: Капитан Мэрвел, Капитан Америка, Бэтман... Полку сверхгероев все прибывало. Кроме того, им нужны были достойные противники — антисверхгерои. И те высыпали на страницы комиксо- вых изданий: Человек-Горилла, Ледяной Человек, Икс-Человек и т. д. И еще сверхлюдям нужны были сверхподруги. В 1942 году начала выходить серия о Чуде-Женщине. Эта дама обладает невероятной способностью подчинять и побеждать. Она сначала ослепляет врагов красотой, а потом бьет намертво. К тому же может перемещаться по воздуху и владеет приемами каратэ. Под стать ей антигероиня — причудливое существо женского рода по прозвищу Вэсп, отдаленно напоминающее Медузу Горгону.
До начала 60-х годов все суперлюди управлялись со своими противниками в одиночку. Силенок и храбрости у них хватало. Но перестало хватать изобретательности у их авторов. Она катастрофически быстро иссякала. Казалось, все возможные варианты приключений были перепробованы.
А что, если — решил американский издатель и художник Стэнли Либер — организовать отряд суперменов, этакую боевую, комплексную по своим задачам группу замысловатых страшилищ и силачей? Так родились: Человек-Паук (странное создание с паучьим брюшком, стальными щупальцами и физиономией голливудского красавца), Невидимая Девица, волосатая личность, именуемая Фантастическим Медведем, и много других сказочно свирепого вида героев. Вместе со своими персонажами Либер начал успешные боевые действия против издателей- конкурентов, по-прежнему выставляющих в качестве бойцов изрядно потрепанных в кровавых схватках Супермена и Чудо-Женщину.
118
Одно время казалось, что прасверхгерою уже не выдержать бешеного натиска рисованных уродцев. Но нет: он таки вышел победителем, пережил второе рождение.
В начале 1979 года на экраны Соединенных Штатов вышел фильм Александра Залкинда ♦Супермен». Вот где разворачивается инопланетянин во всю свою богатырскую мощь: он и ракету рукой останавливает, и спасает высокопоставленных правительственных чиновников, а о том, что уничтожает всяческих подонков, и говорить нечего.
Публика пока в восторге, даже мода появилась — а-ля супермен: пиджаки с острыми ватными плечами и узенькой талией. Но кто знает, что будет дальше? Как и у рисованного Супермена, у киношного тоже есть конкуренты. Это люди-ракеты. Они носятся по галактикам, не пользуясь услугами блюдец и звездолетов. Вот один из них — Голдорак. Он ведет беспощадную войну против ♦зеленых людей», населяющих планету Вега. По мнению рецензента из журнала ♦Экспресс», Голдорак — не просто герой: ♦Это Давид, сражающийся с Голиафом. Это, может быть, сам бог, побеждающий дьявола. Разве не похож на Люцифера Идаргос, царь Веги, с его острыми ушами, сопровождаемый свитой демонов в монашеских капюшонах?» 1 Кто же такой непобедимый Голдорак? Герой многосерийной телевизионной передачи, предназначенной для ♦маленьких французов от 3 до 13 лет» 2.
Сегодня в этом праздничном суперменовском ажиотаже, этом массовом чествовании фантастических героев-спасителей никто не вспоминает о предостережениях, высказанных в 50-е годы американским психиатром Фредериком Вертхэмом. В своей книге ♦Совращение невинного» он называл ♦супер- меновскую идеологию наиболее негигиеничной с точки зрения психологии» 3.
Вертхэм одним из первых на Западе обратил внимание общества на губительное влияние, исхо¬
1 «L’Express», 1979, № 1430, р. 19.
2 Т а м же.
3 «Children and Youth in America». N. Y., 1974, v. Ill, p. 922.
114
дящее от комиксов. Самое страшное, что жертвами этого влияния чаще всего оказываются молодые люди. Что же касается суперменоподобных, то психиатр убедительно доказал: никакие они не справедливые защитники человечества, никакие не спасители угнетенных, а самые заурядные убийцы и к тому же сумасшедшие.
И вот эти сумасшедшие сегодня в невиданном почете. «Подвиги» их размножаются гораздо более могущественными средствами пропаганды, чем двадцать лет назад.
Иначе и быть не могло. Разве способен Фредерик Вертхэм, честный донкихотствующий интеллигент, бороться в одиночку с издательскими фирмами, выпускающими рисованные страхи? Где ему сражаться с дьяволом — буржуазной идеологией, управляющей целой сетью каналов, по одному из которых течет фирменное сатанинское зелье — фантастическая художественная информация.
* * *
Канал работает бесперебойно. Оно и понятно: кошмарная фантастика издавна была идеальным средством манипулирования коллективным созна-
«Несмотря ни на что, мы всегда найдем возможность писать и даже печатать свои книги. Но по другую сторону стены находятся люди, которые, читая наши книги, подвергаются опасности. По другую сторону стены находятся те, у кого один источник информации — официальный. По другую сторону — поколение детей и подростков, из которых, как это происходит в Чили, стремятся вырастить образцовых фашистов, фанатично распоряжающихся высокими словами, такими, как «родина», «национальная безопасность».
Хулио Кортасар (Аргентина)
115
нием. Это прекрасно доказывает английский писатель и философ Олдос Хаксли на материале так называемого «дела о луденских дьяволах».
Триста лет назад во Франции несколько десятков монахинь во главе с аббатисой Луденского монастыря заявили, будто одержимы дьявольской страстью к преподобному Урбану Грандье, своему духовнику. И началось коллективное изгнание бесов. Те ни в какую не хотели вылезать наружу. Они голосами монахинь препирались с экзорсистами, поносили их, объявляли себя союзниками и братьями Грандье.
Эта история привлекала многих исследователей. Чем объяснить коллективный психоз, охвативший богобоязненных дев? Некоторые видели причину массовой одержимости в необыкновенной, прямо- таки демонической красоте Грандье. Ему приписывали даже телепатические способности: сознание монахинь поработила мощная биоэнергия, струившаяся из его глаз. Но даже если это и был гипноз, то почему он продолжался так долго: спустя четыре года после казни Грандье многие монашенки все еще утверждали, будто в них по-прежнему сидит дьявол.
Хаксли высказал такое соображение: бедные сестры стали жертвами заболевания, вызванного умелой мистической пропагандой красавца и краснобая Грандье. Эта болезнь — crowd delirium, или «массовый бред». Писатель называет ее «опасной... угрозой тонкому наслоению благопристойности, благоразумия и взаимной терпимости — составных цивилизованности» !. Находясь в состоянии «массового бреда», люди «способны поверить в любую глупость, в которую им приказали верить, они будут подчиняться любой команде, какой бы жестокой, сумасшедшей или преступной она ни была» 1 2.
Примерно по такой же методе действуют современные грандье, мистификаторы, завербованные идеологической службой. Правда, теперь возможности технических средств, используемых для раз-
1 А. Н и х 1 е у. The Devils of Loudun. L., 1977, p. 306.
2 T а м ж e, c. 306.
116
жигания ♦ массового бреда», колоссальнейшим образом возросли. На человека ведется фронтальное наступление. Фантастическая литература и искусство — в авангарде. Цель идеологической атаки все та же, старая,— оглупление. Буржуазная пропаганда с поистине вампирной одержимостью стремится обессмертить мистику и суеверие, приспособить кошмарные сюжеты для мистификации людей.
Конечно, комплексная мистификация — тонкая и опасная штука. Но переоценивать ее не стоит. И я уверен — настанет такое прелестное утро, когда мистика, это позеленевшее от старости привидение, уляжется, испугавшись веселого петушиного крика, в свой саркофаг. А выйти оттуда уже не сможет. И останутся от нее только неприятные воспоминания да литературные памятники. Вроде справочника Эшли, который навел меня на мысль написать эту статью.
Ю. Архипов
ЭРНСТ ЮНГЕР, БУРЕВЕСТНИК «СТАЛЬНЫХ УРАГАНОВ»
Биография «элитарно-массового» писателя — от охоты на демонстрантов и ницшеанства к «лояльности» фашизма, от штаба Роммеля н Восточного фронта — к мрачным антиутопиям. Ранний Юнгер — певец «опасной» жизни. Поздний Юнгер: «Мировой дух непрогрессивен».
Велеречивые писания Эрнста Юнгера, строго говоря, к «массовой литературе» не принадлежат. Деловитый бюргер, вынужденный коротать время где-нибудь в купе экспресса или салоне международного самолета, может с равным упоением мусолить «правую» стряпню признанных «мэтров» «массовой» литературы Гонзалика и Двингера или с «левой» начинкой детективы Зиммеля и Габе, но Юнгера он читать не станет — от любого « высоко ло- бия» бюргера, как известно, мутит...
Но зато сами Гонзалик и Двингер, как и многочисленные их собратья по перу, несколько поотставшие, правда, в удовлетворении коммерческой прыти, в аналогичной ситуации вряд ли станут читать друг дружку, а скорее уж раскроют томик Юнгера, «мэтра». Его звонкая, щекочущая самолюбие «посвященных» проза — для них что амврозия, если позволительно употребить столь высокую метафору для столь низкого сорта ремесла. А как следует этой прозой «закусив», наши бодрые писцы уснастят потом объедками и свои творения, предложив их публике в разбавленном и разжиженном виде.
Литература не делится, конечно, на «массовую» и «элитарную» с четкостью черно-белых шахматных клеток. Есть «массовая» по своему духу литература, доступная по своей форме лишь немногим,
118
услаждающая интеллектуальную «элиту». Образцом такого «массово-элитарного» писателя в немецкой литературе на протяжении вот уже шестидесяти лет является Эрнст Юнгер.
Среди образцов каллиграфического мастерства, предъявляемых князем Мышкиным генералу Епан- чину, есть и такой шрифт, в котором «проглянула военно-писарская душа»: «...разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина...»
Таков «почерк» Эрнста Юнгера. Главный нерв его прозы был однажды охарактеризован как «воля к стилю» *. Перекличка с Ницше (с названием его известной книги «Воля к власти») здесь не случайна: отправляясь идейно от певца «опасной» и «героической» жизни, Юнгер сумел несколько обуздать его стилистическую размашистость. Однако полностью изжить щеголеватость «военно-писарской душе» было не дано. Вот характерная запись, которую делает в своем дневнике от 27 мая 1944 года прикомандированный к штабу Роммеля в Париже капитан Эрнст Юнгер:
«Тревога, налет. С крыши «Рафаэля» я наблюдал, как дважды поднялись клубы дыма над Сен- Жерменом после того, как там пролетели эскадрильи. Целью атаки были мосты через реку. Способ и последовательность ее проведения указывали на светлый ум. При втором налете, в лучах заходящего солнца, я поднял бокал бургундского, в котором плавали ягоды земляники. Город с его башнями и куполами лежал в величественной красоте, подобно бутону, замершему в ожидании смертельного оплодотворения. Все было зрелищем, все было чистой, утверждаемой и возвышенной страданием си- лои» 1 2.
Изданный в 1949 году «Второй парижский дневник» пестрит подобными «демоническими» блестками, не брезгающими соседством с откровенными рекомендациями гитлеровской солдатне, как лучше
1 См.: М. Rychner. Ernst Jlinger.— In: «Sph&ren der Biicherwelt*. Ztirich, 1952, S. 201.
2 Ernst Jiinger. Werke In 10 Bdn., Bd. 3, S. 280. Далее ссылки на это издание даются в тексте; римской цифрой указывается том, арабской — страница.
119
добыть у мирного населения «яйки» и прочую провизию. С вызовом подпольного человека, анатомию психики которого дал еще Достоевский, Юнгер то и дело пишет здесь о том, как нежны хризантемы, азалии, розы, как изощренна раскраска бабочек или как болит у него живот и тревожит бессонница — и все это в то время, как скрежещет металл, свистят бомбы, рушатся государства, гибнут по вине «светлых умов» нацизма миллионы.
Туника Нерона, украшенная хризантемой Оскара Уайльда,— слишком дешевая драпировка, как и само соединение опьянения и смерти, которое со времен Ницше выглядит, по крайней мере в око- лофилософской эссеистике западных авторов, пошловато. А любимая тема Юнгера — кризис гуманизма в эпоху технической цивилизации — не нова по меньшей мере после Шпенглера, нашумевшего в 20-е годы своим «Закатом Европы». Чем же объяснить бесспорную славу Юнгера и столь же бесспорную его влиятельность? Неувядаемую на протяжении десятилетий в глазах реакционной немецкой интеллигенции авторитетность его суждений?
Собственно художественная часть его творчества к этой славе отношения не имеет: слабость его художественных вещей признают даже завзятые почитатели Юнгера. Славу принесли ему именно эссе и дневники — славу устойчивую, длящуюся до сих пор: статистика, во всяком случае, уверяет, что Эрнст Юнгер опережает в настоящее время других западногерманских писателей по количеству зарубежных изданий и исследований его творчества. Часто ссылаются на особую «кристальность» языка и стиля эссеиста Юнгера, но эта «кристальность», как мы уже видели (и как показано в специальной работе известного западногерманского критика Петера Вапневского!), слишком замутнена кокетливостью и претенциозностью, свидетельствующими о вкусе не вполне безупречном. В чем же дело? 11 См.: Р. Vapnewski. Ernst Jiinger, oder Der allzu hoch angesetzte Ton. — «Die Zeit*, 1974, № 46, 8. November.
120
А дело, видимо, прежде всего в том, что Эрнст Юнгер — один из немногих буржуазных писателей нашего времени, не ведающих «отчуждения*, разлада между тем, что он пишет и как живет. Именно этим разладом подорвано в первую очередь доверие западных читателей к своим духовным пастырям. Западная литература нашего века кишмя кишит процветающими пессимистами или кабинетными поклонниками ницшеанской романтики. Тот же Ницше отозвался в писаниях сотен благополучных профессоров-гелертеров. А Юнгер на деле осуществил идеал «опасной* жизни—сначала, удрав с гимназической скамьи, в Иностранном легионе в Африке («Африканские игры*, так называется изданная в 1936 г. его книга воспоминаний об этой поре), затем в пекле первой мировой войны.
Своей первой книгой — «В стальных ураганах* (1920) — Юнгер прославил войну — как «мать всего сущего* и «средство самоосуществления* — и прославил себя. Ореол героя закрепился за ним надолго — и Юнгер зорко следил за тем, чтобы он не тускнел. «На свои глаза я могу положиться, я испытал их не только в охоте на куропаток» (IX, 458),— такие фразы он отмеренно ронял, словно постукивал стеком по голенищу. Удивительно ли, что его авторитет у реакционно настроенной части интеллигенции, особенно в «бурные» годы восхождения фашизма, был непререкаем.
В 20-е годы Юнгер использовал свой авторитет для целей «национального возрождения». И опять- таки: на службу реакции он поставил не только свое перо, но штык — одним из первых записался в рейхсвер, принимал деятельное участие в подготовке и осуществлении капповского путча *, с винтовкой в руках «охотился» на безоружных демонстрантов.
Но не дремало и перо. С середины 20-х годов Юнгер самым активным образом сотрудничает во многих шовинистических газетах и журналах, посильно накалявших предгрозовую атмосферу на- 11 Капповский путч — профашистский путч в Германии в 1923 г.у возглавлявшийся генералом В. Каппом.
121
кануне прихода фашистов к власти. «Гарантировать всем немцам подобающее место в великом, многомиллионном царстве будущего — вот цель, ради которой стоит, пожалуй, умереть и подавить любое сопротивление*,— писал он в составленной из эссе тех лет книге «Роща 125* (IV, 117). Рассуждая в книге «Рабочий* (1932) о технических основах современной цивилизации, Юнгер определяет тип спе- циалиста-технократа и нерассуждающего, машиноподобного солдата как тот, которому принадлежит будущее. Помимо этого, лестного для фашистских идеологов пророчества, Юнгер подарил им не одну крылатую формулу (таковыми стали уже названия его книг: «Бой как внутреннее переживание*, 1922; «Авантюрное сердце*, 1929; «Тотальная мобилизация*, 1931, и др.).
Правда, после фашистского переворота Юнгер брезгливо отмежевался от грязной практики своих прежних единомышленников. Сын скромного аптекаря, он даже стал олицетворением скрытой «аристократической* оппозиции режиму — на этот престиж работала вся импозантная надменность его поведения, которой он не уставал рисоваться. Писатель Эрнст фон Заломон, случайно встретивший Юнгера на улице в 1937 году, вспоминает, с каким картинным апломбом Юнгер изложил ему тогда свое политическое и духовное кредо: «Я подыскал себе точку повыше, откуда наблюдаю, как эти клопы пожирают друг друга* *.
Озабоченный сооружением своего «комода лояльности*, годного на все времена, и отнюдь не уверенный в том, что «тысячелетний рейх» действительно продлится так долго, Юнгер позволял себе укреплявшую ореол независимости фронду: в 1933 году отказался вступить в Прусскую академию искусств, ставшую отделением «имперской палаты письменности*, опубликовал в 1939 году роман-притчу «На мраморных скалах*, в котором при желании можно было увидеть неодобрение режиму, оказался замешанным в офицерском заговоре 1944 года, участники которого готовили покушение на Гитлера — «во 11 См.: Н. Kaiser. Mythos, Rausch und Reaktion. Berlin, 1963, S. 186.
122
имя спасения великой Германии». Но Юнгеру все сходило с рук, былые заслуги обеспечили ему неприкосновенность, гарантированную высочайшим покровительством («Гитлер весьма ценил меня... Он сам меня защищал»,— хвастал Юнгер тридцать пять лет спустя, беседуя с журналистами из парижского «Магазин литерер»).
Уволенный после раскрытия заговора из армии (исключительно мягкое наказание, свидетельствующее о том, что Гитлер действительно ценил Юнгера: все прочие заговорщики, невзирая на чины и родственные связи, были казнены), Юнгер поселился в Кирххорсте близ Ганновера, где его и застало окончание войны. В первые послевоенные годы Юнгеру, как и всем литераторам, запятнавшим себя сотрудничеством с фашистами, запрещено было печататься, но его присутствие в духовной жизни Германии было ощутимо. Повсеместно обсуждался его трактат «Мир» (1945), в котором он, ввиду очевидного краха националистических идей, приведших Германию к катастрофе, выступает в защиту панъевропейской доктрины, призванной противостоять проникновению «с Востока» коммунистической идеологии. Только что закончившуюся преступную войну Юнгер объявляет «всечеловеческим» грехом, наглядно демонстрируя мимикрирующее устройство своего пресловутого «комода лояльности». Один из крити- ков-коммунистов, комментируя этот трактат в журнале «Ауфбау», писал в то время: «Здесь мы встречаемся со своеобразным, позорным и, к сожалению, типично немецким явлением, а именно — с тем фактом, что мы, немцы, лишь тогда обращаемся к космополитизму, когда наш собственный шовинизм выходит нам боком» 1.
Несмотря на публикационный запрет, Юнгер пользовался благорасположением оккупационных властей западных стран: в издаваемых ими журналах появлялись интервью с ним, подробные, снабженные многочисленными фотографиями репортажи журналистов о житье-бытье «уединенного затворника». Все это готовило общественное мнение 11 Цит. по ст. И. Фрадкина «Борьба продолжается». — «Новый мир», 1948, № 8, с. 264.
123
к реабилитации, и вскоре действительно публикационный запрет был снят: с 1947 года в печати стали появляться статьи, дневники и эссе Юнгера.
Год образования Федеративной республики он встретил двумя приметными книгами — ♦антиуто- пическим» романом ♦Гелиополис» и обширным томом дневников под названием ♦Излучения». В эту последнюю книгу наряду с обоими парижскими дневниками и ♦Кирххорстскими листьями» вошли также особенно любопытные для нас ♦Кавказские записи». Юнгер в конце сорок второго — начале сорок третьего года провел несколько месяцев на Восточном фронте, инспектируя дислоцированные в Киеве, Ростове и на Кавказе части. Эти записи больше сообщают о внутреннем состоянии, здоровье и круге чтения автора, чем об увиденном им в России, хотя автор постоянно упоминает о ♦физиогномических штудиях», которым он предается на улицах Ростова и станицы Апшеронской. Они насквозь пропитаны изначальной расовой спесью автора. Так, трогательную атмосферу ♦человечности и товарищества» он подмечает только в отношениях между собой немецких солдат (занятых ♦братской» дележкой награбленного), а свойственную убийцам ♦опустошенность и тупость взгляда» — только в лицах русских карателей, сотрудничающих с фашистами. Поразившая немцев массовая невинность русских девушек связывается им с многовековым крепостническим рабством, и подобная сомнительная подоплека находится для любого, даже положительного явления. Общий вывод сего заезжего ♦европейца»: ♦ Как есть на этой земле волшебные страны, так узнаем мы и другие, в которых удалось полное отсутствие волшебства, без малейших следов чудесной благодати» 1.
Повсюду в ♦Излучениях» Юнгер продолжает начатую в ♦Мире» самореабилитацию — в виде переложения вины за происшедшее на общие ♦биологические» законы жизни — и призывает духовную ♦элиту» к защите культурных ценностей, завещан¬
1 Ernst Jiinger. Strahlungen. Stuttgart, 1958, S. 162.
124
ных Европе веками античности и христианства. Резко антикоммунистический, вполне в новом духе холодной войны, аспект этой апологии культуры скажется затем в книге «Гордиев узел» (1953), где противостояние двух общественно-политических систем еще раз ляжет на матрицу «извечного», «природного» противоборства германского и славянского миров, олицетворяющих, по Юнгеру, «мужское» и «женское» начало (по сути дела, перепевы известной теории Отто Вайнингера, развитой им в книге «Пол и характер», 1903, где, правда, олицетворять женское начало, направленное против культуры и цивилизации, выпало на долю не славян, а евреев).
Роман «Гелиополис» возник в русле антиутопий, получивших распространение в европейской литературе, начиная с 20-х годов (Олдос Хаксли, Джеймс Орвелл, Герман Казак, Франц Верфель и др.). Юн- гер и сам уже приближался однажды к этому жанру («На мраморных скалах») и будет возвращаться к нему в дальнейшем — в романах «Стеклянные пчелы» (1957) и «Оймесвиль» (1977).
Ответ на центральный вопрос: «Что будет с человеком и человечеством?» —дается в антиутопиях нашего века, как правило, в пессимистическом духе: за технический прогресс и комфорт человек заплатит утратой души и свободы.
Действие «Гелиополиса» происходит в отдаленном будущем — в одном из южных городов, высоко над морем, в эфирном пространстве, этом «царстве чистого духа», в эру неслыханно развитой техники, преимущественно военной, служащей целям подавления и устрашения: в романе фигурируют «парящие» танки, лазерное оружие, атомные бомбы карманного формата. Особенно большое значение приобрел «фонофор» — устройство, мгновенно устанавливающее и суммирующее мнения всех жителей планеты и ставшее, благодаря этому, «идеальным средством планетной демократии, которое незримо связывало каждого с каждым». Однако демократия эта — мнимая, поскольку «право ставить вопросы принадлежало немногим. И хотя все могли слышать, о чем идет речь, и сообщить свое мнение, темы для обсуждений определялись этими немноги¬
125
ми. Царило пассивное равенство при большой разнице функций. Древний обман избирательного права повторялся в эпоху автоматов» (X, 291).
Развитие техники, таким образом, не в состоянии облегчить участь человека. Напротив, будущее сулит ему все меньше шансов на благоприятное разрешение «вечного» конфликта между властью и человечностью, между государственным порядком и личной свободой. Антиутопия Юнгера, таким образом, на новом этапе возвращает к старым его идеям, развитым в эссеистике 30-х годов, о необходимом и неизбежном превращении будущего человечества в машиноподобную армию ландскнехтов, подчиненную военно-технической диктатуре. Незаметно, в течение веков происходившее смешение двух рас — господ и рабов, аристократии и плебса, по мысли Юнгера, приведет человечество либо к полному вырождению, либо, с чем связаны его надежды, к неминуемому «очищению» рас, к повторному и окончательному их расслоению. Как мы видели, практика концлагерей и газовых камер не вызвала восхищения и безоговорочного одобрения Юнгера, показалась ему слишком примитивной и грубой, что и соответствовало «плебейской» фашистской диктатуре. Нет, Юнгер мечтал не о том и призывал не к этому. Его точка «выше»... Но кто обязывает вдаваться в такие тонкости лихих борзописцев, непрерывно стряпающих свои человеконенавистнические, начиненные ужасами, насилием и мрачными пророчествами книжонки и заимствующих идеи для них у Юнгера? И если человек ссылками на неизмененные природные инстинкты благословляет «оргиа- стичность» убийства и «кровавый экстаз», то вправе ли он сетовать на то, что его имя становится расхожим в изделиях самого бульварного пошиба?
К жанру антиутопий принадлежал, как сказано, и следующий роман Юнгера, «Стеклянные пчелы». Искусственные пчелы становятся в нем символом грядущей эпохи роботов, грозящих полностью вытеснить человека. Для главного героя этого романа, капитана в отставке, участника первой мировой войны, отличавшегося недюжинной храбростью (повествование ведется от первого лица, так что сходство с автором полное), искусственные пчелы, которых
126
«разводит» в своем саду миллионер Цаппарони (стоимость каждой равняется стоимости самолета, «продуктивность» в тысячу раз выше, чем у натуральной пчелы), представляются существами, которые не только нарушают мировой порядок, «космический чертеж», но и грозят концом мира, уничтожением живой жизни.
Антиутопии Юнгера написаны маловыразительно с «миметической» точки зрения: живая жизнь, поборником которой всегда выступает этот писатель, мало дается его перу. Плакатность характеров, схематичность сюжета, туманность и многословность рассуждений, некоторая выморочность в изображении любви, полное отсутствие юмора, иронии — все это слишком существенные недочеты для сколько-нибудь жизнеспособного художественного произведения. Держатся романы Юнгера другим — постоянно просвечивающим в них символическим планом, неотвязной тяжестью масштабных проблем, освещаемых с классических позиций позднебуржуазного нигилизма, столь притягательного и для творцов массового чтива.
В отличие от утопий предшествующих веков, утопий гуманистических, рожденных историческим оптимизмом и верой в прогресс, западные антиутопии нашего века — и Юнгеровы в том числе — детища глубокого кризиса буржуазной культуры. Они возникли в момент, когда могучий некогда «дух» глубоко засомневался в себе. Как показывает пример Юнгера, сомнение это относится к homo sapiens как виду вообще, как случайной ошибке природы, нелепой прихоти эволюции. «Четвертичный период опрокидывается навзничь»,— писал Готфрид Бенн1. Юн- гер вторит ему в пространных пассажах о «глобальных мутациях», предстоящих всему живому,— с совершенно неясным исходом.
Эссеистика Юнгера, в которой постоянно возникают те же, что и в его романах, мотивы, эстетически, конечно, более убедительна. Именно в эссе — особенно 50-х годов — всего отчетливее и закончен¬
1 Цит. по: К. L. Tank. Was wird aus dem Menschen? Aspekte des utopischen Romans. — In: «Wandlung undWieder- kehr. Erast Jiinger zum 70. Geburtstag*. Aachen, 1965, S. 216.
127
нее проявился «типичный Юнгер» как стилист. Щеголеватость укрощенного ритма, стерильность языка, переходящая в некоторую искусственность, но не препятствующая туманностям и недомолвкам, легкое жеманство при сугубо «мужской» дисциплине энергично укороченной фразы, претенциозность словаря и оборотов — вот характерные признаки этого стиля, как и отмеченная уже сугубая серьезность тона: Юнгер один из самых неулыбчивых писателей в немецкой литературе, по давней склонности тяготеющей к иронии.
«Ежеосенне является ангел меланхолии. Нам бы следовало жертвовать ему, а не бежать. Это один из способов подготовиться к мистерии смерти: умирание также требует упражнения»,— таков зачин эссе «Ноябрь». В эссе «Декабрь» —дальнейшая эксплуатация красивости, в которую облечен жутковатый мотив: «Октябрь окрасил листву, ноябрь срезал ее, декабрь покрывает все своим саваном. Так следуют друг за другом созревание, умирание и окончательная смерть» 1. В этих цитатах отмеченные особенности стиля налицо, они не утрачиваются или почти не утрачиваются даже в переводе. Характерна для эссеистики Юнгера и эта установка на выявление общего плана, просвечивающего за внешними признаками, стремление вскрыть общую связь — или профанировать вскрытие общей связи — всех происходящих в природе и истории процессов. Такая «всеобщность» и «глобальность» в соединении с красивостью и подчеркнутой, холодноватой «чистотой» слога знакома и той части «массовой литературы», которая отличается «культурными» претензиями — в эпоху формирования духовного мира Юнгера к таковой литературе принадлежали бесчисленные бульварные романы Гедвиги Курте-Малер, наводнившие книжный рынок Германии 10-х годов. Вполне возможно, что вкус Юнгера-литератора сформировался не без участия этих звонких, хоть и пустоватых книг.
Если писатель, производящий «массовую литературу», постоянно ориентируется на рыночную конъюнктуру, то и писатель «массово-элитарный», в на¬
1 Е. J ti n g е г. Grenzg&nge. Stuttgart, 1966, S. 64—69.
128
шем определении, не может оставаться глух к тем или иным изменениям в духовной ситуации и интеллектуальных интересах своих современников. Об этом как раз лучше всего свидетельствует эссеистика Юн- гера 50-х годов. В самом начале десятилетия вышло несколько сборников эссе Юнгера, выделяющихся в его творчестве особой отделанностью языка и концентрированностью свойственной ему в это время проблематики: «За линию» (1950), «На каменистом побережье» (1951), «Прогулка по лесу» (1951), «Три булыжника» (1952). Все они написаны с заметной оглядкой на время.
Духовная ситуация Германии после «нулевого» — сорок пятого — года характеризовалась модой на экзистенциализм, понимаемый как философия одиночества, культом Кафки. Искали преодоления отчаяния «диалектическим» путем — путем утверждения бессмысленности жизни перед лицом неизбежной смерти. Нигилизм Юнгера пришелся здесь кстати, тем более что его проповедник не замедлил шагнуть в ногу с временем, отказавшись после войны, так бесславно закончившейся для боготворимой нации, от эпитета «героический» и согласившись на более общее и менее обязывающее слово «виталистический».
«гМногие современные писатели Запада чувствуют сейчас, что, как только они начинают относиться к проблемам разрядки действительно серьезно и активно, на их творчество опускается некая завеса замалчивания. Надо, подобно Бернарду Шоу, уметь не позволить затыкать себе рот, а это не всегда легко.
Тем не менее каждый уважающий себя писатель обязан видеть в этом свой священный долг: добиваться того, чтобы его читатели почувствовали, что мир и разрядка не только актуальная, но и увлекательная тема, что война жестока, бессмысленна и бесчеловечна».
Джеймс Олдридж (Англия)
5 Сборник статей
129
Задачу человека в сложившейся ситуации Юнгер видел в терпеливой выработке «новой субстанции», способной в себе самой находить поддержку в борьбе за существование перед неумолимым фоном — «безбожным» или «обезбоженным» холодом мировых пространств: «Мы оказались посреди неизведанного. Надежность здесь значительно меньше прежней — при большей надежде на результат. «Лесные тропы»—удачное сократовское обозначение для этого. Оно указывает, что мы находимся вдали от проторенных дорог, в царстве над-индиви- дуального. Не исключена и возможность катастрофы» (VII, 119).
Нетрудно увидеть здесь перекличку с самым знаменитым немецким философом этого времени Мартином Хайдеггером, отмеченную при случае и самим создателем «атеистического» варианта экзистенциализма в дружеском обращении к Юнгеру: «Мы оба... стремимся к тому, чтобы... освоить планетарное мышление. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что планете на пути ее развития предстоят встречи, до которых встречающиеся еще не доросли...» 1
Одновременно с «героичностью» быстро линяет в 50-е годы и национализм Юнгера. Его все больше привлекают футурология, мифология, геология, история жизни на земле и история земных цивилизаций — отдаленность пространства и времени, в туманности которой национальная проблематика теряется за своей мизерностью. Тем не менее, готовя к изданию десятитомное собрание своих сочинений (1960—1963), Юнгер, хотя и постарался очистить его от пассажей слишком «вульгарного» националистического толка, ни одну книгу своего «националистического» периода полностью не изъял. Кокетливо назвав сочинения этого периода своим «Ветхим заветом», Юнгер тем самым дал понять, что отошел от них только в силу изменившихся исторических обстоятельств, требующих нового осмысления и нового выхода для «виталистического нигилизма».
1 К. О. Рае tel. Erast Jlinger in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg, 1962, S. 125.
130
Всегда чуткий к вопросам технического прогресса, Юнгер сумел дать себе отчет в том, куда может завести мир в наше время националистическая истерия. В развернутом эссе «Мировое государство» (1960) он, хоть и настаивает по-прежнему на иррациональной природе всякого политического противостояния, но уже скептически относится к возможностям национализма, в том числе и немецкого, по вине которого Германия, как он пишет, «дважды потерпела провал на своем пробном камне — России» 1.
«Надежное место всем немцам в государстве будущего» Юнгер теперь хочет обеспечить иным путем — введя их в будущий межнациональный конгломерат единого государства, в котором органично сольются «организм и организация». Л там, где столь важной окажется организация, туманно намекает Юнгер, немцам всегда будет обеспечена не последняя роль. Его мимикрирующая мысль, таким образом, отказываясь от самой себя, сохраняет самой себе верность. Это особенность, свойственная Юнгеру на протяжении всей его творческой жизни.
Одним из главных «евангелий» Юнгера стала книга «У порога времени» (1959). Три дорогие для Юнгера тени продолжают витать и в этой книге: Баховен, Ницше и Шпенглер. От Баховена здесь мистика «матери-земли», отторгнутость современного человека от «неба-отца», его вступление в эру «святого духа» (Баховен подкрепляется ссылками на средневековых мистиков и астрологов), пройдя через которую, он вернется — на новой основе — к «утраченному раю», «золотым» мифологическим временам. Любопытно, что в связи с констатацией ухода в прошлое «патернитарно-героической» фазы человеческого развития и приближения фазы «матери-земли» Юнгер заметно подобрел к «женскому» началу и тем самым к славянству. Он даже сочувственно ссылается на книгу пропавшего без вести на фронтах второй мировой войны некоего Шубарта «Европа и душа Востока», в которой говорится о том, что «Восток выдвинет третий завет с образом
1 Е. J u n g е г. Der Weltstaat. Stuttgart, 1960, S. 34.
132
новой земли» и что «большую роль при этом будет играть Россия» 1.
От Ницше в этой книге — рассуждения о сверхчеловеке, которым Юнгер придает «коллективный» характер: в его трактовке «элита» увлечет за собой в новое будущее все человечество или, вернее, ту его часть, которая уцелеет после всемирной катастрофы. От Шпенглера — привычное противопоставление цивилизации и культуры, отрицание прямого пути исторического развития и непрерывного прогресса. Однако если раньше Юнгер рьяно раздувал вслед за Шпенглером и националистическое кадило, то теперь этот чад основательно поубавился. Кроме того, Юнгер порицает Шпенглера за его замкнутость в «историцизме», за непонимание «космической» природы человека. В этой книге повсюду отчетливо видны следы знакомства Юнгера с сочинениями другого известного современного мыслителя — француза Тейяра де Шардена.
Вслед за французским философом Юнгер рассматривает социально-политическую историю как звено в общем гео-биологическом развитии планеты, характеризующемся накоплением сил разума, который стоит на распутье: уничтожить себя или достигнуть всеобщего счастья. Главной мыслью Юнгера, по словам одного из западногерманских интерпретаторов, становится то, что «земля и космос по-новому воздействуют на человека, что они намерены преобразовать его, поднять на новую ступень сознания» 2. Поддастся ли такому «преобразованию» человек или в слепом порыве погубит себя — вопрос остается, по Юнгеру, открытым.
Разработанная в книге «У порога времени» проблематика варьируется затем в эссеистике Юнгера 60—70-х годов (сб. «Тип, имя, образ», 1963; «Ad hoc», 1970; «Боги и числа. Филимон и Бавкида», 1974, и др.). Именно с этими книгами Юнгер вступил в почтенный, «библейский» возраст, удостоившись за них западногерманской премии имени Шиллера и премии Большого Золотого орла, присуждае¬
1 Е. J й n g е г. An der Zeitmauer. Stuttgart, 1969, S. 313.
2 S. Be in. Enrst Jtingers neue Stunde.— «Neue deutsche Hefte*, 1975, № 1.
133
мой на Международной книжной ярмарке в Ницце (к восьмидесятипятилетию, последовавшему в 1978 году, после того как вышел последний — вновь антиутопический — роман Юнгера «Оймесвиль»).
Написаны все эти книги с привычной для Юнгера, несколько натужной («прусской») элегантностью. Можно отметить, что с годами в писаниях Юнгера нарастает невнятность, его произведения становятся все более трудны для понимания и истолкования — Юнгер словно боится быть пойманным на слове, истолкованным буквально: видимо, эффект от прямодушия первых книг явился достаточно сильным шоком на долгие годы. Может быть, отсюда эта намекающая, ускользающая манера позднего Юнгера, которую один западногерманский критик верно определил, сказав, что «Юнгер много дает укусить, но мало насытиться».
В эссе «Боги и числа» вновь возникает знакомый по предшествующим сочинениям Юнгера мотив противопоставления цивилизации и культуры, техники и поэзии, на сей раз выступающих в отраженных символах «изобретения» и «изображения», «числа и божества». Мистическая дымка, постоянно витающая, к слову сказать, в эссеистике Юнгера, усугубляется здесь хаотическими перескоками внутри афористически оформленных и пронумерованных главок от мифологии к истории культуры (изобилие материала прекрасно характеризует библиотеку автора), к различным знакам и признакам нашего времени, свидетельствующим о нарастании самодовлеющей роли числа, о вытеснении индивидуальности среднестатистическим имяреком (нумерация улиц в Нью-Йорке, рекордомания в спорте, когда, в отличие от античных времен, не столько почетно звание чемпиона, сколько титул рекордсмена, и т. п.).
«Филимон и Бавкида»—эссе-реквием по погибшей в авиационной катастрофе супружеской паре, друзьям Юнгера. Начиная с Овидиевой версии старой легенды о супругах, мечтающих не разлучаться и в смерти, Юнгер прослеживает этот мотив на протяжении многовековой истории культуры и как бы выворачивает его наизнанку, приближаясь к современности. Юнгера завораживает трагическая ба¬
134
нальность смерти, предуказанной статистикой. Тем самым он словно возвращается к своей исходной точке, ибо эта тема занимала и юного лейтенанта Юнгера, писавшего в окопах свою первую книгу. И вот былая героизация смерти сменяется полвека спустя призывом к мужеству перед лицом неизбежного. Былой безудержный национализм заметно умеряется в позднейших сочинениях Юнгера, ибо даже такого заведомого ретрограда в наше напряженное время не может не тревожить будущее: на карту поставлено существование самой жизни. Эволюция эта — как ни трудно за туманностью разглядеть отдельные ее звенья — поучительна в высшей степени, и думается, что наш век повинен в ней больше, чем сам писатель.
Отпечаток этой эволюции можно обнаружить и в романе «Рогатка» (1973), над которым Юнгер работал на протяжении 60-х годов. Роман этот оказался сюрпризом для критики. Прежде всего, престарелому писателю впервые в его художественной практике в значительной степени удалось то, что никак не удавалось раньше,— живые характеры. Снискавший себе славу холодного циника, пристально вглядывающегося в корчи живых существ (редкий критик забывал упомянуть, что, зоолог по образованию, Юнгер собственноручно нанизал на иголки более тридцати тысяч жуков), здесь он вдруг обнаружил некоторую жалость к заведомо «слабому» герою — так сказать, пустил старческую слезу. Этот герой — робкий, одинокий сирота-гимназист начала века. В основанном на личных воспоминаниях романе нарисована характерная для вильгель- мовской Германии картина унылой гимназической жизни в глухом, провинциальном городке. В центре романа два одноклассника — сорвиголова, предводитель хулиганствующей ватаги Тео (в котором нетрудно узнать самого автора накануне его побега в Иностранный легион) и забитый, преследуемый неудачами Кламор. Впервые в творчестве Юнгера такая «негероическая» фигура, как Кламор, удостоена снисходительного отношения.
Впервые в прозе Юнгера никаких головоломных загадок, никакого смутного, не поддающегося однозначной расшифровке символического плана — во
135
вполне ясных, отчетливых очертаниях предстает знакомый уже по литературе мир, не раз запечатленный немецким эпосом от Фонтане до Фаллады: ученики и учителя, за которыми — общество с его церковью, милитаризацией, эмансипацией, мечтами и порывами вступающего в жизнь поколения. Что же касается так любимой Юнгером националистической темы, то она возникает в непривычном ракурсе: в рассуждениях сатирически обрисованного учителя, напоминающего даже Гнуса из известного романа Генриха Манна. Так, подметив большое распространение темы ревности у скандинавов — Ибсена, Стриндберга, Мунка, сей ревнитель «здоровья расы» делает глубокомысленный вывод: «Германец всегда загнивает сверху — с головы и с севера» !.
Впрочем, до социальной сатиры масштаба Генриха Манна Юнгеру, конечно, далеко: эта сатира иногда лишь и скорее ненароком вырывается у него из-под пера. Социальные мотивировки вообще затушеваны в его романе. Общество, по Юнгеру, живет по зоологическим законам — тут он остался верен себе. Так, столкновение между Кламором и гимназическим врачом напоминает ему «даже не встречу между кошкой и собакой, но встречу между змеей и мангустой, где-нибудь в прибрежных камышах на Ниле, в час, когда солнце стоит вертикально» 1 2. Юн- гер по-прежнему не сомневается, что в природе вещей, в глубинах самой жизни заложена неискоренимая жестокость. И она в свой час все равно скажется и проведет свой неумолимый отсев, так что вовсе не обязательно «помогать» ей и можно даже позволить себе пококетничать «милостью к падшим».
Последний роман Юнгера, «Оймесвиль», как уже отмечалось, представляет собой еще один из вариантов излюбленных Юнгером антиутопий. Оймесвиль (эта контаминация разноязыких корней означает примерно «город золотой середины») выступает в романе как столица военной диктатуры, которой суждено установиться на земле в далеком будущем.
1 Е. Junger. Die Zwille. Stuttgart, 1973, S. 81.
2 T а м ж e, c. 323.
136
Весьма манерная по стилю книга построена как запись размышлений юного Мартина Венатора, «ночного стюарда» при дворе диктатора Кондора. Картина будущей шаблонизированной жизни дана остраненно, глазами индивидуалиста, предпочитающего вольную жизнь природы и заключенную в старинных книгах игру ума «стадному счастью». Впрочем, герой вовсе не чужд мирских утех и наряду с уединением на природе с книгой в руках также с увлечением придается эротике. Сам Венатор называет себя «анархом», то есть человеком, который способен жить один. Выработка такого типа личности является, по Юнгеру, одной из возможных задач в современной кризисной ситуации буржуазного мира, когда в горниле острых социально-политических противоречий, коллизий, военных конфликтов, возникновения военных диктатур, повсеместно ширящихся террористических акций и т. п. должен выработаться тип будущего общества и человека.
Кто же в этом обществе будет господствовать? Отнюдь не просвещенные «анархи», а диктатор Кондор, ставший генералом сын унтер-офицера (а если вспомнить, что унтер-офицером был Гитлер, то намечается вполне определенная родословная). Оймес- виль — типично тоталитарное государство, где «твердый порядок» поддерживается всеобщей слежкой, полицейским террором, циничным политиканством. Народу взамен свободы предлагаются пресловутые «хлеб и зрелища». Венатор убежден, что бороться с хитрыми и жестокими правителями бессмысленно, потому что их сменят еще более хитрые и жестокие. Он предпочитает оставаться «чистым созерцателем», озабоченным в первую голову тем, чтобы не портить отношения с власть имущими — с всемогущим диктатором и его окружением.
«Поздний» и «умудренный» Юнгер по возможности избегает фанфарных деклараций, которые принесли ему в свое время сомнительную славу поэта войны и жестокости, сторонника «морали господ». Ныне писатель предпочитает спекулировать на весьма ходком товаре — на проблемах будущего, но по-прежнему упорно утверждает, что «мировой дух непрогрессивен». Венатор из «Оймесвиля» презирает «гуманитарные фразы демократов», глумит¬
137
ся над понятиями «свобода, равенство, братство». В его образе Юнгер воплотил свою давнишнюю мечту о «прозревшей» наконец интеллигенции, навсегда оставившей бессмысленные нападки на власть и подрывное, разлагающее подстрекательство, интеллигенции, сознательно служащей «аристократической» силе, держащей в крепком кулаке планетарный порядок.
В этом, несомненно, и состоит притягательность Юнгера для блюстителей сложившегося на Западе социального порядка. Юнгер призывает этот порядок укрепиться и «выжить», не очень разбираясь в средствах,— ведь и природа не останавливается перед жертвами, когда надо проложить дорогу эволюции.
В этом состоит и несомненное «преимущество» Юнгера перед многочисленными бульварными писаками, насаждающими в своих книгах насилие и жестокость. Те только «щекочут нервы», Юнгер предлагает программу, идеологию.
В этом и особая опасность той «элитарно-массовой» литературы, которую представляет и воплощает в себе Юнгер. Она не примитивна, ее трудно уличить в безграмотности. Она улавливает дух времени и спекулирует на нем, беря на вооружение отдельные перспективные тенденции мысли, по-своему переиначивая их, прилаживая к своим целям. А цели эти прежние, стародавние: прикрываясь теориями о неизбежной победе «общей» и «безликой» жизни над индивидуальностью, огнем и мечом проложить дорогу в царство будущего «расе господ», «аристократии духа». Антигуманный и антидемократический аспект этой программы особенно зловещ в ситуации нашего века.
И. Фрадкин
ТРИВИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА — КОМУ ОНА СЛУЖИТ?
15.0 романов одного писателя за 8 лет. Особый род письменности — тиражирование пошлости. «Я пишу исключительно ради денег...» 357 миллионов экземпляров романов-тетрадок за два года. Индустриальные методы поточного производства женских, почвенных, научно-фантастических, солдатскпх и детективных романов. Рецепты творчества издательства «Ба- стай».
♦Моя профессия: писать! Я не Хемингуэй и также не Ремарк. Я не знаю, смогу ли я написать бестселлер. Поэтому я пишу то, что мне приносит деньги. Все остальное не играет никакой роли. Спорить о том, правильно ли это или неправильно, я предоставляю другим. Больше мне нечего об этом сказать... »
♦Если я могу работать, не отвлекаясь, то мне требуется для одного романа примерно пять дней. Ведь шаблон уже заранее имеется в наброске. Я его отесываю и подгоняю... Спорить о том, правомерна ли такая литература, я считаю абсурдным. Конечно, правомерна...»
Не правда ли — странные в устах писателей заявления? Они отнюдь не свидетельствуют об уважении к литературе и своей собственной роли в ней. Но и ноты самокритичные и тем более покаянные в них тоже не звучат. Авторы этих заявлений не обременены, видимо, никакими сомнениями, и о своей профессии они рассуждают цинично и — надо отдать им должное — вполне откровенно. Это, разумеется, не писатели в истинном смысле; приведенные слова принадлежат двум западногерманским сочинителям того низкопробного чтива, кото-
© «Вопросы литературы», 1973, N® 8.
139
рое в ФРГ принято называть ♦тривиальной литературой».
♦ Тривиальный» происходит от латинского слова
♦ trivialis», что значит: находящийся на перекрестке трех дорог, уличный. В немецком языке (как и в русском) ♦ тривиальный» соответствует понятиям
♦ избитый», ♦пошлый», ♦плоский». Слово это в повседневной обиходной речи почти уже вышло из употребления, в нем ощущается привкус архаичности, оно отдает XIX веком. И в том, что это архаичное слово сохранилось для обозначения современной ♦ массовой литературы» ФРГ, есть, как мы увидим, свой резон.
1
Литература Федеративной Республики Германии — литература, значительная в социальном и эстетическом отношении и числящая в своем составе немало ярких талантов. Первые ее ростки появились среди материальных и духовных руин той национальной катастрофы, в которую гитлеризм вверг немецкий народ, и страшная память о фашизме и войне определяла и по сей день определяет пафос творчества лучших западногерманских писателей. Нет нужды — это заняло бы слишком много места — перечислять имена этих писателей и названия их произведений: они хорошо известны.
Но рядом с этой литературой, заслуженно почитаемой во всем мире, в ФРГ безбедно существует и по-своему ♦процветает» и особый род ♦письменности», ничтожной в идейно-художественном отношении, но массовой, многотиражной, оказывающей влияние на миллионы читателей,— тривиальная литература. Среди всех видов литературы в ФРГ тривиальная литература в смысле организации ее производства и сбыта представляет собой совершенно особую область. Эта область управляется по особому уставу, в ней действуют свои специфические, лишь для нее одной предназначенные институты. Одним из таких ключевых институтов, определяющих всю организационную структуру тривиальной литературы, являются частнопрокатные библиотеки.
140
Частнопрокатные библиотеки в Германии имеют свою историю, но в течение последних трех десятилетий их основная функция заключается в распространении тривиальных романов. По данным западногерманского социолога Ф. Книлли, опирающегося на специально проведенные конкретные социологические исследования, «произведения высокой литературы составляют в среднем от одного до трех процентов всего книжного фонда частной библиотеки»;1 все же остальное (97—99 процентов) — прими, вестерны, милитаристское чтиво, любовно-сентиментальный «китч» и прочие разновидности «массовой литературы».
О масштабах распространения этой литературы через частнопрокатные библиотеки можно судить по следующим цифрам. В ФРГ и в Западном Берлине насчитывается около 28 тысяч частных библиотек. Обследование, произведенное выборочно в четырех городах (Западный Берлин, Гамбург, Регенсбург и Маннгейм), показывает, что в среднем фонд частнопрокатной библиотеки состоит из 3716 книг. Если даже эту цифру признать завышенной (имея в виду, что для средних и малых городов, составляющих большинство не охваченных обследованием объектов, характерны библиотеки с не превышающим трех тысяч книг фондом), то все равно окажется, что частнопрокатные библиотеки располагают в общей сложности почти стомиллионным фондом низкопробных романов всевозможных видов и жанров. Книги эти на полках не застаиваются. По данным того же обследования, каждая библиотека производит в среднем 11450 книговыдач в год, а все частные библиотеки — более 300 миллионов книговыдач, то есть по шесть книговыдач на каждого взрослого жителя ФРГ.
В первые годы после войны в некоторых западногерманских провинциях (Вестфалия и Северный Рейн) были предприняты робкие попытки ввести весьма умеренные формы государственного надзора над частнопрокатными библиотеками, выражающегося, между прочим, в проверке профессиональной
1 Bemd von Arnim und Friedrich Knilli. Gewerbliche Leihbiichereien. Giitersloh, 1966, S. 143.
141
пригодности владельцев. Но уже в 1948 году меры эти были опротестованы, отменены, и во всех западных зонах, а затем и в ФРГ восторжествовал принцип «неограниченной свободы промысла». О плодах этой «свободы» говорят сведения, полученные путем опроса владельцев библиотек. 72 процента опрошенных обучены профессиям, далеким от книжного дела, 9 процентов вообще не имеют профессии, 7 процентов предпочли уклониться от ответа на вопрос, и всего лишь около 12 процентов имеют «книжные» профессии. Подавляющее большинство владельцев прокатных библиотек — люди невежественные, отнюдь не книжные и не способные сколько-нибудь компетентно судить о предмете, коим они промышляют. В их глазах книга ничем не отличается от любого другого товара, способного приносить доход. А если так, то почему, собственно, ограничивать свою коммерческую деятельность только книгой?
Не удивительно поэтому, что из 28 тысяч платных библиотек лишь 3 тысячи являются собственно библиотеками и не чем иным, как только библиотеками. В ФРГ насчитывается 25 тысяч так называемых «также библиотек» (Auch-Leihbiicherei), где, в отличие от 3 тысяч «только библиотек» (Voll-Leih- biicherei) выдача книг сочетается с прокатом или продажей любых других потребительских товаров — музыкальных инструментов, спиртных напитков, табачных изделий, строительных материалов и т. п. Распространенные комбинации: парикмахер — он же содержатель прокатной библиотеки, соединяющий брадобритие со снабжением клиентов развлекательным чтивом; владелец ателье химчистки с книгами на витрине и на прилавке; «книги напрокат между салатом и спиртными напитками» 1 и т. д.
Коммерческое отношение владельцев библиотек к книге сказывается не только в способе ее проката, но и в цинично безответственном стремлении извлекать барыши даже из самых гнусных в общественно-нравственном смысле писаний. Так, с 1956 года
1 В. vonArnim und F. К n i 11 i. Gewerbliche Leihbiiche- reien, S. 80.
142
по апрель 1961 года федеральное бюро по контролю над вредной для юношества литературой внесло в индекс 428 тривиальных романов. Но несмотря на запрещение содержать книги из индекса в составе платных библиотек, все же каждая сороковая книга в этих библиотеках значится, по данным Ф. Книл- ли, в индексе и потому выдается из-под полы, а каждый четвертый или даже третий детективный роман принадлежит перу занесенных в индекс авторов.
Социальный состав читателей частнопрокатных библиотек прежде всего определяется тем, что эти библиотеки — один из наиболее дешевых и доступных путей к книге. Книга в ФРГ — предмет очень дорогой, а частнопрокатным библиотекам тривиальный роман достается от соответствующих издательств дешево — в среднем по цене 5 марок 10 пфеннигов. Это дает возможность владельцу библиотеки установить прокатную таксу — 40 — 50 пфеннигов за книгу в неделю. За те деньги, которые ему пришлось бы потратить на покупку одного романа в книжном магазине, читатель частнопрокатной библиотеки может прочесть до 50 романов. Поэтому частнопрокатные библиотеки — прежде всего ♦культурный очаг» малоимущих слоев населения. Более половины их читателей составляют домашние хозяйки и пенсионеры.
Из этого ни в коем случае, однако, не следует делать вывод, что тривиальная литература в целом — исключительное достояние, как выражались в XIX веке, ♦кучеров и дворников». Эту литературу — в особенности некоторые виды ее (детективный, ♦шпионский», научно-фантастический, солдатский романы) — запоем читают и многие представители в социальном отношении высокопоставленных кругов, государственные чиновники, ♦деловые люди», лица свободных профессий... Но среди читателей частнопрокатных библиотек они не фигурируют по двум причинам: это могло бы повредить их репутации и отрицательно сказаться на их социальном престиже, а кроме того, им вполне доступны и другие, более дорогие, пути к тривиальной книге.
В последние годы в ФРГ подчас высказывается
143
мнение, что частнопрокатные бйблиотеки начинают утрачивать свои позиции в сфере культуры и средств массовой коммуникации, что вследствие прогрессирующей экономической нерентабельности «платные библиотеки становятся промыслом без будущего. Однажды они, по всей вероятности, вовсе исчезнут» Такой прогноз пока не подтверждается сколько-нибудь убедительной статистикой. Но если даже допустить, что для тривиальной литературы в частнопрокатных библиотеках в самом деле наступают трудные дни, то из этого не следует, что тривиальную литературу начинает теснить хорошая литература — ее теснит тривиальное телевидение, выполняющее ту же социальную функцию, удовлетворяющее те же мещанские запросы. Ее теснят иллюстрированные журналы, серийные выпуски романов-тетрадок и т. п.
Пока все же отпевать частнопрокатные библиотеки еще рано, тем более что они представляют собой не только один из самых популярных и массовых каналов потребления и распределения тривиальной литературы, но вместе с тем и орган, тесно связанный с процессом ее производства. Существование частнопрокатных библиотек вызвало к жизни институт издательств частнопрокатной книги, то есть издательств, выпускающих отдельными изданиями, на основе строго индустриальных методов организации литературного труда и производства, романы, тираж которых (большей частью по подписке или договорам между издательствами и библиотеками) полностью поступает в частнопрокатные библиотеки и распространяется исключительно через них.
По данным журналиста Р. Шиллинга, в 1955 году в ФРГ и Западном Берлине существовало 40 издательств частнопрокатной книги, выпускавших в год до 5 тысяч названий, то есть, при среднем тираже около 2 тысяч экземпляров, снабжавших библиотеки ежегодно десятью миллионами новых тривиальных романов1 2. Другой журналист, В. Нутц,
1 В. von Arnim und F. К n i 11 i. Gewerbliche Leihbiiche- reien, S. 132.
2 Cm.: R. Schilling. Literarischer Jugendschutz. Neu- wied — Berlin — Darmstadt, 1959, S. 59.
144
приводит более осторожные и, видимо, более точные сведения (правда, относящиеся уже к 1960 г.): <29 заслуживающих упоминания издательств» — около 1800 названий в год — тираж каждого одна-две тысячи экземпляров — общая продукция 1800 тысяч — 3600 тысяч книг ежегодно.
В деятельности издательств частнопрокатной книги отсутствует даже самое отдаленное стремление придать выпускаемой ими продукции видимость художественности. Все поставлено на производственную ногу, организовано по правилам поточной индустрии. Издательство выпускает в месяц определенное количество названий тривиальных романов, строго регламентированных в смысле жанра, сюжета, характеров, языка, стиля и даже объема (16—17 листов, то есть 256—272 страницы книжного текста). Для этого оно содержит на договорных началах авторов, которые регулярно в заранее определенные сроки поставляют издательству рукописи, отвечающие предуказанным кондициям. Эти рукописи издаются не под именем автора, а под каким- нибудь звучным псевдонимом, который принадлежит, тдк же как и рукопись, издательству. Последнее имеет право, не согласовывая с автором, исправлять и переделывать рукописи по своему усмотрению и выпускать рукописи разных авторов под общим псевдонимом. Романы наиболее плодовитых авторов, которые успевают сочинять по 15—20 книг в год (таких немало), выходят под разными псевдонимами. Все это делает установление индивидуального авторства почти невозможным: проблема ♦ атрибуции» тривиальных романов окажется едва ли посильной даже для Эркюля Пуаро или комиссара Мегрэ.
В. Нутцу удалось, однако, разыскать четырнадцать таких ♦законспирированных» авторов тривиальных романов. Это люди от 18 до 50 лет, написавшие каждый от 4 до 200 романов, выступающие под псевдонимами — некоторые имеют до семи псевдонимов. Интервью, которые взял у них В. Нутц, ярко характеризуют нравы, царящие в сфере производства ♦ массовой литературы», и распространенные в ней представления о социальной функции этой
145
литературы. Вот некоторые из типичных в этом смысле высказываний:
♦Я пишу исключительно ради денег... Сама я никогда женский роман и в руки бы не взяла. Да, когда я начинала, я прочла несколько штук, чтобы вработаться в это дело. Теперь же я не стану перечитывать даже мои собственные книги...»
♦По моему мнению, в оценке этой литературы обычно исходят из совершенно неверных предпосылок. Беллетристическая книга или художественный роман не имеют ведь с тривиальным романом ничего общего, кроме внешнего вида. И только. Критики тривиального романа всегда выступают с аргументами, уместными лишь в отношении высокой литературы. Я отдаю себе отчет в том, что я произвожу рыночный товар. У меня нет никакого литературного честолюбия...»
♦ 150 романов за 8 лет — это больше чем по одному роману ежемесячно... Когда я писала романы из аристократической жизни, у меня были трудности с именами героев. Но одна моя приятельница имеет чистопородную таксу с родословной. Вы не представляете себе, как полезна такая собачья родословная для аристократической литературы...»
♦ Извините, пожалуйста,— я не пишу тривиальных романов! То, что я пишу,— это народная литература! Я отлично знаю, что интеллигенты над этим посмеиваются, но это именно так... В моих романах ничуть не меньше проблем, чем в интеллектуальных романах. Но только мои — народные...» 1
Авторы тривиальных романов — люди разные, с разной судьбой и разным отношением к своему ремеслу. Есть среди них неудавшиеся писатели, затаившие в себе горькое чувство уязвленности, есть и спокойные, безмятежные (или желающие казаться таковыми) апологеты своей профессии, убежденные философы тривиальной литературы. Вырисовываются три характерные позиции: циничная (пусть будет по-вашему, то, что я пишу, дрянь, если угодно, даже вредная дрянь, но я на этом хорошо зарабатываю, а до всего остального мне нет дела!),
1 Walter Nutz. Der Trivialroman, seine Formen und seine Hersteller. Koln und Opladen, 1962, S. 88—95.
146
контрнаступательная (пожалуйста, не оскорбляйте меня; если я не признаю герметической, эзотерич- ной, изысканно-интеллигентской литературы, то это еще не значит, что я — тривиальный автор; я — народный писатель и пишу для простых людей со здоровым вкусом!), профессионально-респектабельная (я не обольщаюсь и знаю, что мои романы к настоящей литературе отношения не имеют, и не судите меня по законам настоящей литературы; я ремесленник и поставляю заказчикам товар так же, как это делает портной или сапожник, но я — честный ремесленник, заказчики моим товаром довольны, и у меня нет оснований стыдиться моей профессии).
Частнопрокатный комплекс может рассматриваться как своего рода «срез», он дает достаточно полное представление об организационно-социологической структуре западногерманской «массовой литературы» в целом, о всех ее звеньях, от исходного до заключительного (автор — издательство — библиотека — читатель). Но этот комплекс представляет лишь сравнительно небольшую часть всего объема производимой и сбываемой в ФРГ тривиальной литературы. Значительно большая часть приходится на конкурирующие с частнопрокатными библиотеками институты.
Наиболее успешный конкурент — телевидение, в области же литературы — серийные выпуски романов-тетрадок. Это одна из наиболее традиционных форм «массовой литературы», восходящая к последней трети XIX века. Но особенно явного расцвета этот вид печатных изданий достиг в 60—70-е годы. «Тираж и число читателей романов-тетрадок едва
«Писательство превратилось в слишком специальную область, которой недоступно широкое воспроизведение действительного опыта. Оно стало ремеслом, чистым ремеслом, и ему необходимы радикальные средства, чтобы прорваться к действительности ».
Роберт Лоуэлл (США)
147
ли нуждаются в каком-либо комментарии — они говорят сами за себя. Тираж оценивается в 120— 150 миллионов экземпляров, число читателей — в 500 миллионов в год» 1. Таковы были данные в конце 50-х годов. В 1964—1965 годах тираж романов-тетрадок увеличился почти втрое и составлял, по сведениям литературоведа из ГДР К. Цирмана, 357 миллионов экземпляров2.
По своему содержанию романы-тетрадки ничем не отличаются от частнопрокатных тривиальных романов: это те же стереотипные женские, почвенные, научно-фантастические, солдатские и пр. романы, вестерны, крими и т. д., построенные по тем же убогим правилам. Иногда это просто переиздания тех же романов: разница лишь в полиграфическом оформлении и в организации сбыта. Романы-тетрадки делятся на серии соответственно их жанру и тематике, чтобы читателям было легче ориентироваться и выбирать. Каждая серия имеет свою изобразительную эмблему и свое звучное «кодовое» название. В 1964—1965 годах 10 издательств выпускали 87 таких серий, еженедельно по одному роману в каждой серии — на газетной бумаге, в мягкой пестрой обложке, карманного формата, а главное, по цене 70—80 пфеннигов. При такой дешевизне роман-тетрадка не может быть предметом частнопрокатного промысла, но зато успешно конкурирует с ним.
В издании романов-тетрадок индустриальные методы поточного производства применяются наиболее строго и последовательно. В качестве примера можно взять одну из самых популярных детективно-приключенческих серий, выпускаемую издательством «Бастай» еженедельным тиражом 280 тысяч экземпляров, серию об американском сыщике-су- пермене, агенте ФБР Джерри Коттоне. В издательстве существует специальная группа редакторов (вроде КБ на производстве), задача которых находить все новые сюжетные сюрпризы для предстоя¬
1 В. von Arnim und F. К n i 11 i. Gewerbliche Leihbiiche- reien, S. 131.
2 Cm.: Klaus Ziermann. Romane vom Fliessband. Berlin, 1969, S. 112.
148
щих выпусков серии и придумывать еще не примелькавшиеся, оригинальные способы убийств и совершения других преступлений. Для этого изучается мировая криминалистическая и общая пресса и из нее извлекаются «находки»: зубной врач, вставляющий ядовитые пломбы «замедленного действия», дрессированные собаки, бросающиеся со взрывчаткой под машину, перевозящую золото из банка, и т. п. Когда «изюминка» найдена, редактор передает заказ группе авторов, которые пишут очередной роман, руководствуясь общей инструкцией, разработанной издательством для своих авторов. Эту инструкцию, напоминающую соответствующие документы по технологии производства, небезынтересно процитировать:
«Романы издательства «Бастай» должны быть свободны от всяческих вредных для юношества моментов. Посему в тексте следует избегать: а) реалистического описания убийств, драк и пыток; б) не вызванного необходимостью и бессмысленного применения грубого насилия; в) садизма и прочих извращений; г) изображения преступников в симпатичном свете (например, преступник со своей «воровской честью»); д) оправдания преступления психологическими мотивами, умаления или возвеличения преступления. В каждом случае преступление должно быть недвусмысленно охарактеризовано как преступление; е) изображения властей и сил поддержания порядка как коррумпированных и преступных. Лица, которые должны представлять право, порядок и мораль (судьи, священники, полиция и т. д.), ни при каких обстоятельствах не должны действовать преступно; ж) оправдания незаконных методов борьбы с преступлениями. Герой, который стоит на стороне закона, не должен совершать взломов, не должен признавать кулачного права, учинять самосуд, силой вымогать показания; з) дискриминации народов, рас, религий, брака, семьи, искусства и науки; и) возвеличения и преуменьшения серьезности войны; к) реалистического изображения интимных отношений и других сексуальных действий, возвеличения и оправдания до- и внебрачных связей и легкомысленного отношения к нарушению супружеской верности; л) калеченья языка,
149
вульгарных выражений и немотивированного гангстерского жаргона...» 1
Эту инструкцию не следует понимать совсем уж буквально. Автор, который придерживался бы ее скрупулезно, рисковал бы при сдаче рукописи услышать, что роман слишком стерилен, не вызывает азарта, короче говоря — скучен. Фактически, конечно, какая-то щепотка пряностей (из числа запрещаемых инструкцией) «для вкуса» в котел добавляется. Но это обстоятельство не должно мешать нам увидеть в цитированном документе очень показательную тенденцию. Какова же она?
Прежде всего, безусловный и безоговорочный конформизм. Автор обязан внушать читателю благоговейнейшую почтительность по отношению к существующему строю, к его полицейским, священникам, судьям. Должны соблюдаться также добропорядочность, уважение к правилам традиционной морали и мещанского приличия, преданность институтам брака, семьи, религии и т. д. Все это соответствует тем несколько старомодным формам конформизма, которые вообще характерны для немецкого тривиального романа. Вместе с тем эта инструкция отдает дань не только традиционной благопристойности, но и некоторым достойным правилам политического приличия, с которыми даже консервативные круги в ФРГ не могут не считаться. В связи с этим стоит сказать, что представление о западно- германской «массовой литературе» исключительно как о рупоре сплошной и откровенной реваншистской, неонацистской пропаганды было бы несколько упрощенным, не вполне соответствовавшим действительности уже в середине 60-х годов, тем более оно не отражает тенденций, ставших в ФРГ характерными в последующие годы.
Вернемся, однако, к тому конвейеру, по которому установки и инструкции редактора двинулись к рабочему месту авторской группы. Это некий анонимный коллектив, состоящий из шести основных и постоянных авторов и целой своры сменяющихся писак «на подхвате». Издательство требует от авто¬
1 Цит. по: Klaus Kunkel. Ein artiger James Bond.— «Der Monat*, 1966, Ms 208, S. 64.
150
ров соблюдения тайны их авторства, да некоторые из них, имеющие другую, официальную профессию (по сведениям К. Кункеля, среди них есть доцент университета, врач, шеф-повар, судья, журналист), сами в этом заинтересованы, дабы не нанести ущерба своей общественной репутации.
Исходя из полученных установок, на основе рационального разделения труда (один пишет диалоги, другой — специалист по топографии Нью-Йорка, проходным дворам, мостам, канализационным люкам и т. п., третий описывает погони и схватки) авторы изготовляют рукопись, которая поступает далее по конвейеру в своего рода ОТК, то есть на отзыв к группе рядовых потребителей. С этой целью издательство содержит на постоянном жаловании сорок неискушенных (отнюдь не критиков, не журналистов, не специалистов) читателей, отобранных из разных слоев населения. Их оценка — чем непосредственнее и элементарнее, тем лучше — имеет для издательства решающее значение, по их замечаниям производится доработка и исправление рукописи, и в случае одобрения она идет в ротационную машину.
И вот в газетных, табачных и прочих киосках появляется очередной выпуск Джерри Коттона на немецком языке. По данным демоскопического института в Алленсбахе каждый выпуск прочитывается в среднем восемью читателями, то есть за неделю о новых приключениях Джерри Коттона узнает около 2,5 миллиона (по сведениям К. Кункеля, даже более 3 миллионов) западных немцев. А через некоторое время этот выпуск, переведенный на 19 языков, будет продаваться уже в 52 странах. А еще через несколько месяцев новые подвиги ♦Джерри, грозы гангстеров» станут достоянием киноэкранов мира^— следуя за тетрадками, Голливуд выпускает серию фильмов о Коттоне с Джорджем Надером в главной роли.
Частнопрокатный комплекс и романы-тетрадки являются наиболее типичными и массовыми каналами распространения тривиальных романов. К ним еще можно отнести периодическую прессу, печатающую романы с продолжениями: иллюстрированные еженедельники, семейные, женские, юношеские
151
журналы, ежедневные газеты. Особую роль в этом смысле играют иллюстрированные и родственные им по типу (так называемые «журналы для публики») журналы. В 1965 году, например, их общий тираж составил 50 536 тысяч экземпляров в неделю. За предшествующее десятилетие он непрерывно возрастал: тираж журнала «Бунте иллюстрирте» увеличился на 100 процентов, «Штерн» —на 81 процент, «Квик» и «Ревю» — на 60 процентов !. Он продолжает увеличиваться и в настоящее время.
Продажная цена одного номера иллюстрированного журнала (от 80 пфеннигов до одной марки) не покрывает издержек на издание, то есть стоимости бумаги, набора, печати, редакционно-авторских, экспедиционных, управленческих и прочих расходов. Лишь рекламные объявления фирм делают издание рентабельным и доходным — например, в журнале «Штерн» они дают 74 процента общей выручки. Фирмы же в свою очередь помещают объявления лишь в популярных, то есть достаточно многотиражных, изданиях. В этих условиях борьба за тираж становится для иллюстрированного журнала вопросом жизни и смерти. И здесь особое значение приобретает печатающийся с продолжениями роман: он является главным источником успеха иллюстрированного журнала, основной причиной интереса к нему читателей и вообще непременным условием возможности его издания. «Он повышает тираж и привлекает читателей номер за номером к определенному названию. Формула «продолжение следует» становится решающим аргументом продажи и рекламы» * 2.
В каждом номере иллюстрированного журнала наряду с сенсационными описаниями преступлений и преступников, интимными подробностями из жизни сильных мира сего, фотографиями на сексуальные темы, гороскопами и т. п. печатаются очередные главы романа (иногда даже двух* параллельно). Это сразу обеспечивает роману миллионный тираж и создает ему исключительные шансы в смысле возможности дальнейшего распространения. Романы,
См.. Hans Albert Walter. Die Illustrierten. — ♦ Frankfurter Hefte», 1965, № 5, S. 338.
2 Wolfgang Langenbucher. Der aktuelle Unterhal- tungsroman. Bonn, 1964, S. 93.
152
имеющие успех, после иллюстрированного журнала перепечатываются ежедневными — особенно местными — газетами, выходят как бестселлеры отдельными изданиями, переводятся на иностранные языки, экранизируются...
Авторы романов с продолжениями в иллюстрированных журналах получают очень высокие гонорары, достигающие иногда 100 тысяч, а в особых случаях даже 250 тысяч марок за роман. Подобное даже и не снится жалким ремесленникам, поставляющим частнопрокатным издательствам романы по цене 500—600—700, в отдельных случаях 1000 марок за штуку. Правда, романистам иллюстрированных журналов приходится, как правило, часть своего гонорара уступать агентствам и издательствам, выполняющим роль посредников между автором и журналами: даже самые преуспевающие среди авторов тривиальных романов являются жертвами эксплуатации. И все же они представляют собой «элиту» этого сословия. Важное место среди них занимают поставщики особо опасного чтива, авторы милитаристских, неонацистских романов — Вилл Бертхольд, Стефан Оливье и Гейнц Гюнтер Конзалик *.
Укажем в заключение на еще одну форму организации массовой литературы в ФРГ—«книжные общества». К концу 60-х годов одно лишь книжное общество «Берте льсман-Лезеринг» имело приблизительно 3,3 миллиона членов, а всего в ФРГ насчитывалось около 40 книжных обществ (правда, несравненно менее крупных, чем концерн Бертельсмана). На западногерманском книжном рынке около 80 процентов всей реализуемой книжной продукции поступает к потребителю через посредство книжных обществ1 2.
Книжные общества представляют собой коммерческие предприятия, выполняющие посреднические функции между читателями и издательствами. Приход книжного общества составляют ежемесячные членские взносы (от 7,5 до 10 марок). Уплата этих
1 О милитаристских романах см. главу «Поэтика» солдатского романа» в кн.: И. М. Фрадкин. Реставраторы орла и свастики. М., 1971, с. 104—122.
2 См.: Klaus Ziermann. Romane vom Fliessband, S. 68.
153
взносов дает постоянному члену общества право на приобретение в течение года из числа предлагаемых обществом книг на определенную сумму. Книги, приобретаемые через общество, обходятся покупателю на 25—30 процентов дешевле обычной продажной цены. Достигается это тем, что книжные общества заказывают и гарантируют издательству определенные тиражи определенных названий. При достаточной массовости общества оно может без риска для себя заказывать очень высокие тиражи — порядка сотен тысяч, что позволяет издательству существенно снизить цену. Ни издательство, ни общество, ни читатель при этом в убытке не остаются.
Опросы, произведенные среди членов книжных обществ, показывают, что наиболее распространенным мотивом вступления в общество является «возможность приобретать книги по льготным ценам». Эта возможность имеет особое значение для относительно малоимущих слоев населения. Приблизительно 65 процентов членов всех книжных обществ в ФРГ составляют рабочие и служащие. В книжном обществе Бертельсмана лица с месячным заработком до 800 марок образуют основной контингент. 60 процентов всех членов книжных обществ имеют образование лишь в объеме народной, школы. Таким образом, сравнительно низко оплачиваемые трудящиеся образуют социальную базу деятельности книжных обществ.
В этой связи особенно важно подчеркнуть, что книжные общества суть не только коммерческие, но и культурно-политические и идеологические учреждения. С точки зрения рекламы и вербовки они обладают весомыми козырями (льготная цена книги — важнейший из них, но не единственный) и немалой притягательной силой для читателей. Но зато они диктуют своим членам круг их чтения. Выбор возможен лишь в пределах списка книг, включенных в программу данного книжного общества. Программы же эти представляют собой чудо тактического искусства, предусмотрительности и всестороннего учета разных соображений, как коммерческих, так и социально-престижных.
Книжные общества стремятся сохранить свою культурно-просветительную репутацию в глазах об¬
154
щественности и государственных органов. Поэтому, они (в отличие от охарактеризованных выше институтов) не являются учреждениями, исключительно и целиком относящимися к сфере тривиальной литературы. В свои программы они включают в некотором количестве и вполне добротную беллетристику, и даже произведения крупных мастеров современной прозы — от Карла Цукмайера, Эриха Кестнера, Вернера Бергенгрюна, Эриха Мария Ремарка вплоть до Томаса Манна, Эрнеста Хемингуэя, Вольфганга Кеппена и других. Такие имена импонируют читателям с определенными культурными претензиями и служат неплохой рекламой для книжных обществ. Добавляются еще художественные альбомы, научно-популярные книги, справочные издания, но больше для украшения программы... Основное же место в программах книжных обществ (как правило, более 50 процентов) занимают развлекательное чтиво, крими, книги для юношества типа романов Карла Мая и пр. — короче говоря, тривиальная литература и близкие ей по духу издания. В программах книжного клуба «Факел» этот вид литературы составляет 65 процентов, в программах Немецкого книжного общества — 59 процентов, в программах могущественного Бертельсмана — также 59 процентов.
Книжные общества становятся в ФРГ очень действенным средством манипулирования массовым вкусом и общественным мнением по эстетическим и идеологическим вопросам. Практически они могут любой роман (совершенно независимо от его объективных достоинств) возвести в ранг бестселлера, если этот роман по каким-то внелитературным соображениям представляется нужным и полезным. Книга навязывается сотням тысяч читателей, которые при этом могут не замечать и не чувствовать себя объектом насилия. Журнал «Айнхайт» привел в пример неоколониалистский, расистский роман Арнольда Кригера «Любимая, гонимая и незабвенная». В течение нескольких лет он с трудом разошелся в ФРГ в количестве 10 тысяч экземпляров. Но после того как книжное общество «Бертель- сман-Лезеринг» еключило его в свою программу в качестве одной из «главных предлагаемых книг»,
155
тираж его достиг 800 тысяч экземпляров. Это лишь один пример из множества подобных, свидетельствующих о том, что книжные общества — в особенности крупнейшие из них — являются в настоящее время диктаторами западногерманского книжного рынка, важными регуляторами производства и сбыта и — главное — неотразимо сильными орудиями культурно-политического воздействия на массы читателей преимущественно из малоимущих трудящихся слоев населения.
2
Одна из заурядных сочинительниц частнопрокатных женских романов, некая Карла Колон, «исповедуется» в журнале «Ди лейбюхерай» в статейке под названием «Почему мы пишем?». В самом деле — почему?
«Вам знакомо такое состояние, когда вы усталые и изнеможенные возвращаетесь домой? Весь долгий день вы должны были заниматься всяческими делами, испытывали заботы и огорчения, может быть, пережили и кое-какие маленькие радости. Но теперь силы ваши исчерпаны, вы мечтаете о покое и отдыхе. Вы входите в свой дом, как на остров спасения. И через какое-то время вы чувствуете, что сердце начинает биться спокойней и вся суета, все волнения дня медленно отступают и исчезают где- то вдали. И по мере того как расстояние увеличивается, действительность становится все более расплывчатой и неопределенной. Вы начинаете мечтать, в вас разыгрывается воображение. Люди вам представляются не такими, какие они есть, а какими они должны быть. И жизнь теряет свою жестокость и суровость, становится осмысленной и терпимой. Радостно жить в этом овеянном мечтами мире» К
Действительно ли именно такие сентиментальнотрогательные и возвышенно-мечтательные мотивы подвигают Карлу Колон на изготовление романов о богатых и благородных графах, чистых душой, кротких голубоглазых красавицах и полных коварства 11 «Die Leihbiicherei», 1959, № 2, S. 3.
156
черноволосых интриганках? Или мотивы выбора ремесла у фрау Колон более прозаичны и низменны? Об этом не беремся судить, но одно бесспорно: сочинительница тривиальных романов очень хорошо понимает социально-психологические потребности своих читательниц, их стремление к наркотически-уте- шительным снам. Иначе говоря, она довольно правильно представляет себе сущность тривиального романа как выражения интенций обывателя капиталистического общества, продиктованных чувством социального престижа, стремлением к общественному и личностному самоутверждению, к компенсации в сфере примитивных и доступных его сознанию мечтаний того, чего он лишен в жизни 1.
Герой тривиального романа, как подчеркивает западноберлинский литературовед В. Хеллерер, « указывает читателю на возможность самореализации, он отражает всю «полноту жизни», и все это в рамках существующих и признанных общественных условий». Но условия эти, по существу, игнорируются. Они признаются как нечто данное и не подлежащее критике, но они не изображаются конкретно и, следовательно, никогда не являются в романах помехой яркой, независимой, возвышенной и красивой жизни героя. «Сложность бытия целиком замалчивается... Замалчивается включенность в широкую социальную, иерархически организованную структуру, которая стоит над героем»1 2.
Современный западногерманский тривиальный роман во многих отношениях характерен вообще для «массовой литературы» развитого капиталистического мира. Вместе с тем его отличают и некоторые на¬
1 В конце 70-х годов вопрос о тривиальной литературе ставился подчас в ФРГ и в ином, несколько парадоксальном аспекте. Некоторые писатели из левых кругов указывали на то, что для подлинно художественной литературы, имеющей ограниченную аудиторию, может оказаться полезным опыт тривиальной литературы, легко устанавливающей контакт с массовым читателем. Не вдаваясь в анализ подобных дискуссий, мы подчеркиваем, что в настоящей статье речь идет лишь о социально-идеологической функции тривиальной литературы в современном западногерманском обществе.
2 Walter Hollerer. Uber Ergebnisse der Arbeitskreise «Untersuchungen zur Trivialliteratur».—In: «Studien zur Trivialliteratur». Frankfurt am Main, 1968, S. 36.
157
ционально-специфические черты. В США, а также в Англии и во Франции наблюдается отчетливая тенденция непрерывного обновления основного традиционного фонда «массовой культуры» путем интеграции новомодных и таких недобропорядочных и малореспектабельных явлений, как сексуальная разнузданность, садизм, хиппизм, наркомания, то есть явлений, отчасти производных от гошистского движения и более широкой и неопределенной по своим очертаниям молодежной фронды. Для ФРГ эта тенденция менее показательна, западногерманская массовая литература носит более косный, консервативный, традиционный характер. Эта литература не знает своего отечественного Микки Спил- лейна или Иэна Флеминга. И хотя названные авторы исправно переводятся и издаются в ФРГ, соответствующие их книгам по жанру и назначению крими и шпионские романы собственно германского производства все же в большинстве своем отличаются от англосаксонских образцов: в них не все дозволено, всякие ультрасовременные морально-бытовые «отклонения» из них (вспомним инструкцию издательства «Бастай») даже сознательно изгоняются. Правда, жестокость изощренного свойства встречается и в западногерманской массовой литературе, но здесь она локализована преимущественно в одном определенном жанре — солдатском романе, который имеет свои, совершенно особые национальноисторические источники в фашистско-милитаристском прошлом Германии.
Жанровый ассортимент современного немецкого тривиального романа охватывает несколько вполне стабильных стереотипов. В пределах этих стереотипов все точно дозировано, как в поваренной книге. Потребитель приучен к схеме, которая должна соблюдаться вплоть до самых мелких частностей: однообразно-привычные сюжет, композиция, типаж — все это не только не отвращает читателя, а напротив — в малейшем нарушении установленного порядка он видит оскорбление своего вкуса и как бы несоблюдение условий контракта, негласно заключенного им с авторами и издателями. В этой приверженности мещанской публики к определенному
158
содержанию и строго неизменным сюжетным схемам сказывается власть над умами ложных социально-идиллических представлений, внушенных обывательской массе официальной буржуазной пропагандой. Это и дает В. Нутцу полное основание рассматривать «тривиальный роман как идеальную модель конформистской литературы» *.
Некоторые западногерманские литературоведы прилагают к тривиальному роману принципы структурного анализа. Такой анализ позволяет непреложно установить лживость и антихудожественность тривиального романа во всех его содержательных и формальных измерениях: вымышленность изображаемой в нем действительности, описываемой вне реальных социальных и исторических условий, его идеализирующую, апологетическую направленность, безжизненную шаблонность персонажей, убогое однообразие кулис и фона действия, стилевую нейтральность и полную взаимозаменяемость всех аксессуаров, безвкусную банальность и напыщенность языка.
Однако структурный анализ, дающий довольно наглядное и точное представление о материи современного немецкого тривиального романа, отнюдь не исчерпывает всех проблем историко-литературного исследования этого предмета. Тривиальный роман интересует филолога не только как некая данность, как некая (в общем, довольно примитивная) структура, фотографируемая в момент ее неподвижности, как бы при свете магниевой вспышки, но также и как итог определенного развития, результат исторического процесса. «Изучение тривиальной литературы,— справедливо утверждает Г. Бау- зингер,— все время показывает, что... речь идет не о замкнутом в себе ареале наперед наличествующей постоянной тривиальности, а о тривиализации структур, форм, содержаний, стилевых средств, которые первоначально были законной и ценной составной частью высокой литературы» 1 2.
1 W. N u t z. Der Trivialroman, seine Formen und seine Hersteller, S. 110.
2 Hermann Bausinger. Wege zur Erforschung der trivialen Literatur. — In: «Studien zur Trivialliteratur», S. 7.
159
Некоторые литературоведы уподобляют процесс тривиализации литературных жанров мутационному процессу, приводящему к дегенерации биологических видов. Может возникнуть вопрос: а каков же в литературном развитии тот влияющий фактор, который (аналогично, скажем, радиоактивному облучению в биологии) вызывает изменение наследственных признаков — тривиализацию? Таким фактором, благодаря которому от мудрецов в третьем или четвертом колене появляются глупцы, а от красавцев — уроды, обычно оказывается гипертрофия стилевых признаков. Если раскрыть наугад какой- нибудь частнопрокатный роман и прочесть в нем фразы вроде: ♦Умри, несчастный!» — воскликнул
Сильвио, и торжествующий демонический смех огласил ночное ущелье», то вряд ли вызовет сомнение тот факт, что пассажи такого рода суть итог длительного развития романтической прозы, стараниями эпигонов, отобравших характерные приметы индивидуального стиля Виктора Гюго или Шарля Нодье, доведенного до такой степени перенасыщенности и гипертрофии, когда накал страстей превращается в пошлость и безвкусицу, а драматическая напряженность оборачивается непроизвольным комизмом. В умении схватывать и утрировать характерно-специфические черты стиля тривиальный автор подобен пародисту, но, разумеется, без ♦злого умысла» последнего, без его сознательно направленной критической воли.
Исторический генезис тривиального, в частности немецкого тривиального романа,— вопрос, не поддающийся однозначному решению. В зависимости от его жанровых разновидностей он восходит к разным источникам. Так, женский роман широко эксплуатировал (низведя его при этом до крайнего антихудожественного мелодраматизма) опыт романтического и младогерманского женского романа. При выработке шаблонов так называемого ♦почвенного» (или ♦горного», или ♦деревенского») романа тривиальные авторы немало поживились за счет писателей областнического направления: Карла Иммермана, Бертольда Ауэрбаха, Петера Розеггера, Людвига Анценгрубера. Для тривиального семейного романа одной из моделей послужил ♦Дебет и кре¬
160
дит» Густава Фрейтага — назидательная история о молодом приказчике в коммерческой фирме, который честностью и трудолюбием завоевал сердце и руку дочери хозяина и вместе с ней получил в награду за добродетель и фирму.
Остановимся несколько подробнее на некоторых жанровых формах современного немецкого тривиального романа.
Гегемоном западногерманской тривиальной литературы является женский роман со всеми его жанровыми разновидностями. То обстоятельство, что в книжном фонде частнопрокатных библиотек и среди серий романов-тетрадок женский роман занимает преобладающее положение и в количественном отношении составляет более половины всего выпускаемого в ФРГ тривиального чтива,— это обстоятельство не является просто фактом статистического значения; оно тесно связано с общей характеристикой западногерманской «массовой литературы», с ее национально-историческими особенностями.
Именно в женском романе во всех его ипостасях легко обнаруживается его преемственность по отношению к некоторым специфически немецким, спе-
«Империализм не может существо- вать без войны, несущей с собой террор, разрушения, тормозящей развитие культуры. И если в какой-то момент появляется «гугроза» воцарения мира на всей земле при помощи договоров о разоружении, конструктивных диалогов, культурного обмена и т. д., то крупные монополии и реакционные круги капиталистических стран ощущают беспокойство, начинают задыхаться в этой атмосфере. Ведь их атмосфера — это война, и пока она продолжается, они вовсю торгуют оружием, сеют панику, получают (или верят, что получают) прибыли, расширяют (или верят, что расширяют) зоны своего влияния».
Марио Бенедетти (Уругвай)
6 Сборник статей
161
цифически национальным традициям. Конечно, процесс тривиализации в той или иной степени проделал свою разрушительную работу над наследием Ауэрбаха и Анценгрубера, Фрейтага и Шпильгаге- на, и все же в облике современного женского романа можно уловить наследственные черты его предков. Что же касается Марлит, то она уже в 60— 70-е годы прошлого века создала канонические образцы тривиального женского романа, почти в неизменном виде при посредничестве Хедвиг Курте-Малер дошедшего до наших дней, и весь этот «китч», все эти бесчисленные слащаво-сентиментальные, возвышенно-мелодраматические, благонравно-целомудренные «Будь счастлива, Кристина», «Между двумя сердцами», «Нарушь молчание, мама», «Вы лжете, баронесса», «Жди меня, принцесса Мария- Анита», которыми наводнен рынок тривиальной литературы в ФРГ, отличаются от романов Марлит разве лишь упоминаниями автомобиля и радио.
Количественное преобладание женского романа, наиболее косного, анахронического, консервативного жанра, определяет своеобразие немецкой «массовой литературы». Среди его разновидностей обращает на себя внимание почвенный (деревенский, горный) роман. В своих канонических формах он существует со времен Людвига Гангхофера, любимого писателя Вильгельма II, но он впитал в себя также идеи фашистской доктрины «крови и почвы». По сей день он является рассадником националистических предрассудков и расистских мифов. В почвенном романе изображается сельская местность и крестьянский быт как некая заповедная область патриархальных нравов, как обитель труда, скромности, естественной простоты и традиционно-национального образа жизни, которого еще не коснулось тлетворное влияние городской цивилизации с ее развратом, алчностью и нечистыми страстями.
Эта заповедная область, напоминающая базарные олеографические картинки с горными ущельями, искрящимися водопадами, идиллическими рощами и альпийскими лугами, заселена персонажами, которых в ФРГ, ультраиндустриальной стране, давно уже в помине нет, но которых литературное воображение городского мещанина еще с прадедов¬
162
ских времен привыкло считать непременным достоянием сельского ландшафта: пастушками в старинных национальных уборах, болтливыми кумуш- ками-сплетницами, упрямыми, сварливыми, комичными стариками, сиротами-золушками, которых любят простые душевные парни, наследники богатых крестьянских дворов, или же мечтательными одинокими бедняками-неудачниками, которым после всяких сюжетных осложнений и превратностей судьбы достается драгоценный дар — сердце хозяйской дочери. В этом мире, живущем по своим органическим законам, иногда появляются злодеи, интриганы, опасные авантюристы и преступники. Это враги не только героев романа, но и всего благостного деревенского уклада жизни — как правило, выходцы из города, к тому же расово чуждые прагерманской сельской общине.
В почвенном романе природа подобна световому и шумовому оформлению в захолустном театре. Столкновения двух мужчин-соперников обычно происходят в бурную ночь при свете вспыхивающих молний на шатком мостике, переброшенном через пропасть. Любовные страсти разыгрываются на фоне идиллически умиротворенной природы, а драматическая напряженность и зловещие ожидания подчеркиваются грозовыми тучами на горизонте и раскатами отдаленного грома. Действие романа происходит вне реального исторического времени. Политике, экономике, сельскохозяйственному производству, всему, без чего жизнь современной деревни — фикция, доступ на страницы почвенного романа запрещен.
Правда, формальный канон почвенного романа оказался достаточно гибкой оболочкой для различных идеологических превращений и маневров. У фашиствующих литераторов 20—30-х годов инвективы против городской цивилизации и западной демократии были неразрывно связаны с фанатическим расизмом и национализмом. Современный коммерческий автор тривиальных почвенных романов не столь принципиален. Для него собственные идеи не так святы, тем более что они не такие уж «собственные». Он может и так, а если нужно — и этак, и даже совсем наоборот. Достаточно привести лишь
6*
163
один, но весьма характерный пример — роман Гейнца Гюнтера Конзалика «Песнь черных гор».
Это — тривиальнейший из тривиальных, почвенный, горный роман с привычным набором клише. Здесь и дикая, девственная природа, и живущие по ветхозаветным обычаям в суровой патриархальной обстановке крестьяне-горцы, и чужие, приехавшие из города люди, которые стремятся сломить вековой уклад, индустриализировать край, приобщить его к цивилизации, и любовные треугольники, и смертельно опасные соперничества. Все как в традиционном почвенном романе, и тем не менее неожиданным образом — все наоборот, ибо героем, которому принадлежат все симпатии автора, оказывается как раз чужак, инженер из города, который хочет взорвать скалы, построить дороги, провести в дедовские хижины электричество и водопровод; а в роли злодея, в конечном счете посрамленного и побежденного, выступает пастух-горец, плоть от плоти старого патриархального мира, всегда по традиции идеализируемого в почвенном романе.
Почему же так, почему вдруг все наоборот? А потому, что здесь действие происходит в Югославии, патриархальные крестьяне — черногорцы, стало быть, темное, погрязшее в дикости мужичье, а чужак, инженер Рольф Мейерхольд,— немец, символ германского национального превосходства. Вся заемная и не столь уж органичная для почвенного романа культурно-историческая философия перевертывается вверх ногами, но главная идеологическая начинка, конечно, сохраняется — великогерманское чванство, националистическая наглость и высокомерие.
По популярности вслед за женским романом идет детективный роман, крими. В огромном большинстве современные западногерманские крими имеют по своей жанровой структуре мало общего с классической формой детективного повествования, возникновение которого относится к 40-м годам XIX века и зачинателем коего принято считать Эдгара По.
Крими, распространенный в настоящее время в ФРГ, как правило, к роману, достоинства которого измерялись силой и изяществом аналитической мысли героя-сыщика, не имеет никакого отноше¬
164
ния. Правда, и у него есть своя традиция, свои предшественники ; ближайший из них — Микки Спил- лейн. В крими центр тяжести постепенно смещался от аналитического исследования в сторону физического преследования. Герой не столько наблюдает и умозаключает, сколько бегает, боксирует, стреляет. Читателю не приходится мысленно следовать за сыщиком по запутанному лабиринту равновозможных версий, с тем чтобы выбрать одну, самую неожиданную, но на которой сходится все, что прежде казалось загадочным и несовместимым,— задача читателя проще, примитивнее и грубее: разинув рот и испытывая азарт довольно низменного свойства, ошарашенно следить за тем, как бесстрашный сыщик с помощью кулака и пистолета «так разделывает бандитов, что от них остается лишь горстка химикалий ценой не более как в три доллара». При таком развитии детективного романа существенно деформируется его жанровая природа. Можно согласиться с Г. Хайсенбюттелем, который считает, что собственно детективный роман перестает быть таковым и превращается в некую ублюдочную форму приключенческого романа К
Правда, как уже отмечалось выше, традиция Спиллейна действительна для западногерманского крими лишь условно: смакование садизма и жестокости для немецких сочинителей детективных романов не столь характерно. Образчиком современного массового крими в ФРГ может служить серия романов-тетрадок о Джерри Коттоне, о котором владелец издательства «Бастай» Люббе тщеславно заявил: «Джерри Коттон — единственный международно известный образ, порожденный немецкой литературой после войны,— притом без единой строки секса!»
Джерри Коттон — герой-супермен. Правда, в психологическом отношении он пустое место и его мыслительные способности не подвергаются особым испытаниям, но он зато не знает себе равных в стрельбе, боксе, борьбе дзюдо, вождении машины, пилотировании самолета, прыжках с парашютом, 11 См.: Helmut Heissenbtittel. Spielregeln des Kri- mlnalromans. — In: «Trivialliteratur. Aufsatze*. Berlin, 1964.
165
подводном плавании, умении пить виски не хмелея и т. д. Всемогущество Джерри носит почти божественный характер, оно не лимитируется ни здравым смыслом, ни соображениями правдоподобия, ни даже законами природы: он с легкостью бьет все спортивные рекорды; смертельные, казалось бы, раны и увечья залечиваются на нем мгновенно и т. п.
Весь этот каскад невероятностей авторы романов о Джерри Коттоне стремятся компенсировать старательной имитацией документальности и подлинности описываемых событий. Действие происходит в Нью-Йорке, и авторы, пребывающие в небольшом городке Бергиш-Гладбах близ Кельна, обложивщись справочниками, заботятся о верности мельчайших подробностей: чтобы номера телефонов были подлинными (на то есть нью-йоркский список абонентов), чтобы названия и адреса питейных заведений, клубов были правильными, чтобы маршруты автомобильных погонь были точными в смысле расстояний и расчета времени. Все это производит на наивных читателей покоряющее действие. Немецкие моряки пишут в издательство «Бастай», что при посещении Нью-Йорка они специально разыскивали места, где Джерри совершал свои подвиги, проверяли все названные приметы, с секундомером в руках проезжали по его маршрутам и с восторгом убедились, что все — правда, все соответствует описаниям. Уверовав в подлинность героя, читатели пишут Джерри Коттону и просят его об автографах, читательницы шлют ему брачные предложения. Издательство «Бастай», поддерживая миф о подлинности своего героя, в ответах на письма объясняет, что Джерри слишком занят и не может вести переписку, а кроме того, по характеру своей профессии должен пребывать в законспирированном состоянии.
Романы о Джерри Коттоне в смысле своей «поэтики» характерны вообще для западногерманских тривиальных крими так называемого «жесткого» типа. Действие их почти никогда не происходит в Германии — родной ландшафт, привычный и обыденный образ жизни считается малоподходящим фоном для похождений сыщиков и гангстеров. Предпочтение отдается США, стилизованным в духе распространенной в Европе американской легенды.
166
Стилизация начинается уже с титульного листа. Немецкие авторы — шульцы, майеры и кохи — почти всегда скрываются под американизированными псевдонимами: Мак Дривинг, Джеф Карсон, Джонни Окэй, Глен Ларринг. Американские реалии, в особенности названия городов; часто фигурируют и в названиях романов. В самом тексте американский колорит достигается обильным употреблением сленга и словечек, почитаемых непременной принадлежностью «истинного мужчины».
Тенденция американизации западногерманского тривиального романа в еще более очевидной форме проявляется в жанре романа о «диком Западе», или вестерна. Как и крими, вестерн в своей первоначальной форме возник в недрах американской литературы. Действие его обязательно происходит в Америке, но не в лабиринтах современных городов,, а в лесах и прериях «дикого Запада» во времена пионеров. Как и детективы «жесткого» стиля, вестерны тоже представляют собой некую разновидность приключенческого романа, и читателя привлекают в них прежде всего суровые, «мужские» описания погонь, перестрелок, побоищ. Наконец, для полноты стилизации в американском духе немецкие авторы вестернов (как и большинства крими), используя псевдонимы, выдают себя за американцев.
В американской и английской литературах жанр вестерна был итогом постепенного процесса три- виализации, исходным материалом которого служили произведения Купера, Майн Рида, Брет-Гарта. Для современного американца вестерн — это своего рода исторический роман, ибо действие его относится к прошлому, к эпохе колонизации и освоения западных и южных территорий, к ставшему уже полулегендарным времени пионеров и ковбоев, отважных рыцарей лассо и кольта. В США вестерн — знак определенного отношения к традиции или — по выражению Г.-П. Пивитта — «метафора национального самосознания» Ч
В Германии, естественно, этого значения роман о «диком Западе» иметь не может. Для западногер- 11 Hermann Peter Piwitt. Atavismus und Utopie des «ganzen Menschen*. — In: «Trivialliteratur. Aufsatze*, S. 31.
167
майского читателя, обывателя современного буржуазного общества, в котором поведение индивида строго регламентировано, притягательным центром вестерна является образ его героя. Это обособленная и независимая личность, не интегрированная в социальный механизм, пионер или ковбой, шериф или золотоискатель, который, живя в обстановке своеволия и анархии, благодаря личной отваге и виртуозному владению кольтом устанавливает по своей частной инициативе порядок и справедливость, перестреляв всех, кто тому помехой. Этот герой «стоит вне права и закона, вне буржуазного порядка, но он борется за этот порядок такими способами, которые недоступны простаку-обывателю, обремененному имуществом и семьей» Ч Естественно, что этот простак тянется к вестерну, как к миру своей осуществленной мечты. Здесь он находит вожделенную утопию, анархическую свободу, но не разрушительно-революционную, а охранительную, поставленную на службу собственности и порядку.
Западногерманский роман о «диком Западе», как и другие виды тривиального романа, строго формализован и стряпается по давно уже выработанным рецептам. Действие происходит где-нибудь в прериях и саваннах, но описания природы отсутствуют — события разворачиваются стремительно и динамично. Положительный герой всегда отличается удивительной невозмутимостью, почти апатичностью. При появлении врагов в превосходящем числе он либо начинает безмятежно вырезать фигурки из бумаги, либо заводит рассказ о своей бабушке, после чего следует мгновенный и неожиданный трюк, и все враги перебиты и повержены. Мужчины носят клички: положительные герои — Пороховой Джек или Скорострельный Джо, отрицательные — Косой Глаз или Красный Шрам. У последних, кроме того, выбитый глаз закрыт черной повязкой, и речь их орнаментирована затейливыми проклятиями и угрозами. Язык вестерна полон условно-иносказательных формул, не составляющих, однако, загадки для искушенного читателя. Тот 11 Hermann Peter Piwitt. Atavismus und Utopie des ♦ganzen Menschen».—In; «Trivialliteratur. Aufsatze», S. 31.
168
знает, что выражение: «Он дышал грубо процеженным воздухом»—значит: он был в тюрьме, за решеткой, а слова: «Он сидел спиной к двери» — равнозначны сообщению, что его застрелили прежде, чем он сам успел выстрелить.
Особое место в западногерманской массовой литературе занимает научно-фантастический роман. Мы употребляем термин «научно-фантастический» в том условном значении, которое он начал приобретать, по мере того как научность этого романа (еще вполне бесспорная, например, у Жюля Верна) становилась все более проблематичной. В ФРГ принято роман этого рода называть либо «технико-утопическим романом», либо «романом о будущем», либо, наконец, термином, заимствованным у американцев,— «science fiction».
Процесс тривиализации научно-фантастического романа привел к его полному вырождению и исчезновению того, что составляло его первоначальный смысл. В романах-тетрадках, издаваемых ныне в ФРГ огромными тиражами, во всех этих сериях с кодовыми названиями «Перри Родан — планетарные романы», «Луна-утопия», «Библиотека Астро» нет в помине ни науки, ни серьезных общественных проблем, ни второго, иносказательного плана. Это — приключенческие романы самого низкого пошиба с той лишь особенностью, что здесь туманная область Космоса, еще более затуманенная загадочными научными и псевдонаучными терминами, непонятными намеками на некие законы физики и астронавтики, в которых сочинитель (в отличие от развесившего уши читателя) якобы компетентен не менее самого Эйнштейна,— предоставляет такой неограниченный простор произволу и примитивной выдумке автора, каких он не может себе позволить на достаточно хорошо знакомой Земле.
Стоит автору глубокомысленно, хотя бы даже и совершенно невпопад, произнести заветные словечки «гравитация», «эффект Доплера», «телекинез», «дилатация», «фотоны» и т. п., как это сразу дает ему магическое право «с ученым видом знатока» выращивать космическую развесистую клюкву. Выдумка здесь разобщена с логикой, даже той особой догикой, которая присуща фантазии. Придумывают¬
169
ся обезьяны с красной шерстью, достигшие столь высокого научно-технического уровня, при котором они строят космические корабли и летают в мировом пространстве, но создавать для себя продукты питания они не могут. Или: яйценосные существа, легко пересекающие Галактику, не могут, однако, регулировать процессы своего размножения.
В тривиальных научно-фантастических романах абсурдное встречается на каждом шагу. Можно взять наугад любой из романов этой категории — предположим, «В центре Галактики» Кларка Дарл- тона. Чего здесь только нет! Бобры, обладающие не только человеческим разумом »■ и человеческой речью, но и наделенные телекинетическим даром, могут силой своей мысли перемещать любые тела во времени и пространстве, могут в любой момент исчезнуть, «дематериализоваться» (сами или с другими существами и предметами) в одном месте и сразу возникнуть, «материализоваться» в любой точке бесконечного космического пространства. Некое «загадочное энергетическое существо, которое питается светом звезд и покорило себе время. Оно имеет форму черного шара, гладкая поверхность которого отражает события, происходящие в это время в самых отдаленных местах». Это существо (его имя — Харно) живет «по ту сторону конца времени», оно видит и знает все, что происходит во всей вселенной, все, что было и что будет.
Все это подобно некой игре, в которой нет вообще никаких условий и правил. Поэтому все поиски, погони, схватки, которые, в сущности, составляют единственное содержание такого романа, не имеют никакого смысла; в них нет элемента состязательности, они лишены какой бы то ни было логики, в них ничто ничем не лимитировано, и читатель не может по отношению к ним определить свою позицию, исходя из каких-то реальных знаний или хотя бы собственного опыта. Но при всем том было бы неверно полагать, что тривиальный научно-фантастический роман аидеологичен и вообще ничего не выражает. Достаточно обратиться, например, к серии «Перри Родан — планетарные романы», выпускаемой издательством «Мевиг», чтобы убедиться, что это не так.
170
Поступающие с конвейера непрерывной чередой романы этой серии пишутся разными авторами, но имеют под собой общую сюжетную основу. Действие их происходит в XXVI веке нашей эры — все планеты Солнечной системы составляют одну могучую империю Терра с общим населением 25 миллиардов человек. Во главе этой империи стоит Перри Родан, американец по национальности, 1936 года рождения. Он был космонавтом и еще в XX веке открыл на Луне некий «активизатор живых клеток», с помощью которого он обрел чудесные свойства: бессмертие и всемогущество.
Этот вождь держит империю все время в состоянии «мобилизационной готовности», ибо Терре грозят опасности со стороны враждебных рас, населяющих другие Солнечные системы Галактики,— со стороны «доланов», «тефродов», «хамотов» и прочих чудовищ, как правило, не антропоидных, восьминогих, покрытых красным мехом и т. д.
Таким образом, романы о Перри Родане отнюдь не лишены определенных идейно-политических тенденций, а именно политически-авторитарных и ми- литаристски-агрессивных тенденций. Немецкий читатель постоянно встречается в этих «планетарных романах» с достаточно хорошо ему знакомыми категориями: фюрер, элита, сформированная масса, неполноценные чужие расы, народ без пространства и т. д. Не случайно известный австрийский публицист Роберт Юнг называет Перри Родана «Гитлером планетарной эпохи».
И наконец, военный роман (и его разновидность— так называемый «легионерский» роман) — среди жанров тривиальной литературы наиболее откровенный в своей милитаристской, реваншистской и неонацистской направленности. Эпоху своей наибольшей популярности и массового спроса он пережил приблизительно с середины 50-х до середины 60-х годов. В последние годы военный роман начинает отходить на задний план.
Солдатский роман с неонацистской тенденцией— это пропагандистский роман, призванный воспитывать и вдохновлять. Чем? Прежде всего образом «положительного героя». В этом герое воплощены «идеалы» нацистского вермахта и «священ¬
171
ные» традиции германской казармы. Пусть смерть под гусеницами танка или от осколка, разворотившего живот, страшна, пусть солдат-фронтовик, как нередко признают Конзалик и Бертхольд, иной раз оказывается жертвой недобросовестных штабников и тыловиков и более того — орудием неправого дела, затеянного «большими господами» где-то там наверху, на недосягаемом для него государственном Олимпе, но тем не менее сама по себе принадлежность к солдатскому сословию, солдатский образ жизни, солдатская честь, солдатский долг, солдатская отчаянная храбрость — все это относится к самым высоким добродетелям, венчающим немца.
Положительный герой солдатского романа живет в своем особом климате, овеваемый неизменно сопутствующими ему запахами казармы, окопного нужника и т. п. Но поскольку герой положительный, то и эти запахи, разумеется, приятны и даже благоуханны. Атмосфера военного романа пропитана «поэзией» вонючей портянки. Солдаты, мол, не кисейные барышни, а «настоящие мужчины», сиречь похабники, сквернословы, пьяницы и распутники, в чем и заключается их привлекательность. Милитаристский автор восхищается этим рыгающим и смердящим ландскнехтом.
Военный роман густо населен головорезами, драчунами, похабниками, убийцами по призванию, и авторы любуются их жестокостью, грубостью, их шовинистической спесью и панибратски-фамильяр- ным обращением со смертью. Но сколь ни привлекателен сам по себе этот ландскнехтовский комплекс в глазах милитаристских авторов, не единственно ради его прославления обращаются они к солдатской теме. В ней они видят благоприятную возможность для пропаганды в несколько видоизмененной версии одного из главных социально-демагогических тезисов фашизма — о так называемой «народной общности», то есть полном духовном единстве (вне зависимости от классовых, сословных и имущественных различий) всех чистопородных немцев под эгидой фюрера. Применительно к армейскому быту тезис о «народной общности» приобретает в военном романе очертания некоего столь
172
же демагогического идеала «фронтового товарищества». «Интеллигент стоит здесь плечом к плечу с рабочим, профессор Берлинского университета рядом с крестьянским парнем из Баната»
Фашистский тезис об общности нации и «фронтовом товариществе» находит, в частности, свое выражение в одной постоянной структурной особенности солдатского романа — в принципе парности героев. Почти каждая книга # представляет читателю удивительные пары связанных дружбой и взаимной преданностью людей, близость которых никак не может быть объяснена сходством их социального положения или духовных интересов: идеально настроенный юноша, которому война помешала изучать в университете философию, и грубый, малограмотный мужик, «битком набитый свинством и похабщиной»; интеллигент по кличке «Профессор», поклонник поэзии Гёльдерлина, и завсегдатай солдатских борделей, обязательный участник побоищ в пивных заведениях... Эти пары призваны, по замыслу авторов, наглядно показать, как цементирующая сила «фронтового товарищества» спаивает в нерушимый национальный монолит прежде разобщенные и чуждые друг другу слои общества.
Военный роман, как это подчас ни парадоксально (поскольку речь в нем идет о бесконечных смертях и убийствах),— это галерея веселых героев, очень смешливых и способных поминутно реагировать громовым хохотом на все, что им кажется забавным (это «все» обычно связано с функционированием органов пищеварения и мочеиспускания). Вместе с ними книга приобретает юмористическую тональность.
Еще одну характерную черту военного романа западногерманский радиокомментатор Биркенхауэр очень удачно обозначил формулой «порнография ближнего боя». Милитаристские литераторы со сладострастием упиваются описаниями страшных и отвратительных увечий, наносимых друг другу сошедшимися в смертельной схватке людьми. С той же тупой бесчувственностью рассказывают они и о 11 Will Berthold. Division Brandenburg. Bad Worisho- fen, 1960, S. 10.
173
массовых, организованных по приказу сверху расстрелах военнопленных, об ограблении гражданского населения и уничтожении «расово неполноценных» на оккупированных территориях. Они рассказывают обо всем этом совершенно невозмутимо, с уверенностью в естественности всего происходящего. Ибо все эти истребительные и карательные действия совершались людьми высшей расы по отношению к дикарям и ублюдкам. Вопрос о праве тут и не встает — Это природное право расы господ.
Антикоммунизм и антисоветизм составляют главный пафос военного романа. Даже бывшие эсэсовцы, воевавшие в далеком Вьетнаме под черным знаменем в рядах Иностранного легиона, патетически декламируют: «Черное знамя... Ты представляешь здесь всех — и тех, кто под началом Колчака, под началом Врангеля, под началом Деникина,— всех, кто сражался против того же врага»1. Черное знамя антикоммунизма осеняет почти каждый военный роман. И именно поэтому художественная беспомощность и — более того — полная внелитературность этих романов не умаляют их общественной вредоносности. Они представляют собой один из самых опасных видов «массовой литературы» современного империалистического общества. * S.1 Erich Kern. Der Dorn im Fleische. Diisseldorf, 1955,
S. 261.
Л. Токарев
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ НЕНАВИСТИ
Эпидемия особого «ретро» — гитлеромания. Критик Пьер до Буадефр о Л.-Ф. Селине: «Он был первым, кто заставил нас смотреть на человека в грязное зеркало. И в этом — увы! — он наш современник». Воспетое предательство и реабилитация фашистского прошлого.
Моральный кризис современного капиталистического мира находит свое яркое, многостороннее выражение в усилении антигуманистических и ирра- ционалистических тенденций буржуазной литературы наших дней. Буржуазная философия и эстетика прямо провозглашает лозунг «смерти человека»!, былой культ индивидуализма сменяется нигилистическим отрицанием личности, якобы окончательно подпавшей под власть «анонимных» структур общества, власти и идеологий. Книги европейских писателей наполнены людьми, утратившими даже тень собственной самостоятельности, попавшими в плен вещей, низменных инстинктов, безумия или полностью подчиненными «высшей» воле строго иерархических организаций. Личность как бы изымается из социальной действительности и истории, она лишается внутреннего мира, становясь простым знаком неких безличных, неподвластных ей, полностью стандартизированных процессов буржуазной реальности. 1©♦Иностранная литература», 1975, № 6.
1 Например, устами французского философа-структура- листа Мишеля Фуко. См. его книгу «Слова и вещи». М., ♦Прогресс», 1977. Наша статья построена на материале современной литературы Франции,
175
Однако углубляющаяся дегуманизация сегодняшней буржуазной литературы представляет собой сложный, диалектически противоречивый процесс. Ряд писателей правдиво рисует в своих произведениях кризис личности, ее распад в капиталистической цивилизации современности, хотя и не всегда видит выход из создавшегося тупика. Другие художники, как правило представители модернистских течений, сознательно культивируют асоциальность и антигуманизм в своем творчестве. Здесь, на наш взгляд, необходимо особо подчеркнуть одно очень важное обстоятельство, о котором иногда забывают исследователи современной западной литературы. Асоциальность и антигуманизм не всегда составляют монополию модернистского искусства. Во французской литературе XX века легко найти примеры, когда писатели, декларировавшие даже свою ненависть к модернизму во всех его разновидностях, оказывались ярыми пропагандистами презрения к человеку, хотя черпали при этом творческое вдохновение в эстетике натурализма и популизма, спекулируя на судьбах «маленьких людей» при капитализме. Последнее, как это случилось с известным французским прозаиком Луи-Фердинандом Сблином (1894—1961), даже создает этим писателям репутацию гуманистов. Парижский журнал «Магазин литерер», посвятивший Селину в сентябре 1976 года специальный номер, пишет: «...Селин отныне один из самых больших признанных писателей XX века, и невозможно отделить в его замечательном творчестве, что относится к литературе, а что к политике...»
Однако здесь уместно сделать небольшое публицистическое отступление, чтобы пояснить, о какой же политике идет речь. По зловещей иронии истории у поверженного фашизма находится сегодня на Западе немало велеречивых адвокатов. Последние годы буржуазную Европу и США захлестнула эпидемия «гитлеромании»: на читателей и зрителей обрушивается лавина мемуаров, исследований, кино- и телефильмов о фюрере. Не так давно в Италии инсценировали «библию» национал-социализма
«Майн кампф».
Особо циничное выражение находит апология
176
нацизма в известной моде на «ретроискусство». Публике в изобилии предлагаются переиздания опусов фашистских идеологов, выставки произведений официального искусства «третьего рейха», фильмы, снятые в гитлеровской Германии, пластинки со шлягерами тех лет. Бесстыдство пропагандистов такого рода «ретроискусства» не знает пределов: во Франции недавно переиздали комплект выпускавшегося немецкими оккупационными властями журнала «Сигнал». Правая буржуазная пресса крайне активно пытается «гуманизировать» фашизм, клевеща на европейское движение Сопротивления. Торговцы «ретроискусством» преследуют цель оправдать нацизм, проводя мысль о том, что «его жертвы тоже не были невинными». Подобные идейки пропагандируются в огромном количестве романов и фильмов, пьес и статей, историко-документальных книг и мемуарных публикаций.
На волне «ретроискусства* (ее пик не случайно совпал с 30-летием освобождения Франции от нацистского ига) появилось и переиздание профашистских романов писателя-коллаборациониста Луи- Фердинанда Селина «Из замка в замок», «Север», «Ригодон». Роскошный, объемом в 1257 страниц и снабженный комментариями том вышел в серии «Библиотека Плеяды» (в той же серии изданы творения Рабле и Вольтера, Бальзака и Диккенса, Толстого и Чехова!). Публикация произведений писателя, книги которого критик парижского еженедельника «Экспресс» Анджело Ринальди именует
«гВ моей стране не существует никакого писательского объединения, ни клуба, ни Союза. Мы далеки друг от друга и порой чувствуем себя очень одинокими... На моей родине писателей ценят меньше, чем бизнесменов и потребителей. Их считают менее надежными и устойчивыми. Их считают непонятными, себялюбивыми, далекими от жизни, прикованными к своему столу».
Джон Чивер (США)
177
«самым блистательным интеллектуальным оправданием фашизма», прозвучала вызывающе-кощунственно. Ринальди, посвятивший трилогии восторженную рецензию, утверждает, что эти романы «реабилитировали Селина как писателя».
ЛЕГЕНДА О «ПРОКЛЯТОМ ПОЭТЕ*
Чем же скомпрометировал себя Селин — автор нашумевшего в 30-х годах романа «Путешествие на край ночи»? Отвечая на вопрос, необходимо вернуться к эпизодам политической биографии писателя. Селин запятнал свое имя позорным литературным сотрудничеством с фашистскими оккупантами. Нельзя без брезгливого негодования читать печально известные памфлеты Селина «Меа culpa» 1 (1936), «Безделушки для погрома» (1937), «Школа трупов» (1938), где он площадным языком излагал тезисы геббельсовской пропаганды, злобно клевеща на первую в мире страну социализма (Селин посетил Советский Союз в 1936 г.). У французского критика Филиппа Альмера были все основания назвать их «чудовищным коллажем, созданным в лихорадке». Бельгийский критик П. Вандром назвал Селина «воплощением авантюриста, который плел заговоры против идей и разума нашего века». Действительно, Селин предавал яростной анафеме коммунизм, прогресс, демократию, гуманизм, оплевывал все человеческие ценности. Фанатичный приверженец нацистских идей, он исповедовал воинствующий расизм: «Прежде всего расизм! Десять, тысячу раз расизм! Высший расизм! Дезинфекция! Чистка! Во Франции только одна раса — арийская!» Селин утверждал, что «расовая проблема доминирует, перечеркивает, стирает все прочие», восторгаясь нацистскими теориями «расовой гигиены» и приветствуя «единственно сознательный пример расизма» — фашистскую Германию. Разумеется, расист Селин глумился над разумом «латинского гения», призывая обрести «музыку, ритм, инстинкт расы», которую, с его точки зрения, испортили негры и ев-
Моя вина (лат.).
178
BUSINESS
реи, масоны и коммунисты, плутократы и интеллектуалы.
Вот образчик памфлетного стиля Селина, который сегодня прославляют во Франции так называемые «новые правые»: «Ноготь с прогнившей ноги какого-нибудь обалдевшего пьянчуги и мошенника Арийца, валяющегося в собственной блевотине, стоит в сто тысяч раз больше, нежели сто двадцать пять тысяч Эйнштейнов». Бредовые расистские писания Селина, призывающего сперва «заняться хромосомами», а потом духом, свидетельствуют, что презрение к разуму, культуре, утробный культ расы — это решающий шаг к законченному антигуманизму, к истерическому истреблению всего человеческого в человеке. Свою «теоретическую» программу Селин дополнял практическими лозунгами: «надо выпотрошить евреев», «удавить коммунистов шнурками от их ботинок». И слагал экстатические гимны фюреру: «Кто предохраняет нас от войны? Гитлер! Гитлер — добрый воспитатель народов, он — на стороне жизни, заботится о жизни народов и даже о нашей жизни. Он — Ариец!» Селин призывал французов к союзу с гитлеровской Германией, мечтая видеть нацистов «властелинами Европы». Главную «заслугу» фашистов писатель усматривал в борьбе против большевизма.
Потоки грязи вылил Селин и на свой народ: «...бесхребетный народ, называемый французским», «...у французов никогда не было национального чувства» (это самые «невинные» фразы, какие можно процитировать). С ликующим садизмом он глумился над побежденной фашистами Францией в памфлете «Трудные времена» (1941). Этот человек в самые мрачные для своей родины годы нагло заявлял: «Вся Франция — предатели, кроме меня!» «Никто,— отмечал критик Л. Нюсера,— не зашел так далеко в ненависти, расизме, призывах к убийству».
Понимая, что ему придется дорого заплатить за свои коллаборационистские дела и писания, Селин летом 1944 года бежал в Германию. Оттуда он пробрался в Данию, где отбыл 14 месяцев тюрьмы. Французский суд в 1950 году заочно приговорил Селина к году тюремного заключения, 50 тысячам
180
франков штрафа и конфискации имущества. Амнистированный в апреле 1951 года, он возвращается на родину и поселяется в Медоне, где живет до самой смерти.
Селин — пропагандист нацизма — потерпел полный политический и моральный крах, но в определенных буржуазных кругах его литературная судьба сложилась иначе. Шумная кампания по реабилитации Селина-писателя началась еще в конце 40-х годов. Тогда же его апологеты стали усиленно создавать «селиновскую легенду». Суть ее сводилась к тому, чтобы представить Селина несчастным изгнанником, пострадавшим за «голую правду» своих сочинений, изобразить его коллаборационистское прошлое как причуду «катастрофического» темперамента искреннего до предела художника, отвести от автора «Путешествия на край ночи» обвинения в пропаганде нацистской идеологии. Бросая прогрессивной литературной общественности Франции упрек в создании вокруг имени Селина заговора молчания, они пытались увенчать фашистского памфлетиста ореолом мученика и «проклятого поэта». «Современная эпоха вовсе не благоприятствует пониманию Селина»,— утверждал известный писатель МарсеЛь Эме, объявивший своего друга «бесстрашным искателем истины».
Однако факты свидетельствуют против легенды. За десять лет жизни во Франции после возвращения из изгнания Селин выпустил шесть новых книг и переиздал все свои произведения, кроме памфлетов. Романы «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит» неоднократно издавались массовыми тиражами (в 1962 г. они составили том «Библиотеки Плеяды», что означало едва ли не признание писателя классиком современной французской литературы). В год смерти Селина появились сразу три монографии о его творчестве. Пятитомное иллюстрированное собрание сочинений писателя (опять-таки за исключением памфлетов) опубликовано в 1966—1969 годах. Снят фильм «Путешествие на край ночи». Посмертно напечатаны романы «Лондонский мост» и «Ригодон». Продолжается активная публикация литературного наследия Селина (издательство «Галлимар» выпускает
181
специальное издание «Тетради Л.-Ф. Селина»), критико-биографических материалов, вышла первая двухтомная биография писателя, написанная Франсуа Жибо. Выпущены материалы коллоквиумов о творчестве Селина, которые состоялись в Оксфорде (Англия) и Севре (Франция). Научно-критическая литература о жизни и писаниях Селина в странах Западной Европы и США растет, как снежный ком. Статьи о Селине в прессе исчисляются сотнями. Журнал «Кайе де л’Эрн» посвятил ему два объемистых специальных номера (в 1963 и 1965 гг.). Наконец, респектабельная буржуазная газета «Монд» в 1969 году отвела Селину целый разворот. Так что теперь надо говорить уже не о реабилитации, а о безудержной апологии «проклятого поэта» Селина.
В этой кампании явственно выделяются две тенденции: эстетическая и политическая. Поскольку трудно восстановить в правах погромную политику и фашистскую идеологию автора «Школы трупов», то прежде всего его восхваляют как «авантюриста языка», новатора художественной формы, стилиста-виртуоза, «сатанинского лирика» в прозе. Французский прозаик Жан-Луи Бори сложил Селину настоящий панигирик в статье, претенциозно озаглавленной «Рабле атомной эры». «Подмешав#к эпическому реализму поэзию «освобожденного» языка,— пишет Ж.-Л. Бори,— Селин стал Рабле наших дней, Рабле без здоровья, без оптимизма и веры в человека... Рабле без иллюзий... «Черный» Рабле... Рабле, которого мы заслуживаем: не Рабле Ренессанса, а Рабле атомной эры». Марсель Эме тоже подчеркивал «артистичность» прозы Селина, силу ее «магии».
Буржуазная правая критика поспешно выдала его творчеству «пропуск в бессмертие». «Он был великим писателем,— пишет П. Вандром,— удивительным создателем новой музыки (в прозе. — Л. Т.), которую по-настоящему услышат только в XXI веке». По его мнению, Селин придал «французскому языку новый тон и естественность», а сели- новский стиль будет «соответствовать диким чувствам будущего».
Стилю Селина в самом деле трудно отказать в оригинальности. Отличительная его черта — взвин¬
182
ченная эмоциональность, использование грубого просторечия и крайний субъективизм. Селин — писатель «голоса». Все его книги представляют собой истерическую инвективу, обращенную к человеку и обществу. Вместе с тем селиновский стиль — абсолютно бесперспективен: писатель разрушает форму, ломает синтаксис, разрубая фразу на синкопированные, судорожные вскрики. Он отказывается от логического строения текста, пользуется приемами ораторской речи, словесным жестом. «Написанные крики» Селина, вопли ненависти и отчаяния — это тупик искусства слова, типичный образец «алитера- туры». Нет никакой случайности в том, что стилистические поиски Селина оказались близки современному декадансу, особенно творчеству Беккета, который пришел к полному распаду языковой формы, заменив ее своего рода пантомимой небытия.
Хотя сам Селин и презирал авангард и формализм (он вообще считал почти всех современных французских писателей, без различия направлений, ничтожествами), в этой близости нет парадокса. «Форма не имеет значения,— неизменно подчеркивал Селин,— только содержание важно». Парадокс состоит в том, что к Селину ныне апеллирует авангардизм. Показательно интервью редактора авангардистского журнала «Тель-кель» Филиппа Соллерса, опубликованное на страницах еженедельника «Ну- вель литерер». Признав полный крах асоциальной авангардистской литературы и заявив о ее творческом бесплодии, Соллерс отметил, что она ничего не может противопоставить романам Селина «Из замка в замок», «Север» и «Ригодон». Он считает эти книги «единственными в своем роде, субъективными по форме и языку, документами о конце второй мировой войны». Главную причину кризиса авангардизма Соллерс усматривает в том, что последний отвернулся от истории и социальной проблематики.
Преимущество Селина с точки зрения Соллерса в том, что он погружен в историю. Авангард представляет собой никчемный формализм, а Селин, «писатель риска», якобы создавал литературу, обличающую общество. Соллерс усматривает в селинов- ском творчестве своего рода пример для авангарда,
183
магистральный путь для современной литературы, ее «живой язык».
Действительно, Селин, чье творчество по своей эстетической программе насквозь натуралистично, даже физиологично, оказался близок к художественным поискам модернизма. У него легко найти предвосхищение абсурдистской драмы, технику письма экзистенциалистского романа, примеры сюрреалистического «автоматического письма», «язык тела» и жестокости, который стремился создать Антонен Арто. «Стиль, как терроризм»,— это очень точно подметил, говоря о художественных приемах Селина, Ж.-Л. Бори.
Селин выработал поэтику прямого воздействия на нервную систему читателя. Он хотел видеть в литературе чисто биологическую функцию. Показателен ответ Селина на анкету журнала «Коммюн» в 1933 году «Для кого вы пишете?». «Биологически,— отвечал Селин,— писатель не имеет смысла. Писатель — это романтическая непристойность, чье объяснение может быть только поверхностным». Уже тогда он отрицал социальную роль художника, сводя задачу писателя к чисто лирическому самовыражению и разрушению осмысленной формы. «Быть безумным», «калечить язык во всем», монтировать из тенденциозно подобранных, до предела на- турализированных деталей, которые унижают человека, бредовый образ реальности, передать, вплоть до физиологического ощущения, галлюцинации автора — таковы принципы селиновского стиля. Поэтика Селина очень близка сюрреалистскому автоматизму, что подметила французская критика 30-х годов, метко окрестив его творчество «сюрреализмом сточной канавы». Андре Жид тогда же писал, что «реальность, которую рисует Селин,— это галлюцинация, вызываемая ею» 1.
Крайний субъективизм селиновского стиля, его своеобразная уникальность, замкнутость на ненависти ко всему доброму и человеческому делают книги Селина мертворожденными. Поэтика Селина есть разрушение самих основ литературы, включая даже
1 Цит. по кн.: Nicole Debrie-Panel. Louis-Ferdi- nand Celine. Lyon — Paris, 1961, p. 129.
184
коммуникативную функцию художественного языка, это мир видимостей, фантомов, это мираж, который наивный читатель волен изменять как угодно, и все творчество писателя представляет собой хронику этого миража.
«Именно я,— прокламировал Селин,— есть орган вселенной. Я изготовляю оперу всемирного потопа...» Фееричный, призрачный мир селиновских книг, где единственной истиной является смерть,— это тупик искусства слова, поставленного на службу ненависти, антигуманизму, жестокости и безобразию.
Факт обращения представителя формалистической концепции литературы к «ангажированному» писателю Селину весьма характерен, он свидетельствует о том, что литература, отворачивающаяся от человека, обречена на полное творческое бесплодие.
АПОКАЛИПСИС ОТ СЕЛИНА
Селин еще до войны сознательно поставил свое творчество на службу нацистской идеологии, категорически отвергая любые варианты «чистого искусства». Его путь к фашизму был не случайным и неожиданным зигзагом судьбы. В лагерь фашистов Селина привели его социальное мировоззрение, вся его жизненная философия.
Нынешние «оправдатели» Селина утверждают, что он был «подлинно народным писателем», обличителем капитализма и защитником «униженных и оскорбленных». Этот демагогический тезис фигурирует почти в каждой критической работе о Селине, принадлежащей буржуазным авторам. Жан- Луи Бори говорит даже о «глубоко революционном гении» Селина, прокламируя, что он «не поддается буржуазии». Бори отыскал в романе «Путешествие на край ночи» разоблачение лицемерия колонизаторов, гнусности войны, всевластия денег и эгоизма буржуа.
Франсуа Жибо, автор двухтомной биографии Селина, утверждает, что писатель вел «открытую войну против социального порядка (буржуазного общества. — Л. Г.), чьи несправедливость и лицемерие он ненавидел». Он рисует Селина любвеобильным гу¬
185
манистом, который якобы был «безгранично нежен к людям». Однако Ф. Жибо находится в плену ходячих представлений буржуазной критики о Селине, каковая творит легенду об авторе «Путешествия на край ночи» — «выходце из народа», «революционере» и социальном критике. По мнению Ж.-Л. Бори, Селин «объявил настоящую войну всеобщей гнусности, самым невинным аспектом которой является та пошлость сердца, в которой погряз современный мир».
Но анализ довоенных романов Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит» показывает мелкобуржуазную природу социальной философии их автора и опровергает миф о его революционности. Предрассудки французской мелкой буржуазии, из среды которой вышел Селин, ее конформизм, шовинизм, преклонение перед пятифранковой монетой, говоря словами Бальзака, стали второй натурой писателя. «Мир в глазах Селина,— пишет Ф. Жибо,— был гораздо более гротескным и смешным, нежели несправедливым и злым». Селин рисовал бесчеловечность и безобразие капиталистической цивилизации, но делал это не во имя социальной критики или морального идеала, а ради доказательства того, что миром правит «непобедимая сила глупости», злоба, ничтожество человека. Писателю принадлежит страшный афоризм: «Человек человечен ровно настолько, насколько курица может летать».
В начале 30-х годов большая часть прогрессивнодемократической критики не разглядела подлинной сути «Путешествия на край ночи». Она была заворожена резкими, но чисто словесными выпадами Селина против капитализма, войны и колониализма. Страшные картины обесчеловечивания «маленького человека» при капитализме были восприняты тогда как бунтарство и социальная критика. Время показало ошибочность подобного понимания романа Селина.
Селин писал о «маленьких людях», раздавленных абсолютно непонятной для них жестокой машиной капитализма, но не ставил своей целью критику буржуазного образа жизни. Его задачей было вообще развенчание жизни и человека. По словам
186
Марселя Эме, в « Путешествии на край ночи» Селин создал «великую поэму о ничтожестве человека». В предисловии к послевоенному переизданию книги Селин подчеркивал: «Единственная по-настоящему злая из всех моих книг — это «Путешествие...». Я себя понимаю...» Однако утрированный натурализм в показе «свинцовых мерзостей жизни» буржуазного общества и налет анархистского бунтарства Селина не имели ничего общего с реалистическим изображением действительности. «Для Селина действительность — это бред»,— констатирует критик П. Вандром. Призрачная одиссея Фердинанда Бар- дамю, главного героя романа, не имеет самостоятельного значения, она — лишь канва для кошмарных видений и субъективистских концепций самого Селина. Писатель настаивал, что путешествие его героя «чисто воображаемое», что оно — «по ту сторону жизни».
Смысл книги становится ясным, когда присмотришься к селиновской концепции человека. В атмосфере нравственного кризиса, который переживает сегодня капиталистический мир, антигуманные идеи Селина пришлись ко двору.
Для Селина человек — это мерзавец, у которого только один выбор: либо умирать, либо лгать и приспосабливаться. В основе человеческой природы лежат ничтожество, страх, подлость и ненависть к другим. Общество, как утверждал Селин, не имеет никакого отношения к страданиям личности. Во всех своих бедах виноват сам человек, и эта жалкая, себялюбивая мокрица не заслуживает лучшей участи, чем гниение и смерть. Жизнь в представлении Селина — это «смерть в кредит», а «истина — это бессмертное, бесконечное гниение, это мир смерти». Вселенная абсурдна, людей разделяют ледяные стены непонимания и недоверия, реальна только смерть. Бардамю, «ослепленный глупостью и подлостью людей», побывал на краю ночи и убедился, что тьма человеческого безумия и мерзости бесконечна. Мир кажется герою Селина огромным сумасшедшим домом, где терпеливо разлагаются, дожидаясь конца, люди-призраки.
Основа антигуманистической философии Селина — его глубокое убеждение, что убожество
187
(misere) составляет главную характеристику человеческой личности. Исследовательница творчества писателя Н. Дебри-Панэль считает, что Селин «стоит над всякой политикой», и оригинальность его подхода к жизни видит в «независимости» решения человеческих проблем от вопросов политики. С точки зрения Селина, любая политика основывается на системе социальной лжи, а убожество человека объясняется его неодолимой склонностью к иллюзиям, самообману, саморазрушению, тягой к жестокости, безобразию и смерти. Убожество—«категория» вечная, неизменная, почти мистическая в интерпретации Селина. Поэтому никакая, даже самая справедливая общественная система не способна его преодолеть.
Люди, в представлении Селина, делятся на слабых и сильных, хотя одинаково «убогих» и подверженных действию неизбежности законов смерти и распада. Человеческий дух бессилен победить эти «исходные данные» существования. Жизнь, по мнению писателя, нельзя оценивать с точки зрения нравственного или эстетического идеала: ведь сама жизнь — это всего-навсего «смерть в кредит». Героиня одноименного романа «оценивала жизнь снизу, а следовательно, оценивала верно». Отсюда — неукоснительное следование Селина натуралистическим, биологическим, даже физиологическим характеристикам человека. Люди — только «мистики смерти», и тьма существования безысходна.
У главного героя «Путешествия на край ночи» Фердинанда Бардамю, который «решил быть трусом», нет «музыки в себе», которая «заставила бы жизнь плясать под его дудку», и поэтому вселенная предстает в этом произведении одним сплошным кошмаром, где ужасы оказываются зачастую «более реальными», нежели в действительности.
В изображении буржуазной действительности Селин очень избирателен: ничего из духовно здорового, прогрессивного, демократического, идеального не входит в его творческую сферу. Еще в 1934 году Луи Арагон писал, что «Селин сделал презрение к человеку своей профессией». Селин, подчеркивал Арагон, говорит вообще о человеке, не обращаясь к
188
социальным измерениям личности, поэтому «в глубине души он не решается встать на сторону эксплуатируемых против эксплуататоров». Тогда же Арагон предупреждал Селина, что пришло время сделать выбор, что мизантропия и бесчеловечность могут привести его в лагерь фашизма.
Роман Селина проникнут духом нигилизма и презрения к человеку. «У человека всегда лишь один тиран — он сам... — написал однажды Селин. —Других у него никогда не будет... Впрочем, это, быть может, досадно. Тираны, наверное, выпрямили бы его, сделали в конце концов социальным...» Политическое филистерство и ненависть к человеку привели Селина к гитлеризму. Обезумевший от ужасов капитализма «маленький человек» думал найти в «новом порядке» нацистов прибежище от своих несчастий. Логику селиновского падения прозорливо предвидел Горький, когда сказал, что герой Селина «вполне созрел для приятия фашизма»!. В своих памфлетах Селин лишь высказал открытым текстом все то, о чем метафорически рассказал в «Путешествии на край ночи». Даже самые яростные защитники Селина не раз подчеркивали, что «творчество его неделимо», а «Безделушки для погрома» прямо вытекают из «Путешествия...».
И вот к широкому читателю «возвращаются» поздние романы Селина, составляющие трилогию1 2. Перед нами опять путешествие, теперь уже на край нацистской ночи. «Время —лучший судья,— писал в еженедельнике «Экспресс» А. Ринальди,— и сегодня эта трилогия исхода предстает в истинном свете, во всем своем зловещем величии». Подлинное лицо Селина —человека и писателя — трилогия действительно раскрывает, хотя «величие» оборачивается в ней страхом автора перед расплатой за нацистское прошлое.
Трилогия повествует о скитаниях Селина и его спутников — жены Лили, друга-актера Ле Вигана и... кота Вебера, бежавших из Франции незадолго
1 М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 27. Гослитиздат, М., 1953, с. 313.
2 Более подробный анализ произведений Селина читатель может найти в книге И. Шкунаевой «Современная французская литература*. М., изд. ИМО, 1961.
189
до освобождения Парижа. Меньше всего, однако, эти произведения похожи на роман. Эти книги образуют своеобразный сплав мемуаров и исповеди Селина, который проиграл свою ставку в борьбе с Историей...
ГРЯЗНОЕ ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ
Маршрут Селина по гитлеровской Германии, доживающей последние дни, начинается с замка Зиг- маринген, где временно обосновалось беглое правительство Виши во главе с Петэном. Об этом рассказывается в книге «Из замка в замок». 1142 человека — предатели французского народа — укрываются здесь от неизбежной расплаты. Их-то Селин и считает «подлинной Францией». Но его книга производит обратный эффект. Эти мелкие, жалкие людишки, спасающие свою шкуру, охвачены утробным страхом, потеряли человеческий облик. Даже нацистские покровители откровенно презирают их. Селин рисует своих «героев» как скопище отбросов. Не потому, что он вдруг увидел все их ничтожество, а потому, что презирает побежденных и неудачников.
Селин не раскаялся, он был и остался приверженцем фашизма, не изменил человеконенавистническим убеждениям. «Я никогда не попрошу прощения»,— заявил он. Собственная неудача вызывает у него приступы патологической ненависти к миру и человечеству. Этот медонский Герострат мечтает о «прекрасном атомном разгроме» планеты, призывает обрушить на род людской тысячи Хиро- сим.
Трещавший по всем швам «третий рейх» дал Селину «идеальный» материал, подтверждающий его концепции жизни и человека. Особенно ярко заметно это в романе «Север» *. 11 Последний роман трилогии — «Ригодон* — опубликован уже после смерти писателя, в 1969 г. О крахе фашистского рейха и французских коллаборационистов полнее всего Селин рассказал в первых романах трилогии. «Ригодон* не вносит нового в ее политическую и эстетическую концепцию.
190
Июль 1944 года. Селин и его спутники оказываются в Баден-Бадене, где поселяются в шикарном отеле «Бреннер». Здесь идет пир во время чумы. Нацистская элита, спасающие свою шкуру «коллабо», какие-то аристократы, предчувствуя неминуемый конец, жрут, пьют коньяк, занимаются любовью. И эту компанию Селин тоже называет отбросами, и и по той же причине. Затем Селин перебрался в Берлин. От столицы рейха мало что осталось: груды развалин и смотрящие пустыми глазницами окон фасады. Нужно отдать должное дарованию Селина, который дает почти физиологическое ощущение гибели гитлеровской империи: от беспрестанных бомбардировок под ногами нацистов дрожит земля, над Берлином стоит апокалипсическое зарево возмездия. По улицам бродят люди, копающиеся в грудах развалин.
Однако Селину жаль не этих людей, а угасающий нацизм, и он пытается разжалобить читателя зрелищем мрачных картин разрушения и хаоса. Ему бы очень хотелось вернуть «величие» фашизма. Символически звучит сцена встречи Селина с сумасшедшим адвокатом Преториусом — мародером, грабящим разбитые дома. Этот одержимый фашист приводит Селина и его спутников на площадь перед имперской канцелярией. Преториус наяву бредит миновавшим «блеском» нацизма, ему слышится звук фанфар и чудится триумфальное появление фюрера. Но площадь, заваленная обломками, пуста. В экстазе безумия Преториус несколько раз рявкает в пустоту: «Хайль!»
Роман Селина «Север» напоминает этот выкрик.
«гКогда человеку изо дня в день, вновь и вновь вколачивают в голову какую-нибудь ложь до тех пор, пока он не уверует в то, что это истина, пока он не станет жить в фальшивом мире иллюзий,— как мы называем такую обработку человека?
Мы называем ее «промыванием мозгов».
Дайсон Картер (Канада)
191
Эта книга — выразительное свидетельство очевидца катастрофы «третьего рейха», насквозь пронизанное мечтой о реванше.
В Берлине у Селина находится могущественный покровитель, врач-эсэсовец Хаубольдт, дающий ему убежище в своем подземном бункере. Хаубольдт кормит Селина и его спутников бутербродами, милостиво предоставляет им с барского плеча махровые купальные халаты. Селин бесконечно унижается, заискивающе льстя Хаубольдту. В этом бункере писатель был готов, по его словам, просидеть двадцать лет.
Хаубольдт — страшная, омерзительная фигура фашиста. Этот врач, предлагающий коллеге Селину (Селин по профессии врач) написать книгу о немецко-французском содружестве в области медицины, сетует на отсутствие эпидемий чумы и тифа, которые смогли бы помочь гитлеровцам. Циник и убийца, он так отвечает на вопрос Селина, где же фанатики нацистской идеи: «Фанатики в «Сигнале» господина Геббельса» (том самом журнале, что недавно был переиздан).
Решив избавиться от своего «французского друга», Хаубольдт отвозит селиновскую компанию в местечко Крэнтцлин, где находится большое поместье его друзей, семейства фон Шертц. Но и здесь Селин чувствует себя затравленным зверем: его презирают французские военнопленные, работающие на ферме, на него косо смотрят местные власти, его третируют господа хозяева. Ради куска хлеба и банки эрзац-меда Селин готов терпеть любые унижения. На десятках страниц Селин плаксиво жалуется на свои несчастья и недуги. Оказывается, плохо только одному ему, а все остальные, даже русские пленные, «хорошо устроились». Он не спит ночами, опасаясь за жизнь, и мечтает «повесить всех за ноги». Ненависть Селина к людям принимает фантасмагорические масштабы, человек представляется ему «доносчиком по самой своей природе», убийцей и вором.
Сущность человека для писателя олицетворяет паноптикум обитателей замка Крэнтцлин. В бесовском хороводе мелькает нечисть, словно сошедшая с гравюр Гойи. Восьмидесятилетний граф фон
192
Шертц — обезумевший сексуальный маньяк-мазохист. Его сын — безногий обрубок, наркоман, которого слуга выбрасывает в силосную яму. Жена калеки Изис фон Шертц — сексуально извращенная особа, жестокая человеконенавистница. Истеричная садистка экономка Кратцмюль, в припадках безумия проклинающая «любимого фюрера». Эсэсовец Мачке — пьяница и развратник, которому всюду мерещатся убийцы. Вешатель ландрат Земмельринг, казненный пленными. Графиня Тульф-Чеппе, помешанная на своих прошлых парижских похождениях. Выживший из ума сторож Хьялмар, который трубит в пастуший рожок и бьет в барабан, оповещая население о воздушных налетах. Все эти мелкие бесы окружают Селина. Он злорадно коллекционирует все новые и новые доказательства людской подлости и порочности. Ведь история предоставила Селину наглядное доказательство того, что истина — это мир смерти и распада. И он мечтает о том, чтобы миазмы гибнущего фашизма отравили все человечество.
Роман «Север» можно было бы назвать впечатляющими показаниями свидетеля, но нигилизм по отношению к истории, реакционные политические взгляды, патологическая ненависть ко всему человеческому привели творческую личность Селина к саморазрушению. Вот почему селиновская книга стала истеричным проклятием человеку, разуму, прогрессу, неодолимому ходу истории, который уничтожил фашистский сброд. Селин знал, на чьей стороне правда истории, ему было хорошо известно, кто сыграл в разгроме гитлеровской Германии решающую роль. «Эпицентр катастрофы был в Сталинграде»,— писал он. Селину хотелось бы навсегда остановить ход исторического развития на мрачных временах фашистского варварства. В романе есть выразительный эпизод. Обезумевший граф фон Шертц, словно новый Мальбрук, сел на белого коня и поехал «отбивать у русских Берлин». Все смеялись над незадачливым графом, один лишь Селин по-военному отдал ему честь. Однако по дороге на графа напала орда бродячих проституток, до смерти избила его и съела его кобылу. Так бесславно закончился «поход» графа...
7 Сборник статей
193
Селин остался верен нацизму. После войны он не раз повторял изречение Ницше: «Все кончится сбродом». Чернью, сбродом для Селина был французский народ, немецкие антифашисты, все те, кто победил нацистское варварство.
И вот теперь буржуазная западная критика усиленно пропагандирует творчество Селина: под предлогом того, что Селин — незаурядный художник, оправдывается и реакционная социальная философия писателя. Этот феномен связан не только с модой на «ретроискусство». Селин «возвращается» и потому, что в современной буржуазной литературе усиливаются антигуманистические тенденции. Автор «Путешествия на край ночи» раньше и сильнее других писателей сумел выразить этот процесс. «Он был первым,— писал критик Пьер де Буадефр в книге «Живая история сегодняшней литературы»,— кто заставил нас смотреть на человека в грязное зеркало. И в этом — увы! — он наш современник». У Селина находятся даже последователи среди некоторых молодых писателей Франции. Примером может служить первый роман Рауля Милля — «Пьяные псы», пропитанный нигилистической риторикой Селина и имитирующий его манеру письма.
Подводя итог, хочется подчеркнуть, что в книгах Селина нет исторической правды, они представляют собой грубую, проникнутую отчаянием и ненавистью к миру исповедь фашиста. Их язык — это лирика безнадежности и патетика злопамятства. И весьма опасно, когда прославляется литература, сеющая смерть и ненависть к человеку.
II
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОЧЕВИДЦЫ
ИСКУССТВО ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ — АНГЛИЯ
КИНОБИЗНЕС И ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА СЛУЖБЕ КОММЕРЦИИ — США
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, ХУДОЖНИКОВ, АКТЕРОВ — ФРГ
Евг. Евтушенко
ТЕЛА И ДУШИ
(Лондонские заметки)
«Кто мы такие? Мы только тела, и больше ничего...» Жизнь, лишенная духовности. Сохранение души — сверхзадача искусства.
I
Профессор филологии, один из героев психологической драмы Джеймса Сондерса «Тела», идущей сейчас на подмостках театра «Амбассадорс» в Лондоне, самоиздевательски кричит, пошатываясь от виски и усталости: «Кто мы такие? Мы только тела, и больше ничего... Так называемая душа — это выдумка литературы, которую я, к несчастью, преподаю...»
Героя блистательно играет Динсдей Ланден, буквально выкладывая кишки на сцену. Произнося эту саркастическую эскападу, актер не разделяет ее, а лишь пародирует представителей общества потребления. На самом деле все его существо восстает против такого вульгарного материализма, отрицающего бессмертие духа. В глазах у актера — неподдельные слезы клоунски кривляющегося, страдальчески смеющегося над собой отчаяния. Видно, что актер разделяет отношение героя к срывающимся с его уст, отвратительным ему самому словам, что это и его собственное антикредо.
Что же происходит с залом? Рядом со мной моя старая добрая знакомая, работающая в знаменитой клинике Тависток, в отделе психотерапии. Ее профессия — выслушивать приходящих к ней испо-
© «Литературная газета», 1979, 31 октября и 7 ноября.
197
ведоваться людей с «разбитыми душами». Тависток стал чем-то вроде церкви. Но даже разбитая душа — это доказательство существования души, как таковой. Моя знакомая это знает, и ее глаза напряженно следят за спектаклем, как за продолжением тави- стокских исповедей.
У нее у самой разбитая душа после несчастливого брака. Ей приходится тянуть одной ребенка, разрываясь между домом и работой, а назавтра ей предстоит идти в суд, бороться против хозяина снимаемой ею квартиры.— какого-то принца из Африки, который хочет вдвое повысить квартплату, и она еще не знает, что проиграет дело. Кому исповедоваться ей, профессиональной исповеднице? Остается только искать помощи у искусства, которое, может быть, и должно быть общим психотерапевтом.
Но так ли все относятся к искусству? Сидящая перед нами крохотная старушка в собольем палантине, играя осыпанным бриллиантами лорнетом, слишком, видимо, тяжелым для ее ревматических морщинистых пальцев, шепчет своему смокингово- му соседу с бугристым лиловатым затылком: «Как трогательно! Как мило!»—и деликатно промаки- вает прозрачный носик в кружевной невесомый платок с монограммой. Сентиментально-плаксивое отношение к искусству, но все-таки не самое худшее. А где-то за моей спиной во время корчей актера на сцене раздается неприятное, какое-то нутряное подхихикиванье, смешанное с хрустом воздушной кукурузы или причмокиваньем леденцами. Это ждущие от искусства только развлекательства коммерсанты средней руки, мелкие и крупные боссы, рвущиеся в боссы клерки, подвыпившие туристы с торчащими из карманов планом Лондона и «Тайм-аутом». Эти зрители пришли на спектакль лишь потому, что прочли в программе развлечений фальшиво заманчивое резюме: о веселой сексуальной путанице в жизни двух пар.
Спектакль, к счастью, выше, чем резюме. Но эти люди хотят видеть на сцене именно то, что им было обещано, а не сам спектакль, полный душераздирающего трагизма. Такие и в «Анне Карениной»
198
увидят лишь адюльтер. Это приятней, это не отягощает необходимостью думать, сострадать.
Такие люди в зале — это только тела. Они сами расправились со своими душами, заткнули их внутрь своих тел. ♦Обездушенные» тела свободны от мыслей о прошлом, о будущем. Жизнь д^я них — это лишь настоящее, но не настоящее всех людей, а только их личное. Жизнь для них кончается там, где кончается их тело. Достоевский об этом когда-то сказал так: ♦...уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено...»
Сегодняшний Лондон выставляет напоказ вседозволенность телоразвлекательства. В районе Пик- кадилли на всех углах — заимствованные у Амстердама ♦секс-шопы», где продаются порножурналы, обернутые в целлофан,— чтобы не перелистывали бесплатно, а покупали; муляжи мужских и женских половых органов с розетками для включения в электросеть (с напряжением от 110 до 220 вольт); в человеческий рост куклы обоего пола — некоторые даже умеют шептать ♦Ай лав ю». Опустив монетку, можно в отдельной кабине посмотреть пятиминутный фильм о разнообразии совокуплений или послушать магнитофонные записи скрипящих кроватей и сладострастных стонов. Всюду толкутся сутенеры, готовые предложить даже русалку, если вам будет угодно, мерцают вывески бесчисленных массажных кабинетов с недвусмысленным добавлением ♦только для мужчин»...
Сами лондонцы, как правило, не заходят в такие заведения и пожимают плечами: ♦Это для иностранцев и провинциалов. Это не Лондон...» Но все- таки мимо ♦секс-шопов» проходят и лондонские дети, и разве это каким-то образом не отражается на их психологии? Хорошо, если чистота воспитания в семье защищает их невидимой стеной. А если нет?
Я против лицемерного воспитания детей сказочками о том, что их находят под капустой, но разве можно пичкать их разнузданным натурализмом, представляя дело так, что нет души, а есть только тело? Смогут ли потом воспринимать красоту
199
бессмертных скульптур и полотен, красоту любимой женщины те люди, в которых с детства убили ощущение чуда, исходящего от обнаженного тела? Конечно, настоящая любовь сильна и может смыть грязь, налипшую с детства. Но настоящая любовь может и не возникнуть, а грязь так и не отлипнет. Сексуальное подстрекательство ведет к импотенции, к извращениям, а иногда и к прямому садизму. Не случайно несколько лет назад, когда наконец раскрыли инкогнито знаменитого «кембриджского насильника», им оказался человек, квартира которого была увешана именно продукцией «секс-шопов».
В Англии есть строгий запрет на порнографию в телевидении. Но поэзии почти так же невозможно проникнуть на голубой экран, будто она — порнография. Я оказался значительно более везучим, чем многие мои английские коллеги — поэты: Би-би-си показала 40-минутный фильм обо мне, и надо отдать должное — сделанный чистыми руками, без каких-либо политических подковырок. Оператор с невеселой улыбкой сказал мне, что я единственный поэт, которого он снимал за всю свою жизнь.
Вот горькие признания поэта Питера Портера, сделанные им в статье «Выступающие поэты»: «Это случилось не со мной, а с моим другом, и это говорит многое о его профессиональном хладнокровии, позволившем ему дочитать стихи до конца. Выступление состоялось в почти пустой комнате публичной библиотеки Северного Лондона. Шесть или семь человек, составляющих потенциальную аудиторию, наконец-то уселись в первых двух рядах. Впереди особенно выделялся мужчина с собакой и с газетой на польском языке, лежащей на коленях. Когда мой друг поднялся, чтобы декламировать, владелец собаки распахнул газету, поднял к глазам и углубился в нее. В то же мгновение собака начала скулить. Но чтение продолжалось. Поэты тоже учатся быть борцами».
Актер Дэвид Редиган, великолепный чтец поэзии, рассказал мне еще более печально-смешную историю. На свой страх и риск он снял крошечный зал на 50 мест для чтения поэтической композиции, сам развешивал афиши. Пришел всего один человек. Правда, без собаки и без газеты. Дэвид читал
200
для него целую программу. Человек плакал. «Вам понравилось?» — в радостном отчаянии спросил Дэвид после конца программы. «Простите, я не слушал... — искренне ответил единственный зритель. — Мне очень плохо-... Мне просто некуда было деться...» Дэвид пригласил его в паб, где они оба крепко, по- дружески выпили.
Означает ли это, что в Великобритании нет хороших поэтов? Нет, они есть — назову хотя бы Теда Хьюза, Филипа Ларкина, Кристофера Лога, ирландца Хини... Означает ли это, что англичане не ценят, не умеют ценить поэзию? Нет, они прекрасные, внимательнейшие слушатели — я в этом неоднократно убеждался. Но... но... если только они придут слушать — без собаки, и без газеты, и без того, что им просто некуда деться.
Приведенные мною два случая, конечно, анекдотичны. Но анекдот иногда бывает показательнее усредненной статистики. Чтобы привлечь публику, нужна реклама. Для рекламы нужны деньги. Где их взять? Для рекламы телоразвлекательства деньги почему-то находятся, а для рекламы поэзии — ищи свищи.
Поэзия — это творение живой души и для живых душ. Зачем она нужна тем, кто только тела? О духовных нуждах сограждан они судят только по своим телесным нуждам. Часто поэтические книги возвращаются авторам с таким объяснением издателей: «Это прекрасно, и нам всем очень понравилось, но, к сожалению, уровень наших читателей очень низок — они не будут это покупать...» Получается порочный круг — издатели сами формируют антипоэтический вкус читателей, а потом ссылаются на этот сформированный ими вкус как на низкий, не усваивающий высокой поэзии.
Коммерческая цензура нисколько не лучше цензуры политической. Несмотря на все усилия «Сов- экспортфильма» показать на английских экранах первоклассный фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», прокатчики остались неумолимы: «Это слишком сложно для нашего зрителя... слишком русский фильм...»
Правду ли говорят английские кинопрокатчики о вкусах своих зрителей? Про вкус какой-то части
201
зрителей — правду. Но эта часть зрителей — тела, воспитанные этими же кинопрокатчиками. Есть в Англии души, не поддавшиеся воспитанию «Челюстями », « Дракулами », вариациямр на тему Джеймса Бонда и прочей кинодребеденью. Это они толпятся на единственный ночной сеанс в окраинном кинотеатре, чтобы увидеть гениальный, на мой взгляд, революционный фильм Бертолуччи «1900», это они выискивают в разливанном море пошлости картины Феллини, Бюнюэля, Формана, Крамера, Вайды, Тарковского, Ольми.
Часть киноновинок спасительно противостоит коммерческому мутному потоку. Это прежде всего американские остросоциальные, антивоенные фильмы «Возвращаясь домой» и «Китайский синдром», где вдохновенно играет Джейн Фонда, убедительно доказывая, что гражданственность не унижает художника, а поднимает его. Поразительно, как Джейн Фонда все успевает: и сниматься, и воевать против атомной истерии не только на экране, но и с трибун. Джейн Фонда — красивая женщина, но она не дала предпринимателям сделать себя только экранным телом. Не боясь никаких обвинений в антипатриотизме, она отстояла свое право на душу. Ее душа стала воплощенной душой прогрессивной Америки.
И как я был ошарашен, когда в одном из переулков Сохо в рекламе порнографического кинотеатрика «Астраль» наткнулся на имя французской, когда-то знаменитой актрисы. Потерю славы нужно уметь так же достойно выдержать, как и саму славу. Мне объяснили, что это так называемое «софт- порно» — «мягкая порнография», где используется только лицо актрисы, а ее голое тело сыграно другим голым телом. Но, в сущности, взаимозаменяемость тел еще более подчеркивает отсутствие души.
Бегство от проблем пола — это, конечно, лицемерие. Но разве не лицемерие — бегство от собственной души? Когда-то Бергман в своем знаменитом фильме «Молчание» многих шокировал натурализмом сексуальных сцен, но они были для него лишь средством метафорически выразить страх одиночества в обществе, где друг с другом говорят на обреченно разных языках. Героиня фильма, отдавшая¬
202
V
ся первому попавшемуся официанту из незнакомого ей города, где по улицам ходят только мужчины, говорящие на изобретенной Бергманом тарабарщине, отчаянно исповедуется ему: «Господи, как я счастлива, что ты меня не понимаешь! Значит, я могу не бояться сказать тебе все о себе...»
В спектакле «Искривленные» по пьесе Мартина Шермана, идущем сейчас в лондонском театре «Кри- терион», есть тема, весьма далекая от моих личных интересов,— гомосексуализм,— но я о ней почти забыл, потрясенный картиной зверств и разложения фашистского рейха, общей антифашистской направленностью спектакля. Сцена, где два заключенных гитлеровского концлагеря (их потрясающе играют Ян Маккелен и Том Белл) бессмысленно таскают тяжелые камни, буквально переворачивает душу зрителей, напоминая нам, что есть не только тело, а и душа — вбитая внутрь, но все-таки неумирающая.
Над кассой театра висит предупреждение о том, что администрация не несет ответственности за грубые выражения и ситуации перед родителями и учителями, которые могут привести с собой школьников. Но все-таки в зале было много школьников, и я ни разу не пожалел об этом. Грубых выражений и ситуаций школьники, к несчастью, видят в жизни не меньше, чем в спектакле,— их этим не удивишь. Но спектакль, хотя и жестокими средствами, добивается воспитательной цели, отвращающей от жестокости. Это не игривые ужасы ради ужасов. Это беспощадный, подчас физиологический урок того,
«Так называемый «прогресс» в Бразилии выражается в обогащении меньшинства и обнищании широких народных масс. Страна загрязняется, гибнет. Для народа не делается ничего, все служит интересам маленькой касты, становящейся день ото дня богаче, но теряющей всякие моральные устои, все более и более забывающей об интересах нации».
Жоржи Амаду (Бразилия)
203
что нет ничего страшнее фашизма — систематизированного обесценивания человеческой личности.
Жестокость порой прикрывается сентиментальным пуританизмом, а безжалостность правды искусства может призвать к чистоте. Таков один из последних английских фильмов—«Скам» (в переводе — «подонки, грязная пена»). Он рассказывает страшную правду об издевательстве воспитателей над малолетними преступниками в одной из лондонских тюрем. Воспитатели всячески поощряют тюремный «вождизм», наушничество, издевательство над слабыми, даже извращения — лишь бы в тюрьме царило полное подчинение начальству, доходящее до тупого, бессмысленного рабства. А когда очередной «вождь» поднимает других подростков к восстанию, ему мстят за это с еще большим изуверством, чем другим: «Неповадно тебе будет соваться в лидеры!» Его хотели сделать коз л ом-провокатором, но когда в нем победил характер свободного, неподъяремного буйвола, его втаптывают в собственную кровь, подбирая другого, более покладистого «вождя».
Фильм был запрещен телевизионными боссами Би-би-си, по заказу которых был написан сценарий — он перешагнул границы их пуританизма. Надо бы запретить действительность, отраженную в фильме, а не сам фильм. Было бы справедливей.
Такова странная мозаика сегодняшней английской действительности — смесь из пуританизма и неприкрытой вседозволенности. С одной стороны — «секс-шопы», а с другой—лицемерный вой, поднятый блюстителями нравственности вокруг якобы преступной любви женатого сельского священника- старика к одной из его прихожанок, тоже уже перешагнувшей за пятьдесят. Рекламирование выдуманного насилия в фильмах ужасов, а с другой стороны —застенчивое сокрытие реального насилия на голубом экране. Попытки превратить искусство в продажное тело, а с другой стороны — мужество искусства в отстаивании права на душу.
Но искусство может быть не бездушным только тогда, когда народ не превращен в стадо тел. С частью населения это произошло. Но население и народ — разные понятия. Разве блестящие писате¬
204
ли Уильям Голдинг, Грэм Грин, Чарльз Сноу, Айрис Мердок, Маргарет Дрэббл, Алан Силлитоу, Джон Уэйн, Том Стоппард, Гарольд Пинтер, Тед Хьюз, Филип Ларкин, или великий скульптор Генри Мур, или удивительные актеры Джон Гилгуд, Ралф Ричардсон, Лоуренс Оливье, Алек Гиннесс, Джон Вуд, Ян Маккелен не есть выражение души английского народа?
Трудно, а может, и бессмысленно выводить усредненный тип человека какой-либо национальности. Но попытаемся исключить две крайности сразу — подонков и гениев. Тогда, возможно, мы подойдем хотя бы относительно близко к искомому типу. Лучше всего это можно понять в Лондоне, как, наверное, и в любом другом большом городе, в часы ♦пик», когда автобусы всасывают в себя толпы людей, не знаменитых ни своими преступлениями, ни политической деятельностью, ни великими произведениями искусства. У этих людей нет времени на телоразвлекательство — их тела слишком устают от работы. Но усталость не отменяет души. Эти люди, как правило, приветливы и с большой охотой объяснят тебе, как куда-то пройти или проехать. Глядя на их лица, понимаешь, что здоровая, нормальная жизнь продолжается, и продолжаются труд, любовь, дружба, семья, доброта человека к человеку.
Трудовая Англия — это огромный мир, скрытый от поверхностных туристских глаз огнями Пиккадилли. Если бы не было трудовой Англии, кто бы зажег эти огни? Без электромонтеров не обойдешься.
Не случайно ведущая сила в Англии — профсоюзы. Именно они добились редкой для капиталистических стран всеобщей бесплатной медицины. С профсоюзами заигрывают все политические партии. Пытаются морально или прямым образом подкупить их лидеров. Порой это удается, но не всегда. Если идет в ход великое оружие рабочего класса — забастовка, чувствуешь еще не до конца осознаваемую этим классом его мощь. Когда весной около месяца шла забастовка лондонских мусорщиков, центр киноразвлечений Лейстер-сквер был буквально погребен под горной грядой отбросов.
206
Духовный мусор, конечно, не победить нагромождениями мусора, как такового. Тело реальности тоскует по душе. Но когда есть духовный вакуум, есть и опасность его заполнения подделкой духовности.
II
В любой империи есть обреченность. Даже в расцвете империй есть запашок их будущего распада. Англия, бывшая когда-то частью Римской, затем распавшейся, империи, не усвоила этого урока, захотела стать империей сама. Но историческая неизбежность заставила втиснуться имперскую протоплазму, растекшуюся по всему земному шару, в маленький изначальный островок. Киплинговские времена прошли, и Англии оставалось с ревностью следить за гигантскими шагами своей блудной дочери —Америки, задыхаясь без привычных, завоеванных, казалось, навсегда просторов.
Англии стало тесно самой в себе. Произошел обратный, исторически мстительный процесс: если раньше англичане стремились в свои колонии на поиски денег, то теперь дети ее бывших колоний стремятся в Англию за тем же самым. Даже при первом взгляде на Лондон замечаешь, как он заметно «почернел». Прилив, еле сдерживаемый иммиграционными властями, дешевой рабочей силы с Востока и из Африки сбил оплату труда, невольно стал одной из причин безработицы. Обыватели переполошились. Возникли профашистски настроенные расистские группировки под откровенным лозунгом «Британия — для британцев». Но многие иммигранты уже стали британскими гражданами, и у них рождаются дети, более многочисленные, чем в английских семействах. Вот что скрывается под сверканием огней Пиккадилли.
Англия, как и все человечество, нуждается в философском осмыслении нового этапа истории. Лишь на базе этого философского осмысления могут происходить конструктивные сдвиги. Только душа может подсказать телу единственные решения. Неучастие в грязи — уже само по себе борьба за улучше¬
206
ние жизни. Правда, иногда только своей. В таких случаях изначально хорошая душа, незаметно для самой себя, покидает тело. Лишенная духовности, так называемая нормальная жизнь превращается в конвейер труда и быта, а любой конвейер ненормален, ибо подавляет личность. Только если у жизни есть сверхзадача, она по-настоящему нормальна. Сохранение души — само по себе сверхзадача. Но душа может сохраняться лишь при условии наполненности.
Англичане — это японцы Европы. Трудно с первого взгляда разгадать, чем наполнены их души,— содержание душ надежно прикрыто самооборонной вежливостью. Англичане не склонны к быстрым дружбам, зато постоянны в долгих. Не надо думать про англичан, что они холодны. То, что кажется холодностью, иногда просто застенчивость, боязнь показаться слишком патетичными: у англичан врожденное недоверие к патетике. Принято считать, что англичане скуповаты. Есть маленько, как говорят в Сибири. Но здесь традиционно считается плохим вкусом швырять деньги на ветер. Не забудьте, что англичанам часто и нечего швырять. Какой-нибудь арабский шейх, на лице которого маслянится темный отблеск принадлежащей ему нефти, проезжающий со своими чадами и домочадцами сразу в трех или четырех «роллс-ройсах», из окон которых развеваются бурнусы, и шоферы-англичане в безукоризненно белых перчатках, развозящие своих новых хозяев по самым дорогим магазинам,— это типичная картинка современного Лондона.
Все больше и больше старинных особняков Лондона переходит в руки, пахнущие нефтью. Англичане после стольких банкротств и взвинчивания налогов боятся коммерческого риска, предпочитают сидеть на банковских сбережениях, сбегают на безналоговый островок Гандзи — это убежище британских рантье, но деньги любят двигаться и сами уходят, не возвращаясь к тем, кто боится употребить их в дело.
К бережливости приводит и болезненный страх черного дня, или, как его называют сами англичане, «дождливого дня». Существует чисто английская телефоноболезнь. В Англии при оплате за те¬
207
лефонные разговоры электронной системой учитывается каждый звонок. Гости, прежде чем позвонить, спрашивают разрешения у хозяев, а иногда после разговора с аккуратностью оставляют монеты на телефонном столике. В некоторых квартирах есть два телефона: один для хозяев, тщательно спрятанный в спальне, а другой, самый настоящий телефон-автомат, в коридоре — для гостей. Показательно, что ввел эту моду отнюдь не бедный человек — миллионер Поль Гетти, а затем она привилась.
Конечно, не все англичане таковы, и я множество раз был тронут проявлениями их душевной щедрости. Шофер лондонского такси, узнавший меня, отказался взять деньги за проезд. «Вы тоже пишете стихи?» — спросил я. «Нет, я сам никогда ничего не писал. Но я люблю литературу. Без искусства превращаешься в кусок мяса. Я сейчас хожу на вечерние курсы изучения Шекспира. Но, наверно, брошу туда ходить... Нас учат анализу... Но Шекспир настолько захватывает меня, что я не могу анализировать...»
Однако человек становится куском мяса не только без искусства. Мне известны досточтимые куски мяса, нашпигованные тысячами цитат. Когда знание искусства становится гурманством — это пища только для тела, а не для души. Знание само по себе может быть и равнодушным. Самая высшая культура — это неравнодушие. Неравнодушие к прошлому, к настоящему, к будущему. Неравнодушие к тем, кого не знаешь. Неравнодушие к унижению человека человеком, где бы оно ни происходило.
В Лондон я приехал именно на праздник такого неравнодушия. Это был вечер, посвященный 75-ле- тию со дня рождения Пабло Неруды, состоявшийся 28 сентября в Логанхолле при Лондонском университете. Вечер был организован Комитетом по борьбе за права человека в Чили, возглавляемым Джоан Хара, вдовой чилийского певца и композитора Виктора Хары, замученного пиночетовцами в 1973 году.
Джоан Хара, чем-то очень похожая волевыми и одновременно тонкими чертами лица на Джейн Фонду,— англичанка из простой рабочей семьи. Впрочем, не совсем из простой — ее отец был изобретатель-самоучка. Он участвовал в конструировании
208
первой английской пишущей машинки. Джоан была весьма далека от политики, училась в балетной школе. Попав в гастрольную группу, совершавшую турне по всему миру, она вышла замуж за танцора, ставшего впоследствии хореографом Чилийского национального театра оперы и балета. После турне они поехали в Чили, где у Джоан родилась ее первая дочь. Джоан в совершенстве изучила испанский язык, полюбила народ Чили, его обычаи, жизнелюбивый характер, его искусство и природу.
Джоан считала, что она и ее родители живут небогато, по английским понятиям — даже бедно. Но только в Чили она столкнулась лицом к лицу с тем, что такое настоящая бедность. Она увидела голод, увидела, как живут многие чилийские крестьяне. Увидев голод, левеешь поневоле. Если, конечно, у души есть глаза.
Виктор Хара был учеником Джоан в школе искусств, где она преподавала. Джоан была старше его, и он был для нее какое-то время одним из многих. Но день ото дня они все более сближались, и постепенно Виктор стал для нее самым близким другом. Она поняла, что тоже любит его, и приняла решение, нелегкое для замужней женщины и матери. Она развелась с первым мужем, вышла замуж за Виктора, у них родилась дочь. Я задаю Джоан вопрос, сам смущаясь от его банальности :
— За что вы полюбили Виктора?
Чувствую стыд за свой вопрос. Но такая проклятая наша профессия. Невозможно домысливать все самому. Иногда приходится мучить людей.
Джоан принадлежит к тем людям, для которых отвечать нелегко, потому что они отвечают только правду. А сформулировать правду так, чтобы в нее не вкралось никакое ретроспективное приукрашивание или искажение, не так просто. Джоан думает.
— Мужчины очень часто, даже когда любят женщину, стараются подчинить ее своей воле. Им нравится, чтобы женщина была тенью рядом с ними, и они лишают ее личности. А когда в женщине исчезает личность, мужчины перестают ее любить и даже спрашивают себя: за что я ее полюбил ко¬
209
гда-то? Виктор был не такой. С ним я впервые ощутила себя самой собой. Он никогда меня не старался подчинить, а я не старалась подчинить его. Он меня многому научил в жизни, но никогда ничего не навязывал. Когда мы были вместе, это была свобода...
Я задаю вопрос, еще более мучительный и для меня самого, и для Джоан. Но кто может лучше, чем она, дать ответ на этот вопрос?
— Скажите, а его последний день действительно был таким, как об этом поют в песнях?
Есть разные вдовы знаменитых людей. Некоторые из них рассказывают уже не саму реальность, а легенды, которые, возможно, кажутся им реальностью. Но Джоан не из таких вдов.
— Последний раз я видела Виктора в день переворота. Он быстро позавтракал и ушел — торопился в радиостудию. После Виктора арестовали и увезли на стадион. Там он пробыл два дня. За ним пришли и увели его вниз, в подсобные помещения стадиона, превращенные в камеры пыток. Оттуда доносились крики — может быть, и его тоже. Но пиноче- товцы не любят свидетелей. Ни один человек никогда не говорил мне, что видел собственными глазами, как Виктору отрубали руки. Возможно, это только легенда. Но в этой легенде нет лжи. Так могло быть. Тело Виктора бесследно исчезло, и я не смогла даже похоронить его...
В глазах Джоан нет слез, и слова просты и страшны.
— Вы только после смерти Виктора стали заниматься политикой?
— Мне казалось, что политика — это всегда болтовня, под которой скрывается карьеризм, и больше ничего. Но Альенде был другим. За это его и убили. Он был политиком и одновременно честнейшим человеком из всех, которых я знала. Во время предвыборной кампании Виктор и я помогали Альенде, устраивали концерты, хотя только однажды нам пришлось пожать ему руку. Не думаю, что я занимаюсь политикой сейчас. То, что я делаю,— простые человеческие поступки. Мне кажется, никто не может быть равнодушным к тому, что случилось в Чили. Я работаю в этом комитете не потому, что
210
Виктор был убит. Если бы он остался жив, я делала бы то же самое...
Бессовестных народов нет. Совесть рассыпана в каждом народе по многим людям. Но совесть нуждается в концентрированном, личностном воплощении. Вот почему эта женщина так напоминает мне Джейн Фонду. Как Джейн Фонда воплотила в себе гражданскую совесть прогрессивной Америки во время войны во Вьетнаме, так и Джоан Хара воплощает в себе совесть Англии по отношению к чилийскому народу.
Руководитель организации «Солидарность с Чили» Майкл Гейтхауз тоже когда-то был далек от политики. Он работал оператором вычислительных установок, неплохо зарабатывал. Но душа тосковала по смыслу жизни, поднимающему человека над ежедневным однообразием. Когда к власти в Чили пришло правительство Альенде, Майкл прочитал в английских газетах, что многие иностранные специалисты бегут из Чили, как крысы с тонущего корабля, и поехал туда работать для нового правительства. Он хотел понять не по книгам, а по собственному опыту, что такое социализм. Но вместе с молодым социализмом он увидел и его врагов. Он видел, как сынки чилийских богачей переворачивали и поджигали автобусы, как жены богачей шли на лицемерную демонстрацию, крича, что они голодны.
— Саботажники сделали меня социалистом, пи- ночетовцы — коммунистом,— улыбаясь крепкими зубами, встряхивая рыжей челкой, говорит тридцатитрехлетний Майкл Гейтхауз, подтянутый, собранный, не любящий лишних слов.
Когда во время концерта, посвященного памяти Неруды, показывали потрясающие документальные кадры его похорон, то слезы чилийцев на экране сливались со слезами англичан в зале, и это было новым доказательством того, что борющееся человечество — единое целое. Актеры Национального театра Великобритании читали стихи Неруды по- английски — может быть, поначалу они делали это даже слишком по-английски, но к концу вечера в них проступил латиноамериканский темперамент. Небольшой оркестр народных инструментов испол¬
211
нял музыку, написанную Виктором Харой, и среди музыкантов с гитарой в руках была одна из двух дочерей Джоан, накрытая чилийским темно-бордовым пончо. Профиль Пабло Неруды светился на заднике сцены, как будто великий поэт был вместе с нами.
В этом зале це было тел. Были души, наполненные горечью сострадания с грозовым привкусом еще не сбывшихся надежд, за которые стоит бороться. Для литературного вечера в Англии зрителей было очень много — тысяча человек, но главное то, что не было ни одного безучастного лица. Ни разу в Англии мне не приходилось видеть такую беспримерно прекрасную аудиторию.
Но когда на следующий день я перелистал все лондонские газеты, в них не было ни строчки о состоявшемся неповторимом концерте в честь неповторимого поэта. Можно было подумать, что такие поэты, как Неруда, толкутся тысячами в лондонских пабах. Вот она, свобода западной прессы — свобода незамечания гениев! Зато в одной из газет, как о крупном национальном событии, была напечатана следующая сенсационная информация:
«Вчера в лондонском аэропорту Хитроу среди транзитных пассажиров под темными большими очками трудно было узнать знаменитого американского киноактера — миллионера Фрэнка Синатру. Синатра с аппетитом съел предложенный ему завтрак: омлет, сосиску, два ломтика бекона, румяные тосты и выпил бокал джуса. От кофе отказался. Счет был два фунта десять пенсов. Синатра дал официанту пятифунтовый банкнот и сказал, что сдачи не надо. Официант попросил у него автограф, который Синатра и поставил на фирменной салфетке. На вопрос нашего корреспондента, понравился ли ему завтрак, Синатра, направляясь в самолет с чемоданом на закодированном замке, ответил: «Англия — родина лучших завтраков».
Тела, читающие газеты, будут довольны. Но что это даст ищущим, мечущимся душам, которыми полна Англия? Что же, я кладу на редакционный стол любой из английских газет эту статью и предлагаю: «Напечатайте. Попробуйте. Сдачи не надо».
212
За неделю в Лондоне я успел посмотреть два спектакля и штук двадцать фильмов. Но один фильм меня особенно потряс. Он был не слабее даже замечательного фильма Формана «Полет над кукушкиным гнездом», где рассказывается о попытке восстания в сумасшедшем доме и о медленном обезволивании главного героя так называемыми транквилизаторами. Это был документальный фильм, заснятый на видеопленку медиками клиники Тависток с разрешения их пациентов. Фильм предназначается только для профессионального врачебного использования, а жаль. Его бы надо показывать в самых крупных кинотеатрах мира. Нет актеров гениальней самых простых людей, когда они, забыв о кинокамере, ничего не изображают, а таковы, каковы они есть.
К психотерапевту приходит средняя английская семья: муж — магазинный детектив, Жена — домохозяйка (оба — лет за сорок), их дети: дочка 12 лет — школьница и мальчик 8 лет — школьник. Родители не знают, что делать с мальчиком — он совсем отбился от рук, прогуливает, ворует из дома, а недавно поджег в мусорной корзине кучу газет. Родители жалуются на то, что у них потерян контакт с детьми — те с ними ни о чем не советуются, ни о чем не разговаривают. Но когда психотерапевт пытается заставить родителей откровенно говорить с ним, с врачом, к которому они пришли за помощью, то они замолкают, опускают глаза, прячутся в скорлупу недоверчивости. Психотерапевт всячески пытается их раскачать, наконец, спрашивает: «Скажите, а о чем вы говорите друг с другом, если не говорите с собственными детьми?» Родители переглядываются, снова опускают глаза. «Мы редко говорим...» — выдавливает муж. «Мы ни о чем уже давно не говорим...» — вырывается у матери. «Тогда зачем же вы пришли сюда, если ничего не хотите говорить не только друг другу, но и мне?» — спрашивает психотерапевт. И вдруг у матери пробивается: «Когда моя мать была беременна мной, они вместе с отцом были погребены под руинами после немецкой бомбежки. Все думали, что они убиты. Только наша собака этого не думала. Она искала их и нашла по запаху сквозь обломки.
А когда нашла, стала лаять, показывая другим людям место... Их спасли, и спасли меня в животе моей матери... Так и я сейчас вроде той собаки... То, что я вас привела на обломки нашей семьи,— это мой лай, а словами я не умею...»
Великая метафора, случайно вырвавшаяся из уст этой женщины, может быть, никогда не читавшей стихов, дала психотерапевту, по его собственному признанию, ключ к семейной трагедии нераз- говаривания друг с другом. Он понял, что поджигание мальчиком бумаги в мусорной корзине было тоже чем-то вроде собачьего лая над обломками — чтобы привлечь внимание взрослых. Психотерапевт начал учить этих людей разговаривать друг с другом, открывать друг друга для себя. На видеопленке запечатлены их разные встречи, и мы видим, как на наших глазах семья меняется, скованность исчезает, и они даже начинают улыбаться, хотя чуть пугаются своих собственных, непривычных им улыбок. Психотерапевт в заключение не подводит ни к какому «хэппи энду» — он осторожен в прогнозах по поводу их будущих взаимоотношений. Но надежда на неравнодушие друг к другу появилась, затеплилась, хотя еще робко. Они — хотя бы в первоначальной степени — перестали быть сосуществующими телами, начали становиться — еще неумело и неуклюже — сосуществующими душами.
Я люблю Гайд-парк и каждый раз, когда приезжаю в Англию, хожу туда. Мне нравится идея открытого выплескивания людьми своих душ. Но на этот раз Гайд-парк произвел на меня грустное впечатление, может быть, потому, что я пришел туда после тавистокского, неподдельно исповедального фильма. В речах и затянутых в крахмальные воротнички квакеров, и расхристанных анархистов, и беснующихся националистов, и сексуальных пророков с немытыми шеями я уловил одну из самых жалких разновидностей актерства — игру в испове- дальность. Слушатели были в основном из иностранных туристов. Гайд-парк стал чем-то вроде цирка. Кроме того, я был опечален тем, что не увидел моего старого безымянного знакомого — толстого, похожего на носорога африканца, который всегда
214
водружал свою личную лестницу с портретом Ленина и красным знаменем и безудержно говорил, мешая в речах и горькую правду жизни, и зазывные ярмарочные шуточки. Но что-то в нем было настоящее — в этом африканце, полном отчаяния и одновременно вакхического озорства. Я не нашел его на этот раз и невесело подумал, что он, может быть, заболел или даже умер. Ведь на моей памяти он говорил на этом углу, с этой самой лестницы, уже без малого лет двадцать.
Но люди должны говорить друг с другом, должны выкладывать друг другу души — иначе они станут только телами. Без актерства, а так, как в Та- вистоке: мало-помалу, с трудом подбирая слова, но с каждым словом открывая для себя друг друга. Один англичанин сказал: «Хороших людей на земле большинство, но они организованы хуже, чем плохие...»
Не в этом ли проблема и сегодняшней Англии, и всего человечества?
Лондон — Переделкино
Ю. Комов
КОРОЛИ КИНОХАЛТУРЫ
(Роджер Кормен и другие)
Абсолютно кассовые ленты одного из ♦ королей» Голливуда. «Блицфильмы» за рекордно короткие сроки: «Лавка ужасов» — два дня, «Ведро крови» — пять дней. Испытание халтурой.
Названия этих фильмов — «Нападение гигантских крабов», «Оно завоевало мир», «Маска красной смерти», «Женщина^викинг против морского змея» и т. п. — рассчитаны на массового зрителя: они интригующе примитивны и в то же время информативно описательны. Сами картины, на языке американского зрителя,— развлекательный «джанк», то есть дешевые поделки, поставленные на коммерческую основу, на большом экране и телевидении США их прокручивают непрестанно.
Более 150 лент подобного рода насчитывают дотошные историки современного американского кинематографа в активе Роджера Кормена, бизнесмена, продюсера, режиссера, сценариста, «покровителя» молодых талантов. «Королем кинохалтуры» величает его американская пресса, восхищающаяся тем, как, проходя через руки Кормена, превращается в поток зеленых бумажек с клеймом казначейства Соединенных Штатов самый разнообразный кинохлам.
Продукция Кормена, результат «ловкости» его рук и воображения,— это «абсолютно современные» кассовые ленты, уже много лет идущие на экранах европейских и американских кинотеатров и, конечно, по телевидению. Это продукция «на все вкусы», продукция, которую потребляет буквально каждый
216
американец и многие зрители за рубежом, и все же ленты Кормена, если о них заводят речь, чаще всего называют «безликими». На всех этих картинах — печать одномерности, штамп стандарта. Как бы ни были талантливы кинематографисты, работающие у Роджера Кормена, как ни оригинальны порой их замыслы, в любом фильме, сделанном под диктовку «маэстро», зритель находит типичные проявления голливудской массовой культуры, искусства на службе коммерции, иначе говоря — шоу- бизнеса.
Роджер Кормен вроде бы находится в Голливуде в некоем неопределенном, странном положении. Его хорошо знают в деловых кругах, его имя можно найти в любом киносправочнике, но никто, кажется, никогда не смотрел его фильмов, не говорил о них в кругу друзей, не спорил об их достоинствах и недостатках, Кормен в Голливуде как бы — инкогнито. И все же это далеко не так. Обратимся к примерам.
Вряд ли кто из критиков в США писал, говорил или даже упоминал, например, о фильме «Приливная волна», тем не менее, сделав внушительные сборы, он прижился и на «голубом» экране. Лента-невидимка, исчезая, появляется время от времени вновь; как и другие «близнецы» из серии фильмов Кормена, она трудно узнаваема даже при неоднократном просмотре. На конвейерах кинофабриканта Кормена вариации на темы массового зрителя идут сплошным потоком, удовлетворяя «всех» членов общества потребления. «Творческий» процесс гениально прост. Вспоминая, как создавалась лента «Приливная волна», сам Кормен рассказывает: «Я взял типичную ужасную японскую картину-катастрофу и выбросил из нее все, кроме специальных эффектов, которые у японцев так хорошо получаются. Затем нашел американскую звезду — Лорна Грина —и снял его в нескольких дополнительных сценах. Я сделал его американским делегатом при ООН с тем, чтобы, когда действие на экране становится чересчур запутанным и зрителю трудно разобраться, что происходит с этой ужасной Приливной волной, убивающей всех этих людей в филь-
ме (курсив мой. — Ю. К.), он появлялся на экране и объяснял, что к чему». .
Откровения опытного бизнесмена от кино, называющего вещи своими именами (но говорящего на жаргоне кинопромышленника), нуждаются в некоторых комментариях. Начнем по порядку: кто такой Роджер Кормен?
Роджер Кормен родился в 1926 году в Детройте, в семье инженера. Учился в Стамфордском университете, но перспектива пойти по стопам отца его не заинтересовала, он устроился работать посыльным на студию «20-й век — Фокс». Стал пробовать писать рецензии на фильмы. Затем один семестр учился в Оксфорде на факультете английской литературы. Вернулся в Голливуд. Первый свой сценарий продал за 4 тысячи долларов компании «Эллайд артисте», образованной в 1953 году на базе фирмы «Монограм», специализировавшейся на так называемых «лентах второго сорта». Опыт оказался удачным, и по следующему сценарию Кормен уже сам ставил «свой» фильм. На этой ленте под названием « Чудовище со дна океана », нередко идущей и сегодня по американскому телевидению, Кормен заработал 100 тысяч долларов. В 27 лет он открыл собственное дело. Первый фильм молодого кинопромышленника — «Пятеро завоевывают Дикий Запад» — появился в 1954 году. Затем Кормен делал в среднем по пять картин в год, его «блицфильмы» (the quickies) выходили на экраны, тесня один другого. Любители сенсаций утверждают, что рекорды скоростной работы Кормена — ленты «Лавка ужасов» и «Ведро крови», скроенные, соответственно, за два и пять дней.
Нескончаемый марафон низкопробной продукции — составная американского кинобизнеса. Но если раньше в кинопромышленности США существовало понятие «фильмы второго сорта» (B-movies или просто Bs), сегодня коммерческое и творческое слито воедино, впаяно в рентабельную систему выколачивания денег из зрителя любыми средствами.
Впрочем, не так все просто. Обратимся к истории вопроса. У американских киноведов и кинокритиков можно встретить такое понятие, как «гарантированная аудитория», категория, ныне отсутст¬
218
вующая. Аудитория эта возникла в конце 30-х годов и просуществовала немногим более десятилетия. « Гарантированный зритель» определялся кинопромышленниками по количеству проданных билетов— в конце 30-х эта цифра достигла 75 миллионов в неделю и продолжала неуклонно расти. В 1946 году продавалось 100 миллионов билетов в неделю, это означало, что две трети населения Соединенных Штатов неизменно избирали кино как основной вид развлечения. Деловые люди приходили к убеждению, что американский зритель покупает практически все, что ему предлагают. Эта ♦ теория всеядности» потребителя постепенно получала в кругах кинопромышленников все большее распространение. Риск при производстве картин, считали в те годы, почти исключен, проценты на вклады будут получены, лишь бы фильм дошел до экрана.
Следует отметить, что созданию такого мнения способствовала и «техническая» сторона вопроса.
«Может быть, мир следует разделить на писателей и на прочих людей? Я иск- ренне говорю: пнет». Иначе бы понятия мира, счастья, свободы для писателей значили бы нечто иное, чем для других людей. Выигрываем ли мы, писатели, от свободы, которая есть только для нас? Возможно ли это и было ли так когда-нибудь? Вы знаете лучше меня, что писатели всегда дорого платят за свои настоящие или воображаемые привилегии. Разве испанские фашисты убили Гарсиа Лорку иным оружием, чем крестьян Галисии и рабочих Мадрида? Разве нацисты, бросая евреев в газовые камеры, спрашивали, кто из них писатель и кто нет? Умирающий Пабло Неруда с ужасом наблюдал, как избивают его народ, но разве генерал Пиночет почтительнее отнесся к писателям и артистам?»
Пьетро Буттита (Италия)
219
До 1948 года, когда в США вступили в действие так называемые «антитрестовские» законы *, студии сами являлись и владельцами кинотеатров: RKO показывала свои ленты в театрах RKO, «Парамаунт» — в кинотеатрах «Парамаунт» и т. д., администрация каждой студии прекрасно знала, куда ее продукция будет направлена. Таким образом обеспечивались «гарантированные операции», ибо в руках хозяев студий находились и производство, и прокат, и организация представлений, иначе говоря, они контролировали фильмы от начала до конца.
Создавались благоприятные условия для конвейерного производства обезличенных «товаров». В период 1930—1939 годов в США было выпущено на экраны около 5 тысяч (!) полнометражных художественных картин, еще 4 тысячи сошло с конвейера в период 1940—1949 годов.
В 1932 году кинопромышленники взяли на вооружение коммерчески оправдывавшую себя систему показа двух фильмов — как правило, «большого» и «малого», более дорогостоящего и более дешевого, с известными исполнителями и без них — в одном сеансе. Получаемые доходы показывали выгодность этой операции: к 1935 году в 85 процентах всех кинотеатров практиковалась тандемная демонстрация фильмов. Для многих картин не хватало уже «звезд», не говоря о серьезных режиссерах. Решало количество — так возникли «фильмы второго сорта».
Сегодня это уже история. Новые времена — новые веяния, бизнес не стоит на месте, он развивается. «Классический» период кинохалтуры завершился, по мнению многих американских киноведов, к середине 50-х годов. Телевидение с его огромными возможностями постановки сериалов не просто приняло эстафету (телекомпании скупили огромное количество лент второго сорта для многократного показа их на голубом экране), телепромышленники переняли опыт своих коллег из кино и выгод- 11 Согласно этим законам, кинокомпаниям было предложено продать свои залы; замкнутая система исчезла, происходило разделение: производством и прокатом фильмов (production — distribution) стали заниматься одни фирмы, демонстрацией их (exhibition) — другие.
220
но использовали уже созданную кинематографом «гарантированную аудиторию». Потребитель теперь мог, не выходя из дома, увидеть все, что предлагала ему, скажем, тандемная система проката.
Перед кинопромышленниками, специализировавшимися на лентах второго сорта, таким образом, вставали новые задачи — чтобы остаться у дел, им необходимо было перестраиваться. Сэмюэль Аркоф, один из основателей компании «Америкен Интернэшнл», работавший и на телевидении, прямо заявил: «Нам необходимо дать зрителю то, что он не может увидеть на ТВ» 1. Аркоф и его коллеги стали (еще до того, как это пришло в голову администрациям крупных студий) ставить во главу угла принцип создания картины «не для всех», но производство ленты, рассчитанной на специальную аудиторию.
Именно они, так ратовавшие за «всеядность» американцев, начали первыми выявлять и «фрагментарную» (separate) аудиторию. Положение на рынке индустрии развлечений заставляло искать новые гибкие методы: в послевоенные годы кассовые сборы неуклонно падали — в 1962 году они составили лишь половину сборов 1946 года1 2. Оказывалось, что продукцию можно и нужно нацеливать не на всех, но на определенные — конкретные — группы населения. Стали раздаваться голоса, что зрительный зал разнолик, он не представляет монолита — и, стало быть, нужно использовать любую возможность для «отыскания» зрителя, вовлечения его в аттракцион. Короли кинохалтуры фактически открыли «эру эксплуатации», пришедшую на смену «классическим» лентам второго сорта.
«Эра эксплуатации», достигшая своего расцвета во второй половине 70-х, подготавливалась двумя предыдущими десятилетиями кинематографической Америки. «Классический» период лент второго сорта, по существу, составила продукция голливудской
1 « Kings of the Bs.*. Todd McCarthy and Charles Flynn, eds. E. P. Dutton & Co. Inc., N. Y., 1975, p. 267.
2 Дается no: Alan C a s t y. Development of the Film. An Interpretive History, Harcourt Brace Jovanovich. Inc., 1973, p. 365.
221
«фабрики грез» в ее чистом виде. С киноконвейера в зрительный зал подавались заготовки, не проходившие на своем пути к потребителю через дополнительные операции, цель которых состояла бы в наведении глянца, придании им товарного вида. Этот свой продукт индустрия развлечений продавала практически без рекламной упаковки.
У «эры эксплуатации» свои характерные черты. Сегодня в системе, скажем, того же двойного сеанса, порождения классического «гарантированного проката», показывают фактически две ленты первого сорта, картины, по своим экранным характеристикам почти не отличающиеся от основной — «большой» —голливудской продукции.
Лентами второго сорта сами обитатели Голливуда нередко считают, путая все категории1, картины, которые просто стоили дешево. Но — и деловые американцы это прекрасно знают — для аудитории стоимость фильма часто не играет никакой роли. И хотя все чаще в рекламных проспектах и дежурных кинозаметках, появляющихся в ходе съемок очередного «большого проекта» и нацеленных на подготовку массового зрителя к фильму, мелькают впечатляющие цифры миллионов, ассигнуемых на еще одну «картину века», трудно с определенностью сказать, что американский зритель, привыкший к рекламному шуму, именно на этой «игре многих нулей» акцентирует свое внимание. Аудитория в 70-е хорошо воспринимала как «средние», по голливудской шкале, фильмы, так и откровенную халтуру и чистые «фильмы эксплуатации»: «Маленький автобус», «хит» 1977 года, выпущенный фирмой «Краун», собрал около 20 миллионов долларов, а известная порнолента «Глубокая глотка» демонстрировалась на экранах Америки в течение нескольких лет.
Таким образом, картина, начинавшаяся как лента второго сорта, может, сделав сборы, выйти в «первую» категорию. Кассовый доход — вот барометр, определяющий в Голливуде ценность филь-
1 Киновед Роджер Эберт, например, полагает, что «фильмы эксплуатации»— это, помимо лент первого (As) и второго (Be) сорта, третья категория голливудских фильмов (см.: «Esquire», 1971, November).
222
ма. И с этой точки зрения Роджер Кормен вроде бы даже прав, когда заявляет: «Я лент второго сорта не делаю, их никто больше не делает» *. Для Кормена и его коллег любая картина, большая или малая,— это «фильм эксплуатации», фильм для массового зрителя (вне зависимости от того, выступает он в своем «всеядном» или «фрагментарном» виде). Просто в одних лентах элементы эксплуатации выражены более рельефно, чем в других. Но — заметим это — тот факт, что картина сделала сборы, не мешает ей быть лентой второго сорта.
Не снимает печати халтуры и условное разделение, к которому до сих пор часто прибегают кинодельцы, классифицируя картины, разводя их по разрядам. В некоторых рекламных проспектах 50 — 60-х годов «молодежные» (juve) ленты, например, кодировались следующим образом: «М» — мюзиклы, «Р» (personality) — фильмы характеров, «WY» (wild youth) — фильмы о молодежи бунтующей, «MY» (mild youth) — фильмы о молодежи спокойной, «МО» (motocycle gang film) — фильмы о бандах на мотоциклах, «В» (beach film) — пляжные фильмы и, наконец, «S» (serious film) — серьезные фильмы.
В 70-е это разделение выглядит «масштабнее». Кинопромышленники больше внимания стали уделять разработке жанровой тематики картин второго сорта: вестерны, гангстерские ленты, фильмы ужасов, научно-фантастические поделки продолжали составлять значительную часть продукции, но если в 50-е и 60-е на их фоне промелькнула лишь одна— молодежная—волна, вызванная бунтом молодых американцев против ценностных критериев «старой» Америки, против всего первосортного — даже против A-movies, но за Bs,— то в 70-е усиленно эксплуатировалось сразу несколько моментов: разрабатывалась, например, «черная» тема, выстроенная на фильмах, ориентированных на негритянскую аудиторию, процветала серия о мастерах каратэ, кунгфу и других экзотических средствах обороны и нападения, также направленная, в основном, на «цветную» аудиторию и молодежь, и невиданного размаха 11 «Kings of the Bs>, p. 301.
223
достигла волна порнографической продукции, подававшаяся вперемежку с волной насилия, картинами, изобиловавшими кровавыми мазохистскими оргиями.
Короли кинохалтуры, не брезгуя, брались за любое, лишь бы получить прибыль. В 70-е процветала, например, компания «Ив продакшенс», принадлежащая Рассу Мейеру, бизнесмену, которого именуют «королем голых (nudies) фильмов». В 50-е Мейер работал фотографом в журнале «Плейбой», изучал приемы подачи порнографической продукции. В 1959 году сделал первый свой фильм — «Бессмертный г-н Тис»: некоторые американские исследователи кино склонны считать эту ленту первой ♦голой» американской картиной1. Бюджет фильма составил всего 24 тысячи долларов, прибыль была получена многократная. Мейер открыл собственное дело и на протяжении 60-х годов выпустил целый ряд «картин, эксплуатирующих секс». Все это были ленты так называемой «мягкой порнографии» (soft porn), эротические фантазии со слабой претензией на подобие сюжета. В 70-е Мейер, как и другие представители возникшей порноиндустрии, новой отрасли бизнеса, приносящей огромные доходы, вкладывал уже значительные средства в очередные свои проекты. Его картина «За пределами долины кукол» (явный намек на известный роман Жаклин Сьюзен, по которому также был поставлен фильм) обошлась в 900 тысяч долларов, сборы составили 10 миллионов.
«Голый король» совершенствовал систему выколачивания денег из потребителя, находил новые способы, комбинировал. Его лента «Черная змея» (1973) — это уже «секс-фильм в черном варианте»: негритянские исполнители обеспечивали дополнительную аудиторию, при сохранении «основного» зрителя, потребителя «мягкой порнографии».
Несколько в другом амплуа — но имея в виду ту же аудиторию и лишь несколько раздвигая ее «географические» границы, ориентируясь на непритязательных зрителей драйв-инов, кинотеатров под от- 11 См., например: Roger Ebert. Film Comment, vol. 9, № 1 (1973, January).
224
RAUL KENNY
PAUL KENNY
PAUL KENNY
Одна из шпионских серий, издающихся во Франции.
Герой американских комиксов, «супермен».
Дж. Сегал. «Танмс-сквер». 1970. Гипс, дерево, пластик, лампы накаливания и люминесцентные лампы.
Кадр из фильма ужасов ♦Доктор Джекиль и мистер Хайд».
Прэдставители
панкультуры.
Рок-группа
«Секс-пистолс».
Поп-арт. К. Олденберг. Ептоколонна в Чикаго.
Поп-арт. Э. Уорхолл. «Кэмбелл-суп».
1961 —1962. Холст, масло.
Д. Эддл. «Катастрофа VI». 1971
крытым небом, где зрители могут смотреть фильм на огромном экране, не выходя из своих автомашин,— выступал другой «деловой человек», автор книг по маркетингу и рекламе, владелец нескольких кинотеатров в Чикаго, глава собственного рекламного агентства, продюсер Хершел Льюис. О своих «творческих наклонностях» Льюис заявил уже первым фильмом с красноречивым названием «Кровавая фиеста» (1963). Садистский сюжет продолжила картина «Две тысячи маньяков» (1964), и колесо очередной халтуры завертелось.
Льюис и ему подобные не просто наводняют экран стереотипными поделками, взывающими к подсознанию американского обывателя, будящими в нем зверя, они смакуют насилие. Рассуждая, например, о картинах Сэма Пэкинпа, одного из известных режиссеров, специализирующихся в Голливуде на больших картинах насилия, Льюис заявляет: «Кровь в фильмах Пэкинпа похожа на воду... Пэкинпа стреляет в людей, мы их расчленяем» (курсив мой. — Ю. К.)1. Льюис склонен даже порассуждать о «некоторых приемах», с помощью которых достигаются наиболее интересные эффекты, разрабатываются детали кровавого действа. Продюсер мог бы прочесть целую лекцию о том, как «приковать» внимание зрителя к экрану, затратив при этом минимум усилий, сконцентрировавшись лишь на броских кадрах, «пышущих действием».
Действие — это в самом деле главный компонент всех лент второго сорта. Разработка характеров не входит в намерение королей кинохалтуры, они словно гонят кадры на зрителя, захлестывая его, не давая задуматься, топят потребителя во «вседозволенности» буйства диких фантазий. В лентах второго сорта никогда никого не запоминаешь, не узнаешь впоследствии. Стереотипы настолько сильны, что все лица — на одно. И это при том, что в лентах второго сорта нередко начинают свою творческую карьеру будущие звезды большого экрана, будущие большие художники Большого Голливуда.
1 «Kings of the Be*, p. 301.
9 Сборник статен
225
Вернемся здесь к Роджеру Кормену — многих сегодняшних знаменитостей он «вывел в люди». Талантливые художники современного американского кино прошли суровую школу, настоящее «испытание халтурой»; Кормен фактически оказался еще одним «крестным отцом» американского кинобизнеса, воспитателем кинодеятелей нового поколения, пытающихся нередко сохранить в своих работах шаткий баланс коммерческого и художественного, схватить, по суждению самого Кормена, трудно уловимое мгновенье развлекательного и серьезного.
Самого бизнесмена, впрочем, меньше всего волнует вопрос отношения художника к своему произведению (читай: продукции), он не собирается различать какие-либо критерии, вникать в тонкости, пытаться сделать или задумать, скажем, нечто серьезное, но реакционное, или развлекательное, но прогрессивное. Для Кормена каждый фильм, как мы уже подчеркивали,— это, прежде всего, баланс финансовый, не художественный, «голливудские весы», на чашах которых миллионы долларов и потребителей.
Кормен, конечно, за качество своих лент. Кинопромышленник хочет, чтобы у него, как он говорит, были «добротные сценаристы, актеры, режиссеры, копполы, богдановичи и т. д.». При этом бизнесмен считает себя не просто киноработником, но «делателем кино» (filmmaker), сочетающим функции продюсера, администратора, по-новому организующего собственный бизнес, и... искателя молодых талантов.
Свой первый фильм — «Дементия-13» — известный режиссер Фрэнсис Форд Коппола (создатель «Крестного отца») сделал на фабриках Кормена. Там же написал свой первый сценарий—«Последняя женщина на земле» — модный сегодня в Голливуде писатель Роберт Таун (автор «Последнего наряда», «Чайна-таун», «Шампуня»). В своем первом фильме снялась у Кормена Эллен Берстин, получившая «Оскара» как лучшая актриса 1974 года. Лучший исполнитель вспомогательной роли, отмеченный в том же году американской Академией искусства и науки кино, а со второй половины 70-х — одна из звезд американского экрана, Роберт ДеНи-
226
ро дебютировал в фильме Кормена «Кровавая мама».
Список знаменитостей современного Голливуда, начинавших у Кормена, легко продолжить: их имена не нуждаются в пространных комментариях. Питер Богданович был до прихода к Кормену в 1967 году «свободным писателем», первые его попытки поставить спектакль на Бродвее не увенчались успехом. Кормен использовал его сначала как редактора, затем, дав возможность отснять под своим наблюдением несколько разрозненных сцен с Борисом Карлоф, неизменным участником фильмов ужасов, разрешил скроить из имевшегося в наличии «остаточного кинохлама» картину. Так родился в 1968 году первый фильм будущего знаменитого режиссера — «Цели». До 1971 года, когда по заказу студии «Коламбиа пикчез» Богданович снял ленту «Последний киносеанс», сделавшую его знаменитым, это была его единственная работа.
Мартина Скорсезе Кормен нанял делать фильм «Товарный вагон «Берта», посмотрев короткометражку молодого режиссера (тогда еще студента Нью-Йоркского университета) «Кто стучится в мою дверь?». Кормен назвал Скорсезе в интервью 1973 года1 одним из «самых многообещающих» своих учеников: сегодня Скорсезе—полноправный член Большого Голливуда.
Джека Николсона Кормен «открыл» в 1958 году: актер сыграл в его ленте «Плаксивый убийца», стоившей 7 тысяч долларов и отснятой за 10 дней. За этим последовало несколько аналогичных работ, пока наконец к Николсону (после «Беспечного ездока», сделанного не у Кормена) пришла слава.
Интересно отметить, что, уходя от Кормена в большое кино, вчерашние новички, как правило, рекомендуют ему своих друзей, новые молодые таланты. Так появился в «Кровавой маме» Роберт Де Ниро, а в «Диких ангелах» Брюс Дерн. Список учеников Кормена можно продолжать и продолжать:
1 «Kings of the Bs», p. 310,
9*
227
актеры Питер Фонда, Дайана Лэдд, Пэм Гриэр и Та- лиа Шайр, оператор Джон Алонзо и многие другие.
Можно было бы составить и новые списки, списки подопечных других королей кинохалтуры — Стив Бройди, например | президент компании «Моно- грам», а затем «независимый» продюсер, шефствовал в свое время над Уильямом Фридкиным, автором знаменитого «Изгоняющего дьявола», явного «фильма эксплуатации» и в то же время — картины, с кассовым успехом которой Голливуд так любит отождествлять себя.
Напрашивается вывод: голливудская элита, вышедшая из лент второго сорта, не может не нести на себе клейма Кормена и других «королей», проклятия халтуры. Коммерческая жилка в сочетании с талантом становится двигателем современного кинематографа США. При этом следует отметить главный момент: халтуру производят не из «любви к искусству», не просто так,— ее производят, потому что это выгодно. Поднимаясь над потоками конвейерного производства фильмов, многие серьезные режиссеры ставят ленты, заставляющие американцев думать, рассуждать над событиями в мире, не принимать их красиво упакованными в целлофан «великого общества». Но коммерческое начало, вошедшее в кровь невидимыми, но могучими генами, нередко развращает оригинальный художественный замысел: первый — свой — порыв довольно часто обрастает по дороге к зрителю чисто голливудскими трюками, перекрывается рекламной трескотней, в итоге становится кинопустышкой. Этому способствует и тот бесспорный факт, что подлинное произведение искусства бывает трудно понять. Ибо искусство не однозначно, оно многопланово, необъятно, оно в состоянии не только решать задачи, но и ставить перед зрителем многочисленные вопросы, заставлять его сопереживать, смеяться и плакать, искать и не обязательно находить. Произведение искусства может принести вам радость и... боль. Искусство гуманно и жестоко, ибо оно — сама жизнь. Вот почему процесс восприятия произведения часто процесс болезненный, трудный, даже раздражающий. Нужно сделать усилие, расширить границы чувств и мыслей, подняться над обыденным. На этом не за¬
228
работаешь, считают кинодельцы в США, у американского потребителя слишком развито «чувство примитивного ».
Это страшная философия. Страшно и то, что условия американского рынка труда создают для «школы Кормена» идеальные возможности. Серьезную работу по специальности найти после окончания колледжа молодому кинематографисту почти невозможно. Выпускники берутся за все, надеясь на удачу по-американски. Зная об этом, используя ситуацию, Кормен действует в полном соответствии с философией делового лица: «О’кэй,— рассуждает бизнесмен,— пожалуй, этот режиссер талантлив, на него можно поставить» (курсив мой. — Ю. if.)1. И политика короля кинохалтуры, все чаще отдающего новые второсортные проекты на откуп молодым талантам, оправдывает себя: на незначитель¬
ные вложения прибыль идет многократная, а возникающие в ходе работы «побочные» идеи немедленно пускаются в оборот, принося дополнительные доходы.
Кормена не смущает возраст; деловые качества — вот основной его критерий каждый раз при подборе «очередного класса». Новички слетаются к нему, как мотыльки, надеясь на возможность проявить себя, войти в киномир пусть даже с черного хода. Молодежь занята у Кормена не только на творческих ролях, он воспитывает и администрато- ров-менеджеров, возможных будущих кинопромышленников, потенциальных королей Голливуда. Директору по вопросам рекламного продвижения фильмов компании Кормена «Нью Уолд пикчез» Джону Дэвисону было в 1976 году 25 лет, многие из его коллег — ровесники, недавние выпускники Нью- Йоркского университета, университета Южной Калифорнии, Калифорнийского университета в Лос- Анджелесе. Талантливая молодежь, считает Джон Дэвисон, стекается к Кормену потому, что он единственный продюсер, который постоянно дает ей возможность проявить себя и который делает достаточно дешевые картины, чтобы позволить новичкам
1 «Kings of the Bs», p. 307,
осуществлять свои проекты без значительного финансового риска для его компании. Критика права, по мнению Дэвисона, называя картины Кормена ♦фильмами эксплуатации»: «Роджер эксплуатирует молодые таланты, потому что наш труд обходится ему дешево, а мы эксплуатируем его, потому что учимся, как надо работать».
Итак, происходит передача эстафеты: кинохалтура находит выход в новое поколение американских кинематографистов, полное свежих сил, планов, дерзаний, впитывающее старую веру, чтобы, возможно и неизбежно — время требует свое,— поставить ее на более современные рельсы. Но дурман наживы не улетучивается, не исчезает, его питает сама система американского общества, общества одиночек и массового зрителя, общества «возможностей» и готовых на все, дабы схватить удачу, людей, завороженных теорией «массового потребительства».
Массовое и индивидуальное, приходя в соприкосновение, в условиях капиталистического общества не гармонично дополняют друг друга, но постоянно сталкиваются. Индивидуальность не только развращают самой идеей грандиозного успеха, огромной популярности, несметного богатства — механизм «американской мечты» предусматривает и состояние «открытия мира» художником. Режиссер, актер, писатель, все творческие работники каждый день сталкиваются с тем, что система коммерческой культуры, не требуя от них стопроцентного одобрения сложившихся в Голливуде отношений (оставляя им, таким образом, «свободу восприятия»), постоянно ставит тех, чей труд и талант эксплуатирует, в жесткие рамки работников индустрии развлечений, производящей товарную продукцию.
Индивидуальный талант не зажимают, ему дают развиваться, но все время напоминают, что художник не может существовать без поддержки массовой аудитории, которая, в основном, принимает (и покупает) разрекламированную продукцию традиционно-коммерческого направления. Массовая американская культура, словно могучее силовое поле, окружает художника, не дает ему вырваться за пределы раз и навсегда установленных границ, и при
230
всем этом оно невидимо. Для многих его вообще не существует — понять собственную трагедию художник часто отказывается, мерками становятся его благополучие, положение в обществе, американская стопроцентность. Мир делится на тех, кому повезло, и неудачников.
Нередко, впрочем, большой художник отдает себе отчет в том, что с ним происходит, он пытается примениться к концепции «деловой цивилизации», доведенной в Голливуде до крайности. Его человеческие ценности должны выживать в упорной борьбе, ибо между правом на собственность и правами человека — постоянный конфликт.
Заметим при этом, что в Голливуде никто не заставляет никого продавать свой талант. Ни Кормен, ни администрации крупных студий вообще формально не принуждают работников кино трудиться лишь в рамках их «фабрики грез» (отсюда — такое множество различных «независимых», отсюда часто путаница: независимый — значит прогрессивный), они не приглашают «новичков» стать частью Голливуда, найти в нем свое место, получать его награды, добиваться его признания. Киноработники приходят на этот «Олимп» сами и добровольно складывают свободу к жертвеннику. В то же время художник не расстается со свободой без горечи. А то обстоятельство, что он совершает этот акт добровольно, лишь усиливает горечь, порождает чувства вины. Отсюда нередко так сильны у голливудского художника антиголливудские настроения.
Происходящее с ним художник чаще всего оправдывает своей... практичностью. Фрэнсис Форд Коппола, например, не раз (во всеуслышанье — на
«гЕсли в наших произведениях мы прославляем ложные ценности, на ложных основаниях окажется построенным все наше общество; если же мы отстаиваем ценности, которые оздоровляют жизнь, наш мир станет лучше. В это я твердо верю».
Джон Гарднер (США)
231
Страницах печати и пресс-конференциях и в личных беседах — без публики) говорил и говорит о том, что часть своих лент делает для денег, для того, чтобы затем самостоятельно осуществить проект, который его интересует. Но картины Копполы (и «Крестный отец», и «Разговор», и последняя работа — «Апокалипсис наших дней», фильм, премьера которого состоялась в августе 1979 г.) — яркий пример того, как художник пытается примирить мысль и подсознание, посадить рядом в кинотеатре зрителя думающего, шокированного и развлекающегося, легко воспринимающего очередную экранную катастрофу.
И здесь приходят на память уроки Кормена и других голливудских учителей. Коппола признается, что некоторые приемы Кормена он активно использует: натуралистический разворот действия на экране, свободную форму импровизации, неожиданные повороты диалога.
Питер Богданович заявляет, что не пройди он школу Роджера Кормена — не стал бы известным режиссером. Мартин Скорсезе считает, что многим обязан деловой хватке Кормена-продюсера, и так далее. Все эти высказывания крупных мастеров сегодняшнего американского кинематографа наводят на размышления. А не строятся ли 99 процентов американских лент на второсортном материале, подобном картинам Кормена? Чем, в конце концов, является известный фильм «Челюсти», как не очередной картиной-катастрофой с главным героем — чудовищем, единственное отличие которого от «монстров» Кормена заключается в более блестящей оболочке, обошедшейся студии «Юниверсал» в несколько миллионов долларов.
Один из известнейших голливудских продюсеров — Дэвид Селзник — говорил, рассуждая о голливудской системе производства фильмов: «В этом бизнесе есть лишь два сорта товара, которые приносят прибыль,— очень дешевые или очень дорогие картины» *. Интересно, что сам Кормен лишь дважды за всю свою карьеру пытался сделать относи- 11 См.: «Memo From: David О. Selznick*. Rudy Behlmer, ed. Avon, 1973, p. 134.
232
тельно дорогие картины: в 1962 году его лента «Незваный гость», которую, кстати, называют одной из самых больших режиссерских — не деловых — удач Кормена, потерпела финансовое фиао ко. Несколько лет спустя у Кормена возникла идея сделать фильм — биографию известного деятеля времен американской гражданской войны Роберта Ли, но ни одна студия не поверила, что он сможет снять «качественную» картину в рамках оговаривавшегося им бюджета в один миллион долларов. Ярость Кормена, проект которого был отвергнут, по сообщениям всезнающих репортеров, не имела предела: вскоре после этого он основал (в 1970 г.) собственное предприятие — фирму «Нью Уолд пикчез».
Фирма предприимчивого бизнесмена процветала с самого начала: за первые пять лет существования «Нью Уолд пикчез» Кормен заработал на 53 лентах, выпущенных ею, не один десяток миллионов долларов. Сегодня его «независимое» предприятие — фактически ведущий поставщик дешевой кинопродукции на американский экран. Упоминавшаяся нами компания «Америкен интернэшнл пикчез» (АИП), занимавшаяся аналогичным бизнесом, сейчас постепенно «переквалифицируется» в крупную кинокорпорацию, начинающую осуществлять такие многомиллионные проекты, как, например, фильм «Вопрос времени» с участием «дорогих звезд» Лайзы Миннелли и Ингрид Бергман.
Но проследим аналогии. АИП появилась на американском кинорынке еще в начале 50-х годов, сначала под названием «Американская прокатная корпорация» («American Releasing Corporation»). У истоков нового кинопредприятия стояли Джеймс Николсон и Сэмюэль Аркоф, два бизнесмена. От прокатных операций, приносивших умеренный доход, они постепенно переводили компанию на новые рельсы, осваивали производство. Толчок этому дала лента со скромным бюджетом в 50 тысяч долларов «Стремительные и бешеные», выпущенная на экраны в 1954 году. Николсон и Аркоф заработали на этой картине четверть миллиона.
Дело оказалось прибыльным — представлялось целесообразным расширить производство недорогих лент, рассчитанных на зрителей-без-претензий, не¬
23?
требовательных обывателей, стремящихся убить время аттракционом-пустышкой. Названия картин, которые выпускала АИП, например в 50-е годы, говорят сами за себя :«Пылкие девчушки», «Женщины из тюрьмы» — в 1956 году, «Нападение кукол», «Война со страшным чудовищем», «Богини акульего рифа» (лента, поставленная для АИП Роджером Корменом), «Ночь кровавого чудовища» — в 1958 году. Эти «серии» продолжались и в 60-е и в 70-е, халтуру покупали, она находила спрос. Развращенный американский зритель охотно брал приманку, киномусор перерабатывался сознанием обывателя, превращался для него в своего рода пищу духовную, без которой невозможно было обойтись.
Бизнесмены, казалось, нашли оптимальную формулу, из отбросов они творили необходимое, насущное, они вроде обеспечивали массовую аудиторию всем необходимым сегодня и в будущем, они словно творили чудо из ничего — они помогали забыться, они продавали развлекательные фантазии. Все операции АИП выглядели не броско, но надежно, акции компании находили спрос на бирже, котировались достаточно высоко. Несколько десятков миллионов ежегодной прибыли — цифры, по голливудским масштабам, незначительные (большая, хорошо разрекламированная работа может собрать сотни миллионов долларов, как это сделали, скажем, «Крестный отец», «Челюсти», «Звездные войны»), но стабильный баланс по достоинству ценится в деловом мире, где рисковать часто предпочитают наверняка. Администрация АИП, специализируясь на небольших проектах, создала себе прочную репутацию.
Николсон и Аркоф, впрочем, не были пионерами на рынке второсортной продукции, кинохлам делали и раньше: на подобного рода сюжетах специализировались такие давно прекратившие свое существование компании, как упоминавшаяся нами «Мо- нограм», основанная Реем Джонстоном в 1930 году, «Рипаблик», Пи-Эр-Си, «Игл-Лайон» и т. д. Таким образом, АИП сегодня или фирмы-коллеги — «Си- немейшн», принадлежащая Джерри Гроссу, «Фанфар пикчез», которой владеет Джо Соломон (его фирма возникла в феврале 1971 г.), успешно дейст¬
234
вовавшая во второй половине 70-х фирма «Краун Интернэшнл» — лишь продолжили традицию, уже укоренившуюся в американском кинематографе. Все в этой продукции — и 40, и 10 лет назад, и сегодня — и содержание, и бюджет односторонни, направлены на достижение единой цели: сделать деньги. Ведь АИП, Кормен и другие, в сущности,— это «старый» Голливуд (в годы, скажем, его довоенного расцвета), взявший на вооружение «новую» экономику (чтобы выжить в деловом мире и продолжать получать прибыль) и действующий на постоянно меняющемся (шатком) рынке, где товар переходит из рук в руки, покупается и продается, покупается и продается.
Кино, по мнению Кормена,— он этого отнюдь не скрывает — «продажный вид искусства»1, в то же время кино — и это не подлежит сомнению — зеркало общества. Кинобизнесмен Кормен предлагает свои рецепты, свои формулы, свой взгляд на жизнь: «умей быть оборотистым, научись мыслить категориями рынка; внимательно следи за действиями деловых предприятий-соперников, извлекай выгоду из любой ситуации».
Фирма Кормена сегодня среди компаний, ориентирующих свою продукцию на ленты второго сорта, по размаху операций уступает, как мы отмечали, лишь АИП. И бизнесмен, следуя своим же заповедям, продолжает внимательно следить за действиями администрации «Америкен интернэшнл», анализировать их. Этот процесс продюсер считает необходимым деловым элементом, своего рода страховкой. Ведь Кормен длительное время работал на АИП. В 60-е годы он поставил для АИП немало фильмов — сам Кормен признается, что это помогло ему «отточить технику» и «получить в Голливуде хоть какую-то свободу» 2. Именно для АИП сделал Кормен известную ленту «Дикие ангелы» (1966).
«Дикие ангелы» (фильм в определенном смысле даже бунтарский, по канонам официального Голливуда — «возмутительный») были ориентированным, направленным посланием, адресованным американ- * 31 «Newsweek*, 1977, August 1.
3 «Kings of the Bs*, p. 225.
ской молодежи. Послание это оказалось своевременным : брожения в среде молодых американцев, недовольство положением внутри страны выплескивались не только и не столько в сознательные выступления против устоев общества, протест чаще всего был стихийным. Он, правда, приобретал резко выраженные формы: если, скажем, «поэзия рок-н-ролла* в 50-е вызвала у молодежи восторженную экзальтацию, желание публично выбросить в мир свои эмоции (а не просто, как считает, например, критик Ричард Стахлинг, желание 4похулиганить» !), то в 60-е молодежь, бросая вызов обществу «равных возможностей», ведя поиск «новых рубежей», нередко исповедовала слепое разрушение. Молодчики, перепоясанные цепями, вооруженные дубинками, их подруги, рано познавшие вкус бродяжничества, вкус беспутной кочевой жизни, становились героями для тех многих, кто никак — мучительно — не мог определить свое отношение к происходящим событиям в мире, полном противоречий.
Кормен, опытный кинематографист и бизнесмен, откликался на эти настроения. Но если сама лента «Дикие ангелы» еще могла породить разговоры о Кормене-бунтаре, Кормене — возмутителе спокойствия, то многочисленные продолжения фильма, мгно- венйо последовавшие за его кассовым успехом (в 1966 г. «Дикие ангелы», согласно данным «Motion Picture Herald» и «Motion Picture Daily», входили в число самых кассовых фильмов, картину неизменно называли в десятке лучших), начисто перечеркивали эти размышления. Кормен и его коллеги по бизнесу прежде всего стремились — как это принято в Голливуде — заработать на новой популярной волне, учесть данные киностатистики, согласно которой 85 процентов аудитории кинозалов — это люди в возрасте 16—30 лет. Мелькали на экранах Америки всё новые и новые названия серии — «Моторизованные ангелы из ада», «Адские ангелы», «Дьяволицы на колесах» и т. д.
С «Дикими ангелами» фактически случилось то же, что и с известной лентой другого короля кино- 11 См.: «Rolling Stone», № 49 (1969, December 27).
236
халтуры — Сэма Кацмана — ♦ Безостановочный рок» (1956). Кацман, в активе которого более 100 лент — ни одна из них, по голливудской статистике, не стала убыточной,— до Кормена открыл
♦ молодежную» тематику Голливуда, почувствовал
♦ молодежный рынок». В целой веренице его ♦рок- фильмов» не было даже намека на попытку ♦сделать картину» : ленты пеклись, как блины,— сюжет практически отсутствовал, не говоря уже о содержании. Большинство ♦рок-фильмов» было выпущено в период 1955—1964 годов, за ними закрепилось название ♦ картины для молодежи», хотя мода менялась: ♦Безостановочный рок» сменил ♦Безостановочный твист» (был и такой фильм), потом пошла серия фильмов с участием популярного ансамбля ♦Битлз». Но приемы остались те же: в известной и чрезвычайно популярной ленте 1964 года ♦Вечер после тяжелого дня» группа ♦Битлз» фактически весь фильм просто бегала на экране. Почему? Это не объяснялось, но динамика их музыки скрадывала все остальное. В ♦рок-фильмах» даже жизнь ♦рок-звезд» не находила отражения: мир ♦рок-музыки», его драма — неожиданный успех, ♦бешеные» деньги, секс, алкоголь, наркотики — эти, казалось бы, успешно использовавшиеся в других картинах американские ♦приманки».
Бизнесменов, как всегда, интересовали лишь прибыли. Сэм Кдцман, ♦наставник американской молодежи», которому, кстати, приписывают авторство таких слов, как ♦beatnik», ♦hippy», ♦rock’n’roll», ♦teen-ager», любил в шутку сказать (историю эту часто рассказывают в Голливуде), что не совсем понимает, что такое, скажем, ♦битник», но абсолютно уверен, что это связано с бизнесом...
Каждому новому веянию, каждой волне в кино Америки любят приклеивать ярлыки. Во второй половине 70-х эти бесконечные продолжения, низкопробные сериалы Кацмана, Кормена и других, обыгрывающие ♦жанровые» повороты первой, имевшей успех картины, получат название ♦товарных лент» (product pictures) *. И Кормен и другие короли ки- 11 См., например: «The Journal of Popular Film*, 5/3 & 4, 1977, p. 272.
237
нохалтуры пользовались и пользуются ими до сих пор.
«Товарные ленты» — ото конек Кормена. По мнению делового человека, его предприятие приносит устойчивый доход, а любые эксперименты, вроде некоторых дорогостоящих проектов АИП,— «опасная забава». Деловой человек рискует лишь тогда, когда уверен в успехе предприятия или когда рискует малым,— вот лозунг, в соответствии с которым функционирует «Нью Уолд пикчез», детище короля кинохалтуры. Интересна деталь, подаваемая американской прессой как своеобразная реклама стабильных позиций фирмы Кормена, поставщика фильмов второго сорта: жена продюсера, автор шести лент, поставленных на «Нью Уолд пикчез», сделала для «Америкен интернэшнл» очередную «картину-катастрофу». На вопрос, почему она сотрудничала с другой фирмой, Кормен ответил, что бюджет ее картины — 2 миллиона долларов, а на его студии даже его жена не может получить для создания фильма больше 500 тысяч.
Кормен ставит под сомнение сложившееся в Голливуде 70-х мнение, что чем дороже картина, тем больше могут быть прибыли. С одной стороны, рассуждает он, чем внушительнее сумма, затраченная на осуществление очередного кинозамысла, тем спокойнее вроде бы должны себя чувствовать администраторы компаний. Но, с другой стороны, одна из основных характеристик голливудского производства — неровное, скачкообразное развитие событий на рынке, его стихийность, непредсказуемость.
И в этом плане формулы короля кинохалтуры — почти без изъянов. Как показывает киностатистика, средний фильм на студии Кормена делается за 15 дней и стоит не более 100 тысяч долларов. Как правило, все подобные ленты приносят в США доход. В то же время индустрия Кормена разнообразит свою продукцию, варьируя коммерческие темы, имеющиеся на вооружении крупных студий и известных мастеров кино. Так, корменовские экранизации рассказов Эдгара Аллана По, в которых был занят известный актер Винсент Прайс, нередко сравнивают с работами Альфреда Хичкока, эти лен¬
238
ты, считает критика, обеспечивают «голливудский престиж» короля кинохалтуры. После «Беспечного ездока» Кормен некоторое время эксплуатировал тему неприкаянности американской молодежи, ставил ленты о мотоциклетных бандах, наркоманах, искателях счастья, перемешивая эту сюжетную линию со старыми приемами мистики, чертовщины и другого набора из обширной коллекции кинохлама.
Последнее время продюсер успешно эксплуатировал и тему «женского бунта» в сегодняшней Америке, трактуя ее, впрочем, на собственный лад. Более 20 лент выпустила уже студия «Нью Уолд пикчез» о женщинах-заключенных, женщинах-ганг- стерах, стюардессах, медсестрах, проститутках. Основные мотивы этой продукции—«сексуальная революция», «освобождение духа» —представляют собой синтез самых низкопробных вариантов кинематографа: насилия, разнузданной мысли, порнографии. На этом фоне тем более вопиюще выглядят попытки морализации, послания дидактического плана, вкрапленные в диалоги, сдобренные отборной бранью. Сам Кормен, красуясь в этой роли оракула, основателя школы и мэтра, цинично заявляет, что выступает не только за равенство женщин, но и против расовой несправедливости, коррупции правительственных органов, загрязнения окружающей среды и т. д. (Это, между прочим, полный набор вопросов, по которым выступают в ходе своих избирательных кампаний политические деятели.)
Арсенал лент Кормена, по американским масштабам,— разностороннее, направленное оружие, эффект его рассчитан на массового потребителя. При этом Кормен-продюсер использует возможности и особенности налаженного дешевого производства своего товара. Выгодным (по сравнению с деятельностью других американских кинокомпаний) моментом системы Кормена является то, что его студия может почти мгновенно откликаться на последние модные веяния или даже обыгрывать сенсационные (это обязательный критерий) события, происходящие в реальном мире. Диапазон таких откликов чрезвычайно велик. Так, например, карти¬
239
ну «Война сателлитов» Кормен сделал и выпустил на экраны буквально через несколько недель после запуска в 1957 году первого искусственного спутника — деловой человек явно эксплуатировал момент: его меньше всего при этом интересовало само величайшее событие, достижения человека, выведшего в космос творение своих рук,— бизнесмен стремился лишь сорвать куш посолиднее.
Кормен всеяден. Не успела появиться очередная киноволна (гангстерская, полицейская, фантастическая, какая угодно), а Кормен уже штампует фильмы согласно данному модному (рентабельному) образцу. Крупные кинокомпании, выделяющие на свои проекты миллионы долларов, такой сверхоперативности себе позволить не в состоянии: в репертуаре Кормена — поставщика и финансиста эти «мгновенные находки» сочетаются с длительной эксплуатацией той или иной приносящей доход темы (например, различные вариации «черного» кино для «цветной» аудитории).
Интересно при этом отметить «деловую» разносторонность Кормена. Сам поставляя американцам дешевую кинохалтуру, он в то же время — в роли прокатчика — выступает нередко как экспортер крупных работ европейских мастеров кино. Здесь Кормена нельзя обвинить в плохом вкусе: так, в 1974 году он распространял в США ленту Федерико Феллини «Амаркорд», получившую «Оскара» как лучший иноязычный фильм. В 1973 году, когда в Соединенных Штатах прокатчики еще терпели убытки на демонстрации иностранных лент, он распространил «Крики и шепоты» Бергмана (одновременно выпустив на экраны свою поделку под названием «Женщины в клетке»). Лента Бергмана также получила «Оскара», а кассовый успех фильма принес фирме Кормена миллионный доход, и — деловая инициатива была поставлена на серьезную основу, стала отраслью индустрии Кормена. В 1975 году он прокатывал такие картины, как «История Адель Г.» Франсуа Трюффо с Изабель Аджани, «Потерянная честь Катарины Блюм» Фолькера Шлендорфа и Маргарет фон Тротта по роману Генриха Бёлля и «Романтическая англичанка» Джозефа Лоузи с Глендой Джексон и Майклом Кейном,—
240
все это фильмы, получившие высокую оценку американской и европейской критики, названные в числе лучших работ. В 1976 году повторно, в одном сеансе для привлечения внимания зрителя, Кормен прокручивал в целом ряде кинотеатров Нью-Йорка те же «Амаркорд» и «Крики и шепоты»: тандемная система оправдывала себя.
Итак, Феллини, Трюффо, Бергман — и чудовища, викинги, космические войны: «противоречивое кредо» Кормена — разводят руками его американские исследователи. Нет — оборотистость биржевика, ищущего новые способы извлечения прибыли. «Благодетель» молодых талантов, «крестный отец» сегодняшней голливудской элиты, «первооткрыватель звезд»—нет: расчетливый предприниматель, растлевающий новое поколение американских кинематографистов, подминающий творческое начало, возводящий в культ неразборчивость обывателя — потребителя «общества всеобщего благоденствия», ставящий коммерческое во главу угла процесса рождения картины. «Король кинохалтуры», экстравагантная личность, очередная легенда Голливуда — нет: порождение мира бизнеса, «певец» доведенного до тонкой изощренности отражения человечества в кривом зеркале, олицетворение убожества общества, неспособного дать своим членам ничего, кроме очередной катастрофы, раздражающей условные рефлексы скучающего «массового» американца, очередной кумир толпы обывателей, энергичный, стопроцентный и фальшивый.
«Гуманистический пафос литературы неотделим от разумной ориентации на мир, на преодоление противоречий. В со- временных условиях существует серьезная опасность нивелировки культуры. С горечью наблюдаешь вторжение коммерции, и тогда язык теряет значение, литература и другие формы культуры вырождаются в пустое развлекательство либо становятся инструментом шока».
Артур Лундквист (Швеция)
241
Роджер Кормен и ему подобные — это живые носители мифов американской массовой культуры. Они бизнесмены, для которых плоды труда режиссеров, писателей прежде всего — предмет купли- продажи. В кинематографе Америки этот подход к категориям творчества давно получил самое широкое распространение и сегодня стал естественной традицией. Отношение к фильму как к товару,— отмечает, например, американский киновед Холлис Алперт,— «годами превалировало в Голливуде» !.
Кино в США в прошлом и сегодня, в представлении Роджера Кормена, его коллег, других деловых и творческих людей, и на самом деле всегда было и есть бизнес, коммерческое предприятие, дающее прибыль. Можно много говорить и писать, анализировать и разбираться в противоречиях между искусством и бизнесом. Можно приводить примеры, характеризующие борьбу в американском кино того или иного периода художественного и коммерческого начал. Можно, наконец, рассказать о попытках индивидуального таланта противостоять «массовой культуре», о крушении надежд больших художников, поставивших свое творчество на службу капитала. Но как бы мы ни ставили вопрос при изучении американского кино, одно безусловно: деньги в Голливуде всегда преобладали над личностью. А социальная организация Голливуда, «места, где все для кино», позволила бизнесменам захватить контроль над художниками, контроль этот с годами только ужесточался, творческие ценности подчинялись деловым соображениям.
Кино, являющееся сегодня, как и 10, и 20, и 50 лет назад, развлечением для миллионов американцев, для Кормена и ему подобных прежде всего —возможность эксплуатации средств массовой коммуникации, возможность производства и сбыта продукции индустрии развлечений.
Рассказ о Кормене и других представителях делового Голливуда, таким образом, не может быть
‘Hollis Alpert. The Dream and the Dreamers. The Macmillan Company, 1962, p. 24.
242
полным без определения американской культуры, частью которой является и киноискусство. Он не может быть полным без изучения обстоятельств, которые сопровождают производство картин (о некоторых особенностях кинофабрики Кормена мы рассказали), он, наконец, не может быть полным без упоминания требований, которые предъявляет аудитория к кинопродукции.
Для первых зрителей кино всегда казалось волшебством, они воспринимали его как дети. Эффект «движущихся образов» связывали с эффектом мечты, с эффектом сновидения. Появлялась удивительная возможность убежать от обычного, каждодневного, обыденного. Кино становилось особенным видением мира. И этот момент в США старались выделить, старались наделить массовую аудиторию даром воспринимать кинематограф как развлечение, составляющее необходимый компонент жизни американского общества. Ведь посещение кинотеатра, рассуждали уже первые голливудские кинопромышленники — Лемль, Фокс, Зукор, Голдвин, Майер,— это опыт, соединяющий в себе элементы личного и социального, единственного и множественного.
«Такая крупная отрасль промышленности, как кино,— пишет Макс Лернер в исследовании, озаглавленном «Америка как цивилизация»,— откровенно и непосредственно строилась на материале человеческих мечтаний. В любой час дня или вечера вы могли войти в темный кинотеатр... и по мере того, как передвигались на экране фигурки, вы неслись по просторам морей секса, действий и насилия, преступности и смерти... Даже когда вы шли спать, грезы выстраивались вокруг символов, возникавших из ваших собственных мечтаний, ибо фильмы — это то, из чего создана американская мечта» 1 (курсив мой. — Ю. К.).
Итак — миф об «обществе равных возможностей», на который работает Голливуд, его представители, миф, превращающийся в своего рода «субкульту¬
1 Max Lerner. America as a Civilization. Simon and Schuster, N. Y., 1957, p. 820.
243
ру»: влияние Голливуда становится все ощутимее, оно выходит даже за пределы американского общества, оно пропагандирует американский образ жизни повсюду.
Уже с 20-х годов американские фильмы широко распространяются за рубежом, в 1925 году доходы от продажи лент за границу составили 50 миллионов долларов. Именно тогда возник знаменитый лозунг «Торговля следует за кино», означавший для деловых людей, что кино — это своего рода реклама, двигатель торговли (зрители активно покупают не только сами фильмы, но и то, что видят в фильмах — и товары, и... образ мыслей!). Это признавали и сами американцы1.
В 1926 году в осуществление этой доктрины в рамках министерства торговли США был организован отдел кино. В задачи его входила реклама и продажа фильмов за рубежом. Отдел выпускал ежегодные доклады о состоянии рынков кино. По некоторым оценкам, американские фильмы тогда составляли 75 процентов от общего числа картин, демонстрировавшихся в мире2. Уже тогда в этой связи говорили о «культурном империализме».
Говорят и сейчас. По данным статистики 70-х годов, 55 процентов своих доходов американские фирмы-прокатчики имеют от демонстрации голливудских лент за рубежом. Подчеркивается, что это один из основных источников положительного баланса кинопромышленности в США3.
Голливуд рекламирует самого себя, свою продукцию, своих «королей», будь то Кормен или другие, Голливуд представляет миру свою Америку. Он становится зеркалом, как поглощающим, так и отражающим общество, которое его породило. Без него уже невозможно представить себе во всей полноте американский ландшафт. Голливуд — это как бы
1 См., например: Edward G. Lowry. Trade Follows the Film. — «Saturday Evening Post*, vol. 198 (1926, November),
p. 12.
2 См., в частности: C. J. N о r t h. Our Foreign Trade in Motion Pictures.—«Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 128 (1926, November), p. 100.
3 Cm.: Michael F. Mayer. The Film Industries. Hastings House Publishers. N. Y., 1973, p. 202.
244
V*
культура наоборот, рождающая массовую продукцию, которая в определенном смысле редуцирует личность в буржуазном обществе, навязывает ей явления, стереотипы этого общества, вовлекает, делает неотъемлемой частичкой структуры капитализма.
Интересный термин встречается, например, у американского киноведа Джона * Фелла, он определяет американское кино как communal medium — словосочетание, переводимое и как «общинное средство коммуникации», и как «коммуникативное средство общности» 1. Иначе говоря, кино в американском обществе рассматривается как некая социальная привычка, дающая «одинокому человеку XX века» выход в толпу, чувство единения с ней.
«Развлекайтесь, как это делают все»,— говорил Голливуд американцу во все времена. На полную мощь работала рекламная машина, уже к немому кино относившаяся как к искусству и массовому коммерческому развлечению. Эти два понятия сливались, по замыслу кинопромышленников, в единую кинокультуру, ставшую — скажем, в 30-е и 40-е годы — преобладающей формой культуры для многих американцев. При этом на рынке сбыта появлялась не только кинохалтура, не одни лишь «ленты второго сорта». Американское кино действительно было в состоянии нередко достигать уровня, где оно могло называться искусством. Но в то же время, являясь, несомненно, одним из важных социальных факторов, кино в США базировалось на сумме коммерческих элементов, предприятие, естественно, было в первую очередь деловым. Но даже не это главное. Кино это никогда не было искусством для народа, хотя всегда носило массовый характер, ориентировалось на массового зрителя. Массовость определялась, без учета других факторов, спросом. Публике вроде бы давали лишь то, что она просит, заказывает, на самом деле заказ поступал не извне, а изнутри, его программировала сама капиталистическая система.
1 John L. Fell. Film. An Introduction. Praeger Publishers. N. Y., 1975, p. 127.
246
Голливуд, таким образом, становился одним из центров псевдокультуры, все основные компоненты которой строились с расчетом на поточное производство, на стандартизацию вкусов, иными словами — с расчетом на оглупление масс, на притупление их общественного сознания.
Итак, сделаем вывод. И та «американская культура», о которой мы говорили, и «субкультура» Голливуда и — шире — всей индустрии развлечений, которую мы также упоминали, и, наконец, «псевдокультура» общества, порождающего «королей халтуры» и строящего свои отношения и взаимосвязи в рамках мифа об «американской мечте»,— все это явления одного порядка. Это то, что входит в современное понятие «массовая буржуазная культура».
Лос-Анджелес — Нью-Йорк — Москва
Виталий Кобыш
ВНИМАЯ ГОЛОСУ ОРАКУЛА
«Кого ты больше любишь — папу или телевизор?» 44 процента американских детей отдают предпочтение телевизору. Популярный телекомментатор — один из самых могущественных людей США. Массовый американский телезритель не знает, кто такие Шекспир и Чехов.
С 7 до 7.30 вечера в миллионах американских домов смотрят телевизионные новости. Смотрят по одному из трех ведущих телевизионных каналов: Си-би-эс, Эн-би-си и Эй-би-си.
В острой, смахивающей иногда на бой гладиаторов, переменчивой, как рулетка, игре — кто завоюет большую аудиторию, которую не первый год ведут эти три телевизионных империи, у Си-би-эс всегда в руках козырная карта — Уолтер Кронкайт. Эй-би-си, всегда шедшая третьей, а теперь все чаще вырывающаяся на первое место, заметно теснит конкурентов. Эн-би-си, старейшая и крупнейшая, за которой стоит электротехническая корпорация «Рэйдио кор- порейшн оф Америка», понятно, не склонна уступать и, в свою очередь, где может, прижимает соперников. И все-таки новости многие предпочитают смотреть по Си-би-эс, особенно в острые, кризисные моменты и вообще всегда, когда происходит что-то выходящее за рамки привычного. Хочется знать: а что скажет Кронкайт?
Этот американский оракул учился в техасском университете не только журналистике, но и актерскому мастерству. У него приятный глубокий голос. На его лице, живом, но сдержанном, улыбка появляется именно тогда, когда нужно. И вся его манера
© «Новый мир», 1978, JS6 11,
248
говорить — мягкая, ненавязчивая,— скупая улыбка, освещающая лицо этого человека, предстающего перед зрителем чуть грустным и ироничным, но терпимым и мудрым, убеждают тех жителей США, что много лет слушают Кронкайта по вечерам, сильнее самых неоспоримых аргументов.
Ему за 60, и он немало повидал на своем веку. Работал в Юнайтед Пресс, а во время войны стал еще и выступать по радио Си-би-эс. В штат этой компании в качестве радиокомментатора Кронкайт пришел в 1950 году. Вскоре после этого стал появляться на телеэкране.
Поначалу у него не было особого успеха. Телезритель, однако, постепенно привыкал к нему, его популярность начала стремительно расти, что вызывало ликование у хозяев Си-би-эс и немалую досаду у конкурентов этой компании. Росло и поразительное доверие ко всему, что говорил с виду такой обычный, такой ничем особенно не примечательный американец — ведущий телевизионных новостей и комментатор. Несколько обследований, проведенных к концу 60-х годов, выявили, что Кронкайт стал в стране «человеком, пользующимся наибольшим доверием».
Сейчас седовласый Уолтер Кронкайт, настолько вошедший в жизнь людей здесь, что для одних он стал справедливым, беспристрастным и всегда мудрым «свояком», для других — добрым, отзывчивым дядюшкой или дедушкой, пользуется в этой стране ни с чем не сравнимым влиянием на людей К
В его £>уках, соответственно, оказалась сосредоточенной огромная власть. По здешней скрупулезно выводимой статистике, Кронкайт входит в десятку самых могущественных в США людей. Считают, что он вполне тянет и на членство в «пятерке». В 1972 году, когда кандидат в президенты Джордж Макговерн подбирал себе партнера на пост вице- президента, кто-то предложил ему кандидатуру Кронкайта. Тот, кто сделал предложение, не знал, к кому относит себя телекомментатор Си-би-эс — де- 11 Когда готовилась эта книга, стало известно, что Кронкайт решил в 1981 году оставить работу комментатора и сосредоточиться на выпуске телефильмов.
249
мократам или республиканцам; это никого не интересовало, все знали, однако, что с таким кандидатом в вице-президенты много больше шансов победить на выборах.
Макговерн не поддержал идею. Но когда самого Кронкайта год спустя спросили об этой истории, он заявил, что даже если бы предложение было сделано, он не принял бы его: политика, мол, ему не представляется стоящим делом. Его коллеги между тем интерпретировали слова Кронкайта по-своему. Быть вице-президентом для него было бы понижением. В ходе избирательной кампании 1980 года тоже подбирали ключи к Кронкайту.
Миллионы американцев вот уже второе десятилетие с 7 до 7.30 вечера внимают каждому его слову. Для многих он — единственный источник информации. Подавляющее большинство телезрителей, даже сомневаясь в преподносимых им фактах, не ставят под сомнение его интерпретацию этих фактов. В этом смысле всемогущество Кронкайта действительно беспредельно. Заметим попутно, что он не только читает новости, но отбирает их, компонует и комментирует, иллюстрируя репортажами и интервью, которые ему представляются подходящими. С помощью своего штата и телевизионных камер Крон- кайт показывает американцам мир таким, каким он представляется ему самому или каким его хотелось бы показать людям.
Каким же представляется мир Кронкайту и каким он его преподносит телезрителям? Вот тут всемогущество американского пророка кончается. При всем его отточенном мастерстве и высоком профессионализме в одном Кронкайт уязвим не меньше других: он подает события так, как этого хотят хозяева Си-би-эс, рекламодатели, то есть правящий класс. Сам по себе он может быть либералом, прогрессистом и т. п., но это не имеет никакого отношения к получасовой программе новостей Си-би-эс, в значительной мере определяющей общественное мнение в стране. Программа эта составляется в полном соответствии с полученным Кронкайтом социально-политическим заказом, в ней нет и тени самостоятельности, а тем более инакомыслия. И когда освобождаешься от наваждения этого спокой¬
250
ного, рассудительного, ненавязчивого голоса, этой мягкой улыбки и чуть грустного взгляда много повидавшего на своем веку, полного добра к людям, желания помочь им человека, обнаруживаешь нечто шокирующее.
Видишь, что оракул-то — типичный средний американец (в том и фокус, он и должен быть средним даже своим костюмом, прической, произношением, потому что такие — подавляющее большинство телевизионной аудитории), не столько либеральный, сколько консервативный, уверенный в полном превосходстве Соединенных Штатов и их образа жизни над всем, что есть в мире, человек с достаточно ограниченным политическим кругозором и в немалой степени мещанин. Кронкайт сам по себе как личность, уверен, скорей всего не такой, но «усредненным » он нужен работодателям, потому что телезрители хотят в нем видеть своего, похожего на них. И тут уж не поймешь, где этот телевизионный маг сам по себе, а где — чему, как мы выяснили, его в свое время учили — он играет. Так или иначе, он мастерски делает то, что ему предлагают делать, не только подачей новостей и их комментированием, но часто и усмешкой, иронически поднятой бровью или многозначительной паузой. И когда, закрывая программу, Кронкайт произносит, притом каждый раз на особый лад — то осуждающе, то с одобрением, а чаще удивленно,— свою знаменитую заключительную фразу: «Вот так обстоят дела»,— многие, очень многие миллионы жителей этой страны верят, что дела обстоят именно так, как сказал Кронкайт, что полнее и точнее после услышанного от него, пожалуй, и нельзя быть информированным.
О Кронкайте стоит говорить потому, что один этот человек, взятый в отдельности, показывает, чем стало телевидение в жизни Америки. Помножим влияние Кронкайта на такие цифры и факты здешней жизни. Телевизионный аппарат, часто их два и три, стоит практически в каждом американском доме (в суровой калифорнийской тюрьме Сан-Квентин, где в числе других держат политзаключенных, маленький телевизор довелось видеть в камерах-клетках : топчан и этот аппарат — больше ничего). Всего в стране их 130 миллионов. В доме американца
251
телевизор ежедневно включен в среднем в течение шести часов восемнадцати минут, взрослые проводят около него по три-четыре часа.
Обычный американец, таким образом, не отрываясь, глядит на экран чистых девять-десять лет своей жизни. За эти девять-десять лет его доводят до такой кондиции, когда с ним по существу можно делать что угодно, потому что он почти ничего не знает из происходящего в мире, и у него в голове навязанные ему, в большинстве случаев не имеющие ничего общего с действительностью, представления о жизни самих Соединенных Штатов. Этот американец, кроме газет и журналов с картинками, почти ничего не читает. Он забыл, что такое музеи и театры. Он — это при свойственной-то людям в этой стране общительности — перестал ходить в гости. Все заменил телевизор.
«Вы смотрели вчерашнее голливудское шоу? Прелесть, не правда ли? — спрашивает меня немолодая разговорчивая продавщица в «Мэйси» — самом большом в мире нью-йоркском универмаге. — Я ведь как перст одна на свете. Господи, что бы я делала без телевизора?» —вздыхает она, в голосе ее в этот момент слышна почти молитва. Некий доктор философии по имени Джанг Ра из Лонгвудского колледжа в Фармвилле, штат Вирджиния, задал такой странный вопрос 156 детям из разных семей в возрасте от четырех до шести лет: «Кого ты больше любишь — папу или телевизор?» Результат опроса оказался еще более странным: 44 процента детей без колебаний заявили, что предпочитают папе телевизор. Доктор Ра видит в полученных ответах подтверждение не только происходящего в Соединенных Штатах, как он установил, в том числе и в самом раннем возрасте, размывания семейных устоев («Многие дети чувствуют себя намного лучше при общении с телевизором, чем с их отцами»,— говорит он), но и пугающее вторжение телевизора в жизнь этой страны.
Будем справедливы к Кронкайту. Это глубоко порядочный человек в личной жизни, и он по мере сил делает все, чтобы быть объективным в своей программе. При всех претензиях к тому, что вещает этот оракул, он не худшее, а лучшее, что есть на
252
американском телевидении. Подавляющее большинство других программ не просто убоги, но разрушительны с идейной точки зрения, а их художественная ценность катастрофична. Высокий технический профессионализм американского телевидения отнюдь не нейтрализует, а, наоборот, еще сильнее подчеркивает эти характеристики. «Можно простить человека, который никогда не видел американского телевидения, если, познакомившись с ним, он решит, что попал в страну сплошных неврастеников, ипохондриков и жертв постоянного запора. Потому что от восьми до шестнадцати минут каждого телевизионного часа его глаза и уши подвергаются атаке коммерческой рекламы, цинично и открыто эксплуатирующей малейшую уязвимость в его плоти и психике»,— утверждает английский журналист Роберт Хагривс, много лет проживший в США и немало поколесивший по этой стране *.
Для рекламы нет невозможного. Проблемы среднего возраста решаются ею самым чудодейственным образом регулярным принятием железа и таблеток от изжоги. Наоборот, любовные проблемы юных с гарантией ликвидируются употреблением лосьона и излучающего доверие фиксатора для волос. Даже в престарелом возрасте, уверяет с экрана модная актриса, многие неудобства уходят с принятием рекламируемого слабительного. Одного часа у телевизора достаточно, чтобы обнаружить эликсир на любой случай. Одинокая домохозяйка, горячо заверяют с экрана, может легко преодолеть неурядицы быта, если, истратив всего несколько сотен долларов, она станет обладательницей кухонного чуда, которое много быстрее холодильника производит кубики льда. Ее мужа уговаривают преодолеть его незначительность на этом свете покупкой ослепительного автомобиля новой модели, который, хочешь не хочешь, уж теперь-то заставит соседей с ним считаться. Бессонница, близорукость, боль в пояснице — все излечивает американский телевизор, этот универсальный утешитель. Комплексы неполноценности, социальный остракизм, несправедливо- 11 «Superpower» by Robert Hargreaves. St. Martin Press, N. Y., 1973.
253
сти жизни, с которыми на каждом шагу сталкивается сегодня американец,— все растворяется в доброте американского телевизора, с не знающей сна рекламой, заступающей до завтрака и продолжающей свое дело задолго после ужина, каждый день, по воскресеньям и праздничным дням — тем более.
Кто-то однажды заметил, что критиковать американское телевидение за его всепроникающий коммерческий дух — все равно что жаловаться на львов, пожиравших ранних христиан: львы хотели есть. Телевидение в США занято производством денег. Один из столпов Си-би-эс не без остроумия формулирует: «Кое-кто считает, что радиовещание может двигать людьми. Есть такие, что верят даже во всемогущество вещания, которое может сдвигать горы. Но правда в том, что назначение вещания — продвигать товары».
Коммерция дает о себе знать даже не столько в 12-ти среднестатистических минутах рекламы в каждом часе вещания, но в еще большей степени в остальных 48 минутах этого часа. Расхожее представление таково, что телекомпании используют экран, чтобы навязать зрителям товары, добиться, чтобы они их купили. В действительности их миссия в том, чтобы продать тем, кто оплачивает рекламу, самих зрителей. Клише, используемое телевизионными компаниями для оправдания выпускаемой ими низкопробной продукции,— «мы даем зрителям то, чего они от нас хотят»,— таким образом, тоже ложь. Истинный смысл их деятельности состоит в том, чтобы подготовить для рекламодателей ту аудиторию, которая им требуется.
Есть немало примеров, подтверждающих, что если аудитория не устраивает тех, кто оплачивает рекламу, программа, какой популярной бы она ни была, снимается. Си-би-эс, к примеру, передавала одно время передачу «Хохот», невысокого уровня, но занятную. Она стала одной из десяти самых популярных. Но у этой программы была не та аудитория, какая требовалась рекламодателям. Передачу смотрели преимущественно американцы из сельских районов, не очень клюющие на рекламу, а заинтересованность была в горожанах. То были главным образом пожилые люди, а ставка делалась на
254
молодую часть населения. Зрители в основном пребывали в бедности, расчет же был на зажиточных.
♦ Хохот» в результате, в момент наивысшего успеха этой программы, сняли.
Это такой же бизнес, как и все остальное: выпуск мебели, продажа бензина, торговля оружием — производится то, что можно сбыть, что приносит наибольший доход. А доходы эти складываются в серьезные суммы. Планируется, что к 1985 году они достигнут 14 с лишним миллиардов долларов.
Телевидение вошло в жизнь Америки, не просто внеся перемены в образ жизни ее жителей, но в некотором роде изменив их самих. «Люди теперь стали меньше спать, реже разговаривать друг с другом»,— говорит доктор Джордж Комсток, главный
♦ социальный психолог» исследовательского циклопа ♦Рэнд корпорейшн».
Телевизионный экран стал уже не только зеркалом жизни, но во многих случаях самой этой жизнью. Иллюзии настолько сомкнулись с реальностями, что для многих американцев телевизионные драмы и комедии стали своего рода фоном повседневной действительности. Персонаж популярной телевизионной серии Арчи Банкер для них такая же подлинная личность, как те или иные политические деятели или даже друзья и соседи. А если верить
«Нельзя назвать миром то положение вещей, когда пропагандистская шумиха отрицает какой-либо общественный строй и дискриминирует расы, когда фальсифицируются исторические факты, когда лжесвидетелей с помощью различных ухищрений выдают за мучеников, а подонков с помощью манипуляций и в угоду корыстным интересам превращают в достойных людей, когда экономическое богатство сочетается с политическими злоупотреблениями и демонстрацией военной силы».
Эрвин Фишер (ФРГ)
255
доктору Джеймсу Брасселу, одному из ведущих психиатров Нью-Йорка, специальные телевизионные программы для женщин повинны в том, что число разводов в США с 479 тысяч в 1965 году подскочило до миллиона с лишним в 1975-м. «Вон, оказывается, как красиво можно жить, говорят домашние хозяйки и уходят от мужей»,— объясняет доктор Брассел.
Телевидение вобрало в себя всемогущество радио, кино и газет, хотя порой у него еще нет собственного стиля и содержания. Но само это технологическое средство обладает такой мощью, что люди, его контролирующие, как мы выяснили, определяют в общенациональном масштабе не только вкусы и подходы, но и позицию в отношении политических и экономических проблем в реальном мире. Но что такое этот мир для человека, ежедневно проводящего перед телеэкраном три или четыре часа? Что он для ребенка, узнающего о жизни по телевидению больше, чем из любого другого источника? Если телевидение и в самом деле «переместило мир в гостиные», как об этом было принято говорить в 50-е годы, кто определяет, какая часть этого «мира» входит в гостиные, в каком порядке и как она подается? Вопрос контроля над телевидением приобрел для страны жизненную важность.
Кто его осуществляет, хорошо известно: те же крупнейшие корпорации — основные рекламодатели. Рекламодатели полностью определяют содержание передач, за небольшим исключением сплошь если и не откровенно лживых, оторванных от повседневной действительности, то вялых, трусливых. От истинных проблем в них уходят, противоречия замазываются. Самоцензура ни на момент не покидает составителей обычных средних программ американского телевидения. Все, что хоть в какой-то степени ставит под сомнение существующие порядки, что может заставить публику мыслить, категорически запрещено. Все равно каждый вечер 80 миллионов американцев будут смотреть телевизор, считают те, кто оплачивает эти программы. Что ж удивляться результатам недавнего обследования, показавшего, что половина зрителей предпочитает этим передачам просто коммерческие объявления.
256
Все определяющая чистая коммерция объясняет, почему три ведущие телевизионные компании — Си-би-эс, Эн-би-си, Эй-би-си — выглядят близнецами. В погоне за прибылью они берут на вооружение идентичную формулу привлечения максимальной аудитории, что определяет размеры ставок за рекламные объявления. «Все это предстает с ясностью арифметического правила: комедия, драма,варьете, новости, спорт — однолики, имеют один и тот же пресный вкус»,— замечает журнал «Нью-Йоркер».
Железные тиски коммерции и атмосфера чистогана, когда рекламодатель — бог, когда он говорит последнее слово, отвращает от телевидения многих честных авторов и продюсеров. Выступая перед сенатской подкомиссией, занимавшейся вопросами конституционных прав граждан, один из них — писатель Дэвид Ринтелс — рассказывал, как на одном из телевизионных каналов препарировали представленный им сценарий. То было время разгара агрессии США во Вьетнаме. Ринтелс описал ощущения 18-летнего американского солдата, впервые оказавшегося под обстрелом, как он, зеленый, растерянный, ни в чем не разобравшийся, сразу же был убит.
Сценарий в основном понравился, говорил Ринтелс, телевизионную компанию смущало лишь одно: Вьетнам. «Нельзя ли перенести действие в Германию второй мировой войны или хотя бы в траншеи корейской войны?»—попросили его. Кончилось тем, что события развернулись в Испании, а американский солдат превратился в матадора.
Попробуй возрази. На все есть несокрушимый аргумент: рекламодателям не понравится, они не одобрят. А если они не одобрят, телевизионная кампания несет убытки. По одному из каналов передали однажды документальный фильм «Осеннее оружие», рассказывавший о том, что винтовки и револьверы наводнили Соединенные Штаты, что фабриканты оружия наживаются на его производстве, хотя это ведет к огромному числу преступлений. Под фильм планировалось дать девять рекламных объявлений. Под давлением компаний, производящих оружие, восемь из них рекламодатели сня¬
10 Сборник статей
257
ли1. За всю передачу прошла лишь одна полуминутная реклама, получено за нее было в пять раз меньше, чем по обычному тарифу. Рекламодатели ежегодно вкладывают в телевидение несколько миллиардов долларов2, и им решать, что показывать 80 миллионам американцев, усаживающихся каждый вечер перед экраном и за проведенные перед ним девять-десять чистых лет своей жизни потребляющих около миллиона (!) коммерческих объявлений.
Эти 80 среднестатистических миллионов телезрителей и кружат головы рекламодателям. С ними можно делать что угодно: вечером, после ужина, расслабившись перед экраном, они все впитывают, и им можно навязать любое — от заведомо разрушительного для здоровья лекарства до представления, что русские в любой момент готовы обрушить на Соединенные Штаты свою ракетно-ядерную мощь. Потому что в это вечернее время ставки за минуту телевизионной рекламы поднимаются со средних ста тысяч долларов до четверти миллиона и выше.
Это — дорогая минута, и она не всем по карману. Рекламой манипулируют очень немногие руки: половина из расходуемых на оплату телевизионной рекламы трех миллиардов долларов поступает от двадцати крупнейших корпораций. Что б ни говорили о возросшей роли конгресса США, о всемогуществе американского лобби, эти корпорации в конечном счете — держатели реальной концентрированной власти.
Взять такую компанию, как «Дженерал фудс», одну из ведущих в снабжении «супермаркетов», то есть магазинов самообслуживания, через которые проходит львиная доля потребляемых американцами продуктов питания. Расходуя на телевизионную рекламу в год около 100 миллионов долларов, эта корпорация не просто навязывает потребителям свои товары, но при всем кажущемся многообразии продуктов питания, диктуя им вкусы, моду, пристрастия, по существу оставляет их без выбора. В том, что американцы, жители страны с огромным
1 См.: «US News Wor’d Report*, 1976, March 1.
2 См.: «Daily News», 1977, May 29.
258
и разветвленным сельскохозяйственным производством, значительная часть продукции которого экспортируется, в целом, с точки зрения европейца, питаются скверно, в немалой степени повинна «Дженерал фудс» с ее телевизионной кухней.
Коммерческое телевидение США гордится своей службой новостей. В стране, в которой нет газеты общенационального масштаба, вечерние программы новостей трех ведущих телевизионных компаний в течение одного десятилетия, с тех пор как они перешли на получасовой формат, стали своего рода социальным цементом, связывающим городской Манхеттен с сельской Алабамой, работников аэрокосмической промышленности в Кэйп-Кеннеди с жителями горной глухомани в Теннесси, шикарную публику из лос-анджелесского Беверли-Хиллз с отрезанными от остального мира фермерами Великих равнин. Все они впервые сомкнулись, став подлинной общенациональной аудиторией. Как показывает статистика, большинство из них именно из телевизионных новостей черпают представления о происходящих в мире событиях.
Обследование, проведенное еще в начале 60-х годов, показало, что для шести из каждых десяти американцев телевидение, по их словам,— основной источник информации. В 1966 году об этом говорило четверо из десяти американцев, в 1952 году — трое.
Но что это за новости?
В начале 70-х годов все главные американские телевизионные каналы стали пользоваться услугами специальных компаний, консультирующих, как половчее составлять чередующиеся с новостями коммерческие объявления. Одна из лидирующих в этой области компаний — «Фрэнк Мэджид ассо- шиэйт», пустившая в оборот концепцию «новостей действия», четко сформулировала главный принцип такого рода информационной службы. Задача телевидения сообщать не новости и не то, что людям нужно знать, а то, что они хотят знать,— принцип американского телевидения, нацеливающий на информирование прежде всего потребителя, притом информирование в полной зависимости от ставок за коммерческую рекламу.
10*
259
Ориентация американского телевидения совершенно однозначна: оно апеллирует не к интеллекту зрителей, а к их эмоциям. По словам Роберта Дэя, одного из серьезных английских телекомментаторов, «это влечет за собой все растущее, концентрированное и потому опасное внимание зрителя на действии (обычно насильственном, кровавом), а не на мысли; на событии, а не на проблеме; на личностях, а не на идеях».
За всем этим стоит стихийность капиталистического способа производства: что угодно — лишь бы заполучить потребителя, всучить ему товар. Но под само это производство подведена новейшая компьютерная техника, в частности, точно учитывающая число зрителей той или иной программы, и последние научные изыскания, включая область психологии, позволяющие вторгаться в души американцев, двигать ими, как роботами.
Работающие на многомиллионные телевизионные корпорации лучшие, вооруженные новейшей техникой, ученые точно вывели, что нужно этому потребителю, что он легче всего «заглотает». В кругах профессионалов его именуют «Джо — шесть банок» — это потому, что пиво в алюминиевых банках продается пакетами по шесть штук в каждом, а на экран многие глядят, попивая пиво.
Составители программ знают, что Джо, не очень образованный, но любознательный, не разбирающийся в высоких материях, но работящий, живет в постоянном стрессе. Вставать утром ему приходится очень рано — до работы, как правило, по меньшей мере час автомобильной езды. А тут проблемы с детьми — один заболел, другой требует спортивный костюм, перебранка с утонувшей в заботах женой. Затем этот час езды на машине — с пробками, авариями по пути, постоянным страхом опоздать на работу. Потом рабочая смена: конвейер или что- то другое, но так или иначе с огромным напряжением, на износ. И еще час автомобильной нервотрепки по пути назад.
«Джо — шесть банок» приезжает домой измочаленным в такой степени, что когда после ужина с банкой пива в руках усаживается перед телевизором, он заглатывает все, что ему покажут,— лишь
260
бы ни о чем не думать, главное — чтоб позанимательней. Можно возразить: но ведь Джо имеет выбор, он может, скажем, включить 13-й, так называемый «публичный», канал, где показывают и Шекспира и Чехова. Вот тут-то и начинается самое непростое. Увы, Джо не знает, кто такие Шекспир и Чехов, ему неинтересно смотреть ни «Антония и Клеопатру», ни «Три сестры». Они здесь для интеллектуальной элиты. Джо к ней не принадлежит. Ему нужно что-нибудь доступней: с привычными гонками полицейских за преступниками по горбатым улицам Сан-Франциско или охотой за очередным «русским агентом».
Становление американского телевидения, его детство и юность пришлись на особое время. В США буйствовал маккартизм; американцы, задавленные, запуганные, присмиревшие, словно загипнотизированные, наблюдали, как в их стране, многим из них казавшейся такой вольной, такой неуязвимой для болезней, случающихся где-то там, в Европе и на других континентах, поднимает голову фашизм. Сенатор Джозеф Маккарти, взявший непомерную власть, возглавивший поход против «инакомыслящих», держал в страхе не только государственные учреждения и частные компании. Он с особой ретивостью «тряс» средства массовой информации и зрелищный сектор. На телевидение посыпались удары. В отличие от голливудских, тут появились свои «черные списки», в которые заносили, обвинив в «коммунизме», всех, кто представлялся маккартистской инквизиции сколько-нибудь либеральным и свободомыслящим. В списки попали многие видные телекомментаторы, репортеры, ведущие программ.
Маккарти распознал силу телевидения. Отлучая от него «инакомыслящих», сам он не сходил с телевизионного экрана: разоблачал, поносил, угрожал. Это ему, телевидению, Америка обязана тем, что страх так быстро и так дружно разошелся по стране, что в считанные годы он словно парализовал многие миллионы людей. Владельцы телевизионных компаний оправдывались позднее, что
261
студии открывались перед Маккарти и его людьми еще и потому, что их погромные выступления обладали для зрителей «притягательной силой», были «сенсацией, под которую хорошо шли рекламные коммерческие объявления». Доля правды в таком объяснении есть: в конце концов гитлеровцев породила в первую очередь коммерция, лавочники. К явлениям, способствующим зарождению фашизма, опыт Соединенных Штатов, разумеется, подключает обстоятельства собственной истории. Телевидение — одно из них, весьма существенное.
Маккартизм как явление до конца никогда не уходил из американской действительности. Во многих своих проявлениях он не просто жив, но сегодня еще больше окреп, что также в немалой степени результат того особого положения, которое заняло в этом обществе телевидение. Конец же Маккарти как личности по иронии судьбы был также ускорен телевидением: такова уж в здешних условиях его всеядность.
Маккартизм сыграл свою роль в Соединенных Штатах, Маккарти же ее переиграл: правящему классу он казался теперь уже малоэффективным, раздражал его. Осуждение Маккарти (в большинстве случаев не маккартизма!) все чаще прорывалось в деловых и политических кругах, в конгрессе, в печати. 9 марта 1954 года Си-би-эс передала получившую в стране огромный резонанс передачу о Маккарти, подготовленную ведущим комментатором этой компании, знаменитым в США журналистом Эдуардом Мэрроу.
«Команда» Мэрроу, у которого были свои обиды на сенатора из Висконсина, два года подбирала в архивах материалы. Умело смонтировав их и сопроводив смелыми по тем временам ремарками, комментатор Си-би-эс показал, как глубоко засел в американцах страх, до какой степени унижений доведена страна. «Чья вина в этом? — спрашивал Мэрроу и сам же отвечал: — Не его, Маккарти. Обстановка страха создана не им, но он ее использовал в своих целях и сделал это достаточно успешно». Мэрроу заключил программу выдержкой из Шекспира, той, где Бруту объясняют, что в бедах людей повинны не звезды, а они сами.
262
Си-би-эс предоставила Маккарти возможность выступить с ответом на программу Мэрроу. «Ответ* погромщика в сравнении с передачей, подготовленной высоким профессионалом, использовавшим весь могучий арсенал, который предоставляет телевидение, оказался не только беспомощным по существу, но, что оказалось решающим для суждений о нем телезрителей, невыразительным, бледным, скучным по форме. Даже Маккарти, если он скучный, телезрителей не устраивал.
День, в который была показана программа Мэр роу, возможно, сыграл некоторую роль в падении Маккарти. Для многих, однако, он принес с собой нечто более важное: понимание всемогущества телевидения, его неограниченных возможностей в качестве политического оружия.
Телевидение брало в свои руки все большую власть. Оно уже не только определяло информированность американцев, диктовало им их вкусы и рисовало идеалы, но и активно участвовало в выработке политического курса страны, в формировании правительства. На перепаде 50-х и 60-х годов в этой стране четко выявилось: быть избранным на пост президента Соединенных Штатов невозможно без помощи телевидения. Президент должен был смотреться на экране, он не мог не быть телегеничным. Трумэн оказался, пожалуй, последним «доте- левизионным» президентом; Эйзенхауэр, благодаря своим прошлым заслугам и особому реноме в глазах американцев, определенно был последним и единственным, кто еще мог обойтись без телевизионного рычага. Исход схватки Ричарда Никсона и Джона Кеннеди в 1960 году уже полностью зависел от телевидения. Если еще в середине 50-х годов была видимость столкновения политических программ, выставленных кандидатами в президенты от республиканской и демократической партий, теперь эти программы, полные пустых авансов, заведомо невыполнимых обещаний, мало что решали.
Было бы ошибкой упрощать картину американской политической жизни: социально-политические силы, определяющие ход событий в стране, остались на месте и действуют активней, чем когда-либо прежде. В этом смысле в Соединен¬
263
ных Штатах ничего не изменилось и при существующем строе никогда не изменится. Но свою власть, выбор, диктат они теперь осуществляют, эффективно и не без ловкости используя телевидение. Понятно, не само по себе, конечно же, опосредствованно, телевидение решает многое, в том числе и кому стать хозяином Белого дома на следующие четыре или восемь лет.
Эта роль телевидения полностью выявилась в 1960 году в схватке между кандидатами республиканской и демократической партий — Ричардом Никсоном и Джоном Кеннеди — за кресло в Белом доме. На первый взгляд соперники выступали в разных «весовых» категориях. Никсона как политического деятеля хорошо знали и в США и в мире. Еще в 1952 году Д. Эйзенхауэр сделал его вице-президентом, он был в центре внимания, ему поручались ответственные миссии. Кеннеди по сравнению с ним был мало кому известным сенатором без достаточно прочных позиций даже в самой демократической партии. Принадлежность к клану его семьи обеспечивала Кеннеди прочную финансовую базу для проведения избирательной кампании, но одновременно и создавала немалые трудности. Отец будущего президента, еще до войны занимая пост посла США в Лондоне, как известно, поддерживал связи с про- нацистскими кругами; он, кроме того, зарекомендовал себя поклонником Джозефа Маккарти: к концу 50-х годов такие факты из семейной хроники Кеннеди не помогали в борьбе за президентское кресло.
Кеннеди, однако, не только хорошо знал, чего он хочет, но уже в то время понимал, как лучше всего добиться поставленной цели. Его ли прозорливость или кого-то из его советников — но он сполна оценил роль в этом деле телевидения, как и вообще средств массовой информации.
В 1956 году упомянутый уже прославленный радио- и телевизионный комментатор Эдвард Мэрроу готовил фильм, который должен был быть показан на предстоящем съезде демократической партии. Чтение текста, сопровождавшего фильм, Мэрроу предложил Джону Кеннеди с его звучным, красивым голосом. Не каждый из сенаторов согласился
264
бы на такое предложение. Кеннеди его принял. На этом съезде он не только зачитал текст фильма, что сразу привлекло к нему внимание, но попутно сделал попытку получить выдвижение в вице-президенты. В последующие годы Кеннеди стал регулярно появляться на телевизионном экране, его помощники одновременно делали все, чтобы имя их патрона постоянно появлялось в газетных интервью и журнальных репортажах. К осени 1959 года, когда начала разворачиваться очередная предвыборная кампания, семь из десяти избирателей, хотя как сенатор Кеннеди ничем особенным себя не проявил, уже знали его имя. В американских условиях то был один из самых высоких показателей популярности.
Избирательная кампания Кеннеди получила невиданный прежде в Соединенных Штатах размах. Его сторонники-добровольцы не только звонили в двери рядовым американцам и рассылали по стране рекламные письма, но и проводили особую работу с работниками телевидения, в первую очередь с ведущими программ новостей. Телевидение в результате проявляло к Кеннеди особый интерес, и он чаще других кандидатов появлялся на экране. Его показывали тем более охотно, что он был не только моложе и динамичней, но и телегеничней других кандидатов. Зрители не всегда помнили, о чем говорил, к чему звал Кеннеди, но привлекательность, обаяние не позволяли его забыть, выделяли его. Конкуренты обвиняли честолюбивого сенатора в отсутствии глубины, злословили, что если он и победит, то будет это не потому, что он умней или под- готовленней других, а в итоге буйной до неприличия рекламы, граничащей с трюкачеством. Даже если соперники Кеннеди были в чем-то правы, никаких Америк они не открывали. Все это в США было и раньше. Чего тут прежде не было и что Кеннеди с успехом максимально использовал — это подведение под политический балаган, именуемый в Соединенных Штатах избирательной кампанией, электроники.
В вышедшей в Соединенных Штатах в канун избирательной кампании 1976 года книге «Манипуляторы», показывающей, что делает с американцами
265
телевидение, ее автор Роберт Собел предсказывал:
« По всем данным, следующий президент США, и уж во всяком случае тот, что его сменит, станет первым главой исполнительной власти наступающего века средств массовой информации, периода, когда уже не различишь грань между реальностью и вымыслом. Телевидение и кино сумели сделать то, что прежде никому не удавалось,— они помогли расстроить процесс политической жизни в Америке и искалечить партийную систему, заменив их «плебисцитной демократией», поддерживаемой с помощью не столько выборов, сколько опросов населения. Началось все это в 1960 году. Сейчас уже и не скажешь, к чему это приведет».
Допустим, что это в какой-то степени из области теоретизирования. Послушаем тогда человека, который ссылается на опыт чисто практического свойства, на собственный опыт. Осенью 1977 года по одному из каналов американского телевидения была передана серия нашумевших интервью с бывшим президентом Ричардом Никсоном. Интервьюер Роберт Фрост, пробившийся на американский экран с английского телевидения, о котором говорят, что его профессиональная хватка и умение «делать» деньги заметно перевешивают принципы, решил на этой серии, что называется, «поплясать».
В самой идее растянутых на несколько программ телевизионных бесед с фактическим главным действующим лицом так называемого уотергейтского дела — подлинного землетрясения в политической жизни США — была заложена взрывная сенсация. По поводу Уотергейта к тому времени уже не только отшумели политики и политиканы, публицисты и мужи из академического мира, но и были выпущены десятки толстенных книг и поставлены фильмы, в том числе и телевизионные. Никсон же молчал, наотрез отказываясь иметь дело с ненавистной ему американской прессой, а тем более телевидением. И вдруг Фрост подписывает с экс-президентом миллионный контракт и, засев с ним на несколько недель в его поместье в Сан-Клементе на благословенном калифорнийском берегу, снимает десятки часов начиненные динамитом интервью.
Фрост, как считают здешние специалисты этого дела, истерзал бывшего хозяина Белого дома не столько безжалостными вопросами, сколько откровенным стремлением устроить из всего, что скажет Никсон, шоу, за которое потом можно было бы запросить с телевизионных станций любую цену.
Трудно сказать, что в первую очередь прельстило в этих телевизионных программах самого Никсона: полумиллионный ли гонорар, шанс уже постфактум попытаться что-то доказать, обелить себя или просто возможность еще раз оказаться в огнях рампы. Так или иначе, американцы несколько вечеров смотрели — одни с изумлением, другие все еще кипя яростью, третьи не без жалости — на своего бывшего президента, на то, как Фрост деловито вытряхивал из него душу. Большинство было разочаровано увиденным и услышанным. Никсон между тем сказал немало любопытного, в том числе и об американском телевидении.
Покидая Белый дом, другой американский президент— Д. Эйзенхауэр, что часто вспоминается, обратился к стране с серьезным предупреждением. С легкой руки одного из своих ♦ спичрайтеров» — помощников, подготавливающих речи,— он пустил в оборот популярное ныне выражение ♦военно-промышленный комплекс», указав, какую власть взял в свои руки в Соединенных Штатах этот ♦комплекс» и какую угрозу несет он с собой и американскому и другим народам.
Р. Никсон выступил со своим предупреждением — об угрозе, сгустившейся над Соединенными Штатами, об угрозе, которую несет с собой телевидение. Заявив Фросту, что стал жертвой американских средств массовой информации, экс-президент подчеркнул особую роль, которую сыграло в его судьбе объявившее-де ему подлинную войну телевидение. Далее между интервьюером и интервьюируемым состоялся следующий небезынтересный диалог:
Фрост: Но ведь Вы как президент обладали огромной властью, которая, в числе прочего, позволяла тоже использовать, когда требуется, телевидение.
267
Никсон: Нет, это не совсем так. По телевидению я мог выступать один, максимум два раза в месяц, в их же руках это оружие было круглосуточно, они меня травили ежедневно, ежечасно.
Фрост: Выходит, что если бы Вы были главой телевизионной сети или владельцем «Вашингтон пост», в Ваших руках было бы больше власти, чем когда Вы были в Белом доме, на посту президента?
Никсон: Безусловно.
Никсон, понятно, преувеличил. С прессой, а тем более с телевидением у него всегда были особые счеты, и его объяснение случившегося, вне всяких сомнений, предвзятое. Отрицая существо уотергейтского дела, он хотел бы все свести к интригам, мести, заговорам. И все-таки в том, что экс-президент сказал в беседе с английским телеястребом, есть немалая доля истины. Независимо от того, что стоит за Уотергейтом, каковы пружины, вызвавшие в США связанный с этим делом конституционный, не говоря уже о морально-политическом, кризис, средства массовой информации, и прежде всего телевидение, действительно сыграли важную роль в низвержении Никсона и его «команды».
Телевидение все меняет. Когда-то считалось само собой разумеющимся, что миллионеры в Соединенных Штатах, помимо промышленников, банкиров, прочих дельцов,— это кинозвезды. Теперь много больше, чем в Голливуде, миллионеров плодится на телевидении. Речь при этом идет не о «суперах» вроде Джонни Карсона с его ежевечерне передаваемой по Эн-би-си и ретранслируемой 225 станциями развлекательной программой, у которого оклад в три миллиона долларов в год, а о журналистах.
Не лучшее занятие подсчитывать чужие доходы, но цифры, которые я сейчас приведу, широко известны в США; более того, их рекламируют. Все трое дикторов — ведущих вечерних получасовых программ новостей в основных телевизионных компаниях, включая Кронкайта, получают в год около полумиллиона долларов. Эй-би-си, переманившая к себе из Эн-би-си популярную телевизионную диву Барбару Уолтерс, специализирующуюся на репорта-
268
жах и составлении новостей, подписала с ней пятилетний контракт на сумму в пять миллионов долларов. Барбара Уолтерс, по своему уровню очень средняя, но что важнее — пробивная и что имеет решающее значение — известная каждому американцу журналистка, стала чемпионом. У нее зарплата — миллион долларов в год, это больше, чем у председателей правлений самых больших корпораций. Впрочем, рекорд держался недолго, вскоре пошли в ход еще большие оклады комментаторов-миллионе- ров.
Что общего у этих телевизионных журналистов- миллионеров с американским народом? Можно ли от них ожидать если не согласия на сколько-нибудь существенные перемены в стране, то хотя бы сочувствия? Каким, наконец, им видится мир, происходящие в нем постоянно процессы, никак не способствующие укреплению системы, которой они верно служат? А ведь это они, оракулы, определяют информированность американцев, их точку зрения и настрой. Вот и выходит, что когда в программе новостей упоминается об очередной забастовке шахтеров, невзначай оброненное комментатором слово или просто легкая усмешка на лице ведущего программы ясно говорят миллионам в целом не очень, когда их самих это непосредственно не касается, сочувствующих забастовщикам телезрителей: «Смотрите, они снова валяют дурака, каждый год выбивают прибавки, и им все мало!» Получается так, что каждый раз, когда в программе новостей доходит очередь до излюбленной темы — поимки очередного грабителя ли, торговца наркотиками или какого другого правонарушителя и он оказывается негром или пуэрториканцем, в голосе ведущего отчетливо слышна подкрепленная тем, что происходит на экране и сплошь и рядом разделяемая многими из белых американцев досада: «Ну, конечно, опять эти цветные, чего другого от них ожидать! *
Миллионеры уже не только оплачивают рекламу, но и составляют бюллетени новостей и читают их с экрана. Что-то намеренно из вечера в вечер, из передачи в передачу выпячивается: при всех неполадках и срывах, какая славная, демократичная страна Соединенные Штаты, как в конечном счете
270
здесь непременно одерживает верх справедливость и как безобразен мир с его катаклизмами, голодом, дикостью... Что-то — так, словно этого вообще не существует,— полностью замалчивается.
«Нью-Йорк тайме» как-то прорвало откровенностью. Газета поместила обзор, в котором рецензировались передаваемые по американскому телевидению документальные фильмы. Цитирую: «В мире телевизионных документальных фильмов существует семь смертельных табу. На своем экране вы никогда не увидите документальную хронику, затрагивающую такие темы: верхушка профсоюзов, большой бизнес, ведущие телевизионные компании, автомобильная промышленность, ядерная энергия, военно-промышленный комплекс, внешняя политика США». В обзоре приводится пара случаев, когда «смертельное табу» нарушили. 15 августа 1975 года по Эй-би-си показали программу, приоткрывшую завесу тайны над тем, что творится в автомобильной промышленности, а до того, 23 февраля 1971 года, по Си-би-эс дали передачу о Пентагоне, лишь слегка коснувшуюся правды о военно-промышленном комплексе. Авторы обеих программ вынуждены были уйти с телевидения, объясняет «Нью- Йорк тайме».
Газета сказала не все. «Смертельные табу» распространяются не только на документальные фильмы, но и на все другие программы американского телевидения, в том числе бюллетени новостей. Чем другим объяснить, что на протяжении почти целого
«В условиях нашей новоскандинавской демократии только экономически независимая привилегированная верхушка пользуется теми неограниченными возможностями, которыми располагает наше технически высокоорганизованное общество, а конъюнктура, индустрия духовных ценностей и примитивная культура превращаются изо дня в день во все более эффективную приманку».
Пааво Ринтала (Финляндия)
271
десятилетия подавляющее большинство жителей этой страны не имело ни малейшего представления, что в действительности происходило в Индокитае? Тем большим было потрясение людей, когда грянул гром, когда скрывать, что США потерпели во Вьетнаме сокрушительное военное, не говоря уж о морально-политическом, поражение, стало невозможным.
Очень много здесь табу не всегда таких очевидных, как упомянутые «Нью-Йорк тайме», но жестких, долгосрочных, а потому эффективных. Прожив в стране годы, на многое уже не так остро реагируешь, как поначалу. Наверное, тем не менее невозможно привыкнуть к каждодневным шокам, которые испытываешь, когда сталкиваешься с американцами и обнаруживаешь, что они знают о нашей стране.
Тема не новая, в ее разных аспектах, начиная с совершенно искаженных представлений большинства американцев о нашей социально-политической системе до их девственного невежества в отношении советской литературы, не раз затрагивавшаяся. Но как привыкнуть к тому, что, оказавшись на званом обеде за одним столом с семью американскими бизнесменами, ведешь с ними разговор о том, о сем, рассказываешь о своей стране, а затем вдруг улавливаешь вопрос одного из собеседников, с виду человека вполне цивилизованного и по здешним стандартам информированного: «Я что-то слышал, будто у вас была революция, но вот не знаю — когда?» Или такой сюжет. Случайно сталкиваешься с милой супружеской парой, немолодыми людьми среднего достатка и средней культуры. Узнав, что перед ними русский, они взахлеб начинают хвалить нашу страну. Когда интересуешься, недавно ли они вернулись из Советского Союза или бывали там раньше, слышишь от них: «Нет, мы никогда не были в России, но видели недавно по телевидению фильм «Доктор Живаго». Когда, оправившись от изумления, начинаешь объяснять, что картина эта не имеет ничего общего с нашей жизнью, что она снималась в Испании, а использованный при съемках снег — синтетический, они тоже удивляются, но в их взглядах ловишь и растерянность и недоверие.
272
Покойный Роман Лазаревич Кармен рассказывал, что во время пребывания в Соединенных Штатах беседовал с несколькими молодыми американцами и спросил их, что им известно о войне, в которой мы потеряли двадцать миллионов человек. « Это что, та война, когда американцы и англичане сражались против русских? * — поинтересовался один из молодых людей.
Это — особый случай, но и бизнесмены за обеденным столом, и супружеская пара информированы о советской жизни не лучше и не хуже большинства других американцов. Подозреваю, однако, что и они информацию об окружающем мире черпают преимущественно из телевидения. Но то, что им так мало известно о нас,— не самое худшее. Много опасней другое: та скудная информация об СССР, пройденном нами пути, о проблемах, волнующих советских людей, что до них доходит, обычно — неправда.
Мы тоже не все знаем о Соединенных Штатах, сами американцы, включая ученых — социологов, экономистов, философов, не успевают разобраться в происходящих там процессах, стремительных переменах. Остается, однако, фактом, что советские люди не просто интересуются Америкой, но много читают о ней, что в СССР американских писателей печатают по меньшей мере в тысячу раз больше, чем советских в США. Американская интеллектуальная элита тоже кое-что почитывает о Советском Союзе— в большинстве случаев, увы, это «кое-что» несет в себе не только не слишком дружественный, но и не очень правдивый заряд. Массы американского населения в том, что касается Советского Союза, обречены на строго соблюдаемую, не подверженную изменениям телевизионную диету, основанную на упомянутых уже табу.
Делается не по себе, когда в полной мере представишь себе влияние телевидения на жизнь людей в этой, да, наверное, и во многих других странах, когда задумаешься над тем, к чему все это может привести. Телевидение вошло в жизнь Америки не только как развлечение, подмявшее кинематограф,
273
сделавшее театр достоянием совсем избранных, как главный поставщик информации, определяющий, что людям нужно знать и что им знать не следует, но и как наставник, диктующий вкусы, моды и весь образ жизни. Жить как по телевизору — это не только покупать рекламируемые таблетки от бес- сонницы и посудомойки, не только есть, пить, спать, одеваться, ходить в гости как по телевизору, но еще и разговаривать с соседом и ссориться с женой, радоваться и горевать, любить и ненавидеть как по телевизору. Звучит неправдоподобно, но, наблюдая американскую жизнь, теперь часто уже и не поймешь, где — телевидение, а где — реальность, где кончается действительность и где начинается экран. Поразительная телевизионная серия, которую американцы увидели несколько лет назад, лишь подтвердила это. Эта история, хоть в свое время о ней уже и шла речь, заслуживает особого разговора.
Шустрый телевизионный продюсер по имени Крэйг Джилберт решил сделать нечто такое, что до него никто не предпринимал: не просто рассказать о жизни американской семьи, но поселить с этой семьей телевизионные камеры. Семью долго, тщательно выбирали. Исходили из того, что она должна быть типичной, но по состоятельности выше среднего уровня, счастливой, но со взрослыми или хотя бы подрастающими детьми, что обычно порождает проблемы; они нужны были для драматургии.
Остановились на семействе 52-летнего Вильяма Лауда, которого все звали «Биллом»,— владельца не очень крупной, но преуспевающей строительной фирмы. Семейство проживало в калифорнийском городке Санта-Барбара, что к северу от Лос-Анджелеса. Миссис Патрисия Лауд, для всех «Пэт», в то время 46-летняя, была в меру привлекательной, светской и эмансипированной. Пятеро подросших, но еще не разлетевшихся из родительского гнезда детей. Дом с бассейном — полная чаша, где всегда гости, в основном Друзья детей. Благодатный калифорнийский климат. Вкупе все это было предельно телегеничным, идеальным для показа на экране.
В доме Лаудов на семь месяцев поселилась телевизионная команда, не выпускавшая из рук камер,
274
фиксировавших каждый шаг каждого из членов этого сверхблагололучного американского семейства. Лауды стали участниками самого продолжительного за всю историю телевидения «шоу*. Семь месяцев они жили под прицелом телевизионных камер, которые ни на момент, исключая уж самые интимные, их не отпускали.
Зачем они на это согласились? Билл и особенно Пэт Лауд и не думали скрывать истинные причины. «Это там, на восточном побережье, живут ушедшие в себя мизантропы, мы же, калифорнийцы,— народ открытый, мы любим себя показать,— напишет позднее Пэт в книге, о которой еще будет сказано, и добавит с полной откровенностью: — Мы искали известности, славы, и мы знали также, что это принесет нам доходы». Перо жар-птицы, словом, показалось близким, знаменитая американская мечта вдруг стала почти явью.
Конечно же, они семь месяцев играли. Не верю, да и никто из тех, кто видел позднее двенадцать телевизионных программ, в которые уместилась семимесячная жизнь Лаудов, не верил, что люди могут оставаться самими собой, зная, что на них нацелены телевизионные камеры. Должен, однако, признать, что, хотя наигранности было достаточно, все семь членов семейства мужественно держались в рамках свойственной американцам раскованности, а если и устраивали спектакли, то делали это на удивление умело. И все-таки при всей завидной раскованности Лаудов, искусстве продюсера, мастерстве операторов и монтажеров все это выглядело пугающе странным, если не противоестественным. Камеры все-все показывали.
Вот у Пэт с Биллом скандал. Он погуливает, ей, понятно, это не нравится. Зная, что телевидение не дремлет, она, стараясь сдерживаться, ровным голосом выговаривает ему: «Ты мерзавец, ты грязная свинья!» Он, как водится, оправдывается. Может, и сам сказал бы что покрепче, да камеры мешают. Делайла, их дочь, по всему ее поведению, недвусмысленным намекам, недавно потерявшая девственность, по телефону жалуется на родителей Брэду, своему возлюбленному: «Боже, как я от них устала, они как кошка с собакой. Сегодня сцепились
275
из-за того, нужно ли сыр класть в холодильник. Нет, я в жизни никогда не выйду замуж!» Брэд лениво роняет: «Ну, это мы еще посмотрим». Делай л а спохватывается: «Нет, ть! не в счет».
Показали, как двадцатилетний сын Лэнс отправляется в Нью-Йорк «завоевывать мир». Как мама приезжает его навестить и обнаруживает, что в кругах богемы, в которые он так рвался, Лэнс сошелся с гомосексуалистами и сам им стал, как спокойно отнеслась к этому мама, как она довольна, что Лэнс твердо стоит на собственных ногах, что с ним все в порядке.
Показали, как Пэт и Билл встретились после его приезда из очередной «деловой» командировки. Дети целуют папу, мама же сидит, не шелохнувшись, напряженная, но вполне выдержанная. Как в следующем эпизоде она сообщает мужу, что беседовала с адвокатом насчет развода и тот заверил, что процедура будет не слишком сложной. Как он собирает пожитки и уходит из дому, а она, оставшись без мужа, сидит на диване, слегка раскачивается, курит. Как они спокойно, по-американски деловито, обсуждают вопрос об алиментах. Он не скуп, и деньги у него водятся, но в Америке к ним относятся с уважением, ими не швыряются.
Она (в присутствии адвоката): «На медицинские расходы нужно не меньше двадцати долларов в неделю».
Он: «Я думаю, пятнадцати будет достаточно».
Она: «Не забудь, что мне, кроме того, нужно оплачивать занятия Мишель по музыке, да и парикмахер недешево стоит».
Он (нервно перебирая пальцами, по лицу его ходят желваки): «Хорошо».
Телевизионные камеры не просто фиксировали ход событий в семье Лаудов, на эти семь месяцев они стали ее активными членами. Под камеры подстраивались, на них работали: жизнь подгонялась под телевизионный сюжет, они диктовали Лаудам, как и что надо делать. Если миллионы американцев стараются жить как по телевизору, то это семейство жило по телевизору. Реальность слилась с «шоу-бизнесом», подчинилась его требованиям, капитулировала перед его ультиматумами. Хотя Билл и Пэт
276
заверяли потом, что у них не ладилось еще и до этой телевизионной одиссеи, для всех было очевидно, что камеры, внесшие еще большую напряженность, искусственность, фальшь в это семейство, ускорили их развод. Камеры диктовали, но они же, подобно рентгену, высветили, в каком отчуждении жили все семь членов этой семьи, как глубоко безразличны они были друг другу, каким призрачным оказалось благополучие состоятельного дома.
Камеры убрали. Страна, ко многому привычная, пораженная смотрела потом серию из двенадцати программ, озаглавленных «Американская семья». Смотрела, когда семьи уже не было. Все разбрелись, кто куда: дети разъехались, Пэт перебралась на жительство в Нью-Йорк, Вилл остался там же, со своей фирмой, обзавелся новой женой, он очень доволен исходом. Каждый на некоторое время стал знаменитостью и постарался извлечь из этого материальную пользу: оплаченные газетные и журнальные интервью, выступления по телевидению. Мама, в содружестве с профессиональной журналисткой, выпустила книгу, озаглавленную «История одной женщины». Книга принесла не очень большой доход, да и вообще вышла пустяковой, вялой, но одно Патрисия Лауд сумела в ней выразить четко: телевидение перевернуло жизнь и ее, и детей, и бывшего мужа, совершив над ними насилие, разметало их.
«Сложилось целое поколение людей, никогда не знавших ничего другого, кроме того, что выходило из телевизионной трубки. Эта трубка стала евангелием, за ней — последнее слово! Она может создавать или ликвидировать президентов, пап римских и премьер-министров!» — кричит в нашумевшем фильме «Телесеть» комментатор Говард Били, вроде бы свихнувшийся, но именно потому ставший пророком, который приносит использующей его компании сумасшедшие доходы. Кричит в телевизионные камеры и, чтобы показать могущество телевидения, доказать, что оно стало для американцев истинной реальностью, а все остальное отошло на второй план, дает зрителям команду открыть в своих домах окна и, кто как может, выразить себя. И по
277
всей Америке отворились окна, и миллионы людей стали кричать каждый свое. А ликующий Били, пообещавший совершить перед камерами самоубийство, в самом деле валится в разгар очередной программы на пол и умирает, и его хозяева делают из этого самое грандиозное шоу, в последний раз хорошо зарабатывая на нем.
Картина выглядит злым шаржем, на деле же показанное в ней очень, очень близко к действительности. В ♦Телесети» все сколько-нибудь посвященные сразу же узнали одного из трех американских китов, а уж то, что на американском телевидении зарабатывают на чем придется, включая показ того, как люди умирают,— совсем не новость.
В 1976 году в нью-йоркском районе Куинзе произошла серия убийств. Жертвами становились юные женщины, в основном брюнетки, или на американский лад уединявшиеся в припаркованных в темных аллеях автомобилях парочки. Кто-то без видимых на то причин выпускал им в голову по нескольку пуль. Пули-то и показали, что убийца был один и тот же: неизменно пользовался револьвером «бульдог» 44-го калибра.
В стране, где каждый год совершается 5 миллионов сопровождаемых насилиями преступлений, в том числе 20 тысяч убийств, где несколько миллионов человек регулярно проходят психиатрическое лечение, а в личном пользовании находится до 50 миллионов единиц оружия, случалось и не такое. Сенсацию с каждой новой жертвой 44-го калибра на глазах стали создавать газеты, но главным образом телевидение. Вокруг стрелявшего в Куинзе очевидного психопата, которого бы тихо взять и изолировать от общества, не просто подняли шум. По всем законам американских средств массовой информации ему стали делать громкую рекламу.
Телевидение и газеты соревновались в изобретательности: по одним версиям, действовал новоявленный Джек-потрошитель — женоненавистник, по другим — взбесившийся наркоман, по третьим — изломанный, полный ненависти к окружающему миру ветеран вьетнамской войны. Соревновались, смакуя подробности в описании убийств, в нагнета-
278
нии страха, которого и без того хватает на улицах американских городов.
В вечерних новостях довелось тогда видеть в числе других такой репортаж. Отец темноволосой 14-летней девочки пришел в полицию и заявил, что, как ему кажется, кто-то преследует его дочь и что это не иначе как «сын Сэма*. Двое переодетых полицейских стали следить за девочкой и за полицейскими: у одного из них даже взяли интервью. Полицейские никого не поймали, телевидение же выловило сюжет, под него, как водится, неплохо заработали на рекламе.
Такие репортажи создали «сыну Сэма* известность, которой позавидует кандидат в президенты. Он же, почувствовав, видно, вкус к славе, прислал одному из здешних невысокого пошиба, но бойких и популярных репортеров письмо, пообещав в нем в ближайшие дни осуществить новое убийство того же рода. Когда в точном соответствии с обещанием убийца совершил еще одно нападение, но на этот раз не в Куинзе, где на ноги была поднята вся полиция, а в Бруклине — застрелил девушку, тяжело ранил ее друга,— телевидение, а вместе с ним радио и газеты будто сошли с ума. Программы новостей, первые страницы газет заполонили аншлаги, намеренно, профессионально, с точным знанием людской психологии сеявшие ужас.
Они своего добились. В городе, где убивают среди бела дня — на улицах, в метро, в магазинах, где в некоторых районах люди научились жить так, что они почти не выходят из своих домов («мой дом — моя крепость!*), несколько, по существу, ничего нового не внесших в нью-йоркскую действительность убийств породили панику. Поставим все на свои места: убийце-психопату одному такое было бы не по силам — панику умышленно, в чисто корыстных интересах, сработали телевидение и газеты. Истеричные крики — «Сын Сэма ищет очередную жертву*, «Город в страхе*, «Не выходите на улицу!* — сделали свое дело. Нью-Йорк действительно погрузился в больший, чем обычно, густо замешанный страх.
«Сына Сэма» все-таки взяли. Взяли, заработав на газетных тиражах и телевизионной рекламе мно¬
279
гие миллионы. О том, что реклама тут ничем не брезгует, всем хорошо известно. Но то, как делали деньги на фактическом прославлении убийцы, подогревании людского страха, на этот раз выглядело особенно мерзко. Как выяснилось уже после ареста преступника, реклама эта выступала в роли того же убийцы. «Сына Сэма» с его револьвером 44-го калибра не в переносном, а в буквальном смысле она подталкивала на дальнейшие дела. В комнате убийцы обнаружили целую кипу относившихся к его деяниям газетных вырезок: ночью стрелял, утром, читая газеты, глядя на телевизионный экран, хмелел от всеобщего внимания, шума, эпитетов — мнил себя личностью, искал новых жертв для 44-го калибра.
То был лишь первый акт очередной американской трагикомедии. Акт второй начался еще до того, как на ничем не примечательного 24-летнего почтового служащего, свихнувшегося на окружавшем его с младенческих лет культе насилия, пронзительном одиночестве и вошедшем в его рацион во время службы в армии в Южной Корее зелье ЛСД, надели наручники. Что его рано или поздно возьмут, можно было не сомневаться. Теперь выяснилось, что еще до его поимки телекомпании, кинофирмы, издательства заключали договоры на сценарии и книги об истории его жизни, о том, как он целился в головы людей и что при этом испытывал. А когда грузная фигура окруженного детективами «сына Сэма» с его безмятежной улыбкой на лице появилась на телевизионном экране, поднялся такой гвалт, пошел такой торг, что взяло невольное сомнение: один ли сорвавшийся с цепи почтовый служащий не в порядке или все окружающее его общество?
Но и это не все. Когда он убивал, зарабатывали телевидение и газеты. Теперь на этой истории решили погреть руки все, кто имел к «сыну Сэма» малейшее отношение. 65-летний сосед, которому посчастливилось стать предметом ненависти убийцы- знаменитости, потребовал за интервью 15 тысяч долларов. Бывшая подружка, не растерявшись, стала поштучно торговать письмами экс-возлюбленного: за одно взяла 200, за другое — 500 долларов. Роди-
тели 20-летней девушки, последней получившей пули, выпущенные из 44-го калибра, тоже пустились в безумный пляс. Едва захоронив дочь, сразу предъявили два иска — один «сыну Сэма», другой — бруклинской полиции, на общую сумму в двадцать миллионов долларов. Не в два — дешево, и не в двести — было бы чересчур, а взвешенно, в итоге тщательных подсчетов,— в двадцать миллионов долларов оценили жизнь ушедшей дочери. В обществе, где доллар и высшая доблесть, и индульгенция, и утешитель, почему не заработать?
Круг замкнулся в полном соответствии с логикой сумасшедшего дома. Адвокат, взявший на себя на первый взгляд неблагодарную, а на деле оказавшуюся золотым дном задачу защиты на суде почтового служащего-убийцы, дал этой картине последний, все определивший штрих. Тоже прикидывал,— что же нам из этого можно получить, не продешевив? — а затем устроил своего рода аукцион. Выставил на нем шесть часов магнитофонных записей с голосом «сына Сэма», лично рассказывавшего свою историю. «Он говорит обо всем, что совершил,— об убийствах, обо всем. Это — волнующий, самый волнующий из всего, что мы до сих пор слышали, рассказ»,— захлебывался от восторга, рекламируя пленки, торговый агент адвоката. И совсем уж удивительное: предлагая записи, адвокат объявил, что заручился доверенностью от убийцы, что две трети доходов пойдут ему, «сыну Сэма»,— чем, мол, он хуже других, в конце концов без него ни у кого не было бы прибыли, так не ему ли принадлежит право первой ночи, не ему ли по справедливости раньше других рассказать собственную историю, ну и, разумеется, тоже заработать на ней?
Я привожу факты. Для меня самым поразительным в те дни было то, что все рассказанное в Соединенных Штатах никого особенно не удивило. Все хотят заработать, не на одном, так на другом,— что ж тут особенного? Приблизительно в это же время умер Элвис Пресли, зачинатель рок-н-ролла. Трое его охранников тут же, не успели еще отпеть их бывшего хозяина, начали направо-налево распродавать «мемуары» о нем, в которых перемешали бы¬
282
ли с небылицами, наплели бог знает что. Молодцы, не растерялись — по большей части, пожалуй, такова была реакция на их инициативу.
Ну а как же с моралью, просто с нормами элементарных приличий? Кого спросишь об этом: бывшую возлюбленную «сына Сэма», торгующую его письмами, его адвоката или газетно-телевизионных коммерсантов? Задай наивный вопрос — и услышишь в ответ: «Мораль? А сколько это стоит?» Такова здесь окружающая среда, к созданию которой телевидение за свое относительно недолгое существование определенно успело приложить руку.
Особенно не по себе делается, когда думаешь о детях. Они, неподготовленные, доверчивые, ранимые, в Соединенных Штатах в первую очередь — жертвы телевидения. Проведенное недавно исследование, ужаснув страну, показало, что 13 процентов выпускников американских средних школ читают настолько плохо, что не могут разобрать надписи, регулирующие уличное движение. Уолтер Кронкайт сообщил в своей программе новостей, что «многие выпускники американских школ вообще не умеют ни читать, ни писать и общий уровень их знаний
«Но как не увидеть, что зло не в тех, кто не желает восторгаться лишь исключительным, индивидуальным, патологическим,— всех этих любителях эффектных воплей, чье безразличие к человеку укрывается за дешевой ширмой: «Смотрите, смотрите, до чего же мы любим человека. Нет такого закоулка в сознании, нет такого нервного потрясения, такого оттенка шизофрении, паранойи или вызванного наркотиком состояния, которые бы оставили нас равнодушными».
Человека они любят. С обнаженными нервами. Безумного. Они не любят человека, работающего бок о бок со своими братьями».
Арман Лану (Франция)
283
не поднимается выше третьего класса». «США, похоже, теряют один из самых жизненных ресурсов— образованную молодежь»,— мрачно резюмировал он.
Все это — не только плохая постановка обучения в школах, но еще, а может быть, прежде всего, и телевидение. Подсчитано, что к 18 годам жизни каждый американец проводит перед телевизионным экраном 20 тысяч часов, то есть много больше, чем в классной комнате. В часы «пик» зрителям показывают в течение 60 минут от пяти до девяти случаев насилия, а по субботам эта цифра порой вырастает до тридцати. К 14 годам американский подросток оказывается свидетелем убийства на экране, часто во всех деталях, 11 тысяч человек. Фонд содействия развитию детей выявил в результате опроса, что две трети американских мальчиков и девочек от семи до одиннадцати лет живут в постоянном страхе, им кажется, что кто-то «плохой» в любой момент может войти в их дом.
Как такое позволяется? «А при чем тут телевидение? — отвечает на это Генри Левинсон, президент Национальной ассоциации работников вещания. — Мы не считаем, что по телевидению показывают больше насилий, чем их демонстрирует действительность нашего общества».
Детская психика разрушается. Юных телезрителей, с одной стороны, преследуют кошмары, с другой— их убеждают в том, что насилие, включая убийство,— нормальный способ решения всех жизненных проблем. Во Флориде проходил уникальный судебный процесс. На скамье подсудимых был пятнадцатилетний Ронни Замора, выстреливший в 82- летнюю женщину и убивший ее. Парень оправдывался тем, что поступил точно так, как это делает полицейский лейтенант Коджак в одноименной телевизионной серии. Судьи пребывали в немалом смущении: кого же на скамью — Ронни или телевидение? Приняли соломоново решение — признать убийцу психически несостоятельным. Обвинить в чем-то телевидение не решились.
Заметки о сегодняшнем американском телевидении куда как выигрышно было бы заключить реестром выводов. Не стану этого делать, потому что
284
история скорее начинается, чем заканчивается. Несмотря на молодость, телевидение многое успело натворить, но все равно дело только разворачивается. Вот уже пробивает дорогу кабельное телевидение. На рынок поступили первые модели (японцы, конечно, снова вырвались вперед) кассетных телевизионных аппаратов индивидуального пользования. Можно не сомневаться: в ближайшие годы телевизионная техника еще многим удивит.
Удивит ли американское телевидение какими- нибудь переменами в содержании программ? То, что было до сих пор, не дает большой надежды на это. Такое могучее оружие, как телевидение, воссоединившись с озабоченными только прибылью коммерсантами, становится страшной, по своим разрушительным свойствам не уступающей водородной бомбе, силой — вот главный итог первых десятилетий существования телевидения в этой стране. « Телевидение нельзя изменить до тех пор, пока оно остается в руках бизнесменов. Соединенные Штаты совершили чудовищную ошибку, позволив, чтобы это невероятное по мощи средство воздействия на людей стало высокоприбыльной быстрорастущей отраслью промышленности. Бели мы сегодня как нация менее счастливы, уверены в себе и умны, чем 30 лет назад, во многом это связано с тем, что мы стали поколением телезрителей » *,— сокрушается американский публицист Уильям Шэннон.
Энтони Льюис, другой публицист, пользующийся репутацией серьезного, глубокого, настроен еще более мрачно. Его откровенно пугает утвердившийся на телевидении США культ насилия. «Бойня, которую Максимилиан устраивал на арене цирка гладиаторам и христианам, обычно считают симптомом заката Рима. Что же сказать о стране, где превращают в цирк исполнение приговора за совершенное преступление и казнь воспроизводят в каждом доме? Может общество смаковать такие зрелища, не деградируя при этом?»1 2 — спрашивал он после того, как по телевидению отшумел карнавал в связи с расстрелом Гэри Гилмора.
1 «New York Times», 1975, September 3.
2 «New York Times», 1977, January 27.
Говорят, что престарелый д-р Зворыкин, которого в Соединенных Штатах считают изобретателем телевизионной трубки, в свою очередь, пребывал в тревоге, почти такой же, какую испытали некоторые причастные к расщеплению ядра американские ученые, услышав о взрыве первой атомной бомбы. Теперь уже всем известно, какие сложные, противоречивые чувства обуревали тогда многих из тех ученых: знали, что технический прогресс не остановить, что ядерная энергия — неизбежный этап в развитии цивилизации, и все равно было им страшно и испытывали терзавшую вину перед человечеством, перед грядущими поколениями.
С телевидением не менее сложная, хотя на первый взгляд не такая драматическая история. Конечно же, для миллионов, если не миллиардов, людей оно стало бесценным источником информации, заполнило их досуг, украсило будни. В общем выходящем за пределы Америки балансе положительное, несомненно, перевешивает то негативное, что принес с собой век телевидения,— поверхностность информации, создающей иллюзию информированности, бездумное времяпрепровождение у экрана, разъединение людей, которым телевизор оставляет все меньше возможности, да и желания общаться, беседовать. И наше телевидение, как известно, имеет ряд проблем, и некоторые из них — в таком серьезном деле не стоит заблуждаться — еще не встали во весь рост. Но в Советском Союзе, других социалистических странах сам образ жизни нейтрализует многие из этих опасностей.
При капитализме телевизионные проблемы, впитывая в себя присущие этому строю пороки, удесятеряются. В Соединенных Штатах они спрессовались в динамит. Телевидение не просто перевернуло жизнь американцев, но — мне меньше всего сейчас хочется бросать тень на этих в массе своей достойных людей — сделало многих из них подобием роботов. Они и не подозревают, какой игрушкой стали в руках тех, кто командует телевидением, под какой жесткий повальный контроль попали.
Нельзя, понятно, брать скопом всех жителей США: дело опять-таки упирается в культуру, ин¬
286
теллект, а иногда и материальную независимость людей, но значительная их часть теперь выглядит подопытными кроликами. Телевидение не только все о них знает, предупреждает их малейший порыв,' предугадывает любое желание, но, как бы закладывая в них перфоленту, программирует их, точно указывая, как себя вести, что делать, а чего не делать. «Люди все больше изолируются один от другого. В скором будущем телезрителю не нужно будет больше идти на избирательный участок. Он сможет проголосовать, нажав дома кнопку. Ему не нужно будет ходить в школу: она будет дома, по телевизору, экзамены у него примет компьютер, он же выставит оценки. Люди, словом, удаляются от малейшего контакта с себе подобными»1,— говорит профессор Колумбийского университета Эрик Барноу, ведущий в США специалист по проблемам телевидения. «Я не знаю, чем кончится этот роман с телевидением. Но мне боязно»,— довелось слышать от Айзика Азимова, человека, которому, кажется, обо всем известно. Боязно не одному ему.
Нью-Йорк — Москва
1 «US News and World Report», 1976, March 1.
И. Андронов
«ШЕДЕВРЫ АБСУРДА» И НЕУГОДНЫЕ МУЗЫ
Почему бросился с Бруклинского моста Дан Родилл? Цензурная прополка американской литературы. «Рог изобилия из мусора», «Великие ноги Америки» — произведения искусства? Д. Родилл: «Я не намерен бросать перо».
...Промозглый зимний вечер в Нью-Йорке. Снег вперемешку с дождем затуманил влажной мутью окна. В такую погоду нет, пожалуй, большего удовольствия, чем посидеть в тепле и уюте за чашкой крепко заваренногр чая. Я пододвигаю своему гостю сахарницу, но он вежливо отказывается:
— Приходится чаевничать без сахара — боюсь, что разболится зуб, а на визит к дантисту у меня нет денег.
С деньгами у Дана действительно туговато. Долгое время он мыкался без крова и без работы, а сейчас устроился таксистом. До сих пор Дан не выплатил многотысячный долг городской больнице, куда угодил почти при смерти со сломанными ребрами и отбитыми легкими полтора года назад. В ту пору имя Дана впервые появилось на страницах «Литературной газеты»: доведенный до отчаяния, он прыгнул с высоченного Бруклинского моста в Ист-Ривер. Вместо завещания Родилл оставил на мосту свою отвергнутую повсюду пьесу и записку с протестом против «бедственного положения писателей, неугодных верхушке торгашеского общества».
© «Литературная газета», 1979, 24 января.
288
История эта получила тут громкую огласку, ибо ва последние 90 лет один только Родилл чудом избежал участи разбившихся и утонувших под Бруклинским мостом. Единственный счастливчик произвел вдруг сенсацию на телевидении и в газетах. Пять раз писала о нем «Нью-Йорк тайме». Трижды местная пресса сообщала об откликах советской печати на злоключения Родилла. И вот осенью 1977 года нью-йоркская театральная студия, руководимая актрисой Пегги Редиш, устроила пробную инсценировку пьесы Родилла «Сухой сезон».
Зал студии на 52-й улице в тот день был полон, и я с трудом протиснулся к местам, зарезервированным для журналистов и театральных критиков. Пьеса Дана вызвала овацию, автора восторженно поздравляли и сулили ему блестящее будущее...
Однако нью-йоркские театры не сняли бойкота с талантливого драматурга-новичка. И он уехал в Филадельфию, откуда сообщил мне письмом, что тамошний драматический театр намерен вскоре поставить его пьесу. О том же промелькнула пара коротеньких заметок в газетах. Но потом обнадеживающие вести вовсе заглохли. Заправилы театрального бизнеса не изменили своего отрицательного отношения к пьесе. Ее заклеймили как «чрезвычайно политическую».
Минувшим летом от Дана пришло письмо, в котором он писал, что ему удалось устроиться работать таксистом. Позже мы с Даном встретились снова: он рассказал мне о своей новой пьесе «Дик и Суан», которая посвящена, как и «Сухой сезон», кровавой интервенции США в Индокитае. На ту же не устаревшую в Америке тему Родилл написал несколько новелл. Они волнующе, честно и трагично воссоздают жестокую картину преступной войны, с которой Дан познакомился отнюдь не понаслышке: он был фронтовым корреспондентом нью-йоркских и чикагских газет. Их редакторы впоследствии ополчились против Родилла точно так же, как хо- вяева театров и издательств.
— Хотя сегодня жизнь меня не балует,— ска- аал мне Дан Родилл,— все равно я не намерен бросать перо. И больше прыгать с мостов не стану.
11 Сборник статей
289
ПОД ГНЕТОМ ЦЕНЗУРЫ
За последние годы в США участились случаи самоубийств в среде деятелей искусства. Начинающий нью-йоркский литератор Раймонд Гонсалес, затравленный издевками издателей над рукописью его неопубликованной книги о бедном трудовом люде, недавно пытался покончить с жизнью, бросившись в Ист-Ривер с моста Трайборо. А бездомный, обнищавший художник Томас Хелмс выбросился с балюстрады 86-го этажа небоскреба «Эмпайр стейт билдинг». В октябре застрелился крупный киноактер Джиг Янг, а незадолго до него — молодой артист телевидения Фредди Принц.
Не так давно нью-йоркский еженедельник «Вил- ледж войс» в некрологе о самоубийстве известного публициста Тома Форсейда сообщил, что покойного накануне гибели охватила «острейшая душевная депрессия» из-за длительного преследования со стороны полицейских властей. 33-летний Фор- сейд был в прошлом одним из вожаков молодежного движения против войны во Вьетнаме. Затем в 70-х годах он выступал на массовых политических митингах, отважно разоблачая коррупцию и мракобесие правящих верхов. За это его подвергали арестам, сажали в тюрьму, держали под слежкой ФБР. И в довершение распустили порочащие Форсейда лживые слухи, будто он — законспирированный осведомитель полиции...
Год за годом мытарят по судам и полицейским каталажкам знаменитого негритянского актера и писателя Дика Грегори, мужественного борца против расовой дискриминации. Десять лет подряд в театрах на нью-йоркском Бродвее не давали выступать прославленной певице Эрте Китт за то, что она когда-то критиковала войну во Вьетнаме. На четверть века отлучили от американской сцены и вынудили уехать за границу блестящую актрису Марселлу Маркхэм из-за ее прогрессивных убеждений. И даже великого Поля Робсона продолжают оплевывать посмертно — о нем сочинили и разыграли на нью-йоркской сцене пасквильный водевиль.
290
Еще бесцеремоннее поступают с молодыми мятежными дарованиями. Книгоиздательство «Нью рипаблик букс* аннулировало контракт с 28-летним публицистом Даном Молде, автором документальной книжки о проникновении американских разведслужб в профсоюзы. Мало того, Молде дважды подстерегали ночью на улицах подосланные кем-то головорезы, жестоко били и угрожали вовсе прикончить.
Стоило американцу Фрэнку Снепу в 1978 году раскритиковать поименно шефов ЦРУ на страницах книги «Мгновение честности*, как главари разведки добились конфискации по суду всего гонорара, полученного автором за неугодную им книжку. Более того, вашингтонский судья Орен Льюис «посоветовал* редакторам солидных журналов «Эсквайр* и «Атлантик* отменить намеченную публикацию художественных новелл Снепа. В одной повествовалось о любви, во второй — о бытовых психологических коллизиях. Вынося приговор жертве цензурного произвола, судья патетически воскликнул:
— Если мы позволим данному субъекту печатать фривольные журнальные опусы, то ведь завтра он изловчится настрочить новую вредную книгу.
Это табу по-скандальному анекдотично, но отнюдь не уникально. Цензурная прополка американской литературы ведется постоянно и методично. Только отсев «вредных книг*, как правило, происходит не открыто — в судах, а бесшумно и закулисно — на полках муниципальных и школьных библиотек, которыми пользуются, согласно статистике, свыше половины американских читателей.
Часть библиотек штата Нью-Йорк изъяла по инструкции местных властей следующие «порочащие Америку публикации*: «Бойня номер 5* Курта Воннегута, «Посредник* Бернарда Маламуда, «Герой, оказавшийся на поверку сандвичем* Алисы Чайлдрес и «Сборник рассказов негритянских писателей* под редакцией Ленгстона Хьюза.
В штате Миннесота библиотечные инквизиторы города Иден-Вэлли (в переводе—«райская долина») предали анафеме роман Харпер Ли «Убить пе¬
11*
291
ресмешника*. В штате Западная Вирджиния местные расисты выбросили из библиотек художественные произведения негритянских литераторов Лерся Джонса и Элдриджа Кливера. На севере штата Джорджия официально запрещено иметь в библиотеках стихотворный текст пролетарской забастовочной песни «Кейси Джонс*.
В штате Северная Дакота библиотечные церберы города Дрейка подвергли запрету даже классику — Фолкнера, Хемингуэя и Стейнбека. «Подрывные* книги там демонстративно использовали на растопку печей в зимнее время.
— Позорно жечь книги! — протестует американский общественный деятель Алан Рейтмен. — Это напоминает книжные костры германских нацистов.
Пристыдить и обуздать литературных погромщиков призывает также созданная в США «Национальная коалиция против цензуры*, но ее усилия тщетны.
РАМКИ ДОЗВОЛЕННОГО
Вдали от больших городов, среди бескрайних зеленых полей штата Небраска я увидел у обочины автострады гигантскую виселицу и невольно затормозил машину: на виселице болтался труп мужчины. Запомнились его костлявая фигура в рваных грязных лохмотьях и зеленовато-бледное перекошенное лицо на свернутой набок шее в петле из толстой веревки.
Только подойдя вплотную к «мертвецу*, я рассмотрел, чертыхнувшись, что передо мною чучело- муляж, а позади расположился деревянный сарайчик — лавка сувениров так называемого «дикого Запада*. Ради привлечения покупателей и маячила у дороги рекламная виселица.
Никто не намекнул, вероятно, невежественному лавочнику, что его жутковатый скульптурный «поп- арт* крайне неэстетичен и уродует красивый ландшафт. Но ведь, по местным понятиям, всякий торгаш волен на своем участке безудержно развивать частную инициативу...
292
В Сент-Луисе миллионер по имени Хэл Вудс выставил осенью посреди площади на обозрение сограждан экспонат, символизирующий «американскую мечту»,— шикарный лимузин, облепленный снаружи 120 тысячами серебряных монет. Внутри автосалон отделан шелковистым мехом норки и оснащен радиоприемниками, двумя телефонами, телевизором и баром. Сей новейший образец «свободы творчества» называется «Автомобиль из денег*.
Ну, а для тех, у кого с деньгами не густо, на мусорной свалке в Нью-Йорке близ перекрестка 37-й улицы и 10-й авеню воздвигнут обелиск «Рог изобилия из мусора*. Это семиметровая безобразная куча отбросов: гнилые доски, обломки мебели, дырявые ведра, ржавые консервные банки, тряпье. Творец оригинального изваяния — безработный скульптор Джейсон Мартинелли — иронизирует:
— Сперва я хотел установить мою скульптуру на главной площади Рокфеллер-центра, но там мое изобретение категорически отвергли...
Вместо монумента из мусора перед Рокфеллер- центром на 53-й улице предпочли открыть экстравагантную выставку «Великие ноги Америки*. Прямо на мостовой и в холлах респектабельного Музея современного искусства расставили колоссальные целлулоидные ноги и под стать им — великанские башмаки и туфли. Спрашивается: зачем?
Тем временем центральная площадь Чикаго украсилась 30-метровой стальной колонной, изображающей колоссальную бейсбольную биту. Это обошлось муниципалитету в 100 тысяч долларов. А на вашингтонской площади Хиршборн торжественно выставили 15-метровую горбатую конструкцию из рельсов и железных балок. На вашингтонского монстра израсходовали «всего» 85 тысяч долларов, объясняя столь щедрую дань безвкусице пресловутой «свободой творчества».
Увы, свобода скульптора и художника на деле ограничена в США теми же политическими рамками, которые стесняют творчество писателей, драматургов, артистов. Последний тому пример — недавний конфликт в штате Огайо между администрацией Кентского университета и выдающимся скульптором Джорджем Сигалом. Он создал брон¬
293
зовый памятник студентам, которых в 1970 году расстреляли национальные гвардейцы при подавлении антивоенной молодежной манифестации. Памятник получил высокую оценку знатоков-искус- ствоведов, но вызвал гнев университетского начальства, ибо скульптура слишком правдиво отображала незабываемую трагедию. Представитель дирекции университета Роберт Маккой напрямик заявил:
— В нашем университете еще тлеют угли бунтарства. Поэтому мы очень стараемся ничем не подрывать атмосферу благополучия.
От Сигала потребовали, чтобы он сделал другой памятник по эскизу университетских заказчиков и под их надзором. Скульптор отказался.
КТО КОНТРОЛИРУЕТ ТВОРЧЕСТВО
Есть в Нью-Йорке на 8-й авеню неказистое, обшарпанное строение, превращенное в автогараж. На его фасаде разрешается расклеивать одобренные муниципалитетом тематические подборки интересных фотографий. В ноябре Деннис Адамс выставил тут десять снимков об уголовных похождениях небезызвестной Патти Херст, дочери газетного короля и бывшей поклонницы терроризма. Но провисели эти снимки менее суток: нью-йоркский представитель « Херст корпорейшн» потребовал от городских властей убрать их с глаз долой. Что и выполнили мгновенно.
Эпизод, казалось бы, незначительный, но довольно показательный. Тем более что по желанию папаши Патти за нее, как ни странно, громогласно вступились некоторые влиятельные деятели американского искусства. Что же их стимулировало? Наверняка не обошлось без негласного давления подручных Херста из газет, журналов и книгоиздательств.
Большой бизнес царит в мире американского искусства. Одно из нью-йоркских книгоиздательств— собственность нефтяного треста «Галф». Финансовый контроль над телефирмой Эй-би-си захвачен нефтяными баронами 4 Мобил ойл» и «Эме-
204
рада Хесс». Телевизионная компания Си-би-эс — личная вотчина миллиардера Уильяма Пейли, который управляет также сетью радиостанций, книгоиздательств, кинофирм, студий грамзаписи. А хозяева казино и отелей Лас-Вегаса подчинили себе голливудскую компанию « Метро-Гол двин-Мейер». Короче говоря, кормчий американского искусства — сверхконцентрированный капитал. Он-то и прокладывает магистральный идеологический курс.
Следуя этому курсу, нью-йоркский литератор Джек Друммонд возмечтал прошлым летом быстро достичь наивысшего успеха. До того 55-летний Друммонд перебивался кое-как сочинением халтурных * карманных» детективов. Его бесталанный романчик «Убийца за штурвалом авиаинструктора» потонул сразу же в пучине макулатуры. Следующее по счету сочинение—«Убийство на Медисон- сквер» — оказалось настолько убогим, что его отвергли «на корню». Тогда Друммонд записал в своем дневнике:
«Мой книгоиздатель говорит, что распродажа трафаретной криминалистической беллетристики переживает спад из-за экранизации аналогичной продукции на телевидении. Он утверждает, что отныне описание преступления волнует читателя лишь в том случае, если автор сам преступник. Издатель мне сказал, что вовсю раскупают «Исповедь «сына Сэма».
«Сын Сэма» — кличка арестованного в Нью-Йорке полтора года назад убийцы-маньяка, который охотился по ночам за беззащитными горожанами и прикончил шестерых, а семерых искалечил. Описание его похождений, составленное от лица преступника, стало в Соединенных Штатах бестселлером.
«Итак, моя третья коронная книга не будет художественным вымыслом,— писал Друммонд в дневнике. — Мне остается проверить гипотезу: можно ли по-настоящему мастерски обрисовать преступление, коли его совершишь?»
И ободренный издателем новоявленный потрошитель банковских сейфов отбыл из Нью-Йорка в столицу Огайо — город Колумбус. Там в гостинице он снова взялся за дневник:
295
« Все спланировано. Надену для маскировки парик и заряжу пистолет. Моя книга выйдет под заголовком «Грабитель банков», но если я завтра умру, то не появится даже первой главы. Доживу ли я хоть до завтрашнего вечера?»
На следующее утро он за шесть кварталов до намеченного банка стал дрожащими руками натягивать парик и тут же привлек внимание постового полицейского. Тот пошел за Друммондом по пятам и вызвал по радио еще троих блюстителей закона. Они окружили Друммонда и приказали ему поднять руки. Он в смятении уронил пистолет и, едва нагнулся за оружием, был изрешечен пулями и умер на месте. Через несколько дней дочери Друммонда, живущей в Нью-Йорке, отправили труп отца, его предсмертный дневник и простреленный билет на посещение нью-йоркской городской библиотеки.
Лаконичные газетные сообщения о кончине неудачника обошли молчанием роковую роль подтолкнувшего его к гибели книгоиздателя. Таких подстрекателей здесь не разоблачают. Они преспокойно и доходно вершат свой бизнес,
Нью-Йорк
М. Озеров
СУДЬБА КЛАУСА ДИЛЯ
Кто виновен в смерти Клауса Диля? Свобода для неонацистов в ФРГ. «Черные ангелы» Гамбурга действуют. Шесть обвинительных пунктов против учителя рисования из Кельна.
Каждая прогулка по Кельну — путешествие по извилистым путям немецкой истории. В центре города — арка. Камни сточены, слизаны временем. Но если хорошо присмотреться, можно различить латинские буквы.
Римляне стояли у колыбели города незадолго до наступления нашей эры.
В 1200 году вокруг Кельна возвели стену — самое мощное укрепление в тогдашней Европе. Кельн XIII века был куда больше Парижа и Лондона!
Сейчас он тоже не мал, особенно по западноевропейским масштабам — миллион триста тысяч жителей, третий в ФРГ после Мюнхена и Гамбурга. А если прибавить туристов (их в год приезжает два миллиона) и посетителей всевозможных выставок, то цифра окажется весьма впечатляющей.
Чем же город привлекает гостей?
Кого — богатой культурой, там превосходный оперный театр, почти тридцать картинных галерей, восемь музеев.
Кого — возможностью купить что душе угодно. В городе изготовляют и продают автомобили, станки, точные приборы, прекрасную косметику и духи (по всей Европе неоновые саженные циф-
© «Дружба народов», 1979, № 9.
297
ры рекламируют « кельнскую воду»—одеколон № 4811).
Кого — своеобразным колоритом. Он выражается в обычаях, диалекте, складе жизни, у самих горожан процветает лозунг: «Kolsch arbeiten, kolsch leben» (4по-кельнски работать, по-кельнски жить»).
Кроме всего прочего, в Кельне — университет, резиденция епископа, один из крупнейших аэропортов Запада...
Но главное, что никого не оставляет равнодушным,— собор. По сравнению с ним все вокруг: от Дома Диониса с мозаикой, созданной две тысячи лет тому назад, до шедевра современной архитектуры — стальной стрелы моста через Рейн, кажется бренным, незначительным.
Он — огромный, немного сумрачный — господствует над городом.
Толпы туристов штурмуют двери собора, запечатлевают его на пленку, записывают высоту, количество фресок...
Этот мужчина никуда не спешил, ничего не штурмовал. Он сидел на раскладном стуле. На груди висела картонная табличка, на которой черным фломастером было выведено: «За одну минуту я сделаю ваш портрет. Цена всего 8 марок». Возле него лежали холсты, кисти, краски. А в руке он держал кружку — массивную, несколько аляповато разрисованную.
Я остановился. Что поразило меня? Выражение лица. Вернее, глаза. Они смотрели в никуда и были совершенно пустыми, будто незрячими.
Я достал фотоаппарат. Но тут меня позвали: билеты куплены, надо идти в собор. «Потом сниму»,— подумал я.
Разве могло мне прийти в голову, что это окажется невозможным?!
Я поднимался и поднимался по крутым каменным ступеням, которым не было конца. Пятьсот девять ступенек, пятьсот девять поворотов на каменном штопоре! А потом еще полторы сотни ступеней железной лестницы.
Однако, добравшись до верха, я сразу забыл о тяготах восхождения. С высоты ста метров Кельн
298
виден как на ладони. Величественно струятся внизу воды Рейна, они блестят под лучами солнца.
Рядом кто-то читал вслух Гейне:
В волнах прекрасных Рейна,
Как в зеркале, видит взор Венец чудесный Кельна,
Великий дивный собор.
Слева на собор нацелен мост Гогенцоллернов, чуть правее — пузатая крыша Центрального вокзала. Дальше островерхие дома, словно перенесенные из средневековья (впрочем, эту часть города действительно реставрировали), путаница расползающихся железнодорожных путей, кирпичный массив Кельнской торговой выставки, небоскреб «Люфт- ханзы».
Наглядевшись на все это, я стал спускаться. Остановился возле двадцатичетырехкилограммового «Петера» — самого большого из действующих в мире колоколов. Потом любовался витражами и фресками, задавал вопросы служителю в красной сутане (оказывается, строительство здания началось в 1248 г., затем было приостановлено на целых 632 года, в XIX в. продолжено и, наконец, в 18&0 г. завершено), покупал проспекты о соборе. В самом низу снова восхищенно осмотрелся по сторонам. Есть музыка звуков. Есть музыка красок. А это — музыка линий. Ее нельзя не услышать!
«Писателю всеми средствами стремят- ся внушить отвращение к политическим и социальным проблемам, ограничить его внимание дотошным изучением чисто технических приемов письма, их совершенствованием.
И раньше интерес литератора к действительности наталкивался на крепостную стену эстетизма, теоретики которого, разумеется, не признавались, что в конечном счете их цель — отвлечь писателя от политики».
Роже Бордье (Франция)
299
В общем, когда я вышел на площадь, то напрочь забыл о нищем художнике.
Однако тут же вспомнил.
Пронзительный вой сирены. К собору на бешеной скорости подлетела «скорая». Два других санитарных автомобиля уже были здесь. И полицейские машины.
На носилках лежало безжизненное тело. Полицейские поднимали с земли краски, кисти, массивную пивную кружку — в ней звенели металлические монеты.
После того как машины уехали, а любопытные разошлись, я заметил картонную табличку — в суматохе ее отбросили в сторону. С тех пор она хранится у меня.
Кто скончался на площади? Об этом я спросил знакомых журналистов. Они обещали выяснить. И на следующее утро сообщили: Клаус Диль, по профессии художник, умер от разрыва сердца, жену зовут Эмма.
Звоню жене, теперь уже вдове Диля. После каждой фразы она делает длинную паузу, видно, ей трудно говорить: «Завтра похороны. А через два дня я могу с вами встретиться. Вы будете в Бонне? Приеду туда, от Кельна всего час езды».
Вдруг ее голос срывается, она с надрывом бросает: «Я, я виновата во всем!» — ив трубке раздаются короткие гудки...
Эмма пришла в гостиницу точно в пять вечера. Стройная, темноволосая, с правильными чертами лица, она выглядела бы гораздо моложе, если бы не морщины, не опухшие веки.
Рассказ этой женщины потряс меня.
Когда они поженились, ей было восемнадцать, Клаусу на шесть лет больше. Эмма гордилась мужем: такой сильный, красивый! И талантливый. Он окончил Академию художеств, его картины вызывали восхищение друзей, знакомых. Да что там знакомых,— уже и пресса упоминала о Диле — молодом мастере пейзажа.
Утром в жучке «фольксвагена» они отправлялись за город. То в лес, то на реку, то в поле. Клаус рисовал, а Эмма расстилала на земле скатерть и ждала, когда муж проголодается.
зоо
Однажды Клаусу позвонили по телефону, и он уехал. Вернулся мрачнее тучи. Двух его товарищей — студентов арестовали. Они стали требовать повышения стипендий, организовали у входа в университет пикеты и в результате угодили за решетку.
— Я добьюсь их освобождения,— горячился Клаус.
— Каким образом? Возьмешься за автомат?
— Нет, за кисть.
В серии карикатур он высмеял администрацию университета. И хотя освобождения студентов это не ускорило, с того дня Клаус принялся самозабвенно трудиться над политическими плакатами, карикатурами.
Шли месяцы. Многие в ФРГ уже считали Диля своим художником. В то же время «большая пресса» и ведущие издательства забыли о нем. Семья стала залезать в долги.
Как-то Эмма не выдержала:
— Может быть, ты начнешь зарабатывать?! Нам надо кормить двух сыновей!
Теперь она с горечью произносит:
— Не могу простить себе этих слов.
Уже второй час, как мы покинули гостиницу («Давайте погуляем, вы заодно посмотрите город»,— предложила Эмма) и бродим по вечернему Бонну. Я совершаю мысленный прыжок почти от Гринвича к экватору. Коломбо, семьдесят первый год. Я оказался там в разгар комендантского часа, введенного после антиправительственного мятежа. На улицах ланкийской столицы по вечерам ни души, лишь полицейские. Машину, в которой мы едем, останавливают, всем велят выйти и долго обыскивают в поисках мин, бомб и прочих взрывающихся штуковин...
Сейчас нас никто не обыскивает. Но прохожие почти так же редки. И тоже полно полицейских и военных, особенно «на колесах». Мимо движется колонна бронетранспортеров. Спасаясь от грохота, сворачиваем в парк. А за кустами... Да, опять бронетранспортер! Он неподвижен и для маскировки прикрыт листьями. Появись в парке террористы, их бы ждал неприятный сюрприз.
302
Террористы. Именно против них, расплодившихся в ФРГ, брошены полицейские, солдаты, бронетранспортеры. Потому и на улицах пустынно — ни у кого, вполне естественно, нет желания быть похищенным, а то и отправленным в мир иной.
Впрочем, с одним запоздалым прохожим мы имели счастье познакомиться. Он появился, когда мы с Эммой сидели на скамейке, и, еле ворочая языком, забормотал нечто вроде: «Чего расселись?* Ответить не успели — подошли полицейские:
— Этот пьяница вам угрожал?
Заверяем, что все в порядке, и они скрываются в темноте.
— С террористами у нас борются,— замечает Эмма. — А на другие беды, к сожалению, внимания не обращают.
Она имела в виду Клауса. Два года назад он не стал спорить с женой и устроился на работу. Нет, не художником — репутация была слишком подмочена, а учителем рисования. Правда, школа находилась далеко — километрах в семидесяти от Кельна, в маленькой деревне, но зато он стал зарабатывать!
Преподавал Клаус месяцев шесть. Затем ему вручили приказ об увольнении, в котором было шесть обвинительных пунктов. В такой-то день, такой-то час Диль якобы распространял коммунистическую газету, в такой-то участвовал в антифашистской демонстрации... Он без труда доказал лживость всех обвинений: в тот день ходил в кино, в другой — к друзьям. Но поскольку истинной причиной увольнения были левые взгляды Клауса — директор школы, спохватившись, решил избавиться от «смутьяна»,— то никто и не подумал отменить приказ.
Дальше Эмма не смогла рассказывать, она, как во время нашего телефонного разговора, стала повторять, захлебываясь слезами: «Я, я виновата в его гибели». Договорились, что через неделю-полто- ры мы созвонимся.
«Везде воспоминания, везде легенды»,— писал А. И. Герцен о Кельне. Для меня самым сильным воспоминанием о городе, который любил Герцен, стал нищий художник; подумаю о Кельне — и пе-
зоз
ред глазами встает Клаус, держащий в руке кружку. Эмма показала фотографии (вот он у своей новой картины, вот их свадьба...), и иногда мне казалось, что мы познакомились задолго до того трагического дня.
Ассоциации с Клаусом вызывало многое из того, с чем я сталкивался на берегах Рейна.
В Гамбурге у меня были две особенно запомнившиеся встречи.
Еще до приезда в Гамбург я знал: там в пивной «Zum Egerlander» регулярно собираются неофашисты. Точнее, члены «фронта действия национал-социалистов». Пивная — штаб-квартира штурмовиков, а обслуживающий посетителей бармен — один из лидеров «фронта».
Знал я и координаты пивной, она находится, по немецкому выражению, на расстоянии броска камня от вокзала.
И вот вместе с коллегой — советским журналистом «прочесываем» улицы и переулки возле вокзала. Прохожие пожимают плечами: не слышали. Наконец, в начале Шпатендайх-штрассе, на доме № 4 замечаем вывеску «Zum Egerlander».
Играет музыка. За стойкой — рыжеволосый детина, лет тридцати, с окладистой бородой. Тот самый бармен!
Он подходит к нашему столику. Предлагаем выпить. Охотно соглашается («клиентов пока мало, почему бы не пропустить пару кружек?») и называет себя: Курт Матуше.
У нас явное преимущество: мы знаем, кто этот верзила, он же, скорее всего, принимает нас за праздношатающихся туристов.
После четвертой или пятой кружки пива Курт начинает откровенничать:
— Паршиво мы живем. А все потому, что нет порядка.
— Ты мог бы его навести?
Он самодовольно усмехается:
— Неужели нет?! Вот сорок лет назад все было о’кэй.
— Ты имеешь в виду Гитлера?
— Его самого. Железный был человек.
— Значит, по-твоему, о’кэй — это концлагеря,
304
убийство в них миллионов людей, погромы, войны, наконец?
Матуше отвечает снисходительно, будто разговаривает с нерадивыми учениками:
— Ну и ералаш у тебя в голове. Откуда ты взял убийства миллионов? В лагерях казнили лишь преступников. Их и сейчас кое-где казнят, верно? А тогда, между прочим, было военное время. Наша организация провела проверку. И выяснила: во много раз завышены цифры убитых. Убитых и в лагерях, и на войне.
Тезис не оригинальный, подобные сведения о жертвах фашизма давно дают «коричневые» всех мастей, причем не только в ФРГ, но и в США, и в Англии, и в Италии.
В тот день, когда мы встретились с Куртом, вышел очередной номер западногерманского фашистского листка «Дойче националь-цайтунг». Аршинными буквами выведено: «Убил ли Гитлер 6 миллионов евреев?» В пространной статье — категорический ответ: ничего подобного, Освенцим — большой обман, происки красных, так же как и 20 миллионов погибших советских людей.
Самостоятельностью и новизной мысли Курта не отличались, однако они помогали приоткрыть завесу над деятельностью «фронта».
— Ты сказал: «Наша организация». Что ты имел в виду?
Бармену льстило внимание к его персоне, и он принялся вводить нас в курс дела. Правда, оговорился: назвать организацию не имеет права, она находится в подполье. Создана недавно, но уже стала первой среди правых группировок Гамбурга. Главный враг — коммунисты. Стоит коммунистам устроить демонстрацию, и Курт с «боевыми товарищами» тоже выходят на улицу. Выходят, вооруженные ножами, палками, кастетами. И незамедлительно пускают их в ход.
— У нас крепкие ребята. Вроде меня. — Бармен щеголяет бицепсами. — Мы еще покажем себя.
Они показали себя в Берген-Бельзене. Там, в концентрационном лагере, за два последних года войны погибло пятьдесят тысяч человек. Среди них Анна Франк. Двадцать пять месяцев скрывалась ее
805
семья от фашистов в Амстердаме, пока их не предали. И все это время девочка вела дневник, который теперь знают повсюду. Последняя запись в нем помечена 1 августа 1944 года. А 4 августа на чердак ворвались гитлеровцы. Анне было тогда пятнадцать лет. Но ее детский голос оказался сильнее смерти, он живет по сей день...
Молча склонив головы, идем мы мимо могил в Берген-Бельзене. И вдруг останавливаемся как вкопанные.
По плите наискось: «Так им и надо!» А в углу — свастика. На следующем надгробии намалевано то же самое. И на том, что подальше.
Минувшей ночью здесь побывали национал-социалисты «фронта».
Вскоре я прочитал в газетах, что они пытались взорвать мемориал жертвам фашизма.
Наци из Гамбурга нападают на антифашистов, распространяют брошюры, в том числе в виршах:
В Освенциме веселье опять,
Мы скоро будем печи заполнять.
Их любимая песня начинается фразой: «Кожу с головы — на абажур».
Прозаические «произведения» о том же: «Прекрасно, что люди еще помнят о концентрационных лагерях. Мы превратим их воспоминания в действительность».
А Матуше продолжал разглагольствовать:
— У нас много денег. Мы ни в чем не нуждаемся. Нас поддерживают очень солидные господа. А вам известно о наших планах? Мы нацеливаемся на следующие парламентские выборы.
Наклонившись к нам, Курт прошептал:
— Но это не все. Мы готовим одну операцию. Она станет великим событием.
— Что же вы сделаете?
— Ну уж этого я не могу сказать, я и без того сегодня слишком много болтаю.
Однако мы поняли, на что он намекал. Незадолго до нашей встречи появились сообщения об аресте активистов «фронта». Они напали на учебный полигон НАТО и похитили винтовки, пулеметы. Оружие предназначалось для операции по освобож¬
306
дению из западноберлинской тюрьмы Шпандау Рудольфа Гесса, ближайшего соратника Гитлера, приговоренного на Нюрнбергском процессе к пожизненному заключению. У другого члена «фронта* нашли шестьсот граммов цианистого калия. На допросе он признался, что стащил яд в надежде отравить охрану тюрьмы Шпандау. Заплатил штраф и отделался легким испугом.
У «черных ангелов* из Гамбурга есть опыт в освобождении военных преступников. Они организовали побег Каплера из итальянской тюрьмы и несли затем круглосуточную вахту у дома, где скрывался гитлеровский палач,— как бы того не обидели!
Идеи Курта, конечно, плод не его собственного воображения. Он посещает гамбургский кинотеатр «Фильм-театр II*, где демонстрируются профашистские фильмы. Демонстрируются открыто и регулярно: по воскресеньям в десять тридцать утра. Курта, да и любого желающего ждут в киосках свежие номера «Дойче националь-цайтунг» и «Дойче вохен-цайтунг*, «Дас III райх* и «Ландзерн* — бери, что хочешь, в ФРГ издается сто с лишним неонацистских газет и журналов с еженедельным тиражом 180 тысяч экземпляров! Он может купить пластинки с речами Гитлера или Геббельса, приобрести на рынке в Мюнхене по вполне доступной цене фашистские реликвии — ордена и оружие, прокатиться на корабле, носящем имя военного преступника...
На Рейне мне не раз говорили, будто в Советском Союзе преувеличивают опасность фашизма, а на самом деле сейчас в ФРГ все не так, как было в довоенной Германии.
Да, сейчас не так. Тем не менее мы убеждены: в стране, породившей гитлеризм, должны быть устранены все возможности рецидива, в Федеративной Республике не должно быть ни одного неонациста.
В этом убеждено и большинство западных немцев. В том числе жители Гамбурга. Сердце города бьется не в Санкт-Паули, а в рабочих кварталах, в порту. И знаменит Гамбург прежде всего тем, что он — один из давних центров рабочего движения...
307
Вторая встреча произошла в «Штерне». Здание этого журнала в Гамбурге выглядит внушительно. Оно не разочаровывает и при ближайшем знакомстве. Крутящийся пол в виде щетки перед входом, хочешь не хочешь, приводит твою обувь в «божеский вид». Чинные служители в отутюженной зеленой униформе, ни о чем не спрашивая гостя, приглашают его проследовать в апартаменты, где назначена встреча. Там все сияет чистотой.
Что ж, «Штерн* — один из самых влиятельных печатных органов в мире. Каждый пятый житель Федеративной Республики и миллионы людей в других странах регулярно читают его.
Генри Наннен, в конце 40-х годов основавший журнал и с того времени его главный редактор, следующим образом объясняет причину успеха:
— Наши публикации всегда правдивы, оперативны и основаны на первоисточнике.
Да, в «Штерне» нередко находишь оперативные, интересно и ярко написанные статьи. Подчас его корреспондентам принадлежит и роль первооткрывателя. Так, в Нью-Йорке сотрудница журнала первой обнаружила любительский фильм, запечатлевший убийство Джона Кеннеди. Тем не менее полностью согласиться со словами главного редактора нельзя. Особенно в отношении «всегда правдивых публикаций».
Я рассказал, что читал в «Штерне* пространную статью об Ольстере. В ней воспевалась «сердечная дружба* северных ирландцев и британских солдат. Цветные фотографии запечатлели объятия, поцелуи, улыбки.
Я работал тогда в Лондоне и не забыл резонанс, который вызвала эта статья. «С каких пор северные ирландцы братаются с оккупационной армией?!» — возмущалась в письме в «Таймс» миссис Казенс из Блэкпула. И делала вывод, что «Штерн» политически тенденциозен.
Я поинтересовался, что думают руководители редакции об этом обвинении. И добавил: нередко корреспонденции «Штерна» о социалистических государствах тоже весьма односторонни. Вообще, не живет ли подчас пресса ФРГ настроениями даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня?
зов
Джинн был выпущен из бутылки. Собеседники, перебивая друг друга, принялись доказывать, что с их стороны никакой тенденциозности и необъективности нет, да и быть не может, просто основное, чего они добиваются,— защиты и уважения прав человека на Востоке.
Ох уж эта «забота»! Ее проявляли во время наших встреч и депутаты бундестага, и газетчики из «Кельнер штадт-анцайгер», и сотрудники сберкассы в Бремене (там разговор о финансовых проблемах завершился теми же «правами»).
Ладно, служащий сберкассы может не знать истинного положения дел. Но сотрудникам «Штерна» все карты в руки. Чего стоит хотя бы их превосходная, самая большая в Западной Европе справочная служба: нажимаешь кнопку, и на экране телевизора появляется любая статья, опубликованная в центральной прессе почти ста государств!
Но и они не в курсе дела. А точнее, не желают быть'в курсе дела. Тщательно собирают огромное досье на какого-нибудь «диссидента» в нашей стране и потом принимаются сочинять о нем пространные, с продолжением и обязательно с фотографиями статьи, очерки, репортажи — и начисто забывают, к примеру, о трагической судьбе Клауса Диля.
Между тем картины Диля известны в Федеративной республике. В том числе в деревне Фишер- худе. Там висит его плакат: чилийские палачи истязают патриотов.
...Несколько скромных деревенских домиков. Возле них — лопаты, грабли, колеса от повозок* Неужели это и есть издательство?
— Оно самое! — отвечает мужчина в кожаной куртке, который встречает гостей. Это Вольф Дит- мар Шток, директор издательства.
— Деревня Фишерхуде,— рассказывает он,— с давних пор славилась живописцами. У меня была здесь мастерская. Но художники жили впроголодь,— рисовали в реалистической манере, а это было не в почете. Мы решили объединить усилия и переоборудовали мастерскую в издательство.
— Почему вы не перебираетесь в город?
— То, что мы делаем, предназначено для простых людей, поэтому и живем «в глубинке». Кроме
309
того, природа помогает нам, вдохновляет. За три года объем нашей работы увеличился раз в пятнадцать. Мы теперь участвуем и в Московской книжной ярмарке.
Издательство необычно не только своим внешним видом и названием «Ателье им Бауернхауз» («Ателье в крестьянском доме»). По нашим меркам, это некий симбиоз Дома культуры, филармонии, филиала общества «Знание» и еще десятка учреждений. Выпускает, помимо книг, пластинки и открытки, проводит выставки живописи, организует лекции, дискуссии, музыкальные вечера.
Шток знакомит нас с сотрудниками, с женой — она тоже тут трудится. Беседуем на лужайке. Рядом пасутся коровы, бродят лошади. Поют птицы, стрекочут кузнечики. Идиллия? На первый взгляд. Тишина и покой весьма обманчивы.
...Три солидных господина пришли к Штоку вечером.
Начали не спеша, с подчеркнутой вежливостью:
— Нам стало известно, господин Шток, что вы намереваетесь провести выставку картин. И будто бы тема ее— «запреты на профессии».
— Совершенно верно.
— Мы бы не советовали вам этого делать. Подобная выставка может отрицательно сказаться на репутации Фишерхуде.
Долго продолжался разговор. Гости вначале убеждали, потом принялись угрожать. Но Шток стоял на своем.
— Что было дальше? — переспрашивает он. — Ничего хорошего. Местные власти, а в Фишерхуде это христианско-демократический союз, стали запугивать, шантажировать. И кое-кто из художников не решился выставлять картины. Далеко не все приглашенные присутствовали на открытии выставки.
Тем не менее она состоялась. И хотя Шток нажил себе могущественных врагов, в деревню каждый день приезжали люди, чтобы посмотреть картины.
Выставка убедила Штока: надо еще энергичнее добиваться своего. И издательство выпустило книгу «Беруфсфербот» («Запрет на профессию»).
310
На первых страницах — история. Труды И.-Г. Фихте вызвали гнев сильных мира сего, и в 1799 году философу предложили расстаться с местом профессора Йенского университета. Г.-Э. Лессинга не пропустили на должность библиотекаря в Берлине. Братья Гримм раскритиковали конституцию, принятую королем, и их немедленно убрали с государственной службы.
Однако даже при монархии подобных случаев было куда меньше, чем в сегодняшней ФРГ.
Листаю книгу. Загадка: «Что общего между Томасом Манном, Рихардом Вагнером, Бертольтом Брехтом, Пабло Пикассо, Генрихом Бёллем?» Ответ: «В Западной Германии их не взяли бы работать учителем».
Рядом карикатура. Мужчина стоит у стола. Клерк, изучающий его досье: «Что я вижу?! 27 марта 1972 года около 9.30 вечера вы беседовали с человеком, шурин которого имеет отца, у которого друг был когда-то коммунистом. И вы хотите работать на государственной службе?!»
Стихотворение Альфреда Анд ерша «Статья 3»:
С государственной службы радикалов изгоняют.
Общество вновь на сторожей и тех, кого сторожат, разделяют.
«Беруфсфербот», пишет Анд ерш, похож на принятый в 1933 году в Германии закон, запрещающий «неарийцам» занимать общественные посты.
Распространяется запах —
Запах машины,
Производящей газ.
О нацистских порядках Андершу не забыть. После прихода гитлеровцев к власти его бросили в Дахау. Ненавистью к фашизму дышат его романы— «Вишни свободы», «Занзибар, или Последняя причина», «Эфраим», рассказы, радиопьесы, статьи.
Миллионы жителей ФРГ одобрили стихотворение. Лагерь же противников ответил массированным огнем. «Франкфуртер альгемайне» опублико¬
311
вала оскорбительный фельетон. На телевидении запретили чтение стихотворения. А автора нарекли «врагом Германии» и «симпатизантом».
Симпатизант? Это словечко появилось сравнительно недавно.
Жители ФРГ устали от разгула насилия, от того, что в «стране порядка», как прежде называли Западную Германию, воцарилась напряженная нервная обстановка, что города под стать осажденным крепостям (заграждения из колючей проволоки вокруг государственных учреждений, баррикады из мешков перед частными виллами, патрули с овчарками). Потому с «крамольными» писателями, артистами, художниками стали бороться следующим образом: их обвиняли... в пособничестве террористам и причисляли к категории «симпати- зантов». Под этим предлогом сняли с программ телевидения разоблачительный фильм Гюнтера Вальрафа, изъяли из репертуарного плана театра в Вюрцбурге пьесу Генриха Бёлля, устроили погром на выставке политического плаката Клауса Штека...
Стихи и рассказы, статьи и репортажи, выдержки из официальных документов и рисунки... Справедливо мнение газеты «Тат»: «По своей глубине и широте охвата сборник является единственным в своем роде историческим документом об этой порочной главе западногерманской истории».
Добавлю: той самой главе, в которую вошла жизнь Клауса Диля,— ведь он был уволен именно на основании «беруфсфербота» — и еще четырех с лишним тысяч жителей ФРГ.
Рассматриваю книги, выпущенные издательством. Вот сборник политических стихотворений Петера Шютта «Для кого? Для нас!». Для кого нужен мир? — спрашивает Шютт. И отвечает: для всех нас. Стихотворение «Нет места»: в церкви на родине поэта висят четыре мемориальные доски, на них — имена тех, кто не вернулся с войны за последние два столетия.
Для новых погибших в церкви святого Тринитатиса нет больше места.
312
На подходе — новые книги. О них рассказал Шток во время нашей следующей встречи. Нет, не в Фишерхуде — в московской гостинице «Украина».
Директор был в той же кожаной куртке, в тех же вельветовых брюках. Но держался по-другому — все время поглядывал на часы, говорил быстро. В Фишерхуде особенно спешить было некуда, а тут каждая секунда на счету: надо побывать в Министерстве культуры, потом в ВААПе, забежать в книжные магазины — на улицу Горького в ♦Дружбу» и в тот, что на проспекте Калинина, он был там вчера вечером, но вдруг еще что-нибудь появилось?
Для чего приехал в Москву? Издательство готовит к выпуску книгу репродукций Генриха Фогеле- ра, создателя школы книжной иллюстрации в Германии. Последние годы жизни художник-антифашист провел в Советском Союзе, и Шток намерен объездить музеи, где хранятся его работы.
Выходит также сборник материалов об американских военных базах в ФРГ. Тогда в Фишерхуде Шток показал нам слайды, на них — веселые зеленые лужайки, густой лес.
— Так было раньше, а что там теперь — пошли посмотрим,— предложил он.
«В нашей части света, насколько я могу наблюдать, писатели испытывают постоянное давление, заставляющее их продавать себя индустрии культуры. Это открывает им путь к успеху до тех пор, пока не наступит их смерть как художника. В течение последних лет эта индустрия сумела заглушить протест, превратить Кассандру в нужный ей опереточный персонаж и стерилизовать мечты и пророчества, чтобы сделать их безвредными. Каждому талантливому писателю грозит опасность попасть в эти губительные объятия, и лишь лучшие из них остаются чистыми».
Дани де Ланге (Голландия)
313
Пройдя по л километра, мы увидели обнесенную колючей проволокой казарму, она «заменила» веселую лужайку. А огромный котлован выкопали там, где был лес.
Подходим к шлагбауму. Над ним — грозная надпись: «Проход запрещен — военная база. Министр обороны».
— Здесь намечено разместить пять тысяч американских солдат и пять тысяч обслуживающего персонала,— сообщил Шток. — Строительство базы идет полным ходом. Но убежден: мы остановим его.
Более пятидесяти тысяч жителей района, где строится база, подписали петицию протеста. Митинги, требующие вывода американских солдат с территории ФРГ, прошли в стране и за рубежом. И «Ателье им Бауернхауз» пропагандирует эту кампанию.
В ней хотел участвовать и художник Клаус Диль. Он собирался нарисовать серию плакатов на эту тему. Но не нарисовал.
— Почему? — задумчиво повторяет мои вопросы Эмма. — Попробую объяснить. Если смогу.
За десять дней, что мы не встречались, Эмма еще сильнее осунулась, похудела, у нее появилось немало седых волос. Время от времени она, стараясь сделать это незаметно, глотала какие-то, наверное успокаивающие, таблетки. Паузы между фразами стали еще длиннее.
— Клаус обронил однажды, это было еще до нашей свадьбы: «Если я расстанусь с кистью, значит, я умер». Но после того как его уволили из школы, он не брался за кисть.
— А вы пытались разубедить его, помочь ему?
— Конечно. Но он все повторял: «Зачем мне что-то рисовать, если мои прежние картины, да и я сам никому не нужны?» Действительно, никому до нас не было дела. Все, к кому обращался Клаус, разводили руками: помочь не можем. На другую работу тоже не брали. Картин не выставляли.
Произведения талантливого художника не видят света, его семью обрекают на нищету, а бездар¬
314
ный недоучка с кастетом в руках из гамбургского «фронта» получает кругленькие суммы за свои фашистские идеи, его приветствуют, чествуют!..
Однажды Эмма нашла под подушкой у мужа газетные вырезки.
В одной из них шла речь о Мюллере, рабочем из Бремена. Его уволили с завода. Каждое утро ровно в шесть — как и прежде — Мюллер вставал, одевался и выходил на улицу. Но шел не на свой завод, а на другие — искал работу. Когда повсюду услышал «нет», отправился на берег реки Везер и утопился.
Подробное описание того, как Мюллер совершил самоубийство, как привязал к бедру двадцатикилограммовый камень, скрутил себе жгутом руки, было подчеркнуто карандашом.
— Я поняла, о чем думал Клаус.
— И что вы сделали?
— Что я могла сделать? Положила заметку обратно под подушку, будто не читала ее. Спустя недели две Клаус был уже окончательно сломлен, совсем пал духом. Вскоре у нас не осталось ни пфеннига. Тогда я снова, во второй раз за эти годы, сказала Клаусу: «Так дальше продолжаться не может». Он опять не стал возражать. Молча взял кисти, краски и ушел. Ушел к собору собирать милостыню. Он был гордый. А тут Диль — нищий! И сердце его не выдержало.
Эмма пригубила вино и долго молчала, постукивая ногтем по бокалу. Наконец, произнесла:
— Вы, наверное, напишете о Клаусе. Что ж, пишите. Но прошу: измените наши имена. Не хочу, чтобы все знали, что я — убийца своего мужа.
— Разве вы убийца! — воскликнул я. — На днях я прочитал об исследовании ваших кельнских социологов. Они установили, что среди людей, оставшихся «не у дел», смертность в два раза выше, чем у тех, кто работает. И тяжело болеют безработные в два раза чаще. Выбросьте из головы всякие глупости!
— Не надо меня утешать,— перебила Эмма. Она встала и быстро простилась.
С тех пор я ее не видел. Но часто думаю о красивой, рано поседевшей женщине в темном платье,
315
спешащей к выходу из кафе. Может быть, тогда я не то говорил, не так, как надо, успокаивал?
Возможно, сама Эмма в трудное для семьи время вела себя отнюдь не идеально. Тем не менее я был тогда искренне убежден в правильности того, что сказал ей. Убежден и сейчас.
Достаю из ящика стола картонную табличку, которую нашел у собора. В том же ящике — кипа фотографий, сделанных мною у гамбургской пивной и внутри нее. Вряд ли все это пригодится западногерманской полиции. Ведь это улики против общества, которое полицейские рьяно защищают.
Кельн — Гамбург — Москва
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Одна из шпионских серий, издающихся во Франции.
2. Герой американских комиксов, «супермен».
3. Дж. Сегал. «Таймс-сквер*. 1970. Гипс, дерево, пластик, лампы накаливания и люминесцентные лампы.
4. Кадр из фильма ужасов «Доктор Джекиль и мистер Хайд*.
5. Представители панкультуры. Рок-группа « Секс-писто л с *.
6. Поп-арт. К. Олденберг. Битоколонна в Чикаго.
7. Поп-арт. Э. Уорхолл. «Кэмбелл-суп*. 1961— 1962. Холст, масло.
8. Сальвадор Дали. «Лицо войны*. 1940.
9. Д. Эддл. «Катастрофа VI*. 1971.
На обложке: Сцена одной из пьес «театра абсурда*.
317
СОДЕРЖАНИЕ
От издательства 5
I
В. Дмитриев. Идеологическая борьба и искусство И
Н. Анастасьев. Силуэты ложного мира (*Массовая беллетристика*: социальный заказ и эстетические стандарты) 42
В. Молчанов. Литература ужаса и мистификация
читателя 84
Ю. Архипов. Эрнст Юнгер, буревестник «стальных ураганов» ♦ 118
И. Фрадкин. Тривиальная литература — кому она
служит? 139
Л. Токарев. Путешествие на край ненависти . . . 175
II
Евг. Евтушенко. Тела и души (Лондонские заметки) 197
Ю. Комов. Короли кинохалтуры (Роджер Кормен
и другие) * 216
Виталий Кобыш. Внимая голосу оракула .... 248
И. Андронов. «Шедевры абсурда» и неугодные музы 288
М. Озеров. Судьба Клауса Диля 297
Список иллюстраций 317
Литература человеконенавистничества:
Л 64 Сборник статей. /Сост. Н. Анастасьев и М. Озеров. — М.: Худож. лит., 1980. — 318 с.
Настоящий сборник содержит статьи советских литературоведов, журналистов, писателей, разоблачающих «массовую культуру» в капиталистических странах Запада. Волна комиксов, романов ужаса, сентиментально-слащавого чтива на книжном рынке, порнография, низкопробная мистика, пустая развлекательность в кино и на экранах телевизоров — вот что порождает низкий вкус, способствует оглуплению читателя. Это убедительно доказывают авторы статей.
Сборник выходит в серии «Империализм: события, факты, документы».
70202-403
028(01)-80
БЗ 41-26-80
4603020000
8И
ЛИТЕРАТУРА
ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВА Сборник статей
Редактор Л. Птушкина Художественный редактор С. Гераскевич Технический редактор Л. Синицына Корректор Г. Асланянц
ИБ JVft 2225
Сдано в набор 11.06.80. Подписано в печать 20.10.80. А09416. Формат 84х 108V32- Бумага тип. JSfi 1. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. 16,8+1 альб.-17,22 уел. печ. л. 15,663+1 альб.=- =■16,082 уч.-изд. л. Тираж 20 000 экз. Заказ 1421. Цена 70 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А, М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чка- ловский пр., 15.
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
4,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА*
в 1980 году вышла книга
♦ХУДОЖНИК И ОБЩЕСТВО (СВОБОДА ЛИЧНОСТИ И СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА) t,
Книга представляет собой сборник статей писателей, критиков, журналистов, рассказывающих о свободе личности художника и свободе художественного творчества в нашей стране, о правах, которые предоставлены советскому писателю новой Конституцией СССР, и о положении дел со «свободой» творчества в странах капиталистического мира.
70 к.