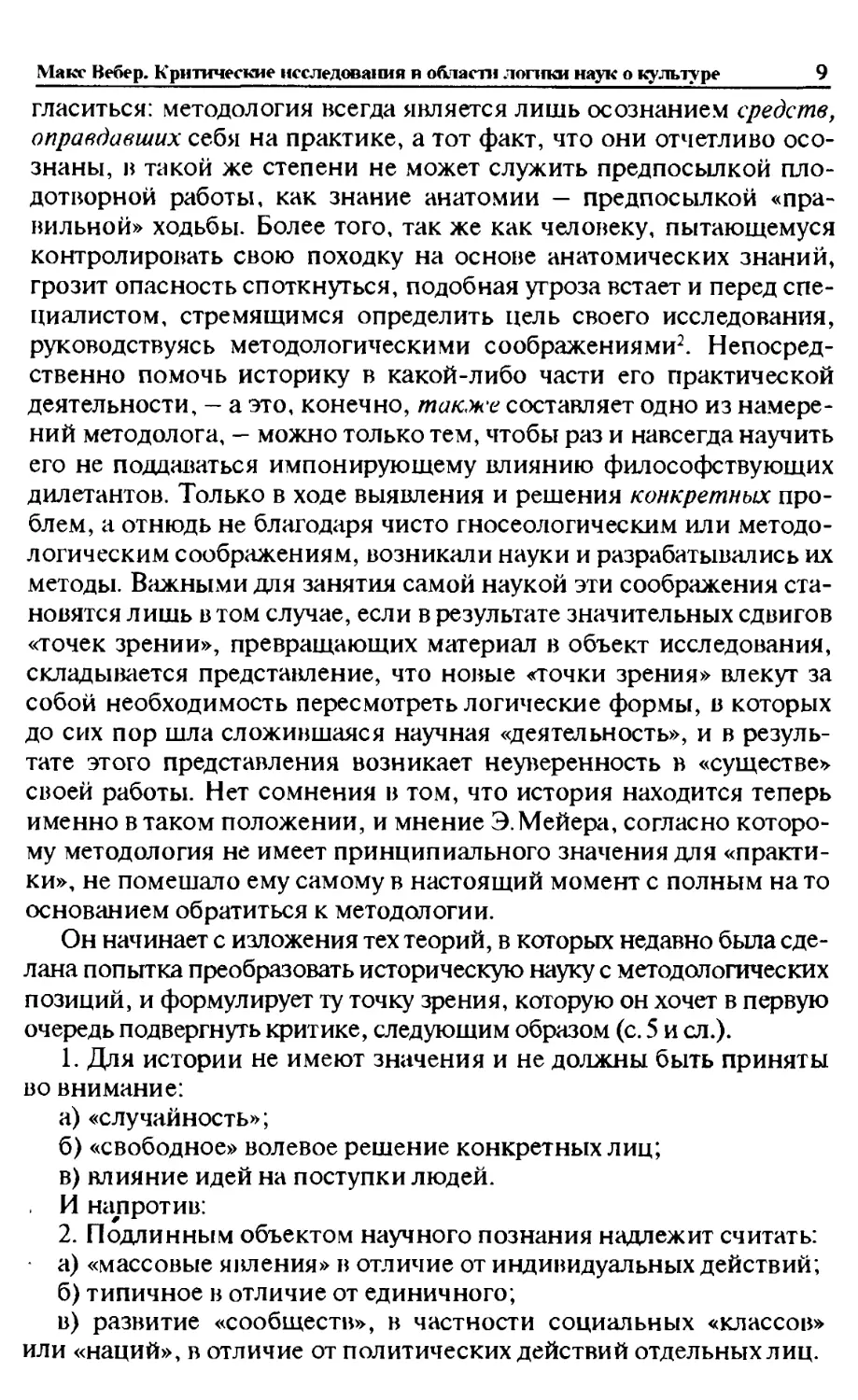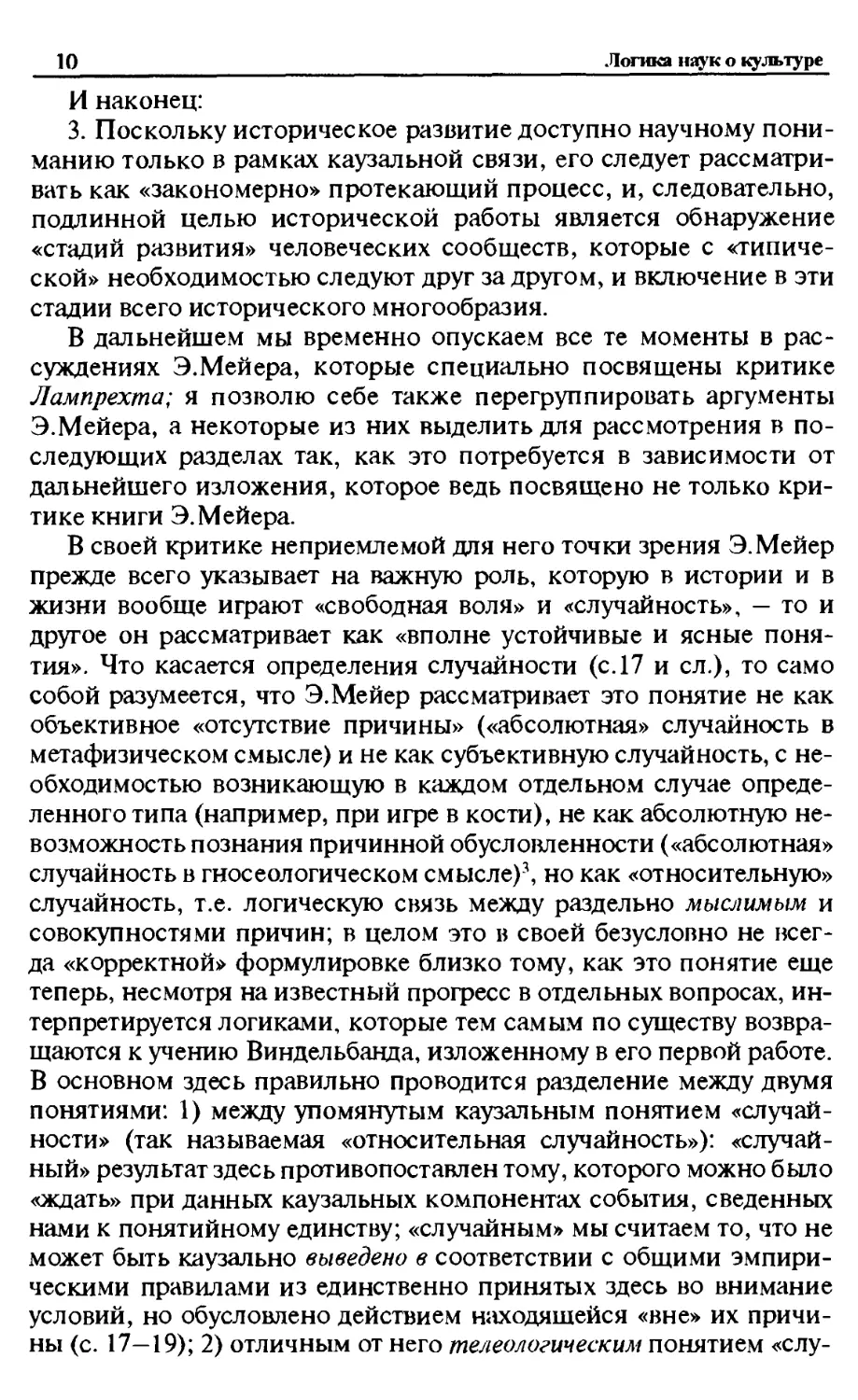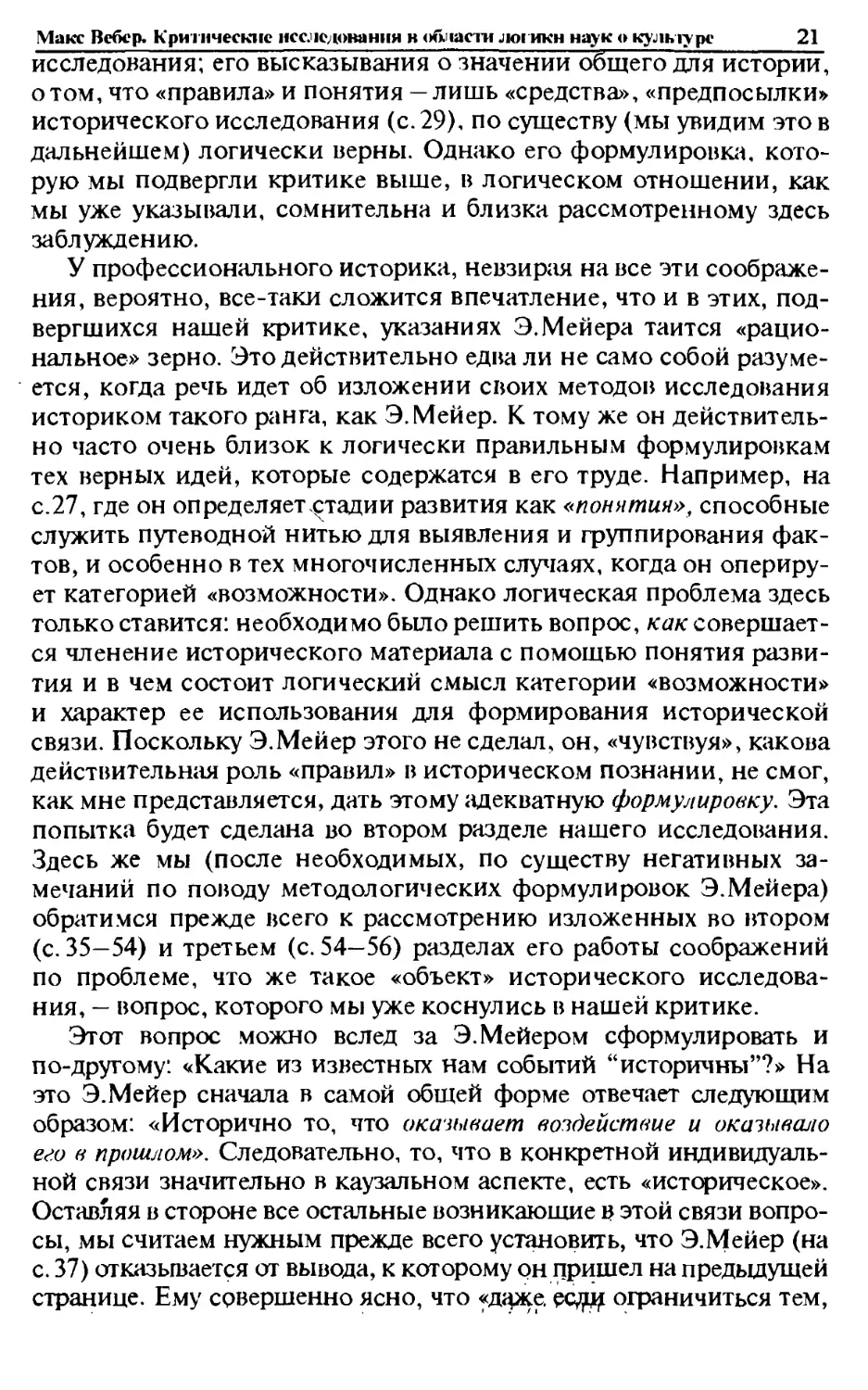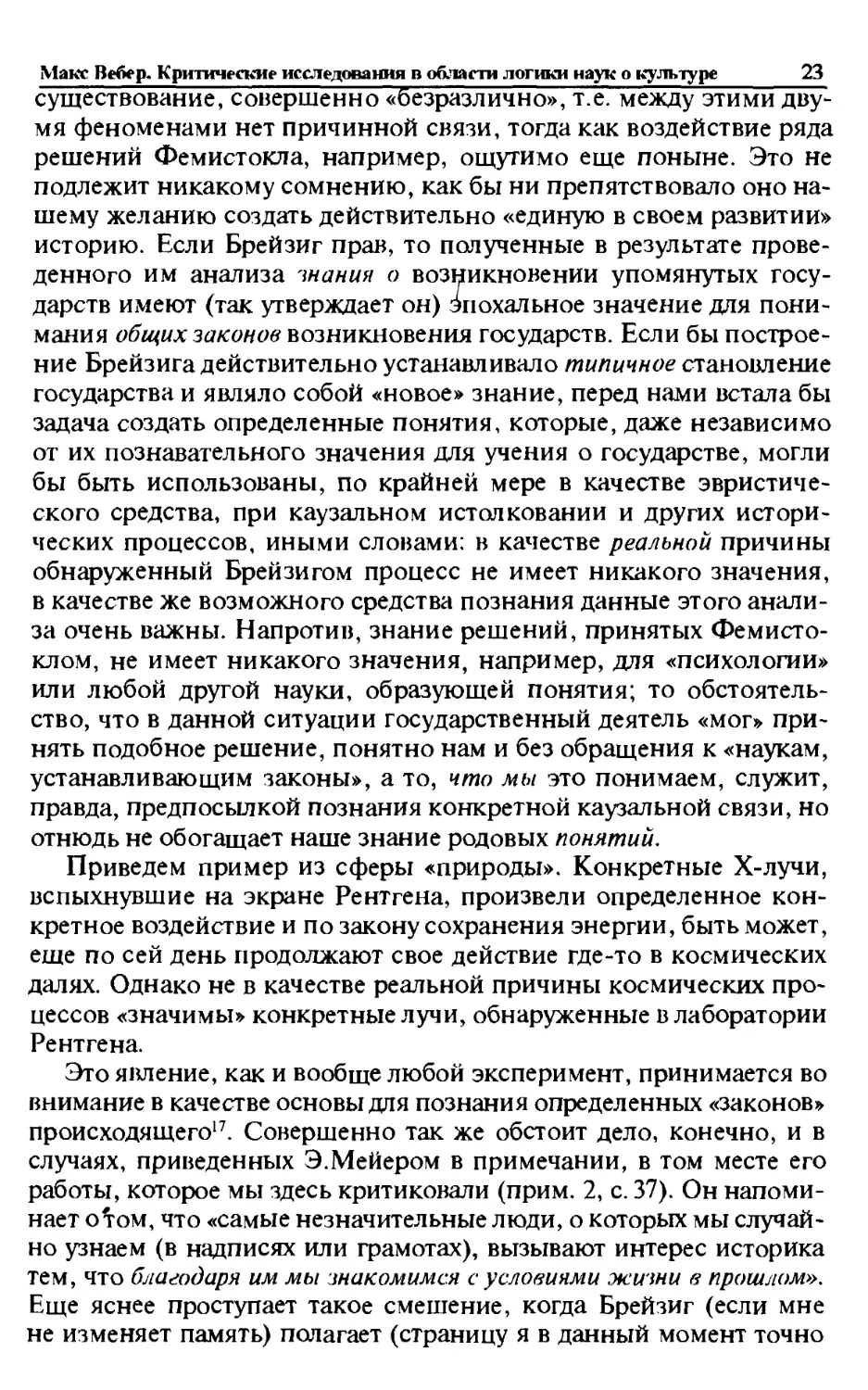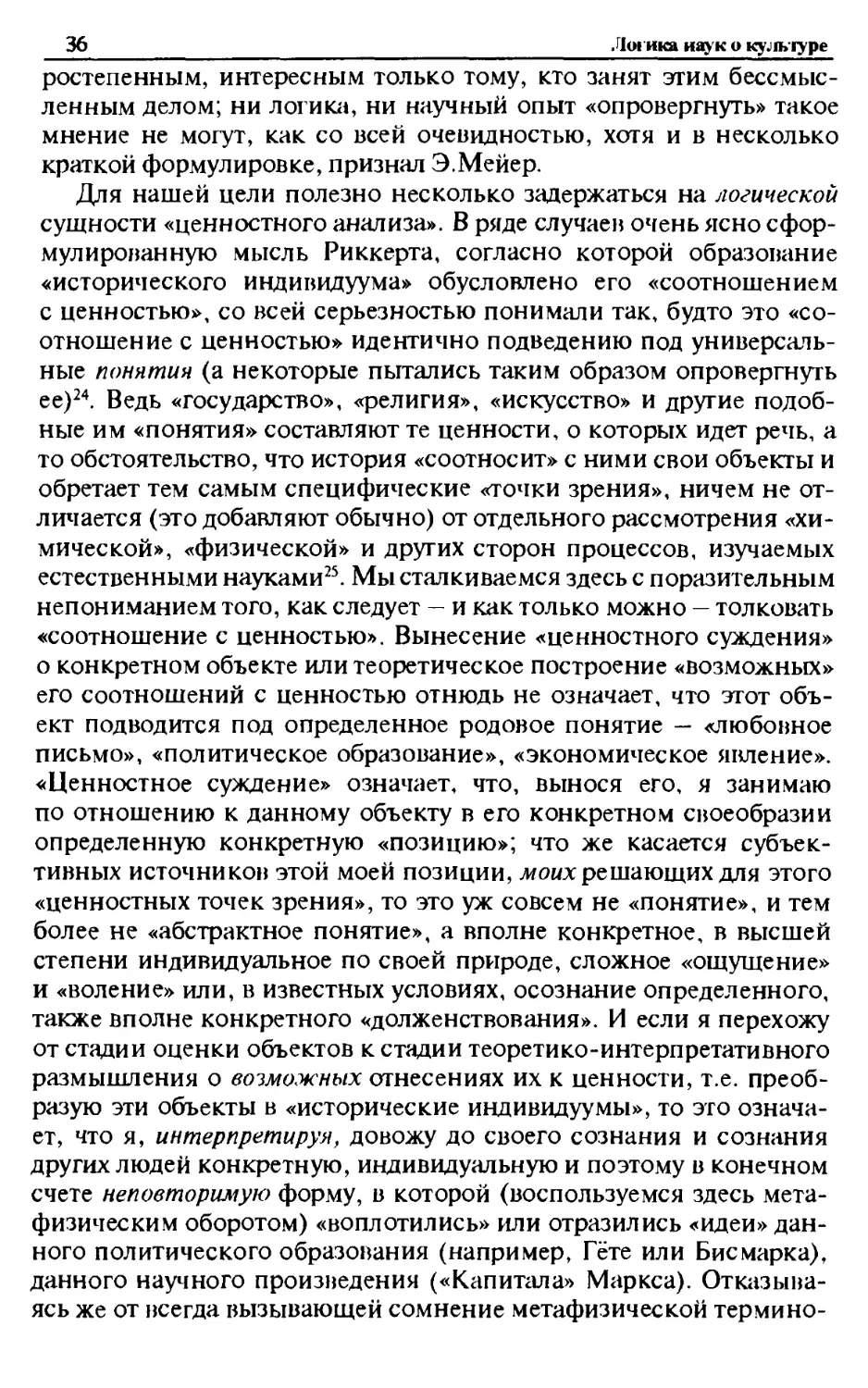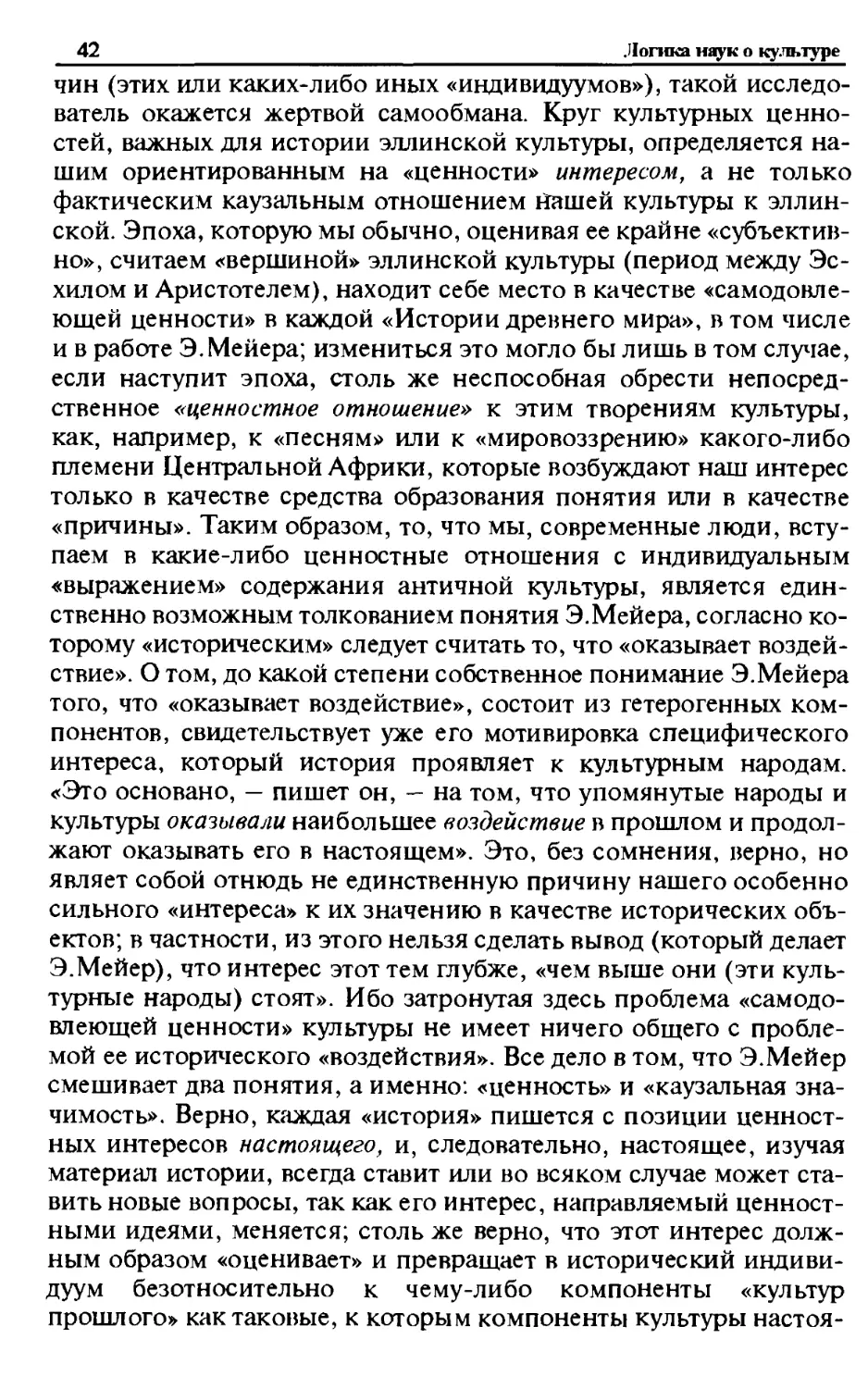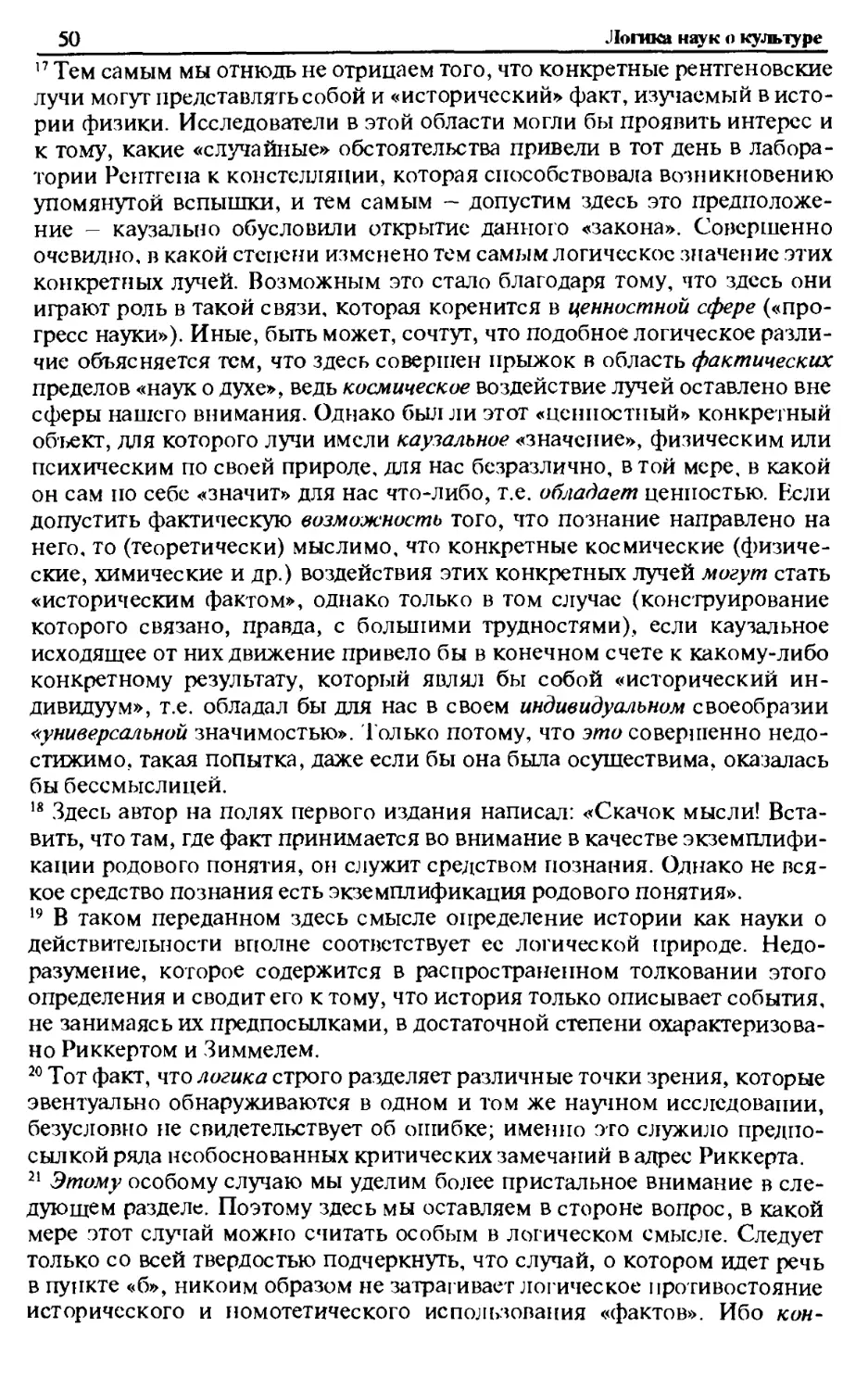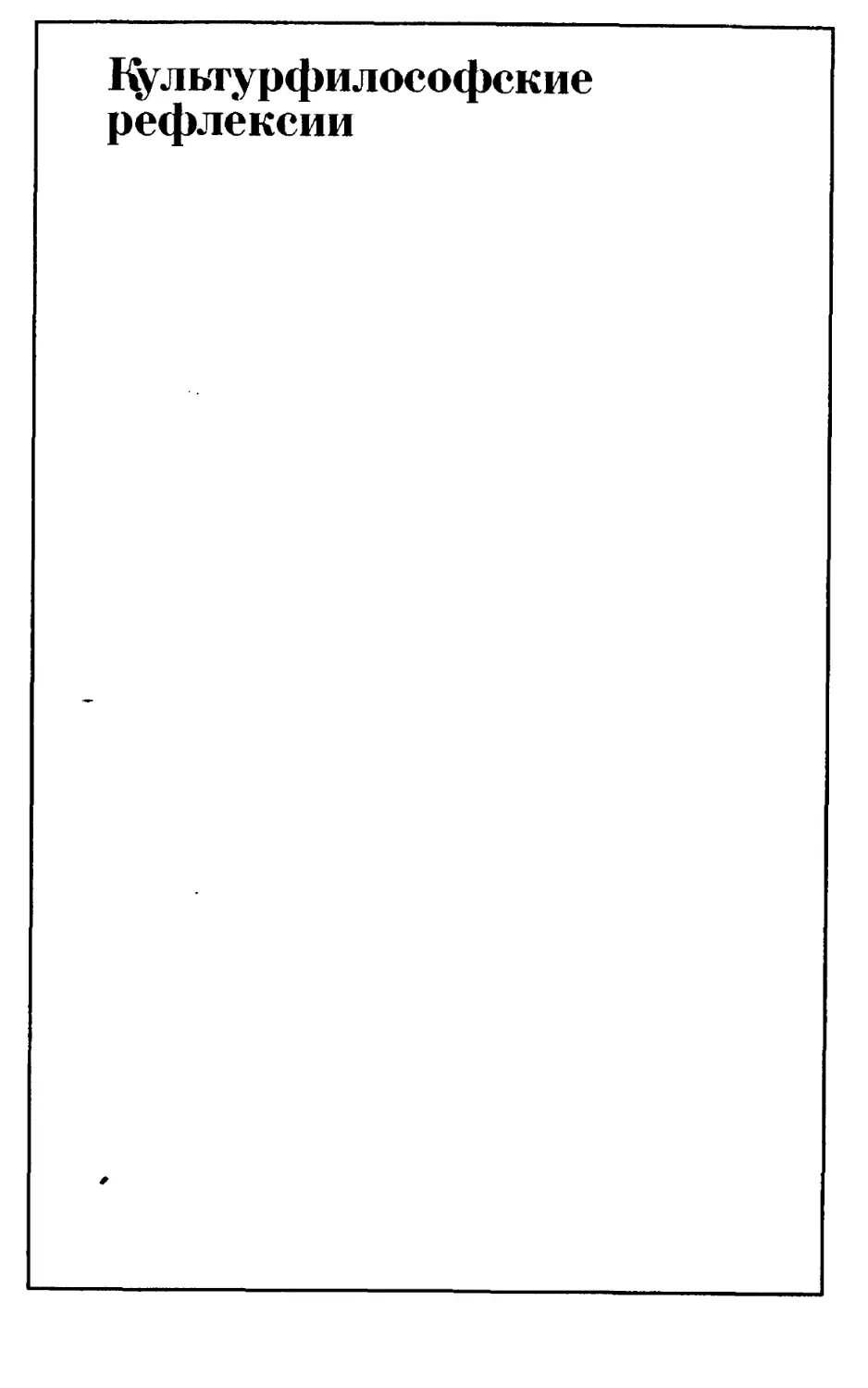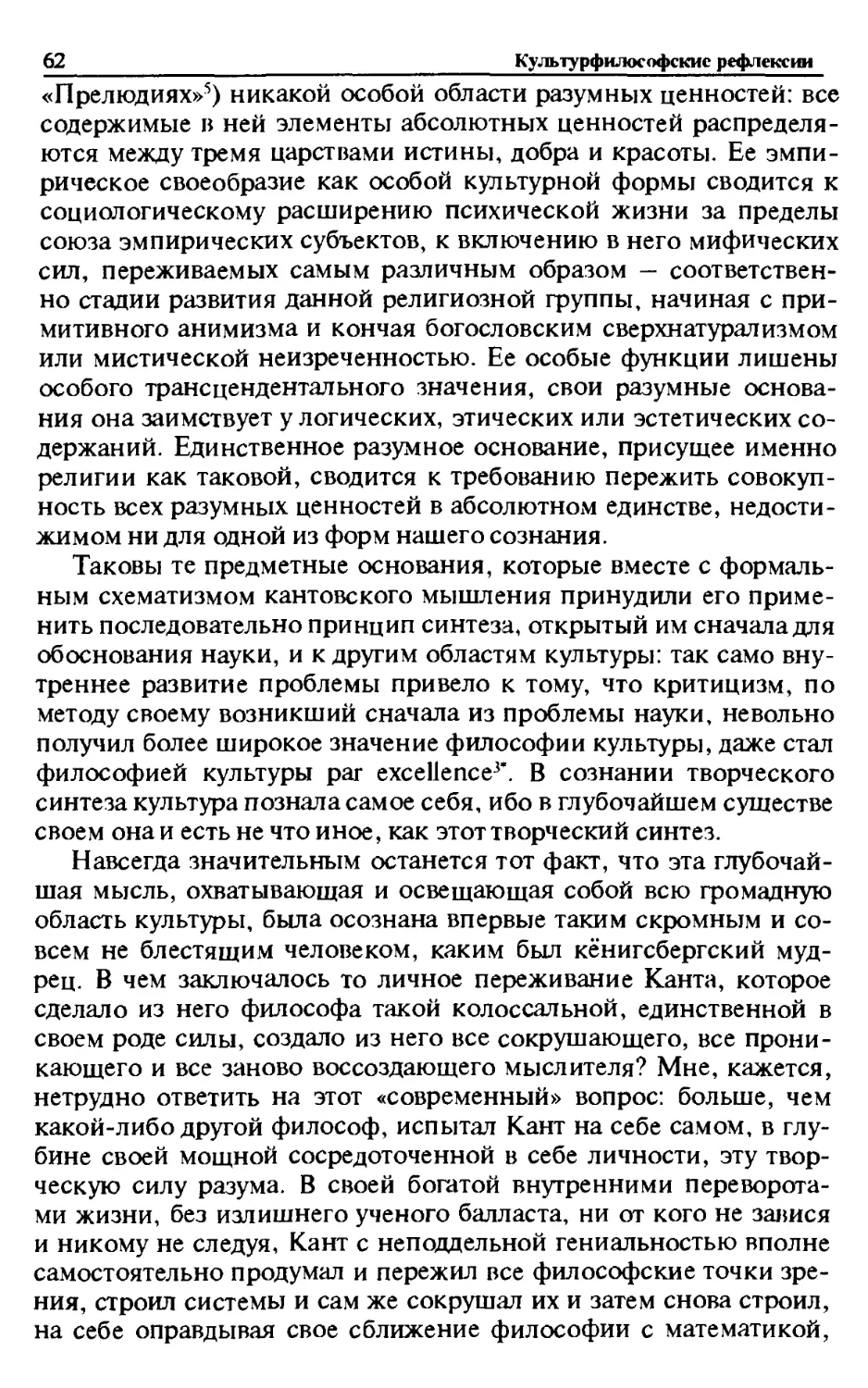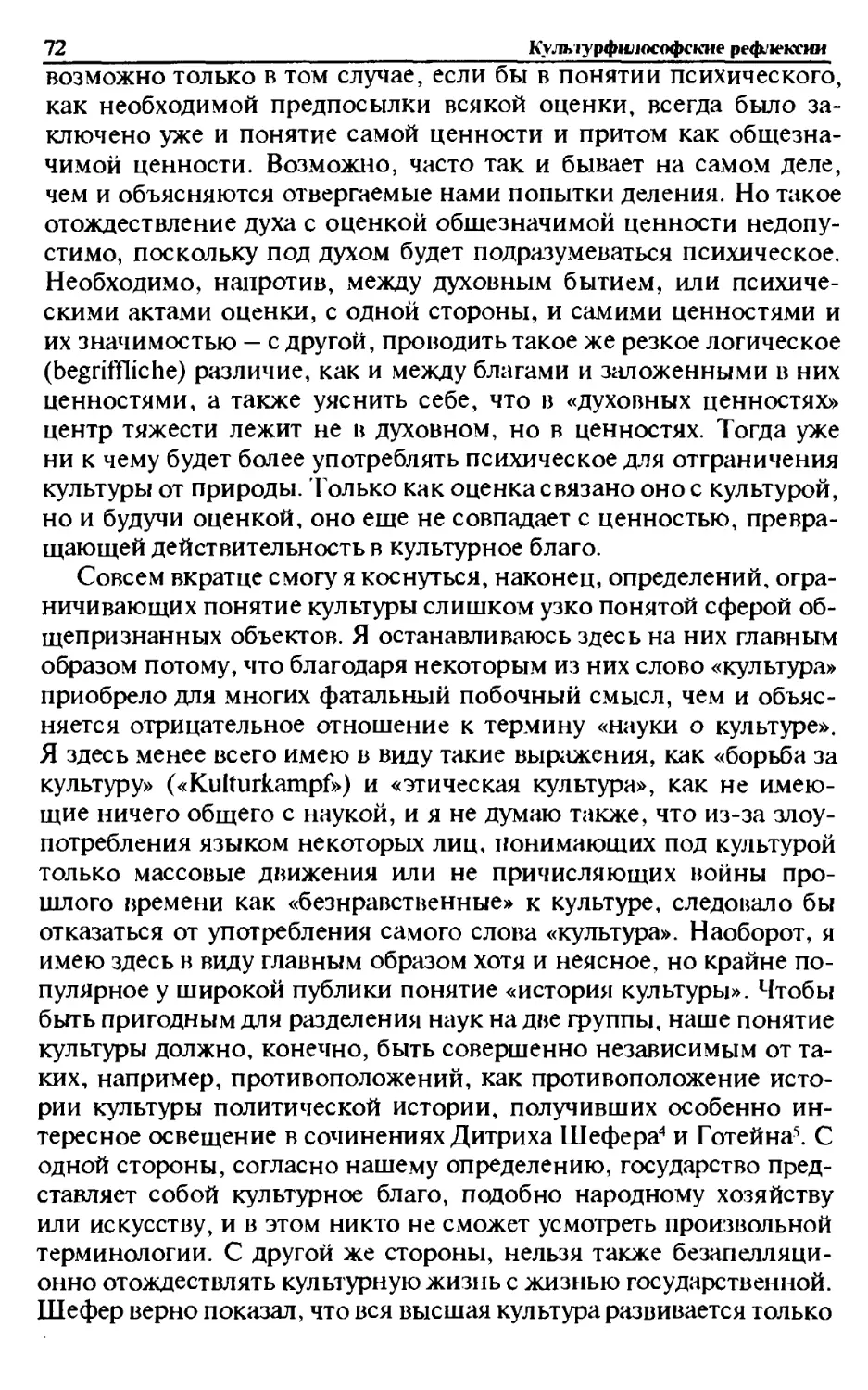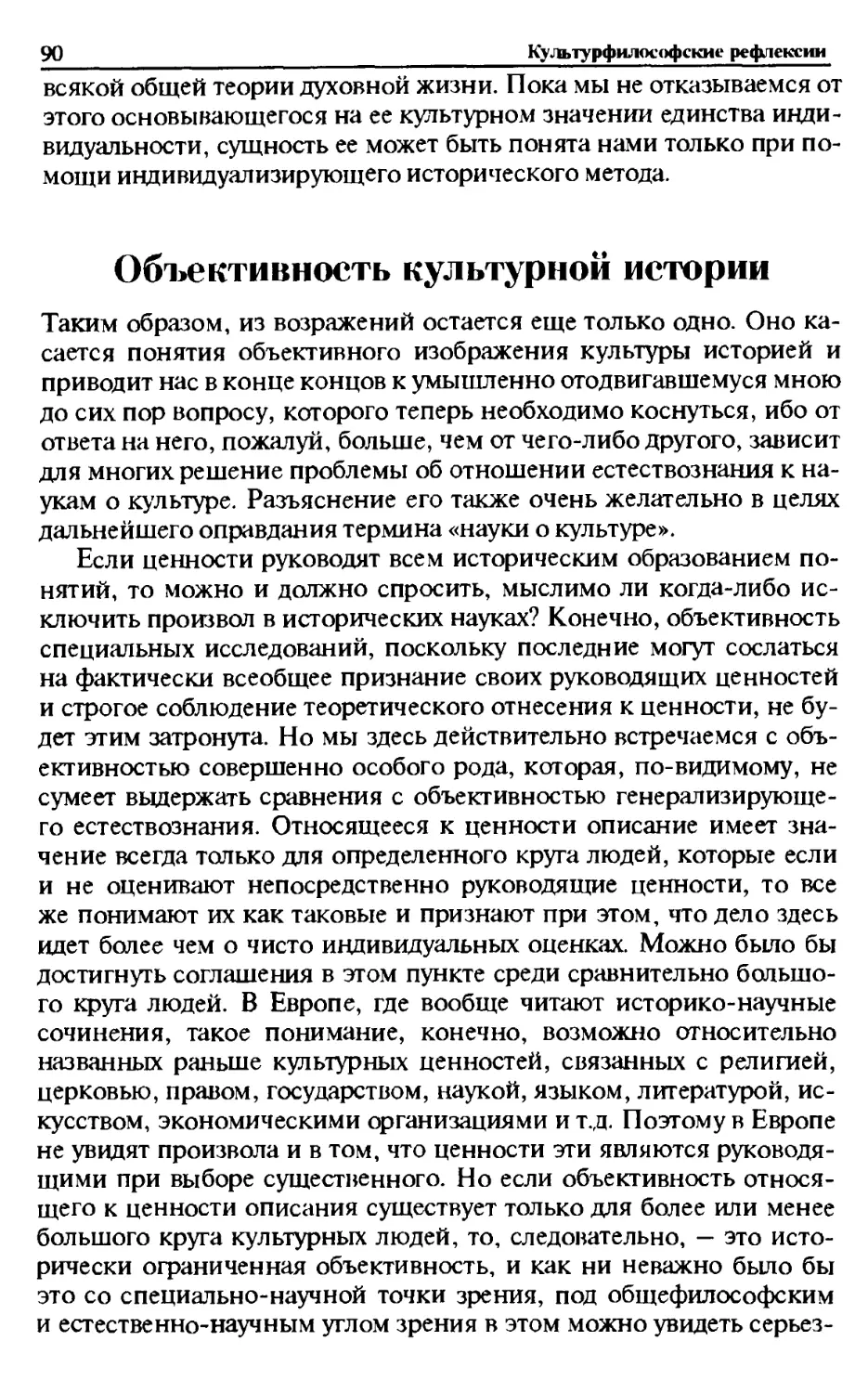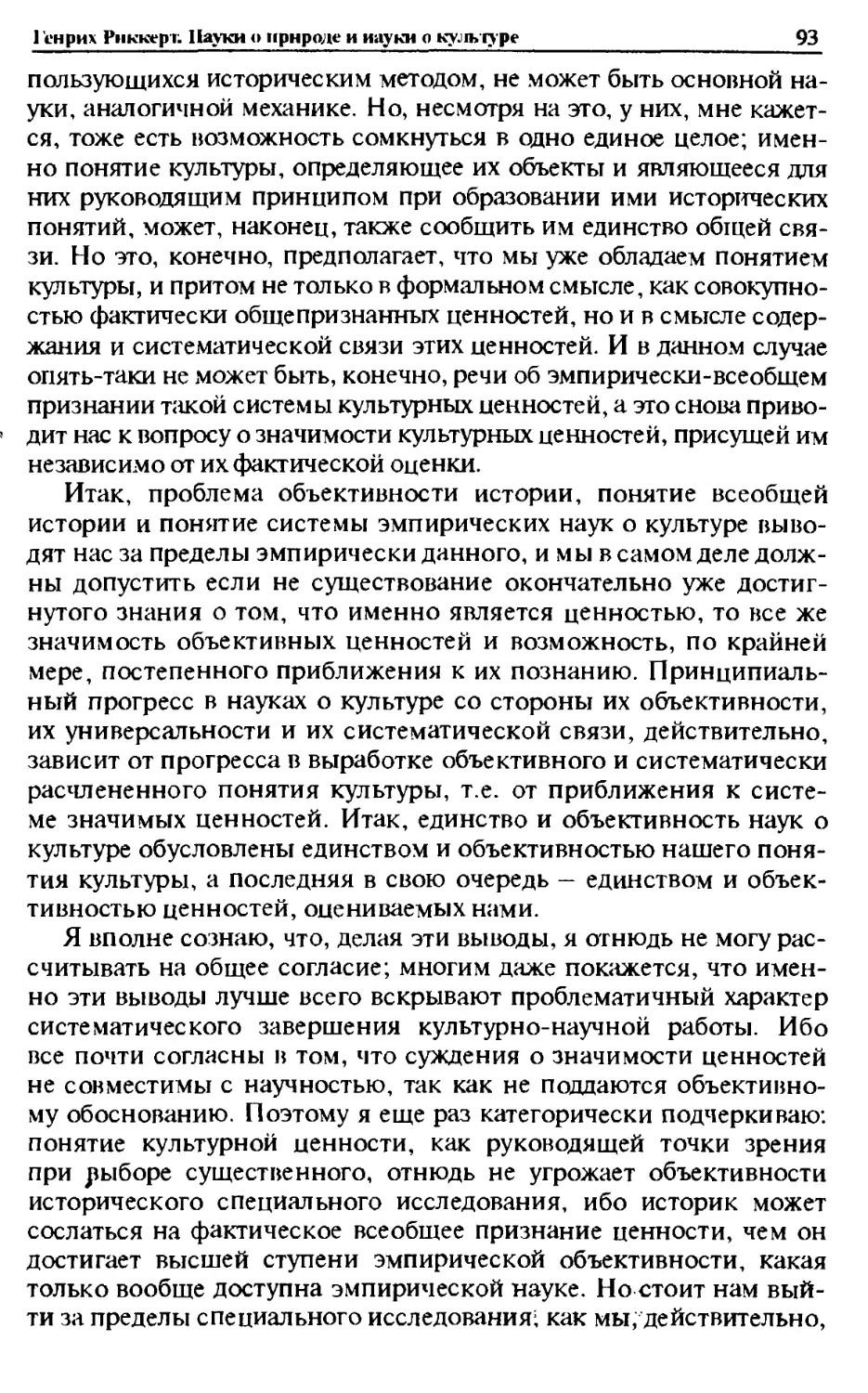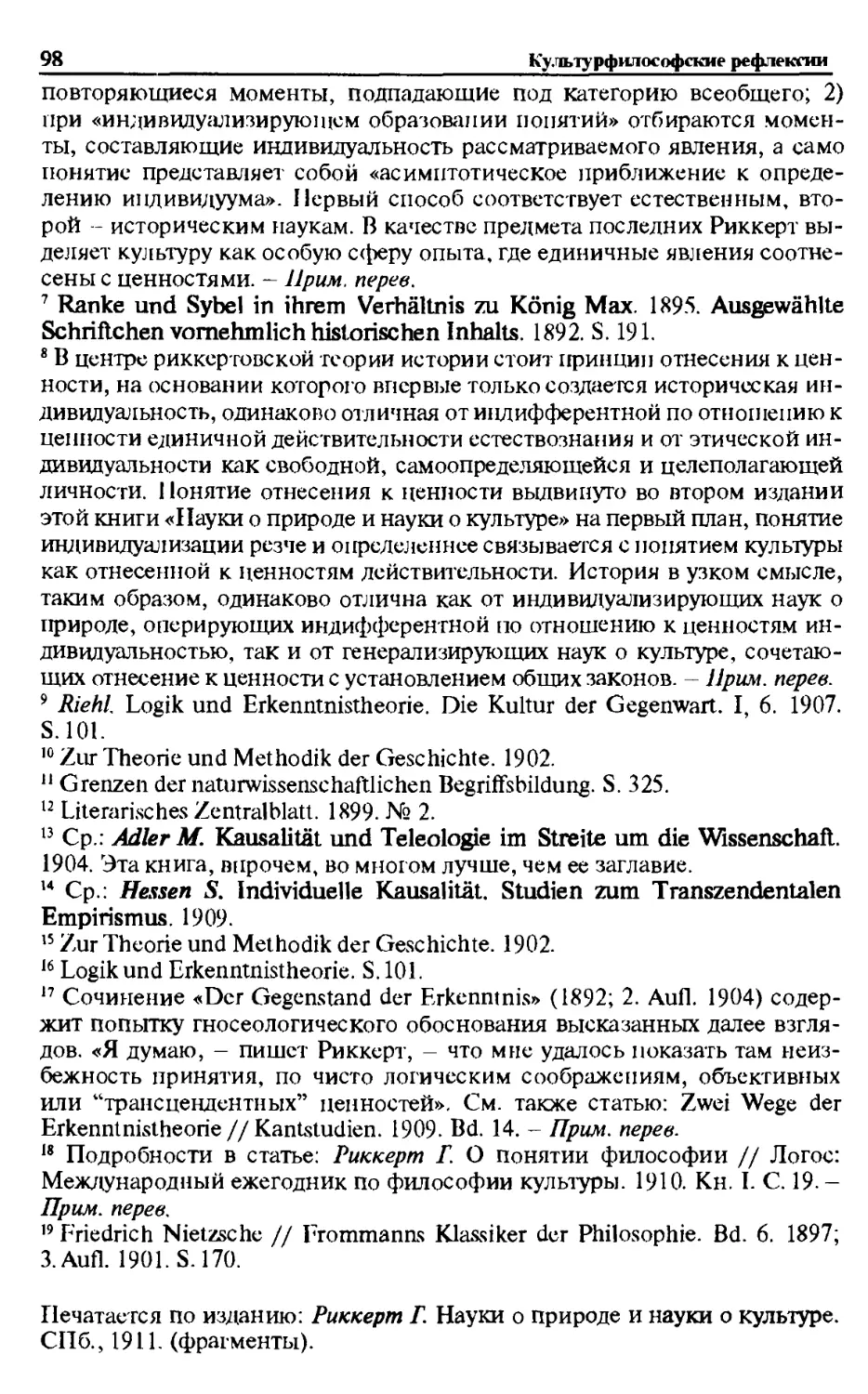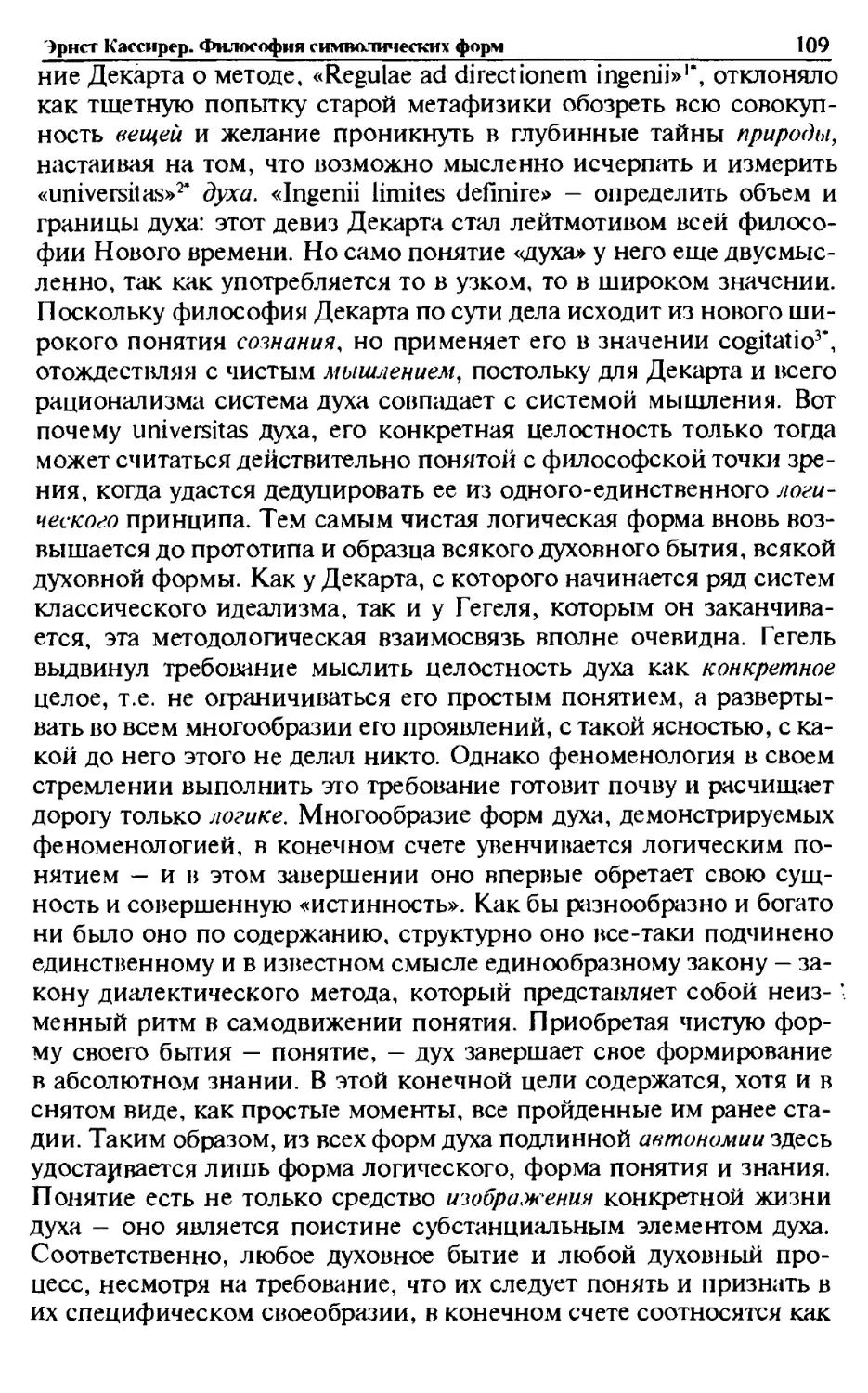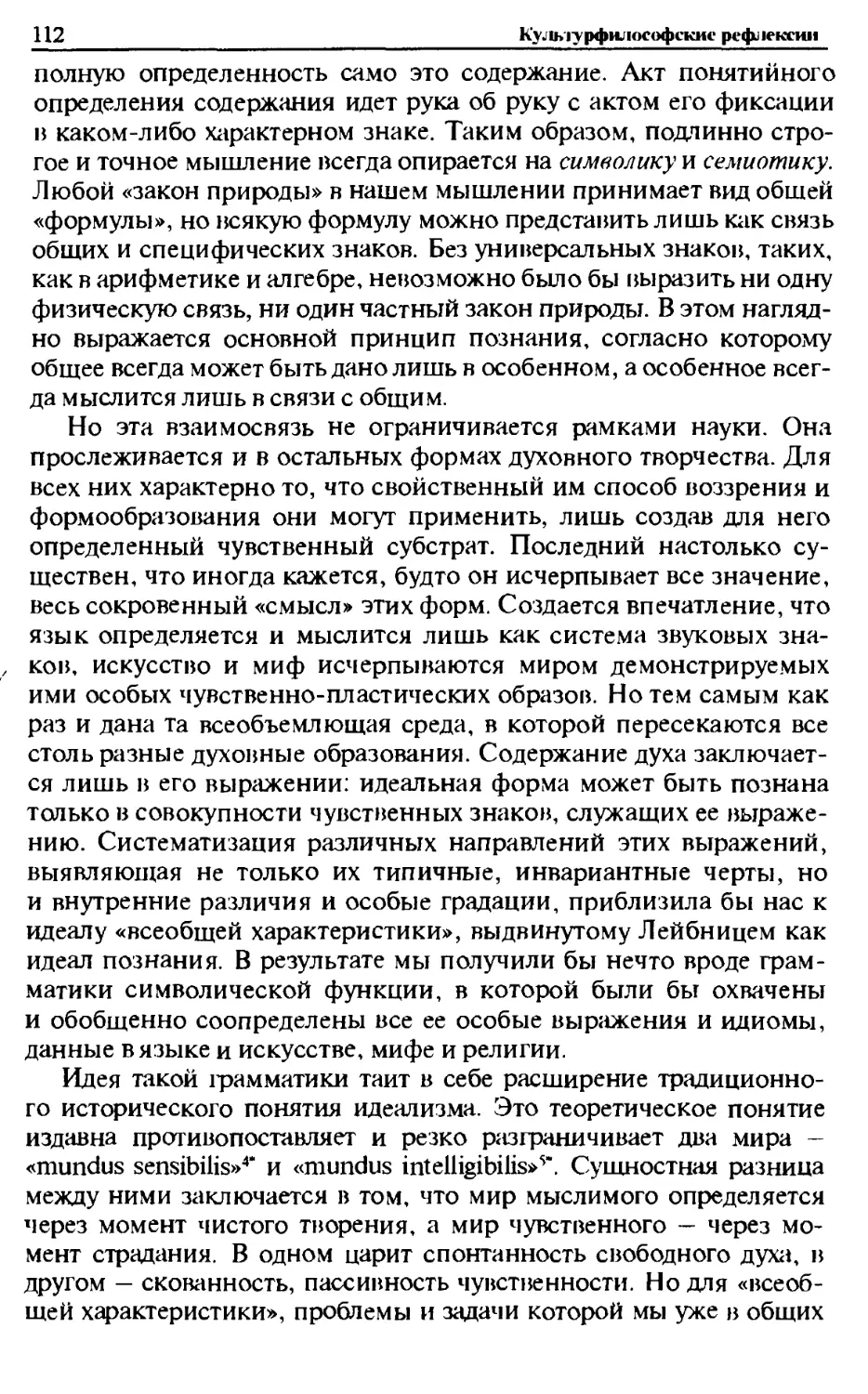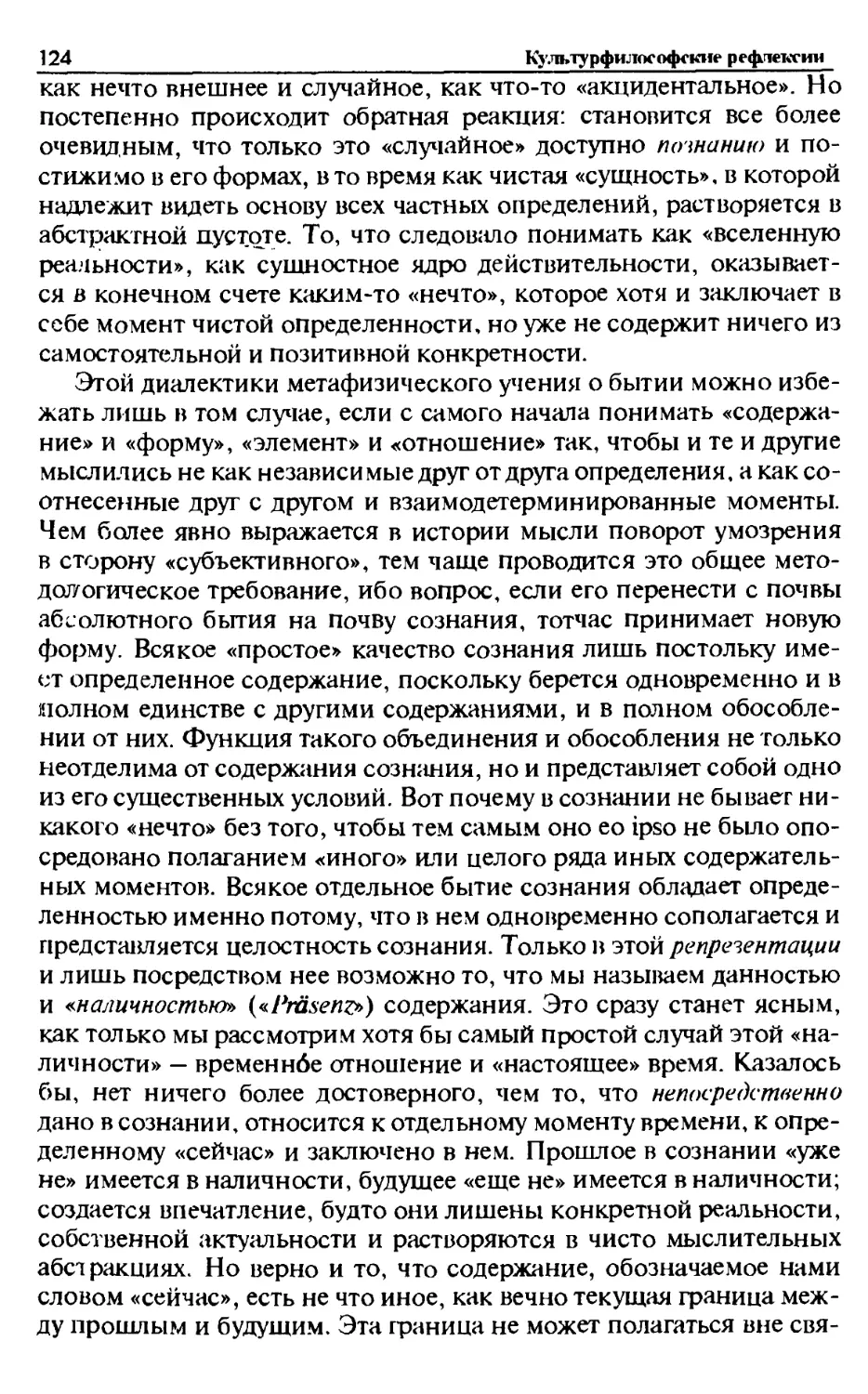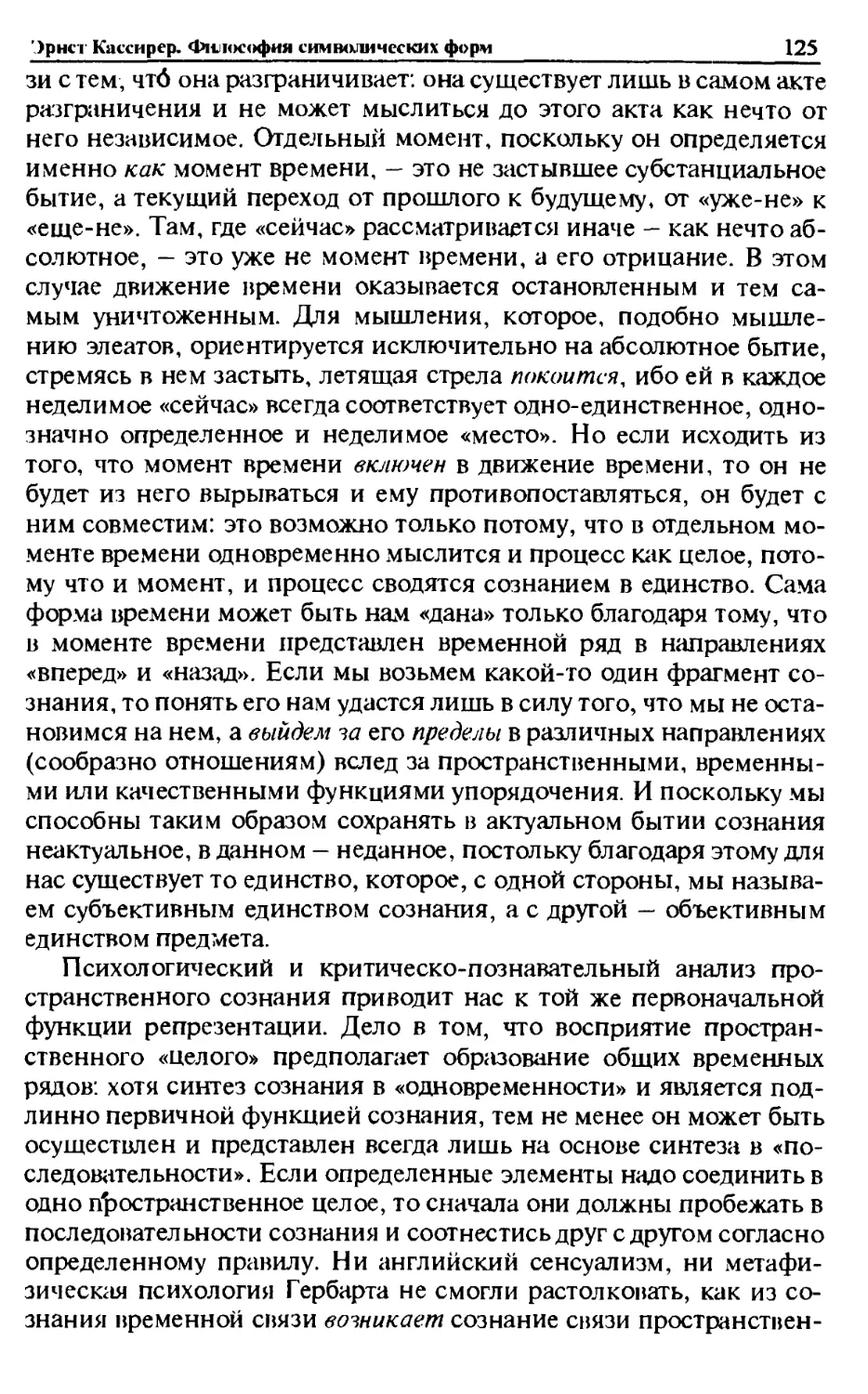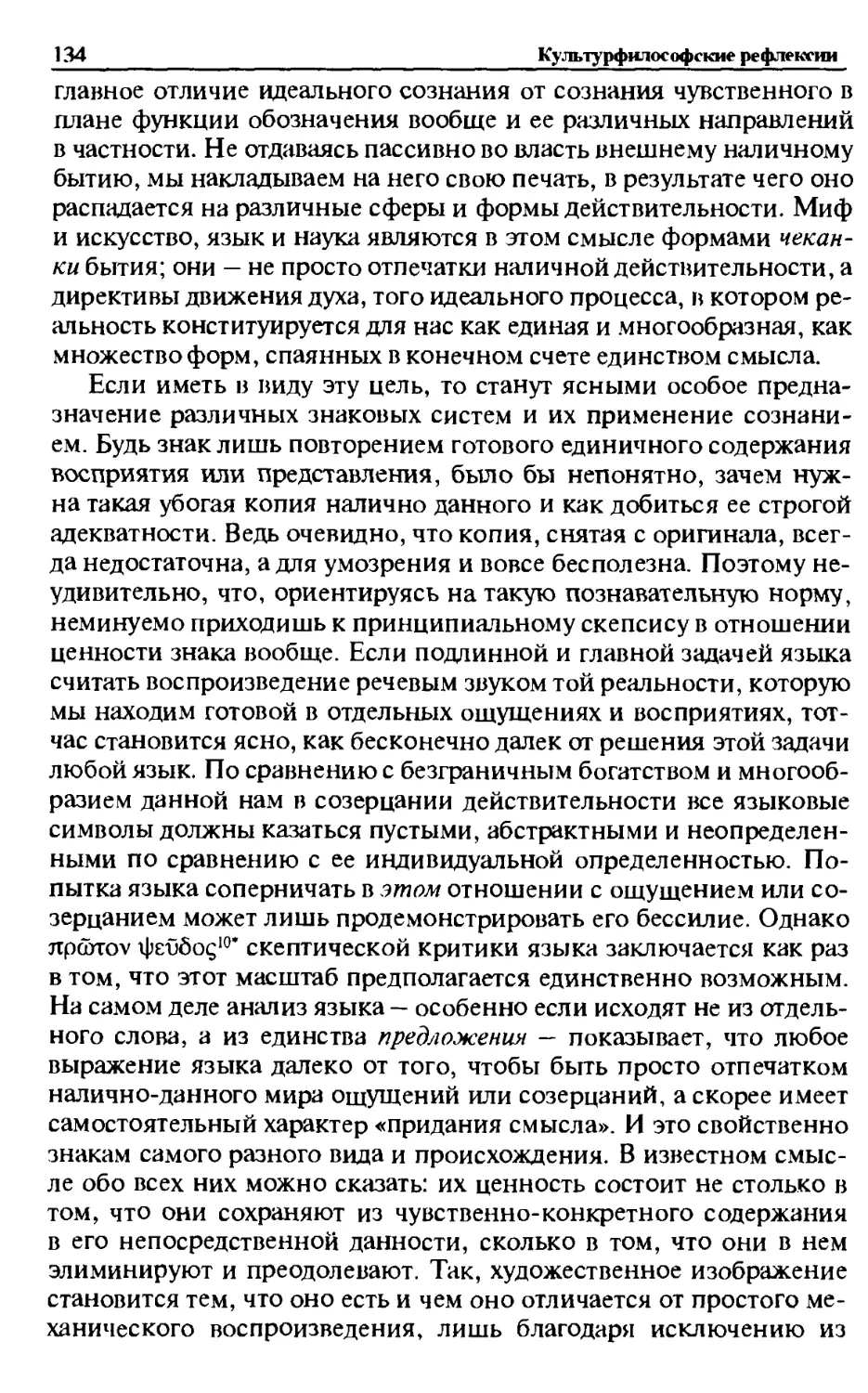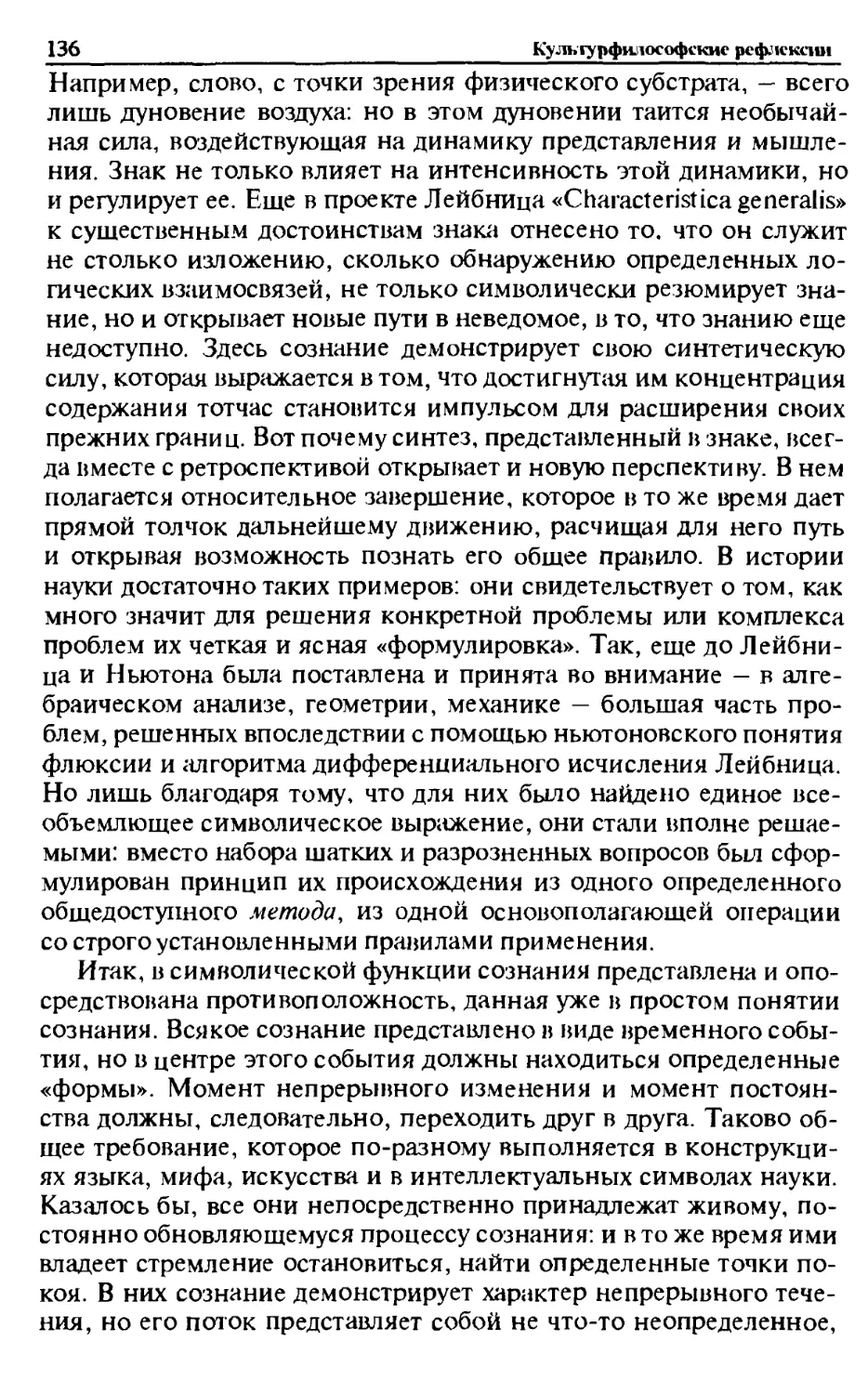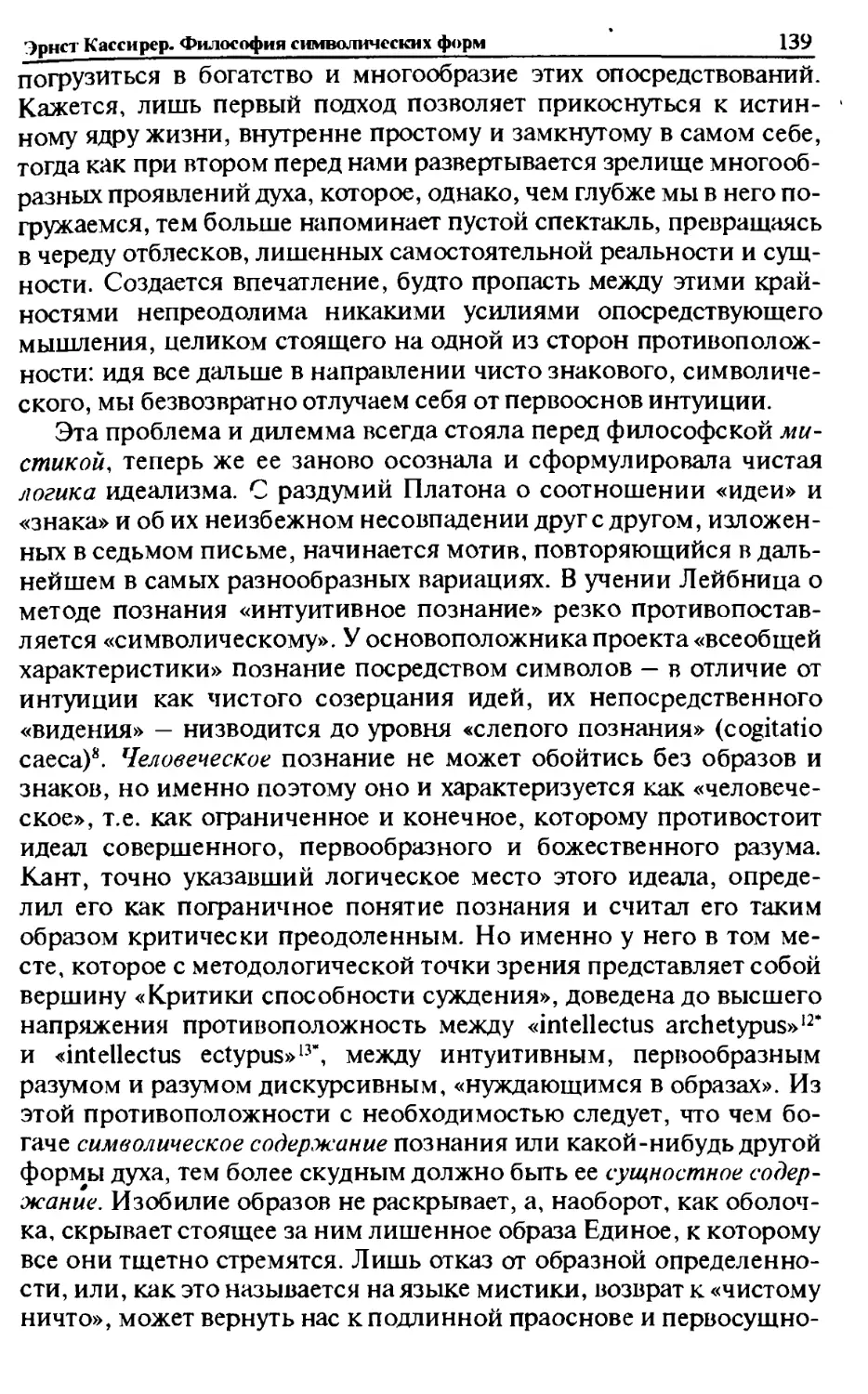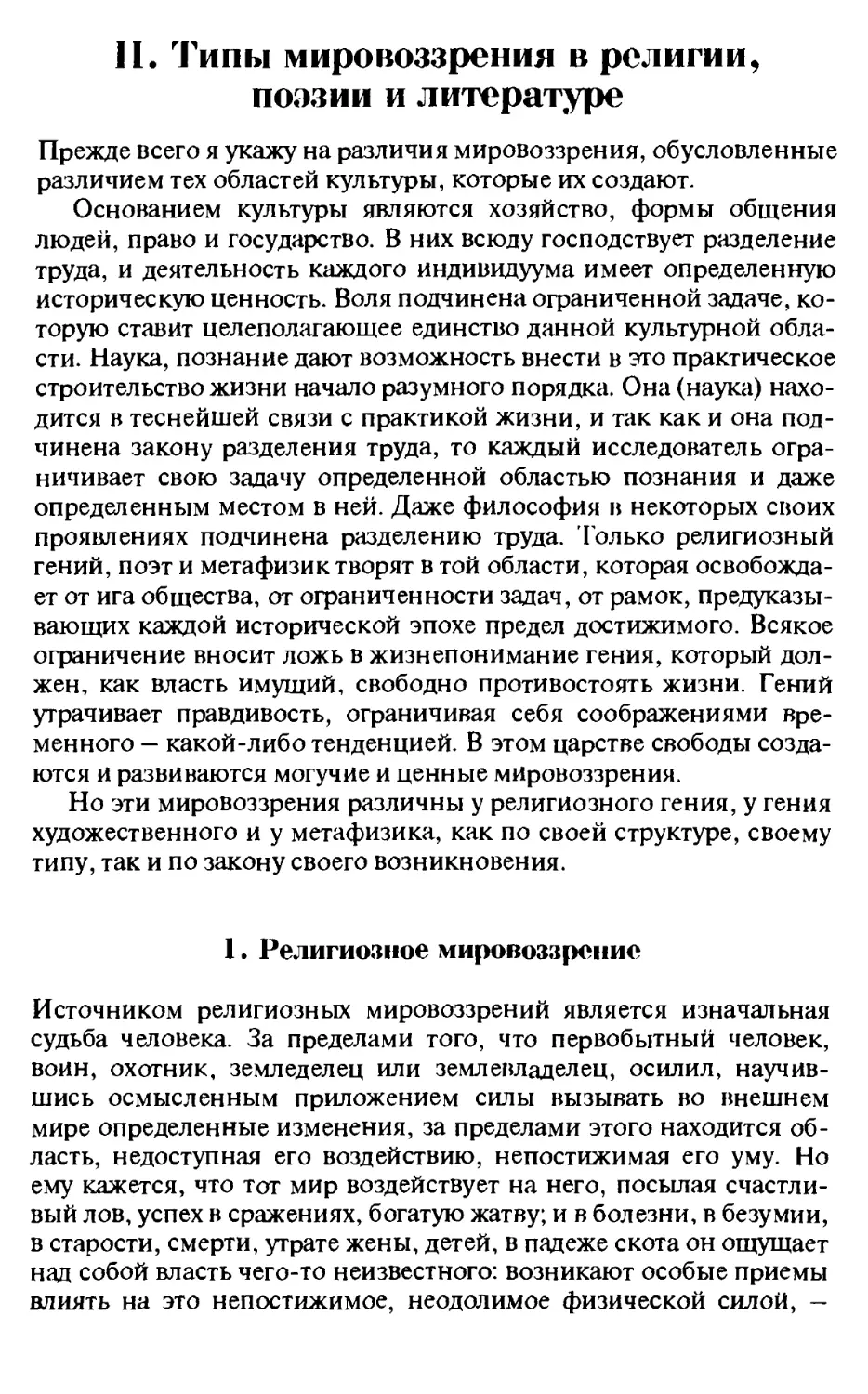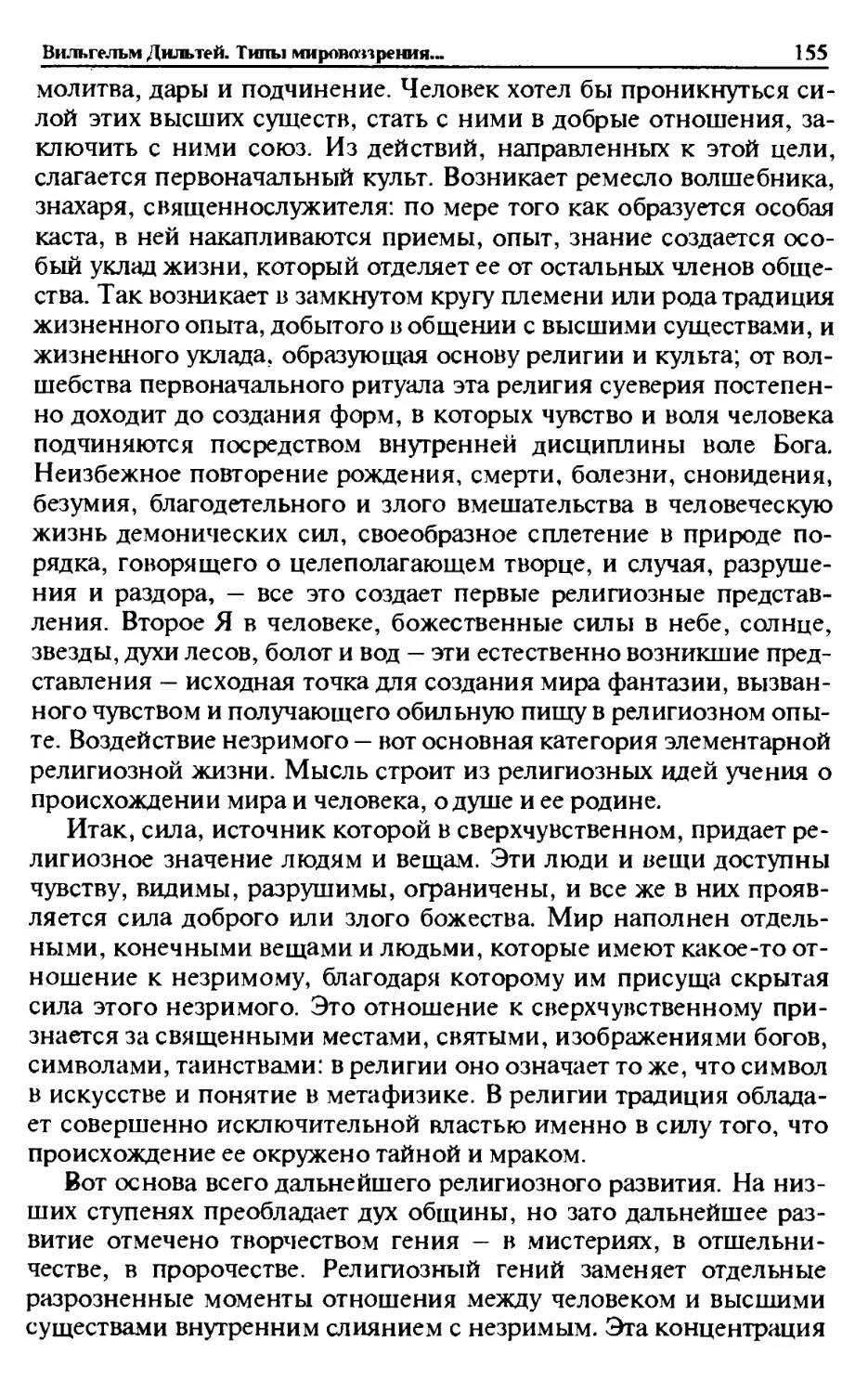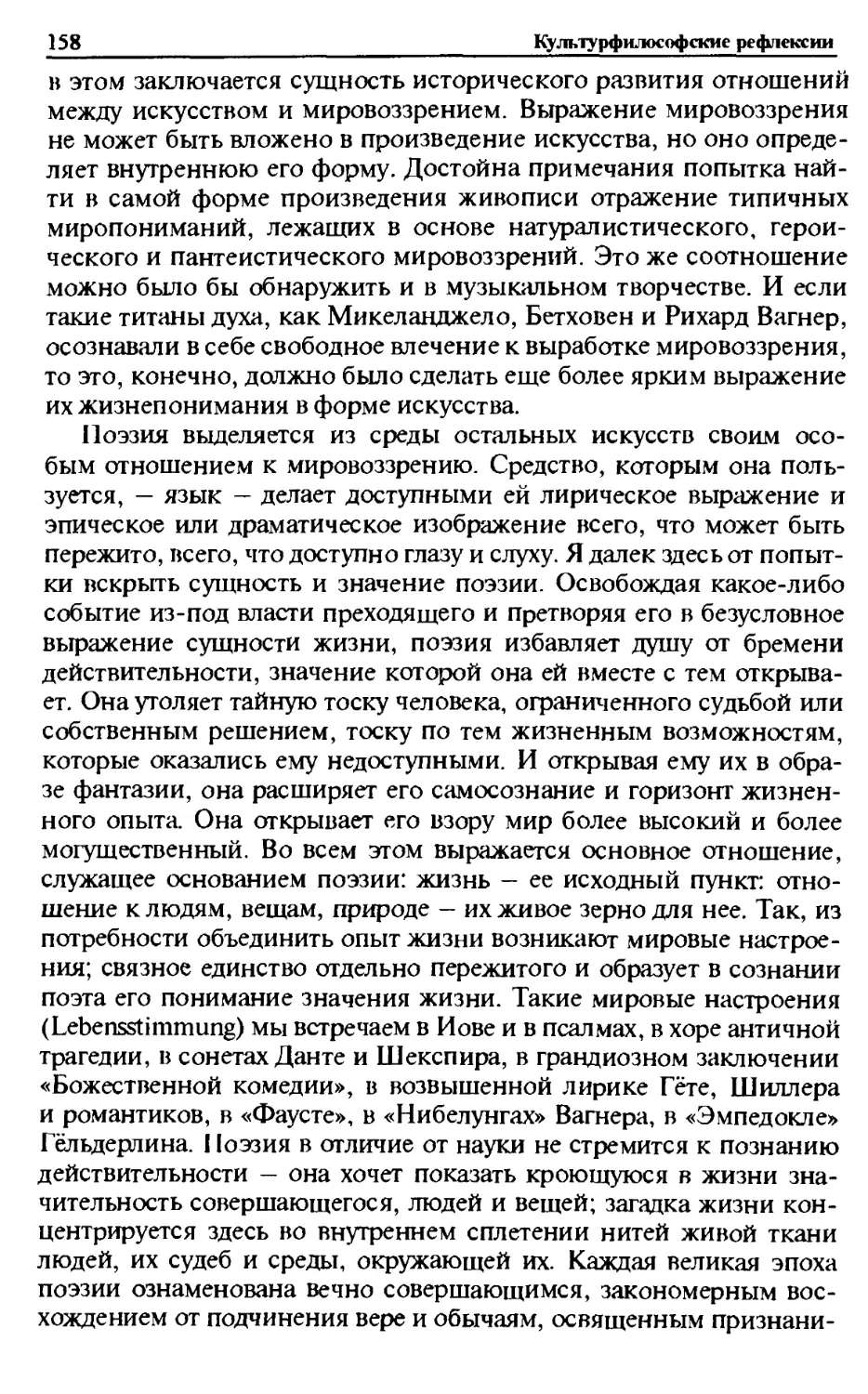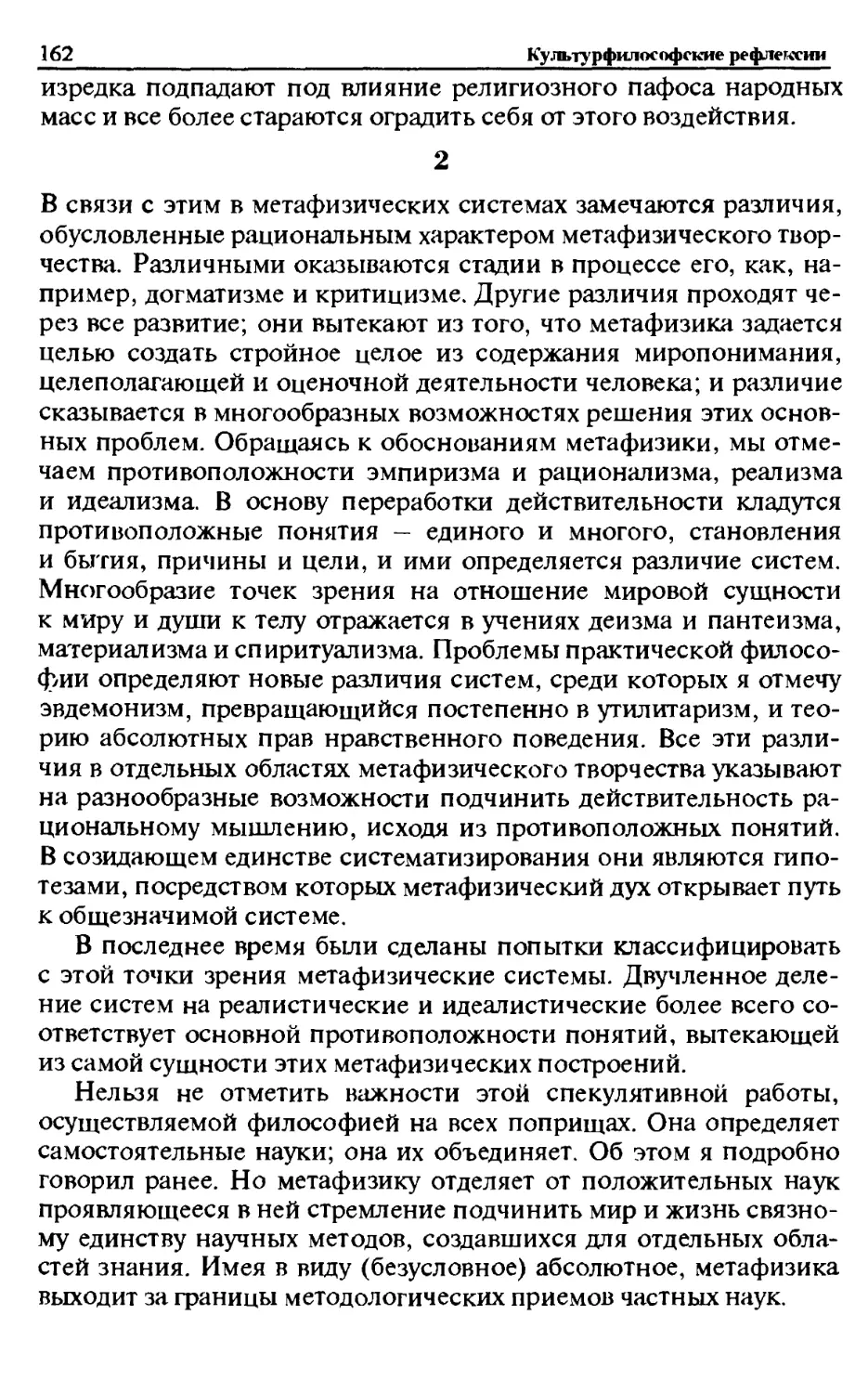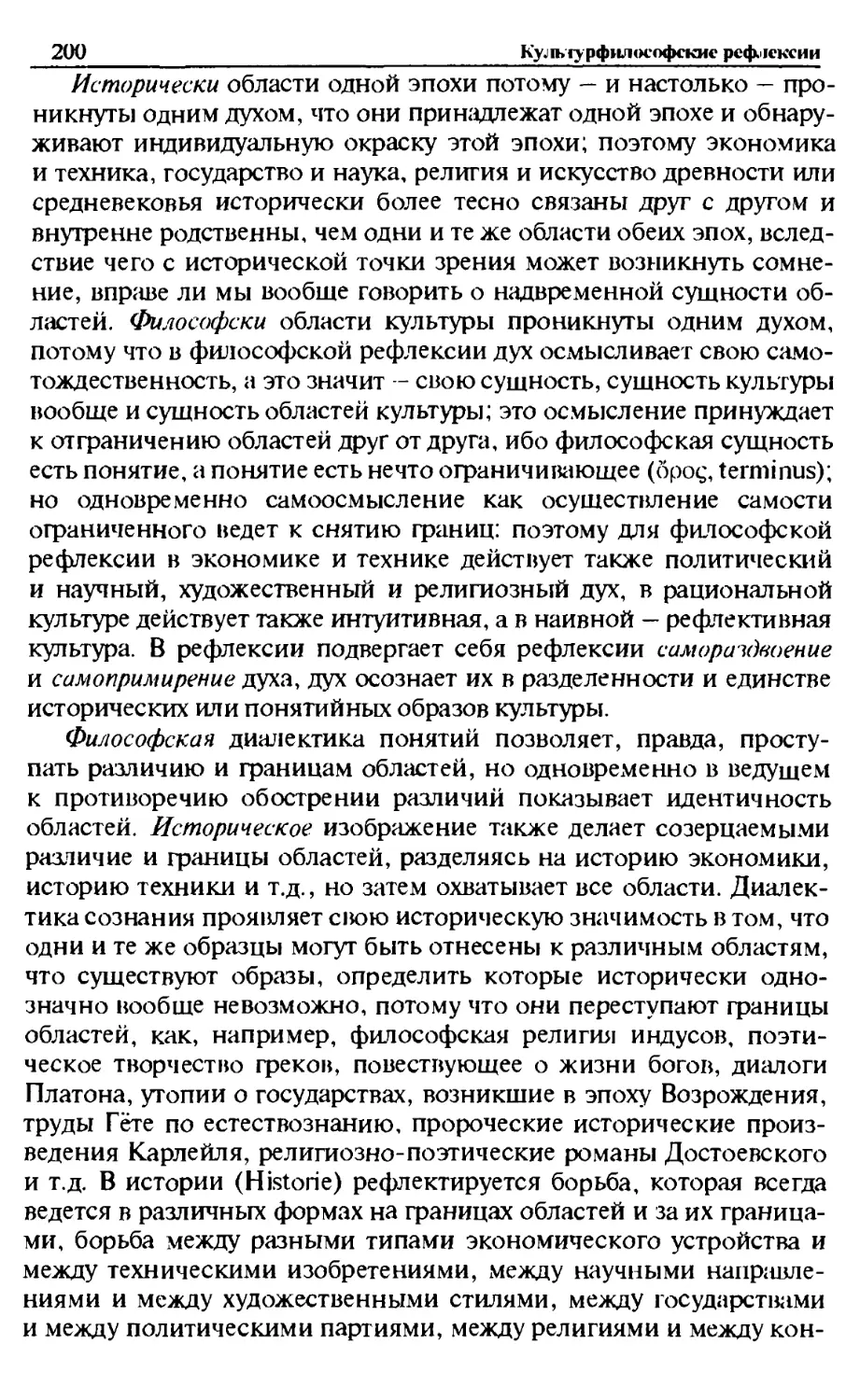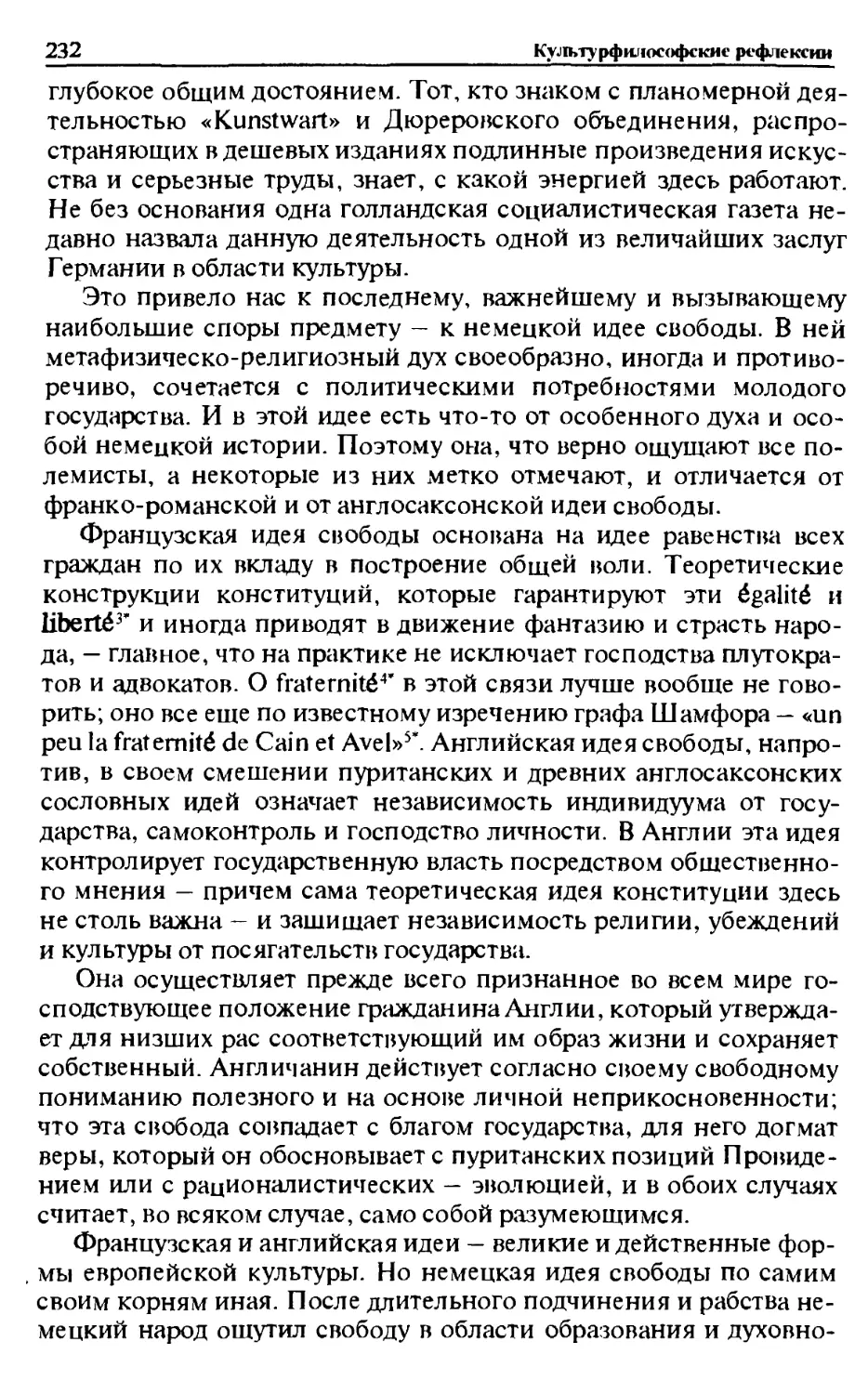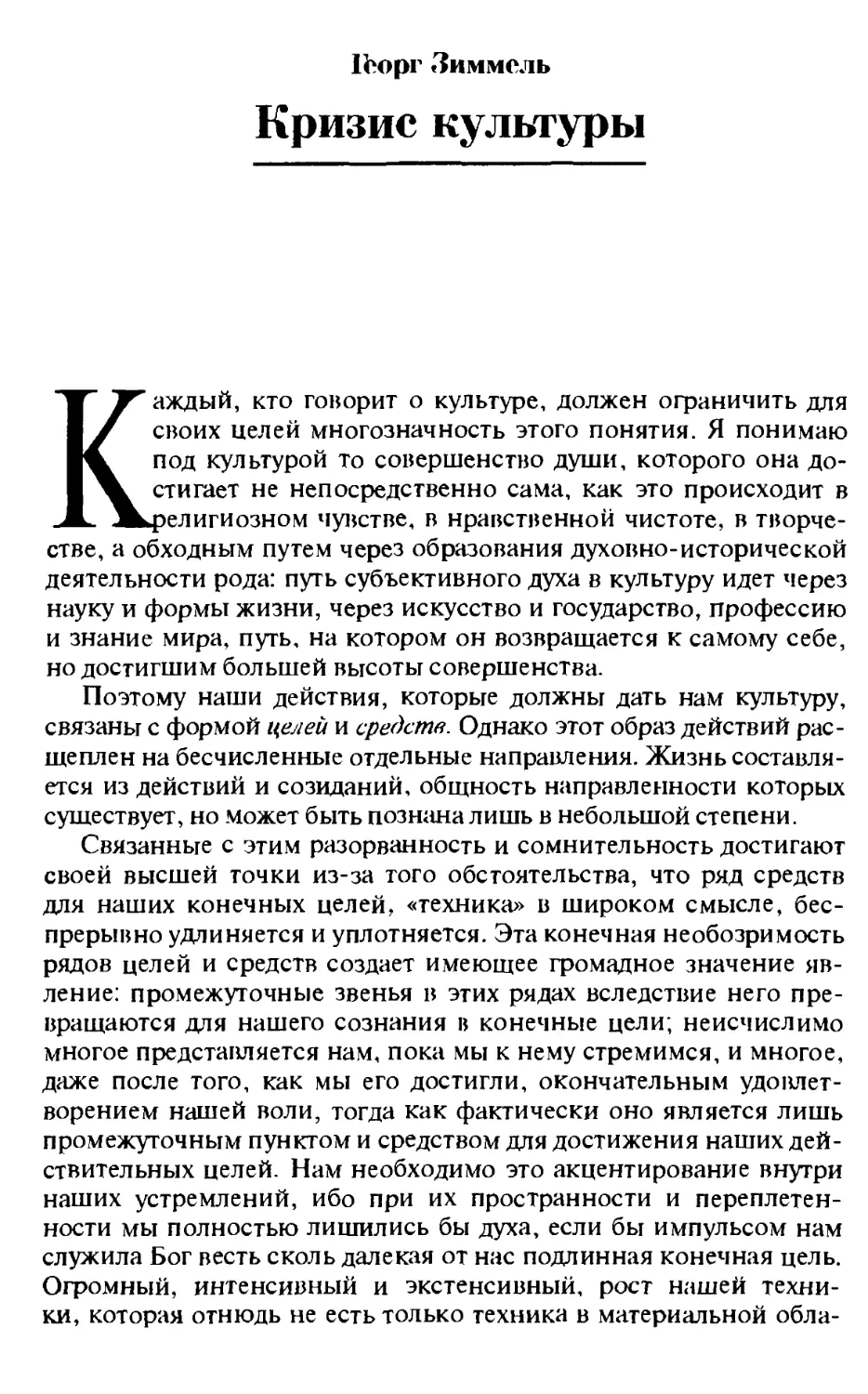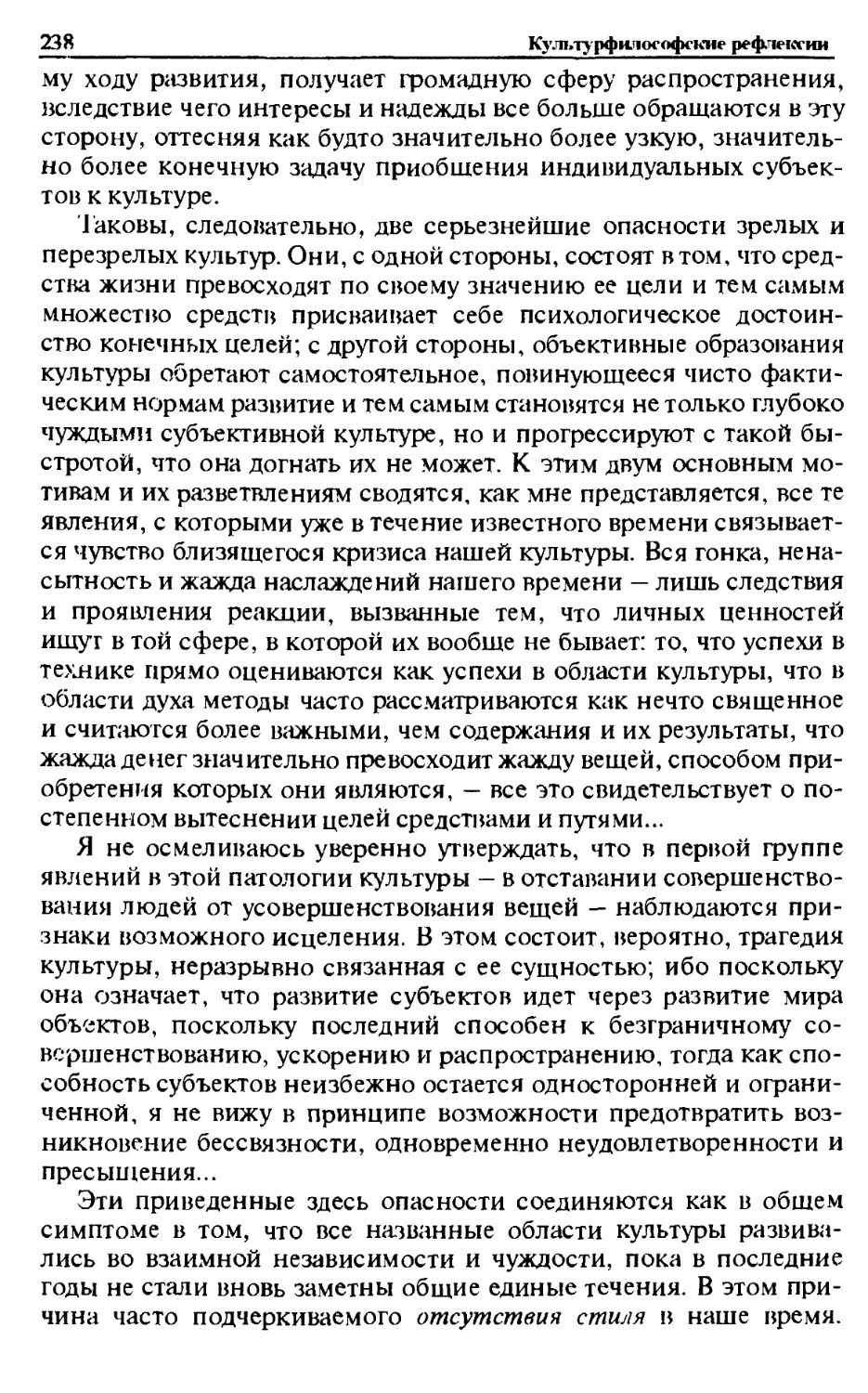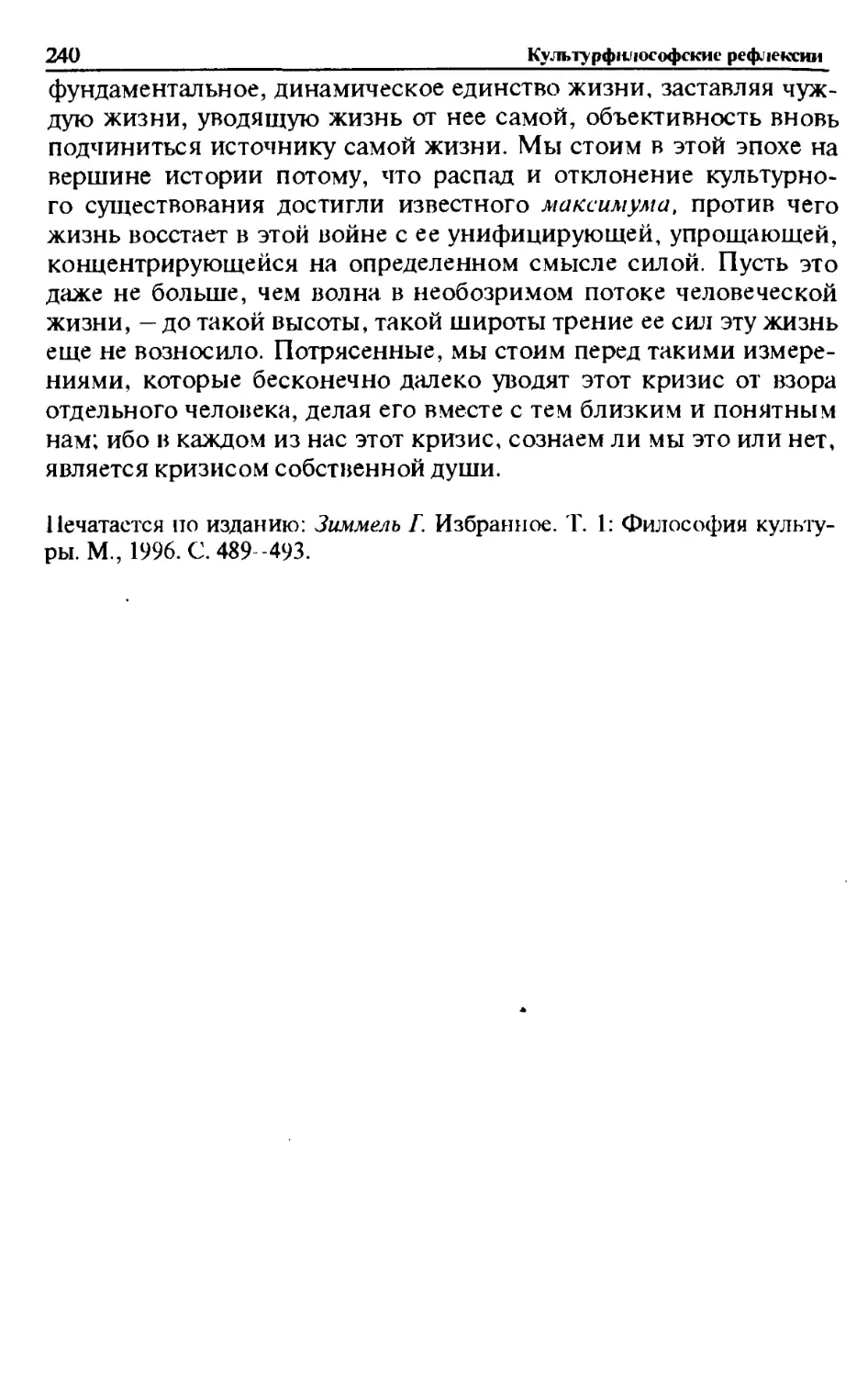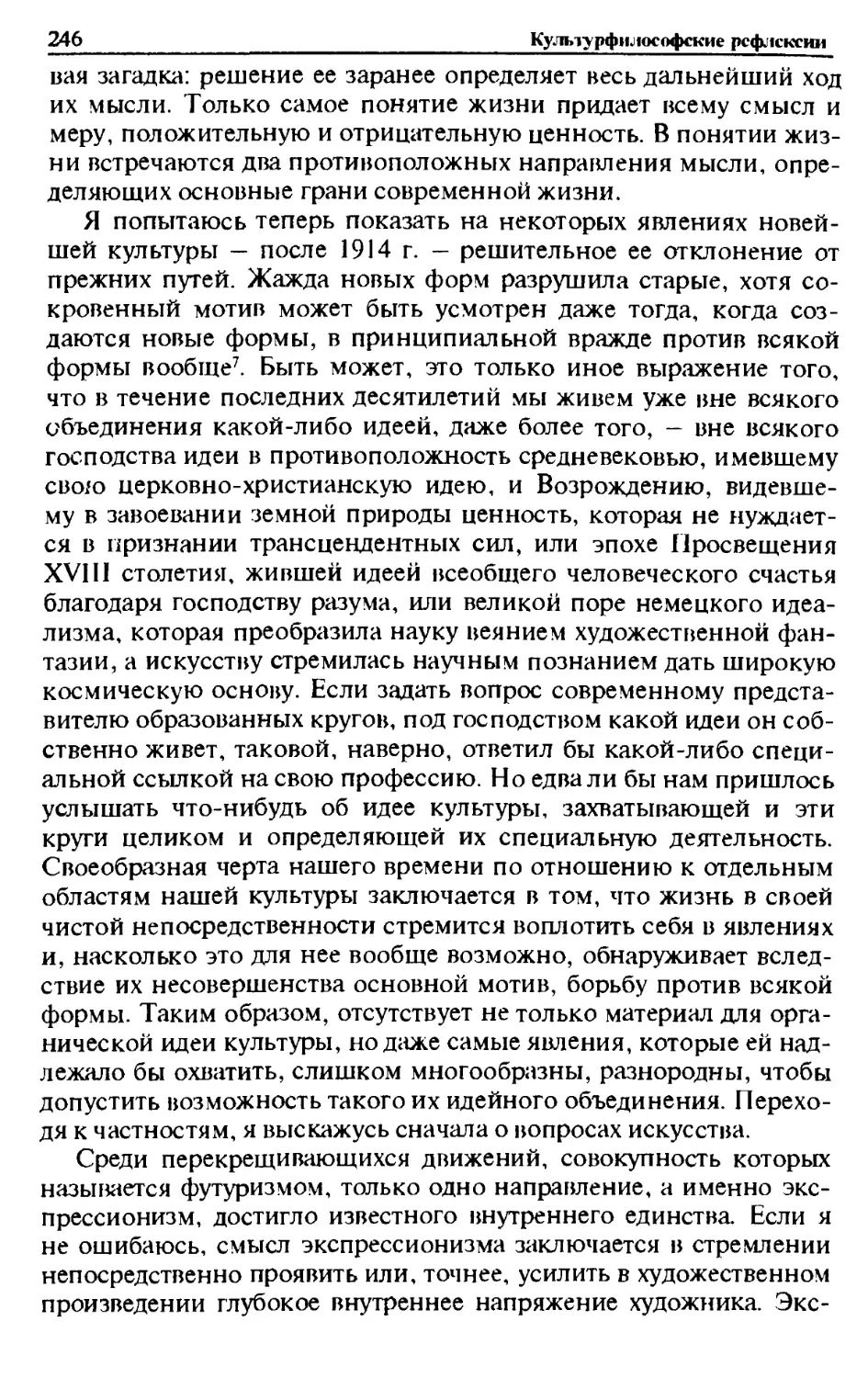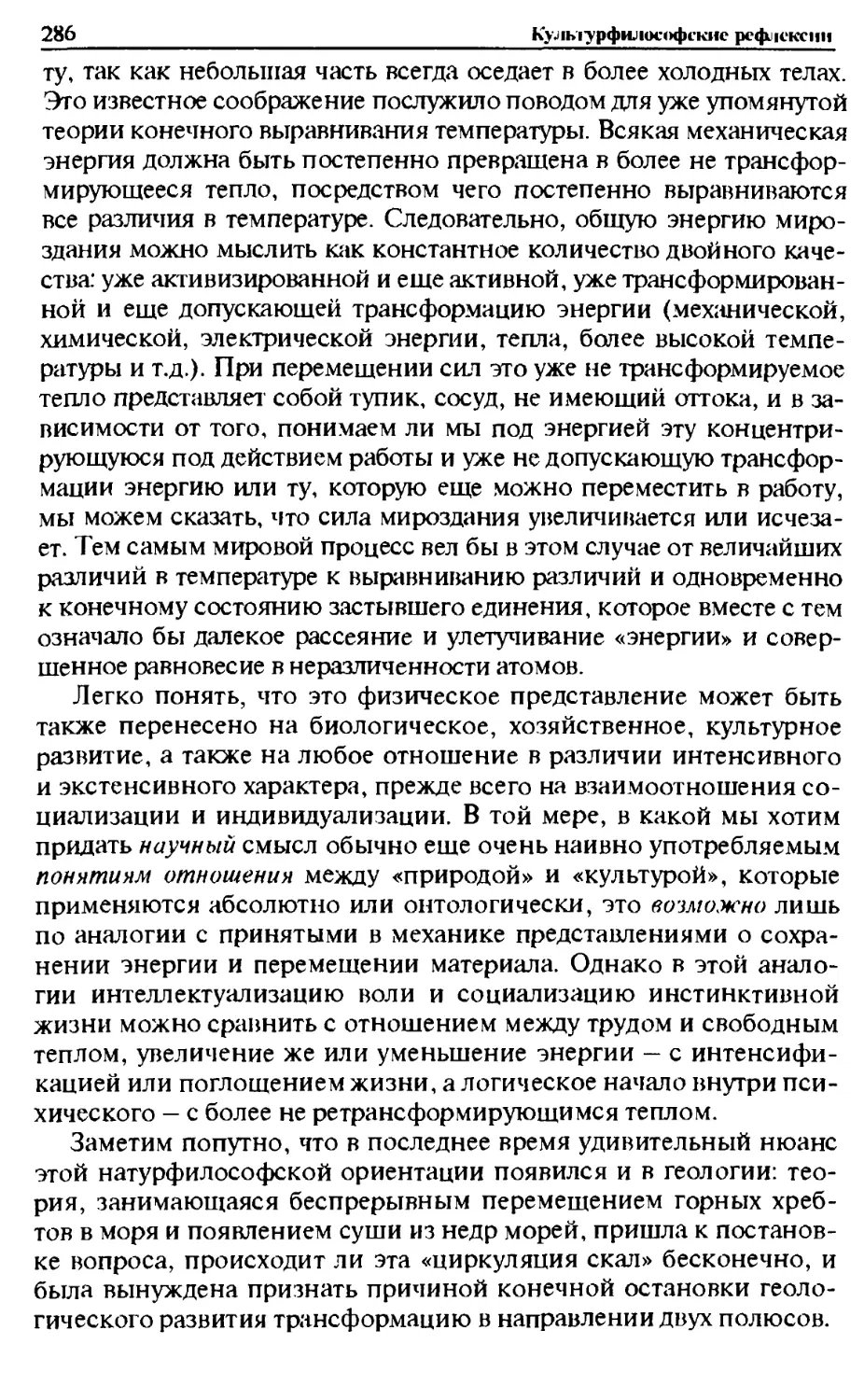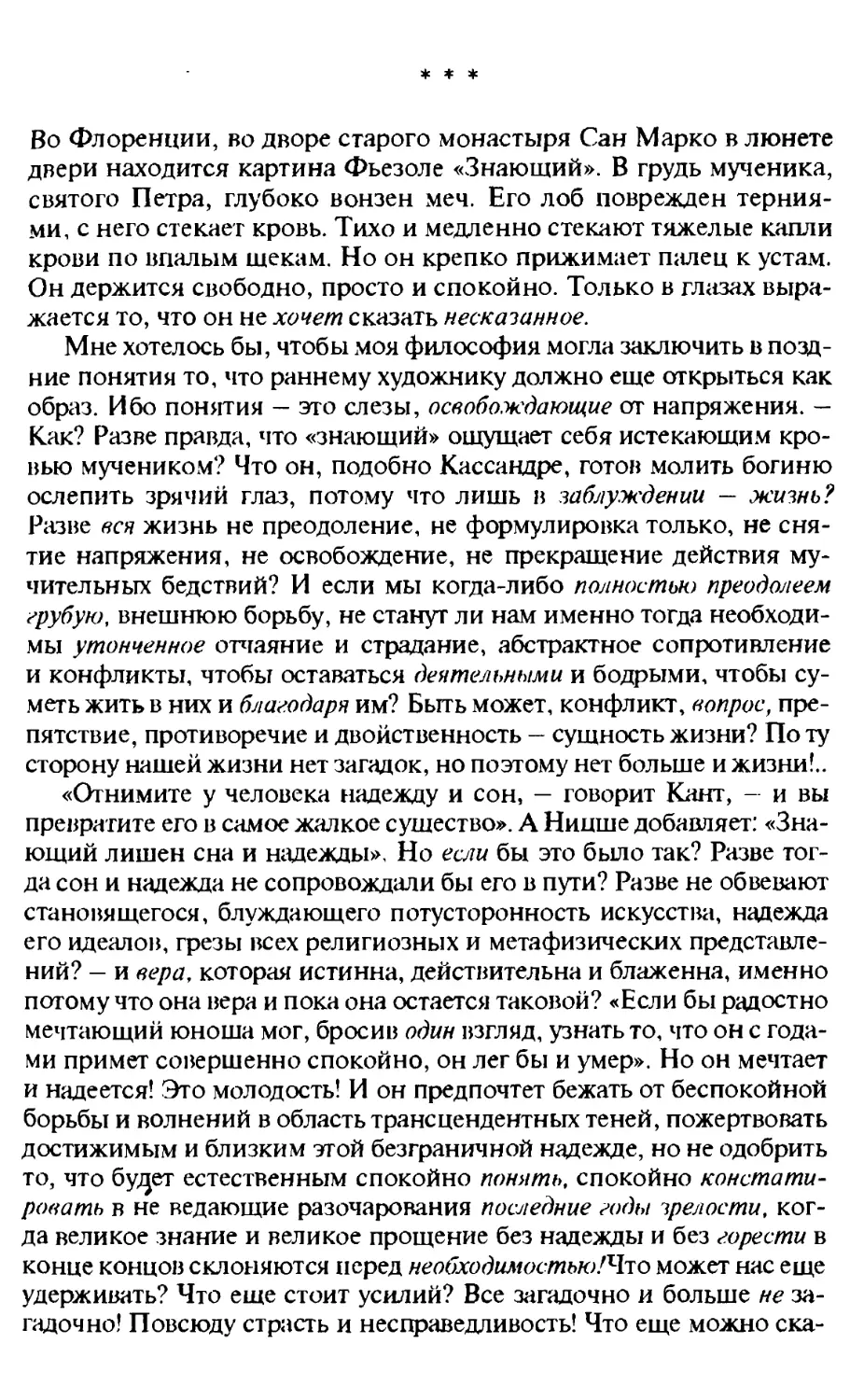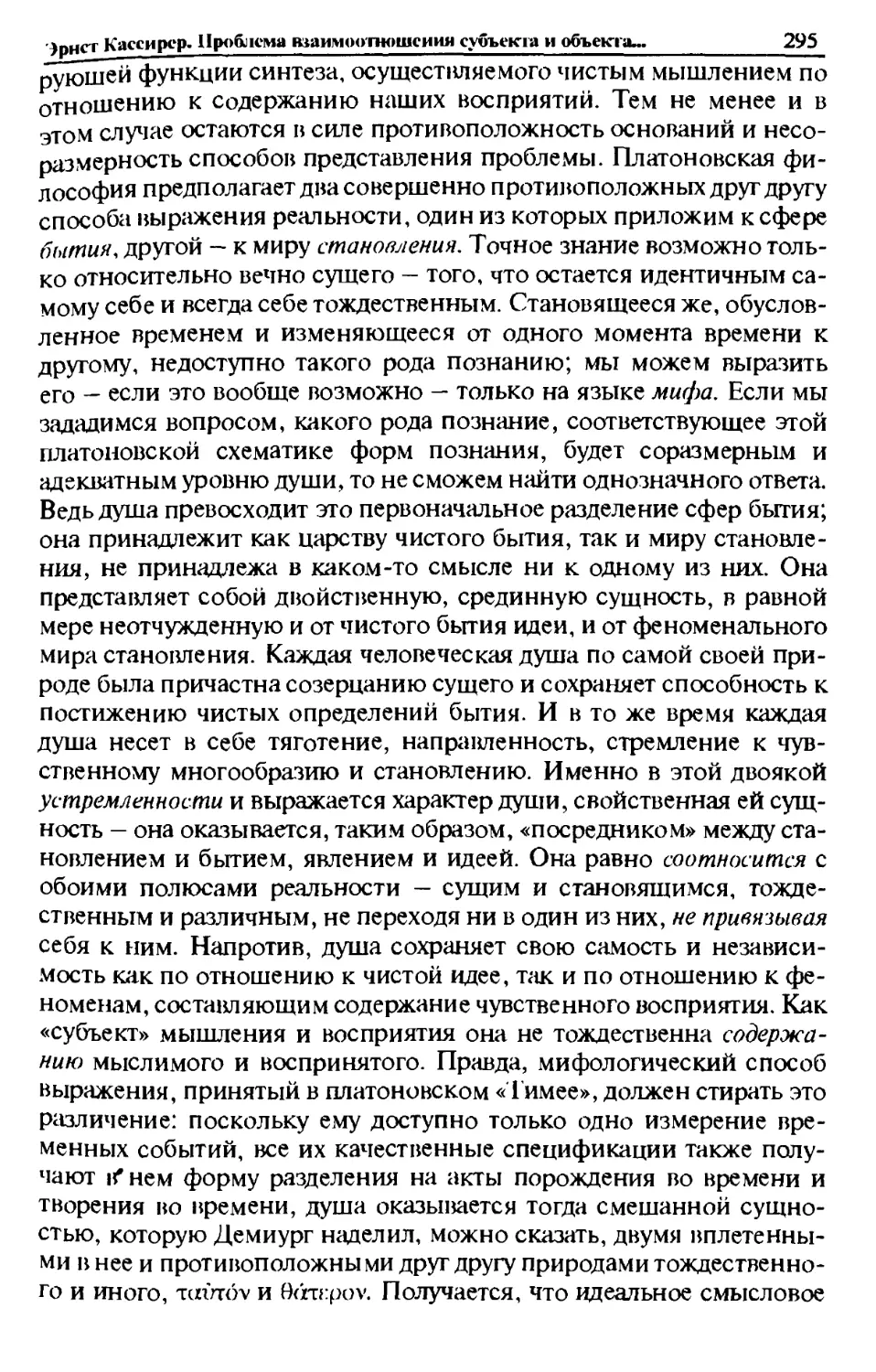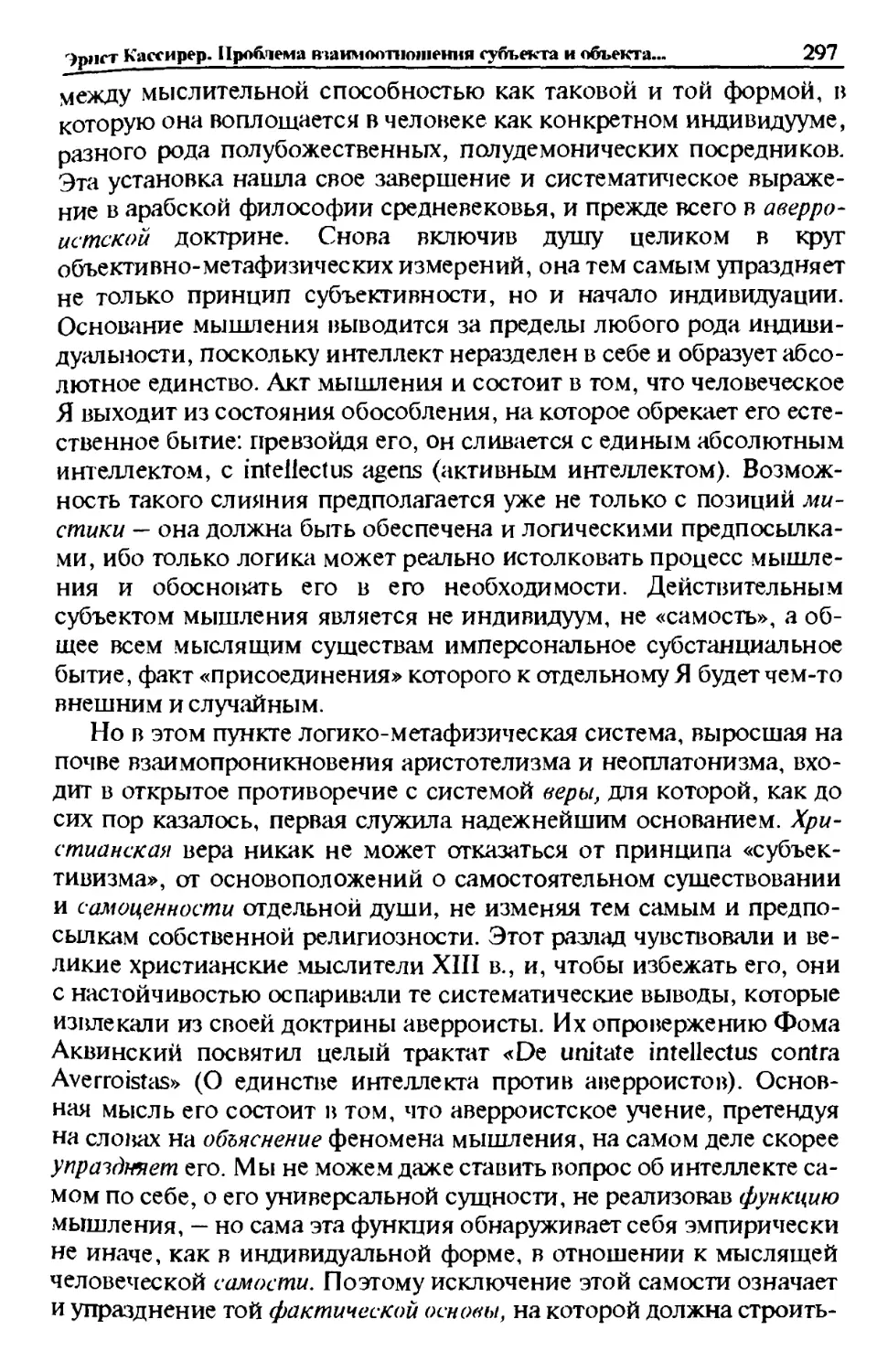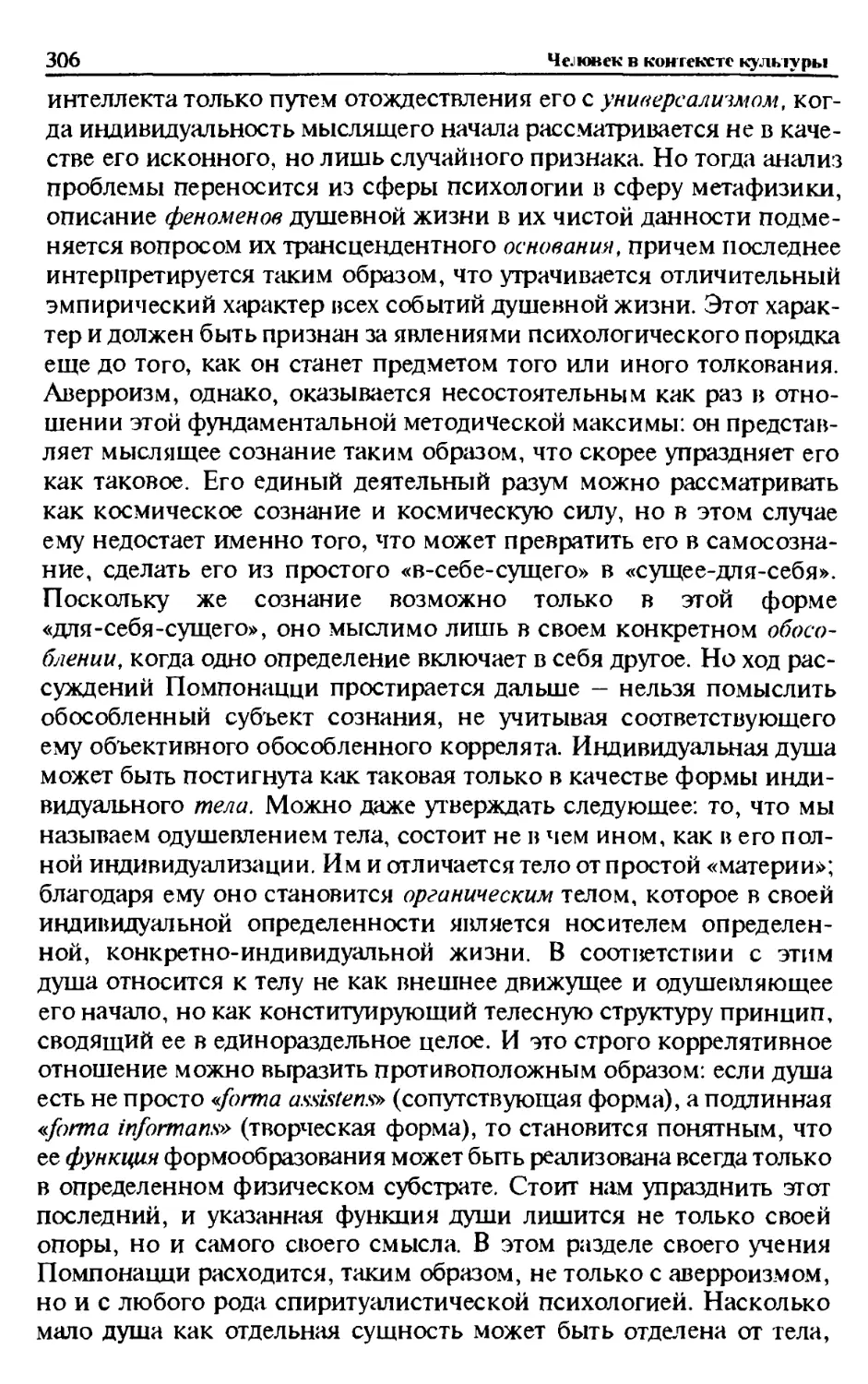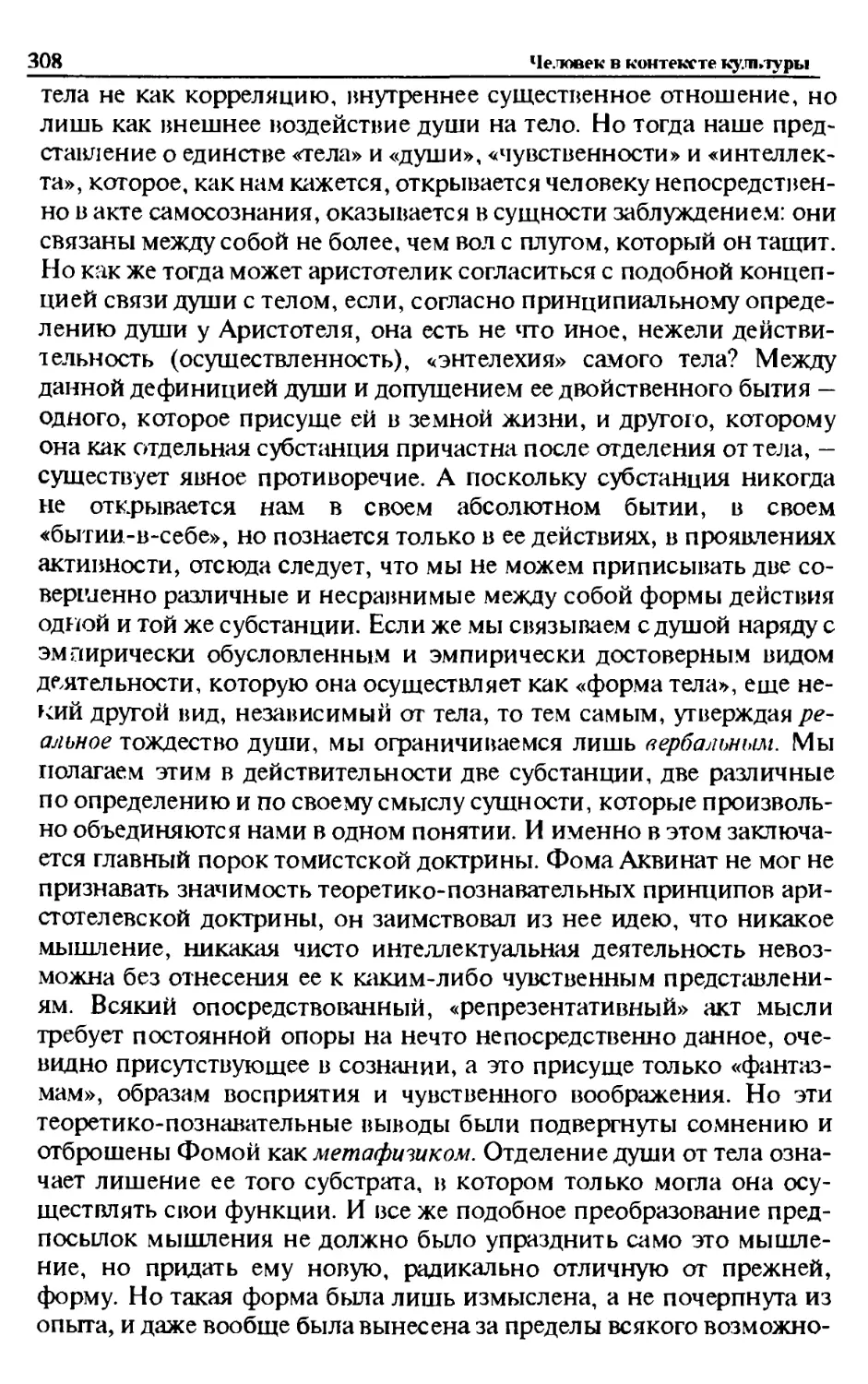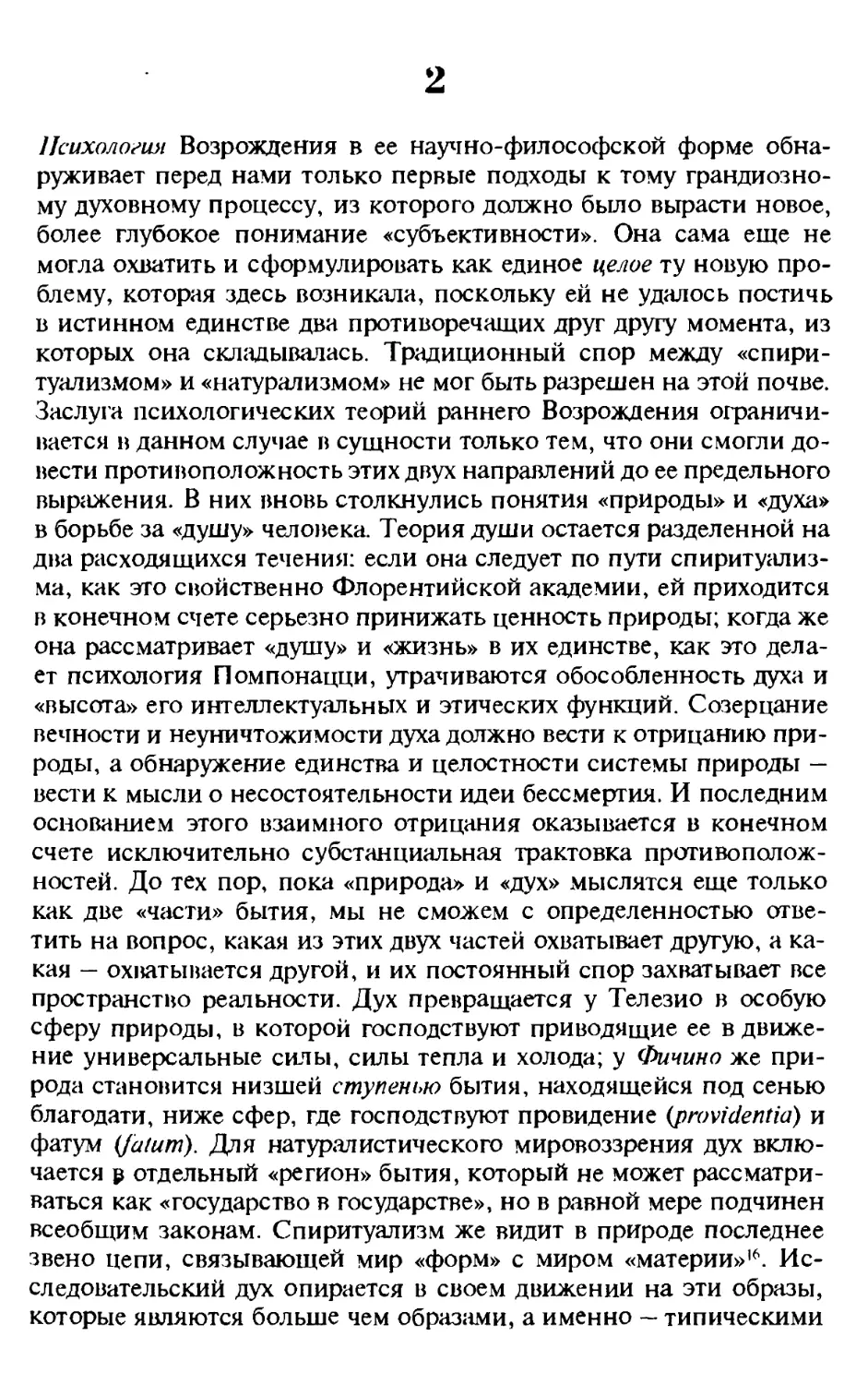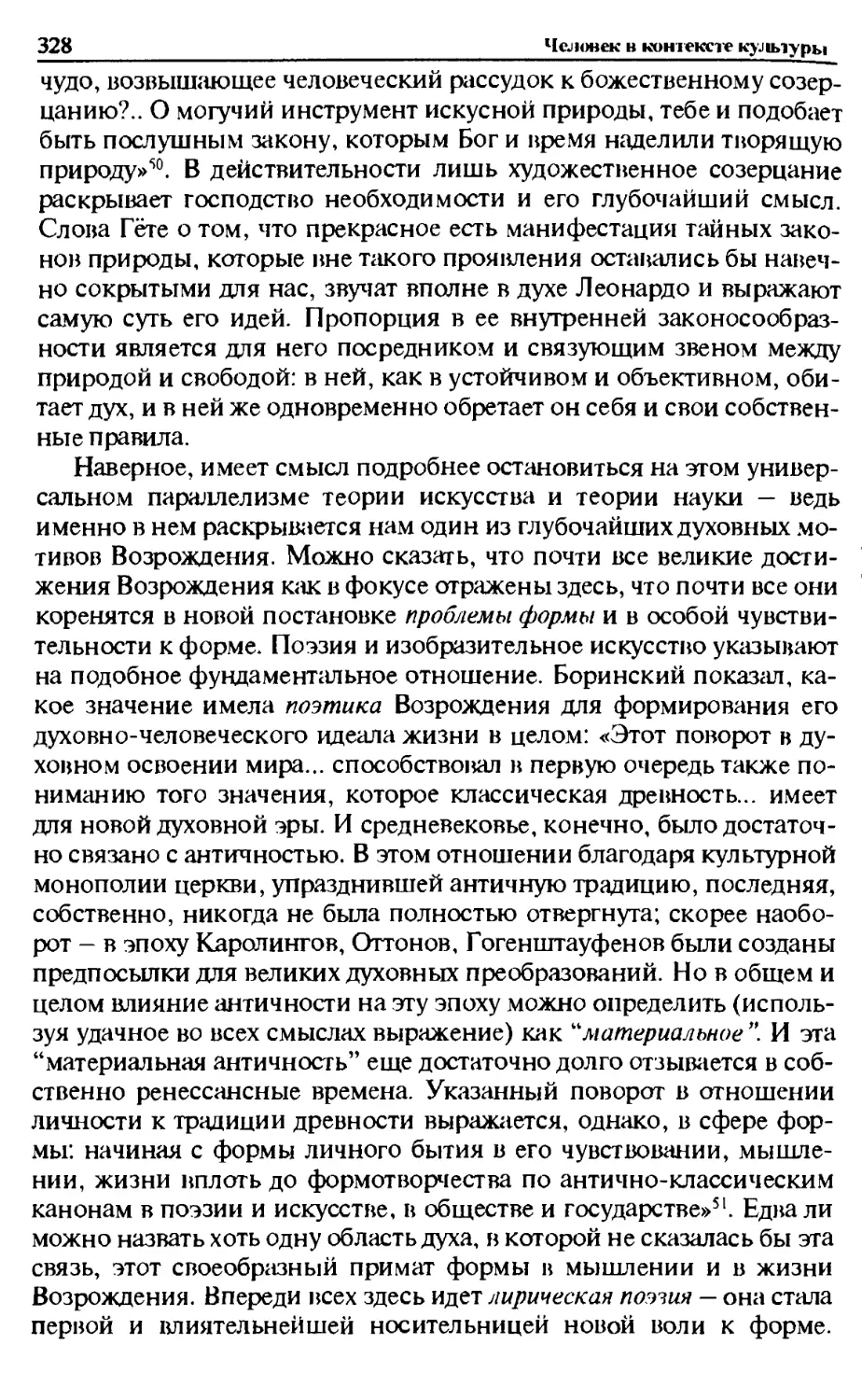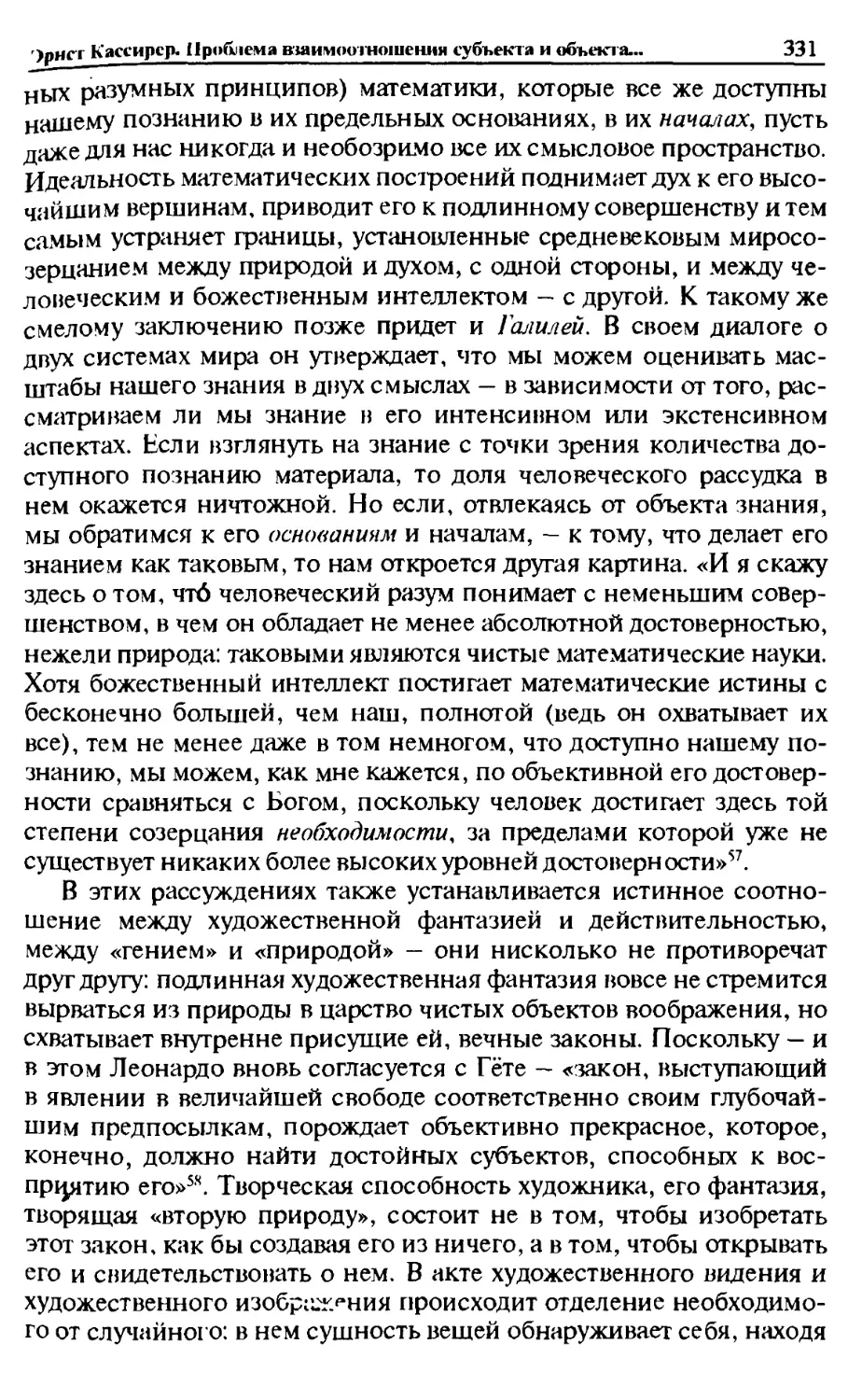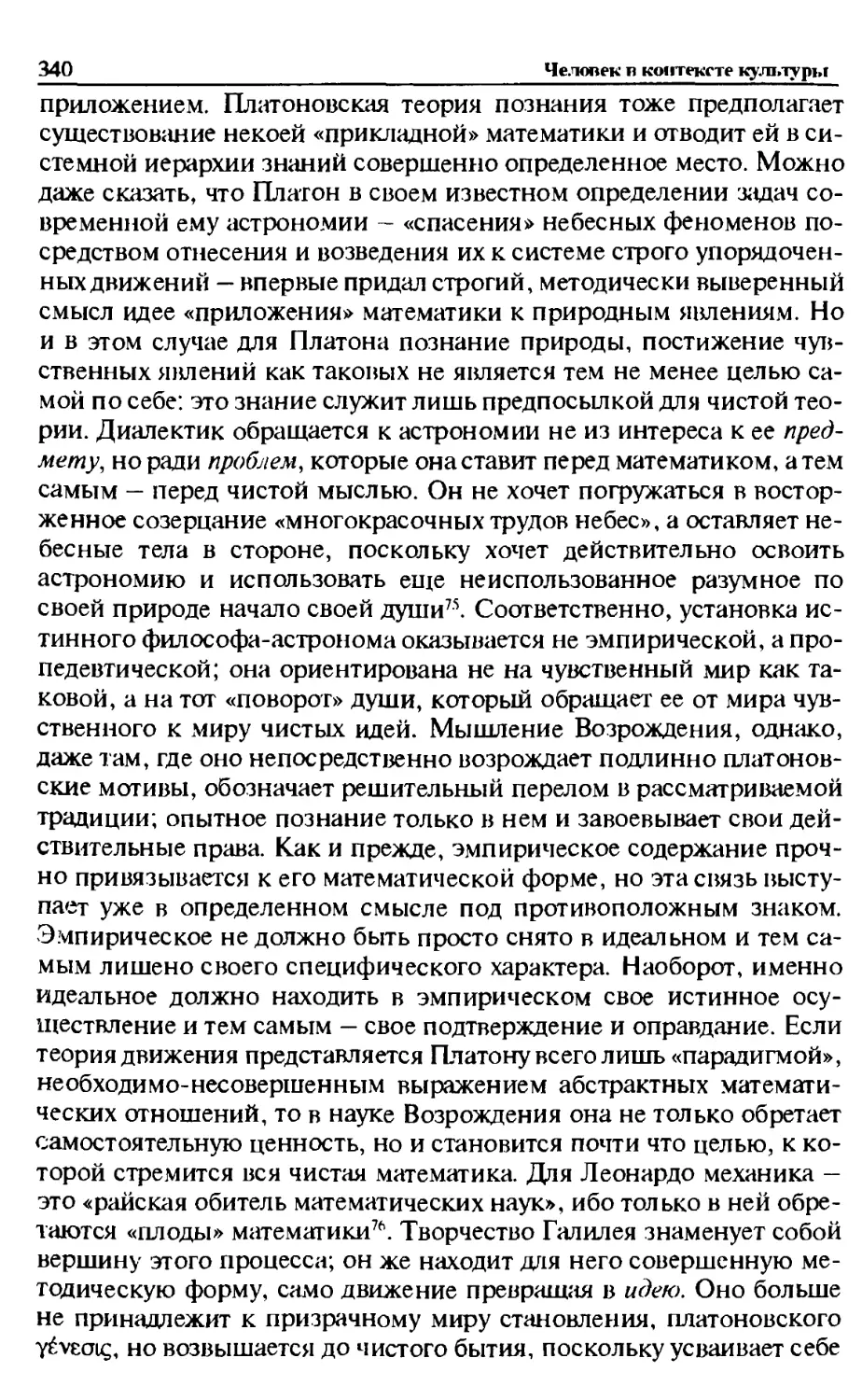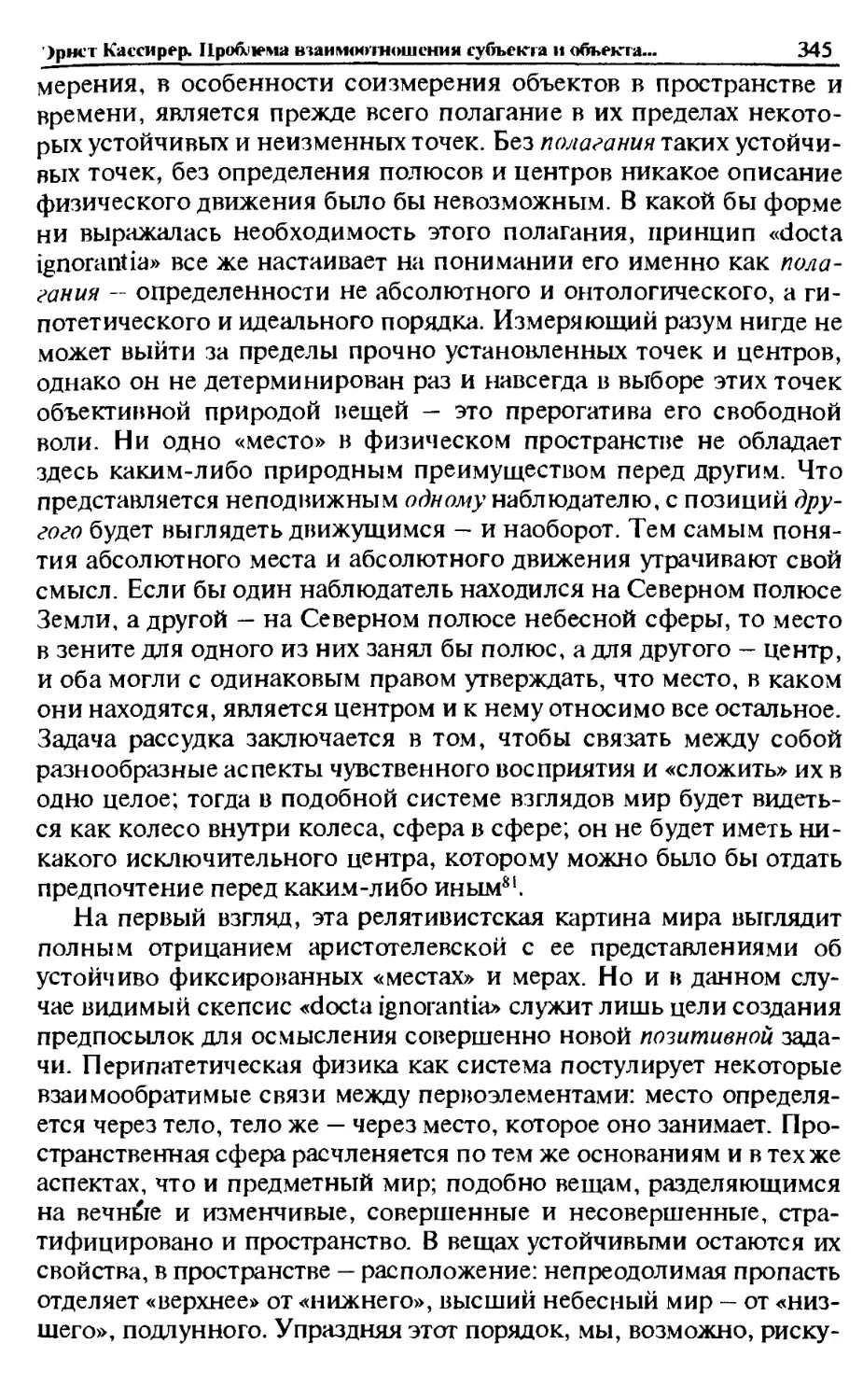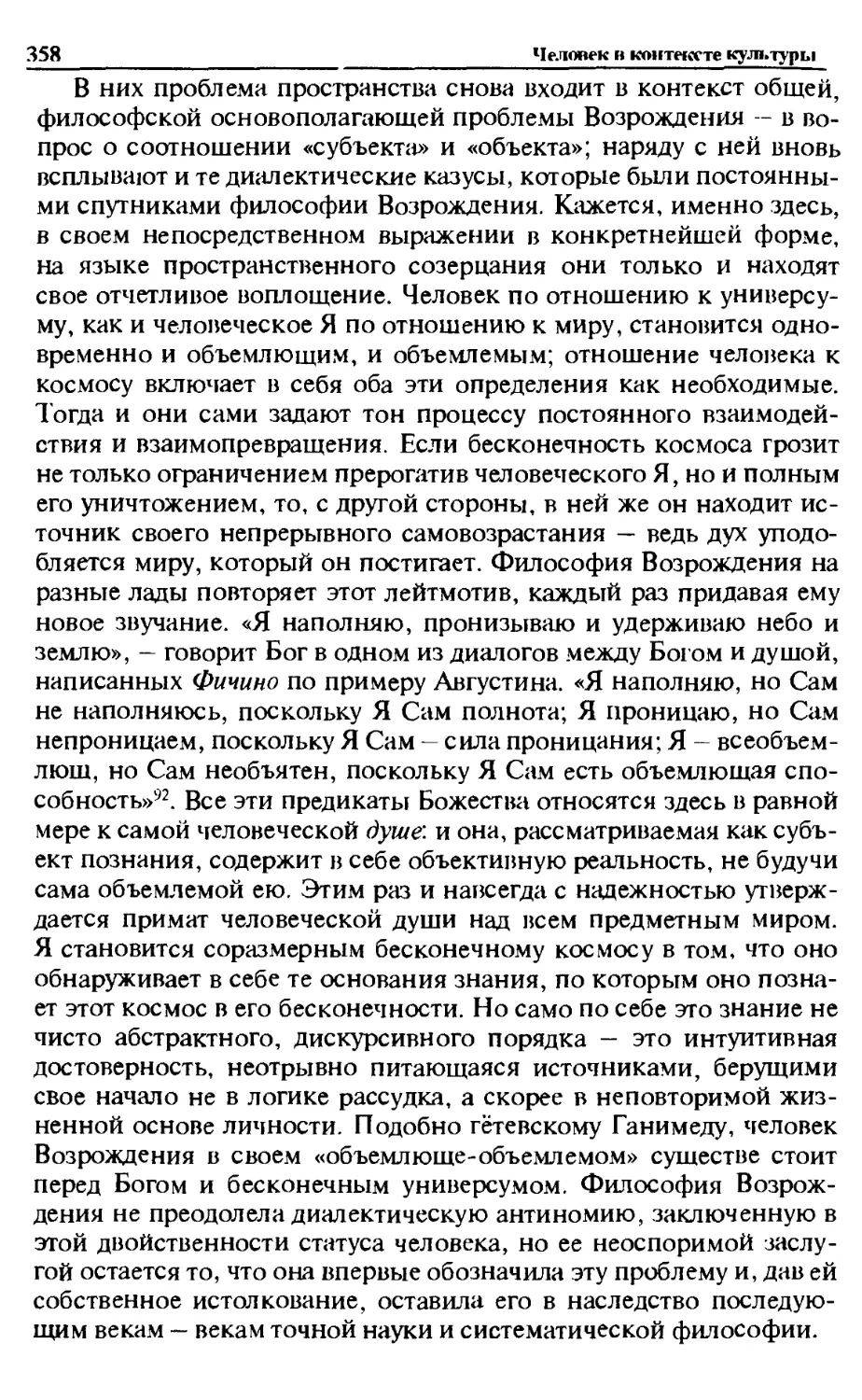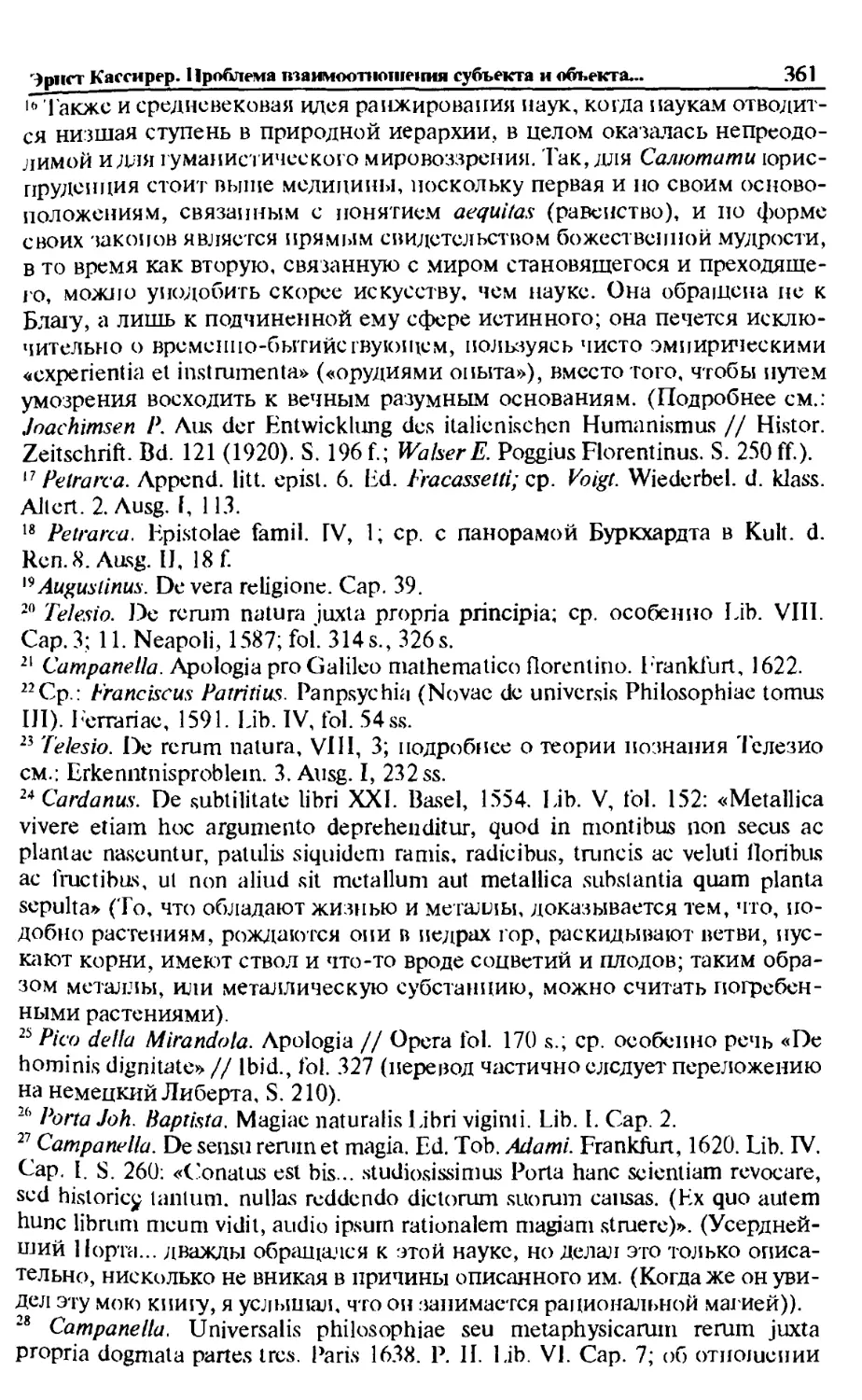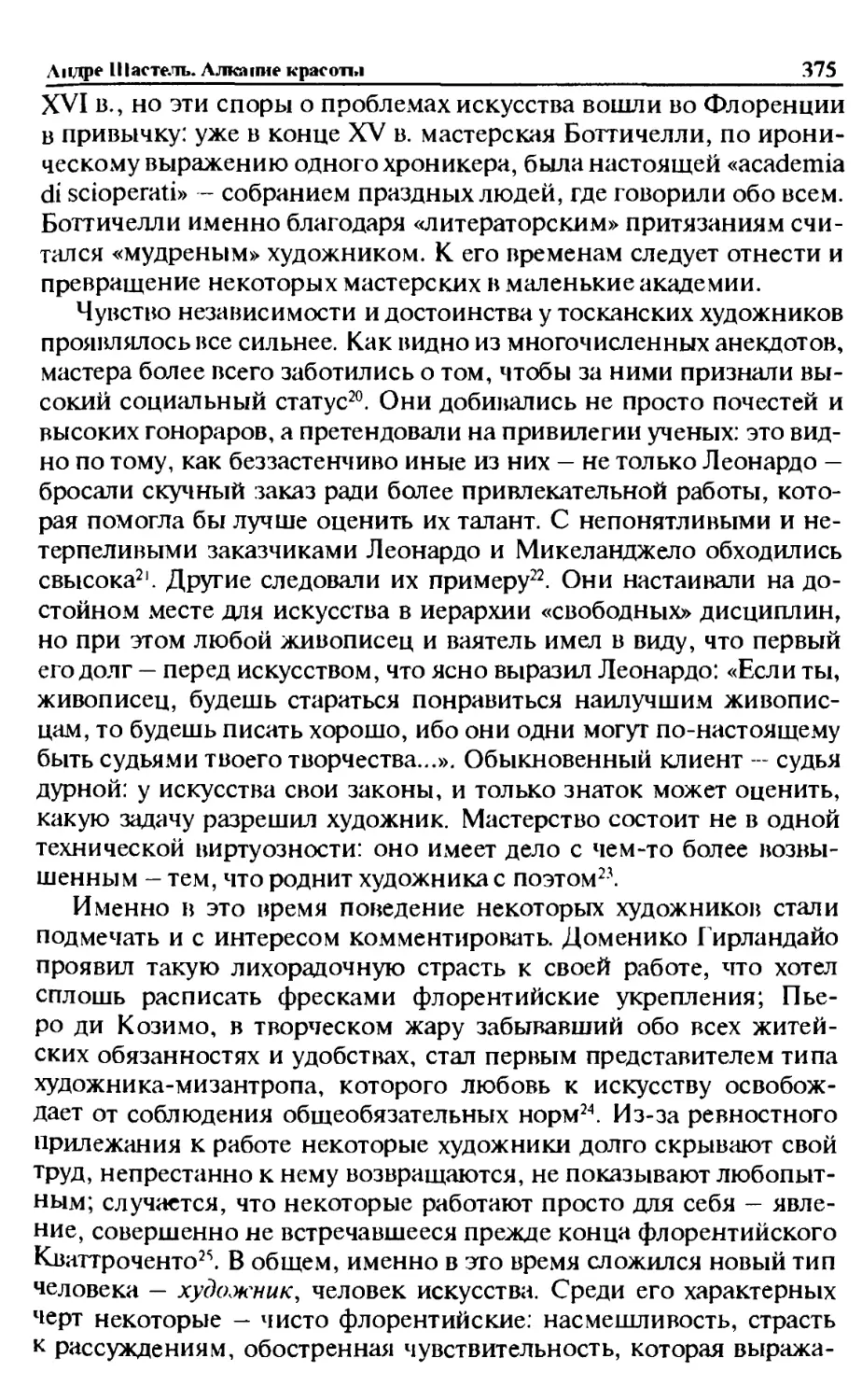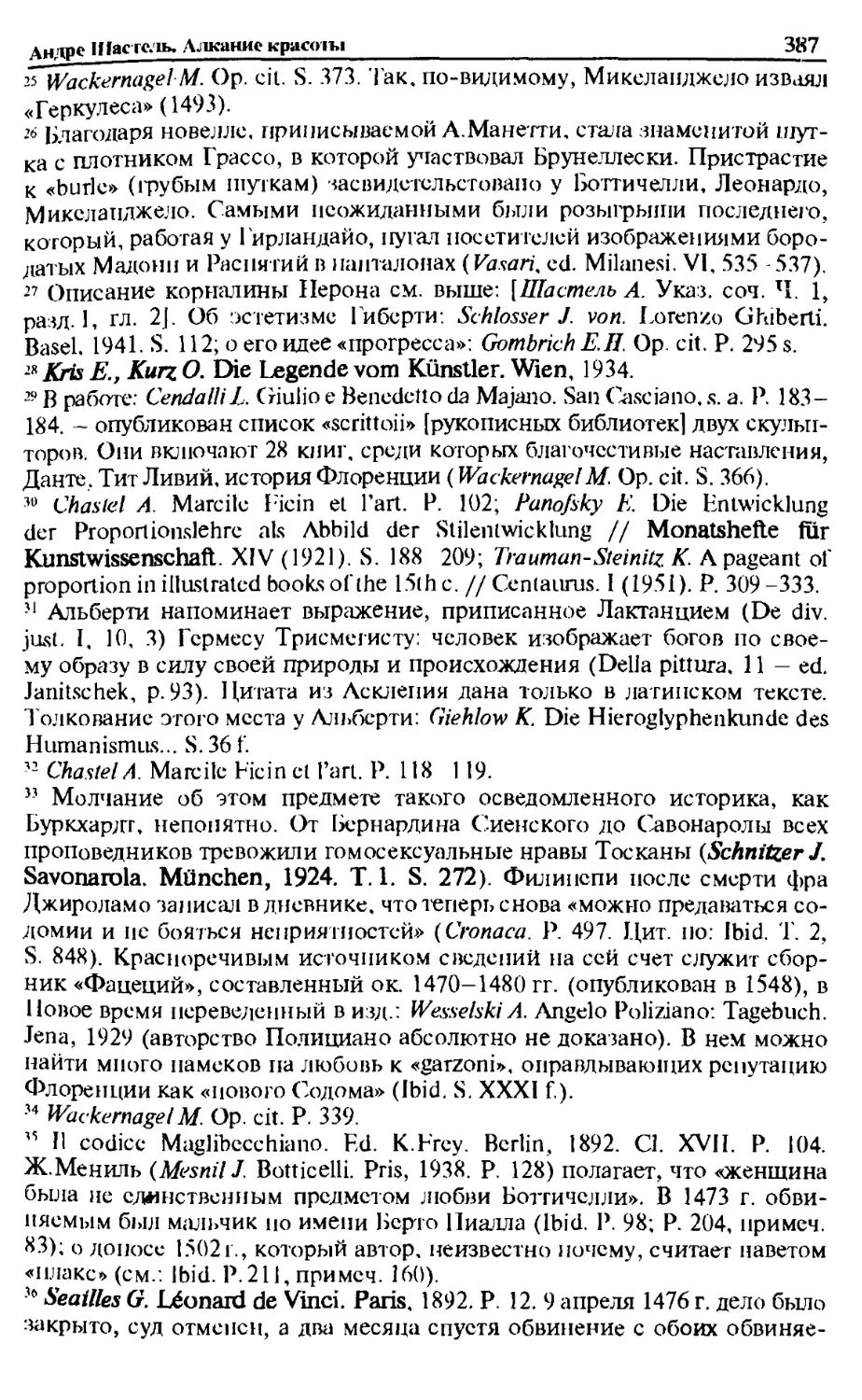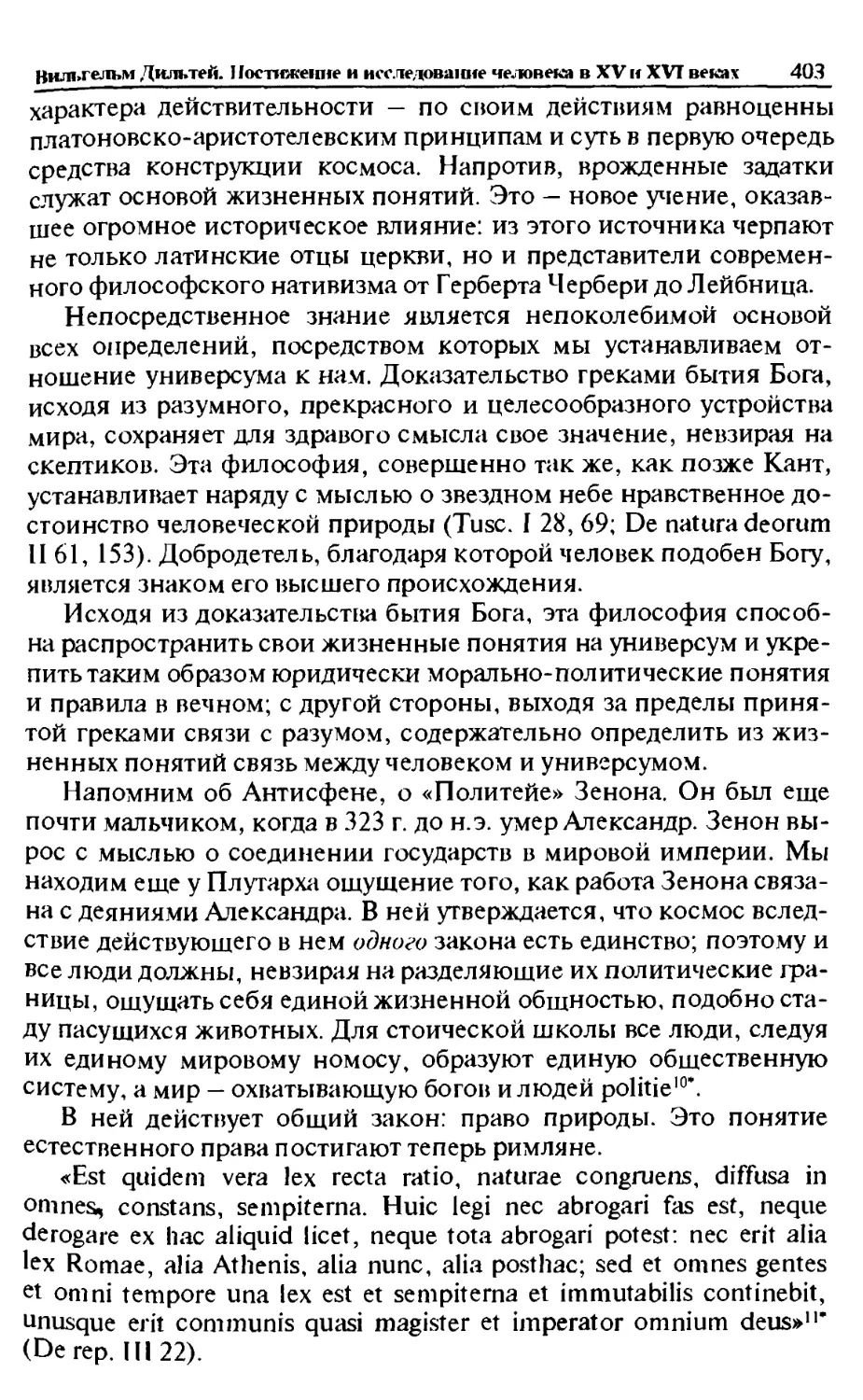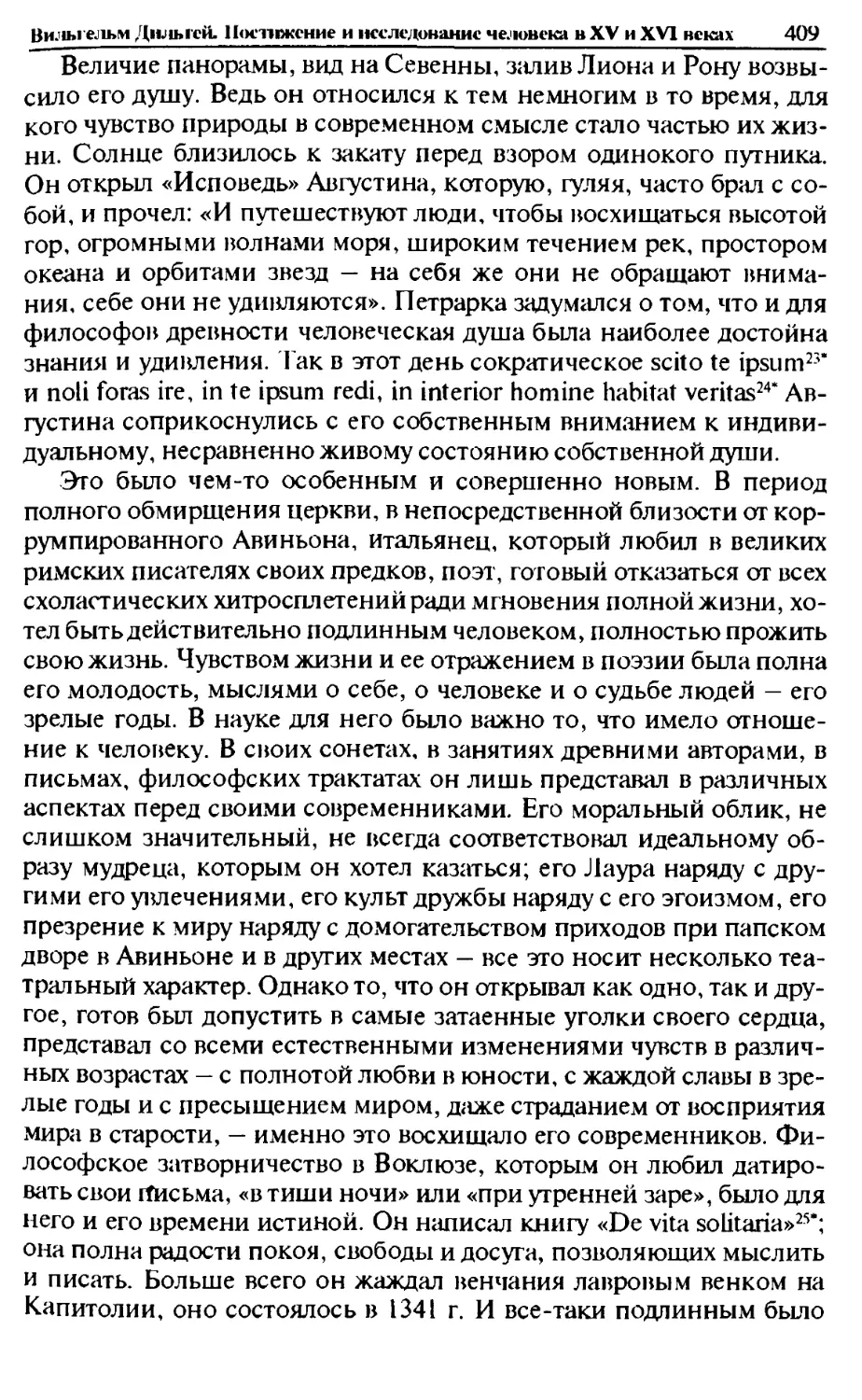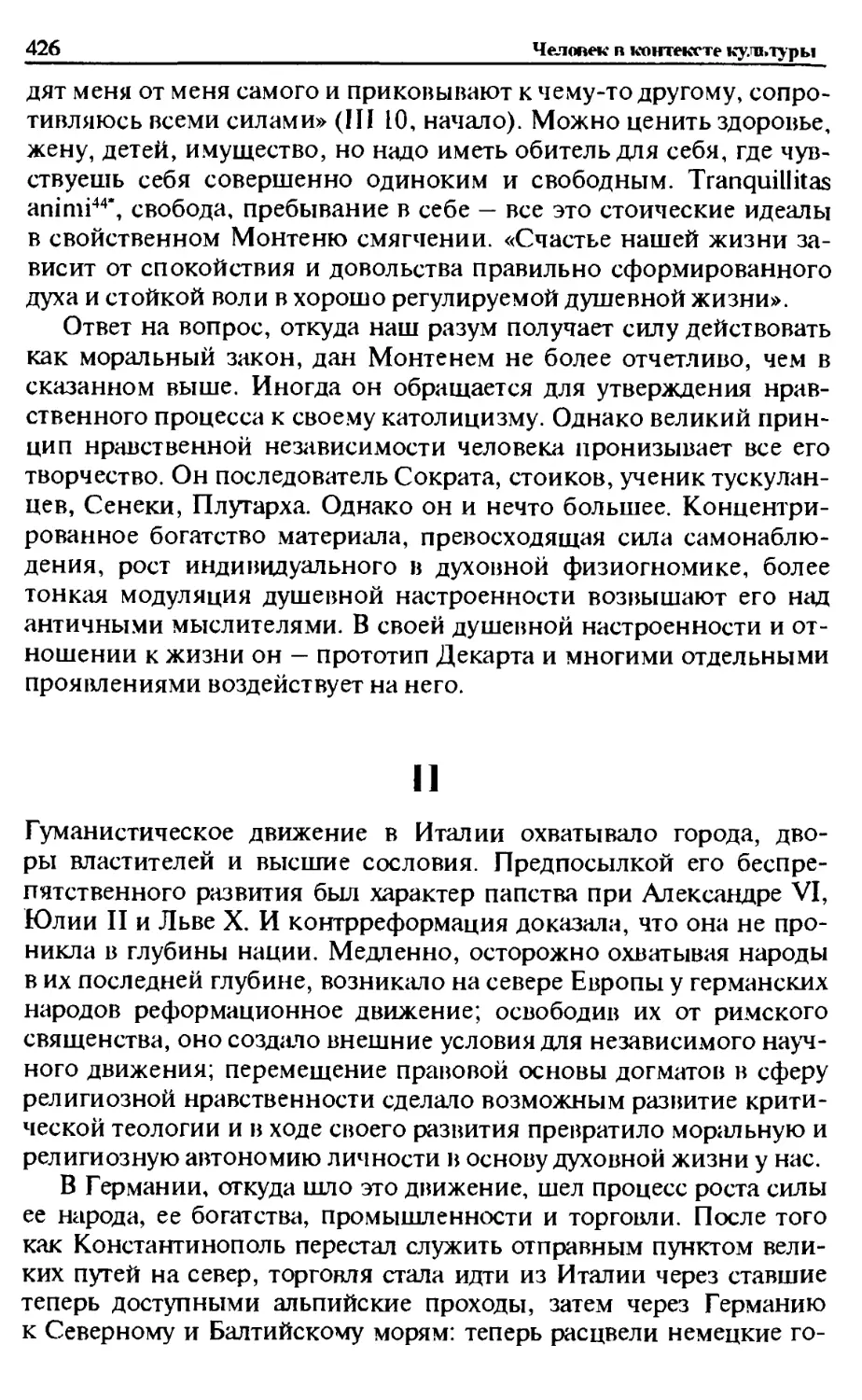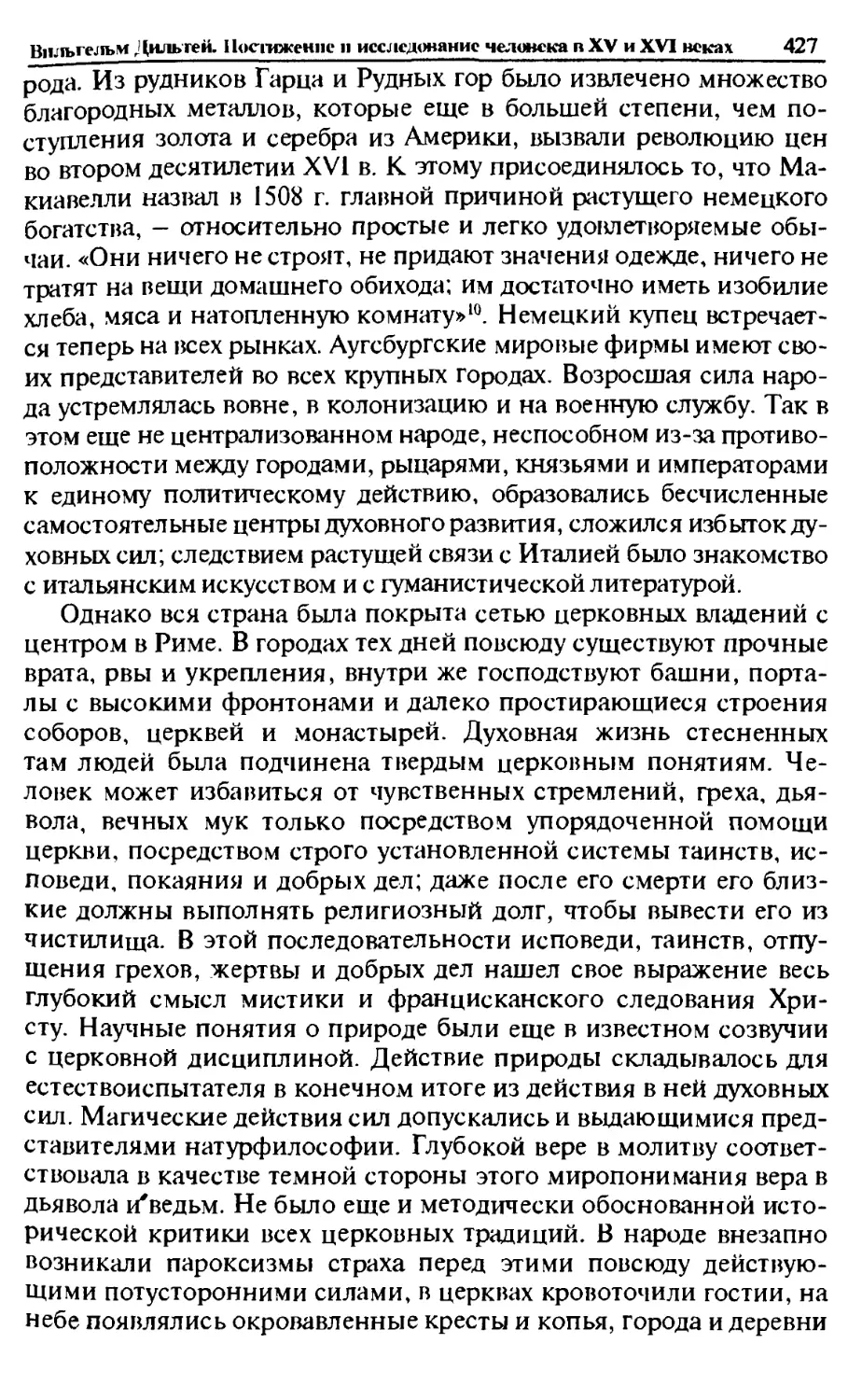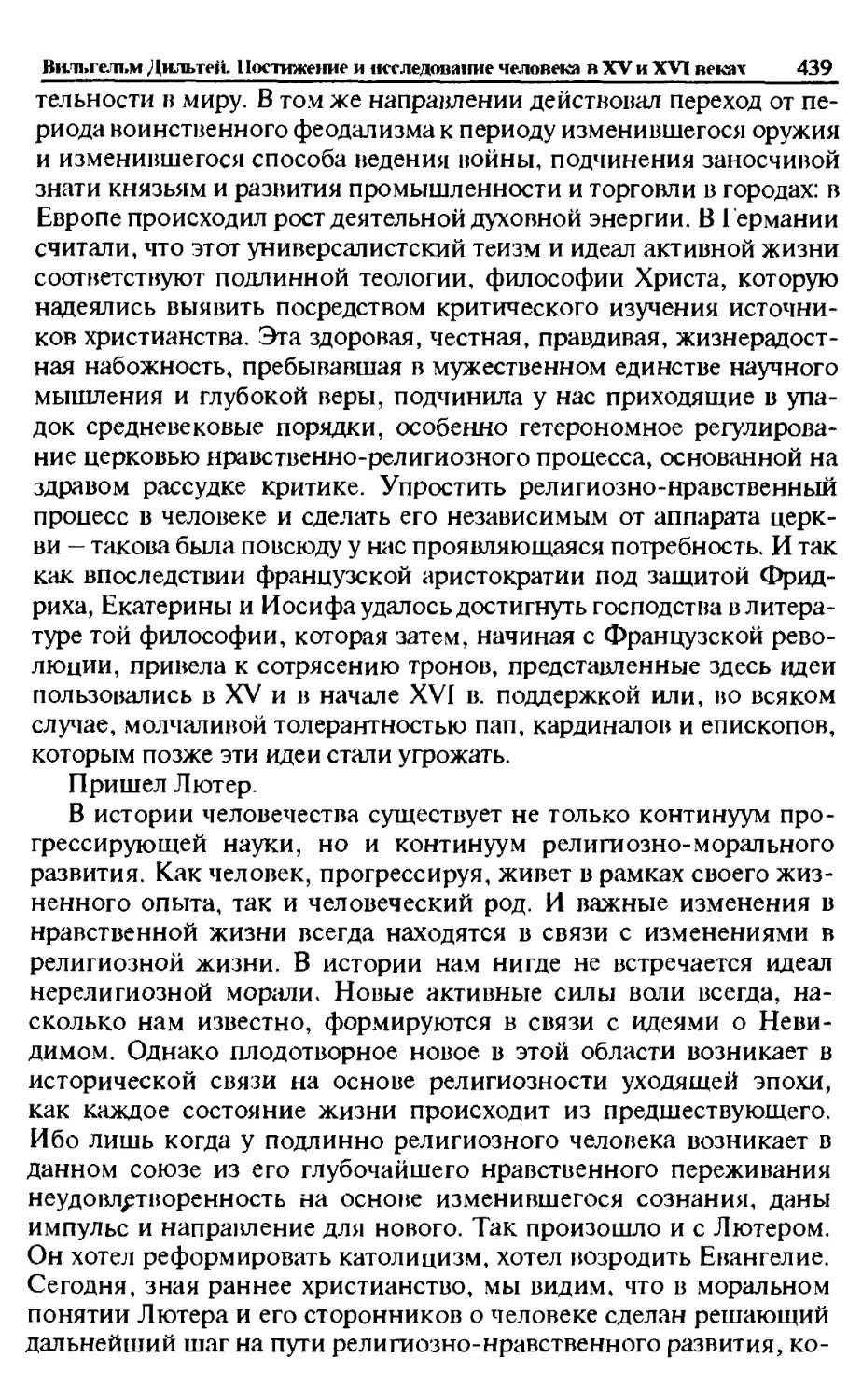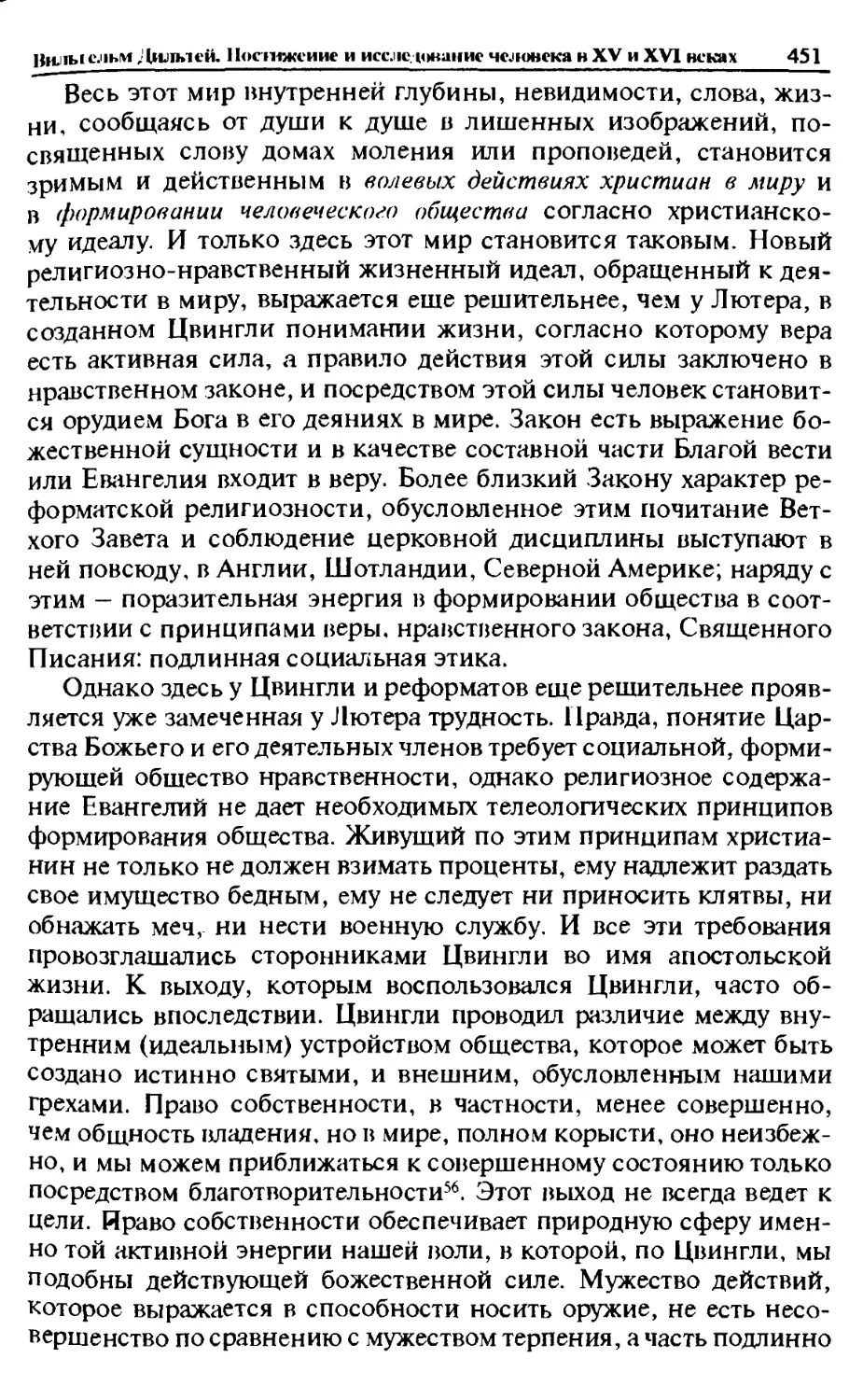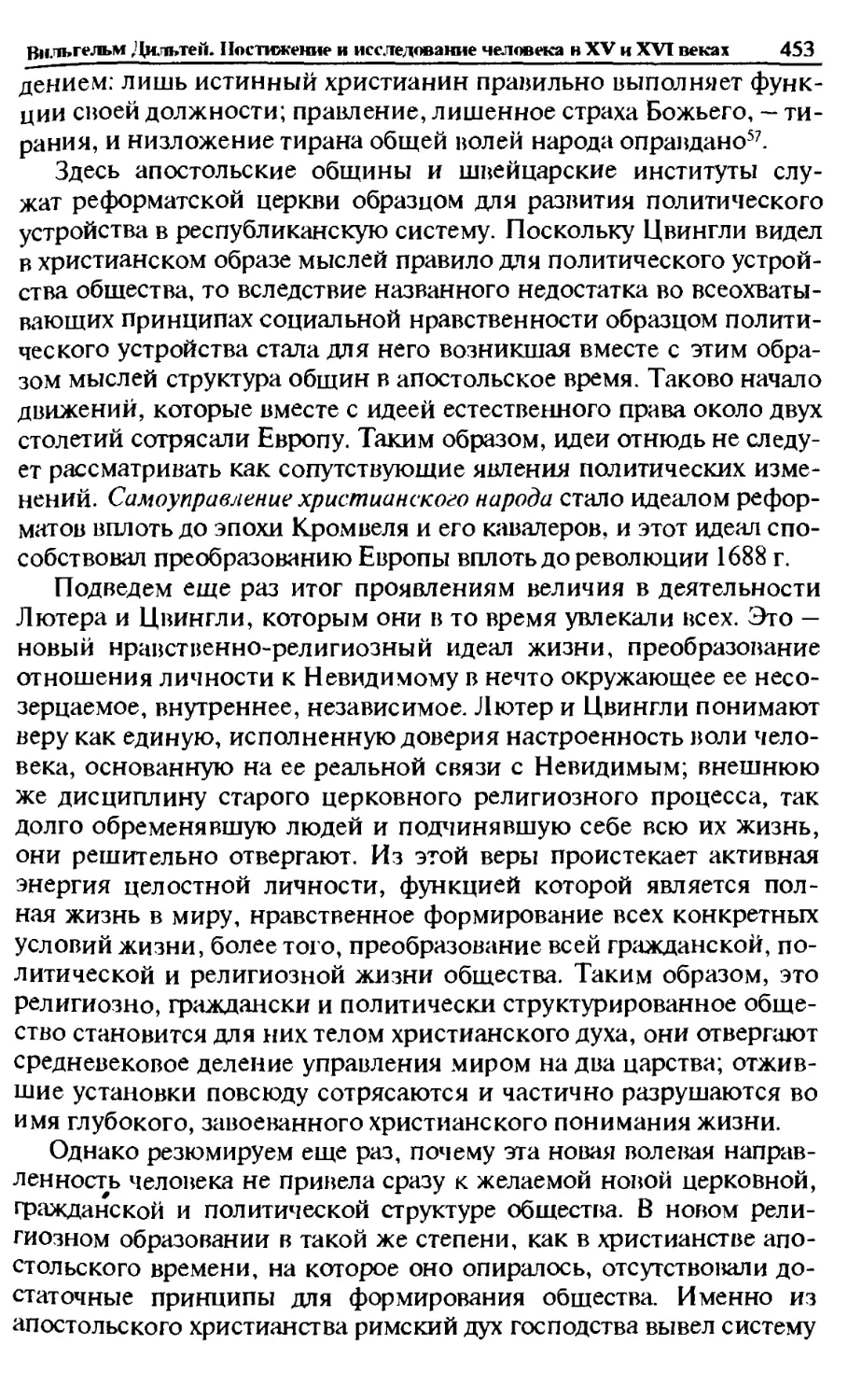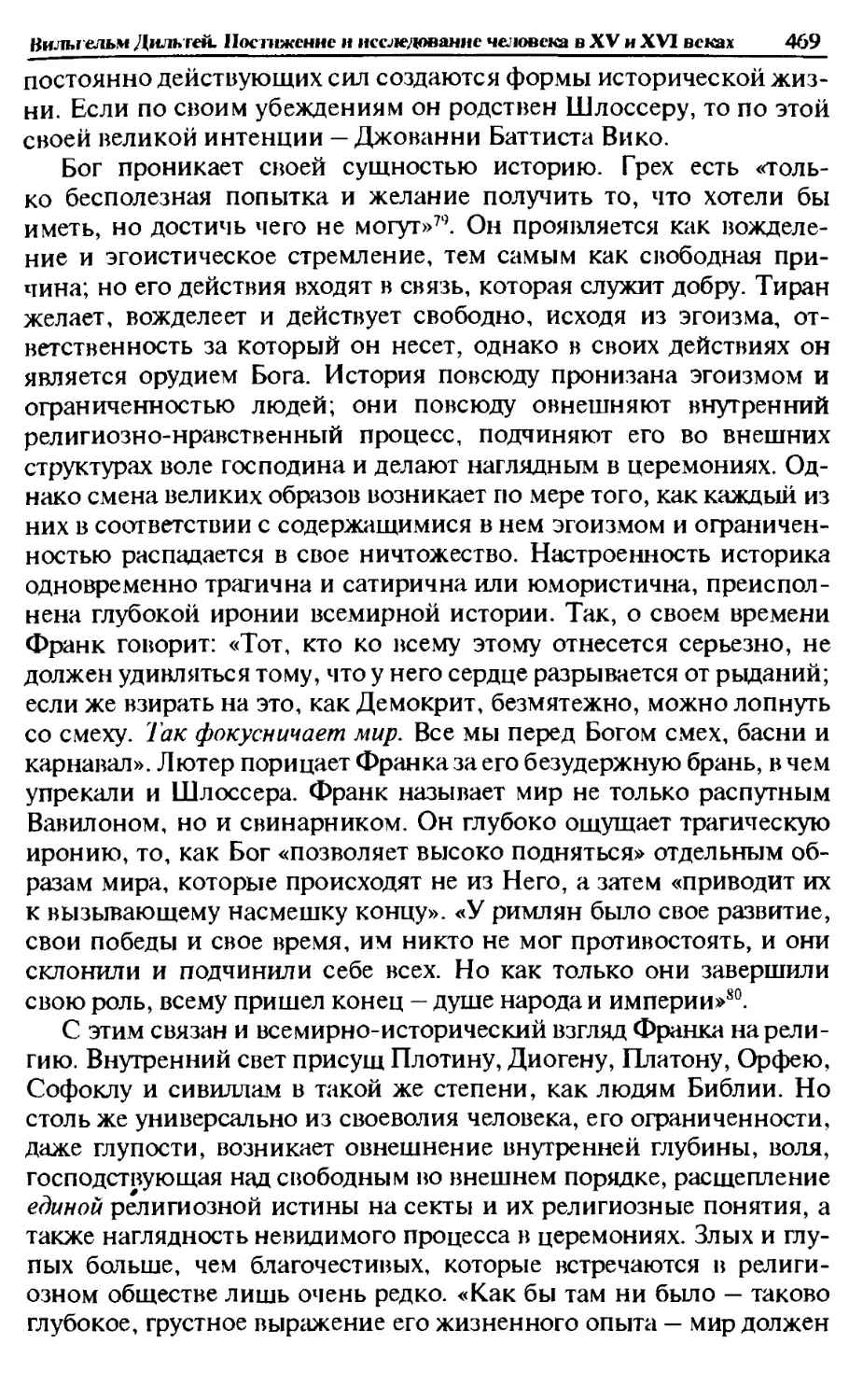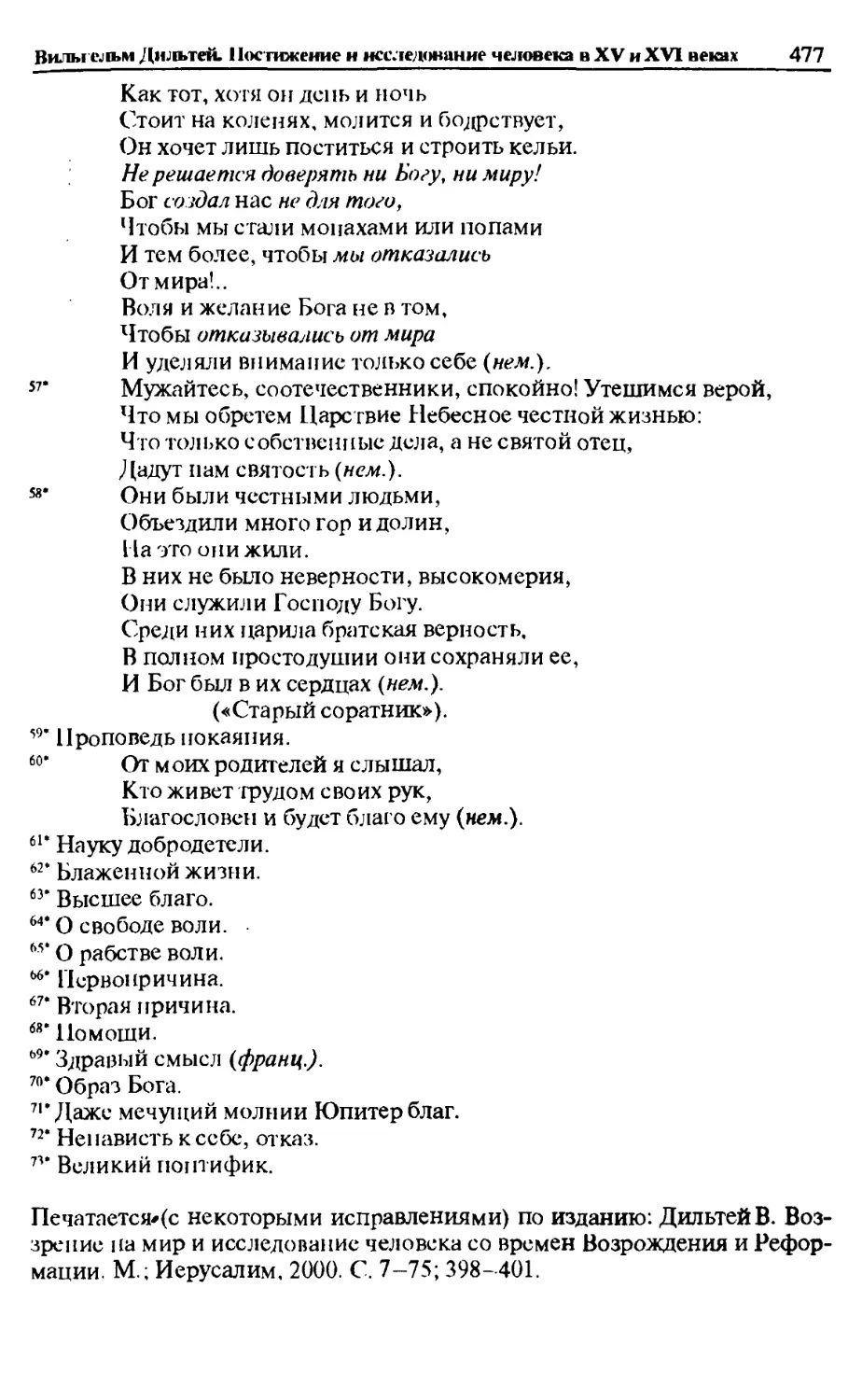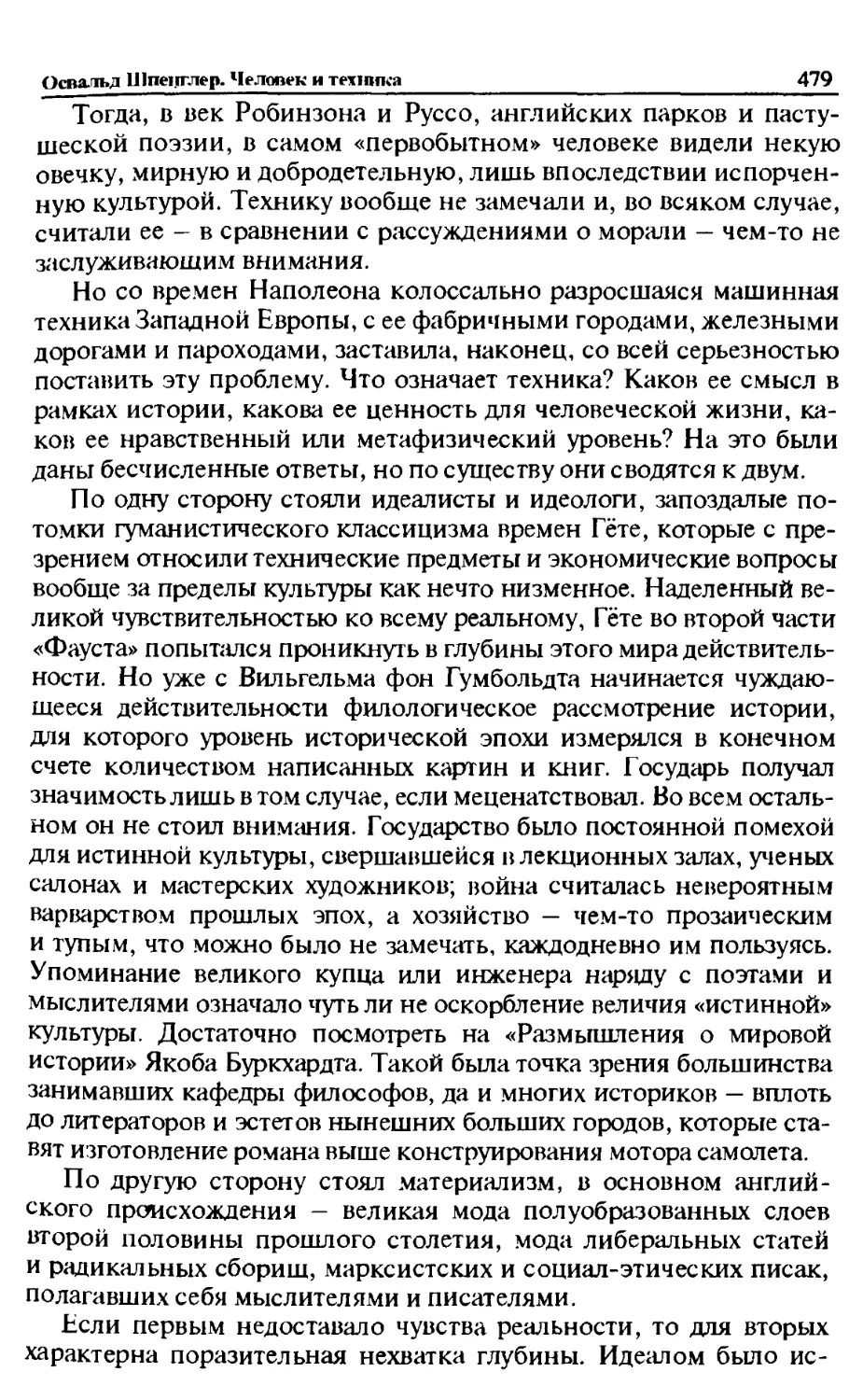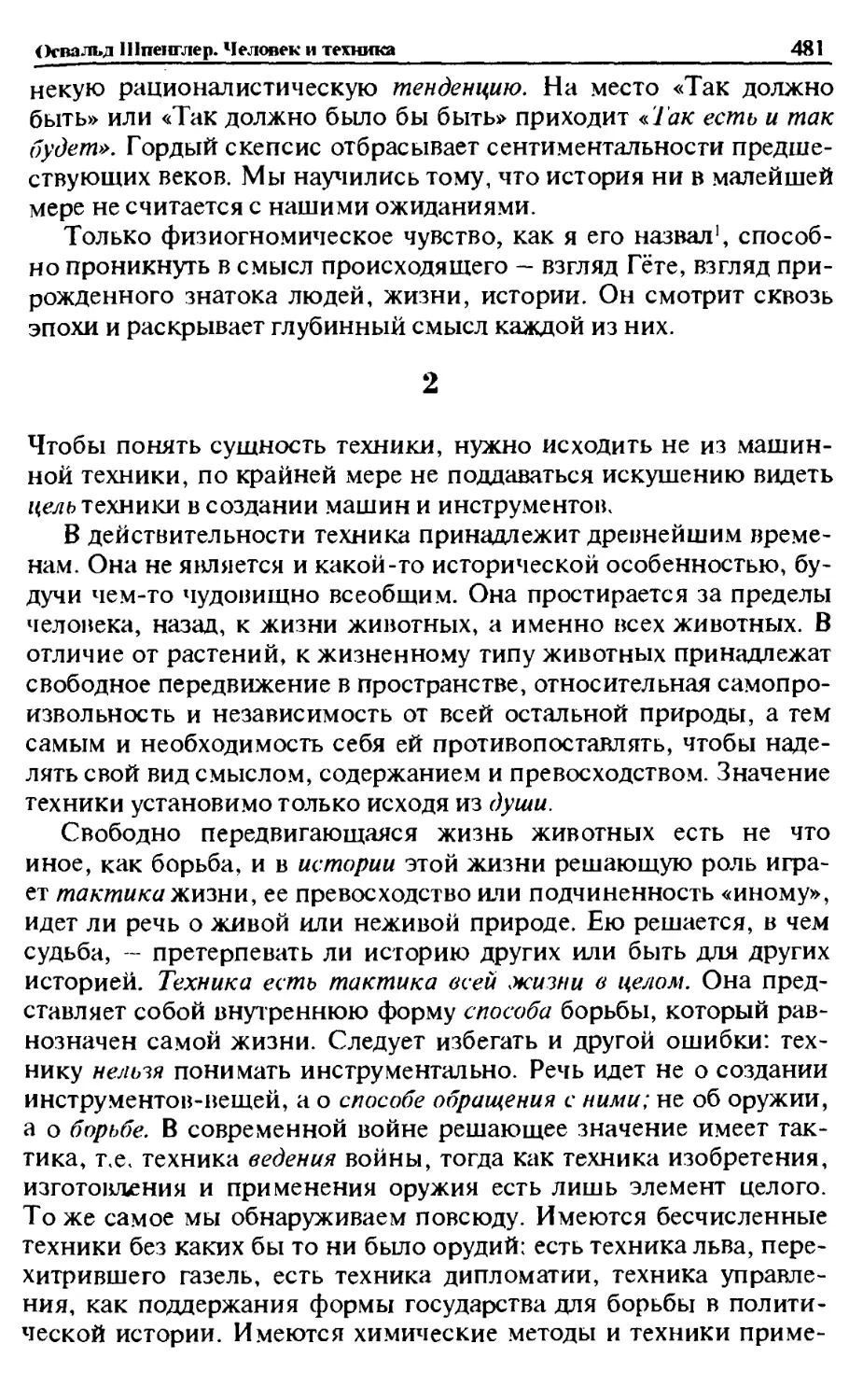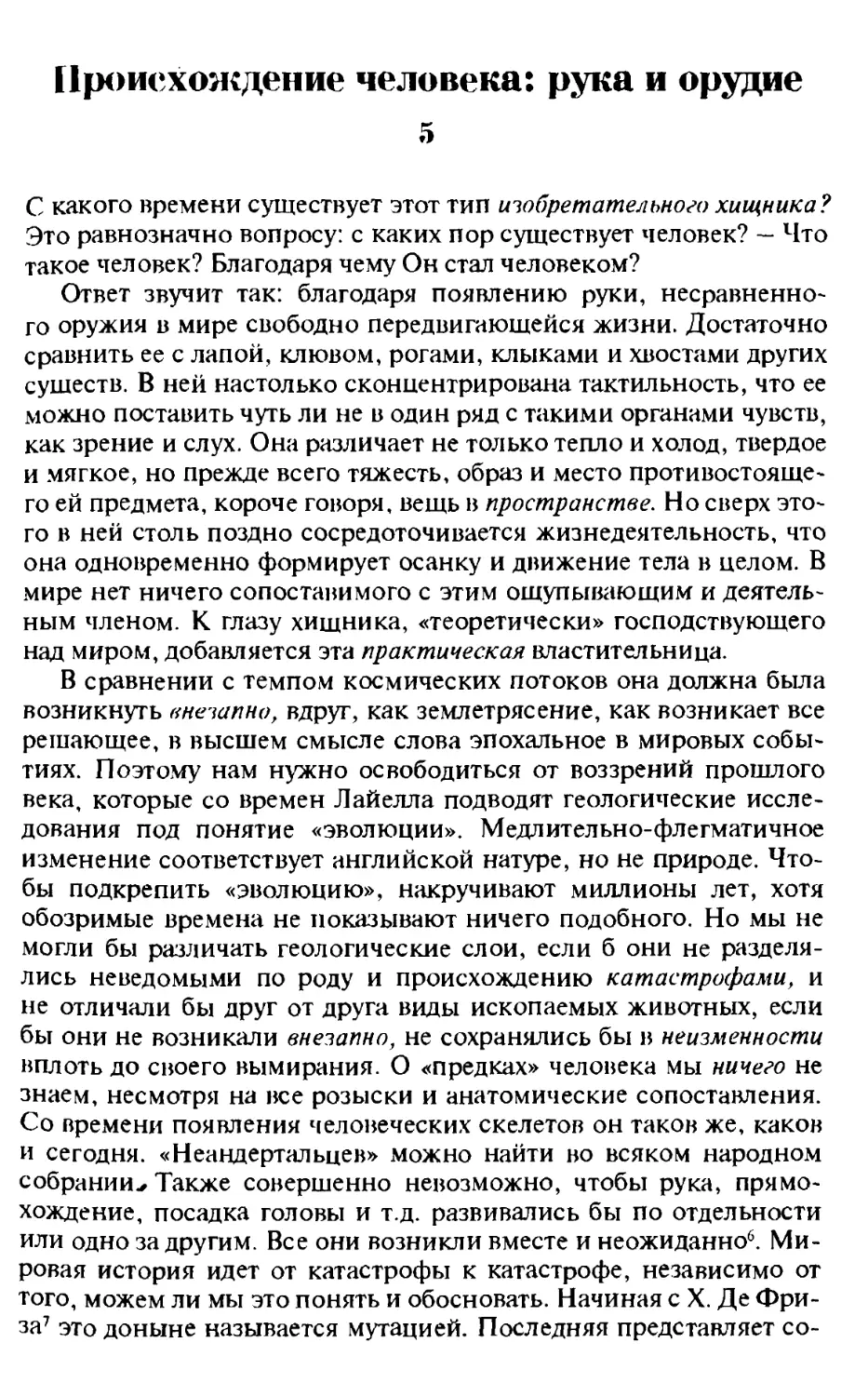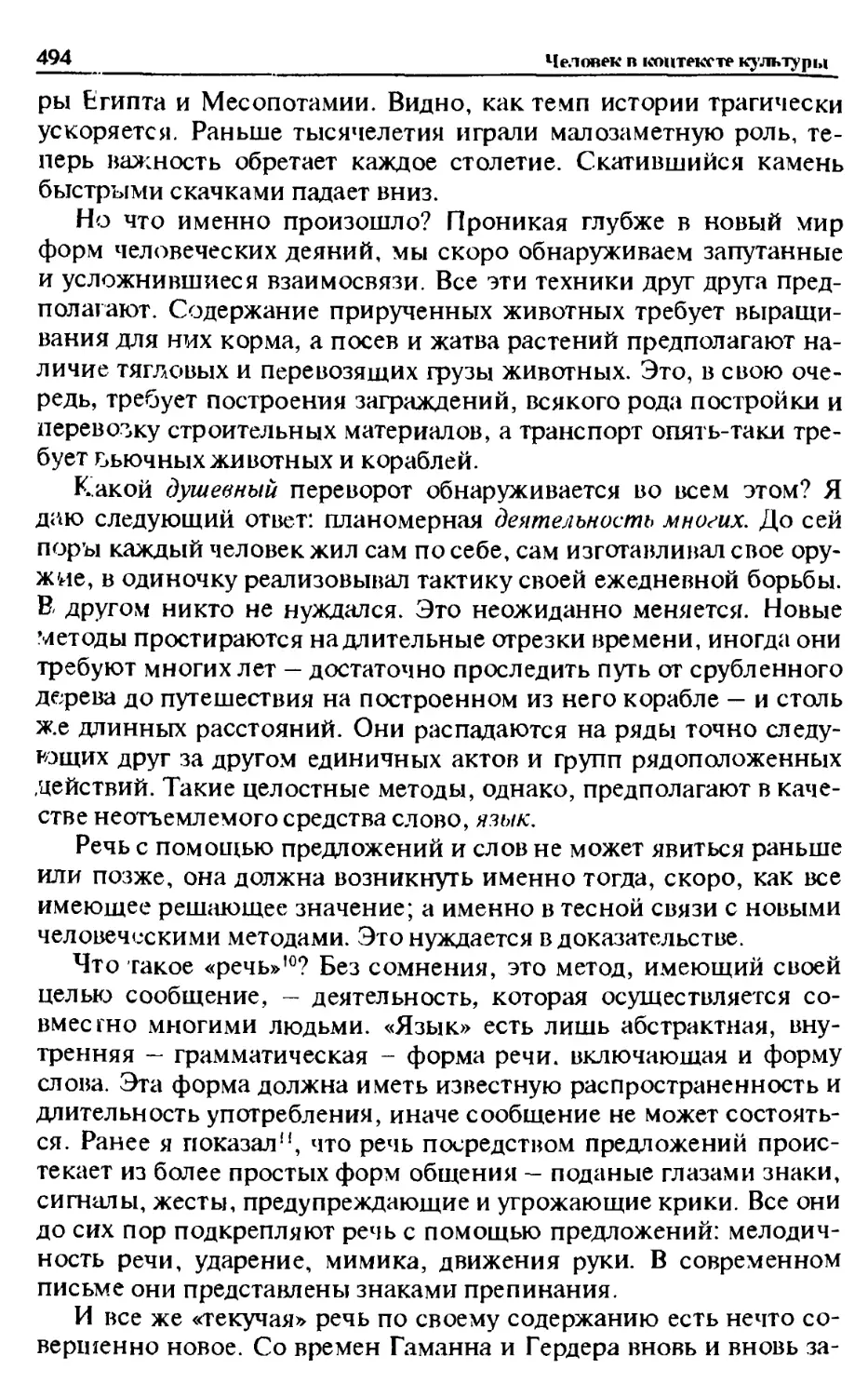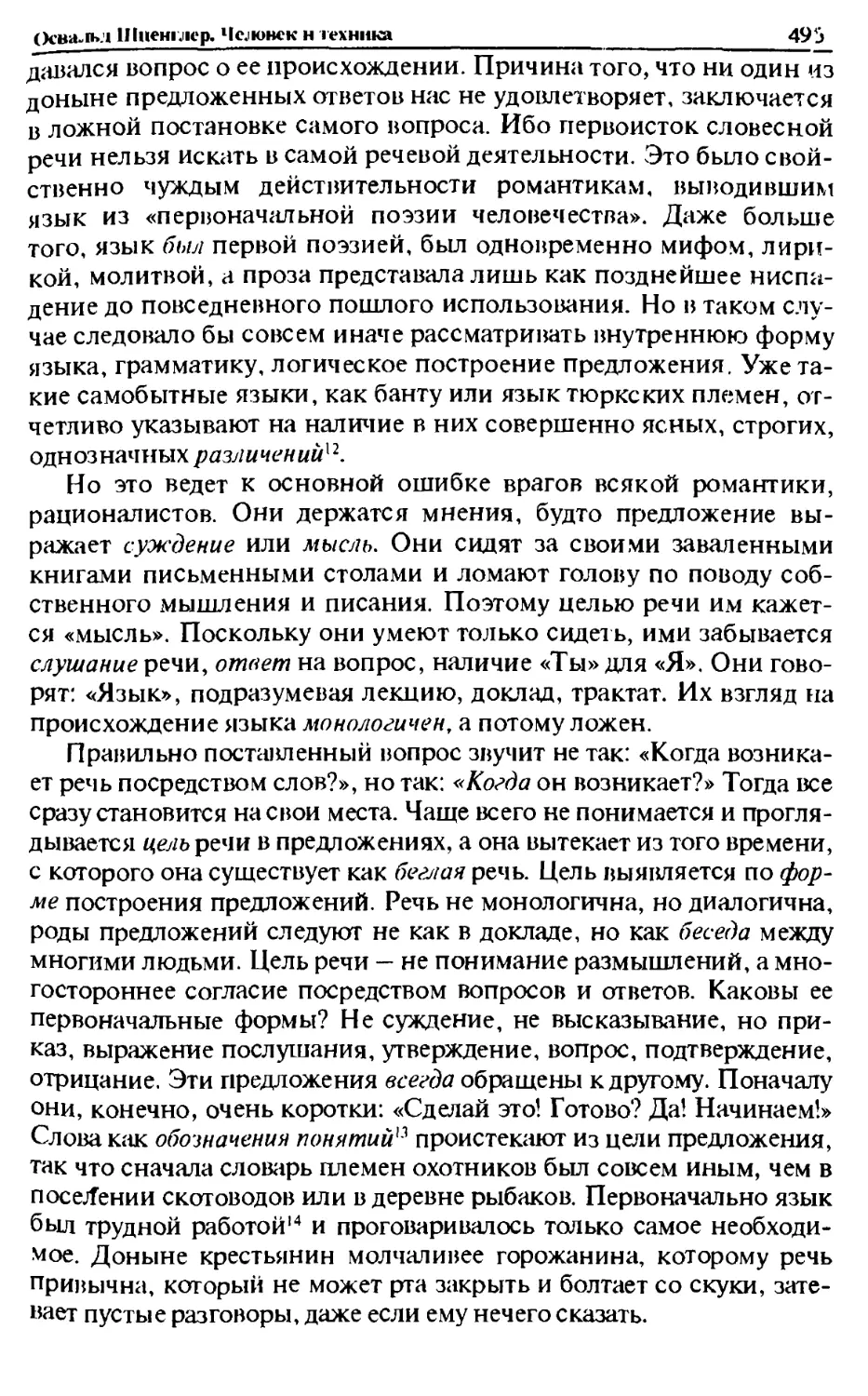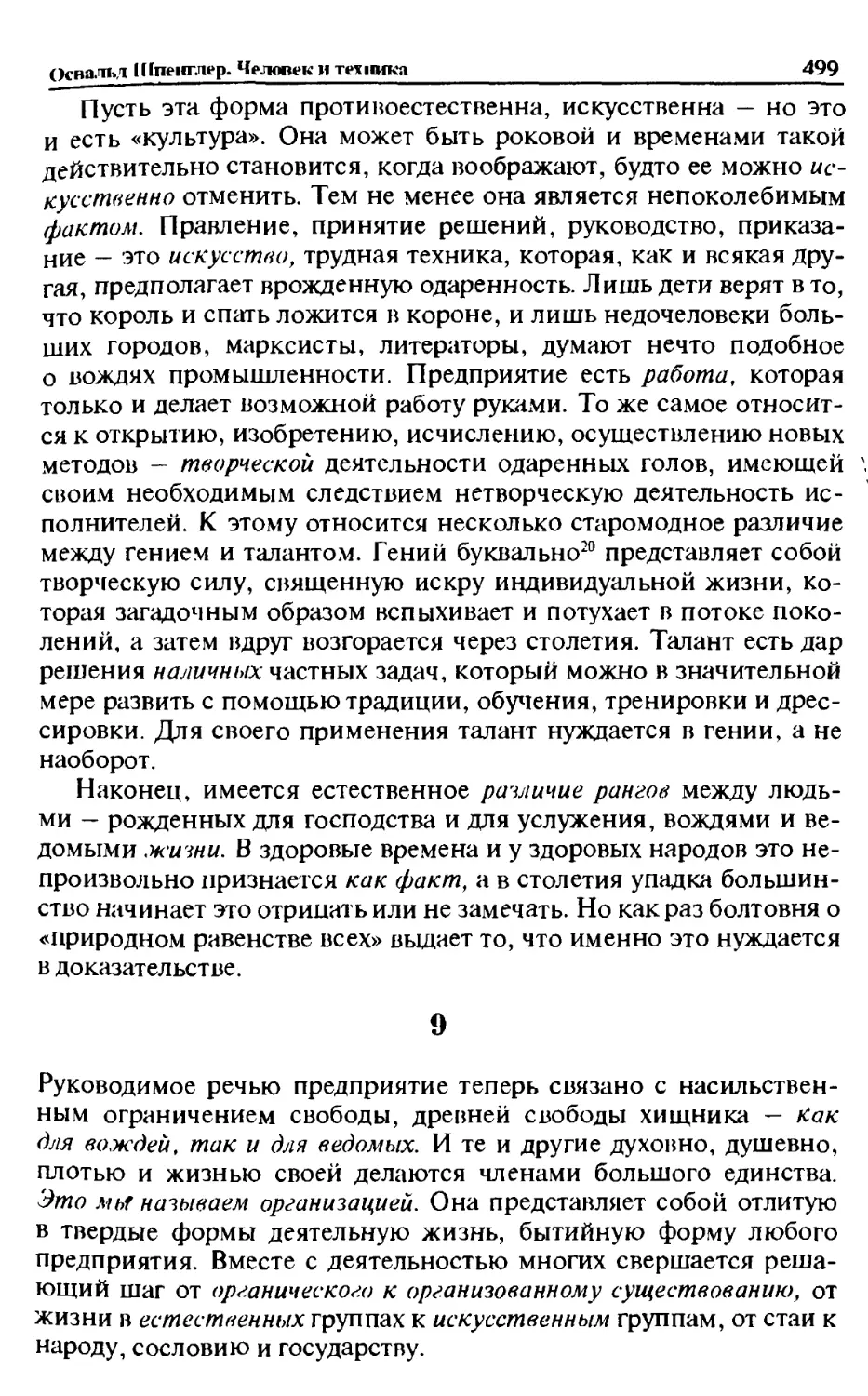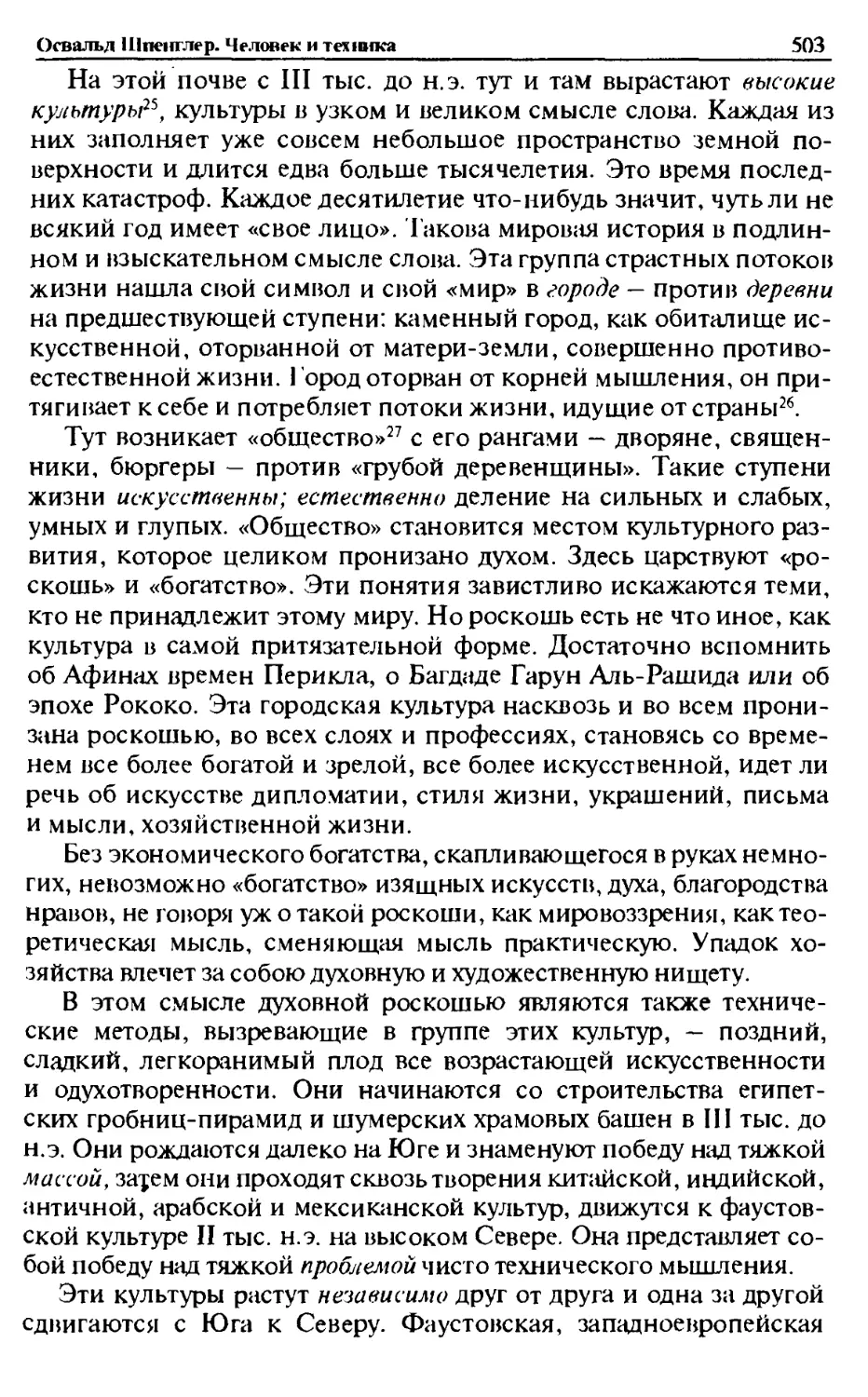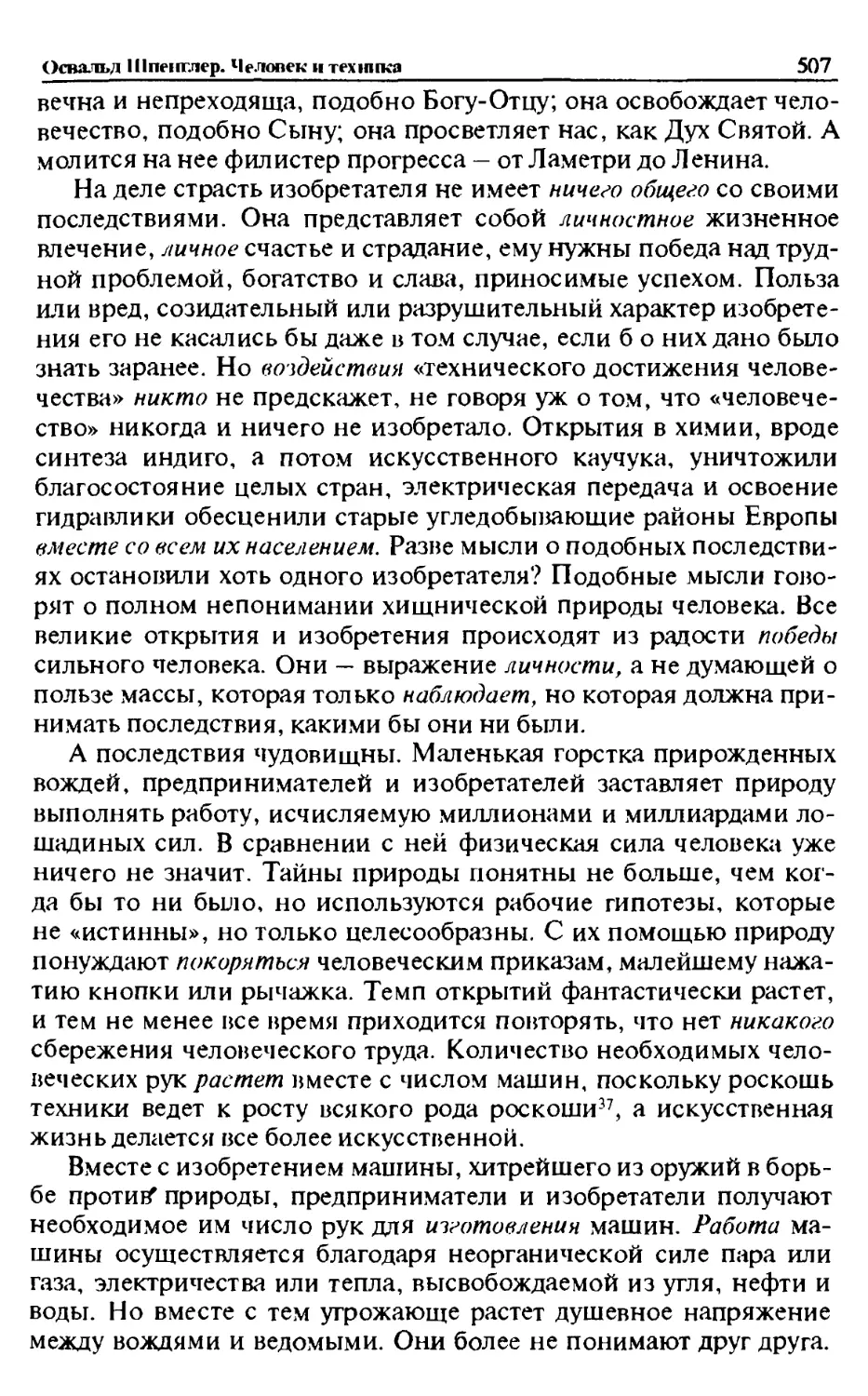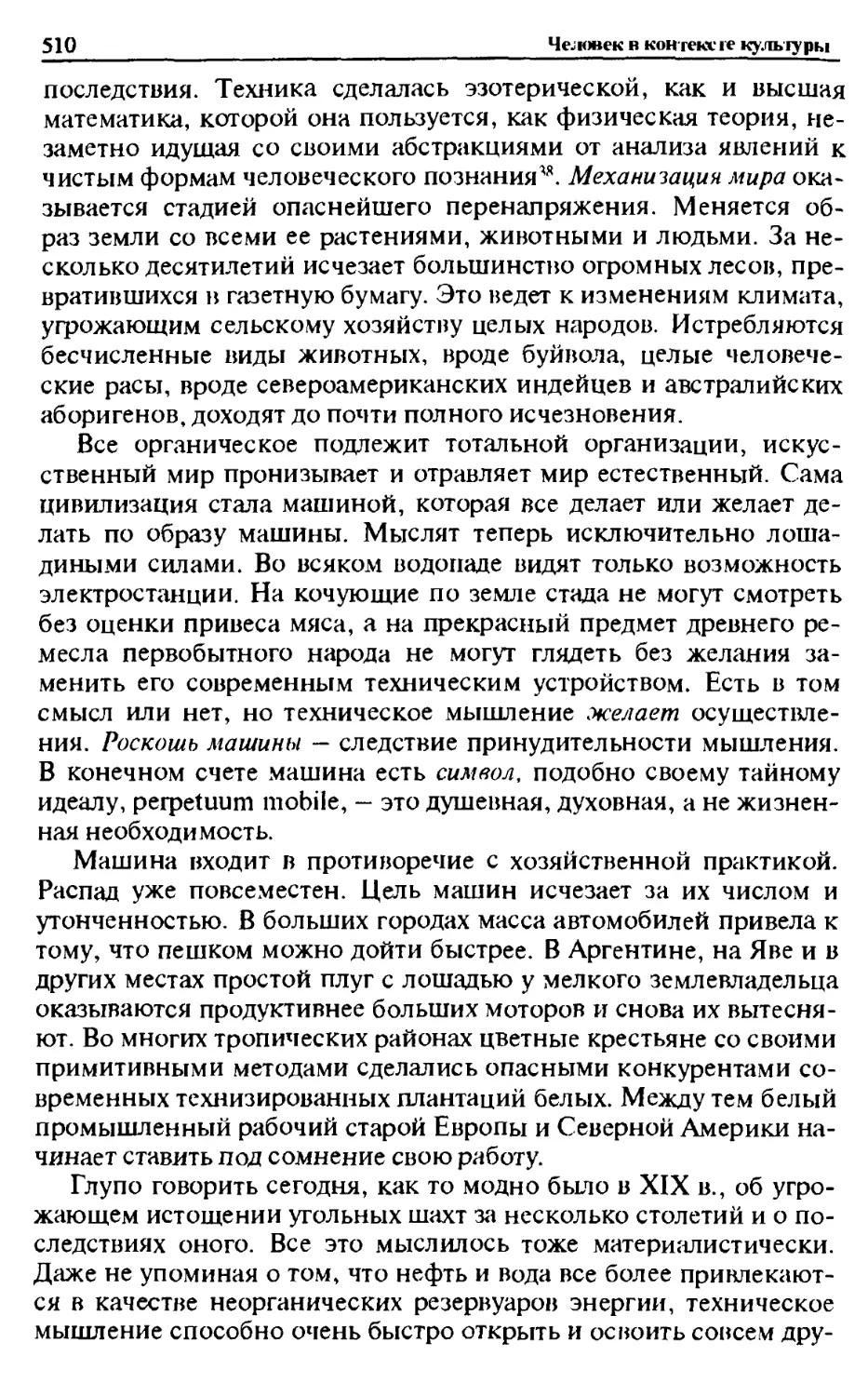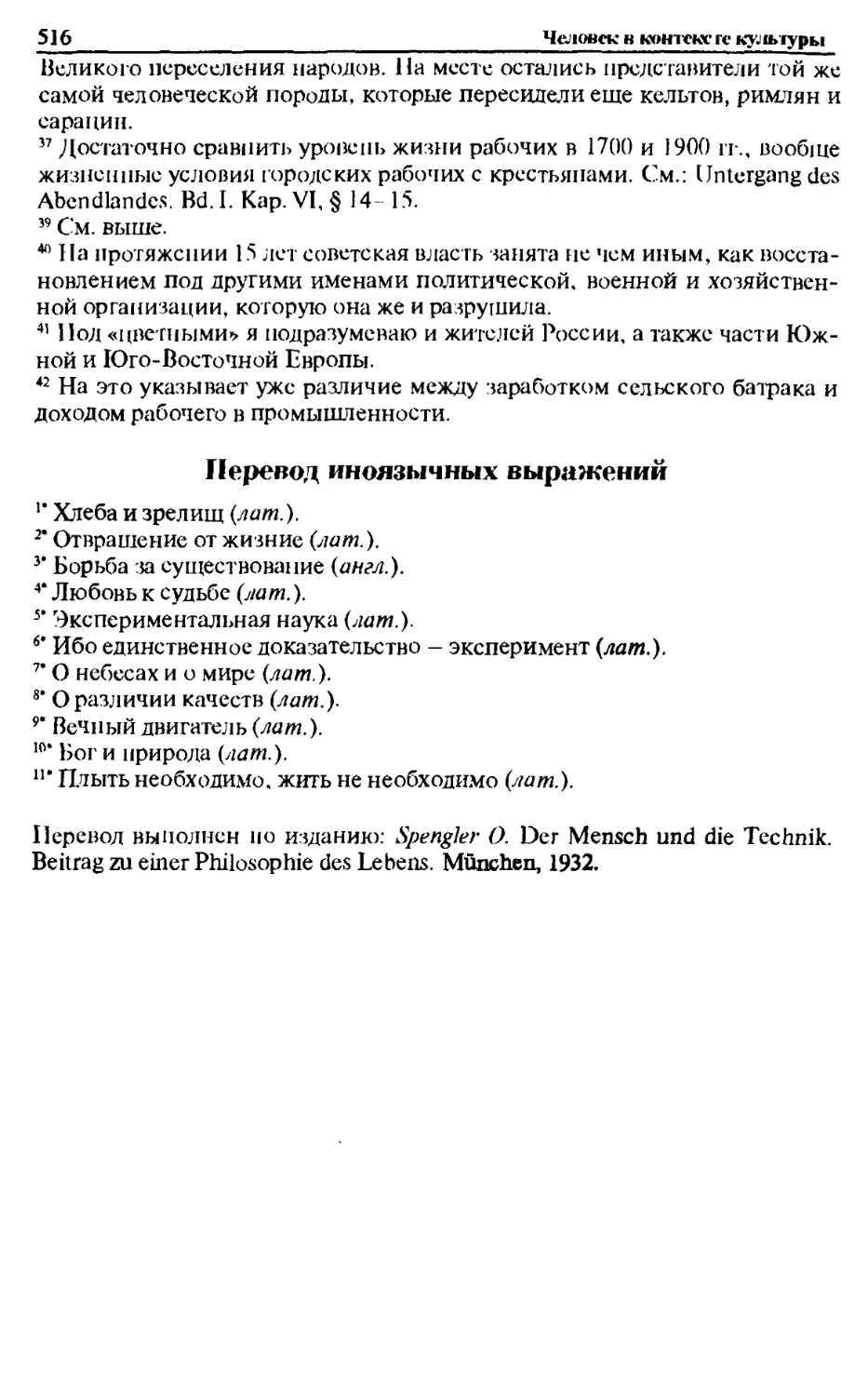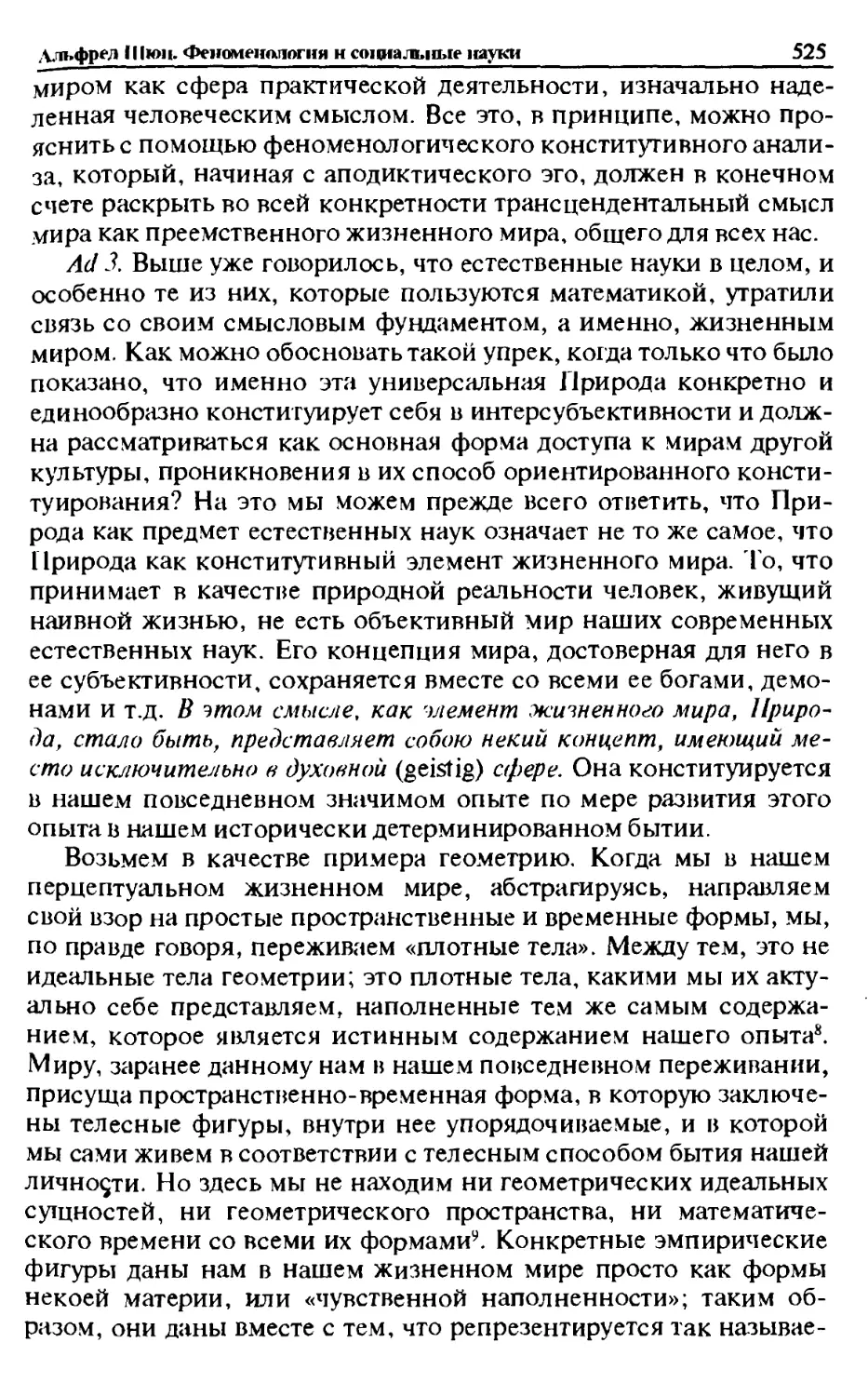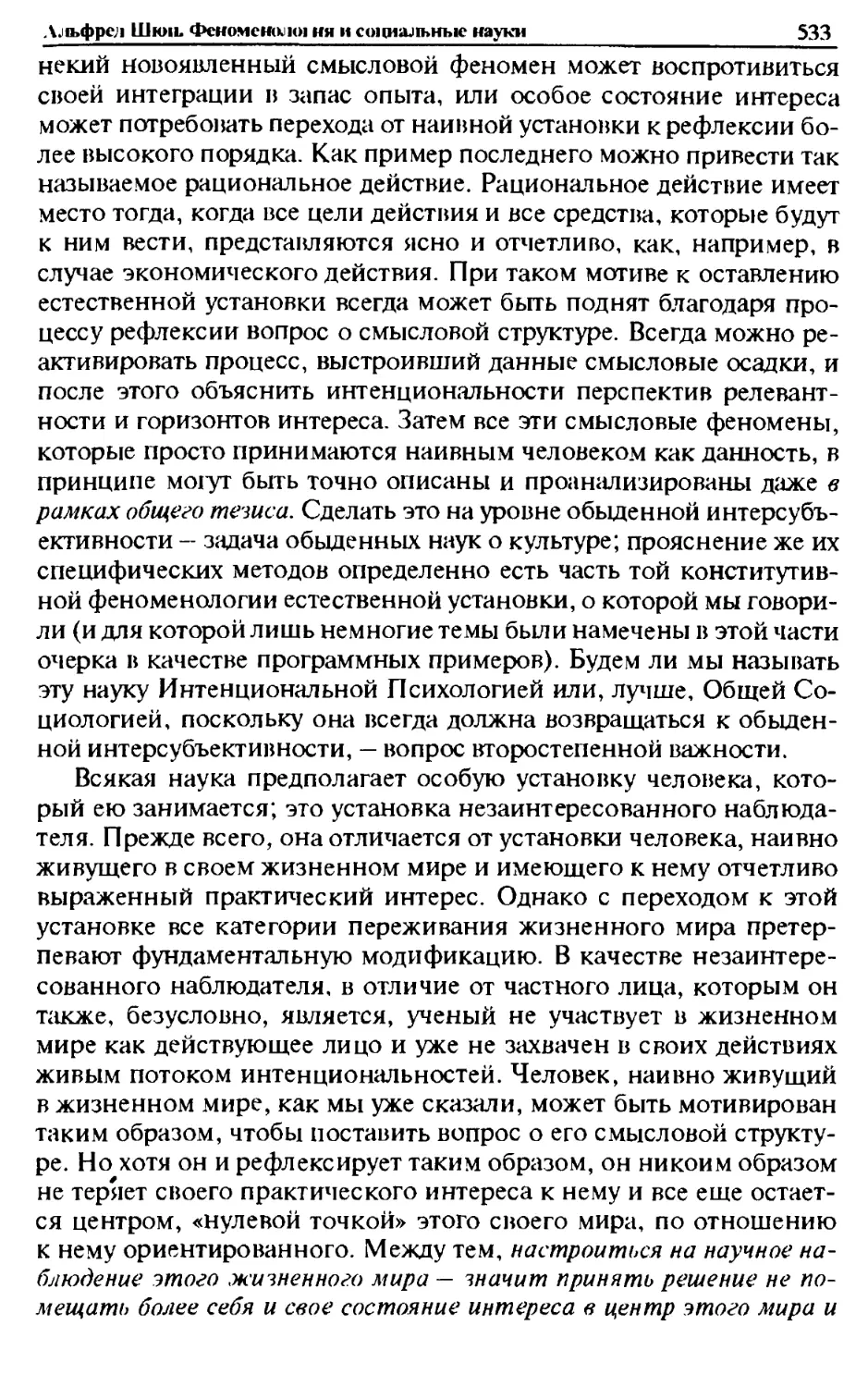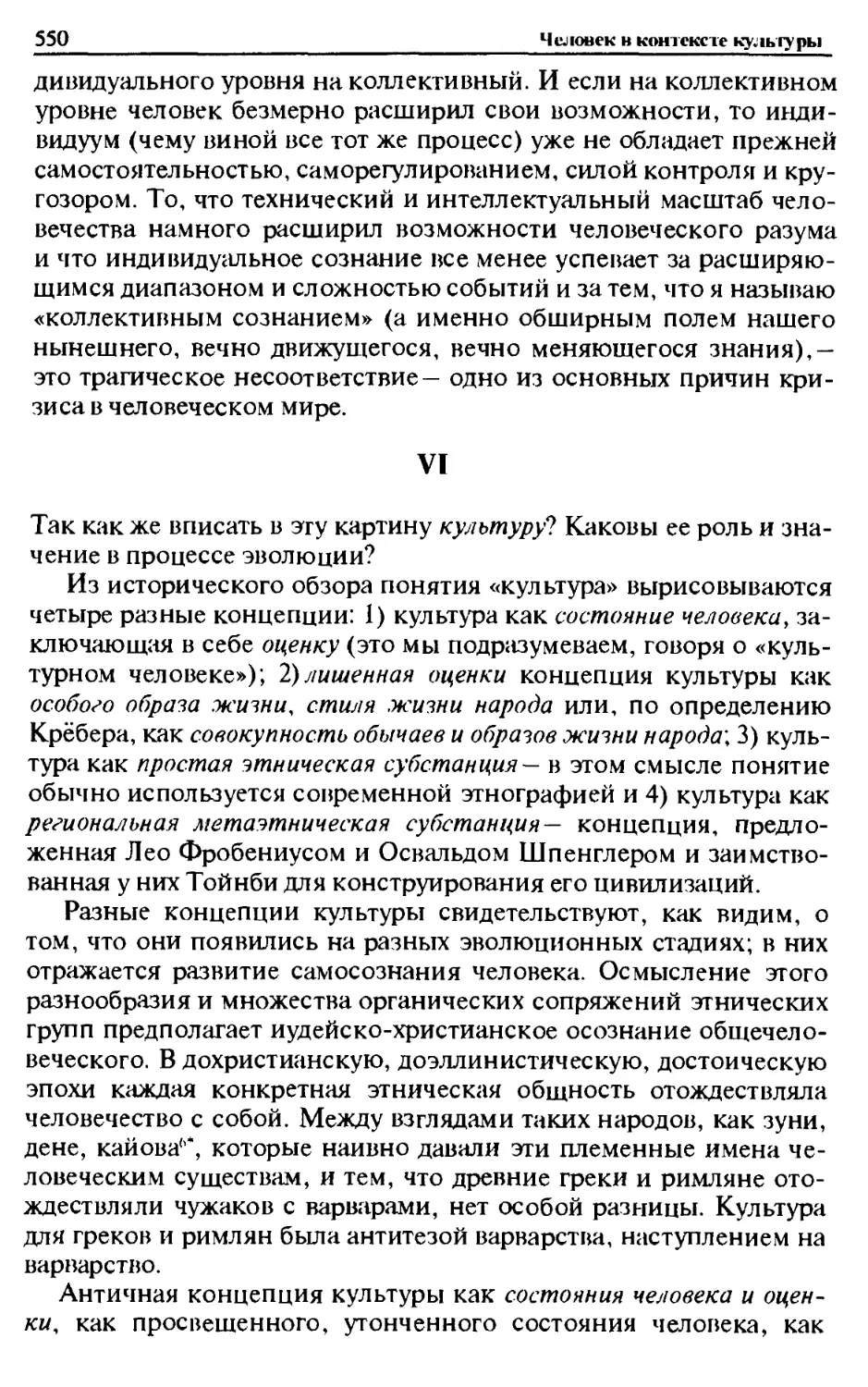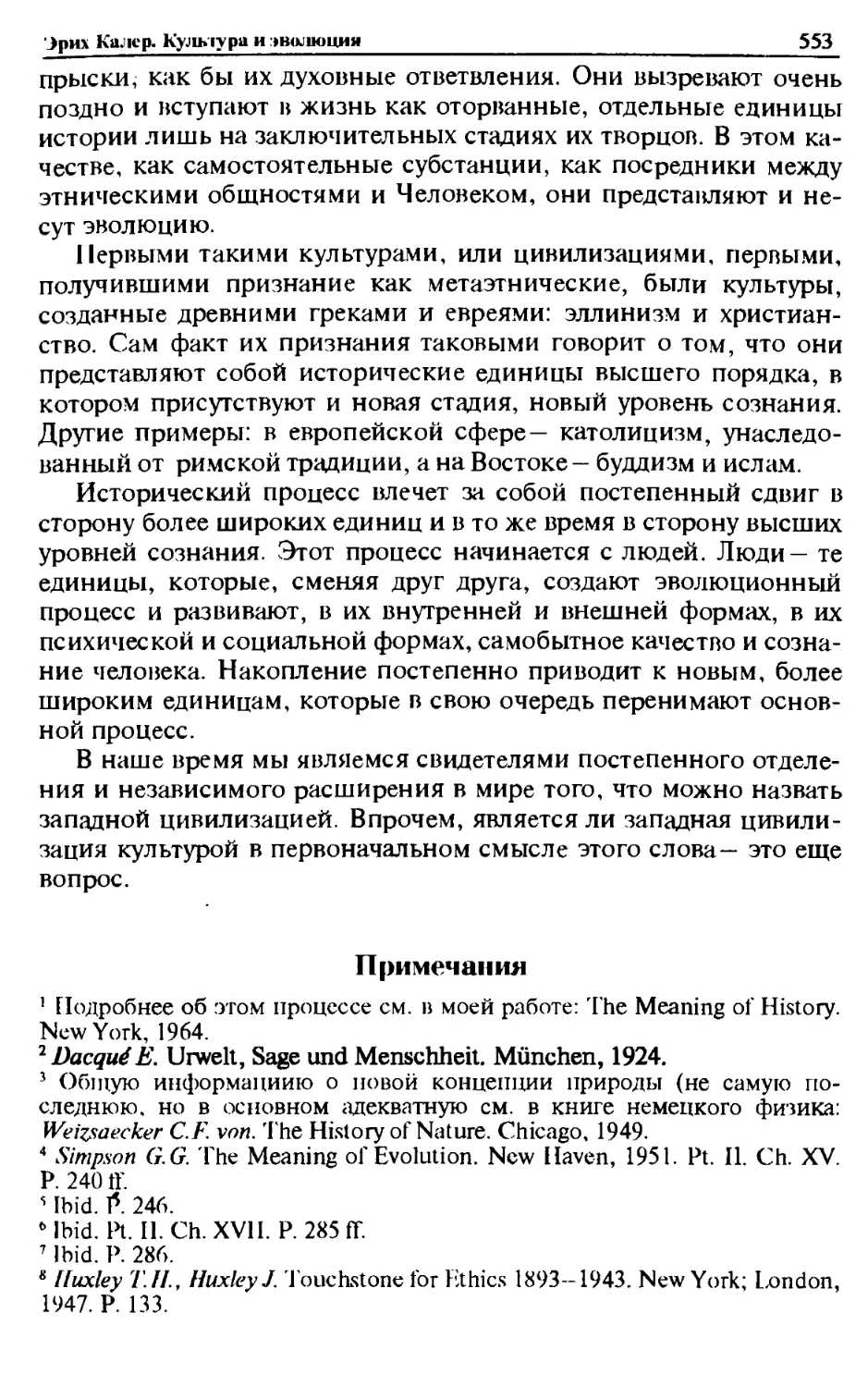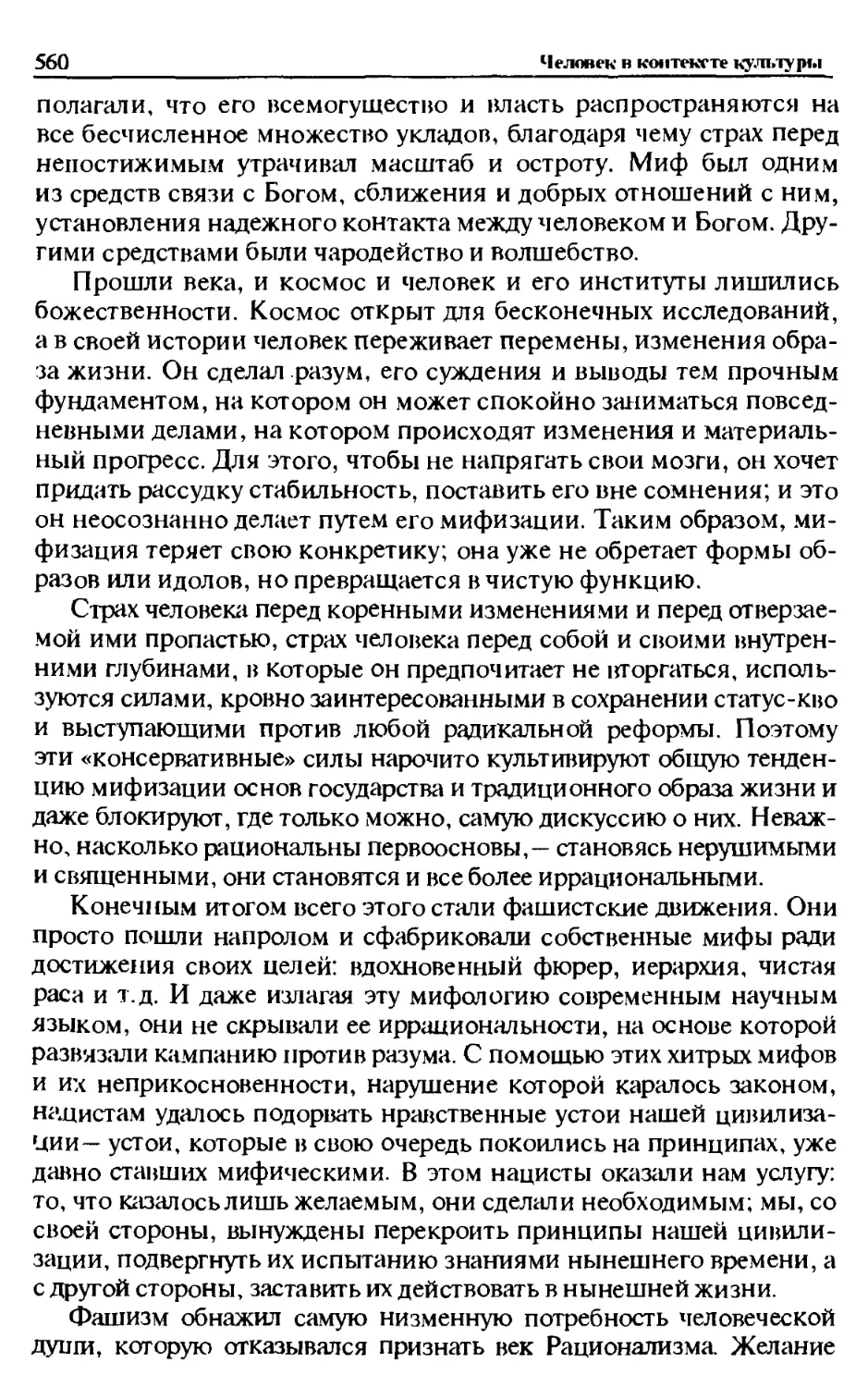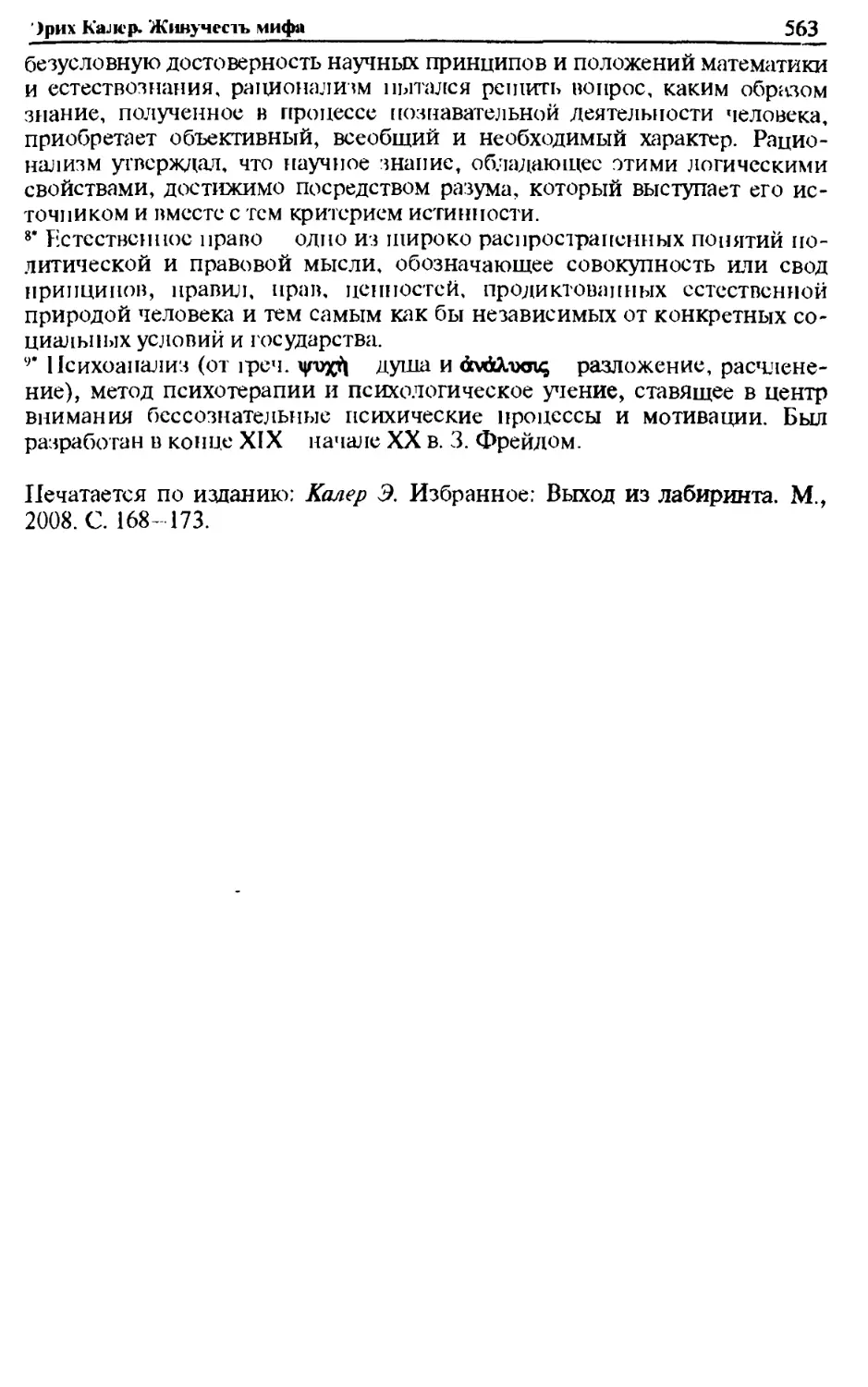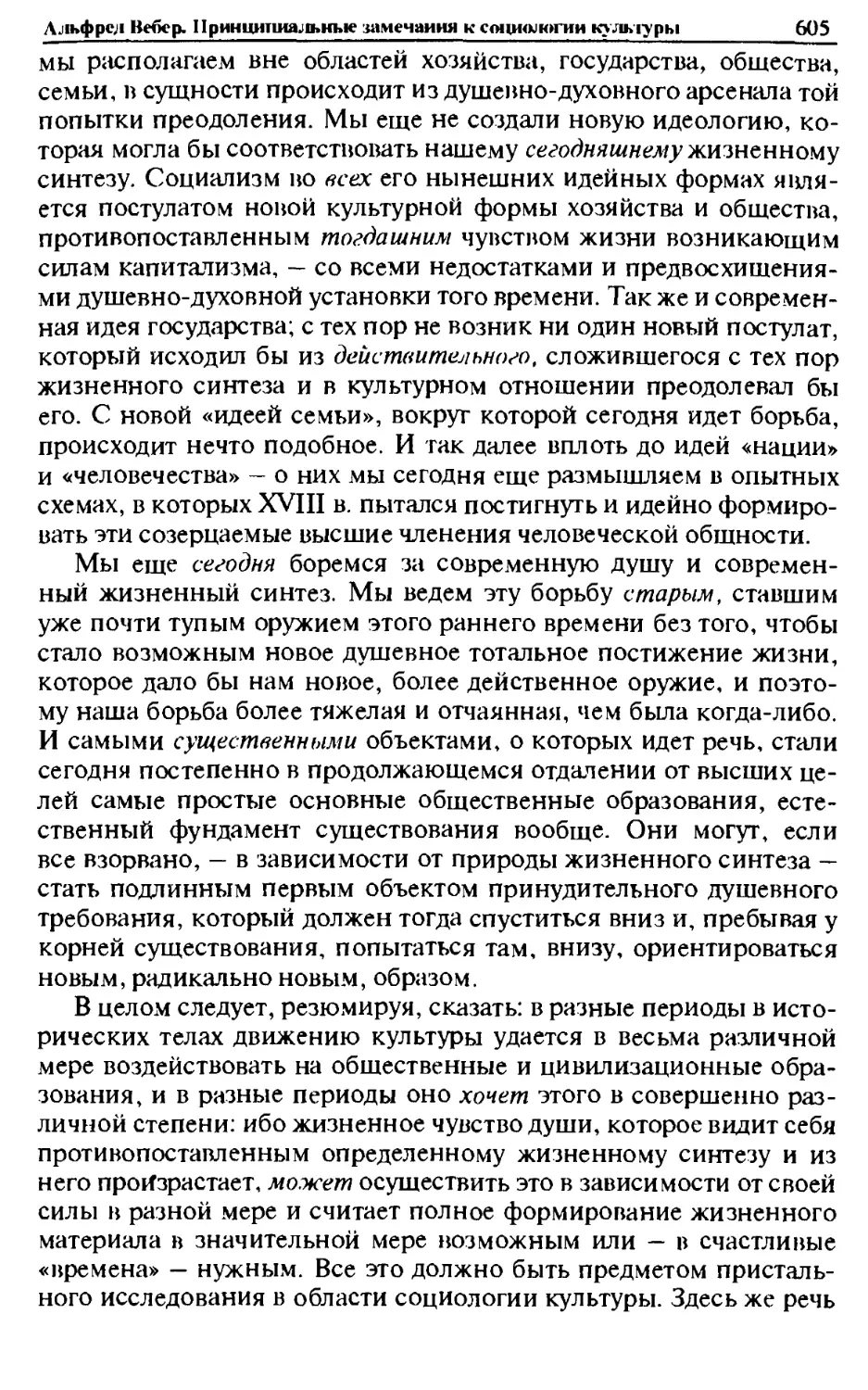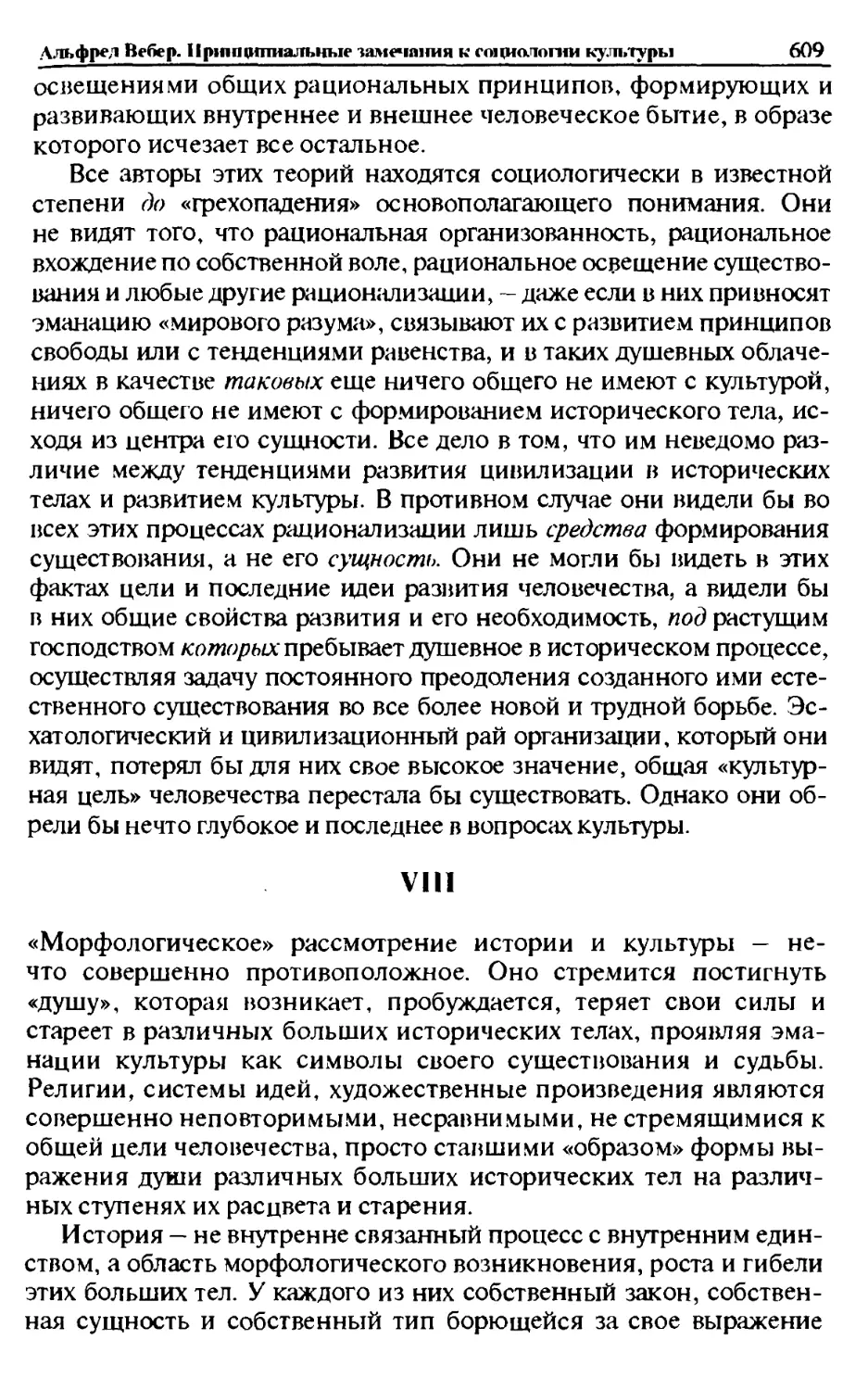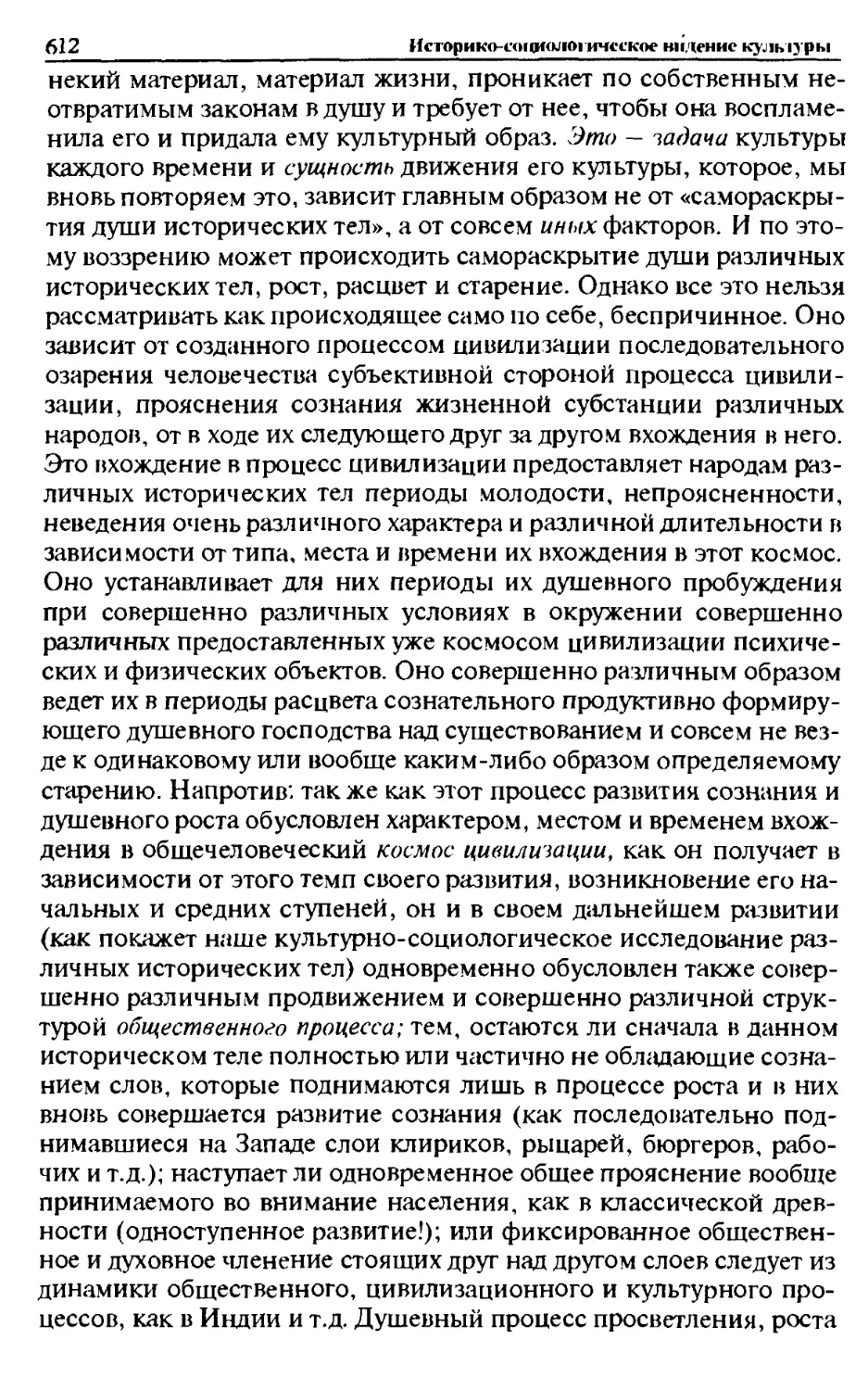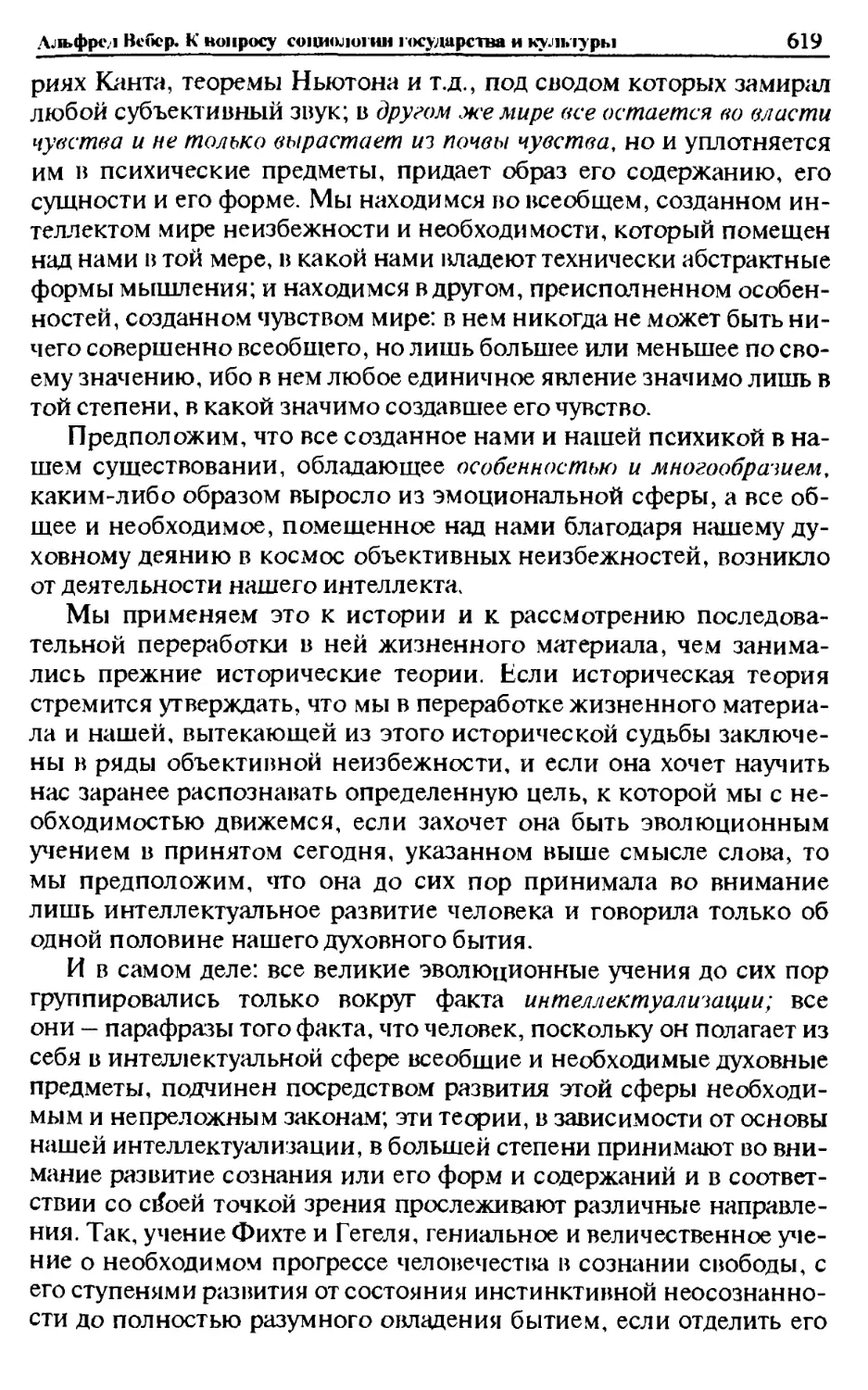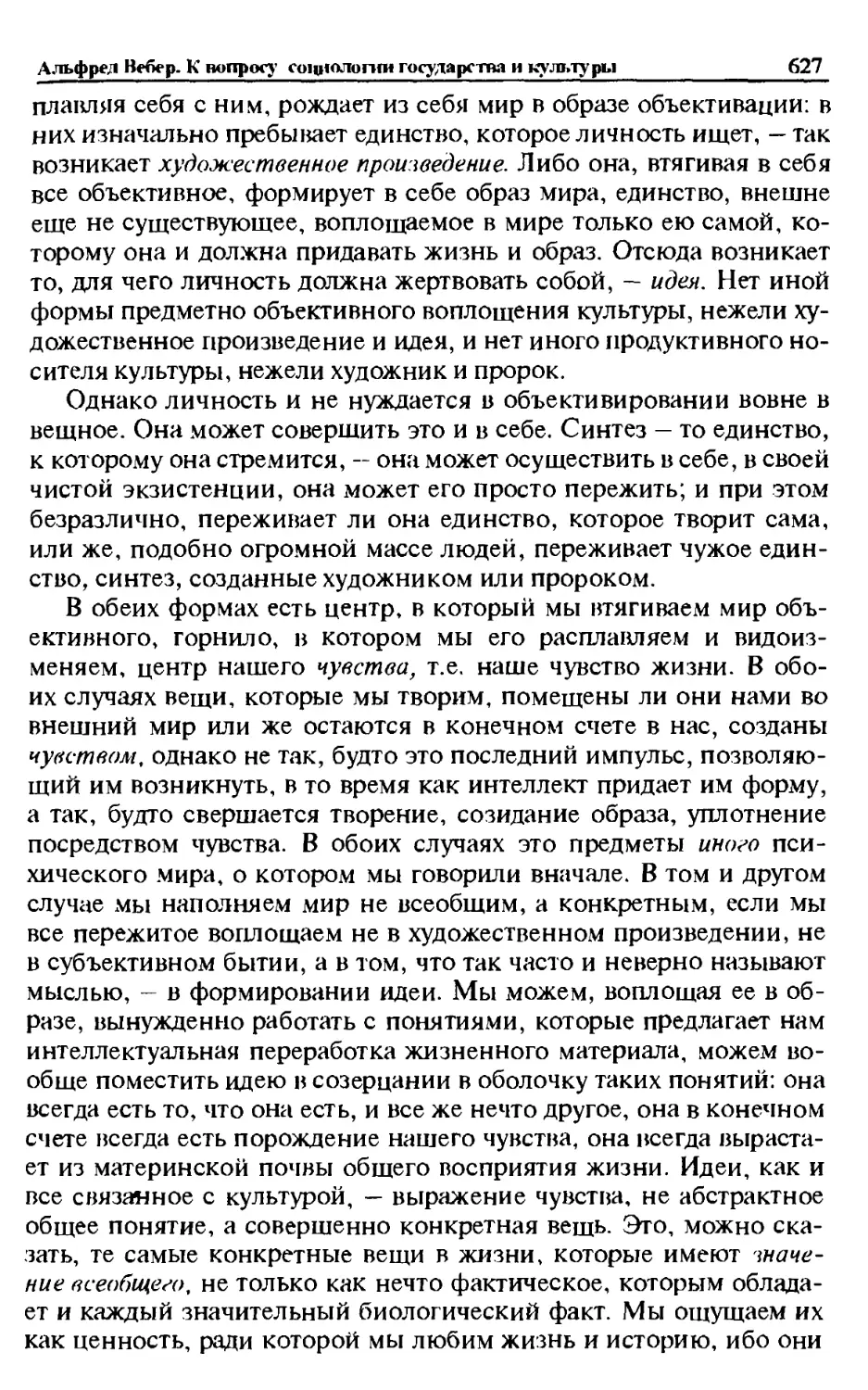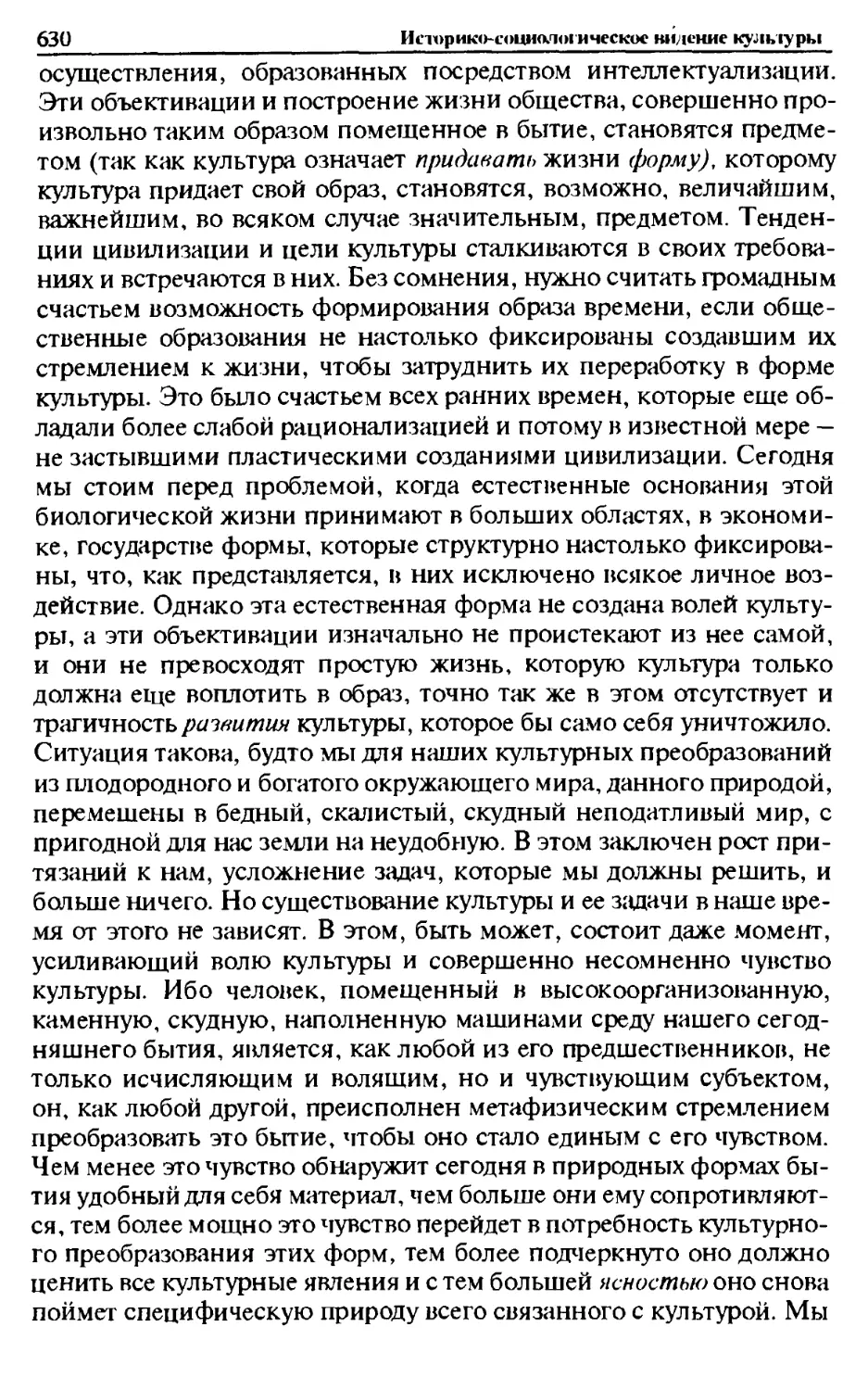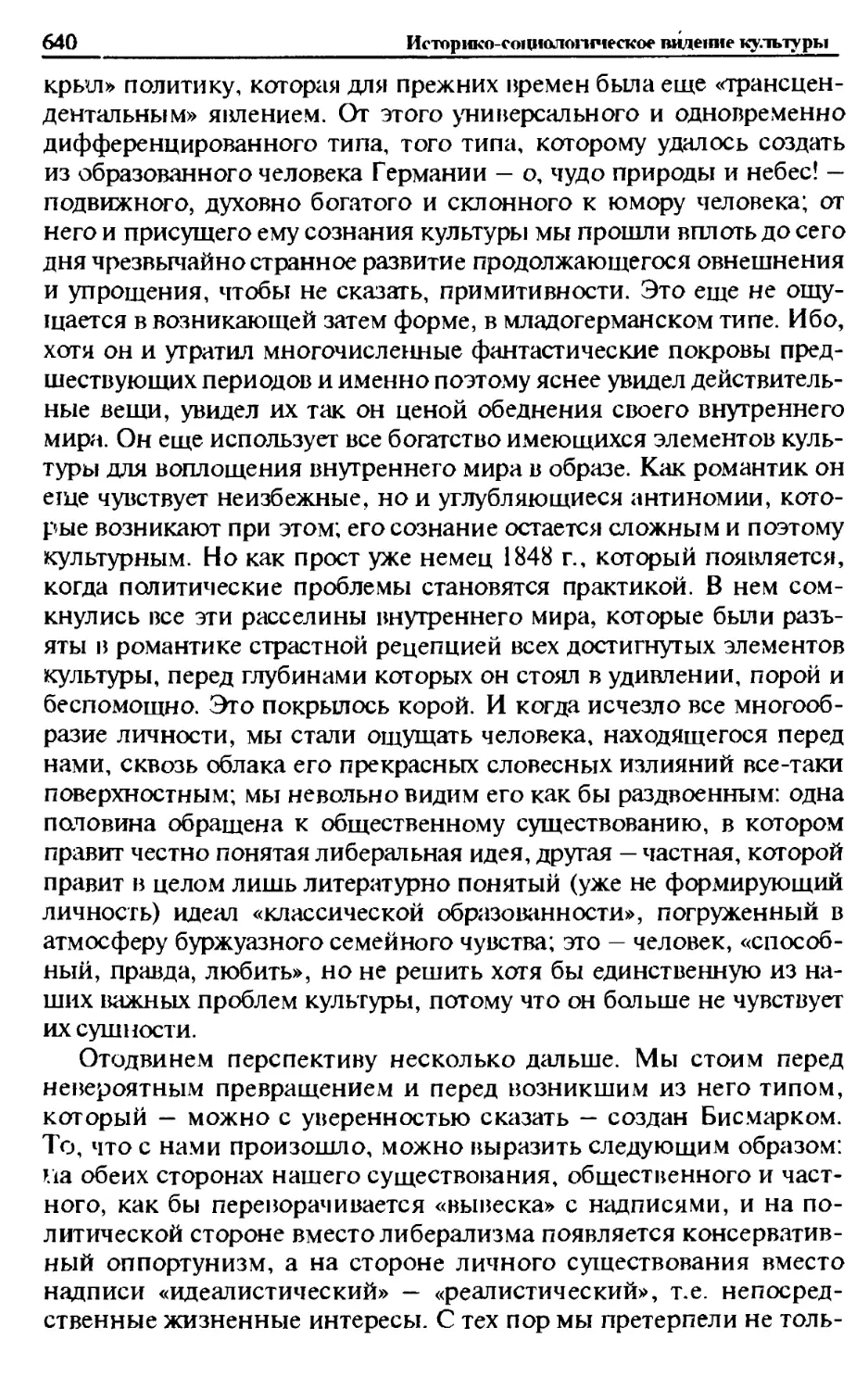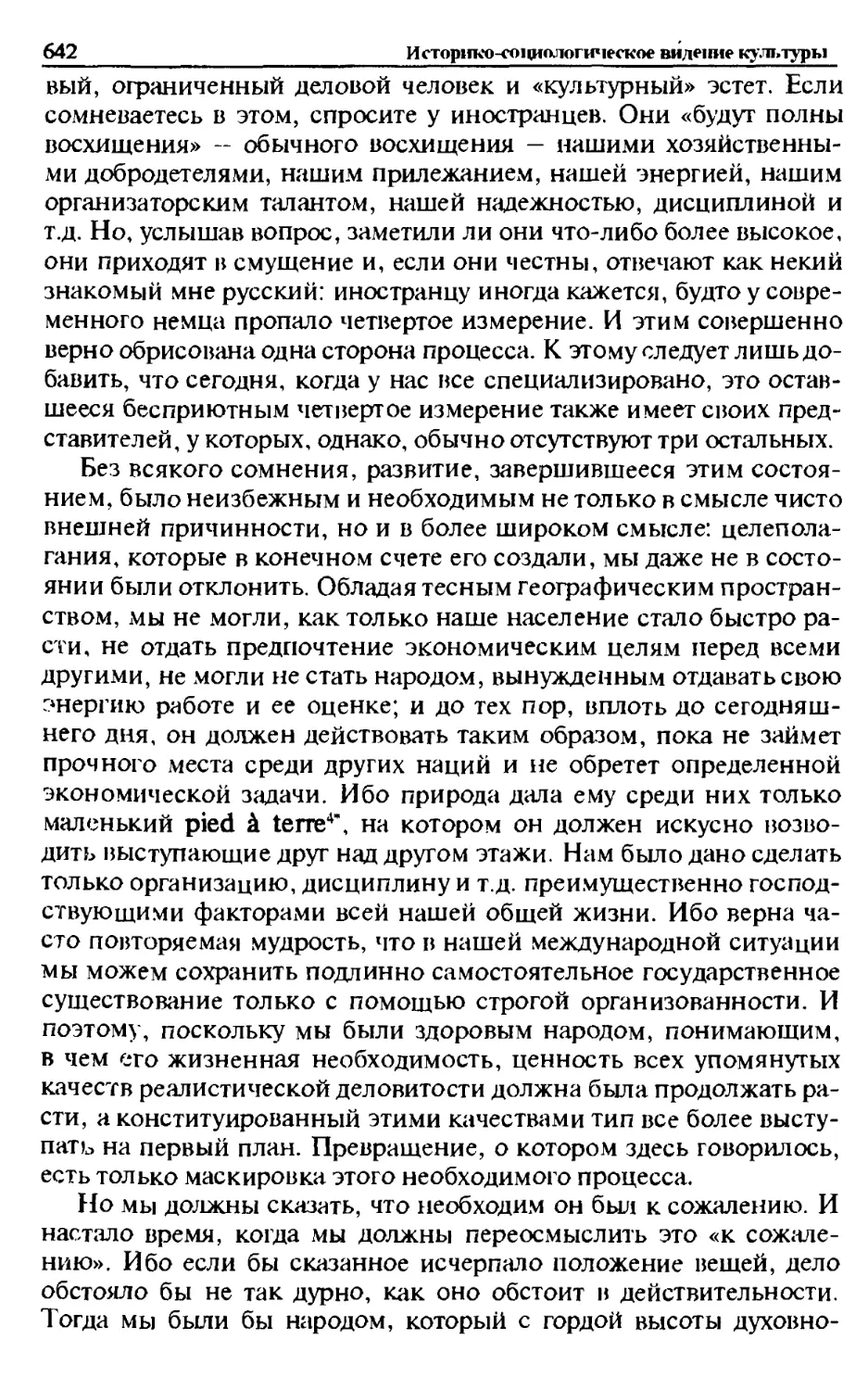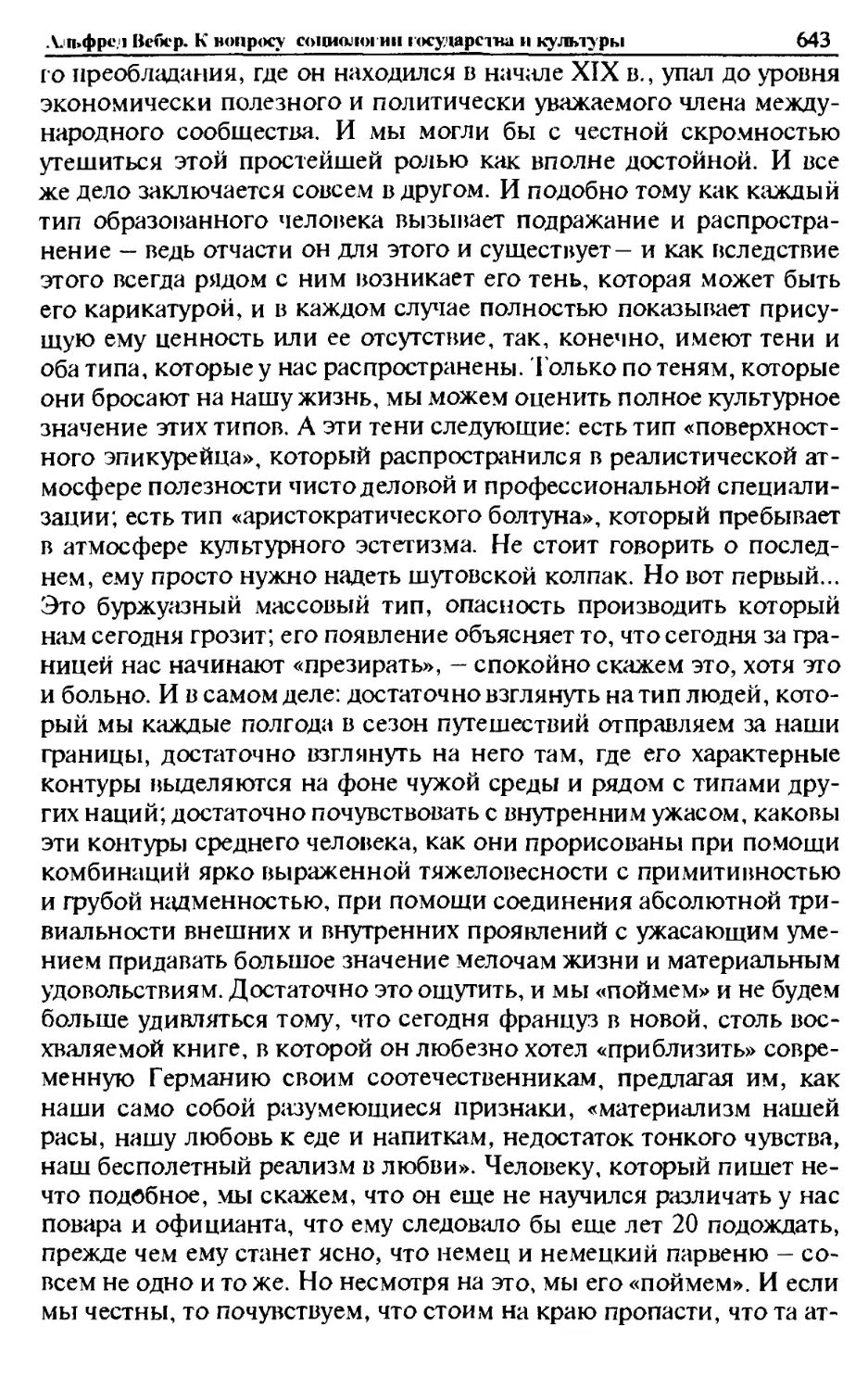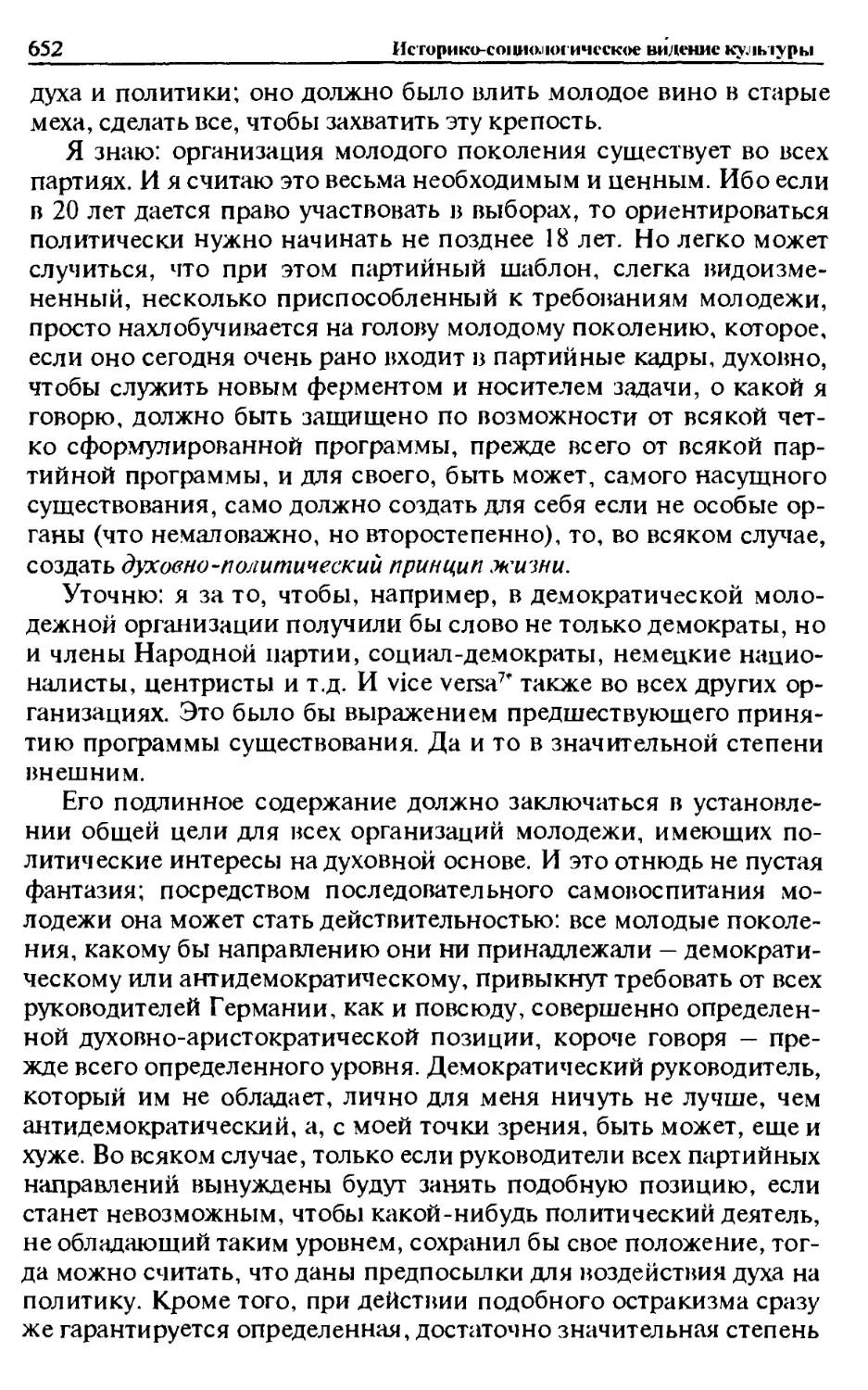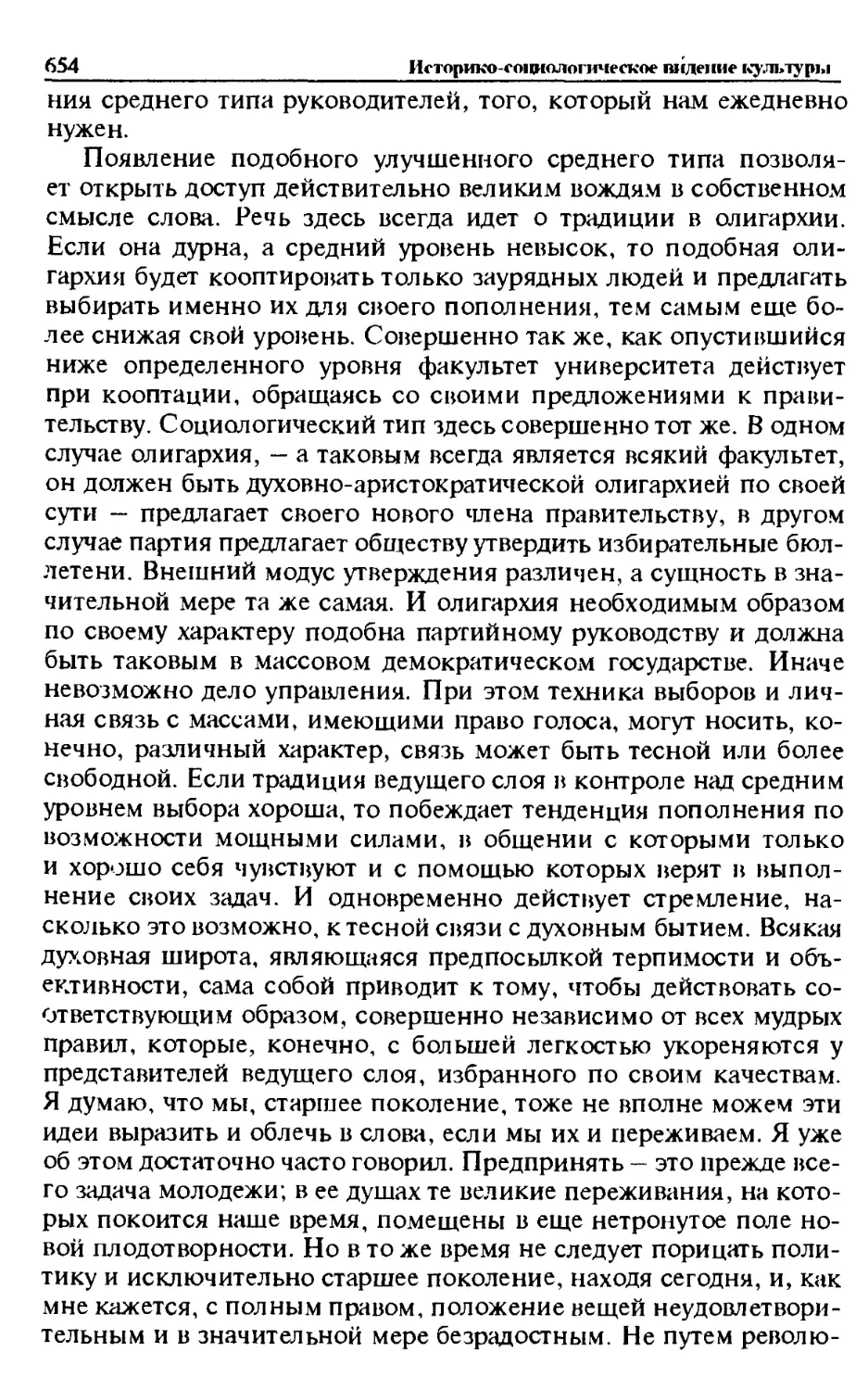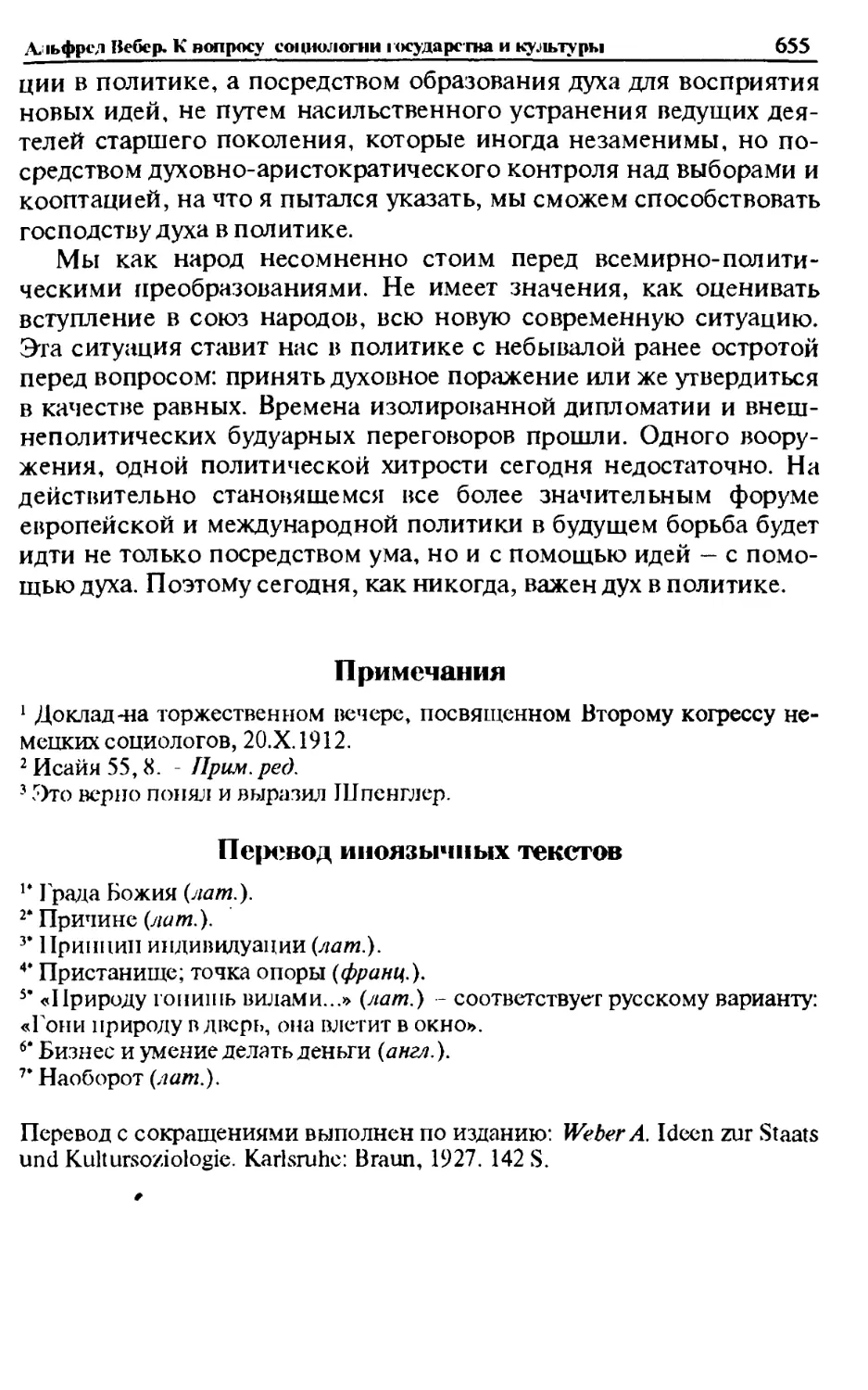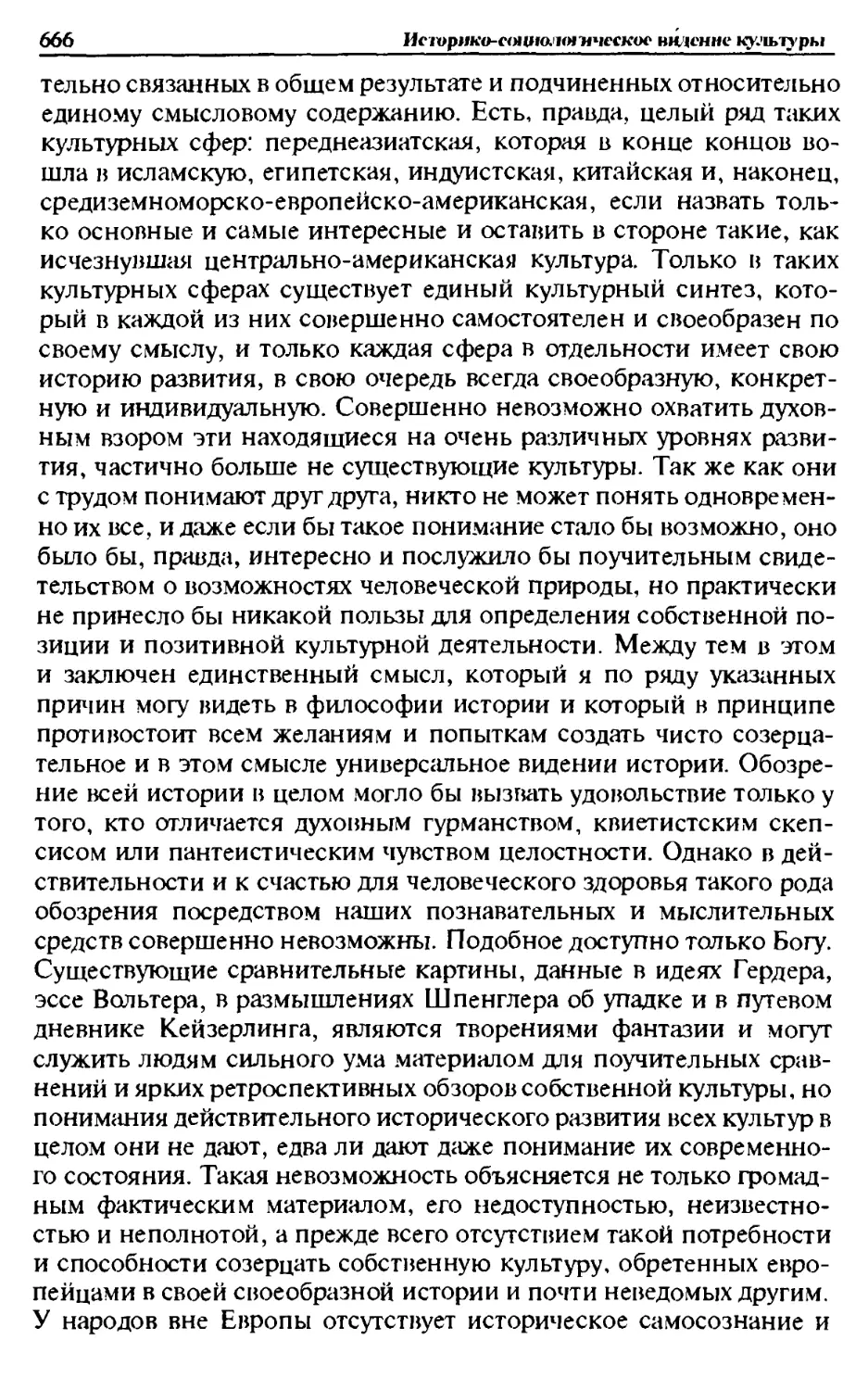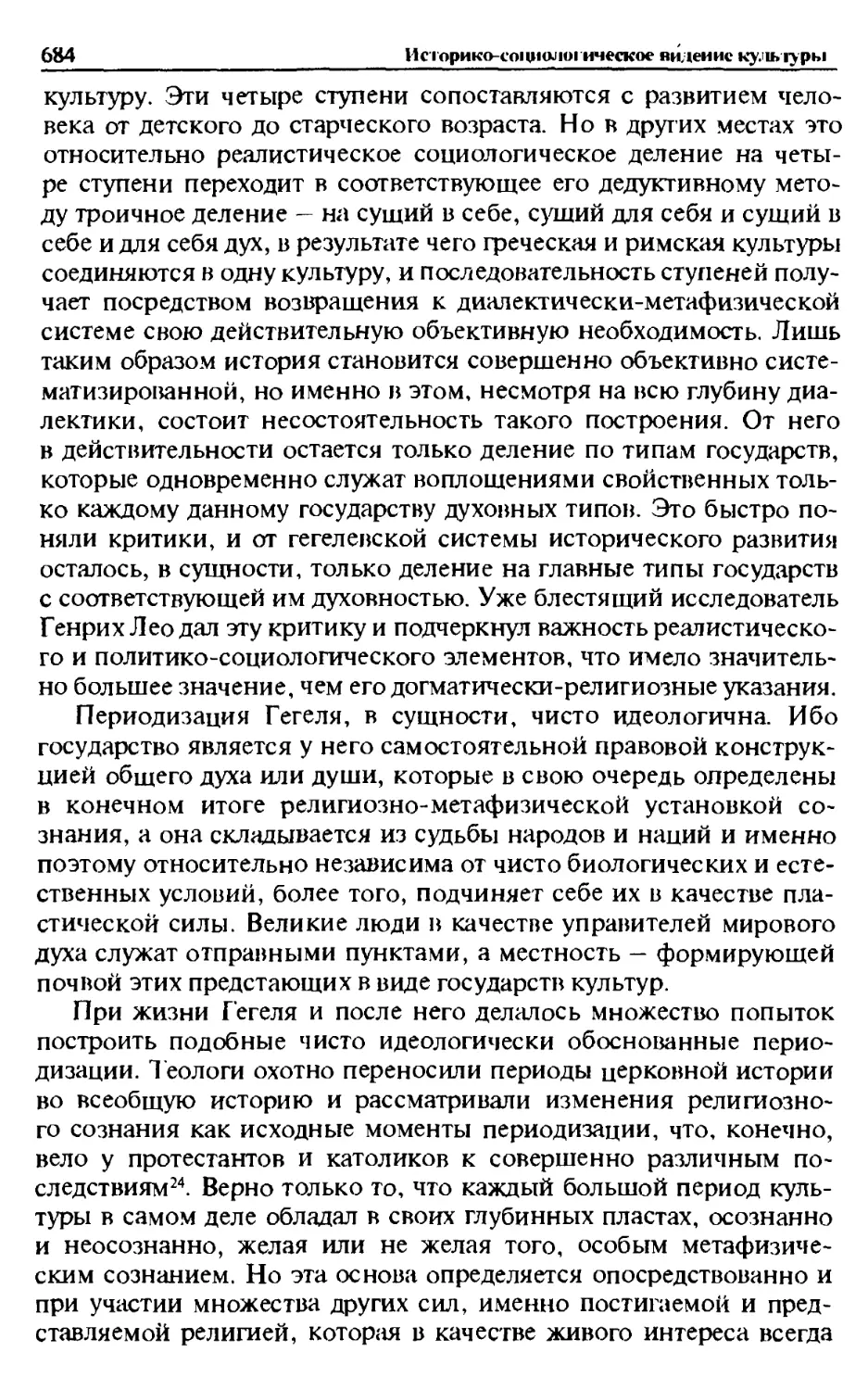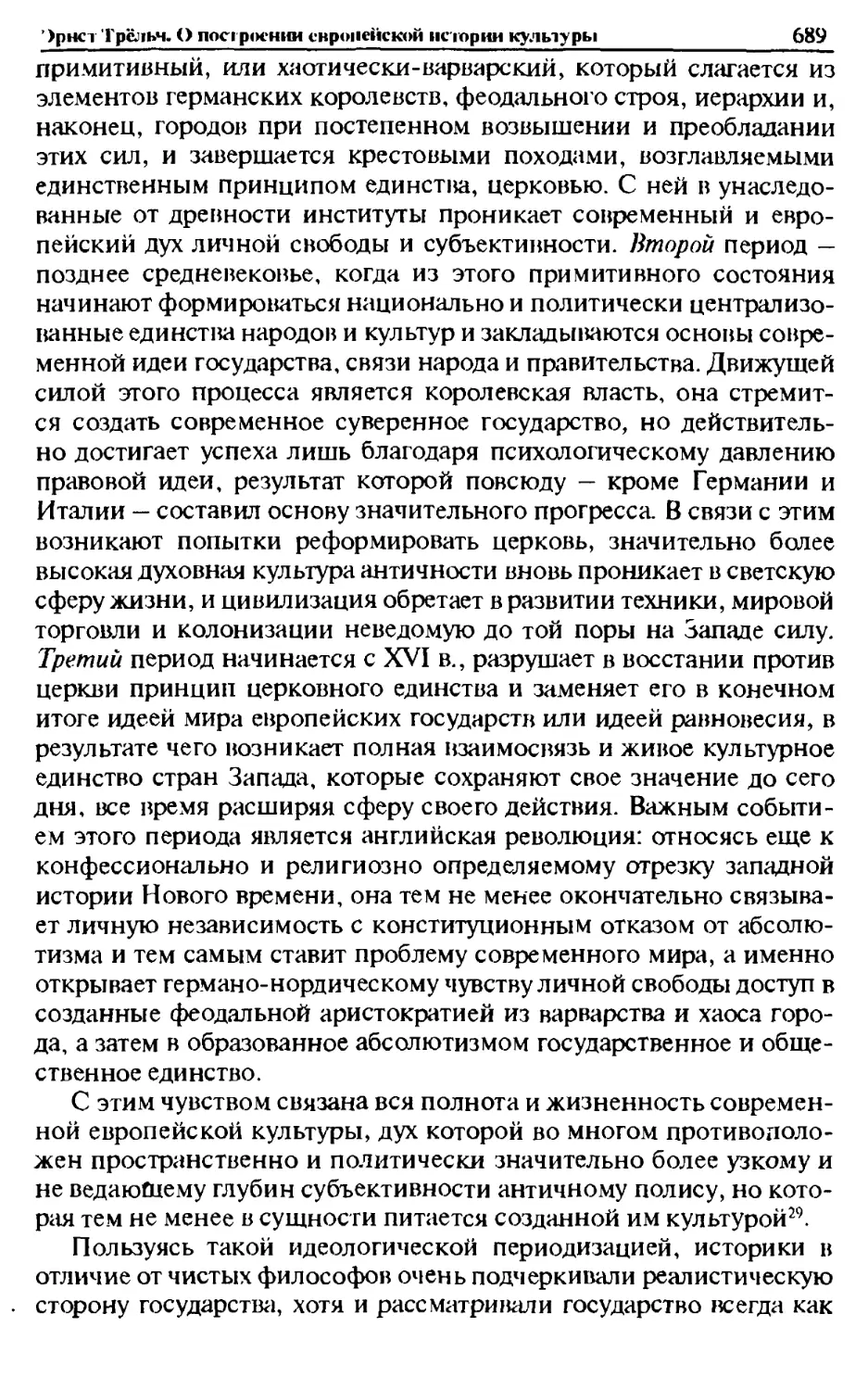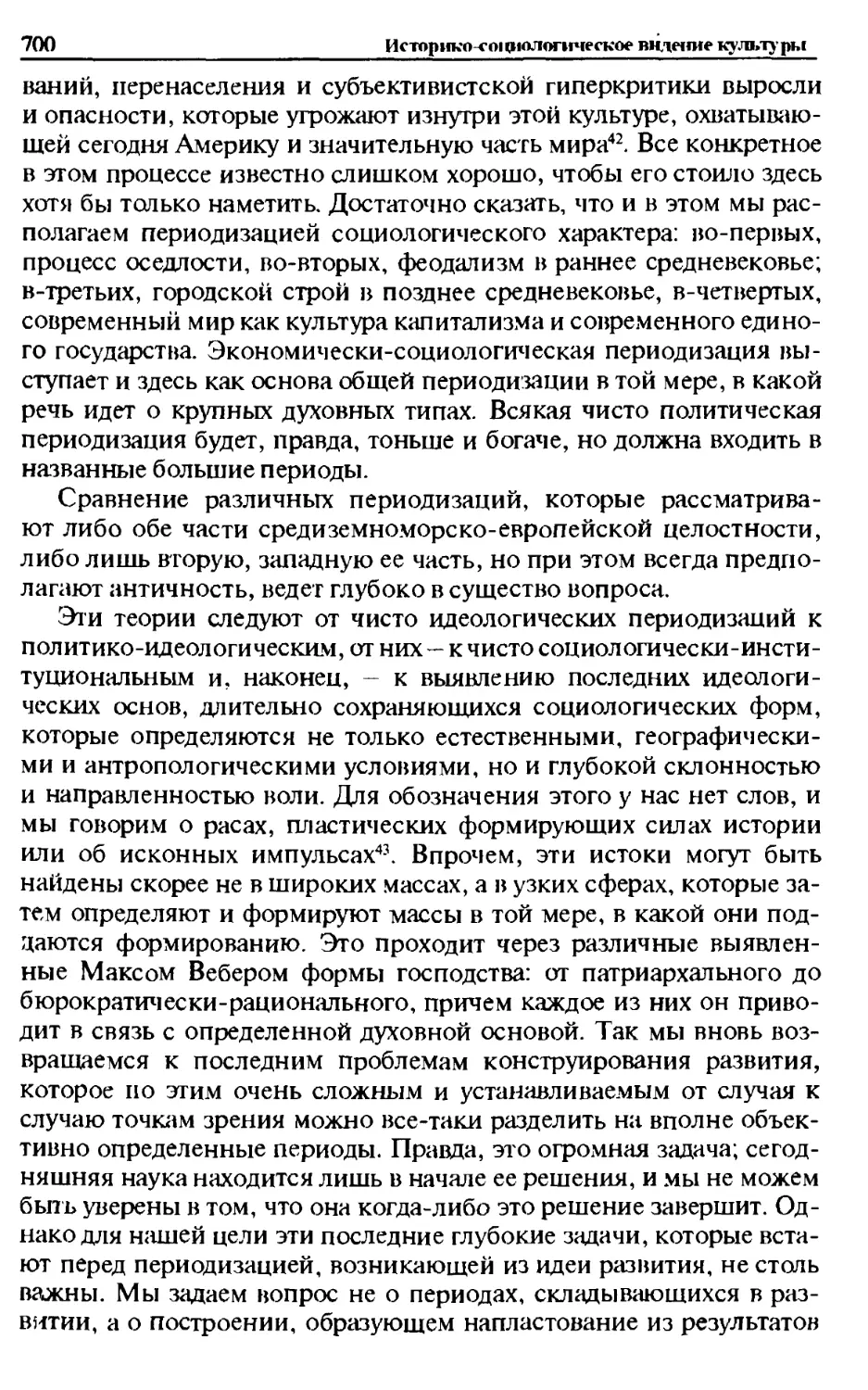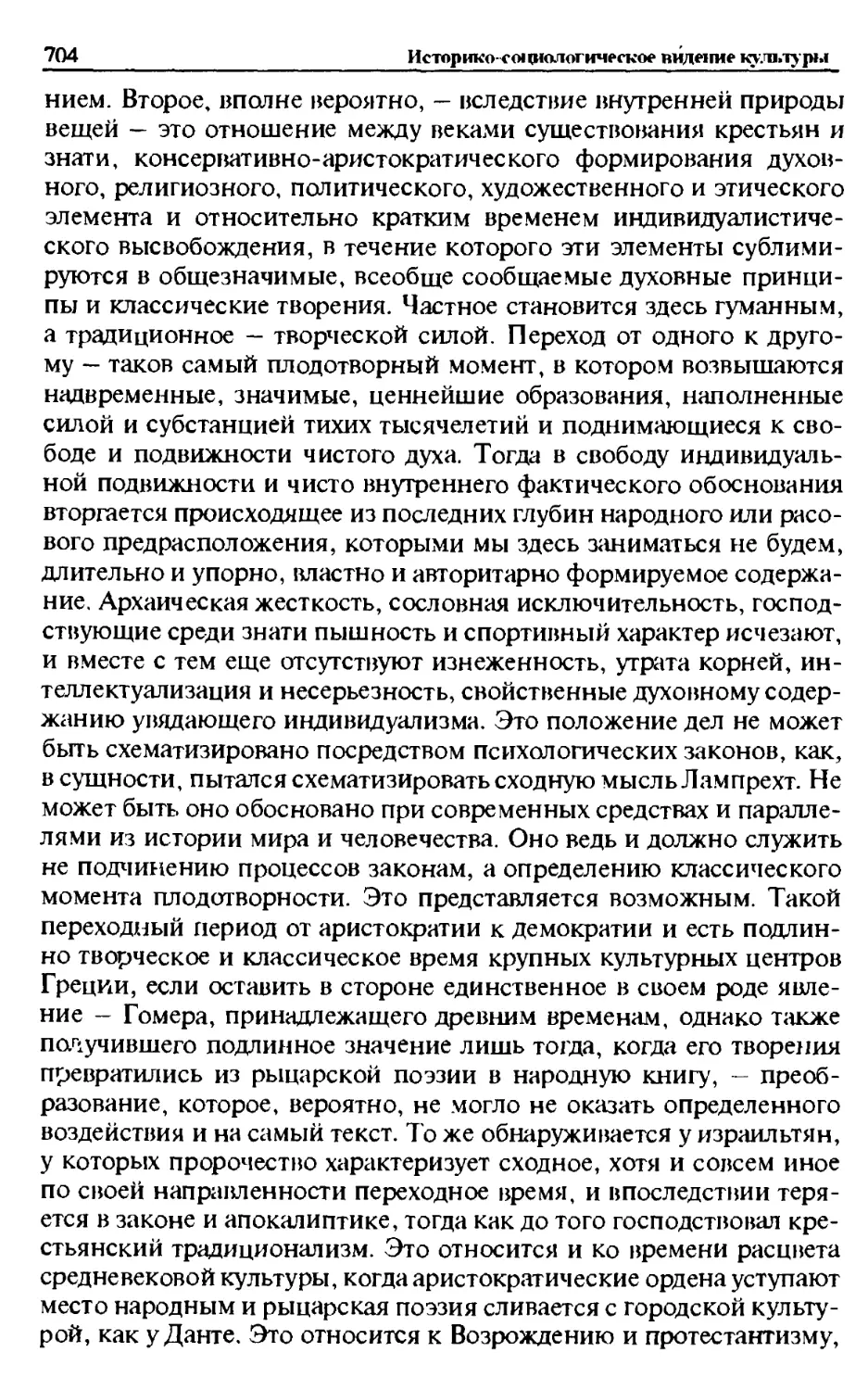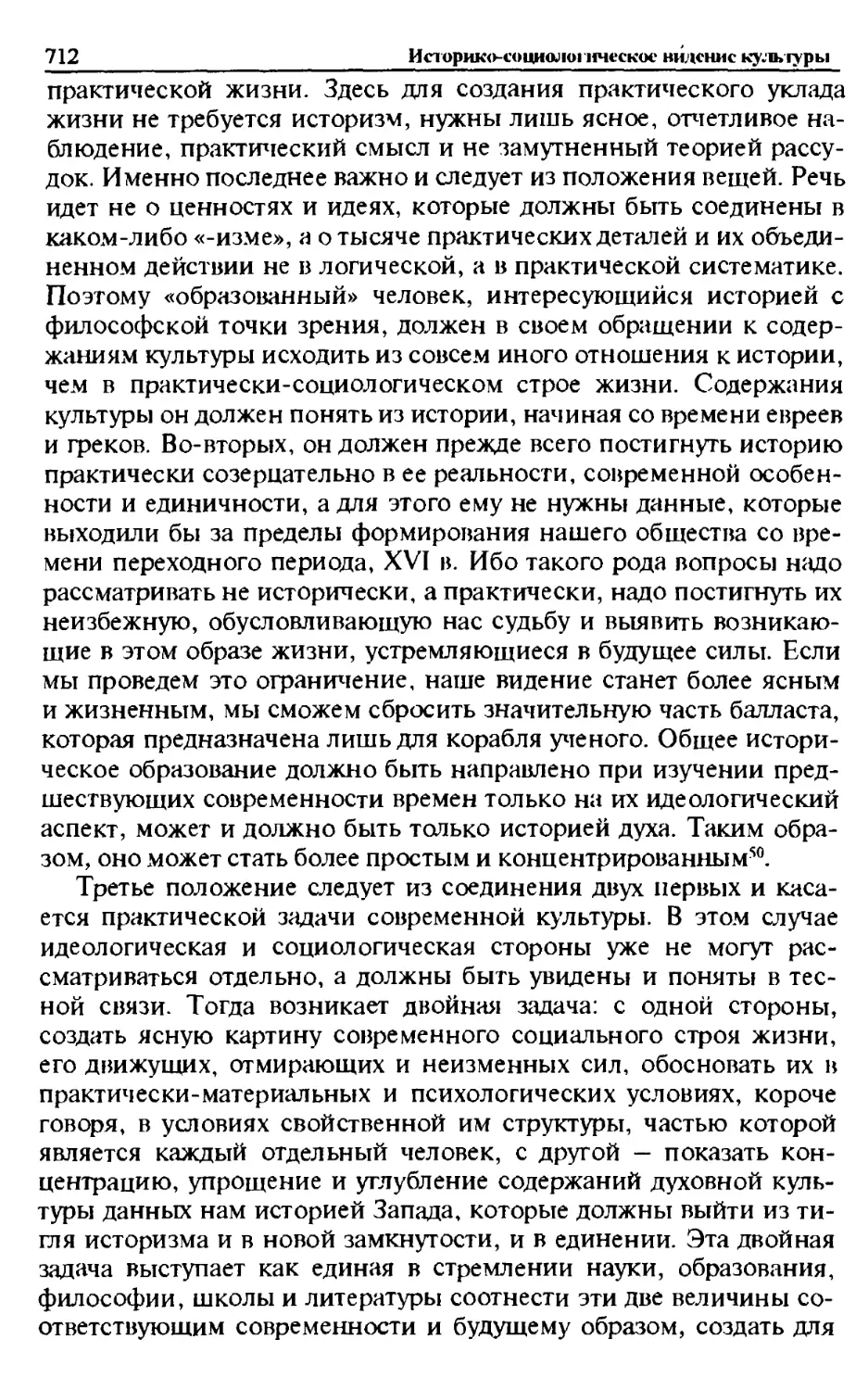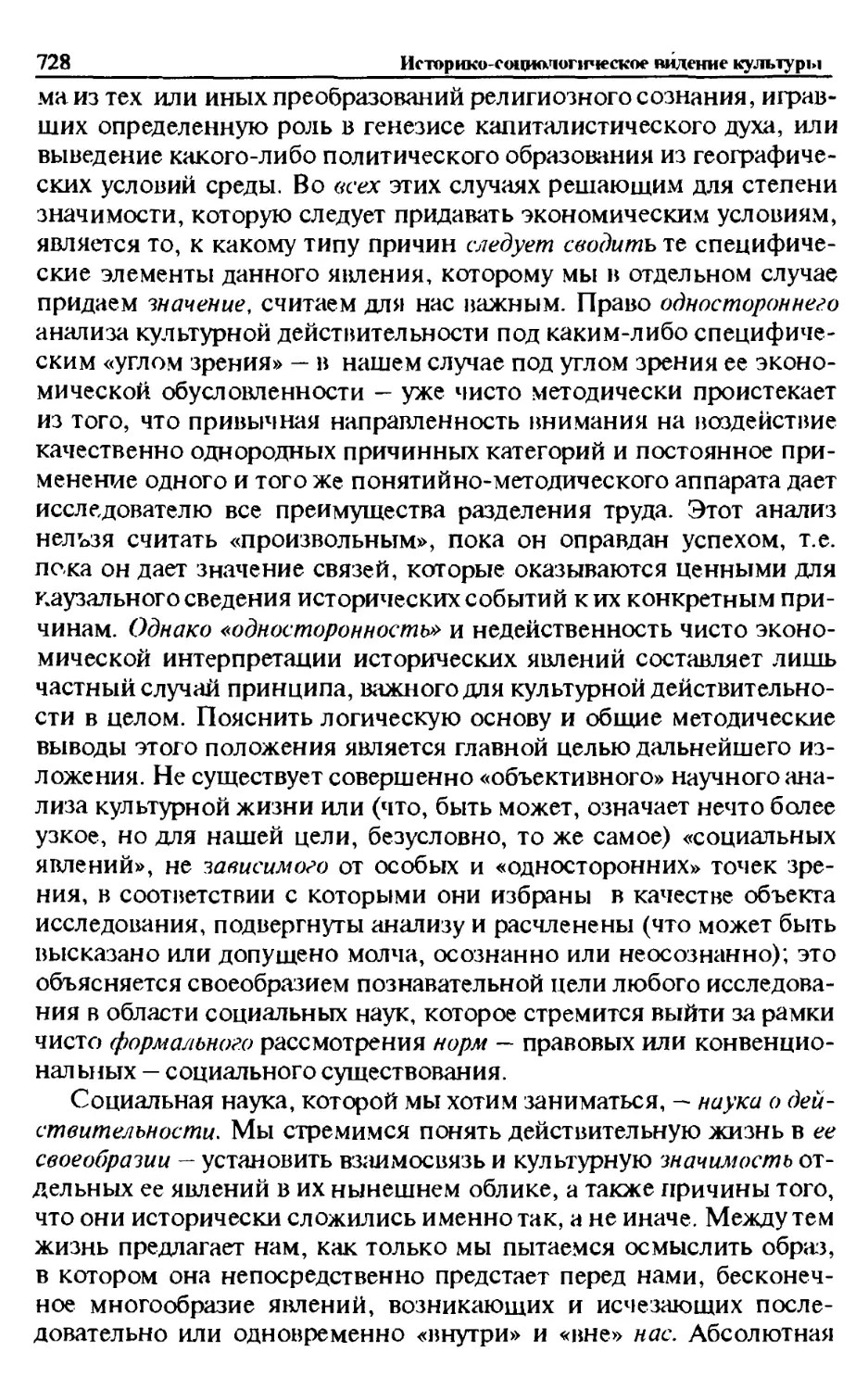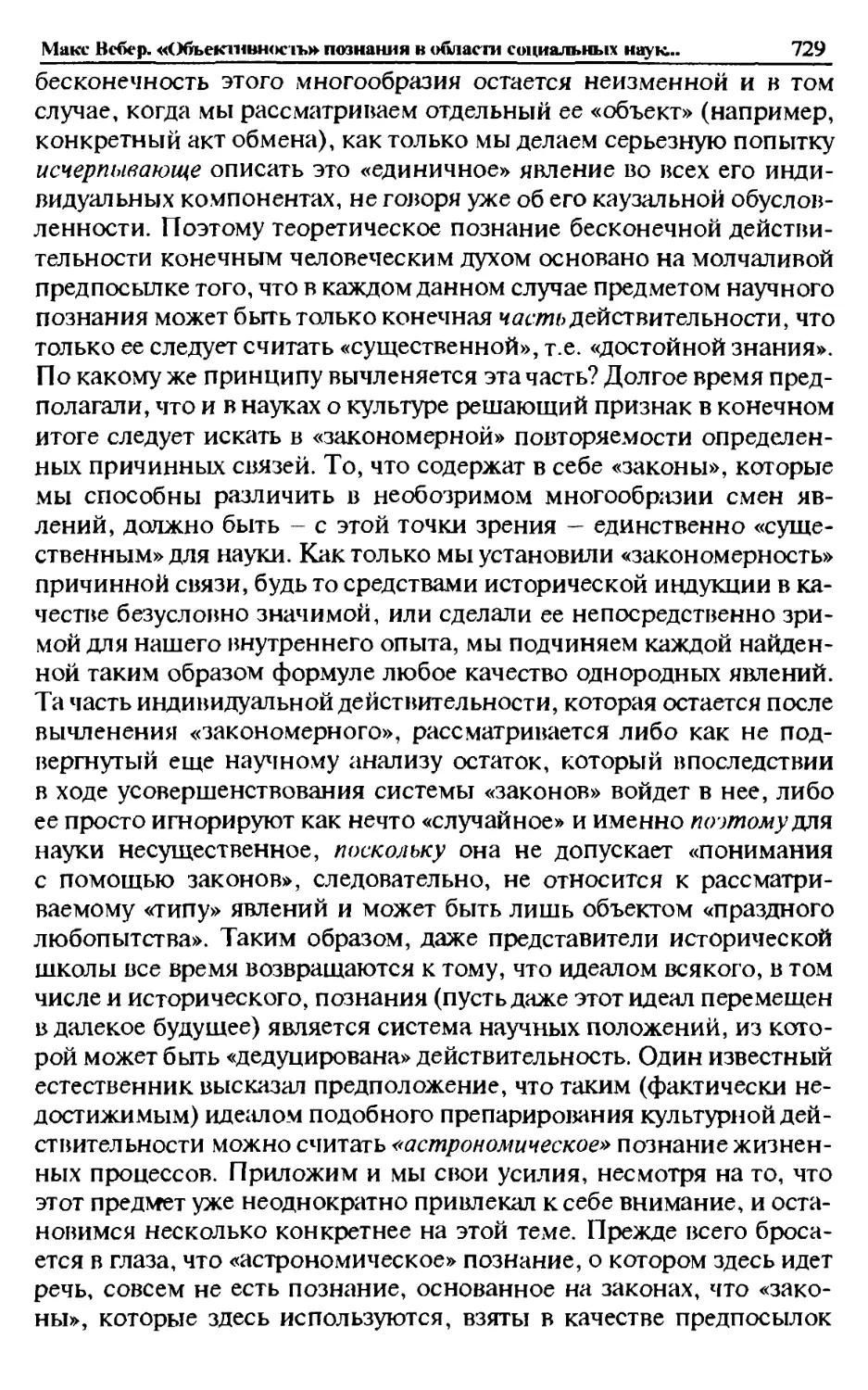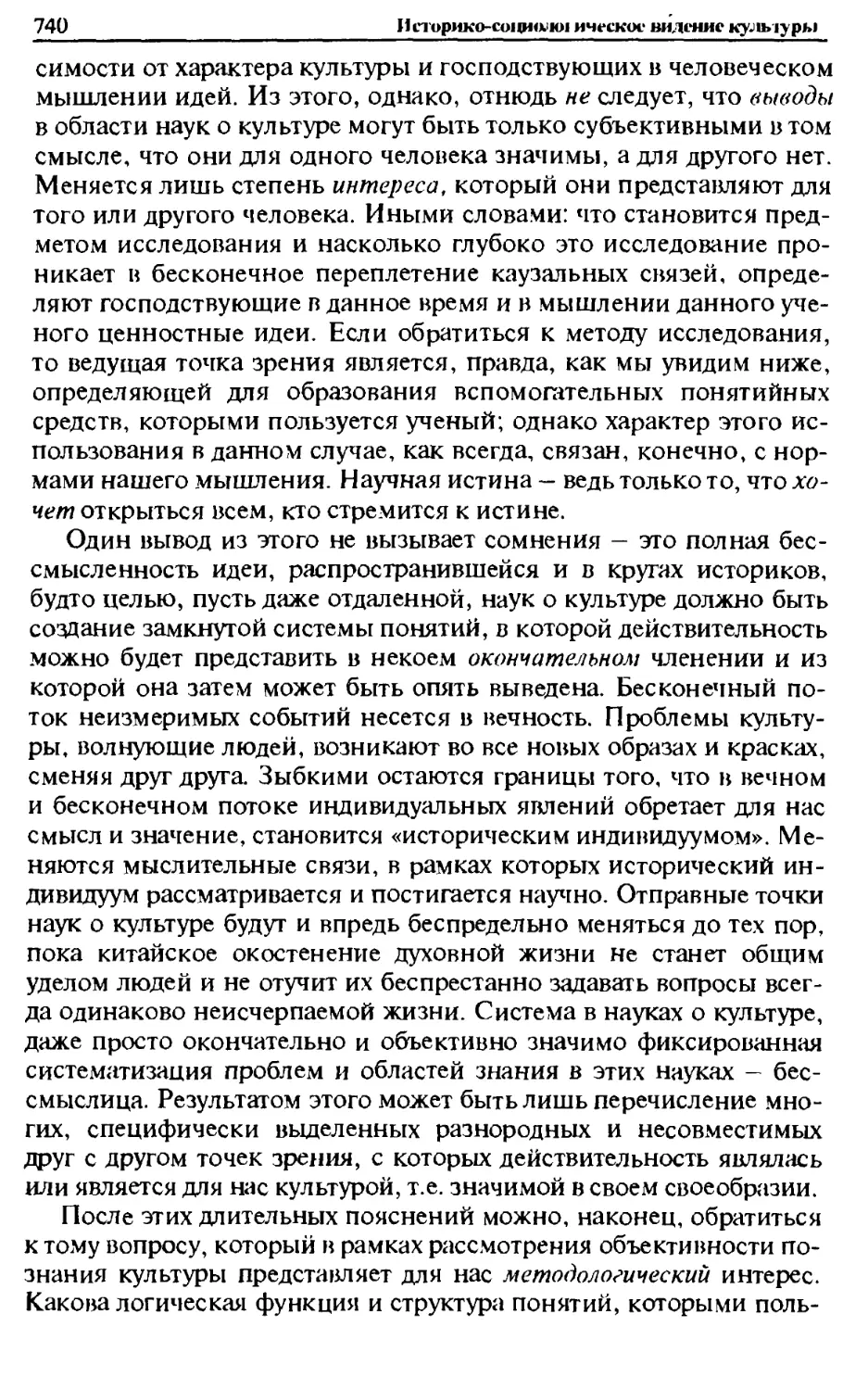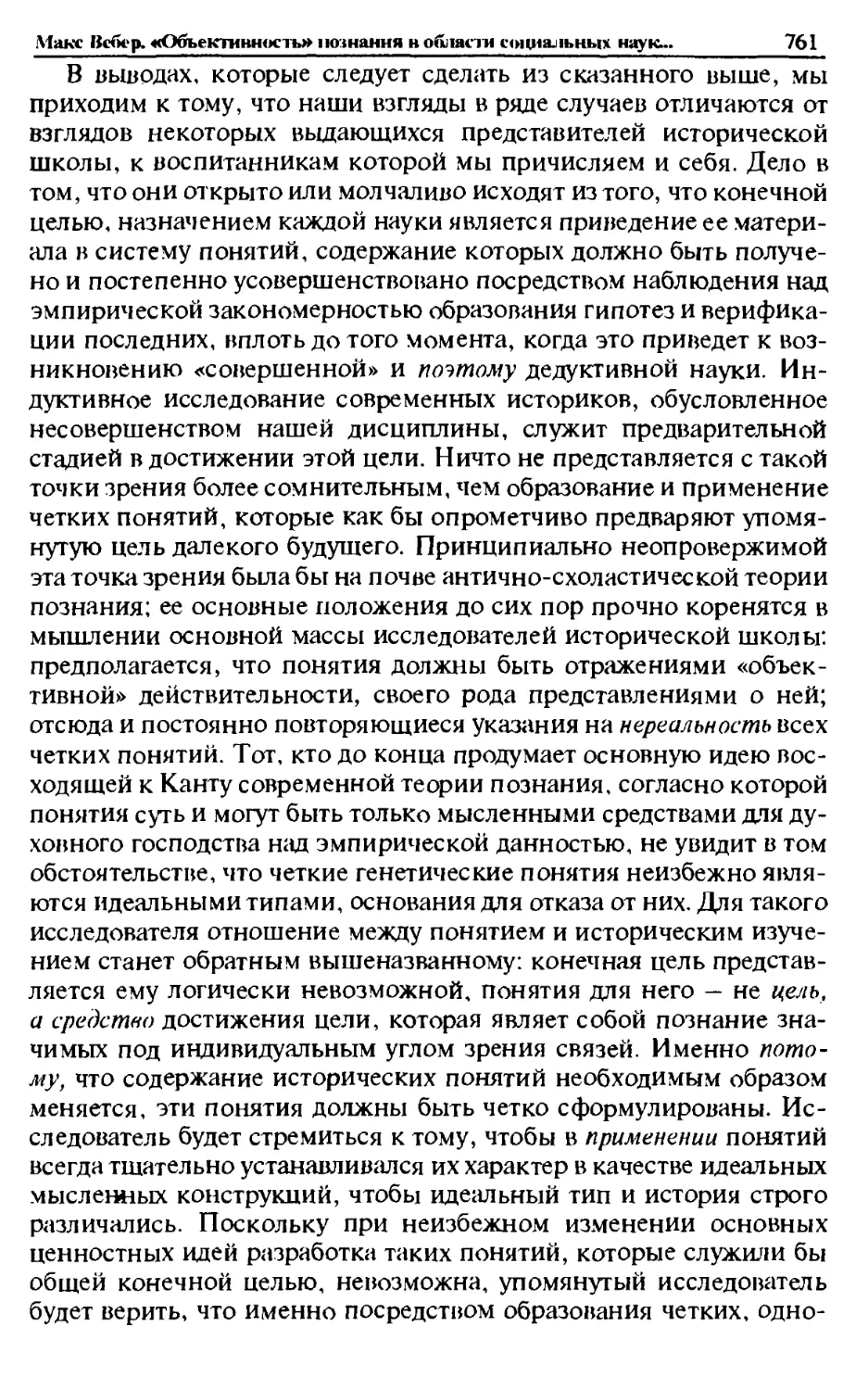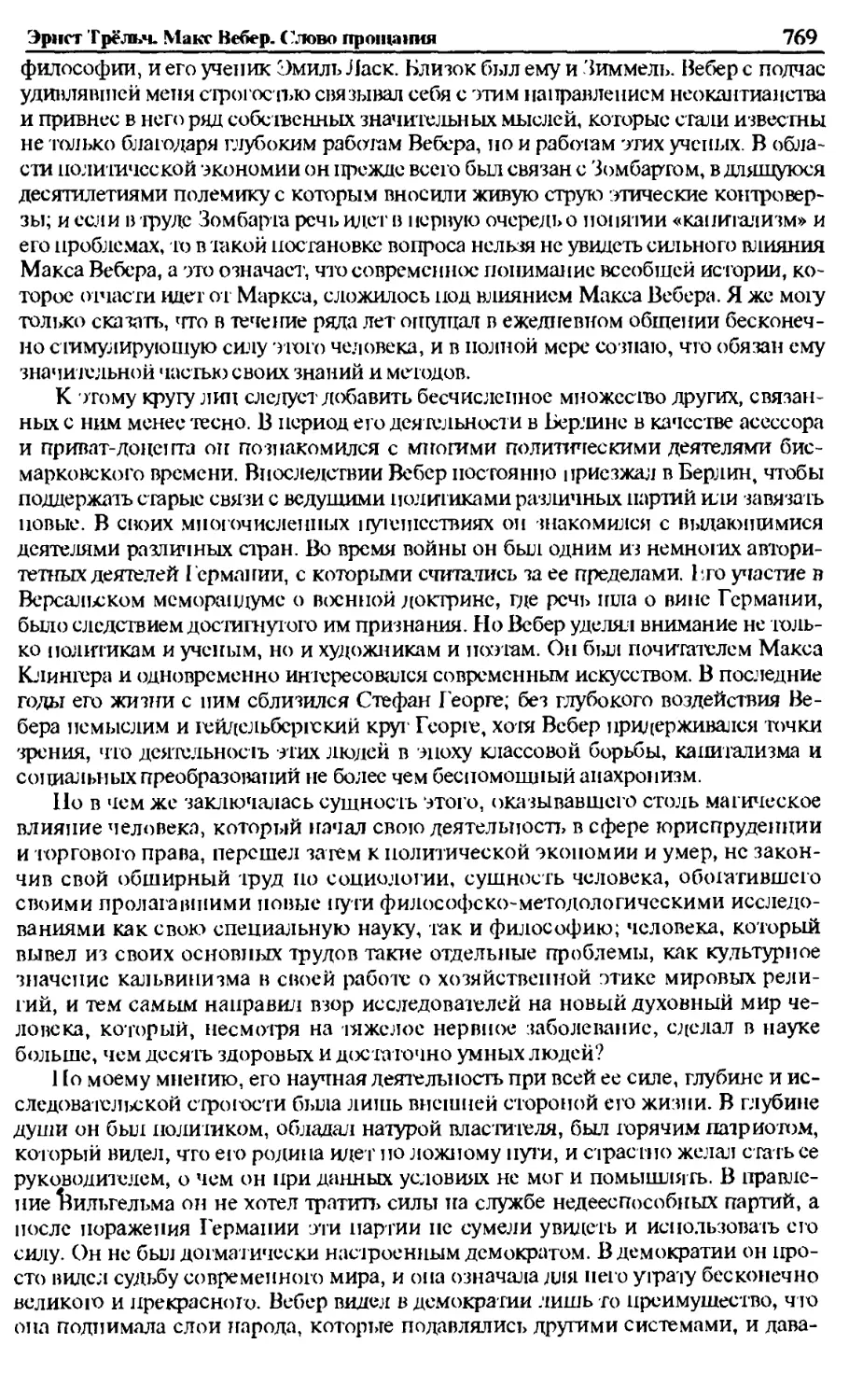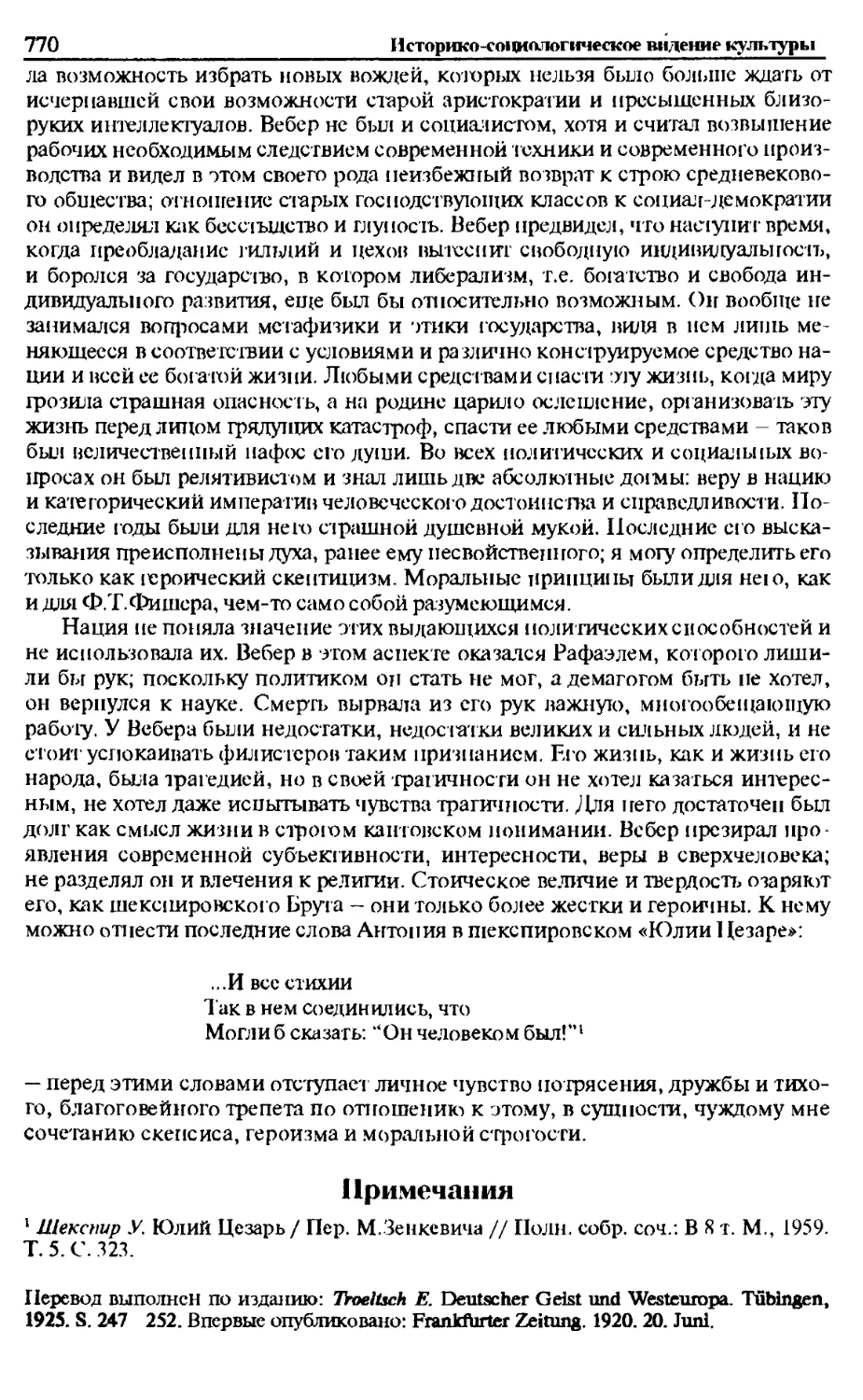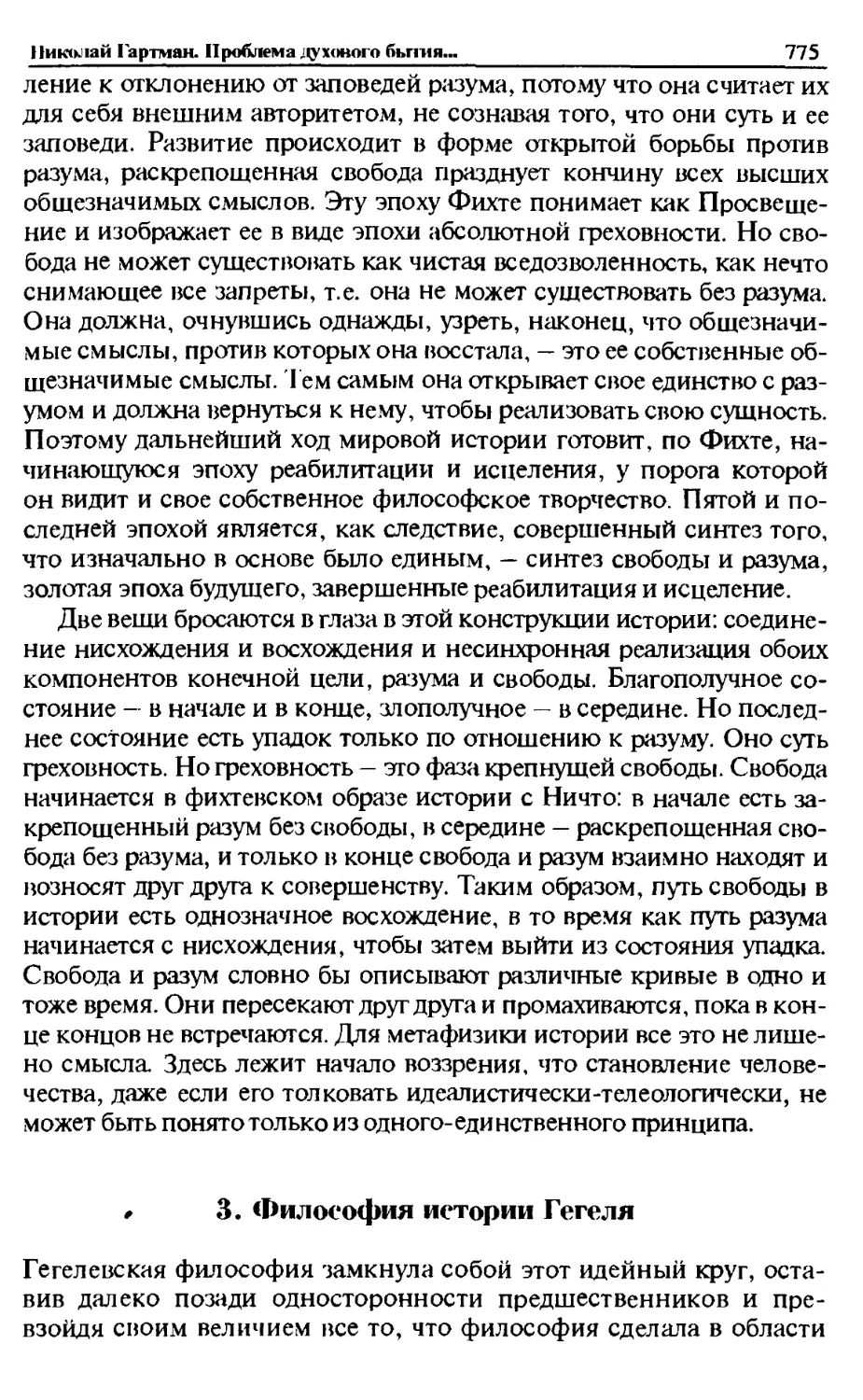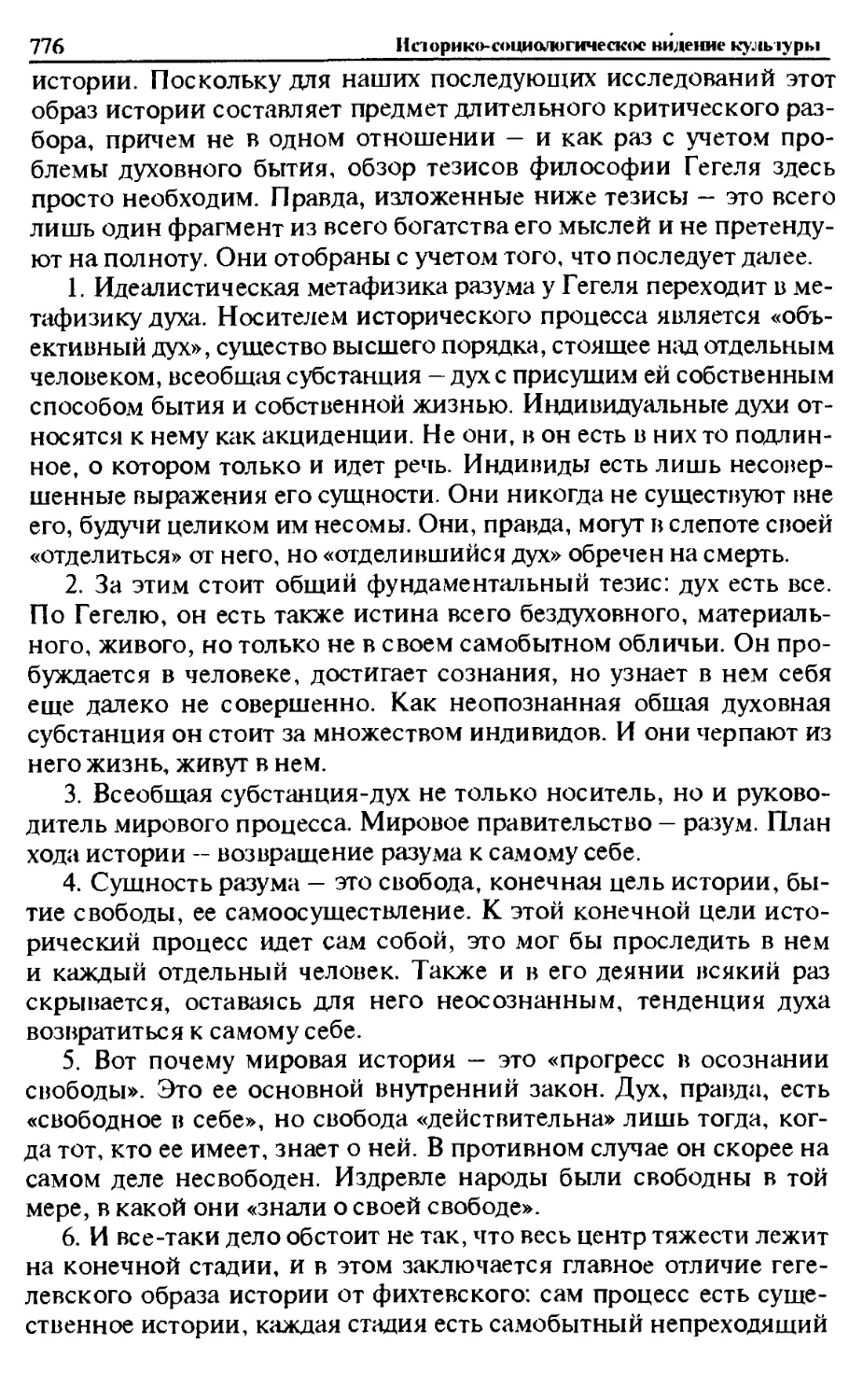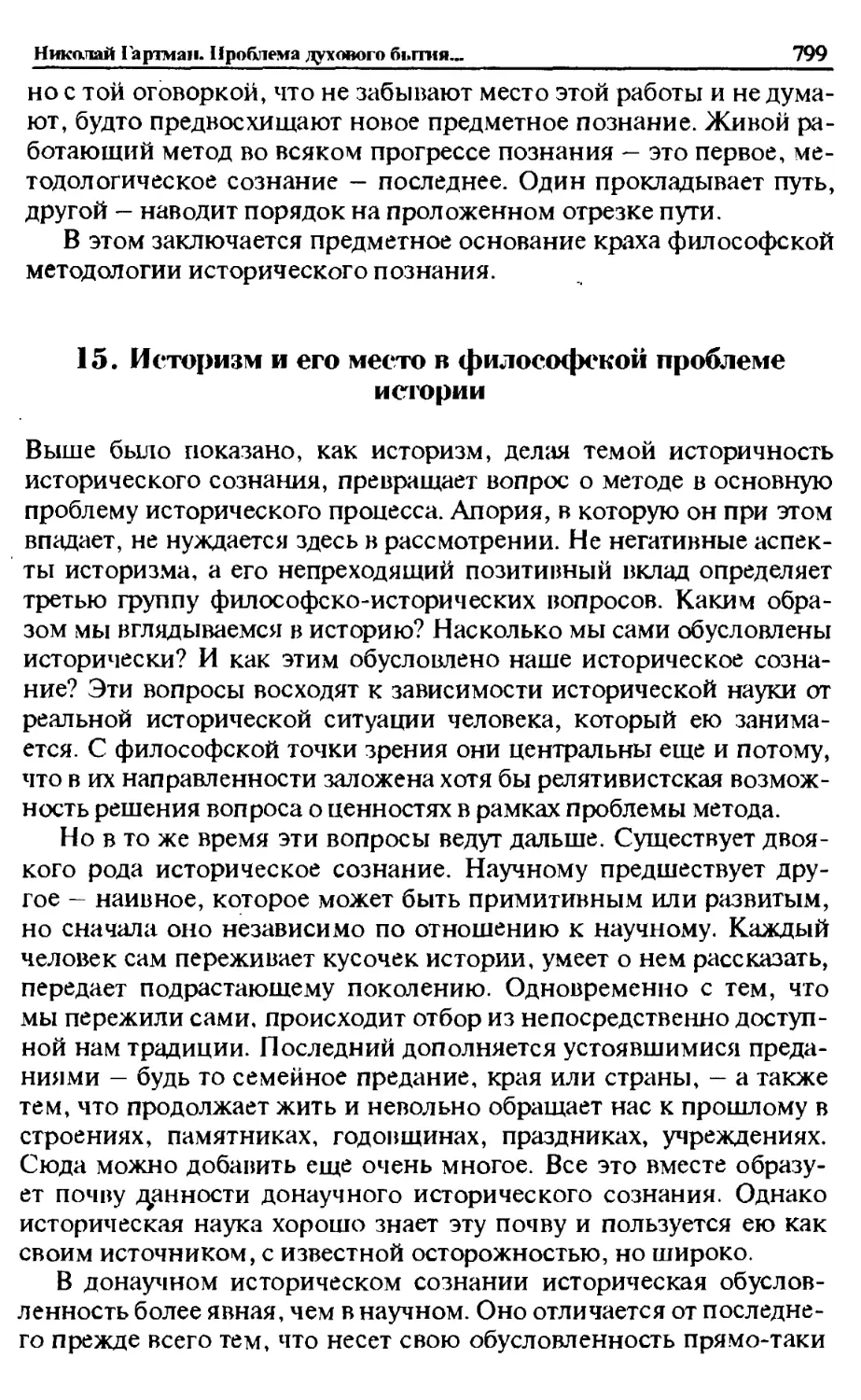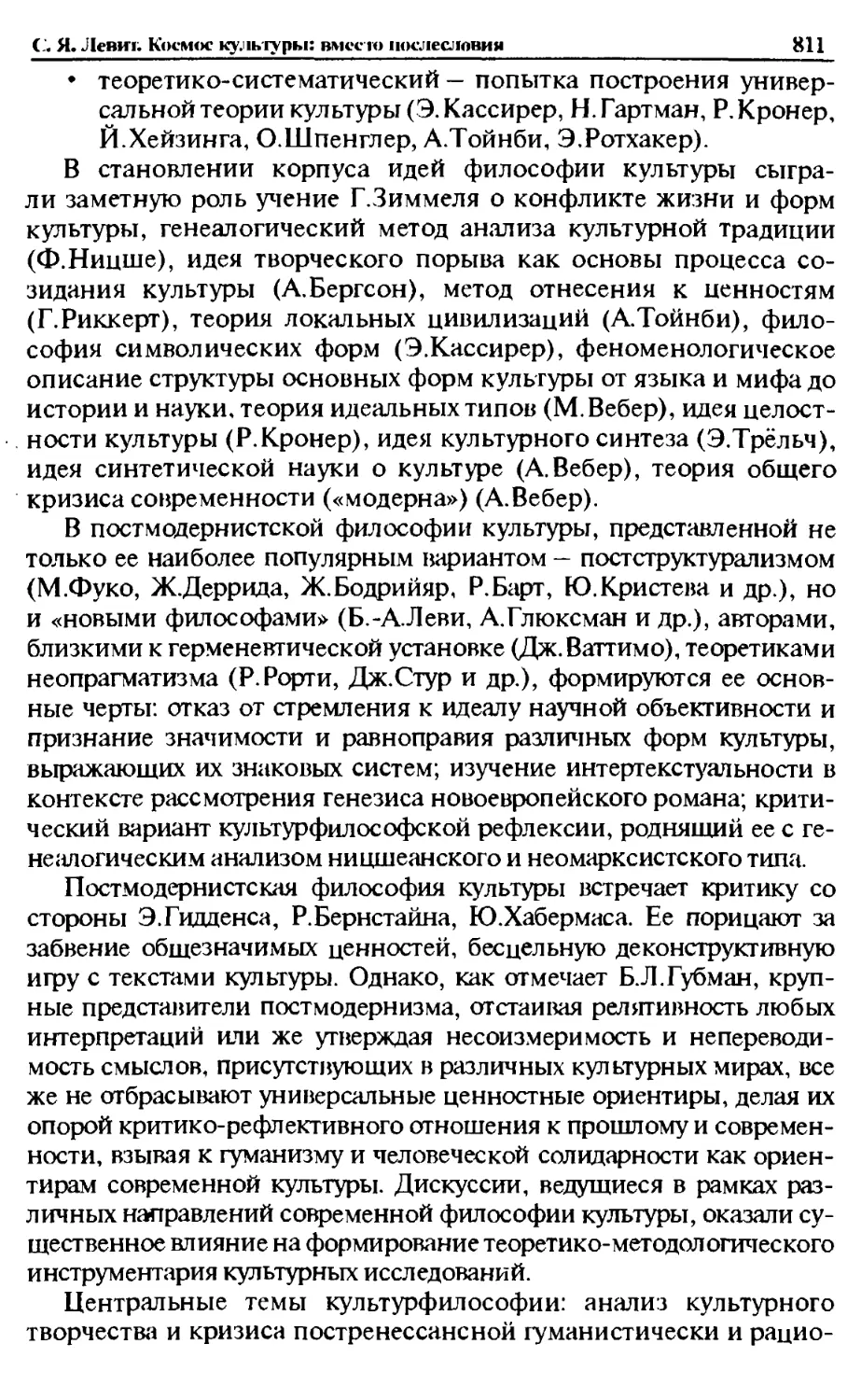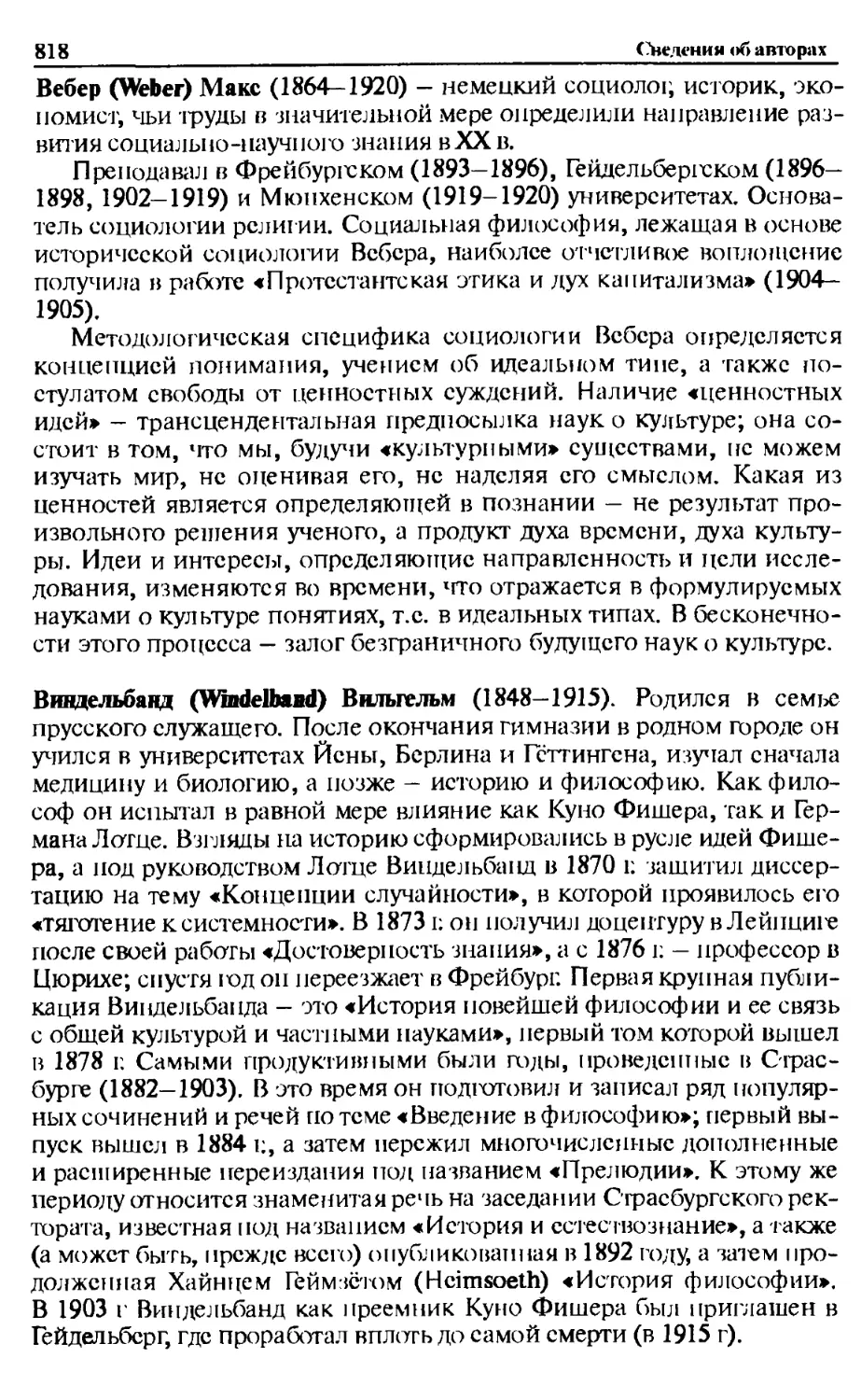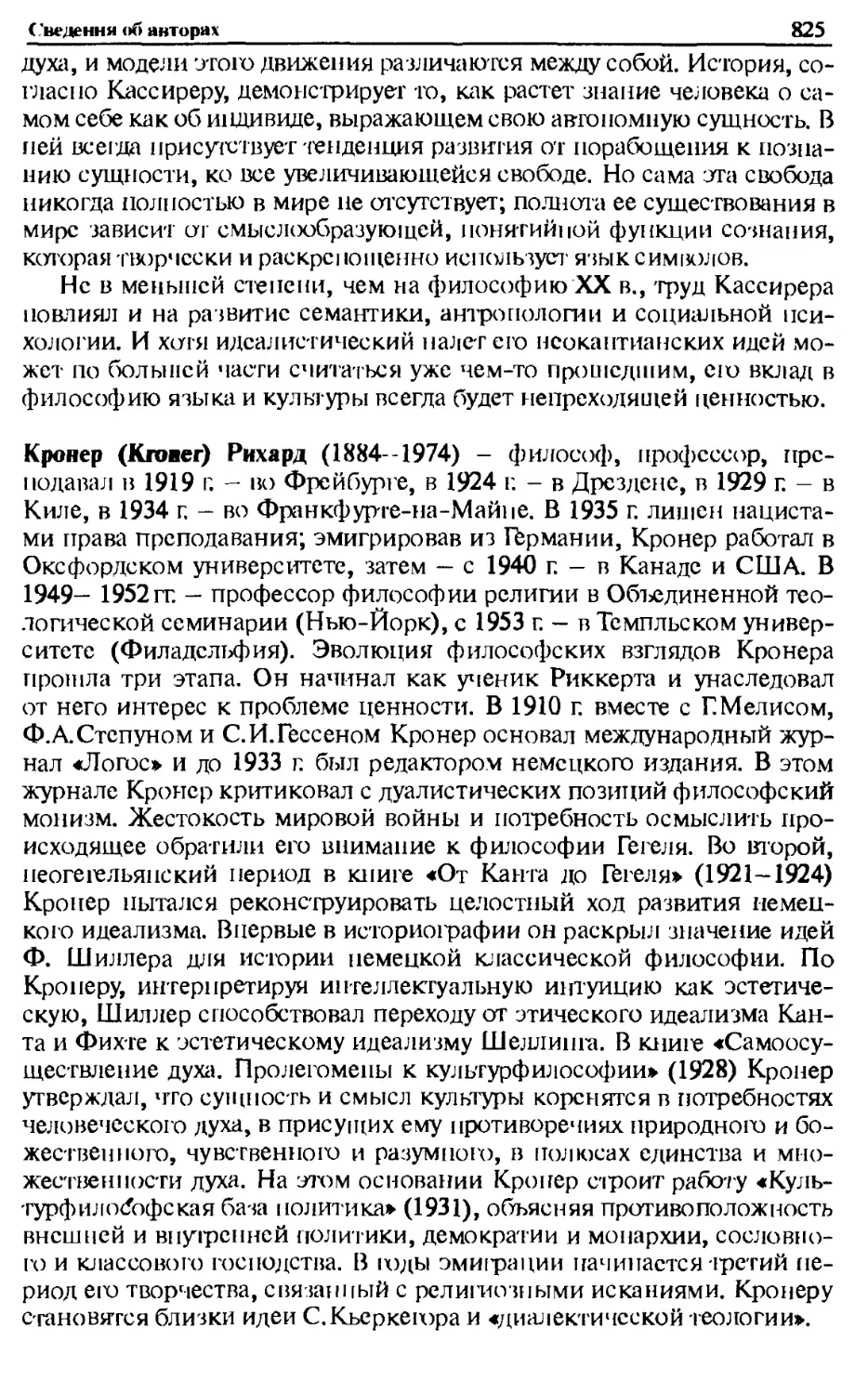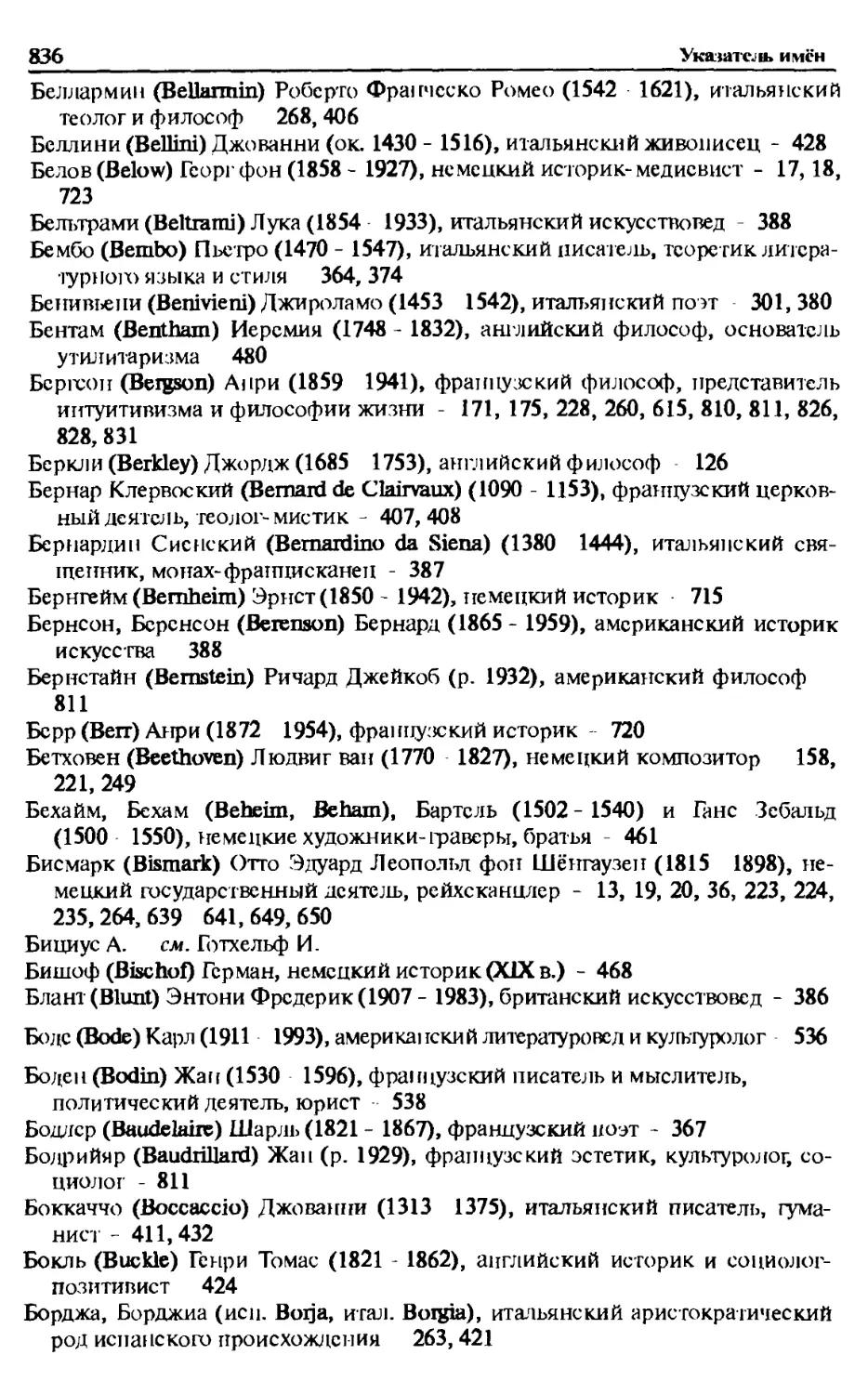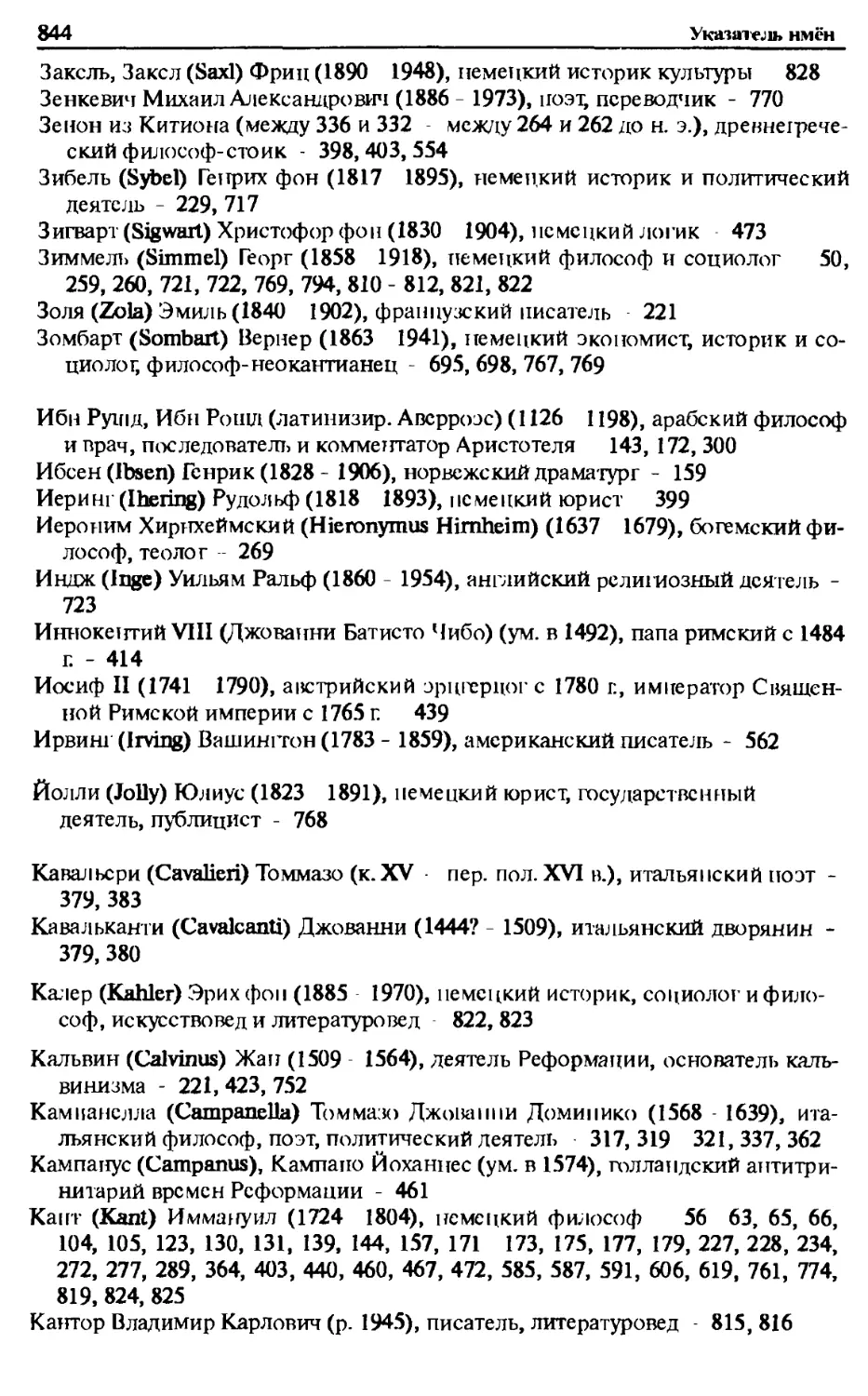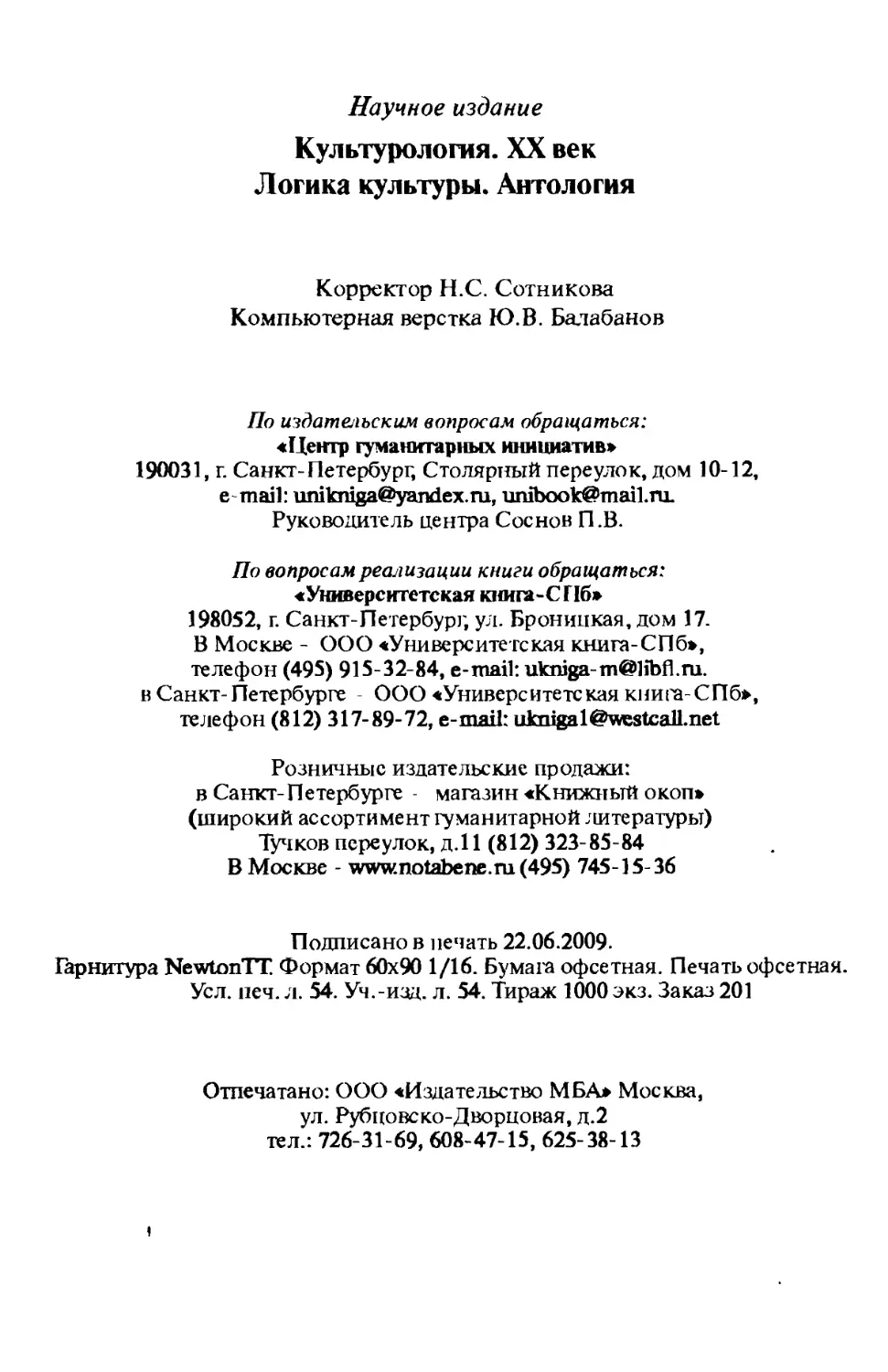Автор: Левит С.Я.
Теги: антология классическая философия культурология логика культуры культурологические исследования
ISBN: 978-5-88415-998-3
Год: 2009
Текст
Культурология век
Антология Логика культуры
i
Культурологияы£век
Серия основана в 1998 г.
В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института философии Российской академии наук
Культурологияы^век
Антология Логика культуры
Университетская книга Москва-Санкт-Петербург 2009
ББК87
A 72
Главный редактор и автор проекта «Культурология. XX век» С.Я.Левит Составители серии: С.Я.Левит, И.А.Осиновская
Редакционная коллегия серии:
Л.В.Скворцов (председатель), В.В.Бычков, Г. Э. Беликовская, И.Л.Галинская, В.Д.Губин, Г.И.Зверева, А.Н.Кожановский, Л.А.Микешина, Ю.С.Пивоваров, Г.С.Померанц, А.К.Сорокин,
П.В.Соснов
Научный редактор и составитель тома С.Я.Левит
Переводчики: С.И.Гессен, М.И.Зингер, Т.Е.Егорова, Н.Н.Зубков, О.В.Боровая, АТ.Гаджикурбанов, Г.А. Котляр, Е.И.Кузнецова, М.ИЛевина, А.Н.Малинкин, В.И.Матузова, Л.Т.Мильская, В.Г.Николаев, А.М.Руткевич, В.В.Рынкевич, Т.Е.Савицкая, Г.А.Шевченко
Редактор Е.Н.Балашова Художник П.П.Ефремов
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
А 72 Логика культуры. Антология / Отв. редактор-составитель С.Я.Левит. - СПб.: Университетская книга, 2009. - 864 с. (Серия “Культурология. XX век”)
В этом издании предпринята попытка раскрыть особенности трансляции некоторых основополагающих ориентаций классической философии в культурологические исследования. В антологии даны работы таких крупнейших мыслителей, как В.Виндельбанд, Г.Риккерт, М.Вебер, А. Вебер, Э.Кассирер, Г.Зиммель, О.Шпенглер, Т.Лессинг, Н.Гартман, Э.Трёльч, П.Тиллих, А.Шастель. Систематическая подборка работ ведущих западных ученых XIX—XX вв., внесших свой вклад в становление культурологии, представляет особый интерес для всех, кто занимается философией, культурологией, социологией.
© С.Я.Левит, И.А.Осиновская, составление серии, 2009
© С.ЯЛевит, составление тома, 2009
ISBN 978-5-88415-998-3 © Издательство «Университетская книга», 2009
Логика наук о культуре
Макс Вебер
Критические исследования в области логики наук о культуре
I. Уяснение позиций в полемике с Эдуардом Мейером
То обстоятельство, что один из наших ведущих историков счел необходимым отдать себе и своим собратьям по специальности отчет о цели и характере своей работы, не может не пробудить интерес, выходящий за пределы специальных кругов, уже одним тем, что в данном случае исследователь преступает границы отдельных дисциплин и вступает в область гносеологических проблем. Правда, это имеет и ряд отрицательных последствий. Предпосылкой плодотворного оперирования категориями логики, которая на ее современном уровне такая же специальная наука, как всякая другая, является повседневная работа с ними, совершенно также, как это делается в любой другой дисциплине. Между тем претендовать на такое постоянное занятие логическими проблемами Э.Мейер, о работе которого («К теории и методологии истории», Галле, 1902) здесь идет речь, безусловно, не может и не хочет, - в такой же мере, как и автор последующих строк. Следовательно, критические замечания гносеологического характера, высказанные в названной работе, можно уподобить не диагнозу врача, а диагнозу самого пациента, и в качестве такового их следует оценивать по достоинству и трактовать. Специалисты в области логики и теории познания будут в ряде случаев удивлены формулировками Э.Мейера, быть может, они и не найдут в этой работе ничего нового для себя. Однако это ни в коей мере не умаляет ее значения для смежных с ней отдельных дисциплин1. Наиболее значительные достижения в области теории познания получены в результате работы с «идеально-типически» конструированными образами целей и путей познания в области отдельных наук и подчас так высоко парят над этими науками, что им трудно невооруженным глазом узнать в них самих себя. Поэтому для понимания своей сущности им могут быть доступнее, несмотря на
8 Логика наук о кулыурс
несовершенную с гносеологической точки зрения формулировку, а в известном смысле именно поэтому, методологические истолкования, возникшие в их собственной среде. Изложение Э.Мейера в его прозрачности и доступности предоставляет специалистам в области смежных дисциплин возможность продолжить ряд высказанных здесь соображений и тем самым разработать определенные общие для них и историков в узком смысле слова логические вопросы. Это и является целью настоящей работы, где, отправляясь от исследования Э.Мейера, автор сначала последовательно вычленяет ряд логических проблем, а затем переходит к рассмотрению, с этой точки зрения, новых работ по логике наук о культуре. В качестве отправного пункта здесь совершенно сознательно взяты чисто исторические проблемы, от которых лишь в ходе дальнейшего изложения совершается переход к социальным дисциплинам, выявляющим «правила» и «законы».
В наши дни неоднократно делалась попытка оградить своеобразие социальных наук посредством установления границ между ними и «естественными науками». При этом известную роль всегда играла молчаливо принятая предпосылка, будто в задачу истории входит только собирание фактов или только чистое описание; в лучшем случае она якобы поставляет «данные», которые служат строительным материалом для «подлинной» научной работы. К сожалению, и сами историки в своем стремлении обосновать своеобычность «истории» как профессии немало способствовали предубеждению, согласно которому «историческое» исследование есть нечто качественно иное, чем «научная» работа, так как «понятия» и «правила» в истории «неприменимы». Поскольку в настоящий момент и наша наука в результате длительного влияния «исторической школы» обычно строится на «историческом» фундаменте и поскольку отношение к теории все еще, как и 25 лет тому назад, составляет нерешенную проблему, нам представляется правильным прежде всего задать вопрос, что же следует понимать под «историческим» исследованием в его логическом значении, а затем рассмотреть этот вопрос на материале безусловно «исторической», по общему признанию, работы, в частности, той, критике которой прежде всего посвящена данная статья.
Э.Мейер начинает с предостережения от переоценки значения методологических штудий для исторической практики: ведь даже самые глубокие методологические знания еще никого не сделали историком, а неверные методологические положения необязательно ведут к порочной исторической практике — они доказывают только то, что историк неверно формулирует или толкует правильные максимы своей работы. С этим, по существу, можно со
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре 9
гласиться: методология всегда является лишь осознанием средств, оправдавших себя на практике, а тот факт, что они отчетливо осознаны, в такой же степени не может служить предпосылкой плодотворной работы, как знание анатомии — предпосылкой «правильной» ходьбы. Более того, так же как человеку, пытающемуся контролировать свою походку на основе анатомических знаний, грозит опасность споткнуться, подобная угроза встает и перед специалистом, стремящимся определить цель своего исследования, руководствуясь методологическими соображениями2. Непосредственно помочь историку в какой-либо части его практической деятельности, — а это, конечно, также составляет одно из намерений методолога, - можно только тем, чтобы раз и навсегда научить его не поддаваться импонирующему влиянию философствующих дилетантов. Только в ходе выявления и решения конкретных проблем, а отнюдь не благодаря чисто гносеологическим или методологическим соображениям, возникали науки и разрабатывались их методы. Важными для занятия самой наукой эти соображения становятся лишь в том случае, если в результате значительных сдвигов «точек зрении», превращающих материал в объект исследования, складывается представление, что новые «точки зрения» влекут за собой необходимость пересмотреть логические формы, в которых до сих пор шла сложившаяся научная «деятельность», и в результате этого представления возникает неуверенность в «существе» своей работы. Нет сомнения в том, что история находится теперь именно в таком положении, и мнение Э.Мейера, согласно которому методология не имеет принципиального значения для «практики», не помешало ему самому в настоящий момент с полным на то основанием обратиться к методологии.
Он начинает с изложения тех теорий, в которых недавно была сделана попытка преобразовать историческую науку с методологических позиций, и формулирует ту точку зрения, которую он хочет в первую очередь подвергнуть критике, следующим образом (с. 5 и сл.).
1. Для истории не имеют значения и не должны быть приняты во внимание:
а) «случайность»;
б) «свободное» волевое решение конкретных лиц;
в) влияние идей на поступки людей.
И напротив:
2. Подлинным объектом научного познания надлежит считать: а) «массовые явления» в отличие от индивидуальных действий; б) типичное в отличие от единичного;
в) развитие «сообществ», в частности социальных «классов» или «наций», в отличие от политических действий отдельных лиц.
10 Логика наук о культуре
И наконец:
3. Поскольку историческое развитие доступно научному пониманию только в рамках каузальной связи, его следует рассматривать как «закономерно» протекающий процесс, и, следовательно, подлинной целью исторической работы является обнаружение «стадий развития» человеческих сообществ, которые с «типической» необходимостью следуют друг за другом, и включение в эти стадии всего исторического многообразия.
В дальнейшем мы временно опускаем все те моменты в рассуждениях Э.Мейера, которые специально посвящены критике Лампрехта; я позволю себе также перегруппировать аргументы Э.Мейера, а некоторые из них выделить для рассмотрения в последующих разделах так, как это потребуется в зависимости от дальнейшего изложения, которое ведь посвящено не только критике книги Э. Мейера.
В своей критике неприемлемой для него точки зрения Э. Мейер прежде всего указывает на важную роль, которую в истории и в жизни вообще играют «свободная воля» и «случайность», — то и другое он рассматривает как «вполне устойчивые и ясные понятия». Что касается определения случайности (с. 17 и сл.), то само собой разумеется, что Э.Мейер рассматривает это понятие не как объективное «отсутствие причины» («абсолютная» случайность в метафизическом смысле) и не как субъективную случайность, с необходимостью возникающую в каждом отдельном случае определенного типа (например, при игре в кости), не как абсолютную невозможность познания причинной обусловленности («абсолютная» случайность в гносеологическом смысле)3, но как «относительную» случайность, т.е. логическую связь между раздельно мыслимым и совокупностями причин; в целом это в своей безусловно не всегда «корректной» формулировке близко тому, как это понятие еще теперь, несмотря на известный прогресс в отдельных вопросах, интерпретируется логиками, которые тем самым по существу возвращаются к учению Виндельбанда, изложенному в его первой работе. В основном здесь правильно проводится разделение между двумя понятиями: 1) между упомянутым каузальным понятием «случайности» (так называемая «относительная случайность»): «случайный» результат здесь противопоставлен тому, которого можно было «ждать» при данных каузальных компонентах события, сведенных нами к понятийному единству; «случайным» мы считаем то, что не может быть каузально выведено в соответствии с общими эмпирическими правилами из единственно принятых здесь во внимание условий, но обусловлено действием находящейся «вне» их причины (с. 17—19); 2) отличным от него телеологическим понятием «слу
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре_11
чайного», которому противостоит понятие «сущностного», потому ли, что здесь речь идет о предпринятом с познавательной целью образовании понятия посредством исключения всех «несущественных» для познания («случайных», «индивидуальных») компонентов действительности, потому ли, что выносится суждение о реальных или мысленных объектах, рассматриваемых как «средства» для достижения «цели»; при этом релевантными «средствами» практически становятся лишь определенные свойства этих объектов, все остальные же — практически «безразличны» (с. 20—21)4. Правда, формулировка (особенно на с. 20, где поясняется противоположность между событиями и «вещами» как таковая) оставляет желать лучшего, кроме того, проблема логически не вполне продумана в своих выводах, что будет показано дальше при рассмотрении позиции Э.Мейера в вопросе о понятии развития (ниже, раздел II). Однако то, что он утверждает, в общем удовлетворяет требованиям исторической практики. Нас здесь интересует, как нас. 28 Э.Мейер возвращается к понятию случайности.
«Естественные науки, — утверждает он — могут... предсказать, что, если зажечь динамит, произойдет взрыв. Однако предсказать, произойдет ли этот взрыв и когда он произойдет в каждом отдельном случае, будет ли при этом ранен, убит или спасен тот или иной человек, они не могут, ибо это зависит от случайности и от свободной воли, которая им неведома, но ведома истории». Здесь прежде всего бросается в глаза тесная связь между «случайностью» и «свободной волей». Еще отчетливее эта связь выступает во втором примере Э.Мейера, где речь идет о возможности «точно», т.е. при условии, что не возникнут «помехи» (например, из-за случайного вторжения чужеродных космических тел в Солнечную систему), «исчислить» средствами астрономии какую-либо определенную констелляцию; при этом утверждается, что предсказать, «заметит» ли ее кто-нибудь, невозможно.
Во-первых, поскольку само это «вторжение» чужеродных космических тел, по предположению Э.Мейера, «не может быть исчислено», «случайность» такого рода известна не только истории, но и астрономии; во-вторых, в обычных условиях очень легко «исчислить», попытается ли какой-нибудь астроном «наблюдать» за этой констелляцией и проведет ли действительно, если этому не помешают какие-либо «случайные» помехи, такое наблюдение. Создается впечатление, что Э.Мейер, несмотря на свое строго детерминистское толкование «случайности», молчаливо допускает тесное избирательное сродство между «случайностью» и «свободой воли», которое обусловливается специфической иррациональностью истории. Остановимся на этом подробнее.
12
Логика наук о кулыуре
То, что Э. Мейер определяет как «свободу воли», ни в коей мере не противоречит, как он полагает (с. 14), «аксиоматическому» «закону достаточного основания», который, по его мнению, сохраняет свою безусловную значимость в сфере человеческого поведения. Противоположность «свободы» и «необходимости» действий превращается якобы в простое различие аспектов рассмотрения: во втором случае мы видим «ставшее», и оно представляется нам вместе с действительно принятым некогда решением «необходимым», в первом случае мы рассматриваем ход событий как «становление», как нечто еще не сложившееся, следовательно, еще не «необходимое», как одну из бесчисленных «возможностей». В аспекте становления развития мы никогда не можем утверждать, что человеческое решение не могло бы оказаться иным, чем оно (впоследствии) действительно оказалось. В сфере человеческих действий мы никогда не выходим за пределы «я хочу».
Однако сразу же возникает вопрос, полагает ли Э.Мейер, что упомянутая противоположность («развитие» в стадии становления и поэтому мыслимое «свободным» — «ставшее» и поэтому мыслимый «необходимым» «факт») применима только в области человеческих мотиваций, следовательно, неприменима в области «мертвой» природы. Поскольку на с. 15 утверждается, что человек, «осведомленный о лицах и обстоятельствах дела», может со значительной степенью вероятности предвидеть результат, решение в стадии его становления, по-видимому, Э.Мейер не принимает эту противоположность. Ведь подлинно точное предварительное «исчисление» индивидуального события на основании данных условий и в мире «мертвой» природы связано с двумя предпосылками: 1) речь идет только о «доступных исчислению», т.е. выраженных в количественных величинах компонентах данности; 2) «все» релевантные для хода событий условия известны и точно измерены. Во всех других случаях — причем это правило, когда речь заходит о конкретном в своей индивидуальности явлении, например, о погоде в какой-либо день, — мы также не выходим за пределы вероятностных суждений, весьма различно градуированных по своей определенности. Если исходить из этого, то свободная воля не занимает особого места в мотивации человеческих действий, и каждое «я хочу» являет собой лишь джеймсовское формальное «fiat»1’ сознания, что принимают также, например, самые детерминистские по своей направленности криминалисты, не нарушая последовательности в применении теории вменения5. Тогда «свободная воля» означала бы, что «решению», сложившемуся фактически на основании причин, недоступных полному установлению, но выявленных в «достаточной» степени, приписывается каузальное
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре 13
значение, а это не станет оспаривать ни один, даже самый строгий, детерминист. Если бы речь шла только об этом, то было бы совершенно непонятно, почему нас не удовлетворяет то толкование понятия иррациональности истории, которое было дано при рассмотрении «случайности».
Однако при подобном толковании точки зрения Э. Мейера представляется странным, что он в этой связи считает нужным подчеркнуть важное значение «свободы воли» в качестве «данности внутреннего опыта» в ответственности индивида за его «волевой акт». Это было бы оправдано, если бы он предполагал, что история выступает «судьей» над своими героями. Возникает вопрос, в какой степени Э. Мейер действительно занимает эту позицию. Он пишет (с. 16): «Мы пытаемся... выявить мотивы, которые привели их к определенным решениям, в зависимости от этого судим о правильности этих решений и оцениваем (NB?) значение людей как личностей, например Бисмарка в 1866 г.». Исходя из этой формулировки, можно было бы предположить, что Э.Мейер считает главной задачей истории выносить оценочные суждения о «действиях» «исторической» личности. Однако не только его отношение к «биографиям» (в конце работы), о котором будет сказано ниже, но и его чрезвычайно меткие замечания по поводу несовпадения «собственной оценки» исторических деятелей с их каузальным значением (с. 50-51) заставляют нас усомниться в том, что под «ценностью» личности в предшествующем тезисе имеется в виду или консеквентно могло иметься в виду каузальное «значение» определенных действий или определенных качеств конкретных исторических деятелей (качеств, которые могут играть позитивную роль при вынесении определенного суждения об их исторической ценности или негативную, как, например, при оценке деятельности Фридриха Вильгельма IV). Что же касается «суждения» о «правильности» решений исторических лиц, то это также можно понимать самым различным образом: 1) как суждение о «ценности» цели, которая лежала в основе решения; например, такой цели, как необходимость, с точки зрения немецкого патриота, вытеснить Австрию из пределов Германии; 2) как анализ этого решения в свете проблемы, было ли объявление войны Австрии или, вернее (так как история ответила на этот вопрос утвердительно), почему это решение было именно в этот момент наиболее верным средством достичь поставленной ,цели — объединения Германии. Мы оставляем в стороне, различал ли сам Э.Мейер отчетливо эти два вопроса; в качестве аргументации исторической каузальности пригодна, очевидно, только постановка второго вопроса. Такое «телеологическое» по своей форме суждение об исторической ситуации в категориях «средства
14
Логика наук о культуре
и цели» имеет, очевидно, тот смысл (если оно дано не в качестве рецепта для дипломатов, а в качестве «истории»), что позволяет выносить суждение о каузальном историческом значении фактов, т.е. устанавливать, что именно в тот момент не была «упущена» «возможность» принять данное решение, так как «носители» этого решения обладали необходимой «душевной силой», по терминологии Э.Мейера, которая позволяла им противостоять сопротивлению с различных сторон. Тем самым устанавливается, какое каузальное значение «имели» здесь названное решение, его характерологические и иные предпосылки; другими словами, в какой мере и в каком смысле наличие определенных «качеств в характере людей» являет собой момент исторического «значения». Совершенно очевидно, что эти проблемы каузального сведения определенных исторических событий к действиям конкретных людей никоим образом не следует отождествлять с проблемой смысла и значения этической «ответственности». Это определение в работе Э.Мейера можно было бы истолковать в чисто «объективном» смысле каузального сведения определенных результатов к данным «характерологическим» качествам и «мотивам» действующих лиц, мотивам, которые могут быть объяснены как данными качествами, так и множеством условий «среды» и конкретной ситуации. Однако нельзя не упомянуть о том, что в другом месте своей работы (с. 44, 45) Э.Мейер определяет «исследование мотивов» как метод, имеющий для истории «второстепенное значение»6.
Приводимое им основание, согласно которому такое исследование обычно выходит за пределы того, что может быть с уверенностью познано, и часто являет собой лишь генетическую «формулировку» действия, которое не может быть убедительно объяснено состоянием источников и поэтому просто принимается как факт, в ряде случаев справедливо, однако вряд ли может служить признаком логического отличия этого метода от часто столь же весьма сомнительных «объяснений» конкретных «внешних» процессов. Однако как бы то ни было, эта точка зрения в сочетании с акцентированием значения для истории чисто формального момента «волевого решения» и с цитированным нами выше замечанием об «ответственности» заставляет нас предположить, что в понимании Э.Мейера этический и каузальный подходы к человеческим действиям, «оценка» и «объяснение», в значительной степени сливаются. В самом деле, независимо от того, считать ли, что формулировка Виндельбанда, согласно которой идея ответственности означает абстрагирование от каузальности, может в достаточной степени служить позитивным обоснованием нормативного достоинства нравственного сознания7, - эта формулировка во всяком
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре 15
случае отчетливо показывает, как царство «норм» и «ценностей», рассматриваемое с позиций каузального подхода эмпирической науки, отграничивается от последней. Конечно, в суждении о том, насколько «правильно» данное математическое положение, никакого значения не имеет вопрос о «психологическом» аспекте его возникновения и о том, в какой мере «математическая фантазия» в ее наивысшей потенции может быть лишь сопутствующим явлением определенной анатомической аномалии «математического мозга». Столь же мало означает для суда «совести» соображение, что рассмотренные в этическом аспекте «мотивы» собственных действий были с позиций эмпирической науки чисто каузально обоснованы или что эстетическая ценность какой-либо мазни столь же детерминирована, как Сикстинская капелла. Каузальный анализ никогда не дает оценочных суждений8, а оценочное суждение — отнюдь не каузальное объяснение. Именно поэтому оценка какого-либо явления, например «красоты» явления природы, относится к иной сфере, чем его причинное объяснение, поэтому и отнесение к «ответственности» исторического деятеля перед своей совестью или перед судом какого-либо бога или человека и любое другое привнесение философской проблемы «свободы» в методику истории совершенно также лишает историю характера эмпирической науки, как включение чудес в ее причинные ряды. Это исключает, конечно, вслед за Ранке, и Э.Мейер (с. 20); он указывает на необходимость «четко разделять историческое познание и религиозное мировоззрение». Полагаю, что лучше бы ему не следовать аргументации Штаммлера, на которую он ссылается, и не стирать столь же очевидную границу между историей и этикой. Какой методологической опасностью грозит такого рода смешение различных подходов, становится ясно, когда далее Э.Мейер пишет, что «тем самым, т.е. посредством эмпирически данных идей свободы и ответственности, в историческом становлении дан «чисто индивидуальный момент», который «не может быть сведен к формуле», не теряя при этом своей сущности; а далее он пытается иллюстрировать эту мысль громадным историческим (каузальным) значением индивидуального волевого решения отдельных лиц. Эта давняя ошибка9 вызывает беспокойство именно тех, кто стремится сохранить логическое своеобразие истории, так как в силу названного заблуждения в область исторической науки привносятся проблемы совсем иных сфер исследования, что создает впечатление, будто предпосылкой значимости исторического метода является определенная (антидетерминистская) философская концепция.
Совершенно очевидна ошибочность мнения, согласно которому «свобода» воления, как бы ее ни понимали, идентична «ирра-
16
Логика наук о культуре
трактовке исторической причинности также обнаруживаются несомненные противоречия. Гак, со всей решительностью подчеркивается, что историческое исследование, двигаясь от действия к причине, всегда направлено на выявление причинных рядов. Уже это — в формулировке Э.Мейера12 — можно оспаривать. Само по себе вполне возможно, что для данного в качестве факта или недавно открытого исторического события в виде гипотезы формулируются последствия, которые оно могло бы иметь, и эта гипотеза затем верифицируется на основе имеющихся «фактов». Однако здесь имеется в виду, как мы покажем дальше, нечто совсем другое, а именно: недавно сформулированный принцип «телеологической зависимости», господствующий над каузальным интересом в истории. Более того, совершенно неверно считать, что упомянутое движение от действия к причине свойственно только истории. Каузальное «объяснение» конкретного «явления природы» идет совершенно тем же путем. Если, как мы уже видели, высказывается мнение, будто «ставшее» является для нас просто «необходимым» и только мыслимое в «становлении» выступает как «возможность», то мы читаем обратное - здесь так решительно подчеркивается специфическая проблематичность вывода, который идет от действия к причине, что автор приветствовал бы даже исключение из области истории самого слова «причина», а «исследование мотивов» он, как мы уже видели, вообще дискредитирует.
Это противоречие можно было бы, в духе Э.Мейера, устранить, предположив, что проблематичность сделанного вывода объясняется ограниченными возможностями нашего познания, тогда детерминированность служила бы некиим идеальным постулатом. Однако и такое решение Э.Мейер решительно отвергает (с. 23), после чего следует полемика (с. 24 и сл.), которая также вызывает серьезные сомнения. В свое время во введении к «Истории Древнего мира» Э.Мейер идентифицировал отношение между «всеобщим» и «особенным» с отношением между «свободой» и «необходимостью», а то и другое — с отношением между «отдельным индивидуумом» и «целостностью» и в результате этого пришел к выводу, что «свобода», а следовательно, и «индивидуальное», господствуют в «деталях», тогда как в основных направлениях исторических процессов действуют «законы» и «правила». Впрочем, на с. 25 он решительно отвергает эту присущую и многим «современным» историкам, в корне неверную в такой формулировке точку зрения, ссылаясь при этом то на Риккерта, то на Белова. Белов подверг сомнению именно идею «закономерного развития»13 и, приводя пример Э.Мейера (объединение Германии в единую нацию представляется нам «исторической необходимостью», время
Макс Вебер. Критические исследования в области лютики наук о кулыурс 17
трактовке исторической причинности также обнаруживаются несомненные противоречия. Так, со всей решительностью подчеркивается, что историческое исследование, двигаясь от действия к причине, всегда направлено на выявление причинных рядов. Уже это — в формулировке Э.Мейера12 - можно оспаривать. Само по себе вполне возможно, что для данного в качестве факта или недавно открытого исторического события в виде гипотезы формулируются последствия, которые оно могло бы иметь, и эта гипотеза затем верифицируется на основе имеющихся «фактов». Однако здесь имеется в виду, как мы покажем дальше, нечто совсем другое, а именно: недавно сформулированный принцип «телеологической зависимости», господствующий над каузальным интересом в истории. Более того, совершенно неверно считать, что упомянутое движение от действия к причине свойственно только истории. Каузальное «объяснение» конкретного «явления природы» идет совершенно тем же путем. Если, как мы уже видели, высказывается мнение, будто «ставшее» является для нас просто «необходимым» и только мыслимое в «становлении» выступает как «возможность», то мы читаем обратное — здесь так решительно подчеркивается специфическая проблематичность вывода, который идет от действия к причине, что автор приветствовал бы даже исключение из области истории самого слова «причина», а «исследование мотивов» он, как мы уже видели, вообще дискредитирует.
Это противоречие можно было бы, в духе Э.Мейера, устранить, предположив, что проблематичность сделанного вывода объясняется ограниченными возможностями нашего познания, тогда детерминированность служила бы некиим идеальным постулатом. Однако и такое решение Э.Мейер решительно отвергает (с. 23), после чего следует полемика (с. 24 и сл.), которая также вызывает серьезные сомнения. В свое время во введении к «Истории Древнего мира» Э. Мейер идентифицировал отношение между «всеобщим» и «особенным» с отношением между «свободой» и «необходимостью», а то и другое - с отношением между «отдельным индивидуумом» и «целостностью» и в результате этого пришел к выводу, что «свобода», а следовательно, и «индивидуальное», господствуют в «деталях», тогда как в основных направлениях исторических процессов действуют «законы» и «правила». Впрочем, на с. 25 он решительно отвергает эту присущую и многим «современным» историкам, в корне неверную в такой формулировке точку зрения, ссылаясь при этом то на Риккерта, то на Белова. Белов подверг сомнению именно идею «закономерного развития»13 и, приводя пример Э.Мейера (объединение Германии в единую нацию ^представляется нам «исторический, необходимостью», время
18 _____________________________Логика наук о культуре
же и форма этого единения в федеративное государство, состоя-щее из 25 членов, проистекает из «индивидуальных, действующих в истории факторов»), задает вопрос: «Разве не могло бы все это произойти и по-другому?»
Эту критику Э.Мейер полностью принимает. Однако мне представляется совсем не трудным убедиться в том, что, как бы ни относиться к отвергнутой Беловом формулировке Э.Мейера, эта критика, стремясь доказать слишком много, не доказывает ничего. Ведь подобный упрек был бы справедлив по отношению ко всем нам, в том числе и к самому Белову, и к Э.Мейеру, поскольку мы, не раздумывая, постоянно применяем понятие «закономерного развития». Так, например, тот факт, что из человеческого зародыша возник или возникает человек, представляется нам действительно закономерным развитием, а между тем нет никакого сомнения в том, что внешние «случайные» события или «патологическое» предрасположение могут привести и к «иному результату». Следовательно, в полемике с теоретиками «развития» речь может идти только о правильном понимании и ограничении логического смысла понятия «развития» — просто устранить это понятие с помощью приведенных аргументов невозможно. Лучшим примером может служить сам Э. Мейер. Ведь уже через две страницы (с. 27) в примечании, где устанавливается «прочность (?) понятия» «средние века», он действует вполне в духе той схемы, которая была изложена в отвергнутом им впоследствии «Введении», в тексте говорится, что слово «необходимо» означает в истории только то, что «вероятность» (исторического действия из данных условий) «достигает очень высокой степени, что все развитие стремится к определенному событию». Ничего другого он ведь и не хотел сказать в своем замечании об объединении Германии. Если же он при этом подчеркивает, что упомянутое событие могло бы, несмотря на все это, эвентуально и не произойти, то достаточно вспомнить, что он и в астрономических исчислениях допускал возможность «помех» со стороны изменивших свою траекторию космических тел. В самом деле, в этом смысле между историческими событиями и индивидуальными явлениями природы нет разницы. Как только при объяснении явлений природы (подробное рассмотрение здесь этой проблемы увело бы нас слишком далеко14) речь заходит о конкретных событиях, суждение о необходимости становится отнюдь не единственной, не преобладающей формой, в которой выступает категория причинности. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что недоверие Э.Мейера к понятию «развития» проистекает из его полемики с Ю. Вельхаузеном, в которой речь шла главным образом (хотя и не только) о противопо
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре 19
ложном понимании следующего вопроса: надлежит ли толковать «развитие» иудаизма как некий «внутренний» процесс («эволюционно») или как следствие вмешательства «извне» конкретных исторических судеб; в частности, например, считать ли, что настойчивое стремление персидских царей утвердить силу «Закона» вызвано политическими соображениями (интересами персидской политики, а не спецификой иудаизма, т.е. не обусловлено «эпигенетически»)? Как бы то ни было, если «общее» выступает как «по существу» (?) негативная или, в более резкой формулировке, как «лимитирующе действующая “предпосылка”», устанавливающая границы, «внутри которых находится бесконечное число возможностей исторического развития», тогда как вопрос, какая же из этих возможностей станет «действительностью»15, зависит якобы от «высших(?) индивидуальных факторов исторической жизни», то это отнюдь не улучшает приведенную во «Введении» формулировку. Тем самым с полной очевидностью «всеобщее», т.е. не «общая среда», часто неверно отождествляемая с «универсальным», а правило, следовательно, абстрактное понятие, вновь гипостазируется в качестве силы, действующей за пределами истории (с.46); при этом оказывается забытым тот элементарный факт, — который в других местах Э.Мейер ясно формулирует и резко подчеркивает, — что реальность присуща только конкретному, индивидуальному.
Подобная сомнительная по своей значимости формулировка соотношения «общего» и «особенного» присуща отнюдь не одному Э.Мейеру и отнюдь не ограничивается кругом историков его типа. Напротив, она лежит в основе популярного, разделяемого также рядом современных историков - но не Э. Мейером - представления, будто для того, чтобы рационально преобразовать историческое исследование в «науку об индивидуальном», необходимо прежде всего установить «общность» в человеческом развитии, в результате чего в качестве «остатка» будут получены особенности и не подлежащие делению «тончайшие соцветия», как сказал однажды Брейзиг. Конечно, по сравнению с наивным представлением, согласно которому назначение истории состоит в том, чтобы стать «систематической наукой», такая концепция — это уже «сдвиг» в сторону исторической практики. Впрочем, она также еще достаточно наивна. Попытка понять явление «Бисмарк» в его исторической значимости, получив посредством вычитания общих с другими людьми свойств «особенное» его личности, может служить поучительной и занятной попыткой для начинающих историков. Можно было бы предположить, конечно, при идеальной полноте материала (обычная предпосылка
20 ____________________________Логика наук о культуре
всех логических построений), что в результате этого процесса в качестве одного из «тончайших соцветий» останется, например, отпечаток пальца Бисмарка - этот наиболее специфический признак «индивидуальности», применяемый в технике уголовного расследования, потеря чего нанесла бы, следовательно, истории совершенно непоправимый урон. Если же мне возразят на это, что «историческими» мы считаем только «духовные» или «психические» качества и процессы, то ведь не подлежит сомнению, что исчерпывающее знание повседневной жизни Бисмарка, если бы мы им обладали, дало бы нам бесконечное множество его жизненных реакций, которые именно таким образом, в таком смешении и в такой констелляции не встречаются ни у кого более; между тем по своей значимости эти данные не превосходят названный отпечаток пальца. На возражение, согласно которому «очевидно», что наука принимает во внимание лишь исторически «значимые» компоненты жизни Бисмарка, логик мог бы ответить, что именно эта «очевидность» составляет для него решающую проблему, так как логика прежде всего ставит вопрос, что же является логическим признаком исторически «значимых» компонентов.
Тот факт, что приведенный нами пример вычитания - при абсолютной полноте материала - нельзя будет провести даже в далеком будущем, так как после вычитания бесконечного числа «общих свойств» всегда останется бесконечное число других компонентов, ревностное вычитание которых (пусть оно длится даже вечность) ни на шаг не приблизит нас к пониманию того, какая же из этих особенностей исторически «значима», — это одна сторона вопроса, которая сразу же обнаружилась бы при попытке применить данный метод. Другая состоит в том, что при такого рода манипуляциях с вычитанием предполагается абсолютная полнота знания каузальных связей явления, которая недоступна ни одной науке, даже в виде идеальной цели. В действительности каждое «сравнение» в области истории исходит из того, что посредством отнесения к культурной «значимости» уже проведен отбор, который, исключая необозримое множество как «общих», так и «индивидуальных» компонентов данного явления, позитивно определяет цель и направленность сведения его к конкретным причинам. Одно из средств такого рода сведения и, по моему мнению, одно из самых главных, еще далеко не в достаточной степени используемых, - сравнение «аналогичных» процессов. О логическом значении этого метода будет сказано ниже.
Э. Мейер не разделяет заблуждения, как показывает его замечание, приведенное на с. 48, к которому мы еще вернемся, будто индивидуальное как таковое уже являет собой объект исторического
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о куль type_21
исследования; его высказывания о значении общего для истории, о том, что «правила» и понятия — лишь «средства», «предпосылки» исторического исследования (с. 29), по существу (мы увидим это в дальнейшем) логически верны. Однако его формулировка, которую мы подвергли критике выше, в логическом отношении, как мы уже указывали, сомнительна и близка рассмотренному здесь заблуждению.
У профессионального историка, невзирая на все эти соображения, вероятно, все-таки сложится впечатление, что и в этих, подвергшихся нашей критике, указаниях Э. Мейера таится «рациональное» зерно. Это действительно едва ли не само собой разумеется, когда речь идет об изложении своих методов исследования историком такого ранга, как Э. Мейер. К тому же он действительно часто очень близок к логически правильным формулировкам тех верных идей, которые содержатся в его труде. Например, на с.27, где он определяет^тадии развития как «понятия», способные служить путеводной нитью для выявления и группирования фактов, и особенно в тех многочисленных случаях, когда он оперирует категорией «возможности». Однако логическая проблема здесь только ставится: необходимо было решить вопрос, как совершается членение исторического материала с помощью понятия развития и в чем состоит логический смысл категории «возможности» и характер ее использования для формирования исторической связи. Поскольку Э.Мейер этого не сделал, он, «чувствуя», какова действительная роль «правил» в историческом познании, не смог, как мне представляется, дать этому адекватную формулировку. Эта попытка будет сделана во втором разделе нашего исследования. Здесь же мы (после необходимых, по существу негативных замечаний по поводу методологических формулировок Э.Мейера) обратимся прежде всего к рассмотрению изложенных во втором (с. 35-54) и третьем (с. 54-56) разделах его работы соображений по проблеме, что же такое «объект» исторического исследования, - вопрос, которого мы уже коснулись в нашей критике.
Этот вопрос можно вслед за Э. Мейером сформулировать и по-другому: «Какие из известных нам событий “историчны”?» На это Э.Мейер сначала в самой общей форме отвечает следующим образом: «Исторично то, что оказывает воздействие и оказывало его в прошлом». Следовательно, то, что в конкретной индивидуальной связи значительно в каузальном аспекте, есть «историческое». Оставляя в стороне все остальные возникающие в этой связи вопросы, мы считаем нужным прежде всего установить, что Э.Мейер (на с. 37) отказывается от вывода, к которому он пришел на предыдущей странице. Ему совершенно ясно, что «дцже, седо ограничиться тем,
22________________________________________Лотка наук о культуре
что оказывает воздействие» (по его терминологии), число единичных событий останется бесконечным. Чем же руководствоваться историку, с полным основанием спрашивает он, «при отборе фактов»? Ответ гласит: «Историческим интересом». Однако для этого интереса, продолжает он после нескольких замечаний, которые будут рассмотрены ниже, нет «абсолютной нормы», и поясняет затем это соображение таким образом, что отвергает данное им самим ограничение, согласно которому «историческое» есть то, что «оказывает воздействие». Повторяя замечание Риккерта, который иллюстрировал свою мысль следующим примером: «То, что Фридрих Вильгельм IV отказался от имперской короны, есть историческое событие; однако совершенно безразлично, какой портной шил ему сюртук», — Э.Мейер (на с. 37) пишет: «Для политической истории этот портной действительно большей частью совершенно безразличен, однако вполне допустимо, что он может представлять интерес, например, для истории моды или портняжного дела, для истории цен и т.п.». Это, безусловно, верно, однако не может ведь Э.Мейер не понимать, если он продумал этот пример, что «интерес» в первом случае и «интерес» во втором случае совершенно различны по своей логической структуре и что тому, кто игнорирует это различие, грозит опасность смешать две столь же разные, сколь часто отождествляемые категории: реальную причину и средство познания. Поскольку пример с портным недостаточно ясно иллюстрирует нашу мысль, продемонстрируем эту противоположность на другом примере, в котором это смешение понятий выступает особенно отчетливо.
В статье о «Возникновении государства... у тлинкитов и ирокезов»16 К. Брейзиг пытался показать, что определенные присущие быту этих племен процессы, которые он трактует как «возникновение государства из институтов родового строя», обладают «особым репрезентативным значением», что они, другими словами, являют собой «типический» вид образования государства и поэтому обладают, по его мнению, «значимостью» едва ли не во всемирно-историческом масштабе.
Если вообще допустить, что построения Брейзига правильны, оказывается, что возникновение этих индейских «государств» и характер их формирования имели для каузальной связи всемирно-исторического развития ничтожное «значение». В последующей политической или культурной эволюции мира не было ни одного «важного» события, на которое этот факт оказал бы какое-либо влияние, т.е. к которому оно могло бы быть сведено в качестве своей «причины». Для формирования политической или культурной жизни современных Соединенных Штатов Америки возникновение упомянутых государств, более того, самое их
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре 23
существование, совершенно «безразлично», те. между этими дву-мя феноменами нет причинной связи, тогда как воздействие ряда решений Фемистокла, например, ощутимо еще поныне. Это не подлежит никакому сомнению, как бы ни препятствовало оно нашему желанию создать действительно «единую в своем развитии» историю. Если Брейзиг прав, то полученные в результате проведенного им анализа знания о возникновении упомянутых государств имеют (так утверждает он) эпохальное значение для понимания общих законов возникновения государств. Если бы построение Брейзига действительно устанавливало типичное становление государства и являло собой «новое» знание, перед нами встала бы задача создать определенные понятия, которые, даже независимо от их познавательного значения для учения о государстве, могли бы быть использованы, по крайней мере в качестве эвристического средства, при каузальном истолковании и других исторических процессов, иными словами: в качестве реальной причины обнаруженный Брейзигом процесс не имеет никакого значения, в качестве же возможного средства познания данные этого анализа очень важны. Напротив, знание решений, принятых Фемисто-клом, не имеет никакого значения, например, для «психологии» или любой другой науки, образующей понятия; то обстоятельство, что в данной ситуации государственный деятель «мог» принять подобное решение, понятно нам и без обращения к «наукам, устанавливающим законы», а то, что мы это понимаем, служит, правда, предпосылкой познания конкретной каузальной связи, но отнюдь не обогащает наше знание родовых понятий.
Приведем пример из сферы «природы». Конкретные Х-лучи, вспыхнувшие на экране Рентгена, произвели определенное конкретное воздействие и по закону сохранения энергии, быть может, еще по сей день продолжают свое действие где-то в космических далях. Однако не в качестве реальной причины космических процессов «значимы» конкретные лучи, обнаруженные в лаборатории Рентгена.
Это явление, как и вообще любой эксперимент, принимается во внимание в качестве основы для познания определенных «законов» происходящего17. Совершенно так же обстоит дело, конечно, и в случаях, приведенных Э.Мейером в примечании, в том месте его работы, которое мы здесь критиковали (прим. 2, с. 37). Он напоминает о том, что «самые незначительные люди, о которых мы случайно узнаем (в надписях или грамотах), вызывают интерес историка тем, что благодаря им мы знакомимся с условиями жизни в прошлом». Еще яснее проступает такое смешение, когда Брейзиг (если мне не изменяет память) полагает (страницу я в данный момент точно
24 Логика наук о культуре
указать не могу), будто тот факт, что при отборе материала историк руководствуется «значимостью», «важностью» индивидуального, может быть устранен указанием на то, что исследование «черепков» и т.н. подчас позволяло достигнуть важнейших результатов. Аргументы такого рода очень распространены в наши дни, их близость к «сюртукам» Фридриха Вильгельма IV и «самым незначительным людям» из надписей Э.Мейера очевидна. Но очевидно и смешение понятий, которое здесь присутствует. Ибо, как уже было сказано, ни «черепки» Брейзига, ни «незначительные люди» Э.Мейера, так же как конкретные Х-лучи в лаборатории Рентгена, не могут войти в качестве каузального звена в историческую связь; однако определенные их свойства служат средством познания ряда исторических фактов, которые в свою очередь могут иметь большое значение как для «образования понятий», следовательно, вновь в качестве средства познания, например родового «характера» определенных «эпох» в искусстве, так и для каузального толкования конкретных исторических связей. Противопоставление в рамках логического применения фактов культурной действительности18: 1) образование понятий с помощью «экземплификации» «единичного факта» в качестве «типического» представителя абстрактного понятия, т.е. как средство познания; 2) введение единичного факта в качестве звена, т.е. реальной причины, в реальную, следовательно, конкретную связь с применением также (среди прочего) и результатов образования понятий (с одной стороны, в качестве эвристического средства, с другой - как средство изображения), и есть противопоставление метода «номотетических» наук (по Виндельбанду) или «естественных наук» (по Риккерту) логической цели исторических наук, наук о культуре. В нем содержится также единственное основание для того, чтобы называть историю наукой о действительности. Для истории только это и может подразумеваться в таком определении - индивидуальные единичные компоненты действительности суть не только средство познания, но и его объект, а конкретные каузальные связи принимаются во внимание не как средство познания, а как реальная причина. Впрочем, в дальнейшем мы еще увидим, насколько далеко от истины распространенное наивное представление, будто история является «простым» описанием пред-найденной действительности или только изложением фактов19.
Так же как с черепками и сохранившимися в надписях упоминаниями о «незначительных личностях», обстоит дело и с портными у Риккерта, которых подверг критике Э.Мейер. Для каузальной связи в области истории культуры, в вопросе о развитии «моды» и «портняжного дела» тог факт, что определенный портной поставлял королю определенные сюртуки, едва л и имеет какое-либо зна
Макс Вебер. Критические исслеуювання в облает jkhiikm наук о кулыуре 25
чение. Этот факт мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы именно из этого конкретного явления возникли какие-либо исторические последствия, если бы, например, именно эти портные, судьба именно их ремесла оказались под каким-либо углом зрения «значительным» каузальным фактором в преобразовании моды или в организации этого ремесла и если бы это историческое значение было каузально обусловлено также и поставкой именно этих сюртуков. Напротив, в качестве средства познания для знакомства с модой и т.д. покрой сюртуков Фридриха Вильгельма1У и тот факт, что они поставлялись определенными (например, берлинскими) мастерскими, безусловно, может иметь такое же «значение», как любой другой доступный нам материал, необходимый для установления моды того времени. Однако сюртуки короля , служат здесь лишь частным случаем разрабатываемого родового понятия, лишь средством познания. Что же касается отказа от имперской короны, о котором шла речь у Мейера, то это — конкретное звено исторической связи, она отражает реальное взаимоотношение действия и причины внутри определенных реальных сменяющих друг друга рядов.. Логически это непреодолимое различие, и таковым оно будет вечно. Пусть даже эти «toto coelo»2* отличающиеся друг от друга точки зрения самым причудливым образом переплетаются в практике исследователя культуры (что, безусловно, случается и служит источником интереснейших методических проблем), логическая природа «истории» никогда не будет понята тем, кто не различает их самым решительным образом.
По вопросу о взаимоотношении этих двух различных по своей логической природе категорий «исторической значимости» Э.Мейер высказал две точки зрения, которые объединены быть не могут. В одном случае он, как мы уже видели, смешивает «исторический интерес» по отношению к тому, что «оказывает историческое воздействие», т.е. интерес к реальным звеньям исторических каузальных связей (отказ от имперской короны), с такими фактами, которые могут быть полезны историку только в качестве средства познания (сюртуки Фридриха Вильгельма IV, надписи и пр.). В другом - и на этом мы считаем нужным остановиться — противоположность того, что «оказывает историческое воздействие», и всех остальных объектов нашего фактического или возможного знания достигает у него столь высокой степени, что применение в его собственном классическом труде предложенного им ограничения научных «интересов» историка очень огорчило бы всех его друзей. Так, Э.Мейер пишет: «Долгое время я полагал, что в выборе, совершаемом историком, решающим является характерное (т.е. то специфически единичное, которое отличает данный институт, данную индивидуальность
26 Логика наук о кулыуре
от всех других аналогичных им). Это безусловно верно: однако для истории оно имеет значение лишь постольку, поскольку мы способны... воспринимать своеобразие культуры лишь в ее характерных чертах. Таким образом, “характерность всегда не более чем средство, позволяющее нам понять степень исторического воздействия культуры”». Это, как явствует из всего предшествовавшего, совершенно верно. Правильны и все выведенные из этого следствия — тот факт, что вопрос о «значении» в истории индивидуального и роли личности в истории обычно ставится неверно, что «личность» вступает в историческую связь, конструируемую историей, отнюдь не в своей целостности, а только в своих каузально релевантных проявлениях, что историческая значимость конкретной личности в качестве каузального фактора и ее «общечеловеческая» значимость, связанная с ее внутренней ценностью, не имеют ничего общего, что именно «недостатки» человека, занимающего решающую позицию, могут оказаться значительными в каузальном отношении. Все это правильно. И тем не менее встает вопрос, верно ли — или скажем, пожалуй, сразу же — в каком смысле верно, что анализ содержания культуры (с точки зрения истории) преследует только одну цель: сделать понятными рассматриваемые культурные процессы в той мере, в какой они «оказывают воздействие». Логическое значение этого вопроса сразу же открывается, как только мы переходим к рассмотрению выводов, которые Э.Мейер делает из своего тезиса. Прежде всего он заключает, что «существующие условия сами по себе никогда не являются объектами истории и становятся таковыми лишь постольку, поскольку они оказывают историческое воздействие». «Всесторонний» анализ произведения искусства, продукта литературы, институтов государственного права, нравов и т.д. в рамках исторического изложения (в том числе в истории литературы и искусства) якобы невозможен и неуместен, так как в этом случае постоянно приходилось бы охватывать этим анализом и такие компоненты исследуемого объекта, которые «не оказали никакого исторического воздействия», вместе с тем историку приходится включать в свое изложение «определенной системы» (например, государственного права) множество «как будто второстепенных деталей» из-за их каузального значения. Основываясь на этом принципе отбора, Э.Мейер делает, в частности, вывод, что биография относится к области «филологии», а не истории. Почему? «Объект биографии», продолжает Э.Мейер, составляет определенная личность в ее целостности, а не как фактор, оказывающий историческое воздействие, — то, что она таковым была, - лишь предпосылка, причина того, что ей посвящена биография. Пока биография остается биографией, а не историей времени ее героя, она не может выполнить задачу истории — изобразить историческое собы
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре 27
тие. Однако невольно возникает вопрос, почему же «личность» занимает особое место в историческом исследовании. Разве такие «события», как битва при Марафоне или персидские войны, трактуются в исторической работе в своей «Целостности», со всеми specimena fortitudinis’’, описанными Гомером? Очевидно, что и здесь отбираются лишь те события и условия, которые имеют решающее значение для установления исторических каузальных связей. С той поры, как мифы о героях и история отделились друг от друга, это происходит именно так, по крайней мере по своему логическому принципу. Как же обстоит дело с «биографией»? Совершенно неверно (если это не гипербола), что «все детали внешней и внутренней жизни героя входят в его биографию; правда, такое впечатление может сложиться от филологических работ, посвященных жизни Гёте, которые, вероятно, и имеет в виду Э. Мейер. Но ведь в них просто собирается материал для того, чтобы сохранить все, что может иметь какое-либо значение для биографии Гёте, будь то в виде прямого компонента каузального ряда, следовательно, в качестве исторически релевантного «факта», или в виде средства познания исторически релевантных фактов, в качестве «источника». Совершенно очевидно, что в научной биографии Гёте должны быть использованы в качестве компонентов лишь такие факты, которые обладают «значимостью».
Здесь мы наталкиваемся на двойственность этого слова в логическом смысле, которую необходимо подвергнуть анализу и которая, как мы увидим, прольет свет на «рациональное зерно» взгляда Э.Мейера, но также и на недостатки в формулировке его теории, согласно которой объектом истории является то, что «оказывает историческое воздействие».
Для иллюстрации различных логических точек зрения, в аспекте которых могут иметь научное значение те или иные «факты» культурной жизни, приведем в качестве примера письма Гёте к Шарлотте фон Штейн. Совершенно очевидно, укажем на это сразу, что «историческое» значение этих писем заключено не в непосредственно воспринимаемом нами «факте», не в исписанной бумаге, а без сомнения служит лишь средством познания другого «факта», того, что Гёте испытывал высказанные здесь чувства, писал о них, адресовал их Шарлотте фон Штейн и получал от нее ответные письма, приблизительное содержание которых можно определить на основании правильного понимания писем Гёте. Этот факт, который должен быть открыт эвентуально предпринятым с помощью «научных» вспомогательных средств «толкованием» «смысла» писем Гёте, в действительности же «факт», который мы имеем в виду, говоря об этих письмах, может в свою очередь быть использован различным образом.
28 ________________ _________ Логика наук о культуре
1. Он может быть непосредственно вставлен в историческую причинную связь: аскетизм тех лет, связанный с невероятной по своей силе страстью, безусловно должен был оставить значительный след в жизни Гёте, он не исчез даже под южным небом Италии. Определить влияние этого события на «литературный» образ Гёте, обнаружить его следы в творчестве Гёте и по мере возможности каузально «истолковать» их в связи с переживаниями тех лет — вне всякого сомнения относится к задачам истории литературы. Факты, засвидетельствованные этими письмами, выступают здесь в качестве «исторических» фактов, т.е., как мы видим, в качестве реальных звеньев данного каузального ряда.
2. Предположим, однако (вероятность такого предположения как в данном, так и в последующих случаях не имеет, конечно, решительно никакого значения), будто тем или иным способом удалось установить, что упомянутые переживания не оказали никакого влияния на развитие Гёте как человека и как поэта, другими словами, что они не имели никакого влияния на «интересующие» нас стороны его жизни. Тогда эти события все-таки могут привлечь наш интерес в качестве средств познания, могут отразить «характерные» (как принято говорить) черты для понимания исторического своеобразия Гёте. Другими словами, с их помощью нам, быть может, удалось бы (реальности такой попытки мы здесь не касаемся) проникнуть в образ жизни и в мировоззрение Гёте в течение долгого или, во всяком случае, достаточно продолжительного периода, которые в значительной степени повлияли на исторически интересующие нас обстоятельства его жизни и литературной деятельности. Тогда «историческим» фактом, который мы включили бы в качестве реального звена в каузальную связь его «жизни», было бы «мировоззрение», т.е. коллективное понятие, отражающее связь унаследованных и приобретенных под воздействием воспитания, среды и жизненных судеб личных «качеств» Гёте, а также сознательно усвоенных (быть может) «максим», в соответствии с которыми он жил и которые вместе с другими факторами обусловили его поведение и его творчество. В этом случае его отношения с Шарлоттой фон Штейн были бы тоже реальными компонентами «исторического» материала (поскольку это «мировоззрение» — коллективное понятие, которое «находит свое выражение» в отдельных жизненных событиях); однако нас бы они интересовали - при сделанных выше предпосылках - прежде всего не в качестве таковых, но в качестве «симптомов» определенного мировоззрения, следовательно, в качестве средств познания. В их логическом отношении к объекту познания произошел, следовательно, сдвиг.
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре 29
3. Предположим далее, что и это не соответствует истине: в переживаниях Гёте не было ничего, что можно было бы считать характерным именно для него в отличие от его современников, что они вполне соответствовали «типичному» образу жизни определенных кругов Германии того времени. Тогда эти факты не дали бы нам ничего нового для понимания исторического значения Гёте. Однако при известных обстоятельствах они могли бы возбудить наш интерес в качестве легко используемой парадигмы определенного «типа», как средство познания «характерного» своеобразия духовного склада представителей упомянутых кругов. Своеобразие этого «типичного» для тех кругов и того времени (по нашему представлению) облика, а также форма выражения этого образа жизни в противоположность образу жизни других времен, народов и социальных слоев были бы в этом случае «историческим» фактом, который вошел бы в культурно-исторический каузальный ряд в качестве категорий реальной причины и действия и в отличие от типа, например, итальянского чичисбея и т.д., мог бы быть каузально «истолкован» в рамках «истории немецких нравов» или — при отсутствии подобного рода национальных различий — в рамках общей истории нравов того времени.
4. Допустим, что содержание писем Гёте нельзя использовать и для этой цели, так как оказалось, что в известных условиях культурного развития постоянно возникают явления одного типа (совпадающие в ряде существенных пунктов), что, следовательно, в этих пунктах названные события жизни Гёте не отражают ни своеобразия немецкой, ни своеобразия европейской культуры XVIII в., а являют собой лишь общий для всех культур феномен, возникающий в известных, требующих своего понятийного определения условиях. Тогда эти компоненты превратились бы в объект культурной психологии или «социальной психологии», задачей которой было бы установить с помощью анализа, изолирующей абстракции и генерализации, в каких условиях эти явления обычно возникают, «истолковать», по какой причине они регулярно повторяются, и сформулировать полученное «правило» в виде генетического родового понятия. В этом случае такие родовые по своему типу компоненты переживаний Гёте, совершенно иррелевантные для понимания его своеобразия, представляли бы интерес только как средство образования родового понятия такого типа.
5. В этом пункте следует a priori исходить из возможности того, что упомянутые «переживания» вообще не содержат никаких характерных черт какого-либо слоя населения или какой-либо культуры. Тогда даже при полном отсутствии интереса с точки зрения «науки о культуре» можно было бы представить себе
30________________________________________Логика наук о культуре
(здесь также совершенно безразлично, соответствует ли это истине), что психиатр, занимающийся эротической психологией, использовал бы эти данные с различных точек зрения в качестве идеально-типического примера определенных аскетических «отклонений», совершенно так же, как, например, для невропатолога безусловный интерес представляет «Исповедь» Руссо. При этом, конечно, надлежит допустить, что эти письма окажутся интересными для достижения всех перечисленных здесь целей научного познания (конечно, не исчерпывающих все «возможности») различными компонентами своего содержания или одними и теми же компонентами для различных целей познания20.
Бросая ретроспективный взгляд, можно прийти к заключению, что мы выявили «значение» писем Гёте к Шарлотте фон Штейн, т.е. содержащиеся в них высказывания и переживания Гёте, следующим образом (если идти от последнего случая к первому): а) в обоих последних случаях (4-м и 5-м) эти письма могут служить образцом явлений определенного рода и поэтому средством познания их универсальной сущности; б) во 2-м и 3-м случаях они являются «характерной» составной частью коллективного понятия и поэтому средством познания его индивидуального своеобразия21; в) в 1-м случае - каузальным компонентом исторической связи. В случаях, объединенных пунктом «а» (4-м и 5-м), значение для истории состоит лишь в том, что с помощью подобного единичного примера родовое понятие при известных обстоятельствах (об этом ниже) может играть важную роль в контроле изображения исторических событий. Если Э.Мейер ограничивает область «исторического» тем, что «оказывает воздействие» (т.е. № 1 или пунктом «в» предшествующего деления), то ведь невозможно допустить, что он тем самым предполагает исключить вторую категорию (пункт «б») из сферы исторической «значимости». Это означало бы, что «факты», которые сами по себе не являются звеньями исторического причинного ряда, а служат только выявлению фактов, необходимых в качестве компонентов таких причинных рядов, например, те компоненты гётевской корреспонденции, которые «иллюстрируют, т.е. делают доступными познанию, основные черты в «своеобразии» литературной продукции Гёте или существенные для развития нравов стороны культуры и общества XVIII в., что эти факты могут быть не приняты во внимание, если не в «истории жизни» Гёте (в № 2), то во всяком случае в «истории нравов» XVIIIв. (в №3). Между тем сам он постоянно использует в своих трудах такого рода познавательные средства. Следовательно, предполагается только то, что речь идет о «средствах познания», а не о «компонентах исторической связи»; однако и в «био-
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре_31
графин», и в «изучении древнего мира» подобные «характерные» детали именно так и используются. Следовательно, камень преткновения для Э.Мейера не в этом.
Над всеми анализированными нами выше типами «значимости» возвышается еще один, причем самый важный, а именно: переживания Гёте (мы используем прежний пример) «значимы» для нас ведь не только в качестве причины или «средства познания». Совершенно независимо от того, узнаем ли мы благодаря им нечто новое, ранее нам не известное для понимания мировоззрения Гёте или культуры XVIII в., нечто «типичное» для эволюции этой культуры, совершенно независимо также от того, оказали ли эти переживания Гёте какое-либо каузальное влияние на его развитие, содержание писем как таковое, без оглядки на какие-либо находящиеся вне их, не заключенные в них самих «значения», являет собой для нас в своем своеобразии объект оценки и осталось бы таковым, если бы об их автору вообще ничего больше не было известно. Нас здесь прежде всего интересует то, что эта «оценка» связана с неповторимым своеобразием, с несравненным литературным достоинством объекта; далее, наша оценка объекта в его индивидуальном своеобразии — и это второе — становится причиной того, что он превращается для нас в предмет размышлений и мыслительной (мы намеренно отказываемся здесь от определения «научной») обработки, в предмет интерпретации. Такая «интерпретация», «толкование», как мы предпочитаем ее называть, может идти в двух, фактически почти всегда сливающихся, но требующих строгого логического размежевания, направлениях. Она может быть (и сначала, вероятно, будет) «ценностной интерпретацией»; это означает, что она научит нас «понимать» «духовное» содержание этой корреспонденции, т.е. раскроет перед нами то, что мы смутно и неопределенно «ощущаем», и озарит его светом отчетливо сформулированной оценки. Для этой цели в ходе такой интерпретации совершенно не нужно выносить какое-либо оценочное суждение или «внушать» его. Проведенный таким образом анализ действительно «внушает» нам понимание того, что существуют различные возможности ценностного соотнесения объекта. Наше «отношение» к соотнесенному с ценностью объекту совсем не должно быть положительным. Ведь современный обыватель с его ходячими представлениями о сексе или моралист католического толка, безусловно, осудят отношение Гёте к Шарлотте фон Штейн, если они вообще снизойдут до понимания этой проблемы. И если мы мысленно последовательно представим себе в качестве объектов интерпретации «Капитал» Карла Маркса, «Фауста» Гёте, потолок Сикстинской капеллы, «Исповедь» Руссо, переживания
32__________________________________________Логика иаук о культуре
св. Терезы, госпожу Ролан, Толстого, Рабле, Марию Башкирцеву или Нагорную проповедь, то возникнет бесконечное многообразие «оценочных» позиций; интерпретация же этих столь различных по своей ценности объектов, если ее вообще предпримут, сочтя достойной внимания (что мы здесь для нашей цели допускаем), будет обладать лишь одним общим формальным элементом — смысл ее во всех перечисленных случаях будет состоять в том, чтобы открыть нам возможные «точки зрения» и «направленность» «оценок». Вынудить нас принять определенную оценку в качестве единственно «научно» допустимой подобная интерпретация может только там, где, как в «Капитале» Маркса, речь идет о нормах (в данном случае о нормах мышления). Однако и в этом случае объективно значимая «оценка» объекта (здесь, следовательно, логическая «правильность» Марксовых норм мышления) совсем не обязательно является целью интерпретации, а уж там, где речь идет не о «нормах», а о «культурных ценностях», это, безусловно, было бы задачей, выходящей за пределы интерпретации. Можно, не совершая никакой логической или фактической ошибки (а здесь важно только это), отвергнуть в качестве «незначимых» для себя все продукты литературной и художественной культуры Древнего мира или, например, религиозное настроение Нагорной проповеди, совершенно с таким же правом, как то соединение жгучей страсти и аскетизма со всеми теми тончайшими соцветиями внутренней жизни, которые содержатся в нашем примере, — в письмах Гёте к Шарлотте фон Штейн. Однако это отнюдь не означает, что такая «интерпретация» не окажет на самого интерпретатора никакого влияния; она может, несмотря на отрицательное суждение об объекте или даже именно поэтому, содержать и для него «познавательную» ценность: углубит, как принято говорить, его внутреннюю «жизнь», расширит его «духовный горизонт», разовьет в нем способность постигать и продумывать возможности и нюансы жизненного стиля, дифференцированно повысить свой интеллектуальный, эстетический и этический (в самом широком смысле слова) уровень, сделает его «душу» как бы более открытой к «восприятию ценностей». «Интерпретация» духовного, эстетического или этического произведения оказывает такое же воздействие, как оно само; именно в этом коренится «справедливое утверждение», что «история» — в определенном смысле «искусство», но в такой же степени и определение «наук о духе» как «субъективных наук»; тем самым достигнута последняя граница того, что еще может быть определено как «мыслительная обработка эмпирических данных», и в логическом смысле речь здесь, собственно говоря, уже не идет об «историческом исследовании».
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре 33
Ясно, что Э.Мейер, говоря (на с. 55) о «филологическом рассмотрении прошлого», имеет в виду такую информацию, которая исходит из вневременных по своей сущности отношений «исторических» объектов, из их ценностной значимости и учит «понимать» их. Это явствует из его дефиниции такого рода научной деятельности, которая, по его мнению, «переносит продукты истории в современность и рассматривает их под этим углом зрения, рассматривает объект “не в его становлении и историческом воздействии, а в качестве сущего”» и поэтому в отличие от исторического исследования «всесторонне» ставит перед собой цель исчерпывающей интерпретации отдельных произведений, в первую очередь литературы и искусства, но также, продолжает Э.Мейер, государственных и религиозных институтов, нравов и воззрений и, наконец, всей культуры эпохи, рассматриваемой как некое единство. Нет, конечно, никакого сомнения в том, что подобное «толкование» отнюдь не «филологическое» в специальном лингвистическом смысле. Толкование языкового «смысла» литературного объекта и «толкование» его «духовного содержания», его «смысла» в этом ориентированном на ценность значении слова, пусть даже фактически они часто - и с достаточным основанием — связываются, логически являют собой в корне различные акты. В одном случае, при лингвистическом толковании, это (не по ценности и интенсивности духовной деятельности, но по своему логическому содержанию) элементарная предварительная работа для всех видов научной обработки и научного использования «материала источника», с точки зрения историка, это техническое средство, необходимое для верификации «фактов», орудие исторической науки (а также и многих других дисциплин). «Истолкование» в смысле «ценностного анализа» — так мы позволили себе назвать ad hoc4* описанный выше процесс22 — находится к истории во всяком случае не в таком отношении. Поскольку же это «истолкование» направлено не на выявление «каузально» релевантных для исторической связи фактов, не на абстрагирование «типичных», используемых для образования родового понятия компонентов, так как оно, напротив, рассматривает свои объекты (например, возвращаясь к примеру Э.Мейера, «всю культуру Эллады в период ее расцвета», воспринятую в ее единстве) как таковые и делает их понятными в их отношении к ценности, то это толкование не может быть подведено ни под одну из других категорий познания, которые рассматривались выше в аспекте своих прямых или косвенных связей с «историческим». Однако этот тип толкования (ценностный анализ) нельзя относить и к области «вспомогательных» исторических наук (к которым Э.Мейер на с. 54 относит «филологию»), так как объекты здесь рассматриваются под
34_________________________________________Логика наук о культуре
совсем другим, чем в истории, углом зрения. Если бы противопо-ложность этих толкований можно было бы свести к тому, что в одном случае (в ценностном анализе) объекты рассматриваются в их «состоянии», в другом (в исторической науке) — в их «развитии», что одно толкование дает поперечное, другое — продольное сечение, тогда значение этой противоположности было бы ничтожным. Ведь историк, в том числе и сам Э.Мейер, приступая к исследованию, всегда начинает с определенных данных отправных точек, которые он описывает в их «статическом состоянии», и в ходе всего своего изложения на каждом его этапе подводит итог «результатам» «развития» в виде их состояния в поперечном сечении. Такое монографическое исследование, как, например, исследование социальной структуры афинской экклесии на определенной стадии ее развития, в котором ставится цель пояснить, с одной стороны, ее обусловленность определенными историческими причинами, с другой - ее воздействие на политическое «состояние» Афин, безусловно и Э.Мейер сочтет «историческим». Отличие, которое имеет в виду Э.Мейер, заключается, по-видимому, в том, что в «филологическом» исследовании могут быть приняты и обычно принимаются во внимание также релевантные для «истории» факты, но, наряду с ними, и совершенно другие, такие, следовательно, которые сами по себе не являются звеньями исторического причинного ряда и не могут быть использованы в качестве средства познания этих звеньев, т.е. вообще не находятся ни в одном из рассмотренных выше отношений к сфере «исторического». Но в каком же тогда? Или подобный «ценностный анализ» стоит вообще вне каких бы то ни было связей с историческим познанием? Вернемся, чтобы выйти из этого тупика, к нашему прежнему примеру, к письмам Гёте Шарлотте фон Штейн, а в качестве второго примера возьмем «Капитал» К. Маркса. Совершенно очевидно, что оба эти объекта могут быть предметом «интерпретации» не только в «лингвистическом» аспекте (что нас здесь не интересует), но и в аспекте «ценностного анализа», т.е. анализа, «поясняющего» нам отнесение их к ценности. В одном случае будут, следовательно, «психологически» интерпретированы письма Шарлотте фон Штейн так, как интерпретируют, например, «Фауста», в другом — будет исследовано идейное содержание «Капитала» Маркса и идейное — не историческое - отношение этого труда к другим системам идей, посвященным тем же проблемам. Для этого «ценностный анализ» рассматривает свои объекты прежде всего в «их состоянии», по терминологии Э.Мейера, т.е. в более правильной формулировке, исходит из их «ценности», независимой от какого бы то ни было чисто исторического, каузального значения, находящейся, следовательно, за преде
Макс Вебер. Крит чес кие исследования в области логики наук о культуре_35
лами исторического. Однако разве на этом ценностный анализ останавливается? Конечно, нет, - идет ли речь об интерпретации писем Гёте, «Капитала», «Фауста», «Орестейи» или фресок Сикстинской капеллы. Для того чтобы этот анализ полностью достиг своей цели, необходимо помнить о том, что объект этой идеальной ценности исторически обусловлен, что множество нюансов и выражений мысли и чувства окажутся непонятными, если нам неизвестны общие условия: в одном случае «общественная среда» и конкретные события тех дней, когда были написаны эти письма, в другом — «состояние проблемы» в тот исторический период, когда Маркс писал свою книгу, и его эволюция как мыслителя. Таким образом, для успешного «толкования» писем Гёте необходимо историческое исследование условий, в которых они были написаны, как всех мельчайших, так и самых важных связей в чисто личной «домашней» жизни Гёте и в культурной жизни всего тогдашнего «общества», «среды» и в самом широком смысле этого слова всего того, что имело каузальное значение для своеобразия этих писем, «оказывало на них воздействие», по определению Э.Мейера. Знание всех этих каузальных условий позволяет нам увидеть те душевные констелляции, из которых вышли эти письма, действительно «понять» их23. Однако совершенно очевидно, что одно каузальное объяснение, изолированное от других факторов и используемое А 1а Дюнцер5’, здесь, как и повсюду, приведет лишь к частичным результатам. Само собой разумеется, что тот тип «толкования», который мы здесь определили как «ценностный анализ», указывает путь другому, «историческому», т.е. каузальному «толкованию». Первый выявил «ценностные» компоненты объекта, каузальное «объяснение» которых составляет задачу «исторического» толкования; он наметил «отправные точки», от которых регрессивно шло каузальное исследование, снабдил его тем самым решающими критериями, без которых его можно было бы уподобить плаванию без компаса по безбрежному морю. Можно, конечно, считать нецелесообразным (и многие сочтут это таковым), что весь аппарат исторического исследования используется для исторического «объяснения» ряда «любовных писем», какими бы возвышенными они ни были. Пусть так, но ведь то же можно сказать, как это пренебрежительно ни звучит, и о «Капитале» Карла Маркса и вообще обо всех объектах исторического исследования. Знание того, из каких элементов Маркс создал свой труд, как генезис его идей был обусловлен исторически, и вообще всякое историческое знание о соотношении политических сил современности или о становлении немецкого государства в его своеобразии, может показаться кому-нибудь весьма скучным и пустым или, во всяком случае, вто
36________________________________________Логика наук о кулыуре
ростепенным, интересным только тому, кто занят этим бессмысленным делом; ни логика, ни научный опыт «опровергнуть» такое мнение не могут, как со всей очевидностью, хотя и в несколько краткой формулировке, признал Э.Мейер.
Для нашей цели полезно несколько задержаться на логической сущности «ценностного анализа». В ряде случаев очень ясно сформулированную мысль Риккерта, согласно которой образование «исторического индивидуума» обусловлено его «соотношением с ценностью», со всей серьезностью понимали так, будто это «соотношение с ценностью» идентично подведению под универсальные понятия (а некоторые пытались таким образом опровергнуть ее)24. Ведь «государство», «религия», «искусство» и другие подобные им «понятия» составляют те ценности, о которых идет речь, а то обстоятельство, что история «соотносит» с ними свои объекты и обретает тем самым специфические «точки зрения», ничем не отличается (это добавляют обычно) от отдельного рассмотрения «химической», «физической» и других сторон процессов, изучаемых естественными науками25. Мы сталкиваемся здесь с поразительным непониманием того, как следует — и как только можно — толковать «соотношение с ценностью». Вынесение «ценностного суждения» о конкретном объекте или теоретическое построение «возможных» его соотношений с ценностью отнюдь не означает, что этот объект подводится под определенное родовое понятие — «любовное письмо», «политическое образование», «экономическое явление». «Ценностное суждение» означает, что, вынося его, я занимаю по отношению к данному объекту в его конкретном своеобразии определенную конкретную «позицию»; что же касается субъективных источников этой моей позиции, моих решающих для этого «ценностных точек зрения», то это уж совсем не «понятие», и тем более не «абстрактное понятие», а вполне конкретное, в высшей степени индивидуальное по своей природе, сложное «ощущение» и «воление» или, в известных условиях, осознание определенного, также вполне конкретного «долженствования». И если я перехожу от стадии оценки объектов к стадии теоретике-интерпретативного размышления о возможных отнесениях их к ценности, т.е. преобразую эти объекты в «исторические индивидуумы», то это означает, что я, интерпретируя, довожу до своего сознания и сознания других людей конкретную, индивидуальную и поэтому в конечном счете неповторимую форму, в которой (воспользуемся здесь метафизическим оборотом) «воплотились» или отразились «идеи» данного политического образования (например, Гёте или Бисмарка), данного научного произведения («Капитала» Маркса). Отказываясь же от всегда вызывающей сомнение метафизической термине-
Макс Вебер. Критические исследования в отчасти логики наук о культуре 37
логин, без которой здесь к тому же вполне можно обойтись, сформулируем это следующим образом: я отчетливо выявляю те точки данного сегмента действительности, которые допускают возможные оценивающие его позиции и оправдывают его посягательство на более или менее универсальное «значение» (в корне отличное от каузального). «Капитал» Карла Маркса объединяет со всеми другими комбинациями типографской краски и бумаги, которые еженедельно включаются в брокгаузовский перечень, то, что он является «литературной продукцией»; однако «историческим индивидуумом» его делает не эта принадлежность к определенному роду объектов, а нечто прямо противоположное, - то совершенно неповторимое «духовное содержание», которое мы в нем обнаруживаем. Далее, «политический характер» присущ как болтовне филистера за вечерней кружкой пива, так и тому комплексу отпечатанных или исписанных страниц, звуковых сигналов, маршировке на учебном плацу, разумным или нелепым идеям, возникающим в головах князей, дипломатов и др., — все то, что «мы» объединяем в индивидуальный мысленный образ «Германской империи», поскольку «мы» испытываем к нему определенный, для «нас» неповторимый, коренящийся в множестве «ценностей» (не только «политических») «исторический интерес». Полагать, что подобное «значение», т.е. наличие в объекте, например в «Фаусте», возможных отнесений к ценности или, другими словами, «содержание» нашего интереса к историческому индивидууму может быть выражено родовым понятием, — явная бессмыслица: именно неисчерпаемость в «содержании» объекта возможных точек приложения нашего интереса характерна для исторического индивидуума «высшего» ранга. Тот факт, что мы классифицируем определенные «важные» направления исторического отнесения к ценности и эта классификация служит затем основой разделения труда между науками о культуре26, ничего, конечно, не меняет в том, что мнение, будто ценность «общего (универсального) значения» являет собой «общее» понятие, столь же странно, как представление, будто «истина» может быть высказана в одной фразе, «нравственность» воплощена в одном действии или «красота» — в одном произведении искусства.
Вернемся, однако, к Э. Мейеру и к его попыткам решить проблему ^исторического «значения». Ведь в наших последних высказываниях мы вышли за пределы методологии и затронули вопросы философии истории. Для чисто методологического исследования тот факт, что известные индивидуальные компоненты действительности избираются объектом исторического рассмотрения, обосновывается просто указанием на фактическое наличие соответствую
38__________________________________________Логика наук о культуре
щего интереса; подобного рассмотрения, не ставящего вопро-са о смысле этого интереса, «соотнесение с ценностью» никакого другого значения иметь не может. Э.Мейер на этом и успокаивается, справедливо полагая, с этой точки зрения, что для исторического исследования достаточно наличие такого интереса, как бы к нему ни относиться. Однако ряд неясностей и противоречий в его концепции достаточно отчетливо свидетельствует о том, каковы последствия недостаточной ориентации на философию истории.
«“Выбор” (в исторической науке) покоится на историческом интересе, который настоящее испытывает к какому-либо действию или результату развития, вследствие чего оно ощущает потребность выявить причины, обусловившие эти явления», — пишет Э.Мейер (с. 37) и поясняет это далее таким образом: историк создает «из глубин своего духа проблемы, с которыми он подступает к материалу», и они служат ему «путеводной нитью для упорядочения событий». Это полностью совпадает со сказанным выше и сверх того являет собой единственно возможный смысл, в котором подвергшееся ранее нашей критике высказывание Э.Мейера «о движении от действия к причине» можно считать правильным. Речь здесь идет не о специфическом для истории применении понятия каузальности, как он полагает, а о том, что «исторически значимы» только те причины, которые регрессивное движение, отправляющееся от «ценностного» компонента культуры, должно вобрать в себя в качестве своей необходимой составной части, что получило, правда, достаточно неопределенное наименование «принципа телеологической зависимости». Возникает вопрос, должен ли отправной пункт этого регрессивного движения всегда быть компонентом настоящего, о чем как будто свидетельствуют цитированные нами слова Э.Мейера. Следует сказать, что Э.Мейер не вполне определил свое отношение к этому вопросу. Уже из вышесказанного очевидно, что он не дает ясного определения того, что он, в конце концов, понимает под «оказывающим историческое воздействие». Если — как ему уже указывали — к истории относится только то, что «оказывает воздействие», то кардинальный вопрос каждого исторического исследования, в том числе и его «Истории Древнего мира», должен сводиться к тому, какое конечное состояние и какие его компоненты должны быть положены в основу в качестве «испытавших воздействие» исторического развития, которое в данном случае излагается, и, следовательно, решить, следует ли исключить в качестве исторически несущественного тот или иной факт, каузальное значение которого для какого-либо компонента конечного результата установить не удалось. Некоторые замечания Э.Мейера могут, на первый взгляд, создать впечатление, что он дейстпитель-
Макс Вебер. Кршические исследования в оСшасги логики наук о культуре_39
но предлагает считать решающим фактором объективное «состоя-ние культуры» (воспользуемся для краткости этим термином) в настоящее время. Другими словами, только те факты, воздействие которых еще теперь имеет значение для наших современных политических, экономических, социальных, религиозных, этических и научных условий или для каких-либо иных компонентов нашей культуры, чье «воздействие» мы непосредственно ощущаем в настоящем (с. 37), могут быть отнесены к истории древнего мира, совершенно независимо от того, имеет ли данный факт какое-либо, пусть даже фундаментальное, значение для своеобразия этой культуры (с. 48). Труд Э.Мейера сильно сократился бы в своем размере, достаточно вспомнить о томе, посвященном Египту, если бы его автор стал последовательно проводить этот принцип, и многие не нашли бы именно того, чего они ждут от истории древнего мира. Однако Э.Мейер оставляет выход (с. 37). «Мы можем, — пишет он, — обнаружить это (т.е. оказывавшее историческое воздействие) и в прошлом, примысливая какой-либо момент этого прошлого в настоящем». Тем самым, конечно, любой компонент культуры может быть примыслен к истории древнего мира в качестве «оказывающего воздействие», если рассматривать его под тем или иным углом зрения. Однако тогда отпадает то ограничение, которое стремится ввести Э.Мейер. К тому же все равно возник бы вопрос: «Какой же момент является, например, в “Истории Древнего мира” масштабом для определения того, что существенно для историка?» С точки зрения Э.Мейера, следовало бы ответить: «Конец мира античности, т.е. тот срез, который представляется нам наиболее подходящим для конечной точки». Следовательно, правление Ромула, Юстиниана или - пожалуй лучше - Диоклетиана? В таком случае, правда, все характерное для этой эпохи конца, эпохи «одряхления» античности, без сомнения, вошло бы в полном объеме в исследование в качестве завершения этой эпохи, поскольку именно эта характеристика формировала объект исторического объяснения; затем — и прежде всего — в него вошли бы все те факты, которые были каузально существенны («воздействовали») именно для этого процесса «одряхления». Исключить же пришлось бы, например, при описании греческой культуры все то, что тогда (в правление Ромула или Диоклетиана) уже не оказывало «воздействия на культуру», а это при тогдашнем состоянии литературы, философии, культуры в целом составило бы подавляющую часть именно того, что вообще представляется нам «ценным» в истории древнего мира и что мы, к счастью, находим в собственном труде Э.Мейера.
История древнего мира, в которой содержалось бы только то, что оказало каузальное воздействие на какую-либо последующую
40 _______________________________Логика наук о культуре
эпоху, была бы — особенно если рассматривать политические события как подлинный стержень истории — совершенно так же пуста, как «история» жизни Гёте, которая «медиатизировала» бы (по выражению Ранке) Гёте в пользу его эпигонов, т.е. выявляла бы только те компоненты его своеобразия и высказываний, которые продолжали «оказывать воздействие» на литературу. С этой точки зрения, научная «биография» принципиально ничем не отличается от иным образом отграниченных исторических объектов. Тезис Э.Мейера в данной им формулировке применен быть не может. Впрочем, вероятно, и здесь есть выход из противоречия между его теорией и его собственной практикой. Мы знаем, что, по мнению Э.Мейера, историк создает свои проблемы в глубинах собственного духа; к этому замечанию добавлено следующее: «Присутствие историка — тот момент, который не может быть устранен ни из одной исторической работы». Не присутствует ли «воздействие факта», которое накладывает на него печать историчности, уже тогда, когда современный историк проявляет интерес к факту в его индивидуальном своеобразии, к его именно такому, а не иному становлению, и способен заинтересовать этим своих читателей? Совершенно очевидно, что в рассуждениях Э.Мейера переплелись два различных понятия «исторических фактов»: 1) такие компоненты действительности, которые, можно сказать, «сами по себе» в своем конкретном своеобразии «представляют для нас ценность» в качестве объектов нашего интереса; 2) такие, которые связаны с нашей потребностью понять те «представляющие для нас ценность» компоненты действительности в их исторической обусловленности как «причины» в ходе каузального регрессивного движения, как «оказывающие историческое воздействие» в понимании Э.Мейера. Первые можно именовать историческими индивидуумами, вторые - историческими (реальными) причинами и вслед за Риккертом разделять их в качестве «первичных» и «вторичных» исторических фактов. Строгое ограничение исторического изложения «историческими» причинами («вторичными» фактами, по Риккерту, «воздействующими» фактами, по Э.Мейеру) возможно, конечно, только в том случае, если твердо установлено, о каузальном объяснении какого исторического индивидуума только и будет идти речь. Сколь бы широко ни были тогда поставлены границы такого первичного объекта (предположим, что в качестве такового будет взята вся «современная», т.е. наша распространяющаяся из Европы христианская капиталистическая «культура» правового государства на данной стадии ее развития, следовательно, весь огромный узел «культурных ценностей», рассматриваемых в качестве таковых со всевозможных точек зрения),
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре_41
объясняющие его исторически каузальное регрессивное движе-ние, даже если оно дойдет до средних веков или древнего мира, вынуждено будет, хотя бы частично, исключить огромное число каузально несущественных объектов, невзирая на то, что «сами по себе» они представляют собой для нас громадный «ценностный» интерес, следовательно, могут в свою очередь стать «историческими индивидуумами», которые послужат началом нового регрессивного движения. Надо, конечно, признать, что этот «исторический интерес» в силу своей специфики менее интенсивен потому, что он не имеет каузального значения для универсальной истории культуры наших дней. Культура инков и ацтеков оставила весьма незначительные (сравнительно!) следы в истории, настолько незначительные, что при изучении генезиса современной культуры (в понимании Э.Мейера) можно, вероятно, без всякого ущерба вообще не упоминать о них. Если дело обстоит таким образом, а именно это мы предполагаем, то все, что мы знаем о культуре инков и ацтеков, имеет значение прежде всего как «средство познания» для образования теоретических понятий в области наук о культуре: позитивно, например, для образования понятия «феодализм» в качестве своеобразной специфической его разновидности; негативно для того, чтобы отграничить те понятия, с которыми мы работаем в истории европейской культуры, от содержания этих гетерогенных им культур и тем самым с помощью сравнения отчетливее представить себе историческое своеобразие генезиса и развития европейской культуры. То же, без сомнения, относится и к тем компонентам античной культуры, которые Э.Мейер должен был бы, если он хочет быть последовательным, исключить из истории древнего мира, ориентированного на современную культуру, поскольку они «не оказали исторического воздействия». Однако что касается инков и ацтеков, то ни логически, ни фактически нельзя исключить, что определенные феномены их культуры могут рассматриваться в своем своеобразии как исторический «индивидуум», т.е. могут быть анализированы и «истолкованы» в их соотношениях с ценностью, в результате чего они станут предметом «исторического» исследования и каузальное регрессивное движение будет выявлять факты их культурного развития, которые по отношению к данному объекту исследования станут «историческими причинами». И тот, кто, занимаясь историей древнего мира, сочтет, что в нее должны войти лишь те факты, которые «оказали каузальное воздействие» на нашу современную культуру, т.е. релевантны для нас либо в своем «первичном» значении в качестве соотнесенных с ценностью исторических индивидуумов, либо в своем «вторичном» каузальном значении в качестве при
42 Логика наук о культуре
чин (этих или каких-либо иных «индивидуумов»), такой исследователь окажется жертвой самообмана. Круг культурных ценностей, важных для истории эллинской культуры, определяется нашим ориентированным на «ценности» интересом, а не только фактическим каузальным отношением Нашей культуры к эллинской. Эпоха, которую мы обычно, оценивая ее крайне «субъективно», считаем «вершиной» эллинской культуры (период между Эсхилом и Аристотелем), находит себе место в качестве «самодовлеющей ценности» в каждой «Истории древнего мира», в том числе и в работе Э.Мейера; измениться это могло бы лишь в том случае, если наступит эпоха, столь же неспособная обрести непосредственное «ценностное отношение» к этим творениям культуры, как, например, к «песням» или к «мировоззрению» какого-либо племени Центральной Африки, которые возбуждают наш интерес только в качестве средства образования понятия или в качестве «причины». Таким образом, то, что мы, современные люди, вступаем в какие-либо ценностные отношения с индивидуальным «выражением» содержания античной культуры, является единственно возможным толкованием понятия Э.Мейера, согласно которому «историческим» следует считать то, что «оказывает воздействие». О том, до какой степени собственное понимание Э.Мейера того, что «оказывает воздействие», состоит из гетерогенных компонентов, свидетельствует уже его мотивировка специфического интереса, который история проявляет к культурным народам. «Это основано, — пишет он, — на том, что упомянутые народы и культуры оказывали наибольшее воздействие в прошлом и продолжают оказывать его в настоящем». Это, без сомнения, верно, но являет собой отнюдь не единственную причину нашего особенно сильного «интереса» к их значению в качестве исторических объектов; в частности, из этого нельзя сделать вывод (который делает Э.Мейер), что интерес этот тем глубже, «чем выше они (эти культурные народы) стоят». Ибо затронутая здесь проблема «самодовлеющей ценности» культуры не имеет ничего общего с проблемой ее исторического «воздействия». Все дело в том, что Э.Мейер смешивает два понятия, а именно: «ценность» и «каузальная значимость». Верно, каждая «история» пишется с позиции ценностных интересов настоящего, и, следовательно, настоящее, изучая материал истории, всегда ставит или во всяком случае может ставить новые вопросы, так как его интерес, направляемый ценностными идеями, меняется; столь же верно, что этот интерес должным образом «оценивает» и превращает в исторический индивидуум безотносительно к чему-либо компоненты «культур прошлого» как таковые, к которым компоненты культуры настоя
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре 43
щего времени в ходё~каузального регрессивного движения сведены быть не могут. В небольшом масштабе сюда относятся письма Шарлотте фон Штейн, в большом — те компоненты эллинской культуры, из сферы воздействия которых культура настоящего времени уже давно вышла. Впрочем, Э.Мейер, не делая необходимых выводов, и сам, как мы видели, допускает это, утверждая, что момент прошлого может быть «примыслен» (по его терминологии) к настоящему; правда, исходя из замечания на с.55, это дозволено только в области «филологии». В действительности он тем самым признает, что компоненты культуры «прошлого» являются историческими объектами, независимо от того, сохранили ли они ощущаемое нами теперь «воздействие», что, следовательно, в истории древнего мира и «характерные» ценности древности могут служить мерилом отбора фактов и определять направление исторического исследования. Но это еще не все.
Если Э.Мейер аргументирует, что настоящее не становится предметом «истории», поскольку мы не знаем и не можем знать, какие его компоненты окажутся «воздействующими» в будущем, -это утверждение о (субъективной) неисторичности настоящего в каком-то, пусть ограниченном, смысле соответствует истине. Окончательное решение о каузальном значении явлений настоящего выносит будущее. Однако это не единственный аспект данной проблемы, даже если (а здесь это не само собой разумеется) отвлечься от таких внешних моментов, как недостаточное количество архивных источников и т.п. Действительное непосредственно ощущаемое настоящее еще не только не стало исторической причиной, но не стало даже историческим индивидуумом, совершенно так же, как не становится объектом эмпирического знания «переживание» в тот момент, когда оно происходит «во мне» или «в связи со мной».
Любая историческая «оценка» включает в себя — мы позволим себе определить это таким образом — «созерцательный» момент; в ней содержится не только и не столько непосредственное оценочное суждение «занимающего определенную позицию» субъекта, ее существенное содержание составляет, как мы видели, «знание» о возможных «отношениях к ценности», т.е. она предполагает способность, хотя бы теоретически, изменить «точку зрения» по отношению к объекту. Обычно говорят, имея это в виду, что нам надлежит «объективно оценить» какое-либо переживание, прежде чем оно в качестве объекта «войдет» в историю, но это не означает, что оно может оказать причинное «воздействие». Мы не будем дальше развивать наши соображения об отношении «переживания» к «знанию» и надеемся, что все вышесказанное достаточно ясно показало не только то, что понятие «исторического» как «оказывающего
44
Логика наук о культуре
воздействие» у Э. Мейера недостаточно полно, но и то, чем это объясняется. В данном понятии прежде всего нет логического разделения на «первичный» исторический объект, на «отнесенный к ценности» культурный индивидуум — с каузальным «объяснением» его становления связан наш интерес — и на «вторичные» исторические данные, т.е. причины, к которым сводится в ходе каузального регрессивного движения «ценностное» своеобразие этого индивидуума. Принципиальная цель этого сведения — достичь «объективной» значимости в качестве эмпирической истины с такой же несомненностью, как в любом другом эмпирическом познании; и только в зависимости от полноты материала решается чисто фактический, а не логический вопрос, будет ли эта цель реализована, совершенно так же, как это происходит при объяснении конкретного явления природы. «Субъективно» в определенном смысле (к пояснению которого мы здесь возвращаться не будем) не установление исторических «причин» рассматриваемого «объекта», а вычленение самого исторического «объекта», «индивидуума», ибо это решается соотношением с ценностью, «толкование» которой подвержено историческому изменению. Поэтому Э.Мейер заблуждается, полагая, что в истории мы «никогда» не обретем «абсолютного и безусловно значимого» познания. Это неверно, если говорить о «причинах». Однако столь же неверно утверждать, что такой же характер носит познание в области естественных наук, ничем якобы не отличающееся от исторического. Это не соответствует природе исторического «индивидуума», т.е. специфике того, как «ценности» играют определенную роль в истории, а также и их модальности (как бы ни относиться к «значимости» этих ценностей как таковых, она - нечто принципиально гетерогенное значимости причинной связи, которая является эмпирической истиной, пусть даже в философском смысле обе они в конечном счете мыслятся как нормативные). Ибо ориентированные на «ценности» «точки зрения», с которых мы рассматриваем культурные объекты, в результате чего они только и становятся для нас «объектами» исторического исследования, подвержены изменению; а поскольку и до той поры, пока они таковы (при условии, что «материал источников» остается неизменным, из чего мы постоянно исходим в нашем логическом анализе), исторически «существенными» будут становиться все новые «факты» и всегда по-новому. Такого рода обусловленность «субъективными» ценностями совершенно чужда тем естественным наукам, которые по своему типу близки механике, и именно в этом состоит специфическое «отличие» их от исторического исследования.
Подведем итог. В той мере, в какой «толкование» объекта является «филологическим» в обычном значении слова, например
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре 45
толкованием языка литературного произведения, оно служит для истории технической вспомогательной работой. В той мере, в какой филологическая интерпретация, «толкуя», анализирует характерные черты своеобразия «культурных эпох», лиц или отдельных объектов (произведений искусства, литературы), она служит образованию исторических понятий; причем, если рассматривать это в логическом аспекте, такая интерпретация либо подчиняется требованиям исторического исследования, способствуя выявлению каузально релевантных компонентов конкретной исторической связи как таковых, либо, наоборот, руководит им и указывает ему путь, «толкуя» содержание объекта - «Фауста», «Орестейи» или христианства определенной эпохи - в аспекте возможных соотнесений их с ценностью и тем самым ставит «задачи» каузальному историческому исследованию, т.е. становится его предпосылкой. Понятие «культуры» конкретного народа и эпохи, понятие «христианства», «Фауста» или, - что чаще остается незамеченным, — понятие «Германии» и прочие образованные в качестве понятий исторического исследования объекты суть индивидуальные ценностные понятия, т.е. образованы посредством соотнесения с ценностными идеями.
Если мы (коснемся и этого) превращаем в предмет анализа сами оценки, которые мы прилагаем к фактам, мы занимаемся, в зависимости от нашей познавательной цели, либо философией истории, либо психологией «исторического интереса». Если же мы, напротив, рассматриваем конкретный объект в рамках ценностного анализа, т.е. «интерпретируем» его в его своеобразии таким образом, что «суггестивно» предваряем возможные его оценки, предполагаем воссоздать творение культуры в «сопереживании», как это обычно (впрочем, совершенно неверно) называют, то подобная интерпретация еще не составляет работу историка (в этом зерно истины формулировки Э.Мейера), хотя безусловно — это совершенно необходимая forma formans6* исторического «интереса» к объекту, его первичного понятийного формирования в качестве «индивидуума» и каузального исторического исследования, которое только при том условии обретает смысл. И сколько бы раз привитые повседневные оценки ни формировали объект и ни пролагали путь работе историка (как это случается на заре «истории» в рамках политических сообществ, в частности при изучении собственного государства), и сколь бы ни был историк уверен в том, что при изучении этих твердо установленных «объектов», по-видимому (впрочем, только на первый взгляд и для повседневного употребления в быту), не нужна особая интерпретация, как только он свернет со столбовой дороги и захочет обрести новое важное понимание политического «своеобразия» государства или политического духа, он будет вынужден
46_________________________________________Логика наук о культуре
действовать в соответствии с логическим принципом, совершенно так же, как это делает интерпретатор «Фауста». Впрочем, в одном Э.Мейер прав: там, где анализ не выходит за пределы толкования самодовлеющей ценности объекта, где не занимаются его каузальным сведением и не ставится вопрос, что «означает» данный объект каузально, в сопоставлении с другими, более широкими и более современными объектами культуры, там еще нет подлинного исторического исследования, и историк видит в этом лишь материал для постановки исторических проблем. Не выдерживает критики, по-моему, только то обоснование, которое дает этому Э.Мейер. Поскольку Э.Мейер видит принципиальную противоположность естественных наук и истории в том, что в первом случае материал рассматривается «систематически» в «данном его состоянии», а, например, Риккерт недавно выдвинул понятие «систематических наук о культуре» (хотя прежде он рассматривал «систематику» как специфическое свойство естественных наук, также в области «социальной» и «духовной» жизни, противопоставляя ее методу «исторических наук, наук о культуре»), мы считаем своей задачей рассмотреть в особом разделе, что же все-таки означает «систематика» и каково отношение ее различных типов к историческому исследованию и к естественным наукам27. Изучение античной, в частности, греческой культуры, самая форма исследования античности, которую Э.Мейер определил как «филологический» метод, стала практически возможной после определенного языкового овладения материалом. Однако утверждение этого метода обусловлено не только названным обстоятельством, но и деятельностью ряда выдающихся исследователей и прежде всего тем «значением», которое всегда имела для нашего духовного формирования культура классической древности. Попытаемся сформулировать в крайнем и поэтому чисто теоретическом выражении те точки зрения на античную культуру, которые в принципе возможны.
Одна из них — это представление об абсолютной ценностной значимости античной культуры; то, как оно отражено в гуманизме, у Винкельмана и, наконец, во всех разновидностях так называемого «классицизма», мы здесь рассматривать не будем. С этой точки зрения, если довести ее до ее логического завершения, компоненты античной культуры при условии, что христианские воззрения нашей культуры или продукты рационализма не привнесли в нее «добавления» или «преобразования», являются, во всяком случае виртуально, компонентами культуры как таковой, и не потому, что они оказали каузальное воздействие в том смысле, как это понимает Э.Мейер, а потому, что в своей абсолютной ценностной значимости они должны каузально воздействовать на
Макс Вебер. Критические исследования в облает логики наук о культуре_47
наше духовное формирование. Именно поэтому античная культура представляет собой прежде всего объект интерпретации in usum scholarum7’, для воспитания нации, превращения ее в культурный народ. «Филология» в самом широком ее значении как «познание познанного» видит в античности нечто принципиально надисторическое, некую вневременную значимость.
Другая, современная, точка зрения, прямо противоположная первой, гласит: культура античности в подлинном ее своеобразии настолько бесконечно далека от нас, что совершенно бессмысленно стремиться дать «подавляющему большинству» понимание ее истинной «сущности». Она является объектом высокой ценности для тех немногих, кто хочет погрузиться в навсегда исчезнувшую, неповторимую в своих существенных чертах, высшую форму человечности, обрести от соприкосновения с этой культурой некое «художественное наслаждение»28. И наконец, согласно третьей точке зрения, изучение древнего мира соответствует определенному направлению научных интересов, предоставляя богатейший этнографический материал для образования общих понятий, аналогий и закономерностей развития в доистории не только нашей, но «любой» культуры вообще. Достаточно вспомнить об успехах в наши дни сравнительной истории религий, которые были бы немыслимы без использования наследия древности на основе специальной филологической подготовки. С данной точки зрения, античности уделяется внимание постольку, поскольку содержание ее культуры может быть использовано в качестве средства познания при образовании общих «типов», но в ней не видят - в отличие от «понимания» второго типа - абсолютно неповторимого ценностного объекта индивидуального созерцания.
Итак, для всех трех сформулированных нами чисто «теоретических», как было сказано, точек зрения занятие античной историей представляет интерес для осуществления определенных целей при «изучении древности», из чего даже без каких-либо комментариев очевидно, что все они далеки от интересов историка, поскольку их основной целью является отнюдь не постижение истории. Однако, с другой стороны, если Э.Мейер действительно считает необходимым исключить из истории древнего мира то, что с современной точки зрения не оказывает больше исторического воздействия, тогда все те, кто ищет в древности нечто большее, чем историческую «Причину», решат, что он фактически оправдывает своих противников. Все почитатели ценных трудов Э.Мейера сочтут за благо, что у него не может быть серьезного намерения провести эту идею на практике, и надеются на то, что он и не предпримет этой попытки в угоду неверно сформулированной теории29.
48
Логика наук о культуре
1 Мы надеемся поэтому, что и в дальнейшем наши критические замечания, сознательно направленные на выявление слабости формулировок Э.Мейера, не будут приписаны уверенности в своей способности «знать лучше». Ошибки, сделанные выдающимся ученым, поучительнее непогрешимости ученого пуля. В наши намерения нс входит и позитивная оценка трудов Э.Мейера, вернее, обратное: мы стремимся учиться на его заблуждениях, прослеживая, как он пытается с переменным успехом решать важные логические проблемы исторической науки.
2 В дальнейшем будет показано, что это может произойти и с Э.Мейером, если он будет слишком буквально применять ряд своих тезисов на практике.
3 Подобная «случайность» лежит в основе игры в кости и бросания жребия, где удача определяется «случайностью». Полная непознаваемость связи между определенными компонентами условий, ведущих к конкретному результату, и самим результатом конститутивна для «вероятностного исчисления» в строгом смысле слова.
4 Такие понятия «случайности» не могут быть исключены даже из относительно исторической дисциплины (например, биологии). Только об этом и упоминаемом в примечании 6 «прагматическом» понятии «случайности» говорит, по-видимому, вслед за Э.Мейером, Л.М. Гартман (Hartmann L.M. Die geschichtliche Entwicklung. S. 15, 25). Несмотря на неправильную формулировку, он отнюдь пс превращает «отсутствие причины в причину», как полагает Ойленбург (Eulenburg // Deutsche Literaturzeitung. 1905. №24).
5 Так, например, Липман (Liepmann. Einleitung in das Strafrecht).
6 При этом недостаточно ясно сказано, что следует понимать под «изучением мотивов». Само собой разумеется, что «решение» конкретной «личности» мы лишь в том случае принимаем просто как некую «последнюю» данность, если это решение представляется нам случайным в «прагматическом» смысле, т.е. недоступным осмысленному толкованию или недостойным его. 'Гаковы, например, порожденные безумием путаные распоряжения императора Павла. В остальном же одна из несомненных задач истории с давних нор состоит именно в том, чтобы понимать эмпирически данные внешние «действия» и их результаты, исходя из исторических «условий», «целей» и «средств» человеческой деятельности. Впрочем, и Э.Мейер поступает не иначе. Что же касается «исследования мотивов», т.е. анализа действительно «желаемого» и его причин, то это, с одной стороны, средство предотвратить вырождение этою анализа в антиисторический прагматизм, с другой - одна из отправных точек «исторического интереса»: ведь мы, помимо всего прочего, хотим увидеть, как воление человека преобразуется в своем значении под действием сцепления исторических «судеб».
7 Винделъбанд намеренно прибегает к данной формулировке (в последней главе своей работы «О свободе воли»), чтобы исключить вопрос о «свободе воли» из рассуждении криминалистов. Правда, возникает вопрос, удовлетворит ли эта формулировка криминалистов, так как именно вопрос
Макс Вебер. Критические исследования в области логики наук о кулыуре 49
о характере каузальной связи отнюдь нс иррелевантен для применения уголовных норм.
8 Из чего, впрочем, отнюдь не следует, что в «психологическое понимание» ценностного значения объекта (например, произведения искусства) каузальное рассмотрение его генезиса не привносит ничего существенно нового. К этому мы еще вернемся.
9 Это заблуждение я подверг критике в моей работе «Рошер и Книс и логические проблемы истории политической экономии».
10 Действия русского императора Павла в последний период его смутного правления мы воспринимаем как недоступные осмысленному толкованию и, следовательно, предвидению, как некое подобие бури, уничтожившей испанскую армаду: как в первом, так и во втором случае мы отказываемся от «исследования мотивов», но отнюдь не потому, что мы считаем эти события «свободными», и не только потому, что их конкретная каузальность остается от пас скрытой (что касается императора Павла, то объяснить его действия, возможно, могла бы патология), а потому, что они исторически недостаточно нас интересуют. Подробнее об этом ниже.
11 По этому вопросу см. мою работу «Рошер и Книс». Строго рациональное поведение его можно определять и таким образом - было бы просто полной адаптацией к данной «ситуации». Так, например, предпосылкой теоретических схем Менгера служит строю рациональная «адаптация» к «состоянию рынка», и они чисто «идеально-типически» показывают, каковы будут ее последствия. История и в самом деле была бы не чем иным, как прагматикой «адаптации» (к такому ее преобразованию стремится Л.М.Гартман), если бы она сводилась только к анализу возникновения и взаимопереплетения отдельных «свободных», т.е. телеологически совершенно рациональных, действий отдельных индивидов. Если лишить понятие «адаптации», как эго делает Гартман, телеологически-рационального смысла, то оно становится (как подробнее будет показано ниже) для истории совершенно тусклым.
12 В другом место Э.Мейер не слишком удачно утверждает следующее: «Историческое исследование делает свои выводы, идя от действия к причине».
13 Hist. Zeitschr. 81. 1899. S. 238.
14 Об этом см. высказанные мною соображения в работе «Рошер и Книс».
15 Эта формулировка напоминает известный, встречающийся у представителей русской социологической школы (Михайловского, Кареева и др.) ход мыслей, который характеризует Ф. Кистяковский в статье «Русская социологическая школа и категория возможности в проблематике социальных наук» из сборника «Проблемы идеализма» (Род. Новгородцев. Москва, 1902); к этой работе мы еще вернемся.
16 Hreysig К. Entstehung des Staales bei llinkit und Irokcsen // Schmollers Jahrbuch. 1904. S. 483 f.
Мы ни в коей мере не касаемся здесь вопроса о ценности самой этой работы. Правильность всех построений Брейзига здесь, как и вообще при использовании подобных иллюстрирующих нашу мысль примеров, заранее предполагается.
50
Логика наук о культуре
17 Тем самым мы отнюдь не отрицаем того, что конкретные рентгеновские лучи могут представлять собой и «исторический» факт, изучаемый в истории физики. Исследователи в этой области могли бы проявить интерес и к тому, какие «случайные» обстоятельства привели в тот день в лаборатории Рентгена к констелляции, которая способствовала возникновению упомянутой вспышки, и тем самым - допустим здесь это предположение - каузально обусловили открытие данного «закона». Совершенно очевидно, в какой степени изменено тем самым логическое значение этих конкретных лучей. Возможным это стало благодаря тому, что здесь они играют роль в такой связи, которая коренится в ценностной сфере («прогресс науки»). Иные, быть может, сочтут, что подобное логическое различие объясняется тем, что здесь совершен прыжок в область фактических пределов «наук о духе», ведь космическое воздействие лучей оставлено вне сферы нашего внимания. Однако был ли этот «ценностный» конкретный объект, для которого лучи имели каузальное «значение», физическим или психическим по своей природе, для нас безразлично, в той мере, в какой он сам по себе «значит» для нас что-либо, т.е. обладает ценностью. Если допустить фактическую возможность того, что познание направлено на него, то (теоретически) мыслимо, что конкретные космические (физические, химические и др.) воздействия этих конкретных лучей могут стать «историческим фактом», однако только в том случае (конструирование которого связано, правда, с большими трудностями), если каузальное исходящее от них движение привело бы в конечном счете к какому-либо конкретному результату, который являл бы собой «исторический индивидуум», т.е. обладал бы для нас в своем индивидуальном своеобразии «универсальной значимостью». Только потому, что это совершенно недостижимо, такая попытка, даже если бы она была осуществима, оказалась бы бессмыслицей.
18 Здесь автор на полях первого издания написал: «Скачок мысли! Вставить, что там, где факт принимается во внимание в качестве экземплифи-кации родового понятия, он служит средством познания. Однако не всякое средство познания есть экземплификация родового понятия».
19 В таком переданном здесь смысле определение истории как науки о действительности вполне соответствует ее логической природе. Недоразумение, которое содержится в распространенном толковании этого определения и сводит его к тому, что история только описывает события, не занимаясь их предпосылками, в достаточной степени охарактеризовано Риккертом и Зиммелем.
20 Тот факт, что логика строго разделяет различные точки зрения, которые эвентуально обнаруживаются в одном и том же научном исследовании, безусловно не свидетельствует об ошибке; именно это служило предпосылкой ряда необоснованных критических замечаний в адрес Риккерта.
21 Этому особому случаю мы уделим более пристальное внимание в следующем разделе. Поэтому здесь мы оставляем в стороне вопрос, в какой мере этот случай можно считать особым в логическом смысле. Следует только со всей твердостью подчеркнуть, что случай, о котором идет речь в пункте «б», никоим образом не затрагивает логическое противостояние исторического и номотетического использования «фактов». Ибо кон
Макс Вебер. Критические исследования в облает» логики наук о культуре 51
кретный факт не трактуется здесь «исторически» в установленном смысле, т.е. как звено конкретного причинного ряда.
22 Главным образом для того, чтобы отличать этот вид «интерпретации» от только языковой. То обстоятельство, что фактически такое разделение обычно не соблюдается, не должно препятствовать логическому различению.
23 Фосслер, анализируя басню Лафонтена в столь же блестяще написанной, сколь намеренно односторонней статье, озаглавленной «Язык как творческий процесс и развитие» (Heidelberg, 1905. S. 84 f.), против своей воли свидетельствует о том же. Он (так же, как и Кроче, с которым у него много общего) считает единственной «легитимной» задачей «эстетического» толкования показать, что - и в какой степени — литературное произведение являет собой адекватное «выражение». Однако он сам вынужден обращаться к вполне конкретному «психическому» своеобразию Лафонтена (S. 93) и, более того, к «среде» и к «расе» (S. 94); непонятно, почему это сведение к причинам, это исследование ставшего, которое всегда использует и генерализирующие понятия (об этом ниже), должно было быть прервано, почему его продолжение оказалось не имеющим значения для «интерпретации» именно в том пункте его весьма интересного и поучительного очерка. Если Фосслер отказывается затем от своей уступки, утверждая, что он принимает «временную» и «пространственную» обусловленность только для фактического материала, эстетическая, единственно существенная «форма», как он утверждает, есть «свободное творение духа», то мы видим, что он пользуется здесь терминологией, близкой терминологии Кроче: «свобода» означает у Фосслера «соответствие норме», а «форма» - правильное выражение в крочевском смысле и в качестве такового тождественна эстетической ценности. Однако эта терминология вызывает сомнение, поскольку она ведет к вплетению «бытия» и «нормы». Большая заслуга Фосслера в том, что в своей яркой статье он, в отличие от чистых глоттологов и позитивистов в лингвистике, вновь подчеркивает два обстоятельства: 1) что наряду с физиологией и психологией языка, наряду с исследованиями «историческими» и «изучающими законы чередования звуков» существует совершенно самостоятельная задача интерпретации ценностей и «норм» литературных произведений; 2) что собственное понимание этих «ценностей» и норм и вживапие в них - необходимая предпосылка также каузального толкования процесса духовного творчества и его обусловленности, так как творец литературного произведения или словесного выражения именно «переживает» эти ценности и «нормы». Однако следует помнить, что в последнем случае, где они служат средствами каузального познания, а не масштабами ценности, их следует логически принимать во внимание не в качестве «норм», но чисто фактически как «возможное» эмпирическое содержание «психического» процесса, в принципе так же, как бред параноика. Я полагаю, что терминология Фосслера и Кроче, которая неукоснительно ведет к логическому смешению «оценки» и «объяснения» и к отрицанию самостоятельности последнего, ослабляет убедительность их аргументации. Задачи чисто эмпирического исследования остаются, наряду с теми, которые Фосслер именует «'эстетическими», вполне самостоятельными, как фактически, так и логически. То обстоятельство, что в наши дни этот каузальный
52 _____________Логика наук о культуре
анализ именуют «психологией народов» или просто «психологией», лишь следование модной терминологии и в принципе ничего не меняет в фактическом нраве на существование и такого рода исследований.
24 Таково мнение Шмейдлера, высказанное в «Анналах философии природы» Оствальда (Bd. 3. S. 24 f).
25 То же утверждает, к моему удивлению, и Франц Ойленбург в «Архиве социальных наук». Его полемика с Риккертом «и его единомышленниками» ьозможпа, по моему мнению, только потому, что он изъял из сферы своего рассмотрения именно тот объект, о логическом анализе которого идет речь, т.е. «историю».
26 Исследуя социально-экономические детерминанты в возникновении конкретного «выражения» «христианства» или, например, провансальской рыцарской поэзии, я тем самым ни в коей степени не связываю эти явления с «ценностью», проистекающей из их экономического значения. Связанное с чисто техническими причинами разделение груда, посредством кот орого тот или иной исследователь или адепты одной традиционно выделяемой «дисциплины» намечают границы своей «области», не имеет, конечно, и здесь никакого логического значения.
27 Только тогда мы сможем приступить к рассмотрению различных возможных принципов «классификации» «наук».
28 Возможно, что здесь речь идет об «эзотерическом» учении У. фон Ви-ламовица, против которого в первую очередь направлена полемика Э.Мейера.
29 Развернутость вышеприведенного изложения никак не связана, конечно, с тем, что может быть непосредственно па практике «использовано» для «методологии». Тому, кто сочтет их по этой причине излишними, можно только рекомендовать вообще не уделять внимания вопросу о «смысле» познания и удовлетвориться тем, что он получает «цепные» знания посредством своей практической деятельности. Вопрос этот подняли не историки, а тс, кто выдвинул ложное утверждение (и продолжают его варьировать), будто «научное познание» идентично установлению законов. А это уже вопрос о «смысле» познания.
Перевод иноязычных текстов
’’Да будет так (лат.).
2’ Д иа Me'ipaj i ы i о (лат.).
3* Со всеми подробностями (лат.).
4‘ В данном случае (лат.).
s’ Наподобие того, как это делает Дюнцер (франц.).
6’ Формирующая форма (лат.).
7* Для школьного обучения (лат.).
Перевод выполнен по изданию. Weber М. Kritische Studicn auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik // Weber M. Gesammelte Aufsatze zur Wis-senschaflslehre. Tubingen: Mohr, 1951. S. 215- 290.
1^льтурфилософские рефлексии
Вильгельм Випдельбапд
Философия культуры и трансцендентальный идеализм
О философии культуры можно говорить в самых различных смыслах. Многие, например, будут требовать от нее выставления идеала будущей культуры или обоснования общезначимой нормы, которая позволила бы нам оценивать действительно существующее состояние культуры: все те, кого удалось убедить в том, что задача философа не искать или понимать ценности, а создавать их и повелевать, будут ожидать от философии своего рода проекта идеальной или заданной культуры.
Можно, однако, ограничить задачу философии культуры, свести ее к пониманию исторически преднаходимой и данной культуры. Истинной философией такая философия будет, конечно, только в том случае, если генетические исследования психологического анализа, социологического сравнения и исторического развития будут служить лишь материалом для обнаружения той основной структуры, которая присуща всякому культурному творчеству во вневременном, сверхэмпирическом существе разума.
Но между этими двумя родами философии культуры возможен целый ряд переходов. Само собой разумеется, что идеальная картина заданной культуры более или менее сознательно зависит от понимания данной культуры: можно даже сказать, что эта невольная зависимость тем сильнее, чем резче контраст между идеалом и прошлыми или настоящими условиями; наконец, раньше или позже всегда также встает вопрос о реальном осуществлении этого идеала, о развитии его из данного состояния культуры. С другой стороны, и философское понимание данной культуры неминуемо должно привести к своего рода предвидению будущего ее развития, ибо настоящий культурный момент, будучи включен в историческое движение и понят как член этого развивающегося ряда, всегда указывает на предстоящий, за собственными его пределами лежащий момент.
56 Кулътурфилософские рефлексии
Но и во всех этих переходных пониманиях философии куль-туры противоречие заданного и данного сказывается с прежней силой: оно находится в тесной связи с принципиальными особенностями философско-исторического метода. Для того, кто рассматривает историческое развитие по образцу математического и понятийного (begrifflich) развития, в котором знание закона ряда и одного какого-нибудь члена его делает возможным построение всех следующих его членов, для того цель прогресса принципиально дана уже в законе прогресса и при правильном рассуждении может быть всегда предвидена. Но если специфическую сущность исторического развития видеть в прогрессирующем оформлении не определяемого в понятиях, временно-фактического процесса становления, то понимание прошлого и настоящего сможет в таком случае повести лишь к определению задач будущей культуры, уверенность же наша в их осуществлении будет уже делом не познания, но убеждения и мировоззрения.
Исходя из этих основных моментов и различным образом комбинируя их, было бы нетрудно построить основные возможные типы философии культуры и соответственным образом охарактеризовать главных ее представителей от Руссо и Кондорсе до наших дней. Но важнее, мне кажется, указать на то общее, что они все должны иметь, раз они действительно хотят быть философией культуры, т.е. абстрактной наукой, оперирующей с помощью понятий. Независимо от того, идет ли речь о данной или заданной культуре, основы ее должны быть заложены в глубочайшем существе всякого разумного творчества и как таковые познаны философом. Ибо философское понимание культуры начинается лишь там, где кончается психологическое или историческое установление фактического ее содержания; оно отвечает на quaestio juris1*, причем руководствуется единственно лишь точкой зрения имманентной предметной (sachlich) необходимости. Но в этом именно и заключается, по моему мнению, критический метод Канта, а вытекающий отсюда основной способ понимания культурных функций и есть трансцендентальный идеализм.
В опубликованном мною в «Kultur der Gegenwart»1 кратком изложении истории новой философии я попытался охарактеризовать систему критицизма как такого рода всеобъемлющую философию культуры. При этом я, конечно, имел в виду не историческую постановку проблемы Кантом, но живой плод его учения и его значение для духовной жизни настоящего времени. Не подлежит никакому сомнению, что в своем критическом анализе Кант всегда исходил из вопроса: каким образом в выросшем из опыта индивидуальном сознании возможны априорные синтетические
Вильгельм Виндельбаид. Философия культуры и трансцендентальный идеализм 57 суждения, т.е. такие функции разума, всеобщая и необходимая значимость которых должна распространяться на весь опыт? Исходя из этого, его идеализм и прозвали впоследствии субъективным. Но столь же несомненно, что плодом кантовской критики всегда было вскрытие тех разумных оснований, на которых зиж-дятся великие области культуры: «Критика чистого разума» дала основную структуру науки, как ее нашел и понимал Кант, «Критика практического разума» и построенная на ней «Метафизика нравов» - царство разумных целей в морали и праве, «Критика силы суждения» — определение сущности искусства и эстетического творчества жизни; и затем только уже можно было поставить дальнейший критический вопрос: «Какие из характеризующих культурные ценности моментов чистого разума содержатся в религиозной форме общественной жизни?»
Этот путь, совершенный Кантом от постановки им проблемы до ее решения, есть путь философии от XVIII до XIX в., от Просвещения до романтизма. Развитие это с предметной точки зрения состояло в замене естественного человека историческим, с методической точки зрения - в замене психологии историей, как органоном критики. Это самое развитие повторила затем снова послекантовская философия, пройдя путь от Фриза к Гегелю2.
Но что же стоит в центре всего этого развития? — Бессмертная заслуга Канта — открытие им синтетического сознания. Критика чистого разума раз и навсегда установила невозможность для зрелого философского сознания мыслить мир так, как он является наивному сознанию, т.е. «данным» и отраженным в сознании. Во всем том, что нам представляется данным, кроется уже деятельность нашего разума: на том факте, что мы сначала создаем для себя вещи, и основывается наше познавательное право на них. Нам нужно сначала присвоить, приспособить к себе тот мир, который мы должны пережить, потому что мы можем пережить всегда лишь часть мира, один только отрезок его, и то лишь в упорядоченной связи, принципы же отбора и связи заложены в структуре нашего сознания, в котором они и должны быть найдены. Мир, который мы переживаем, есть наше дело. Пока что нельзя еще сказать, чтобы идея эта была особенно нова или глубока. Что эмпирическое сознание может воспринять лишь небольшой отрезок громадного мира и что каждый из нас представляет себе* этот отрезок на свой особый лад — соответственно предшествующей истории своей жизни, - об этом давно уже и много говорилось, и, чтобы открыть это, не нужен был Кант. Но громадное значение его критического принципа покоится в сущности на поразительно простом следствии из этого психологического фак-
58
Кулыурфилософские рефлексии
та. Если общезначимые и необходимые суждения, составляющие фактически то, что мы называем «опытом», вообще должны иметь место, то это возможно лишь благодаря тому, что все эти эмпирические ассоциации и апперцепции пронизывает трансцендентальный синтез, т.е. в самих вещах кроющаяся, от движений эмпирического сознания независимая связанность элементов. Эти связи элементов суть формы «трансцендентальной апперцепции», и учение, что все решительно предметы порождены этим общезначимым синтезом и что кроме них ничего другого не существует, и есть трансцендентальный идеализм.
Не только в данной связи, но и вообще для сохранения и дальнейшего развития трансцендентального идеализма необходимо особенно резко подчеркивать, что кантовское понятие «сознание вообще» нельзя истолковывать ни в психологическом, ни в метафизическом смысле, но что оно относится исключительно лишь к предметным предпосылкам общезначимых суждений. Однако столь же необходимо резко и недвусмысленно уяснить себе отношение трансцендентальной апперцепции к деятельности человеческого разума. У самого Канта, по крайней мере, если следовать буквальному смыслу его слов, отношение это далеко еще не ясно. Этот труднейший вопрос критицизма, вопрос его жизни и смерти, не получил еще у него своего разрешения. Известно ведь, сколько различных, даже противоположных мнений высказано было относительно того, как следует понимать эти априорные формы разума: обусловлены ли и в какой мере обусловлены они существом человека? В теоретической философии Кант до самого последнего времени придерживался выставленного им в диссертации «De mundi sensibilis etc»3 учения, согласно которому пространство и время представляют собой специфически человеческие формы наглядного представления: сначала он отсюда психологически вывел их априорную значимость для всего «нашего» опыта, затем в «Критике чистого разума» он точно таким же образом ограничил применение категорий «миром явлений», основываясь исключительно на том обстоятельстве, что надлежащее категориальному синтезу многообразие может быть наглядно дано человеку лишь в пространстве и времени: сами по себе категории значат также и для других видов наглядного представления, точно так же, как и, с другой стороны, формы аналитического мышления должны обладать разумной значимостью для любого содержания и для всякого мышления вообще. Не будем доискиваться, допустимо ли мыслить отношение пространства и времени к «нашему наглядному представлению» так, как его мыслил Кант, и мог ли сам Кант желать такого антропологического обоснования для математических
Вильгельм Виндельбанд. Философия культуры и трансцендентальный идеализм 59 истин, которые должны ведь были на нем покоиться. Несомненно то, что для дедукции «основоположений» оказалось необходимым применить и вместе с тем ограничить категории наглядно данным человеку во времени и пространстве многообразием, что только таким образом удалось дойти до систематической структуры науки, до понимания этой основной ценности теоретической культуры.
Точно так же обстоит дело и в практической философии: только Кант идет здесь обратным путем4. Если при анализе знания он исходит из ощущения и наглядного представления и от этих антропологических элементов поднимается затем к всеобщему и разумному, т.е. к категориям, то в «Критике практического разума» (правда, предварительно подготовив почву в «Основах метафизики нравственности») он начинает с закона чистой воли, зна-чимость которого распространяется на «все разумные существа», придает ему затем характер категорического императива через отнесение его к двойной чувственно-сверхчувственной сущности человека и, наконец, в «Метафизике нравов» дедуцирует отдельные обязанности через отнесение этой основной заповеди к эмпирическим условиям индивидуальной или общественной жизни человека. Таким образом, и здесь, в области нравственности и права, мы имеем дело с тем же основным методом: и эта великая область культуры постигается как вторжение всеобъемлющего и всеобщего царства разума в разумную жизнь человека.
Отсюда (а правильность изложенного выше в принципе вряд ли может быть подвергнута сомнению) для трансцендентальной философии вытекает ясно определенный методический принцип: сначала необходимо вскрыть общезначимые предпосылки разумной деятельности, на которых в конце концов покоится все то, что мы называем культурой, затем с помощью предметного анализа нужно установить, какая из этих предпосылок определяется специфически человеческими, в широком смысле слова, эмпирическими условиями: полученный остаток будет, таким образом, содержать в себе одну только всеобщую сверхэмпирическую необходимость самого разума. Это абсолютное априори обладает само в себе безусловной значимостью в смысле dvrwg ov2’, как его понимал Лотце: входя в эмпирическое сознание, оно не только становится нормой для желающего познавать, действовать, творить субъекта, но получает также и зависящую от особенностей эмпирического сознания спецификацию, причем спецификация эта проходит последовательно различные ступени индивидуализации, начиная с родового сознания вплоть до пространственно и временно индивидуализированной формы субъекта. В послед-
60 Культурфилософские рефлексии чей форме мы, как индивидуумы, переживаем все то, что мировой разум оставляет в нашем конечном сознании, и отсюда, путем обратного восхождения и постепенного исключения всего эмпирического, мы должны снова прийти к царству всеобщих значимостей во всей их чистоте.
Следующая известная проблема логики поможет нам уяснить это взаимоотношение. Ясно, что для абсолютного, только истинного и (в спинозовском смысле слова) адекватного мышления отрицание (как качество суждения) не имеет никакого смысла; искать его среди конститутивных категорий, т.е. реальных отношений предметов — напрасный труд. Но стоит только войти в сферу желающего познавать и потому способного ошибаться мышления, как отрицание и отношение его к утверждению приобретают существенное значение, открывая собой обширные области логической закономерности, как известно, обусловленные им. Но отрицание как таковое не зависит еще от особенностей человеческого мышления: его значимость распространяется на всякое конечное и находящееся в процессе движения сознание. Чтобы прийти к человеческому мышлению, нужно обратиться к различным словесным формам отрицания, к выражению различия (А есть не В), к общеотрицательному суждению (ни одно S не есть Р) или к так называемому отрицательному понятию (Non-A) и т.п. Теория отрицания, не проводящая принципиального различия между этими тремя логическими сферами, неизбежно запутывается в множестве непонятных и неразрешимых противоречий.
Уже из этих кратких замечаний о методическом проведении принципа трансцендентальной философии должно стать ясным тесное родство этого принципа с проблемой философии культуры. Ибо под культурой мы в конечном итоге понимаем не что иное, как совокупность всего того, что человеческое сознание, в силу присущей ему разумности, вырабатывает из данного ему материала; центральным же пунктом трансцендентальной философии является выставленное Кантом положение, согласно которому во всем том, что мы привыкли принимать заданное, поскольку оно представляет собой общезначимый опыт, присутствует уже трансцендентальный синтез соответственно законам «сознания вообще», соответственно сверхэмпирическим, предметно значащим формам разума. К этому взгляду Канта привела критика науки, более всего отвечавшей его метафизической потребности и потому более всего интересовавшей его, и на этой критике он построил затем свое опровержение догматической метафизики и обоснование метафизики явлений в форме «чистого естествознания». Тот самый принцип, с помощью которого Кант показал,
Вильгельм Виидельбанд. Философия культуры и трансцендентальный идеализм 61 какое знание невозможно и какое возможно, позволяет нам также методически разграничить отдельные науки, соответственно порождающим их предметы различным принципам отбора и систематизации. Поскольку он составляет непременную основу всякой гносеологии.
Эта деятельность разума, дающая начало науке и представляющая собой воссоздание (Neuschopfung) мира из закона интеллекта, имеет точно туже структуру, что и всякое практическое и эстетическое творчество культурного человека.
Здесь поэтому коренится предметное (sachliche) единство трансцендентального идеализма как философии культуры. Нигде это порождение предметов из закона сознания не сказывается с такой явной самоочевидностью, как в практической области (и только в этом смысле и можно говорить в трансцендентальной философии о примате практического разума): что нравственная деятельность стремится обработать данный нам мир природы (в широком смысле этого слова, включающем в себя также и человеческую инстинктивную и эмоциональную жизнь) согласно закону разумной воли, что из данного мира мы здесь, путем выбора и систематизации, создаем новый и высший мир, — это столь самоочевидно, что не нуждается ни в каком пояснении. То же самое встречаем мы и в правовой области: разум создает в праве новый порядок человеческих взаимоотношений, последний смысл которого вытекает в принципе из категорического императива, повелевающего обеспечивать свободу личности в сфере ее социальной деятельности. Вся сфера эстетической жизни точно так же подчинена основным формам изоляции и синтетического возрождения. Всякое художественное творчество порождает свои предметы из активности сознания, которую Кант называл силой воображения гения, приписывая ей оригинальность и образцовость, а тем самым и объективную сообщаемость; даже импрессионист, желающий ограничиться простой передачей «виденного» им, отграничивает, выбирает и формирует данные своего переживания, т.е. творчески обрабатывает их. Всякое же наслаждение художественным произведением есть не что иное, как вторичное переживание того изолирования и воссоздания, которое художник однажды уже совершил со своим материалом. Даже наслаждение красотами природы не лишено этих моментов синтетического порождения предмета: они сказываются здесь в выборе места, в отыскании действительных линий и отношений. Наконец, что касается религии, то в несколько измененном виде к ней относится все то, что уже сказано было нами о науке, о нравственности и праве, об искусстве. Ибо религия не соответствует (как я это показал в
62___________________________________Культурфилософскис рефлексии
«Прелюдиях»5) никакой особой области разумных ценностей: все содержимые в ней элементы абсолютных ценностей распределяются между тремя царствами истины, добра и красоты. Ее эмпирическое своеобразие как особой культурной формы сводится к социологическому расширению психической жизни за пределы союза эмпирических субъектов, к включению в него мифических сил, переживаемых самым различным образом — соответственно стадии развития данной религиозной группы, начиная с примитивного анимизма и кончая богословским сверхнатурализмом или мистической неизреченностью. Ее особые функции лишены особого трансцендентального значения, свои разумные основания она заимствует у логических, этических или эстетических содержаний. Единственное разумное основание, присущее именно религии как таковой, сводится к требованию пережить совокупность всех разумных ценностей в абсолютном единстве, недостижимом ни для одной из форм нашего сознания.
Таковы те предметные основания, которые вместе с формальным схематизмом кантовского мышления принудили его применить последовательно принцип синтеза, открытый им сначала для обоснования науки, и к другим областям культуры: так само внутреннее развитие проблемы привело к тому, что критицизм, по методу своему возникший сначала из проблемы науки, невольно получил более широкое значение философии культуры, даже стал философией культуры par excellence3*. В сознании творческого синтеза культура познала самое себя, ибо в глубочайшем существе своем она и есть не что иное, как этот творческий синтез.
Навсегда значительным останется тот факт, что эта глубочайшая мысль, охватывающая и освещающая собой всю громадную область культуры, была осознана впервые таким скромным и совсем не блестящим человеком, каким был кёнигсбергский мудрец. В чем заключалось то личное переживание Канта, которое сделало из него философа такой колоссальной, единственной в своем роде силы, создало из него все сокрушающего, все проникающего и все заново воссоздающего мыслителя? Мне, кажется, нетрудно ответить на этот «современный» вопрос: больше, чем какой-либо другой философ, испытал Кант на себе самом, в глубине своей мощной сосредоточенной в себе личности, эту творческую силу разума. В своей богатой внутренними переворотами жизни, без излишнего ученого балласта, ни от кого не завися и никому не следуя, Кант с неподдельной гениальностью вполне самостоятельно продумал и пережил все философские точки зрения, строил системы и сам же сокрушал их и затем снова строил, на себе оправдывая свое сближение философии с математикой,
Вильгельм Виндельбанд. Философия культуры и трансцендентальный идеализм 63 которой дано построить свои предметы, величины, с помощью одной лишь продуктивной силы воображения. Если в конце концов он пришел к воззрению, что все решительно науки познают мир лишь постольку, поскольку они создают из него согласно закону разума свои собственные предметы, то этим он только выразил свое личное переживание, великое переживание мыслителя, из глубины своей собственной личности творящего предметы, — не в качестве профессора Иммануила Канта, но в качестве сознающего свое разумное назначение человека, в последнем же счете — в качестве «мыслящего существа вообще».
Так, свет, воссиявший сначала в глубине философского мыш-с ления, осветил собою всю сферу человеческой культуры и тем са-мым стал источником современного мировоззрения - мировоззрения духа. Для античного мировоззрения сознание было всегда £ чем-то пассивным, зеркалом, которому все предметы, как наивысшие, так и наинизшие, идея и ощущение, должны были быть даны: эта пассивность сознания была границей античного мировоззрения, которую оно не в силах было преступить. И вот обогащенный долгим опытом жизни познания современный дух в лице скромнейшего своего мыслителя решился молвить горделивое слово: рассудок - вот кто предписывает законы природы.
Это самосознание творческого синтеза должно быть центральным пунктом для выработки мировоззрения, которого так жаждет наша бесконечно многогранная и вместе с тем столь расщепленная культура и которое абсолютно необходимо ей, если духов-. ному творчеству ее дано будет вообще когда-нибудь откристаллизоваться в великих и законченных творениях, в длительных и плодотворных духовных союзах. Такое мировоззрение, однако, нельзя составить путем простого сложения отдельных знаний, интересов, деятельности, учреждений, творений и стремлений. Для этого современная культура слишком широка и многообразна. Она охватывает ныне всю землю и сознательно стремится к полноте. Быстрый прогресс технической цивилизации в XIX в. вызвал к жизни внешние условия, необходимые для осуществления гуманистического идеала XVIII в. Но этот идеал представляется нам уже не в виде туманного космополитического единства Просвещения, а в виде самой резкой дифференциации отдельных национальных культур: и если мы верим в то, что грубые формы борьбы национальных сил (борьбы, вызванной к жизни тем же самым XIX веком) уступят со временем место более высоким формам национального соперничества, то это отнюдь не значит, что частные культуры должны потерять свое своеобразие. Дифференцированные культурные формы народов должны сохранять свой
64 Культурфилософские рефлексии
особенный характер, подобно формам отдельных индивидуумов, с которыми они разделяют равные обязанности и равные права. Но культура каждого народа точно так же таит в себе множество разнообразных творческих сил и состояний, внешних и внутренних форм жизни. Обозреть их все и объединить в единое целое в одном сознании невозможно. Или кто-либо решится ныне утверждать противное? Это целое уже не существует более как актуальное единство. Расщепленное на отдельные слои, различающиеся между собой по образованию и профессии, оно в лучшем случае представляет собою лишь непрерывную связь функциональных зависимостей благодаря постоянному и частому взаимному соприкосновению этих разрозненных слоев. Из всей этой массы жизненных содержаний пытаться составить путем простого сложения предметное и целостное единство было бы напрасным трудом. Уже один только мир нашего знания не сможет никогда уложиться в одном уме, философия же хрестоматий и книг для чтения, желающая понемножку выбрать самое общее из всех научных областей, столь же бесплодна, сколь скучна. Точно так же и попытка сочетать данные научного знания с потребностями чувства, придать им единство и целостность настроения может породить в настоящее время лишь неясное и спутанное представление.
В этом отношении мы теперь скромнее наших предков. И все же мы нуждаемся в едином убеждении, ибо всякая культурная работа есть сознательное творчество жизни. Убеждение это может и не быть всегда актуально сознаваемо. Ведь то же самое наблюдаем мы и в индивидуальной деятельности отдельного человека: ее особые функции привязывают и прикрепляют ее к ее материалу; невозможно и ненужно, чтобы единичные детали этой деятельности в каждый момент вполне сознательно относились бы к единству личной жизненной задачи; но возможность отнесения все же должна быть всегда налицо. Позади всегда должно существовать единство задачи, если данная деятельность вообще обладает ценностью. Точно так же отдельные, бесконечно различные культурные функции тесно связаны со своими частными содержаниями, и носители этих функций часто знают о них лишь то особое, что отличает их друг от друга, но последняя ценность их все же дается лишь в единстве системы, обеспечиваемой единством культурного сознания, единством мировоззрения.
Поэтому, чтобы обрести, чтобы осознать это единство, необходимо постигнуть сущность функции, представляющей собой то общее, что присутствует во всех частных культурных деятельностях, как бы различно ни было обрабатываемое ими содержание, а это означает не что иное, как самосознание разума, самостоятель-
BiLibie.ib.M Виидельбанд. Философия кулыуры и гранецеиден гальньш идеализм 65 но порождающего свои предметы и в них царство своей значимости. Но в этом именно и состоит основное учение трансцендентального идеализма.
Эта философия культуры есть постольку имманентное мировоззрение, поскольку она по существу своему необходимо ограничивается миром того, что мы переживаем как нашу деятельность. Каждая область культуры, наука, общественность, искусство означает для нее срез, выбор, обработку бесконечной действительности согласно категориям разума: в этом отношении каждая из них представляет собой лишь «явление», в этом именно выборе и в этой именно обработке существующее исключительно лишь для разумного сознания, сотворившего себе в ней свой «предмет». Последняя же связь всех этих «явлений» остается недоступной нашему познанию. Но эта последняя связь и есть не что иное, как только целокупность всего того, что в отдельных частных формах представляют собой доступные нам разумные миры знания, общественности, художественного творчества. Только целостность эта невыразимо больше, чем простая совокупность отдельных миров; там, где перед нами только разрозненные и случайно соприкасающиеся друг с другом части, живет полное и цельное единство. Но у нас остается зато утешение, что каждая из этих нами оформленных частей действительно есть часть единого целого и как таковая включена в ту последнюю всемогущую связь. В этом смысле трансцендентальный идеализм не нуждается более ни в каком «ином мире», который Кант вначале считал нужным допустить в понятии вещи самой по себе; ведь затем он сам ввел нас в этот мир через посредство практического разума и тем самым снова лишил его характера «иного мира».
Но одно при этом следует особенно иметь в виду и не переставать повторять во избежание умышленных и невольных недоразумений: никогда индивидуум не должен приписывать себе творческой силы в порождении предметов; там, где речь идет об истинных культурных ценностях, мы никогда не действуем как индивидуумы или даже как экземпляры нашего рода, но всегда как хранители и носители сверхэмпирических и потому предметно, в существе самих вещей основанных функций разума. Только ими определяются необходимые и общезначимые «предметы». Эта причастность к высшему миру разумных ценностей, составляющих смысл всех решительно законов, на которых покоятся наши маленькие миры знания, воли и творчества, эта включенность нашей сознательной культурной жизни в разумную связь, выходящую далеко за пределы нашего эмпирического существования и нас самих, составляет непостижимую тайну всякой духовной дея-
66 Культу рфилософские рефлексии
тельности. Но весь процесс человеческой культуры, углубление и расширение всего ценного в ней в истории, снова и снова вселяет в нас убеждение в этой включенности нашей жизни в разумную связь, по своему значению бесконечно превосходящую нас самих.
Примечания
1 Die Kultur der Gegenwart: Ihre Entwicklung und ihre Ziele / Hrsg. P. Hinne-berg. Bd. 1-10. B.; Lpz., 1906-1925.
2 Срав. мою речь на заседании Академии в Гейдельберге о возрождении гегельянства (Uberdie Emeuerungdes Hegelianismus. 1910. S. 9.)
3 Диссертация И.Канта «De mundi sensibilis etc» - «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира» (1770).
4 Ср. Ruge A. Die Dcduktion der praktischen und der moralischen Freiheit. Heidelberg, 1910.
5 Виндельбанд В. Прелюдии: Филос. ст. и речи / Перев. со 2-го нем. изд. С.Франка. СПб., 1904. VI. 374 с. Прим. ред. [См также: Виндельбанд В. Прелюдии: Филос. ст. и речи / Перев. М.И.Левиной // ВиндельбандВ. Избранное: Дух и история. М., 1995.]
Перевод иноязычных текстов
’* Вопрос права (лат.).
^Действительно сущее (грен.).
3’ По преимуществу (франц.).
Печатается по изданию: Логос. Международный ежегодник по философии культуры. М.: Мусагет, 1910. Кн. 2. С. 1-14. Перевод С.И.Гессена (установлено по «Отчету редакции “Логос” за 1910 1911 годы». - См.: Лица. Биографический альманах. 1. М.; СПб.: 1992. С. 402).
Генрих Риккерт
Науки о природе и науки о культуре
Природа и культура
Строго систематическое изложение, ставящее на первый план логические проблемы, должно было бы исходить из размышления о формальных различиях методов, т.е. попытаться прояснить понятие науки о культуре из понятия исторической1 науки. Но так как для частных наук исходным моментом являются предметные различия и так как разделение труда в науках в его дальнейшем развитии определяется прежде всего материальной противоположностью природы и культуры, то я начну, чтобы не отдалиться еще более, чем это пока нужно, от интересов специального исследования, с предметной (sachlich) противоположности, а затем уже перейду к выяснению формальных методических различий, после чего только постараюсь показать отношения между формальным и материальным принципом деления.
Слова «природа» и «культура» далеко не однозначны, в особенности же понятие природы может быть точнее определено лишь через понятие, которому его в данном случае противополагают. Мы лучше всего избегнем кажущейся произвольности в употреблении слова «природа», если будем придерживаться сперва первоначального его значения. Продукты природы - то, что свободно произрастает из земли. Продукты же культуры производит поле, которое человек вспахал и засеял. Следовательно, природа есть совокупность всего того, что возникло само собой, само родилось и предоставлено собственному росту. Противоположностью природе в этом смысле является культура, как то, что или непосредственно создано человеком, действующим сообразно оцененным им целям, или что уже существовало раньше, по крайней мере, сознательно взлелеяно им ради связанной с ним ценности.
68
Кулыурфилософсюн' рефинксии
Как бы широко мы ни понимали эту противоположность, сущность ее всегда остается неизменной: во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение какой-нибудь признанной человеком ценности, ради которой эти явления или созданы, или, если они уже существовали раньше, взлелеяны человеком; и наоборот, все, что возникло и выросло само по себе, может быть рассматриваемо вне всякого отношения к ценностям, а если оно и на самом деле есть не что иное, как природа, то и должно быть рассматриваемо таким образом. В объектах культуры, следовательно, заложены (haften) ценности. Мы назовем их благами (Giiter), чтобы таким образом отличить их как ценные части действительности от самих ценностей как таковых, не представляющих собой действительности и от которых мы здесь можем отвлечься. Явления природы мыслятся не как блага, а вне связи с ценностями, и если от объекта культуры отнять всякую ценность, то он станет частью простой природы. Благодаря такому либо наличному, либо отсутствующему отнесению к ценностям мы можем с уверенностью различать два рода объектов, и мы уже потому имеем право делать это, что всякое явление культуры, если отвлечься от заложенной в нем ценности, необходимо может быть рассмотрено как стоящее также в связи с природой и, стало быть, как составляющее часть природы.
Что же касается рода ценности, превращающей части действительности в объекты культуры и выделяющей их этим самым из природы, то мы должны сказать следующее. О ценностях нельзя говорить, что они существуют или не существуют, но только, что они значат (gelten) или не имеют значимости. Культурная ценность или фактически признается общезначимой, или же ее значимость и тем самым более чем чисто индивидуальное значение объектов, с которыми она связана, постулируется, по крайней мере, хоть одним культурным человеком. При этом если иметь в виду культуру в высшем смысле слова, то речь должна идти не об объектах простого желания (Begehren), но о благах, к оценке которых или к работе над которыми мы чувствуем себя более или менее нравственно обязанными в интересах того общественного целого, в котором мы живем, или по какому-либо другому основанию. Этим самым мы отделяем объекты культуры как от того, что оценивается и желается только инстинктивно (triebartig), так и от того, что имеет ценность блага, если и не на основании одного только инстинкта, то благодаря прихотям настроения.
Легко показать, что эта противоположность природы и культуры, поскольку дело касается различия обеих групп объектов, действительно лежит в основе деления наук. Религия, церковь, право, государство, нравственность, наука, язык, литература, искусство,
Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре 69
хозяйство, а также необходимые для его функционирования технические средства являются, во всяком случае на определенной ступени своего развития, объектами культуры или культурными благами в том смысле, что связанная с ними ценность или признается значимой всеми членами общества, или ее признание предполагается; поэтому, расширив еще наше понятие культуры настолько, чтобы в него могли войти также и начальные ступени культуры и стадии ее упадка, а кроме того, и явления, благоприятствующие или препятствующие культуре, мы увидим, что оно охватывает собой все объекты науки о религии, юриспруденции, истории, филологии, политической экономии и т.д., т.е. всех «наук о духе», за исключением психологии.
То обстоятельство, что мы причисляем к культуре также орудия производства сельского хозяйства, а также химические вспомогательные средства, не может, конечно, служить аргументом против нашего понятия науки о культуре, как полагает Вундт2, но, наоборот, оно показывает, что это выражение гораздо лучше подходит к неестественно-научным дисциплинам, чем термин «наука о духе». Хотя технические изобретения обыкновенно и совершаются при помощи естественных наук, но сами они не относятся к объектам естественно-научного исследования; нельзя также поместить их в ряду наук о духе. Только в науке о культуре развитие их может найти свое место.
Можно, конечно, сомневаться, куда относятся такие дисциплины, как география и этнография, но разрешение этого вопроса зависит только от того, с какой точки зрения они рассматривают свои предметы, т.е. смотрят ли они на них как на чистую природу или ставят их в известное отношение к культурной жизни. Земная поверхность, сама по себе чистый продукт природы, приобретает как арена всякого культурного развития еще иной, помимо чисто естественно-научного, интерес; и дикие народы могут, с одной стороны, рассматриваться как «естественные народы»; с другой же стороны, их можно изучать с точки зрения наличия «зачатков» культуры. Эта двойственность рассмотрения только подтверждает наш взгляд, что дело вовсе не в различии природы и духа, и мы имеем поэтому право безбоязненно называть частные не естественно-научные дисциплины науками о культуре, в указанном выше значении данного слова.
Однако часто слово это употребляется в другом смысле; поэтому было бы, пожалуй, полезно отчетливо отграничить наше понятие от тех родственных ему понятий, в которых слово «культура» обнимает отчасти слишком широкую, но отчасти и слишком узкую область. Ограничусь лишь несколькими примерами.
70
Культурфилософские рефлексии
Как тип чересчур широкой формулировки я беру определение науки о культуре, данное Паулем3. Краткий сравнительный анализ его воззрений тем более желателен, что своими убедительными исследованиями Пауль не только содействовал замене термина «науки о духе» термином «науки о культуре», но и в новейшее время был одним из первых, указавших на фундаментальное логическое различие между наукой закономерной (Gesetzeswissenschaft) и исторической, которое займет еще наше внимание в будущем. Но, несмотря на это, Пауль все еще видит «характерный признак культуры» в «упражнении психических факторов». Ему это кажется даже «единственно возможным точным отграничением данной области от объектов чисто естественных наук», и так как для него «психический элемент является... существеннейшим фактором всякого культурного развития», «вокруг которого все вращается», то и психология становится для него «главнейшей базой всех наук о культуре в высшем смысле этого слова». Термина «науки о духе» он избегает исключительно потому, что, «лишь только мы вступим в область исторического развития... мы будем иметь дело наряду с психическими также и с физическими силами». Откуда следует, что психическое там, где оно проявляется самостоятельно, есть объект чистой науки о духе, но вся действительность, состоящая из физического и психического бытия, относится к наукам о культуре.
В этом рассуждении бесспорно верно то, что науки о культуре нельзя ограничивать исследованием одних только духовных процессов и что поэтому выражение «науки о духе» мало говорит и с этой точки зрения. Но нужно пойти далее и спросить, имеют ли науки о культуре вообще право отделять физическое от психического бытия так, как это делает психология, и совпадает ли действительно понятие духовного, употребляемое науками о культуре, с понятием психического, образуемым психологией. Но оставляя даже это в стороне, я никак не могу понять, каким образом Пауль, идя своим путем, хочет «точно» (exakt) отделить естествознание от наук о культуре. Он сам делает вывод, что, согласно его определению, нужно признать даже животную (tierisch) культуру, но ведь и он не сможет утверждать, что животная жизнь при рассмотрении духовных процессов безусловно относится к наукам о культуре. Последнее будет иметь место только тогда, когда мы будем рассматривать ее не как предварительную ступень человеческой духовной жизни вообще, но как ступень к человеческой культурной жизни, в указанном мною выше смысле. Как только это отнесение к культурным ценностям отпадет, мы будем уже иметь дело исключительно с природой, и «единственно возможное точное отграничение» области оказывается здесь совершенно бессильным.
Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре 71
Пауль сам implicite соглашается с этим, когда он приводит в качестве примера науки о культуре историю развития художественных инстинктов и общественной организации у животных, ибо говорить о художественных инстинктах и общественной организации животных имеет смысл лишь тогда, когда речь идет о явлениях, которые могут всецело рассматриваться по аналогии с человеческой культурой; но тогда они будут также культурными процессами в моем смысле. Такая точка зрения по отношению к жизни животных не может все же считаться единственно правомерной; более того, можно было бы даже показать, что перенесение понятий человеческой культуры на общества животных в большинстве случаев является лишь забавной, но притом путающей аналогией. Чтб следует понимать под словом «государство», если под ним подразумевается Германская империя и пчелиный улей, чтб - под художественным творением, если под ним подразумеваются медичейские гробницы Микеланджело и пение жаворонка? Как бы то ни было, определение Пауля именно вследствие того, что психическое должно являться его существенным признаком, не в состоянии отграничить культуру от природы, и его дальнейшие рассуждения показывают, что для него самого это определение оказывается недостаточным.
Но я не буду разбирать этого дальше. Мне хотелось на примере Пауля еще раз показать, как без точки зрения ценности, отделяющей блага от свободной от ценности действительности, нельзя провести резкого отграничения природы и культуры, и я хотел бы теперь только еще выяснить, почему при определении понятия культуры так легко на место ценности вступает понятие духовного.
В самом деле, явления культуры должны быть рассматриваемы не только по отношению к ценности, но также и по отношению к оценивающему их психическому существу, потому что ценности оцениваются только психическим существом, — обстоятельство, благодаря которому психическое вообще рассматривается как нечто более ценное по сравнению с телесным. Так что на самом деле существует связь между противоположением природы и культуры, с одной стороны, и природы и духа — с другой, поскольку в явлениях культуры, представляющих собою блага, всегда должна участвовать оценка, а потому вместе с ней и духовная жизнь. Однако, как бы это ни было верно, отсюда все же еще не следует, что деление наук, основанное на противоположности природы и духа, правильно, так как простая наличность психического (ибо жизнь души как таковая может быть рассматриваема также как природа) еще не создает объекта культуры и потому не может быть употреблена для определения понятия культуры. Последнее было бы
72____________________________________Кулыурфилософские рефиексии
возможно только в том случае, если бы в понятии психического, как необходимой предпосылки всякой оценки, всегда было заключено уже и понятие самой ценности и притом как общезначимой ценности. Возможно, часто так и бывает на самом деле, чем и объясняются отвергаемые нами попытки деления. Но такое отождествление духа с оценкой общезначимой ценности недопустимо, поскольку под духом будет подразумеваться психическое. Необходимо, напротив, между духовным бытием, или психическими актами оценки, с одной стороны, и самими ценностями и их значимостью — с другой, проводить такое же резкое логическое (begriffliche) различие, как и между благами и заложенными в них ценностями, а также уяснить себе, что в «духовных ценностях» центр тяжести лежит не в духовном, но в ценностях. Тогда уже ни к чему будет более употреблять психическое для отграничения культуры от природы. Только как оценка связано оно с культурой, но и будучи оценкой, оно еще не совпадает с ценностью, превращающей действительность в культурное благо.
Совсем вкратце смогу я коснуться, наконец, определений, ограничивающих понятие культуры слишком узко понятой сферой общепризнанных объектов. Я останавливаюсь здесь на них главным образом потому, что благодаря некоторым из них слово «культура» приобрело для многих фатальный побочный смысл, чем и объясняется отрицательное отношение к термину «науки о культуре». Я здесь менее всего имею в виду такие выражения, как «борьба за культуру» («Kulturkampf») и «этическая культура», как не имеющие ничего общего с наукой, и я не думаю также, что из-за злоупотребления языком некоторых лиц, понимающих под культурой только массовые движения или не причисляющих войны прошлого времени как «безнравственные» к культуре, следовало бы отказаться от употребления самого слова «культура». Наоборот, я имею здесь в виду главным образом хотя и неясное, но крайне популярное у широкой публики понятие «история культуры». Чтобы быть пригодным для разделения наук на две группы, наше понятие культуры должно, конечно, быть совершенно независимым от таких, например, противоположений, как противоположение истории культуры политической истории, получивших особенно интересное освещение в сочинениях Дитриха Шефера4 и Готейна5. С одной стороны, согласно нашему определению, государство представляет собой культурное благо, подобно народному хозяйству или искусству, и в этом никто не сможет усмотреть произвольной терминологии. С другой же стороны, нельзя также безапелляционно отождествлять культурную жизнь с жизнью государственной. Шефер верно показал, что вся высшая культура развивается только
Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре 73
в государстве, и, вероятно, историческое исследование вправе ста-вить государственную жизнь на первый план; однако многое, например, язык, искусство и наука, в своем развитии отчасти совершенно не зависит от государства; достаточно только вспомнить о религии, чтобы стало ясно, насколько невозможно подчинить все культурные блага государственной жизни и соответственно этому все культурные ценности политическим.
Итак, будем придерживаться вполне совпадающего с общепринятым языком понятий культуры, т.е. будем понимать под культурой совокупность объектов, связанных с общезначимыми ценностями и лелеемых ради этих ценностей, не придавая ему никакого более точного материального определения, и посмотрим теперь, как это понятие сможет быть нам далее полезным при отграничении двух групп наук.
Исторические науки о культуре
Проблеме, о которой сейчас пойдет речь, мы дадим название проблемы исторического образования понятий, так как под понятием, расширяя общепринятое словоупотребление, мы подразумеваем всякое соединение (Zusammenfassung) существенных элементов какой-нибудь действительности. Подобное расширение правомерно, поскольку ясно, что понимание еще не равнозначно генерализированию. Итак, нам нужно теперь найти руководящий принцип таких понятий, содержание которых представляет собой нечто особенное и индивидуальное. От решения этой проблемы зависит не только логический характер исторической науки, но в сущности и оправдание деления на науки о природе и науки о культуре6. Это деление правильно, если, как я думаю, удастся показать, что то же самое понятие культуры, с помощью которого мы смогли отделить друг от друга обе группы научных объектов, сможет определить и принцип исторического, или индивидуализирующего, образования понятий. Таким образом, нам теперь, наконец, предстоит показать связь между формальным и материальным принципами деления и понять сущность исторических наук о культуре.
Эта связь по своей основе проста, и лучше всего мы уясним себе ее тогда, когда поставим вопрос, чтб представляют собой собственно те объекты, которые мы не только желаем объяснить естественно-научным образом, но и изучить и понять историческим, индивидуализирующим методом. Мы найдем, что те части действительности, которые индифферентны по отношению к ценностям и которые мы поэтому рассматриваем в указанном смысле
74 Культурфилософские рефлексии
только как природу, имеют для нас в большинстве случаев также только естественно-научный (в логическом смысле) интерес, что у них, следовательно, единичное явление имеет для нас значение не как индивидуальность, а только как экземпляр, более или менее общего понятия. Наоборот, в явлениях культуры и в тех процессах, которые мы ставим к ним в качестве предварительных ступеней в некоторое отношение, дело обстоит совершенно иначе, т.е. наш интерес здесь направлен также и на особенное и индивидуальное, на их единственное и неповторяющееся течение, т.е. мы хотим изучать их также историческим, индивидуализирующим методом.
Тем самым мы получаем самую общую связь между материальным и формальным принципами деления, и основание этой связи нам также легко понять. Культурное значение объекта, поскольку он принимается во внимание как целое, покоится не на том, что у него есть общего с другими действительностями, но именно на том, чем он отличается от них. И поэтому действительность, которую мы рассматриваем с точки зрения отношения ее к культурным ценностям, должна быть всегда рассмотрена также со стороны особенного и индивидуального. Можно даже сказать, что культурное значение какого-нибудь явления часто тем больше, чем исключительнее соответствующая культурная ценность связана с его индивидуальным обликом. Следовательно, поскольку речь идет о значении какого-нибудь культурного процесса для культурных ценностей, только индивидуализирующее историческое рассмотрение будет действительно соответствовать этому культурному явлению. Рассматриваемое как природа и подведенное под общие понятия, оно превратилось бы в один из безразличных родовых экземпляров, место которого с равным правом мог бы занять другой экземпляр того же рода; поэтому нас и не может удовлетворить его естественно-научное, или генерализирующее изучение. Правда, последнее также возможно, так как всякая действительность может рассматриваться генерализирующим образом, но результатом подобного рассмотрения было бы, выражаясь опять словами Гёте, то, «что оно разорвало бы и привело бы к мертвящей всеобщности то, что живет только особой жизнью».
Эта связь между культурой и историей дает нам вместе с тем возможность сделать еще один шаг дальше. Она не только показывает нам, почему для культурных явлений недостаточно естественно-научного, или генерализирующего, рассмотрения, но также и то, каким образом понятие культуры делает возможным историю как науку, т.е. каким образом благодаря ему возникает индивидуализирующее образование понятий, создающее из простой и не доступной изображению разнородности охватываемую
1’енрнх Риккерт. Науки о природе н науки о культуре _________75
понятиями индивидуальность. В сущности, значение культурного явления зависит исключительно от его индивидуальной особенности, и поэтому в исторических науках о культуре мы не можем стремиться к установлению его общей «природы», но, наоборот, должны пользоваться индивидуализирующим методом. Однако культурное значение объекта опять-таки отнюдь не покоится на индивидуальном многообразии, присущем всякой действительности и вследствие своей необозримости недоступном никакому познанию и изображению, с культурно-научной точки зрения всегда принимается во внимание только часть индивидуального явления, и только в этой части заключается то, благодаря чему оно делается для культуры «индивидуумом», в смысле единичного, своеобразного и незаменимого никакой другой действительностью явления. То, что у него есть общего с другими экземплярами его рода в естественно-научном смысле, например, если речь идет об исторической личности, с «homo sapiens», а также все необозримое количество его безразличных для культуры индивидуальных особенностей — все это не изображается историком.
Отсюда вытекает, что и для исторических наук о культуре действительность распадается на существенные и несущественные элементы, а именно — на исторически важные индивидуальности и просто разнородное бытие. Тем самым мы приобрели, по крайней мере в самой общей, хотя еще и неопределенной форме, искомый нами руководящий принцип исторического образования понятий, т.е. преобразования разнородной непрерывной действительности при сохранении ее индивидуальности и особенности. Мы можем теперь различать два рода индивидуального: простую разнородность (Andersartigkeit) и индивидуальность в узком смысле слова. Одна индивидуальность совпадает с самой действительностью и не входит ни в какую науку. Другая представляет собой определенное понимание действительности и потому может быть охвачена понятиями. Из необозримой массы индивидуальных, т.е. разнородных, объектов историк останавливает свое внимание сначала только на тех, которые в своем индивидуальном своеобразии или сами воплощают в себе культурные ценности, или стоят к ним в некотором отношении. При этом из необозримого и разнородного многообразия каждого отдельного объекта он опять-таки выбираеу только то, что имеет значение для культурного развития и в чем заключается историческая индивидуальность в отличие от простой разнородности. Итак, понятие культуры дает историческому образованию понятий такой же принцип выбора существенного, какой в естественных науках дается понятием природы как действительности, рассмотренной с точки зрения общего.
76
Ку.пьтурфилософские рефлексии
Лишь на основе обнаруживающихся в культуре ценностей становится возможным конституировать понятие доступной изображению исторической индивидуальности.
На этот способ образования понятий, так же как и на различие обоих видов индивидуального, логика до сих пор не обращала внимания, что объясняется тем, на мой взгляд, весьма существенным обстоятельством, что исторические понятия, содержащие в себе исторические индивидуальности и выявляющие их из разнородно-индивидуальной действительности, не выступают так отчетливо и ясно, как естественно-научные. Причину этого мы уже знаем. В противоположность общим понятиям, они редко выражаются в абстрактных формулах или определениях. Заключающееся в них содержание большей частью окутано в исторической науке наглядным материалом. Они дают нам его в наглядном образе, который часто почти что совершенно скрывает его и для которого они дают схему и контуры; мы же принимаем затем этот образ за главное и рассматриваем его как отображение индивидуальной действительности. Этим и объясняется непонимание того логического процесса, который лежит в основе исторических трудов, только отчасти носящих наглядный характер, и который решает, что существенно с исторической точки зрения; непонимание, часто даже переходящее в отрицание в истории какого бы то ни было принципа выбора. Поскольку в этом последнем случае вполне справедливо полагали, что простое «описание» единичного еще не представляет собой науки, то и возникла мысль поднять историю на ступень науки, а так как тогда был известен только один принцип образования понятий, то истории и был рекомендован генерализирующий метод естественных наук. Идя этим путем, нельзя было, конечно, понять сущность исторической науки. Этим игнорированием индивидуализирующего принципа выбора объясняется также то сочувствие, которое часто бессмысленные попытки превратить историю в естествознание встречали со стороны логики, оперировавшей одним лишь принципом генерализирующего выбора.
Вероятно, многие историки не согласятся с тем, что изложенный здесь логический принцип правильно передает сущность их деятельности, т.е. делает впервые только возможным отделение исторической индивидуальности от несущественной разнородности; они будут настаивать на том, что задача их сводится к простой передаче действительности. Ведь один из их величайших учителей поставил им цель описывать все так, «как оно было на самом деле».
Но это ничего не говорит против моих выводов. Конечно, по сравнению с трудами историков, произвольно искажавших фак
Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре 77
ты или прерывавших изложение субъективными выражениями похвалы и порицания, требование Ранке соблюдать «объективность» справедливо, и именно в противоположность таким произвольным историческим конструкциям следует подчеркивать необходимость считаться с фактами. Но отсюда, однако, не следует, даже если Ранке и был такого мнения, что историческая объективность заключается в простой передаче голых фактов без руководящего принципа выбора. В словах «как оно было на самом деле» (eigentlich) заключается, как и в «идиографическом» методе, проблема. Это напоминает нам одну известную формулировку сущности естественно-научного метода, вполне соответствующую формуле Ранке. Если, по Кирхгофу, цель механики состоит в «исчерпывающем» (vollstandig) и возможно простейшем описании происходящих в природе движений, то этим точно так же еще ничего не сказано, ибо весь вопрос в том и заключается, что именно делает «описание» «исчерпывающим» и в чем состоит его «возможная простота». Такие определения только затушевывают проблемы, а не разрешают их; и как ни должна ориентироваться логика на труды великих ученых, она все же не должна на этом основании рабски следовать им в их определениях сущности их собственной деятельности. Вполне правильно говорит Альфред Дове7, что Ранке избежал одностороннего искажения и оценки фактов не благодаря безразличию, но благодаря универсальности своего сочувствия (Mitgefiihl); так что даже сам великий мастер «объективной» истории, судя по этому замечанию лучшего его знатока, является в исторических трудах своих «сочувствующим» человеком, что принципиально отличает его от естествоиспытателя, в научной работе которого «сочувствие» не может играть никакой роли. Для историка, которому, как этого желал Ранке, удалось бы совершенно заглушить свое собственное Я, не существовало бы больше вообще истории, а только бессмысленная масса просто разнородных фактов, одинаково значительных или одинаково лишенных всякого значения и из которых ни один не представлял бы исторического интереса.
Свою «историю», т.е. свое единичное становление, если все существующее рассматривать независимо от его значения и вне какого бы то ни было отношения к ценностям, имеет всякая вещь в мире, совершенно так же, как каждая вещь имеет свою «природу», т.е. мржет быть подведена под общие понятия или законы. Поэтому один уже тот факт, что мы желаем и можем писать историю только о людях, показывает, что мы при этом руководствуемся ценностями, без которых не может быть вообще исторической науки. То, что ценности обыкновенно не замечаются, объясняется исключительно тем, что основывающееся на культурных ценно
78__________________________________Культурфилософские рефлексии
стях выделение существенного из несущественного большей частью совершается уже авторами, дающими историку его материал, или представляется историку-эмпирику настолько «само собой понятным», что он совсем не замечает того, что здесь на самом деле имеет место. Определенное понимание действительности он смешивает с самой действительностью. Логика должна ясно сознать сущность этого само собой разумеющегося понимания, ибо на этой самой понятной предпосылке основывается своеобразие индивидуализирующей науки о культуре в противоположность генерализирующему пониманию индифферентной по отношению к ценностям природы.
Мы видим теперь, почему нам раньше важно было подчеркнуть, что только благодаря принципу ценности становится возможным отличить культурные процессы от явлений природы с точки зрения их научного рассмотрения. Только благодаря ему, а не из особого вида действительности, становится понятным - отличающееся от содержания общих естественных понятий (Naturbegriff) -содержание индивидуальных, как мы теперь уже можем сказать, «культурных понятий» (Kulturbegriff); и для того чтобы еще яснее выявить все своеобразие этого различия, мы вполне определенно назовем теперь исторически-индивидуализирующий метод методом отнесения к ценности* в противоположность естествознанию, устанавливающему закономерные связи и игнорирующему культурные ценности и отнесение к ним своих объектов.
Смысл этого ясен. Скажите историку, что он не умеет отличать существенное от несущественного, он воспримет это как упрек своей научности. Он сразу согласится с тем, что должен изображать только то, что «важно», «значительно», «интересно», или еще что-нибудь в этом роде, и будет с пренебрежением смотреть на того, кто рад, когда червей находит дождевых. Все это, в такой форме, до того само собой понятно, что не требует даже особого акцентирования. И все же здесь кроется проблема, которая может быть разрешена только тем, что мы ясно сознаем отнесение исторических объектов к связанным с благами культуры ценностям. Там, где нет этого отнесения, там события неважны, незначительны, скучны и не входят в историческое изложение, тогда как естествознание не знает несущественного в этом смысле. Итак, благодаря принципу отнесения к ценности мы только явно формулируем то, что всякий имплицитно утверждает, говоря, что историк должен уметь отличать важное от незначительного.
Тем не менее понятие отнесения к ценности следовало бы прояснить еще и с другой стороны, в особенности же отграничить его от таких понятий, с которыми его легко можно смешать, для того,
Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре 79
чтобы не показалось, что истории ставятся здесь задачи, несовместимые с ее научным характером. Согласно широко распространенному предрассудку, в частных науках не должно быть места никаким точкам зрения ценности. Они должны ограничиваться тем, что действительно существует. Обладают ли вещи ценностью или нет — историку нет до этого дела. Что можно возразить на это?
В известном смысле это совершенно верно, и мы должны поэтому еше показать, что наше понятие истории при правильном его освещении ни в коем случае не противоречит данному положению. Для этой цели будет полезно, если мы вкратце напомним все сказанное нами относительно ценности и действительности и их взаимоотношения с точки зрения понятия культуры.
Ценности не представляют собой действительности, ни физической, ни психической. Сущность их состоит в их значимости, а не в их фактичности. Но ценности связаны с действительностью, и связь эта, как мы уже знаем, имеет два смысла. Ценность может, во-первых, таким образом присоединяться к объекту, что последний делается — тем самым — благом, и она может также быть связанной с актом субъекта таким образом, что акт этот становится тем самым оценкой. Блага же и оценки могут быть рассматриваемы с точки зрения значимости связанных с ними ценностей, т.е. когда стараются установить, заслуживает ли какое-нибудь благо действительно наименования блага и по праву ли совершается какая-нибудь оценка. Однако я упоминаю об этом только для того, чтобы сказать, что исторические науки о культуре при исследовании благ и людей - оценивающих субъектов - не могут дать на подобные вопросы никакого ответа. Это заставило бы их высказывать оценки, а оценивание (Werten) действительно не должно никогда входить в чисто историческое понимание действительности. Здесь кроется несомненно правомерный мотив стремления изгнать из эмпирических наук точку зрения ценности.
Следовательно, тот метод «отнесения к ценности», о котором мы говорим и который должен выражать собой сущность истории, следует самым резким образом отделять от метода оценки, т.е. значимость ценности никогда не является проблемой истории, но ценности играют в ней роль лишь постольку, поскольку они фактически оцениваются субъектами и поскольку поэтому некоторые объекты, рассматриваются фактически как блага. Если история, следовательно, и имеет дело с ценностями, то все же она не является оценивающей наукой. Наоборот, она устанавливает исключительно то, что есть. Риль9 неправ в своем возражении, утверждая, что отнесение к ценностям и оценкам представляет собой один и тот же неделимый духовный акт суждения. Напротив, перед нами
80 Кулыурфниософские рефлексии
два в логической своей сущности принципиально отличных друг от друга акта, до сих пор, к сожалению, недостаточно различавшихся между собой. Отнесение к ценностям остается в области установления фактов, оценка же выходит из нее. То, что культурные люди признают некоторые ценности за таковые и поэтому стремятся к созданию благ, с которыми эти ценности связываются, - это факт, не подлежащий никакому сомнению. Лишь с точки зрения этого факта, большей частью молчаливо предполагающегося историком, а отнюдь не с точки зрения значимости ценностей, до которой историку как представителю эмпирической науки нет решительно никакого дела, действительность распадается для истории на существенные и несущественные элементы. Если бы даже ни одна из оцениваемых культурными людьми ценностей не имела никакой значимости, то и тогда не подлежало бы сомнению, что для осуществления фактически оцениваемых ценностей или для возникновения благ, которым эти ценности присущи, могло бы иметь значение только определенное количество объектов и что у этих объектов принимается во внимание опять-таки только определенная часть их содержания. Следовательно, исторические индивидуальности возникают без оценки историка.
При этом, само собой разумеется, исторически важным и значительным считается не только то, что способствует, но даже и то, что мешает реализации культурных благ. Только то, что индифферентно по отношению к ценности, исключается как несущественное, и уже этого достаточно, чтобы показать, что назвать какой-нибудь объект важным для ценностей и для актуализации культурных благ еще не значит оценить его, ибо оценка должна быть всегда или положительной, или отрицательной. Можно спорить по поводу положительной или отрицательной ценности какой-нибудь действительности, хотя значительность последней и стояла бы вне всякого сомнения. Так, например, историк как таковой не может решить, принесла ли Французская революция пользу Франции или Европе или повредила им. Но ни один историк не будет сомневаться в том, что собранные под этим термином события были значительны и важны для культурного развития Франции и Европы и что они поэтому как существенные должны быть упомянуты в европейской истории. Короче говоря, оценивать - значит высказывать похвалу или порицание. Относить к ценностям — ни то, ни другое.
Итак, к этому только и сводится наше мнение. Если история высказывает похвалу или порицание, то она преступает свои границы как науки о бытии (Seinswissenschaft), ибо похвала или порицание могут быть обоснованы только с помощью имеющегося
Генрих Риккер г. Науки о природе и науки о кулыуре___________81
критерия ценностей, значимость которых уже доказана, а такое доказательство не может быть целью истории. Конечно, никто не может запрещать историку производить оценку исследуемых им явлений. Необходимо только иметь в виду, что оценивание не входит в понятие исторического образования понятий и что отнесение событий к руководящей культурной ценности выражает исключительно лишь историческую важность или значительность их, совершенно не совпадающую с их положительной или отрицательной ценностью. Поэтому Риль вполне прав, утверждая, что один и тот же исторический факт, в зависимости от различной связи, в которой его рассматривает историк, приобретает различный акцент, хотя объективная ценность его остается той же самой. Но это, однако, не противоречит высказанному здесь взгляду, а, наоборот, только подтверждает его. Объективная ценность совсем не интересует историка, поскольку он только историк, и именно поэтому вместе с различием связи, т.е. с различием основных ценностных ориентаций, со стороны которых историк рассматривает свой объект, может варьироваться также и «акцент», т.е. значение объекта для различных отдельных историй.
Точно так же и возражение Э.Мейера10 служит только к разъяснению и подтверждению моего взгляда на сущность исторического образования понятий. Для того чтобы показать, каким образом точка зрения ценности обусловливает выбор существенного, я указал на то, что отклонение германской императорской короны Фридрихом Вильгельмом IV исторически существенно, портной же, который шил ему костюм, для истории, напротив, безразличен”. Если Мейер находит, что упомянутый портной, конечно, всегда будет безразличен для политической истории, но можно очень легко представить себе, что он будет исторически важным в истории мод, портняжного ремесла или цен, а это, несомненно, правильно, и мне действительно следовало бы выбрать в качестве примера не портного, а какой-нибудь другой объект, который ни для одного исторического изложения не мог бы уже сделаться существенным, или явно подчеркнуть несущественность портного для политической истории. Но независимо от этого, именно утверждение Мейера и доказывает, что с переменой руководящей культурной ценности меняется содержание исторического изложения, следовательно, отнесение к культурной ценности опреде-ляет'историческое образование понятий. Вместе с тем оно показывает, что оценка объективной ценности есть нечто совсем иное, чем историческое отнесение к ценности, ибо в противном случае одни и те же объекты не могли бы быть для одного изложения важными, для другого нет.
82
Кулыурфилософские рефлексии
Для того, кто понял сущность отнесения к ценности и пожелал избегнуть Харибду пожирающего индивидуальность генерализирующего метода, не может уже существовать опасность попасть в Сциллу ненаучных оценок, что повлекло бы за собой гибель его как ученого. Эта боязнь больше всего способствовала тому, что историки противились признанию отнесения к ценности, как необходимого фактора их научной деятельности, и это же, с другой стороны, дало повод Лампрехту12 торжествующе указать на этот наш очерк. Лампрехт полагал, что после моего «честного» изложения исторического метода даже самый непосвященный не сможет не заметить яркого противоречия между этим методом и настоящим научным мышлением; он желал моему сочинению самого широкого распространения среди историков в надежде, очевидно, что они, увидев, что их приемы предполагают отнесение к ценности, обратятся к его «естественно-научному» и якобы отвлекающемуся от ценностей методу. Теперь ясно, почему боязнь точек зрения ценности в истории столь же неосновательна, как и торжествующий тон Лампрех-та. Индивидуализирующая история, как и естествознание, может и должна избегать оценок, нарушающих ее научный характер. Лишь теоретическое отнесение к ценности отличает ее от естествознания, но оно никоим образом не затрагивает ее научности.
Чтобы уяснить сущность и в особенности значение отнесения к ценности для исторической науки, я отмечу еще следующее. Прежде всего, одно терминологическое замечание. Поскольку всякое рассмотрение с точки зрения ценности привыкли называть «телеологическим», то в истории можно было бы говорить не о методе отнесения к ценности, а о телеологическом образовании понятий, что я сам раньше и делал. Но гораздо лучше совсем не употреблять этого многозначного и приводящего только к недоразумениям слова. Необходимо не только строго отделять теоретическое отнесение к ценности от оценки, но не нужно даже подавать повода думать, будто телеологическое образование понятий в истории в какой бы то ни было степени связано с объяснением исторических событий из сознательного целеполагания отдельных исторических деятелей. Вопрос, возможно ли такое объяснение, нас здесь не касается, так как он относится к содержанию истории. Наша задача сводится только к выяснению той методической точки зрения, с помощью которой история формирует разнородную непрерывность действительности, отграничивая отдельные индивидуальные образования. В чем состоит содержание этих образований, этого наукословие не в состоянии определить.
В особенности же под исторической телеологией не должно подразумевать ничего такого, что могло бы вступить в конфликт с причинным рассмотрением действительности. Поэтому подведение из
Генрих Риккерт. Науки о природе и пауки о культуре 83
ложенных здесь методологических вопросов под альтернативу — причинность или телеология — может только вызвать недоразумения13. И индивидуализирующая история, пользующаяся методом отнесения к ценности, также должна исследовать причинные связи, существующие между изучаемыми ею единичными и индивидуальными процессами и не совпадающие с общими естественными законами, хотя бы для изображения индивидуальных причинных отношений14 и необходимо было прибегнуть к общим понятиям, как к общим элементам исторических понятий. В данном случае важно лишь то, что методический принцип выбора существенного в истории также и в вопросе о причинных связях зависит исключительно от ценностей, поскольку в истории принимаются во внимание лишь индивидуальные причины, которые именно во всем своем своеобразии оказались значительными для реализации культурных благ, и эту «телеологию» ни в коем случае нельзя противополагать причинности.
Сущность относящегося к ценности образования понятий выступит еще более рельефно, если мы вспомним, что только с помощью этого метода можно представить исторические явления как стадии ряда развития. Многозначное понятие развития, принятое всюду за собственно историческую категорию, подчинено в истории тому же самому принципу, в котором мы вообще нашли руководящую точку зрения исторического образования понятий. Во-первых, под историческим развитием мы не можем подразумевать того, что повторяется любое число раз, вроде развития курицы в яйце, но всегда лишь единичный процесс развития в его особенности; во-вторых, этот процесс становления не есть для нас ряд индифферентных по отношению к ценности стадий изменения, но ряд ступеней, которые, с точки зрения какого-нибудь значительного события, становятся сами значительными, поскольку акцент, падающий через отнесение к ценности на это событие, переносится и на предшествующие ему условия. Следовательно, утверждая, что только благодаря индивидуализирующему и относящему к ценностям образованию понятий создается история развития культурных процессов, мы сужаем смысл этого выражения, обыкновенно включающего в себя и вечно текущее становление действительности. Подобно тому как культурная ценность выделяет из простой разнородности действительного объекта индивидуальность в более узком смысле, как совокупность всего в своем своеобразии значительного, точно так же объединяет она исторически существенные элементы протекающего во времени и причинно обусловленного процесса становления в исторически важное индивидуальное развитие.
Понятие исторического развития позволяет далее выяснить, насколько правильно утверждение, будто историк при выборе своего
84 Культурфилософские рефлексии
материала руководствуется степенью исторической действительности (Wirksamkeit). Само по себе утверждение это может заключать в себе долю истины, ибо историческое значение многих событий действительно покоится исключительно на действиях, оказываемых ими на культурные блага, и нередко нельзя представить себе, каким образом какое-нибудь событие может получить историческое значение, не будучи вставленным в исторически существенный ряд развития в качестве действенного члена. Но данное положение становится сразу же ложным, как только оно направляется против утверждения, что выбор исторического материала определяется точками зрения ценности. Историческая действенность не может совпадать с простой, индифферентной по отношению к ценностям действенностью вообще, т.е. действенность сама по себе не может дать критерия того, что исторически существенно. Всякое явление оказывает какое-либо действие. Ведь говорят: топну ногой, и задрожит Сириус, хотя это действие, каки множество других, исторически совсем несущественно. Исторически действенно, напротив, только то, что вызывает исторически значительные действия, а это опять-таки означает, что культурная ценность определяет выбор исторически существенного. Лишь по установлении через отнесение к ценности того, что вообще существенно для истории, становится возможным, смотря назад, спрашивать о причинах, или же, смотря вперед, о действиях, и затем изображать то, что, благодаря своей особности, вызвало появление исторически существенного события.
Итак, если вслед за Э.Мейером15 и Рилем,ь говорить, что выбор существенного происходит в истории не согласно точке зрения ценности, но сообразно степени исторической действенности, то это противоположение будет совершенно ложным, и его несостоятельность прикрывается исключительно двусмысленностью выражения «исторически действенное». Утверждение, что история должна изображать исторически действенное, если только оно правильно, является лишь иной формулировкой того, что история имеет дело с существенными по отношению к культурным ценностям действиями; а так как принцип простой, голой действенности никогда не сможет заменить принципа отнесения к ценности, то мы предпочитаем остаться при нашем термине, ибо только он в состоянии действительно однозначно выразить суть дела. Там, где отсутствует точка зрения ценности, определяющая, какие именно действия исторически существенны, понятие исторической действенности в качестве принципа выбора тоже не сможет ничего сделать.
Далее, понятие исторического развития, во избежание недоразумений, след усг резко отделять от понятия прогресса. Это дблжно сделать опять-таки при помощи отличия оценки от отнесения к цен-
Генрих Рикку pi. Науки о природе и науки о кулыуре 85 ности. Если простой ряд изменений содержит в себе слишком мало для того, чтобы его можно было отождествить с историческим развитием, то ряд прогресса содержит в себе для этого слишком много. Прогресс означает, если вообще придавать этому слову точный смысл, повышение в ценности (Wertsteigerung) культурных благ, и поэтому всякое утверждение относительно прогресса или регресса включает в себя положительную или отрицательную оценку. Если ряд изменений называют прогрессом, то этим уже говорят, что всякая следующая стадия в большей степени реализует ценность, чем предыдущая. При этом, производя подобную оценку, необходимо одновременно высказаться о значимости ценности, являющейся критерием прогресса. Поскольку история не должна заниматься исследованием вопроса о значимости ценностей, но имеет в виду лишь фактическое оценивание людьми некоторых ценностей, она никогда не сможет решать, является ли какой-нибудь ряд изменений прогрессом или регрессом. Понятие прогресса относится к области философии истории, истолковывающей «смысл» исторического быва-ния с точки зрения воплощенных в нем ценностей и произносящей над прошлым суд в смысле его положительной или отрицательной ценности. Эмпирическая историческая наука избегает всего этого. Подобное истолкование и суд над, прошлым были бы не историчны.
Чтобы закончить эти рассуждения о связи индивидуализирующего образования понятий с отнесением к ценности, нужно коснуться еще одного пункта. Если историк не задается вопросом о значимости ценностей, руководящих его изложением, то он и не относит свои объекты к любым произвольным ценностям, но предполагает, что те лица, к которым он обращается со своим историческим изложением, признают в общем за ценности (или, по крайней мере, воспринимают в смысле всеобщепризнанных ценностей) если и не те или иные вполне определенные блага, то во всяком случае ценности религии, государства, права, нравственности, искусства, науки, с точки зрения которых исторически изображенное представляется существенным. Поэтому при определении понятия культуры было необходимо не только выставить понятие ценности вообще как основное при отделении культурных явлений от природы, но и подчеркнуть, что культурные ценности или бывают всеобщими, т.е. признанными всеми, или предполагаются значащими у всех членов культурного общения.
'Благодаря этой всеобщности культурных ценностей и уничтожается произвол исторического образования понятий; на ней, следовательно, покоится его «объективность». Исторически существенное должно обладать значением не только для того или иного отдельного индивидуума, но и для всех. В этом понятии историче-
86 Культурфилософские рефлексии ской объективности с философской точки зрения кроется, конечно, еще проблема. Однако в данной связи мы можем отвлечься от нее. Мы имеем здесь дело только с эмпирической объективностью истории, т.е. с вопросом, остается ли историк в пределах констатируемых фактов, а в таком случае ясно, что эмпирическая объективность принципиально обеспечена, даже с точки зрения всеобщности культурных ценностей. Что определенные блага являются в культурном обществе общепризнанными или что относительно членов общества предполагается, что они связаны с теми сферами действительности, которым эти ценности присущи, т.е. способствуют прогрессу культуры, — это просто факт, могущий быть в принципе так же установленным, как и всякий другой, и историк вполне может удовольствоваться этим фактом.
Еще одно следует прибавить для определения индивидуализирующего метода, в частности понятия всеобщей культурной ценности. Если в указанном смысле объективное историческое изложение может руководствоваться только общепризнанными (allgemein gewertete) ценностями, то, казалось бы, правы те, кто говорит, что об особом и индивидуальном не может быть науки в собственном смысле слова; и это действительно верно постольку, поскольку особое, чтобы войти в науку, должно иметь общее значение и поскольку наука останавливается только на тех сторонах его, на которых именно и покоится его общее значение. На этом даже следует особенно настаивать, чтобы не создалось впечатление, будто история состоит из простого описания отдельных событий. И история, подобно естествознанию, подводит особое под «общее». Но тем не менее это, конечно, ничуть не затрагивает противоположности генерализирующего метода естествознания и индивидуализирующего метода истории. Не общий естественный закон или общее понятие, для которого все особое есть лишь один частный случай наряду с множеством других, а культурная ценность есть «общее» истории; культурная ценность необходимо связана с единичным и индивидуальным, в котором она постепенно развивается, т.е., иначе говоря, она сочетается с действительностью, превращая ее тем самым в культурное благо. Итак, относя индивидуальную действительность к всеобщей ценности, я тем самым отнюдь не превращаю ее в экземпляр родового общего понятия, но, наоборот, сохраняю ее во всей ее индивидуальности.
Резюмирую еще раз сказанное. Мы можем абстрактно (begrifflich) различать два вида эмпирической научной деятельности. На одной стороне стоят науки о природе, или естествознание. Слово «природа» характеризует эти науки как со стороны их предмета, так и со стороны их метода. Они видят в своих объектах бытие и бывайие,
1 енрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре 87
свободное от всякого отнесения к ценности, цель их — изучить общие абстрактные отношения, по возможности законы, значимость которых распространяется на это бытие и бывание. Особое для них только «экземпляр». Это одинаково касается как физики, так и психологии. Обе эти науки не проводят между разными телами и душами никаких различий с точки зрения ценностей и оценок, обе они отвлекаются от всего индивидуального, как несущественного, и обе они включают в свои понятия обыкновенно лишь то, что присуще известному множеству объектов. При этом нет объекта, который был бы принципиально изъят из-под власти естественно-научного метода. Природа есть совокупность всей действительности, понятой генерализирующим образом и без всякого отношения к ценностям.
На другой стороне стоят исторические науки о культуре. У нас нет единого термина, аналогичного термину «природа», который мог бы охарактеризовать эти науки как со стороны их предмета, так и со стороны их метода. Мы должны поэтому остановиться на двух выражениях, соответствующих обоим значениям слова «природа». Как науки о культуре названные науки изучают объекты, отнесенные ко всеобщим культурным ценностям; как исторические науки они изображают их единичное развитие в его особности и индивидуальности; при этом то обстоятельство, что объекты их суть процессы культуры, дает их историческому методу в то же время и принцип образования понятий, ибо существенно для них только то, что в своей индивидуальной особности имеет значение для доминирующей культурной ценности. Поэтому, индивидуализируя, они выбирают из действительности в качестве «культуры» нечто совсем другое, чем естественные науки, рассматривающие генерализирующим образом ту же действительность как «природу». Ибо значение культурных процессов покоится в большинстве случаев именно на их своеобразии и особности, отличающих их от других процессов, тогда как, наоборот, то, что у них есть общего с другими процессами, т.е. то, что составляет их естественно-научную сущность, несущественно для исторических наук о культуре.
Что же касается, наконец, противоположности материи и духа, то, если духовное означает то же, что и психическое, науки о культуре действительно имеют дело обыкновенно с духовными явлениями; но все же понятие «науки о духе» не отграничивает ни объектов, ни методов этих наук от объектов и методов естествознания. Поэтому самое лучшее отказаться от этого термина. Если духовное равно психическому, то термин этот не может уже иметь никакого значения для деления наук на две главные группы. Можно даже сказать, что принципиальное деление на тело и душу имеет значение только внутри естественных наук. Физика исследует
88__________________________________ Культурфилософские рефлексии
только физическое, психология только психическое бытие. Исторические же науки о культуре, наоборот, не имеют никакого основания придавать этому принципиальному делению какое-либо значение. Они вводят в свои понятия одинаково и психическое, и физическое бытие, не считаясь с их противоположностью. Поэтому выражение «науки о духе» является даже сбивчивым.
Только в том случае, если со словом «дух» связывать значение, которое принципиально отличалось бы от термина «психическое», обозначение неестественно-научных дисциплин через выражение науки о духе получает настоящий смысл, и слово это раньше действительно имело такое значение. Но тогда под духом понимали нечто неотделимое от понятия ценности, а именно «высшую» душевную жизнь, такую, которая, протекая в общепризнанных формах и отличаясь ценными особенностями, может возникнуть только в культуре. Человек считался духовным, в отличие от просто психического, постольку, поскольку он высоко ставил и работал над благами религии, нравст ценности, права, науки и т.д., короче, поскольку он являлся не просто естественным существом, но и культурным человеком. Следовательно, это значение выражения «науки о духе» сводится в конце концов к тому, что мы понимаем под наукой о культуре, и только потому, что старое значение «духа» и поныне не совсем забыто, терглин «науки о духе» пользуется еще кредитом в кругах представителей частных наук, чего не могло бы быть, если бы под ним подразумевались науки о психическом. Несоответствие этого термина стало бы тогда сразу ясным. Таким образом, употребление в настоящее время выражения «науки о духе» объясняется исключительно лишь его многозначностью и его принципиальной неясностью.
Необходимо еще помнить следующее. Не науки о психическом были тем новым моментом, который придал XIX веку значение чего-то нового и великого, принципиально отличного от предшествующего естествен но-научного столетия, и не они наложили свой отпечаток на его научную жизнь. Душевная жизнь была уже раньше исследована, и современная психология, как ни значительны ее нынешние успехи, примыкает все же в общем к психологии естественно-научного периода. Не случайно, что психофизика создана была человеком, в философском отношении защищавшим весьма близкий к спинозизму панпсихизм и разделявшим мировоззрение, во всех отношениях чуждое истории. Принципиально новыми в XIX в. являются прежде всего труды великих историков, исследовавших культурную жизнь. Могучий толчок получили они к этому со стороны философии немецкого идеализма, заимствовавшей свои проблемы, главным образом, у исторической культурной жизни и сообразно этому определявшей также
I енрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре________89
понятие духа. Поскольку словоупотребление это устарело, то, что раньше называлось духом, теперь называется исторической культурой, и, следовательно, термин «исторические науки о культуре», обоснованный нами систематически, приобретает историческое право, соответствующее современному положению дела.
В конечном счете все эти соображения приводят к отодвинутому нами раньше на задний план вопросу о том, какой вид душевной жизни не может быть исчерпывающим образом рассмотрен с помощью естественно-научного метода и какую относительную правоту содержит в себе утверждение, что культура, в силу своего духовного характера, не может быть подчинена исключительному господству естественных наук. В том единстве, которое отличает психическую жизнь, поскольку это только психическая жизнь, мы не смогли найти основания для этого. Обратившись же к психической жизни исторически значимых культурных личностей и обозначив ее словом «духовная», мы, действительно, найдем в ней «духовное» единство совершенно своеобразного порядка, не поддающееся никакому подчинению под образованные генерализирующим методом понятия. Здесь кроется правомерный мотив того взгляда, будто имеется какой-то особый духовно-научный метод или будто нужно создать психологию, принципиально отличающуюся от объясняющей психологии естественно-научного типа. Но, поняв сущность этого «духовного» единства, нетрудно уже теперь увидеть ошибочность этого взгляда.
Если нужно изобразить душевную жизнь Гёте или Наполеона, то, конечно, понятия генерализирующей психологии вряд ли тут помогут. Здесь пред нами действительно жизненное единство, которое нельзя «объяснить» психологическим образом. Но это единство вытекает не из «сознания» как логического единства субъекта, и не из «органического» единства души, делающего из каждого Я целостную и замкнутую связь; оно основывается исключительно на том, что определенные с точки зрения культурных ценностей психические связи становятся индивидуальными единствами, которые бы сразу исчезли, если их подвести под общие психологические понятия. Итак, негенерализируемое «духовное» единство жизни есть единство культурной личности, которая с точки зрения ее культурного значения замыкается в неделимое индивидуальное целое. С господствующим ныне противоположением природы и духа это жизненной единство культурных личностей не имеет ничего общего, и потому следовало бы окончательно отказаться от взгляда, будто для исследования этого единства нам нужен какой-то духовно-научный метод или новая психология. Исторические единства изъяты не только из современной естественно-научной психологии, но и из
90 Культурфилософские рефлексии
всякой общей теории духовной жизни. Пока мы не отказываемся от этого основывающегося на ее культурном значении единства индивидуальности, сущность ее может быть понята нами только при помощи индивидуализирующего исторического метода.
Объективность культурной истории
Таким образом, из возражений остается еще только одно. Оно касается понятия объективного изображения культуры историей и приводит нас в конце концов к умышленно отодвигавшемуся мною до сих пор вопросу, которого теперь необходимо коснуться, ибо от ответа на него, пожалуй, больше, чем от чего-либо другого, зависит для многих решение проблемы об отношении естествознания к наукам о культуре. Разъяснение его также очень желательно в целях дальнейшего оправдания термина «науки о культуре».
Если ценности руководят всем историческим образованием понятий, то можно и должно спросить, мыслимо ли когда-либо исключить произвол в исторических науках? Конечно, объективность специальных исследований, поскольку последние могут сослаться на фактически всеобщее признание своих руководящих ценностей и строгое соблюдение теоретического отнесения к ценности, не будет этим затронута. Но мы здесь действительно встречаемся с объективностью совершенно особого рода, которая, по-видимому, не сумеет выдержать сравнения с объективностью генерализирующего естествознания. Относящееся к ценности описание имеет значение всегда только для определенного круга людей, которые если и не оценивают непосредственно руководящие ценности, то все же понимают их как таковые и признают при этом, что дело здесь идет более чем о чисто индивидуальных оценках. Можно было бы достигнуть соглашения в этом пункте среди сравнительно большого круга людей. В Европе, где вообще читают историко-научные сочинения, такое понимание, конечно, возможно относительно названных раньше культурных ценностей, связанных с религией, церковью, правом, государством, наукой, языком, литературой, искусством, экономическими организациями и т.д. Поэтому в Европе не увидят произвола и в том, что ценности эти являются руководящими при выборе существенного. Но если объективность относящего к ценности описания существует только для более или менее большого круга культурных людей, то, следовательно, — это исторически ограниченная объективность, и как ни неважно было бы это со специально-научной точки зрения, под общефилософским и естественно-научным углом зрения в этом можно увидеть серьез
Генрих Риккерт. Науки о природе и палки о культуре 91
ный научный недостаток. Если принципиально ограничиваться фактически всеобщим признанием культурных ценностей, не спрашивая об их значении, то нужно считать возможным, а для истории даже вероятным, что возникший однажды фундамент исторической науки однажды и разрушится; поэтому историческому изложению, отличающему существенное от несущественного, присущ характер, заставляющий сомневаться в том, следует ли к нему вообще применять предикат истинности. Научная истина (даже если в этом не отдают себе отчета) должна находиться к тому, что обладает теоретической значимостью, в определенном отношении, т.е. стоять к нему более или менее близко. Без этой предпосылки нет никакого смысла говорить об истине. Если принципиально отвлечься от значимости культурных ценностей, руководящих историческим изложением, то истинным в истории останется только чистый факт. Все исторические понятия, напротив, будут в таком случае обладать значимостью лишь для определенного времени, т.е., иначе говоря, они вообще не будут иметь значения истин, ибо у них не будет никакого определенного отношения к тому, что обладает абсолютной значимостью.
Правда, понятия генерализирующего естествознания, созданные одним поколением ученых, тоже видоизменяются или даже совсем разрушаются следующим поколением, и это новое поколение в свою очередь должно мириться с тем, что его понятия заменятся другими. Поэтому то обстоятельство, что история каждый раз должна писаться заново, не колеблет еще научного характера истории, ибо эту участь она делит вместе со всеми науками. Но мы все-таки предполагаем, что естественные законы обладают безусловной значимостью, даже если ни один из них нам не известен; поэтому мы вправе также предположить, что различные понятия генерализирующих наук более или менее близко стоят к абсолютно значимой истине, тогда как исторические понятия не находятся ни в каком отношении к абсолютной истине, а руководящие принципы их образования являются исключительно фактическими оценками, сменяющими друг друга, как волны в море. Оставляя в стороне простые факты, мы получим тогда столько же различных исторических фактов, сколько существует различных культурных кругов, и все эти истины в равной мере будут обладать значимостью. Так уничтожаются возможность прогресса исторической науки и возможность самого понятия исторической истины, поскольку оно относится не к чисто фактическому материалу. Не должны ли мы, следовательно, предположить значимость ценностей, к которым фактически признанные культурные ценности стоят, по крайней мере, в более или менее близком отношении? Не станет ли только тогда объективность истории равной по достоинству объективности естествознания?
92
Кулыурфилософские рефлексии
Лежащая здесь в основе проблема прояснится, если мы попытаемся собрать в одно целое данные отдельных исторических исследований и создать таким образом всеобщую историю в строгом смысле этого слова, которая изображала бы развитие всего человечества. История человечества, ограничивающаяся чисто фактическим признанием ценностей, может излагаться всегда лишь с точки зрения определенного культурного круга и поэтому никогда не будет иметь значения, или даже лишь постигаться, относительно всех людей и для всех людей в смысле признания всеми ими руководящих ценностей как ценностей. Нет, следовательно, «всемирной истории», которая обладала бы эмпирической объективностью, ибо она должна была бы не только рассказывать о всем человечестве, поскольку оно известно, но и вобрать в себя все существенное для всех людей, последнее же невозможно. Став на всемирно-историческую точку зрения, историк уже более не располагает эмпирически всеобщими и повсюду признанными культурными ценностями. Таким образом, всеобщую историю можно писать лишь на основе руководящих ценностей, относительно которых утверждается значимость, принципиально выходящая за пределы чисто фактического признания. Это не значит, что историк сам должен обосновать значимость принимаемой им системы ценностей, но он должен, во всяком случае, предположить, что какие-нибудь ценности обладают абсолютной значимостью и что ценности, положенные им в основу его индивидуализирующего изложения, находятся в каком-нибудь отношении к абсолютно значимым ценностям. Ибо только тогда можно будет предположить, что все то, что он в качестве существенного вводит в свое изложение, и другие люди признают значительным по отношению к абсолютной ценности.
Наконец, со значимостью культурных ценностей связан еще один пункт. Я указал уже на отсутствие единства и систематической расчлененности наук о культуре в противоположность естественным наукам, среди которых в особенности физические науки обладают прочной опорой в механике. Точно также мы видели уже, что психология не может служить основой наук о культуре. Значит ли это, что никакая другая наука не может занять ее места? В известном смысле мы должны ответить отрицательно на этот вопрос, ибо об основных дисциплинах, аналогичных механике, можно говорить только в генерализирующих или естественных науках, область которых охвачена системой координированных понятий. Самая общая наука в таком случае постольку является «основной», поскольку она, наподобие механики в физических науках, определяет образование понятий в различных областях также и со стороны содержания. Но историческая жизнь не поддается системе, и поэтому у наук о культуре,
Генрих Риккерп Пауки о природе и науки о культуре 93 пользующихся историческим методом, не может быть основной науки, аналогичной механике. Но, несмотря на это, у них, мне кажется, тоже есть возможность сомкнуться в одно единое целое; именно понятие культуры, определяющее их объекты и являющееся для них руководящим принципом при образовании ими исторических понятий, может, наконец, также сообщить им единство общей связи. Но это, конечно, предполагает, что мы уже обладаем понятием культуры, и притом не только в формальном смысле, как совокупностью фактически общепризнанных ценностей, но и в смысле содержания и систематической связи этих ценностей. И в данном случае опять-таки не может быть, конечно, речи об эмпирически-всеобщем признании такой системы культурных ценностей, а это снова приводит нас к вопросу о значимости культурных ценностей, присущей им независимо от их фактической оценки.
Итак, проблема объективности истории, понятие всеобщей истории и понятие системы эмпирических наук о культуре выводят нас за пределы эмпирически данного, и мы в самом деле должны допустить если не существование окончательно уже достигнутого знания о том, что именно является ценностью, то все же значимость объективных ценностей и возможность, по крайней мере, постепенного приближения к их познанию. Принципиальный прогресс в науках о культуре со стороны их объективности, их универсальности и их систематической связи, действительно, зависит от прогресса в выработке объективного и систематически расчлененного понятия культуры, т.е. от приближения к системе значимых ценностей. Итак, единство и объективность наук о культуре обусловлены единством и объективностью нашего понятия культуры, а последняя в свою очередь - единством и объективностью ценностей, оцениваемых нами.
Я вполне сознаю, что, делая эти выводы, я отнюдь не могу рассчитывать на общее согласие; многим даже покажется, что именно эти выводы лучше всего вскрывают проблематичный характер систематического завершения культурно-научной работы. Ибо все почти согласны в том, что суждения о значимости ценностей не совместимы с научностью, так как не поддаются объективному обоснованию. Поэтому я еще раз категорически подчеркиваю: понятие культурной ценности, как руководящей точки зрения при рыборе существенного, отнюдь не угрожает объективности исторического специального исследования, ибо историк может сослаться на фактическое всеобщее признание ценности, чем он достигает высшей ступени эмпирической объективности, какая только вообще доступна эмпирической науке. Но стоит нам выйти за пределы специального исследования; как мы, действительно,
94 Кулыурфилософские рефлексии
наталкиваемся на большие трудности, и тогда встает вопрос: если совокупность наук о культуре в расчленении своем и связи зависит от системы культурных ценностей, то не предполагает ли это обоснование ее на комплексе индивидуальных желаний и мнений?
Я не смею думать, что мне в немногих словах удастся здесь дать удовлетворительный ответ на все эти вопросы17, но я все-таки хотел бы показать, в чем заключается необходимая предпосылка «объективности» наук о культуре, если приписывать им эту объективность в высшем, а не только чисто эмпирическом смысле. Ибо, безусловно, общему естественному закону генерализирующих наук должна соответствовать безусловно общезначимая ценность, в большей или меньшей степени реализируемая нашими культурными благами. Таким образом станет ясной, по крайней мере, альтернатива, перед которой мы поставлены. Тот, кто, желая изучать науки о культуре в высшем смысле этого слова, задастся целью оправдания выбора существенного, как обладающего безусловной значимостью, тот придет к необходимости осознания и обоснования руководящих им культурных ценностей. Работа с помощью необоснованных ценностей, действительно, противоречила бы науке. Таким образом, в конце концов, т.е. с всеобщеисторической точки зрения, объединяющей все частичные исторические исследования в единое целое всеобщей истории всего культурного развития, не бывает исторической науки без философии истории. Если, напротив, мы захотим в науке отвлечься от всяких ценностей и откажем вообще культурному миру в особом, по сравнению с другими любыми процессами, значении, то немногие известные нам тысячелетия человеческого развития, являющегося лишь относительно небольшим оттенком неизменной в общем человеческой природы, покажутся нам как с философской, так и с естествен но-научной точек зрения столь же незначительными, как различие камней на дороге или колосьев в поле. Наш иной взгляд на мир основывался бы лишь на том, что мы опутаны эфемерными оценками ограниченного культурного круга; исторической же науки, которая выходила бы за пределы специальных исследований определенных культурных кругов, тогда вообще не существовало бы. Этой альтернативы не следовало бы забывать.
Но мне хотелось бы сделать еще один шаг дальше. Если я говорю здесь об альтернативе, то это не значит, что человеку науки предоставляется возможность выбрать вторую, свободную от ценности точку зрения, как чисто естественно-научную, а затем расширить ее до пределов естественно-научного «миросозерцания», выгодно отличающегося от культурно-научной точки зрения меньшим числом предпосылок благодаря отсутствию предполагаемого значимым критерия ценности. Натурализм считает это возможным, но на самом деле это
Генрих Еиккерт. Науки о природе и науки о культуре 95
не что иное, как самообман. Конечно, с естественно-научной точки зрения можно рассматривать всю действительность, а следовательно, и всю культуру как природу, и изгнание из такого рассмотрения всех решительно точек зрения ценности не только возможно, но и необходимо. Но можно ли считать эту точку зрения единственно правомерной, отрицая тем самым всякое историческое образование понятий как произвольное, или не должно ли игнорирование ценности в естествознании принципиально ограничиваться сферой естественно-научного специального исследования?
Мне кажется, что существует часть истории, для которой и естествознание принуждено будет признать научный характер развитых нами логических принципов обработки и согласиться с тем, что история есть нечто большее, нежели произвольное сопоставление произвольно выхваченных фактов, имеющее значение лишь для того, кто опутан оценками определенного исторического культурного круга. Эта часть истории есть не что иное, как история самого естествознания. Ведь и естествознание представляет собой исторический продукт культуры. Оно в качестве специальной науки может игнорировать это. Но если оно направит свой взгляд на себя, а не только на объекты природы, то сможет ли оно тогда отрицать, что ему предшествовало историческое развитие, которое, в своем единичном и индивидуальном течении, необходимо рассматривать с точки зрения объективно значимой ценности, а именно с точки зрения теоретической ценности научной истины, к которой мы должны относить события, чтобы отделить в них существенное для истории естествознания от несущественного? Но если оно признает историческую истину в этом смысле для этой части культурного развития, то по какому праву будет оно отрицать научное значение за историей других частей культуры? Разве только в естественно-научной области человечество создало культурные блага, с которыми связываются значимые ценности? У естествознания нет общезначимой точки зрения для решения этого вопроса, и поэтому в борьбе за историческое понимание вещей и за право истории на существование мы не должны бояться естествознания. Естественно-научная точка зрения скорее подчинена исторической и культурно-науч ной, так как последняя значительно шире первой. Не только естествознание - продукт культурного человечества, но также и сама «природа» в логическом смысле есть не что иное, как теоретическое культурное благо, т.е. значимое, объективное ценное понимание действительности человеческим интеллектом, причем естествознание должно даже всегда предполагать абсолютную значимость связанной с ним ценности.
96 Культурфилософские рефлексии
Конечно, существует еще одна «точка зрения», которую можно, пожалуй, назвать философской и про которую можно думать, что она ничего не предпосылает. Ницше выдумал небольшую басню, которая должна иллюстрировать, «какжалко, призрачной мимолетно, как бесцельно и произвольно положение человеческого интел-лекга в природе». Но вот эта басня: «В одном из отдаленных уголков мерцающей бесконечными солнечными системами Вселенной была однажды звезда, на которой умные животные изобрели познание. Это была самая высокомерная и лживая минута “всемирной истории’, но все-таки только минута. После нескольких дуновений природы звезда охладела, и умные животные должны были умереть». Таким образом, можно думать, что мы удачно избегаем признания каких бы то ни было ценностей, как это и подобает человеку науки.
Эта точка зрения, если угодно, в самом деле отличается последовательностью, но в своей последовательности она в равной мере уничтожает как объективность наук о культуре, так и объективность естествознания. Подобная точка зрения могла быть достигнута только после долгого естественно- и культурно-научного ряда развития, и, следовательно, она есть часть «самой лживой минуты» всемирной истории, а ее последовательность есть вместе с тем величайшая непоследовательность или бессмысленная попытка человека науки перескочить через свою собственную тень. Именно человек науки должен предполагать абсолютную значимость теоретических ценностей, если он не хочет перестать быть человеком науки.
Отрицание за историей научного характера на том основании, что она нуждается для отделения существенного от несущественного в отнесении к культурным ценностям, представляется мне поэтому пустым и отрицательным догматизмом. Всякий человек, занимающийся любой наукой, имплицитно предполагает более чем индивидуальное значение культурной жизни, из которой он сам вышел. Выделение же из целостного культурного развития одного отдельного ряда, как, например, той части интеллектуального развития, которую мы называем естествознанием, совершенно произвольно, так же, как и приписывание ему одному объективного значения. Вряд ли можно поэтому называть бессмысленной задачей стремление вскрыть всеобъемлющую систему объективных культурных ценностей. Конечно, никакая философия не в состоянии конструировать подобную систему из голых понятий. Напротив, она нуждается для определения своего содержания в теснейшем соприкосновении с историческими науками о культуре. Притом только в историческом может она надеяться приблизиться к сверхисторическому. I оворя иначе, претендующая на значимость система культурных ценностей может быть найдена только в исторической
Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре 97
жизни, и только из нее может она быть постепенно выработана; а для этого нужно поставить вопрос, какие общие и формальные ценности лежат в основе материального и беспрерывно меняющегося многообразия исторической культурной жизни и каковы, следовательно, вообще предпосылки культуры, над сохранением и развитием которой мы все работаем. Мы не можем здесь вникать детальнее в сущность этой проблемы, выпадающей на долю философии18. Это вывело бы нас далеко за пределы этого очерка, цель которого - попытка классификации эмпирических наук. С точки зрения объективности наук о культуре достаточно напомнить следующее: в сущности, мы все верим в объективные ценности, значимость которых является предпосылкой как философии, так и наук о культуре, верим даже тогда, когда под влиянием научной моды воображаем, будто не делаем этого. Ибо «без идеала над собой человек, в духовном смысле этого слова, не может правильно жить». Ценности же, составляющие этот идеал, «открываются в истории, и с прогрессом культуры они, подобно звездам на небе, одна за другой вступают в мир человека. Это не старые ценности, не новые ценности, это просто ценности». Я привожу эти прекрасные слова Рил я19 тем охотнее, что никто не заподозрит в фантазерстве автора «Философского критицизма». Должны ли мы, занимаясь наукой, забыть то, что необходимо нам вообще для «правильной жизни»? Я думаю, что этого не потребует от нас ни один разумный человек.
Примечания
1 Этот путь был избран мною в книге: Die Grenzcn der nalurwissen-schaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wis-senschaften. 1896 1902. [Русский перевод: 1 ран и цы естественно-научного образования понятий. Логическое введение в исторические науки. 1905]. См. также статью: Geschichtsphilosophie // Die Philisophie im Beginn des Jahrhunderts. Festschrift fur Kuno Fischer. 1905; 2. Aufl. 1907. [Русский перевод: Философия истории. Пер. С.Гессена. 1907]. Мне хотелось бы подчеркнуть, что и эти сочинения не преследуют цели развернуть полную систему наук и что поэтому все нападки на то, что та или иная дисциплина будто бы не нашла места в моей системе, не имеют основания.
2 Einleitung in die Philosophic. 1901.
3 Prinzipien der Sprachgeschichte.
4 Schafer D. Das eigentliche Arbeitsfeld der Geschichte. 1888; Geschichte und Kultipgeschichte. 1891.
s Gothein. Die Aulgaben der Kulturgeschichtc. 1889.
6 Согласно Риккерту, материал непосредственного переживания приобретает определенную форму лишь за счет априорных процедур «образования понятий», которое может быть двояким: 1) при «генерализирующем образовании понятий» из многообразия данности выбираются лишь
98 Ку.пыурфилософские рефлексии
повторяющиеся моменты, подпадающие под категорию всеобщего; 2) при «индивидуализирующем образовании понятий» отбираются моменты, составляющие индивидуальность рассматриваемого явления, а само понятие представляет собой «асимптотическое приближение к определению индивидуума». Первый способ соответствует естественным, второй - историческим наукам. В качестве предмета последних Риккерт выделяет культуру как особую северу опыта, где единичные явления соотнесены с ценностями. - Прим, перев.
7 Ranke und Sybel in ihrem Verhaltnis zu Konig Max. 1895. Ausgewahlte Schriftchen vomehmlich historischen Inhalts. 1892. S. 191.
8 В центре риккертовской теории истории стоит принцип отнесения к ценности, на основании которого впервые только создается историческая индивидуальность, одинаково отличная от индифферентной по отношению к ценности единичной действительности естествознания и от этической индивидуальности как свободной, самоопределяющейся и целеполагающей личности. 11онятие отнесения к ценности выдвинуто во втором издании этой книги «Науки о природе и науки о культуре» на первый план, понятие индивидуализации резче и определеннее связывается с понятием культуры как отнесенной к ценностям действительности. История в узком смысле, таким образом, одинаково отлична как от индивидуализирующих наук о природе, оперирующих индифферентной по отношению к ценностям индивидуальностью, так и от генерализирующих наук о культуре, сочетающих отнесение к ценности с установлением общих законов. - Прим, перев.
9 Riehl. Logik und Erkenntnistheorie. Die Kultur der Gegenwart. I, 6. 1907. S. 101.
10 Zur Theorie und Methodik der Geschichte. 1902.
11 Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. S. 325.
12 Literarisches Zentralblatt. 1899. № 2.
13 Cp.: Adler M. Kausalitat und Teleologie im Streite um die Wissenschaft
1904. Эта книга, впрочем, во многом лучше, чем ее заглавие.
14 Ср.: Hessen S. Individuelle Kausalitat. Studien zum Transzendentalen Empirismus. 1909.
15 Zur Theorie und Methodik der Geschichte. 1902.
16 Logik und Erkenntnistheorie. S. 101.
17 Сочинение «Der Gegenstand der Erkenntnis» (1892; 2. Aufl. 1904) содержит попытку гносеологического обоснования высказанных далее взглядов. «Я думаю, - пишет Риккерт, - что мне удалось показать там неизбежность принятия, по чисто логическим соображениям, объективных или “трансцендентных” ценностей». См. также статью: Zwei Wege der Erkenntnistheorie // Kantstudien. 1909. Bd. 14. - Прим, перев.
18 Подробности в статье: Риккерт Г. О понятии философии // Логос: Международный ежегодник по философии культуры. 1910. Кн. I. С. 19. -Прим, перев.
19 Friedrich Nietzsche // Frommanns Klassiker der Philosophic. Bd. 6. 1897; 3. Aufl. 1901. S. 170.
Печатается по изданию: Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911. (фрагменты).
Эрнст1 Кассирер
Философия символических форм: Введение и постановка проблемы
I
Философское умозрение начинается с понятия бытия. Когда оно конституируется как таковое, когда вопреки многообразию и разнообразию существующего пробуждается осознание единства сущего, впервые возникает специфически философская направленность миросозерцания. Однако еще долго оно остается в кругу сущего, стремясь покинуть и преодолеть его. Провозглашаются начало и источник, последняя «основа» бытия, но как бы ясно ни ставился этот вопрос, ответ на него остается конкретно определенным, а потому недостаточным для понимания высшей и всеобщей проблемы. То, что объявляется сущностью, субстанцией мира, принципиально от него не отличается, а есть лишь его часть. Из отдельного, особенного, ограниченного сущего генетически выводится и «объясняется» все остальное. Вот почему такое объяснение, какие бы изменения оно ни претерпевало с содержательной точки зрения, по своей общей форме остается замкнутым внутри одних и тех же методологических границ. Сначала последней основой всей совокупности явлений провозглашается отдельное чувственно-воспринимаемое бытие, конкретное «правещество»; затем объяснение выходит в сферу идеального и место правещества занимает чисто мыслительный «принцип» выведения и обоснования. Но вскоре выясняется, что и он зависает где-то в середине между «физическим» и «духовным». Как бы ярко ни проявлялось в нем идеальное, он все же слишком тесно»связан с противоположной стороной существующего. В этом смысле и атом Демокрита, и число пифагорейцев - несмотря на дистанцию, отделяющую их от правещества ионийцев, — остаются методологическим двуединством, еще не обретшим собственную природу, свою истинную духовную родину. Эта внутренняя неопределенность была окончательно преодолена в учении Платона
100_________________________________Культу рфилософские рефлексии
об идеях. Великий систематизирующий и исторический вклад этого учения состоит в том, что в нем основная сущностная, духовная предпосылка всякого философского понимания и мирообъяснения впервые выдвигается в открытой форме. То, что Платон подразумевает под «идеей», проявляется как имманентный принцип уже в самых ранних опытах мирообъяснения - у элеатов, пифагорейцев, Демокрита; но только у него этот принцип осознается в качестве того, чтб он есть и означает. Так понимал свой философский вклад и сам Платон. Именно это он выдвигает в качестве основного момента, отличающего его умозрения от умозрений досократиков в поздних произведениях, где поднимается до наивысшей ясности в изложении логических предпосылок своего учения: бытие, которое в форме отдельного сущего принималось за твердый исходный пункт, впервые осознается им как проблема. Платон уже не задается вопросом о делении, образовании и структуре бытия, а спрашивает о его понятии и смысле. По сравнению с этим острым вопросом и строгим требованием ранние попытки мирообъяснения выглядят просто как повествования, мифы о бытии1. Отныне над этими мифологически-космологическими объяснениями возвышается истинное, диалектическое объяснение: оно уже не ограничивается одним содержанием, а делает зримым подразумеваемый смысл, систематически-телеологическую взаимосвязь. Тем самым и мышление, которое в греческой философии со времен Парменида являлось понятием, тождественным бытию, впервые получает новое, более глубокое истолкование. Лишь там, где бытие оказывается в строго определенном смысле проблемой, мышление обретает строго । определенную значимость и ценность принципа. Оно уже не ставит -j ся в один ряд с бытием и не является простым размышлением «над» | ним - его собственная внутренняя форма определяет внутреннюю форму бытия.
Эта типичная ситуация повторяется потом на разных этапах истории идеализма. Стоит лишь реалистическому мировоззрению успокоиться, найдя в каком-нибудь свойстве вещей, предельно доступном опыту, краеугольный принцип познания, как тотчас идеализм превращает это свойство в вопрос мышления. Аналогичный процесс происходит и в истории частных наук. Их путь, казалось бы, прост — через «факты» к «законам», а от них снова к «аксиомам» и «принципам»; но те самые аксиомы и принципы, которые на определенной ступени познания выглядят окончательным и совершенным решением проблемы, на более поздней ступени вновь становятся проблемой. Соответственно то, что наука объявляет «бытием» и «предметом», не есть фактическое и далее неделимое положение вещей — каждый новый способ и направленность его
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 101
рассмотрения открывает в нем момент новизны. Тем самым неподвижное понятие бытия словно бы становится текучим, вовлекается в общее движение — и единство бытия становится мыслимым уже только как его цель, а не начало. По мере того как это воззрение приживается и получает развитие в науке, у наивной теории отражения выбивается почва из-под ног. Основополагающие понятия каждой науки, средства, которыми она ставит вопросы и формулирует выводы, предстают уже не пассивными отражениями данного бытия, а в виде созданных самим человеком интеллектуальных символов. Раньше всех и наиболее остро осознало символический характер своих фундаментальных средств физико-математическое познание2. В предисловии к «Принципам механики» Генрих Герц чрезвычайно точно сформулировал новый познавательный идеал, на который ориентирует все развитие науки. Ближайшую и важнейшую задачу естествознания он усматривает в том, что оно должно позволить нам предвидеть будущее: выведение же будущего из прошлого базируется на конструировании нами особого рода «внутренних призрачных образов, или символов» внешних предметов -причем таких, что мыслительно-необходимые следствия из них всегда становятся образами естественно-необходимых следствий отображаемых ими предметов. «Если на основе накопленного ранее опыта нам удастся создать образы, имеющие требуемые качества, то мы тотчас сможем вывести из них, как из моделей, следствия, которые либо сами произойдут во внешнем мире некоторое время спустя, либо будут получены как результаты нашего собственного вмешательства... Образы, о которых идет речь, — это наши представления о вещах: с вещами они согласуются в одном существенном аспекте, а именно в том, что выполняют указанное выше требование, но для их предназначения совсем не обязательно, чтобы они согласовались с вещами в чем-нибудь еще. В действительности мы не знаем и никогда не сможем узнать, согласуются ли наши представления с вещами в каком-нибудь другом отношении, кроме как в одном фундаментальном, о котором мы только что говорили»3.
Итак, естествен но- научная теория познания, на которую опирается Генрих Герц, а также теория «знаков», впервые детально разработанная Гельмгольцем, продолжают в гносеологии говорить языком теории отражения, однако само понятие «образа» претерпело в них внутренние изменения. Вместо требуемого содержательного «подобия» между образом и вещью появилось в высшей степени сложное логическое отношение, общее интеллектуальное условие, которое должны выполнять фундаментальные понятия физики. Их ценность состоит не в отражении бытия, а в том, что
102
Культурфилософские рефлексии
они могут дать как средства познания в создаваемом ими из самих себя единстве явлений. Взаимосвязь объективных предметов и способ их взаимозависимости должны быть представлены в системе физических понятий, но это представление будет возможно лишь в той мере, в какой эти понятия с самого начала будут принадлежать одной определенной познавательной ориентации. Предмет нельзя полагать в качестве простого «бытия в себе» независимо от существенных категорий естествознания — он может быть представлен только в этих категориях, конституирующих его собственную форму. Фундаментальные понятия механики, в частности понятия массы и силы, Герц называет «призрачными образами» именно в этом смысле; раз они созданы логикой естествознания, то должны подчиняться ее общим нормам, среди которых на первом месте — априорные требования ясности, непротиворечивости и однозначности описания.
При таком критическом подходе наука расстается с надеждой и претензией на «непосредственное» восприятие и воспроизведение действительности. Она понимает, что ее объективация на самом деле есть опосредствование и опосредствованием должна остаться. Отсюда вытекает и другой важный для идеализма вывод. Если дефиниция предмета познания может быть дана только через посредство логико-понятийной структуры, то с необходимостью следует, что различию средств должно соответствовать также и различное соединение объектов, различный смысл «предметных» взаимосвязей. Так, внутри одной и той же «природы» предмет физики не совпадает с предметом химии, а последний — с предметом биологии, потому что у каждого отдельного вида познания - физики, химии, биологии -своя особая точка зрения на постановку вопроса, и именно с этой точки зрения явления подвергаются специфическому толкованию и обработке. Сначала может показаться, что развитие идеи идеализма в результате окончательно похоронило ожидание, с которого это развитие собственно и начиналось. Конец как бы отрицает начало, поскольку опять возникает угроза, будто искомое и требуемое единство бытия распадется на бессвязное многообразие сущего. Единое бытие, на которое ориентируется мышление и от которого оно, видимо, не может отказаться, не разрушив собственной формы, все более вытесняется из сферы познания. Оно превращается в чистый X, и чем строже утверждается метафизическое единство этого X как «вещи в себе», тем менее он становится доступен познанию, а в конце концов и вовсе попадает в область непознаваемого. Застывшему метафизическому абсолюту противостоит сфера знаемого и познаваемого - царство явлений со всей своей неотчуждаемой множественностью, обусловленностью и относительностью. Но при бли
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 103
жайшем рассмотрении становится ясно, что это нередуцируемое многообразие научных методов и предметов отнюдь не противоречит принципиальному требованию единства бытия, хотя оно и сформулировано здесь по-новому. Единство знания обеспечивается и гарантируется уже не тем, что все формы знания восходят к некоему общему «простому» объекту, относящемуся к этим формам как трансцендентный прообраз к своим эмпирическим образам, — теперь выдвигается новое требование: понимать различные направления знания в их признанном своеобразии и самостоятельности как систему, отдельные элементы которой обусловливают и предполагают друг друга в их необходимом различии. Постулат такого чисто функционального единства заменяет постулат единства субстрата и происхождения, довлевший над античным понятием бытия. Таким образом, у философской критики познания появляется новая задача. Путь, отдельные этапы которого пройдены конкретными науками, ей надлежит проследить и обозреть в целом. Она должна поставить вопрос, следует ли мыслить интеллектуальные символы, посредством которых отдельные дисциплины рассматривают и описывают действительность, просто как рядоположные, или их надо понимать как различные выражения одной и той же фундаментальной духовной функции. Если последнее предположение подтвердится, то предстоит решить дальнейшую задачу — установить общие условия действия этой функции и ее руководящий принцип. Вместо того чтобы вслед за догматической метафизикой ставить вопрос об абсолютном единстве субстанции, растворяющем всякое особенное бытие, мы спрашиваем, какому правилу подчиняется конкретное многообразие и разнообразие познавательных функций и каким образом оно, не упраздняя и не разрушая этого многообразия, сводит их в одно единое деяние, концентрирует в одном замкнутом в себе духовном акте.
Но здесь невольно возвращаешься к мысли, что познание, как бы универсально и широко его ни понимали, конкретно всегда представляет собой лишь один из видов формотворчества при всей целостности духовного постижения и толкования бытия. Это формирование многообразия, руководимое специфическим и в то же время четко и ясно определенным принципом. Всякое познание, какими бы разными ни были его пути и направления, в конечном счете стремится свести многообразие явлений к единству «основоположения». Отдельное не должно оставаться отдельным, ему надлежит войти в ряды взаимосвязей, где оно будет уже элементом «системы» — логической, телеологической или причинной. В стремлении к этой цели - включению особенного в универсальную форму законосообразности и упорядоченности — раскрывается
104 Культу рфпнкч)фские рефлексии
сама сущность познания. Однако наряду с формой интеллектуального синтеза, которая выражается и отражается в системе научных понятий, в целостной духовной жизни имеются и другие виды формирования. Их также можно назвать определенными способами «объективации», т.е. средствами возвысить индивидуальное до общезначимого, но они достигают своей цели - общезначимости -на совершенно ином пути, не прибегая к помощи логического понятия и закона. Любую другую функцию духа роднит с познанием только то, что ей внутренне присуща изначально-творческая сила, а не только способность к воспроизведению. Она не просто пассивно запечатлевает налично-данное — в ней сокрыта самостийная энергия духа, придающая простому наличному бытию определенное «значение», своеобразное идеальное содержание. Это в такой же мере относится к искусству, мифу и религии, как и к познанию. Все они живут в самобытных образных мирах, где эмпирически данное не столько отражается, сколько порождается по определенному принципу. Все они создают свои особые символические формы, если и не похожие на интеллектуальные символы, то по крайней мере равные им по своему духовному происхождению. Каждая из этих форм несводима к другой и не выводима из другой, ибо каждая из них есть конкретный способ духовного воззрения: в нем и благодаря ему конституируется своя особая сторона «действительности». Это, стало быть, не разные способы, какими некое сущее в себе открывается духу, а пути, проторяемые духом в его объективации, или самооткровении. Если искусство и язык, миф и познание понимать в этом смысле, то возникает проблема, предвещающая новый подход к общей философии гуманитарных наук.
«Революция в образе мышления», произведенная Кантом в теоретической философии, началась с идеи радикального изменения общепринятого отношения познания к своему предмету. Вместо того чтобы исходить из предмета как из чего-то известного и данного, следует, наоборот, начинать с закона познания как на самом деле единственно доступного и первично достоверного; вместо того чтобы определять всеобщие свойства бытия в духе метафизической онтологии, надлежит с помощью анализа рассудка исследовать его основную форму, суждение, как условие, при котором только и возможна объективация, а затем установить все его многообразные виды. Согласно Канту, этот анализ впервые вскрывает условия возможности любого знания о бытии и даже чистого понятия о нем. Однако сам предмет трансцендентальной аналитики как коррелята синтетического единства рассудка определен чисто логически. Поэтому он охватывает не объективность вообще, но лишь ту форму объективной закономерности, которая представле-
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 105 на в фундаментальных категориях науки, в частности в понятиях и основоположениях математической физики. Уже для самого Канта, стремившегося разработать подлинную «систему чистого разума» в совокупности трех «критик», этот предмет оказался слишком узок. Математическое и естественно-научное бытие, в его идеалистическом понимании и толковании, не исчерпывает всей действительности, так как деятельность духа в его спонтанности проявляется в нем далеко не в полной мере. В умопостигаемом царстве свободы, основной закон которого сформулирован в «Критике практического разума», в царстве искусства и органической природы, представленных в критике эстетической и телеологической способности суждения, всякий раз открывается новая сторона действительности. Постепенность в развертывании критическо-идеалистического понятия духа составляет наиболее характерную черту мышления Канта и связана с определенной закономерностью стиля его мышления. Истинная, конкретная целостность духа не может быть с самого начала втиснута в готовые формулы, ее нельзя преподносить как нечто завершенное — она развивается, впервые обретая себя лишь в самом процессе критического анализа, постоянно продвигающегося вперед. Вне этого процесса объем духовного бытия не может быть ограничен и определен. Природа его такова, что начало и конец процесса не только не совпадают, но и, казалось бы, неминуемо должны вступить друг с другом в противоречие, - но это не что иное, как противоречие между потенцией и актом, чисто логическими «задатками» понятия и его совершенным развитием и результатом. С этой точки зрения и «коперниканский переворот» Канта приобретает новый, более широкий смысл. Он касается не только логической функции суждения - с таким же правом и на том же основании он относится к каждому направлению и каждому принципу духовного формообразования. Главный вопрос всегда заключается в том, пытаемся ли мы понять функцию из структуры или структуру из функции, видим ли мы «основание» первой во второй или наоборот. Этот вопрос образует духовный союз, связывающий друг с другом разные проблемные области: он представляет собой их внутреннее методологическое единство, не сводя их к вещественной одинаковости. Дело в том, что основной принцип критического мышления, принцип «примата» функции над предметом, принимает в каждой отдельной области новую форму и нуждается в новом самостоятельном обосновании. Функции чистого познания, языкового мышления, мифологическо-религиозного мышления, художественного мировоззрения следует понимать так, что во всех них происходит не столько оформление мира (Gestaltung der Welt), сколько формирование мира (Gestaltung zur Welt), образование
106 Культурфилософские рефлексии
объективной смысловой взаимосвязи и объективной целостности воззрения.
Критика разума становится тем самым критикой культуры. Она ‘ стремится понять и доказать, что предпосылкой всего содержания культуры - поскольку оно основывается на общем формальном принципе и представляет собой нечто большее, чем просто отрывок содержания, — является первоначальное деяние духа. Только в критике культуры главный тезис идеализма находит свое истинное и полное подтверждение. Пока философия занимается исключительно анализом чистой познавательной формы и ограничивает себя рамками этой задачи, наивно-реалистическое мировоззрение не будет окончательно преодолено. Разумеется, предмет может быть определен и сформирован на основании первоначального закона познания и посредством него; тем не менее он, по-видимому, должен иметься в наличии как нечто самостоятельное также и вне отношения к основным категориям познания. Если, однако, исходить не столько из общего понятия о мире, сколько из общего понятия о культуре, то дело тотчас принимает иной оборот, ибо содержание понятия культуры неотделимо от основных форм и направлений духовного творчества; здесь, как нигде, «бытие» постижимо только в «деятельности». Лишь в той мере, в какой существует специфическая направленность эстетической фантазии и эстетического воззрения, существует и область эстетических предметов, — и то же самое относится ко всем остальным энергиям духа, создающим контуры и формы различных предметных областей. Так, религиозное сознание, глубоко убежденное в «реальности», истинности своего предмета, преобразует действительность в вещное бытие лишь на низшей ступени, на ступени мифологического мышления. На более высоких ступенях развития оно начинает все более ясно осознавать: нечто «существует» как ее предмет лишь благодаря тому, что оно относится к нему совершенно особым, характерным только для него образом. Перед нами своего рода самопознание, переориентация духа на мыслимое объективное, в котором и заключается последнее прибежище объективности. Философское мышление обра- ] щается к этим направлениям не только с целью проследить каждое j 1 из них в отдельности или обозреть в целом, но и предполагая, что ’ все их можно отнести к некоему единому средоточию, идеальному центру. С критической точки зрения, последний находится не в данном бытии, а лишь в общей задаче. При всем своем внутреннем различии такие направления духовной культуры, как язык, научное познание, миф, искусство, религия, становятся элементами единой большой системы проблем, многообразными методами, так или иначе ведущими к одной цели - преобразованию мира пассивных
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 107
впечатлений (Eindriicke). где дух сперва томится в заточении, в мир чистого духовного выражения (Ausdmck).
Подобно тому как современная философия языка в поисках точки опоры в исследовании языка выдвинула понятие «внутренней языковой формы», на наш взгляд, вполне допустимо предположение о существовании аналогичной «внутренней формы» в религии, мифе, искусстве, научном познании, как и стремление ее выявить. Эта форма представляет собой не просто сумму или экстракт из отдельных феноменов данных областей, а закон, обусловливающий их строение. Правда, для того чтобы удостовериться в этом законе, в конце концов нет иного пути, кроме как открыть его в самих феноменах, «абстрагировать» его от них; но именно эта абстракция оказывается необходимым и конститутивным моментом в содержании частного. В течение всей своей истории философия более или менее сознательно относилась к задаче такого анализа и критике отдельных форм культуры; однако в большинстве случаев она принимала во внимание лишь части этой задачи, да и то скорее в негативном, чем позитивном смысле. В своей критике она чаще отвергала необоснованные притязания, чем пыталась изложить и обосновать позитивные достижения каждой отдельной формы. Со времен греческой софистики существует скептическая критика языка, подобно тому как есть скептическая критика мифа и познания. Эта преимущественно негативная установка станет понятной, если учесть, что в действительности каждой основной форме духа по мере ее развития свойственно стремление выдавать себя не за часть, а за целое и тем самым претендовать не на относительную, а на абсолютную значимость. Она не довольствуется пребыванием внутри своей сферы, а хочет придать характерный для нее профиль всей совокупности бытия и духовной жизни. Из-за этого стремления к безусловности, внутренне присущего каждому отдельному направлению, возникают внутрикультурные конфликты и антиномии понятия культуры. Так, форма научного познания, прежде чем отстаивать самостоятельное существование, всюду была вынуждена исходить из первых мыслительных соединений и разделений, выраженных и зафиксированных в языке, его общих понятиях. Однако, используя язык в качестве материала и основы, она с необходимостью выходит за его пределы. Постепенно, обретая все большую определенность и самостоятельность, формируется и заявляет о себе новый «логос», движимый иным, неязыковым мышлением. И вот уже языковые конструкции кажутся ему помехами и ограничениями, которые в перспективе должны быть преодолены самобытной силой нового принципа. Критика языка и языковой формы мышления становится существенной частью продвигающегося
108 Ку .иыурфилософские рефлексии
вперед научного и философского мышления. Такой же путь развития типичен и для других областей. Отдельные направления духа не дополняют друг друга, мирно шествуя рядом, но каждое становится тем, что оно есть, лишь благодаря тому, что демонстрирует присущую ему силу в противоборстве с другими. Религия и искусство по своей исторической роли так близки и настолько проникают друг в друга, что, казалось бы, неотличимы и по своему содержанию, по принципу внутреннего «образования». О богах Греции говорили, будто они обязаны своим рождением Гомеру и Гесиоду. Но, однако, именно религиозное мышление греков по мере развития все более определенно отличается от своего эстетического начала и первопричины. Со времен Ксенофана оно решительно отходит от мифологическо-поэтического и чувственно-пластического понятия о боге, распознавая и клеймя в нем антропоморфизм. Казалось бы, в условиях таких духовных борений и конфликтов, усугубляющихся и расширяющихся в ходе исторической эволюции, только от философии как высшей общей инстанции можно ожидать последнего решения. Но догматическим системам метафизики удается оправдать это ожидание лишь в незначительной степени. Дело в том, что в большинстве случаев они находятся в гуще борьбы, а не над ней: стремясь к понятийной универсальности, они выступают представителями одной из сторон противоположности, вместо того чтобы понять и объяснить последнюю как таковую во всей ее широте и глубине. Ведь сами они по большей части есть не что иное, как метафизическое гипостазирование какого-то одного принципа - логического, эстетического или религиозного. Чем больше они замыкаются в абстрактной всеобщности этого принципа, тем больше в результате этого отходят от отдельных сторон духовной культуры и конкретной целостности их форм. Философское исследование может избежать ограниченности, если ему удастся найти точку зрения, находящуюся над всеми формами, но в то же время — и не вне их: такая точка зрения позволила бы одним взглядом охватить все формы в целом, но выявляла бы при этом соединяющее их друг с другом имманентное отношение, а не связь с каким-то внешним «трансцендентным» бытием или принципом. Тогда возникла бы философская система духа, в которой каждая отдельная форма получала бы смысл исключительно благодаря занимаемому ей в этой системе месту, а ее содержание и значение характеризовались богатством и своеобразием отношений и взаимосвязей с другими духовными энергиями и, наконец, с ними как целым.
В попытках осуществить такого рода систематизацию не было недостатка с самого начала философии Нового времени и современного философского идеализма. Уже программное произведе-
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 109
ние Декарта о методе, «Regulae ad directionem ingenii»1*, отклоняло как тщетную попытку старой метафизики обозреть всю совокупность вещей и желание проникнуть в глубинные тайны природы, настаивая на том, что возможно мысленно исчерпать и измерить «uni versit as»2* духа. «Ingenii limit es defmire» - определить объем и границы духа: этот девиз Декарта стал лейтмотивом всей философии Нового времени. Но само понятие «духа» у него еще двусмысленно, так как употребляется то в узком, то в широком значении. Поскольку философия Декарта по сути дела исходит из нового широкого понятия сознания, но применяет его в значении cogitatio3*, отождествляя с чистым мышлением, постольку для Декарта и всего рационализма система духа совпадает с системой мышления. Вот почему universitas духа, его конкретная целостность только тогда может считаться действительно понятой с философской точки зрения, когда удастся дедуцировать ее из одного-единственного логического принципа. Тем самым чистая логическая форма вновь возвышается до прототипа и образца всякого духовного бытия, всякой духовной формы. Как у Декарта, с которого начинается ряд систем классического идеализма, так и у Гегеля, которым он заканчивается, эта методологическая взаимосвязь вполне очевидна. Гегель выдвинул требование мыслить целостность духа как конкретное целое, т.е. не ограничиваться его простым понятием, а развертывать во всем многообразии его проявлений, с такой ясностью, с какой до него этого не делал никто. Однако феноменология в своем стремлении выполнить это требование готовит почву и расчищает дорогу только логике. Многообразие форм духа, демонстрируемых феноменологией, в конечном счете увенчивается логическим понятием — и в этом завершении оно впервые обретает свою сущность и совершенную «истинность». Как бы разнообразно и богато ни было оно по содержанию, структурно оно все-таки подчинено единственному и в известном смысле единообразному закону - закону диалектического метода, который представляет собой неизменный ритм в самодвижении понятия. Приобретая чистую форму своего бытия — понятие, - дух завершает свое формирование в абсолютном знании. В этой конечной цели содержатся, хотя и в снятом виде, как простые моменты, все пройденные им ранее стадии. Таким образом, из всех форм духа подлинной автономии здесь удостаивается лишь форма логического, форма понятия и знания. Понятие есть не только средство изображения конкретной жизни духа - оно является поистине субстанциальным элементом духа. Соответственно, любое духовное бытие и любой духовный процесс, несмотря на требование, что их следует понять и признать в их специфическом своеобразии, в конечном счете соотносятся как
110 Культурфилософские рефлексии
бы с одной-единственной мерой - и только в этом соотнесении может быть понята вся глубина их содержания и их истинный смысл.
Казалось бы, последнее единство всех форм духа в логической форме на основе понятия философии, прежде всего принципа философского идеализма, и в самом деле необходимо. Если отказаться от единства, то о строгой систематизации духовных форм, по-видимому, вообще не может быть речи. Тогда в качестве альтернативы диалектическому методу останется лишь метод эмпирический. Пока не удастся найти общего закона, по которому одна форма духа с необходимостью вытекает из другой, так что все формы духа в конце концов оказываются подвластны единому принципу, совокупность этих форм невозможно мыслить как замкнутый в себе космос. Отдельные формы будут тогда ря-доположны: конечно, все они останутся в поле нашего зрения, а своеобразие каждой из них можно будет вполне описать, но в них не будет выражено общее идеальное содержание. В результате философия таких форм превратится в их истории, которые в зависимости от предмета будут представлены как специальные дисциплины - история языка, история религии и мифа, история искусства и т.д. Таким образом, возникает странная дилемма. Если мы будем придерживаться требования логического единства, то в конечном счете нам грозит стирание особенностей каждой отдельной области и самобытности ее принципа во всеобщности логической формы; если мы, наоборот, погрузимся в индивидуальное своеобразие форм и ограничимся его созерцанием, то рискуем заблудиться и не найти обратного пути ко всеобщему. Выход из этой методологической дилеммы будет обретен лишь в том случае, если удастся выявить и зафиксировать момент, который обнаруживается в каждой форме духа, но ни в одной из них не проявляется одинаковым образом. Тогда, принимая во внимание этот момент, можно было бы утверждать существование идеальной взаимосвязи отдельных областей — основной функции языка с познанием, эстетического с религиозным, - не теряющей в то же время уникального своеобразия каждой из них. Если бы удалось найти опосредствование, с помощью которого происходит формирование духа во всех отдельных направлениях, но которое тем не менее сохраняет особую природу и специфический характер каждого из них, то, опираясь на это необходимое опосредствующее звено, мы смогли бы на все формы духа в целом перенести то, что трансцендентальная критика сделала лишь применительно к чистому познанию. Итак, перед нами встает следующий вопрос: существует ли на самом деле такая срединная сфера в духе, существует ли функция опосредствования его многообразных направ-
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 111 лений и есть ли у этой функции типичные черты, по которым ее можно было бы распознать и описать?
II
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся сначала вновь к понятию «символа» в том смысле, в каком с точки зрения физического познания его понимал и интерпретировал Генрих Герц. В явлениях физика интересует только форма их необходимой связи. Но получить ее можно лишь одним путем: для этого физик должен отстраниться от мира непосредственных чувственных впечатлений и даже, казалось бы, вовсе покинуть его. Понятия, которыми он оперирует, — пространства и времени, массы и силы, материальной точки и энергии, атома или эфира — это свободные «призрачные образы», конструируемые познанием, чтобы овладеть чувственным опытом и обозреть его как закономерно упорядоченный мир, однако в непосредственных чувственных данных нет ничего, чтб бы им соответствовало. Несмотря на такое несоответствие, — а возможно, именно благодаря ему, — мир физических понятий целиком замкнут сам на себя. Каждое отдельное понятие, каждый «призрачный образ» и знак подобен живому слову структурированного по твердым правилам, полного значений и смыслов языка. В начальной стадии развития современной физики, у Галилея, можно найти метафору о том, что «книга природы» написана языком математики и доступна прочтению лишь с помощью математического шифра. В самом деле, история точного естествознания подтверждает тот факт, что прогресс в постановке проблем естествознания и разработке его понятийных средств всегда шел рука об руку с возрастающей утонченностью его знаковой системы. Точное понимание основных понятий Галилеевой механики было достигнуто лишь тогда, когда с помощью алгоритма дифференциальных исчислений было определено логическое место этих понятий и приняты их общезначимые логико-математические обозначения. Исходя из вопросов, поставленных в связи с открытием анализа бесконечного, Лейбниц сумел точно сформулировать универсальную проблему функции обозначения и придать своему проекту «всеобщей характеристики» поистине философский смысл. Логика вещей, т.е. основных содержательных понятий и отношений, на которых строится наука, неотделима, по его глубокому убеждению, от логики знаков. Ведь знак есть не просто случайная оболочка мысли, а ее необходимый и существенный орган. Он не только служит цели со- 1 общения готового мысленного содержания, но и является инстру- ! ментом, благодаря которому формируется и впервые приобретает
112 Кулыурфилософскис рефлексии
полную определенность само это содержание. Акт понятийного определения содержания идет рука об руку с актом его фиксации в каком-либо характерном знаке. Таким образом, подлинно строгое и точное мышление всегда опирается на символику и семиотику. Любой «закон природы» в нашем мышлении принимает вид общей «формулы», но всякую формулу можно представить лишь как связь общих и специфических знаков. Без универсальных знаков, таких, как в арифметике и алгебре, невозможно было бы выразить ни одну физическую связь, ни один частный закон природы. В этом наглядно выражается основной принцип познания, согласно которому общее всегда может быть дано лишь в особенном, а особенное всегда мыслится лишь в связи с общим.
Но эта взаимосвязь не ограничивается рамками науки. Она прослеживается и в остальных формах духовного творчества. Для всех них характерно то, что свойственный им способ воззрения и формообразования они могут применить, лишь создав для него определенный чувственный субстрат. Последний настолько существен, что иногда кажется, будто он исчерпывает все значение, весь сокровенный «смысл» этих форм. Создается впечатление, что язык определяется и мыслится лишь как система звуковых зна-, ков, искусство и миф исчерпываются миром демонстрируемых ими особых чувственно-пластических образов. Но тем самым как раз и дана та всеобъемлющая среда, в которой пересекаются все столь разные духовные образования. Содержание духа заключается лишь в его выражении: идеальная форма может быть познана только в совокупности чувственных знаков, служащих ее выражению. Систематизация различных направлений этих выражений, выявляющая не только их типичные, инвариантные черты, но и внутренние различия и особые градации, приблизила бы нас к идеалу «всеобщей характеристики», выдвинутому Лейбницем как идеал познания. В результате мы получили бы нечто вроде грамматики символической функции, в которой были бы охвачены и обобщенно соопределены все ее особые выражения и идиомы, данные в языке и искусстве, мифе и религии.
Идея такой фамматики таит в себе расширение традиционного исторического понятия идеализма. Это теоретическое понятие издавна противопоставляет и резко разфаничивает два мира -«mundus sensibilis»4* и «mundus intelligibilis»5". Сущностная разница между ними заключается в том, что мир мыслимого определяется через момент чистого творения, а мир чувственного — через момент страдания. В одном царит спонтанность свободного духа, в другом — скованность, пассивность чувственности. Но для «всеобщей характеристики», проблемы и задачи которой мы уже в общих
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 113
чертах сформулировали, эта противоположность уже не является неопосредствованной и исключительной, ибо чувственное и духовное здесь связывает новая форма взаимосвязи и взаимодействия. Их метафизический дуализм оказывается преодоленным, поскольку выясняется, что чистая функция духовного вынуждена искать в чувственном свое конкретное воплощение и что в конце концов только здесь она и может его найти. В границах же самого чувственного следует проводить строгое различие между простой «реакцией» и чистой «акцией» — между тем, что относится к сфере «впечатления», и тем, что относится к сфере «выражения». Ошибкой догматического сенсуализма является не столько то, что он недооценивает значение и мощь чисто интеллектуальных факторов, сколько то, что саму чувственность он берет не в полном объеме ее понятия и целостности проявлений, хотя и провозглашает подлинной основой силы духа. Пока сенсуализм ограничивает чувственность только «впечатлениями», непосредственной данностью ощущений, она будет выглядеть у него частичной и искаженной. Забывают о том, что существует активность самой чувственности, или — пользуясь выражением Гёте — «точная чувственная фантазия», которая проявляется в самых разных областях духовного творчества. На самом деле, подлинной движущей силой их внутреннего развития оказывается как раз то, что наряду с миром восприятий и над ним они свободно творят собственный образный мир — мир, который по своим непосредственным качествам все еще носит чувственную окраску, но в действительности представляет собой уже сформированную и, стало быть, покоренную духом чувственность. Речь идет о чувственном как не просто налично данном, а как о системе чувственного многообразия, создаваемой какой-либо формой свободного творчества.
Гак, в процессе эволюции языка хаос непосредственных впечатлений структурируется для нас лишь благодаря тому, что мы освещаем его «наименованием» и таким образом придаем чувственному функцию языкового выражения и мышления. В мире языковых знаков сам мир впечатлений приобретает совершенно новое «содержание» благодаря новой духовной артикуляции. Различение и обособление, фиксация известных моментов содержания с помощью звуков речи — это не только их обозначение, но и придание им определенного мыслимого качества, в силу которого они возвышаются над непосредственностью так называемых чувственных'качеств. Язык становится основным средством духа, так как благодаря ему происходит наше прогрессивное движение от мира элементарных ощущений к миру созерцания и представления. Он уже в зародыше заключает в себе интеллектуальную работу, продолжающуюся потом в образовании понятия, специального науч-
114___________________________________Культурфилософские рефлексии
ного термина, логического формального единства. В нем сокрыто начало той общей функции разделения и соединения, которая находит высшее сознательное выражение в анализе и синтезе научного мышления. Наряду с миром языковых и понятийных знаков существует отличный от него и все же родственный ему по духовному происхождению образный мир мифа и искусства. Мифологическая фантазия, как бы глубоко она ни коренилась в чувственности, тоже выходит за пределы чистой восприимчивости. Если подходить к ней с обычной эмпирической меркой и рассматривать как таковую, то ее конструкции должны казаться попросту «нереальными», но именно эта нереальность свидетельствует о спонтанности и внутренней свободе мифологической функции. Эта свобода — не беззаконный произвол. Миф — не продукт каприза или случая; в нем действуют собственные фундаментальные законы формообразования, проявляющиеся во всех его особых выражениях. В области художественного творчества это еще более очевидно, так как восприятие эстетической формы чувственного возможно лишь благодаря тому, что мы сами творим основные элементы формы. Например, понимание пространственных форм обусловлено в конечном счете законами их внутреннего произведения. Итак, мы видим, что самая возвышенная и чистая духовная активность, которая только может открыться сознанию, повсюду обусловлена и опосредствована определенными формами чувственной активности. Первозданная сущностная жизнь чистой идеи предстает перед нами всегда лишь в красочном блеске феноменов. Систему многообразных проявлений духа мы можем понять, только прослеживая различные направления его изначальной творческой силы. В ней рефлексия усматривает сущность духа, ибо он может открыться нам только в своей деятельности по формированию чувственного материала.
То, что в создании различных систем чувственных символов проявляется именно чистая активность духа, подтверждает тот факт, что все эти символы с самого начала выступают с претензией на объективность и ценностную значимость. Все они выходят за пределы чисто индивидуальных феноменов сознания, претендуя на общезначимость. Возможно, последующее критическо-философское исследование с его развитым, сформировавшимся понятием «истины» покажет несостоятельность этой претензии, но уже сам факт, что она вообще была выдвинута, говорит о сущности и характере духовных форм. Как правило, они рассматривают свои конструкции даже не столько как общезначимые, сколько в качестве подлинного ядра объективной «действительности». Например, для первых наивных, не тронутых рефлексией выражений языкового мышления, как и для мифологического
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 115
мышления, характерно то, что содержание «вещи» и содержание «знака» не вполне отчетливо разделены, индифферентно переходят друг в друга. Имя вещи и вещь как таковая неотделимы друг от друга; образ или слово таят в себе магическую силу, позволяющую проникать в сущность вещи. Для того чтобы найти в этом воззрении зерно истины, надо обратиться от реального к идеальному, от вещественного к функциональному. В самом деле, создание знака в процессе внутреннего развития духа - всегда первый и необходимый шаг на пути объективного познания сущности. Знак представляет для сознания первый этап и первое вещественное доказательство объективности потому, что посредством него впервые полагается остановка в непрерывном движении содержания сознания, поскольку в нем определяется и выделяется нечто устойчивое. Ни один содержательный момент сознания не возвращается в строго определенной тождественности после того, как однажды ему на смену пришел другой. Он остается тем, чем он был — одним и тем же раз и навсегда, — лишь в том случае, если покидает сознание. Этой непрерывной смене содержательных моментов сознание противопоставляет собственное единство, единство формы. Тождественность сознания обнаруживается не в том, чтб оно в себе заключает или содержит, а в том, чтб оно делает. Через знак, связанный с каким-либо содержанием, само это содержание приобретает новый статус и большую продолжительность жизни, поскольку знаку — в отличие от происходящей в реальности смены отдельных содержаний сознания — соответствует определенное идеальное значение, закрепляемое за ним как таковое. В отличие от конкретно данного ощущения знак не подобен точке, не есть что-то в своем роде неповторимое и уникальное - он выступает в роли представителя множества, совокупности возможных содержательных моментов, каждому из которых противостоит как «общее». Деятельность символической функции сознания в языке, искусстве, мифе выражается в том, что из потока сознания сначала извлекаются конкретные устойчивые основные формы, наполовину понятийной, наполовину чувственно-созерцательной природы - и в текущем потоке содержаний образуется островок замкнутого на себя формального единства.
При этом речь идет не просто об отдельном акте, а о постоянно прогрессирующем процессе определения, который накладывает свою печать на все развитие сознания. Поначалу создается впечатление, будто фиксация содержания в языковых знаках, в образах мифа и искусства ничем не отличается от его удержания в памяти, т.е. от его простого воспроизведения. Казалось бы, знак ничего не прибавляет к тому содержанию, с которым он связан, а просто сохраняет и
116 Культурфилоом^ские рефлексии
повторяет его в чистом виде. Обращаясь к истории психологии искусства, можно указать на фазу наивного «воспоминательного искусства», когда художественное творчество еще ориентируется на выделение определенных черт воспринятого чувствами и на воспроизведение их в памяти в созданном им самим образе4. Но чем более явно обнаруживаются отдельные направления духа с их специфической энергией, тем становится яснее, что мнимо самостоятельное воспроизведение в сознании всегда предполагает первичную, основанную на собственных законах творческую деятельность. Воспроизводимость содержания связана с созданием для него знака, в пределах смысла которого сознание действует свободно и самостоятельно. Тем самым и понятие «воспоминания» приобретает новый, более емкий смысл. Для того чтобы вспомнить некое содержание, сознание должно освоить его внутренне, не так, как оно это делает в ощущении или восприятии. Недостаточно простого повторения того, что было дано в другой момент времени, — в этом повторении вступает в силу новый способ понимания и формирования, так как любое «воспроизведение» заключает в себе уже новую ступень «рефлексии». Воспринимая содержание не как настоящее, а как прошедшее, сознание тем не менее хранит в себе его образ, а стало быть, представляет его как что-то неисчезнувшее — и уже таким к нему отношением придает ему и себе иное, идеальное значение. И последнее раскрывается со все большей конкретностью и содержательной полнотой по мере дифференциации собственного образного мира Я. Сформировавшееся Я — уже не только первоисточник творческой активности: оно учит понимать все глубже ее саму. Тем самым границы «субъективного» и «объективного» миров впервые проводятся со гюей определенностью и очевидностью. Одной из существенных задач общей критики познания является установление тех законов, по которым происходит это разграничение чисто теоретической сферы методами научного мышления. Она показывает, что «субъективное» и «объективное» бытие противостоят друг другу как две резко разграниченные и содержательно определенные сферы отнюдь не изначально, - они получают определенность лишь в процессе познания и соразмерно средствам и условиям последнего. Так, категориальное различие между Я и не-Я оказывается радикальной, постоянно действующей функцией теоретического мышления, но способ реализации этой функции - то, как отделяются содержания «субъективного» и «объективного» бытия друг от друга, — меняется в зависимости от достигнутой ступени познания. «Объективное» в опыте означает для научно-теоретического мировоззрения его неизменные и необходимые элементы: однако чему именно в этом содержании приписывается неизменность и необходимость, за-
Эрнст Кассирер. Философия символических форм_________ 117
висит, с одной стороны, от общего методологического масштаба, который мышление накладывает на опыт, а с другой стороны, обусловлено наличным состоянием познания, совокупностью его эмпирически и теоретически проверенных взглядов. Вот почему то, каким способом мы применяем понятийную противоположность «субъективного» и «объективного» в процессе формирования опыта, в построении образа природы, оказывается не столько решением познавательной проблемы, сколько ее полноценным выражением5. Но эта противоположность проявляется во всем своем внутреннем многообразии и богатстве содержания лишь тогда, когда мы выходим за пределы теоретического мышления с его специфическими понятийными средствами. Не только наука, но и язык, миф, искусство, религия поставляют материал, из которого мы строим, с одной стороны, мир «действительности», а с другой - духовности, мир Я. Их также нельзя рассматривать просто как явления налично данного мира — их следует понимать как функции самобытного формирования бытия, особые способы его разграничения и структурирования. Соответственно, насколько различны средства, используемые при этом каждой функцией, а также масштабы и критерии, предполагаемые и применяемые каждой из них в отдельности, настолько различен и результат. Понятие об истине и действительности в науке иное, нежели в религии или искусстве, — это так же верно, как то, что в религии и искусстве специфическое и уникальное отношение между «внутренним» и «внешним», между бытием Я и мира является не столько результатом обозначения, сколько деянием основателей. Поэтому прежде чем выносить свое решение и заключать об этих столь разных, взаимопереплетающихся, порой противоречащих друг другу воззрениях и притязаниях, сначала нужно со всей критической точностью и строгостью отличать их друг от друга. Достижения каждой из них должны измеряться по ее собственным внутренним масштабам и требованиям, а не по масштабам и требованиям какор-либо иной формы; и лишь в конце такого исследования может быть поднят вопрос о том, совместимы ли между собой эти различные формы воззрения на мир и Я, и если да, то каким образом, — отражают ли они одну и туже «вещь в себе» или дополняют друг друга в целостности и единой системе духовного творчества.
В философии языка такой способ исследования впервые был ясно осознан и применен Вильгельмом фон Гумбольдтом. Для Гумбольдта звуковой знак, представляющий собой материю любого процесса языкового образования, подобен мосту между субъективным и объективным, так как в нем соединяются их существенные моменты. С одной стороны, звук произносится и в этом смысле нами самими производится и формируется; с другой стороны, буду-
118 __________________________Культурфилософские рефлексии
чи слышимым, звук — часть окружающей и данной нам в чувствах действительности. Поэтому мы воспринимаем и познаем его одновременно как нечто «внутреннее» и как нечто «внешнее» - как некоторую энергию внутреннего, которая выражается и объективируется во внешнем. «Все это может происходить только при посредстве языка. С его помощью духовное стремление прокладывает себе путь через уста во внешний мир, и затем в результате этого устремления, воплощенного в слово, слово возвращается к уху говорящего. Таким образом, представление объективируется, не отрываясь в то же время от субъекта, и весь этот процесс возможен только благодаря языку. Без описанного процесса объективации и процесса возвращения к субъекту... невозможно образование понятия, а следовательно, и само мышление... в языке следует видеть не какой-то материал, который можно обозреть в его совокупности или передать часть за частью, а вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определенны, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными... Как отдельный звук встает между предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и извне. Человек окружает себя миром звуков, чтобы воспринять в себя и переработать мир вещей»6. В этом критическо-идеалистическом понимании языка характеризуется момент, значимый для любого способа и любой формы символизации. В каждом свободно сконструированном знаке дух познает «предмет», познавая одновременно самого себя и законы собственного творчества. Это своеобразное взаимопроникновение впервые подготавливает почву для более глубокого определения как субъективности, так и объективности. Сначала, на первом этапе определения, создается впечатление, будто оба эти момента всего лишь противостоят друг другу в своей разделенности. Так, первоначальные формы языка могли пониматься как выражение либо внутреннего, либо внешнего, либо чистой субъективности, либо чистой объективности. С первой точки зрения кажется, будто звук речи означает не что иное, как голосовое выражение возбуждения и аффекта, со второй — будто он всего лишь подражательный звук. Разного рода умозрительные теории о «происхождении языка» на самом деле колеблются между этими двумя крайностями, но ни одна из них не понимает главного в языке, его духовной сущности. Ибо он не выражает ни субъективное, ни объективное в их односторонности, а представляет собой новое опосредование, своеобразное взаимоопре-деление обоих факторов. Соответственно, ни разрядка аффектов, ни повторение объективно существующих звуковых раздражений не раскрывают характерного смысла и специфической формы языка:
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 119
последняя впервые возникает там, где сходятся обе крайности, в результате чего создается новый, дотоле не существовавший синтез Я и мира. Аналогичное отношение устанавливается в каждой подлинно самостоятельной и первоначальной направленности сознания. Столь же мало оснований видеть в искусстве либо только выражение внутреннего, либо только воспроизведение образов внешней действительности - главный, характерный момент искусства также заключается в том способе, каким «субъективное» и «объективное», чистое чувство и простое отображение проникают друг в друга, обретая в этом взаимопроникновении новое содержание и новый статус. Эти примеры с большей наглядностью, чем могут позволить рамки интеллектуальной функции, демонстрируют то, что анализ форм духа нельзя начинать с догматического разграничения субъективного и объективного, но что разграничение и определение их сфер впервые осуществляются самими формами. Каждая отдельная энергия духа вносит свой особый вклад в это определение, содействуя конституированию понятия о Я и понятия о мире. Познание, язык, миф, искусство — все они не просто зеркала, отражающие данное бытие, внешнее или внутреннее, таким, какое оно есть; они - не индифферентные опосредования, а скорее источники света, условия видения и начала всякого формообразования.
Ill
Первая проблема, с которой мы сталкиваемся при анализе языка, искусства и мифа, заключается в вопросе, как вообще чувственно воспринимаемое единичное содержание может стать носителем общего духовного «значения». Если рассматривать сферы культуры только с точки зрения материального состава, т.е. описывать используемые ими знаки только по их физическим свойствам, то эти знаки придется свести к совокупности отдельных ощущений, к простым зрительным, слуховым и осязательным качествам как их последней элементарной основе. Чудо происходит тогда, когда ощущаемая нами материя получает всякий раз новую и многообразную духовную жизнь в зависимости от способа воззрения на нее. Стоит лишь физическому звуку, - а он как таковой отличается лишь вы-сотдй и глубиной, интенсивностью и качеством — оформиться в звук речи, как он начинает выражать тончайшие нюансы мысли и чувства. То, что он представляет собой непосредственно, отходит на второй план перед тем, что он «сообщает» и выполняет как средство. Отдельные элементы, из которых строится произведение искусства, с такой же очевидностью указывают на это существенное отноше-
120 Кулътурфилософские рефлексии
ние. Ни одно произведение искусства невозможно понять как сумму элементов — каждый из них подчинен определенному закону и специфическому смыслу эстетического формообразования. Синтетическая деятельность сознания, соединяющая последовательность звуков в мелодию, несомненно, отлична от той, благодаря которой множество речевых звуков складывается для нас в «предложение». Но объединяет их то, что в обоих случаях чувственно воспринимаемые элементы не остаются сами по себе, а включаются в целостность сознания и лишь в нем впервые приобретают свой смысл.
Если попытаться в самом общем виде представить себе совокупность отношений, характеризующих и конституирующих единство сознания как таковое, то прежде всего — это ряд фундаментальных отношений, противостоящих друг другу как самостоятельные и самобытные «способы» связи. Момент «рядоположности», представленный в форме пространства, момент последовательности, представленный в форме времени, связь определений бытия, представленная так, что в одном случае она понимается как «вещь», в другом — как «свойство», или (для следующих друг за другом событий) так, что одно является причиной другого, — все это разные виды изначальных способов связи. Сенсуализм тщетно пытается вывести и объяснить йх~йз"непосредственного содержания отдельных впечатлений. Согласно известной психологической теории Юма, «пять нот, сыгранных на флейте», способны «дать» представление о времени. Но это возможно только потому, что характерный момент порядка и отношения «последовательности» молчаливо включен в содержание отдельных нот, что, следовательно, время в его общей структурной форме уже предполагается. Вот почему для психологического и критическо-познавательного анализа первоначальные фундаментальные формы отношений — в конечном счете такие же простые и несводимые друг к другу «качества» сознания, как и чувственно воспринимаемые качества, элементы зрительных, слуховых или осязательных ощущений. Однако в противоположном стане философской мысли никак не могут смириться с многообразием этих отношений, приняв его просто как факт. Если речь идет об ощущениях, то мы удовлетворяемся перечислением разных классов ощущений, представляя их в виде несвязанного множества; но если речь идет об отношениях, то их деятельность как разных форм связи кажется нам понятной лишь тогда, когда мы мыслим их соединенными между собой в синтезе более высокого порядка. С тех пор как Платон в «Софисте» поставил проблему «xoivcoviaTcbv yevcnv»6* — проблему системного «сообщества» чистых идей и форм, — ее не оставляют в покое на протяжении всей истории философской мысли. Но критическое и метафизически-умозрительное решения этой
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 121
проблемы отличаются друг от друга тем, что предполагают разные понятия «общего» и, следовательно, различный смысл логической системы. Первое восходит к понятию аналитически-общего, второе ориентируется на понятие синтетически-общего. В одном случае мы ограничиваемся тем, что объединяем множество возможных форм связи в высшем системном понятии и тем самым подчиняем их определенным основным законам; в другом — пытаемся понять, как из одного-единственного первопринципа целостности развертывается конкретная совокупность особенных форм. Если последний способ рассмотрения допускает лишь один начальный и один конечный пункт, чтобы связать их между собой и опосредствовать постоянным применением одного и того же методологического принципа в ходе синтетико-дедуктивного доказательства, то первый не только допускает, но и требует множества различных «уровней» рассмотрения. Он ставит вопрос о единстве, которое с самого начала отказывается от простоты. Существование различных способов духовного формообразования признается им как факт, поэтому попытка включить их в один-единственный ряд, в простую прогрессию не предпринимается. Этот взгляд не только не отвергает взаимосвязи отдельных форм между собой, но и, наоборот, углубляет идею системы тем, что вместо понятия простой системы выдвигает понятие сложной системы. Каждая форма, если можно так выразиться, получает в удел особую плоскость, в пределах которой она действует, совершенно независимо раскрывая свою самобытность, но только в совокупности этих способов идеальной деятельности становятся зримыми определенные аналогии, типичные манеры поведения, которые как таковые можно выделить и описать.
Первое, с чем мы сталкиваемся, — это различие между качеством и модальностью форм. Под «качеством» определенного отношения здесь подразумевается особый способ связи, создающий внутри целостности сознания ряды, члены которых упорядочены в соответствии с одним специальным законом. Так, самостоятельное качество образует «совместность» в противоположность «последовательности», форму одновременной связи в противоположность поочередной. Но одна и та же форма связи может внугренне меняться, попадая в разные взаимосвязи форм. Каждое отношение, сохраняя специфику, всегда в то же время принадлежит некой смысловой целостности, обладающей, в свою очередь, собственной «природой», особым замкнутым на себя законом формы. Так, например, общее отношение, которое мы называем «временем», в такой же мере элемент научно-теоретического познания, в какой оно является существенным моментом некоторых конструкций эстетического сознания. Казалось бы, время, объявляемое Ньютоном в «Началах
122 ___________________________________Культурфнлософские рефлексии
механики» прочным фундаментом всего происходящего и едино-образной мерой всех изменений, не имеет ничего общего, кроме названия, с временем в музыкальном произведении, с его ритмом и размером — и все-таки общность наименования заключает в себе смысловое единство по крайней мере в том отношении, что в обоих случаях предполагается одно общее, абстрактное качество, которое мы называем «последовательностью». Однако, сознавая законы природы как законы временной формы происходящего и воспринимая ритм и размер звуковой конструкции, мы сталкиваемся с разными «видами» последовательности — с ее особыми модусами. Аналогичным образом мы можем воспринимать пространственные формы, комплексы линий и фигур в одном случае как художественный орнамент, в другом - как геометрический чертеж и в результате придавать одному и тому же материалу совершенно различный смысл. Единство пространства, которое мы строим в эстетическом созерцании и творчестве — в живописи, пластике, архитектуре, — лежит в совершенно иной плоскости, чем единство пространства, представленное в постулатах и аксиомах геометрии. В одном случае мы имеем дело с модальностью логико-геометрического понятия, в другом — вступает в силу модальность художественной пространственной фантазии: в одном случае пространство мыслится как совокупность взаимозависимых определений, система «принципов» и «следствий», в другом — оно изначальная целостность, понимаемая в динамическом взаимопереходе отдельных моментов как наглядное и интуитивно-схватываемое единство. Этим не исчерпывается ряд формообразований, «пробегаемый» пространственным сознанием, потому что и для мифологического мышления характерен совершенно самобытный взгляд на пространство, своеобразный способ пространственного членения мира и «ориентации» в нем, резко отличающийся от пространственного членения космоса в эмпирическом мышлении7. Так, например, общая форма «причинности» предстает в разном свете на ступени научного мышления и на ступени мышления мифологического. Миф тоже пользуется понятием причинности, прибегая к нему в теогониях и космогониях, а также для толкования всего многообразия единичных явлений, чтобы с его помощью «объяснить» их. Однако последний мотив такого «объяснения» совсем не тот, которым руководствуется каузальное познание посредством научно-теоретических понятий. Проблема генезиса - общее достояние науки и мифа, однако способ и характер, модальность рассмотрения этой проблемы меняются при переходе из одной сферы в другую: вместо того чтобы подразумевать под «происхождением» мифологическую потенцию, мы начинаем видеть в нем научный принцип и именно как таковой учимся его понимать.
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 123
Итак, для того чтобы охарактеризовать определенную форму отношений в ее конкретном применении и значении, требуется указать не только ее качества, но и ту систему, в которую она входит. Если схематично обозначить различные виды отношений - отношения пространства, времени, причинности и т.д. — как R , R , R .., то каждый из них имеет еще особый «индекс модальности» — ц , ц , ц показывающий, внутри какой функциональной и смысловой взаимосвязи его следует рассматривать. Каждая из этих смысловых взаимосвязей - язык, научное познание, искусство и миф - обладает собственным конститутивным принципом, который накладывает на все виды формообразования свою особую печать. Отсюда и возникает все многообразие отношений между формами, богатство и внутренние переплетения которых тем не менее доступны обозрению при точном анализе каждой формы в отдельности. Но даже если не принимать во внимание этой спецификации, то уже самый общий взгляд на сознание как целостность приводит к основополагающим условиям его единства и связности, к условиям духовного схватывания и представления вообще. Для самой сущности сознания характерно то, что ни один содержательный момент не может явиться в нем без того, чтобы в акте его полагания заодно не предполагался целый комплекс других содержательных моментов. Исходя из этого, Кант в своей работе об отрицательных величинах следующим образом сформулировал проблему причинности: поскольку существует нечто, постольку одновременно с необходимостью должно существовать и совершенно отличное от него иное. Если вместе с догматической метафизикой принять за исходный пункт понятие абсолютного наличного бытия, то этот вопрос должен оказаться в конечном счете неразрешимым, ибо абсолютное бытие предполагает последние абсолютные элементы, каждый из которых в субстанциальной неподвижности существует только для себя и пониматься должен лишь в себе. Но это понятие субстанции не содержит указания на необходимый или хотя бы только понятный переход к множественности мира, к многообразию и разнообразию его особенных проявлений. Так, у Спинозы переход от субстанции как того, что in se est et per se concipitur7*, к ряду отдельных зависимых и изменчивых modi8* не столько дедуцируется, сколько постулируется. История философии учит, что постепенно метафизика все ясней осознает, какая идейная дилемма перед ней стоит. Либо она вынуждена принять всерьез фундаментальное понятие абсолютного наличного бытия - и тогда все отношения как бы улетучиваются и разнообразие форм пространства, времени, причинности грозит свестись к простой видимости; либо эти отношения (если они признаются) она должна присоединить к бытию
124___________________________________Культурфилософгкие рефлексии
как нечто внешнее и случайное, как что-то «акцидентальное». Но постепенно происходит обратная реакция: становится все более очевидным, что только это «случайное» доступно познанию и постижимо в его формах, в то время как чистая «сущность», в которой надлежит видеть основу всех частных определений, растворяется в абстрактной пустоте. То, что следовало понимать как «вселенную реальности», как сущностное ядро действительности, оказывается в конечном счете каким-то «нечто», которое хотя и заключает в себе момент чистой определенности, но уже не содержит ничего из самостоятельной и позитивной конкретности.
Этой диалектики метафизического учения о бытии можно избежать лишь в том случае, если с самого начала понимать «содержание» и «форму», «элемент» и «отношение» так, чтобы и те и другие мыслились не как независимые друг от друга определения, а как соотнесенные друг с другом и взаимодетерминированные моменты. Чем более явно выражается в истории мысли поворот умозрения в сторону «субъективного», тем чаще проводится это общее методологическое требование, ибо вопрос, если его перенести с почвы абсолютного бытия на почву сознания, тотчас принимает новую форму. Всякое «простое» качество сознания лишь постольку имеет определенное содержание, поскольку берется одновременно и в полном единстве с другими содержаниями, и в полном обособлении от них. Функция такого объединения и обособления не только неотделима от содержания сознания, но и представляет собой одно из его существенных условий. Вот почему в сознании не бывает никакого «нечто» без того, чтобы тем самым оно ео ipso не было опосредовано полаганием «иного» или целого ряда иных содержательных моментов. Всякое отдельное бытие сознания обладает определенностью именно потому, что в нем одновременно сополагается и представляется целостность сознания. Только в этой репрезентации и лишь посредством нее возможно то, что мы называем данностью и «наличностью» («Prasenz») содержания. Это сразу станет ясным, как только мы рассмотрим хотя бы самый простой случай этой «наличности» — временнбе отношение и «настоящее» время. Казалось бы, нет ничего более достоверного, чем то, что непосредственно дано в сознании, относится к отдельному моменту времени, к определенному «сейчас» и заключено в нем. Прошлое в сознании «уже не» имеется в наличности, будущее «еще не» имеется в наличности; создается впечатление, будто они лишены конкретной реальности, собственной актуальности и растворяются в чисто мыслительных абстракциях. Но верно и то, что содержание, обозначаемое нами словом «сейчас», есть не что иное, как вечно текущая граница между прошлым и будущим. Эта граница не может полагаться вне свя-
Эрнст Кассирер. Философия символических форм__________ 125
зи с тем, чтб она разграничивает: она существует лишь в самом акте разграничения и не может мыслиться до этого акта как нечто от него независимое. Отдельный момент, поскольку он определяется именно как момент времени, — это не застывшее субстанциальное бытие, а текущий переход от прошлого к будущему, от «уже-не» к «еще-не». Там, где «сейчас» рассматривается иначе - как нечто абсолютное, - это уже не момент времени, а его отрицание. В этом случае движение времени оказывается остановленным и тем самым уничтоженным. Для мышления, которое, подобно мышлению элеатов, ориентируется исключительно на абсолютное бытие, стремясь в нем застыть, летящая стрела покоится, ибо ей в каждое неделимое «сейчас» всегда соответствует одно-единственное, однозначно определенное и неделимое «место». Но если исходить из того, что момент времени включен в движение времени, то он не будет из него вырываться и ему противопоставляться, он будет с ним совместим: это возможно только потому, что в отдельном моменте времени одновременно мыслится и процесс как целое, потому что и момент, и процесс сводятся сознанием в единство. Сама форма времени может быть нам «дана» только благодаря тому, что в моменте времени представлен временной ряд в направлениях «вперед» и «назад». Если мы возьмем какой-то один фрагмент сознания, то понять его нам удастся лишь в силу того, что мы не остановимся на нем, а выйдем за его пределы в различных направлениях (сообразно отношениям) вслед за пространственными, временными или качественными функциями упорядочения. И поскольку мы способны таким образом сохранять в актуальном бытии сознания неактуальное, в данном - неданное, постольку благодаря этому для нас существует то единство, которое, с одной стороны, мы называем субъективным единством сознания, а с другой - объективным единством предмета.
Психологический и критическо-познавательный анализ пространственного сознания приводит нас к той же первоначальной функции репрезентации. Дело в том, что восприятие пространственного «целого» предполагает образование общих временных рядов: хотя синтез сознания в «одновременности» и является подлинно первичной функцией сознания, тем не менее он может быть осуществлен и представлен всегда лишь на основе синтеза в «последовательности». Если определенные элементы надо соединить в одно пространственное целое, то сначала они должны пробежать в последовательности сознания и соотнестись друг с другом согласно определенному правилу. Ни английский сенсуализм, ни метафизическая психология Гербарта не смогли растолковать, как из сознания временной связи возникает сознание связи пространствен-
126 Культурфилософскис рефлексии
ной — как из простого ряда зрительных, осязательных и мускульных ощущений или комплекса рядов воображения формируется сознание «совместности». Одно, по крайней мере, дружно признается теориями, отправные пункты которых совершенно различны: пространство в своей конкретной форме не есть то, чем душа обладает в готовом виде, — оно впервые создается только в процессе сознания, в его общем движении. Но сам этот процесс распадается для нас на абсолютно изолированные, не соотнесенные друг с другом частности, так что сведение их воедино осталось бы неразрешимой задачей, если бы и здесь не было возможности постигать целое уже в части, а часть — в целом. «Выражение многого в одном», multorum in unu expressio, в котором Лейбниц усматривал сущность сознания вообще, здесь также играет главную роль. К созерцанию пространственных конструкций мы приходим благодаря тому, что, с одной стороны, соединяем в единое представление группы чувственных восприятий, сменяющие друг друга в непосредственном чувственном переживании, и, с другой стороны, мы разделяем это единство на разнообразные составляющие его компоненты. Лишь в таком чередовании синтеза и анализа впервые создается представление о пространстве. Здесь образ является в такой же мере потенциальным движением, в какой движение — потенциальным образом.
Беркли в своих исследованиях по теории зрения, положивших начало современной психологии оптики, сравнил развитие восприятия пространства с развитием языка. Это своего рода естественный язык, т.е. устойчивое взаим©соответствие знаков и значений, с помощью которых впервые приобретается и закрепляется представление о пространстве. Мир пространства как систематически связанные между собой и соотнесенные перцепции возникает для нас не в результате того, что в нашем представлении отражается имеющийся в наличии готовый вещественный прообраз «абсолютного пространства», но лишь постольку, поскольку мы учимся применять различные несравнимые друг с другом впечатления многих органов чувств — в особенности зрительные и осязательные — в качестве репрезентантов и знаков друг для друга. Беркли, исходя из принципиально сенсуалистических предпосылок, попытался понять язык духа, каковой считал условием представления о пространстве, как язык одних только чувств. Но при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что эта попытка была заведомо обречена на провал. Ведь уже в самом понятии языка подразумевается, что он не может быть только чувственным, а является своеобразным взаимопроникновением и взаимодействием чувственных и понятийных факторов, поскольку всегда предполагает наполнение индивидуального чувственного знака общим
Эрнст Кассирер. Философия символических форм_______________127
смысловым содержанием. То же самое относится и к любому другому виду «репрезентации» — представлению одного элемента сознания в другом и посредством другого. Если предположить, что чувственная основа для формирования представления о пространстве дана в конкретных зрительных, двигательных и осязательных ощущениях, то ведь сумма этих ощущений не содержит в себе ничего из характерной единой формы, называемой нами «пространством». Последняя выражается в таком упорядочении, посредством которого возможен переход от любого из этих отдельных качеств к их совокупности как целому. Так что мы уже мысленно полагаем в каждом элементе, поскольку он рассматривается как элемент пространства, целую бесконечность потенциальных направлений, и только совокупность этих направлений составляет целостность пространственного созерцания. Имеющийся у нас пространственный «образ» отдельного эмпирического предмета, например дома, создается только благодаря тому, что мы расширяем в указанном смысле относительно ограниченную перспективу, — используем его лишь как отправную точку и побуждение к тому, чтобы выстроить, исходя из него, сложную систему пространственных отношений. В этом смысле пространство — уже не покоящийся сосуд или футляр, в который входят готовые «вещи»; скорее - это совокупность идеальных функций, соопределяющих друг друга и взаимодействующих в единстве результата. Подобно тому как в простом временном «сейчас» мы одновременно находим выражение основных направлений временного процесса в форме «раньше» и «позже», так и в любом «здесь» мы уже предполагаем «тут» и «там». Отдельное место не дано раньше системы мест - оно дано лишь с учетом этой системы и в корреляционном к ней отношении.
Третья форма единства, надстраивающаяся над пространственной и временной, — форма предметной связи. Если мы соединим совокупность определенных свойств в целое одной устойчивой вещи с многообразными и меняющимися особенностями, то это соединение будет предполагать связи в рядопсложенности и последовательности, но не будет к ним сводиться. Относительно константное должно отличаться от изменчивого — определенные пространственные конфигурации должны быть закреплены, чтобы могло сформироваться понятие о вещи как об устойчивом «носителе» изменчивых свойств. Но, однако, мысль об этом «носителе» прибавляет к воззрению на пространственную совместность и временную последовательность новый момент, имеющий самостоятельное значение. Правда, эмпирический анализ познания всегда пытался оспаривать эту самостоятельность. Он видит в мысли о вещи не что иное, как чисто внешнюю форму связи, и стремится доказать, что
128 Культу рфнлософские рефлексии
содержание и форма «предмета» исчерпываются суммой свойств этой формы связи. Но здесь обнажается все тот же существенный изъян, имевшийся и в эмпирическом анализе понятия и сознания Я. Если Юм объявляет Я «пучком перцепций», то этот тезис - хотя в нем зафиксирован факт связи вообще, но ничего не сказано об особой форме и способе синтеза Я — отрицает сам себя хотя бы потому, что в понятии перцепции в совершенно нерасчлененном виде содержится понятие Я, которое лишь мнимо анализируется и разлагается на составные части. Именно «принадлежность» к Я делает отдельную перцепцию перцепцией и отличает ее в качестве «представления» от любого вещественного качества. Я впервые возникает не после соединения множества перцепций, а уже изначально (штб хаб' cwto9" присуще каждой из них в отдельности. Аналогичное отношение имеет место и при сведении многообразных «свойств» в единство «вещи». Если мы соединяем ощущения протяженного, сладкого, шероховатого, белого в представление о «сахаре» как о едином вещественном целом, то это возможно лишь постольку, поскольку каждое отдельное качество уже изначально мыслилось определенным через это целое. То, что белое, сладкое и т.д. воспринимается не только как мое состояние, но и как «свойство», предметное качество, предполагает искомую функцию и «вещную» точку зрения. Таким образом, уже в полагании отдельного присутствует фундаментальная схема, наполняемая по мере опытного познания «вещи» и ее «свойств» все новым конкретным содержанием. Подобно тому как точка в качестве простого отдельного места всегда возможна лишь «в» пространстве, т.е., говоря языком логики, если }же предполагается система всех пространственных определений, подобно тому как мысль о временном «сейчас» определима лишь, с учетом ряда моментов и упорядоченной последовательности, которую мы называем «временем», то это же самое характерно и для отношения «вещь - свойство». Во всех данных отношениях, легальное определение и анализ которых дело специальной теории познания, обнаруживается принципиально одинаковый характер сознания, заключающийся в том, что целое здесь не складывается из частей, но всякое полагание части уже заключаег в себе пола-гание целого - не по содержанию, а по обшей структуре и форме. Отдельное изначально принадлежит определенному комплексу и выражает собой правило этого комплекса. Но лишь совокупность этих правил составляет подлинное единство сознания как единство времени, пространства, предметной связи и т.п.
Традиционный язык понятий психологии не в состоянии дать точной формулировки описанного нами положения вещей, поскольку психология лишь на поздней стадии своего развития, со-
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 129
вершив переход к современной «гештальтпсихологии», освободилась от влияния принципов сенсуализма. Для сенсуализма объективность заключается в «простом» впечатлении, всякого рода связь он рассматривает не иначе как «ассоциацию», объединение впечатлений. Широты этого термина вполне достаточно, чтобы в равной мере охватить все возможные отношения, но из-за такой широты с его помощью нельзя распознать их особенностей и своеобразия: Отношения и модальности самого различного качества обозначаются им без всякого разбора. «Ассоциацией» называется соединение элементов в единство «времени» или «пространства», в единство «Я» или «предмета», в целостность «вещи» или в последовательность «событий», в ряды, члены которых связаны между собой как с точки зрения «причины» и «следствия», так и с точки зрения «средства» и «цели». «Ассоциация» считается, далее, подходящим выражением и для логического закона связи отдельного в понятийное единство познания, и для способов формообразования в структуре эстетического сознания. Но тут-то и выясняется, что это понятие обозначает лишь сам факт связи, ничего не сообщая о ее специфическом виде и правиле. Разнообразие путей и направлений, которыми сознание идет к своим синтезам, здесь полностью от нас сокрыто. Если мы возьмем в качестве «элементов» a, b, с, d и т.д., то, как было показано выше, существует детально иерархи-зированная и внутренне дифференцированная система функций F (а, Ь), Ф (с, d) и т.д., выражающая связь между ними, но эта система не только не находит своего выражения в родовом понятии ассоциации, но скорее исчезает в нем, так как подвергается нивелированию. Это обозначение имеет и еще один существенный недостаток. Содержательные моменты, вступающие друг с другом в ассоциации, все же остаются по своему смыслу и происхождению разделимыми, какой бы тесной ни была их связь и каким бы внутренне однородным ни казался их «сплав». В прогрессирующем опытном познании они консолидируются во все более прочные объединения и группы, между тем их содержание как таковое впервые дано не через посредство группы, а до него. Но именно такое отношение «части» к «целому» в подлинных синтезах сознания принципиально преодолено. В них целое не возникает из частей - наоборот, оно конституирует части и придает им их сущностный смысл. Как было показано выше, всякую ограниченную часть пространства мы мыслим соотнесенной с пространственным целым, отдельный момент времени - с общей формой последовательности, а полагание каждого особенного свойства подразумевает общее отношение «субстанции» и «акциденции» и тем самым характерную форму «вещи». Но секрет такого взаимопроникнове-
130____________________________________Ку-пьтурфиткэсофские рефлексии
ния, такой интенсивной «взаимообусловленности» понятие ассо-циации, будучи выражением «одного-наряду-с-другим», как раз и не может раскрыть. Предлагаемые ею эмпирические правила смены представлений не делают понятными специфику основных форм и конструкций, в которые представления соединяются, не объясняют образующееся из них единство «смысла».
Отстоять и доказать самостоятельность этого «смысла» — такова, напротив, задача рационалистической теории познания. Одна из ее главных исторических заслуг состоит в том, что благодаря ей, в силу одной и той же идейной направленности были заложены основы нового, более глубокого взгляда на сознанйе вообще и понятие о «предмете» познания в частности. Так, подтвердились слова Декарта о том, что единство объективного, единство субстанции может быть схвачено не в восприятии, а только в рефлексии духа, в inspectio mentis. Это самый серьезный аргумент против эмпирической теории «ассоциаций» из всех, что были выдвинуты в его рационалистическом учении, но в нем все-таки еще не снято внутреннее напряжение между двумя принципиально различными сущностными элементами сознания — между его «материей» и «формой». Ведь основания связи содержательных моментов сознания здесь также усматриваются в деятельности, относящейся к отдельным содержательным моментам как бы извне. Согласно Декарту, «идеи» внешнего восприятия - идеи светлого и темного, шероховатого и гладкого, цветового и звучащего — даны в себе и для себя лишь как образы (velut picturae) в нас и в этом смысле являются субъективными состояниями. Только совершенно независимая от этих впечатлений функция суждения и «бессознательного заключения» выводит нас за пределы этой ступени познания, делает возможным переход от многообразия и изменчивости впечатлений к единству и константности предмета. Объективное единство есть чисто формальное единство, которое как таковое нельзя ни услышать, ни увидеть, но можно познать лишь в логическом процессе чистого мышления. Метафизический дуализм Декарта в конечном счете коренится в методологическом дуализме: учение об абсолютной отделенности протяженной субстанции от субстанции мыслящей — лишь метафизическое выражение противоположности, которая просматривается у него уже в представлении о функции самого чистого сознания. И даже у Канта, в начале «Критики чистого разума», эта противоположность между чувственностью и мышлением, между «материальными» и «формальными» определениями сознания демонстрирует свою старую, еще не утраченную силу, хотя здесь и выдвигается идея, что обе они, должно быть, происходят из одного общего, но неизвестного нам корня.
Эрнст Кассирер. Философия символических форм______________131
Такая постановка проблемы вызывает возражение прежде всего потому, что предпринимаемое здесь противопоставление само уже является продуктом абстрагирования, логического полагания и оценки отдельных факторов познания, между тем как единство сознания-материи и сознания-формы, «особенного» и «общего», чувственно-воспринимаемых «моментов данности» и чистых «моментов порядка» как раз и есть тот первоначальный и несомненный, изначально данный знанию феномен, из которого должен исходить всякий анализ сознания. Если пояснить это положение вещей математическим сравнением (хотя оно и выходит за рамки математического), то в противоположность простой «ассоциации» можно говорить об «интеграции». Элемент сознания относится к целостности сознания не как экстенсивная часть к сумме частей, но как дифференциал к интегралу. Подобно тому как в дифференциальном исчислении движения в его законах выражается движение как единый процесс, так и общие структурные законы сознания мы должны мыслить данными уже в каждом его элементе, в каждом его разрезе — данными не как самостоятельные содержательные моменты, а как тенденции и направления, заложенные уже в чувственно воспринимаемом отдельном. Всякое наличное бытие сознания существует как раз потому и посредством того, что оно выходит за свои собственные границы в разнообразных направлениях синтеза. Подобно тому как сознание мгновения уже заключает в себе указание на временной ряд, а сознание отдельного местоположения - указание на пространство как совокупность возможных пространственных определений, таков же и способ данности множества отношений, посредством которых в сознании отдельного одновременно выражена форма целого. «Интеграл» сознания строится не из суммы чувственных элементов (а, Ь, с, d...), а как бы из совокупности дифференциалов своих отношений и форм (Аг , Аг , Аг ...). Полная актуализация сознания есть лишь развертывание того, что в каждом особом элементе сознания уже заключено в «потенции» и общей возможности. И только таким путем можно впервые прийти к наиболее общему критическому решению вопроса Канта: как возможно то, что если есть «нечто», то тем самым одновременно должно существовать и совершенно отличное от него «иное». Это отношение, рассмотренное с точки зрения абсолютного бытия, кажется тем парадоксальней, чем глубже'рассматривается и детальней анализируется, но оно предстает как необходимое и самоочевидное, если рассматривается с точки зрения сознания. Ведь здесь с самого начала нет абстрактного «одного», которому в такой же абстрактной обособленности и независимости противостоит «другое», — здесь одно пребывает
132 Кулмурфилософские рефлексии
«во» многом и многое «в» одном в том смысле, что они друг друга взаимно обусловливают и представляют.
IV
Исходная посылка вышеизложенного - дать критическо-позна-вательную «дедукцию», обоснование и реабилитацию понятия репрезентации, ибо репрезентация — представление одного содержания в другом и через посредство другого - должна быть признана сущностной предпосылкой построения самого сознания, условием его собственного формального единства. Но целью дальнейшего исследования является уже не общее логическое значение функции репрезентации. Нам предстоит рассмотреть проблему знака, не возвращаясь к ее «первоосновам», а продвигаясь вперед в направлении к конкретной развернутости и оформленности, какие даны в многообразии различных сфер культуры. Для такого исследования заложен теперь новый фундамент. Если мы хотим понять художественную символику, те «произвольные» знаки, которые сознание создает в языке, искусстве, мифе, мы должны обратиться к «естественной» символике - тому представлению о целостности сознания, которое необходимо содержится или по меньшей мере задано в каждом отдельном моменте и фрагменте сознания. Сила и мощь опосредствующих знаков осталась бы для нас загадкой, если бы мы не усматривали их последнего основания в первоначальном процессе, коренящемся в сущности самого сознания. То, что чувственно воспринимаемое единичное содержание, например физический звук речи, может стать носителем чисто духовного значения, в конечном счете становится понятным лишь благодаря тому, что сама фундаментальная функция обозначения существует и действует до полагания какого-либо отдельного знака, так что в этом пола-гании она не создается впервые, а лишь фиксируется, применяется к частному случаю. Поскольку всякое особенное содержание сознания находится в сети многообразных отношений, благодаря которым оно как простое, представленное самим собой бытие в то же время заключает в себе указание на многие другие содержательные моменты, постольку могут и должны существовать конструкции сознания, служащие, так сказать, чувственным воплощением этой чистой формы указания. Отсюда характерная двойственная природа этих конструкций: они зависят от чувственного и в то же время свободны от него. В любом языковом «знаке», в любом художественном «образе» или «образе» мифа нам открывается духовное содержание, которое, облекаясь в форму чувственного - в форму зрительного, слухового или осязательного, — выводит нас, рассмо-
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 133
тренное в себе и для себя, далеко за пределы всякой чувственности. Речь идет о самостоятельном способе формообразования как специфической активности сознания, отличной от какой бы то ни было данности непосредственного ощущения или восприятия, — активности, которая саму эту данность использует в качестве передаточного средства, средства выражения. Тем самым «естественная» символика, лежащая в основе самого сознания, с одной стороны, находит применение и фиксируется, с другой - совершенствуется и утончается. В «естественной» символике мы имели дело с определенной частью содержания сознания, которая, будучи извлечена из целого, тем не менее это целое представляла и путем этого представления в известном смысле воссоздавала. Наличное содержание обладало способностью представлять, помимо самого себя, одновременно еще и другое - данное не непосредственно, а лишь через него. Но ведь знаки и символы языка, мифа, искусства «существуют» не потому, что они есть, — не для того, чтобы быть, а потом обзавестись еще каким-то значением. Все их бытие состоит в их значении, а их содержание совершенно исчерпывается функцией обозначения. Сознание, для того чтобы схватить целое в части, больше не нуждается в том, чтобы на него воздействовало частное как таковое в его непосредственной данности; сознание само создает определенные конкретно-чувственные содержания как выражения определенных смысловых комплексов. Поскольку эти содержания, будучи продуктами деятельности сознания, целиком находятся в его власти, постольку с их помощью можно свободно «вызвать» и все их значения. Например, связывая данное восприятие или представление с произвольным звуком речи, мы, казалось бы, ничего не прибавляем к их собственному содержанию. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что в процессе создания языкового знака и само содержание, приобретая новую определенность, меняет в сознании свой «характер». Его строгое идеальное «воспроизведение» (Reproduktion) связано с актом языкового «творчества» (Produktion). Задача языка - не повторять те определения и различия, что уже даны в представлении, а впервые полагать их, выделять и делать доступными познанию. Это свободное деяние духа вносит порядок в хаос чувственных впечатлений, в результате чего мир опыта впервые приобретает твердые формы. Лишь благодаря тому, что мы творчески относимся к потоку впечатлений, он приобретает для нас форму и долговечность. Этот процесс становления формы происходит в языке, искусстве, мифе различным образом, на базе разных конструктивных принципов, но все их объединяет одно: то, что является продуктом их деятельности, - уже не голый материал, служивший им некогда отправным пунктом. В этом
134
Кулыурфилософские рефлексии
главное отличие идеального сознания от сознания чувственного в плане функции обозначения вообще и ее различных направлений в частности. Не отдаваясь пассивно во власть внешнему наличному бытию, мы накладываем на него свою печать, в результате чего оно распадается на различные сферы и формы действительности. Миф и искусство, язык и наука являются в этом смысле формами чеканки бытия; они — не просто отпечатки наличной действительности, а директивы движения духа, того идеального процесса, в котором реальность конституируется для нас как единая и многообразная, как множество форм, спаянных в конечном счете единством смысла.
Если иметь в виду эту цель, то станут ясными особое предназначение различных знаковых систем и их применение сознанием. Будь знак лишь повторением готового единичного содержания восприятия или представления, было бы непонятно, зачем нужна такая убогая копия налично данного и как добиться ее строгой адекватности. Ведь очевидно, что копия, снятая с оригинала, всегда недостаточна, а для умозрения и вовсе бесполезна. Поэтому неудивительно, что, ориентируясь на такую познавательную норму, неминуемо приходишь к принципиальному скепсису в отношении ценности знака вообще. Если подлинной и главной задачей языка считать воспроизведение речевым звуком той реальности, которую мы находим готовой в отдельных ощущениях и восприятиях, тотчас становится ясно, как бесконечно далек от решения этой задачи любой язык. По сравнению с безграничным богатством и многообразием данной нам в созерцании действительности все языковые символы должны казаться пустыми, абстрактными и неопределенными по сравнению с ее индивидуальной определенностью. Попытка языка соперничать в этом отношении с ощущением или созерцанием может лишь продемонстрировать его бессилие. Однако npcbrov грсббо^10* скептической критики языка заключается как раз в том, что этот масштаб предполагается единственно возможным. На самом деле анализ языка — особенно если исходят не из отдельного слова, а из единства предложения — показывает, что любое выражение языка далеко от того, чтобы быть просто отпечатком налично-данного мира ощущений или созерцаний, а скорее имеет самостоятельный характер «придания смысла». И это свойственно знакам самого разного вида и происхождения. В известном смысле обо всех них можно сказать: их ценность состоит не столько в том, что они сохраняют из чувственно-конкретного содержания в его непосредственной данности, сколько в том, что они в нем элиминируют и преодолевают. Так, художественное изображение становится тем, что оно есть и чем оно отличается от простого механического воспроизведения, лишь благодаря исключению из
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 135
рассмотрения части налично данных впечатлений. Оно не является повторением последних в их чувственно воспринимаемой полноте, а извлекает из них определенные «выразительные» моменты, как бы взламывающие границы налично данного и ведущие художественно-творческую, синтетическую пространственную фантазию в определенном направлении. Сила знака состоит здесь, как и в других сферах, именно в том, что, по мере того как непосредственно содержательные определения отступают на задний план, общие моменты форм и отношений достигают все более ясного и чистого выражения. Частное как таковое как бы ограничивается; но именно благодаря этому все большую определенность и силу получает деятельность, которую мы называем «интеграцией в целое». Всякое частное в сознании «существует» лишь благодаря тому, что потенциально заключает в себе целое и как бы находится в постоянном переходе к нему. Однако лишь применение знака открывает возможность для свободной актуализации этой потенции. Одним знаком мы и в самом деле схватываем тысячу связей, резонирующих в нем с большей или меньшей силой и отчетливостью. Создавая знаки, сознание все больше освобождается от непосредственного субстрата ощущения и чувственного восприятия, однако именно этим оно убедительно доказывает изначально скрытую в нем способность связывать и соединять.
Пожалуй, наиболее явно эта тенденция проявляется в функции научной знаковой системы. Абстрактная химическая «формула», обозначающая определенное вещество, не содержит в себе ничего, что нам известно из непосредственного наблюдения и чувственного восприятия данного вещества; зато она включает отдельное физическое тело в чрезвычайно многообразный и утонченно структурированный комплекс отношений, вообще неведомый восприятию как таковому. В ней физическое тело обозначается, исходя не из того, что оно «существует» как чувственно воспринимаемое, и не на основании того, каким оно непосредственно дано в чувствах, а рассматривается как совокупность возможных «реакций», каузальных взаимосвязей, определяемых общим правилом. Эта совокупность закономерных связей настолько спаяна в конститутивной химической формуле с выражением отдельного, что благодаря ей оно получает совершенно новый характерный профиль. Здесь, как и в других случаях, знак - посредник при переходе от простого «материала» сознания к его духовным «формам». Именно потому, что знак лишен собственной чувственной массы и, так сказать, парит в чистом эфире значения, он представляет не отдельные части сознания, а весь комплекс его движений. Он — не отражение стабильного содержания сознания, а директива таких движений.
136 Культурфилософские рефлексии
Например, слово, с точки зрения физического субстрата, — всего лишь дуновение воздуха: но в этом дуновении таится необычайная сила, воздействующая на динамику представления и мышления. Знак не только влияет на интенсивность этой динамики, но и регулирует ее. Еще в проекте Лейбница «Characteristicageneralis» к существенным достоинствам знака отнесено то. что он служит не столько изложению, сколько обнаружению определенных логических взаимосвязей, не только символически резюмирует знание, но и открывает новые пути в неведомое, в то, что знанию еще недоступно. Здесь сознание демонстрирует свою синтетическую силу, которая выражается в том, что достигнутая им концентрация содержания тотчас становится импульсом для расширения своих прежних границ. Вот почему синтез, представленный в знаке, всегда вместе с ретроспективой открывает и новую перспективу. В нем полагается относительное завершение, которое в то же время дает прямой толчок дальнейшему движению, расчищая для него путь и открывая возможность познать его общее правило. В истории науки достаточно таких примеров: они свидетельствует о том, как много значит для решения конкретной проблемы или комплекса проблем их четкая и ясная «формулировка». Так, еще до Лейбница и Ньютона была поставлена и принята во внимание — в алгебраическом анализе, геометрии, механике — большая часть проблем, решенных впоследствии с помощью ньютоновского понятия флюксии и алгоритма дифференциального исчисления Лейбница. Но лишь благодаря тому, что для них было найдено единое всеобъемлющее символическое выражение, они стали вполне решаемыми: вместо набора шатких и разрозненных вопросов был сформулирован принцип их происхождения из одного определенного общедоступного метода, из одной основополагающей операции со строго установленными правилами применения.
Итак, в символической функции сознания представлена и опосредствована противоположность, данная уже в простом понятии сознания. Всякое сознание представлено в виде временного события, но в центре этого события должны находиться определенные «формы». Момент непрерывного изменения и момент постоянства должны, следовательно, переходить друг в друга. Таково общее требование, которое по-разному выполняется в конструкциях языка, мифа, искусства и в интеллектуальных символах науки. Казалось бы, все они непосредственно принадлежат живому, постоянно обновляющемуся процессу сознания: и в то же время ими владеет стремление остановиться, найти определенные точки покоя. В них сознание демонстрирует характер непрерывного течения, но его поток представляет собой не что-то неопределенное,
Эрнст Кассирер. Философия символических форм______________137
а намывает из самого себя твердые средоточия форм и значений. Каждая такая форма, как чистое «бытие в себе», айтб кав’ авто; в платоновском смысле, извлекается из потока представлений, но ведь для того, чтобы вообще явиться, приобрести «бытие для нас», она одновременно должна каким-то образом репрезентировать себя в этом процессе. Оба эти условия выполняются в создании и применении различных систем знаков и символов, потому что здесь чувственно-воспринимаемое единичное содержание, оставаясь таковым, способно представлять сознанию общезначимое. Вот почему здесь теряют силу и главный принцип сенсуализма «Nihil est in intellectu, quod ante fuerit in sensu»”*, и его интеллекту -алистская антитеза. Ведь речь идет уже не о предшествовании или последовании «чувственного» по отношению к «духовному», а о выражении и манифестации основной функции духа в чувственном материале. С этой точки зрения абстрактный «эмпиризм» и абстрактный «идеализм» одинаково грешат односторонностью, потому что в обоих течениях это принципиально важное отношение не разработано до полной ясности. Одно выдвигает понятие налично данного и единичного, не признавая того, что такого рода понятие, эксплицитно или имплицитно, всегда уже включает в себя моменты и определения общего, другое утверждает значимость и необходимость последних, но не указывает на то опосредствование, с помощью которого они только и могут явить себя в психологической данности сознания. Однако если исходить не из какого-то абстрактного постулата, а из конкретной формы духовной жизни, то эта дуалистическая противоположность оказывается снятой. Первоначальная иллюзия непроходимой пропасти между мыслимым и чувственным, между «идеей» и «явлением» исчезает. Ведь если мы и остаемся в пределах мира «образов», то речь идет не о таких образах, которые отражают сущий в себе мир «вещей», а об образных мирах, принцип и происхождение которых следует искать в автономном творчестве духа. Лишь в них и посредством них для нас существует то, что мы называем «действительностью»: истина, объективная в той мере, в какой она вообще может открыться духу, — это в конечном счете форма его собственной деятельности. В тотальности видов своей деятельности, в познании специфических правил, руководящих каждым из них, л, наконец, в сознании взаимной связи, сводящей все частные правила в единство одной задачи и ее решения, - лишь так, как мы теперь знаем, дух постигает сам себя. Что представляет собой абсолютная реальность вне этой совокупности духовных функций, что есть в этом смысле «вещь в себе» - на этот вопрос дух больше не стремится получить ответ, постепенно учась пони-
138 Культурфилософские рефлексии
мать его просто как ошибочную постановку проблемы, иллюзию мышления. Истинное понятие о действительности не дает втиснуть себя в примитивную абстрактную форму бытия, но поднимается до многообразия и богатства форм духовной жизни - такой жизни, на которой лежит печать внутренней необходимости и, следовательно, объективности. Каждая новая «символическая форма» — не только понятийный мир познания, но и образный мир искусства, мифа или языка — это, по выражению Гёте, откровение, идущее изнутри вовне, «синтез мира и духа», впервые гарантирующий их подлинное первоединство.
Тем самым проливается новый свет на фундаментальную противоположность, которую современная философия с самого начала пыталась преодолеть, формулируя свои положения все точнее и строже. Поворот к «субъективности», происходящий в современной философии, привел к тому, что совокупность своих проблем она начала фокусировать не в понятии бытия, а в понятии жизни. Но если противоположность субъективности и объективности в той форме, в какой она представлена в догматической онтологии, была как будто бы окончательно снята и преодолена, то теперь в самом учении о жизни вскрылась не менее радикальная противоположность. Кажется, будто реальность жизни дана не в чем ином, как в ее чистой непосредственности — всякое понимание и познание жизни опасно для этой непосредственности и грозит ей уничтожением. Если исходить из догматического понятия о бытии, то в нем, безусловно, обнаруживается дуализм бытия и мышления, причем по мере исследования контуры дуализма проступают все явственней — тем не менее здесь сохраняется хотя бы видимость того, что еще не утрачены возможность и надежда запечатлеть в образе бытия, созданном познанием, по крайней мере остатки реального бытия. Кажется, словно бытие, пусть не полностью и не адекватно, но все же отчасти входит в творимый познанием образ, как бы проникая своей субстанцией в субстанцию познания, дабы породить в ее лоне более или менее верное отражение самого себя. Но чистая непосредственность жизни не допускает такой разделенности и раздвоенности. Она позволяет видеть либо все, либо ничего: она не входит в те опосредствования, с помощью которых мы пытаемся ее познать, оставаясь вне их как нечто принципиально иное, противоположное и чуждое им. Первоначальное содержание жизни непостижимо в форме какой-то репрезентации — оно доступно только чистой интуиции. Поэтому познание всего духовного обречено на выбор между двумя крайностями. Мы должны решить, будем ли искать субстанциальность духа в его чистой первозданности, которая предшествует любым формам опосредствования, или хотим
Эрнст Кассирер. Философия символических форм
139
погрузиться в богатство и многообразие этих опосредствований. Кажется, лишь первый подход позволяет прикоснуться к истин-
ному ядру жизни, внутренне простому и замкнутому в самом себе, тогда как при втором перед нами развертывается зрелище многообразных проявлений духа, которое, однако, чем глубже мы в него погружаемся, тем больше напоминает пустой спектакль, превращаясь в череду отблесков, лишенных самостоятельной реальности и сущности. Создается впечатление, будто пропасть между этими край-
ностями непреодолима никакими усилиями опосредствующего мышления, целиком стоящего на одной из сторон противополож-
ности: идя все дальше в направлении чисто знакового, символического, мы безвозвратно отлучаем себя от первооснов интуиции.
Эта проблема и дилемма всегда стояла перед философской мистикой, теперь же ее заново осознала и сформулировала чистая логика идеализма. С раздумий Платона о соотношении «идеи» и «знака» и об их неизбежном несовпадении друге другом, изложенных в седьмом письме, начинается мотив, повторяющийся в дальнейшем в самых разнообразных вариациях. В учении Лейбница о методе познания «интуитивное познание» резко противопоставляется «символическому». У основоположника проекта «всеобщей характеристики» познание посредством символов — в отличие от интуиции как чистого созерцания идей, их непосредственного «видения» — низводится до уровня «слепого познания» (cogitatio caeca)8. Человеческое познание не может обойтись без образов и знаков, но именно поэтому оно и характеризуется как «человеческое», т.е. как ограниченное и конечное, которому противостоит идеал совершенного, первообразного и божественного разума. Кант, точно указавший логическое место этого идеала, определил его как пограничное понятие познания и считал его таким образом критически преодоленным. Но именно у него в том месте, которое с методологической точки зрения представляет собой вершину «Критики способности суждения», доведена до высшего напряжения противоположность между «intellectus archetypus»12* и «intellectus ectypus»13’, между интуитивным, первообразным разумом и разумом дискурсивным, «нуждающимся в образах». Из этой противоположности с необходимостью следует, что чем богаче символическое содержание познания или какой-нибудь другой формы духа, тем более скудным должно быть ее сущностное содержание. Изобилие образов не раскрывает, а, наоборот, как оболочка, скрывает стоящее за ним лишенное образа Единое, к которому все они тщетно стремятся. Лишь отказ от образной определенности, или, как это называется на языке мистики, возврат к «чистому ничто», может вернуть нас к подлинной праоснове и первосущно-
140 Ку.1плурфилософскис рефлексии
сти. Та же противоположность, рассмотренная иначе, предстает в виде извечного противоборства «жизни» и «культуры». Неотвратимая судьба культуры заключается в том, что все созданное ею в непрерывной прогрессии формообразования и «конструирования», в той же прогрессии отдаляет нас от первозданности жизни. Кажется, чем более богата и энергична творческая деятельность духа, тем больше он удаляется от первоисточника своего бытия. Дух начинают сковывать его же собственные творения — слова языка, образы мифа и искусства, интеллектуальные символы познания. Они обволакивают его нежной и прозрачной вуалью, из которой он не может вырваться. А потому подлинная, глубочайшая задача философии культуры — философии языка, познания, мифа и т.д. — заключается именно в том, чтобы сорвать эту вуаль: из опосредствующей сферы знакового и значимого вернуться в первичную сферу интуитивного созерцания. Однако такому решению задачи противится тот орган, кроме которого в распоряжении у философии ничего нет. Для нее верхом совершенства являются понятие, свет и ясность «дискурсивного» мышления, поэтому рай мистики и чистой непосредственности для нее закрыт. У философии нет другого выхода, кроме как вернуть поиски в прежнее русло. Вместо того чтобы идти назад, она должна попытаться завершить свой путь, продвигаясь вперед. Если культура выражается в творении идеальных образных миров, определенных символических форм, то цель философии заключается не в возвращении к тому, что было до них, а в том, чтобы понять и осмыслить их фундаментальный формообразующий принцип. Лишь в этом сознании содержание жизни впервые обретает свою истинную форму. Жизнь выходит за пределы бытия, данного природой: она уже не есть часть этого бытия лишь как биологический процесс — она преображается и находит завершение в форме «духа». Вот почему отрицание символических форм на самом деле привело бы нас не к познанию содержания жизни, а было бы не чем иным, как разрушением духовной формы, необходимо связанной с этим содержанием. Но если выбрать иной путь и не следовать идеалу пассивного созерцания реалий духа, а поставить себя в центр его активности, если деяния духа понимать не как способы неподвижного созерцания сущего, но как функции и энергии творчества, то, какими бы разными ни были формы, создаваемые этим творчеством, из него по крайней мере можно извлечь общие типичные черты самого процесса формообразования. Если философии культуры удастся постичь и выявить такие черты, можно будет считать, что она выполнила свою задачу в ее новом понимании — нашла в многообразии внешних выражений духа единство его сущности. Ибо последняя
Эрнст Кассирер. Философия символических форм 141
проявляется наиболее явно как раз в том, что многообразие творений культуры не только не наносит ущерба единству творческой деятельности, но скорее удостоверяет и подтверждает его.
Примечания
' См., в частности: «Софист». 243с и далее.
3 Подробней об этом см. в моей работе: «Zur Einstein’schen Relativitats-theorie». Berlin, 1921; см., в особенности, первый параграф «Понятие о массе и понятие о вещи».
’ Hertz И. Die Prinzipien dcr Mechanik. Leipzig, 1894. S. 1.
4 Cm.. Wundt W. Voikerpsychologie. Bd. Hl. Die Kunst. 2. Aull. S. 115.
5 В качестве дополнения и более детального обоснования см. изложенное мной в работе: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Berlin, 1910 (гл. VI).
6 См.: Humboldt W. Einleitung zum Kawi-Werk // Samtliche Werke (Akademie-Ausg.). Bd. VII. S. 55 II.
7 См. в этой связи мое исследование о понятийной форме в мифологическом мышлении (Studicn der Bibliothek Warburg. I. Leipzig, 1922).
8 Cm.: Meditationcs de cognitione, veritate et ideis // Leibniz’ Philos. Schriften (Gerhardt). IV. 422 ff.
I (еревод иноязычных текстов
p Правила для руководства ума (лат.).
2* Здесь: мир. Вселенная (лат.).
Мышление, рассуждение (лат.).
4’ Чувственный мир, природа (лат.).
5* Умопостигаемый (сверхчувственный) мир (лат.).
Сочетание родов (греч.).
7* Сущее в себе и посредством себя (лат.).
8‘ Модусов (лат.).
9‘ Само по себе, (это) как таковое (греч.).
10‘ Главное заблуждение (греч.),
н‘ Нет ничего в интеллекте, что прежде не было бы в ощущении (лат.).
12‘ Интеллект, понятия которого являются первообразами (лат.).
13* Интеллект, понятия которого являются отображениями предметов (лат.).
Печатается по изданию: Кассирер Э. Философия символических форм. Т. I. Язык. СПб., 2002. С. 11-48.
Вильгельм Дильгей
Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах
Введение. Борьба систем
1
Одной из наиболее существенных причин, не перестающих доставлять все новую и новую пищу скептицизму, является анархия философских систем. Основанное на свидетельствах истории сознание беспредельного многообразия этих систем находится в полном противоречии с притязанием каждой из них на общезначимость, и это противоречие гораздо сильнее питает дух скептицизма, чем какая бы то ни было систематическая аргументация. Оглянемся ли мы назад или вокруг себя, везде мы видим в хаотическом беспорядке беспредельное многообразие философских систем. И всегда, с самого своего зарождения, они исключали и опровергали друг друга. И проблеска надежды не видно на победу той или другой из них.
Это влияние борьбы философских систем, религиозных воззрений и нравственных принципов на рост скептицизма подтверждается и историей философии. Борьба более ранних греческих мировоззрений содействовала усилению философского скептицизма в эпоху греческого Просвещения. Когда после походов Александра и объединения различных народов в более крупные государства перед глазами греков развернулась пестрая картина различных нравов, религий, мировоззрений, то стали зарождаться одна за другой скептические школы, и их разлагающее действие вскоре распространилось как на проблемы теологии, на проблемы зла и теодицеи, конфликта между личностью божества и его бесконечностью и совершенством, так и на допущения относительно нравственной цели человека. Да и в более близкое к нам время система верований европейских народов, как и философская догматика их, были серьезно потрясены в общезначимости своей, когда при дворе Фридриха 11 из дома Гоген-
Ви.1Ыслыи Дильтей. Типы мировоззрения...______________________143
штауфенов столкнулись магометане и христиане и когда философия Ибн Рущда (Аверроэса) и Аристотеля попала в круг идей мыслителей схоластической школы. С тех пор как древность возродилась к новой жизни, с тех пор как греческие и римские авторы были поняты в истинных своих мотивах и эпоха открытий все более и более раскрывала многообразие климатов, народов и их мышления на нашей планете, убеждения людей, казавшиеся до тех пор твердо установившимися, поколебались до основания. В настоящее время путешественники подробно описывают верования самого различного рода, записываются и анализируются великие системы религиозных и метафизических воззрений жрецов Востока, древних греков и представителей арабской культуры. Стоит оглянуться назад, и перед нашим умственным взором открывается необозримое кладбище религиозных традиций, метафизических утверждений, систем с их аргументами. На протяжении многих столетий дух человеческий стремился научно обосновать, поэтически изобразить или религиозно возвестить взаимную связь между вещами, и методическое, вооруженное ножом критики историческое изыскание исследует каждый обломок, каждый след этой многовековой работы человечества. Одна система исключает другую, одна другую опровергает и ни одна не в состоянии доказать свою непогрешимость. В свидетельствах истории философии вы не найдете и следа той мирной беседы, которая изображена у Рафаэля в его «Школе в Афинах», явившейся выражением эклектической тенденции того времени. Так все резче и резче обозначалось противоречие между все возрастающим историческим сознанием, с одной стороны, и притязаниями философских систем на общезначимость - с другой, все большие и большие круги стали привлекать к себе вновь возникающие философские системы, какова бы ни была публика, которую привлекала к себе та или другая система и насколько прочно она ни овладевала бы ее симпатиями.
2
Еще глубже, однако, чем скептические выводы из противоречивых мнений человеческих, проникают сомнения, вытекающие из прогрессивного развития исторического сознания. Преобладающей предпосылкой исторического мышления греков и римлян был законченный тип человека с определенным содержанием. Тот же тип был положен в основу христианского учения о первом и втором Адаме, о Сыне Человеческом. Та же предпосылка легла еще в основу естественной системы XVII столетия, которая открыла в христианстве абстрактный долговечный образец религии - естественную
144 Кулыурф«шософские рефлексии
теологию. Она выводила естественное учение о праве из римской юриспруденции, а из произведений греческого искусства — образец вкуса. Так, согласно этой естественной системе, во всех исторических различиях содержались постоянные и общие основные формы социального и правового порядка, религиозных верований и нравственных воззрений. Этот метод — выводить путем сравнения исторических форм жизни нечто общее, из многообразия нравов, юридических норм и теологии выводить естественное право, естественную теологию и мораль, основанную на разуме, при помощи понятия их высшего типа - метод, который восходит к Гип-пию, который мы находим у стоиков и затем позднее в мышлении римлян, владел еще умами и в эпоху конструктивной философии. Первый удар нанес этой естественной системе аналитический дух XVIII столетия. Родиной его была Англия, где возможность свободно обозреть варварские и чуждые формы жизни, нравов и мышления встретилась с эмпирическими теориями и применением аналитического метода к теории познания, морали и эстетике. Вольтер и Монтескье перенесли этот дух во Францию. Юм и Д’Аламбер, Кондильяк и Дестют де Траси видели в пучке инстинктов и ассоциаций, каким они считали человека, беспредельные возможности создавать самые разнообразные формы при многообразии климата, нравов и воспитания. Классическим выражением этой исторической точки зрения были «Естественная история религии» Юма и его «Диалоги о естественной религии». Из работ XVIII столетия выделилась уже идея о развитии, которой суждено было владеть умами в XIX столетии. От Бюффона до Канта и Ламарка была усвоена идея о развитии зехмли, идея смены на ней различных живых форм. Значительные для своего времени работы подвинули вперед изучение культурных народов, и в этих трудах, начиная от Винкельмана, Лессинга и Гердера, применяется идея развития. Наконец, в изучении народов нецивилизованных было найдено промежуточное звено, связующее эволюционное учение естествознания с теми познаниями историко-генетического развития, которые покоились на изучении государственной жизни, религии, права, нравов, языка, поэзии и литературы различных народов. Таким образом, точка зрения историко-генетическая могла быть уже проведена в изучении всего естественного и исторического развития человека, и в этом процессе развития растворился абстрактный тип человека.
Учение о развитии, возникшее таким образом, по необходимости связано с познанием относительности всякой исторической формы жизни. Перед взором, охватывающим весь земной шар и все прошедшее, исчезает абсолютное значение какой бы то ни было отдельной формы жизни, государственного устройства, религии
Вилычмьм Дилыей. Типы мировоззрения...145 или философии. Так развитие исторического сознания еще основательнее, чем картина борьбы философских систем, разрушает веру в общезначимость всех философских систем с их попытками втиснуть изображение связи вещей в мире в стройную систему понятий. Не в мире, а в человеке философия должна искать внутреннюю связь своих познаний. Жизнь, проживаемую людьми, — вот что желает понять современный человек. Но очевидно, что многообразие систем, стремившихся постигнуть связь вещей в мире, находится в неразрывной связи с жизнью; оно представляет собой одно из важнейших и наиболее поучительных творений ее. Таким образом, то самое развитие исторического сознания, которое нанесло столь разрушительный удар великим философским системам, поможет нам разрешить резкое противоречие, которое существует между притязаниями на общезначимость всякой философской системы, с одной стороны, и исторической анархией этих систем - с другой.
I. Жизнь и мировоззрение
1. Жизнь
Основной корень мировоззрения — жизнь. Распространенная по земному шару в бесчисленном множестве отдельных замкнутых кругов жизни, вновь переживаемая в каждом индивидууме, недоступная наблюдению, как одно лишь мгновение современности, а потому и сохраняемая в следующих за этим мгновением воспоминаниях, полнее постигаемая во всей глубине в своих объективированных проявлениях, нежели в форме субъективного переживания - жизнь нам знакома в бесчисленных формах и тем не менее обнаруживает всегда одни и те же общие черты. Из различных ее форм я выдвину одну. Я ничего здесь не объясняю, ничего не расчленяю, я описываю только факты, которые каждый может ощущать на себе самом. Всякое мышление, всякое действие, внутреннее или внешнее, проявляется и выступает вперед острой своей стороной. Но я переживаю также и состояние внутреннего покоя; грежу ли я, играю, рассеиваюсь, охвачен созерцанием или слабым возбуждением — это внутреннее состояние покоя является как бы фоном жизни. В этом состоянии я отношусь к другим людям и вещам не только как к реальностям, находящимся в причинной связи как со мной, так и между собой: жизненные отношения исходят от меня по всем направлениям, у меня есть известные отношения к вещам и людям, известные позиции по отношению к ним, я исполняю их требования по отношению ко мне и ожидаю чего-то от них. Одни содействуют моему счастью, делают
146 Культурфилософскис рефлексии
мое бытие шире, усиливают меня, а другие производят на меня давление и ограничивают меня. И при определенности того или другого движения вперед в известном направлении человек всегда замечает и чувствует эти соотношения. Друг - для него сила, возвышающая собственное его существование, каждый член семьи занимает определенное место в его жизни, и все, что его окружает, он понимает как жизнь и дух, которые в этом окружающем объективировались. Скамья у двери его жилища, тенистое дерево, дом и сад получают все свое значение и силу в этой объективности. Так жизнь каждого индивидуума творит сама из себя свой собственный мир.
2. Жизненный опыт
Из размышлений над жизнью возникает жизненный опыт. Отдельные события, порожденные столкновением наших инстинктов и чувств в нас с окружающим и судьбой вне нас, обобщаются в этом опыте в знания. Как человеческая природа остается всегда одной и той же, так и основные черты жизненного опыта представляют собой нечто общее всем. Мимолетность дел людских и наша способность насладиться выпавшим на долю хорошим часом; в сильных или также в ограниченных натурах — способность преодолеть эту мимолетность, подводя твердый фундамент под свое существование, а в более мягких или обуреваемых сомнениями натурах - недовольство этим и страстное стремление к действительно вечному в каком-то невидимом мире; победоносная мощь страстей, создающих, подобно сновидению, ряд фантастических картин, пока в них не растворяется иллюзия, - вот насколько различен жизненный опыт у различных индивидуумов. Общая подпочва у всех них - воззрения о силе случая, о непрочности всего, что у нас есть, что мы любим или ненавидим и боимся, о постоянной угрозе смерти, всесильно определяющей для каждого из нас значение и смысл жизни.
В неразрывно связанной цепи индивидуумов возникает общий жизненный опыт. Регулярное повторение отдельных опытов в смене людей приводит к ряду определенных выражений, которые с течением времени становятся все более и более точными и определенными. Определенность эта основывается на всевозрастающем числе случаев, из которых мы выводим свои заключения, на подведении этих случаев под существующие обобщения и на постоянной проверке. Эти выводы из жизненного опыта действуют на нас даже тогда, когда они не доходят вполне ясно до нашего сознания. Опыт жизни лежит в основе всего, что мы называем обычаем, традицией. Но во всех положениях жизненного опыта, как
Вильгельм Дильтей. Типы миропочзрения... 147
отдельного человека, так и общества, характер достоверности их, как характер их формулировки, совершенно отличается от общезначимых научных знаний. Научное мышление может проверить свои рассуждения, на которых зиждется правильность конечного вывода; оно может точно формулировать и обосновывать свои положения. Другое дело — наше знание жизни: оно не может быть проверено, и точные формулы здесь невозможны.
К этому жизненному опыту относится также и та строго определенная система отношений, в которой наше Я связано с другими людьми и предметами внешнего мира. Реальность этого Я, этих других людей и окружающих нас вещей, как и закономерные отношения между ними, образуют основы жизненного опыта и возникающего в нем эмпирического сознания. Наше Я, другие люди и окружающие нас вещи могут рассматриваться как факторы эмпирического сознания, и взаимоотношения между этими факторами образуют основу этого сознания. И что бы ни предпринимало философское мышление, как бы оно ни старалось отвлечься от тех или других отдельных факторов или отношений между ними, они все же остаются определяющими предпосылками самой жизни, неразрушимые как сама жизнь и не доступные изменению со стороны мышления, так как корни их заложены в жизненном опыте бесчисленного множества поколений. Среди этих проявлений жизненного опыта, лежащих в основе реальности внешнего мира и моих отношений к нему, самыми важными являются те, которые ограничивают меня, производят на меня давление, которого я отстранить не могу, которые неожиданным и бесповоротным образом стесняют меня в моих намерениях. Совокупность моих индукций, моих знаний покоится на этих предпосылках, основывающихся в свою очередь на эмпирическом сознании.
3. Загадка жизни
Перед мышлением, внимание которого напргшлено на общее и целое, выступает из сменяющихся данных опыта жизни полный противоречия образ самой жизни: жизненность и вместе с тем закономерность, разум и произвол; в отдельных частях может быть и что-то ясное, но в целом нечто совершенно загадочное. Душа жаждет объединить эти жизненные отношения и основанный на них опыт в одно стройное целое, но достичь этого не в состоянии. Средоточие всего непонятного составляют рождение, развитие и смерть. Живой знает о смерти и все же не в состоянии ее понять. С первого взгляда на мертвеца смерть непостижима для жизни, и именно на этом
148 Культурф>«лософские рефлексии
основывается прежде всего наше отношение к миру, как чему-то другому, чужеродному и страшному. Так, факт смерти является принудительным стимулом к фантастическим представлениям, которые должны сделать этот факт понятным. Вера в мертвых, почитание предков, культ покойников создают основные представления религиозного верования и метафизики. И чуждость жизни возрастает по мере того, как человек знакомится с постоянной, существующей в обществе и природе борьбой, с уничтожением одного живого существа другим и с жестокостью того, что происходит в природе. Одни за другими перед его умственным взором возникают все более и более странные противоречия, и эти противоречия в опыте жизни все сильнее и сильнее доходят до сознания, и никогда человек не находит разрешения им: мимолетность всего существующего в мире и воля в нас к вечному, мощь природы и самостоятельность нашей воли, ограниченность всякой вещи во времени и пространстве и наша способность переступать всякие границы. Эти загадки занимали жрецов Египта и вавилонян в такой же мере, как христианское духовенство, Гераклита и Гегеля, Прометея Эсхила и Фауста Гёте.
4. Закон образования мировоззрений
Каждое сильное впечатление показывает человеку жизнь со своей особой стороны; мир представляется тогда в новом освещении. Переживания этого рода повторяются и вступают между собой в связь, и тогда возникает то, что мы называем нашим настроением, нашим отношением к жизни. Вся жизнь получает окраску и истолкование с точки зрения одного какого-либо жизненного отношения в душах аффективных или объятых сомнениями, и тогда возникают универсальные настроения.
Эти настроения меняются по мере того, как жизнь показывает человеку все новые и новые свои стороны. Однако у различных индивидуумов преобладают свои определенные настроения, соответствующие их индивидуальности. Одни прижились к осязательным, чувственным вещам и живут, наслаждаясь сегодняшним днем; другие среди случайностей и превратностей судьбы преследуют свои великие цели, придающие смысл их существованию. Есть натуры тяжелые, которые не могут примириться с бренностью того, что им дорого; жизнь при таких условиях кажется им лишенной всякого значения, полной пустяков и иллюзий. Они стремятся к чему-то более долговечному за пределами этой земли. Среди великих жизненных настроений самыми широкими и всеобъемлющими являются оптимизм и пессимизм. В них, однако, различают еще разнообраз-
Вильгельм Дильтей. Ч ипы мировопрения... 149 ные оттенки. Так, человеку, рассматривающему мир как посторонний зритель, этот мир кажется чем-то чуждым, каким-то пестрым, постоянно сменяющимся зрелищем. Человеку же, проходящему свой жизненный путь во всеоружии стройного плана жизни, тот же мир кажется чем-то родным, близким: он стоит твердыми ногами на земле, составляя с этим миром одно неразрывное целое.
Эти настроения, это бесчисленное множество оттенков в отношении людей к миру образуют подпочву развивающихся на их основе мировоззрений. Здесь на основе жизненного опыта, обусловленного многообразными жизненными отношениями индивидуумов к миру, предпринимаются и осуществляют попытки разрешения загадки жизни. Именно в мировоззрениях в более высоких формах особенно часто применяется один метод — объяснение некоторого непонятного данного при помощи данного более ясного. Ясное становится средством понимания и объяснения непонятного. Наука производит анализ и затем устанавливает общие отношения между изолированными таким образом однородными группами фактов; религия, поэзия и первобытная метафизика выражают значение и смысл целого. Первая (т.е. наука) изучает, познает, а эти последние — понимают. Такое истолкование мира, которое многообразную его сущность объясняет при помощи более простой, начинается уже в языке. Оно развивается далее в метафоре в виде замены одного воззрения другим, родственным ему, и в том или другом смысле разъясняющим его, в олицетворении, в котором разъяснение достигается посредством уподобления человеку, или в заключениях по аналогии, в которых менее знакомое определяется по аналогии со знакомым, делаясь таким образом более доступным научному мышлению. Везде, где религия, миф поэзии или первобытная метафизика пытаются произвести что-либо понятное, находит применение именно этот метод.
5. Строение мировоззрения
Все мировоззрения, раз они пытаются дать полное разрешение загадки жизни, обнаруживают обыкновенно одно и то же строение. Они представляют тогда одну стройную систему, в которой на основе одной картины мира решаются вопросы о значении и смысле мира, и ртсюда выводится идеал - высшее благо, основные принципы жизни. Система эта определяется психической закономерностью, по которой концепция действительности кладется в основу деления состояния и вещей на приятные и неприятные, вызывающие удовольствие и неудовольствие, достойные одобрения или порицания, а такая оценка жизни является, в свою очередь, основой, определяю-
150 Культурфилософские рефлексии
щей нашу волю. Таковы эти три состояния сознания, через которые проходит психическая жизнь, и самая характерная черта ее заключается в том, что в этом взаимодействии самый глубокий действующий слой не исчезает; те отношения, на основании которых я сужу о вещах, получаю от них удовольствие и склонен что-нибудь сделать над ними, определяют характер верхних слоев, создавая ту систему, в которой находит свое выражение все взаимодействие нашей душевной жизни. Эта связь — данная ситуация, данная смена чувствований и часто вытекающие отсюда желание, стремление, действие — в наиболее простой форме находит свое выражение в лирическом стихотворении. Всякое проявление жизни развивается в одно целое, в котором структурно связаны одни и те же отношения к миру. Так и мировоззрения представляют собой правильные системы, в которых проявляется это строение нашей душевной жизни. Основа их есть всегда некоторая картина мира, которая возникает в результате закономерной последовательной работы нашего познания. Мы наблюдаем внутренние процессы и предметы внешнего мира. Образующиеся таким образом восприятия мы проясняем себе, выделяя в них при посредстве элементарных мыслительных процессов основные соотношения действительного. Когда восприятия кончаются, они отражаются и систематизируются в мире наших представлений, которые возвышают нас над случайностью восприятия. Усиливающиеся на этих ступенях твердость и свобода нашего духа, его господство над действительностью находят затем свое завершение в царстве суждений и понятий, где связь и сущность действительного постигаются общезначимым образом. Когда мировоззрение достигает полного своего развития, то это происходит обыкновенно прежде всего на этих ступенях познания действительности. Но над этим мировоззрением строится затем другая типическая деятельность в аналогичной закономерной последовательности. Чувствуя собственное свое Я, мы наслаждаемся ценностью нашего бытия; мы приписываем окружающим нас вещам и лицам известное значение и действие потому, что они возвышают и расширяют наше бытие: мы определяем все эти ценности по способности этих вещей приносить нам пользу или вред; мы производим им оценку и для этой последней ищем какой-нибудь безусловный масштаб. Таким образом, состояния, лица и вещи получают известное значение в отношении к целому всей действительности, да и само это целое получает известный смысл. По мере того как протекают эти этапы в жизни наших чувств, постепенно нарастает второй слой в структуре нашего мировоззрения: картина мира становится основой в оценке жизни и понимания мира. И в такой же закономерности душевной жизни, из оценки жизни и понимания мира вырастает высшее состояние со-
Вильгельм Дильтей. Типы мировоззрения... 151 знания: идеалы, высшее благо и высшие принципы, впервые придающие мировоззрению практическую энергию, своего рода острие, с помощью которого оно внедряется в человеческую жизнь, во внешний мир и в глубину самой души. Тогда мировоззрение становится созидающим, реформирующим. Развитие и этого высшего слоя мировоззрения протекает через различные ступени. Из стремления, тенденции развиваются более прочные, более длительные задания, направленные к реализации какого-нибудь представления, развивается отношение целей и средств, выбор целей и выбор средств и, наконец, обобщение всех заданий, всех целей в один высший порядок нашего практического поведения, в один обширный план жизни, одно высшее благо, в высшие нормы поведения, в идеал личной жизни и организации общества.
Такова структура мировоззрения. То, что в загадке жизни представлялось спутанным, каким-то беспорядочным клубком задач, превращается здесь в сознательную и необходимую связь проблем и их решения; этот процесс развития проходит через ступени, определенные с внутренней закономерностью; отсюда следует, что всякому мировоззрению присущ свой процесс развития, в котором проясняется его содержание; таким образом, оно становится долговечным, устойчивым и постепенно, с течением времени, сильным; мировоззрение есть творение истории.
6. Многообразие мировоззрений
Мировоззрения развиваются при различных условиях. Климат, расы, нации, созданные историей и тем или другим государственным порядком, обусловленные временем деления на эпохи и века, в которых живут нации, оказывая влияние друг на друга, — вот основные условия, влияющие на многообразие мировоззрений. Жизнь, возникающая при столь специфических условиях, оказывается весьма разнородной, как и сам человек, создающий себе представление о жизни. И к этим типическим различиям присоединяются еще различия отдельных индивидуальностей, их среды и их жизненного опыта. Как на всем земном шаре живет бесчисленное множество форм живых существ, между которыми происходит постоянная борьба за существование и территорию, так и в мире людей развиваются различные формы мировоззрений, вступающие в борьбу между собой за власть над душой.
И здесь замечается одна закономерность: подавленная непрерывной сменой впечатлений, превратностями судьбы и силой внешнего мира, душа должна стремиться к внутренней устойчи-
1 52 Ку.тьтурфилософские рефлексии
вости, чтобы быть в силах всему этому противостоять, и вот от смены непостоянства, текучести, так сказать, своего содержания, своих мировоззрений она обращается к более долговечным оценкам жизни и твердо поставленным целям. Мировоззрения, содействующие пониманию жизни, выдвигающие полезные цели, сохраняются в борьбе, вытесняя более слабые в этом отношении. И в смене поколений жизнеспособные мировоззрения развиваются, становясь все совершеннее. Как в многообразии органических живых существ сохраняется одна и та же структура, так и мировоззрения развиваются по одной и той же схеме.
Глубочайшая тайна их специализации заключается в той правильности, которую телеологическая связь душевной жизни навязывает особой структуре мировоззрений.
Среди кажущейся случайности этих мировоззрений существует в каждом из них известная связь целей, вытекающая из взаимной зависимости вопросов, содержащихся в загадке жизни, и в особенности из постоянного отношения, существующего между картиной мира, оценкой жизни и целями, которые ставит себе воля. Одна общая человеческая натура и известный порядок индивидуации находится в твердо установленных жизненных отношениях к действительности, а эта последняя остается всегда одной и той же, жизнь показывает всегда одни и те же стороны.
И вот в эту правильность структуры мировоззрений и ее дифференциации на отдельные формы вступает непредвиденный момент — изменение жизни, смена эпох преобразования в науке, гений наций и отдельного человека. Вследствие этого непрестанно меняются значимость проблемы, сила известных идей, вырастающих из исторической жизни и властвующих над ней. В зависимости от исторического места, которое они занимают, в мировоззрениях возникают все новые и новые комбинации жизненного опыта, настроений, идей - комбинации, неправильные по своим составным частям и по их силе и значению в целом. Тем не менее они по закономерности в глубинах структуры и по логической правильности не агрегаты, а цельные, стройные образования.
Далее, если эти образования сравнить, оказывается, что они распределяются в группы, между которыми существует известная родственная связь. Как сравнительный метод устанавливает известные типы языков, религий, государств, известные линии их развития и порядок их превращений, так можно аналогичным методом установить то же самое и в мировоззрениях. Эти типы наблюдаются в исторически обусловленной единичности отдельных образований. Они везде обусловлены своеобразием области, в которой они зарождаются. Но если конструктивный метод выводил
Ви.гые.чьм ДилысчС Типы мировоззрения...153 их из этого своеобразия, то это было тяжким заблуждением. Только сравнительно-исторический метод может приблизиться к решению задачи установления таких типов, выяснения их изменений, развития, скрещивания. Достигнутые результаты не должны, однако, преграждать путь дальнейшему развитию. Всякое установление таких типов носит лишь временный характер. Только это вспомогательное средство исторически глубже. И с сравнительно-историческим методом связана всегда подготовка последнего путем систематического изучения и интерпретации исторических данных с точки зрения этого изучения. Это психологическое и исторически систематическое истолкование истории не свободно от ошибок конструктивного мышления, склонного во всякой области систематизации исходить из какого-нибудь простого отношения как из своего рода господствующего в ней импульса к развитию.
Резюмирую все вышесказанное в одном общем положении, подтверждаемом во всяком пункте сравнительно-историческим методом. Мировоззрения не являются созданием мышления. Они не возникают в результате одной лишь воли познания. Постижение действительности есть важный момент в их образовании, но только один из моментов. Они — результат занятой в жизни позиции, жизненного опыта всей структуры нашего психического целого. Возвышение жизни до сознания в познании действительности, оценка жизни и деятельности — вот та медленная и трудная работа, которую совершило человечество в развитии мировоззрений.
Это основное положение учения о мировоззрении подтверждается, если рассматривать весь ход истории в целом.
Тогда же находит свое подкрепление один важный вывод из нашего положения - вывод, который приводит нас к исходному пункту настоящей статьи. Развитие мировоззрений определяется волей к устойчивости картины мира, оценки жизни, работе воли, вытекающей из описанного ряда ступеней психического развития. Религия, как и философия, стремится к устойчивости, к силе влияния, к господству, к общезначимости. Но человечество на этом пути не подвинулось ни на шаг вперед. Борьба мировоззрений между собой ни в одном основном пункте не увенчалась победой одного из них. История производит из них отбор, но великие типы их сохранили всю свою силу, недоказуемые и неразрушимые. Они не Njoryr быть обязаны своим происхождением тому или другому доказательству, ибо никакое доказательство разрушить их не может. Отдельные ступени и специальные формы того или другого типа опровергаются, но корень их в жизни сохраняется и продолжает влиять и вызывать к жизни все новые и новые образования.
1L Типы мировоззрения в религии, поэзии и литературе
Прежде всего я укажу на различия мировоззрения, обусловленные различием тех областей культуры, которые их создают.
Основанием культуры являются хозяйство, формы общения людей, право и государство. В них всюду господствует разделение труда, и деятельность каждого индивидуума имеет определенную историческую ценность. Воля подчинена ограниченной задаче, которую ставит целеполагающее единство данной культурной области. Наука, познание дают возможность внести в это практическое строительство жизни начало разумного порядка. Она (наука) находится в теснейшей связи с практикой жизни, и так как и она подчинена закону разделения труда, то каждый исследователь ограничивает свою задачу определенной областью познания и даже определенным местом в ней. Даже философия в некоторых своих проявлениях подчинена разделению труда. Только религиозный гений, поэт и метафизик творят в той области, которая освобождает от ига общества, от ограниченности задач, от рамок, предуказывающих каждой исторической эпохе предел достижимого. Всякое ограничение вносит ложь в жизнепонимание гения, который должен, как власть имущий, свободно противостоять жизни. Гений утрачивает правдивость, ограничивая себя соображениями временного — какой-либо тенденцией. В этом царстве свободы создаются и развиваются могучие и ценные мировоззрения.
Но эти мировоззрения различны у религиозного гения, у гения художественного и у метафизика, как по своей структуре, своему типу, так и по закону своего возникновения.
1. Религиозное мировоззрение
Источником религиозных мировоззрений является изначальная судьба человека. За пределами того, что первобытный человек, воин, охотник, земледелец или землевладелец, осилил, научившись осмысленным приложением силы вызывать во внешнем мире определенные изменения, за пределами этого находится область, недоступная его воздействию, непостижимая его уму. Но ему кажется, что тот мир воздействует на него, посылая счастливый лов, успех в сражениях, богатую жатву; и в болезни, в безумии, в старости, смерти, утрате жены, детей, в падеже скота он ощущает над собой власть чего-то неизвестного: возникают особые приемы влиять на это непостижимое, неодолимое физической силой, —
Вильгельм Дильтей. Типы мировой ре ни я...
155
молитва, дары и подчинение. Человек хотел бы проникнуться силой этих высших существ, стать с ними в добрые отношения, заключить с ними союз. Из действий, направленных к этой цели, слагается первоначальный культ. Возникает ремесло волшебника, знахаря, священнослужителя: по мере того как образуется особая каста, в ней накапливаются приемы, опыт, знание создается особый уклад жизни, который отделяет ее от остальных членов общества. Так возникает в замкнутом кругу племени или рода традиция жизненного опыта, добытого в общении с высшими существами, и жизненного уклада, образующая основу религии и культа; от волшебства первоначального ритуала эта религия суеверия постепенно доходит до создания форм, в которых чувство и воля человека подчиняются посредством внутренней дисциплины воле Бога. Неизбежное повторение рождения, смерти, болезни, сновидения, безумия, благодетельного и злого вмешательства в человеческую жизнь демонических сил, своеобразное сплетение в природе порядка, говорящего о целеполагающем творце, и случая, разрушения и раздора, — все это создает первые религиозные представления. Второе Я в человеке, божественные силы в небе, солнце, звезды, духи лесов, болот и вод — эти естественно возникшие представления — исходная точка для создания мира фантазии, вызванного чувством и получающего обильную пищу в религиозном опыте. Воздействие незримого — вот основная категория элементарной религиозной жизни. Мысль строит из религиозных идей учения о происхождении мира и человека, о душе и ее родине.
Итак, сила, источник которой в сверхчувственном, придает религиозное значение людям и вещам. Эти люди и вещи доступны чувству, видимы, разрушимы, ограничены, и все же в них проявляется сила доброго или злого божества. Мир наполнен отдельными, конечными вещами и людьми, которые имеют какое-то отношение к незримому, благодаря которому им присуща скрытая сила этого незримого. Это отношение к сверхчувственному признается за священными местами, святыми, изображениями богов, символами, таинствами: в религии оно означает то же, что символ в искусстве и понятие в метафизике. В религии традиция обладает совершенно исключительной властью именно в силу того, что происхождение ее окружено тайной и мраком.
Вот основа всего дальнейшего религиозного развития. На низших ступенях преобладает дух общины, но зато дальнейшее развитие отмечено творчеством гения - в мистериях, в отшельничестве, в пророчестве. Религиозный гений заменяет отдельные разрозненные моменты отношения между человеком и высшими существами внутренним слиянием с незримым. Эта концентрация
156 культурфилософские рефпекот
религиозного опыта созидает из религиозных идей религиозные мировоззрения, сущность которых заключается в том, что отношение к незримому определяет собой понимание действительности, оценку жизни и практические идеалы. Они находят выражение в образах и в вероучениях; основанием они имеют уклад жизни. Они развиваются в молитве и в религиозном созерцании (Meditation).
Все эти религиозные мировоззрения с самого начала заключают в себе противоположение добрых и злых существ, чувственного существования и высшего мира.
Участие мирового разума в жизни природы и в укладе жизни; всеединство духа как истина, ценность и связь всего раздельного, то всеединство, к которому должно вернуться обособленное существование; творческая воля Бога, созидающая мир, творящая людей по образу своему и подобию и противостоящая царству зла, к борьбе с которым она призывает благочестивых, — вот основные типы многообразных религиозных мировоззрений. И как общение с незримым далеко от земных трудов и от наслаждений, даруемых общением с людьми, так и эти миросозерцания всегда противостоят мирскому пониманию жизни: в нем, противоборствующем религии, часто проявляется природный натурализм, и в этом противоборстве черпает он свою силу и мощь.
В века религиозного подъема мы встречаем борьбу типов религиозного мировоззрения, явно родственную борьбе метафизических систем. Иудео-христианский монотеизм, китайские и индийские формы пантеизма и в противоположность к ним натуралистические отношения к жизни и образ мыслей — вот первые ступени и исходные точки для дальнейшего развития метафизики. Но фоном религиозного мировоззрения всегда остается общение с божеством при помощи магии, таинств, людей, святынь, религиозной символики, знаков — как нижним слоем, подпочвой церковного строительства остается всегда народ. В этих мировоззрениях содержится всегда темное, специфическое религиозное зерно, уяснить и обосновать которое никогда не дано теологам с их спекулятивными приемами. Ничто не в силах преодолеть односторонности опыта, основанного на молитвенном, жертвенном общении с высшими существами, свойства которых определяются из сущности отношения к ним человеческой души.
В силу этого религиозные мировоззрения подготовляют метафизические, но никогда целиком в них не укладываются. Иудео-христианское учение о чисто духовном, свободно творящем Боге и о душах, созданных по образу его, превратилось в монотеистический идеализм свободы; разные формы религиозного учения о всеединстве подготовили метафизический пантеизм; индийская
Вильгельм Дильтеи. Типы мировоззрения... 157
спекулятивная философия, мистерии, учение гностиков развили идею происхождения многообразного мира из первоначального единства и возвращения к нему, идею, нашедшую свое завершение в неоплатонизме, философии Бруно, Спинозы и Шопенгауэра, Гак же ясны связь между монотеизмом и схоластической теологией иудейских, арабских и христианских мыслителей и преемственность этой связи у Декарта, Вольфа, Канта и философов-романтиков. Сколько бы ни сближала работа теологов религиозное мировоззрение с метафизикой, но внутренний закон ее существа и ее структуры все же неизменно отделяет ее от метафизического мышления. Охраняющим его пределом оказывается односторонность религиозного жизне- и миропонимания. Религиозное чувство непреложно право в своем опыте. И все же развивающееся сознание признает, что, хотя устремление души к сверхчувственному, это историческое порождение жреческого искусства, и сохранило власть идеализма, правда — в искусственном уклонении от земного; хотя оно и дисциплинировало жизнь, правда, с аскетической суровостью, тем не менее в поступательном движении истории; дух должен обрести более свободное отношение к жизни, к миру — отношение, не связанное с традицией, идущей из темных недр безответного прошлого.
2. Мировоззрение в поэзии
Религия придала вещам и людям значительность, укрепив веру в присутствие в них сверхчувственных сил. Значение произведения искусства состоит в том, что чувственно данное единичное из ограниченности преходящего и тленного возносится до идеального выражения жизни, которую являют нам краски, формы, симметрия, пропорции, сочетания тонов, ритм, смена настроений, характер изображаемых событий. Есть ли здесь стремление к созданию мировоззрения? Художественное творчество само по себе чуждо ему, но жизнепонимание художника, отраженное в его произведении, создает здесь вторичную связь между произведением искусства и мировоззрением. Искусство вначале развивалось под опекой религии. Его основной темой были религиозные представления; архитектура и музыка отражают цели религиозного общения; искусство сделало достоянием вечности содержание религии, избавив его от тлена, которому подвластны догматы; это содержание создало формы возвышенного искусства, о чем свидетельствуют религиозная эпика Джотто в живописи, великая архитектура соборов, музыка Баха и Генделя. Религиозное углубление искусства привело к свободному выражению художником своего жизнепонимания, и
158 Культу рфилософские рефлексии
в этом заключается сущность исторического развития отношений между искусством и мировоззрением. Выражение мировоззрения не может быть вложено в произведение искусства, но оно определяет внутреннюю его форму. Достойна примечания попытка найти в самой форме произведения живописи отражение типичных миропониманий, лежащих в основе натуралистического, героического и пантеистического мировоззрений. Это же соотношение можно было бы обнаружить и в музыкальном творчестве. И если такие титаны духа, как Микеланджело, Бетховен и Рихард Вагнер, осознавали в себе свободное влечение к выработке мировоззрения, то это, конечно, должно было сделать еще более ярким выражение их жизнепонимания в форме искусства.
Поэзия выделяется из среды остальных искусств своим особым отношением к мировоззрению. Средство, которым она пользуется, — язык — делает доступными ей лирическое выражение и эпическое или драматическое изображение всего, что может быть пережито, всего, что доступно глазу и слуху. Я далек здесь от попытки вскрыть сущность и значение поэзии. Освобождая какое-либо событие из-под власти преходящего и претворяя его в безусловное выражение сущности жизни, поэзия избавляет душу от бремени действительности, значение которой она ей вместе с тем открывает. Она утоляет тайную тоску человека, ограниченного судьбой или собственным решением, тоску по тем жизненным возможностям, которые оказались ему недоступными. И открывая ему их в образе фантазии, она расширяет его самосознание и горизонт жизненного опыта. Она открывает его взору мир более высокий и более могущественный. Во всем этом выражается основное отношение, служащее основанием поэзии: жизнь - ее исходный пункт: отношение к людям, вещам, природе - их живое зерно для нее. Так, из потребности объединить опыт жизни возникают мировые настроения; связное единство отдельно пережитого и образует в сознании поэта его понимание значения жизни. Такие мировые настроения (Lebensstimmung) мы встречаем в Иове и в псалмах, в хоре античной трагедии, в сонетах Данте и Шекспира, в грандиозном заключении «Божественной комедии», в возвышенной лирике Гёте, Шиллера и романтиков, в «Фаусте», в «Нибелунгах» Вагнера, в «Эмпедокле» Гёльдерлина. 11оэзия в отличие от науки не стремится к познанию действительности — она хочет показать кроющуюся в жизни значительность совершающегося, людей и вещей; загадка жизни концентрируется здесь во внутреннем сплетении нитей живой ткани людей, их судеб и среды, окружающей их. Каждая великая эпоха поэзии ознаменована вечно совершающимся, закономерным восхождением от подчинения вере и обычаям, освященным признани-
Вильгельм Дильтей. Типы мировоззрения... 159
ем общества, к задаче заново ос мыслить жизнь, исходя из нее самой. Это путь от Гомера к античной трагедии, от порабощенной католической веры к рыцарской лирике и эпике; от жизни новых времен к Шиллеру, Бальзаку, Ибсену. Этому восхождению соответствует развитие форм поэзии, сначала эпос, затем драма осуществляет высшую ступень концентрации, объясняя в едином жизнепонимании связь созданных жизнью отношений, поступков, характеров и судеб; наконец, роман развертывает безграничную полноту жизни, выражая осознание поэтом значения и смысла ее.
Что мы выводим отсюда? Черпая из источника жизни, поэзия неизбежно должна во всем, ею трактуемом, выражать жизнепонимание. Это жизнепонимание дается поэту самой жизнью, которую он воспринимает через призму своей индивидуальности. Оно развивается с развитием поэзии, которая неотступно идет шаг за шагом к своей цели — понять жизнь из нее самой, дав ей свободно воздействовать на душу своими величавыми очертаниями. Жизнь открывает поэзии новые и новые свои стороны. Поэзия обнаруживает безграничную силу видеть, оценивать и творчески претворять жизнь. Событие становится символом, правда, не мысли, а усмотренного в жизни соотношения, схваченного поэтом через призму своего жизненного опыта. Стендаль и Бальзак видят в жизни созданное стихийной бессознательной силой сплетение иллюзий, страстей, красоты и порока, в котором сильная воля одерживает победу над самой собой. Гёте видит в ней творящую силу, сочетающую в гармоничное целое органическую жизнь, развитие человечества и формы общественности. Корнель и Шиллер видят в жизни арену героических подвигов. И каждому жизнепониманию соответствует форма поэтического произведения. Отсюда недалеко до великих типов мировоззрения; связь литературы с философским движением направляла Бальзака, Гёте и Шиллера к высшему совершенству в уразумении жизни. Таким образом, типы поэтического мировоззрения подготавливают путь метафизике и являются посредниками между нею и обществом.
3. Типы мировоззрения в метафизике
1
Bcfr эти нити облегчают нам понимание структуры, типов и развития метафизических мировоззрений. Намечу кратко решающие моменты. Весь процесс возникновения и выявления мировоззрений обнаруживает стремление возвысить их до ценности общезначимого знания. Поэтам высокой мысли величественные впечатления жизни показывают ее в вечно новом освещении: но им не присуще
160 Ку.тп>турфилософскке рефлексии
стремленье закрепить свой опыт в понятиях. В глубине мировых религий всегда скрыто что-то своеобразное и иррациональное, объяснение чему надо искать в мистичности религиозных переживаний, в искусственно поддерживаемом священнослужителями устремлении души к невидимому запредельному. Правоверная церковь старается это катехизировать; мистика и спиритуализм стремятся вернуть догмату силу переживания; рационализм хочет понять и с этой целью разлагает на понятия. И вот стремлению мировых религий властвовать, опираясь на внутренний опыт верующих, на традицию и авторитет, противостоит требование разума перестроить мировоззрение и утвердить его на основе разумных начал. Когда мировоззрение возвышается до связного рационального (begrifflich) целого, когда оно научно оправдывается и заявляет притязание на общезначимость, тогда возникает метафизика. Как показывает история, метафизику всюду подготавливает развитие религии; поэтическое творчество оказывает на нее значительное влияние; на ней отражается национальное жизнепонимание с присущими ему оценками и идеалами. Стремление к общезначимому знанию придает этой новой форме мировоззрения совершенно особый характер.
Разве кто-нибудь возьмется указать, в какой момент стремление к познанию, проявляющееся во всевозможных областях в общественной деятельности, обращается в науку. Ведь математические и астрономические учения вавилонян и египтян только в ионических колониях приобрели внутреннюю самостоятельность, освободившись от религиозных целей. И так как предметом исследования был весь мир, то естественна была теснейшая связь зарождающейся философии с пробуждающейся наукой. Математика, астрономия и география стали средствами для познания мира. Изначальные загадки мироздания занимали как пифагорейцев и последователей Гераклита, так и греческих жрецов. И когда в колониях растущее значение естественных наук поставило в центр философии задачу объяснения природы, все великие вопросы мировой загадки стали предметом живейшего обсуждения в философских школах, и все они были направлены на уяснение внутренних связей бытия, смысла жизни, воли и судьбы человека и общества — одним словом, на выработку мировоззрения.
Структура метафизических мировоззрений первоначально определялась их зависимостью от науки. Чувственный образ мироздания заменился астрономическим, мир чувства и воли обрел предметность в понятиях ценности, блага, цели и закона; необходимость мыслить в понятиях и обосновывать привела исследователя мировой загадки к логике и теории познания как первоосновам знания. Работа над разрешением этих проблем сама собой подвину-
Вильгельм / {ильтей. Типы мировоччреиия... 161
ла мысль от ограниченного и обусловленного к понятию всеобщего бытия, первопричины, высшего блага и конечной цели. Метафизика обратилась в систему, которая при разработке неясных понятий и представлений, выдвинутых жизнью и наукой, принуждена была создать вспомогательные понятия, выходящие за пределы опыта.
Наряду с отношением метафизики к науке выяснилось также отношение ее к светской культуре. Осмысливая каждое целеполагающее единство культурной жизни, философия черпает из него свежие силы, а ему сообщает одухотворяющую мощь основной своей мысли. Она определяет методы и познавательную ценность наук; бессистемный жизненный опыт и первоначальная литература о нем обращается в общее оправдание жизни; основные понятия права, созданные практикой, возносит она в связное единство; положения о формах правления, о функциях верховной власти, возникшие из техники политической жизни, ею приводятся в связь с высшими задачами общественности; она берется доказать догматы, а там, где темное зерно религиозного опыта недоступно спекулятивному мышлению, она разрушает их, совершая над ними суд мировой истории, она осмысливает формы и правила искусства с точки зрения его целей: она повсюду старается сделать мысль двигателем общества.
И еще последнее. Каждая метафизическая система обусловлена местом, занимаемым ею в истории философии; она зависит от постановки проблемы и определяется вытекающими из нее понятиями.
Так слагается структура метафизических систем — их логическая связность и вместе с тем их неизбежная неправильность: они всегда являются представителями определенного состояния научного мышления, отсюда их единичность и неповторимость. В силу этого всякая великая метафизическая система представляет собой многогранное целое, освещающее каждую сторону создавшей ее жизни.
Все это великое движение стремится к одной цели — создать единую общезначимую систему метафизики. Дифференцированность метафизики, причины которой кроются в самых недрах жизни, кажется этим мыслителям случайной, субъективной надстройкой, которая должна быть удалена. Безмерная работа, направленная к созданию целостного и доказуемого логического единства, в котором методически разрешалась бы проблема мироздания, приобретает самостоятельное значение; состояние логического мышления определяет каждой системе место на пути осуществления этой цели. Эта работа в культурных странах Европы совершается попеременно — вначале на берегах Средиземного моря, затем со времен Возрождения в германо-романских странах, точнее, в высших слоях, которые, осуществляя ее, лишь
162 Культурфилософские рефлексии
изредка подпадают под влияние религиозного пафоса народных масс и все более стараются оградить себя от этого воздействия.
2
В связи с этим в метафизических системах замечаются различия, обусловленные рациональным характером метафизического творчества. Различными оказываются стадии в процессе его, как, например, догматизме и критицизме. Другие различия проходят через все развитие; они вытекают из того, что метафизика задается целью создать стройное целое из содержания миропонимания, целеполагающей и оценочной деятельности человека; и различие сказывается в многообразных возможностях решения этих основных проблем. Обращаясь к обоснованиям метафизики, мы отмечаем противоположности эмпиризма и рационализма, реализма и идеализма. В основу переработки действительности кладутся противоположные понятия — единого и многого, становления и бытия, причины и цели, и ими определяется различие систем. Многообразие точек зрения на отношение мировой сущности к миру и души к телу отражается в учениях деизма и пантеизма, материализма и спиритуализма. Проблемы практической философии определяют новые различия систем, среди которых я отмечу эвдемонизм, превращающийся постепенно в утилитаризм, и теорию абсолютных прав нравственного поведения. Все эти различия в отдельных областях метафизического творчества указывают на разнообразные возможности подчинить действительность рациональному мышлению, исходя из противоположных понятий. В созидающем единстве систематизирования они являются гипотезами, посредством которых метафизический дух открывает путь к общезначимой системе.
В последнее время были сделаны попытки классифицировать с этой точки зрения метафизические системы. Двучленное деление систем на реалистические и идеалистические более всего соответствует основной противоположности понятий, вытекающей из самой сущности этих метафизических построений.
Нельзя не отметить важности этой спекулятивной работы, осуществляемой философией на всех поприщах. Она определяет самостоятельные науки; она их объединяет. Об этом я подробно говорил ранее. Но метафизику отделяет от положительных наук проявляющееся в ней стремление подчинить мир и жизнь связному единству научных методов, создавшихся для отдельных областей знания. Имея в виду (безусловное) абсолютное, метафизика выходит за границы методологических приемов частных наук.
Вильгельм Дильтей. Типы мировоззрения...163
Постараюсь прояснить мысль, которую я кладу в основание своей попытки создать учение о мировоззрениях. Историческое самосознание раскрывает нам устремление метафизиков к единой общезначимой системе, обусловленные этим противоречия взглядов, разъединяющие мыслителей, и, наконец, возможность классификации этих противоречий. Историческое самосознание делает содержанием своим смысл фактического соотношения враждующих систем. Оно вскрывает зависимость от религии и поэзии путей метафизического творчества. Оно показывает, что спекулятивной метафизике не удалось сделать ни единого шага, который приблизил бы ее к общезначимой системе. Мы видим, что противоречие метафизических систем обусловлено самой жизнью, жизненным опытом, отношениями к проблеме жизни. В самих этих отношениях заложены многообразие систем и вместе с тем возможность различать определенные типы. Каждый такой тип объемлет познание действительности, оценку жизни и целеполагающую идею. Он независим от той антитезы, в которой с противоположных точек зрения решается основная проблема. Сущность этих типов всего яснее обнаруживается в творчестве великих гениев метафизики, которые облекли в спекулятивные, претендующие на значимость построения свое индивидуальное жизнепонимание. Оно представляет полное соответствие с их личностью, определяет все их поступки, обнаруживается в их стиле, и если их системы и обусловлены ступенью развития входящих в них понятий, то все же, с исторической точки зрения, эти понятия являются только средством построения и обоснования их миросозерцания.
Спиноза начинает свой трактат о пути к совершенному познанию с личного признания ничтожности страдания и радости, страха и надежды; он решает найти истинное благо, которое дало бы вечную радость, и эту задачу он разрешает в этике, указывая на познание Бога, которое избавляет от ярма страстей, Бога, как наполняющего мир основания всего многообразия преходящих вещей. Это познание обращается в бесконечную интеллектуальную любовь к Богу, которая есть любовь бесконечного Бога к себе самому, проявляющаяся в ограниченном человеческом духе. Все развитие учения Фихте является выражением типичного душевного уклада, резко переживающего моральную самостоятельность личности по отношению к природе и мирозданию; драма воленья этой бурной жизни завершается идеалом человека-героя, в котором высшие проявления человеческой природы, ареной которых служит история, гармонично созвучны с верховным порядком мира. И безмерное историческое влияние Эпикура, интеллектуально значительно уступающего величайшим мыслителям, объ-
164
Культурфииософскис рефлексии
ясняется той ясностью, с какой он выразил типичное настроение души. Оно заключается в веселом и беззаботном подчинении человека законам природы и в жизнерадостном, и все же разумном, пользовании ее дарами.
В таком понимании всякое мировоззрение оказывается интуицией, возникающей из недр самой жизни. Примером такой интуиции могут служить первые наброски Гегеля, порожденные соприкосновением его религиозно-метафизических переживаний с изучавшимися им документами раннего христианства. Жизнеощущение определяет место человека в жизни, уклад его существования. Таков смысл смелого изречения, что истинный человек — это поэт. Формы, в которые выливается жизнь человека, открывают ему новые стороны мира. Я не решаюсь идти дальше. Нам неизвестен закон, по которому жизнь претворяется в систему метафизики. Для того чтобы ближе подойти к пониманию типа мировоззрения, надо обратиться к истории. Существеннее всего понять связь жизни и метафизики, понять, что углубление в жизнь является центральной точкой всякой системы, что системы, в которых выражается какое-либо типичное понимание жизни, тесно и глубоко связаны, - сколько бы мы их ни разграничивали и ни делили. Надо углубить исследование этой их основы, надо вскрыть великие намерения — вот путь исторического исследования метафизических систем.
В этом смысле я предлагаю различать три основных типа. Единственным средством такого деления оказывается историческое сравнение: всякий метафизический ум подходит к разрешению загадки жизни с особой точки зрения, которая определяется его отношением к жизни и обусловливает неповторимую единичность его системы. Мы можем группировать эти системы по их отношениям зависимости, родственности, взаимного притяжения и отталкивания. Здесь, однако, мы встречаемся с затруднением, с которым приходится считаться при всяком историческом сравнении. Оно пользуется предварительной антиципацией1* при выборе признаков в том, что подлежит сравнению; и эти признаки определяют дальнейший путь. И потому то, что я здесь предлагаю, имеет лишь предварительный характер. Ядром здесь может служить только интуиция, развившаяся из продолжительных занятий метафизическими системами. Облекая содержание ее в исторические формулы, мы сохраняем за ней субъективный характер. Возможны иные логические противоположения — можно соединить обе формы идеализма или связать объективный идеализм с натурализмом, эти иные возможности остаются открытыми. Это разграничение типов не преследует иной цели, как только помочь глубже заглянуть в историю, исходя из жизни.
III. Натурализм
1
Человек находит себя определенным природой. Она объемлет и его тело, и внешний мир. Состояние тела, владеющие им животные инстинкты определяют для человека его чувство жизни. Воззрение на жизнь, в силу которого жизненный путь должно проходить, удовлетворяя животным инстинктам и подчиняясь силам природы, утоляющей голод и жажду, старо, как само человечество. Испытывая голод, половое влечение, дряхлея и умирая, человек чувствует себя во власти духов, населяющих природу. Он еще и природа. Гераклит и апостол Павел презрительно определяют такое воззрение как жизнепонимание чувственной массы. Но оно вечно, и не было времени, когда бы оно не владело умами части людей. Даже во времена безусловного господства жреческой коллегии не умирала эта философия жизни чувственного человека; и в те времена, когда католицизм подавил теоретическое исповедание этой точки зрения, часто встречаются ссылки на эпикурейцев; и то, что не могло облекаться в философские учения, звучало в песнях провансальских трубадуров, в немецкой придворной поэзии, во французских и немецких легендах о Тристане. И в светской философии жизни XVIII в. мы находим все то, что еще Платон говорил о молодых распутниках и богачах, описывая их теорию наслаждения жизнью. К удовлетворению животных инстинктов присоединяются еще тщеславная озабоченность общественным положением и честолюбие, что ставит человека в более тесную зависимость от окружающей среды. В основе этого жизнепонимания лежит всегда одно и то же отношение к миру — подчинение воли животным влечениям, которые и определяют поведение человека: мышление и обусловленная им целесообразная деятельность находятся в подчинении у животности (Animalitat) и призваны служить удовлетворению ее.
Это жизнепонимание находит выражение в значительной части литературы всех народов. Порой оно выступает как первобытная с ила животности, но чаще в борьбе с религиозным мировоззрением. На знамени его написано - освобождение плоти. Историческая относительная правота этого мятежа, вечно возрождающегося и вечно деятельного утверждения естественной жизни заключается в противоположении его необходимому, но тем не менее жесткому дисци-плинированию человечества религией. Из этого жизнепонимания, когда оно становится философией, возникает натурализм, который подкрепляет теоретически то, что прежде утверждалось в жизни: жизнь природы — единственная и настоящая действительность; помимо нее ничего нет; жизнь духа только формально, заключающи-
166__________________________________Культурфилософские рефлексии
мися в ней особенностями, отличается от физических процессов; и это бедное содержанием сознание есть также результат действия естественных причин в пределах физической действительности.
Структура натурализма остается неизменной, начиная от Демокрита и до Гоббса, и от него до «Системы природы» Гольбаха: сенсуализм в качестве теории познания, материализм как метафизическое обоснование и двойственное отношение к жизни - стремление к наслаждению и вместе с тем к примирению с всесильным и чуждым мировым порядком в созерцании.
Два основных свойства физического мира создают философское оправдание натурализма. Насколько преобладает в действительности, данной нам в опыте, протяженность и сила физических тел! Они объемлют как непрерывное и бесконечно протяженное целое немногочисленные явления духа, которые кажутся редкими вставками в великой ткани физического миропорядка. Первобытный человек, созерцая это отношение, чувствует себя всецело подчиненным этому миропорядку, кроме того, природа является источником познания единообразия.
Ежедневный опыт учит человека отмечать эги единообразия и считаться с ними; позитивная наука о физическом мире восходит через изучение этих единообразий к познанию закономерных связей: так осуществляется идеал познания, недоступный наукам о духе, основывающимся на внутреннем опыте и истолковании его.
Но трудности натуралистической точки зрения гонят его беспрерывно к диалектическому развитию все новых определений своего отношения к миру и жизни. Материал, на который он опирается, — это явления сознания; натурализм попадает в круг. Он стремится вывести сознание из того, что дано только как феномен сознания. Далее немыслимо вывести ощущение и мышление из движения, которое дано только как феномен сознания. Несравнимость физического и психического приводит (после того как неразрешимость проблемы была доказана всеми попытками решить ее, от античного материализма и до «Системы природы») к позитивистскому признанию коррелятивности физического и психического. Но и это решение проблемы возбуждает сомнение. В конечном счете объяснение развития общества оказывается не по силам морали первоначального натурализма.
2
Начну с теории познания натурализма. Его гносеологическая основа - сенсуализм. Под сенсуализмом я понимаю учение, выводящее все познание из чувственного опыта и кладущее в основание оценок чувственное удовольствие и неудовольствие. Сенсуализм
Вильгельм Дильтей. Типы мировоззрения... 167
является непосредственным философским выражением натура-листического жизнеощущения. Отсюда ясно, почему натурализм, разрешая поставленную им психогенетическую проблему единства душевной жизни, рассматривает его как unitas compositionis2* единичных впечатлений. Сенсуалист не отрицает ни внутреннего опыта, ни разумной обработки данного, но он усматривает в физическом порядке основание познания закономерных связей действительности, и свойства мышления непосредственно или при помощи теории превращаются им в часть чувственного опыта.
Первая сенсуалистическая теория принадлежит Протагору. Сила мирового разума, проявляющаяся в человеческом мышлении, в предшествовавших системах не отделялась от физических свойств людей, от процесса дыхания и от телесно понимаемых чувственных образов. Протагор учил, что восприятие возникает из взаимоотношения двух движений, внешнего и внутреннего, совершающегося в организме, а так как для него мышление было неотделимо от восприятия, то он объяснял всю душевную жизнь из возникающих таким образом восприятий. Радость, печаль, влечение — все истолковывалось им как взаимодействие двух движений, он был несомненный сенсуалист. И уже он сам усмотрел вытекающие из этих положений феноменалистические и релятивистские следствия. Релятивизм Протагора заключается в том, что для него всякое знание, оценка, цель обусловлены чисто эмпирическим фактом человеческой организации. Это понимание исключает возможность сравнения указанных функций с внешним миром, к которому они относятся. Итак, познание, оценки, целеполагания обладают лишь относительным значением, соотнесенным с человеческим организмом. Здесь отсутствует связь между субъектом и предметом познания, предпосылкой которой должно быть признание всеобщего, себе тождественного разума, повсюду признающего равное равным. Чувственные организмы в мире животных, простирающемся до человека, представляют бесконечное многообразие, в силу чего пришлось бы признать, что каждая форма организма должна создавать себе совсем особый мир. Чистая эмпиричность чувственной организации, подчинение ей всего мышления и включение этой организации в связное единство физического мира — вот основание всех релятивистских учений древности.
Как обосновать опыт и опытное знание, исходя из таких предпосылок? Такова была ближайшая проблема. Математика, астрономия, география, биология непрерывно развивались, и сенсуалистический скептицизм должен был обосновать их. Уже в теории вероятности Карнеада заключалось стремление примирить в положительном единстве сенсуалистические предпосылки и опытные науки. Значимость познания в его скептическом учении уже
168 Культурфилософские рефлексии
не основывается на столь свойственном греческому духу отношении между объективной действительностью и отображением ее в представлении; она определяется внутренним согласием между восприятиями и понятиями, образующими свободное от противоречий, связное целое. В создании идеала наивысшей достижимой вероятности, в определении ступеней вероятного и определилась точка зрения, отрицающая метафизику и обеспечивающая опытному знанию несомненную, хотя и ограниченную, значимость.
Но сенсуализм пережил последнюю, решившую его судьбу эру только в XVII в., когда наступила великая эпоха математического естествознания, обосновавшего закономерность порядка природы. Естественные науки утвердили непогрешимость опытного знания, и сенсуализму пришлось, считаясь с ними, определить свое отношение к ним, преодолев скептические выводы предыдущей эпохи своего развития. В этом сказалась крупная заслуга Дэвида Юма. Он сам считал свою философию продолжением академического скепсиса. И действительно, у него встречаются основные черты этого скептицизма — признание одной лишь эмпирической фактичности нашей чувственной организации и связанного с ней мышления; отсюда выводятся отображения между познающим духом объективного мира и определение познания как внутреннего согласия восприятий между собой и согласованности их с понятиями. Но в его анализе эти положения приводят к ужасающим выводам: правильное чередование событий обусловливает привычность к определенным связям: присущая ей сила ассоциации -единственное основание для понятий субстанции и причинности. Так возникают положения, которые должны стать основанием позитивизма. Связи субстанциальности и причинности, которые создают внутреннее единство мира, заменяются иррациональностью привычки и ассоциации; опытное знание ограничивается установлением единообразия сосуществования и последовательности явлений; ему закрыто всякое познание внутренних связей, сущности, субстанции, причинности; совершенно таков и состав нашего знания о духовном бытии: все части мира связаны единой закономерностью. По сущности своего учения Дэвид Юм сенсуалист. Его крупные научные завоевания, воспринятые Д’Аламбером и переработанные французским ученым в позитивистскую теорию познания, освободились от метафизических предпосылок: позитивизм сделался методом, и даже натурализм стал выдвигать в противовес этой феноменалистической точке зрения Фейербаха, Молешотта, Бюхнера «безусловность чувственного» и утверждать внутреннюю связь физических явлений и зависимость от них психического, как учила новая физиология мозга.
Вильгельм Дильтей. Типы мировоззрения...
3
169
Натуралистическая метафизика получила после Протагора механистическое обоснование. Механистическое объяснение само по себе является позитивно-научным методом, хотя уживается с различными мировоззрениями: механистическая метафизика возникает только тогда, когда действительность подчинена исключительно принципу механизма, когда понятия, которые должны быть только орудием, средством научного познания, рассматриваются как первопричины бытия. Причина движения усматривается в отдельных материальных элементах мироздания, и из этих же элементов каким-либо методом выводятся явления душевной жизни. У природы отнимается та внутренняя духовность, которую вложили в нее религия, миф, поэзия; она становится бездушной; нигде связное единство не противоборствует механистическому истолкованию. Эта точка зрения дает натурализму возможность облечься в строго научную форму. Ему теперь предстоит задача установить законы, по которым из механического порядка материальных элементов возникает мир духа.
Бесчисленное количество трудов было посвящено решению этой задачи. Наибольшим значением отличаются: эпикурейская система в блестящем изложении Лукреция; мощное мрачное учение Гоббса, с величайшей последовательностью рассматривавшего весь духовный мир с точки зрения жизненного инстинкта, порождающего борьбу индивидуумов, сословий, государств за власть и господство; во Франции XVIII в. - «Система природы», которая в безжизненных формах открыла секрет неверующих и жаждущих наслаждения всех веков; и наконец, фанатическая доктрина материализма Фейербаха, Бюхнера, Молешотта и их последователей.
Сила этих теорий заключалась в том, что они строились на основе внешней, пространственной, чувственно постигаемой действительности, которая доступна точному естественно-научному мышлению. Для них нигде не оставалось темного неразложимого остатка, не было уголка, где бы могло притаиться что-либо самостоятельно духовное или трансцендентное. Все оказывалось естественным и рациональным. Сущность материалистической метафизики — в борьбе с религиозными представлениями и с спиритуалистической метафизикой, с их загадочностью. Ее историческое оправдание в том, что она старалась преодолеть союз церкви со светской деспотической властью.
При материалистическом понимании нет места для восприятия мира с точки зрения ценности и цели. Здесь ценности и цели оказываются порождениями бессознательно творящей природы, которые представляют особую важность только для человека, по-
170 __________________________________Кулыурфилософские рефлексии
тому что внутренняя жизнь заставляет его сознавать себя центром мироздания и все мерить мерой своих чувств, стремлений и целей.
4
Двойственность в отношении натурализма к природе неизбежно должна была вызвать двойственность его жизненного идеала. Страсти делают человека рабом природы - рабом лукавым и нерадивым, и все же силой мышления он возвышается над нею. Уже античная мысль развила обе стороны натуралистического идеала. Сенсуализм Протагора заключал в себе предпосылку для гедонизма Аристиппа. От соприкосновения чувственной организации с внешним миром возникают как чувственные восприятия, так и чувства и желания, которые не выражают объективных ценностей действительности, но указывают только на отношение к ним субъекта с его чувственными переживаниями. Из этого Аристипп сделал вывод, что удовольствие, как наиболее совершенное из происходящих в нашей чувственной организации движений, — исключительное мерило и цель человеческих поступков. Мера ценности и цель искусства жизни должны быть открыты в той физической связи нашей животности с внешней природой, которая проявляется в наших чувственных побуждениях. Самоуглубление Сократа заменяется здесь полным господством формальной мысли, оперирующей над ценностями наслаждения, возвышающейся над условностями и противополагающей себя даже объективному порядку жизни. Но стремлению к наглядности понимания и к эстетическому наслаждению, столь свойственному духу греческой культуры, открывался другой идеал, который также был тесно связан с натуралистической метафизикой, с учением Демокрита, Эпикура, Лукреция. К этому идеалу увлекал жизненный опыт. Мир царит в душе того, кто открывает свой ум познанию неизменных и несокрушимых предвечных законов мироздания. Это настроение отлилось в поэме Лукреция. Он испытал освобождающую власть величественных космических, астрономических и географических учений, созданных греческой наукой. Неизмеримая Вселенная, ее вечные законы, происхождение Солнечной системы, история Земли, покрывающейся растительностью, животными и производящей, наконец, человека, — все эти величавые образы ставили его высоко над политическими интригами и жалкой умирающей верой народа. Перед величием этого космического чувства казалось ничтожным даже само существование, с его погоней за наслаждением и властью, с борьбой людей, ареной которой служила великая Римская держава — «Fromm ist, wer gefassten Geist es auf das Weltall blickt»’*.
Вильгельм Дилысй. Типы мировоззрения..._________________171
Уже в древности опыт людей, стремящихся к чувственному наслаждению, расширил узкий, застывший идеал чувственной радости как цели жизни. Наряду с радостью чувств постигнута была ценность более прочной радости духа. Эпикурейская школа, уже в те времена приступая к решению вопроса о происхождении всего богатства и величия культуры из чувственного удовольствия и неудовольствия, пользовалась идеей постепенного развития и прогресса. Но только современная мысль выработала научно обоснованные методы для натуралистического объяснения духовного развития. Такое значение имело и осознание духовной жизни в ее особенностях, объяснение происхождения хозяйственных форм из интересов индивидуума, а высшей культуры — из уровня материального благосостояния, и наконец, эволюционная теория, которая положила в основание интеллектуальных и моральных свойств человеческой личности идею суммирования бесконечно малых изменений на протяжении бесконечно больших периодов развития. Натуралистический идеал, который на исходе его длительного культурного развития выразил Людвиг Фейербах, идеал свободного человека, узнающего в Боге, бессмертии и в сверхчувственном мире призраки своих стремлений и желаний, оказал мощное влияние на политические идеалы, на литературу и поэзию.
IV. Идеализм свободы
1
Я опять исхожу из факта родственности многих систем, которые, основываясь на едином жизнеощущении, едином отношении к миру, разрешают проблемы мировой загадки в определенном смысле, объединяющем эти системы в новый, второй тип мировоззрения. Идеализм свободы — это создание афинского гения. Анаксагор, Сократ, Платон и Аристотель обратили в принцип миропонимания формирующее, созидающее верховное начало идеи свободы. Цицерон особенно подчеркивал свое согласие, свое духовное родство с Сократом и с его позднейшими последователями.
Выдающиеся отцы церкви и апологеты христианства сознают свою связь с духом учения Сократа и с римской философией. Шотландская школа, целиком основанная на учении Цицерона, чувствует свою коренную связь с писателями раннего христианства, и совершенно такое же сознание родственности связывает с этими более ранними мыслителями Канта, Якоби, Мен де Бирана и близких им французских философов вплоть до Бергсона.
172 Кулыурфилософские рефлексии
Это сознание преемственности сопровождается у представителей данного направления резкой критикой натуралистических систем. Каждый мыслитель этого направления исполнен сознания коренной своей противоположности натурализму как в жизнепонимании, так и в мировоззрении и в идеалах, и этим сознанием особенно глубоко проникнуты наиболее сильные умы. Но и противоположность пантеизму все яснее осознавалась представителями этого идеализма личности. Древний греческий пантеизм отказался от веры в личное общение с божественным началом, от его религиозной персонификации; но Сократ противопоставил свое учение этому пантеизму, а в господствующем направлении римской философии подчеркивалась близость к Сократу. Древняя христианская философия сознает свое единствос представителями идеализма свободы, противополагая себя как натурализму, так и пантеизму. То же самое положение занимает позднейшая христианская философия в борьбе с объективным идеализмом Ибн Рушда. Во времена Возрождения это же соотношение проявилось в борьбе Джордано Бруно со всякой христианской философией и в преследовании церковью нового пантеизма Бруно. Оно же сохраняется и в споре Спинозы с учениями о личности или свободе, в споре Лейбница с многочисленными поборниками доктрины свободы, в борьбе между Кантом, Фихте, Якоби, Фризом и Гербартом, с одной стороны, и Шеллингом, Гегелем, Шлейермахером - с другой. Страстность всех великих философских споров последнего века объясняется связью различных решений мировых проблем с различными мировоззрениями. Полемика Бейля против Спинозы объясняется стремлением противопоставить детерминизму свободу воли. В полемике Вольтера против Лейбница сказалось противоречие между чисто человеческим сознанием, стремящимся прежде всего укрепить за собой права свободы, и созерцательной метафизикой, основанной на усмотрении связей мироздания. Руссо противопоставляет с блестящим успехом различнейшим формам натурализма и монизма философию личности и свободы. Полемика Якоби с Шеллингом затрагивает основные проблемы противоречия между объективным идеализмом и философией личности, и более страстного спора не знает история философии. Резкость нападок Гербарта на монистическую философию объясняется сознанием того, что монизм, колебля великие истины теистических систем, вместе с тем выступает в защиту христианского мировоззрения, теистического в самых глубоких своих корнях. И горечь, которой проникнута борьба Фриза и Апельта против монистической спекуляции, точно так же объясняется ненавистью к тому искажению, которому подвергли опытное знание природы Шеллинг и Гегель, упразднившие к тому же, под предлогом защиты христианства, христианский теизм.
Вильгельм Дильтей. Типы мировоззрения...
2
173
Сознанию внутреннего сродства, объединяющего представителей идеализма свободы и отделяющего их от объективного идеализма и от натурализма, соответствует действительная родственность систем этого типа. Единство, связывающее мировоззрение, метод и метафизику этих систем, состоит в следующем: в противопоставлении личности всему данному; в верховном самоутверждении ее заключена идея независимости духовного от какой бы то ни было данности; дух сознает свою сущность, отличную от всякой физической причинности. Глубокому этическому прозрению Фихте открылась связь между личным характером мыслителей и идеализмом свободы в противоположности его ко всем натуралистическим системам. Эту свободную, самодовлеющую силу ограничивают отношения к окружающим личностям; но это не физическое ограничение, а подчинение нравственной норме, долгу. Так возникает идея мира личностей, в котором индивидуумы, оставаясь свободными, связаны нормами. Эти посылки всегда связаны с признанием соотношения между этими свободными, ограниченными внутренним законом ответственными индивидуумами и абсолютно личной свободной причиной. С точки зрения жизнепонимания это отношение основывается на том, что самопроизвольная и свободная жизненная энергия оказывается силой, которая определяет другие личности в их свободе; одновременно с этим в ней самой другие личности становятся силой, определяющей ее в ее собственной самопроизвольности. Это живое определение и определимость волевой деятельности обращается в схему мирового единства: философия проецирует этот процесс в само мироздание; он открывается как сущность всякого отношения, в котором участвует субъект систематического мышления. Таким образом, Божество освобождается от связей физической причинности и воплощается в идее противостоящей ей силы, — целеполагающий разум, утверждающий свою независимость от данного, проецируется в мироздание. Анаксагор и Аристотель философски определили и точно выразили это понятие Божества в отношении Божества к материи. Самое яркое метафизическое выражение этой идеи личного Бога мы находим в христианской концепции создания мира из ничего, из небытия; в ней Божествб утверждается как трансцендентное закону причинности, который господствует над миром, подчиняя его правилу — ex nihilo nihil!4*. Кант дал критическое оправдание трансцендентности Бога для познания, пользующегося законом достаточного основания для утверждения связи истин: Богдан только для воли, требующей его признания в силу своей внутренней свободы.
174 Культурфилософские рефлексии
Так возникает структура, общая всем мировоззрениям этого типа. С точки зрения теории познания этот тип мышления, как только в нем пробуждается сознание своих предпосылок, должен основываться на данных сознания. Это мировоззрение претерпевает различные метафизические обоснования. Впервые оно выступает в аттической философии как концепция творящего разума, обращающего материю в мир. Признание независимости отвлеченного мышления и нравственной воли от физической природы и утверждение связи их с духовным порядком — исходный пункт концепции Платона и основа учения Аристотеля. Подготовленная римской идеей воли и римским представлением о Боге — властелине Вселенной, возникает в христианстве спорая концепция — учение о сотворении мира. Она строит трансцендентный мир из связей, данных в опыте воли. Собственные понятия о Боге в христианском сознании определяют его отношение к людям как отношение отца к детям; они утверждают общение с ни м. Провидение как символ державного управления миром, справедливость и милосердие. Эту концепцию отделяет от высочайшего развития сознания Бога в немецкой трансцендентальной философии длинный путь. В ней идеализм свободы, нашедший совершеннейшее свое выражение в Шиллере, строит героически-величавый образ сверхчувственного мира, который действителен только для воли, потому что создан ее идеалом бесконечного устремления.
4
Факты сознания дают общезначимое основание для этого мировоззрения. Оно неопровержимо, как метафизическое сознание героической личности: оно всегда будет сопутствовать величию деятельной натуры.
Но оно не в силах определить и обосновать свой принцип с научной общезначимостью. И вот здесь принимается за свое дело вечно беспокойная диалектика, переходящая от возможности к возможности, но не способная разрешить свою задачу. Сознательная воля, проявляющаяся в семье, праве, государстве, была разложена римскими мыслителями на понятия, источник которых стали, наконец, усматривать в прирожденных задатках человеческой души. В недоступном и недоказуемом создан был оплот житейской мудрости. Закономерность правил жизни получила обоснование в нативистических предпосылках, которые сами не могут быть усмотрены иначе, как из наблюдений над порядком жизни и над всеобщностью этого порядка (consensus gentium). Это обоснование представляет собою
Вильгельм Дильтей. Типы мировоззрения..._____________________175
логический круг. Так создала римская философия жизни свой идеализм личности. Христианское сознание, идя этим путем, утвердило трансцендентность духа и независимость его от порядка природы. Но ведь это только символическое выражение опыта воли, проявляющейся в самопожертвовании, в победе над природной ограниченностью, в добровольной смерти, это символ желания жить во имя осуществления духовной правды. Идеал святости достоверен в себе, но не может стать достоянием логического сознания. Кант и трансцендентальная философия задались целью определить и возвысить до общезначимости эту идеальную волю. Безусловное было противопоставлено мировому порядку как высшая норма и как высшая ценность. Попытка не удалась. Но она вновь ожила во французских идеалистических концепциях личности, от Мен де Бирана и вплоть до Бергсона, в идеалистической форме прагматизма, как он был выражен Джемсом и близкими ему по духу мыслителями, в великих трансцендентальных течениях немецкой мысли. Твердыня безусловного несокрушима; изменяются только его форма и его обоснование. Сила ее в жизнеощущении действующего человека, который требует устойчивой нормы для своей целеполагающей воли.
Шиллер — поэт этого идеализма свободы, а Карлейль — его пророк и историк:
У царя земного в подчиненьи Геркулес томился и в сраженьи Проводил он вечно жизнь свою; То со львом, то с гидрою сражался, И живой еще не побоялся Броситься в Харонову ладью.
Всем грудам и всем земным мученьям Был богами подвергаем он;
По сносил покорно и с терпеньем Все, на что был осужден.
По настал последний час - и смело Мощный дух покинул тело И понесся в высь к богам святым, Восхищаясь сам своим пареньем -И, подобно легким сновиденьям, Все земное сгинуло пред ним. И, напевам горних лир внимая, Олимпийцам полубог предстал -И богиня юности благая 11одала ему бокал5*.
V. Объективный идеализм
1
Уклоняющиеся от обоих вышеописанных типов системы образуют связное единство. Они составляют основную массу всей метафизики; проходят через всю историю философии, и их тесная связь с великими родственными проявлениями веры и искусства указывает на то, что источник их в мировоззрении, пронизывающем религии, художественное творчество и метафизическое мышление.
Обозначу границы, в пределах которых встречается в метафизике этот тип. Ни натурализм, ни идеализм свободы не представляют центральной массы философских систем. Ксенофан, Гераклит, Парменид и их последователи, стоическая система, Джордано Бруно, Спиноза, Шефтсбери, Гердер, Гёте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр и Шлейермахер — все эти системы обнаруживают явную принадлежность к одному общему типу, резко отличающемуся от обоих, нами описанных. Между собой они связаны взаимной зависимостью и определсинейшим сознанием внутреннего родства. Стоя сознавала свою зависимость от Гераклита; Джордано Бруно широко воспользовался основными понятиями стоической доктрины; Спиноза обусловлен учением Стой и тем кругом философских представлений, среди которых работала мысль Джордано Бруно. В Лейбнице, в противоположность застывшему в неподвижности монизму Спинозы, находит совершеннейшее выражение самосознание Возрождения. После упразднения субстанциальных форм не осталось ничего реального, что бы отделяло единство божественного начала от ограниченности существ; мир - это проявление Бога в нем. Он претворился в безграничное многообразие; все единичное отражает в себе мироздание. Таковы также основы философского сознания Лейбница. Хотя в зависимости от современного ему уровня понятий он и придал Божеству индивидуальное существование, хотя, находясь под влиянием теологических учений, он и выдвинул чисто теологические стороны бытия Бога, но основной чертой его мировоззрения надо признать пантеизм, и новая великая идея его системы выразилась в построении Вселенной как единого целого, каждая часть которого определяется идеальной связью смысла всего целого. Его система обусловлена поиском смысла и значения Вселенной. Ближе всего по духу к нему Шефтсбери, на котором сказалось влияние Стой и Джордано Бруно. Великие представители объективного идеализма в Германии находятся в сфере влияния Лейбница; пробуждение немецкой поэзии сделало их наследниками учений Шефтсбери, проникших в Германию через посредство Гердера и Гёте. Их связь
Вильгельм Дилыей. Типы мировоззрения...____________________177
со Спинозой, отчасти непосредственная, отчасти опосредствованная предыдущим литературным движением, доказана и может быть прослежена и в более широкой исторической перспективе. Итак, эти системы связаны таким же тесным историческим единством, как и системы натурализма и идеализма свободы.
В них постоянно самым решительным образом подчеркивалась их противоположность другим двум типам. Как сурово относится Гераклит к популярным материалистическим учениям! Как резко отличается учение Стой от эпикурейского сенсуализма! Но Стоя в то же время сознает свое отпадение и от Платона и Аристотеля, выразившееся в возрождении гилозоизма. Джордано Бруно с беспримерной страстностью боролся со всеми формами христианского миропонимания и христианских жизненных идеалов. Той же страстностью проникнуты и сопровождающие логические доказательства примечания Спинозы в его «Этике», представляющие свободные излияния душевного настроения. Шеллинг и Гегель выпускают памфлеты и манифесты, направленные против идеализма свободы, особенно против Канта, Фихте и Якоби как представителей рассудочной философии. И критика нравственных учений Шлейермахера, если исключить из нее нападки на Шопенгауэра, по существу своему представляет полемику против сенсуалистической морали и против ограниченности дуалистической этики Канта и Фихте во имя объективного идеализма.
Если, следуя этим указаниям, продолжить сравнение, выяснится внутренняя родственность, единство этой группы и общность структуры, связывающая их в единство типа мировоззрения. Единство положений, составляющих структуру этого типа, объемлет гносеологически-методическое отношение сознания, метафизическую формулу, заключающую различные возможности метафизического строительства, и принцип порядка жизни.
2
В первом из трех мировоззрений гносеологически-методическое отношение сознания к мировой загадке проявлялось в восхождении от познания единообразия физического мира к обобщениям, подчиняющим этой внешней механической закономерности также и духовные явления. Идеализм свободы, наоборот, открыл в фактах сознания точку опоры для общезначимого разрешения мировых проблем; он стремился утвердить совокупность неразложимых далее общих определений сознания, которые бы самопроизвольной силой претворяли материю внешней действительности в систему жизни и в мировоззрение. От обоих этих типов резко от-
178 Культурфилософские рефлексии
личается третий своими гносеологически-методическими приемами. Их можно вскрыть у Гераклита и у Джордано Бруно, у Спинозы и Шефтсбери, у Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра и Шлейерма-хера. Они обусловлены жизнеощущением этих мыслителей. Мы называем созерцательным, наглядным, эстетическим или художественным такое отношение, когда субъект его как бы отдыхает от работы естественно-научного познания и от деятельности, определяющейся связью между нашими потребностями, возникающими на их основе целями и их осуществлением. Это созерцательное отношение расширяет жизнь чувства, первоначально ограниченную чисто личным объемом жизненного богатства, ценности и счастья, до своего рода универсальной симпатии. Благодаря расширению, растворению нашего Я в универсальной симпатии мы наполняем всю действительность ценностями, переживаемыми нами, действиями, выражающими нашу сущность, верховными идеалами истины, добра и красоты. Мы находим в действительности отголосок тех настроений, которые она в нас пробуждает. И по мере того как наше чувство жизни расширяется до сознания единосущ-ности со всеми явлениями действительности, повышается радость жизни, растет сознание собственной силы. При такой настроенности души индивидуум сознает свою связь с божественным всеединством вещей, чувствует себя родным всему включенному в это единство. Никто не выразил это настроение так ярко, как Гёте. Он воспевает счастье «чувствовать природу, наслаждаться ею». «Ты в глубину ее, как в душу друга, мне дал с восторгом заглянуть». «Ты дал мне хоровод живого в движеньи непрерывном ощутить и научил меня в водах, в лесах, в эфире родную душу брата узнавать».
Это жизнеощущение находит во вселенской гармонии разрешение всех противоречий жизни. Трагичное сознание нестройности бытия, пессимизм, юмор, подмечающий ограниченность и давящую скованность явлений и все же прозревающий в глубине их победу идеального, — все это ступени, по которым совершается восхождение духа к созерцанию вселенского единства бытия и ценностей.
Этот объективный идеализм постоянно верен основным своим принципам. Он не подчиняет единичное и случайное единообразию сходного, но обозревает связь частей в целом, утверждая единство жизни и связь мира.
История сохранила нам память о Гераклите как о первом из мыслителей этого типа, осознавшем метод своей философской работы. Мудрым взором он оценил своеобразие созерцательного мышления и ясно выразил его отличие от персонифицирующей веры, от чувственного восприятия, которому он отказывает в значении самостоятельного орудия, и от научного познания приро-
Вильгельм Дильтей. Типы мирово прения...179 ды. Предметом размышления философа является то, что всегда, повсюду неизменно окружает его, в чем он открывает одни и те же черты. Его взор устремлен на то, что с нами становится. Гераклит этим дал гениальное определение того глубокомыслия, в силу которого явления природы, мимо которых проходит толпа, для истинного философа становятся источником удивления и долгих размышлений. Это созерцательное отношение открыло Гераклиту Вселенную в непрерывном единстве - как поток движения и преходящести всего сущего, подчиненного, однако, разумному порядку. Трагизм неустанного бега времени, в котором мелькает, возникая и исчезая, настоящее, разрешается в сознании неизменной правильности порядка Вселенной.
В учении Стой тоже господствует идея мира как целого, в котором все единичное является частью, связанной с целым силой объединяющего начала. Она отказалась от подчинения многообразия явлений отвлеченным единствам понятий, господствовавшим в системе Платона и Аристотеля; в ее учении логическое отношение единичного к общему заменено органическим принципом связи между целым и составляющими его частями: это то понимание, которое как усмотрение внутренней целесообразности органического Кант глубоко верно сблизил с эстетической формой созерцания. После падения схоластической силлогистики и систематики, пользовавшихся субстанциальными формами для обоснования трансцендентного мира в угоду христианской теологии, в эпоху перехода от средневековья к новой истории эти категории мировоззрения снова возродились: целое и его части, индивидуальность этих частей вплоть до самых мельчайших из них стали опять основными принципами метафизики. Уже у Николая Кузанского мы встречаем эту чисто эстетическую концепцию Вселенной, по которой единичное в своей связности с целым отражает в себе все мироздание. Спиноза — великий представитель этого учения о единой Вселенной, и мировоззрение Лейбница выросло из этого же настроения, несмотря на его понятие Бога, связанное с теологическими тенденциями и обоснованное монадологией. Шопенгауэр и Шлейермахер всего полнее осознали гносеологическое интеллектуальное созерцание Шеллинга. Освобожденное от воли созерцательно-эстетическое воззрение Шопенгауэра, в котором субъект, не будучи уже принужден следовать в усмотрении связи вещей указаниям закона достаточного основания, вскрывает существенное в явлении. Наконец, религия Шлейермахера как созерцание и чувство Вселенной. Все эти формы выражают разные стороны того же мировоззрения, присущего этому типу мировоззрения.
180 Культурфилософские рефлексии
------------------------------3-----------------------------
Это мировоззрение определяет общую метафизическую формулу для всего этого класса систем. Все явления даны нам двояко; с одной стороны, они даны нам во внешнем восприятии, как чувственные предметы, и как таковые они объединены физической связью, но, с другой стороны, они обнаруживают ту связь живого единства, которую открывает нам углубление в собственный внутренний мир. Это - принцип единосущности всех частей Вселенной с божественным основанием и между собой. Он соответствует настроению мировой симпатии, познающей в действительном, пространственно ограниченном повсеместное присутствие Божества. Это признание единосущности - основная метафизическая посылка религии индусов, греков и германцев, и из нее метафизика выводит имманентность всего единичного, как части, общему основанию мира и имманентность всех ценностей общему единству значения, составляющему смысл мира. Созерцанию, интуиции в которых переживается жизнь целого, открывается во внешней данности явлений внутренняя, живая, божественная связь единства. Наконец, из этого отношения к миру обыкновенно вытекает детерминизм; единичное обусловлено целым, и связь явлений понимается как внутреннее предопределение, какой бы смысл ей ни придавался в остальном.
4
Как религия, так и поэзия и метафизика только символически выражают природу мирового единства, заключенного в формуле объективного идеализма. Оно оказывается непознаваемым. Метафизика берет отдельные черты живой сущности субъекта, единства живой личности и их проецирует, как единство связи, в безграничность мироздания. Возникает беспокойная диалектика, восходящая от системы к системе, пока не исчерпаны все возможности, пока не познана неразрешимость проблемы.
Что является основанием мира - разум или воля? Если мы определим его как мышление, то необходима воля для возникновения чего-либо. Если видеть в нем волю, то надо принять как предпосылку целеполагающее мышление. Но воля и мышление невыво-димы друг из друга. Здесь предел логического мышления об основе мира, и мистике представляется отразить ее живую сущность.
Если основание мира мыслится как личное начало, то эта метафора требует конкретных определений, ее ограничивающих. Но все эти определения исчезают, когда мы привносим идею бес-
Вильгельм Дильтей. Типы мировоззрения...181 конечного: остается непостижимое, непознаваемое, остается мрак мистического. Если это основание мы усматриваем в сознании, то оно подпадет под противоположность объекта и субъекта; но бессознательное не может стать источником сознания как высшего, мы снова пред лицом непостижимого. Мы не можем понять, как единое обращается в множественность, вечное — в преходящее: логически это непостижимо.
Магическая формула тождества не делает более понятным отношение бытия и мышления, протяженности и мысли. Итак, и от этих метафизических систем остается только особая настроенность души, особое мировоззрение. В стихах Гёте это мировоззрение нашло совершеннейшее выражение.
Тот бог не благ, который, миру чуждый, Путь во Вселенной указал земле. Ему пристало быть душой живою, Природу, растворившись в ней, обнять, Чтоб было все единосущно Духу, Дышало силой, разумом Его.
Примечания переводчика
р Антиципация (anticipatio) предвосхищение, предугадывание событий, заранее составленное представление о чем-либо.
2‘ Единство построения {лат.).
3‘ «Благ созерцающий Вселенную спокойной душой» {нем.).
4‘ «Из ничего - ничто»; из ничего ничто не возникает {лат.).
5‘ Заключительные с гроки стихотворения Ф. Шиллера «Идеалы и жизнь» (1795). [См. также: Идеал и жизнь / Пер. В.Левика // Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1955. Т. ЕС. 192 193.- Ред.]
Печатается по изданию: Новые идеи в философии. СПб., 1912. №1. С. 119-181.
Рихард Кронер
Самоосуществление духа. Пролегомены к философии культуры
«Вес диссонансы жизни только ссоры влюбленных. Примиренье таится в самом раздоре, и все разобщенное соединяется вновь».
Гиперион Беллармину'
Основы деления культуры
1. Принцип деления
До сих пор отдельные области культуры рассматривались как примеры того, чего достигало или не достигало сознание посредством своего культурного самоосуществления, но об их отношении друг к другу, об их отграничении друг от друга говорилось лишь вскользь. Но для того чтобы понять членение тела культуры на понятийном уровне, должен быть найден принцип. Однако этот принцип не может быть открыт посредством сравнения отдельных областей культуры, если с самого начала не принять во внимание то общее, что присуще всем этим областям, что делает их членами одного тела, т.е. идею целостности культуры. Сознание, которое в соответствии с этой идеей примиряет себя посредством своей культурной деятельности с самим собой, должно само разделить себя посредством самоосмысления, должно само определить роль каждой части целого в своей деятельности. На вопрос, что совершает каждая отдельная область, т.е. в какой степени сознание находит или не находит примирение путем своего самоосуществления в экономике и технике, науке и политике, искусстве и религии, должен ответить расчленяющий принцип. Примиряет ли себя сознание в отдельных частях или в целостности культурной действительности и в какой мере - об этом может свидетельствовать только самоосмысление, обозревающее все целое и объединяющее все части в целое. Каждая часть получает вследствие этого функцию в смысловой целостности культуры.
Выше уже было показано, что отдельные части взаимодействуют не только как члены органического тела, гармонически пополняя друг друга в жизни целого, но что они одновременно противодействуют друг другу, пребывают в борьбе друг с другом.
Рихард К'ронер. (?амоосуществле>п1е духа 183
взаимно ограничивают друг друга, причем именно потому, что каждая часть хочет быть одновременно целым, осуществлять вообще идею культуры, примирить сознание. Но может ли действительность культуры быть единым живым телом, несмотря на соперничество и борьбу своих членов, остается проблематичным; под вопросом остается и то, на каком основании можно вообще говорить о членах, а не просто об отдельных областях культуры. Только если сознание способно прекратить спор областей таким образом, чтобы самому сохранить в себе свою самость, только если оно само способно объединить все области в себе как в едином целом, если оно может расчленить само себя, эти области могут стать членами одного и того же тела культуры. Следовательно, внутри самой культуры должно быть место, особая область, в которой сознание совершает объединение всех областей в их самости: эта особая область есть философия культуры. В ней и только в ней культура становится целостностью, ибо в ней она осмысливает самое себя, осознает самое себя, становится культурой для самой себя. Только посредством этого самосознания культура становится расчленяющимся в себе царством, области которого не только борются, но и дополняют друг друга; только посредством философской рефлексии, только посредством того, что культура сама себя постигает, она становится для себя самой действительностью, но она действительна, или, скорее, вообще осуществляет себя лишь настолько, насколько осуществляет себя для самой себя, так как она есть самосуществование сознания, а сознание есть сознание, лишь поскольку оно осознает само себя. Только в философии сознание сознает себя как само себя осуществляющее, как посредством самого себя для самого себя становящееся: только в философии достигает оно конца своего пути, только в ней оно завершает свое для-себя-становление, свое самоосуществление.
Философия культуры есть особая область культуры; но в то же время она есть и не особая область, а постигающая самое себя и этим постижением самой себя созидающая тотальность культурных областей; однако эта тотальность, именно потому, что она может создать себя лишь постигая себя, не есть тотальность, предметный мир, а тотальное «Я», самость, осуществляющее себя в качестве культуры самосознание. Только в философии культура достигает конца двоего пути, потому что только в ней она сознает сама себя, осуществляет себя для самой себя. В философии культура противопоставляет себя самой себе, выходит за пределы самой себя, осмысливает и постигает себя, но именно поэтому она вместе с тем и объединяется с самой собой, становится для себя самой понятием и действительностью. Без философии культура есть неосознанное самим
184 ____________________________ Культурфилософские рефлексии
собой самоосуществление сознания, которое в качестве неосознанного именно не осуществляет сознание или же в котором оно не осуществляет самого себя в качестве сознания; поэтому вне философии культура не приходит ни к своему понятию, ни к своей полной действительности: области культуры здесь несамостоятельные моменты, они только станции или ступени пути, на котором сознание себя осуществляет, они члены, которые только в философии организуют себя как тело, только в ней находят свое собственное «Я». Наука, искусство политика и религия становятся таковыми только в философской рефлексии, так как только в ней они становятся для самих себя тем, что они суть в себе, т.е. вне философии. Для науки предмет познания - не она сама, а природа; для искусства предмет его творческой деятельности - не оно само, а творимый им предметный мир, для политики и религии — цель их устремления, то, к чему они ведут, не они сами, а государство и Бог. Поскольку наука и искусство, политика и религия не направляют рефлексию на самих себя, не достигают сознания самих себя, сознание осуществляет себя в них лишь не в полной мере, оно остается «в пути» и не может остановиться ни в одной из этих областей, т.е. не может нив одной из них найти абсолютное примирение. На вопрос, сможет ли сознание найти в философии абсолютное примирение, способна ли и каким образом философия разрешить свое внутреннее противоречие, которое состоит в том, что она - лишь особая область культуры и одновременно культурное целое, тотальное «Я» культуры, ответ может быть дан только там, где философия направляет рефлексию на самое себя. Но уже и теперь принцип деления этих областей должен быть взят из понятия культуры, находящегося вне философии.
Ни одна область культуры, находившаяся вне философии, неспособна как таковая абсолютно примирить сознание, однако каждая вносит свой вклад в его самоумиротворение; только так она может стать частью целого, может дойти в философии до понятия, до осознания самой себя, может тем самым перестать быть областью культуры вне философии. В той мере, в какой она будет постигнута, в какой мере она станет областью философской рефлексии, она примет участие в общем процессе самоумиротворения, войдет в тотальное «Я» культуры. Поэтому для рефлексии понятие каждой области противоречиво, поскольку постигаемая область как таковая противится постижению: только не будучи постигнутой, она — внефилософская самостоятельная область культуры; постигнутая же, она — область философской рефлексии; лишь непостигнутая, она - действительность в себе самой, постигнутая же, - она только момент процесса самоосуществления, который в конечном счете есть процесс становящегося для себя в рефлексии самосознания, —
Рихард Кронер. Самоосущестнление духа 185
процесс, который в философской рефлексии постигает сам себя, который становится в ней для себя самого процессом рефлексии. Поскольку рефлексия постигает внефилософскую область культуры, она противоречит самой себе, так как превращает ее в область рефлексии, или же ставит наместо области — понятие области. Это противоречие философия может снять, только устраняя противоположность самой себя и постигаемой культуры, противоположность понятия культуры к самой культурной действительности: она устраняет эту противоположность, осознавая для себя самостность самости, которая осуществляет себя в культуре и в философской рефлексии, или же полагая в основу своего постижения эту самость, как это происходит в основополагании.
> Правда, это основополагание остается до конца рефлексии Иодступом к постижению, предположением, гипотезой, которая : может оправдать себя только в конце и должна найти себе подтверждение в процессе: только результат мыслительного процесса, только весь процесс может «доказать» правильность подступа, только конец может утвердить и оправдать начало, только целое может утвердить и оправдать каждый момент. Так и принцип или, что то же самое, метод деления может быть здесь заранее принят только как подступ, который должен оправдать себя в осуществлении.. Поэтому принцип деления может быть только принципом снимающего себя противоречия, т.е. принципом примиряющегося в мышлении посредством развивающейся рефлексии самосознания. Чтобы провести этот принцип, сознание должно мыслить само себя в некоторой степени в себе раздвоенным, примиряющим себя благодаря культуре самосознанием, оно должно основополагающе мыслить противоречие рефлексии одновременно как раздвоенность рефлектированного сознания, а прогрессирующее сам ©умиротворение — одновременно как прогрессирующее снятие противоречия. Если принцип окажется осуществимым, названный подход становится для себя самого принципом, основополагание становится для самого себя обоснованием, упомянутое «одновременно» в конце мыслительного процесса постигнет самого себя, и тем самым завершится снятие противоречия в сам ©умиротворении сознания: обе стороны окажутся в рефлексии одним и тем же.
Противоречие между областью и понятием области есть противоречие между самостоятельностью и несамостоятельностью, между понятийной действительностью и недействительной поня-тийностью, между тотальностью и моментальностью или, что то же самое, — между содержанием примирения и наличия раздвоенности сознания в каждой области; одновременно в соответствии с принципом этого противоречия подвергает себя рефлексии и раз-
186
КУльтурфилософские рефлексии
двоение, остающееся в каждой области; поэтому осмысление раздвоенности заставляет мышление переходить из одной области в другую, в результате чего области становятся дополняющими друг друга частями целого. Каждая область принадлежит культуре лишь в той мере, в какой она есть область культуры, в какой она примиряет сознание, но в то же время она принадлежит ей лишь в той мере, в какой она есть область культуры, в какой она не примиряет сознание; каждая область примиряет сознание лишь настолько, насколько она притязает на то, чтобы быть целостностью культуры и по своему содержанию примирения действительно является целостностью, но в то же время каждая область примиряет сознание лишь настолько, насколько она входит в целое и есть лишь часть целого, т.е. поскольку она не примиряет сознание, мышление, снимает это противоречие тем, что мыслит в каждой части расчленяющее целое, расчленяющуюся самость целого, или же тем, что эта самость сама себя расчленяет, мысля самое себя, мыслит самое себя, расчленяя самое себя. Целое есть для себя становящееся истинное, ибо истинное естьдля себя становящаяся самость.
Каждая область есть одновременно целое - только так она сама есть для себя самой, только так она мыслит самое себя, только так она становится для самой себя одновременно действительностью и понятием, одновременно осуществленным и осуществляющимся самосознанием. Поэтому ни одна область не может быть отграничена от другой без того, чтобы это отграничение не противоречило на границе самому себе, не снимало само себя. Ни одна область не есть лишь она сама, скорее она сама становится самой для себя, только когда она перестает быть лишь самой собой, становясь областью от нее отграниченной или переходя в нее. Постигать — значит ограничивать; но одновременно это значит — переступать границу. Только через постижение целого, только благодаря тому, что целое постигает само себя, постигает себя и каждая часть целого; только в понятии целого, в идее культуры приходит каждая отдельная область к соответствующему ей понятию. Поэтому постижение есть не только продвижение от области к области, но одновременно и продвижение целого к самому себе, для-себя-становление в к^гждой области осуществляющегося и остающегося неосуществленным, примиряющегося и не примиряющегося самосознания культуры. Постигать — значит ограничивать, а ограничивать - значит противоречить себе; противоречащее себе сознание устраняет, чтобы соединить себя с собой, границу: оно понимает отграниченную область как веху на пути к самопримирению, как стремящийся за пределы самого себя, растворяющий себя сам в целом, в целое впадающий образ сознания.
Рихард Кронер. Самоосущестилате духа 187
Каждая область должна перейти в целое, утонуть в целом, если она хочет удержаться в целом.
Поэтому рефлексия постигает единичное только в целом, а целое - только переходя от единичного к единичному; она постигает все во всем. Наука есть наука, лишь поскольку она отграничивает себя от политики, искусства и религии; но она также есть наука еще и потому, что стремится переступить эти границы и растворяется на границах в пограничных областях; только так она есть живая часть культуры, осуществляющее себя сознание, только так она вносит свой вклад в самоумиротворение сознания. Хотя наука есть наука поскольку она есть не политика, не искусство, не религия, можно, однако, также утверждать, что наука есть наука только потому, что она есть политическое, художественное и религиозное сознание, — потому что она есть тотальное сознание, которое в ней осуществляется, которое утверждается в этом образе, но одновременно и взрывает его, и стремится выйти из него. Подобное относится и к каждой части. Постижение подвергает рефлексии эту жизненную силу, ограничивая область, выявляя противоречие ограничения, противоречие понятия области и снимая его в понятии пограничной области. Таким образом, рефлексия строит ступени целостности культуры, отделяя по ступеням содержание примирения областёй и ведя одновременно проходящее через все ступени сознание к понятию самого себя.
4. Рациональная и интуитивная культура
Экономика и техника по сути должны быть поняты как ограниченные области, поскольку дух в них стремится совсем не к абсолютному или тотальному, а лишь к относительному и частичному примирению, или, поскольку он себя в них осуществляет не как универсальный дух, как тотальное сознание, а только как часть сознания. Поэтому эти области отсылают от самих себя к другим, самоосмысление должно выйти за их пределы даже для того, чтобы суметь понять их самих в их особенности: по своему понятию они не являются самостоятельными областями.
С соотношением рациональной и интуитивной культуры дело обстоит совсем иначе - в обеих дух стремится к абсолютному примирению. Здесь различие не может быть выведено из различия поставленных целей; оно может быть выведено только из различия путей, на которых должна быть достигнута цель, - пути подчинения и пути слияния. В понятии подчинения заключено то, что дух не достигает своей цели потому, что не осуществляет себя в своей
188__________________________________Кул1>турфниософские рефлексии
абсолютной целостности и конкретности, о которых было сказано выше. И это ведет к важному последствию. Так как дух на пути подчинения содержания форме никогда не осуществляет себя целостно и конкретно, то он и не может, естественно, объективироваться в одном деянии, а может объективироваться лишь в не допускающем завершения ряде их, причем ни одно из них не стремится быть только самим по себе значимым и не может претендовать на то, чтобы самому примирить дух; напротив, каждое из них означает лишь шаг на пути к цели, каждое лишь вносит свой вклад в совокупность деяний, которая как таковая никогда не сможет стать действительной. Наука и государство по своему понятию и, следовательно, по своей действительности всегда постигаются в становлении, так же как непосредственное сознание, хотя они и являются объективациями и как таковые отделяются от потока переживаний.
На этом внутреннем свойстве научных и государственных действий покоится противоречивость их результатов. Как осуществление духа каждый результат по своему смыслу окончателен, но наука и государство по своей сущности никогда не бывают завершенными, они строятся исключительно посредством отдельных шагов, отдельных актов. Правда, каждое научное знание стремится быть истинным, а значит, окончательным; но вместе с тем каждое научное знание делает оговорку, что оно хочет быть только теорией или даже гипотезой, т.е. сохранять значение, пока оно не будет опровергнуто «новыми фактами»; наука «развивается», в ее понятиях заложены желание и необходимость развиваться. Нои несмотря на постоянно грозящие преобразования теорий, даже основ науки, она по своему действительному состоянию никогда не находится в конце своего пути, потому что никогда не являет собой целое своих частей, тотальность своих дисциплин; она существует только во множественности отдельных наук, которые стремятся к тому, чтобы образовать целое, тотальность. Методический идеал науки состоит в максимальном приближении к математике, потому что математическое мышление рационально-интуитивно, т.е. в нем совершается наиболее тесное соединение всеобщего и особенного, закона и отдельного случая, - соединение формы и содержания посредством подчинения теории, или погому, что в нем подведение частного под общее, как правило, приближается к конструкции. Однако предметы и события никогда не допускают полной рационализации в соответствии с этим идеалом, ибо содержание в его конкретности и качестве никогда не может быть подчинено количественной форме физико-математического закона и потому, что форма в своей тотальности не может быть введена в форму математического закона.
Рихард Кронер. Самоосущесгвление духа 189
Наиболее математически разработанная дисциплина с наибольшим правом стремится к тому, чтобы охватить все другие дисциплины, сделать их областями своего применения, даже подчинить их себе: она стремится к единовластию, к господству над другими. Поскольку целое, тотальность науки, так же не может быть достигнуто на этом пути подчинения, как не может быть подчинена научным духом целостность предметов, тотальность предметов, природа, то подобное стремление остается таким же невыполнимым, как невыполнима реализация идеала науки. Таким образом, каждая дисциплина сохраняет право относительно самостоя гельно находить и применять собственные методы и совершать частичные соответствующие «фактам» обобщения. Группе дисциплин, применяющих преимущественно математические методы, противостоят другие группы, стремящиеся познать содержание или предмет прежде всего по его форме и качеству. Эти группы соперничают друг с другом, так как вместе они не могут составить целое; они соревнуются и полемизируют друг с другом, и установить между ними согласие невозможно, ибо в них действуют противоположные тенденции и потому, что их объединение и примирение не может быть достигнуто ни какой-либо отдельной группой, ни какой-либо отдельной дисциплиной. Естествознание есть в сущности не наука о природе, а множество наук, каждая из которых исследует ограниченную применяемым ею методом и ее предметом область природы, причем эти области не дополняют друг друга своими знаниями; и всеми науками в их совокупности природа как целое, как тотальность не познается. Эта тотальность вообще не становится предметом науки; ее идея служит каждой отдельной науке целью познания; общее видение этой идеи есть то, что объединяет все науки, что делает их частями смысла единой научной действительности.
Как рациональный дух в качестве духа науки в сущности никогда не достигает конца своего пути, а всегда остается «в пути», пребывает в становлении, как поэтому каждое научное «произведение», каждое знание, каждая теория и каждое теоретическое построение всегда остаются только частью творимого, вкладом, и объективно дают развивающемуся сознанию лишь относительную опору, могут примирить сознание только частично, только относительно, такое выражение обретает и рациональный дух, который осуществляет себя в политике как области культуры. И хотя все государственные действия как таковые правомочны, хотя конституция, при помощи которой государство себя основывает и создает, и законы, которые оно публикует, по своему смыслу окончательны и имеют значение на все времена, они одновременно обусловливают возможность изменения, если того потребуют «обстоятельства», если возникнут
190 Культурфилософские рефлексии
«новые условия»; политическая жизнь «развивается», изменение заложено в ее идее; мирная или насильственная революция, ревизия самых основ государства заключены в самом смысле политического процесса, ибо государство никогда не бывает абсолютно прочно установленным, ибо оно никогда не существует в полном соответствии со своей идеей. Все новые по своему содержанию воления и долженствования возникают перед политически себя осуществляющим духом, все новые задачи должен он решать, так как многообразие и различие объединенных в государстве индивидуумов никогда не совпадает в своей абсолютной конкретности с государственной волей и не растворяется в ней; дело политики по своему понятию и по своей действительности никогда не бывает закончено: примирение сознания в политике — состояние мира и справедливости — никогда не достигается и не может быть достигнуто, хотя каждый политический акт этому служит, хотя государство, поскольку оно живет как осмысленная действительность, в сущности есть не что иное, как объективно осуществленный разум, и ничем иным быть не может. Но абсолютно дух не может осуществлять себя ни как разум, ни как рассудок ни практически, ни теоретически.
Эта граница самоосуществления, это противоречие в понятии дела примирения обнаруживаются и в науке, и в государстве не только в отношении формы и содержания, но и в самой форме, поскольку государство никогда не охватывает всех индивидуумов, никогда не выступает как одно государство, но являет собой множество государств, которые не составляют в своей совокупности целое, политическую тотальность, тотальное «Я». Отдельные государства только стремятся к тому, чтобы стать целым, составить тотальность. Поэтому между государствами возникают соперничество и спор; каждое стремится быть носителем идеи политической тотальности, каждое стремится осуществить господство над всеми другими, обрести единовластие. Чем легче государству удается установить и гарантировать мир и справедливость «внутри», т.е. в отношениях между его гражданами, тем прочнее его право и тем сильнее его господство над менее развитыми государственными образованиями, т.е. над теми, которые в меньшей степени способны руководствоваться разумом. Однако этому праву противостоит право каждого отдельного государства самостоятельно действовать в той области своего волеизъявления, специфика которой определена особенностью объединенных в нем граждан. Следовательно, и здесь должны необходимо возникать группы власти, которые соперничают друг с другом и борются посредством дипломатии или войны, ибо вместе они не могут образовать целое. Идеальное государство остается как вну-
Рихард Кроиер. Самоосуществле»ие духа 191
три своих границ, так и вовне, в сопоставлении с действительностью, понятием государства, неосуществимым идеалом. Этот идеал есть то, что объединяет и разъединяет государства, что превращает их в дружественно-враждебные части единой, политической по своему смыслу действительности. В рациональных областях культуры каждое деяние есть лишь частичное деяние, каждый факт примирения — лишь предварительный результат, лишь станция на пути к цели, которая никогда не может быть достигнута. Так как цель недостижима, то все стремления и действия в этих областях полны противоречий, ибо дух никогда не приблизится к бесконечно-далекому, сколько бы шагов ни было сделано, и поэтому ценность примирения каждого отдельного шага, в ее сопоставимости с мерой, которая способствовала бы получению окончательного результата, равна нулю. Ratio2, в сущности, отвергает сам себя, как только дух сравнивает его достижения с целью, к которой он стремится; рациональная культура указывает на то, что находится за ее пределами, на интуицию. В то время как смысл подчинения состоит в возможности только относительно примирить дух, смысл слияния состоит в том, чтобы примирить его абсолютно, абсолютно соединить его полюсы и моменты: смысл интуитивной культуры заключается в том, что посредством самообъективации дух осуществляет себя в ней абсолютно.
Искусство в высокой степени превосходит науку, прежде всего по содержанию примирения. И хотя также существует множество искусств и художественных произведений, но их взаимоотношение совершенно иное, чем взаимоотношение наук и научных произведений. Теории и гипотезы устаревают и переживают себя; истинное в них входит в более поздние творения и продолжает жить в них, а изначальный образ разрушается; напротив, подлинное художественное произведение остается таким, каким оно было, на все времена, оно не устаревает и не умирает, оно сохраняет свое непреходящее значение; его изначальный образ остается носителем непоколебимой ценности. Следовательно, здесь нет ряда друг за другом следующих, друг друга дополняющих шагов; на пути интуитивного примирения дух как бы сразу порождает в отдельном творении все деяние своего примирения. Как Афина из головы Зевса,'появляется художественное произведение из глубины духа художника, готовым и законченным предстает оно взору созерцающего или слуху внимающего, отделенное не только от источника переживаний сознания, но и от становления духа; безоговорочно и не соотносясь с другими произведениями, стремится оно абсолютно примирить дух: таков смысл его действительности.
192
_____________________________Культурфилософские рефлексии
Нарисовать над Г>ожьим ликом нимб,
Заставить сердце дрогнуть перед ним
От завершенности, от совершенства
И от смирения при мысли: Вот блаженство’...
А большего не будет, не дадут.
Платен (пер. Г. Полонского)
Различие между объективным смысловым содержанием в искусстве и науке становится ясным, если сравнить субъективные чувства, которые оно вызывает: чувство восторга при созерцании художественного произведения и наслаждения им и чувство рационального удовлетворения, которое доставляет научное познание. Поэтому душа, полностью отданная прекрасному, безмятежно покоится в этой преданности красоте.
Как искусство превосходит науку, так и религия превосходит государство по содержанию примирения. И хотя религиозная жизнь, как и государственная, многогранна, однако действительность религии откровения основывается на установлении завершенных в себе и окончательных авторитарных высказываний, которые обычно обобщают как откровение; многообразие религиозной жизни, раскрывающееся в культе и заботе о спасении души, в молитве и проповеди, излучает свет из этого прочного внутреннего ядра и видит свое назначение только в том, чтобы сохранить и распространить его. Спасение человечества и, следовательно, примирение Бога с людьми есть неповторимое, значимое для всех времен деяние Иисуса Христа, Сына Божия и Сына человеческого, который принес на Землю Царствие небесное и подчинил вечность времени. Это сознание вечности было настолько сильным у первых христиан, что они верили в близкий конец существования во времени. Религия не развивается подобно науке или государству, она остается такой, какой она была в момент своего возникновения; основанная, она уже завершена. Смыслу религии противоречит перенос своего осуществления в будущее; наука и политика должны верить в прогресс, религиозная вера направлена на неизменное. Поэтому религия исключает пересмотр сгюих основ, как и изменение своей сущности. Бог, который открывает себя в религии, есть Бог живой, один и тот же «от вечности к вечности», поэтому он и говорит о себе: «Я первый и последний»3. Хотя его откровение обновляется каждый раз, когда оно действует в верующих, однако по своему содержанию оно неизменно остается одпим и тем же: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут»4. Сознавая, что религия с момента своего возникновения завершена, преобразователи религии всегда ощущали себя только очищающими религию, возвращающими ее исконное понимание реформаторами
Рихард Кропер. Самоосущес тление духа 193
в полном смысле слова; даже Иисус, принеся в мир новую религию, связывал ее со старой религией: «Не нарушить (закон) пришел Я, но исполнить»5. Абсолютная швершенностьрешнии неразрывно связана с ее смыслом как деяния, совершенного самим Богом. Поэтому духу ее постоянно грозит опасность окаменения, опасность того, что животворную веру заступит вера в книгу и букву. Чтобы предотвратить всякое поступательное движение, всякое преобразование, были канонизированы и строго соблюдались основополагающие свидетельства откровения. К ременному Богом ничего не следует добавлять человеку, он должен хранить слово Божие и нести его всем народам: «Научите все народы... соблюдать все, что Я повелел вам; Я с вами во все дни до скончания века»6. Все развитие религии может быть по самому ее смыслу только распространением, только раскрытием откровения: поэтому католическая церковь так подчеркивает непрерывность, неизменную традицию, поэтому она утвердила догмат непогрешимости папы, который выступает как наместник Христа на Земле (непогрешимость есть только иное выражение абсолютной завершенности божественного слова, интерпретируемого папой в соответствии с новыми ситуациями; поэтому Лютер придавал огромное значение сохранению чистоты слова).
Религия стремится, далее, иметь значение не только дня тех, кто причисляет себя к исповедующим ее, — по своей сути, по своему понятию она универсальна: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»7... «Никто не приходит к Отцу как только чрез Меня»4. Религия окончательно установлена и поэтому исключительна, она не терпит соперничества, по своему смыслу она не есть одна религия среди других, но единственная религия, единственно «истинная», абсолютная религия4. И если различные религии терпимо относятся друг к другу, то это никогда не исходит из религии, из религиозного духа, а имеет либо политические, либо философские причины. В политике возможен отказ от распространения сферы влияния отдельного государства, ибо политика основана на разуме, а разум считается с невозможностью примирить дух в его абсолютной целостности и конкретности: политика есть искусство возможного. Религия же стремится сделать возможным рационально невозможное, осуществить абсолютный мир и абсолютную справедливость; вернее, именно это и есть содержание религиозной веры в то, что мир и справедливость осуществляются властью Божией. Для религиозного сознания все люди едины в Боге, т.е. «мир Божий, который выше всякого разума», превращает их в детей Божиих и потому в братьев и сестер. Царствие Божие не от мира сего, оно в душах верующих; это не земное царство будущего, а Царствие небесное, к которому причастны все, чей путь ведет к Богу: «Не бойся, малая паства. Отцу ва-
194_________________________________Культурфилософские рефлексии
шему угодно дать вам царствие». Политический порядок дает гражданину чувство личной безопасности, божественный порядок сообщает душе чувство благодати - в различии этих субъективных свойств чувства можно вновь усмотреть различие объективного содержания примирения. Государство заботится о чувственно-нравственном благополучии, релишя — о сверхчувственном спасении отдельного человека; благополучие способно возрастать — в нем существует градация, поэтому оно может быть обеспечено в большей или меньшей степени; спасение же связано с целостностью и конкретностью души, поэтому оно может быть только полностью и целиком обретено или полностью и целиком утрачено: «Неспокойно наше сердце, пока оно не найдет покой в Тебе» (Августин).
Поскольку рациональная культура по своему смыслу никогда не бывает завершенной, а всегда пребывает в становлении, то субъективное сознание не сливается с ней так полно, как с интуитивной культурой; оно входит в смысловую действительность рациональной культуры как нечто абстрактно-рациональное, а не как конкретно-индивидуальное. Исследователь сообщает не свое мнение, не свою точку зрения, а хочет, чтобы результат его исследования был просто результатом познающего разума, результатом рациональным; художник, напротив, вкладывает душу в свое произведение, и, как бы оно ни претендовало на общезначимость, оно стремится быть не просто произведением художественного духа, но произведением гениальной индивидуальности, которая объективирует себя в нем как индивидуальность. И государственный человек также не высказывает своих мнений и взглядов, а представляет волю государства; король, который объявляет войну или заключает мир, действует не как индивидуальное «Я», а от имени государства, в качестве «Я» государства или его высшего слуги; пророк же, напротив, вещая, полностью сливается со своим Богом, он совершенно растворяется в Боге и погружается в Него; он для себя не что иное, как посланник Бога и толкователь Его воли, он призван как индивидуальное «Я» Его представлять. Самым возвышенным образом выражает себя это слияние Бога и провозвестника Его воли в словах Иисуса в Евангелии от Иоанна: «Я и Отец — одно»10.
7. Наивная и рефлективная культура
Граница религии не есть граница культуры вообще, хотя дух и достигает в ней своей высшей точки; существует нечто, находящееся по ту сторону религии, по ту сторону вообще постигнутой до сих пор сферы культуры, вообще науки и политики, искусства и рели-
Рихард Кронер. Самоосущесчвление духа____________________195
гии: это — сфера рефлексии. Лишь в этой сфере сознание культуры, общность культуры осознает себя посредством самообъективации; лишь для рефлектирующего духа наука и политика, искусство и религия становятся формами объективирующего себя посредством культурной деятельности субъективного сознания; лишь в качестве рефлектирующего духа сознание создает для себя самосознание, приходит к сознанию самого себя. Для субъективного сознания различие между наукой и политикой, между искусством и религией также существует постольку, поскольку оно рефлектирует, осознает эти области культуры как свои творения: научное и политическое, художественное и религиозное сознание вообще не осознают как таковые ни самих себя, ни культуру в целом. Исторически дух должен был пройти длинный путь, прежде чем он создал понятие культуры и области культуры, только после того, как прошли века наивного воззрения на культуру, когда она определялась и объединялась посредством господства одной или нескольких упомянутых областей, — только в начале Нового времени в область культуры проникает рефлексия, потому что только теперь культура как целое, целостность культуры становится проблемой.
В определенном смысле само сознание является, правда, всегда рефлективным сознанием как таковым, ибо оно возвращается к себе, относится к самому себе. Однако самость, в которой оно наивно соединяет и осуществляет свои полюсы и тем самым себя самое для себя самой, есть не объединяющее себя не примиряющее себя сознание, а, смотря по обстоятельствам, различно организованное на различных ступенях самоосуществления единичное «Я» непосредственной жизни, «Я» государства, «Я» Бога. И несмотря на то что сознание сознается самим собой, осуществляется для себя самого, между сознанием и самостью повсюду сохранится различие. Только в рефлексии и посредством рефлексии сознание устраняет это различие, ведь только в ней и посредством нее оно достигает абсолютного конца своего пути. Рефлексия примиряет сознание уже не наивно, т.е. соединяет и приводит к единению уже не его полюсы или изначальные моменты, а формы, в которых оно себя осуществляет, чтобы примирить себя. Поэтому рефлексия не продолжает уже дело примирения в той же плоскости, в том же смысле, в каком оно создавалось на ступени наивной культуры: и хотя она осуществляет в истории и философии новые формы примиренного сознания, эти формы возникают лишь благодаря тому, что прежние формы примирены друг с другом.
Рефлексия строит свое творение на почве наивно примиряющегося сознания, созданное им служит ей предпосылкой. Сознание примиряется в рефлексии уже не непосредственным самоопосред-
196_________________________________Культурфилософские рефлексии
ствованием, а тем, что оно опосредствует свое собственное само-опосредствование, — оно примиряется благодаря тому, что реф-лектируемое ею содержание примирения становится для него самого содержанием примирения; рефлексия не может сама создать это содержание, она может только осмыслить, только осознать его. Сознание примиряется посредством рефлексии, снимает свою разделенность по различным областям культуры осмыслением границ и единства этих областей, соединяет свои различные формы и доводит этим до своего сознания позитивное содержание примирения всех их. Напротив, рефлексия не может вытеснить своим собственным содержанием содержание примирения областей наивной культуры тем, что превосходит его; сознание, правда, примиряется с самим собой, примиряя друг с другом свои формы, однако оно не выходит за пределы достигнутого этими формами примирения своих изначальных моментов. Рефлексия не может так глубоко слить сознание и бытие, форму и содержание, как это делают искусство и религия: она не может, в частности, осуществить самость в себе, сверхбога мистики, но может (чего не может религия) постигнуть смысл задачи, которая поставлена, но не решена религией. Именно потому, что сознание осмысливает смысл границ своего самопримирения, оно приходит к концу своего пути; поэтому, хотя достигнутое рефлексией самопримирение лишь негативно в сравнении с наивным самопримирением, оно вместе с тем для себя самого есть последнее, преступить пределы которого бессмысленно.
В политике сознание тоже обращается к себе, но не к себе как осуществляющемуся в политике, объективирующемуся и этим примиряющемуся субъективному сознанию, а к себе как к самости государства. Государство осуществляет самого себя для самого себя, оно есть субъект, «Я» своей деятельности; поскольку отдельные субъекты являются его членами, содержание их деятельности, в той мере, в какой оно допускает государственное регулирование, становится содержанием государственной деятельности. Таким образом, государство объединяет в себе всю культурную деятельность и превращает себя в ее субъект; но оно не объединяет в себе области культуры, их творения и их направления, оно не создает универсум культуры, не осуществляет сознание культуры, сознание культурной общности: на это способна только рефлексия, ибо только в ней вся культура как культура содержит для себя культурное сознание - как сознание культуры, общность культуры -как культуру общности; именно этим осознанием себя рефлексия соединяет друг с другом все области культуры, их произведения и их направления. И хотя рефлектирующее сознание не создает своей рефлексией или в качестве рефлектирующего сознания культуру, кото-
рихарл Кромер- Самоосуmec nuieinie духа 197
рую оно подвергает рефлексии, но оно все-таки есть само создающее культуру сознание, научное и политическое, художественный и религиозный дух, подвергающий рефлексии самого себя, — тем самым оно есть само рефлектирующее сознание, которое хотя и не в качестве рефлектирующего, но в качестве сознания создает культуру, которую оно подвергает рефлексии.
Религиозное сознание тоже подвергает себя рефлексии, мысля религию как откровение Бога, рассматривая мир как творение Бога; оно соединяет с собой все культуры, а тем самым все области культуры друг с другом. Своим откровением Бог примиряет себя с человеческим объективным сознанием, тем самым он примиряет также это сознание в нем самом, вследствие чего все области культуры благодаря своему отношению к Богу, к смыслу творения, который открывает Бог, становятся в себе единым целым. Не достигает ли этим религия всего того, на что способна рефлексия, и не является ли поэтому выход за пределы религии не необходимым и, более того, невозможным? Так мыслило средневековье, так мыслит сознание культуры, которое ощущает себя абсолютно примиренным религией, вернее Богом, которое живет и переживает свою культурную жизнь в Боге и воспринимает свою культуру как данную Богом, сознание, для которого Бог, а не оно само, есть подлинный творец культуры — не только творец религии и основатель церкви, но и единственно справедливый государственный разум и творец государственных законов, единственно знающий истину рассудок и создатель природы, дух, создающий искусство и миры его образов. В Новое время, после того как в эпоху Ренессанса возродились художественная и государственная культуры античности, после того как математическое естествознание восстало против теологической опеки, после того как все области культуры освободились, став самостоятельными от религии, подчинявшей их в средние века, так больше не мыслят и не могут мыслить. Историческая рефлексия препятствует тому, чтобы религиозное самосознание признавалось основополагающим для всей культуры в целом. Несостоятельными оказались перед судом философской рефлексии и рефлективные достижения религии. Это сказывается уже в том, что религия сама, выходя за свои пределы, стремится к мистике, которая пытается примирить объективированное религиозное сознание с сознанием, непосредственно присутствующим в переживании; это сказывается и в том, что религия как таковая не удовлетворяет рациональное сознание и поэтому вынуждена требовать в виде дополнения теологию. В мистике и теологии религиозное сознание внутренне раздваивается: в мистике потому, что она, вырастая на почве религии, одновременно колеблет и подрывает эту
198________________________________Культурфипософские рефлексии
почву; в теологии потому, что, ссылаясь на слово Божие, она одновременно подвергает это слово рефлексии, вследствие чего между религией и философией, между откровением и рефлексией возникает парящий в воздухе догмат, цель которого наивным образом примирить ratio с религиозным духом, при этом он не соответствует ни требованиям ratio, ни религиозному духу: как мистика, так и теология отсылают сознание на путь философской рефлексии.
Правда, для религиозного сознания Бог - творец мира, а следовательно, и всей культуры; Он — творец и хранитель природы и человеческого рассудка, который в качестве научного исследует ее законы, творец и хранитель государств и человеческого разума, который в качестве политического разума создает государства и правит, творец и хранитель искусства, образы которого возникают в воображении гениального человека, творец и хранитель религии, которую учредил Богочеловек и которую пастырский дух общины людей оберегает и распространяет. Однако для научного рассудка и политического разума обращение к Богу является запрещенным аргументом, и воображение художника может постичь Его только в образе своего мира, т.е. не может постичь Его как Бога: искусство по своей сути близко к язычеству; хотя естествознание и политика по своей сути и не антирелигиозны, они все-таки не религиозны или иррелигиозны (что, конечно, ничего не говорит и не должно говорить о религиозном чувстве художника, исследователя и политика). Как существует дурная, иррелигиозная религия, которая мыслит Бога естественно-научно и рационально - мыслят Его как первопричину, как закономерно действующую силу; или рационально-политически — как властелина, царя своего народа, так существует и дурное, псевдорелигиоз-ное естествознание, которое использует Бога как Deus ex machina11, и дурная, псевдорелигиозная политика, которая вовлекает Бога в борьбу партий и государств. Язычество и религия откровения являются, с исторической и философской точек зрения, смергельными врагами; в их вражде противоположность искусства и религии проступает в ясном и резком свете. Смертельными врагами становятся также естествознание и религия, политика и религия, если не соблюдать границы их областей, если одна из этих областей притязает на то, чтобы абсолютно примирить сознание. Только потому, что ratio по своей сущности, т.е. перед судом рефлексии, ограничен, он оставляет религии сферу духа, так же как религия, поскольку и она ограничена, не затрагивает сферу естествознания и политики.
Конечно, враждебное противостояние и борьба областей основаны не на произвольном и своевольном пересечении границ индивидуумами, участвующими в качестве деятелей культуры в созидании этих областей, они возникают не из противостояния и
Рихард Кронер. Сам(мм?у1цес1в.1ение духа 199
борьбы отдельных субъектов, а основаны на абсолютной воле к примирению раздвоенного в себе сознания, раздвоенность которого простирается вплоть до его самообъективации, до культуры, потому что сознание способно объективироваться, только расщепляя себя на формы рациональной и интуитивной культуры, а затем на формы искусства и религии, стремясь всегда вместе с тем к абсолютному примирению. Области наивной культуры должны вследствие своей наивности выходить за пределы своих границ, стремиться абсолютизироваться: но тем самым они не только искажают себя и друг друга, но и создают дурную, т.е. наивную рефлексию -дурную историю и дурную философию; и хотя эта дурная философия в последние десятилетия несправедливо заклеймлена хорошей, т.е. «критической» рефлексией как «метафизика», но отвергнута она была с полным правом. Только возвышающаяся над наивностью рефлексия, только само себя осмысляющее сознание культуры может примирить эти области, созерцая и мысля их границы в своей собственной самости, соединяя и объединяя их друг с другом и с собой посредством введения в эту самость.
Для исторической и философской рефлексии культура — всегда создание одного и того же выражающего себя в культуре духа, поэтому для них этот дух есть то, что охватывает все области культуры, вследствие чего эти области становятся частями целого, членами культурного универсума. Следовательно, рефлексия так же устраняет границы областей, как и возводит их. Один и тот же дух действует в экономике и технике, в политике и науке, в религии и искусстве; поэтому с исторической точки зрения границы областей текучи, а с философской — диалектичны. Историческая рефлексия и философия созерцают и мыслят все во всем. Для рефлексии каждый образ пребывает в русле исторической жизни, т.е. в неповторимом, происходящем во времени, но по своему смыслу и содержанию надвременном, процессе самообъективации субъективного сознания, историческая рефлексия схватывает единичный, временной ход событий, философия — надвременной смысл и содержание12. Поэтому историческая рефлексия выявляет во всех образах определенной эпохи единичный, т.е. индивидуальный, отпечаток деятелей в области культуры, отпечаток индивидуальности отдельных субъектов и сообществ, духа эпохи; в философии же надвременный, осуществляющийся в культуре, дух постигает самого себя. Исторически единство культуры осуществляется в совместных действиях отдельных областей, в способе их проникновения друг в друга, напластования друг на друга, вытеснения друг друга внутри господствующей области; философски - в том, что дух осмысливает свою надвременную, пронизывающую сущность всех образов и областей, самотождественность.
200 Кулы^рфилософскис рефлексии
Исторически области одной эпохи потому — и настолько — проникнуты одним духом, что они принадлежат одной эпохе и обнаруживают индивидуальную окраску этой эпохи; поэтому экономика и техника, государство и наука, религия и искусство древности или средневековья исторически более тесно связаны друг с другом и внутренне родственны, чем одни и те же области обеих эпох, вследствие чего с исторической точки зрения может возникнуть сомнение, вправе ли мы вообще говорить о надвременной сущности областей. Философски области культуры проникнуты одним духом, потому что в философской рефлексии дух осмысливает свою само-тождественность, а это значит - свою сущность, сущность культуры вообще и сущность областей культуры; это осмысление принуждает к отграничению областей друг от друга, ибо философская сущность есть понятие, а понятие есть нечто ограничивающее (бро^, terminus); но одновременно самоосмысление как осуществление самости ограниченного ведет к снятию границ: поэтому для философской рефлексии в экономике и технике действует также политический и научный, художественный и религиозный дух, в рациональной культуре действует также интуитивная, а в наивной — рефлективная культура. В рефлексии подвергает себя рефлексии самораздвоение и самопримирение духа, дух осознает их в разделенности и единстве исторических или понятийных образов культуры.
Философская диалектика понятий позволяет, правда, проступать различию и границам областей, но одновременно в ведущем к противоречию обострении различий показывает идентичность областей. Историческое изображение также делает созерцаемыми различие и границы областей, разделяясь на историю экономики, историю техники и т.д., но затем охватывает все области. Диалектика сознания проявляет свою историческую значимость в том, что одни и те же образцы могут быть отнесены к различным областям, что существуют образы, определить которые исторически однозначно вообще невозможно, потому что они переступают границы областей, как, например, философская религия индусов, поэтическое творчество греков, повествующее о жизни богов, диалоги Платона, утопии о государствах, возникшие в эпоху Возрождения, труды Гёте по естествознанию, пророческие исторические произведения Карлейля, религиозно-поэтические романы Достоевского и т.д. В истории (Histone) рефлектируется борьба, которая всегда ведется в различных формах на границах областей и за их границами, борьба между разными типами экономического устройства и между техническими изобретениями, между научными направлениями и между художественными стилями, между государствами и между политическими партиями, между религиями и между кон-
Рихард Кромер. Сямоосуществление духа 201
фессиями, между историческими воззрениями и между философскими системами. Но одновременно подвергает себя рефлексии охватывающее всю эту борьбу историческое единство и единение сознания; изображая эту борьбу, история сама стоит над борющимися и примиряет их в своем рефлектирующем духе. В исторической рефлексии борьба исторических сил прекращается, ибо рефлективное историческое сознание сознает в идентичности мира истории идентичность сознания и вместе с ним идентичность исторических сил. Суждение исторической рефлексии «беспристрастно», «объективно», т.е. она не осуждает, как это делают борющиеся, она не принимает какую-либо сторону, не находится больше в сфере борьбы, а рефлектирует в себе борьбу и соединяет в своем предмете борющееся с самим собой в мире истории и остающееся тем не менее в этой борьбе идентичным самому себе сознание.
Но рефлексия не только примиряет в себе области культуры и направления этих областей, полагая и снимая их границы, т.е. подвергая в себе рефлексии самораздвоение и самопримирение духа, но и потому, что в ней соединяются пути примирения духа, пути рационального и интуитивного, подчиняющего и сливающего са-мопримирения: рефлективный дух одновременно рационален и интуитивен, он подчиняет и одновременно ведет к слиянию. Правда, он больше не примиряет себя наивно, т.е. не подчиняет содержание духа его форме и не сливает то и другое, но в многообразии своих областей и образов подчиняет самого себя самому себе как их единой сущности и, устраняя границы своих областей и образов, ведет к слиянию самого себя с самим собой. В рефлексии научный рассудок и политический разум, а также художественный и религиозный дух рефлектируют самих себя; рефлексия как таковая не является ни научным, ни политическим, ни художественным, ни религиозным деянием, она так же, как наука и политика, искусство и религия, не есть «только» она сама — она есть она сама только будучи одновременно чем-то большим, чем она сама. Рефлексия берет на себя деятельность по примирению областей наивных культур; науку рефлектирующий дух может подвергать в себе рефлексии только будучи «настроен» научно, политику — только будучи «настроен» политически, искусство и религию - только будучи «настроен» одновременно художественно и религиозно, т.е. осуществляя в себе самом живой смысл областей наивной культуры, хотя и не способом этих областей, не наивно, но тем, что он опосредствует этот смысл самим собой, рефлективно осуществляет его в себе. Поэтому рефлективный дух в качестве рефлективного охватывает области наивной культуры «чисто» рефлективно; но поскольку он подвергает рефлексии свою идентичность с наивным духом, он охватывает обла-
202 Кулыурфилософские рефлексии
сти наивной культуры как области самого себя: он постигает самого себя не как «чисто» рефлективный, а как наивный и рефлективный дух одновременно или как наивный дух, направляющий рефлексию на самого себя. Наивный дух есть дух рефлективный, а рефлективный дух — дух наивный: рефлексия сливает их друг с другом, соединяя и объединяя многообразные области и формы духа в сущности духа.
Дух сознает самость своих областей и форм, сознает самого себя, осмысливая эту самость, осмысливая самого себя или рефлективно осуществляя смысл самого себя через постижение смысла своей деятельности в рамках наивной культуры и возникающей из нее смысловой действительности. Так же как есть непосредственное самоосуществление сознания, которое соответствует опосредствованному самоосуществлению областей наивной культуры, как существуют непосредственное восприятие и опыт теоретического «Я», непосредственные воления и действия практического отдельного «Я», непосредственное созерцание прекрасного и непосредственная религиозность отдельной души, есть и непосредственное самоосуществление сознания, воспоминание и стремление к мудрости отдельной личности, которая есть личность потому, что она заключает в себе как теоретическое и практическое отдельное «Я», так и эстетически и религиозно переживающую отдельную душу, соединяя и объединяя их с собой в качестве рефлективно переживающей личности в целом. В истории (Historic) и философии объективируется отдельная личность; она так же, как отдельное «Я» и отдельная душа, может объективироваться только потому, что она в качестве отдельной личности одновременно есть и сознание «Я», а в качестве сознания «Я» — одновременно единое, раздвоенное в себе и посредством самоосуществления примиряющееся тотальное сознание. В исторической рефлексии воспоминание отдельного «Я» расширяется до воспоминания сознания культуры, которое вспоминает всю свою деятельность, возвращая в свою внутреннюю глубину полные действительного смысла области и формы, созданные им на пути своего самоосуществления, запечатлевает их как области и формы самого себя, внутренне усваивает их, примиряя их этим друг с другом и с собой. В философии стремление к мудрости отдельного «Я» доходит до стремления к мудрости сознания культуры, конструирующего в понятии общий смысл своей деятельности и тем самым самого себя, разлагая себя на свои исходные элементы, строя из них смысловые понятия областей и образов культуры как необходимых по своему смыслу творений самоосуществления и примиряя их этим друг с другом и со смысловым понятием самого себя.
В истории и философии сознание осуществляет себя так же, как и в областях наивной культуры, объективируя себя как дух. Че-
Рихард Кронер. Самоосуществление духа_____________________203
рез самообъективацию оно создает себе самому границу, противопоставляя себя в качестве объективного духа субъективному сознанию. Поскольку непосредственная субъективная рефлексия становится в истории и философии объективной, она превращается в образ, который как таковой не принадлежит больше потоку непосредственной жизни и обособляется от него; он обретает законченность и общезначимость, придает себе конечность и вечность, разделяя судьбу всех образов, в которых объективно осуществляет себя дух. Подвергая рефлексии самообъективацию сознания, дух рефлектирует самого себя не только как объективное, но и как субъективное сознание; он опосредствует себя как объективное сознание собой как субъективным сознанием: рефлексия есть возвращение духа из своей объективности в свою субъективность, но это возвращение протекает как история (Historic) и философия в сфере объективации, оно само — отрезок пути, на котором дух объективно осуществляет себя. Субъективное сознание и объективный дух остаются, несмотря на примирение, раздвоенными.
Перед рефлективным духом в его противопоставлении себя наивному духу возникает еще одно ограничение; хотя он устраняет и это ограничение, постигая самого себя в качестве наивного духа, который направляет рефлексию на самого себя, восстанавливая этим при помощи рефлексии свою самость и самость наивного духа, однако это восстановление есть дело рефлексии, примирения достигает рефлективный, а не наивный дух. Постижение впадает тем самым в противоречие, которое заключается в том, что рефлексия определяется как последняя ступень и в то же время как совокупность всех ступеней, как часть и вместе с тем как целое самопримирение духа. Если дух примиряется при помощи рефлексии абсолютно, то он должен постигать свою сущность в себе как рефлективный дух; тогда наивная культура становится ступенью или частью рефлективной культуры, дух, следуя своей целостности, становится для себя самого рефлективным духом; вся культура -рефлективной культурой, которая осуществляется, следуя по ступеням, а все самоосуществление духа - поднимающимся по ступеням и завершающим себя в философии рефлективным самоосущест-влением: вся деятельность духа становится мыслящим самопости-жением. Таков выход, к которому прибег Гегель, чтобы философски преодолеть раздвоенность духа, окончательно и общезначимо привести к завершению диалектику мышления, абсолютно снять противоречия и привести систему понятий к тотальности, в самой себе движущейся и одновременно в самой себе покоящейся. Но этот выход недопустим. Дух по своей тотальности не является для самого себя рефлективным, хотя он только через рефлексию и ста-
204___________________________________Культурфил<кгофскне рефлексии
ловится для себя самого тотальным; его сущность для него самого не есть сущность подвергающего самого себя осмыслению духа, хотя только через самоосмысление он становится для самого себя духом и постигает свою сущность. Он есть для самого себя дух, осознающий самого себя через непосредственное и опосредствованное, наивное и рефлективное самоосуществление, преодолевающий свою раздвоенность и восстанавливающий свое изначальное единство, примиряющий себя в своем следовании по ступеням дух, который вместе с тем вновь раздваивается на каждой ступени и ни на одной из них - даже на рефлективной - не может прийти к абсолютному самопримирению. Гегелевский выход уже потому недопустим, что дух и на ступени рефлексии вновь расщепляет себя на два противоположных друг другу образа, в которых повторяется старая противоположность между сознанием предмета и самосознанием — повторяется в истории (Histone) и философии.
Примечания
1 Гёльдерлин Ф. Гиперион // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969. С. 429.
2 Разум, рациональность (лат.).
3 Я есмь Альфа и Омега, первый и последний (Отк. 1, 10).
4Мф. 24, 35.
5 Мф. 5, 17.
6 Мф. 28, 19-20.
7 Мк. 16, 15.
8 Ин. 14, 6.
9 Это относится не только к католицизму, но и к протестантизму. « Гак, Лютер не является поборником толерантности... Не терпимость к различным убеждениям как к субъективно оправданным, потому что объективно и убедительно в области религии ничего нельзя доказать, но абсолютная самодостоверность единственной истинности собственной позиции или, скорее, божественности слова и его способности к чисто духовному самоосуществлению, - такова толерантность, возможная, исходя из лютеранского понятия о церкви». «Толерантность кальвинизма носит исключительно политический характер. Она предполагает независимость церкви от государства, но отнюдь не терпимость церкви, поскольку речь идет о подлинном кальвинизме». Прим, автора.
10 Ин. 10,30.
11 Бог из машины (лат.). Неожиданпое появление Бога для разрешения сложной интриги - прием, часто применявшийся в античной трагедии.
12 Здесь и далее слова «geschichtlich» и «Geschichte» употребляются всегда для обозначения предмета истории, слова «historisch» и «Historic» для обозначения рефлексии, направленной на этот предмет. - Прим, автора.
Перевод выполнен по изданию: Kroner R. Die Selbstverwirklichung des Geistes. Prolegomena zur Kulturphilosophie. Tubingen, 1928.
Альфред Вебер
Германия и кризис европейской культуры
С тех пор как творил Руссо, с тех пор как романтизм в Европе искал путей возврата к германо-романскому Средневековью, и с того времени, как Гёте уже в 1825 г. со спокойной и свободной от иллюзий мудростью назвал вступающий в период своего расцвета XIX в. эпохой богатства и скорости, но вместе с тем посредственности, — с тех самых пор великие и малые умы до изнеможения бились над осмыслением итогов этого столетия; появились чувства пресыщения и невозможности дальнейшего существования; все громче и громче звучало требование героического преодоления последствий этого века. Уже задолго до начала войны ясно обнаружились глубинные проблемы, порожденные этим столетием. Это созданная им самим атмосфера - наряду с высоким совершенством его технических и интеллектуальных достижений, интенсивным становлением новых возможностей и форм; это проблематика европейского духа как такового, его наивысшей зрелости и полноты, - духа, кажущегося абсолютно не зависящим от судьбы Европы как географического понятия, чье жизненное пространство и создало его.
Совершенно невозможно целиком описать всю многократно обсуждавшуюся сущность этих общих проблем, которые в добропорядочных гостиных стран-победительниц считались только плодом безумной фантазии поверженных немцев, но тем не менее присущи и самим этим странам. Коль скоро я говорю сегодня о Германии и кризисе европейской культуры, то попытаюсь делать это исключительно в образной форме, имея в виду историческую Европу и ее судьбы, и намереваюсь спросить, обречена ли эта Европа, в настоящее время испытывающая, несомненно, тяжелейший с момента ее становления как германо-романского Запада материальный и духовный кризис, надолго обратиться в ничто в духовном отношении, а с точки зрения внешней стать в будущем только географическим понятием, незначительным, маленьким зубчатым выступом материка Евразии — подобно тому, чем сейчас является для Европы
206 Ку.тыурфилософские рефлексии
Древняя Греция. Тогда окажется, что данный способ рассмотрения отличается от общепринятого и что грядущие судьбы Европы в конечном итоге можно будет предугадать, только осознав, что предстоит испытать порожденной ею мировой субстанции.
На Земле нет другого такого исторического образования, хотя бы отдаленно сходного с Европой по излучаемой энергии и уровню мирового влияния, которое в той же степени способствовало бы перерастанию изначально единого как по своему характеру, так и в своих частных проявлениях процесса развития человеческой цивилизации в действительно объемлющую весь мир общность людей; образования, которое, взрывая собственные географические рамки, изменило бы облик земного шара с помощью созданных им социальных, экономических и политических институтов, культура которого обладала бы той же силой преодоления всего чуждого, - не говоря уже о берущих здесь начало людских потоках, захлестнувших в новейшее время все необжитые пространства Земли. Европейский дух играет революционизирующую роль в мировой истории — захотим ли мы объяснить это мятежными порывами, свойственными Фаусту, или, по размышлении более здравом, условиями становления данного исторического образования, которое со времен Карла Великого1 формировалось на землях вокруг Рейна как бы на мосту между европейским югом и севером, востоком и западом, включая Альпы на юге и Ла-Манш на севере, не как разделяющие элементы, а как связующие звенья. Европа, какой ее тогда создали молодые племена, ассимилировавшие так и оставшиеся несломленными более или менее древние народы, с самого начала была не только структурно неоднородной, но по сути своей полярной, заключающей в себе противоречие и снятие этого противоречия. Она приняла в наследство не только организующее начало христианской античности, но и присущее язычеству стремление к движению; она сформировала на основе возрожденной античности общественную систему, не встречающуюся более в истории и чрезвычайно противоречивую по своему характеру, в которой город и деревня, ремесло и сельское хозяйство, аристократия и горожане противостояли друг другу и стали, как нигде более, дополняющими друг друга и все же находящимися в непрерывном противоборстве силами. Наконец, она создала, будучи изначально движимой противоположно направленными силами, еще в рамках средневековой патриархальной общности, до которой она возвысилась, некую гармонию контрапункта, основанную на непрерывных глубинных изменениях и преисполненную всегда только с большим трудом сдерживаемой энергии.
Альфре.1 Вебер. Германия и кризис европейской культуры 207
Этот европейский дух проходит — с тех пор как ею всегда крайне неуступчивые, динамичные, самостоятельные силы высвободились из средневекового единства - три периода развития. Первый - период самовоплощения и столкновения этих сил при одновременном поиске новых структур, связующих их воедино как в частностях, так и в целом, - то, что принято называть началом Нового времени, но что на самом деле длилось около двух столетий — с 1500 по 1700 г. Второй период, в ходе которого создаются или, по крайней мере, представляются созданными новые формы существования Европы, что и воспринимается как предпосылка становления того, что мы можем назвать современной «интеллектуальной Европой», — чем-то наделенным душой, целостным, неким единством, обладающим невиданной доселе силой воздействия на мир. И наконец, третий период, в течение которого это духовное начало разрушается, все силы опять разъединяются; в результате этого возникает кризис, переживаемый нами сегодня; но сущность его становится понятна только на основе историко-социологического обзора.
Первый период центробежных устремлений формирует современные европейские государства и под их эгидой - капиталистические производительные силы, открывает этим силам земной шар, впрочем, еще не наполняя их европейской субстанцией. Он разрывает прежний замкнутый круг представлений об общем существовании, вовлекает людей и Землю в вихрь движения мыслимого безграничным мира в качестве его составных частей. Он разрушает в области философии представления о безусловной вещности предметов, впервые дает людям возможность с помощью опыта овладеть элементами подвергнутой анализу природы. Освобождая человеческую индивидуальность, он противопоставляет прежней религии новую веру, ввергает обе в тяжелейшую распрю и в то же время делает их объектом аналитической интеллектуальной критики. Он приводит к уничтожению средоточий, преобразованию представлений, озарению, но одновременно противостоянию и борьбе. И подобно тому как экономически он вырождается в грубое разграбление мира, а в политике и религии — в кровавую резню, в культуре этот период, пусть еще проникнутый чудом сохранившейся целостной образностью Ренессанса, - также борьба, сумрачная по тональности, полная темных страстей. Каким бы радостным ни казался появившийся тогда барокко, он глубоко эмфа-тичен2, мрачен и, воплощая в своих очертаниях неизведанное жизненное пространство, подобное неспокойному морю, исполнен демонизма, как и все его время. Это эпоха темных тонов, могущества, но вместе с тем тоски и стремления освободиться от бремени.
208
Кулыурфилософские реф |ексии
Итогом стало рождение новых тенденций, появившихся как бы внезапно начиная с 1700 г. Можно назвать это самообретением, самоуспокоением европейского духа на основе нового принципа, нового типа всеобщего равновесия. С тех пор как Вильгельм Оранский3 создал систему современных европейских государств как систему равновесия, с тех пор как эта система преодолела все попытки так или иначе нарушить ее, с тех пор как вследствие этого умиротворение и освобождение устоев существования, даже если за этим следовали новые войны, в конце концов все же стали основными принципами мироощущения, - с этих пор европейский горизонт проясняется, а восприятие жизни утрачивает свою прежнюю сумрачность. То, что назвали Просвещением, что в период сентиментализма изливалось в переполнявшем душу чувстве врожденной доброты человеческой природы, - это и было воплощением той самой ясности. Она заново обрела космическую гармонию в закономерностях ничем не сдерживаемого круговорота экономических сил. Она привела к постулату равновесия отпущенных на свободу индивидуальных сил в государстве и общественной жизни. Понятие «гуманность» наиболее точно выражает сущность ее идеи. Гуманность и есть европейская идея, воплощающая эту атмосферу - не иератичности4, а системы равновесия сил; попытка обнаружить в противоречии гармонию, превратить борьбу, очень динамичную по своей основе и сущности, из грубой в подчиненную неким правилам; и только люди, не вполне это понимавшие, видели в этом выражение чисто пацифистского представления о спокойствии.
Ничто так зримо не подверглось уничтожению, как этот идейный центр Европы. Нельзя описать словами его разрушение, превосходящее все, что доступно воображению. Рассуждения о гуманности сегодня звучат издевательски. Наступил третий период, который по ужасу происходящего не уступает первому периоду борьбы, длившемуся 200 лет, а по внутреннему ощущению страха превосходит его, потому что его жестокость не столь очевидна, потому что он затушевывает зло, побуждает обращаться с противником не как с противником, а как с преступником, вливает во все поры яд самой грязной лжи.
Я говорю здесь не об этом горьком привкусе новой эпохи борьбы, но о ней как о questio facti5.
Предметное содержание и возможности этой эпохи можно уяснить, только помня о свойственной европейскому духу динамичности и сознавая, насколько изменились условия его влияния на мир. Система европейской гармонии до последней трети XIX в. находилась в безграничном поле динамического силового
Альфред Вебер. Германия и кризис европейской кулыуры 209
воздействия. Она действительно обретала внутреннее равновесие, постоянно передавая свою избыточную энергию этому силовому полю. Она была в состоянии беспрестанно делать это до тех пор, пока Земля практически не имела границ, иными словами: пока современные средства сообщения не сделали ее в 100 и более раз меньше. Вслед за первым взрывом европейских сил, вызванным новой организацией мирового пространства, за окончательным завоеванием земного шара, его освоением и заполнением массами европейцев, его вовлечением в технизированную систему европейского хозяйствования, обращения товаров и общей гарантированности, за этим кратким, отмеченным уже печатью духовного измельчания и материалистичности заключительным периодом, примерно в 1880 г. наступило пробуждение на как бы уменьшившемся земном пространстве, на котором повсюду сталкивались экспансионистские тенденции, вынужденные искать компромисса даже там, где раньше они не знали препятствий, а именно за пределами Европы.
С этого момента начинается Новое время. Было бы слишком просто назвать его лишь периодом перехода от свободной, экспансионистской конкуренции к монополизации и перераспределению, слишком поверхностно объявить его эрой империализма, стремящегося к переделу мира с позиции силы. Но, как бы то ни было, столкнув выросшие до гигантских размеров экономические силы в борьбе за передел мира и рынков сбыта, побудив государство стать вспомогательным средством проведения такой политики, выдвинув на передний план в государстве и межгосударственных отношениях материальные интересы, эта эпоха привела к таким последствиям, которые сегодня, внешне господствуя над миром, определяют также внешнюю и внутреннюю судьбу прежних европейских силовых центров. Без сомнения, было бы само по себе возможно - прежде всего в сфере материального производства — вовлечь экспансионистские устремления в некое круговое движение; говоря языком экономистов, в мировой круговорот оптимального распределения производственных сил, возрастания массы продукции, т.е., преодолев противоположность интересов, свести эти силы воедино в гармоничном взаимодействии. И несмотря на все то, о чем я скажу ниже, никогда еще не был достигнут такой прогресс в повышении всеобщего благосостояния и обеспечения устойчивой безопасности жизни, как в результате подобного естественного согласования сил в последние десятилетия перед войной, - все равно, хотим ли мы видеть в этом некую положительную конечную цель или нет. Однако возобладали непосредственные, первоочередные интересы отдельных сил
210 Культурфилософские рефлексии
в экономике, в борьбе за рынки сбыта и инвестиций капитала, за укрепление и округление подвластных им территорий. Потребности такой борьбы опять отдали разрозненные материальные силы в руки государства, помогли этим силам одержать над ним верх и подчинили государство и общественную жизнь материальным интересам. И затронуло это не только государственную, но и, -что не менее, если не более важно, - духовную жизнь Европы. По мере того как материальное начало побеждало и борьба за его интересы приобретала решающее значение, исчезала вера в достижение гармоничного равновесия и проникавшая собой мир субстанция европейского духа улетучивалась подобно легкому эфиру из разбитой бутылки.
Я не утверждаю, что старое учение о гармонии в новых условиях осталось совершенно правильным. Но на смену ему не пришла новая универсальная идея, которая соответствовала бы этим условиям.
Рассуждениям о ставшем тому причиной европейском кризисе, который я здесь рассматриваю не с материальной, а с духовной точки зрения, нужно предпослать следующее замечание, касающееся материальной стороны вопроса: во-первых, во всех европейских государствах, которые широко участвовали в окончательном разделе мира, произошло некое смещение центра тяжести всей системы. Если одни из них стали политическими образованиями, уязвимые места которых и точки пересечения интересов с интересами других стран оказались расположены в регионе от Владивостока до Константинополя, у других государств - на территории между Персией, Египтом и мысом Доброй Надежды, у третьих — между Марокко, Мадагаскаром и Тонкином, то это значит, что материальная основа жизни всех этих государств в значительной степени была вытеснена за пределы Европы. Она переместилась на другие континенты и части света, в область формирования их политической структуры и обретения господства над ними. Для всех этих по видимости еще европейских стран Европа стала только регионом, где они могли, как и повсюду в мире, разграничить свои интересы, компенсировать их другими территориальными притязаниями либо на равных вести за них борьбу. Европа должна была утратить для них самостоятельное значение, стать пассивным объектом деятельности, шахматной доской, на которой они выставляли друг против друга фигурки королей, коней, пешек, как и везде. С точки зрения этих государств Европа должна была исчезнуть как материально единая мировая потенция.
Но эта тенденция развития во второй раз столкнулась с другой, совершенно иного рода. В то время как часть лежащих ско
Альфред Вебер. Германия и кризис европейской культуры___211
рее на периферии европейских регионов стали империалистическими образованиями, центр Европы - не только Германия, но целый комплекс, границу которого можно мысленно провести от Амстердама через Брюссель до Мюльхаузена, Цюриха, Милана, Вены, Лодзи, Южной Швеции и Дании, это политически чрезвычайно сложно организованное, экономически скрепленное тесными внутренними связями территориальное ядро, не принимавшее участия в широкомасштабном разделе мира, - стало, наряду с Англией и Соединенными Штатами, крупнейшим промышленным центром, который по темпам роста превосходил Англию и не уступал Америке. Он опирался на природные богатства Рурской области, Лотарингии, Бельгии, Саара и на востоке — Силезии и Польши в сочетании с традиционно хорошо обученной рабочей силой всей высокоразвитой Центральной Европы. Это индустриальное ядро, объединившее более 20 млн. промышленных рабочих, располагало - не в говоря уже о примыкавших к нему французских и итальянских землях - тем же потенциалом, что и промышленность Англии и американских Соединенных Штатов. В центре этого комплекса находился хорошо организованный народ, который, - правда, только в материальном, а недуховном отношении - был истинным носителем его совершенно неимперского развития, прорывающего все имперские тенденции к разделу мира.
Как должна была сложиться судьба этого по своей экономической сущности внеимперского европейского силового центра, непопулярные формы влияния которого повсюду так охотно односторонне именовали «pendtracion allemande»6? Как должны были сложиться его отношения с мировым империализмом? Такова была проблема, которая перед войной в действительности заменила проблему сохранения европейского равновесия и регулирования государственной и духовной жизни Европы на началах такого равновесия.
Мы знаем, что стало следствием такой постановки проблемы, что возникло, правда, не из нее одной, но на ее основе. Одно время казалось возможным, руководствуясь прежними методами, сменить эту проблематику задачей установления мирового равновесия. Но Европе больше не хватило духовных сил. Вместо этого в, мире сложилась, пожалуй, наиболее парадоксальная ситуация. Коль скоро ныне в результате борьбы самый многочисленный, имеющий самое многообещающее будущее народ Центральной Европы политически действительно поставлен под опеку, одновременно став объектом империалистических притязаний со стороны некоей конкретной континентальной державы7, чьи пре-
212 Куж.ту рфнлософпсие рефлексии
тензии отнюдь не ограничиваются такого рода протекторатом, то на духовной жизни это сказывается гораздо сильнее, нежели на материальной. Это означает, что европейский центр при разрушении Европы оказался духовно в некотором роде отторгнут от нее, отныне стал скорее периферией мира, какой прежде была, например, Полинезия, где не действовали законы породненной Европы.
Я задаю вопрос не о том, где следует искать экономический и политический выход из этого невозможного положения, — это задача государственных деятелей и политиков, — я спрашиваю о том, какой представляется данная ситуация, рассматриваемая как одна из мировых проблем, с точки зрения, главным образом, широкой перспективы духовного развития мира. Для этого необходимо исследовать совершившееся преобразование, как бы выйдя за пределы Европы.
У нас, европейцев, вызывает страх пребывание на сделавшемся меньше земном шаре, как в замкнутом пространстве, ограниченном высящимися перед нашими глазами четырьмя стенами. Это как бы знаменует собой исчезновение последних возможностей для духовной экспансии и территориальных завоеваний, формирует представления, побуждающие нас покинуть обжитые и цивилизованные регионы Земли и отправиться на Южный полюс или в Гималаи. Для нас превращение земного шара в некий огромный, хорошо отлаженный единый механизм, в котором мы безнадежно заперты, — механизм, определяющий течение нашей жизни и наш труд в больших городах, на фабриках, в конторах, - создает, пожалуй, наиболее существенную внутреннюю жизненно важную проблему, о которой сегодня уже достаточно было сказано. Но давайте посмотрим на тот же процесс с точки зрения уже открытых нами стран за пределами Европы: для них это означало переход из грязи и закоснелости, болезней и безнадежности интеграцию в новый мир, которому принадлежит будущее, приобщение ко всем возможностям по-новому организовать свое существование. Как бы сильно ни стремился европейский империализм, насаждающий на всем земном шаре достижения современной цивилизации, употребить открывающиеся при этом возможности исключительно в своих интересах и сконцентрировать их в руках европейцев и американцев, он все-таки оказался вынужден в то же время предоставить и другим народам портовые сооружения, железные дороги, проездные пути, телефон, телеграф, правила санитарии и все прочие элементы современного образа жизни. При этом он натолкнулся не только на такие малозаселенные регионы, как Америка, где ему пришлось, чтобы завоевать господство, подчинить себе только несколько островков древней культуры,
Альфред Вебер. Германия и кризис енр'жейской кулыуры 213
но и, как в Азии, на очень старые, устоявшиеся исторические образования, которые он не мог ни разрушить, ни раздробить, а в других местах, как, например, в Африке, на большие оставшиеся непокоренными народы — он смог посредством работорговли сократить их численность, но не подавить их волю к жизни. Во всех этих регионах мира, сохранивших расовые особенности и самобытные формы культуры, вовлечение в процесс углубления цивилизации, в систему капиталистической экономики, приобщение к европейским знаниям и умениям, а также к европейским идеям, в сочетании со становлением нового пространственного образа Земли, где эти регионы внезапно оказались столь же удалены друг от друга, как были ранее удалены древние государственные образования Европы, теперь вызвали к жизни движение, вероятно, основополагающее для будущего развития мира и, во всяком случае, имеющее решающее значение для грядущего разделения Земли на области, отличающиеся друг от друга характером духовной жизни. Сегодня почти во всех таких регионах (в Египте, Аравии, Турции, Персии, Индии, Китае, а скоро к ним примкнет и собственно цветная Африка) уже осознали возможность в дальнейшем использовать структуры европейской цивилизации для самоопределения, европейские знания - для достижения технической и духовной самобытности, рациональные формы экономики — для увеличения собственного экономического потенциала, европейские политические идеи - для завоевания власти; и все это ради того, чтобы сделаться из объекта субъектом, стать хозяином своей судьбы. Всем известный подъем антиимпериалистического движения, еще далеко не достигший своего апогея, вызванный к жизни саморазоблачением Европы, способен привести к тому, что охваченные этим движением регионы попытаются освободиться от пуг европейского империализма, разрушив капиталистическую форму хозяйствования, и вновь обрести себя в собственных экономических структурах, что, в крайне гротескном виде, и составило глубинный смысл проведенной по марксистско-европейским канонам советизации России и Северной Азии. Но он может также, не затронув системы мировых капиталистических связей, развиваться, приняв форму борьбы главным образом за политическое освобождение, обращая каждый из основополагающих европейских элементов — демократию, самоопределение, равноправие - против европейско-американского господства. Мы не будем подробнее рассматривать этот вопрос. В области духовной жизни развитие, определяющееся чувством и требованием равноправия, в конце концов всегда имеет результатом сосредоточение на существующих исторических, географических и расовых осо-
214_________________________________Культу рфилософские рефлексии
бенностях и содержании своей самобытности. Оно ведет к деевропеизации и стремлению возродиться. Если смотреть широко, этот процесс - не что иное, как национальная идея, какой проникнуты народы Европы с того момента, как они обрели собственно европейский облик, были цивилизованы, объединены экономически и политически, т.е. с середины XIX в. Проложит себе путь тенденция, состоящая в том, что исторические образования и расы, которые на ставшем меньше земном шаре оказались порабощенными империализмом, не только попытаются освободиться от империалистических пут, но, кроме того, будут стремиться воссоздать самобытные формы духовной жизни, имеющие им одним свойственные черты. Это может означать только то, что духовное начало во всем своеобразии его проявлений повсюду постепенно снова одержит верх над механистическим материализмом и стремящимся к всеобщей унификации техницизмом современной европейской культуры. Несомненно, некоторые формы европейского империализма, в особенности мудрого англосаксонского, по-видимому, еще долгое время призваны будут противодействовать этому распространяющемуся по всему миру возрождению самобытности, чтобы предотвратить прежде всего слишком поспешные попытки самоорганизации и самоопределения, которые могли бы привести к саморазрушению. Это не помешает окончательному распаду сегодняшнего империализма во всем мире. Облик земного шара в будущем опять станет многообразным; друг подле друга возникнут свободные, духовно самобытные исторические образования.
Какова перспектива развития Европы и европейского центра? Смешно думать, что это историческое образование может оставаться единственным в мире объектом империалистического господства. Можно в будущем представить себе старую Европу исчерпавшей себя как исторически, так и политически. Можно мысленно увидеть, как на смену ей постепенно приходит некая единая в экономическом и духовном отношениях система, иначе организованная и имеющая иные географические рамки, куда войдет и европейский центр. Но, какой бы вид это ни обрело в дальнейшем, европейский центр и его духовное наследие только в том случае могли бы исчезнуть как важный элемент картины мира, который в грядущем опять станет самостоятельным и равноправным, если бы у этого центра не было материальных условий утверждения своей значимости или если бы его народы изжили себя, словно он оказался испепеленным. Но, как я уже показал, материальный потенциал европейского центра лишь искусственно был оттеснен на второй план войной и ее последствиями. Сами
Альфред Вебер. Герма1шя и кризис европейской культуры 215
же возможности развития этого центра обусловлены естественными предпосылками, которые нельзя изменить, и экономическими устоями и организаторскими свойствами его народов, также сохранившимися. Материальная, и прежде всего экономическая, основа существования европейского центра опять возродится из ее нынешнего состояния упадка; это столь же несомненно, как самый факт ее наличия. Однако развитие европейского центра, его организация, его возвращение в сообщество равноправных государств в существенной мере будут зависеть от народа, составляющего его ядро; народа, не одряхлевшего, не изжившего себя, не опустошенного, но оставшегося молодым именно потому, что он каждый раз оказывался сброшен с вершин в пропасть, низведен почти до примитивной близости к земле, — будут зависеть от нас.
Нередко говорят, что у нас, немцев, в отличие от других европейских народов, нет непрерывной линии исторического развития, которая сообщила бы нам некие определенные свойства. Мы обладаем достижениями великих людей, но у нас отсутствует прочный каркас нашего духовного бытия, который бы надежно поддерживал нас и в то же время выражал наши отличительные черты. Но именно этой нашей незавершенности в качестве некоей целостности соответствует воля творить новое, не присущая в той же степени, пожалуй, никакому другому европейскому народу. Ужас, постигший нас, не уничтожил эту волю. Она и не будет сломлена, ибо она дана нам от природы, т.е. попросту молода. Важно, чтобы мы правильно поняли, ясно увидели перед собой то новое, что нам предстоит создать, и употребили все силы на то, чтобы воплотить его в духовные, а затем и материальные формы.
На основании всего сказанного мной можно составить вполне ясное представление об этом новом. Его осуществление — задача, стоящая перед Европой и в то же самое время перед Германией. Это европейская задача, поскольку Европа как историческое образование, какой бы вид оно ни приняло, и в духовном, и в материальном отношениях снова должна быть поднята из руин. Европе надлежит вновь быть возвращенной европейцам, а не пребывать — физически либо психологически — под властью неких соправителей из числа чужеземных народов и держав — все равно, стоят они выше либо ниже по уровню развития и каковы их характер, расовая принадлежность или происхождение. В самой же Европе нужно восстановить равноправие и свободу. Пусть это произойдет в иных формах, нежели прежняя находившаяся в состоянии неустойчивого равновесия система государств; во всяком случае, по сравнению с нынешним упразднением равенства это будет означать его восстановление.
216
Культурфилософские рефлексии
Народ, чье равноправие сегодня уничтожено в первую очередь и который поэтому призван начертать на своем знамени требование осуществления этой европейской задачи, — мы. Задачи Европы и немецкой нации совпадают.
В соответствии с присущей нам до сих пор неопределенностью форм — следствием нашей политической судьбы — у нас в отличие от иных великих народов мира — англичан, американцев, французов и других — до сих пор нет ясно выраженной в строго определенных представлениях национальной идеи, которая всегда означает некую общую миссию, имеющую также наднациональный смысл. У нас есть национальное чувство — кто это отрицает, не знает нас. Но поскольку это чувство, несмотря на все попытки, предпринимавшиеся со времен Фихте, не обрело прочной опоры в виде национальной идеи, одновременно объединяющей и равно воодушевляющей и нас, и другие народы, т.е. вместе и национальной, и универсальной, мы, несмотря на все наше стремление к единству, до сих пор все еще внутренне разобщены, живем пустыми фантазиями и глубокомысленными рассуждениями о нашей собственной сущности. Нам недостает того, что помогло бы нам подняться над самими собой, дав нам возможность реализовать себя; того, что объединило бы нас с другими во имя осуществления великой духовной и конкретной материальной задачи. Это состоит в следующем: мы - народ, в крови которого больше всего разнородных этнических элементов Европы, народ, который, оставаясь верен себе и наиболее полно постигая себя, в силу своего многообразия и неоднородности всегда особенно глубоко, в определенном роде инстинктивно понимал многообразие Европы и правомерное стремление европейских народов, при всем своеобразии проявлений заключенной в них энергии, свободно сосуществовать и взаимодействовать друг с другом. Борьба против такого всепостижения, которую у нас в последние десятилетия вели приверженцы некоего узкого идейного направления, служит лучшим доказательством тому, сколь присуща нам эта идеология многообразия. Нам только надлежит осознать ее, придать ей ясную форму духовного и политического постулата, чтобы отчетливо увидеть наше национальное призвание, нашу одновременно германскую и европейскую миссию.
Как бы то ни было, все сводится к тому, чтобы мы не посчитали эту задачу, и прежде всего ее духовный аспект, - коль скоро мы ее осознали, — слишком легкой. Ледяная оболочка, которой империализм сковал Европу, оболочка, чье таяние за пределами Европы в конце концов и дает нам основания надеяться на лучшее будущее, так или иначе однажды исчезнет. Как это произой-
Альфред Вебер. Германия и кризис европейской кулыуры 217
дет, сегодня сказать нельзя. Но прежде нам нужно окончательно уяснить себе внутреннее содержание того, что мы намереваемся отстаивать. Мы должны знать, как в условиях по-новому организованной Европы мы используем ее духовные потенции, на которых она до сих пор основывалась; как нам при этом следует поступить с динамической энергией европеизма, его стремлением к бесконечности, с которым он появился на свет в облике германо-романской Европы и которое характеризует самую его природу — не только его внешние проявления, но и внутреннюю сущность. Каждый ощущает, что мы не можем избавиться от этих динамических свойств нашей европейской сущности, — сколь бы разрушительно и самоуничтожающе они сегодня ни действовали на нас, - просто потому, что нам не удалось бы этого сделать, потому, что мы тем самым перестали бы быть европейцами, оставаться самими собой.
Но мы, европейцы, можем сосуществовать друг с другом и — в качестве исторического образования Европы - с прочими историческими образованиями в новых условиях земного пространства и бытия только в том случае, если придадим этим свойствам и силам такие направление, содержание и формы, в которых они перестали бы оказывать разрушительное влияние вовне, но и, будучи обращены внутрь, не разорвали бы нас самих; т.е. лишь тогда, когда мы снова заключим их в своего рода замкнутый круговорот, в котором они будут двигать друг друга вперед, притом не разрушая, а созидая в рамках замкнутого целого. Несомненно, такой круговорот можно воплотить во внешне материальной, прежде всего экономической, сфере, если нам удастся установить приоритет духовного начала над внешними силами, при этом помня об открытых эпохой гармоничного развития Европы закономерностях и правилах внешней корреляции и уравновешивания сил, - пусть даже способы применения и реализации этих закономерностей и правил окажутся иными. Самое решающее - сделать духовное начало, то, что превыше всего, столь сильным, чтобы оно вновь направляло ход развития; это значит - чтобы оно преодолело наш экспансионизм. Но это, по-видимому, может произойти только тогда, когда мы сумеем обратить внутрь нашу склонность к внешней экспансии, преобразовать наружное стремление к бесконечности во внутреннее свойство. Это не означает попытки превратиться из людей деятельных, активных преобразователей, коими мы являемся и должны являться по своей природе, в пустых мечтателей, отвлеченных метафизиков, тяготеющих к саморазрушению, к чему мы, немцы, с нашими душевными метаниями, имеем опасную склонность. Я имею в виду именно то, чтобы мы
218 Ку;1ьтурфилос<)фукие рефлексии
научились использовать нашу энергию созидания для углубления и непрерывного совершенствования того, с чем каждый народ приходит в мир как духовная целостность и одновременно в своей особенности, т.е. его природной сущности, коренящейся в государстве, на его основе и в его рамках. Наше стремление к бесконечности и наша тяга к экспансии неизбежно приведут к тому, что мы используем заключенную в нас энергию динамизма для непрерывной ассимиляции новых жизненных элементов, способной все время преобразовывать нас самих, - ассимиляции всех нахлынувших на нас реальностей жизни всего открытого сегодня мира с его ^прекращающимися метаморфозами. Великие люди европейского прошлого, прежде всего великие люди Германии, благодаря такого рода ассимиляции притекающих к ним жизненных элементов непрерывно совершенствовали господствовавшую тогда в Европе индивидуалистическую культуру, не отрекаясь при этом от своих самобытных черт, но постоянно обогащая и углубляя их. Если бы развитие этой эпохи не оказалось прерванным по иным причинам, они бы, несомненно, продолжили на новом, сделавшемся меньше земном пространстве это ^прекращающееся самообновление, посредством оставшегося безграничным в своих возможностях процесса освоения новых и новых элементов — примером может служить, как это, в эпоху пробуждения нашего интереса к Ближнему Востоку, в старости сделал Гёте в «Западно-Восточном диване», не случайно воплотив все это в вечные слова: «Смерть для жизни новой»8. Сегодня мы, зажатые в тесных границах государственных и этнических образований, зависящие во всяких, даже самых незначительных жизненных проявлениях от формирований массового характера, должны с помощью и посредством этих духовных общностей подчинить себе материальную энергию масс в нашей жизни — энергию низшего порядка, ставшую сегодня свободной, неуправляемой, опустошительной; должны претворить стремление нашего духа к бесконечности, наши динамические тенденции в непрерывные попытки обновления этих духовных образований, призванные одновременно представлять собой процесс освоения со всех сторон стремящихся к нам жизненных элементов. Смысл этого может состоять только в том, чтобы придать духовные силы постоянно обновляющимся, по своей внутренней сути экспансионистским структурам - нации и народу и их универсальной надстройке - Европе, -каждому из этих непрерывно самообновляющихся образований; придать духовные силы не для того, чтобы ввергнуть во всеобщий хаос все европейские нации и тем самым Европу, но, напротив, для того, чтобы они оказались в состоянии достойно осуществить
Альфред Вебер. Германия и кризис европейской культуры 219
свою задачу - вернуть Европу европейцам и каждый европейский народ - самому себе, чтобы они все время заново обретали себя в дальнейшем ходе истории. Гакова цель, которую ставит перед нами сегодняшний европейский кризис.
Примечания
1 Карл Великий (768-814) - франкский король, с 800 г. - император. Империя Карла Великого, сложившаяся в результате франкских завоеваний, включала в себя обширные территории от р. Эбро на западе до Эльбы и Среднего Дуная на востоке, от Ла-Манша и Балтийского побережья на севере до Адриатики и Папского государства на юге. Ядром империи были земли, расположенные в бассейне р. Рейн. Отсюда начинались военные походы франков. В последние годы правления Карла Великого резиденцией императора стал г. Аахен в междуречье Рейна и Мааса.
2 Эмфатичный эмоционально напряженный, экспрессивный.
7 Вильгельм Оранский (1650-1702) - статхаудер (правитель) Нидерландов с 1674 г., король Англии с 1688 г. Был инициатором становления важных военных и политических союзов европейских государств: Аугсбургской лиги 1686 г., объединившей Нидерланды, Швецию, Австрию, Пфальц, Саксонию, Баварию, Испанию, а с 1689 г. также Англию; и Великого союза 1701г., заключенного в Гааге между Нидерландами, Англией и Австрией. Создание этих союзов позволило приостановить территориальную экспансию Франции, - в частности, завершить так называемую войну за 11фальцское наследство (1688-1697) благоприятным для союзников Рисвикским миром и способствовало формированию повой системы межгосударственных отношений в Европе.
4 Иератичный священнический, жреческий; перен.: считающийся незыблемым. застывший, неподвижный.
5 Как о факте, требующем исследования (лат.).
6 «Германское проникновение» (франц.).
7 Имеется в виду Франция.
8 Гёте И.В. Избранные произведения: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 192.
Перевод выполнен по изданию: Weber A. Deutschland und die europaische Kulturkrise // Weber A. Deutschland und die europaische Kulturkrise. B., 1924. S. 11-31.
Эрнст Трёльч
Метафизический и религиозный дух немецкой культуры
(1»16)
В основе монархии, армии, управления и хозяйства Германии лежат особенная склонность к порядку, строгой дисциплине и чувство серьезной ответственности. Что является причиной этого внутреннего свойства немцев, изначальные ли задатки или его историческое формирование, трудно сказать. Да это и неважно: достаточно того, что характер немцев именно таков. В этом смысле правитель себя называет «первым слугой народа», а великий немецкий мыслитель воскликнул: «Долг, ты высокое слово», — тот мыслитель, высшее достижение которого состояло в обосновании философии ясностью и упорядочением логических принципов1. Порядок и долг, солидарность и дисциплина — таков лозунг чиновничества, союзов и корпораций, крупных и мелких предприятий, профсоюзов и крупных обществ по социальному страхованию. Метод и систематика являются принципом научных работ и техники, воспитания и социальной политики. Даже свободный темперамент и фантазия действуют не только в сфере вдохновения и настроения, но стремятся, обращаясь к великим предшественникам, найти свое место в общей культуре души — свое мировоззрение и свои нравственные деяния. Для подтверждения этого не нужны многочисленные примеры — эта черта характера прежде всего бросается в глаза иностранцам. У них она не вызывает симпатии. В Англии ее называют педантством и доктринерством. В одной русской газете сказано: «У немца на протяжении всей его жизни есть только одна цель. Поэтому быть немцем идентично бесконечной скуке». Один итальянец недавно заметил, что в Германии методичность настолько разработана, что делает гений излишним. Трудно спорить, когда речь идет о ценностях чистого чувства и когда следует исходить из того, что у нас, как и во всех других странах, не так уж часто встречаются гении, и мы можем удовлетвориться столь общей и распространенной заменой гениальности.
Эрнст Трёльч. Метафизический и религиозный дух немецкой культуры 221
Однако опасность не столь велика. Ибо так же как всякая односторонность всегда вызывает из недр человеческой души нечто, эту односторонность уравновешивающее, эта склонность к порядку также уравновешивается чрезвычайной тонкостью эмоциональной и душевной жизни, тесными семейными узами и любовью к родине, лучшим символом чего служит в Германии праздник Рождества, нежностью и глубиной внутренней жизни и простотой этического чувства, выраженного в наших народных песнях, наконец, строгим пониманием права и самодовлеющим упорством крестьян в отстаивании своих убеждений. Под завесой прессы больших городов они составляют подлинную сущность немецкого народа, которая проходит по тысячам каналов и достигает высших слоев общества: ее мы обнаруживаем в действиях нашей народной армии, она трогает нашу душу, выражаясь в песнях и в чувстве товарищества. Конечно, иностранцы эти народные истоки обычно не замечают, как и мы подозреваем наличие у них подобных подводных течений в лучшем случае по их литературе. Тем не менее это — тот пункт, в котором мы соприкасаемся со столь чуждыми нам в остальном англичанами, также нуждающимися в сходном противовесе своей деловой направленности к полезности.
Но мы в отличие от англичан в меньшей степени ограничиваем этот мир чувств родиной и семьей, мы распространяем его на все наше видение жизни и мира, изливаем его в нашем искусстве и нашей поэзии, переносим на наше суждение о людях. Об этом свидетельствуют те поэты и писатели, которых можно считать если не самыми выдающимися, то самыми верными выразителями духа немецкого народа. К ним относятся Жан Поль, Адальберт Штиф-тер, Вильгельм Раабе, Виллибальд Апексис, Фриц Рейтер и прежде всеготипичный не только для Швейцарии Иеремиас Готхельф.
Достаточно сопоставить их с Джорджем Элиотом, Диккенсом или с Золя, чтобы ощутить разницу в характере народов. Но даже там, где немецкая поэзия и изображение людей возвышаются до всеобщей гуманности и духовного величия, все еще присутствует эта основная черта народа как проявление детской непосредственности души, ее мы обнаруживаем и у таких творцов, как Гёте, Бах, Бетховен. Это различие в характере народов распространяется даже на религию: глава немецкого протестантизма Лютер отли-чается,своей непосредственностью, народностью и самобытной душевной силой трезвого, резкого в своей логике и в соблюдении моральных законов величия от Кальвина, дух которого продолжает вплоть до наших дней господствовать среди кальвинистов и диссентеров2, приняв, правда, более внешние, застывшие в определенных законах и измененные в утилитарных целях черты.
222 Кулыурфилософские рефлексии
Острый наблюдатель обнаружил бы основное различие в этом отношении также между немецким католицизмом и католицизмом французским и итальянским’.
В сущности же вся эта противоположность между склонностью к порядку и душевностью совсем не так остра, как она на первый взгляд проявляется внешне. Обе эти направленности проистекают из общего источника, в котором они образуют внутреннее единство: это немецкий метафизико-религиозный дух. Наша склонность к порядку основана не на пользе в достижении материальных и социальных целей, она проистекает вместе с чувством долга из идеального представления о сущности духа, упорядоченности и закона, как в жизни человека, так и в универсуме. И это чувство — не сентиментальность, обволакивающая, маскирующая или компенсирующая трудности жизни, а эманация космического чувства, которое знает, что это чувство родственно основе мира.
Немцы по своей природе метафизики и мыслители, стремящиеся изнутри, из духовной глубины универсума понять сущность мира и вещей, людей и судеб. Все попытки объяснить возникновение и укоренение этой черты характера, которую, впрочем, не следует слишком обобщать, тщетны. Безусловно, она представляет собой исключительную особенность немцев. Но так или иначе, она свойственна всем народам, даже если в Германии эта глубинная направленность, исходя из каких-то центров, быть может, особенно распространилась и укоренилась. Этому способствовала судьба немецкого народа, ибо эта черта характера не встречала препятствия ни в ярко выраженном национализме, ни в сверхтонком эстетизме, ни в подавляющей трезвости в делах; она оставалась жизненной и необычайно сильной. Возможно, что это объясняется прежде всего нашей молодостью. Во всяком случае, дело обстоит так, что данная черта характера — последняя тайна жизни немцев, предмет многих споров в их среде, причина неимоверных жертв и страданий, сила, которая лежит в основе поразительных свершений, и проблема, требующая постоянных компромиссов с практической жизнью и реалистическими требованиями.
Прежде всего, не следует упускать из виду, что именно в новом немецком реализме, в современных хозяйственных методах, в организациях, в социальной деятельности, в политических расчетах
* Существенные указания в этой области мы до сих пор обнаруживаем только в художественной литературе; однако следует напомнить о старой работе незабываемого Генриха Риля5 «Страна и люди», описывающей, правда, условия жизни до периода полной индустриализации, но поучительной и в наши дни.
Эрнст Трёльч. Метафизический и религиозный дух немецкой культуры 223
содержатся старые основные свойства немецкого духа — систематичность и способность к конструированию, лишь видоизмененные для применения в практической сфере. Вторгшийся в Германию капитализм и политизирование, связанное с построением великой державы, правда, в значительной степени надломили и даже сломили старый немецкий идеализм, но в основном восприняли его и одновременно бессознательно подверглись воздействию его основной установки. В Германии идея государства больше связывалась с Платоном, Лютером и Гегелем, чем с французским идеалом государства и общества. Крупные теоретики рабочего движения полностью осознают, что идут от Фихте и Гегеля. Но и нравственные качества, глубоко коренящиеся в немецком духе, чувство долга и чувство органической надиндивидуальной целостности, также обнаруживаются здесь. Пресловутая немецкая способность к созданию организаций и к организованности, которые и в военном деле связаны с немецким идеализмом, и во всех других случаях основаны на том, что исконно привычный религиозный и этический образ мыслей ведет к необходимости занять свое место в надиндивидуальном целом, к свободной деятельной самоотдаче и пониманию чувства долга по отношению к этому целому как само собой разумеющееся требование и сила. Этим немцы отличаются по своим ощущениям от всех основных западных народов и от духа более старого западного, чисто либерально-индивидуалистического капитализма. Это более или менее ясно там ощущают, то со страхом, то с отвращением, и воспринимают как возврат к предшествующим формам жизни, к мистике и реакции, как соединение ненавистного немецкого педантизма с преклонением перед милитаристским авторитетом. Именно поэтому идеалистические стремления, которые должны служить преодолению трудностей капиталистической системы, вырастают у нас из внутреннего развития или, во всяком случае, могут быть выведены из него, тогда как для западных народов они являют собой тяжкий разрыв с господствующей системой и чаще всего сводятся к созданию ассоциаций и к борьбе за заработную плату, необходимую для приемлемого образа жизни. Здесь дело обстоит примерно так же, как в технике немцев, вполне практической и реалистичной, в которой тем не менее одновременно присутствует дух чистой, абстрактной немецкой науки, столь осмеянной German metaphysics1*.
Это относится даже к новой немецкой политике, к принципу силы реальной политики, которую ее противники привыкли именовать политикой Бисмарка, критикуя и понося ее на все лады. По своим методам эта политика действительно была чистой по-
224 Кулыурфмлософские рефлексии
литикой силы, свободной от каких-либо принципов, но она отнюдь не была таковой по своим целям. Цели ее были определены и ограничены специфическими немецкими идеями и ценностями. Нельзя, конечно, отрицать, что реальная политика Бисмарка впоследствии и до сегодняшнего дня часто полностью выходила за свои границы и догматизировалась, что бисмарковскую этическую идею немецкой политики, стремившейся к утверждению определенного положения Германии на континенте и к союзу с консервативными силами, в настоящее время проводить невозможно4. Но с каким рвением занялся теперь весь немецкий мир проблемой отношений между идеей и силой, между моралью и политикой, и каким количеством теоретических построений наделяются и обосновываются новые политические ориентации в мире! Поистине мы и здесь остались прежними, несмотря на совершенно новые условия, остались метафизиками в могучей мировой борьбе и в практической деятельности. Инстинкт не обманывает немецкий народ, когда он все время сопоставляет Бисмарка с такими как будто совершенно иными фигурами, как Лютер и Гете, и видит свою силу именно в соединении - правда, еще очень негармоничном - идеализма и чувства фактической реальности. В сущности, оба эти свойства постоянно ищут друг друга. Немцы — труженики идеи и мыслители труда.
Но внутренняя глубина немецкого духа существует совсем не только в этих новых облачениях и связях, но в ряде сфер также в тесной связи с сохраняемыми традициями и чисто для самого себя. Последние десятилетия, несомненно, свидетельствуют о том, что он сопротивляется переизбытку реализма и там, где не может проникнуть в него, решительно ему противостоит. Жизнь Германии, полная борьбы и противоположностей именно в этой области, создала в тесной связи с родственными ей проходящими по всей Европе движениями новый вид немецкого идеализма, который, склоняясь к социально-идеалистической направленности, но скорее в качестве неоромантического индивидуализма, твердо противостоит всем проявлениям хозяйственно-государственного духа полезности.
В ходе войны эти направленности внезапно вновь образовали сплав и одновременно неразрывно объединились с государственным телом нашего духа — верный признак того, что все эти противоположности всегда обретают друг друга и объединяются в общей немецкой сущности. Напряженность будет и впредь возвращаться, но немецкой сущностью останется господство духа и идеальной воли над политико-социальным реализмом в отличие от неразрывного сосуществования в англосаксонских странах
Эрнст Трёльч. Метафизический н религиозный дух йеменкой культуры 225
ортодоксальной свободной от государства церкви, чувства поли-тического господства, утилитарно-эмпирической философии и гуманитарно-пацифистской доктрины.
Первое место в немецком характере занимает основная религиозная черта немецкого духа. Она проявляется в значении религиозной жизни в истории Германии — ее продуктивность продолжает действовать и в наши дни. Немецкое бюргерство позднего средневековья впервые полностью осуществило христианство в возможных для деятельного народа границах. Из его лона вышла Реформация и разделение церкви5, которое определило судьбу современной Европы, привело в своих последствиях к распаду единого немецкого государства и надолго связало общественную жизнь отдельных государств Германии с религиозными организациями. В период духовного возрождения нации в XVIII в. важнейшей задачей в жизни народа стало отношение между современным духом и христианством, создание научной критической теологии, перемещение религиозной идеи в религиозно углубленную гуманность. Эта задача по сей день находится в центре интересов немецкого народа. Наряду с этим своей бурной деятельностью утверждались старые традиционные церкви, в которых многие интеллектуалы видят естественные средства для сохранения нравственного идеализма в народе. Все это привело, правда, к весьма неопределенным условиям. Однако устранению этих неопределенностей, будь то посредством французского антиклерикального законодательства или англосаксонской свободы совести и самостоятельности церквей, препятствуют не только обстоятельства исторического, политического и правового характера; по существу они неприемлемы для самого немецкого духа, которому чуждо пуританское разделение между политическими и социальными институтами и частной жизнью. В нашем понимании государство и дух, в том числе и религиозный дух, составляют единство, и, как ни трудно достигнуть его при современном расщеплении духа, древний унаследованный инстинкт заставляет нас чуждаться этого разделения, исходя из интересов обеих сторон. Мы предпочитаем терпеть запутанность данной ситуации, чем решиться на существующее в англосаксонских странах разделение между политическим и социальным устройством и личным, частным формированием духа, причем от последнего, как мы знаем из опыта, мало что остается. В Англии вся система предполагает, как правило, господство нерушимой ортодоксальности. А вся французская буржуазия, напротив, сделала Просвещение XVIII в. делом государственной важности; у нас учения Просвещения преодолены, а существующие антихристианские движения ско-
226 Культу рф ил ос офские рефлексии
рее романтически-иррациональны по своему характеру. Но стара или нова наша религиозность, она проистекает из действительного требования жизни, а не из желания сохранить обычай и не из национальных страстей. Она сохранила у нас большую живую созидательную способность, чем в конвенциональной Англии и в антиклерикальной Франции. В этом особенно отчетливо проявляются существенные различия между нациями6.
Та же метафизическая направленность, только, конечно, менее тесно связанная с государством, царит в немецком искусстве. Именно поэтому его подлинным центром является музыка, в которой наиболее отчетливо выражено все то, что не поддается высказыванию и формированию в немецкой сущности, - детская непосредственность и героизм, веселость и меланхолия, жизненная вера и борьба, проблематика и интуиция. Здесь великие творения идут, непрерывно следуя друг за другом, от Баха, Глюка и Генделя до наших дней. В этой сфере и чужим обычно легче всего открывается сущность немецкого духа, о чем достаточно свидетельствует великое произведение Ромена Роллана «Жан Кристоф». Правда, это преисполненное метафизики, возбуждающее и волнующее искусство сталкивается с противоположным ему художественным восприятием романского народа, с его унаследованным от Возрождения чувством ясности и формы, грации и прозрачности. То же можно сказать и о нашей столь близкой музыке лирике. Здесь открываются большие противоположности между народами, которые не могут быть стерты или преодолены и в которых каждый народ должен прожить свою жизнь. Именно поэтому даже немецкую музыку нельзя вывести из органического союза с народностью в целом, с его религиозной верой и его во-енныхМ героизмом, с его чувством собственного достоинства и его надеждами. Насколько все это связано, можно понять на примере «Мейстерзингеров»7, этого самого немецкого произведения в остальном скорее современного, чем немецкого композитора.
Именно поэтому протест против немецкой культуры и деление на прежнюю идеалистическую и сегодняшнюю реалистическую Германию, о котором говорил Ромен Роллан, нечто невозможное. Подобное деление может быть, конечно, очень желательно нашим противникам, однако для нас самих оно лежит как вне пределов желаемого, так и вне пределов возможного.
Значительно труднее подтвердить ту же мысль в немецком изобразительном искусстве. В этой области у нас, как и у других народов, больше всего пересекаются различные влияния; к тому же мы оказываемся здесь в сложном положении. Традиция великого искусства средневековья прервалась, и в годы опустошения
)рнст Трёльч. Метафизический и ре.гшмознын дух немецкой кулыуры 227
нам помогали найти себя искусство и литература других народов. В изобразительном искусстве особенно сильно перемешиваются чужие влияния, и провести здесь линию развития специфически немецкого искусства невозможно отнюдь не только из-за необходимости дать краткое изложение. Однако то, что невозможно с точки зрения истории искусства, может быть намечено под углом зрения истории культуры. В крови немцев, несмотря на все томление по солнечному югу, любовь к северной готике, тогда каг французы полностью порвали с великой средневековой Францией и обратились к Возрождению и Контрреформации. Для немцев все еще самым важным остается содержание, выражение, движение, а не линия, форма, симметрия и изысканность. Мало изменений внес в это и неогуманизм с его влиянием греческой культуры. Он очистил и упростил в немецком искусстве волю к форме, но привнес в нее глубокие внутренние противоречия и не придал ей на длительное время единства. В этом основа глубоких противоречий между немцами и романскими народами, у которых к тому же искусство значительно более тесно связано с непосредственными формами и инстинктами жизни. Это нашло свое яркое выражение в столкновениях в области культуры и составило для многих подлинный смысл обвинения в варварстве — ведь француз, сторонник классического искусства, даже в поэте Возрождения Шекспире видит пьяного дикаря, а итальянец воспринимал и, вероятно, еще теперь воспринимает готику как варварское искусство. Из этого возникла масса направленных против немецкого искусства вердиктов, которые пролетают по миру на крыльях элегантной французской журналистики и воспринимаются как нечто очевидное: особенно охотно верят этому англосаксы, которых пуританизм и склонность к практическим делам вообще лишили всякой устойчивости и сильной художественной традиции. Спор здесь бессмыслен. Мы, немцы, видим в Дюрере, Гольбейне, Грюневальде, Рембрандте великие символы нашего художественного восприятия и предоставляем творческой силе современного искусства идти своим путем, свободным от всякой теории, зная, что и она все время будет возвращаться к этим вехам искусства8.
Легче дать единую характеристику немецкой философии в ее специфике. Несомненно, конечно, что и она была частью всех движений европейского мышления. Однако в своей основе именно философия выражает и сохраняет немецкий метафизический дух, а то, что она занимает центральное место в немецкой духовной жизни, имеет величайшее значение. Здесь все существенное известно, и достаточно нескольких слов об этом важном предмете. Немецкая философия создана Лейбницем и Кантом. Ее дух
228 ку.иыурфилософскис рефлексии
воздействовал на немецкую классическую литературу и поэзию и вместе с ними заложил основы немецкого идеализма, который теперь после длительных колебаний вновь господствует в немецкой философии и больше, чем что-либо другое, внутренне формирует и укрепляет молодежь Германии в течение последних двадцати лет. Если задача современной философии в отличие от философии античной и средневековой состоит в том, чтобы философски разработать естествознание и созданное им всепроникающее понятие природы, то немецкий идеализм ставит перед собой вплоть до наших дней особую задачу: соединить с механистическим понятием природы полное понимание значения религиозного и художественного духа, сознание свободы. Решению этой проблемы немецкий идеализм вплоть до наших дней — а в наши дни особенно - уделяет самое пристальное внимание в своих наиболее абстрактных и принципиальных исследованиях.
Тем самым немецкая философия сохранила более тесную связь с религиозной жизнью народа, чем научный догмат атеизма во Франции. С другой стороны, она значительно глубже воздействовала на общий дух религии, чем оказалось возможным для практически-конвенциональной и не менее практически-утилитарной по своей сущности английской философии. Немецкая философия — свободный автономный идеализм. Об идее насилия, которую нам охотно приписывают, в этой философии нет и речи, так же как и о национализме и шовинизме. В качестве основной теории знания и оценки она сегодня такая же универсальная по своей направленности, какой была всегда и какой вообще должна быть философия. В ней всегда рассматривается только вопрос о принципиальном отношении природы и духа, а в сфере духа - об отношении индивидуума и общества, о самостоятельном философском построении исторического мира, об идее европейской культуры, внутри которой нации выступают в значении особых индивидуальных ценностей. В немецкой философии вообще все национальное связано с духом. В этих исследованиях вплоть до сего дня живет преимущественно дух Канта и Фихте. Их дух, только несколько более холодный, реалистичный и светский, пронизывает национальный подъем 1914 г., так же как он пронизывал национальный подъем 1813 г. За пределами Германии эту философию любят называть бессмысленной метафизикой, или полутеологией, и в литературе военного времени можно прочесть множество насмешливых суждений такого рода, но те, кто выносит подобные суждения, нигде не ведут за собой мысль; это — средний французский антиклерикал и столь же средний английский утилитарист и matter-of-fact-man2*. Ведущие мыслители
Эрнст Трёльч. Метафизический и религиозный дух немецкой культуры 229
этих стран склоняются теперь к сходному идеализму и многим обязаны немецкой философии, как, например, Бергсон и Бутру. Разница состоит, в сущности, только в том, что у нас национальная традиция философского идеализма значительно сильнее и оказывает большее влияние на образованные слои общества. Ведущие же европейские мыслители в главном теперь заметно сближаются. Из-за различий в наших философиях не стоило воевать9!
Подобная концентрация мышления на духовной стороне культуры, что, как нетрудно понять, связано с политически столь мрачным развитием Германии со времен Реформации, ведет к сильной склонности к научной работе и научному духу вообще. Это пошло, конечно, на пользу в первую очередь теоретическим наукам. Однако с ростом реалистических задач нации развивались и эмпирические науки. Говорить о достижениях в области естествознания и техники излишне. В этой области немецкий народ повсюду достиг уровня более старых передовых наций, а кое-где даже превзошел их. Впрочем, в нашем контексте это не имеет значения, ибо работа в области техники и естествознания наиболее однородна в разных странах, и имеющиеся несомненно и здесь духовные особенности трудно постигнуть и показать...
Напротив, на немецкой исторической науке необходимо остановиться. В ее отправных пунктах ощущается большое влияние философии, она охватывает развитие языков, искусства, религии, политики и, наконец, экономики всего доступного познанию мира, чему способствовали также исследования путешественников и географов. Однако из всех этих многочисленных проблем для науки становящегося государства первостепенное значение рано получила проблема государства, которую уже Гегель, отправляясь от античности, от Платона и Аристотеля, объявил совершенно особой проблемой, отличной от частной морали и всякой науки об обществе. В охватывающих всю Европу исследованиях Ранке эта проблема в ее чисто историческом смысле обрела свою значимость в вопросе об отличии формирования политической власти от всего остального создаваемого историей, а историческая школа права убедительно подтвердила такое толкование. Тем самым немецкая историческая наука, так же как в свое время Платон, противопоставила себя всем демократическим фикциям, согласно которым государство учреждено индивидуумами для их безопасности и счастья. Во времена горячей борьбы за национальное объединение это представление еще более утвердилось, и крупные исследователи в области истории, такие, как Зибель и Трейчке, стали, пожалуй, скорее политическими публицистами, чем историками. Однако каждому осведомленному в этом вопро-
230 Культурфилософские рефлексии
се человеку должно быть ясно, что эти политические мыслители не отрицали политическую этику: они лишь отличали ее от частной морали. Именно этого различия не понимают английские демократы христианского и антихристианского толка. Они мерят все иностранные государства по своим правилам частной морали и возлагают всю ответственность политически столь выгодной аморальной английской политики на правительство. Положение «сила выше права»10 никогда не провозглашалось немецкими мыслителями, понятие права и нравственности казалось им труднее и сложнее, чем оно было для тех, кто, как это свойственно пуританам, взывает к всеобщему демократическому естественному праву и связывает его с собственными устремлениями, исходя из того, что объявляют свое государство гарантом и контролером применения его во всем мире. Но прежде всего следует сказать, что немецкая историческая наука не остановилась на уровне 70-х годов.
Не отказываясь от своего понимания сущности государства, она вновь стала исходить из широкого политического горизонта и, в частности, расширила чисто политический интерес до интереса культурно-исторического. Достаточно назвать Моммзена, Виламовица, Эдуарда Мейера или Гарнака, Дильтея и Шмоллера. Можно, не обижая великих историков других стран, сказать, что в области исторического мышления Германия XIX в. играла главенствующую роль. Ко всему этому добавляются в качестве важнейшего откровения немецкого духа немецкая литература и поэзия. Может показаться странным, что литературу мы называем в данном контексте последней. Однако именно это соответствует той всеохватывающей функции, которую она у нас осуществляет. Дело в том, что она — нечто большее, чем просто поэзия и литература, не духовная и душевная роскошь и не образец для применения классических правил, а средство внести ясность во все сложное содержание жизни. В XVIII в. немецкий народ был оттеснен в своем существовании в сферу литературы и концентрировал в ней все стремления национальной жизни. Вследствие этого в Германии литература оказалась вообще в центре всех философских, научных и культурных интересов, в ней нашли свое отражение социальные, в конечном итоге и государственные проблемы. Не случайно воплощением немецкой литературы является Гёте, задача духа которого состояла в универсальном и вместе с тем всецело личном самоформировании. Это определило характер современной немецкой литературы. Она впитала все содержание жизни немецкого народа и оказывала вследствие этого воздействие как философия. Немецкая литература формировала, углубляла, озаряла общую жизнь всех областей культуры. Классицизм и ро-
Эрнст Трёльч. Метафизический и релишошый дух йеменкой ку.тыуры_231
мантизм не составили в сущности резкой противоположности; их объединяла одна и та же идея самоформирования, и различным было лишь применение ими средств для достижения этой пели. В проведении данной идеи в жизнь и во внедрении в народную душу романтики оказали, быть может, даже более действенное и значительное воздействие, чем Гёте. С этих высот, говорить о которых подробнее излишне, немецкая литература в ходе XIX в. сошла, однако она уже вновь находится на подъеме, полна жизни и движения. Литературная революция 80-х годов подготовила глубокое внутреннее преобразование и новый подъем, который мы теперь ощущаем только как смутные стремление и влечение; однако он, во всяком случае, служит доказательством жизненности и неисчерпаемой силы нашего народа. Натурализм освободил нас от старых, утративших свое былое значение традиций и, как это часто бывает, оказался переходом к новому идеализму, который, правда, у нас, как и повсюду, с трудом обретает в беспокойной современной жизни устойчивые формы и содержание. Здесь следует упомянуть о Ницше, которого столь часто неверно толковали в ходе столкновений в области культуры; он был скорее поэтом, чем мыслителем, и стоит почти в стороне от немецкой философии и тем более от немецкой политики. Ницше боролся против пошлости, поверхностности и самодовольства, царивших в немецкой культуре 80-х годов, он бесконечно углубил идею личности, усилил стремление к подлинной жизни и оригинальности и тем самым открыл путь новой романтике, которая, впрочем, в своем развитии стала значительно более немецкой, чем это соответствовало романским и славянским симпатиям Ницше. Болезненность, сверхвозбудимость и эгоистичность его образа мыслей преодолевались уже в предвоенные годы, а в период подъема, связанного с войной, будут, вероятно, полностью преодолены. Но он дал импульс к достижению новых целей и к внутренней углубленности, и не понимать это могут лишь пошлые фарисеи и узкие сектанты.
Глубокий духовный и научный интерес проявляется и в необычайной широте тех народных слоев, которые стали в наши дни носителями этого развития. Все чиновники, учителя, духовные лица получили соответствующее образование. Центры научной работы чрезвычайно многочисленны и хорошо оснащены. В этом отношении Германия занимает, быть может, первое место в мире. Однако еще важнее то, что огромное число издательств, союзов, учреждений и организаций беспрерывно знакомят народ с этим духовным содержанием. Музыка и философия, наука и образование беспрерывно популяризируются. Происходит своего рода демократизация образования, цель которой - сделать лучшее и
232 Культу рфилософскис рефлексии
глубокое общим достоянием. Тот, кто знаком с планомерной деятельностью «Kunstwart» и Дюреровского объединения, распространяющих в дешевых изданиях подлинные произведения искусства и серьезные труды, знает, с какой энергией здесь работают. Не без основания одна голландская социалистическая газета недавно назвала данную деятельность одной из величайших заслуг Германии в области культуры.
Это привело нас к последнему, важнейшему и вызывающему наибольшие споры предмету - к немецкой идее свободы. В ней метафизическо-религиозный дух своеобразно, иногда и противоречиво, сочетается с политическими потребностями молодого государства. И в этой идее есть что-то от особенного духа и особой немецкой истории. Поэтому она, что верно ощущают все полемисты, а некоторые из них метко отмечают, и отличается от франко-романской и от англосаксонской идеи свободы.
Французская идея свободы основана на идее равенства всех граждан по их вкладу в построение общей воли. Теоретические конструкции конституций, которые гарантируют эти £galitd и НЬеЛё3’ и иногда приводят в движение фантазию и страсть народа, — главное, что на практике не исключает господства плутократов и адвокатов. О fraternitg4’ в этой связи лучше вообще не говорить; оно все еще по известному изречению графа Шамфора — «ип реи 1а ГгаГегпйё de Cain et Avel»5*. Английская идея свободы, напротив, в своем смешении пуританских и древних англосаксонских сословных идей означает независимость индивидуума от государства, самоконтроль и господство личности. В Англии эта идея контролирует государственную власть посредством общественного мнения — причем сама теоретическая идея конституции здесь не столь важна — и защищает независимость религии, убеждений и культуры от посягательств государства.
Она осуществляет прежде всего признанное во всем мире господствующее положение гражданина Англии, который утверждает для низших рас соответствующий им образ жизни и сохраняет собственный. Англичанин действует согласно своему свободному пониманию полезного и на основе личной неприкосновенности; что эта свобода совпадает с благом государства, для него догмат веры, который он обосновывает с пуританских позиций Провидением или с рационалистических — эволюцией, и в обоих случаях считает, во всяком случае, само собой разумеющимся.
Французская и английская идеи - великие и действенные формы европейской культуры. Но немецкая идея свободы по самим своим корням иная. После длительного подчинения и рабства немецкий народ ощутил свободу в области образования и духовно-
Эрнст Трёльч. Метафизический и религиозный дух немецкой ку.п.туры 233
го содержания индивидуальности. К этим идеалам теперь и на все времена направлены древние немецкие устремления к независимости или упорному самоутверждению, в политическом выражении чего им было отказано. Немецкая Свобода в той мере, в которой она означает сферу независимости индивидуума, возникла в кантовском понимании как свобода автономного долга и признания права и в понимании романтиков как бесконечная, взаимно дополняющая полнота индивидуальной образованности. Такой характер она сохранила и по сей день. Одновременно действует и древняя склонность к самобытности, которая отражена в особенностях местностей, диалектов, династий, а также в ставшей нарицательной немецкой склонности к спорам и разногласиям, что, впрочем, теперь при полностью достигнутом национальном единстве стало довольно безобидным. С помощью этих средств мы пытались внутренне и морально преодолеть худшие препятствия к свободе немецкого народа — уходящее своими корнями в домар-товский период разделение на классы и сословия, и это преодоление остается самой важной и трудной задачей немецкой свободы вплоть до наших дней. Правда, отсюда еще далеко до подлинной политической свободы. На этом пути нам очень помогли и служили образцом, как известно, английский парламент и английское самоуправление, а французское демократическое мышление еще и сегодня оказывает большое влияние на партийную жизнь Германии. Над разработкой и формированием этих импульсов в нужном нам направлении мы работаем сегодня и будем вынуждены еще много работать.
Это относится прежде всего к свободе в ее втором смысле, в каком она означает не только независимость личности, но и участие индивидуума в создании государственной воли. Естественная демократизация, начавшаяся повсюду с развитием этого процесса в народной армии, народных школах и выразившаяся также в росте самостоятельности промышленных рабочих, будет все больше развиваться в Германии и сумеет прийти к компромиссу с военными и политическими требованиями. Это следует у нас, как и везде, из положения современных народов. Но в этом смысле наша свобода всегда будет иной, не похожей на свободу западных народов. У нас с древних времен бытует иное представление об отношении между целым и индивидуумом, и в правах мы видим прежде всего долг. Свободный выбор своего места в целом, готовность к подчинению и одновременно к самостоятельной деятельности — таково в этом втором смысле ядро нашей идеи свободы. Парламенты необходимы, но в наших глазах они не составляют сущности свободы. Избирательное право и участие в деятельно-
234_____________________________________Культурфилософскне рефлексии
сти правительства воспитывают и ведут к политической зрелости; но и это не есть та свобода, которую мы имеем в виду. Свобода немцев не будет носить чисто политического характера, она всегда будет сохранять связь с идеалистической идеей долга и романтической идеей индивидуальности. Но в качестве политической она сохранит следы своего в сущности духовного и культурного происхождения, подобно тому как идея свободы в Англии - следы своего пуританского, а идея свободы во Франции - своего революционного происхождения...
Наивно было бы пытаться вынести догматический вердикт о преимуществе одной из этих противоположных идей. Все великие национальные культуры имеют свои преимущества и свои теневые стороны, и места на Земле для всех достаточно. Укажем в этой связи лишь на одно свойство немецкой идеи свободы. В ней отсутствует рациональное принуждение французской идеи требовать от всех людей ее признания в качестве научно единственно возможной и моральное принуждение английских институтов... Немецкая идея свободы не стремится к мировому господству — ни к материальному, ни к моральному, ни к духовному. Она означает сосуществование всех свободных в своей индивидуальности народов, которые не должны уничтожать возможности своего развития и подчинять их шаблону во имя какого-либо закона. Исходя из такого понимания, мы полагаем, что именно мы боремся за истинный и подлинный прогресс человечества, за такой прогресс, который никого не будет насильственно подчинять своей власти и предоставит каждому свободу...
Примечания
1 Имеется ввиду Кант. - Прим. ред.
2 Диссентеры протестанты, не входящие в англиканскую церковь. -Прим. ред.
3 Вилыельм Генрих Риль (1823 — 1897) - директор Баварского национального музея, основоположник немецкой фольклористики. - Прим. ред.
4 См. об этом: Plenge J. Der Krieg und die Volkswirtschaft, а также Naumann P. Mitteleuropa. B., 1915. S. 102 -115.
5 Имеется в виду возникновение протестантской церкви. - Прим. ред. 6См. мои работы: Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. 1912; Trennung von Staat und Kirche, der staatliche Religionsunterricht und die Theologischen Fakultaten. 1906.
7 «Нюрнбергские мейстерзингеры» онера Рихарда Вагнера, в основу сценария которой положен сюжет из жизни средневекового Нюрнберга.
Прим. ред.
8 По данному вопросу см.: Neumann К. Nationale und Internationale Kunst, Deutschland und Frankreich // Internationale Monatsschrift. IX. 3. 1914.
Эрнст Трёльч Метафизический и релит очный дух немецкой культуры 235
November; а с более клаееииистской точки зрения, но близко: Wolf flin Н Die Architektur der deutschen Renaissance (Festrede der Munchener Akademie der Wissenschaften). 1914; см. также: Worringer W. Kunstlerische Zukunftsfragen // Frankfurter Zeitung. 1915. 25. Dezember, Benz R. Die Renaissance das Verhangnis der deutschen Kultur. Jena, 1915.
9 To же говорится в очслыдодуманной статье Дж.Д.Хикса (Hibbert journal. 1914. Vol. 13. 1). Однако он тем не менее полагает, что политика Бисмарка вытеснила эту благородную философию. Между тем эта философия расцветает сегодня более чем когда-либо, а ее социально-политические идеалы никогда не были тождественны английским. Немецкая философия и картофельный дух, о котором говорил Ллойд Джордж, так же тесно связаны, как английская философия и забастовка шахтеров.
10 Перефразированное Бисмарком высказывание графа Шверина: «Право выше силы». - Прим. ред.
Перевод иноязычных текстов
|г Немецкая метафизика (англ.).
2* Человек, основывающийся только на фактах (англ.).
3’ Равенство и свобода (франц.).
4* Братство (франц.).
5* Нечто от братства Каина и Авеля (франц.).
Перевод выполнен по изданию: Troeltsch Е. Der metaphysische und religiose Geist der deutschen Kultur // Troeltsch E. Deutscher Geist und Westeuropa. Gesammelte Kulturphilosophische Aufsatze und Reden. Tiibingen, 1925. S. 59 -79.
Ibopr Зиммель
Кризис культуры
’Ж’ Х' аждый, кто говорит о культуре, должен ограничить для X своих целей многозначность этого понятия. Я понимаю под культурой то совершенство души, которого она до-
I стигает не непосредственно сама, как это происходит в .Л. Жфелигиозном чувстве, в нравственной чистоте, в творчестве, а обходным путем через образования духовно-исторической деятельности рода: путь субъективного духа в культуру идет через науку и формы жизни, через искусство и государство, профессию и знание мира, путь, на котором он возвращается к самому себе, но достигшим большей высоты совершенства.
Поэтому наши действия, которые должны дать нам культуру, связаны с формой целей и средств. Однако этот образ действий расщеплен на бесчисленные отдельные направления. Жизнь составляется из действий и созиданий, общность направленности которых существует, но может быть познана лишь в небольшой степени.
Связанные с этим разорванность и сомнительность достигают своей высшей точки из-за того обстоятельства, что ряд средств для наших конечных целей, «техника» в широком смысле, беспрерывно удлиняется и уплотняется. Эта конечная необозримость рядов целей и средств создает имеющее громадное значение явление: промежуточные звенья в этих рядах вследствие него превращаются для нашего сознания в конечные цели; неисчислимо многое представляется нам, пока мы к нему стремимся, и многое, даже после того, как мы его достигли, окончательным удовлетворением нашей воли, тогда как фактически оно является лишь промежуточным пунктом и средством для достижения наших действительных целей. Нам необходимо это акцентирование внутри наших устремлений, ибо при их пространности и переплетенности мы полностью лишились бы духа, если бы импульсом нам служила Бог весть сколь далекая от нас подлинная конечная цель. Огромный, интенсивный и экстенсивный, рост нашей техники, которая отнюдь не есть только техника в материальной обла-
Георг Зиммель. Кришс культуры 237
сти, втягивает нас в сеть средств и средств этих средств, которая все больше отдаляет нас от наших подлинных конечных целей. В этом состоит громадная внутренняя опасность всех высокоразвитых культур, т.е. эпох, в которых вся сфера жизни покрыта максимумом надстроенных друг над другом средств. Возвышение ряда таких средств до конечных целей как будто делает это положение психологически выносимым, но в действительности придает ему еще большую бессмысленность.
На той же основе развивается другое внутреннее противоречие культуры. Объективные образования, в которых нашла свое выражение творческая жизнь и которые затем вновь воспринимаются душами и привносят в них культуру, обретают самостоятельное, определяемое каждый раз их фактическими условиями развитие. В содержание и темп развития промышленности и науки, искусства и организаций втягиваются субъекты, безразличные или находящиеся в противоречии к требованиям, которые они должны были бы ставить ради своего собственного совершенствования, т.е. культуры. Объекты, несомые культурной жизнью и несущие ее, следуют, чем они утонченнее и в своем роде совершеннее, тем более имманентной логике, которая отнюдь не всегда настолько соответствует возвращающемуся в себя развитию субъектов, как того требует смысл всех образований культуры. Нам противостоят бесчисленные объективации духа, произведения искусства и социальные нормы, институты и познания, подобно управляемым по собственным законам царствам, притязающие на то, чтобы стать содержанием и нормой нашего индивидуального существования, которое, в сущности, не знает, что с ними делать, и часто воспринимает их как бремя и противостоящие ему силы.
Однако не только эта качественная чуждость стоит между объективной и субъективной сторонами высоких культур, но между ними стоит и количественная неограниченность, с которой книга следует за книгой, открытие за открытием, художественное произведение за художественным произведением, — своего рода формальная неограниченность, предстающая перед индивидом с притязанием быть воспринятой им. Он же, будучи определен в своей форме и ограничен в своей способности восприятия, может удовлетворить этому во все менее полной мере, хотя все это его как-то касается.
ТЧк возникает типично проблематичное положение современного человека - чувство, что его как бы подавляет это количество элементов культуры, поскольку он не может ни внутренне их ассимилировать, ни просто отклонить их, так как они потенциально принадлежат к сфере его культуры. В результате то, что можно назвать культурой вещей, предоставленное своему собственно-
238 Кудляурфилософские рефлексии
му ходу развития, получает громадную сферу распространения, вследствие чего интересы и надежды все больше обращаются в эту сторону, оттесняя как будто значительно более узкую, значительно более конечную задачу приобщения индивидуальных субъектов к культуре.
Гаковы, следовательно, две серьезнейшие опасности зрелых и перезрелых культур. Они, с одной стороны, состоят в том, что средства жизни превосходят по своему значению ее цели и тем самым множество средств присваивает себе психологическое достоинство конечных целей; с другой стороны, объективные образования культуры обретают самостоятельное, повинующееся чисто фактическим нормам развитие и тем самым становятся не только глубоко чуждыми субъективной культуре, но и прогрессируют с такой быстротой, что она догнать их не может. К этим двум основным мотивам и их разветвлениям сводятся, как мне представляется, все те явления, с которыми уже в течение известного времени связывается чувство близящегося кризиса нашей культуры. Вся гонка, ненасытность и жажда наслаждений нашего времени — лишь следствия и проявления реакции, вызванные тем, что личных ценностей ищу г в той сфере, в которой их вообще не бывает: то, что успехи в технике прямо оцениваются как успехи в области культуры, что в области духа методы часто рассматриваются как нечто священное и считаются более важными, чем содержания и их результаты, что жажда денег значительно превосходит жажду вещей, способом приобретения которых они являются, - все это свидетельствует о постепенном вытеснении целей средствами и путями...
Я не осмеливаюсь уверенно утверждать, что в первой группе явлений в этой патологии культуры - в отставании совершенствования людей от усовершенствования вещей — наблюдаются признаки возможного исцеления. В этом состоит, вероятно, трагедия культуры, неразрывно связанная с ее сущностью; ибо поскольку она означает, что развитие субъектов идет через развитие мира объектов, поскольку последний способен к безграничному совершенствованию, ускорению и распространению, тогда как способность субъектов неизбежно остается односторонней и ограниченной, я не вижу в принципе возможности предотвратить возникновение бессвязности, одновременно неудовлетворенности и пресыщения...
Эти приведенные здесь опасности соединяются как в общем симптоме в том, что все названные области культуры развивались во взаимной независимости и чуждости, пока в последние годы не стали вновь заметны общие единые течения. В этом причина часто подчеркиваемого отсутствия стиля в наше время.
Георг Зиммель. Кризис культуры_________________________239
Ибо стиль - это всегда следование общей форме, которая придает ряду различных по своему содержанию созиданий обптий характер. Чем больше дух народа — ради краткости я пользуюсь этим сомнительным выражением — окрашивает в характерном для него единстве все проявления своего времени, тем более мы видим в нем определенный стиль. Поэтому предшествующие века, которые еще не были столь обременены полнотой гетерогенных, ведущих в разные стороны традиций и возможностей, обладали большим стилем, чем современность, когда во множестве случаев отдельная деятельность осуществляется как бы в оторванности от любой другой. В этом, впрочем, в последнее время, быть может, после Ницше, появляются признаки некоторого изменения. Создается впечатление, будто понятие жизни проникает в самые разнообразные области и начинает придавать единый ритм биению их пульса...
На большее же мы перед лицом последних парадоксов нашей культурной жизни вообще надеяться не можем. Они носят такой характер, будто ведут нас к кризису, а тем самым к беспредельной разорванности и мраку. Что средства получают значимость конечных целей, а это полностью нарушает порядок внутреннего и практического бытия; что объективная культура развивается в такой степени и в таком темпе, когда она все больше обгоняет развитие субъективной культуры, в которой только и состоит смысл совершенствования всех объектов; что отдельные разветвления культуры направляются во взаимном отчуждении в разные стороны, что их всех ждет, собственно говоря, судьба Вавилонской башни, а их глубочайшей ценности, состоящей именно в связи отдельных частей, грозит уничтожение, - все это противоречия, которые неотделимы от развития культуры как таковой. При их полной последовательности они привели бы это развитие к точке крушения, если бы позитивная, смысловая сторона культуры не противопоставляла им противоположные импульсы, если бы с совершенно неожиданных сторон не приходили останавливающие их действие силы, которые — часто дорогой ценой — на время восстанавливают уходящую в ничтожество и распадающуюся жизнь культуры...
Можно, конечно, как было сказано, определить как принципиальную, возвышающуюся над всеми единичными содержаниями формулу, устанавливающую судьбу достигшей большой высоты культуры, то, что культура - это постоянно сдерживаемый кризис. Это означало бы, что она стремится превратить жизнь, из которой она возникает и для служения которой она предназначена, в нечто бессмысленное и противоречивое, против чего все время восстает
240 Культурфилософские рефлексии
фундаментальное, динамическое единство жизни, заставляя чуждую жизни, уводящую жизнь от нее самой, объективность вновь подчиниться источнику самой жизни. Мы стоим в этой эпохе на вершине истории потому, что распад и отклонение культурного существования достигли известного максимума, против чего жизнь восстает в этой войне с ее унифицирующей, упрощающей, концентрирующейся на определенном смысле силой. Пусть это даже не больше, чем волна в необозримом потоке человеческой жизни, — до такой высоты, такой широты трение ее сил эту жизнь еще не возносило. Потрясенные, мы стоим перед такими измерениями, которые бесконечно далеко уводят этот кризис от взора отдельного человека, делая его вместе с тем близким и понятным нам; ибо в каждом из нас этот кризис, сознаем ли мы это или нет, является кризисом собственной души.
Печатается по изданию: Зиммель Г. Избранное. Г. 1: Философия культуры. М., 1996. С. 489 -493.
Георг Зиммель
Конфликт современной культуры
Как только жизнь возвысилась над чисто животным состоянием до некоторой духовности, а дух в свою очередь поднялся до состояния культуры, в ней обнаружился внутренний конфликт, нарастание и разрешение которого есть путь обновления всей культуры1. О культуре мы можем говорить, конечно, только тогда, когда творческая стихия жизни создаст известные явления, находя в них формы своего воплощения. Явления эти принимают в себя набегающие волны жизненной стихии, придавая им содержание и форму, порядок и предоставляя им известный простор. Таковы общественное устройство, художественные произведения, религии, научные познания, техника и т.п. Но все эти проявления жизненных процессов имеют ту особенность, что уже в момент их возникновения они устойчивы в беспокойном ритме жизни, ее приливах и отливах, ее постоянном обновлении, в неизменном расщеплении и воссоединении. Они только леса для творческой стихии жизни и для ее набегающих потоков... Но жизнь быстро выходит из этих поставленных ей пределов, не находя в них достаточно простора. Явления, о которых идет здесь речь, имеют свою особую логику и закономерность, особый смысл и способность сопротивления в своей разобщенности и самостоятельности по отношению к духовной динамике, их создавшей. В момент творчества они, быть может, ответствуют жизни, но по мере раскрытия последней постепенно становятся ей чуждыми и, даже больше того, враждебными2.
В этом и заключается, в сущности говоря, причина того, что культура имеет свою историю. Если одухотворенная жизнь неизменно создает подобные явления, законченные в самих себе и претендующие на длительность, даже больше того, на вневременность, то их можно назвать формами, в которые облекается жизнь и без которых немыслимо какое-либо духовное бытие. Но самая жизнь стремится неустанно вперед, ее беспокойная ритмика в каждом но-
242 Ку.1ыурфил<хофскис рефлексии
вом содержании созданных ею форм вступает в контраст с постоянством ее бытия или вневременностью ее значения. Жизненные силы то в более медленном, то в ускоренном темпе разрушают каждое осуществленное культурное явление. Как только оно достигает полного развития, начинает формироваться следующее, предназначенное в короткой или длительной борьбе заменить первое.
Предметом истории в самом широком смысле является эволюция культурных форм. Таков круг внешних явлений, изучением которых ограничивается история как эмпирическая наука, выясняя в каждом отдельном случае конкретных носителей и причины этой эволюции. Скрытый смысл этой эволюции заключается в том, что жизненная стихия, беспокойная в своем вечном движении, ведет постоянную борьбу со всеми отверделыми остатками, засоряющими ее волну. Но так как она может иметь реальное бытие лишь в определенных формах, то весь этот процесс представляется нашему сознанию как процесс вытеснения старых форм новыми. Непрерывная изменчивость содержания отдельных культурных явлений и даже целых культурных стилей есть результат бесконечной плодовитости жизни, но вместе с тем и символ ее бесконечной творческой силы и того противоречия, в каком неизменно находится вечное становление с объективной значимостью и самоутверждением форм. Жизнь движется от смерти к бытию и от бытия к смерти.
Такой характер исторического культурного процесса впервые установлен был в истории мирового хозяйства3. Экономические силы каждой эпохи создают формы производства, им соответствующие. Рабовладельчество и цеховой порядок, крепостничество и другие формы рабочей организации в исторический момент своего образования были выражением того, к чему стремится данная эпоха и что для нее достижимо. Но поскольку они подвергались нормированию и ограничению, постоянно усиливался рост хозяйственных сил, которые, не вмещаясь в поставленные им пределы, свергали с себя, то в медленно протекающих, то бурных революциях, растущий гнет застывших форм с целью заменить их другим способом производства, более соответствующим действительному соотношению сил. Однако последние, как форма, не имели достаточной энергии, чтобы вытеснить другую. Сама жизнь — в данном случае в своей экономической структуре - с ее бурным стремлением вперед, с ее изменчивостью и дифференциацией - единственный источник сил для всего движения, но сама по себе она бесформенна и только через оформление обращается в феномен. Тем не менее эта форма — по самому существу своему форма — в момент своего зарождения претендует на существование, независимое от пульсации самой жизни. Это более заметно в сферах чистой духовности,
Георг Зиммель. Конфликт современной культуры 243
чем в хозяйстве, и потому жизнь сразу становится к ней в скрытую оппозицию, внезапно проявляющуюся в разных областях нашего бытия и наших действий. Все это может в конце концов обратиться в общий недуг культуры тогда, когда жизнь ощутит чистую форму, как нечто навязанное ей извне, и обнаружит стремление разрушить самую форму как таковую, поставить самое себя на ее место, чтобы проявить всю полноту собственных сил в их непосредственной чистоте. Тогда познание, оценки и явления будут казаться только без-начальными откровениями и наступит новый фазис старой борьбы не только настоящих жизненных форм против старых, отмерших, но борьбы жизни против самого принципа форм. Моралисты, ценители старого доброго времени, люди строгого чувства стиля совершенно правы, жалуясь на все растущую «бесформенность» современной жизни. Но они обыкновенно не замечают того, что происходит не только отмирание традиционных форм, а что причиной смены этих форм является положительный инстинкт жизни. Но так как весь этот процесс, вследствие своей всеобщности, еще не доходит при этом до той степени концентрации, при которой начинается новое формотворчество, то этот недостаток обращается в принцип, в борьбу против формы только потому, что она форма.
Пожалуй, это возможно только в такую эпоху, когда форма культуры кажется почвой истощенной, давшей все, что можно было дать, тогда как она еще покрыта плодами прежней своей производительной силы. Обыкновенно полагают, что такой кризис имел место в XVIII столетии, но на самом деле он наблюдался в течение значительно большего промежутка времени, с эпохи английского Просвещения XVII столетия до Французской революции. В пучине переворотов рождался определенный новый идеал освобождения личности, господства разума над жизнью, прогресса человечества на пути к счастью и совершенству. А из этого идеала возникал образ новых, уже ранее где-то подготовленных культурных форм. Человечество почувствовало себя внутренне сильным, и дело не дошло до вырождении культуры, которое хорошо знакомо нам, старикам, и настолько усилилось в наши дни, что во всех возможных областях жизни начал замечаться бунт против всяких установленных форм вообще.
Предвестником этого состояния уже несколько десятилетий оказалось господство самого понятия жизни в философском истолковании мира. Для того чтобы определить настоящее место этого явления в совокупности гуманитарно-исторического порядка, я принужден начать издалека. В каждой большой культурной эпохе, имеющей свои типичные черты, можно уловить одну центральную идею, из которой проистекают все ее духовные движения и
244_____________________________________Культурфилософские рефлексии
которая как будто является их конечной целью. Пусть дух времени господствует абстрактно даже над этим понятием или, напротив того, является идейным фокусом для всех движений эпохи, смысл которых, их истинное значение для интеллектуальной жизни можно постичь лишь на известном историческом отдалении от них. Каждая такая центральная идея разбивается на бесконечные варианты, встречает противоположные токи мысли, но тем не менее она остается «властителем дум» для каждой данной эпохи. Ее легко открыть и там, где высшее бытие, абсолют и метафизика действительности сливаются с абсолютными требованиями к нам самим и к миру. В этом, конечно, заключается логическое противоречие: то, что само по себе есть непреложная реальность, не нуждается в предварительной реализации, и относительно несомненного бытия очевидно нельзя сказать, что оно сначала должно быть, но всякое мировоззрение на известной высоте не смущается подобными логическими трудностями, и там, где встречаются обычно чуждые ДРУГ другу бытие и долженствование, можно с уверенностью сказать, что именно здесь - центральная точка всей системы мира4. Я только вкратце укажу, что именно для крупнейших эпох является такой центральной идеей. Для классического греческого мира это была идея бытия, единого субстанциального, божественного, отнюдь не пантеистически бесформенного, но данного и воплощенного в пластические формы. На ее место христианское средневековье поставило понятие божества, источника всей действительности, неограниченного властелина человеческого существования, однако требовавшего свободного повиновения себе и преданности. С эпохи Возрождения это высшее место в интеллектуальной жизни стало постепенно занимать понятие природы. Она представлялась, с одной стороны, безусловным, единственно сущим и истинным, а с другой - идеалом, который необходимо предварительно создать и осуществить, что в первую очередь относится к области художественного творчества, для которого единство сокровенной сущности жизни и высших ее ценностей — необходимое условие существования. XVII столетие концентрировало мировоззрение вокруг понятия законов природы, и век Руссо сконструировал на этой основе «природу» как идеал, абсолютную ценность, мечту и требование жизни. Вместе с тем в конце эпохи преобладающее значение получает центральное понятие личного душевного «Я», и, с одной стороны, все бытие выступает как творческое представление сознательного «Я», а с другой стороны, утверждение этого «Я» представляется абсолютно нравственным постулатом и, даже больше того, — метафизической целью мира. Весь XIX в. при разнообразии своих духовных движений не выдвинул такой всеобъемлющей,
Георг Зиммель. Конфликт современной культуры_______________245
господствующей идеи. Ограничиваясь исключительно человеком, XIX в. создал понятие общества как подлинную реальность жизни, а индивидуум стал рассматриваться как простой продукт скрещения социальных сил или как фикция, подобная атому5. С другой стороны, именно теперь выдвигается требование растворения личности в обществе, так как подчинение ему есть нечто абсолютное, заключающее в себе нравственное и всякое иное долженствование. Лишь на пороге XX столетия широкие слои интеллектуальной Европы стали объединяться на новом основном мотиве мировоззрения: понятие жизни выдвинулось на центральное место, являясь исходной точкой всей действительности и всех оценок— метафизических, психологических, нравственных и художественных.
Какие отдельные явления этого общего уклона новейшей культуры находят благотворную почву в многообразной метафизике жизни, чем объясняются их конфликты и трагедия, мы скажем в дальнейшем. Необходимо, однако, указать на то, как неожиданно подтвердилось мировое значение понятия жизни уже тем, что на нем объединились великие антагонисты Шопенгауэр и Ницше6. Шопенгауэр — первый философ Нового времени, который не задавался вопросом о содержании жизни, идеях и состояниях, а размышлял исключительно о том, что такое жизнь и каково ее значение как жизненной стихии. То обстоятельство, что он не пользуется этим выражением, а говорит исключительно о воле к жизни или о воле вообще, не должно нас смущать. «Воля» - его ответ на вопрос о значении жизни как таковой, вне всякого спекулятивного выхождения из ее стихии. А это значит, что жизни недоступны никакой смысл и цели вне ее самой, ибо она повсюду сталкивается с проявлением воли в самых разнообразных видах.
Именно вследствие метафизической сущности жизни, заключающей ее только в своих собственных пределах, всякая цель может вызвать в ней только разочарование и бесконечные иллюзии. Ницше, исходя также из понятия жизни как единственной субстанции возможного содержания, видел ее смысл и назначение исключительно в ней самой, в постоянном подъеме ее творческой волны, в ее стремлении к полному проявлению сил, к красоте и в том, что она растет количественно, бесконечно увеличиваясь в своей ценности. И как бы ни был глубок не поддающийся разумному объяснению контраст между пессимизмом и радостным утверждением жизни, обоих мыслителей занимает один вопрос, постановка которого отличает их от всех прежних философов: что значит жизнь и какова ее ценность? Задаться вопросами о познании, морали, личности, разуме, искусстве и Боге, счастьи и страдании они могли только тогда, когда для них разрешена была пер
246 Куямурфилософские рефлексии
вая загадка: решение ее заранее определяет весь дальнейший ход их мысли. Только самое понятие жизни придает всему смысл и меру, положительную и отрицательную ценность. В понятии жизни встречаются два противоположных направления мысли, определяющих основные грани современной жизни.
Я попытаюсь теперь показать на некоторых явлениях новейшей культуры — после 1914 г. — решительное ее отклонение от прежних путей. Жажда новых форм разрушила старые, хотя сокровенный мотив может быть усмотрен даже тогда, когда создаются новые формы, в принципиальной вражде против всякой формы вообще7. Быть может, это только иное выражение того, что в течение последних десятилетий мы живем уже вне всякого объединения какой-либо идеей, даже более того, - вне всякого господства идеи в противоположность средневековью, имевшему свою церковно-христианскую идею, и Возрождению, видевшему в завоевании земной природы ценность, которая не нуждается в признании трансцендентных сил, или эпохе Просвещения XVIII столетия, жившей идеей всеобщего человеческого счастья благодаря господству разума, или великой поре немецкого идеализма, которая преобразила науку веянием художественной фантазии, а искусству стремилась научным познанием дать широкую космическую основу. Если задать вопрос современному представителю образованных кругов, под господством какой идеи он собственно живет, таковой, наверно, ответил бы какой-либо специальной ссылкой на свою профессию. Но едва ли бы нам пришлось услышать что-нибудь об идее культуры, захватывающей и эти круги целиком и определяющей их специальную деятельность. Своеобразная черта нашего времени по отношению к отдельным областям нашей культуры заключается в том, что жизнь в своей чистой непосредственности стремится воплотить себя в явлениях и, насколько это для нее вообще возможно, обнаруживает вследствие их несовершенства основной мотив, борьбу против всякой формы. Таким образом, отсутствует не только материал для органической идеи культуры, но даже самые явления, которые ей надлежало бы охватить, слишком многообразны, разнородны, чтобы допустить возможность такого их идейного объединения. Переходя к частностям, я выскажусь сначала о вопросах искусства.
Среди перекрещивающихся движений, совокупность которых называется футуризмом, только одно направление, а именно экспрессионизм, достигло известного внутреннего единства. Если я не ошибаюсь, смысл экспрессионизма заключается в стремлении непосредственно проявить или, точнее, усилить в художественном произведении глубокое внутреннее напряжение художника. Экс
Георг Зиммель. Конфликт современной культуры 247
прессионизм избегает законченных форм, считая их чем-то извне данным, силами реальными или идеальными. Вот почему экспрессионизм отнюдь не стремится к воспроизведению реальной жизни ни в объективном образе, ни, подобно импрессионизму, в мимолетно схваченном восприятии, ибо последний также не есть чистое, только изнутри определяемое творчество художника, а нечто пассивное, производное, смешение личных переживаний художника с чуждым, данным вовне. И как все по содержанию своему внесубъ-ективное отвергается экспрессионистами, ими также отрицается и оформление материалов в более тесном смысле слова, диктуемое художнику или традицией, или методом, или каким-нибудь образцом, или твердо установленными принципами. Все это стесняет стихию жизни, стремящуюся творчески излиться из самой себя, и потому подчинение ее какой-либо форме только омертвило бы, лишило бы подлинности, исказило бы живую линию художественного произведения. Я вижу творчество экспрессиониста-живописца в том, что душевные напряжения передаются непосредственно руке, как жест выражает внутреннее движение, а крик - человеческую боль, и что эти душевные напряжения повинуются ей безраздельно, так что всякая созданная им картина есть непосредственное отражение душевной жизни художника без примеси внешних или чуждых ей элементов. То обстоятельство, что картины экспрессионистов часто озаглавливаются по известным предметам, с которыми они не имеют никакого «сходства», конечно, быть может, и излишне, но не столь нелогично, как это может показаться на основании существующих артистических воззрений. Внутренние напряжения художника, которыми проникнуты произведения экспрессионистов, могут, правда, иметь своим источником потаенные и безымянные глубины души. Но они могут быть вызваны также и внешними объектами. Но между тем как до сих пор полагали, что художественный результат подобных внешних побуждений должен иметь морфологическое сходство с тем, из чего оно исходило (на эту предпосылку опирался весь импрессионизм), экспрессионизм совершенно отказался от подобной точки зрения. Он серьезно убежден в том, что причина и вызванное действие отнюдь не должны выражаться в одинаковых внешних формах, и внутреннее динамическое отношение обоих не обязано иметь никаких внешне родственных черт. Так, например, впечатления скрипки и человеческого лица могут вызвать в живописце такие эффекты, которые, претворенные его художественной волей, могут в конечном результате дать совершенно непохожий на них живописный образ.
Можно сказать, что художники-экспрессионисты на место «модели» ставят «повод» в смысле содержания только самодовлеющей
248 Культурфилософские рефлексии
жизни. Как абстрактное выражение, определяющее всю реальную волевую линию, жизненная борьба есть борьба за самостоятельность своего бытия. Жизнь во всем, что она выражает, стремится выразить только самое себя и разрушает потому всякую форму, навязываемую ей другой действительностью во имя этой действительности или каким-нибудь законом во имя этого закона. Конечно, с точки зрения абстрактных понятий получившийся художественный образ есть форма. Но в художественном замысле это только необходимый внешний атрибуг, он не имеет подобно форме всех иных художественных идеалов самостоятельного значения, выражаемого и воплощаемого творческой стихией жизни. Вот почему такое искусство безразлично к понятиям красоты и безобразия, связанных с проявлениями этих форм, так же как и жизнь определяется не целью, а потоком движущих сил по ту сторону красоты и безобразия. Если же художественные произведения, полученные таким образом, не удовлетворят нас, то это доказывает только, что новая форма еще не найдена, и вопрос о ней, так сказать, висит в воздухе. Когда же художественное произведение воплотилось и творческий жизненный процесс покинул его, оказывается, что оно не имеет того самостоятельного смысла и ценности, каких мы требуем от произведения, объективно существующего, отделенного от своего творца, ибо жизнь, выражая только самое себя, точно из чувства ревности лишила его этого смысла. Быть может, именно в этом направлении мы и должны искать объяснение своеобразному увлечению искусством старинных великих мастеров, замечаемому с некоторого времени. В этих произведениях творческий дух жизни имеет такой суверенный смысл, настолько обогатился сам собой, что неизбежно вступает в конфликт с традиционной формой, приобретая для художественного произведения значение фатума. Сколь ограниченным и цельным ни являлось в своем духовном существе такое произведение, с точки зрения традиционных форм оно кажется часто внутренне бессвязным, неуравновешенным, составленным из отдельных фрагментов. Но это - не старческая неспособность к формальному творчеству, не старческая немощь, а зрелость силы. Великий художник в период своего полного завершения так безраздельно выражает самого себя, что его произведения в смысле формы дают только то, что само по себе заключено в чистом потоке его жизни. Самая форма теряет свое автономное право по отношению к нему.
Конечно, принципиально вполне возможно, что какая-нибудь форма, совершенная, как чистая форма, оказалась бы адекватным выражением жизненной стихии и прилегала бы к ней органично, как кожа. У монументальных произведений, заслуживающих на-
Георг Зиммель. Конфликт современной культуры 249
звание классических, это безусловно так и есть. Мы наблюдаем здесь своеобразную структуру духовного мира, распространяющуюся далеко за пределы одного только искусства. Можно утверждать, что в искусстве проявляется нечто, находящееся за пределами художественных форм. В каждом великом художнике и каждом великом художественном произведении заключается нечто более глубоко объемлющее, бьющее из потаенных источников, чем то, что оно дает в чисто артистическом смысле, но что им воспринимается и определяет самый процесс художественного воплощения. Если это нечто в классических произведениях совершенно сливается с формой, то в других случаях, в которых оно положительно противоречит и даже разрушает самую форму искусства, чувственное восприятие этого «нечто», его осознание имеют характер чего-то отдельного, говорящего своим собственным языком. Таков тот внутренний рок, голос которого Бетховен хотел выразить в своих последних композициях. Здесь не только разрушена известная художественная форма, но она вообще подчинена чему-то иному, более объемлющему, идущему от другого измерения. То же и в метафизике. Ее цель — познание истины. Но в ней стремится высказаться нечто, лежащее за пределами нашего познания, и это более глубокое или только иное проявляется тем, что насилует правду как таковую, и утверждает нечто, полное противоречий и несомненно опровержимое. К числу типичных парадоксов духа, на которые, правда, пошлый оптимизм не считает нужным обращать внимание, принадлежит то обстоятельство, что иная метафизика не была бы столь истинной, как жизненный символ или как выраженное отношение человеческого типа к общности ему подобных, если б она оказалась истиной, как «познание». Быть может, и в религии есть нечто, что не есть «религия», нечто глубоко для нее потустороннее, и в результате каждая ее конкретная форма, в которой действительно заключается дух религии, разрушается, выражаясь в еретичестве и расколе. Что в каждом цельном создании творческой энергии человеческой души заключается больше, чем вмещает ее форма, — а этим оно и отличается от всего произошедшего чисто механическим путем, — мы видим недвусмысленно только тогда, когда обнаруживается противоречие самой этой формы; быть может, не в таком крайнем выражении, но во всей основной структуре здесь заключен мотив того интереса, который вызывает теперь искусство Ван Гога, ибо у него больше, чем у других художников, ощущается то, что имеешь дело с натурой в высшей степени страстной и выходящей за границы живописи, бьющей из совершенно исключительной глубины, для которой талант живописца проложил лишь случайный канал, так как она могла
250
Кулыурфилософские рефлексии
столь же полно проявиться в практическом или религиозном, поэтическом или музыкальном таланте. Мне кажется, что именно эта горящая, ощущаемая во всей ее непосредственности жизненная стихия, только иногда находящаяся в губительном контрасте с его натурой, приковывает интерес больших кругов к Ван Гогу. Что, с другой стороны, у части современной молодежи чувствуется тоска о совершенно абстрактном искусстве, объясняется тем, что жизнь в своем страстном стремлении выказать себя непосредственно, без всяких прикрытий, легко запутывается в противоречиях. Необычайная подвижность жизненной стихии у юного поколения доводит эту тенденцию до абсолютной крайности.
Вполне, впрочем, понятно, что юное поколение более всего является выразителем охарактеризованного нами выше движения. Если, вообще говоря, все исторические моменты, стихия внешнего или внутреннего революционизма всегда находили опору у юных умов, то это особенно явственно сказывается теперь, в силу особого склада юного поколения. Если старость с падением жизненной энергии сосредоточивается все более и более на объективном содержании жизни (которая после всего сказанного может быть названа ее формой), юношество более всего заинтересовано в самом процессе жизни. Оно стремится только изжить свои силы и избыток энергии, относясь совершенно безразлично, иногда весьма вероломно к самой обстановке. Это юношеское понимание жизни объективируется в известном направлении культуры, которая ставит во главу угла только самую жизнь и ее почти презрительное отношение ко всякой форме.
В пределах этих рассуждений мы доходим, наконец, и до твердого фундамента, на котором в значительной мере покоится вся наша художественная жизнь. Это стремление к оригинальности, которое у многих юношей является выражением тщеславия и желанием быть чем-то сенсационным для себя и для других. В лучших случаях в этом чувстве проявляется страстное желание выразить действительную сущность собственной жизни. Но уверенность в том, что это именно и есть его собственное выражение, кажется оправданной только тогда, когда к нему не примешивается ничего традиционного, вне его существующего. Ибо последнее есть уже нечто отвердевшее, объективная, находящаяся вне непосредственно творческого процесса форма, в которой подлинная жизнь, вливаясь, не только теряет свою подлинность, но подвергается опасности израсходовать свою жизненную энергию на нечто омертвелое. В таких случаях надлежит спасать не столько индивидуальность жизни, сколько жизненную индивидуальность. Оригинальность зга, гак сказать, ratio cognoscendF, дающая уверенность в том, что мы имеем дело с
J еорг Зиммель. Конфликт современной культуры 251
чистым выражением жизни, а не с формами, для нее внешне объективными и неподвижными, воспринявшими ее поток, или, напротив того, влившимися в этот поток. Таков вообще, быть может, -ограничусь только намеком - глубокий творческий замысел, лежащий в основе современного индивидуализма.
Я попытаюсь теперь показать подобные же устремления в новейшем философском учении, совершенно порвавшем с исторически выраженными школами философии. Я назову его прагматизмом, так как этим именем окрещено популярное американское ответвление этой теории, которое я, впрочем, считаю наиболее поверхностным и ограниченным ее выражением. Независимо от этой, как и от всякой иной, до сих пор установленной, фиксации, для современного интереса к ней мне кажутся решающими следующие мотивы. Из всех особых областей культуры ни одна не является столь самостоятельной по отношению к жизни, столь автономной, столь отрешенной от всех волнений и страданий индивидуализации и судеб жизни, как познание. Не только дважды два четыре или что массы притягивают друг друга обратно квадрату расстояния действительно всегда, независимо от того, знает ли об этом живой дух или нет, и вне всякой связи с изменениями, переживаемыми человеческим родом, но и различные, непосредственно связанные с жизнью моменты познания играют известную роль в ней именно потому, что они недоступны всем ее волнениям. Так называемые практические знания суть, само собой разумеется, только нечто теоретическое, обращенное в практическую сторону, но как знание принадлежащее к идеальному миру истин.
Эта самостоятельность истины, во все времена за нею признаваемая, оспаривается прагматизмом. Всякое действие нашей жизни, внешней и внутренней — так рассуждает он — основывается на известных понятиях, которые в случае своей правильности служат для сохранения и улучшения нашей жизни, а в случае ложности — ведут нас к гибели. Так как все наши представления зависят от нашего психического строя и ни в коем случае не являются механическим отражением той реальности, среди которой протекает наша жизнь, то было бы невероятной случайностью, если бы наши представления, являющиеся результатом совершенно субъективного образа мыслей, привели бы к каким-нибудь желательным и поддающимся заранее учету последствиям именно в сфере этой реальности. Более вероятно, что среди бесчисленных представлений, определяющих наши поступки, признаются нами истинными те, которые динамически благоприятно действуют на жизнь, а те, которые вызывают обратные результаты, признаются нами ложными. Следовательно, нет никакой истины, независи-
252 Культурф1«л<кофские рефлексии
мой в своем существе, которая могла бы направлять поток нашей жизни по верному руслу, а наоборот: среди необозримых теоретических элементов, рождаемых потоком жизни и действующих в обратном порядке на самое ее течение, имеются и такие, которые соответствуют нашей воле к жизни, — случайно, можно было бы сказать, но без такой случайности мы бы не могли существовать, — именно их называют истинными, дающими возможность правильного познавания. Не объект сам по себе и не суверенный разум определяет в нас самих истинность наших представлений, а сама жизнь, то в силу грубой утилитарности, то в силу своих глубоких духовных потребностей вырабатывающая оценку наших представлений, один полюс которой мы считаем полной истиной, а другой — полным заблуждением. Я не буду ни излагать, ни критиковать это учение. Мне безразлично, право ли оно или не право, но для меня важно отметить, что оно создано в настоящее время и что оно лишает познание его давнишнего права считаться совершенно самостоятельным царством, управляемым собственными идеальными законами. Отныне познание обращается в элемент, тесно сплетенный с жизнью, питаемый ее источниками, управляемый совокупностью и единством его направления и цели.
Таким образом, жизнь объявила свой суверенитет над до сих пор независимой и отдельной от нее областью. С более глубокой, мирообъемлющей точки зрения можно сказать, что форма познания своей внутренней консистенцией, своим самодовлеющим смыслом составляет твердую раму или неразрывную канву для всего нашего миропредставления, растворяется в потоках жизни, податливая их изменчивым силам и направлениям, и не оказывает сопротивления, основываясь на своих собственных правах и на своем вневременном значении. Свое чистое выражение в качестве центрального понятия жизнь получает там, где она становится метафизическим изначальным фактом, существом всякого бытия, благодаря чему каждое явление обращается в пульсацию или стадию развития абсолютной жизни. Она возвышается всеобщим раскрытием жизни до степени духа и в виде материи нисходит обратно. И если эта теория на вопрос о познании отвечает «интуицией», по ту сторону всякой логики, без посредства разума проникающей в самое существо явлений, то это означает, что одна только жизнь в состоянии понять жизнь. Вот почему с этой точки зрения всякая объективность, предмет познания, должна быть обращена в жизнь, дабы процесс познавания, истолкованный как функция жизни, действительно был уверен в том, что перед ним совершенно проницаемый для него и одинаковый по существу объект. Если таким образом прагматизм растворял в жизненном потоке картину
I eop। Зиммель. Конфликт современной культуры 253
мира со стороны субъекта, то теперь то же самое совершилось со стороны объекта. От самой формы, как мирового внежизненного принципа, имеющего особый смысл своего назначения, ничего больше не осталось. Все, что может быть в этой общей картине названо формой, могло бы существовать только по милости самой жизни. Этот поворот во взглядах на принцип формы не только в прагматизме, но и у всех проникнутых чувством жизни современных мыслителей выражается в отрицательном отношении к более ранней эпохе философского мышления, находившейся под полным господством идеи классической формы и от нее ждавшей единственного спасения для философии. Эта система стремится объединить все наши познания по крайней мере в широчайшие общие понятия, в одно симметрическое целое, равномерно развитое в разных направлениях из одного основного мотива. В архитектонически-эстетическом совершенстве, в удачном округлении и склонности всего полученного целого — доказательство правоты и того, что теперь действительно осознанно все бытие, -вот в чем и заключается решающий момент. Это вершина — достижимая для принципа формы вообще, так как здесь законченность и самоудовлетворение формы возводится в последний критерий правды. Вот против чего выступает враждебно формотворческая, но всегда форму разрушающая жизнь. Эта теория имеет две основные исходные точки зрения на жизнь: с одной стороны, она отрицает механизацию как основной космический принцип и считает его, быть может, техникой жизни, а быть может, и явлением ее вырождения. С другой стороны, отвергается также метафизическая самостоятельность идеи как высшей и безусловной руководительницы или субстанции всякого бытия. Жизнь не хочет подчиняться от нее зависимому. Она вообще не хочет быть в чьем-нибудь подчинении, даже от идеального, требующего себе более высокого иерархического положения. Если же тем не менее всякое высшее жизненное состояние не может избавиться от руководства идей — в виде ли трансцендентной силы или нравственного постулата, — то последнее возможно лишь благодаря тому и только оттого имеет шансы на успех, что самые идеи исходят из жизни. Сущность жизни в том и заключается, чтобы творить из самой себя все руководящее и искушающее все противоречия, все победы и поражения. Она зиждется и вместе с тем возвышается кружным путем над собственно ею созданным, и то, что последнее противопоставляется ей как нечто самостоятельное и готовое ее судить, — это основная истина, ее способ изживать себя. Противоречие, в какое впадает жизнь с высшим по отношению к ней самой, — это трагический конфликт жизни как духа, ощущаемый теперь в той мере, в кото-
254 Культурфилософские рефлексии
рой она приходит к сознанию, творит действительно из себя таковой и потому находится в неразрывной органической связи с ним.
С общекультурной точки зрения смысл всего этого движения заключается в разрыве с классицизмом как с абсолютно человеческим и образовательным идеалом. Ибо классицизм находится всецело под знаком формы, закругленный, самодовлеющий, уверенный в том, что она в своей спокойной законченности есть норма жизни и творчества. Но до сих пор еще не поставлено ничего на место старого идеала, ничего положительного. Вот почему борьба против классицизма доказывает прежде всего, что вопрос вовсе не в создании новой культурной формы, а в том, что уверенная в себе жизнь хочет освободиться от гнета всякой формы, историческим выразителем которой был классицизм.
Я ограничусь только самым кратким указанием на подобную же основную тенденцию в области этической культуры. Под девизом «новой этики» небольшая группа выступила с критикой существующих половых отношений и нашла поддержку в большой массе. Эта критика направлялась, главным образом, против двух элементов существующих отношений между полами — брака и проституции. В совершенно принципиальной формулировке речь идет о следующем: эротическая жизнь стремится проявить свои силы по отношению к существующим формам, в которых погрязла наша культура, и вследствие этого впала в противоречия и в состояние неподвижности. Браки, заключаемые по тысяче иных причин, кроме эротических, и приводящие в тысяче направлений к иссыханию их живого источника — эротики, к притуплению индивидуальных черт непреклонными традициями и узаконенной жестокостью; проституция, ставшая почти легальным явлением, обращающая любовную жизнь молодых людей в карикатурный, грубый, противоречащий ее истинной сущности процесс, - вот формы, против которых бунтует непосредственная чистая стихия жизни, формы, которые, быть может, не противоречили в такой мере другому культурному уровню жизни, а теперь восстанавливают против себя силы, бьющие из ее сокровеннейших источников.
И в этой области в значительно большей мере, чем в других областях культуры, можно наблюдать, к каким ничтожным результатам привел до сих пор в смысле создания новых форм совершенно положительный инстинкт разрушения старых. Ни одно из предложений всех этих реформаторов не вызывает представления о достаточной замене ими осужденных форм. Типичная для развития культуры борьба против устарелых форм и замена их нововозникающими в данной области особенно отстала. Та сила, которой суждено воплотиться в последних, пока, так сказать, в совершенно обнаженном
Георг Зиммель. Конфликт современной культуры 255
виде, непосредственно выступает против форм, совершенно поки-нугых подлинной эротической жизнью, впадая при этом в неоднократно нами уже подчеркнутое противоречие, обращается против фантома, так как эротика, поскольку она имеет какую-нибудь связь с культурной жизнью, требует всегда известного оформления. Только поверхностный взгляд может поэтому видеть здесь одну лишь распущенность и разгул анархических страстей, так как в этой области уже самая бесформенность создаст подобные аспекты. В глубине же, если таковая вообще существует, дело обстоит совершенно иначе. Настоящая эротическая жизнь протекает по совершенно индивидуальному руслу, и всякая оппозиция против нее имеет в виду вышеуказанные формы, ибо они втискивают в жизнь обобщенные схемы, насилуя ее особенности. Как и во многих иных случаях, эта борьба между жизнью и формой ведется менее метафизично, как борьба между индивидуализацией и обобщением.
Такого же истолкования требует, как мне кажется, и известное настроение, наблюдаемое в современной религиозной жизни. Я связываю его с явлением, наблюдаемым в течение последних двух десятилетий, а именно, что многие в высшей степени интеллектуально развитые люди удовлетворяют свои религиозные потребности мистикой. Относительно них в общем можно сделать предположение, что они воспитались в религиозных представлениях одной из существующих церквей. Их тяготение к мистике объясняется двоякими мотивами. Во-первых, тем, что формы, в которых религиозная жизнь развертывает свои определенно обрисованные картины, не удовлетворяют больше ее потребностям, а во-вторых, тем, что религиозная мечтательность не иссякает вследствие этого, а, напротив, ищет себе другие цели и пути. Благодаря переносу этих исканий в направлении мистики окончательно расторгается твердая форма и ограниченность религиозности известными пределами. В этой сфере божество выходит за пределы всякого личного и, следовательно, ощущаемого, как нечто частное, образа, здесь - религиозное чувство охватывает бесконечные дали, не сталкиваясь ни с какими догматическими гранями, углубляясь в бесформенную бесконечность и черпая силы для своего развития из мечтательного настроения души. Мистика, по-видимому, последнее убежище религиозных натур, неспособных окончательно освободиться от всякой трансцендентной формы, но достигших уже известной свободы от всякой формы, определенной в смысле содержания. Глубочайшая же эволюция, по-моему, имеет тенденцию растворить религиозные образы в религиозной жизни, в религиозности, как чисто функциональной настроенности того внутреннего жизненного процесса, из
256 Кулыурфилософские рефлексии
которого они возникли и еще теперь продолжают возникать. До сих пор развитие религиозной культуры шло путями, нами выше освещенными, а именно: кристаллизация религиозной жизни, первоначально вполне соответствовавшая ее силам и сущности, постепенно застывает в чисто внешнем и вытесняется новой формой, в которой непосредственно обитает динамика и современное направление религиозного импульса. Это значит, что еще теперь религия продолжает создавать известные образы, известные нормы исповедания на место себя переживших.
Ныне из психики многих людей раз навсегда исторгнуты потусторонние объекты религиозной веры, без того чтобы заглохла их религиозная вера. Но в жизни, до того проявлявшейся в создании новых адекватных догматических норм, отношение верующего субъекта к объекту его веры не имеет больше подходящего выражения. В том конечном состоянии, куда, по-видимому, ведет эта внутренняя перестройка, религия будет осуществляться как непосредственное творчество жизненных форм, не как отдельная мелодия в пределах жизненной симфонии, а как основная тональность, в которой она развертывается в целом. Все пространство жизни наполнится земным содержанием, мыслями и чувствами, действиями и судьбами, и все они будут проникнуты тем своеобразным, внутренним единством смирения и гордости, напряжения и мирного покоя, активности и созерцания, которое мы можем назвать только религиозным. И жизнь с таким содержанием будет иметь абсолютную ценность, раньше, казалось, принадлежавшую только отдельным ее образованиям, отдельным исповеданиям, в которые она кристаллизовалась. Предчувствие этого нового состояния, правда, в форме, еще связанной с мистическими представлениями, мы видим в стихах Ангелуса Силезиуса, освобождающих религиозную ценность от связанности с чем-либо специфическим и усматривающих ее в переживании самой жизни...
Святой, когда он пьет, Не меньше Богу угождает, Чем когда псалмы поет.
Дело идет не о так называемой «земной религии». Ведь и она связывает себя с известным религиозным содержанием, но только эмпирическим вместо трансцендентного, и отводит религиозную жизнь по каналам в известные формы прекрасного, возвышенного и лирически взволнованного, а на самом деле живет лишь замаскированными остатками трансцендентной религиозности. Здесь же вопрос идет о жизненном процессе, каждое биение которого про-
Георг Зиммель. Конфликт современной культуры 257
никнуто религиозным чувством о бытии, а не долженствовании, о набожности, которая, обращаясь на известные объекты, называется верой, в том смысле, в каком совершается сама жизнь, не ищущая для удовлетворения своих потребностей источника вроде того, как живописец-экспрессионист не удовлетворяет свои художественные потребности воспроизведением предметов внешнего мира, а ищет сплошной поток жизни на известной глубине, где она еще не разложилась на потребности и осуществления и потому не нуждается в «предмете», предписывающем ей определенную форму. Жизнь стремится высказаться религиозно не на языке с данным словарем и разработанным синтаксисом, а непосредственно. В виде мнимого парадокса можно сказать: душа хочет сохранить свою веру, потеряв веру во все заранее определенные религиозные нормы.
Этот уклон религиозных душ, зачастую проявляющийся в смутных попытках неясной для самой себя, чисто отрицательной критики, наталкивается на следующую глубочайшую проблему: жизнь, проявляя свою духовную сущность, может это сделать только в определенных формах и тем достигнуть свободы, хотя тем же самым актом она эту свободу ограничивает. Действительно, набожность или вера - это состояние души, данное в самой ее жизни, и которая несомненно получила бы известную окраску даже в том случае, если бы она не имела никогда определенного религиозного объекта, подобно эротической натуре, которая всегда сохраняла бы и проявляла свой характер так таковой, если бы никогда не встретила индивидуума, достойного ее любви. Все же для меня сомнительно, нуждается ли неизбежно в известном объекте воля, проявляющаяся в религиозной жизни, и не есть ли ее чисто функциональный характер, ее бесформенная сама по себе динамика, только и придающая окраску жизненной стихии и ныне представляющаяся последним смыслом стольких религиозных течений, не есть ли она случайная, в сущности говоря, идеальная игра, выражение того состояния, в котором существующие религиозные формы были опрокинуты и опровергнуты внутренней религиозной жизнью, без того чтобы последняя оказалась в состоянии заменить их новыми. Невозможность сохранить долее традиционные церковные религии при существовании религиозных инстинктов вопреки всякому «просвещению» (так как последнее похищает у религии только ее платье, но не ее жизнь) принадлежит к труднейшим проблемам современного человечества. Усиление этой жизни до полного самоудовлетворения, так сказать, обращение действительного залога религии в страдательный — заманчивый путь, который в конце концов приведет к не меньшему внутреннему противоречию.
258 Культурфилософские рефлексии
Так во всех этих и многих других явлениях обнаруживается конфликт, неизбежный для жизни, культурной в широком смысле слова, т.е. активно творящей или пассивно воспринимающей. Жизнь должна или создавать формы, или развиваться в определенных формах. Мы, правда, сами жизнь, и с этим связано неописуемое чувство бытия, силы и известной ориентации, но мы ощущаем это лишь в определенной форме. Эта форма в момент своего проявления относится к совершенно другому порядку и требует для себя самостоятельных прав и значения, тем самым обращаясь в какое-то сверхжизненное состояние. Таким образом возникает противоречие с самым существом жизни, ее текущей динамикой, ее судьбами и неудержимой дифференциацией каждого отдельного ее момента. Жизнь неизменно воплощается в формах, ей противоположных, вернее в одной форме. Это противоречие обостряется по мере того, как то внутреннее состояние, которое мы можем назвать жизнью, проявляет себя с неоформленной силой, а с другой стороны, самая форма в своем застывшем состоянии, со своими требованиями вечных прав, заявляет себя истинным смыслом и ценностью нашего бытия, в той же мере, в какой растет сама культура.
Жизнь, следовательно, желает того, что совершенно недостижимо для нее, она стремится проявить себя в своей нагой непосредственности вне всяких форм, однако все познание, воление, творчество может только заменять одну форму другой, но никогда самую форму жизни чем-то потусторонним для формы вообще. Все страстные приступы или спокойно подготовляемые нападения против форм нашей культуры, направляемые против нее силами жизни только как жизнь и исключительно по той причине, что она есть жизнь, — откровение глубочайших внутренних противоречий духа, поднявшегося до известной степени культуры, т.е. проявившегося в известной форме. И мне кажется, что из всех исторических эпох, в которых этот хронический конфликт принимал характер острого, стремясь охватить весь объем жизни9, ни одна не обнаруживала его в виде основного мотива и в такой мере, как наша.
Одни только филистеры могут полагать, что конфликты и проблемы существуют для того, чтобы быть разрешенными. И те и другие имеют в обиходе и истории жизни еще другие задачи, выполняемые ими независимо от своего собственного разрешения. И ни один конфликт не существовал напрасно, если время не разрешит его, а заменит его по форме и содержанию другим. Правда, все указанные нами проблематические явления слишком противоречат нашему настоящему, чтобы оставаться неподвижными в нем, и свидетельствуют с несомненностью о нарастании
I copi Зиммель. Конфликт современной кулыуры 259
более фундаментального процесса, имеющего иные цели, чем одно только вытеснение существующей формы вновь образуемой. Ибо едва ли мост между предыдущим и последующим культурных форм был столь основательно разрушен, как теперь, когда осталась одна бесформенная сама по себе жизнь, стремящаяся заполнить образовавшийся пробел. Столь же несомненно, она имеет своей целью создание новых форм, более соответствующих силам настоящего, - быть может, сознательно задерживая наступление открытой борьбы, - и заменяющих лишь старую проблему новой, один конфликт другим. Так выполняется настоящее предназначение жизни, которая есть борьба в абсолютном смысле, охватывающем относительное противопоставление борьбы и мира. Абсолютный же мир, который, быть может, также возвышается над этим противоречием, остается вечной мировой тайной10.
Примечания
1 Культура здесь противопоставляется не только чисто животной витальности, по и духовности, воплощенной в человеческих эмоциональных движениях и находящей наиболее полное выражение в процессах творчества. Жизнь иррациональна и самодостаточна; опа объективна и в объективности своего существования внеценностна. Факты жизни становятся ценностями лишь тогда, когда они превосходят рамки своего природного в себе существования и, будучи рассмотренными с точки зрения определенных идеалов, помещаются в культурный контекст.
2 Примеров тому множество: астрономия, первоначально служившая потребностям земледелия и мореплавания, начинает развиваться «ради себя самой»; социальные роли, лишаясь своего практического содержания, превращаются в театральные роли; политическая и экономическая борьба становится игрой и спортом; любовь, оторванная от непосредственных жизненных импульсов, принимает форму кокетства и т.д. Все это - примеры «чистой формы». Именно в зиммелевской философии культуры и раскрывается полный смысл этого понятия.
5 Г. Зиммель не называет имени первооткрывателя, но воспроизводимая им картина ясно показывает, что именно Марксова схема развития социо-экономических формаций послужила источником культурфилософского вдохновения Г. Зиммеля.
4 Центральной точкой всей «системы мира» Г. Зиммель назвал такую идею, которая воплощала в себе наиболее полно дух эпохи и в которой совмещались характерные для той иди иной эпохи бытие и долженствование. '
5 З'акая трактовка общества и индивида была свойственна многим концепциям натуралистической социологии конца XIX - начала XX в. См.: История буржуазной социологии XIX - начала XX в. М.: Наука, 1979. Гл. 4, 5. Отдал ей дань и Г. Зиммель.
260 Культурфилософскис рефлексии
6 Философия культуры Г. Зиммеля вобрала в себя традицию философии жизни от Шопенгауэра и Нишпе до Бергсона и Дичьтея; ее источником стал, кроме того, гегелевский идеализм с его диалектикой. В учении о бесконечной смене культурных форм и возвращении жизни к самой себе воплотилась ницшеанская идея «вечного возвращения»; в трактовке жизни как постоянного самовыражения, осуществляющегося в творчестве новых форм, бергсоновский dlan vital; наконец, от Дильтея Зиммель воспринял культурфилософскую ориентацию философии жизни в целом. 7 Г. Зиммель чутко подметил тотальный характер надвигающихся изменений: борьба, смутно видевшаяся ему как борьба жизни против всякой формы вообще, борьба жизни за возможность адекватного самовыражения вис форм и рамок, в действительности была борьбой .за кардинальное изменение существующего мира.
8 Основания познания (лат.).
9 Хронический конфликт это конфликт культуры и жизни. В «Философии денег» (Simmel G. Philisophie des Geldes. Munchen; Leipzig, 1922), опубликованной в 1900 г., Зиммель указал основные стороны конфликта современной культуры, но не сделал никаких выводов относительно перспектив его развития. Но в работах «Понятие и трагедия культуры», «Конфликт современной культуры» он уже отчетливо представляет себе специфику этого конфликта. «Согласно его принципиальной культурфи-лософской схеме, конфликт жизни и культуры, достигнув определенной степени остроты, снимается и заменяется другим по форме конфликтом, содержание которого тем не менее остается прежним: жизнь стремится выразить себя в культуре; культура, объективируясь, становится тормозом на нуги выражения жизненных импульсов, новое содержание которой вновь развертывает тот же самый конфликт». Это схема традиционного развития культуры. Конфликт же современной культуры обрел, по Зиммелю, уникальное содержание: своеобразной чертой нашей культуры, пишет он. стало то, что жизнь в своей чистой непосредственности стремится воплотить себя в явлениях и обнаруживает вследствие их несовершенства основной мотив - борьбу против всякой формы вообще, т.е. борьбу против культуры. Не только дух его теоретической концепции, но и анализ содержательных аспектов духовного развития эпохи показал ему, что крушение современной культуры будет фандиозным и несопоставимым по своим масиггабам со всем, что происходило в предшествующие периоды истории.
10 Г'. Зиммель приходит к понятию абсолюта. И приводит его к этому необходимость констатировать наличие тенденции «более фундаментального процесса», определенной направленности в бесконечной смене культурных форм. Эта тенденция, этот фундаментальный процесс собственно и есть искомый абсолют. Абсолют это история.
Перевод выполнен по изданию: Simmel G. Der Konflikt der modernen Kultur: Ein Vortrag. Munchen; Leipzig: Dunkerund Humblot, 1918.
Теодор Лессинг
Проблема культуры
Все вы куплены и оплачены! Я достаточно страдал, чтобы найти тот тон, который вы так охотно слушаете. Вы оболгали, хулили и мучили меня, чтобы требовать возмещения за доставленные вами мученья, за вашу хулу, за вашу ложь. А если вы окажетесь довольны силой гою крика, который вы извлекли, наступив мне на грудь, - скажите, как вы говорили вчера, позавчера и раньше: «Как мило кричит этот человек! Дружок, я заплачу тебе столько-то за лист, столько-то за песенку. Ной еще. Напиши еще что пибудь. Поболтай еще». ] ]ублика, я всей душой презираю тебя.
Мулыпатули
Когда Будда, сын короля Гаутамы, достиг вершины жизни и стоял у порога всех желаний, он, покоясь в золотом дворце в объятьях прекраснейшей королевы, прелестной Сиддхартхи, внезапно услышал страшный крик, крик из того мира, о котором он, рожденный в богатстве и блеске, опутанный законами внешнего мира и причинности, до сих пор ничего не знал. Это был крик серой жабы, самого уродливого и несчастного ночного замученного существа с глазами, полными немой жалобы, о котором народ говорит, что в его голове находится драгоценный камень, существа, которое может крикнуть только раз в жизни, в минуту смертельной опасности.
Будда не мог забыть этот крик отчаяния; он заставил его в конце концов признать всю тщету почестей и достоинств, отказаться от царства, от трона, покинуть милую жену и любимого ребенка и бродить |решником и нищим по собственным владениям, живя с убогими как убогий, отдать все и стремиться только к одному — узнать, как устранить жестокую нужду и страдание человеческих сердец. Сострадание людям изгнало Будду из дома и родины. Сострадание людям сопутствует и Ницше, великому судье сострадания,, презиравшему его на своем одиноком пути.
Блестящий круг высокоодаренных друзей - Эрвин Роде, тонкий изысканный ученый, Мальвида фон Мейзенбуг, вечно стремящаяся к высшему подруга, Овербек, Якоб Буркхардт и прежде всего Рихард Вагнер — все они остались в надежной, прочной сфере духа, пограничные знаки которой Ницше миновал, когда ощу-
262 Ку.тп.турфюософские рефлексии
тил всю иллюзорность ценности истины. Будем же сопровождать его в странствии, которое он при жизни вынужден был совершить без понимающих спутников.
1. Крушение жизни в знании (La fin du monde par la science)
Wissen ist Leiden. Wcrani rneisten weiss Beklagt am tietslen die unsefge Wahrheit. Der Baum des Wissens ist kein Baum des Lebens1.
К этой универсальной проблеме, проблеме истины, Ницше пришел на основе глубоко личных переживаний. Уже не в смысле старого вопроса Пилата: «Что есть истина?», а в смысле новой европейской ценностной проблемы: «Для чего истина?». «Fiat veritas, pereat vita»2 было девизом второго периода его жизни. «Fiat vita pereat veritas»3 было девизом последнего, когда ослабленная, теряющая силы, затухающая жизнь так же лихорадочно и односторонне цеплялась за существование, как цветущая жизнь и полная силы молодость способны приносить себя в жертву. Прослеживая развитие наук от эпохи Возрождения до Нового времени, мы можем прийти к мысли, что человечество постепенно гибнет от собственного разума! История, знание того, что произошло, — собственно, должно было произойти или фактически произошло - парализует нашу собственную способность к действию и принятию решений. Человек, которому все время приходится размышлять, раздумывать, рефлектировать о том, что же действительно истинно и хорошо, подтачивает свою способность к решению и действию. И это становится, по-видимому, неотвратимой судьбой души современного человека. Чем больше человек теряет счастливую наивность бездумного существования, чем больше он размышляет и знает о себе и о других, чем больше инстинктивное и импульсивное подпадает подлупу анализирующей и упорядочивающей достоверности, и мы уже не отдаемся с полной решительностью великому морю жизни и перестаем доверять всемогуществу инстинктов, тем менее трагичной, тем более уютной, мелкой, узкой и негероичной должна стать жизнь. Все великое требует страсти! А страсть - это фанатизм. Односторонний фанатизм. И пристрастность, ограниченность.
Сегодня великие фанатики прошлого, мученики своей веры в самом деле представляются нам «односторонними и ограниченными». Ведь мы в тысячу раз более зрелы и рассудительны, чем были они, и слишком умны, чтобы умереть от страсти. Мы научились рассматри-
Teonop Лессинк Проблема кулыуры
263
вать каждую вещь с десяти сторон. Мы видим насквозь все мотивы и отвергаем иллюзии, необходимые для каждого благородного деяния. Мы многое знаем о душе и жизни, но теряем наивное воодушевление, спонтанную способность к жертвенности и смерти, «великолепное мужество неведающего», как некогда Трейчке назвал то, что составляет сущность и преимущество незрелости. Наша жизнь знает в конце концов только единственную богиню: психологическое злословие. Там, где встречаются двое, они оказываются едины в недоброжелательстве и антипатиях и приходят к согласию по поводу души третьего. Полная любви преданность, великодушное приятие, личный пафос уже невозможны. Чем более зрелым становится человек, тем реже он испытывает воодушевление. Тем меньше сила его веры. Но разве вера, которая угасает под действием знания, как первобытные народы, соприкоснувшиеся с культурой, не составляет силу человека, единственное, что еще делает жизнь выносимой?
Вспомним о тех людях, которых современность, восхищаясь, чтит как свои образцы! В чем заключалась сила, в чем энергия, позволявшая им совершать великие деяния? Могу с уверенностью
утверждать, что в последнее столетие ни один писатель не завоевал авторитета в народе, если в его идеалах и учениях не угадывалось желание остановить уже пережитую в его собственной душе возможность гибели, мерцающее знание «интеллектуальной опасности», которая сегодня заставляет все мелкие и трусливые душонки жалобно взывать «sauve qui peut»4, нападать на прогресс и социализацию,
предвзято восхвалять романтические и индивидуалистические идеалы! Могу также утверждать, что те, кто до сих пор называл историю великой, обрели свое положение в силу превосходства невежества, в силу прочности их узкого горизонта, а уж отнюдь не из-за интеллектуальных преимуществ. Лютер, чьи высказывания о науке, разуме и культуре полны самых плоских и пошлых изречений, когда-либо порожденных тупой ограниченностью непоколебимого невежества, как культурная величина, как интеллектуальный человек, по своему благородству, тонкости и свободе мышления неизмеримо выше великих распутных пап дома Борджа и Медичи, с которыми он боролся, считая их «наместниками дьявола», между тем как они несомненно весело смеялись над тяжеловесной добросовестностью славного немца, столь серьезно относившегося к их ремеслу.
Бисмарк, герой политики, отвечая на вопрос о его любимых книгах,'пони мании искусства и о философском горизонте его духовных устремлений, признался, что никогда не выходил за рамки средней беллетристики и раз в жизни случайно попал в Берлинскую национальную галерею. В религиозных вопросах он был ни холоден, ни горяч. Ему был свойствен заурядный индифферентизм с религиоз-
264 Культу рфн иософские рефлексии
ными порывами от случая к случаю. И обычно он говорил, что «сознательно остановился на ступени определенной касты»; именно это спасло его от сомнений и проблем, давало ему здоровье и силу.
Наполеон в решающие моменты жизни, когда его искушали различные мысли и он терял покой, — хотя случалось с ним это не часто - оказывался наивным и суеверным! Даже в отношении к «эмпирическим наукам» он оставался настолько наивным, что, потеряв надежду обрести счастье на поле битвы, стал думать о том, чтобы впредь вместо военной славы пожинать лавры в области науки. Он вызвал Араго и спросил его, сколько месяцев нужно, чтобы научить его всем премудростям естествознания, чтобы стать «великим естественником».
Не сомневаюсь, что в наши дни в любом маленьком университете найдутся две дюжины ученых, которые знают о жизни и душе больше, чем Лютер, Бисмарк и Наполеон вместе взятые, и знают о Лютере, Наполеоне и Бисмарке больше, чем те сами могли знать о себе; но от этого они не стали ни Лютерами, ни Наполеонами, ни Бисмарками!
Сущность их величия заключается в том, что шоры заставляют взгляд идти только в одном направлении, по которому двигают незначительную массу апперцепции с величайшей душевной энергией и интенсивностью. Такова сущность этого величия! Но существует и другое, особая ценность которого в множестве и многообразии точек зрения, в многосторонности и одинаковой оправданности интереса и в бесконечной широте способности адаптации и понимания. И, быть может, этот вид величия будет свойствен человеку будущего. Однако сегодня нам кажется, что в этом величии общей справедливости и общего приспособления заключается нечто бесплодное, вялое, безбрежное по сравнению с той односторонней детерминированностью всей жизни, которая протекает в твердо обозначенных, уверенно установленных традициях и в твердо очерченных формах и законах! Создается впечатление, что в подобных многосторонних, трудно постижимых натурах, чье мнение никогда нельзя свести к одной точке зрения и к границам определенной точки зрения, так как каждое убеждение, предполагая исключительность, в чем-то оказывается искаженным и неправильным, - что в подобных натурах меньше «синтеза», «субстанции», «продуктивности». Так кажется! Ибо наше близорукое зрение видит путаное сочетание различного, точка соотнесения или единения которого лежит для него слишком глубоко или слишком далеко. К тому же дело не в «единстве», а в полноте и широте объединяемого!
Однако чем больше будет когда-нибудь полнота и широта наших возможностей, которые сосуществуют в душе и должны быть
Теодор J 1ессинг. II роблема культу ры 265
объединены, тем реже будет происходить и тем труднее окажется процесс образования и формирования, образ и форма!
И создается впечатление, что высшая сила человека, созидание, в самом деле противоречит другой его силе, пониманию. Поэтому глубокий смысл всех мифов превращает провидцев человечества в слепых. Те же, кто заглянул за покров сансской богини, «умирают без деяний и наследника»!
Величайший знаток человеческих душ Нового времени изобразил этот типичный конфликт современного человека в гениальном образе Гамлета, человека больной воли, который маскирует болезнью духа истинное душевное расстройство и представляется безумным только для того, чтобы не действовать, тогда как его истинное безумие воплощает в себе болезнь современной жизни, болезнь «абулии», душевного состояния, при котором у рефлектирующего человека столько возможностей действия, столько опасений и взвешиваний исхода этих действий, что он не может решиться ни на одно из них! Но это состояние возможно лишь при парализованных или двойственных инстинктах, тогда как у нормального человека все действия совершаются под влиянием импульсов, а рассудок осуществляет лишь двойную функцию: с одной стороны, служит импульсам факелом, с другой — задним числом оправдывает совершенный выбор. Если бы большинство наших поступков не вызывалось неосознанными мотивами, инстинктивными привычками и обретенной уверенностью и мы были бы вынуждены предвидеть исход всех наших дел, мы, вероятно, не могли бы жить. Для жизни понадобился бы такой огромный запас сознательной энергии, что мы оказались бы в положении человека, который постоянно вынужден привыкать к новому окружению, к непривычным раздражениям, меняющимся привычкам; это исчерпало бы нашу способность к приспособлению и в конце концов привело бы к безумию. Тот же, кто всегда и повсюду ощущает свою ответственность, должен наконец (и чем он утонченнее, тем раньше) стать вечно размышляющим, борющимся, отчаявшимся человеком! Инстинктивная, спокойная уверенность действия утрачена нравственным человеком. Перед ним возникает слишком много непредвиденных, непривычных задач, к которым он еще не готов, так как у него отсутствуют соответствующие привычки и инстинкты; более того, он должен сначала уничтожить, забыть и устранить сформировавшиеся под влиянием совсем иных побуждений и условий жизни инстинкты, чтобы, быть может, суметь сознательно создать новые. Однако и это слишком трудно, ибо окружение современного человека очень часто меняется. Он должен принимать решение от случая к случаю, на него обрушиваются тысячи
266 Культу рфнюсч>фские рефлексии
непредвиденных апорий, конфликтов, трудностей, каждая из них открывает доступ тысячам еще более изощренных апорий, конфликтов и трудностей, которые никогда и не снились его отцам и матерям, жившим в узком кругу традиций, следовавшим обычаям и от века привычным, застывшим в религиозности ценностям. В той мере, в какой наша жизнь регулируется уже не этим наследием старого сознания, т.е. чувством религиозных ценностей, а сознательными решениями, иными по своему характеру, поскольку жизнь становится индивидуальной, нравственной, социальной, следовательно, преисполненной ответственности, в нее неизбежно проникают беспокойство, противоречия и трагизм. И цель всякого стремления к удовольствию, желание создать определенные привычки, сферу жизни, сформировать «характер» вступает в резкое противоречие со сферой нравственной ответственности. Тем самым человек деклассируется, теряет равновесие и корни по мере того, как растет его чувство, направленное на других, и он оказывается в точке пересечения очень многих и очень различных сфер жизни. Ибо изречение Гёте: «Талант формируется в тиши, характер - в гуще мировых событий» совершенно неверно! Талант прекрасно может сформироваться и в гуще мировых событий, но «характер», который, правда, может быть испытан в миру, формируется только в узких границах консервативных кругов. Таким образом, каждая вышедшая из консервативных традиций и жизненной сферы старших поколений душа неизбежно должна прежде всего «воспринять какие-то черты Гамлета», которые придадут «врожденной окраске решения бледность мысли»!
Может быть, этот душевный конфликт (который типичнее всего для русской культуры, ибо в ней наиболее интенсивно и без органического развития самые древние влечения столкнулись с самыми современными интеллектуальными ценностями, самые древние инстинкты - с самыми современными формами жизни) наиболее удачно показал Гончаров в образе Обломова. Черты Обломова присутствуют и в Ницше. Однако наряду с Гамлетом и Обломовым есть еще третий тип современного человека, олицетворяющего в себе проклятие позднего этапа в развитии культуры. Он также известен Ницше. И от него есть многое в его душе. Это тип «критического человека», человека без защитной жизненной оболочки! Существуют натуры, чья жизнь рушится оттого, что они слишком «истинны». В процессе роста почка органического чувства уже разрывается. Кто постоянно вынужден мыслить обо всем, что в нем происходит, и не может ждать в тиши, пока познанное не сгустится и не упрочится, тот приносит несчастье и сам становится жалким. Не все говорить, никогда полностью не отдаваться, проявлять сдер-
Теодор Лессиик Проблема кулыуры______________________ 267
жанность, дипломатию - это искусство жизни, политика жизни. А люди, которые этому искусству не научились, - как охотно они вещают о стиле, форме, о сдержанности. Но высшее проявление дисциплинированности во внешней жизни часто служит только компенсацией тенденции к общению человека, каждую минуту готового отдать всю душу. Есть натуры, которых уже невысказанная тайна заставляет страдать. И все-таки с этими «фанатиками истины» никогда не знаешь, что в них действительно исключительная честность, что просто слабость и распущенность! Иногда требуется большая сила, чтобы говорить, иногда — большая, чтобы молчать. Нередко каждое сказанное слово становится проклятием и судьбой. А тот, кто привык все высказывать, подобен журналистам и вещающим с кафедры ученым и неизбежно окажется внутренне опустошенным. К тому же он, как и все, кто много говорит, много лжет!..
«Если истина, — говорит Гоббс, — когда-либо вступит в конфликт с жизнью, то жизнь вследствие этого вскоре обратится против истины». Религия, мистика и романтика - в крови человека, как ужас, как страх. Предрасположения, заложенные в Ницше многими теологически настроенными предками и усилившиеся в юности под влиянием Шопенгауэра и Вагнера, были изолированы, отодвинуты и опустошены в его душе, но их нельзя было заставить умолкнуть и исчезнуть; а так как в старости следы впечатлений юности сохраняются дольше всего, и каждый человек начинает в конце жизни вновь жить представлениями и чувствами детства, то в душе Ницше, когда он заболел, обремененный идеалами своего знания, сломленный одиночеством и брошенный всеми, наконец проснулась давно забытая юность. Следуя нехоженой тропой, через все ледники и глетчеры, он все-таки проложил свой путь к возврату! Но лишь для того, чтобы, изменив во второй раз, погибнуть в этой второй молодости (поздней осени, которая перед концом цветения принимает образцовой весны).
В 1750 г. дижонская Академия наук объявила конкурс на тему о влиянии искусств и наук на развитие человека. Академия ожидала, конечно, что участники конкурса воздадут обычную хвалу «науке и искусству» и докажут их необходимость и значение для человеческого рода. Однако среди присланных сочинений оказалась парадоксальная работа молодого автодидакта, который до той поры едва сводил концы с концами, занимаясь перепиской нот*, довольствуясь положением слуги, домашнего учителя и музыканта; его имя было Жан-Жак Руссо. Его работа была премирована - неожиданное странное исследование, в котором доказывалось, что влияние науки и культуры в корне испортило человечество, что культура превращает невинную и чистую Г amour de soi5 в
268_____________________________________Ку. 1ыурфил<>соф€кие рефлексии
эгоистичное и порочное Г am our propre6, что повсюду, где собирается много людей, моральная атмосфера портится, и только «возврат к природе» может вернуть благо и свободу, а также счастье! «L’dtat de inflexion c’est un dtat contre la nature»7.
«Если природа предназначила нас быть здоровыми, то я могу почти утверждать, что человек, который мыслит, -- выродившееся животное». Таково мнение Руссо! Мнение, подобное тому, которое высказывает дикарь, обратившийся к спутнику Стэнли со следующими словами: «Ах, бедный бледный брат, как мне жаль тебя, ведь ты ни на одну минуту не можешь совсем ничего не думать». Это понимание высказывалось уже старыми немецкими историками, утверждавшими, что чрезмерное занятие науками парализует «воинственный дух», что избыток знания делает немца «слабовольным и бессильным» и что тот, кто обладает мужеством, не нуждается в учености. Поэтому лишь хилые потомки древних феодальных родов предназначались для духовного сословия, которое в те времена связывалось с образованностью. Если мы подумаем о состоянии здоровья наших великих поэтов и писателей, то известная истина как будто и в самом деле оказывается в том, что дух — это жизнь, которая врезается в жизнь, а познание — не что иное, как обращенная против себя самой воля. Поэтому легко понять натуры, которые при виде здоровой радости наивных людей ощущают присущий им избыток критического и скептического мышления как недостаток, часто склоняются к тому, чтобы видеть идеал в «здоровом варварстве», в не ведающей препятствий активности. В этом состоит также психологическое объяснение того странного обстоятельства, что подобные реакционные склонности были всегда свойственны именно сатирическим умам. Тацит, Ювенал и Аристофан прославляют невинность и великолепную силу варваров, исходя из того же мотива, что Руссо или Ницше. Именно во времена широко распространенной образованности происходит странное обесценивание учености и духовности, что, в свою очередь, выражается в подчеркивании эстетических интересов. В самые темные времена такие педанты, как Скалигер и Исаак Касобон, или такие теологи, как Беллармин и Мариана, почитались больше, чем Александр и Цезарь! Сегодня же господствуют интеллектуалы. Именно поэтому человек, который тянется к духовности, вновь отделяется от человека, который уже опять хочет уйти от духовности и, подобно Руссо, считает: «La уёгйё пе fait pas autant de bien au monde que ces apparences au font du mal»s. Таким образом, дело всегда не в объективном содержании наших поступков, а в их психологическом значении для определенной эпохи и определенной жизненной сферы. Ибо то, что, по мнению
Теодор Лессинг. Проблема культуры__________________________269
людей, в каком-либо определенном случае необходимо или вредно, они называют хорошим или дурным...
Пессимистическое отношение Руссо к культуре неизбежно должно было привести к той «переоценке всех ценностей», которую последовательно совершил Ницше! У Руссо не хватило для этого ни смелости, ни последовательности! Он, правда, уже обвиняет культуру, но хочет все-таки одновременно сохранить ее преимущества и оставляет лазейку. Руссо выходит из положения, пользуясь оборотами, подобными тому, которое я заимствую из его письма Вольтеру. Культуру можно сравнить с ужасным мечом, воткнутым в молодой, здоровый ствол. После того как железо вошло в дерево, его никоим образом не следует вытаскивать, ибо тогда дерево погибнет. Но все же было бы лучше, если бы железо никогда не входило в дерево.
Таким образом, Руссо отличает странная половинчатость. Отвращение к культуре приводит его, как и Толстого, к аскетическим и христианско-трансцендентным идеалам. Для Ницше именно эти ценности являются продуктом направленной по ложному пути, искаженной природы, усталой, больной, декадентной жизни, которая в конце концов обращается против самой себя и в сознании своего бессилия отрицает себя.
Руссо отнюдь не первый сторонник этой теории усталости от культуры и знания! У всех скептиков и мистиков, от Агриппы Неттесхеймского до д’Аржана, обычны такие названия книг, как «Docta ignorantia»9, «Vanitas scientiaruni»10, «L’incertitude des sciences»1’, причем именно люди южного духа, столь любимого Ницше, нередко объявляют знание опасной болезнью, «чумой рода человеческого», как любезно называл его старый пражский аббат Иероним Хирнхеймский. «Может быть, дух, может быть, сознание -это болезнь, — писал Ренан, — так же, как жемчужина, самый прекрасный, блестящий продукт раковины, является все-таки болезнью моллюска».
Может ли случиться, что если не отдельный человек, то человечество как целое в конце концов когда-нибудь погибнет от этой болезни! Культура, постепенно превращающая все вулканические душевные страсти в песок сухого, трезвого знания, дробя на мельницах учености образы фантазии и грез, может, пожалуй, прибавить человеку знания за счет того, что он утратил в жизни, ибо знание жизни — лишь прошлая, убитая жизнь, и ученость охраняет трупы наших опытов, для которых затем искусство сооружает саркофаги. Всякая форма убивает, всякое знание связывает! Мысль, -так сказано в бесчисленных беседах Будды, — убийца жизни. Ученик должен убить убийцу. Только тогда он покинет область Асата, ложного, и придет в царство Сата, истинного.
270
Культурфмитософские рефлексии
Из такого рода настроений должна расцвести романтика! Новая, биологическая романтика Ницше! Ибо романтика - всегда бегство от трезвого настоящего, боязнь его. Она — восхваление прошлого, будь то Индия, Эллада или Древняя Германия. Современный человек мечтателен, сентиментален. Мораль должна дать ему ореол святости, философия - искусственный костыль. Но этому внутренне раздвоенному логику противостоит другой - наивное дитя природы с ясным взором, свежим, как ручей, который, журча. течет с гор и принадлежит только самому себе, как тихое облако в летнем небе, как жеребенок или корова на пастбище, как цветок, как ребенок. У Ницше, как и у Руссо, всегда выступает этот пригрезившийся им «гармоничный человек» античности! Fortis et in sese totus teres atque rotundes12. Над нагими телами этих играющих людей не проносятся пятнающие их сны или мрачное вожделение. Их не сломил духовный экстаз. Мы же, собственные мучители и палачи, до тех пор поднимаемся к духу, пока не доведем себя размышлениями до утраты жизни. Те люди не ведают разлада между душой и телом. Поэтому они и не ведают нашей беспредметной тоски, нашей любви к природе, высокомерного бессилия духовных миров. Но когда они касаются земли, они слышат дружественный отклик, а там, куда они посылают свои чистые взоры, их добычей становятся чудеса в точно ограниченном, только для них созданном космосе, их воодушевляет доверие к жизни, тогда как мы в скепсисе и неуверенности пристально взираем на немую бесконечность и безнадежную гибель всей жизни! Им нечего скрывать, нечего преодолевать; нас же, скованных одиночеством, повсюду подавляет беспредельность, и лишь клочья чуждых культур прошедших тысячелетий милосердно облекают нашу недостойную наготу. Если бы скульптор наших дней выставил на рыночной площади наших самых прославленных героев обнаженными, то мы оскорбленно отвернулись бы или в потрясении признали бы, что более высокий уровень нашей жизни в одном направлении означает ее понижение во многих других.
Все стало слишком серьезным и слишком трудным, лишенным смеха, лишенным веры. Иногда лишь облегчают наше бремя безрадостные слова, сопровождаемые шепотом нечистой совести, о том, что они затрепаны и бесполезны и уже неспособны нести тяжесть собственного одиночества...
Я думаю, что вы все (хотя, быть может, и в более узкой сфере) испытали сегодня подобные сомнения в том, что вам предлагали как высшие ценности образования и идеалы культуры. «Откуда, собственно, пришли эти блага образованности? — научились мы спрашивать. - Что их источник — биологическая сила или ела-
Геодор Лесею». Проблема кулыуры____________________________271
бость? Откуда дух? Откуда мораль? Откуда сострадание? Откуда вся эта расслабленность по отношению к мелкому, беспомощному и слабому?» Быть может, духовный человек просто «с трудом убежавший», скрывающийся в углу, прячущийся в Боге и острогах? Не есть ли esprit13 правовое основание духовного бессилия? Быть может, проповедник сострадания к слабым и сам слабый неудачник, нуждающийся в сострадании? Быть может, каждый учит тому, что ему самому необходимо? Присмотримся к тем, кто обладает духовностью, проявляет сострадание, моральные качества и добрые чувства!
Остряки горбаты. Остроумен русский, ирландец, еврей. Им слишком долго приходится ходить сгорбленными. А великие проповедники сострадания, филантропы, испытывающие ко всему сострадание? Где они скрывают свою тайную рану, свое сочувствие себе, свою болезненность, свое презрение к себе? Кто они -избитые рабы, как Эпиктет, чахоточные, как Спиноза, уроды, как Сократ, слабые, как Иисус? А эти мудрые, эти болтуны! Разве Цицерон, Демосфен или Эразм не самые трусливые представители человеческого рода? И наконец, художники, поэты! Быть может,
они приносят оправдание исковерканному человечеству звучащими строфами? Или это просто стонет в них испытывающее половое влечение животное? Или поет их изощренная глупость? Ведь говорят, что первая лира была изобретена, когда на череп быка случайно натянули несколько кишечных струн. 11ри этом открыли, как красиво звучит пустой череп. А потом? Ах, потом научились изготовлять чернила - из чернильных орешков!.. Врач Хуфе-ланд как-то сказал: «Писательство женщин - это преображенное половое влечение. Родив ребенка, женщина становится умной!» То, что нас отталкивает в этой грубой уродливой форме, Ницше самым изощренным образом переносит на все явления культуры и морали. При этом он опирается на новую метафизику воли, которую он надеялся сообщить миру в своем незаконченном последнем произведении, в «Воле к власти». «В конечном счете каждое существо хочет обрести власть, или, что то же самое, удовольствие. Заселить весь земной шар своим родом и подчинить своему жизненному интересу. Ценности же, идеалы, истины являются лишь средствами для того, чтобы расширить сферу власти своего Я. Поэтому можно и надо идти от этих ценностей, идеалов и истин обратно к природе этого Я, которое нуждается для утверждения своёй жизни именно в этих ценностях, идеалах и истинах. Так, например, слабый человек, не обладающий качествами, необходимыми для того, чтобы сохранить или добыть свою собственность, оказывается в наилучшем положении, если он “благороден”, “самоотвержен” и “альтруистичен”, если он растроганно
272 Кулыурфикмгофск’ис рефлексии
вещает, что "грубое”, "земное”, "материальное” должно быть радостно отдано и распределено». Всякая этика в конечном итоге — вопрос власти. Дело лишь в том, кто должен обладать властью. Но и это решение зависит не от нас. Ибо наши идеалы мы используем только как орудия жаждущей наслаждений и жизни воли. Дух, мораль, искусство и религия - орудия воли! Ryx — оружие власти биологически ослабленных. Мораль - защита неудачников. Искусство - вынужденный выход, лазейка, утешение стесненных и тоскующих. Религия - стигмат души, вынужденной уйти в себя, испытавшей удары, убежище для усталых нервов, суррогат для тех, кто страдает от голода, бессильно жаждет жизни! Наука же, которая в конечном счете познает и, познав, обесценивает все эти средства обмана удовлетворения воли к власти, парализует и истощает саму волю к власти, ведет к гибели власти в мудрости, к «апо-катастазису» древней гностики. А это — умерщвление всей жизни в истине.
Вспомним здесь еще раз о великом лондонце! Испробовав все логические и нравственные парадоксы людей fin de stecle'4, Оскар Уайльд пропел свою блестящую и скорбную жалобу о «крушении иллюзии», о крушении мягко одурманивающей и нежно обволакивающей лжи! Слово красота (Schonheit) происходит от видимости (Schein). А видимость — это жизнь, вся жизнь — лишь видимость! Поэтому патетическое утверждение, «истина любой ценой», враждебно жизни, т.е. безнравственно. Поэтому величайший моралист Кант — самый безнравственный этический философ.
«Если мы видим, что в дом проникает человек, о котором известно, что он может убить живущих в доме, то и тогда на вопрос, дома ли человек, которого ищут, пожалуй, лучше не ответить, чем сказать заведомую ложь». — Смешно! Такой вымученный пафос честности, отказывающийся даже от лжи во спасение, - в конечном счете тупик перед лицом действительности, которая существует только благодаря видимости и лжи и для которой везде и повсюду значима мудрость старого Пикколомини: «...что не всегда возможно столь детски-чистым в жизни оставаться, как учит совесть в глубине души». Можно пойти и дальше. Можно спросить: разве ложь не есть благородное искусство, а всякое искусство — не благородная ли ложь? На примере самых способных моих учеников я всегда замечал справедливость слов Готфрида Келлера, который говорит о себе в «Зеленом Генрихе», что интенсивная внутренняя жизнь всегда выражается в некотором хвастовстве и выдуманных историях! И очень немногие люди преодолевают это детское свойство. Очень немногие достигают строгой деловитости, которая больше не верит в то, чего она хочет, и чаще впадает
Теодор Лессинг. Проблема культуры 273
в заблуждение, считая неприятное более вероятным. Наслаждение жизнью в грезах и фантазиях, конечно, не полнее, но значительно чище и спокойнее, чем восприятие грубой действительности со всеми ее мрачными сторонами и неприятностями, где пережитое наслаждение обычно влечет за собой исчезновение вожделения...
Все это — романтические, индивидуалистические, религиозные, эстетические, т.е. несоциальные, нерациональные,реакционные идеи, рожденные нашим умом. Они столь же симптоматичны и, быть может, столь же необходимы для людей поздней культуры, как интеллектуальные и социалистические идеи для новых движений молодых. В начале Новой истории господствует наивное доверие к мышлению! Знание содержаний сознания, cogito ergo sum15, было исходной точкой современной философии. Однако то, что есть первое для познания, для действительности, быть может, — последнее! Сегодня для нас знание стало тупиком, «цветением» жизни, которое, как каждое цветение, есть гибель. Оба эти полюса мы проиллюстрируем словами в одном случае Гейлинкса, в другом - Вико. Гейлинкс высказывает глубокую мысль: «Ubi nescis quomodo fit, tu non facis»lh. Другими словами, он ищет нашу сущность в знании наших деяний!. Вико же утверждает прямо противоположное: «Ното поп intelligendo fit omnia», «Человек совершает все, не зная».
То, что высказано в этих двух положениях, не есть познание. Это — последняя возможная оценка. Мы действительно знаем только тогда, когда мы верим, что знаем. «Denique nil sciri si quis putat, id quoque nescit an sciri possit, quoniam nil sciri fatetur» — так гласит мудрое изречение Лукреция, содержание которого Спиноза излагает в следующих словах: «Кто же может знать, что он в чем-либо уверен, если он не был заранее уверен в нем?»...
Эти пленяющие и лишь с трудом поддающиеся словесному выражению мысли мы должны вновь пережить, черпая их в душе Ницше, — самые тонкие, самые смелые мысли, которые только может дать эстетическо-индивидуалистическое воззрение на жизнь. Но это воззрение на жизнь не наше! - Пусть все жизненные миры и возникают из слабости и лжи. Этим еще не доказано, что они сами слабы! И пусть даже жизнь — что я считаю безусловно верным — истощается в мышлении и бесцельно уничтожается » истине. Разве это свидетельствует против мышления и истины? Это означает, что нам надо научиться спокойно умирать, так же, как сильные еще не лишены возможности радостно жить...
2. Философия нужды
Von alien gutcn Schwingen Zu brechcn durch die Zcit, Die machtigste im Ringen, 1st doch ein grosses Leid17.
«Сломан и уничтожен прямой ствол небольшой веткой. Так будет сломлено и уничтожено все наше стремление и воление в его прямом направлении. Это происходит однажды, затем вновь и вновь. Однако из этого и только из этого мы обретаем способность, благодаря которой превосходим все, полет вдаль от вещей, полет далеко за их пределы. Поэтому мы должны овладеть крестом, ибо в нем смысл жизни. На кресте был распят Бог. Тому, кто познал это, будет трудно это высказать, ибо подобное требует молчания. Но истинно и несомненно только это, все остальное составляет лишь сомнения и вопросы. Следовательно, тебе не дано ничего, кроме силы твоих страданий. Но именно в этой силе Бог. Пусть знаком этого будет крест!» Этими замечательными словами поясняет юный Генрих фон Штейн символику креста, под знаком которого сложилась современная культура: символика креста. Я хочу принять ее в качестве девиза моей теории культуры, в смелости и опасности которой я отдаю себе отчет; обоснование же и проведение ее я надеюсь дать в другой связи с помощью более строгих научных средств, чем это доступно в популярной работе.
Всякая культура - это процесс логизации, т.е. логической связи жизни! Всякая логизация - продукт необходимости, т.е. она предназначена для того, чтобы предотвратить нужду! Всякое возвышение к культуре - результат страдания, символ его - крест, на котором человек становится Богом! Таково основное содержание ницшевского понимания культуры. Но именно поэтому оно направлено против культуры. Из всех «видов нужды», цивилизовавших, воспитавших, социализировавших или интеллектуализиро-вавших инстинктивную жизнь человека, я выделю здесь только одну-единственную, которая, как мне кажется, находится в особом, тесном отношении ко всему развитию культуры и к природе того, что мы называем жизнью. Я имею в виду расходование тепла. Борьба с холодом в мировом пространстве, медленное охлаждение Земли, «открытие» огня — это представляется мне самым важным достижением культуры! Можно установить необычайно далеко идущую связь между интеллектуальностью души, т.е. сознательной организацией жизни, и климатическими условиями. То, что я имею в виду, уже намечено в грубом и поверхностном изложении
Теодор leccinn. Проблема культуры________________________________275
в нескольких фразах, которые Гёте записывает в свой дневник в Неаполе в 1787 г. «Из-за того, что природа заставляет северян заботиться об устройстве своей жизни... лучшие дни и часы отнимаются у наслаждения и используются для труда. Каждый, кто не хочет погибнуть, должен иметь свое хозяйство. Вопрос совсем не в том, хочет ли он обойтись без него, ему не дано хотеть этого, ибо он не может обойтись без него; природа заставляет его создавать, трудиться... Безусловно, влияние природы, остающееся без изменения на протяжении тысячелетий, в ряде отношений определило характер столь достойных уважения северных народов». Мы можем здесь ограничиться указаниями на то, что вегетация, анимализация и, наконец, логизация возникали аналогично постепенному охлаждению слоев Земли и что начало органической жизни, быть может, относится к так называемым периодам холода. Это придает картине, которую мы использовали для иллюстрации ницшевского осуждения научности, очень своеобразное значение. В предшествовавшей главе мы сравнивали интеллект с накопленным механическим теплом, с запасами угля и алмазов, являющихся «осадком» солнечной энергии далеких дней! И подобно тому как углерод, этот продукт гниения и сожжения, в качестве выразителя активной некогда энергии необходим для всякой растительной жизни, также, полагали мы, умственная энергия составляет, с одной стороны, продукт сгорания животной энергии, с другой — огромный склад запасов, искусственный, косвенный источник тепла и ресурсов жизни. И эти ресурсы жизни, жизненная форма которых — наука, государство, язык, короче говоря, все логическое или социальное, является продуктом страдания от холода и страха гибели, превратившего жаждущих власти эгоистов в социально мыслящих родителей живых существ, хладнокровных - в теплокровных, ослабленное стремление к самосохранению — в стремление к самосохранению второй потенции в симпатический или социальный инстинкт. Но если дело обстоит таким образом, что все интеллектуальное, вся та сложившаяся в сознании людей логическая или объективная сфера, парящая над жизнью и формирующая жизнь, — если эта жизнь потенциальной духовности должна мыслиться как эквивалент использованной витальности, быть может, даже как высшая интенсификация механической энергии, то ис^зает страх перед многочисленными теориями гибели и израсходования ресурсов, которые утверждают, что охлаждение Земли или увеличивающиеся пятна на Солнце приведут к гибели людей. Именно это охлаждение нашей атмосферы, и ничто другое, позволило нам найти средства для его предотвращения, и оно превратит нас в дальнейшем в духовные существа!
276 Кутплурфичософские рефлексии
В этом ходе мыслей заключено важное противодействие страху перед развитием культуры и знания, всем сетованиям о гибели и декадентстве, которые так распространились именно под влиянием Ницше!
Так, например, врачи и естественники порицают развитие гигиены, увеличение комфорта и безопасности нашей государственной жизни. Они утверждают, что таким образом сохраняется все слабое, больное, которое при нормальном естественном отборе погибает.
Но ведь все обстоит как раз наоборот! Не гигиена создает слабых людей. Угроза бедствий, стоящая перед существами, необходимо создает гигиену, без которой они бы погибли. Можно вместе с Ницше жалеть об этом! Но не существует крыльев, которые не выросли бы из бедствий! И то, что, с одной стороны, достойно восхищения как способствующее жизни, как высшая форма витальной энергии, может, с другой стороны, с полным основанием считаться следствием нужды и ложью в жизни. Исходя из общих гносеологических соображений, можно утверждать, что в том случае, если психические процессы были бы весомы, с логическим следовало бы сопоставить психический эквивалент таким образом, чтобы каждому приросту сознания соответствовало открытие в жизни души, чтобы земная жизнь и душа стали эквивалентами друг друга и отмиранию материи или охлаждению Земли мог бы соответствовать процесс осознания этого человеком.
После того как такой известный ученый, как Фехнер, завоевал в науке право на существование натурфилософской фантазии, мы можем считать и для себя дозволенным следовать ходу его мыслей, основания которых, правда, могут быть выявлены в другой связи, нежели представлено здесь. Следовательно, если нам дозволено решиться рассмотреть эту очень общую проблему культуры в космическом аспекте, мы укажем хотя бы на геологическую гипотезу Шарпантье, которая составляет своего рода pendant18 моему пониманию культуры как периодического возвышения к «смерти в интеллекте» и упадка достигшего высочайшего уровня технологического вида человека или его конечного типа. Я имею в виду утверждение, что каждое земное полушарие подчинено 21-тысячелетнему периоду охлаждения. Геология наших дней констатирует уже пять подобных катастрофических ледниковых периодов (Штейнман). Огромные сдвиги масс в течение эгих периодических зим мира, длительность которых приравнивают к шести тысячам лет, должны иметь непредвидимые последствия для человеческой культуры. Вполне вероятно, что если там, где сегодня стоят крупные города, будут покрытые льдом моря, а там, где теперь охотятся за китами, возникнут новые, совсем иные культуры, исчезнет все знание современной Европы, и
Теодор Лессинг. Проблема культуры 277
наш род если и не вымрет, то падет до уровня культуры лапландцев и эскимосов. На основании астрономических данных считалось, что последнюю высшую точку холода на нашем полушарии можно отнести к XX веку до Рождества Христова, а высшие градусы тепла последнего времени - к ХШ веку нашего летоисчисления, следовательно, к концу средних веков. Однако для нас здесь совсем не важны точные причины и доказательства подобных периодических охлаждении. Их можно объяснять вместе с Адемаром теллурическими процессами, такими, как продвижение равнодействия, земными, как отклонение Гольфстрима; вместе с Кроллем — регулярным отклонением орбиты Земли. Замеченные следы ледникового периода можно отнести к локальным причинам или прибегнуть к самым отдаленным космическим гипотезам - нам достаточно указать на тот эмпирический факт, что между возникновением культуры, т.е. прогрессирующей логизацией энергии, и этими космическими фактами существует связь! На это указал уже Кант в своей «Всеобщей естественной истории и теории неба», где он написал следующую странную фразу: «Сравнивая нашу бессильную эпоху с древностью, можно, пожалуй, прийти к предположению, что и здесь произошло охлаждение того огня, который прежде оживлял природу и интенсивность которого была страшна как по своей необузданности, так и по глубоким воздействиям». Между тем, вопреки предположению Канта, этот огонь отнюдь не погас! Он трансформировался. В начале развития происходят страшная борьба за существование, страшные бедствия, властно расточающие примитивные зародыши, позволяющие в жестоком выборе лишь немногим сохранять существование и размножаться. Это необходимо, чтобы внедрить жизнь в сферу духа. Но чем больше мы приближаемся к этому конечному состоянию развития, тем менее достаточной становится грубая борьба за существование, и выбор и борьба происходят в более тонких сферах.
Подобно тому как мы впоследствии научились накапливать в резервуарах воду, использовать течение рек и ветер, короче говоря, любой вид энергии или действия, происходила и происходит в достигнутой духовности человеческого рода неслыханная конденсация и накопление жизни. Огромный клад древних символов, мудрости и науки воплощает постоянно растущий в течение жизни всеобщий дух. Поэтому Кант не прав, устанавливая теорию затухания жизненного огня. Человек поздней культуры ничуть не менее аффективен, чем примитивный доисторический человек! Его инстинкты связаны, логизированы, и если его жизнь кажется менее динамичной в своем могуществе, то зато она длительна и более интенсивна. По экспериментам над животными мы видим, что мозг способен компенсировать уничтоженные рефлексы, что спинной мозг
278
Культу рфилософские рефлексии
и кора головного мозга заменяют друг друга, что мы не «теряем» инстинкту и влечения, которые могут быть полезны сознательной жизни! Принимая кантовское сравнение жизни с огнем, вспомним, что огонь может проявляться в двух состояниях: как тепло и как свет. Постоянное сравнение духа со светом, упоминания об озарении, просвещении и носителях света - нечто большее, чем просто удачный образ. Но глубоко в существе природы нашей совершенно безумной жизни заключено, что мы меньше всего любим и выносим именно это несущее яркий свет пламя. Мы не хотим духа, не хотим мышления и познания. Мы «хотим» чувства. И если культура всегда ведет к свету, к интеллекту, то в нас несомненно есть и антикультура? И эта антикультура анти интеллектуальна?
Сфера культуры света относится к государству, а сфера культуры тепла должна относиться к церкви. Борьба этих двух полюсов заполняет историю как противодействие социоцентристских и эгоцентристских тенденций. На одной стороне находятся все силы чувств, на другой — силы рассудка. Первые составляют ядро религии, вторые — носители этики. Спрашивать, какие силы правы, -глупость, ибо мы должны перенести сюда, как и на другие области фактического знания, точку зрения, принятую в математическом мышлении. Две переменные являются функцией неизвестной величины и связаны таким образом, что каждое изменение одной влечет за собой соответствующее изменение другой, и ряды изменений на одной стороне ведут к новым величинам на другой.
На какую сторону поместить Ницше, не может вызывать у нас сомнения. Он - герой антикультуры! Той культуры тепла, которой надлежит задерживать просвещение! В короткую человеческую жизнь он свел развитие, наполняющее век нашей нации! Своеобразие его мышления в том, что оно всегда борется под девизом «Все или ничего». Он, подобно Шопенгауэру, неспособен рассматривать параллельно множество точек зрении. После того как он довел до абсурда идеал интеллектуального просвещения, он должен был обратиться к музыке, романтике и метафизике. Поэтому выявить из его теорий позитивную этику невозможно. Но церковь начинает понимать, какую огромную пользу можно извлечь из его учений. Ницше — первый отец церкви будущей религии...
3. Ницше и женский вопрос
Анти интеллектуальная и антисоциальная направленность Ницше проявляется и в той области, которая в наши дни, быть может, вернее всего позволяет определить ценностные чувства мужчины.
Теодор Лессинг. Проблема культуры 279
В женском вопросе! Особенность этой области в том, что здесь на основании наблюдений и опыта как будто даны вечные истины, психологические факты, эмпирические констатации, но между тем за всеми этими «наблюдениями и опытом» стоят неодолимая оценка и исконная предвзятость. Констатируют (например, основываясь на детском анатомическом или физиологическом «опыте»), что мужчины более логичны, женщины более инстинктивны, мужчины сознательнее, женщины бессознательнее, что сфера деятельности мужчин — государство, наука, внешний мир, сфера женщин — любовь, дом и внутренний мир. Говорят, что дело обстоит именно так! Но за этим скрывается оценочное чувство: так должно было бы быть! Или: «Необходимо, чтобы было так». Дозвольте мне кратко и аподиктически сказать то, что я точно и неопровержимо также могу доказать и докажу в другой связи. Эта психология половых различий неверна.
В этой области в самом деле необходима радикальная «перестановка всех ценностей». Все биологические и психологические данные доказывают обратное. Не мужчина, а женщина более рациональная, логическая, биологически и в культурном отношении более поздняя часть человеческого рода, и она такова потому, что рационализация или интеллектуализация души является продуктом нужды, препятствий или застоя, которые на историческое развитие женщины оказали большее влияние, чем на развитие мужчины. И только ее невысокий уровень и примитивность объективного развития ее культуры вводят нас в заблуждение по поводу значительно большей зрелости и более ранней ступени психологического развития женщины, развития в смысле единства, социализации или рационализации ее инстинктивной жизни.
И не женщина, а мужчина более примитивен, больше зависит от чувства и инстинкта, «ближе к природе», эгоцентричнее и импульсивнее. Однако ведь не спрашивают, интеллектуальнее ли женщина, чем мужчина, а просто декретируют (причем от имени человеческого рода), что этого не должно быть; а если женщина такова или станет таковой, то она будет стремиться задержать тенденцию развития, которая, поднимаясь к культуре сознания, означала бы лишь спад жизни. Ибо в этом случае преувеличивается дифференциация индивидов за счет рода и оспариваются возможности одухотворенной исключительности отдельных женщин, основанной на биологической жизнеспособности и физических свойствах материнства. Радикальная эмансипация женщин, так аргументируют далее, должна в конце концов исключить полное смысла, быть может, необходимое для сохранения жизни препятствие, действенность которого до сих пор защищало европейское общество от опасности погрузиться в интеллектуализм и
280 Кудплурфмлософские рефлексии
обеспечивало великим силам жизни, Эросу и Эриде, силам, вдохновляющим религиозное и художественное творчество, превосходство, необходимое для здоровья и целостности жизни. Каким же мог быть удел расы, ставшей «слишком умной для жизни» со страдающим от бессонницы мозгом, удел Европы, где мужчины и женщины в бесконечном интеллектуальном соревновании, утрачивая чувственность и сверходухотворенность, были бы вторгну-ты в область резкого света и лишенной всяких иллюзий ясности? Здесь лишь немногие люди высокого интеллекта могли бы еще дышать, а масса должна была бы закоченеть, лишившись всякой уверенности, всякой жизненной атмосферы, которая, хотя и кажется неясной и затхлой, все-таки охраняет зародыши и рождения и все, нуждающееся в тепле, оболочке и утешении.
Впрочем, самим противникам женского движения не ясно, что их аргументы в сущности порождены лишь страхом культуры перед интеллектуальной культурой, или, иными словами, — это аргументы культуры тепла против культуры света, противопоставление индивидуальной и субстанциальной ценности функциональной или этической. Женщина должна обязательно представлять собой, по их мнению, субстанциальную ценность. Она должна воздействовать не своими деяниями, а своим бытием, не своими поступками, а своей природой и в качестве охраняющей и рождающей, матери или боевого трофея мужчины косвенно способствовать развитию. Но именно то, что она была только субстанциальной ценностью, мешало до сих пор женщине создавать культурные ценности. В области культуры особенно очевидно, что существо, которому вечно проповедуют, что оно прекрасно и должно быть таковым, и которое использует все свое внимание в этом направлении, никогда не сможет создать что-либо объективно прекрасное. - Великолепная и опасная хищница, сочетающая черты демона и сфинкса, Мадонны и гетеры, призванная служить чувственности и одновременно спасать и «возвышать» мужчину, - все эти жалкие фразы о «европейском уродовании женщины знанием», о «здоровой глупости», о «благословенной реакции», о «физиологической слабости» — и тысячи других общих мест такого рода представляют собой симптоматические явления той антикультуры, которая в качестве мнимой покровительницы Эроса, материнства, подавленных инстинктов, интересов ребенка, защищающей индивидуализм и охраняющей природу и здоровье, вещает сегодня устами тысяч мужчин и женщин. Эта антикультура последовательно противодействует унификации в союзах и общественных организациях, распаду семьи, этой мнимой «хозяйственной ячейки», этого в высшей степени примитивного, антисоциального и обреченного на исчезновение жалкого хозяйственного образования!
Теодор Лессинг. Проблема культуры 281
Антикультура последовательно выступает против всего, что направлено на крушение патриархальных нравов рационализма!
Экономисты, политики, культурологи указывают на падение рождаемости в культурных странах и на быстрое вымирание населения больших городов. Биологи связывают близорукие соображения с законом антагонизма между физической пролиферацией и духовной продуктивностью. Поэты, художники, теологи, метафизики - это священное сборище реакции - высказывают опасения, что интеллектуальная культура может оказаться смертным путем европейских и американских народов. Но ведь совершенно очевидно, что подобные оговорки направлены не против рационального развития женщин, а, в сущности, против процесса цивилизации и социализации вообще и в конечном счете против культуры, поскольку интеллектуализация жизни, одухотворение души является ее атрибутом. Сторонники подобных замечаний и сентенций о женской душе считают себя тонкими психологами. Но надо проникнуть и в психологию этой психологии. И это в данном случае чрезвычайно трудно, так как все сказанное женщинами о женщине на основании мнимого самонаблюдения и исповеди предопределено ложными ценностями, сформулированными мужчинами понятийными схемами. На это накладывается и то, что «психология полов» создается именно обладателями поздней, сложной духовности, тонкими, глубокими душами. Именно у них тенденция и чувство ценности должны возвращать нас к весне, к бутону. Именно та женщина, которая вынуждена принести сущность пола и физические свойства материнства в жертву духовному и душевному материнству и с необходимостью претерпевает в нынешних хозяйственных формах конфликт между своей собственной сущностью и сущностью родовой, между профессией и счастьем в браке, окажется необычайно склонной обратиться как к существенному для нее ко всем запрещенным влечениям и желаниям и направить свое внимание на препятствия в ее внутренней жизни. Так, среди женщин и мужчин утонченного и позднего типа развития возникает скрытая реакция очень опасного рода. В действительности сладкое варево из материнства и любви, безграничная полуромантика Эллен Кеи является большим и более опасным препятствием для женского движения, чем прозрачная простота, которой оперируют Лаура Мархольм или Гнаук-Кюне. Здесь господствует скрытый страх, что воспитанная в гимназии и университете «интеллектуальная женщина» будет биологически менее ценна, чем смелая, сильная возлюбленная и мать, которая хочет быть только переходной стадией в роде. Здесь выступает уже не знание, а жизненная настроенность, открывающаяся за мнимой наукой и психологией. Именно там, где уже или еще
282 Кулыурфилософские рефлексии
нет естественного чувства, где речь вдет о культуре до перехода из второй природы в первую, возникает способность восприятия всего «естественного» и «здорового», хотя никто толком не знает, что под этим «естественным» и «здоровым» следует понимать. Это не более чем необходимое на определенной возрастной ступени жизненное чувство; именно оно влечет самые нежные струны фаустовской души к простодушной, белокурой Гретхен или вызывает пламенную страсть сложной по своей натуре немолодой женщины к чарующей непосредственной молодости юноши или медвежьей наивности примитивного мужчины. Здесь не место исследовать, почему эти проистекающие из ценностных чувств мнимые знания неверны в своих пессимистических предвидениях. Но даже если бы они были справедливы, то никакая сила мира не могла бы приостановить необходимое развитие жизни. И это развитие нуждается в сдерживающей его антикультуре, может быть, так же, как во влекущей его вперед культуре сознания; мы же со всеми своими настроениями, тенденциями и ценностями лишь вовлечены в борьбу меняющихся возрастов людей, полагая, как глупцы от истины, что познаем то, что уже заранее декретировали в глубине своей души. Нет примера, который так точно иллюстрировал бы этот типичный психологический процесс, как отношение Ницше к женскому вопросу, заранее предрешенное всей его индивидуалистической этикой и антиинтел-лектуальными ценностями. А мнимая «психология», согласно которой женщина хочет быть побежденной, укрощенной и завоеванной, что она всегда должна в грубом или тонком смысле чувствовать над собой «кнут», сводится к банальному факту, что человек, будь он мужчиной или женщиной, всегда любит то, в чем ему отказано, и уважает того, кто показывает, что не нуждается в нем, а может даже выставить его за дверь. - Нельзя не сказать, что сестра Ницше не проявила к женской проблеме той меры и остроты критики, которую можно было бы ожидать от гордой и свободной души именно по отношению к изощренной несправедливости.
4. Конечность и энтропия жизни
Если одна и та же сила проявляется то в страстях и волнениях жизни, то в результатах деятельности и утверждения духа, становится творением или поступком, то духовную культуру можно определить как цветение жизни, помня, однако, при этом, что цветение всегда — лишь отречение и как бы тоска растения! Если дать растению столько воды, света и солей, сколько оно способно воспринять, то оно выпустит листья, но не даст цветка, который требует
Теодор Лессинг. Проблема культуры 283
известного ограничения и сдерживания концентрированной энергии роста. Если бы биологические и культурные требования конкурировали в борьбе за присущую социальному индивиду жизненную энергию, а возрастание душевной силы воспринималось бы как использование, уменьшение, ограбление физического состояния индивида и, наоборот, все силы, способствующие физическому росту, выздоровлению или созиданию, - как относительный избыток и освобождение от духовных уз, то возникла бы в конце концов очень странная проблема. А именно решение вопроса, не приводит ли рост культуры, который мы до сих пор считали необходимым для сохранения жизни и принципом всякого возможного развития, к абсорбированию и, наконец, к затуханию сил, оказалось бы связанным с другим вопросом: исчерпаема или неисчерпаема жизненная энергия «человечества» и «природы», или, если мы иначе поставим вопрос, следует ли нам мыслить совокупность конститутивных социальных атомов и индивидов как конечное или как бесконечное количество. Мы можем, правда, исходя из физической теории энтропии, распространить каждую космическую систему, частичное уничтожение которой мы постигаем как необходимый конец ее развития, в беспредельность как часть большего космоса и таким образом найти убежище для нашей воли к жизни в бесконечной конечности. Однако наука должна держаться законов того, что может быть эмпирически представлено. А так как представление об ограниченно беспредельном или состоящем из бесконечного числа элементов единстве неосуществимо, нам приходится в механических теориях «класть в основу» космического процесса, каким бы беспредельным мы его ни представляли, конечное количество или единицу силы. Эта проблема возникла для Ницше непосредственно из проблемы культуры и привела его к теории, задуманной как завершение системы, к учению о круговороте «вечного возвращения жизни». Именно в этом пункте проявляется, однако, его несостоятельность в решении строгих логических проблем.
Если язык говорит о предметах или явлениях — это психологическое указание на то, что ощущение сопротивления, невозможности включиться в данное до пор сих единство Я служит привычной гарантией существования внешнего мира, сигналом объективной данности. Чувства различия, контраста - это душевные координаты наших ощущений и соответствующих им относительно самостоятельных реальных фактических данностей. Эти реальные данности никогда не следует мыслить совершенно однородными, ибо тогда они были бы неразличимы и составляли бы одну данность. Наличие множества, большинства, наличие предметов, даже одного не заключенного в субъект предмета, уже включает в себя
284 Культурфилософские рефлексии
пространственно-временное различие, конечность, ограниченность. Где бы мы ни установили объективные последние единства, идет ли речь о центрах физической энергии и атомах от первого до N-ного порядка, об ионах, бионах, электронах, об индивидуальных проявлениях души, о монадах и реалиях или о социальных, художественных и расовых единствах и, наконец, о космических единствах, -мы всегда вынуждены при рассмотрении экстенсивных и интенсивных, физических и психических элементов априорно исходить из наличия необратимых различий, ибо представление о множестве абсолютно однородных неделимостей неосуществимо и вообще уничтожает представление о движении жизни.
Если бы идеал естествознания воплотился в механическую теорию жизни, развитие которой прослеживается до недифференцированной массы атомов протия, то до начального толчка, которым объясняется первая дифференциация, уже необходимо было бы допустить наличие центра и периферии, следовательно, различие внутри последних атомов или, по крайней мере, дифференциацию в задатках, на которой остановилась бы наша способность объяснения, хотя понять «потенциальность» и «природные силы» мы можем только как субстанциализированные следствия предшествующих каузальных рядов. Короче говоря, мы можем устранить различия только на основе непосредственного опыта. И мы совершаем это, экономично унифицируя их, мысленно субсуммируя, перемещая их назад, за порог данного восприятия, данного сознания мира, так что мы (вслед за сказанным Джордано Бруно) в конце концов вынуждены признать, что каждая «загадка мира» повторяется в атоме как в уменьшенной форме космоса и что механика и математика дают лишь последнее упрощение эмпирической системы связей, последнее сокращение мира феноменов с его различиями. Таким образом, всякое познание — лишь ограничение или отрицание. Но поскольку мы в каждый момент сами мысленно полагаем мир как замкнутую систему, то иной тотальности, кроме конечной, мы представить себе не можем; а сам по себе пустой принцип тождества перефразирует тот исконный нормативный факт, что мы постигаем лишь единство бытия, т.е. конечность, а не бесконечность. Если, таким образом, априорно несомненно, что в доступной представлению сфере может быть дано только конечное последнее единство, то и по отношению к проблеме культуры не может быть сомнения в том, что мы должны представлять себе динамическое количество, введенное в развитие культурного процесса, как бы далеко мы ни простирали его границы, в конечном счете как конечное. Следовательно, совокупность жизненной силы, которая дифференцировалась в виде органически-животного и духовно-социального и тем самым дости-
Теодор JleccitHi. Проблема кулыуры 285
гала относительной изоляции, в ходе этого процесса должна быть исчерпана, так как ее прохождение через бесчисленные ряды культурных поколений следует мыслить как неизбежную утрату силы.
Тем самым и в проблеме культуры мы сталкиваемся с фундаментальной категорией, которая столь же неотделима от ориентирующегося мышления, как и от физической и психической практики, будем ли мы ее описывать посредством покоя и движения, бодрствования и сна, жизни и смерти, тепла и замерзания, воления и знания, актуальности и потенциальности, действия и бытия, тождества и каузальности или других пар противоположных понятий. Каждое движение, проходящее через какую-либо среду, свет, тепло, электричество, физиологически реакция, биологический процесс, наконец, каждое психическое и духовное явление можно себе представить только под этой категорией исчерпывающей себя в активности субстанции. Ни в одной сфере подобного процесса невозможно представить себе некое peipetuuni mobile19, носитель движения, который застыл в покое, или движение, не создающее трения, в котором оно исчерпывается. Белее сложное действие сил также можно представить себе только с помощью этого образа продолжающегося движения одной силы, причем конечное количество разделяется на конечную возможность и повторение процессов. Однако мне отнюдь не представляется правомерным видеть в этом использовании тождественной энергии в ходе трансформации только принудительную норму физической ориентации, ибо данные о психических переживаниях свидетельствуют, например, о необходимости устанавливать определенное отношение между интенсивностью и экстенсивностью психических элементов. Начальная интенсивность, с которой, например, ощущение или представление пощупает в сознание, уменьшается по мере того, как психика все больше занимается именно этим односторонне определенным элементом; начиная с известной степени, сила чувства становится противоположной его длительности или распространению. Здесь мы остановимся только на той физической теории, которая представляет собой наиболее простое подобие занимающей нас проблемы культуры. Положение Майера об эквивалентности тепла и труда обозначает необходимость того, чтобы та часть привнесенного тепла, которая создает эквивалентное ей количество труда, была использована как тепло. Но тепло не может само перейти из более холодного тела в белее теплое, для этого необходим противоположный Переход тепла или вызывающее такой противоположный переход изменение; другими словами, для того чтобы тепло перешло из более холодного тела в более теплое, необходима работа. Если механическая работа (давление, толчок, трение) может быть полностью превращена в тепло, то все тепло не может быть возвращено в рабо-
286
КулмурфилоонЕскке рефлексии
ту, так как небольшая часть всегда оседает в более холодных телах. Это известное соображение послужило поводом для уже упомянутой теории конечного выравнивания температуры. Всякая механическая энергия должна быть постепенно превращена в более не трансформирующееся тепло, посредством чего постепенно выравниваются все различия в температуре. Следовательно, общую энергию мироздания можно мыслить как константное количество двойного качества: уже активизированной и еще активной, уже трансформированной и еще допускающей трансформацию энергии (механической, химической, электрической энергии, тепла, более высокой температуры и т.д.). При перемещении сил это уже не трансформируемое тепло представляет собой тупик, сосуд, не имеющий оттока, и в зависимости от того, понимаем ли мы под энергией эту концентрирующуюся под действием работы и уже не допускающую трансформации энергию или ту, которую еще можно переместить в работу, мы можем сказать, что сила мироздания увеличивается или исчезает. Тем самым мировой процесс вел бы в этом случае от величайших различий в температуре к выравниванию различий и одновременно к конечному состоянию застывшего единения, которое вместе с тем означало бы далекое рассеяние и улетучивание «энергии» и совершенное равновесие в неразличенности атомов.
Легко понять, что это физическое представление может быть также перенесено на биологическое, хозяйственное, культурное развитие, а также на любое отношение в различии интенсивного и экстенсивного характера, прежде всего на взаимоотношения социализации и индивидуализации. В той мере, в какой мы хотим придать научный смысл обычно еще очень наивно употребляемым понятиям отношения между «природой» и «культурой», которые применяются абсолютно или онтологически, это возможно лишь по аналогии с принятыми в механике представлениями о сохранении энергии и перемещении материала. Однако в этой аналогии интеллектуализацию воли и социализацию инстинктивной жизни можно сравнить с отношением между трудом и свободным теплом, увеличение же или уменьшение энергии — с интенсификацией или поглощением жизни, а логическое начало внутри психического — с более не ретрансформирующимся теплом.
Заметим попутно, что в последнее время удивительный нюанс этой натурфилософской ориентации появился и в геологии: теория, занимающаяся беспрерывным перемещением горных хребтов в моря и появлением суши из недр морей, пришла к постановке вопроса, происходит ли эта «циркуляция скал» бесконечно, и была вынуждена признать причиной конечной остановки геологического развития трансформацию в направлении двух полюсов.
Теодор Лессинг. Проблема культуры 287
Наконец, в области биологии мы можем представить себе ответвляющуюся от развития, относительно изолированную зародышевую плазму только в образе бесконечного количества, которое распределяется между носителями биологического типа как по их числу и количеству, niK и по их индивидуалыюй дифференциации, так что в той же прогрессии, в какой один род со своими представителями распространяется по Земле, его отдельные экземпляры становятся менее приспособленными к жизни или, наоборот, в той мере, в какой идет дифференциация внутри одного типа, исчерпывается заложенная в данный тип возможность жизни и развития. Этот ход мыслей может показаться фантастическим и непривычным. Но укажу на то, что в античной философии, как на стадии ее высшего развития, так и в период ее упадка, постоянно бытовало представление, что развитие ведет вниз и что (цитирую слова Сенеки) «в далекие времена мир, еще не исчерпавший своих сил в процессе творения, давал более сильные создания». Так называемые пессимистические или нигилистические теории культуры, как, например, основанная на прогрессирующем отрицании мира эволюционная теория Гартмана, свидетельствуют о том, что современное учение развития может исходить как из утверждения, так и из исчезновения жизни, как из ее ослабления, так и из ее возрастания. Те же представления мы должны в конечном счете принять для индивидуализирующих и социализирующих процессов в политических и хозяйственных общностях. И здесь полная социализация всех функций с их совершенной атомизацией или анархией в конце концов привела бы к упадку. Лишь потому, что к наиболее глубоко укоренившимся формам опыта людей относится то, что появлению каждого изменения, развития, движения предшествует состояние относительного покоя, из которого как бы возникает действие, это развитие, которое возникает из представления о покое, закостенелости, смерти, нам менее доступно как цель, предназначение или результат движения; подобно тому как бодрствование следует за сном, животное происходит из растения, мужчина из женщины, так мы по привычке видим в относительно активном в сравнении с относительно стабильным, с одной стороны, нечто более позднее во времени, с другой — более совершенное. К этому присоединяется, что представление, будто Земля, как и человек, старея, отцветает и обретает вершину своего развития в застыл ости, в неорганическом, настолько неприемлемо для нашего «инстинкта самосохранения», пока он еще не трансформирован, что мы обращаемся в поисках свободной энергии к бесконечности, к космическим силам, от нашей Солнечной системы к неподвижным звездам, от них к туманностям и далее вплоть до непостижимого; при этом мы никогда эмпирически не выйдем за пределы неизмеримой конечности и в пределах возможного
288 Культурфилософские рефлексии
опыта не сможем избежать противоречия исчисленного несметного количества относительного начала и относительного конца. Ибо несомненность этой категории открыта отнюдь не посредством опыта или экспериментов естественников, которые «гарантируют» действие закона устойчивости или субстанции, а также сохранение материи и энергии; эта категория «трансцендентальна», т.е. не результат, а состояние опыта, хотя и имеет значение только по отношению к нему. Критика познания признает в законе природы, устанавливаемом эмпириком, только эту антропоморфно-экономическую схему, пусть даже он считает схематизм мира природным фактом и превращает с помощью индуктивной логики закон тождества в «закон единообразия в природе»; индуктивная логика сведет эмпирический континуум (косность, сохранение энергии и т.д.) к отражению принципа каузальности, неизменно сопутствующего тождеству, а так называемые «законы природы» — к обусловливающей форме сознания как к норме исчисления и измерения. Следовательно, категория, лежащая в основе проблемы культуры, представляет собой физический, психологический, логический факт. Гипотетически установленные, относительно неизменные элементы бытия можно себе представить только в виде конечного числа. Опыту ведомы лишь рациональные целостности, ибо объекты — это выравнивания возможного опыта, в котором гипотеза сущей реальности образует лишь асимптоту, т.е. временное решение, для которого мыслится бесконечное отношение. Мы никогда не осознаем абсолютные объекты, «вещи в себе», но мы гипостазируем их как иррациональные или воображаемые величины, чтобы по отношению к ним наиболее точным образом определить мыслимые отношения. Только в этом смысле мы знаем.
5. Конец
Таким образом, заключенное в основе научной истины понимание, что культура является расходованием жизни и что интеллектуализация, социализация, распространение культуры являются выражением биологического упадка, создает уверенность в конечности и конце вообще, в факте смерти, повсюду несомненной. Связанные с этой уверенностью опасение и сетования, спокойствие и достоинство, страх за культуру и антикультура или мужество перед лицом смерти и героизм — это симптоматические сопутствующие понятия, которые иллюстрируют биологический возраст, уровень жизни и развития, молодость, зрелость или старость народов и индивидов. Когда этот момент придет и мы должны будем умереть, мы будем вести себя как сможем.
* * *
Во Флоренции, во дворе старого монастыря Сан Марко в люнете двери находится картина Фьезоле «Знающий». В грудь мученика, святого Петра, глубоко вонзен меч. Его лоб поврежден терниями, с него стекает кровь. Тихо и медленно стекают тяжелые капли крови по впалым щекам. Но он крепко прижимает палец к устам. Он держится свободно, просто и спокойно. Только в глазах выражается то, что он не хочет сказать несказанное.
Мне хотелось бы, чтобы моя философия могла заключить в поздние понятия то, что раннему художнику должно еще открыться как образ. Ибо понятия — это слезы, освобождающие от напряжения. — Как? Разве правда, что «знающий» ощущает себя истекающим кровью мучеником? Что он, подобно Кассандре, готов молить богиню ослепить зрячий глаз, потому что лишь в заблуждении — жизнь? Разве вся жизнь не преодоление, не формулировка только, не снятие напряжения, не освобождение, не прекращение действия мучительных бедствий? И если мы когда-либо полностью преодолеем грубую, внешнюю борьбу, не станут ли нам именно тогда необходимы утонченное отчаяние и страдание, абстрактное сопротивление и конфликты, чтобы оставаться деятельными и бодрыми, чтобы суметь жить в них и благодаря им? Быть может, конфликт, вопрос, препятствие, противоречие и двойственность — сущность жизни? По ту сторону нашей жизни нет загадок, но поэтому нет больше и жизни!..
«Отнимите у человека надежду и сон, — говорит Кант, - и вы превратите его в самое жалкое существо». А Ницше добавляет: «Знающий лишен сна и надежды». Но если бы это было так? Разве тогда сон и надежда не сопровождали бы его в пути? Разве не обвевают становящегося, блуждающего потусторонность искусства, надежда его идеалов, грезы всех религиозных и метафизических представлений? — и вера, которая истинна, действительна и блаженна, именно потому что она вера и пока она остается таковой? «Если бы радостно мечтающий юноша мог, бросив один взгляд, узнать то, что он с годами примет совершенно спокойно, он лег бы и умер». Но он мечтает и надеется! Это молодость! И он предпочтет бежать от беспокойной борьбы и волнений в область трансцендентных теней, пожертвовать достижимым и близким этой безграничной надежде, но не одобрить то, что буцет естественным спокойно понять, спокойно констатировать в не ведающие разочарования последние годы зрелости, когда великое знание и великое прощение без надежды и без горести в конце концов склоняются перед необходимостью!Чю может нас еще удерживать? Что еще стоит усилий? Все загадочно и больше не загадочно! Повсюду страсть и несправедливость! Что еще можно ска-
290 Культурфилософскме рефлексии
зать? Не хватает слов! Каждый человек одинок, совершенно один. Некому завидовать, некого оплакивать. Все мучаются, все правы. И в заключение Соломоново Hakkol habel20. Правда, это старческая мудрость. В Ницше она пала на молодую душу. И мы узнаем о страшной смертельной борьбе между желанием и знанием. Борьба закончена. Помолчим и вспомним великие слова Рихарда Вагнера:
Reif sei л zum Sterben, des Lebens zogemd sprieBende Frucht!
Friihreif sie erwerben in Lenzes jah erbluhender Flucht-
War es dein Los? War es dein Wagen?
Wir miissen dein Las wie dein Wagen beklagen...21
Перевод иноязычных текстов
1 Знание - это страдание. Кто больше всего знает, глубже всего оплакивает злосчастную истину. Древо знания не есть древо жизни (нем.).
2 Да будет истина, да погибнет жизнь (лат.).
3 Да будет жизнь, да погибнет истина (лат.).
4 Спасайся, кто может (франц.).
5 Любовь к себе (франц.).
6 Себялюбие (франц.).
7 Состояние рефлексии - это противоестественное состояние (франц.).
8 Истина приносит в мире меньше блага, чем ее видимость - зла (франц.).
9 Ученое незнание (лат.).
10 Бесплодность наук (лат.).
п Недостоверность наук (франц.).
12 Сильный, стройный и изящный (лат.).
13 Ум, сознание (франц.).
14 Конец века, декаданс (франц.).
15 Мыслю, следовательно, существую (лат.).
16 Если ты не знаешь, как это было, ты не совершишь этого (лат.).
17 Из всех прекрасных крыльев, которые будут сломлены временем, самое могучее оружие все-таки великое страдание (нем.).
18 Дополнение (франц.).
19 Вечное движение (лат.).
20 Всяческая суета (древнеевр.).
21 Быть зрелым для смерти, медленно прорастающим плодом жизни. В ранней зрелости обрести его во внезапно расцветающем бегстве весны - было ли это твоей участью? Было ли твоей отвагой? Мы оплакиваем твою участь и твою omaiy... (нем.).
Перевод выполнен по изданию: Lessing Th. Das Kulturproblem// Lessing Th. Schopenhauer. Wagner. Nietzsche: Einfuhrung in modeme deutsche Philosophic. Miinchen: Beck, 1906. VI. S. 303 346.
Человек в контексте культуры
Эрнсг Кассирер
Проблема взаимоотношения субъекта и объекта в философии Возрождения
I
Двойственность и двусмысленность отношений, связывающих Возрождение как со средневековьем, так и с античностью, нигде не обнаруживается столь отчетливо, как во взгляде Возрождения на проблему самосознания, — в этой центральной проблеме сливаются все духовные источники, питающие его. Но эта противоречивая и многослойная историческая почва дает в то же время выход новым систематическим задачам, сознательная формулировка которых, однако, оказывается одним из позднейших плодов философской мысли Возрождения: мы находим ее только у Декарта, а в определенном смысле лишь у Лейбница. Именно здесь была найдена и зафиксирована новая «Архимедова» точка опоры, встав на которую возможно было развенчать понятийный мир схоластической философии. С нее, с декартовского принципа «cogito» и принято вести отсчет истории новой философии. Этот принцип представляется исторически ничем не опосредствованным: основанием его, как это ощущал и выражал сам Декарт, является свободная деятельность духа, одним ударом, одним неповторимым актом самодеятельной воли сбрасывающая с себя все прошлое и прокладывающая новый путь мыслящего самосознания. Речь идет в данном случае вовсе не о поступательной эволюции, но о подлинной «революции мышления». Мы нисколько не умалим значимости этого революционного поворота, если в то же время реконструируем процесс непрерывного становления и возрастания тех интеллектуальных и универсально духовных сил, которые в конечном счете и дали ему начало. Эти силы не предстают нам в определенном единстве и в отчетливой системе; они скорее противоречат друг другу, нежели взаимодействуют между собой; имея различные точки опоры, они кажутся устремленными к
294 Человек в контексте культуры
разным духовным ориентирам. И все же всех их объединяет единая форма негативной деятельности: они разрыхляют почву, из которой позже вырастет специфически современное представление о взаимоотношении «субъекта» и «объекта». Ни одно направление философии Возрождения не осталось в стороне от этого процесса. В него включаются не только метафизика, но также и натурфилософия и эмпирическое естествознание, не только психология, но и этика и эстетика. В этом общем движении сглаживаются различия между отдельными школами — традиция платонизма сливается здесь с обновленным и реформированным аристотелизмом. Как перед историческим, так и перед системотворческим сознанием эпохи поставлены в этом случае одни и те же фундаментальные вопросы, требующие предметно определенных решений.
К принципиальным достижениям греческой философии относится то, что ей впервые удалось вычленить из сферы мифологического мышления как понятие самосознания, так и понятие мира. Оба понятия взаимно определяют друг друга — ведь только новый образ космоса, сложившийся в мышлении греков, создает пространство для вырастающего из него представления о человеческом Я. Возможно, взгляд на человеческое Я теснее и крепче привязан к элементам и предпосылкам мифологического мировоззрения, нежели созерцание мира предметного. Ведь еще у Платона проблема Я настолько прочно связана с проблемой души, что даже философский язык Платона не знает иных форм выражения человеческой субъективности, нежели так или иначе соотносимых с основным значением понятия г|л)хп (душа). У самого Платона это соотношение создает поле постоянного смыслового напряжения, которое пронизывает его учение с начала и до конца, поскольку в данном случае даже новаторские взгляды, сформировавшиеся у Платона-диалектика в процессе поступательного движения аналитической мысли и все более углубляющегося знания, облекались в метафоры его метафизической психологии. Определение понятийного смысла и усмотрение содержащегося в нем принципа необходимости осуществляется в терминах платоновской доктрины припоминания; различение видов и степеней достоверности знания находит свое воплощение в выделении отдельных частей души. Кажется, однако, что Платону удается на вершинах его спекулятивной мысли в его поздних диалогах определенно и четко разграничить отдельные проблемные сферы. Еще в «Теэтете» единство сознания определяется через единство души, как T.v Ti г|п>хЛ€ (некоторое единство души), но ото понятие души абстрагировано от всех элементов, от всех реминисценций орфической веры в существование души. Оно остается в определенной мере всего лишь символом поступательного движения и прогресси-
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 295
руюшей функции синтеза, осуществляемого чистым мышлением по отношению к содержанию наших восприятий. Тем не менее и в этом случае остаются в силе противоположность оснований и несоразмерность способов представления проблемы. Платоновская философия предполагает два совершенно противоположных друг другу способа выражения реальности, один из которых приложим к сфере бытия, другой - к миру становления. Точное знание возможно только относительно вечно сущего - того, что остается идентичным самому себе и всегда себе тождественным. Становящееся же, обусловленное временем и изменяющееся от одного момента времени к другому, недоступно такого рода познанию; мы можем выразить его — если это вообще возможно — только на языке мифа. Если мы зададимся вопросом, какого рода познание, соответствующее этой платоновской схематике форм познания, будет соразмерным и адекватным уровню души, то не сможем найти однозначного ответа. Ведь душа превосходит это первоначальное разделение сфер бытия; она принадлежит как царству чистого бытия, так и миру становления, не принадлежа в каком-то смысле ни к одному из них. Она представляет собой двойственную, срединную сущность, в равной мере неотчужденную и от чистого бытия идеи, и от феноменального мира становления. Каждая человеческая душа по самой своей природе была причастна созерцанию сущего и сохраняет способность к постижению чистых определений бытия. И в то же время каждая душа несет в себе тяготение, направленность, стремление к чувственному многообразию и становлению. Именно в этой двоякой устремленности и выражается характер души, свойственная ей сущность - она оказывается, таким образом, «посредником» между становлением и бытием, явлением и идеей. Она равно соотносится с обоими полюсами реальности - сущим и становящимся, тождественным и различным, не переходя ни в один из них, не привязывая себя к ним. Напротив, душа сохраняет свою самость и независимость как по отношению к чистой идее, так и по отношению к феноменам, составляющим содержание чувственного восприятия. Как «субъект» мышления и восприятия она не тождественна содержанию мыслимого и воспринятого. Правда, мифологический способ выражения, принятый в платоновском «1 ймее», должен стирать это различение: поскольку ему доступно только одно измерение временных событий, все их качественные спецификации также получают if нем форму разделения на акты порождения во времени и творения во времени, душа оказывается тогда смешанной сущностью, которую Демиург наделил, можно сказать, двумя вплетенными в нее и противоположными друг другу природами тождественного и иного, таггп/v и flarrpov. Получается, что идеальное смысловое
296 Человек в контексте культуры
различение выливается в соответствии с сущностью и характером мифологического способа выражения в онтологическое различие бытия и порожденного. Именно в такой форме платоновское учение о душе и оказало влияние на дальнейшую философскую традицию. Для всего средневековья «Тимей» оставался основополагающей книгой, чуть ли не единственным диалогом Платона, который благодаря переводу Халцидия был известен и читаем в то время. Таким образом, сократовско-платоновское понимание души как принципа субъективности могло быть воспринято впоследствии только в мифологической образности и сквозь призму мифологического объективизма. Античная мысль уже была затронута этим объективированием: Аристотель рассматривает душу как форму тела, но как таковая она является одновременно имманентной телу и действующей изнутри него движущей силой. Душа - целевая причина, выражающая идеальное «предназначение» тела, и в то же время — причина движущая, благодаря которой тело и приводится к своему назначению в своем поступательном движении. В этом представлении души как «энтелехии» тела она снова превращается в чисто природную потенцию, в силу органической жизни и в способность к органическим формообразованиям. Хотя и сам Аристотель в важнейшем разделе своего учения столкнулся с необходимостью преобразования и расширения первоначального понятия души - ведь если понятие энтелехии включает в себя и объясняет феномены жизни, оно оказывается недостаточным дтя охвата всех определений знания. Знание в его высшей и чистейшей форме ориентировано уже не на индивидуальное, а на универсальное как таковое; не на «материальное», а на чисто умопостигаемое содержание. Тогда и та способность души, которая реализует в себе это знание, должна быть ему соразмерной и мыслиться подобным же образом отделенной от телесного и не смешанной с ним (хсорюцб^ xal agiyifc). И снова это разделение переводится непосредственно в метафизическую плоскость; аристотелевский Ум (vov£) как субъект чистого мышления, мышления о «вечных истинах», есть в то же время и объективная «духовная сущность», подобно тому, как и душа, будучи формой органического тела, является естественной сущностью. Как душа представляется движущей силой, так и Ум - силой мыслящей, привходящей в человека извне (OtxiOrv). Неоплатонизм заимствует это определение, но одновременно он лишает мыслительную способность тех специфических характеристик, которыми наделял ее Аристотель: неоплатоники вновь включают Ум в универсальную иерархию сил, идущую от Единого ко многому, от умопостигаемого — к чувственному, и определяют ему в этой системе прочное место. И чем шире разворачивается эта структура, тем больше появляется
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 297
между мыслительной способностью как таковой и той формой, в которую она воплощается в человеке как конкретном индивидууме, разного рода полубожественных, полудемонических посредников. Эта установка нашла свое завершение и систематическое выражение в арабской философии средневековья, и прежде всего в аверро-истской доктрине. Снова включив душу целиком в круг объективно-метафизических измерений, она тем самым упраздняет не только принцип субъективности, но и начало индивидуации. Основание мышления выводится за пределы любого рода индивидуальности, поскольку интеллект неразделен в себе и образует абсолютное единство. Акт мышления и состоит в том, что человеческое Я выходит из состояния обособления, на которое обрекает его естественное бытие: превзойдя его, он сливается с единым абсолютным интеллектом, с inteiiectus agens (активным интеллектом). Возможность такого слияния предполагается уже не только с позиций мистики — она должна быть обеспечена и логическими предпосылками, ибо только логика может реально истолковать процесс мышления и обосновать его в его необходимости. Действительным субъектом мышления является не индивидуум, не «самость», а общее всем мыслящим существам имперсональное субстанциальное бытие, факт «присоединения» которого к отдельному Я будет чем-то внешним и случайным.
Но в этом пункте логико-метафизическая система, выросшая на почве взаимопроникновения аристотелизма и неоплатонизма, входит в открытое противоречие с системой веры, для которой, как до сих пор казалось, первая служила надежнейшим основанием. Христианская вера никак не может отказаться от принципа «субъективизма», от основоположений о самостоятельном существовании и самоценности отдельной души, не изменяя тем самым и предпосылкам собственной религиозности. Этот разлад чувствовали и великие христианские мыслители XIII в., и, чтобы избежать его, они с настойчивостью оспаривали те систематические выводы, которые извлекали из своей доктрины аверроисты. Их опровержению Фома Аквинский посвятил целый трактат «De unitate inteiiectus contra Averroistas» (О единстве интеллекта против аверроистов). Основная мысль его состоит в том, что аверроистское учение, претендуя на словах на объяснение феномена мышления, на самом деле скорее упраздняет его. Мы не можем даже ставить вопрос об интеллекте самом по себе, о его универсальной сущности, не реализовав функцию мышления, — но сама эта функция обнаруживает себя эмпирически не иначе, как в индивидуальной форме, в отношении к мыслящей человеческой самости. Поэтому исключение этой самости означает и упразднение той фактической основы, на которой должна строить
298 Человек в контексте кун.туры
ся вся теория знания. Но в значительно большей степени аверроизм представляет угрозу для самодостоверности религиозного опыта в его глубочайшей сущности и своеобразии, нежели для позитивной теории знания. Эта самодостоверность основывается на постулате самостоятельного бытия двух главных субъектов религиозного отношения — Бога и человека. Всеобщее, абсолютное содержание веры может быть постигнуто и усвоено только в результате нашей утвержденности в самом центре религиозной жизни, для которой человеческая личность вовсе не является случайным ограничивающим фактором или препятствием, а скорее действительным в ней самой необходимым конститутивным принципом. Еще первый великий систематик христианской мысли Августин со всей остротой осознал следствия этой посылки. Известно, что его религиозный субъективизм непосредственно подводит к тем фундаментальным выводам, которые позже были сформулированы Декартом с позиции логика и критика познания. И религиозный идеализм Августина, и логический идеализм Декарта имеют под собой одну и ту же основу — принцип самоуглубления, рефлексии над самим собой. «Noli foras ire, in te ipsum redi: in interiore homine habitat veritas» (He стремись вовне, обратись к себе самому, во внутреннем человеке обитает истина). Собственное бытие, знание и воля, «esse, nosse, velle», составляют' незыблемую отправную точку всякой теории: ведь ничто так хорошо не знакомо нашему духу, как его действительность, и ничто не может быть для него более действительным, чем он сам для себя1. В этих положениях утверждается примат религиозного опыта над любыми догматическими следствиями какой-либо метафизической доктрины души и Бога. В этом случае не предполагается включение Я в какую-либо конструктивную схему объективного познания, поскольку именно в таком посредствующем статусе и утрачивается специфическая сущность и ценность Я, которая является ценностью sui generis — совершенно исключительной.
Чтобы понять смысл поворота, осуществленного в философии Возрождения, необходимо иметь ясное представление об этом противоречии, о напряжении, которое существует уже в системе знаний средневекового человека и пелокупности его жизни. Несмотря на нападки, которым подвергся аверроизм со стороны классических схоластических систем, его теоретические основы казались в XIV и XV вв. еще незыблемыми. Долгое время аверроизм оставался господствующим учением в итальянских университетах; он утвердился в подлинном центре схоластической учености, в Падуе, с первой половины XIV в. вплоть до XVI и XVII вв.2 Но постепенно все явственней начинает выступать оппозиционное ему движение мысли. Характерно, однако, что оно не ограничивается кругом определен-
-)рНСт Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 299
пых школ, но получает живейший импульс с иной стороны. К противоборству с аверроизмом призывают прежде всего сторонники нового гуманистического идеала образованности и нового идеала личности Возрождения. И первым среди них был Петрарка. Страстный спор, который вел он с аверроизмом на протяжении всей своей жизни, не был свободен от разного рода теоретических несуразностей, но они не снижают его значимости. Речь идет больше чем об исключительно спекулятивно-теоретических разногласиях — перед нами гениальная личность, отстаивающая права своего исконного жизнечувствования против сил, ущемляющих эти права или грозящих самому их существованию. Художник и виртуоз «индивидуальности», первым вновь открывший ее неисчерпаемое богатство и ценность, противостоит философии, сводящей любую индивидуальность к простой случайности, чистой «акциденции». И подлинным поручителем ему в этой борьбе служит Августин. Петрарка, будучи одним из первых, кто, не удовлетворяясь одним эффектом воздействия на душу объективного содержания исторических творений духа, хотел ощутить за ними трепет жизни их творцов и вжиться в него, благодаря этому дару через пространство веков возвращается непосредственно к Августину. Гений лирической индивидуальности воспламеняется огнем индивидуальности религиозной: лирика и религия сливаются воедино в специфической форме петрарков-ской мистики. В отличие от аверроистов, его мистика направляется не космологическими, а чисто психологическими ориентирами. И каким бы захватывающим ни был порыв души к единению с Богом, она не может успокоиться в нем как единственном и подлинном пределе своих стремлений; вновь и вновь погружается она в созерцание внутренней подвижности человеческого Я, чтобы подивиться его многообразию и насладиться им в его противоречивости. Тогда нам становится понятным самочувствование Петрарки, в полемике с аверроизмом постоянно подчеркивающего свою набожность, свою принципиальную ортодоксальность как христианина, - ту простоту веры, которую он противопоставлял притязаниям человеческого разума; и в то же время реализующего чисто персональный образ христианства, отмеченный скорее эстетическими, чем религиозными чертами. Чтобы преодолеть наследие аверроизма, философская рефлексия должна была пойти по другому пути: вместо того чтобы погружаться в чувство упоения индивидуальностью, нужно было искать для нее новое, более глубокое основание. Мы знаем, что оно было разработано впервые именно в учении Николая Кузанско-го. Во времена обучения Николая Кузанского в Падуе падуанский аверроизм переживал свой расцвет, но ничто не указывает нам на то, что Кузанец был чем-то ему обязан в импульсах к своему Интел
300_____________________________________Человек в контексте культуры
лектуальному становлению. В своих более поздних систематических произведениях он недвусмысленно отвергал аверроистскую доктрину, апеллируя при этом к доводам, идущим не из его метафизики, а скорее из теории познания. Последняя не знает абсолютного разделения чувственной и интеллектуальной сфер; хотя чувственное и интеллектуальное начала и противоположны друг другу, сам интеллект нуждается именно в этой противоположности и в противопо-лагании ему элементов чувственного восприятия, поскольку только через его посредство может он достичь своей собственной завершенности и полной актуализации. Ведь нельзя же представить себе духовную деятельность, которая могла бы осуществиться, полностью абстрагируясь от материала чувственного восприятия. Чтобы действовать, дух требует соответствующего себе, «адекватного» себе тела, — из этого следует, что мысленные акты в своей дифференциации и индивидуализации оказываются соразмерными телесным действиям. «Подобно тому, как зрение Твоего глаза не может быть зрением кого-то иного, даже если отделить его от твоего глаза и усвоить кому-то другому, поскольку ту меру его бытия, которую оно имеет в тебе, оно не сможет найти в другом; и как различения, какие свойственны Твоему зрению, не могут быть присущи никакому другому, так же один и тот же интеллект не может мыслить во всех людях»5. В этих рассуждениях проглядывает мысль, которая получит свое полное систематическое воплощение и оформление уже у Лейбница. Акт чистого мышления относится к чувственному и телесному не просто как к безразличному и внешнему себе субстрату, и он не только пользуется им исключительно как своим органом, приданным ему как бездушный инструмент; сила и действенность этого акта состоят как раз в том, чтобы схватывать все различения внутри чувственного начала сами по себе и представлять их исключительно как свои собственные. Тогда и principium individuationis (принцип индивидуации) должен усматриваться не в одной «материи» мышления - он должен опираться на свою чистую форму. Душа как активная мыслительная способность не только заключена во внешней ей оболочке тела, но сама с большей или меньшей отчетливостью отражает в своей деятельности все особенности телесного и все изменения, происходящие в нем. Так, душа и тело соединяются не только внешним образом, но их связывает сквозная «соразмерность» — то, что Кузанец называет устойчивой соизмеримостью. И пусть даже эта идея противоречит не только Аверроэсу и некоторым неоплатоникам, все же характерной чертой ренессансного неоплатонизма Флорентийской академии является то, что в решении этой кардинальной проблемы он полностью солидарен с Николаем Казанским. Фичино в своем главном труде « Геология Платона» и в сво
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта.» 301
их письмах постоянно оспаривает концепцию единичности «активного интеллекта»; и он также ссылается здесь на непосредственный опыт, свидетельствующий о том, что есть наше Я и наше мышление, только в индивидуализированной форме. Не может быть, однако, принципиального различия между сущностью нашей самости и тем, как она представляется нам в нашем непосредственном сознании: «Quid enim menti naturalius, quam sui ipsius cognitio?» (Что естественней для ума, нежели познание себя самого?)4.
Но этому процессу, ориентированному на выработку теоретических оснований и предпосылок понятия «субъективности», противостоит иной, в котором только и обнаруживают себя силы, определяющие в конечном счете характер всего этого духовного движения и господствующие в нем. То, на чем Фичино строит свое учение о душе и индивидуальном бессмертии, - это не столько его принципиальная концепция человеческого познания, сколько, скорее, основополагающая доктрина человеческой воли. Учение об Эросе становится подлинной осью психологии Фичино; оно — в центре всех философских устремлений Флорентийской академии; оно же, как показывают «Камалдуленские беседы» Кристофоро Ландина*, остается неисчерпаемо-живой темой академических диспутов. Из этого центра тянутся силовые линии того влияния, которое оказывала академия на духовную жизнь своего времени в целом, на литературу и изобразительное искусство. Здесь же обнаруживается и постоянное взаимодействие различных жанров: если Джироламо Бенивьени в своей «Канцоне о небесной и божественной любви» облекает в поэтическую форму основные идеи любовной доктрины Фичино, то Пико делла Мирандола в комментарии на стих Бенивьени вновь возвращает эти идеи в чисто философскую сферу6. И Пико и Фичино, кажется, и не стремятся ни к чему иному, как возможно более точному воспроизведению платоновской теории Эроса: оба следуют сюжетной линии платоновского «Пира», ставшего предметом обстоятельного комментария Фичино. И нигде особенность и своеобразие «христианского» платонизма Флорентийской академии не сказываются так отчетливо, как здесь. Посылая Луке Контрони свой комментарий к «Пиру» и труд «De Christiana religione» («О христианской религии»), Фичино сопровождает их письмом: «Mitto ad te amorem, quern promiseram. Mitto etiam religionem ut agnoscas et anaorem meum religiosum esse et religionem amatoriam»7 (Шлю тебе любовь, которую обещал; шлю тебе и веру, чтобы тебе открылась моя религиозная любовь и любовная религия). Действительно, учение об Эросе является у Фичино центром пересечения его психологии и теологии, где они нераздельно сливаются. И у Платона Эрос также принадлежит к промежуточной сфере; пребывая между бо-
302
Человек в контексте культуры
жественным и человеческим, миром умопостигаемым и миром чувственным, он должен соотносить между собой и связывать оба эти мира. Но он может соединять их только в том случае, если сам не принадлежит ни одному из них исключительно. Сам он ни полон, ни ущербен; он сведущ и несведущ; ни смертен, ни бессмертен - на всех этих противоречиях замешана его «демоническая» сущность. Эта двойственная в себе природа Эроса оказывается подлинно движущим моментом платоновского космоса - именно она как динамическое начало вторгается в его статическую структуру. Мир явлений и мир, на который направлена любовь, уже не противостоят друг другу: сам феномен «стремится» к идее (6pfyrrai той dvroc;). Это стремление оказывается движущей силой всякого становления; эта внутренняя неудовлетворенность представляет собой то вечное «беспокойство» жизни, которое задает всему становящемуся определенную направленность — к незыблемому бытию идеи. Однако в пределах платоновской системы это движение становится необратимым — в ней говорится о «становлении к бытию» (уёлтоц; ей; ow(av), но нет обратного влияния — от бытия к становлению, от идеи — к явлению. В данном случае со всей строгостью утверждается принцип (отделенности): идея блага предстает как «причина»
становления исключительно в том смысле, что являет собой цель и предел его стремления, а не в том, что она является движущим механизмом эмпирически-чувственного мира. Данное методическое положение позже получит свое метафизическое истолкование и будет гипостазировано в неоплатонической системе. И в ней всякому определенному и обусловленному сущему свойственно стремление вернуться к первопричине, однако и в этом случае тяготению обусловленного к необусловленному не соответствует в последнем никакое встречное движение. Сверхсущее и сверх-единое находится также и «за пределами жизни» (олф то £fjv). Чистая объективность абсолюта стоит сама по себе выше сферы субъективного сознания, будь то сознание практическое или теоретическое, поскольку для абсолюта в равной мере безразличны специфические характеристики как стремления, так и познания. Всякое познание предполагает отнесение к иному, а это противоречит чистой автаркии абсолюта, его замкнутости в себе8.
Фичинова теория любви разрывает эту традицию, рассматривая любовное стремление как процесс принципиально взаимный, — стремление человеческой души к Богу, которое выражается в Эросе, было бы невозможно без ответного стремления Бога к человеку. В этом как раз и оживает в мышлении Фичино важнейшая идея христианской мистики, придающая новый оттенок также и его неоплатонизму. Так же как и вся реальность субъективного бытия
Эрнсг Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 303
соотносится с Богом и устремлена к нему, так и Бог - абсолютно объективное бытие - оказывается включенным в отношение к субъекту и связанным с ним как его коррелят, его необходимый оппонент. Сама любовь может осуществиться не иначе, как в такой двойственной форме: она является в той же мере движением высшего к низшему, умопостигаемого — к чувственному, в какой и страстным влечением низшего к высшему. Подобно тому как Бог в свободном акте любви склоняется к миру, как Он в свободном выражении своего милосердия искупает человека и весь мир, так и каждая умопостигаемая сущность изначально обладает этим двойным влечением. «Способность наблюдать за низшим и заботиться о нем, не переставая созерцать и высшее, характеризует всякий божественный дух. Также и к свойствам нашей души относится то, что она заботится не только о своем теле, но и обо всех земных телах и о самой Земле, оберегая и споспешествуя им». В этой заботе, в этом «культивировании» чувственного элемента духовное начало как таковое находит для себя важнейшую задачу, обретает свой центр тяжести. Подобный взгляд на концепцию Эроса бросает новый свет и на проблему теодицеи, с которой постоянно сталкивался и неоплатонизм. Теодицея в строгом смысле могла быть построена только теперь — ведь только начиная с этого времени материя рассматривается уже не как простая противоположность форме, и, следовательно, как «зло», а в качестве начала, полагающего в себе деятельный принцип формы и обеспечивающее его реализацию. Эрос стал в полном смысле слова «связью мира», ибо именно он преодолевает всю неоднородность его различных элементов и сфер, вовлекая их в свой круг. Он упраздняет субстанциальное различие стихий бытия и примиряет их в том, что превращает их в средоточие и в субъектов одной и той же динамической функции. Именно любовь сводит дух с его высот к чувственно-телесному миру, и она же снова возносит его ввысь; в обоих случаях дух следует своему свободному решению, а не подчиняется внешнему импульсу, фатальному принуждению. «Animus nunquam cogitur aliunde, sed amore se mergit in corpus, amore se mergit e corpore»9 (Дух никогда не принуждается к чему-то извне, но своей любовью привязывается к телу, и любовью же движется прочь от него). Здесь предстает перед нами духовный круговорот, circuitus spiritualis, не нуждающийся во внеположной ему цели, поскольку его цель и граница положены в нем самом, как в нем же заключены начала движения и покоя’0.
Философия Возрождения усвоила эти основополагающие идеи спекулятивного учения Фичино о любви и пыталась найти им приложение как в области натурфилософии и этики, так и в искусствознании и в теории познания. Что касается теории познания,
304 Человек в контексте культу ры
то еще неоплатонически-мистическая литература средневековья связывала неразрывно познание и любовь: поскольку одно чистое теоретическое созерцание не может обратить дух к его предмету, необходимо побуждение, идущее от любви к нему. В рамках философии Возрождения это представление обновилось и получило систематическое развитие в учении Иатрицци. Акт познания и акт любви имеют одну и ту же цель — преодолеть разделение элементов бытия и вновь вернуть их в точку их первоначального единства; познание оказывается не чем иным, как определенным этапом на этом пути обращения. Оно само представляет собой вид стремления: ведь во всяком знании заложена «интенция» к своему объекту (intensio cognoscentis in cognoscibile). Высший интеллект стал интеллектом, мыслящим сознанием, именно благодаря любви, побуждающей его к раздвоению, к противопоставлению самому себе целого мира объектов познания, ставших предметами его созерцания. Но тот же акт познания, породивший в своем самораздвоении порыв единого во множество, является и силой, вновь преодолевающей это раздвоение. Познавая объект, мы упраздняем дистанцию между ним и сознанием и становимся в определенном смысле едины с ним: «Cognitio nihil est aliud, quam Coitio quaedam cum suo cognobili»)" (Познание есть не что иное, как некое соитие с познаваемым). Однако концепция Эроса, обновленная Фичино, оказала еще более сильное и глубокое влияние на представления Возрождения о смысле и сущности искусства, чем на теорию познания. Та горячность, с какой многие великие художники Возрождения обратились к умозрительным построениям Флорентийской академии, объясняется именно тем, что эти теории означали для них нечто большее, чем просто умозрение. В них мастера Возрождения видели не только теорию мироздания, соответствующую их собственному миросозерцанию, — они обнаружили здесь прежде всего открытие и истолкование тайны своего художественного творчества. Они, казалось, наконец постигли и впервые действительно выразили загадочно-двойственную природу художника-творца: его открытость миру чувственных ощущений и одновременно его порыв и устремленность за пределы этого мира. Теодицея мира, предложенная Фичино в его учении об Эросе, стала в то же время и собственной теодицеей искусства: именно искусство художника, как и искусство Эроса, должно постоянно соединять раздельное и противоположное; и то и другое ищет в «зримом» «незримое», в «чувственном» — «умопостигаемое». И если созерцание и творчество художника определено видением чистой формы, то, с другой стороны, он только тогда действительно овладевает этой чистой формой, когда умеет воплотить ее в материи. Художник глубже,
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта..._305
чем другие, ощущает напряженное противостояние этих полярных стихий бытия, осознавая одновременно себя их посредником. В этом заложено основание всякой эстетической гармонии, но здесь же одновременно — и вечная неудовлетворенность, сопровождающая любое чувство гармонии и красоты, вызванная невозможностью воплотить их иначе как в материальном. В той же форме и в таком же углубленном прочтении отражается концепция любви Фичино в сонетах Микеланджело. Если мы сравним этот пример влияния доктрины Фичино с теми, которые представляют вехи ее дальнейшего преобразования в теории познания Натрицци и в этике Джордано Бруно, то только тогда нам станет полностью очевидным, на чем основывается ее необычайная плодотворность. Хотя платонизм Флорентийской школы понимает идеи еще исключительно как некие силы, объективно-космические потенции, уже наряду с этим в своем учении об Эросе он открывает новое понятие духовного самосознания. Оно обнаруживает себя в своем единстве и многообразии, то разделяясь в основных формах своей деятельности - познании, воле и эстетическом творчестве, - то пребывая в своей имманентной цельности и изоморфности. Самость, «субъективный дух» расчленяется на множество видов творческой деятельности, из которых вырастает многообразие культуры, система «объективного духа». Джордано Бруно, ссылаясь на Плотина, также указывает на Эрос как на то начало, благодаря которому нам только и открывается в действительности царство субъективности. До тех пор, пока наш глаз просто отдается созерцанию воспринимаемого предмета, в душе не может родиться ни красота, ни любовь: они появляются только тогда, когда дух, отвернувшись от внешней формы предмета, постигает себя в своем собственном, неделимом и отрешенном от всякой наглядности образе12.
Если здесь мы встречаемся со спиритуализмом Возрождения, определяющим восприятие им проблем души и самосознания, то те же самые проблемы приобретают в своем развитии совсем иное, на первый взгляд, измерение, как только мы начнем рассматривать их в рамках понятия природы и натуралистической психологии. Обращение к натурализму, стремление подчинить принцип «души» всеобщему естественному порядку и, соответственно, попытки его чисто имманентного истолкования в пределах этого порядка составляют ведущую тенденцию в инициативах критического обновления аристотелевской психологии, предпринимающихся в Падуанской школе на рубеже XVI в. Работа Помпонацци «De immortalitate animi» (О бессмертии души) представляет первый систематический очерк этого развития. И снова в центре внимания Помпонацци борьба с аверроизмом. Аверроистская теория надеялась сохранить единство
306 Человек в контексте кулыуры
интеллекта только путем отождествления его с универсализмом, когда индивидуальность мыслящего начала рассматривается не в качестве его исконного, но лишь случайного признака. Но тогда анализ проблемы переносится из сферы психологии в сферу метафизики, описание феноменов душевной жизни в их чистой данности подменяется вопросом их трансцендентного основания, причем последнее интерпретируется таким образом, что утрачивается отличительный эмпирический характер всех событий душевной жизни. Этот характер и должен быть признан за явлениями психологического порядка еще до того, как он станет предметом того или иного толкования. Аверроизм, однако, оказывается несостоятельным как раз в отношении этой фундаментальной методической максимы: он представляет мыслящее сознание таким образом, что скорее упраздняет его как таковое. Его единый деятельный разум можно рассматривать как космическое сознание и космическую силу, но в этом случае ему недостает именно того, что может превратить его в самосознание, сделать его из простого «в-себе-сущего» в «сущее-для-себя». Поскольку же сознание возможно только в этой форме «для-себя-сущего», оно мыслимо лишь в своем конкретном обособлении, когда одно определение включает в себя другое. Но ход рас-суждений Помпонацци простирается дальше - нельзя помыслить обособленный субъект сознания, не учитывая соответствующего ему объективного обособленного коррелята. Индивидуальная душа может быть постигнута как таковая только в качестве формы индивидуального тела. Можно даже утверждать следующее: то, что мы называем одушевлением тела, состоит не в чем ином, как в его полной индивидуализации. Ими отличается тело от простой «материи»; благодаря ему оно становится органическим телом, которое в своей индивидуальной определенности является носителем определенной, конкретно-индивидуальной жизни. В соответствии с этим душа относится к телу не как внешнее движущее и одушевляющее его начало, но как конституирующий телесную структуру принцип, сводящий ее в единораздельное целое. И это строго коррелятивное отношение можно выразить противоположным образом: если душа есть не просто «forma assistens» (сопутствующая форма), а подлинная «forma informans» (творческая форма), то становится понятным, что ее функция формообразования может быть реализована всегда только в определенном физическом субстрате. Стоит нам упразднить этот последний, и указанная функция души лишится не только своей опоры, но и самого своего смысла. В этом разделе своего учения Помпонацци расходится, таким образом, не только с аверроизмом, но и с любого рода спиритуалистической психологией. Насколько мало душа как отдельная сущность может быть отделена от тела,
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта.»»307 формой которого она является, настолько же относительным оказывается в ней самой различение ее «высших» функций от «низших». Она в той же мере является «интеллектом» или «духом», в какой одновременно и «жизнью»; и как жизнь она может утвердить себя всегда только в определенном органическом теле. Отсюда следует также, — если мы будем следовать не столько откровению, сколько исключительно доводам разума, — что все доказательства бессмертия души, ее отдельного от тела существования будут несостоятельными. Ведь при ближайшем рассмотрении оказывается, что все они в целом основаны просто на pctitio principii (предвосхищении основания): они заключают от универсальности мыслительной функции, от самостоятельной способности, которую мы в противоположность чувственному восприятию приписываем «чистому» мышлению, к самостоятельному существованию, к возможности абстрагирования мыслящей субстанции. На основании существования всеобщих идеальных смыслов и независимых от чувственного опыта этических и логических ценностных значений постулируется и наличие независимой мыслительной способности как носителя этих ценностей. В действительности более детальный анализ самого мыслительного акта показывает слабость этого аргумента: ведь наш дух постигает смысл универсального понятия или правила только посредством его представления в индивидуализированной форме — в содержании восприятия или чувственной фантазии. Без такого конкретного наполнения, без отнесения к особенному универсальная мысль остается пустой. Таким образом и логика, и психология приводят нас к одним и тем же выводам, которые, однако, вступают в непримиримое противоречие с содержанием христианской веры. Помпонацци нигде и не пытается сгладить это противоречие; наоборот, он с величайшей решимостью настаивает на нем, чтобы тотчас же отойти на позиции концепции «двойственной истины». Но это чисто формальное ограничение еще более выпукло обрисовывает содержательный радикализм его положений. Если в споре с авер-роизмом он постоянно опирается на аргументы, которыми Фома Аквинский опровергал учение о единстве интеллекта во всех людях, то в данном контексте Помпонацци обращает острие своей критики против самого Фомы, а в его лице - против основоположений всей схоластической психологии. С незаурядным мастерством вскрывает он противоречия между элементами платонизма и аристотелизма, содержащимися в томистском понятии души. Для Помпонацци платоновская доктрина, представляющая тело и душу как изначально разделенные и в сущности своей различные субстанции, остается тем не менее верной себе по крайней мере в своем строгом метафизическом дуализме. Платонизм рассматривает «соединение» души и
308 Человек в контексте культуры
тела не как корреляцию, внутреннее существенное отношение, но лишь как внешнее воздействие души на тело. Но тогда наше представление о единстве «тела» и «души», «чувственности» и «интеллекта», которое, как нам кажется, открывается человеку непосредственно в акте самосознания, оказывается в сущности заблуждением: они связаны между собой не более, чем вол с плугом, который он тащит. Но как же тогда может аристотелик согласиться с подобной концепцией связи души с телом, если, согласно принципиальному определению души у Аристотеля, она есть не что иное, нежели действительность (осуществленность), «энтелехия» самого тела? Между данной дефиницией души и допущением ее двойственного бытия — одного, которое присуще ей в земной жизни, и другого, которому она как отдельная субстанция причастна после отделения от тела, -существует явное противоречие. А поскольку субстанция никогда не открывается нам в своем абсолютном бытии, в своем «бытии-в-себе», но познается только в ее действиях, в проявлениях активности, отсюда следует, что мы не можем приписывать две совершенно различные и несравнимые между собой формы действия одной и той же субстанции. Если же мы связываем с душой наряду с эмпирически обусловленным и эмпирически достоверным видом деятельности, которую она осуществляет как «форма тела», еще некий другой вид, независимый от тела, то тем самым, утверждая реальное тождество души, мы ограничиваемся лишь вербальным. Мы полагаем этим в действительности две субстанции, две различные по определению и по своему смыслу сущности, которые произвольно объединяются нами в одном понятии. И именно в этом заключается главный порок томистской доктрины. Фома Аквинат не мог не признавать значимость теоретике-познавательных принципов аристотелевской доктрины, он заимствовал из нее идею, что никакое мышление, никакая чисто интеллектуальная деятельность невозможна без отнесения ее к каким-либо чувственным представлениям. Всякий опосредствованный, «репрезентативный» акт мысли требует постоянной опоры на нечто непосредственно данное, очевидно присутствующее в сознании, а это присуще только «фантаз-мам», образам восприятия и чувственного воображения. Но эти теоретико-познавательные выводы были подвергнуты сомнению и отброшены Фомой как метафизиком. Отделение души от тела означает лишение ее того субстрата, в котором только могла она осуществлять свои функции. И все же подобное преобразование предпосылок мышления не должно было упразднить само это мышление, но придать ему новую, радикально отличную от прежней, форму. Но такая форма была лишь измыслена, а не почерпнута из опыта, и даже вообще была вынесена за пределы всякого возможно-
')рнс ! Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 309 го опытного познания. В ней мы не можем опираться на эмпирические данные, и наша мысль движется уже не в пространстве психологического или логического анализа, а в пустоте умозрительных построений. Аналитик и психолог Аристотель никогда не признал бы такого перехода от одного вида деятельности души к другому, диаметрально ему противоположному13; и поскольку понятие бытия определяется в соответствии с понятием действия, переход, совершенный в томистской доктрине, оказывается в действительности сродни мифологической метаморфозе, в духе чудесных Овидиевых превращений14. Трудно представить себе более резкий разрыв с традицией схоластической психологии, чем это произошло у Помпонацци. Вся схоластическая метафизика души объявляется у него чистым мифом о душе, фикцией, которая не может опираться ни на какое реальное положение вещей, ни на какие-либо «естественные» критерии и признаки достоверности. Тот, кто утверждает двойственное бытие души, одно - в телесной субстанции, другое - отдельное от нее, тот должен указать, соответственно, и на два специфически различающихся вида познания: в одном из них душа соотносится с чувственным миром, в другом - абстрагирована от него. Однако наблюдение за психическими явлениями самими по себе не дает нам никаких оснований для подобного рода абстракций. Рациональное отношение предполагает в данном случае только истолкование и «спасение» этих феноменов душевной жизни, а не произвольное конструирование иной реальности и особого статуса в ней души, которая вследствие этого остается для нас запредельной и непостижимой. Для «разума» в этом смысле нет иных возможностей, кроме тех, которые предполагает истинная, достоверная интерпретация Аристотеля. В ней человеческая душа есть и остается не чем иным, как формой органического тела и, тем самым, «смертной по своей природе» (simpliciter mortalis), хотя в одном определенном смысле она может называться «относительно бессмертной» (secundum quid immortalis) — как способная устремляться через индивидуальное ко всеобщему, через чувственное и преходящее — к вневременному и вечному15.
Эти рассуждения Помпонацци, кажется, представляют полную противоположность учению о душе, культивировавшемуся во Флорентийской академии, как в действительности трактат Помпонацци «De immortalitate animi» (О бессмертии души) является во всем предельным антиподом и одноименного труда Фичино. Но все же за пределами этой противоположности существует еще и общность интереса к некоторым систематическим построениям. И Помпонацци, и Фичино имеют дело с проблемой индивидуальности, они оба хотят поставить в центр психологии феномен «са-
ЗЮ Человек в кои тексте 1Ы> ры
мости», но преследуют эту цель совершенно различными путями. Для Фичино только чисто духовная природа человека позволяет ему конституироваться как «самосущее» в строгом смысле слова и подняться над кругом исключительно предметного бытия; свобода человека, выражающая его истинное Я, предполагает возможность освобождения души от тела. Для Помпонацци, напротив, индивидуальность не может утверждаться в противовес природе, а должна выводиться и определяться из нее. Индивидуальность — не прерогатива одного лишь «духа», но представляет собой фундаментальное свойство жизни в целом, а «жизнь» означает не что иное, как индивидуализированное бытие в полноте его специфического выражения. И подобно тому, как Фичино в борьбе за право индивидуального Я на самовыражение обращается к сверхприродному и трансцендентному началу, так и Помпонацци, стремясь к той же цели, прибегает к идее натурализма и имманентизма: для него последнее основание и подлинная гарантия индивидуального находится не за пределами природы, а в ней самой, поскольку действительной моделью и прототипом «индивидуации» оказывается органическое тело. Так, он снова возносит Аристотеля-бмш/^гя над Аристотелем-жетия^мзмкбш; он ищет такую концепцию души, которая по своим принципам не только не отличалась бы от учения о теле, но была бы прямым продолжением и завершением последнего. Кажется, образ «внешнего мира» формирует по своему подобию образ мира «внутреннего», но, в то же время, и наоборот, глубинный опыт индивидуальной душевной жизни становится ключом к открытию всей природы. Однако ни путь Фичино, ни путь Помпонацци не мог привести к современному взгляду на фундаментальные характеристики природы и к современному представлению о самосознании. Действительным источником этих концепций становится скорее то направление мысли, которое не стремилось подчинить «субъект» «объекту» или, наоборот, сделать «объект» зависимым от «субъекта», а в каком-то смысле искало между ними некоторую новую форму идеального равновесия. Но чтобы достичь такого равновесия и наряду с ним обеспечить и утвердить новое понятие природы, а также новое понятие интеллекта и духовности в целом, необходимо было сойти с пути метафизики и чистой психологии. Этой цели достигли не супранатуралистическая метафизика и натуралистическая психология, а естественно-научный и художественный взгляды на действительность. Именно они выработали понятие естественной необходимости и естественной закономерности, не только не противодействующее свободе и автономии духа, но скорее служащее им опорой и надежнейшим гарантом.
2
Психология Возрождения в ее научно-философской форме обнаруживает перед нами только первые подходы к тому грандиозному духовному процессу, из которого должно было вырасти новое, более глубокое понимание «субъективности». Она сама еще не могла охватить и сформулировать как единое целое ту новую проблему, которая здесь возникала, поскольку ей не удалось постичь в истинном единстве два противоречащих друг другу момента, из которых она складывалась. Традиционный спор между «спиритуализмом» и «натурализмом» не мог быть разрешен на этой почве. Заслуга психологических теорий раннего Возрождения ограничивается в данном случае в сущности только тем, что они смогли довести противоположность этих двух направлений до ее предельного выражения. В них вновь столкнулись понятия «природы» и «духа» в борьбе за «душу» человека. Теория души остается разделенной на два расходящихся течения: если она следует по пути спиритуализма, как это свойственно Флорентийской академии, ей приходится в конечном счете серьезно принижать ценность природы; когда же она рассматривает «душу» и «жизнь» в их единстве, как это делает психология Помпонацци, утрачиваются обособленность духа и «высота» его интеллектуальных и этических функций. Созерцание вечности и неуничтожимости духа должно вести к отрицанию природы, а обнаружение единства и целостности системы природы — вести к мысли о несостоятельности идеи бессмертия. И последним основанием этого взаимного отрицания оказывается в конечном счете исключительно субстанциальная трактовка противоположностей. До тех пор, пока «природа» и «дух» мыслятся еще только как две «части» бытия, мы не сможем с определенностью ответить на вопрос, какая из этих двух частей охватывает другую, а какая - охватывается другой, и их постоянный спор захватывает все пространство реальности. Дух превращается у Телезио в особую сферу природы, в которой господствуют приводящие ее в движение универсальные силы, силы тепла и холода; у Фичино же природа становится низшей ступенью бытия, находящейся под сенью благодати, ниже сфер, где господствуют провидение (providentia) и фатум (fatum). Для натуралистического мировоззрения дух включается р отдельный «регион» бытия, который не может рассматриваться как «государство в государстве», но в равной мере подчинен всеобщим законам. Спиритуализм же видит в природе последнее звено цепи, связывающей мир «форм» с миром «материи»’6. Исследовательский дух опирается в своем движении на эти образы, которые являются больше чем образами, а именно — типическими
312 Человек в контексте культуры
воплощениями всеобщей принципиальной формы рассмотрения явлений. Она претерпевает превращение только тогда, когда приходит в движение само основание психологических концепций Возрождения, — как спиритуалистических, так и натуралистических, — когда постепенно субстанциально-предметные отношения «тела» и «души», «природы» и «духа» заменяются отношениями функциональными. Однако метафизика того времени не могла своими силами выработать и сформулировать эту новую систему отношений; она не сумела бы разрушить схоластическую парадигму, влияние которой сказывалось не только в спиритуалистических, но и в натуралистических доктринах Возрождения, если бы не решающее воздействие как со стороны точного эмпирического исследования, так и со стороны теорий искусства. Единство этих двух сил составляет одно из замечательных и плодотворных начал в общем духовном становлении Возрождения. Теория естествознания и теория художественного творчества не только указывают философии новый путь - они предшествуют ей на этом пути, придавая новый смысл понятию естественной закономерности. Тем самым освещаются новым светом и основополагающие проблемы «свободы» и «необходимости». Ни теория естествознания, ни концепция художественного творчества Возрождения не могли пройти мимо этой центральной духовной проблемы эпохи, но находили ее разрешение уже за пределами метафизических школьных традиций. Антиномия свободы и необходимости принимает форму корреляции этих понятий. Мир чистого познания и художественного творчества объединяет одна общая черта - в них, хоть и в различной форме, господствует мотив подлинного духовного порождения, заставляющий их, говоря кантовским языком, подниматься над всяким «подражательным» отношением к непосредственно данному, чтобы самим стать «архитектоническим» принципом построения космоса. И чем больше наука и искусство осознают эту лежащую в их основании творческую функцию, тем отчетливее раскрывается для них закон их собственного бытия как выражение сущности самой их свободы. Тогда и понятие природы, и весь предметный мир наполняются новым смыслом: «предмет» перестает быть для человеческого Я чем-то просто противоположным и как бы брошенным ему навстречу. В предмете концентрируется продуктивная энергия исконно-творческих сил человека, и только в нем они находят свое подлинно конкретное выражение. Предмет в его необходимости открывает для человека и его собственное Я, обнаруживает силу и направленность его самодеятельного стремления. Эта важнейшая идея философского идеализма выступила во всей остроте и глубине уже у Николая Кузанского, но сдой действительный резонанс и
Эрнст Кассирер. Проблема нзаимоо moi нения субъекта и объект... 313
жизненное воплощение она получила не в пространстве абстрактного умозрения, а в новых формах научного познания и художественного созерцания.
11ервые свидетельства решающего переворота в понятии природы надо, однако, искать не в области чистой теории, пусть и соотнесенной с философской, научной или художественной проблематикой, - они открываются нам в том новом чувстве природы, которое вырастает в XIII в. Лирика Петрарки впервые разорвала цепи, сковывавшие ощущение природы в догматическом средневековом мировоззрении. Из понятия природы изгоняется все чужеродное, все жутко-демоническое; лирическое чувство видит в природе не антагониста душевной жизни, но повсюду обнаруживает в ней следы и отзвуки душевных состояний. Ландшафт становится для Петрарки живым зеркалом его Я. Но в подобном мирочувствовании тем не менее были не только заложены предпосылки освобождения чувства природы, но одновременно заданы и его пределы, поскольку, ограничив значимость природного только одной его функцией — быть отражением душевной жизни, — лирическое отношение оставляет за ним лишь относительное и как бы рефлективное бытие. К природе обращаются не ради нее самой, и не она сама по себе служит предметом изображения: современник Петрарки видит в ней новое средство самовыражения, откровения его жизненного чувства и бесконечного многообразия его внутреннего мира. Это своеобразное раздвоение в ощущении природы обнаруживается временами с поразительной ясностью и отчетливо осознается Петраркой в его письмах. Когда он после исповедания своего внутреннего мира переходит к изображению природы, то само созерцание последней вновь возвращает его к самому себе, к своему Я. Пейзаж теперь уже утрачивает для него самостоятельную ценность и собственное содержание, а ощущение природы низводится до простого фона индивидуального самоощущения: quid enim habet locus Hie gloriosius habitalore Francisco'1? (Чем еще прославлено это место, как не памятью о пребывании здесь св. Франциска?) Петрарковы описания природы повсеместно исполнены этой двойственности и пронизаны этими характерными колебаниями, также и самое знаменитое среди них - рассказ о восхождении на Мон Ванту — неопровержимо свидетельствует об этом. Вспомним характерный эпизод: когда после невероятно тяжелого подъема Петрарка достигает вершины, он Ъстанавливает свой взор не на раскинувшейся перед ним картине гор, а на том месте из сопровождавшей его повсюду «Исповеди» Августина, где говорится о людях, которые восходят на высочайшие вершины, преодолевают безмерные потоки, изумляются движению звезд, а самих себя при этом забывают18. В одном предложе-
314 Человек» контекс»с кулыуры
нии здесь выражена вся противоречивость подобного рода умонастроения и мироощущения. Порыв души к природе, стремление к ее непосредственному созерцанию охлаждаются предостережением Августина не отдаваться этому чувству, в котором он видит угрозу для непосредственно-истинной привязанности — привязанности души к Богу. «Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas»19 (He стремись вовне, обратись к себе самому, во внутреннем человеке обитает истина) - это кредо Августина, кажется, препятствует любому прямому контакту с природой, с миром «внешнего» созерцания. И петрарковское чувство природы в конечном счете сковано тем же направлением, какое присуще и его общему ощущению жизни. В новом ореоле видит он природу и человека, мир и историю, но все чаще он расценивает его как свет ослепления и обольщения. И книга, отражающая его внутренний спор с самим собой, представляющая собой исповедь об этом «тайном борении сердечных забот», - книга, которую можно назвать первым опытом изображения души современного человека, получает у Петрарки название вполне в средневековом духе — «De contemptu mundi» (О презрении к миру). Отношение Петрарки к природе сродни его отношению к мирской жизни и к славе, которая составляет для него ядро всей светской жизни: он тянется к ним страстно и неодолимо, но не может отдаться этому чувству непосредственно и со свободной совестью. Здесь и возникает уже не наивное, но совершенно «сентиментальное» отношение к природе, когда она воспринимается не сама из себя, но лишь в качестве темного или светлого фона для выражения человеческого Я, и только в таком качестве может быть постигнута, прочувствована и стать объектом наслаждения.
Последующие эпохи - Кватроченто и Чинквеченто - должны были избрать для себя другой путь: перед ними стояла задача утверждения понятия природы прежде всего на его собственной основе, закрепления за ним прочного, строго объективного содержания. И только после этого можно будет заново задаваться вопросом о том, как эта новая самостоятельная реальность соотносится с миром «сознания» и «духа». Мысль снова будет занята поисками «соответствия», «гармонии» обеих сфер, но при этом уже будут предполагаться самоопределение и специфические права каждого из элементов данного соотношения. До сих пор в истории философии, как и в истории культуры и духа, почти безраздельно господствует некритически воспринятое представление о том, что будто бы Возрождение открыло и отстаивало специфические права природы на принципах непосредственного, эмпирически-чувственного созерцания. Буркхардт в одной из блестящих глав своего труда описал это прогрессивное «открытие мира». Казалось, было достаточ-
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта...315 но, не соотнося образы этого мира с человеком, взять их в чистой объективности, в их простой чувственной определенности, в соответствии с этим описывать и расчленять их так, чтобы получить новый образ действительности как чистой действительности опыта. Подобного рода начинания повсеместно набирают силу и все шире распространяют свое влияние в Италии XIV и XV вв. Все настойчивее растет объем эмпирического материала, из которого складывается новая картина мира; все огчетливее рядом с фигурами, выписанными крупным планом, проступают более дробные и мелкие детали. Наряду со стремлением к самостоятельному видению вещей появляется и соответствующая ему тенденция к систематическому их описанию и классификации. Страсть к коллекционированию, которая очень скоро привела к закладке ботанических садов и зоопарков, подтолкнула умы и к новым формам точного описания природы. Работа Цезальпино «De plantis» («О растениях», 1583), представляющая первый эскиз «естественной системы» растительного мира, открывает путь к научной ботанике. Кажется, и натурфилософия Возрождения в числе первых также вступает на этот чисто эмпирический путь. Как впоследствии Бэкон, так и Те-лезио требует рассмотрения природы не сквозь сетку абстрактных аристотелевских категорий, а познания ее из нее самой, исследования в соответствии с ее собственными принципами (juxta propria principia). Эти принципы природы раскрываются не в логических понятиях «формы» и «материи», «актуальности» и «потенциальности», «реальности» и «лишенности» - их следует искать в устойчивых и везде тождественных себе, конкретных явлениях природы. Такими прафеноменами, доступными прямому чувственному постижению, Телезио называет начала горячего и холодного. С одной стороны, все многообразие явлений порождается тем, что эти взаимно уравновешивающие друг друга силы последовательно отпечатлеваются в материи, которая рассматривается при этом не как чисто логический субъект изменений, но как их реальный физический субстрату с другой стороны, это многообразие познается также в его строго закономерном единстве вследствие возведения его к той же триаде исходных начал. Но основным инструментом такого познавательного процесса Телезио объявляет везде чувственное ощущение. Оно должно предшествовать всей деятельности интеллекта, мысленному упорядочиванию и сравнению отдельных фактов, поскольку только оно может обеспечить контакт между «субъектом» и «объектом», между познанием и действительностью. Система природы и система познания Телезио представляют этот контакт как соприкосновение в полном смысле слова: всякое мысленное постижение предмета предполагает чувственное прикосно-
316 _____________________Человек в koiгтекете культуры
вение к нему. Осознание объекта осуществляется таким образом, что объект воздействует и даже вследствие такого воздействия внедряется в нас. То, что мы называем «духом», — это подвижная субстанция, которая в своих изменениях определяется и модифицируется внешними воздействиями, а каждое чувственное восприятие и представляет собой такую специфическую модификацию. Происходящие при этом изменения обусловлены механизмом передачи первоначального импульса, который определен, в свою очередь, природой самого посредника - проводника этого воздействия. Действие сил теплого и холодного передается при зрительном ощущении посредством света, при слуховом восприятии - посредством воздуха, он же является носителем и обонятельных ощущений. А поскольку все эти опосредствующие звенья ощущения завершаются непосредственным контактом с объектом, то чувство осязания оказывается у Телезио чувством всех чувств. В конечном счете к нему могут быть возведены и все более «высокие» духовные функции. Также и наше мышление в целом, и умозаключение представляют в равной мере одно «протяженное осязание», поскольку акт умозаключения состоит в том, что наш дух не только воспринимает идущие извне воздействия — модификации теплого и холодного, -но и удерживает их в себе. Он способен при определенных условиях вновь воспроизвести в себе самом те изменения, которые некогда были вызваны в нем полученными извне впечатлениями. Так, ему удается вновь активизировать в себе прежние впечатления и связать свои нынешние состояния с прошлыми, что дает возможность также и экстраполировать свои состояния на будущее и предвосхищать свои возможные впечатления. Эту обращенность к прошлому и развернутость в будущее мы имеем обыкновение называть рефлективной способностью мышления, или способностью к «умозаключениям». Но в этом проявляет себя не специфическая, особенная деятельность самостоятельного «активного интеллекта» — мы имеем дело только как бы с механическим воспроизведением в нас имевших место в прошлом изменений. Когда Аристотель выводит память из чувства, опыт — из памяти, а познание - из опыта, он таким образом имплицитно признает значимость этой схематики отдельных душевных функций и их взаимодействие в построении системы человеческого знания, хотя в своей более известной доктрине ума (voxk;) он и отказывается признавать это взаимодействие. В действительности, границы между ощущением и представлением, представлением и припоминанием, припоминанием и знанием весьма зыбки; сам интеллект производен от чувства и является всего лишь опосредствованным чувством, но именно в характере такого опосредствования и сказывается необходимое несовершен-
)рис г Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта...317 ство интеллекта, когда он сохраняет в своих восприятиях только бледное отражение, только некоторые аналоги и подобия реального впечатления20.
Кажется, что натурализм Возрождения там, где он впервые выступает как замкнутая система, оказывается в русле строго эмпирического и сенсуалистического мировоззрения. Он, кажется, полностью отдается под руководство эмпирического созерцания, видя в нем свое единственное основание, и исключает из созданной им картины природы все, что не может быть утверждено на базисе прямых свидетельств чувственного восприятия. Но прослеживая влияние принципиальных идей Телезио на натурфилософию Возрождения, мы сразу же сталкиваемся со странным превращением: уже ближайшие последователи Телезио, все те, кто считал себя его непосредственным учеником, сходят с пути точного исследования природы и пренебрегают методом строго дескриптивного познания. Образ мыслей Телезио противоречит не только аристотелевско-схоластической интерпретации природы, но вполне определенно также и «оккультным» наукам. Требуя истолкования природы «из ее собственных начал», он отвергает вместе с тем и тайны астрологии и магии. Казалось бы, завоевав независимость эмпирического естествознания, натурфилософия Возрождения тотчас отказывается от нее, - ей так и не удалось окончательно дистанцироваться от магии. В трудах Джордано Бруно «естественной магии» уделяется столько внимания, что оно постоянно грозит вытеснить интерес к проблемам отвлеченно-философского порядка. Даже Кампанелла, который ближе всех примыкает к Телезио по основной направленности своей доктрины природы и теории познания, не преминул назвать свое главное натурфилософское произведение «De sensu rerum et magi а» (О способности вещей к ощущениям и магии). Мы видим, что заявленная и отчетливо сформулированная программа эмпиризма не обладает сама по себе силой, способной утвердить ее в качестве системы «чистого опыта», свободной от всякого рода фантастических элементов. Она повсеместно и непосредственно переходит в свою противоположность — в теософию и мистику. От понятия природы у Телезио к идее природы в современной науке ведет весьма извилистый путь. Кампанелла самообольщался, полагая, что имеет право, как последователь принципов телезианской доктрины, одновременно выступить и как*апологет концепции Галилея21. Именно здесь и обнаруживается принципиальное различие двух методов естествознания: метода Леонардо и Галилея, открывающего в опыте проявления «разума» и в нем же - «ragioni» (разумные смыслы) действительности, и метода натуралистического понимания природы. Если первый все ясней и
318 Че.кжек в контексте кулыуры
определенней склоняется к математическому идеализму, то второй все больше тяготеет к примитивным формам анимизма. И такое обращение — не простая случайность и не исторический рецидив прошлого: корни его лежат не просто в темных аффектах и страстях, толкающих человека к господству над природой, но в универсальных теоретических предпосылках итальянской натурфилософии. Она построена на таком понимании процесса познания, когда «познать» какую-либо вещь означает слиться с ней воедино; но это единство возможно только тогда, когда субъект и объект, познающее и познанное обладают сходной природой, когда они являются элементами и частями общей для них целокупности жизни. Тогда каждое чувственное восприятие будет представлять собой подобный процесс слияния и воссоединения. Мы воспринимаем, познаем предмет в его подлинном, собственном бытии только в том случае, если обнаруживаем в нем те же формы жизни, характер движения и одушевления, какие открываются нам непосредственно в опыте личностного самопознания. Таким образом, панпсихизм оказывается простым следствием определенной теории познания, а последняя, в свою очередь, с самого начала приобретает оттенок панпсихизма. И эта связь настолько устойчива, что Натрицци присоединяет к экспозиции своей концепции знания работу под названием «Панпсихия». В ней он ставит в упрек Аристотелю, что тот лишь наполовину реализовал основную идею панпсихизма, превратив тем самым мир в некое чудище, где одушевлена лишь сфера звезд, все же остальное лишено жизни. В действительности же единство жизни не знает таких разрывов и ограничений. Все, представляющееся нам только материальным, содержит в себе жизнь в ее целости и неделимости; она присутствует в самом большом и в самом малом, в самом высоком и в самом низком, в сонме звезд и в элементарных стихиях. Ведь только одушевленное может обладать в действительности бытием и ценностью; мы должны будем отказать в них простым стихиям, если лишим последние присущей им жизни22. Ведь еще теория познания Телезио пытается обосновать единство интеллекта и чувственности таким образом, что укореняет все функции мышления и «рационального» умозаключения в одной функции проведения аналогий: «Intellectionis cujusvis principium similitude est sensu percepta»2* (Начало всякой разумности есть воспринимаемое чувством подобие). Здесь делается попытка более точного определения этого вида аналогии путем подведения под нее некоторого метафизического основания. Всякое заключение «по аналогии» коренится в изначальном сущностном родстве всех разновидностей бытия и без него оказывается тщетным. Всякое понимание, всякое умозаключение восходит в конечном счете к первоначальному
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта...
319
акту «чувствования, которым закрепляется наше родство с бытием в целом. Учение о природе Джироламо Кардано также полностью подчинено подобной игре умозрительных аналогий, правда, притязающих у него на большее - на то, чтобы служить средствами не посредствен но-интуитивного постижения природных связей. Так, метатлы для него — не что иное, как «погребенные растения», продолжающие свое существование под землей; камни также проходят в своем развитии стадии роста и зрелости24.
Подобный тип мировоззрения не столько даже мирится с магией, сколько нуждается в ней: он видит в ней действительное осуществление всякой науки о природе. Когда в своих 900 тезисах и в «Апологии», написанной в их защиту и против обвинения его в ереси, Пико определяет магию как вершину всей природной мудрости и как практический раздел естествознания, то в этой дефиниции он только выражает общую установку всей натурфилософии Возрождения. Она также рассматривает магию как активный аспект природоведения: то, что природоведение представляет как теоретически осознанное сродство, взаимопринаддежность элементов природного целого, магия связывает живым взаимодействием и направляет к общей для них цели. Магия сама не творит чудес - как старательная служанка, она лишь способствует деятельным началам природы. «Она исследует универсальную взаимосвязь, которую греки называют “симпатией”; она, внедряясь в самую суть всех вещей, извлекает из недр земли и ее таинственных кладовых скрытые там сокровища и, словно сама создавая их, выводит их на свет. Как земледелец скрепляет виноградную лозу с опорой, так и мастер магии соединяет брачным союзом Небо и Землю и приводит в соприкосновение высшие силы с миром земным»25. Магия может быть признана во всем своем объеме, но при одном условии — что причину ее действенности нужно искать не вне природы и не над ней, а в самой ее глубине. Не участие демонических сил, а наблюдение самого хода событий и управляющих ими законов - вот что задает направление и указывает цель всем магическим действиям. Именно этот смысл закрепляет за понятием «естественной магии» в своем труде о ней Джамбаттиста Порта. Природа является не столько объектом магии, сколько, скорее, ее субъектом: именно вследствие того, что в природе господствует принцип притяжения сходного и отталкивания несходного, она и является источником и корнем всей магической силы26. К этим заключениям присоединяется и Кампанелла в своем труде «De sensu renim et magia», но, в отличие от Порты, который ограничивался простой констатацией «факта» всеобщей симпатии, оицтчла ndvta, Кампанелла пытается возвести сам этот факт к его умозрительным «основаниям». Та
320
Челопек в контексте культуры
ким образом - в силу смешения разнородных мотивов, характерного для философии Возрождения, — он становится методологом рациональной магии. И если Порта в своем труде ограничивает естественную магию и исторически, и фактически кругом определенных явлений, то Кампанелла настаивает на необходимости возведения ее к ее предельным основаниям и придания ей таким образом подлинно рационального облика27. В то время как мысль Порты погружена в гущу аналогий, устанавливаемых между макрокосмом и микрокосмом, между миром людей и миром стихий, растений и зверей, Кампанелла хочет свести все это многообразие к одному-единственному принципу. Он не удовлетворяется фактом их соответствия друг другу, а задается вопросом об их «причине». Ему представляется, что таким основанием любой связи вещей, их сходства и различия, симпатии и антипатии оказывается их способность к чувственному ощущению: она присуща всем элементам бытия соответственно их месту в иерархической системе, какими бы многоразличными они нам ни казались, и лишь благодаря этому свойству они связаны между собой не только опосредствованно, но и непосредственно, не просто эмпирически, но и в определенном смысле a priori. Ощущение объявляется изначальным онтологически-существенным свойством всего бытия в целом, лежащим за пределами всякой индивидуальной дифференциации к преодолевающим поэтому всякую обособленность элементов бытия, все их видимое несходство между собой. Оно не возникает и не проходит; оно проявляется не только в отдельных органических образованиях природы, но сродни всем ее порождениям. И если, действительно, ни в каком следствии не может содержаться больше того, что было предвосхищено в причине, то ничто чувствующее и живое не может родиться из лишенного жизни и чувства28.
Мы не выводим здесь все те метафизические следствия, к которым приводит эта концепция в системе Кампанеллы, а ограничимся скорее только заключенными в ней определениями методического характера. И тогда во всей своей остроте обнаруживается, что обращение к полноте чувственного переживания эмпирического мира и стремление к его непосредственному охвату и как бы исчерпанию не только не способствовали созданию нового, специфически-современного понятия «природы», но во многом препятствовали его становлению и сдерживали его. И до тех пор, пока посредством математических методов и новых способов мышления, выросших на базе математики, не были выработаны критерии самого опыта, эмпиризм Возрождения был лишен каких-либо объективных ценностных масштабов и принципов отбора все возрастающего эмпирического материала, когда от
Эрнст Кассирер. Проблема шаимоот1кнне1тия субъекта и объекта... 321
дельные, не связанные между собой «факты» наслаивались друг на друга в изобильно пестрой, но в то же время хаотически беспорядочной картине. Призыв обратиться к опыту не может внести в нее какую-либо упорядоченность до тех пор, пока определение опыта само включает в себя совершенно гетерогенные элементы. В доктринах природы XV и XVI вв. закладываются первые основания для точных методов описания и экспериментирования, но непосредственно наряду с этим делаются попытки обоснования «эмпирической магии». Тем и отличается «естественная» магия от «демонической»29, что если одна из них опирается на признание сверхъестественных сил, то другая хочет оставаться в границах природы в ее эмпирической изоморфности и признает только методы индуктивного наблюдения и сравнения феноменов. Но эта форма «индукции» не корректирована еще аналитически-критическим взглядом, на котором - как предшествующем всякому опыту — только и может основываться настоящий «эксперимент». Тогда мир опыта не только оказывается в непосредственной близости к миру чудес — они взаимно перетекают один в другой. Вся атмосфера подобной «науки» о природе изобилует чудесами. Кеплер прославлял Джамбаттиста Порту как изобретателя телескопа, и как бы мы ни относились к этой оценке, Порта внес решающий вклад в основание научной оптики; но он же в своей «Accademia dei Secretin (Академии тайн), основанной им в Неаполе, создал первый крупный центр «оккультных» наук. Во время длительных поездок по всей Италии, по Франции и Испании собирал он по крупицам все, что могло способствовать исследованию скрытых сил природы; с той же целью он стремился непрерывно расширять и обогащать свой компендий естественной магии, опубликованный им еще в 15-летнем возрасте. У него, как позже у Кампанеллы, эмпиризм ведет не к преодолению магии, а лишь к ее кодификации. Там, где опыт рассматривается как простой агрегат фактов, где он определяется по примеру Кампанеллы как «experimentorum multorum coacervation («собирание экспериментальных данных»), не может быть анализа его составляющих и выборки отдельных элементов для систематического созидания образа «природы». Подобное осуществимо лишь в том случае, если исследователь способен провести различение первоначальных элементов опыта, подвергнув его внутренней «критике». И это различение «необходимого» и «случайного», закономерного от фантастически-произвольного удалось не натурфилософским доктринам эмпиризма и сенсуализма, а интеллектуализму математики. И тем не менее не одни интеллектуальные мотивы оказались решающими в этом споре и в конце концов взяли верх — определяющей характерной особенностью
322 Человек в контексте культуры
духовной картины Возрождения является как раз то, что здесь рука об руку с логикой математики шла теория искусства. Именно на основе их взаимной связи и из их союза вырастает новое понятие природной «необходимости». Математику и искусство объединяет одна фундаментальная установка - необходимость «формы», и эта общая задача упраздняет границы, разделяющие теорию искусства и теорию науки. В этом стремлении Леонардо да Винчи непосредственно примыкает к Николаю Кузанскому, а Галилей в своем знаменитом диалоге о двух великих системах мира, раскрывая свои представления о человеческом интеллекте и его роли в построении начал опытного знания, ссылается на Микеланджело, Рафаэля и Тициана30. Здесь в глубинах духа осуществляется новый синтез и с ним вместе - новая корреляция «субъекта» и «объекта»: размышление над свободой человека, его исконными творческими началами требует в качестве своего дополнения и подтверждения понятия имманентной «необходимости» природного предмета.
Во всей своей очевидности этот двойственный процесс находит свое выражение в рукописях Леонардо. Записки Леонардо проникнуты духом неустанной борьбы с «лживыми» науками, обольщающими человека обманчивыми надеждами, внушающими ему иллюзорные мысли о возможности непосредственного господства над природой и ее скрытыми силами. Он упрекает их в том, что они сбивают наш разум с истинного пути опосредствования, пренебрегают единственно правильным средством познания природы - математикой. «Тот, кто хулит высшую мудрость математики, питается одними заблуждениями и никогда не сможет положить конец противоречивому гвалту софистической учености, которая научит разве что вечной трескотне»31. Этими словами Леонардо раз навсегда отделывается от натурфилософских «мечтателей», от «vagabundi ingegni» (блуждающих умов), как он их называет. Пусть даже, по видимости, они и стремятся к высочайшим целям и восходят к последним основаниям природы - значимость объекта их науки не может ввести нас в заблуждение относительно ненадежности самого фундамента такого рода знания. «Ты, живущий грезами, которого больше привлекают софистические уловки и плутовские трюки тех, кто преуспел в вещах впечатляющих, но ненадежных, нежели в естественных и надежных, хотя и не столь значительных на первый взгляд»32. В одно мгновение меняется масштаб оценок, определявших статус той или иной науки в системе средневекового знания. Вспомним, что еще у Салютати юриспруденция стоит выше медицины, поскольку первая имеет дело с законами, т.е. с духовным и божественным, в то время как медицина и естествознание в целом довольствуются вещами низкими,
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 323
материальными. «Мы заботимся о временном, — говорит медицина в книге Салютати «De nobilitate legurn et medicinae» (О достоинстве законов и медицины), - а закон - о вечном, я сотворена из праха, закон же берет начало из божественного ума» (Nos curamus temporalia sed leges aetema, ego de terra creata sum, lex vero de mente divina). Законы оказываются «более необходимыми, чем медицина», поскольку известно, что они происходят непосредственно от Бога33. Но здесь создаются иное понятие и иная норма необходимости, для которых значимость науки определяется уже не величием и возвышенностью предмета знания, но исключительно формой этого знания, специфическим качеством его достоверности. Последняя, certezza, становится собственным и даже единственным «fundamentum divisionis» (основанием разделения) наук. Тогда и математика выдвигается в фокус проблематики познания, ибо достоверность достижима лишь там, где приложима какая-либо математическая дисциплина или же где объект исследования соразмерен с математическими принципами34. Выражение любого знания в форме математического доказательства становится conditio sine qua поп (необходимым условием) для всякой истинной науки: «Nessuna investigazione si po’dimandare vera scienza, s’essa non passa per le mathematiche demostrazioni» (Если речь идет о подлинной науке, никакое исследование не обходится без математического доказательства35). Правда, при всей определенности этого тезиса, рассмотрение его в контексте записок Леонардо в целом создает впечатление колебания мысли их автора между двумя противолож-ными заключениями в определении действительного методического фундамента естествознания. Его основополагающим принципом оказывается в одном случае математика, в другом — «опыт». Мудрость — дочь опыта, а эксперимент — единственно правдивый посредник между изобретательной природой и родом человеческим36. Ошибки, таким образом, никогда не коренятся в опыте, в чувственных данных, но исключительно в рефлексии, в ложном суждении, которое мы о них выносим. Поэтому напрасно жалуются люди на опыт, обвиняя его в обманчивости: «Оставьте в покое сам опыт и отнесите ваши жалобы к вашему невежеству, которое, подчиняя вас суетным нелепым желаниям, побуждает опрометчиво рассуждать о вещах, вам не подвластных»37. И все-таки здесь не утверждается наличие какого-либо принципа достоверности, стоящего рядЪм с математикой или выше ее. Решающим оказывается как раз то, что для Леонардо уже утрачивает значение этот дуализм абстрактного и конкретного, «разума» и «опыта»: оба момента соотнесены друг с другом и связаны между собой: опыт находит свое завершение лишь в математике, и только в опыте математика «дает
324 Человек в контексте кулыуры
свои плоды». Между ними нет не только противоречия, но даже соперничества, а существует лишь отношение дополнительности: ведь подлинный опыт невозможен без анализа явлений, без возведения комплексов данных к их первоначальным основаниям, а для этого нет иного средства, кроме математического доказательства и исчисления. А разве то, что мы называем миром фактов, не является само сплетением «разумных оснований», определяющих начал, которые в своем конкретном бытии и в истории бесконечно многообразно взаимодействуют и переплетаются между собой, и лишь сила мысли позволяет разделить и представить каждую из них отдельно во всей значимости и ценности? Важность самого эксперимента заключается в том, что он способствует этому анализу, что он проясняет и в отдельности прослеживает характер влияния единичных факторов, складывающихся в системные явления. Следовательно, опыт, говоря языком Аристотеля, является только лрбтсроу лрбс; /щец; (первичным по отношению к нам), в то время как математический принцип, на который он опирается, остается лрбтгроу тц cpiiori (первичными по природе). И нет сомнения в том, что все, явленное нам в опыте, в мире феноменов как факт, является только фрагментом, конечной составляющей бесконечно-разнообразной сферы разумных оснований; природа скрывает в себе бесчисленное множество таких оснований, никогда не проявлявшихся в чувственных явлениях38. Подлинный путь исследователя заключается в том, чтобы посредством непрерывного соотнесения опыта с принципами математики упорядочивать хаотическое многообразие явлений на основании определенной меры и строгих правил, превращая эмпирически-случайное в закономерно-необходимое. Наконец-то был найден критерий, недоступный натурфилософии Возрождения, и установлена твердая граница между методическими принципами, на которых построено опытное познание, и чистой «спекуляцией»39, определены правила, позволяющие отделить истину от лжи, отличить объекты научного знания от нереальных и фантастических. Человек постигает, наконец, цель своего знания и его границы, выходит из состояния невежества, обрекающего человека на тщетность всех его усилий и вследствие этого — на отчаяние и скепсис40.
Обычно, когда идет речь о вкладе Леонардо в обоснование точной науки, ссылаются на отдельные достижения современной статики и динамии, которые он предвосхитил в своих записках. Действительно, в них повсеместно обнаруживаются идеи, позже положенные Галилеем в основание его теории движения. Эти наметки касаются закона инерции, положения о тождестве действия и противодействия, правила параллелограмма сил и скоростей,
jpncT Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 325
принципа рычага и того начала, которое позже Лагранж сформулировал как «принцип виртуальной скорости». Но, сколь важным и основополагающим ни было это наследие41, оно не исчерпывает всего круга теоретических достижений Леонардо; последние определяются не столько своими результатами, сколько, скорее, новой постановкой вопроса о современном понятии «природной необходимости», которое Леонардо выдвигает и всесторонне разрабатывает. Давая определение этой «необходимости», он находит для нее методически верные, ключевые характеристики: «La necessity ё maestra е tutrice della nature, la necessity ё tema e inventrice della nature e fireno e regola etema»42 (Необходимость - учительница и хранительница природы; необходимость - прообраз природы и ее создательница, ее мера и вечный закон). Именно в такой постановке проблемы, в выделении таких «тем», значимых для точных наук, и заключается действительное величие Леонардовой мысли. Природа находится под началом разума, внутренне присущего ей закона, который она никогда и нигде не в силах поколебать43. Со-размериться с природой и выведать ее тайны мы можем теперь уже не посредством чувств, не с помощью ощущений и непосредственного жизненного вчувствования, но исключительно на основе мышления в форме «закона основания», который Леонардо понимает как математическое основоположение, сможем мы воистину встать вровень с природой. Именно здесь обнаруживается момент, значимый для оценки влияния Леонардовой мысли на мировоззрение Галилея во всем его масштабе. Словесная формулировка отдельного закона природы может быть у Леонардо подчас шаткой и двусмысленной, но что выражено у него со всей определенностью — это идея и дефиниция самого естественного закона. Здесь Галилей непосредственно примыкает к Леонардо, только продолжая и развивая начатое им. И для Галилея природа не столько «содержит» в себе необходимость, сколько сама является необходимостью; необходимость решающим образом отделяет то, что мы называем природой, от царства грез и поэтического вымысла. Когда Галилей критикует умозрительную натурфилософию, он ставит ее в один ряд с аристотелевской и схоластической доктринами на том основании, что все они пренебрегают указанным различием. В своей книге «II saggiatore» (Мудрец) он замечает, что данные системы рассматривают философию как книгу, в которой меньше всего может идти речь об истинности написанного, видя в ней плод фантазии, подобно «Илиаде» или «Неистовому Роланду». «Но дело обстоит совсем не так - ведь философия вписана в великую, всегда раскрытую перед нами книгу природы, и ее никто не в состоянии прочитать, не открыв прежде для себя те знаки, из
326 Человек* в контексте культуры
которых она складывается, то есть математические фигуры в их необходимых взаимосвязях»44. Логико-математическая связь бытия и события раскрывается нам только в форме такой взаимосвязи, в строго однозначном соотнесении «причины» со «следствием» и «следствия» с «причиной». При всей близости их взглядов на природу, к данным выводам Леонардо и Галилей пришли разными путями: когда Галилей проводит границу между объективной истиной природы и миром сказок и фантазий, он относит к последним также поэзию и искусство в целом. Для Леонардо, наоборот, искусство никогда не было детищем субъективной фантазии, но всегда остается истинным и необходимым инструментом самого постижения реальности и по своей имманентной истинности не уступает науке. Как в искусстве, так и в науке Леонардо не допускает господства субъективного произвола, но почитает в обоих явление всемогущей необходимости как смыслового содержания природы и ее первооткрывательницы, ее узды и извечного правила. Как и Гёте, он четко отграничивает художественный «стиль» от всякого рода случайностей индивидуальной «манеры»; и для него стиль также опирается «на глубочайшие основания познания, на сущность вещей, - в той мере, в какой дозволено нам постигать ее в зримых и доступных образах». Эта зримость и доступность образа становится опорой и для Л&ъмдущъ-исследовагпеля\ она очерчивает тот круг, в котором, по его мнению, осуществляются всякое человеческое познание и постижение реальности. Высшая цель науки в понимании Леонардо заключается в том, чтобы всецело измерить пространство зримых образов, вычленить каждый из них в ясной и о1четливой форме и с полной определенностью представить его перед нашим внутренним и внешним взором: граница созерцания необходимо оказывается также и границей понимания. Поэтому и все, что охвачено его разумом как художника, так и исследователя, будет всегда «миром очей», но этот мир должен открываться ему не по частям и фрагментарно, но во всей полноте и системности45.
Мы рискуем подвести Леонардово понятие знания и его научные достижения под неверный масштаб, когда недооцениваем эту принципиальную постановку проблемы, замещая ее теми, которые встали перед математическим естествознанием уже в более поздние времена. В последнее время делаются попытки дискредитировать это понятие Леонардо и ограничить его значение для истории познания. Они осуществляются с двух различных сторон: так, Кроче в своем очерке «Леонардо как философ» сближает его с великими современными естествоиспытателями, Галилеем и Ньютоном, но отказывает ему в способности заглянуть во внутренний мир человека, в истинную сферу духа и умозрительного познания46. Олъшки
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 327
в своей «Истории новоевропейской научной литературы» упрекает Леонардо в обратном: «Создается впечатление, - пишет он, — что Леонардо пугают достигнутые в науке на пути индукции и дедукции генерализации, что он, чувствуя себя неспособным удовлетвориться ближайшими абстракциями, предпочитал прибегать к интуитивным свидетельствам, выраженным в рисунках». Но оба эти суждения -одно, критически оценивающее Леонардо по нормам спекулятивного идеализма, и другое - с точки зрения современного позитивизма, забывают слова Гёте о существовании также и «строгой чувственной фантазии», подчиняющейся своим собственным правилам и обладающей своей внутренней мерой. И именно Леонардо как никто другой сумел показать, насколько эта строгая фантазия может способствовать эмпирическому исследованию. Нет ничего ошибочней, чем видеть в его научном творчестве простое смешение остро подмеченных фактов и фантастических «мечтаний»47, поскольку здесь фантазия не просто присоединяется к восприятию, но сама является живой носительницей восприятия; она указывает ему путь и придает ему отчетливость, резкость и определенность. Соответственно, идеал науки у Леонардо также ориентирован на совершенное созерцание, на super vedere\ образный ряд превалирует в его записках по механике, оптике и геометрии, а «абстракция» и «видение» неотделимы в них друг от друга48. Но именно этому союзу обязана его исследовательская деятельность высшими своими достижениями. Сам Леонардо признается, что он наблюдает эффект сужения и расширения зрачка под воздействием света прежде всего как художник, а лишь затем анализирует его как теоретик^. Таким образом, картина природы оказывается у Леонардо повсеместно методически необходимым пространством приложения различных сил: только художественное «видение» завоевывает для научной абстракции ее права и прокладывает ей путь. «Строгая фантазия» художника Леонардо поднимается над хаотическим буйством субъективного ощущения, грозящего утопить все образы в неразличимой стихии единства; и в то же время она, в противовес чисто понятийным абстрактным различениям, упорно придерживается реальности зримого. Именно в созерцании, не выше и не ниже его, открывается нам подлинная, объективная необходимость. Тем самым и необходимость обретает новый смысл и звучание. Если ранее необходимость как regnum naturae (царство природы) противостояла царству свободы и духа, то сейчас она становится печатью самого духа. «О, чудесная необходимость, — пишет Леонардо, — с высочайшей разумностью принуждаешь ты все следствия к участию в их причинах и всякое естественное действие кратчайше:.: путем подчиняешь ты себе в соответствии с высшим и непреодолимым законом... Кто способен объяснить это
328 Человек в контексте кулыуры
чудо, возвышающее человеческий рассудок к божественному созерцанию?.. О могучий инструмент искусной природы, тебе и подобает быть послушным закону, которым Бог и время наделили творящую природу»50. В действительности лишь художественное созерцание раскрывает господство необходимости и его глубочайший смысл. Слова Гёте о том, что прекрасное есть манифестация тайных законов природы, которые вне такого проявления оставались бы навечно сокрытыми для нас, звучат вполне в духе Леонардо и выражают самую суть его идей. Пропорция в ее внутренней законосообразности является для него посредником и связующим звеном между природой и свободой: в ней, как в устойчивом и объективном, обитает дух, и в ней же одновременно обретает он себя и свои собственные правила.
Наверное, имеет смысл подробнее остановиться на этом универсальном параллелизме теории искусства и теории науки — ведь именно в нем раскрывается нам один из глубочайших духовных мотивов Возрождения. Можно сказать, что почти все великие достижения Возрождения как в фокусе отражены здесь, что почти все они коренятся в новой постановке проблемы формы и в особой чувствительности к форме. Поэзия и изобразительное искусство указывают на подобное фундаментальное отношение. Боринский показал, какое значение имела поэтика Возрождения для формирования его духовно-человеческого идеала жизни в целом: «Этот поворот в духовном освоении мира... способствовал в первую очередь также пониманию того значения, которое классическая древность... имеет для новой духовной эры. И средневековье, конечно, было достаточно связано с античностью. В этом отношении благодаря культурной монополии церкви, упразднившей античную традицию, последняя, собственно, никогда не была полностью отвергнута; скорее наоборот - в эпоху Каролингов, Оттонов, Гогенштауфенов были созданы предпосылки для великих духовных преобразований. Но в общем и целом влияние античности на эту эпоху можно определить (используя удачное во всех смыслах выражение) как “материальное ”. И эта “материальная античность” еще достаточно долго отзывается в собственно ренессансные времена. Указанный поворот в отношении личности к традиции древности выражается, однако, в сфере формы: начиная с формы личного бытия в его чувствовании, мышлении, жизни вплоть до формотворчества по антично-классическим канонам в поэзии и искусстве, в обществе и государстве»51. Едва ли можно назвать хоть одну область духа, в которой не сказалась бы эта связь, этот своеобразный примат формы в мышлении и в жизни Возрождения. Впереди всех здесь идет лирическая поэзия — она стала первой и влиятельнейшей носительницей новой воли к форме.
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 329
В «Vita nuova» (Новая жизнь) Данте и в сонетах Петрарки чувство формы даже в определенной мере опережает чувство жизни: последнее кажется еще скованным кругом традиционно-средневековых норм чувствования и созерцания, в то время как первое, чувство формы, становится подлинно освобождающей и разрешающей силой. Здесь сила лирического выражения уже не довольствуется описанием ставшей, сложившейся в себе действительности внутреннего мира, но открывает и создает саму эту реальность. Новый лирический стиль становится истоком новой жизни. Проследив философские источники этого стиля, мы придем к средневековой философии, прежде всего к аверроизму. Данная проблематика, как и весь аллегорический, понятийный язык этой лирики, раскроются нам в том случае, когда мы свяжем их с их историческими предпосылками — с поэтической традицией трубадуров и со схоластической ученой традицией52. Но та новая форма, в которую отливалось это традиционное содержание, сама несла в себе тенденцию к прогрессирующему изменению этого содержания. Аналогичное соотношение формы и содержания обнаруживает также и сфера логики: и в этом случае новое ренессансное чувство языка, выращиваемое в среде гуманистов, повсеместно проявляет себя как непосредственная движущая сила мысли. Стремление к чистоте языка, к освобождению от «варварских» псевдоформ схоластической латыни формирует и новый образ диалектики. Латинские элеганции Валлы служат той же цели, что и его диалектические беседы: и те и другие добиваются ясности, простоты, чистоты речи, что непосредственно само по себе должно вести к опрощению и очищению мысли. Учение о членении речи преобразуется в концепцию всеобщих мыслительных структур; стилистика становится прообразом и руководством к учению о категориях. Всем, что по своей сути содержат в себе философия, логика и диалектика, они обязаны «королеве-речи» {«Omnia quae philosophia sibi vendicat, nostra sunt», — говорит гуманист и ритор Антонио Панормита в диалоге Валлы об удовольствии53). Существует представление о том, что глубочайшей основой гуманизма, великим, объединяющим всех гуманистов началом, является не индивидуализм или политика, не философия или общая религиозная идея, но исключительно одно художественное чувство54. И мы видим, что это же художественное чувство придает конкретную определенность также л новому понятию природы, рожденному в недрах науки Возрождения. Художественное творчество Леонардо и его научные открытия связаны не только его личностью, как чаще всего думают, но и подлинно предметным единством. Благодаря последнему приходит он к новой идее о связи «свободы» и «необходимости», «субъекта» и «объекта», «гения» и «природы». Кажется, что прежняя худо
330 Человек в контексте культуры
жественная теория Возрождения, на которую опирается Леонардо и которую он развивает, вырывала пропасть между этими понятиями. В своем «Trattalo della pittura» (Трактат о живописи) Леон Баттиста Альберти как раз и предостерегает художника от упования на свой гений (ingegno) в ущерб его погружению в великий образец «природы»: он должен избегать пути глупцов, которые надеются заслужить похвалы в живописи, полагаясь лишь на свой талант и отказываясь следовать какому-либо примеру природы, открывающемуся их глазу или рассудку55. Для Леонардо же данного противоречия уже не существует: у него творческая способность художника имеет такой же вес, как и творческая способность теоретического, научного мышления. Наука — это второе творение, опирающееся на разум, а живопись — второе творение, осуществляющееся на основе фантазии (la scienza ё una seconda creazione latta col discorso, la pittura e una seconda creazione fatta colla fantasia), но оба эти творения только тогда обретают свою ценность, если, не удаляясь от природы, от эмпирической, предметной истинности, постигают и открывают саму эту истину. Эта своеобразная форма взаимоотношений между «природой» и «свободой» была невозможна до тех пор, пока их противоположность рассматривалась исключительно сквозь призму этических и религиозных категорий, поскольку здесь, в сфере воления, они складывались в альтернативу, перед которой оказывался морально-религиозный субъект. Он мог встать на ту или иную точку зрения: выбрать природу против свободы и благодати или предпочесть «regnum gratia?» (царство благодати), свободы и провидения природе. Но Леонардо с самого начала поднимается над этой дилеммой, являющейся, к примеру, главной темой речи Пико о достоинстве человека. Для Леонардо природа больше не представляет собой царства бесформенного, чистой материи, противящейся господству формального принципа. Глядя на нее сквозь призму искусства, исключительно взглядом художника, он видит в ней не нечто безобразное, но скорее мир всепронизывающего совершенного формотворчества. Пусть в ней и царствует необходимость как ее внутренняя связь и вечная норма, но это необходимость не одной лишь материи как таковой, а необходимость чистой «пропорции», которая внутренне сродни духу. Пропорция открывается не только в числе и мере, но и в звуковых тонах, в тяжести тел, во времени и в пространстве, словом, во всех качествах вещей56. Посредством этой внутренней меры и гармонии природа уже как бы очищена и возвышена, она больше не противостоит человеку как враждебная и чуждая ему сила. Ведь даже если она предстает как нечто неисчерпаемое и просто бесконечное, мы удостоверяемся в том, что ее бесконечность — не что иное, как бесконечности «infinite ragione» (бесконеч
)рнсг Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 331
ных разумных принципов) математики, которые все же доступны нашему познанию в их предельных основаниях, в их началах, пусть даже для нас никогда и необозримо все их смысловое пространство. Идеальность математических построений поднимает дух к его высочайшим вершинам, приводит его к подлинному совершенству и тем самым устраняет границы, установленные средневековым миросозерцанием между природой и духом, с одной стороны, и между человеческим и божественным интеллектом — с другой. К такому же смелому заключению позже придет и Галилей. В своем диалоге о двух системах мира он утверждает, что мы можем оценивать масштабы нашего знания в двух смыслах — в зависимости от того, рассматриваем ли мы знание в его интенсивном или экстенсивном аспектах. Если взглянуть на знание с точки зрения количества доступного познанию материала, то доля человеческого рассудка в нем окажется ничтожной. Но если, отвлекаясь от объекта знания, мы обратимся к его основаниям и началам, — к тому, что делает его знанием как таковым, то нам откроется другая картина. «И я скажу здесь о том, чтб человеческий разум понимает с неменьшим совершенством, в чем он обладает не менее абсолютной достоверностью, нежели природа: таковыми являются чистые математические науки. Хотя божественный интеллект постигает математические истины с бесконечно большей, чем наш, полнотой (ведь он охватывает их все), тем не менее даже в том немногом, что доступно нашему познанию, мы можем, как мне кажется, по объективной его достоверности сравняться с Богом, поскольку человек достигает здесь той степени созерцания необходимости, за пределами которой уже не существует никаких более высоких уровней достоверности»57.
В этих рассуждениях также устанавливается истинное соотношение между художественной фантазией и действительностью, между «гением» и «природой» - они нисколько не противоречат друг другу: подлинная художественная фантазия вовсе не стремится вырваться из природы в царство чистых объектов воображения, но схватывает внутренне присущие ей, вечные законы. Поскольку — и в этом Леонардо вновь согласуется с Гёте — «закон, выступающий в явлении в величайшей свободе соответственно своим глубочайшим предпосылкам, порождает объективно прекрасное, которое, конечно, должно найти достойных субъектов, способных к восприятию его»54. Творческая способность художника, его фантазия, творящая «вторую природу», состоит не в том, чтобы изобретать этот закон, как бы создавая его из ничего, а в том, чтобы открывать его и свидетельствовать о нем. В акте художественного видения и художественного изображения происходит отделение необходимого от случайного: в нем сущность вещей обнаруживает себя, находя
332 Человек н контексте культуры
свое зримое выражение в их форме. И в этом случае научная теория опыта, как она была сформулирована Галилеем и Кеплером, будет непосредственно смыкаться с тем основополагающим понятием и фундаментальным требованием «точности», которое было выдвинуто и поддержано художественной теорией. Обе они — и теория искусства, и теория познания точных наук - проходят здесь одни и те же фазы мыслительного движения. Исследователи справедливо считают важнейшим моментом художественной теории Возрождения то обстоятельство, что в ней впервые был поколеблен «союз Pulchrum (красоты) и Вопит (добра)», на протяжении всего средневековья удерживавший искусство в теологически-метафизической сфере, и тем самым начался процесс автономизации эстетической предметности, получивший свое теоретическое обоснование лишь больше чем три столетия спустя59. Но ослабление указанного союза сопровождается, с другой стороны, усилением иной связи: чем больше «Pulchrum» отделяется от «Вопит», тем сильнее ее связь с «Verum» (истиной). Подобно тому, как Леонардо предостерегает художника от «подражания чужой манере», называя не сыновьями, а только внуками природы тех, кто вместо изучения творений природы штудирует других творцов60, так и Галилей настойчиво отвергает схоластический метод за то, что в нем осмысление и интерпретация феноменов подменяются толкованием произведений тех или иных писателей. Так же как Леонардо, и Галилей, в свою очередь, неустанно подчеркивает, что закон, определяющий явления, и ragioni (разумные принципы), лежащие в их основании, не могут быть обнаружены в непосредственном чувственном восприятии явлений, но требуют для своего открытия самодеятельности математического рассудка. Ибо вечное и необходимое в вещах мы познаем не путем простого нагромождения данных чувственного опыта и сопоставления их между собой — дух должен, напротив, постигнуть его «в самом себе», чтобы вновь встретиться с ним в явлениях. Вещи истинные и необходимые, т.е. те, которые не могут быть иными, чем они есть, познаются разумом из самого себя (da per se), в противном случае он не познает их никогда61. Также и любой эксперимент, любой вопрос, обращенный к опыту, предполагает для себя предварительный интеллектуальный «проект» мысли, «mente concipio» (мысленное порождение), по словам Галилея. В нем мы предвосхищаем некоторую закономерность природы, чтобы затем через испытание опытом возвысить ее до достоверности факта. Так и здесь определения объективно-закономерного, твердые начала меры, определяющие все природное и господствующие над ним, не просто извлекаются из опыта, но сами положены в его основание в качестве «гипотез» — чтобы получить в нем свое под
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 333
тверждение или быть опровергнутыми. В этом контексте складывается новое соотношение между «рассудком» (discorso) и чувством, опытом и мышлением, на котором, как считает Галилей, покоится все естествознание; соотношение, представляющее точный аналог той связи, которую устанавливает художественная теория Возрождения между фантазией художника и «объективной» реальностью вещей. Сила духа как художественного, так и научного гения состоит не в необузданном своеволии, а в их исключительной способности научить нас видеть и познавать «предмет» в его истине, в его высшей определенности. Гений художника и гений мыслителя обнаруживают необходимость в природе, но пройдут еще сотни лет, прежде чем эта мысль обретет четкую теоретическую форму, когда в «Критике способности суждения» будет заявлено, что гений - это тот природный дар, посредством которого «природа в субъекте» дает правила искусству. Но путь к этой цели уже точно очерчен62, и только на этом пути Возрождению удалось преодолеть магию и мистику, как и весь комплекс «оккультных» наук. Союз математики с теорией искусства позволил достичь такого результата, который был невозможен для методов эмпирически-чувственного наблюдения или непосредственного вживания в «глубины природы». Здесь формируется подлинно современная идея природы, которая — как синтез теоретического и художественного духа Возрождения — в своей наиболее совершенной форме выражается в книге Кеплера о мировой гармонии. Сам Кеплер определяет эту связь вполне в платоновских терминах: законы гармонии являются основоположениями природы, которые только потому обнаруживаются нами в эмпирической, чувственно-зримой действительности, что все видимое сотворено на основании вечных «архетипов» порядка и меры, по математическим и геометрическим моделям. И даже Галилей - великий ученый-аналитик, всегда тщательно отличающий реальности эмпирические от метафизических, логические от эстетических, также был убежден в данном случае в общности происхождения художественного и научного духа, их общем корне: они оба представляют для него различные виды формотворчества, причем он без тени сомнения и непредвзято отдавал предпочтение творческой способности, живущей в великих художниках, перед чисто теоретическим взглядом на вещи. В том же самом фрагменте, где он смело сопоставляет человеческий интеллект с божественным, Галилей для того, чтобы подчеркнуть эту высоту человеческого духа, ссылается на деятельность художника, бесконечно, по его мнению, превосходящую продуктивную силу ученого: «Пробегая глазами разнообразные, удивительные открытия человечества в науках и искусствах и сравнивая с ними мои познания, не позволяющие
334____________________________________Человек в контексте культуры
мне надеяться на возможность совершить какое-либо открытие, разве что на усвоение уже открытого, я стою в растерянности, предаюсь совершенному отчаянию и чувствую себя почти что несчастным. Разглядывая превосходную статую, я говорю себе: когда же и ты научишься извлекать из глыбы мрамора ядро, подобное этому, выводить на свет сокрытую в нем величественную форму, или же, смешав различные краски, изображать на холсте или на поверхности стены все царство зримого, как Микеланджело, Рафаэль, Тициан?»63 В этом сопоставлении теории искусства с теорией опытного познания вновь звучит мотив, уже знакомый нам по умозрительным построениям морально-религиозного характера: человеческий дух вновь предстает как второй творец, как «истинный Прометей при Юпитере». Мы видим, как мысль Возрождения, идя многообразными путями, с разных сторон вновь и вновь возвращается к образу Прометея, который, раздвинув рамки простой аллегории, становится для Возрождения символом всех его духовных исканий.
Наряду с открытием нового понятия природы и скорее даже в процессе этого открытия вновь расширяется и углубляется историческое сознание Возрождения. Оно открывает для себя новые подходы к интеллектуальному миру классической Греции и новые пути от позднеантичной эллинистической философии к идеализму Платона. При этом речь идет не о простом усвоении подлинного платоновского духовного наследия, но об истинном «анамнезисе» платоновского учения, а именно — о его восстановлении из оснований самой мысли. Чтобы ярче и отчетливее представить себе этот процесс, достаточно только вспомнить то место из «Федона», где раскрываются глубочайшие мотивы платоновской теории идей и ее действительное происхождение. И сам Платон связывал восхождение к основоположениям своей философии с открытием совершенно нового способа исследования бытия, предполагающего разрыв со всей методологией досократовской философии. Как сообщает сам Платон, он тоже испытал в своей юности неудержимое стремление к той мудрости, которая называется познанием природы: что могло быть, казалось бы, великолепнее, нежели исследование причин всего, посредством чего что-либо возникает, пребывает и исчезает. И подобно натурфилософам, он попытался удовлетворить это стремление тем, что положился на чувственное восприятие, надеясь постичь вещи глазами, ушами и другими отдельными органами чувств. Но чем дальше он продвигался на этом пути, тем очевидней для него становилось, что на нем невозможно познать истину сущего (tojvovtcdv 1s] «Послетого, — продолжал Сократ, — как
я отказался от исследования бытия, я решил быть осторожнее, чтобы меня не постигла участь тех, кто наблюдает и исследует солнеч
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения су(уьекта и объекта... 335
ное затмение. Иные из них губят себе глаза, если смотрят прямо на Солнце, а не на его образ в воде или еще в чем-нибудь подобном, -вот и я думал со страхом, как бы мне совершенно не ослепнуть душою, рассматривая вещи глазами и пытаясь коснуться их при помощи того или иного из чувств. Я решил, что надо прибегнуть к отвлеченным понятиям и в них рассматривать истину бытия, хотя уподобление, которым я при этом пользуюсь, в чем-то, пожалуй, и ущербно. Правда, я не очень согласен, что тот, кто рассматривает бытие в понятиях, лучше видит его в уподоблении, чем если рассматривать его в осуществлении. Как бы там ни было, именно этим путехМ двинулся я вперед, каждый раз полагая в основу понятие, которое считал самым надежным; и то, что, как мне кажется, согласуется с этим понятием, я принимаю за истинное — идет ли речь о причине или о чем бы то ни было ином, — а что не согласно с ним, то считаю неистинным» («Федон», 99е—100а).
В этих словах выражена сущность нового образа мышления Платона в его отличии от всей греческой натурфилософии. Известно, что определения Платона относительно натурфилософии затрагивают и Анаксагора, — Платон считает, что voi)£ Анаксагора также не заслуживает своего имени: ведь при ближайшем рассмотрении он оказывается обозначением всего лишь некоторого движущего начала, т.е. простой природной потенции. Только отход от непосредственно-чувственного постижения природных вещей, «бегство к логосу», ведет к созерцанию сущего. Это бегство к логосу означает для Платона и бегство к математике. В нем находит свое выражение идея бгйтсрод лХой£ (второго плавания), которое только и подводит нас к границам мира идей. Если сравнить движение платоновской мысли со становлением понятия природы в эпоху Возрождения, то можно только удивляться, насколько совпадают эти два процесса даже в своих отдельных фазах64. И Возрождение также сначала идет по первому пути непосредственно-чувственного постижения природы. Утверждение Телезио, что всякое познание в конечном счете можно возвести к контакту человеческого Я с вещами, сразу же вызывает в нашей памяти насмешливые слова Платона о тех, кто считает возможным ухватить бытие «прямо-таки руками» (олр15 tciIv xripoiv). Но ведь именно это стремление и привело к тому, что глубокие «истины» природы, ее всеобщие закономерности оказались скрытыми от натурфилософии, и это вновь погрузило ее во тьму мистики и теософии. И только новое возвращение к «логосу» освободило путь к построению науки о природе. Те начала, которые должны быть положены в основание и которые Платон называл Хбуоц получают у Леонардо название ragioni («разумные принципы») - их-то и выявляет в опыте наше познание. При всей
336 Человек в контексте кульчу ры своей, несомненно, высокой оценке эмпирического опыта Леонардо, не колеблясь, отдает предпочтение рациональным началам перед чувственным наблюдением как таковым: «Nessuno effetto ё in nature sanza ragione; intendi la ragione e non ti besogna esperienzia»65 (Нет в природе никакого явления без участия разумных принципов: постигни свой разум - и опыт окажется излишним). Тот же мотив господствует в исследованиях Галилея. Фундаментальные законы природы, по его мнению, не являются закономерностями непосредственно данного, фактически удостоверяемого, но они полностью определены сферой идеальных явлений, которые никогда не могут однозначно реализоваться в природе. Но это не может служить основанием для сомнения в их истинности, «объективности». То, что природа никогда не показывает нам «тела, предоставленного самому себе», не может вызывать возражения против принципа инерции, — так же как и отсутствие в природе тел, обладающих спиралевидным движением, не отменяет Архимедовых законов о спирали. Когда мы замечаем регулярные соответствия между Леонардо и Галилеем, с одной стороны, и Платоном - с другой, то в сравнении с ними утрачивает важность вопрос, на каком из запутанных исторических путей мысль итальянских ученых встречается с подлинным интеллектуальным наследием Платона. Даже в столь богатой удивительными событиями духовной жизни Леонардо вызывает удивление тот факт, что он, живя в атмосфере неоплатонизма во Флоренции XV в., оказался практически невосприимчивым к духу неоплатонизма. Привело же его к историческому Платону и даже сделало в определенной мере платоником вопреки Фичино и Флорентийской академии как раз то, что он как художник, теоретик искусства и ученый-исследователь подпал под чары платоновского девиза: «ццбск; eIoItcd а уг.соцётрцхоф» (Не геометр — да не войдет). Леонардо полностью усвоил смысл этих слов: «Non mi legga chi non e matematico nelli mia principi»66 (Тот, кто не подпадает под мои критерии математика, пусть меня не читает). В свою очередь, вполне сознательно и ясно выразил это новое отношение к платоновской доктрине Галилей: обращение к платоновской теории знания становится лейтмотивом его произведений, и прежде всего диалога о двух величайших системах мира. Платоновскому учению об ftvfyivrpu; (припоминании) обязан он своей идеей «априорного» - da per s6. Этим понятием, выражавшим спонтанность духа и объявлявшим автономию теоретического разума, он разрывал тот магический круг, в который заключена была натурфилософия Возрождения; в нем же одновременно осуществились прорыв в свободное пространство объективного познания природы и возврат от эллинизма к классической античности. «Мы находимся в фаустовской эпохе, -
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 337
подводит итоги развития астрологических идей Возрождения Варбург в своей книге о Лютере, — когда ученый, стоя на границе между магической практикой и космологической математикой, пытается завоевать пространство для рассудочной деятельности в промежутке между своим Я и объектом. И каждый раз заново придется отвоевы вать Афины у Александрии»67. Это «отвоевывание Афин у Александрии» и было той целью, в стремлении к которой совпали худохсе-ственная теория Возрождения и концепция точного естествознания. «Пространство для рассудочной деятельности» завоевывалось путем воскрешения платоновского логоса и сократовского-Платоновекого призыва к Xoyov diddvai (приданию смысла). Так новое представление о смысле и цели познания порождает и новое понимание природы. Натурфилософия Возрождения ставила своей целью ни больше, ни меньше как теоретико-познавательное обоснование и оправдание магии; Кампанелла выводил возможность магии из того же принципа, что и возможность познания. Ведь мы не могли бы и «познавать», если бы субъект и объект, человек и природа не были по существу и изначально едины. Мы только тогда действительно познаем предмет, когда сливаемся воедино, прямо-таки превращаясь в него. «Cognoscere est fieri rem cognitam» (Познавать — значит самому становиться тем, что познал), - говорит Кампанелла', «познавать — значит слиться с познаваемой вещью воедино» (cognoscere est coire cum suo cognobili), — гак определяет акт познания Латриц-ци. Это отношение, выступающее в знании в теоретической форме, реализуется в магии только в своем практическом аспекте: последняя показывает, что на основе тождества субъекта и объекта субъект может не только понимать объекты, но и владеть ими; он подчиняет природу не только своему разуму, но и своей воле. Таким образом, магия (понимаемая как магия «естественная», а не «демоническая») становится приоритетной составляющей естествознания, а также и «завершением философии». Если дозволено видеть в понятии обозначение некоторого совершенного представления и воплощения предмета, добавляет Пико делла Мирандола, то мы можем прилагать имя магии с полным правом ко всей науке и ко всей философии, подобно тому, как мы привыкли называть «Римом» город вообще, «Вергилием» — поэта, а «Аристотелем» — философа6*. Однако ни теория искусства, ни точное естествознание не могли следовать в этом натурфилософии - они, в противоположность магико-мистическому взгляду на природу, были захвачены общим для них стремлением духа — волей к чистому образу. А любой образ, несет ли он в себе теоретический или эстетический смысл, требует ограничения и связности, тяготеет к четкому и ясному абрису предметов. Там, где природа должна претвориться в образ или по
338 Человек в контексте культуры
лучить в мышлении свое необходимо-закономерное выражение, ни пантеизм, ни панэнтеизм чувства уже оказываются недостаточными: тяга к растворению всего сущего в их всеединстве сталкивается в этом случае с противоположным стремлением — склонностью к обособлению и специфическому выражению. Ни искусство, ни математика не могут позволить субъекту войти в объект или одному раствориться в другом: ибо только при удержании между ними определенной дистанции возможно сохранение пространства как для художественного образа, так и для логико-математического мышления.
Подобное взаимодействие двух основополагающих духовных начал Возрождения привело еще к одному результату - оно способствовало преобразованию и радикальному пересмотру теоретического представления о «чувственности». Мы уже знаем, что общий образ природы вырастает у Леонардо из неповторимых глубин его личности и из его точной чувственной фантазии. И если у Пико магия становится «вершиной философии» (apex et fastigium totius philosophiae), то для Леонардо, как следует из его «Трактата о живописи», на это звание, кажется, притязает живопись: кто презирает живопись, тот не любит ни философии, ни природы69. Но здесь, в представлении о смысле и ценности изобразительного искусства, и расходятся пути Возрождения и платоновской философии, которая видела в искусстве лишь элементы «миметического», подражательного принципа и вследствие этого отлучала его, как идолотворче-ство, от подлинного созерцания идей70. Насколько глубоко укоренено в самой сущности ренессансного мировоззрения его отношение к искусству, можно судить по тому, что и спекулятивный идеализм также принимает во внимание ту новую постановку проблемы и прилагает усилия к ее систематическому освоению. Доктрина Николая Кузанского не содержит в себе самостоятельного эстетического учения, но зато в своей теории познания она, в противоположность Платону, открывает для чувственности новое пространство и придает ей новый ценностный смысл. В этом смысле характерным и существенным является то, что Кузанец апеллирует к Платону и непосредственно опирается именно на те разделы платоновской философии, где сам Платон, будучи более снисходительным к чувственности, чем обычно, кажется, признает за ней некоторую, пусть даже относительную и обусловленную, меру истинности. Он цитирует те места из платоновского «Государства», где говорится об отдельных комплексах чувственных ощущений, которые, хотя и опосредствованно, способствуют достижению целей познания именно в силу заключенных в них противоречий: последние не дают душе успокоиться на уровне простого восприятия. Именно эти противо-
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта...339 речия и выталкивают мышление из чувственной сферы и становятся его «параклетами» («утешителями», «заступниками»): бессмысленность мира чувственного заставляет искать истинный и подлинный смысл в ином месте — в сфере didvoux (рассудка, разума)71. Ното, что Платон ограничил одним особым видом чувственного восприятия, Николай Кузанский распространяет на весь род: не только тому или иному виду восприятия - всему чувственному опыту в целом присуще это живительное, деятельное свойство. Пока интеллект не будет побужден к свойственному ему движению посредством чувственности, он не сможет прийти к осознанию себя самого и своих возможностей. Но если данное побуждение и толкает его к чувственному миру, то эго происходит не для того, чтобы он погрузился в этот мир, а чтобы поднял его до своей собственной высоты; его видимое падение в чувственность означает скорее ее восхождение к нему. Ведь в «инакости» мира чувственного он видит уже свое собственное необратимое единство и тождество; в самоотдаче тому, что видится ему сущностно чуждым, находит он свое совершенство, свое самооткровение и самопостижение72. Опыт уже не рассматривается как антагонист и противник основных начал теоретического познания и научного разума, а выполняет роль собственного их посредника, пространства их реализации и испытания. Для Леонардо и Галилея противоречие разрешается в простом взаимоотношении противоположностей. Различие разума и опыта определяется не чем иным, как различием векторов. Леонардо пишет в одном из своих исследований о принципе рычага: «Мое намерение заключается в том, чтобы сначала осуществить эксперимент, а затем, опираясь на разумные основания (colla ragione dimonstrare), показать необходимость именно этого, а не иного результата. В этом и проявляется воистину то, что можно назвать предвосхищением природных эффектов исследователем природы: ведь, хотя природное действие начинается из определенных оснований и завершается в опыте, мы должны идти противоположным путем - начинать с эксперимента и на его основе исследовать основания (ragione)»73. У Леонардо, как и у Галилея, который различал и одновременно соотносил между собой «резолютивный» («аналитический») и «композитивный» («синтетический») методы исследования, речь идет о действительно круговом процессе: от явлений мы идем к их «основаниям», а от них — снова к явлениям. В нем снимается то резкое различие, которое Платон проводил между путем диалектиков и путем математиков™. Диалектический путь «вверх» и математический путь «вниз» -один и тот же, поскольку каждый из них представляет только определенный этап в циклическом пути познания. Тогда в новом свете предстает перед нами и соотношение между чистой теорией и ее
340 Человек в контексте культуры
приложением. Платоновская теория познания тоже предполагает существование некоей «прикладной» математики и отводит ей в системной иерархии знаний совершенно определенное место. Можно даже сказать, что Платон в своем известном определении задач современной ему астрономии - «спасения» небесных феноменов посредством отнесения и возведения их к системе строго упорядоченных движений - впервые придал строгий, методически выверенный смысл идее «приложения» математики к природным явлениям. Но и в этом случае для Платона познание природы, постижение чувственных явлений как таковых не является тем не менее целью самой по себе: это знание служит лишь предпосылкой для чистой теории. Диалектик обращается к астрономии не из интереса к ее предмету, но ради проблем, которые она ставит перед математиком, а тем самым — перед чистой мыслью. Он не хочет погружаться в восторженное созерцание «многокрасочных трудов небес», а оставляет небесные тела в стороне, поскольку хочет действительно освоить астрономию и использовать еще неиспользованное разумное по своей природе начало своей души75. Соответственно, установка истинного философа-астронома оказывается не эмпирической, а пропедевтической; она ориентирована не на чувственный мир как таковой, а на тот «поворот» души, который обращает ее от мира чувственного к миру чистых идей. Мышление Возрождения, однако, даже там, где оно непосредственно возрождает подлинно платоновские мотивы, обозначает решительный перелом в рассматриваемой традиции; опытное познание только в нем и завоевывает свои действительные права. Как и прежде, эмпирическое содержание прочно привязывается к его математической форме, но эта связь выступает уже в определенном смысле под противоположным знаком. Эмпирическое не должно быть просто снято в идеальном и тем самым лишено своего специфического характера. Наоборот, именно идеальное должно находить в эмпирическом свое истинное осуществление и тем самым — свое подтверждение и оправдание. Если теория движения представляется Платону всего лишь «парадигмой», необходимо-несовершенным выражением абстрактных математических отношений, то в науке Возрождения она не только обретает самостоятельную ценность, но и становится почти что целью, к которой стремится вся чистая математика. Для Леонардо механика -это «райская обитель математических наук», ибо только в ней обретаются «плоды» математики76. Творчество Галилея знаменует собой вершину этого процесса; он же находит для него совершенную методическую форму, само движение превращая в идею. Оно больше не принадлежит к призрачному миру становления, платоновского Y^veou;, но возвышается до чистого бытия, поскольку усваивает себе
Эрнст Кассирер. Проблема в заимоотношения субъекта и объекта... 341
качества строгой закономерности, а тем самым - устойчивости и необходимости. И движение, и даже сама материальная масса, став объектами познания, идеализируются - в них обнаруживаются некоторые неизменные, всегда устойчиво воспроизводящиеся определенности, указывающие на истинно математические, сущностные закономерности77. Таким образом сам опыт впервые обретает статус строгого познания и, как пишет Галилей во вступлении к важнейшим разделам своих «Discorsi» (Размышления) о пространственном перемещении, мы находим в нем «совершенно новую науку об очень традиционном предмете»78. В этом заключении находят свое адекватное выражение как реалистически-эмпирическое, так и идеалистическое направление ренессансного сознания. И если теория науки Возрождения указывает на новый статус чувственности, то это становится возможным потому, что сама теория именно в это время действительно оказывается способной к духовному освоению чувственного мира, что она выработала для себя те идеальные средства, благодаря которым простое чувственное ощущение обретает форму чистого созерцания. Принципиально схожим взглядом на вещи и печатью переходности отмечена также и космология Возрождения. Изменившееся в своей основе представление о природе движения требовало и само создавало новое понятие мира. И чем решительнее проблема движения выдвигалась в духовный центр миросозерцания Возрождения, чем резче выступала она в своем новом обличье, тем насущнее становилась необходимость радикального преобразования учения об элементах и об универсуме в целом.
3
На первый взгляд, историческим парадоксом может прозвучать утверждение, что логический и естественно-научный приоритет проблемы движения в философии Возрождения дает основание считать ее началом и истоком современной космологии. Разве главенствующее положение понятия движения не было закреплено за ним уже издревле и концепция движения Аристотеля не является ядром и смысловым центром всей его натурфилософии? Перипатетическая физика основывается на фундаментальном различении нескольких изначальных форм движения: когда Аристотел'ь рассматривает понятие xivqftig (движение) в широком смысле, включая в него наряду с пространственным перемещением также и качественные изменения ((Шо(оклд), количественное увеличение (<n^r|oig), а также возникновение и исчезновение (уёмок; х(И срОора), то для него также очевидно, что чисто про
342
Человек в контексте культуры
странственное перемещение является первоначальным и основополагающим по отношению ко всем остальным формам движения и что оно по сравнению с ними будет действительно лротгроу тр фиаы (первичным по природе). Ведь различия, выступающие в нем, дают начало различению природных качеств субъектов, в которых эти различия выступают. Специфические отличия четырех элементов, из которых строится космос - земли, воды, воздуха и огня, - проявляются именно в характере присущего каждому из них движения. Каждый из этих элементов занимает в структуре целого свое, естественно присущее ему место, в котором он приходит к свойственному ему завершению и к которому он в случае отрыва снова необходимо стремится. Это основное тяготение заставляет земные стихии двигаться по прямой, в то время как вечная и совершенная субстанция небесных тел знает только одно соразмерное себе движение — вращение по идеальным круговым орбитам. В силу своей природы, своей изначальной абсолютной тяжести земля стремится занять место в центре мира, тогда как огонь по своей абсолютной легкости удаляется от него. Но эфирный элемент, из которого состоит субстанция неба, уже не знает подобных противоречий. В нем господствует чистое и совершенное единообразие: единство божественного двигателя, приводящего в круговое движение небесные сферы, должно отображаться в самой форме такого обращения, которое, соответственно, .может быть только строго закономерным и кругообразным.
Так, форма движения становится у Аристотеля подлинным основанием разделения мира, его fundamentum division is как в физическом, так и в метафизическом смысле. Но оно только потому и может служить исходным принципом определения бытия, что само рассматривается исключительно в своем качественном аспекте - как абсолютное бытийное определение. Аристотель видит в нем не просто чисто идеальную связь, устанавливаемую в пределах универсальных ориентиров пространства и времени: в системе Аристотеля она не смогла бы придать самому движению реальный онтологический смысл. Движение замкнулось бы в круге математических абстракций, исключительно умозрительных сущностей, утратив тем самым способность обозначать, а тем более - исчерпывать определения конкретного, сущности природной вещи. Тот факт, что всякое наше высказывание о «чем-то» конкретном одновременно указывает и на то, «где» оно находится, что любая качественная характеристика физического тела необходимо предполагает и представление о его месте в пространстве, является для Аристотеля свидетельством определенной субстанциальности самого места. «Место» обладает тождественными или аналогичными самой вещи
Эрнст Кассирер. Проблема н?а1шоотнопге»ия субъекта и объекта...343 природой и свойствами, и между двумя этими сущностями возникают совершенно определенные отношения общности или противоборства, симпатии или антипатии. Тело вовсе не безразлично к тому месту, в котором оно находится или которое его обнимает: между ними существуют реальные каузальные отношения. Каждый физический элемент ищет «свое», принадлежащее и соответствующее ему место, избегая чуждого ему местопребывания. Тогда и само место оказывается по отношению к тем или иным стихиям обладающим определенными качествами-силами, но не такими, какие мы могли бы определить в духе современной механики как силы притяжения или отталкивания, поскольку они не являются математико-физическими величинами, различающимися между собой в «большей» или «меньшей» степени. Вместо этой относительной количественной оценки мы скорее повсеместно открываем здесь абсолютные бытийные ценности. При построении своей космологии Аристотель задается вопросом, можно ли само тяготение определенного элемента к своему естественному месту рассматривать как его количественно выраженное свойство, степень интенсивности которого варьируется в зависимости от удаленности этого элемента от его естественного места. Но, сохраняя верность принципами своей физики и космологии, он решительно отвергает эту возможность. Ему кажется абсурдным предположение, что какое-то тело может притягиваться к центру мира тем сильней, чем ближе к нему оно находится: ведь сама пространственная удаленность, с его точки зрения, представляет собой чисто внешний атрибут бытия и не должна приниматься во внимание там, где речь идет об эффектах, вытекающих из «природы» и сущности вещи. Эта сущность и обусловленная ею сила тяготения присутствует в вещах одним и тем же неизменным образом, т.е. независимо от такого внешнего и случайного обстоятельства, каким является пространственная приближенность или удаленность: то fia^iouv aAAr|v riven cpuaiv wv cxnXcbv cRnpcrnnv, (tv (iftooxokxiv eXcxttovfj лХеТол't(dv oixelcdv толсоу aAoyovtl yap diaqtfpt-1 Toaovfii qxxvai ццхо£ arcooxciv П Tooovdi; Sioujel yap хата Xdyov, д(У(1) nXcTov paAAov, то бгТб(х;тд агпб79. (А утверждать, что природа простых тел изменится, если они будут удалены на большее или меньшее расстояние от своих мест, абсурдно. Какая разница, скажем ли мы, что они удалены на такое-то расстояние или вот на такое? Разница будет чисто количественной и пропорциональной увеличению расстояния, а вид останется тем же. - Аристотель. О небе. I, 276625 // Соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1981). В этих положениях со всей четкостью и определенностью сформулированы постулаты физики «субстанциальных форм». Если современная физика придает в полном смысле слова объективную, реальную значимость определен
344
Человек в контексте культуры
ным неизменным системам отношений, когда все определенности физических объектов и событий в физическом мире возводятся к ним как выражающим универсальные законы природы, и если, соответственно, для нее дефиниция любого отдельного элемента этой системы — тела или места — возможна исключительно в терминах этих законов, то в концепции Аристотеля господствует совершенно иное представление. Природа (сроои;) и эйдос (stoo^) места «самого по себе» и тел, первоначал «самих по себе» определяют архитектонику космоса и форму всего в нем происходящего.
Схоластическая физика полностью удержала эти постулаты. Дюгем показал, что в XIV в. даже в пределах этой схоластической физики прокладывает себе путь новый дух исследования; что особенно в работах Альберта Саксонского формулировались такие проблемы, которые, если оценивать их исключительно со стороны формы постановки вопроса, подготавливали концепции новой космологии, системы Кеплера и Ньютона80. Но разрешены они могли быть только после того, как были подорваны устои аристотелевской физики, в самих своих основах поколеблено учение о месте и пространстве. В границах спекулятивной философии такой прорыв был обозначен появлением книги «De docta ignorantia»: она метила в самую сердцевину аристотелевской доктрины. Значение труда Кузанца для новой космологии основывается не столько на том, что в нем возрождается античное, прежде всего пифагорейское учение о вращении Земли, сколько на введении нового принципа, способствовавшего его возрождению. Он впервые со всей радикальностью сформулировал принципиальную идею относительности места и движения', при этом сама она оказывалась простым следствием из требования более общего порядка, лежащего в основании теории познания Николая Кузанского. Для определения понятия объективной истины Кузанцу приходится, вооружившись философским умозрением, погрузиться в основания самого принципа измерения: ведь всякое познание представляется ему только частным случаем универсальной функции измерения. Mens (ум) и mensura (измерение) связаны между собой — тому, кто постиг сущность измерения, открываются тем самым истинное значение и глубина духа. Но эта взаимосвязь таит в себе и иные следствия -истинное учение о мере, математическая космография и космология обусловлены пониманием принципиального соотношения между «субъектом» и «объектом». Кто хочет найти верные, объективные определения меры в универсуме, тому необходимо прежде всего обратиться к методам и принципам измерения вообще, дать себе полный отчет о возможности измерения как такового. Но, как замечает Николай Кузанский, существенным условием любого из
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 345
мерения, в особенности соизмерения объектов в пространстве и времени, является прежде всего полагание в их пределах некоторых устойчивых и неизменных точек. Без полагания таких устойчивых точек, без определения полюсов и центров никакое описание физического движения было бы невозможным. В какой бы форме ни выражалась необходимость этого полагания, принцип «docta ignorantia» все же настаивает на понимании его именно как полагания - определенности не абсолютного и онтологического, а гипотетического и идеального порядка. Измеряющий разум нигде не может выйти за пределы прочно установленных точек и центров, однако он не детерминирован раз и навсегда в выборе этих точек объективной природой вещей — это прерогатива его свободной воли. Ни одно «место» в физическом пространстве не обладает здесь каким-либо природным преимуществом перед другим. Что представляется неподвижным одному наблюдателю, с позиций другого будет выглядеть движущимся - и наоборот. Тем самым понятия абсолютного места и абсолютного движения утрачивают свой смысл. Если бы один наблюдатель находился на Северном полюсе Земли, а другой — на Северном полюсе небесной сферы, то место в зените для одного из них занял бы полюс, а для другого - центр, и оба могли с одинаковым правом утверждать, что место, в каком они находятся, является центром и к нему относимо все остальное. Задача рассудка заключается в том, чтобы связать между собой разнообразные аспекты чувственного восприятия и «сложить» их в одно целое; тогда в подобной системе взглядов мир будет видеться как колесо внутри колеса, сфера в сфере; он не будет иметь никакого исключительного центра, которому можно было бы отдать предпочтение перед каким-либо иным81.
На первый взгляд, эта релятивистская картина мира выглядит полным отрицанием аристотелевской с ее представлениями об устойчиво фиксированных «местах» и мерах. Но и в данном случае видимый скепсис «docta ignorantia» служит лишь цели создания предпосылок для осмысления совершенно новой позитивной задачи. Перипатетическая физика как система постулирует некоторые взаимообратимые связи между первоэлементами: место определяется через тело, тело же — через место, которое оно занимает. Пространственная сфера расчленяется по тем же основаниям и в тех же аспектах, что и предметный мир; подобно вещам, разделяющимся на вечное и изменчивые, совершенные и несовершенные, стратифицировано и пространство. В вещах устойчивыми остаются их свойства, в пространстве — расположение: непреодолимая пропасть отделяет «верхнее» от «нижнего», высший небесный мир - от «низшего», подлунного. Упраздняя этот порядок, мы, возможно, риску
346 Человек в контексте культуры
ем сразу же утратить всякую пространственную определенность, всякое однозначное и ясное полагание границ вещей; шплрюу (беспредельное) — не только в смысле количественно-бесконечного, но и качественно-неопределенного, — кажется, снова одерживает верх над жроц; (пределом), хаос господствует над космосом. Однако именно здесь и утверждается новая, позитивная, бесконечно плодотворная установка; новый принцип познания, питаемый философией, утверждаемые в системе Николая Кузанского новые критерии достоверности разрушают аристотелевскую картину мира с ее фиксированными центрами мира и надстроенными над ними концентрическими сферами, видя в ней всего лишь картину. Но именно в недрах этого разрушительного процесса все настойчивее пробивается требование построения нового порядка бытия и истории силами и средствами самого разума. Интеллект должен научиться двигаться в собственной среде, в свободном эфире мышления без поддержки и опоры чувственности, чтобы благодаря этому обрести власть над чувственностью и вознести ее до своих пределов. Но тогда порядок постановки проблем сравнительно с методами аристотелевско-схоластической физики претерпевает изменения: то, что было для этой физики исходной точкой, становится сейчас ее конечным, завершающим пунктом. Если мы изначально признаем относительность пространственных координат в принципе, то вопрос уже будет заключаться не в том, как мы можем обнаружить в универсуме фиксированные точки, а только в том, как в мире сплошной взаимозависимости и вариабельности, в котором мы живем, можно тем не менее установить прочные законы измерения. Определенность какого-либо «места» опирается в данном случае на систему универсальных правил движения, внутри которой она только и осуществима. На единстве этих правил покоится и единство универсума как «Universum contractum» (стянутого универсума). Ведь тем и отличается это «совокупное» единство, которое мы называем миром, от абсолютного божественного единства, что в этом мире тождество обнаруживается не как субстанциальная однородность, но лишь релятивно, относительно некоторой «инако-сти». Единство достигается здесь только за счет множества, а постоянство - только посредством изменчивости. Оба рода определений отличаются одно от другого не тем, что соотносятся с разными сферами универсума, в одной из которых господствует изменчивость, а в другой — целостность и единообразие; подобное пространственное обособление противоречило бы утверждаемому нами принципу коррелятивности. В космосе Кузанца уже нет такого отдельного бытия, которое не соединяло бы в себе неразрывно оба эти определения: «единства» и «инакости», устойчивой длительности и непре
Эрнст Кассирер. 11роблема взаимоотношения субъекта н объекта..._347
рывной изменчивости. Никакая отдельная его часть поэтому также и не находится «за пределами», «выше» или «ниже» другой, но всегда выполняется требование: «Все во всем» (quodlibet in quolibet). Если мы считаем универсум системой изменений, связанных между собой устойчивыми законами, то в нем уже нет такого «верха» и «низа», нет такого вечного и необходимого, которое отделялось бы от временного и случайного. Скорее, всякая эмпирическая реальность характеризуется здесь именно тем, что представляет собой совпадение указанных противоположностей. Это совпадение, будучи слиянием качеств, может существовать или не существовать — оно не может осуществиться здесь в большей, а там — в меньшей степени. Между частями космоса существует такая же точно символическая связь соответствия, как та, которую Кузанец находит между Богом и миром. Подобно тому как абсолютный максимум отображается в максимуме относительном, а абсолютная бесконечность Божия — в безграничности универсума, так и мир как целое познается в каждом из его отдельных частей, а структура этого целого находит свое отражение в каждом особом определении, в каждом отдельном состоянии. Если же никакая часть уже не есть целое как таковое и не может вместить в себя его полноту и совершенство, то она в равной мере может претендовать на способность репрезентировать в себе эту полноту. Из этой принципиальной метафизической посылки вырастает у Кузанца новое космологическое понятие изоморфности. Оно становится возможным благодаря тому, что в соответствии с принципами docta ignorantia дистанция между миром эмпирическим и миром «абсолютных» форм возрастает до бесконечности, но что именно тем самым различия внутри обусловленной, чувственно-эмпирической действительности релятивируются и снимаются. Каждая часть космоса сама по себе существует всегда только в связи с целым, но сама эта связь в то же время представляется уже так, что из нее без ущерба для функционирования всей системы в целом не может быть исключен ни один элемент. Но тогда также и движение космоса будет опираться не на внешний толчок, а на взаимную соотнесенность всех его частей; оно уже не нуждается во внешнем импульсе, в божественном перводвигателе, когда становится очевидным, что это движение - не что иное, как взаимо-отнесенность всех вещей, т.е. их собственная имманентная им реальность в ее внешнем выражении. Понятие природы определяется и исчерпывается идеей тотальности - бесконечного разнообразия отдельных видов движения в подчинении их универсальному закону, обнимающему их как принцип единства. «Природа» тогда - это «сложение» всего, что выражает себя в движении и через него осуществляется.
348
Человек в контексте культуры
Так были заложены основания новой динамики, однако умозрительное мышление Николая Кузанского, в рамках которого она была постигнута с поразительной определенностью, смогло сформулировать ее как задачу, но не обладало достаточными средствами для ее разрешения. Изначально обнаруженная им цель могла быть достигнута только на основе тщательной предварительной выработки соразмерного ей инструментария и адекватных форм мышления. Заслуга в этом принадлежит прежде всего Кеплеру, который показал себя как творец нового понятия науки не только в конкретном построении фундаментальных законов обращения планет, но прежде всего в их принципиальном методическом обосновании. Он подчеркивает, что место — это не некоторая определенная данность; всякая пространственная определенность есть продукт духа: «Omnis locatio est mentis seu mavis sensus communis opus»*2 (Всякая пространственная локализация есть дело ума и, если хотите, здравого смысла). Это положение является определяющим как для теоретической астрономии Кеплера, так и для его оптики и теории восприятия, оно же и связывает эти дисциплины в одно духовное целое. Только в этой перспективе обнаруживается со всей полнотой значение открытия принципа относительности места и движения для современного мышления, на него опирается новое представление о соотношении «природы» и «духа», «субъекта» и «объекта». Здесь отчетливо проявляется идеальный фактор, включающийся в любой процесс предметного полагания и во всякую пространственную объективацию. Именно потому что пространство уже не может быть представлено как непосредственно данное вещественное свойство, а только как чистое отношение, и появляется необходимость найти для этого отношения его прочное место в целостной доктрине природы, описать характерную, свойственную ему «структуру». Само отношение отдельного «места» к «пространству» претерпевает при этом существенную трансформацию. Если Аристотель допускает сведение всех специфических пространственных определенностей в единое универсальное пространство, то само это отношение представляется ему скорее как физическая, нежели математическая реальность. Ведь связь, о которой здесь идет речь, следует мыслить не как идеальную, а прежде всего как предметную: единое всеобъемлющее пространство содержит в себе отдельные места как свои составные части. В целом между местом, занимаемым телом, и этим телом самим по себе существуют исключительно предметные отношения: Аристотель сравнивает их с теми, которые устанавливаются между сосудом и заполняющей его жидкостью. Гак же как один и тот же сосуд или бурдюк может наполняться то водой, то вином, так одно и то же
• )рнс1 Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта..._ 349
место вмещает в себя всякий раз разные тела. То, что мы называем пространством, столь же мало подпадает под определение материи тела, сколь не похоже оно на тело как таковое, поскольку оба последних представляют собой объемлемое, в то время как в понятии пространства мы скорее мыслим нечто объемлющее. Но последнее не совпадает с собственными границами или с формой тела, так как форма тела претерпевает изменения вместе с телом, так что если бы мы посчитали ее выражением пространства, то тело двигалось бы не в пространстве, а вместе с пространством. В таком случае пространство можно определить только как границу объемлющего тела в противоположность объемлемому. Место каждого отдельного тела очерчено внутренней границей ближайшего к нему объемлющего, в то время как пространство как целое будет границей крайней небесной сферы83. При этом, правда, нужно представлять саму границу как геометрическую линию, а не материальный барьер, тем не менее вся совокупность этих геометрических определенностей напоминает скорее простой агрегат, нежели единую систему. Ведь тблос; xorvd$, «всеобщее» пространство понимается здесь вовсе не как условие полагания отдельных пространств: как чувственно-объемлющее, оно относится к каждому особенному пространству так же, как эти пространства — к объемлемым ими телам. Каждое отдельное «место», Idiot; тбло$, охватывает соответствующее отдельное тело словно некая кожура, и в этом многослойном образовании входящих одно в другое пространств универсальное пространство оказывается лишь последним, внешним слоем, за пределами которого нет уже ни какого-либо пространства, ни тела, ведь понятие «пустого пространства» лишено в перипатетической физике определенного смысла. Если пространство понимается только как определенность, соотносимая с телом в качестве его границы, оно необходимо связано с ним, так что там, где нет тела, нет и возможности для существования пространства: пустое пространство было бы в этом случае объемлющим, которое ничего не объемлет — по меньшей мере, contradictio in adjecto (противоречие в определении). Соответственно, и неизменность пространства из геометрически-идеальной определенности превращается в некоторого рода предметную. Гак же как мы можем говорить о непрерывности телесной среды на основании того, что к границе каждого тела всякий раз примыкает другое тело, не допуская разрывов в телесном континууме, так и в совокупном единстве отдельных индивидуальных мест, образующем одно универсальное пространство, немыслимо никакое зияние (hiatus). В отличие от идеалистических теорий пространства, в которых непрерывность пространства полагается его «формой» и «принципом», аристоте
350 Человек в контексте культуры
левская физика представляет его субстанциально-предметно, как непрерывность его субстрата.
В противоположность такому взгляду одной из существенных задач философии и математики Возрождения было последовательное создание предпосылок для формирования нового понятия пространства: замещение представлений об агрегатном пространстве, пространстве как субстрате, идеей пространства как системы, пространства как функции. С пространства следовало совлечь его предметную форму, лишить его субстанциальной природы -оно должно было предстать в своей свободной идеальной линейной структуре84. Первым шагом на пути к этому было утверждение универсального принципа гомогенности пространства - его не знает аристотелевская физика. В ней между «местами» существует такое же сквозное различие, что и между физическими элементами. Если определенное тело в силу своей природы стремится вверх, а другое, по той же причине, вниз, то этим утверждается, что соответствующие «верх» и «низ» сами по себе обладают собственными устойчивыми качествами, своей специфической природой. Но для того чтобы пространство перестало быть вместилищем такого рода качеств, а могло конструироваться как систематическое целое, необходимо саму форму этого конструирования подчинить строгому единству закона. Тогда в каждой точке пространства должны быть допустимы принципиально тождественные друг другу структуры; каждая может мыслиться в качестве как исходного, так и завершающего пункта любого возможного геометрического построения. Этот принцип получил свое универсальное выражение еще у Николая Кузанского, но лишь в динамике Галилея обрел он подлинно конкретную реальность. Теперь понятно, почему Галилей постоянно возвращается к этой ключевой проблеме в своей критике перипатетической философии и физики: она полностью переворачивает существовавшее к этому времени понятие природы. «Природа» означает теперь не мир субстанциальных форм, не основу для развертывания состояний движения и покоя элементов, но ту всеобщую закономерность движения, которая объемлет собой любое обособленное бытие в его индивидуальных качествах, поскольку лишь в ней и посредством нее эта индивидуальность включена в универсальный порядок всего происходящего. Всякий раз, когда мы представляем этот порядок прежде всего как идеально-математический и проецируем его на данные чувственного опыта, находя в них ему подтверждение, между ними складывается все более тесная связь. Она принципиально ничем не ограничена: в галилеевском мире нет преград, которые могли бы препятствовать полной приложимости «идеального» к сфере «действительного» или же суще-
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта...351 ственной значимости «абстрактного» для «конкретного». В нем гомогенность мира следует из необходимой гомогенности геометрического пространства. И движение перестает быть каждый раз неповторимым «quale» (качеством), которое многообразно варьируется в различных телах; оно уже определимо одним и тем же универсально-значимым законом величин и мер. Связь и синтез движений следуют исключительно синтезу чистых чисел или конструктивному единству различных геометрических операций. Подобное единство невозможно в аристотелевской физике: в ней между различными формами движения устанавливается отношение не только реальной, но и некоторого рода логической оппозиции. Хотя и Аристотель допускает наряду с двумя основными, но противоположными друг другу формами движения, прямолинейным и круговым, еще и «смешанную» форму, причастную обеим главным формам, с его точки зрения оно мыслимо только при отсутствии единого субъекта движения, когда движущееся представляет собой не простое, а сложенное из разнообразных частей тело. Напротив, если мы возвратимся к действительно простому, то «природе» каждого элемента будет соответствовать одно и только одно движение; приписывать ему множество движений значило бы отрицать однозначно соответствующие только ему одному определения. «Простое» тело, которому было бы свойственно как круговое, так и прямолинейное движение, движение одновременно центростремительное и центробежное, — такое тело, по Аристотелю, можно было бы назвать деревянным железом; ведь в этом случае в нем мыслились бы соединенными две субстанциальные формы. В противоположность этому, Галилей переворачивает в этом пункте аристотелевско-схоластическое правило — тезис operari sequitur esse (действие следует за бытием): вместо того, чтобы выводить форму воздействия из догматически понятой формы бытия, он исходит из эмпирических законов действия, чтобы уже на этой основе прийти к определению бытия85. Само же представление о форме действия обусловлено у него, в свою очередь, взглядом на форму знания. У Галилея единство природы (Physis) следует из единства физики, а последнее само гарантировано, в свою очередь, единством математики и геометрии. Поскольку существует всеобщая аксиоматика измерения, точного эмпирического определения величин, то и измеряемый, мир уже не содержит в себе принципиально непреодолимых противоречий. Одни и те же основные идеальные нормы позволяют нам постигать падение камня и обращение планет, давать определения миру земному и небесному. Такой поворот темы дает возможность по-новому, с систематической и исторической точек зрения оценить проблемы метода в решении вопроса о бы-
352 Человек в контексте культуры тии. В средние века дуализм, противоположность методов теологии и физики, находил свое выражение в дуалистическом понятии материи: Фома Аквинский утверждает, что между земной и небесной материей существует всего лишь общность имени, а не сущности. Современное сознание, строящееся на принципе единства интеллекта, на идеях декартовской «Mathesis universalis» («Универсальной математики»), приходит здесь к противоположному заключению: поскольку и в соответствии с тем, что и эмпирическое, и рациональное познание, каким бы разнообразием ни отличались их объекты, подчиняются одним и тем же правилам и принципам, субстанция телесного мира однородна.
Но если до этого речь шла об идеальных нормах математического познания, оказавших решающее влияние на становление эмпирической физики, на формирование понятия движения, необходимо принять во внимание и обратный процесс. Новая форма единства, сложившаяся между геометрией и физикой, сказывается и в том, что в трактовку геометрических проблем проникает математическая идея движения. Это был важнейший шаг на пути от античной математики к современной, от «синтетической» геометрии греков к аналитической геометрии и анализу бесконечных. Только благодаря ему стало возможно достичь ясного разделения созерцания пространства и эмпирического созерцания вещей, преобразовать «пространство вещей» в чистое «пространство системы». Пространство Аристотелевой физики, определяемое как граница объемлющего тела относительно объемлемого, согласно самой его дефиниции оказывается еще неразрывно связанным с телом, будучи простой определенностью телесного и относительно самого телесного. Соответственно, в нем не может быть действительно свободного движения и прогресса мысли. Не только потому, что здесь никакая прямая не может быть продолжена в бесконечность в полном смысле слова (поскольку идея актуальной бесконечности заключает в себе внутреннее противоречие) - в нем также вообще немыслимо и движение, беспрепятственно осуществляемое в любом выбранном направлении. Специфические качества движущегося с самого начала заключают такое продолжающееся движение в прочные границы; определенным стихиям космоса соразмерны по их природе определенные места и направления их движения, иные же — противоречат их природе. Современная динамика переворачивает эти отношения, принимая движение во всей его универсальности и широте, делая его носителем пространственного познания и средством построения геометрических образов. Переворот, о котором идет речь, ярче всего выступает в стереометрических исследованиях Кеплера. Кеплер соизмеряет между собой сложные телесные структуры та-
Эрнст Кассирер. Про&тема взаи1иоопгомге|п<я субъекта и объекта... 353
ким образом, что они не просто сопоставляются друг с другом как некие сложившиеся данности; вместо наблюдения их самих он задает правила, по которым они могут быть конструированы. Любой телесный образ описывается в этом случае как совокупность бесконечно многих отдельных пространственных координат, которые участвуют в его генетическом построении; задача математической мысли и заключается в том, чтобы задать всей тотальности этих определений единый масштаб. При таком рассмотрении круг предстает как совокупность бесконечного числа бесконечно малых равносторонних треугольников, вершины которых совпадают с его центром; подобно этому, и шар можно рассматривать в наших расчетах как состоящий из бесконечного числа конусов. Мысль Келлера простирается не только на эти хорошо известные геометрические образы - поворачивая различные сферические и конические поверхности вокруг определенных осей, сечений и ординат, он создает множество новых образов, пытаясь в то же время с помощью общих методов определить их телесную структуру*6. И поскольку при этом понятие бесконечного не только обретает законный статус, но и оказывается необходимым инструментом математического познания, тем самым претерпевают изменение и традиционное понятие мира и понятие объекта познания. Ведь каждый «определенный интеграл», — а метод Кеплера как раз в том и состоит, чтобы представить геометрические образы как определенные интегралы, - непосредственно включает в себя два момента, которые до этих пор казались несовместимыми. Бесконечное, будучи в качестве cirreipcnv (беспредельного) контрадикторной противоположностью своей границе, лгроц; (пределу), в новой форме математического анализа включается в количественную характеристику предметов, становясь важнейшим средствОхМ ее выражения. Его метафизическая трансцендентность преобразуется в логическую имманентность. Понятие пространства стряхивает с себя последние остатки вещественного - оно выражается в структуре порядка. Ярче всего этот поворот заявляет о себе с введением понятия координат в результате деятельности Ферма и Декарта. Аналитическая геометрия Декарта строится примерно на тех же логико-геометрических основаниях, что и кеплеровская «Stereometria doliorum» (Стереометрия винных бочек), — ведь и Декарт рассматривает кривые не просто как чувственно созерцаемые данности, а сводит их к упорядоченному комплексу изменений. Форма кривой аналитически возводится к закону этих изменений. Этот взгляд на релятивный характер всякого изменения приводит далее к представлению о принципиальной разложимости любого сколь угодно сложного движения на его простейшие составляющие. Данные элементарные движения могут принимать форму
354 Человек в контексте культуры
простейших в том случае, если мы представим их совершающимися в системе двух перпендикулярных друг другу осей, вдоль которых и происходят изменения. Различие скоростей между двумя осями — на оси абсцисс и оси ординат - однозначно обусловливает геометрическую форму результирующей кривой и делает вполне предсказуемыми все ее свойства. Одновременно в пределах полученного нами чистого пространства системных отношений математическое мышление оставляет за собой полное право по своему усмотрению разделять точки на подвижные и неподвижные. Ведь в соответствии с простым правилом трансформации можно переходить из одной системы координат в другую, лишь формально преобразуя законы движения или уравнения, определяющие свойства кривой. В этом одно из важнейших преимуществ современной аналитической геометрии перед греческой математикой. Последняя также содержит в себе совершенно определенные подходы к использованию понятия координат, но и в этом случае решение каждый раз слишком тесно привязано к какой-то одной геометрической фигуре, не поднимаясь до истинной всеобщности. Здесь исходная точка системы координат должна или принадлежать к самой рассматриваемой фигуре, или иметь ближайшее отношение к ней и к ее основным геометрическим свойствам. И только Ферма создает в противоположность этому новый метод, свободный от всех ограничений предшествующего, в котором центром системы отношений может служить любая точка в пространстве проводимой нами кривой. Направление осей абсцисс и ординат также может претерпевать любого рода перемещения и повороты: вместо прямоугольной системы координат может быть использована и остроугольная. Короче, отныне система координат устанавливается совершенно свободно относительно кривой. В своей работе «Введение в изучение геометрических мест на плоскости и в пространстве» (Ad locos pianos et solidos isagoge) Ферма выразительно подчеркивает преимущество своего метода перед методом древних, определяя своей главной задачей «исследовать эту сферу знания единственно соразмерными ей методами анализа, чтобы обеспечить универсальный подход к пространствам в будущем»87. Этот универсализм представлений о пространстве не был бы завоеван чистой математикой, если бы не были предварительно расшатаны и разрушены устои аристотелевско-схоластического понятия пространства в других областях знания, прежде всего в космологии и натурфилософии.
Еще задолго до того, как эти изменения стали очевидными в новой методике точных наук, они в какой-то мере заявили о себе в новой настроенности и нюансах общего мироощущения. Мировоззрение Джордано Бруно представляет собой типичное свиде
Эрист Кассирер. ПроЛиема ншимоо1но1пения субъекта и объекта... 355
тельство этого поворота сознания. Правда, ему еще чужд взгляд на бесконечное как на инструмент точного научного исследования: в своем учении о минимуме он даже решительно оспаривает и отвергает его в этом качестве. Но насколько мало занимает его логическая структура нового понятия математически бесконечного, настолько же сильно выражается в его произведениях страстный аффект в восприятии бесконечности космоса. Этот героический аффект уже не признает границ, положенных принципом «Ne plus ultra» (Не дальше, чем следует) средневековой религиозной догматики и аристотелевско-схоластической космологии. Свободный полет фантазии и свободное парение мысли не могут быть ограничены никакими жесткими пространственно-предметными рамками. В соответствии с этим Бруно предварительно и каждый раз заново критически пересматривает доктрину пространства как «объемлющего», отца nr.piEXOv (объемлющего тела) перипатетической физики. Пространство, в котором располагается мир, для него уже не внешняя грань того вместилища мира, в котором космос, можно сказать, покоится; скорее, пространство становится свободной средой движения, позволяющей ему беспрепятственно распространяться через любые пределы и во всех направлениях. Для него не может и не должно быть никаких препон ни в образе «природы» какого-то отдельного тела, ни во всеобщих определениях космоса, ибо оно само, в своей универсальности и безграничности, прежде всего и конституирует природу как таковую. Бесконечное пространство постулируется Бруно как воплощение бесконечной силы, а эта сила — не что иное, как выражение бесконечной жизни универсума. Бруно нигде резко не разделяет эти три начала: как и для стоической и неоплатонической физики, на которые он опирается, понятие пространства сливается у него с понятием эфира, а последнее, в свою очередь, с понятием мировой души. Именно динамический принцип, заключенный в них, и нужен ему для того, чтобы разрушить и преодолеть застывшие структуры аристотелевско-схоластического космоса. Однако, в отличие от Кеплера и Галилея, решающее значение обретает у Бруно не проект новой теории и динамики, а новое динамическое чувство мира. Даже в Копернике видит Бруно не столько астронома-теоретика, сколько героя этого космического чувства: «Кто может воздать должное величию этого немца, который, пренебрегая суждением безрассудной толпы и устояв перед напором противоположных мнений, впервые способствовал победе истинного взгляда на мир, - того взгляда, какой открыл нашему разуму путь из темницы, где даже звезды он видел словно через узкие щели? Он измерил все воздушное пространство, пронзил небо и разрушил воображаемые стены первой, восьмой, девятой и десятой сферы»88. Это
356 Человек в контексте культуры
заключение наводит на мысль о том, что натурфилософский и космологический интересы Бруно не были единственными и решающими в постановке проблемы пространства, - она принадлежала у него к кругу основополагающих этических проблем. Такое необычное присоединение объясняется тем, что Бруно нигде не полагается на непосредственные свидетельства эмпирического или математического созерцания в суждении о бесконечности пространства: ни чувство как таковое, ни созерцание само по себе нисколько не могут подвести нас к истинному понятию бесконечного. Мы схватываем бесконечное, основываясь на том же начале, каким постигаем также собственное духовное бытие и сущность. Принцип познания бесконечного надо искать не в чем ином, как в основах нашего Я, нашего самосознаний. Его истинная сущность открывается нам не в пассивном наблюдении и не в чувственном или эстетическом созерцании самих по себе - мы можем возвыситься до него только в свободном акте и беспрепятственном порыве нашего духа. В этом деятельном выражении нашего Я, в котором утверждается его внутренняя свобода, открывается для него, словно противоположный его собственному интеллектуальному созерцанию полюс, также и созерцание бесконечного универсума. Знание о субъекте и знание об объекте оказываются здесь неразрывно связанными между собой. Тот, кто не обнаруживает в себе героического аффекта самоутверждения и беспредельного расширения своего Я, остается слеп и для созерцания космоса в его бесконечности. Поэтому в диалоге Бруно «О героическом энтузиазме» как решающий мотив новой космологии выступает форма психологии и форма этики Возрождения; созерцание бесконечного описывается здесь исключительно как дело человеческого Я и требуется в качестве такового. Идея множества миров, даже их бесконечности, не была чужда и умозрительной мысли средневековья; она теоретически рассмотрела возможность подобного представления во всех его аспектах, хотя — в согласии с доводами Аристотеля в пользу единственности космоса в трактате «О небе» - чаще всего высказывалась против такой возможности90. Полемический тон этих построений обнаруживает влияние на них мотивов не исключительно интеллектуального, но и этико-религиозного характера: ведь с упразднением идеи единственности нашего мира мы словно отказываемся и от мысли об исключительной ценности человека, а религиозный процесс лишаем его подлинно единого смыслового центра. Это ощутили уже ведущие умы раннего Возрождения - еще Петрарка в трактате «De sui ipsius et al iorum ignorantia» (О невежестве собственном и многих других) называет мысль о бесконечности миров «вершиной глупости» и клеймит ее как философскую ересь. Для Бруно же наоборот - новое
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 357
понятие мира только и отвечает интеллектуальному и нравственному достоинству человеческого Я, его понятию личности. Этот субъективный пафос пронизывает всю возвещаемую им космологическую доктрину; в центре его внимания оказывается не столько универсум, сколько человеческое Я, созерцающее универсум в самом себе. Новое миросозерцание заявляет о себе сплошь в форме новых импульсов, новых порывов и побуждений. Человек открывает свое истинное Я, только приняв в себя бесконечную Вселенную и, с другой стороны, расширив себя до пределов Вселенной. В этом процессе стираются также границы жизни и смерти, ибо в смерти, в исчезновении индивидуальной формы бытия, и открываются действительная истина и универсальность самой жизни. И не философ, а поэт Джордано Бруно находит для этих идей чистейшую выразительную форму в сонетах, включенных в диалог «Degli eroici furori»:
Poi che spiegat’ ho Pali al bel desio Quanto pih sott’ il pi6 Гапа mi scorgo, Pift le veloci penni al vento poigo, Et spreggio il mondo, et vers’ il cielo m’invio. Ne del figliuol di Dedalo il fin rio Fa che piCr pieghi, anzio via piti risorgo. Ch’i’ cadrd morto a terra ben m’accotgo, Ma qual vita pareggia al morir mio? La voce del mio cor per Гала sento, Ove mi porti temerario? china, Che raro ё senza duol tropp’ardimento. Non temer, respond’io, 1 ’alta ruina. Fendi sieur le nubi, et muor contento. S’il ciel si illustre morte ne destina’91.
* Когда свободно крылья я расправил, Тем выше понесло меня волной, Чем шире веял ветер надо мной;
‘ Так дол презрев, я ввысь полет направил.
Дедалов сын себя не обесславил
Паденьем, мчусь я той же вышиной!
Пускай паду, как он: конец иной Не нужен мне, не я ль отвагу славил? Не голос сердца слышу в вышине: «Куда, бе зумец, мчимся мы? Дерзанье Нам принесет в расплату лишь страданье». А я: «С небес не страшно падать мне! Лечу сквозь тучи и умру спокойно, Раз смертью рок венчает путь достойный...».
Бруни Дж. О героическом энтузиазме. Киев, 1996. С. 83. (шпал.)
358 Человек в контексте культуры
В них проблема пространства снова входит в контекст общей, философской основополагающей проблемы Возрождения - в вопрос о соотношении «субъекта» и «объекта»; наряду с ней вновь всплывают и те диалектические казусы, которые были постоянными спутниками философии Возрождения. Кажется, именно здесь, в своем непосредственном выражении в конкретнейшей форме, на языке пространственного созерцания они только и находят свое отчетливое воплощение. Человек по отношению к универсуму, как и человеческое Я по отношению к миру, становится одновременно и объемлющим, и объемлемым; отношение человека к космосу включает в себя оба эти определения как необходимые. Тогда и они сами задают тон процессу постоянного взаимодействия и взаимопревращения. Если бесконечность космоса грозит не только ограничением прерогатив человеческого Я, но и полным его уничтожением, то, с другой стороны, в ней же он находит источник своего непрерывного самовозрастания — ведь дух уподобляется миру, который он постигает. Философия Возрождения на разные лады повторяет этот лейтмотив, каждый раз придавая ему новое звучание. «Я наполняю, пронизываю и удерживаю небо и землю», - говорит Бог в одном из диалогов между Богом и душой, написанных Фичино по примеру Августина. «Я наполняю, но Сам не наполняюсь, поскольку Я Сам полнота; Я проницаю, но Сам непроницаем, поскольку Я Сам — сила проницания; Я - всеобъемлющ, но Сам необъятен, поскольку Я Сам есть объемлющая способность»92. Все эти предикаты Божества относятся здесь в равной мере к самой человеческой душе, и она, рассматриваемая как субъект познания, содержит в себе объективную реальность, не будучи сама объемлемой ею. Этим раз и навсегда с надежностью утверждается примат человеческой души над всем предметным миром. Я становится соразмерным бесконечному космосу в том, что оно обнаруживает в себе те основания знания, по которым оно познает этот космос в его бесконечности. Но само по себе это знание не чисто абстрактного, дискурсивного порядка — это интуитивная достоверность, неотрывно питающаяся источниками, берущими свое начало не в логике рассудка, а скорее в неповторимой жизненной основе личности. Подобно гётевскому Ганимеду, человек Возрождения в своем «объемлюще-объемлемом» существе стоит перед Богом и бесконечным универсумом. Философия Возрождения не преодолела диалектическую антиномию, заключенную в этой двойственности статуса человека, но ее неоспоримой заслугой остается то, что она впервые обозначила эту проблему и, дав ей собственное истолкование, оставила его в наследство последующим векам - векам точной науки и систематической философии.
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 359
Примечания
। Augustinus. De Trinitale XIV, 7.; De vera religione. Cap. 39.
2 Подробнее у Эрнеста Ренана: Renan Е. Averroes et I’Averroisme. Зе ddit. Paris, 1866.
Cusanus. Idiota lib. Ill de mente. Cap. 12, fol. 167f: «Sicut enini visus oculi tui non posset esse visus cujuscunque alterius, ctiam si a tuo oculo separaretur et allerius oculo jungeretur, quia proportionem suam, quam in oculo tuo repent, in alterius oculo reperire nequiret: sic nec discretio, quae est in visu tuo, posset esse discretio in visu allerius. Ila nec inlellcctus discretionis illius posset esse intellectus discretionis alterius. Unde hoc nequaquam possible arbitror unum esse intellectuni in omnibus hominibus».
4 Ficinus. Epistol. Lib. I, fol. 628.
5 О «Dispulationes Camaldulcnses» Ландин о и их значении как источника ио истории Флорентийской академии ем/, della Torre. Storia dell’Academia Platonica di Firenze. Firenze, 1902. P. 579 ss.
6 Pico della Mirandola. Opera, fol. 734 &s.
7 Ficinus. Epistol. Lib. I, fol. 632.
8 Ср. особенно: Plolin. Ennead. VI, 7, 35; VI, 7, 41.
Ficinus. Thcolog. Platonica. Lib. XVI. Cap. 7, fol. 382. Этот решающий момент фичиновской теории любви правильно подчеркивает Саитта: Saitta. La filosolia di Marsilio Ficino. Messina, 1923. P. 217 ss.; однако здесь, как и во многих других местах, Саитта чрезмерно преувеличивает оригинальность Фичино относительно Николая Кубанского: «Cio che dificrenzia il Ficino dai filosofi precedenti compreso il Cusano, e 1’intuizione travolgente dell’ amore come spiegamenlo assoluto, iniinito di liberta... 11 vero mistico s’appunta nclla assoluta indistinzione о indifferenza, laddovc il pensiero di Ficino respira nell’ atmosfera sana della liberty come continua differenziazione» (Op. cit. P. 256). «Что отличает Фичино от предшествующих философов, включая Кузанца, - пишет он, - это захватывающая интуиция любви как развертывания абсолютной, бесконечной свободы... Подлинный мистик стремится к совершенной неразличенности или безразличию, в то время как мысль Фичино дышит священным воздухом свободы как непрерывной дифференциации». Но какраз в этой «атмосфере свободы» и разворачиваются у Кузанца понятия творения и божественной любви. См.: De beryllo (О берилле). Cap. ХХШ, fol. 275: «Ad omnem essendi modum sufficit abunde primum principium unitrinum: licet sit absolutum et superexaltatum, cum non sit principium contractum, ut natura, quae ex necessitate operatur, sed sit principium ipsius naturae. Et ita supernatural, liberum, quod voluntate creat omnia... Istud ignorabant lam Plato quam Aristotelcs: aperlc enim uterque credidil condilorem intcllectum ex necessitate naturae omnia facerc, et ex hoc omnis eorum error secutus est. Nam licet non operetur per accidens, sicut ignis per calorcm... (nullum enim accidens eadere potest in cjus simplicitatcm) et per hoc ag£re videatur per essenliam: non tamen propterea agit quasi natura, sen instrumentum necessitatum per superiorum imperium, sed per liberam volunialem, quae est essentia ejus» (Для любого способа бытия с избытком достаточно первого триединого начала. Хотя оно абсолютно и превосходяще, не будучи конкретным началом как природа, действующая
360 Человек в контексте культуры
по необходимости, но в нем начало самой природы, сверхприродное, свободное и создающее все своей волей... Этого не знали ни Платон, пи Аристотель. Оба явно считали, что зиждитель-ум производит все через природную необходимость, и отсюда идет вся их ошибка. В самом деле, хотя Бог действует не через свою акциденцию, как огонь через жар... потому что в его единой простоте не может случиться никакой акциденции, так что он явно действует через свою сущность, ио это еще не значит, что он действует как природа, или орудие, понуждаемое к действию высшей волей: он действует единственно через свободную волю, которая и есть его сущность).
10 Ficinus. 1Ъео1. Platonica IX, 4; fol. 211.
11 Francisci Patricii Panarchias, Lib. XV: De intellect!! (Nova de universis philosophia. Ferrar., 1591, fol. 31).
12 Cp.: Giordano Bruno. De umbris idearum (Opera latina, ed. Imbriani, II, 49): «Notavit Platonicorum princeps Plotinus. Quamdiu circa tigurani oculis dumtaxat manifestarn quis intuendo vcrsatur, nondum amore corripitur: sed ubi primuni animus se ab ilia revocans figuram in se ipso concipit non dividuam, ultraquc visibilem, protinus amor oritur» (Это заметил глава неоплатоников Плотин. Пока, таким образом, мы скользим взглядом но поверхности фигуры, открывающейся нашему взору, мы еще не захвачены любовью; но как только дух, отвратившись от внешнего созерцания, создаст в самом себе неделимый, лежащий за пределами зримого образ, вспыхивает внезапно любовь).
13 «Ridiculum videtur dicerc animam intellectivam... duos habere modos intelligendi, scilicet et dependentcm et indepcndentem a corpore, sic enim duo esse videtur habere». «Neque plures modi cognoscendi ab Aristotele in aliquo loco sunt reperti, neque consonat rationi», - Pomponazzi. De immortalitate animi (1516). Cap. IV, IX и др. (Кажется смешным утверждение, что разумная душа... обладает двумя формами разумной деятельности: зависящей от тела и не зависящей от пего - в этом случае получается, что она обладает и двумя видами бытия. Множественность видов познания нс допускается нигде у Аристотеля и не соответствует разуму).
14 Op. cit. Cap. IX: «Dieere enim... ipsum intcllectum duos habere modos cognoscendi, scilicet sine phantasmate oninino, et alium cum phantasmate, est transmutarc naturam humanam in divinam... Sic anima humana simpliciter efticeretur divina, cum modum operand! divinorum assumeret, et sic poneremus fabulas Ovidii, scilicet naturam in alteram naturam transmutari» «Сказать же... что самому интеллекту присущи два вида познания один, сопровождающийся чувственным представлением, и другой, совершенно свободный от пего, значит преобразовать человеческую природу в божественную... Этим самым человеческая душа, усваивая божественный образ действий, и сама по себе делается божественной; так мы снова возвращаемся к басням Овидия о преображении одной природы в другую»).
15 В целом кроме книги «1)с immortalitate animi» см. особенно Комментарий Помпонацци к аристотелевской «De anima» (Ed. Ferri. Roma, 1876). Другие материалы по вопросу - в моей книге: Erkenntnisproblem. 3. Ausg.
I. S. 105 ff., см. также: Douglas. The Philosophy and Psychology of Pietro Pomponazzi. Cap. 4 и 5.
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта...361
10 Также и средневековая идея ранжирования наук, когда наукам отводится низшая ступень в природной иерархии, в целом оказалась непреодолимой и для гуманистического мировоззрения. Так, для Салютами юриспруденция стоит выше медицины, поскольку первая и но своим основоположениям, связанным с понятием aequitas (равенство), и по форме своих законов является прямым свидетельством божественной мудрости, в то время как вторую, связанную с миром становящегося и преходящего, можно уподобить скорее искусству, чем науке. Она обращена не к Snaiy, а лишь к подчиненной ему сфере истинного; она печется исключительно о врсмсшю-бытийсгвующсм, пользуясь чисто эмпирическими «cxperientia et instrumental («орудиями опыта»), вместо того, чтобы путем умозрения восходить к вечным разумным основаниям. (Подробнее см.: Joachimsen Р. Aus der Entwicklung des italicnischen Humanismus // Histor. Zeitschrift. Bd. 121 (1920). S. 196 f.; WalserE. Poggius Florentinos. S. 250 ff.).
17 Pelrarca. Append, litt. epist. 6. Ed. b'racassetti; cp. Voigt. Wiedcrbel. d. klass. Allert. 2. Ausg. 1, 113.
18 Pelrarca. Epistolae famil. IV, 1; ср. с панорамой Буркхардта в Knit. d. Ren. Я. Ausg. II, 18 f.
Augustinus. De vera religione. Cap. 39.
20 Telesio. De rerum natura juxta propria principia; ср. особенно Lib. VIII. Cap. 3; 11. Neapoli, 1587; fol. 314 s., 326 s.
21 Campanella. Apologia pro Galileo mathemalico florentino. Frankfurt, 1622.
22 Cp.: Franciseus Patritius. Panpsychia (Novae de universis Philosophiae tomus III). Ferrariac, 1591. Lib. IV, fol. 54 ss.
23 Telesio. De rcrum natura, VIII, 3; подробнее о теории познания Телезио см.: Erkenntnisproblem. 3. Ausg. I, 232ss.
24 Cardanus. De subtilitatc libri XXL Basel, 1554. Lib. V, fol. 152: «Metallica vivere etiam hoc argumento deprehenditur, quod in niontibus non secus ac plantae naseuntur, patulis siquidem ramis, radioibus, truncis ac veluti lloribus ac fructibus, ut non aliud sit metallum aut metallica substantia quam planta sepulta» (To, что обладают жизнью и металлы, доказывается тем, что, подобно растениям, рождаются они в недрах гор, раскидывают ветви, пускают корни, имеют ствол и что-то вроде соцветий и плодов; таким образом металлы, или металлическую субстанцию, можно считать погребенными растениями).
25 Pico della Mirandola. Apologia // Opera fol. 170 s.; ср. особенно речь «De hominis dignitatc»// Ibid., fol. 327 (перевод частично следует переложению на немецкий Либерта, S. 210).
26 Porta Joh. Baptista. Magiae naturalis Libri viginti. Lib. I. Cap. 2.
27 Campanella. De sensu rerum et magia. Ed. Tob. Adami. Frankfurt, 1620. Lib. IV. Cap. I. S. 260: «Conatus est bis... studiosissimus Porta hanc scientiam revocare, sed historic^ tantum. nullas reddendo dictorum suorum cansas. (Ex quo autem hunc librum meum vidit, audio ipsurn rationalem magiam struerc)». (Усерднейший Порта... дважды обращался к этой науке, но делал это только описательно, нисколько не вникая в причины описанного им. (Когда же он увидел эту мою кишу, я услышал, что он занимается рациональной магией)).
28 Campanella. Universalis philosophiae seu metaphysicarum rerum juxta propria dogmata partes ires. Paris 1638. P. II. Lib. VI. Cap. 7; об отношении
362 Человек в контексте культуры
Кампанеллы к Джамбатгисте Порта ср.: Fiorentino. Bernardino Telesio. Firenze, 1872. II, 123 ss.
^Отделение «натуральной» магии от «демонической» свойственно и философии Возрождения: мы встречаемся с ним как в 900 тезисах и «Апологии» Пико, так и, например, в книге Фичино «De vita triplici» (О тройственной жизни) и у Помпонацци в кн.: De admirandomm effectuum causis sive de incantationibus (Lib. I. Cap. 5. S. 74) (О причинах явлений, достойных удивления, или о заклинаниях): «Nemini dubium est ipsam (magiam naturaleni) in se esse veram scientiam factivam et subalternatam philosophiae naturali et Astrologiae, sicut est medicina et multae aliae scientiae; et in se est bona et intellectus perfectio... et, ut sic, non facit hominem habenten ipsam malum esse hominem» (Никто не сомневается в том. что опа (натуральная магия) является сама по себе истинной и действенной наукой, подчиненной натуральной философии и астрологии, подобной медицине и многим другим наукам; благая по своей природе, она есть вершина интеллекта... а если это так, то не делает она злым человека, владеющего ею).
30 Galilei. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Ed. nazionale VII, 129s.
31 The literary works of Leonardo da Vinci. Ed. Jean Paul Richter. 2 fol. London, 1883. Nr. 1157 (наш перевод частично опирается па переложения Марии Херцфельд: HertfeldМ. Leon, da Vinci, der Denker, Forscher und Poet. Lpz., 1904).
32 Leonardo da Vinci (Richter). Nr. 1168.
33 См.: прим. 16: ср. особенно: Wdlser. Poggius Ilorentinus. P. 250 f.
34 Les manuscrits de Leonard de Vinci. Piibl. par Charles Ravaisson-Mollien. G. fol. 96 verso.
35 Trattato della pittura. Ed. Ludwig. Lpz., 1882.1, 33.
36II codice Atlantic© di L. da Vinci. Milano, 1894, fol. 861.
37 Ibid. (Codex Atlanticus). fol. 154r.
38 Litterary works (Richter). Nr. 1151,
39 «Fuggi i precetti di speculatori che le loro ragioni non son confermate dalla sperienzia» (Ravaisson-Mollien. В fol. 14. v.). (Избегай советов тех созерцателей природы, которые tie подкрепляют свои соображения опытом).
40 Codex Atlanticus, fol. 119 г.
41 Об изысканиях Леонардо в механике кроме фундаментальных работ Дюгема ем. недавно вышедшую книгу: Hart Ivor R. The mechanical investigations ofL. da Vinci. London, 1925.
42 Richter. Nr. 1133.
43 «La natura ё costretta dalla ragione della sua legge che in lei infusamente vive» (Ravaisson-Mollien. C fol. 23 v.) (Природа основана на разумном принципе (ragione) внугрепне присущего ей закона).
44 Galilei. П saggiatore. Ed. naz. VI, 232.
45 О соотношении «видения» и «познания» у Леонардо см., например, Фаринелли: Farinelli. La natura nel pensiero e nelf arte di Leonardo da Vinci (Michelangelo e Dante. Torino, 1918. P. 315 ss.
46 Groce. Leonardo Iilosofo (Saggi filosolici. Paris, 1913. III).
47 Olschki. Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur. Heidelberg, 1919. I, 261:1, 300 f. и др.
Эрист Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта и объекта... 363
<« Olschki. Op.-cit. I, 342, 379.
49 Ravaisson-Mollien. D fol. 13 r; cp. Solrm. Nuovi studi sulla filosofia naturale di I., da Vinci. P. 39: «Analizzare un fatto col discorso о analizzarlo con disegno non sono (per Leonardo) chc due modi divcrsi di un mcdesimo processo» (Исследовать факт с помощью рассуждения или же с помощью рисунка - это (для Леонардо) только две разновидности одного и того же процесса).
50 Codex Atlant, fol. 345 г.
sl Borinski. Der Streit uni die Renaissance. S. 20 f.
52 Подробнее см.: Vofiler К. Die philosophischen Grundlagen zum «stiffen neuen Stib des Guido Guinicelli, Guido Cavalcanti und Dante Alighieri. Heidelberg. 1904.
53 Valla. De voluptate. Lib. I. Cap. X; Opera fol. 907.
54 Walser E. Sludien zur Weltanschauung der Renaissance. S. 12.
>5 Leon Battista Alberti. Trattato della pittura, Lib. Ill (ed. Janitschek. Wien, 1X77. P. 151): «Ma per non perdcre studio et faticha, si vuole fuggire quella consuetudine d’alcuni sciocchi, i quali presuntuosi di suo ingegnio, senza avere essernplo alcuno dalla natura quale con occhi о mente seguano, studiano da se ad se acquistare lode di dipigniere. Questi non imparano dipigniere bene, ma assuefanno se a suoi errori. Fuggie 1’ingegni non periti quella idea delle bellezze, quale in beni exercitatissimi appena discemono» (Чтобы впустую не тратить старания и силы, избегай примера некоторых неучей, которые, кичась своим талантом и не имея перед своими глазами и умом никакого природного образца для подражания, стремятся своими силами заслужить славу живописцев. Они не выучиваются хороню писать, а скорее коснеют в своих заблуждениях. Идея прекрасного, которую с трудом различают и умы усердные, совершенно недоступна несведущим умам).
50 Ravaisson-Mollien. Fol. 49 г. (Ausg. Hertfeld. S. 26).
57 Galilei. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. I. Ed. naz. VII, 129.
58 Goethe. Maximen und Rellexionen. Hg. von Max Hecker. Nr. 1346.
59 Panofsky E. Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte deralteren Kunsttheorie (Studien der Bibl. Warburg. 11g. von Fritz Saxl. V). Lpz., 1924. S. 29.
6 0Codex Atlanticus fol. 141 r. (vgl. Ausgabe von M. Herzfeld. S. 137 f.).
61 Galilei. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Ed. naz. VII, 183: «Posso bene insegnarvi delle cose che non son nd vere nd false; ma le vere, ciod le necessarie, ciod quelle che e impossibile ad esser altrimenti, ogni mediocre discorso о le sa da sd о d impossibile che ei le sappia mai» (Это хорошо доказывается па примере вещей, какие не являются ни истинными, ни ложными; что касается вещей истинных, то есть необходимых, или не могущих быть другими, чем они есть, то всякий обычный рассудок или познает их из самого себя, или же иначе не сможет их познать никогда).
62 Здесь пет возможности более подробно остановиться на противоположности между «спонтанностью» гения и «объективностью» «правил», как опа обнаруживае те я в поэтике Ренессанса. Некоторый новый материал для представления и анализа этой темы дают Цильзель: Zilsel Е. Die Entstehung des Geniebegriffs. Tubingen, 1926 и гамбургская диссертация I юме: Thiime Н. Beitrage zur Geschichte des Geniebegriffs in England (Einleitung). Пусть даже в решении этой проблемы, а также в контроверзе между «imitatio» (подражанием) и «inventio» (твопчеством) - в споре,
364_________________________________________Человек в контексте кулыуры
который велся Полициано, юным Нико и Эразмом, с одной стороны, и Кортеже и Бембо с другой, также нс было достигнуто ясное и надежное разграничение основных понятий; тем не менее философия Возрождения задала ту строгую формулировку проблемы, которая через посредство английской психологии и эстетики оказала влияние на Лессинга и Канта. В наиболее яркой форме выразил се Бруно, утверждавший, что не поэзия возникает из правил, а правила задаются поэзией, что существует столько родов и видов подлинных правил, сколько и типов истинных поэтов (Eroici furori I. Орсге ilal. (Lagarde). P. 625). В целом справедливо замечание Панофски (Op. cit. S. 38), «что настоящий Ренессанс ничего не знает ни о противоречии между гением и правилами», ни между «гением и природой», и, скорее, напротив, в ренессанском понятии идеи «особенно наглядно примиряются эти две сше не дистанцировавшиеся друг от друга противоположности; оно, в ответ на притязания реальности, и утверждает свободу художественного духа, и ограничивает ее». Этот вывод вполне согласуется с результатами нашего исследования, и единственное, в чем я не согласился бы с Панофски, - это в его утверждении о том, что мышление Ренессанса «делает эмпиричным и апостериоризи-рует» художественную идею в целом и идею красоты в частности. Мне кажется, что уникальным и определяющим в данном случае является скорее то обстоятельство, что и концепция природы, и концепция искусства в равной мере настаивают на «априорности» идеи и тем не менее именно в силу самой этой априорности включают идею в новые отношения е опытом. Ведь именно математическая идея, «априорность» пропорции и гармонии, и становится здесь общей основой как эмпирической истины, так и художественной красоты: как постоянно подчеркивает сам Кеплер, «врожденная» идея числа и «врожденная» идея красоты и подвели его к открытию трех фундаментальных законов обращения планет.
63 Galilei. Dialogo sopra i due massimi sistemi. Ed. naz. VII, 118 (немецкий перевод Эмиля Штрауса: Straufl Е. Lpz., 1892. S. 110).
64 См. применительно к данному случаю и к последующим примеры из Erkentnrrisproblem. 3. Aufl. I, 314 f., где, правда, еще не поставлен во всей остроте вопрос о значимости эстетического фактора в открытии современного понятия природы.
6 5Leonardo. Cod. Atlant, fol. 147 v.
66 Leonardo. fEd. Richter. Nr. 3).
67 Warburg. Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten. S.70.
68 «Si ergo Magia idem est quod sapientia, nierito hanc practicam scientiae naturalis, quae praesupponit exactam et absolutam cognitionem omnium rcrum naturaliuni, quasi apicem et fastigiuni totius philosophiae, peculiari et appropriato nomine Magiam, id est sapientiam, sicut Romam urbem, Virgilium poetam, Aristoteleni philosophum dicimus, appellate voluerunt». Pico della Mirandola. Apologia (Opera fol. 170) (Если, следовательно. Магия тождественна мудрости, будучи практическим приложением естественной науки, что предполагает точное и совершенное познание всех естественных вещей, и является как бы вершиной и завершением всей философии, она по праву получила характерное, отличительное свое имя Магии, то есть
Эрнст Кассирер. I [роблема взаимоотношения субъекта и объекта... 365
мудрости, подобно тому, как мы называем город Римом, поэта - Вергилием, философа - Аристотелем).
н Leonardo. Ed. Ravaisson-Mollie п. Ash. fol. 20 r. (Ilerzfeld M. S. 134).
70 Подробнее в моем докладе «Eidos und Eidolon. Das Problem des Schonen und der Kunst in Platons Dialogen». - Vortrage der Bibliothek Warburg. 1922/23. I, S. I 1Г.
71 Platon. Republ. 523 Ass.;cp. Cusanus. Idiota. Lib. Ill, 4.
Cusanus. De conjecturis II, 11; II 16.
73 Leonardo. (Ravaisson-Mollien. E., fol. 55 r., cp.: He rtf eldM. S. 6).
74 Platon. Republ. 533 C ss.
75 Platon. Republ. 630 A ss.
76 Leonardo. Ravaisson-Mol lien. E. Fol. 8v.
77 Ср., например: Galilei, Discorsi e dimosl razioni niateniatichc intorno a due nuove scienze I (Op., ed. Albert XIII, 7): «Е perchd io suppongo la materia esser inalterabile, Ыоё sempre Fistessa, ё manifesto che di lei come di affezione etema e necessaria si possono produr dimostrazioni non meno delFaltre schiette e pure matematiche» (И поскольку я полагаю материю неизменной, то есть всегда тождественной себе, ясно, что относительно нее как начала вечного и необходимого мы можем строить доказательства не менее строгие, чем относительно предметов чисто математических). Для понятия движения формулируется тот же принцип, см. о полемике Галилея с Винченцо ди Грация (например, Op. XII, 507 ss.).
78 Galilei. Discorsi, Giornala terza. Op. XIII, 148.
79 Aristoteles. лср1 oupervou A8.
80 Cp.: Duhem. Etudes sur Ldonard de Vinci. Seconde sdrie, II 82 ss.
81 «Complica igitur istas diversas imaginationes ut sit centrum Zenith et e converso: et tunc per intellecturn (cui lantum servit docta ignorantia) vides mundum et ejus motum as figuram attingi non posse, quoniam apparebit quasi rota in rota, sphacra insphacra, nullibi habens centrum vel circunifercntiam, ut praefertur». Cusanus. De doct. ign. 11, 11; (Возьми эти разные картины воображения в свернутом единстве, чтобы центр был зенитом и наоборот, — и умозрением, которому так помогает ученое незнание, ты увидишь, что мир, его движение и его фигуру постичь невозможно, потому что он оказывается как бы колесом в колесе, и сферой в сфере, нигде не имея ни центра, ни окружности, как сказано. Николай Кузанский. Об ученом незнании, II, 11, 161); об историческом значении и влиянии этого учения см.: Apelt E.F. Die Reformation der Sternkunde. Jena, 1852. S. 18 ff, К вопросу о систематической связи, которая существует между метафизикой Кузанца и его космологией, можно указать на недавно появившуюся гамбургскую диссертацию Ганса Иоахима Риттера.
** Kepler. Opera. Ed. Frisch. Il, 55.
w Cp.: Ari$toteles. Physik ]V. Cap. 5 7; De coelo IV, 3.
84 Совсем недавно Паиофски показал, что это открытие совершалось не только в математике и космологии, по и в изобразительном искусстве и в художественной теории Возрождения, и что теория перспективы даже Предвосхитила здесь результаты современной математики и космологии. См. его доклад «Die Perspcktive als symbolise he Form» (Vortrage der Bibl. Warburg. IV. 1924/25).
366 Человек в контексте культуры
85 Подробнее см.: Erkenntnisproblcm. 3. Au fl. L 401 IT.
86 Подробнее о методе Кеплера в «Stereonietria doliorum» см. у Цойтена: Zeuthen. Geschichte der Mathcmatik uni 16. und 17. Jahrhundcrt; а также у Герхардта: Gerhardt. Die Entdeckung der hoheren Analysis. Halle, 1855. S. 15 ff.
87 Cp.: Wieleitner. Die Geburt der modemen Mathcmatik, Historisches und Grundsatzliches, I: Dieanalytische Geometrie. Karlsruhe. 1924. S. 36 ff.
88 Bruno. la ceria de la ccneri, Op. italiane (Lagarde). S. 124 ss.; cp. De Immenso et Innumerabilibus. Lib. I, cap. I. (Op. latina I, 1. P. 201).
Intrepidus spatium immensum sic lindere pennis Exorior. neque fania facit me impingcre in orbes, Quos falso statuit vents de principio error, 111 sub conlicto reprimamur carcere vere, Tanquam adamanteis cludatur moenibus totum. Nam mihi mens melior...
(Начал бестрепетно я возноситься па крыльях в безмерном пространстве, И молва не заставит меня пробиваться сквозь сферы:
Правда, что ложное их бытие в заблужденьи начало берет, Чтоб в иллюзорной темнице реально меня запереть, Как бы отторгнув от мира стальными стенами.
Но мне лучший ум...).
89 Bruno. De Finfinito, universo e mondi. Dial. I. Op. ital. P. 307: «Non ё senso che vegga 1’infinite, non ё senso da cui si richieda questa conclusione, perche 1’infinite non puo essere oggetto del senso: et perd chi dimanda di conoscere questo per via di senso, ё simile a colui che volesse veder con gl’occhi la sustanza e 1’essenza: et chi negasse per questo la cosa, perche non ё sensibile, о visibile, verebe a neg^r la propria sustanza et essere» (Чувство не постигает бесконечного, не от него следует искать ответ на вопрос о природе бесконечности, ибо последнее не может быть объектом чувственного познания. Поэтому тот, кто добивается познания его посредством чувств, уподобляется желающему увидеть чувственными очами субстанцию и сущность; если же кто-то отрицает существование бесконечного по причине его незримости и чувственной невоспринимаемости, должен будет отрицать и свою субстанцию и бытие).
90 Более подробно о состоянии вопроса в схоластической физике XII и ХШ вв. см. у Дюгема: Ldonard de Vinci et les deux Infinis (fitudes sur L. De Vinci II).
91 Froici furori. Dial. III. Op. Ital. P. 648.
92 Ficinus. Dialogue inter Deum et animam Thcologicus. EpistoL Lib. 1. (Opera fol. 610).
Печатается (с некоторыми исправлениями) по изданию: КассирерЭ. Избранное: Индивид и космос. М.; СПб., 2000. С. 142-206 .
Андре Шастель
Алкание красоты
Введение. Метафизика красоты и художники
« Именно благодаря этому дивному, бессмертному инстинкту Прекрасного мы смотрим на дольнее и земное как на горнее явление, соответствие Небесному. Ненасытная жажда всего, что говорит нам о Жизни, что не от мира сего, — живейшее доказательство нашего бессмертия. Именно в поэзии - и вместе с тем через поэзию, в музыке — и через музыку душа провидит то сияние, что светит за гробом; и когда от чудного стихотворения у нас наворачиваются слезы на глазах, это не слезы безмерного удовольствия — напротив, они свидетельствуют о растревоженной меланхолии, о зове наших нервов, о природе, изгнанной в мир несовершенства, которая хочет тотчас же, на этой земле получить открывшийся ей рай»1.
Смутное, мучительное влечение, описанное здесь Бодлером, с той же остротой проявилось и в некоторых кругах флорентийского Квагтроченто. У этих людей можно встретить свидетельства возбужденности чувства, вызывающей слезы на глаза при лицезрении красоты, и ближе к концу века этот «зов идеального» приобретает напряженно-страстный оттенок. Именно он дает настоящий смысл философии любви, которую Фичино сделал ключом ко всему своему учению и которая начиная с конца XV столетия будет пользоваться чересчур уж громким успехом. Прославление любви все меньше и меньше будет связано с аффективным путем великих «мистиков», все больше станет служить оправданием поведения, главная ценность которого — Красота.
И Фичйно, и Пико, и строгие неоплатоники оставляли за жизнью души всю присущую ей сложность. Любовь, проявляющаяся как тайная ее пружина, подчинена Красоте, поскольку Красота являет самый «лик» божественного. Она так глубоко отзывается в чувствах, что неизбежно возбуждает бесконечную тревогу. Фичино и
368 Человек в контекс i e Kjjibiypbi
его друзья хорошо знали ужас, охватывающий душу перед пустотой низменного существования: «одухотворенным натурам» этот недуг был свойствен. Им казалось, что прекрасное лицо, прекрасное зрелище, произведение искусства могут усмирить его. С тех пор как важной стороной духовной жизни стала эстетическая, в ней появились и новая форма интеллектуального блаженства, и новые тревоги. Красота берет задушу потому, что благодаря ей в реатьном мире возникают предметы, существующие в мире потустороннем, — там, где уничтожается чувственный облик вещей. Именно эту интуицию Фичино пытается выразить посредством «платонической» градации: «Dimittе materiam, dimitte rursus et rationem, intellectuals esto, atque inteiiectus primo tuus, deinde divinus» (отними материю, отними опять же и рассудок и вразумись умом вначале своим, а после и божественным). Смысл этого принципа полностью раскрывается в диалектике любви и красоты2.
Эстетическая мысль Ренессанса не всегда имела такое тонкое доктринальное обоснование. Метафизическая связь Красоты с высшими ценностями и постоянный неприметный переход от Истины к Великолепию, от Добра к Блаженству сами по себе свидетельствуют о смене сигнификативного горизонта, в который включается флорентийский неоплатонизм. Такие ценности, как изящество и красота, легко заместили этические и интеллектуальные нормы; вскоре в них усмотрели и разрешение на гедонизм, свидетельств которого в течение всей этой эпохи очень много, — тот гедонизм, что выражен в знаменитом месте «Придворного»: «В общем, всякой вещи эта изящная и святая красота придает превосходнейшее украшение, и можно сказать, что благое и прекрасное суть в некотором роде одно и то же»\
Большинство подобных формул восходит, несомненно, к Фичино, но у него окончательное превращение совершается лишь в Боге. Когда он, вслед за Фомой Аквинским, Ареопагитом и Платоном, описывает условия и степени красоты, он хочет только лучше уяснить, как происходит (и в природе, и в душе) полное развитие духовных ценностей4. Категория прекрасного здесь дает своеобразную гамму метафор, необходимых, чтобы выразить эти ценности:
свет
Дух= сила восхождения = Прекрасное
математический порядок темнота
Тело = тяжесть — Безобразное
масса
Андре (Пастель. Алкание красолы 369
Высшее ассоциируется со светлым, а «трансцендирование», как это вообще свойственно человеческому рассудку, - с восходящим движением. Новизна, однако, в том, что впервые собрались воедино качества, обозначающие чистые эстетические ценности: ясность — выразительное движение — гармоническая связь.
Никаких других ценностей помыслить тогда было невозможно: ведь эстетический словарь, определенный этими понятиями, должен был сохранять хоть сколько-нибудь близкую связь с началами Истины и Добра. Оппозиция тьмы и света имеет точное соответствие в области познания, оппозиция освобождающей силы и угнетающей тяжести — в моральной области. Что же до «математических пропорций», которые кажутся специфическим для Красоты элементом, то они как раз даны как недостаточные для нее: это лишь первый ее уровень. Поскольку же она возвышается до абсолюта, все категории идеала - Красота, Истина, Совершенное Благо - нерасторжимо сплавляются вместе, и уверенность в этом открывает новый путь в наслаждении миром и жизненном поведении5. Нельзя прийти к Красоте без усилия всего своего существа; она требует способности к созерцанию, свойственной мудрецу, мистику, поэту. Красота есть первоначальная, неразложимая далее данность: подробно разработанная эстетика в эпоху Ренессанса столь же непредставима, как анализ психологии художника. Но в учении Фичино имплицитно содержатся все элементы эстетики, а в определении нового типа философа как «sacerdos Musarum» (жрец Муз) - данные для психологии творчества. Когда позднее наиболее передовые художники пришли к тому, что стали описывать свою деятельность в терминах умозрения, их осознание цели искусства выразилось или в терминах познания, как в случае Леонардо, либо в этических категориях, как у Микеланджело.
Леонардо делает целью искусства все бытие в целом; его изумительный и знаменитый пассаж об игре воображения, «господином» которой является художник, завершается философской дефиницией: «Cio che ё nell’ universo per essenza, presenza о immaginazione, esso lo ha prima nella mente e poi nelle mani...» (Все, что есть во вселенной в сущности, в действительности или в воображении, все то он имеет вначале в уме, а после в руках). Здесь виден отзвук томистской и аристотелевской классификации «per essentiam, presentiam et potentiam» (в сущности, в действительности и в возможности), определяющей модальности бытия. Однако Леонардо путем двойного замещения подставляет на место «возможности» «воображение» и переносит онтологическую дистинкцию на уровень конкретного универсума («вселенной»), что двояким образом нарушает равновесие формулы. Вся его «фи
370 Человек в кон геке ге кулыуры
лософия» на то и направлена, чтобы заместить «доктринальный синтез» деятельностью искусства - прежде всего, живописи6.
Микеланджело видел в скульптуре не реализацию познания, а форму духовного спасения: способ вырваться из области материи, тяжести и тьмы, подлинный katharsis. В его поразительных стихотворениях, описывающих освобождение статуи, заключенной в каменной глыбе, творческий процесс представлен как освобождение и очищение души, символически осуществляемое в предмете творчества. Красота - это «идея», которая может и должна преобразить художника7. Но в обоих случаях влечение к Красоте должно, согласно основополагающей гипотезе неоплатонизма, описываться в терминах теории любви. «Чем увереннее знание, тем пламеннее любовь» (Леонардо); не менее очевиден неоплатонический принцип и у Микеланджело: «Художника может превзойти только он сам» — это высказывание парафразирует этическую максиму крута Кареджи8.
Новшеством этой эпохи, сохранившимся в культуре, стало родовое понятие Искусства, покрывающее все его технические разновидности, включающие всю человеческую деятельность, происходящую в области конкретного и имеющую дело с формами. Это понятие было одним из главных достижений неоплатонического гуманизма: оно было необходимо ему, чтобы выявить ценность деятельности души9. Когда Маттео Пальмиери, Фичино, Пико прославляли власть человека над Вселенной, его роль «dei in terris» (земного бога) доказывалась чудесной способностью «artifex» (мастера), создающего миропорядок. Но понятие это не было развито и не привело к серьезной рефлексии над «творческой деятельностью» человеческого духа. Совершенство искусства было определено, согласно поэтике Аристотеля, как подражание природе: искусство иерархически стоит ниже природы и может отражать ее постольку, поскольку сама природа отражает божественную мысль10. Могущество «мастера» происходит оттого, что он продолжает и осмысляет творческий акт; изъять его из этой перспективы невозможно. Искусство ощущается как привилегированная инстанция в иерархии более общего порядка. Благодаря ему становится понятней смысл человеческой судьбы, а творческий акт -центральное в судьбе событие. Но, сточки зрения гуманистов, нет никаких оснований обособлять искусство сильнее.
Даже у такого чуткого и беспокойного философа, как Фичино, не могла быть развернута отчетливая теория художественной деятельности, но в учении Фичино о душе растворены ее составляющие. Душа определяется через отношение к природе, совершенно подчиненной Красоте, и Богу, в котором находит выражение ее абсолютная реализация. Рассматривая, например, какими средствами рас-
Лндре I Пастель. Алкание красоты 371 полагает человек, чтобы на опыте полностью постичь реальность, фичино выдвигает предположение, что в нем происходит непрерывная подсознательная деятельность души, которая всегда откликается на движения ее высших и низших уровней, хотя бы она сама и не обращала на это внимания. «Цвета и голоса часто возбуждают глаз и ухо; зрение и слух исполняют свою должность — зрение видит, а слух слышит, — однако душа не сознает, что видит и слышит, если наша срединная способность сама не обратит ее к этому»”.
Эта «срединная способность» есть разум в широком смысле слова, человек как таковой; ничто, не преломленное в ней, не существует для нас. Она может возвыситься и до полного видения вещей. Необходимо лишь одно условие: «Почему не обращаем мы внимания на удивительное зрелище сего присущего нам божественного ума? Быть может, потому, что, постоянно на что-либо глядя, мы утратили привычку восхищаться и замечать. Или же потому, что срединные силы души — разум и воображение (phantasia), — будучи обращены более к делам повседневным, уже не воспринимают ясно действия сего ума, как бывает, если глаз смотрит на стоящий перед ним предмет, а воображение, занятое другим, не узнает того, что видит глаз. Но когда срединные силы пребывают в покое, тогда искры умного созерцания падают на них, как на зеркало»12.
Так Фичино, под прямым воздействием Плотина, пришел к тому, что связал понятия «phantasia» и «ratio» для установления механизма чистого, незаинтересованного видения, свойственного лишь душе в состоянии отрешенного восприятия, умозрительной vacatio”. Красота мира является лишь в результате особого усилия, отвлекающего дух от практической жизни и превращающего его в зеркало истинной реальности. Этот почти бергсонианский анализ духовной деятельности заинтересовал не только философов, но и всех «жрецов муз».
В некоторых рассуждениях более абстрактного характера работа духа показывается еще точнее. Архитектор, говорит Фичино, «вначале представляет себе понятие (ratio) здания и как бы идею (idea) его в своей душе»14. Надо сказать, здесь удвоение терминов отражает психологическую двойственность, оставшуюся всеобщей на всем протяжении Ренессанса: «идея» — это лишь другое имя образа с прибавлением некоторых характеристик активности, иначе говоря - «форма» в смысле Аристотеля. Очищенное воображение - фундамент умозрения. Ведь «картина мира» может быть «умопостигаемой» только на высшем уровне, для ангелов или для душ мировых сфер, в которых обретаются праобразы всех вещей: «Образы (picturae), согласно платоникам, у ангелов носят имя первообразов и идей, в душах — смыслов и понятий, и если
372 Человек в контексте культуры
они ясны и здесь, то тем паче в душе, в наивысшей же мере в ангельском разуме»’5.
«Идея» есть «смысл»; она проявляет первый уровень духовной деятельности, поскольку содержит всецелый порядок математической абстракции. В одном важном - впрочем, позднем (1492) - тексте Фичино изъясняется в выражениях, аналогичных некоторым высказываниям Леонардо: «Искусствами именуют такие науки, которые прибегают к помощи рук; проницательностью и совершенством они обязаны математической силе, то есть способности вычислять, измерять и взвешивать, более всех связанной с Меркурием и разумом. Без нее все искусства шатались бы по воле иллюзии, были бы игралищем воображения, опыта и догадок»16. В данном случае речь идет о ремеслах, но все это, как утверждал Альберти, а за ним Пьеро делла Франческа и Леонардо, может и должно пониматься шире. Здесь мы вплотную подходим к проблемам художественного мастерства.
Труднее понять, что происходит на высшем уровне — том, который Фичино называет «ангельским разумом» — в царстве Ума (Mens), который выше Разума (Ratio). Между тем именно оттуда исходит первоначальное сияние Красоты. По мнению Фичино, полная Красота существует только на этом уровне. Именно в Уме пребывает «красота разумного света», соответствующая «светоносной красоте видимого» и противопоставленная Разуму - «красоте души», соответствующей «гармонической красоте слышимого». Иначе говоря, математическое основание искусства должно быть дополнено. Аналогия с «музыкой», общее значение которой мы уже видели, наводит на мысль, что гармония чисел — лишь подготовка: удовлетворение, которое она дает душе, служит только для того, чтобы привести душу в состояние восприимчивости. Красота может существовать тогда, когда внутри этой структуры действует нечто иное - тот свет, который Фичино никогда не анализирует и который все, как и он, прославляют: несказанное, божественное сияние, преисполняющее дух.
Термин «идея» в связи с этим приобретает некий трудноуловимый для нас оттенок значения. Возможно, следует понимать его в терминах целостных связей. Фичино подчеркивает органическую сообразность природы, в которой «образ призывает: когда звучит одна кифара, не отзывается ли ей другая?». Вселенная - ткань бесчисленных соответствий, переплетающихся, как на основе, в чувственном мире. Сознанию эти отношения даны лишь интеллектуальным усилием Разума, но он выражает только их низший уровень, на котором уничтожается мнимая разъединенность и обособленность существующего. Когда мощный свет изливает
Андре Шастель. Алкание красоты 373
ся на эту внутреннюю связь, возникает впечатление полноты, — та concordia discors (несогласное согласие), то единство многого, которое и есть сущностная гармония. Иерархия сущего, установленная онтологией платонизма, предполагает, что надо подняться выше полезных в нашем состоянии ощущений, чтобы в конце концов улицезреть движение, сияние и постоянный переход одного в другое, составляющие действительность мира в категориях Красоты. Это «великолепие», превышающее нормальные возможности чувств, может быть выражено лишь в световых терминах, поскольку свет — то же, что дух, и является как «некое божество, воспроизводящее богоподобие в храме нашего мира».
Такая формулировка необычна, но она призвана внушить, что интуиция «Ума», действуя по ту сторону явленного мира, в то же время совершенно полна, ослепительна и представляется целостностью, в которой совершается игра бесконечного разнообразия кажимостей в поразительном единстве. Фичино и Пико неустанно указывают на этот верхний предел осуществимости вечных устремлений человека. Свойство прекрасного предмета и прекрасного зрелища - пробуждать в душе сознание этой чудесной связи; более того: это относится и к прекрасному лицу, которое можно любить. Горячо настаивая, что все, относящееся к красоте, имеет поистине «священную» ценность, Фичино давал своему времени совокупность аргументов, которую трудно было забыть. Эта аргументация имела успех, поскольку легко соотносилась с повседневным опытом. При всей спутанности и противоречиях, она была философским вариантом устремлений обычного человека.
Возникала сложная и тем самым интересная ситуация. Умозрения гуманистов уже нельзя считать столь же посторонними миру искусств, как, к примеру, рассуждения мастеров схоластики, касающиеся представителей «artes mechanicae» (механических искусств). Явилась «неразграничиваемость» дисциплин, игравшая на руку пластическим искусствам: рамки теории и истории искусства прямо приспособлены к понятиям и формулам гуманистической науки. Единства всех стремлений человека искали не в концептуальных определениях, но в более широкой интуиции: так, музыка могла служить общепонятным для интеллектуалов и художников обозначением насущной потребности, ощущаемой сильно, как никогда. «Эстетизация» культуры (завершившаяся в следующем столетии) во Флоренции утвердилась со времен Лоренцо. Может быть, она даже была основной отличительной чертой этого города. Все это существенно сокращало дистанцию между «мыслителями» и художниками. Но ясно, с другой стороны, что спекулятивный метод Фичино или эрудиция Полициано удаляли их от сферы, в которой
374
Человек в контексте кулыуры
вращались художники. Метафизика Прекрасного и похвала Искусству связаны с такими доктринальными положениями, которые не могли не остаться чужды художественным кругам. Обычно не видят, какие интересные для себя повороты мысли и новые указания могли найти в платоновской теологии и гуманистической поэзии художники, поглощенные конкретными проблемами, умевшие разрабатывать позитивные задачи и тем гордившиеся, хотя само их творчество было неотъемлемой частью нового учения17.
Кажется, что между «мечтателями» из Кареджи и практиками — глухая стена. Какое отношение общие «идеи» и философские разборы интеллектуалов могли иметь к творчеству художников, эволюции жанров, кризисам стилей? Но ясно видны основания оставить эту проблему открытой. Прежде всего, это легкость и быстрота, с которой философия любви флорентийского неоплатонизма после 1500 г. вошла в моду, захватив как аристократические светские круги, так и итальянского «широкого читателя». Ведь уже при посредстве Данте главные неоплатонические темы вошли в общую культуру и, в частности, в культуру флорентийских художественных кругов. Это явление далеко не второстепенной важности. Все «сочинители» («trattatisti») вслед за Фичино и Бембо повторяли, что любовь потому является первоосновой духовного восхождения, что рождается от вожделения Красоты.
L’amor mi prende е la beltA mi lega, -
(Склонен Любовью, Красотою связан)
писал Микеланджело (сонет 31). В культуре, где состояние влюбленности становится, таким образом, естественным состоянием души, деятелями, выражающими ее глубинное содержание, становятся поэт и художник. «Придворный» Кастильоне ясно выведет такое заключение, завершая линию эволюции, начатую во Флоренции сорока годами раньше.
Ведь в основном именно во Флоренции можно заметить первые проявления интеллектуальной эмансипации, в результате которой значительное число художников освободились от привычек ремесленников. Самые блестящие из них, как кажется, сознавали, какая им досталась роль, и афишировали свои новые притязания. Благодаря этому начали разрушаться и социальные перегородки18. Вазари сообщает, что рядом со скромными «боттегами», составлявшими большинство, существовали настоящие клубы художников, например мастерская Баччо д’Аньоло, где по вечерам происходили «bellissimi discorsi е dispute d’importanza» (прекрасные разговоры и споры о важных предметах)’9. Речь идет о первых годах
Андре [Пастель. Алка ни е красоты 375
XVI в., но эти споры о проблемах искусства вошли во Флоренции в привычку: уже в конце XV в. мастерская Боттичелли, по ироническому выражению одного хроникера, была настоящей «academia di scioperati» - собранием праздных людей, где говорили обо всем. Боттичелли именно благодаря «литераторским» притязаниям считался «мудреным» художником. К его временам следует отнести и превращение некоторых мастерских в маленькие академии.
Чувство независимости и достоинства у тосканских художников проявлялось все сильнее. Как видно из многочисленных анекдотов, мастера более всего заботились о том, чтобы за ними признали высокий социальный статус20. Они добивались не просто почестей и высоких гонораров, а претендовали на привилегии ученых: это видно по тому, как беззастенчиво иные из них — не только Леонардо — бросали скучный заказ ради более привлекательной работы, которая помогла бы лучше оценить их талант. С непонятливыми и нетерпеливыми заказчиками Леонардо и Микеланджело обходились свысока21. Другие следовали их примеру22. Они настаивали на достойном месте для искусства в иерархии «свободных» дисциплин, но при этом любой живописец и ваятель имел в виду, что первый его долг — перед искусством, что ясно выразил Леонардо: «Если ты, живописец, будешь стараться понравиться наилучшим живописцам, то будешь писать хорошо, ибо они одни могут по-настоящему быть судьями твоего творчества...». Обыкновенный клиент — судья дурной: у искусства свои законы, и только знаток может оценить, какую задачу разрешил художник. Мастерство состоит не в одной технической виртуозности: оно имеет дело с чем-то более возвышенным - тем, что роднит художника с поэтом23.
Именно в это время поведение некоторых художников стали подмечать и с интересом комментировать. Доменико Гирландайо проявил такую лихорадочную страсть к своей работе, что хотел сплошь расписать фресками флорентийские укрепления; Пьеро ди Козимо, в творческом жару забывавший обо всех житейских обязанностях и удобствах, стал первым представителем типа художника-мизантропа, которого любовь к искусству освобождает от соблюдения общеобязательных норм24. Из-за ревностного прилежания к работе некоторые художники долго скрывают свой труд, непрестанно к нему возвращаются, не показывают любопытным; случается, что некоторые работают просто для себя - явление, совершенно не встречавшееся прежде конца флорентийского Кваттроченто25. В общем, именно в это время сложился новый тип человека — художник, человек искусства. Среди его характерных черт некоторые - чисто флорентийские: насмешливость, страсть к рассуждениям, обостренная чувствительность, которая выража
376 Человек в контексте культуры
ется в потребности время от времени затворяться и размышлять в уединении, но в то же время в любви к розыгрышам, шутовским фантазиям, которые были не только разрядкой, но и создавали в жизни агмосферу праздника и нереальности26. Жизнь Леонардо самым поразительным образом являла эту духовную независимость, так что даже в следующем столетии ее не поняли до конца. Многие, вслед за Донателло и Гиберти, окружали себя антиками, изысканными предметами не как моделями для работы, а как символами культуры27. Синьорелли изысканно одевался, представлялся «signore е gentilhuomo» (благородным синьором); Леонардо был элегантнейшим из людей. Рафаэль, которого, словно принца, окружала свита, являл противоположность Микеланджело, «одинокому, как палач», но все эти люди требовали почтения к себе.
Все эти детали многозначительны и сводятся к одному. Вазари, который сообщает большинство из них, иногда, по-видимому, просто повторяет расхожие анекдоты довольно сомнительной достоверности, не всегда разобравшись толком, о чем идет речь24. Но именно в эпоху Лоренцо укреплялась уверенность мастеров в своих интеллектуальных силах и в то же время их озабоченность достойным положением в обществе. Они старались представить себя, наравне с поэтами и гуманистами, привилегированной категорией людей, имеющей свои особые права и обязанности. Привязанность Лоренцо ободряла их в этом; Фичино подарил дружбу Поллайоло, Полициано вел беседы с Микеланджело. Флорентийские обычаи благоприятствовали, так сказать, повышению художников в чине, а вскоре их стали приравнивать к величайшим «героям» культуры. Многие из них, правда, страдали от того, что они «senza lettere» (необразованны). Они читали сочинения на вольгаре, а не латинские трактаты, основой их образования были не столько труды гуманистов, сколько Данте29. Но примечательно, что около 1500 г. у новых мастеров - Леонардо, Микеланджело, Рафаэля — появилось желание писать: они сами стали «сочинителями» и поэтами.
В свете этих наблюдений отношение искусства к гуманизму предстает по-новому: художников объединяют с гуманистами и алкание Красоты, возносящей душу к предельному напряжению, и притязания на привилегии «жрецов муз». И тут доктрины гуманистов давали теоретическое обоснование скандальным поступкам и стилю поведения художников. Конкретизировать наши наблюдения можно трояким образом: исследуя, во-первых, успех отроческих образов в качестве идеала красоты; во-вторых, способы приложения математических принципов и поиска некоего «благородства форм»; в-третьих, распространение теории рисунка-идеи и вытекающего из нее различения замысла и исполнения.
Глава 1. «Eros socraticus>
В философии Ренессанса тело занимало особое место: его именовали орудием души, благодаря которой та внедряется в чувственный мир. Но более того: тело представляло собой тип высшей организации, важный для всего мироздания. Равновесие четырех жидкостей, которые суть не что иное, как физиологический аспект четырех стихий, выражает в теле всеобщее устройство природы. Его строение и внутренние отношения — ключ к гармонии, причем не в акцидентальном, не в локальном, а в абсолютном смысле: без них невозможно дать себе отчет в том, каким образом в мире действуют математические основания красоты. Канон пропорций имел целью выявить эту преимущественную ценность фигуры человека30. Комментарии Фичино к «Пиру» и «Тимею», будучи связаны с возрождением формул Витрувия, подтвердили интерес к этим теоретическим умозрениям. Они позволяют дать более точное понятие о том, что можно назвать «ренессансным пифагорейством».
Душа есть «форма» тела, а тело - универсальный «знак». Когда мы даем ангелам, планетам, созвездиям, земным энергиям некий «образ», воображение, следуя традиции, представляет себе этот образ как человеческий. Это нормально для любого символического выражения31. Здесь нет ничего нового, кроме того, что такое действие диктуется любопытством естествоиспытателя, и того, что человеческое тело предстает наделенным исключительным достоинством, соответствующим центральному положению человека в мире. Ни один другой чувственный образ не способен в такой же мере дать нам откровение красоты. Человеческое тело — словно авангард божественного великолепия в природе; поэт и философ должны ощущать совершенство его строения — и Фичино в период «Пира» (1475), когда ему казалось, что все виды опыта можно примирить, не колеблясь, пишет: «платоновской семье» свойственна «страстная любовь к телесной и нравственной красоте людей»32.
Это значило принять и оправдать — с тем, чтобы очистить и дать философское направление, - сильнейшую страсть людей той эпохи к телесной красоте и, в частности, к красоте молоденьких мальчиков. Не то чтобы теория «платонической любви» была предложена как подновленный и, если угодно, более осторожный вариант любви «греческой», но для нее там находилось идеальное место. Как оказывается, во флорентийских художественных кругах все это прекрасно тогда понимали.
Не так легко, как хотелось бы, отделить «сократическое» влечение, оправданное и даже рекомендованное Фичино, от греха, о котором нередко упоминали флорентийские проповедники и
378 Человек н кон тексте кулыу ры
который прямо обличал Савонарола33. В мастерских художников не было женской прислуги: с художниками и учеными жили «garzoni» (мальчики), которые и занимались домашней работой, а иногда взрослые слуги — нередко двое. Подросток поступал в мастерскую, чтобы научиться художественному ремеслу, чтобы заработать на жизнь, иногда - чтобы служить натурщиком34. Совсем неудивительно поэтому, что величайших художников Флоренции подозревали - справедливо или нет - в содомии.
Вопрос об этом встает применительно к Боттичелли, Леонардо и Микеланджело. В рукописи из Мальибеккьяно, содержащей немало полезных сведений о жизни художников, приводятся женоненавистнические высказывания Боттичелли. Слишком поспешных выводов делать не стоит, но в 1473 г. один из его юных учеников был осужден за содомию, а на него самого в ноябре 1502 г. был сделан донос35. Судебные дела о нравственности художников вообще были нередки. Хорошо известно, что на Леонардо, еще в бытность его у Вероккио, поступил форменный донос в «тамбу-ро», но он был отклонен или замят36.
Леонардо во всем был загадочным оригиналом, однако же по его дневникам и рисункам можно видеть, что он интересовался красотой мальчиков. Удалось пролить свет на личность подростка, известного под прозвищем «Salai» (Чертенок), которым художник занимался с удивительным терпением. В 1490 г. мастер отметил в дневнике, что к нему поступил новый «garzone» Якомо, десяти лет от роду; на другой день он записал расход на его одежду, затем из года в год - на башмаки (24 пары в год) и ткани; 4 апреля 1497 г. Леонардо отметил расход на великолепную шапку для юноши. Удивительней всего его снисхождение к дурному поведению Салаи, о скверном характере которого он записал сразу же при поступлении: «Вор, лжец, грубиян и обжора», к его проступкам по службе и мелким кражам. Все это не помешало художнику дать в 1508 г. 30 скуди на приданое сестре Салаи и завещать ему немалое состояние «в вознаграждение за добрую и честную службу». Между прочим, «чертенок» был сыном одного миланского приятеля Леонардо37.
Отсюда часто делали далеко идущие выводы, и подозрения Фрейда — несмотря на обилие у него фактических ошибок, - возможно, имеют основания. Оснований этих было бы еще больше, если бы Фрейд принял во внимание атмосферу той эпохи и многочисленные заметки и рисунки, доказывающие, что Леонардо без всякого смущения изображал все формы любви™. Прежде всего, не надо забывать его изречение, звучащее, как глубоко личное: «Разумная страсть изгоняет сластолюбие»39. Но, с другой стороны, творчество Леонардо указывает на его страсть к андрогинному.
Андре IПастель. Алкание красоты 379
Всю жизнь Леонардо рисовал две обращенные друг к другу фигуры: взрослого воина и хорошенького подростка; сопоставление двух этих типов явно преследовало его40. Впервые они появляются на листке W. 12276 с многочисленными набросками разного характера, в последний раз - тридцать лет спустя41.
У Микеланджело наваждение «Eros Platonicus» еще более очевидно. Его гомосексуальные привязанности хорошо известны. В тридцать с небольшим лет, во время работы в Сикстинской капелле, он был влюблен в мальчика по имени Джованни да Пистойя42, а несколько лет спустя в Герардо Перини, которому в 1522 г. написал несколько любовных писем43. В 1532 г. он изъявил огромную, жгучую страсть к Томмазо Кавальери, молодому римскому дворянину, необычайному по красоте и по высоте ума; скульптор адресовал своему кумиру множество писем и пылкие «петраркистские» сонеты44. Возможно, были у него и не столь достойные друзья. Но приступы «сократической» страсти совпадают с теми периодами творчества художника, в которые он как никогда самозабвенно прославлял физическую красоту45. Произведения Микеланджело, как и Леонардо — это «исповедь», не столь вульгарная, как злобные или беззлобные анекдоты, сохраненные их современниками46.
Содомия интеллектуалов и художников со времен Данте была расхожим предметом морального осуждения, подчас, впрочем, довольно мягкого, поскольку ко всему, что касается любви и красоты, итальянцам присуща снисходительность47. Два раза в течение раннего Кваттроченто эта проблема становилась предметом публичного обсуждения: в 1426 г. в связи со сборником непристойных эпиграмм Беккаделли «Гермафродит», посвященным Козимо Медичи4*, и во второй половине 50-х годов в контексте споров о платонизме. В этой полемике «Сократов грех» служил аргументом византийским эмигрантам, не признававшим «культурного» значения сочинений Платона: Георгий Трапезундский обвинял автора «Федра» в проповеди педерастии, кардинал же Виссарион в этом, как и во всех других отношениях, защищал его в прекрасном трактате (1469), где, напротив, прославлял возвышенность платонической морали, основанной на очистительной силе любви49. Вскоре флорентийская гуманистическая академия, и здесь верная принципу «imitatio Platonis», вновь открыла «философическую любовь к отрокам», которая, кажется, была одной из характерных черт аристократической культуры эпохи Медичи.
Джованни Кавальканти и Фичино — «Plato redivivus» (воскресший Платон) - дают пример страстных, сердечных, без всякого намека на что-либо постыдное любовных отношений. Джованни, родившемуся в 1448 г., было неполных двадцать лет, когда Фичи-
380
Человек в контексте кулыуры
но в одно из обострений депрессии сделал его своим другом и испытал большое утешение. В том же 1467 г. философ отблагодарил юношу, посвятив ему первую редакцию «Комментария к Пиру», где роль Федра отведена именно Кавальканти, красоту которого прославляют все сотрапезники. Все радости, муки и экстазы, описанные в этом произведении, были на опыте постигнуты двумя «софилософствующими» (conphilosophi), переписка которых наполнена теми же великолепными гиперболическими формулами50. В «Пире» прославляется ценность «amor Socraticus» и для учителя, созерцающего божественную красоту в земном ее отблеске, и для ученика, который тем самым учится удаляться от скотской похоти. «Желаете ли знать, в чем польза сократической любви (quam utilis sit amor socraticus)? Во-первых, сила ее помогает человеку внове обрести крылья, возносящие его к отечеству, а во-вторых, споспешествует добронравию и благополучию всего града»51.
Именно эта «сократическая» любовь к красивым подросткам была в эпоху Ренессанса первым полноценным выражением того, что позднее, в популярных и упрощенных версиях начала XVI в., стало разнополой «платонической любовью» или же духовным соединением душ52. Впрочем, нежная симпатия к мужской красоте -свойство не одного Фичино. Пико любовь того же рода связывала с Джироламо Бенивьени; когда Бенивьени умер (1542), их похоронили в монастыре Сан-Марко под одной плитой с красноречивой эпитафией5’. Наклонность, о которой идет речь, у книжников и гуманистов Флоренции при Лоренцо была всеобщей, и если нравы их (за исключением Полициано и еще немногих) представляются весьма чистыми, этим лишь ярче характеризуется изысканное общество XV столетия, в котором изящество и совершенство отроческого тела вдохновили три бессмертных варианта обнаженного юного «Давида» - три вершины флорентийской скульптуры.
Благоприятная атмосфера, созданная гуманистами, была особенно насущной потому, что изображение обнаженного тела, причем именно мужского, все больше интересовало флорентийских мастеров. Донателлов отрок Давид, словно неким чудом возникший в 1430-е годы, был одним из первых проявлений этого интереса. Эта скульптура наделена причудливым, нервным очарованием, в которое шляпа с лавровым венком, поножи с пальметтами, блуждающая улыбка и некоторая небрежность позы вносят удивительную нотку капризного кокетства54. Около 1460 г. Флоренция стала столицей обнаженной натуры, и тогда этот и без того чрезвычайно изысканный образ был еще более элегантно и сложно разработан Вероккио, изваявшим его как юного мечтателя (1476). Наконец, в 1504 г. явился шедевр Микеланджело, который подвел итог всей эпохе.
Андре I Пастель. Алканне красоты 381
Вероятно, именно в мастерской Вероккио в первой половине 70-х годов был разработан тип «двуполого» подростка, предназначенный главным образом для изображения ангелов. Художники, общавшиеся с этим оригинальным мастером, особенно Боттичелли и Леонардо, явно хотели собрать под видом ангела черты обоих полов, чтобы создать «андрогина» — идеальное нежное существо, более чувственное, чем «путто», и более изящное, чем отрок55. Именно в это время Фичино представил ангелов как образы высшего порядка, в которых являются сияние и прелесть («nitor et gratia») высшей Красоты - той, которая рождает в сердце человека неутолимую любовь. Но эта красота необычайной силы отличается от человеческой только степенью: «Божественная сила вложила в ангела и в душу совершеннейший чертеж (configuratio), по которому должен быть создан человек», - иначе говоря, неотразимо, без всякого снисхождения к чувствам, обольщающую форму, в которой изящество и нежность доведены до высшей степени56.
Сравнение с поющими ангелами Гоццоли и Филиппо Липпи проливает свет на эту новую чувственность. Она выразилась у Боттичелли в образах хорошеньких детей с длинными волосами — не мальчиков и не девочек, — сопровождающих «Мадонну Магнифи-ката» и «Мадонну с шестью ангелами», в склоненном ангеле «Благовещения» из Сан Мартино делла Скала (1481) с длинными ресницами, пухлыми извилистыми губами, волнистыми развевающимися волосами, очевидно, заворожившими Данте Габриела Россетти; наконец, в танцующих ангелах в широких, подпоясанных под грудью, подобно нимфам в «Весне», одеждах, занимающих верхнюю часть картины «Коронование Богоматери» из Уффици. Помимо этих обобщенных образов нежности и радости, Боттичелли написал также немало грациозных подростков; ряд их открывается «Святым Себастьяном», который словно спокойно позирует художнику, и продолжается двумя изображениями мертвого тела Христа — в Мюнхене (окончено одним из учеников) и в музее Польди—Пеццоли в Милане, — где в церковном искусстве впервые появляется потрясающий мотив «пластической» красоты, иным казавшийся нечестивым.
От утонченных лиц Дезидерио до подростка Вероккио образ юноши, свободного от всяческой вульгарности и безобразия, становится все более неоднозначным и грациозным57. Леонардо сохранил, но еще больше сгустил этот тип, сделав его еще более изысканным и завораживающим. Начав со знаменитого ангела в «Крещении» Вероккио (ок. 1475), он и в «Благовещении», и в незаконченном «Поклонении волхвов», и в «Мадонне в скалах» писал крылатых подростков с красивыми кудрявыми волосами, похожими на волосы молодых женщин; в них доведен до совершенства
382 Человек в кон тексте культуры
верроккиевский тип с гладкой, блестящей, как бронза, кожей58. В еще более двусмысленном изображении ангела из «Мадонны в скалах» видят сходство с утонченным лицом «Дамы с горностаем», так что это, возможно, — переосмысленное лицо Чечилии Галле-рани59. Многочисленными зарисовками Салаи конкретная характеристика образа подытожена60; на листке из Виндзорского собрания повторен тот же профиль на женской фигуре, словно для того, чтобы так далеко, как это только возможно в природе, зайти в поисках этой пленяющей воображение двусмысленности61.
К циклу, посвященному подростковой красоте, можно прибавить и изображения Иоанна Крестителя. Известен, между прочим, рисунок Леонардо «Джованнино» (ок. 1476), исполненный серебряной иглой по голубому фону, не превосходящий, по правде говоря, уровня ученических упражнений62. Тридцать же лет спустя в луврском «Иоанне Крестителе» тонкая лепка фигуры, необычное освещение, точно рассчитанный поворот показывают, что важность этой эмблематической фигуры для ее создателя доходила до наваждения. Об этом образе много рассуждали, подчеркивая то ирреальный, словно бы потусторонний его характер63, то порочную притягательность. Но независимо от своей «символической» значимости и каких бы то ни было сознательных и бессознательных импликаций, эта чрезвычайно умело изображенная фигура с предельной силой выражает тип, родившийся в кругах флорентийских интеллектуалов.
Напротив того, Синьорелли подчеркивал скульптурное начало старой флорентийской школы; обнаженное тело было для него главным элементом не столь изысканного языка. Около 1490 г. в «Пане» и тогда же написанном тондо из Уффицци, где также изображена группа пастухов, играющих на флейте, он, кажется, первый воплотил идею изображения отроков в некоей вечной Аркадии, намекающей на вечность античного мира64. Так «Eros Platonicus» окончательно связался с представлением об античности как о потерянном рае. У нимф «Сатурнова хора», окружающих бога Пана, такая же развитая мускулатура, как и у пастухов идиллии, словно существует лишь один тип красоты. Необычные обнаженные фигуры «Воскресения мертвых» из Орвьето производят то же впечатление. Пример же Синьорелли, как известно, был важен для Микеланджело. Торжествующая нагота отрока стала для него поводом для своеобразной эстетической проповеди.
Впервые этот мотив появился в тондо 1503 г. «Мадонна Дони» (Уффицци): ребенок, подобный маленькому атлету, несет победное знамя; на заднем плане изображено любовное соревнование: «Несколько прекрасных обнаженных отроков с кудрявыми воло-
Л।upe Шастель. Алкакие красоты 383
сами, гибких и грациозных... Один из юношей сжимает другого в объятиях, а третий словно стремится вырвать его»65. Слева еще одна пара мальчиков задумчиво глядит вдаль, опершись на мраморный парапет. Их тип - тот же, что у статуи Давида, но атлетическая красота и любовные забавы наводят на мысль, что перед нами языческий мир; он отделен от Святого Семейства стеной, через которую собирается пройти маленький Иоанн Креститель. В «Рождестве» Синьорелли изобразил вместо пастухов обнаженных людей, напоминающих статуи. Микеланджело представил их в виде группы, словно иллюстрирующей «Федра», и наглядно связал с представлением об «Eros Platonicus». В тот же период был создан и «Вакх» (Барджелло), о котором Вазари прямо говорит, что Микеланджело хотел «удивительным образом изобразить члены тела, придав им и отроческую стройность, и вместе сочную женскую округлость»66.
К тому же типу относятся «обнаженные» (ignudi) Сикстинской капеллы. Это отнюдь не простое украшение: первоначальная их функция — архитектурная (связать с карнизом бронзовые медальоны), но, давая всей росписи потрясающую живость, они вводят в нее образ душевной деятельности67. Их чистые лица выражают вечную юность; повязки на голове не могут удержать волосы, развевающиеся под невидимым дуновением. От играющего фавна до левита, они представляют все виды «исступления», возвышенного красотой6*.
В последующие годы подобная связь «платонического эроса» с христианским искусством уже не будет казаться возможной. Хорошо известный эпизод из жизни Микеланджело показывает, до какой степени страсть могла влиять на его творчество: в 1532 г. он адресовал Томмазо Кавальери пылкие стихотворения, где сравнивал юношу с Солнцем, — сам Бог отражается в его красоте, и только через нее Он доступен созерцанию художника. Все, вплоть до словесных формул, здесь говорит о «том типе дружбы, который пятью десятилетиями ранее царил в окружении Лоренцо Медичи»69.
Тогда же, в 1532 и 1533 гг., Микеланджело подарил Кавальери серию рисунков, для толкования которых необходимо опираться на стихи, а стихи возвести к неоплатонической доктрине любви: один рисунок изображает муки Тития, которого, подобно Прометею, терзает бесконечная пытка, другой - похищение Ганимеда на небо орлом Юпитера, античный символ мужеложства, превращенный неоплатониками в образ furor amatorius (любовного исступления), предшествующего интеллектуальному созерцанию. Не менее ясной аллегорией выражено трагическое чувство платонической любви в другой серии — на сюжет о Фаэтоне70. Не надо, наконец, забывать, что Микеланджело написал портрет Томмазо Кавальери в натуральную величину, - «он, ни прежде, ни потом
384
Человек в контексте культуры
не писавший ничьих портретов, ибо ненавидел искать сходства с живым человеком, если тот не был бесконечно прекрасен»71. Но вскоре он осудил и бренность чувств («А1 cor di zolfo, a la carne di stoppa» (С сердцем из серы, с жилистою плотью) — CIX, 97), и тщету искусства, поддерживающего в душе поклонение красоте. Его страстное поклонение Виттории Колонна означало и отречение от сократической любви, и отказ от связанных с нею иллюзий. Мистическое волнение положило конец флорентийской мечте.
«Eros Platonicus», как его понимали мыслители Кареджи, способствовал необходимой «сублимации» нравов, и он же помогал яснее осознать избирательное сродство между искусством Кват-троченто и античным. Давая основание интересу к «двуполой» и мужской красоте, он побуждал переводить их изображение в более возвышенный план, где чувство может раскрыться полностью72. В XVI в. положение изменилось. Лишь Микеланджело по-прежнему преследовало наваждение «платонического эроса»; веку это было уже непонятно и возмутительно. Рафаэль, Корреджо и Тициан без всяких мук прославляли Венеру и женскую красоту, и в то же самое время в Урбино, Ферраре и вообще при дворах Северной Италии неоплатонизм стал учением, приспособленным к светской любви7?.
Е начале Чинквеченто за несколько лет изменился канон женской красоты: на место гибких нимф Боттичелли и нежных абрисов Перуджино пришли жизнерадостные, горячие, плотские образы. Новый идеал, данный Венецией, — не отрок и не дева, а зрелая женщина. Все больше появлялось стихотворений и трактатов в похвалу женской красоте; Ариосто в отступлении из нескольких строф сладострастно описывает прелести феи Альцины (Orlando furioso, VII, 11 след.)74. Язык живописца стал чувственней прежнего, но оставалась в моде риторика, воспевавшая женскую красоту в неоплатонических терминах, и сюжеты типа «лежащей Венеры», «Венеры с музыкальными инструментами» это явно учитывали75. Наконец, второстепенный гуманист Агостино Нифо, вовсе не помышлявший о платонизме, написал для Хуаны Арагонской трактат «О прекрасном». Этот почитатель красоты не забывает ни об одном из приятных ощущений пяти чувств — изяществе, гармонии, сладости, благовонии и мягкости. Теперь считалось уже элегантным, а не неприличным соединять с представлением об изяществе пропорций мысль о нежной шелковистой коже. По старой памяти еще появлялось множество модных литературных и философских трактатов, но «духовное» качество сократической любви не перешло к «платонической» любви Чинквеченто76.
\|{дре [Пастель. Алкание красоты_______________________________385
Примечания
1 Baudelaire Ch. Notes nouveles sur Edgar Poe // Baudelaire Ch. Nouvelles histoires extraordinaircs. Ed. J.Crepet. Paris, 1933. P. XX XXI. Текст относится к январю 1X57 г.
2 Chastel A. Marcilc Ficin cl Tart, 11.
4 «In somma ad ogni cosa dA supremo omamento questa graziosa e sacra bellezza, e dir si pud che ’1 bono e ’1 bello, a qualche modo, siano una medesima cosa» (Castiglione B. 11 libro del Cortegiano. IV, 59. Ed. V.Cian. Firenze. 1894. P. 4X3).
4 Chastel A. Marcilc Ficin et 1’art, 11. P. 87, 89 (таблица составляющих элементов Красоты).
5 Наиболее значимый отголосок этого отношения к жизни и наиболее выдающийся опыт его продолжения в современном мире можно найти в эстетике Рескина. «Знание того, что прекрасно, - пишет он, - ведет и становится первым шагом к знанию вещей, достойных быть любимыми, а законы, жизнь и радость красоты в Божьем материальном мире - столь же вечная и священная часть Его творения, как в мире душ добродетель, а в мире ангелов хвала Ему» (Modern painters. Vol. V. Epilogue. P. 390). IB оригинале цитировано по переводу Марселя Пруста: La Bible d’Amiens. Paris, s. a. P. 102].
6 Trattato ed. Ludwig, 13; ed. McMahon, 35. Cm.: Marinoni A. I rebus di Leonardo da Vinci. Firenze, 1954. P. 60; Castelfranco G. Moment! della recente critica vinciana // Leonardo: Saggi c Ricerche. Roma, 1954. P. 437. О проблеме в целом см. ниже: [Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. М.; СПб., 2001. С. 409 428].
7 Panofcki Е. Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der alteren Kunsttheorie. Leipzig, 1924. S. 119. Метафора статуи, «форма» которой отлична от «материи», использована Аристотелем (Метафизика, IX, 6) как психологический символ, у Плотина (Энн., I, 6, 9) стала символом этическим и вновь явилась во всей силе у Фичино в зракта гс «На книги Дионисия Арсонагита о Троице» [Па самом деле здесь цитируется комментированный перевод Фичино «Мистического богословия» Дионисия. - Ред.\ (Opera, II, 1020): «...quemadmodum qui statuam indigenam fabricant auferentes omnia quae circurn apposita inipediunt perspictium forniae latentis intuitum solaque ablatione pulchritudinem ipsam in se pandantes occultam...» (...как те, кто изготовляя из природной материи статую, убирают из нее все, что мешает ясно узреть скрытую форму, располагаясь вокруг нее, и таким образом открывают утаенную в ней красоту...). Об основном значении этого символа у Микеланджело см.: Tolnay Ch. de. Werk und Wcltbild... S. 100.
8 «L’amor ё tanto piti fervente quanto la cognizione ё piti certa» (Леонардо); «L’artista puo solo cssere superato da se stesso» (Микеланджело). Толкование этого последнего афоризма, приведенного у Вазари, см.: Schlosser J. Lastoria dell’arte nolle csperienze c nci ricordi di unosuo cultorc. Bari, 1936. P. 195.
9 ChastelA. Marsile Ficin et Part, 1. Ch. 1.
10 Уже в одном раннем сочинении, посвященном этой проблеме, Фичи-По писал: «Deus, natura, ars inter se tenent ordinem ul unus alien* materiam Prepare!, Deus naturae, natura vero arti» (Бог, природа, искусство стоят в
386_______________________________________Человек в контексте культуры
таком порядке, ибо один другому предоставляют материю: Бог природе, природа же искусству) (Kristeller P.O. Studies... Р. 65). О похвале Фичино искусству см.: ChaslelA. Marcile Ficin et Part. I.
H Th. pl., XIII, 2 (Opera. P. 290).
12 Th. pl., XII, 4 (Opera. P. 273). У П.О.Кристеллера (Kristeller P.O. Pensiero filosoHco... P. 409 -410) ссылка на Плотина (Энн., 1, 4).
13 Р.Клейн (Klein R. Le «spiritus phantasticus» et le role de Fimagination de Ficin A Bruno // Revue de mdtaphysique et de morale, 1956) показал, что именно в области воображения у неоплатоников устанавливается контакт всеобщего («идей») и особенного; лишь воображение способно привести в действие сокровенный механизм вселенной, лаже просто выразить видимое и невидимое, многое и единое.
14 Chaste!Л. Marcile Ficin et 1’art. P. 71.
15 Ficino. In Platonis Convivium, IV, 4.
16 Commentarium in Philebum. II, 53 // Opera. P. 1253. Искусство и наука в эпоху Возрождения потому и связаны столь тесно, что в равной мере относились к тому, что тогда называли «магией», преображающей и «завершающей» явленный мир (ChastelA. Marcile Ficin et Г art. I, 2).
17 К такому заключению пришли Э.Панофски и Э.Блант (Panofsky Е. Idea...; Plant A. Artistic theory'in Italy, 1450 1500. London, 1940 (2 ed. 1954).
18 Большинство фактов этого рода, приводимых ниже, собрал М.Ваккер-нагель (WackemagellМ. DerZebensraum des Kiinstlers in derflorentischen Renaissance. Leipzig, 1938. S. 306 ff.)
19 Vasari, ed. Milanesi. V, 350. В биографии Перино дель Вага (Ibid. VI, 103 - 104) говорится, что это было «старое обыкновение».
20 См.: Floerke Н. 75 italienische Kunstlemovellen der Renaissance. Munchen, 1910. Вот грубое выражение Давида Гирландайо, защищавшего в 1476 г. от аббата Пассиньяно брата Доменико, неучтиво обошедшегося с духовными лицами: «Valeva piti la virtti di Domenico che quanti porci abbati suoi pari furono mai in quel monastero» (У Доменико, думаю, больше достоинств, чем у любого свинячьего аббата, сколько их было в этом монастыре) (Vasari, ed. Milanesi. Ill, TIT 273).
21 Wackernagel M. Op. cit. S. 371.
22 Чтобы оправдать вольное поведение художников с меценатами, всегда ссылались на их особую психологию: «Communemente questi magistri excellent! hanno del fantasticho e da loro convien torre quello che se po havere» (Все эти превосходные мастера обыкновенно с придурью, и нужно их принимать такими, какими они могут быть), — писал Федериго Гонзага герцогине Миланской (Kristeller P.O. Andrea Mantegna. London, 1901. P. 480, doc. 36).
23 Trattato ... Ed. II.Ludwig, § 59; ed. McMahon, § 89. Cm.: Gombrih EH Botticelli’s mythologies... P. 302. Позднее Франсиско де Олланда приписал Микеланджело суровые суждения на сей счет: «Бессмысленная чернь всегда любит то, что должна бы презирать, и осуждает то, что заслуживает наибольшей похвалы», а также, вслед Горацию (Ad Pis., 9 -11): «Живописцы и поэты имеют власть решаться па то, что им нравится и что они считают наилучшим» (Hollanda F. de. Quatre dialoguessur la peinture: Trad. fr. Paris, 1911. P. 111 s.).
24 Vasari, ed. Milanesi. Ill, 270; IV, 142.
Андре 1 Пастель. Алкание красовы
387
25 WackernagelМ. Op. cit. S. 373. ’Гак. по-видимому, Микеланджело изв*1ял «Геркулеса» (1493).
Благодаря новелле, приписываемой А.Манетти. стала знаменитой шутка с плотником Грассо, в которой участвовал Брунеллески. Пристрастие к «burle» (грубым шуткам) засвидетельстовапо у Боттичелли, Леонардо, Микеланджело. Самыми неожиданными были розыгрыши последнего, который, работая у Гирландайо, пугал посети телей изображениями бородатых Мадонн и Распятий в панталонах (Vasari, ed. Milanesi. VI, 535 -537). 27 Описание коркалины Нерона см. выше: [Шастелъ А. Указ. соч. Ч. 1, разд. 1, гл. 2|. Об эстетизме Гиберти: Schlosser J. von. Lorenzo Ghiberti. Basel. 1941. S. 112; о его идее «прогресса»: Gombrich ЕН. Op. cit. P. 295 s.
28 Kris E., Kurz O. Die Legende vom Kiinstler. Wien, 1934.
39 В работе: CendalliL. Giulio e Benedetto da Majano. San Casciano, s. a. P. 183-184. - опубликован список «scrittoii» [рукописных библиотек] двух скульп-
торов. Они включают 28 книг, среди которых благочестивые наставления, Данте. Тит Ливий, история Флоренции (WackernagelМ. Op. cit. S. 366).
30 Chaslel A. Marcile Ficin et Part. P. 102; Panofsky E. Die Entwicklung der Proportionslehre als Abbild der Stilenlwicklung // Monatshefte fur Kunstwissenschaft. XIV (1921). S. 188 209; Trauman-Steinitz K. A pageant of proportion in illustrated books of the 15th c. // Centaurus. I (1951). P. 309 —333.
31 Альберти напоминает выражение, приписанное Лактанцием (De div. just. I, 10, 3) Гермесу Трисмегисту: человек изображает богов по своему образу в силу своей природы и происхождения (Delia pittura, 11 - ed. Janitschek, p. 93). Цитата из Асклепия дана только в латинском тексте. Толкование этого места у Альберти: Giehlow К. Die Hieroglyphenkunde des
Humanismus... S. 36 f.
33 Chaslel A. Marcile Ficin et 1’art. P. 118 119.
33 Молчание об этом предмете такого осведомленного историка, как Буркхардг, непонятно. От Бернардина Сиенского до Савонаролы всех проповедников тревожили гомосексуальные нравы Тосканы (Schnitzer J. Savonarola. Munchen, 1924. Т. 1. S. 272). Филииспи после смерти фра Джироламо записал в дневнике, что теперь снова «можно предаваться содомии и не бояться неприятностей» (Cronaca. Р. 497. Цит. по: Ibid. 'Г. 2, S. 848). Красноречивым источником сведений на сей счет служит сборник «Фацеций», составленный ок. 1470-1480 гг. (опубликован в 1548), в Новое время переведенный в изд.: Wesselski A. Angelo Poliziano: Tagebuch. Jena, 1929 (авторство Полициано абсолютно не доказано). В нем можно найти много намеков па любовь к «garzoni», оправдывающих репутацию Флоренции как «нового Содома» (Ibid. S. XXXI f).
34 Wackernagel М. Op. cit. P. 339.
” Il codicc Maglibccchiano. Fd. K.Frey. Berlin, 1892. Cl. XVII. P. 104. Ж.Мениль (MesnilJ. Botticelli. Pris, 1938. P. 128) полагает, что «женщина была не единственным предметом любви Боттичелли». В 1473 г. обвиняемым был мальчик но имени Бсрто Ниалла (Ibid. Р. 98; Р. 204, примеч. 83); о доносе 1502 г., который автор, неизвестно почему, считает наветом «плакс» (см.: ibid. Р. 211, примеч. 160).
30 Seatiles G. Leonard de Vinci. Paris, 1892. P. 12. 9 апреля 1476 г. дело было закрыто, суд отменен, а два месяца спустя обвинение с обоих обвиняе
388 Челонек в контексте кулыуры
мых сняли. Вопреки мнению автора, то, что донос был анонимным, еще не являлось достаточным основанием отвергнуть его.
37 Richter J.P. The literary works. P. 457. Fumagalli G. Leonardo: Textes choisis. P. 286-287. О Сами см.. Miiller E. Salai und Leonardo da Vinci // Jahrb. der kunsthistorischen Sammlung (Wien). Neue Folge. II. 1928. S. 139 f. Автор статьи пытается реконструировать живописные работы молодого человека. Его имя и факты биографии установил Л.Бельтрами (Beltrami L. // Marzocco. 7scltcmbre 1919). Прозвище Салаи взято из «Морганте» Пуль-чи, вышедшей в свет в 1481 г.
38 Исследование Р.Кейтлера о знаменитом анатомическом рисунке кои-гуса в разрезе, опубликованное в: Zeitschrift fur Psychoanalyse. IV. 1916 1917. -- Основано на фактических ошибках, отмеченных Л.Бельтрами (Miscellanea Vinciana. Milano. Dec. 1923). Набросок психоанализа Леонардо, данный Зигмундом Фрейдом, впершие вышедший в свет в 1910 г., подробно разобран Р.А.Тейлор (Taylor R.A. Leonardo the Florentine. London, 1927) и не выдерживает критики с исторической точки зрения. P.O.Стайтс (Stiles R.S. A criticism of Freud’s Leonardo // College art journal. New York. Vol. VII (1948), 4. P. 257 267) так вкратце возразил на гипотезу Фрейда: во Флоренции Леонардо «certainly had opportunities to observe homosexuality. The humanists there preached the ideal of platonic love or masculine friendship» (безусловно, имел возможность наблюдать гомосексуалистов. Флорентийские гуманисты проповедовали идеал платонической любви или мужской дружбы), но его собственные гомосексуальные наклонности ниоткуда не видны. Ср. прекрасный обзор: Schapiro М. Leonardo and Freud, an art historical study //The Journal of the History of Ideas. April 1956. Мы полагаем, что проблему надо ставить так, как это делал К. Кларк (Klarck К. Leonardo da Vinci. Р. 44), а позднее Р.Лэнгтон Дуглас (Langton Douglas R. Leonardo da Vinci, his life and his pictures. Chicago, 1944. P. 8 9). В книге: Fumagalli G. Eros di Ix^onardo. Milano, есть полезные частные наблюдения, но совершенно напрасно избран тон оправдания.
39 Codex Atl., 358 v.; Fumagalli G. Op. cit. P. 354.
40 Popham Л.Е. Les dessins ... P. 54; Gombrich E H. Leonardos grotesque heads (см. выше) и др.
41 Г.Кастельфранко предлагает весьма раннюю датировку рисунка (до 1473г.), Б.Берснсоп (№ 1170) и К.Кларк весьма убедительно датируют с го временем около 1480 г.
42 Frey К. Dichtungen ... IX, LXV1II. Во время спора о «Страшном (Гуде» привязанности Микеланджело дали повод к ядовитым намекам Аретино (GrimmН. Das l.cbcn Michelangelos. Neue Aull. Leipzig, 1940. S. 787 f.). См. также: Symonds J.A. 1Ъе life of Michelangelo Buonarolti. London, 1893. Vol. 2. P. 381-385. 43 Milanesi G. Le lelleiv ... P. 418; Tolnay Ch. de. Michelangelo. T. 3. P. 23.
44 Steinmann E., PogalscherG, // Rep. fur Kunstwissenschaft. XXIX (1906). P. 496; Tolnay Ch. de. Op. cit. T. 3. P. 24.
45 Wickhoff F. Die Antike im Bildungsgange Michelangelos // Mitteilungen des Institute fur osterreichisches Geschichtsforschungen. Ill (1882). S. 433; PanofskyE. Studies in iconology. P. 229.
Джованантонио Бацци утверждал, что в 1515 г. дал победившей на скачках лошади кличку «Содома» (Vasari, ed. Milanesi. VI, 389), закрепив
Андре I Пастель. Ллкание красоты_____________________________389
шуюся и за ним самим. Этот легкомысленный эпатаж характерное свидетельство вольных нравов того времени (WackernagelМ. Op. cit. S. 367). Совсем иное дело муки «платонического Эроса».
47 Мотивы симпатии Данте к содомитам (XV песнь «Ада») остроумно использованы в «Коридоне» А.Жида. Их можно толковать и иначе, если верно предположение А. Пезара, что здесь идет речь об «умственной содомии» грамматиков и клириков, изменивших родному языку.
48 Одно из стихотворений посвящено Альберти (Michel Р.Н. La pensde de L.В.Alberti. Paris, 1930. P. 69; Rossi К Il Quattrocento. P. 267).
49 «Comparationes Aristotclis et Platonis» (Сопоставление Аристотеля с Платоном) Георгия Трапезундского написано в 1455 г., сочинение Виссариона «In caluninatorcni Platonis» (Клеветнику Платона) написано не ранее 1458 г. и вышло в свет в IhiMc на латинском языке в 1469 г. См. об этом споре: Mohler L. Kardinal Bessario als Theologe, Humanist und Staatsmann. Paderborn, 1923. 1, S. 351-389; Rossi V. Il Quattrocento. P. 98-99; ZilselE. Die Entstehung des Geniebegrifies. Tubingen, 1926. S. 226-227.
50 Monnier Ph. Le Quattrocento. II. p. 95. Многочисленные «дружеские» письма Фичино его юному ученику: Opera. Р. 606, 635, 639, 764 etc.
51 Convivio, VI1, 16.
52 Meylan Е.Е L’cvolution de la notion d’amour platonique // Humanisme et Renaissance. V (1938). P. 418 442. Фичино специально подчеркивал чистоту смысла своих «epistola amatoria» [любовных посланий], любовь в которых «Платонова честная, а не Аристиппова бесстыдная» (Opera. Р. 618). Любовь, о которой здесь идет речь, часто бывает дружбой нескольких людей, отношениями доверительного общения, благодаря которым группа сохраняет единство (Kristeller Р О. Studies... Р. 119 120).
53 «Ne disjunct us post mortem locus ossa separet quorum animos in vita conjunxit amor» (Да не разлучит разделенное место по смерти тех кости, чьи души при жизни соединила любовь) (Del Lungo G. Florentia ... P. 277). Дж.Э.Саймондс в главе своей книги (Symonds J.A. Renaissance in Italy, the revival of learning. London, 1900), посвященной «третьему периоду гуманизма», дает психологические портреты большинства этих «мудрецов».
54 X.В.Джепсон (Janson H.W. The sculpture of Donatello. Vol. 2. P. 85 86), напоминая но поводу этого странного произведения о репутации Донателло, пишет: «Its message... has little to do with the ethos of biblical heroes» (Его смысл... не имеет ничего общего с этосом библейских героев).
55 Литераторы «fin de sidcle» (Гюисманс, Жан Лоррен, Пеладан и др.) с особо настойчивым пристрастием говорили об «извращенных андроги-нах» и женственных отроках флорентийского Возрождения. Сводку их холодно-эротических текстов см.: Praz М. I.a carne, la morte е il diavolo. Ed. 3. Firenze, 1948. P. 335 s.
56 In Platonjs Convivium. V, 4-5.
57 Bayer R. Leonard de Vinci. P. 171 s.: Лепка формы и ранняя юность.
58 Особенно в ангелах из «Поклонения волхвов» (Popham А.Е. Les dessins de Ldonard. Bruxelles, 1947. Pl. 38).
59 Ochenkowski H. The Lady with the Ermine // The Burlington Magazine. XXXIV (1919). P. 192 s. Дж.Фумагалли (Fumagalli G. Eros di Leonardo. P. 163 s.) видит здесь первое изображение ацдрогина.
390 Человек в контексте культуры
60 Popham А.Е. Op. cit. Pl. 131A, 141, 143, 147ck.
61 Windsor, N_> 12576 (Popham A.E. Op. cit. Ил. 24; Goldschneider L. Ldonard da Vinci. Paris. 1947. Ил. 8). См. общий обзор проблемы в кн.: Clarck К. Leonardo. Р. 44-45. - и проницательные замечания в кн.: ThiisJ. Leonardo da Vinci. London, 1911. P. 137.
62 Windsor, № 12572 (Popham A.E. Op. cit. Ил. 21 ЗА. P. 70; Goldschneider L. Op. cit. Ил. 99).
63 Н.Вюйо (Vuillaud P. La pensde dsotdrique de Leonard de Vinci. Paris, 1945. P. 86 s.) в связи с «Иоанном», а также с «Вакхом», которого чересчур уверенно считает произведением Леонардо, смело вспоминает даже каббалу и орфиков. Соображения Кеннета Кларка (Op. cit. Р. 176) подводят к более осторожным выводам.
64 CrutwellM. Luca Signorelli. Р. 44.
65 Tolnay Ch. de. Michelangelo. T. 1. P. 110.
66 Vasari, ed. Milanesi. VII, 150. Стагуя датируется приблизительно 1496 г. (Tolnay Ch. de. Op. eit. T. 1. P. 144).
67 Wolfflin H. L’art elassique. О замечаниях А.Форатги (Foratti A. Gli «ignudi» della volta Sistina // L’Arte. XXI (1918). P. 109-126) см. ниже: \HIa-стельА. Указ. соч. Ч. Ill, разд. V]. Ш.деТольнаи (Op. cit. II. Р. 64) считает «ignudi» «гениями разумной души».
69 Эти изображения подготовлены этюдами на античные темы, например любопытным «Меркурием Орфеем Аполлоном» 1501 г. (Tolnay Ch. de. Т. 1. № 88) и бюстом 1504 г. по мотивам «Аполлона Бельведере ко го» (Ibid. № 184), но в росписи Сикстинской капеллы «психологический» регистр бесконечно богаче и одушевленнее.
69 Ibid.T. З.Р. 114.
70 Panofsky Е. Studies in iconology. Р. 229. Tolnay Ch. de. Op. cit. P. Ill s.
71 Vasari, ed. Milanesi. VII, 271.
72 На рисунке Дюрера но гравюре Мантеньи «Смерть Орфея», сделанном около 1494 г. (Panofsky Е. Albrecht Durer. Princeton, 1943. Vol. 2. P. 95, № 928), есть надпись: «Orpheus der erste Puseran» (т.е. «buggerone» - педераст). Здесь возможен намек на представления о любви платоников Возрождения: Орфей растерзан вакханками за то, что принес в их сгра-ну «Сократов грех» (Wind Е. Two mock-drawings ... // JWC1. II (1939). Р. 206 s.). В таком случае рисунок представляет собой иронический комментарий к мотиву смерти Орфея, о котором говорилось выше.
73 ChastelA. Marcile Ficin et Fart. P. 124.
74 MUntz E. Histoire de Fart pendant le Renaissance. II, ch. V.
75 Cm.: Brendel O. The interpretation of the Hockham Venus // The art bulletin. XXVII (1946), P. 65 s. (о работах Тициана в нью-йоркском музее Метрополитен) и замечания У.Мидделдорфа (Ibid. XXIX (1947), Р, 65), стремящегося сузить символическое значение этих чувственных картин.
76 Nifo A. De pulchro. I, f. 37. (цит.: Rodocanachi E. Rome au temps de Jules II etdeLdonX, Paris, 1911. P. 101).
Печатается (с некоторыми исправлениями) по изданию: Шастелъ А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. М.; СПб., 2001. С. 268 283; 341 345.
Вильгельм Дильгей
Постижение и исследование человека в XV и XVI веках
1
Господство метафизики над европейским духом с полной силой продолжалось вследствие ее связи с теологией вплоть до XIV в. Эта метафизика-теология была душой церковного господства. Она сохраняла свое воздействие до XIV в. и лишь затем стала терять значение по своему содержанию, своей силе и своей жизненности. Три мотива были соединены в ней в симфоническое целое, и они продолжали звучать на протяжении всего средневековья во всех новых полифонических сплетениях.
Религиозный мотив господствует в метафизике на ранних стадиях развития всех народов. В культуре же восточных народов он сохранил свое господство вплоть до их развития и упадка. Все мышление и исследование оставалось здесь во власти или под руководством священства, в том числе и таких обладающих религиозным влиянием или выдающихся своей святостью лиц, как живущие в лесах отшельники-брахманы, буддийские монахи и израильские пророки. Этот религиозный мотив в его высшем выражении обусловил в христианстве всю дальнейшую метафизику. Ядром этого религиозного мотива является внутреннее отношение между душой человека и живым Богом, будь то многие божества или единый Бог. Отсюда вера в провидение, уверенность, что можно доверять Богу, страдание от разлуки с Ним, дарующее радость примирения с Ним, утешение в надежде на то, что Он спасет душу. Именно это остается на всех стадиях развития религии вплоть до христианства ее главным интересом. И тогда, когда по египетским представлениям повторение формул открывает душе путь к «прекрасному западу», к «обители покоя», когда гимны из «Книги мертвых», которые кладут умершему в гроб, прокладывают ему путь между демонами, чьи странные образы очень напоминают чертей на изображениях Страшного суда XIV и XV вв.,
392 Человек в контексте кулыуры
или когда предписанные священнослужителями жестокие обряды искупления или аскетические истязания сокращают путь и позволяют вернуться к Брахману, когда, согласно Авесте, после того как «тело и душа отделились друг от друга», в третью ночь после смерти души приходят к месту судилища, где о них спорят боги и дэвы. Сходное с этим представление лежит в основе христианских картин XV в. Не ведая откуда она пришла и куда она идет, неспособная подчинить себе силы природы и властвовать над будущим, взволнованная более страхом и надеждой, чем бедствиями в настоящем, сознавая, однако, вместе с тем наличие высшей жизни, душа человека, как она есть, всегда создает на более высоких стадиях сходные черты религиозного отношения: веру в предопределение, молитву, ритуал, сознание своего высшего происхождения, стремление к успокоению в преданной покорности Богу, надежду на будущее вопреки свидетельству чувств и доверие к высшей силе. Это смиренное доверие, которое позволяет самому униженному сердцу верить в защищенность своей ненадежной жизни и самому простому сердцу знать, что путь к Богу ему открыт, полностью выражено в символе «отец и дитя», ибо в этом бездонно многообразном отношении заключены глубины человеческой души.
Однако все, что происходит в жизни души, связано одно с другим. Живое состояние души, особенно доверие Богу, спокойное ожидание своей судьбы после смерти должны связываться с этими ощущениями там, где существует нравственное сознание, ответственность, вменение. Так у этих руководимых священнослужителями и святыми людьми народов, которые соотносят с Богом и правовые законы, появляются новые религиозные понятия: о божественном законе, о судебной функции божества, о связанных с нарушением законов соответствующих праву наказаниях и о средствах избежать этих наказаний. Основой этих понятий было фактическое отношение между религией, моралью и правом в находящихся под влиянием священнослужителей государствах. Брахманы образовали из обычаев и правовых норм наряду с другими религиозными законами формирующую в идеальную схему все гражданские и религиозные жизненные условия книгу законов, которая нашла имя первого человека, Мана, и возводилась в первую очередь к откровению. Авеста регулировала учение, ритуал и всю жизнь посредством своего рода разработанной священством кодификации. В египетской «Книге мертвых» душа говорит самой себе: «О, сердце, сердце моей матери, сердце моего бытия на Земле, не свидетельствуй против меня перед великим Богом», а судьям Страшного суда: «Я не обманывала людей, не угнетала вдов, не лгала перед судом», — так умерший перечисляет глубоко по-человечески воспринятые зако-
Вильгельм Дильтей. Постижение к исследование человека в XV и ХУТ веках 393 ны права, морали и ритуала, которые составляют требуемое Богом целое. А из религии Яхве во Второзаконии вышло всеохватывающее право, мораль и ритуал, возведенное к Яхве законодательство. Эти предписания привносят в религиозные представления и жизнь юридическую символику. Возникают символы религиозных понятий, которые проецируют юридическо-политические условия жизни в целостность мира. К ним относятся, как уже было сказано выше, Закон Бога, Его роль судьи, затем союз между религиозной общиной и Богом на основе Закона, нарушение Закона и наказание, удовлетворение и прощение и ряд других, еще более тонких и юридически внешних понятий. Ибо практическая пригодность и большая наглядность этой юридической символики влекла далее к юридическому формализму.
Если религиозное состояние души было связано с нравственным сознанием, то, исходя из этого, в Боге должны были видеть основу совести, Закона и справедливого, выходящего за пределы жизни порядка: такое состояние души было одновременно связано, хотя и менее сильными узами, с интеллектуальными процессами и с развивающимся в них стремлением к знанию. Зак же как религиозность человека основывает моральность на Божьем Законе, она возводит познание к откровению Божьему. Здесь также существует ясная связь, ибо человек только потому доверчиво уверен в помощи Бога, что Бог открылся ему. Полным глубокого смысла образом этой стороны религиозного отношения служит проникновение света в кромешную тьму. Гак наряду с юридической выступает метафизическая, т.е. идущая путем философского мышления понятийная символика. Она также возникает из глубины религиозного процесса. Ибо в нем живое, благочестивое отношение неразрывно связано с мысленной фиксацией выступающих здесь концепций, и эти метафизические символы понятий так же неустранимы в религиозном переживании, как само сплетение душевных сил, существующее в природе человека. Такой метафизический понятийный символ в религиозном переживании состоит прежде всего в том, как зависимость мира и души от Бога выражена в догматах о возникновении и сохранении мира. Там, где религия становится теологией, она образует такой догмат. Таким был в греческой, индийской и других теологиях догмат о ступенях эманации (порождение, излучение и т.д.). Глубже по своей основе соответствующий символ понятия творения, ££, dvx dvrcnv, ex nihil1*, правда, с несомненностью он выявляется лишь ко времени, когда греческая спекуляция уже непосредственно и через противоположение влияла на иудейское, а затем на христианское представление. Догмат о сотворении мира свидетельствует по уверенной интерпретации ран
394
Человек п контексте культуры
них христианских писателей о том, что возникновение мира было не природным событием, а проявлением воли, следовательно, что господствующее над явлениями природы необходимое отношение между причиной и действием здесь отсутствует. И так же, как этот символ понятия творения освободил божественный волевой процесс от каузального закона, символ возрождения освободил от каузального закона и происходящий в человеке религиозный волевой процесс. Напротив, понятию эманации соответствует представление об устранении телесности и о возвращении к Богу посредством аскезы и созерцания, содержащееся в индийской и неоплатонической теологии. Бесконечные модификации понимания понятия о божественном происхождении, о вдохновении и сообщении божественного духа разделяют и разъединяют теологии народов. В эту метафизическую символику понятий вошел весь глубокий смысл религиозного переживания. Но одновременно она стала и ареной казуистической понятийной схоластики.
Мы обладаем начатками сравнительной истории искусства, которая ищет для языка форм как бы некую грамматику в искусстве пространственной композиции; нечто подобное должна была бы осуществить для образной речи религии сравнительная наука религий; подобная грамматика образов и понятий и их отношений научила бы нас глубже понимать историю религии, а также неразрывно связанную с ней историю древнейшего художественного языка образов и историю метафизики. Здесь мы исследуем только сплетение этого коренящегося в религиозном представлении мотива с другими мотивами, содержащимися в европейской метафизике.
Второй мотив метафизики получил свою определяющую европейское мышление форму в совершенном греками развитии. Он заключен в эстетически-научной позиции человека.
Здесь достаточно кратко очертить сказанное раньше. Решающие понятия, возникающие в этой эстетически-научной позиции, таковы: космос, мыслительная, математическая и гармоническая структура всей действительности, высшая интеллигенция или мировой разум как основа мира и связь между сущим и человеческим познанием, божество как зодчий или строитель мира, formae substantiales2*, и, наконец, мировая душа, души созвездий, души растений. Все эти понятия создают совместно основное положение, в которое метафизически проецировалась эстетически-научная позиция греческого духа. Это положение в качестве формулы метафизической науки о разуме существовало столько же времени, сколько сама эта наука. Божественный разум - принцип, которым обусловлено разумное в вещах и которому родствен и разум человека; этот принцип позволяет познать космос в его разумности,
Вильгельм .Цильтей. Постижение и исследование человека в XV н XVI веках 395
в его логическом, математическом, гармоническом, имманентно целесообразном устройстве и вместе с тем предоставляет основу и уверенность целесообразно формирующей деятельности разумного человека. Самоуверенность разума на великом победном пути, на котором он создал математику, подчинил астрономической теории движения созвездий в мироздании, а затем постиг и объективный целевой порядок общественного устройства, проецировалась в этой формуле мира. Она выступает, теистически или пантеистически мыслимая, наряду с обусловленной религиозным представлением интерпретацией мира. Они родственны — и все-таки насколько они противоположны! Там повсюду жизненность, здесь логическая связь, основание и следствие. Система, центром которой является эта формула, - в ней эстетически-научное представление само себя только проясняет и проецирует - сложилась у греков, рассеянных по побережью Средиземного моря, в борьбе с уводящими в сторону и противоречащими ей положениями. В учении Сократа, Платона, Аристотеля и стоиков эта система стала одной из великих потенций мировой истории.
В систематике этих греческих метафизических спекуляций есть основные линии или, вернее, содержится схематизм связи метафизических мыслей, который можно определить как естественную систему метафизики. Эта естественная точка зрения метафизики предшествует совершенному впоследствии в эмпирических науках анализу действительности в ее каузальных факторах. Ведь основные представления механики возникают из подобного анализа только у Архимеда и Галилея, а устройство звездного мира, как и целесообразность и многообразие форм организмов, - еще на более поздней стадии из эмпирически констатированных сил и законов. Тем самым в упомянутой метафизике упорядоченные орбиты звезд, целесообразный рост растений и животных должны быть выведены из души мира, из душ созвездий, душ растений и душ животных. Поэтому допущение таких душевных или духовных сил и как бы душевных связей между ними внутри данной системы неизбежно во всей европейской метафизике вплоть до Галилея и Декарта, если она не отказывалась видеть недостаточность чисто физической конструкции. Это совершили Демокрит и его последователи как по отношению к движению звезд, так и к целесообразности органических форм природы, поэтому подобные системы не могли укорениться, они лишь'подготовили почву для механистического постижения природы в XVII в. До разложения сложных форм и процессов природы на их факторы, подлинные силы и законы природы, доступное познанию содержание действительного может быть постигнуто только в системе природных форм (fonnae substanciales) или под
396 Человек в контексте культуры
действием разумной силы (nomos, logos), совершающей изменения по законам. Первое происходит, когда отправляются от данного в понятиях отношения мышления к сущему; Сократ, Платон, Аристотель и неоплатоники создали это учение о связанной в Боге системе субстанциальных форм, составляющих в движении явлений константное содержание действительности. Второе понимание исходит из безусловной реальности изменений и создающих их сил. Эта теория более современна. Она создана гениальным созерцающим мышлением Гераклита. Затем ее разработали стоики. Основное понятие стоиков - природа. Она является для них системой сил, с необходимостью определяемой центральной божественной силой, которая есть логос, номос, так что каждое изменение закономерно зависит от целого. Следовательно, посредством логических операций можно усмотреть в процессах природы логическую, целесообразную и закономерную связь мирового целого. Таким образом, и для стоиков, что совершенно очевидно, в основе объяснения познания лежит принцип его соответствия логическому характеру действительности. Так понятия как продукт логических операций врастают в логическую связь мира, и их связь в знании становится критерием при интерпретации восприятий.
Однако добавляется нечто, что приносит тому, кто научился понимать в истории факты, величайшую радость и поучение. В истории ничто не может быть выведено как результат данных условий, создающих естественную систему. В истории все индивидуально, т.е. полно жизни, - люди и народы. Особый по своему характеру греческий дух придает всем своим творениям, своим мысленным образованиям и образам своей фантазии форму и окраску, которые не могут быть выражены в понятиях. Здесь научное восприятие дополняется эстетическим, которое как бы окрашивает каждое положение греческих мыслителей. Это - видение в мышлении, чувственное упрочение духовного, подчеркивание типичного и пластичного. Подобно праву в Риме, метафизика в Греции обладает общезначимым ядром в исторически особенной оболочке. Именно на вершине греческой спекуляции, у Платона, это исторически особенное проявляется с огромной парадоксальностью. Оно повсюду действует как скрытая предпосылка. Структурное свойство греческой спекуляции я поясню, когда обращусь к главному пункту Платонове ко-аристотелевской науки о разуме.
Ее предпосылка состоит повсюду, молчаливо или высказанно, в том, что в познании духовный процесс в нас овладевает сущим вне нас. Для греческого духа познание всегда своего рода видение. Го и другое, видение и действие, для него преимущественно соприкосновение интеллигенции с чем-то вне ее: познание есть
Вильгельм /(ильтеЙ. Постижение и исследование человека n XV и XVI веках 397 принятие противостоящего ему бытия в сознание, действие -формирование его. Причем познается только равное равным. Происходящее в познании отражение бытия в сознании предполагает родственность мыслящего целостности природы, сознание этой родственности восходит к греческой естественной религии. Таким образом, в основе всего нашего мышления и действования лежит родственность человеческого разума разумной целостности мира: гарантией этой родственности служит духовная связь между ними, которую Платон определял как идею добра, Аристотель — как нус. Так возникает основная теорема всей европейской метафизики в качестве науки, основанной на разуме. Аристотель отчетливо показал это в своих формулах абстрактных понятий. Нус, божественный разум, есть принцип, цель, посредством которой разумное в вещах, по крайней мере опосредствованно, обусловлено в каждой точке: следовательно, космос, поскольку он разумен, может быть познан человеческим разумом, потому что человеческий разум родствен божественному разуму.
Однако наш разум постигает в неподвластном всякой смене и всякому изменению единообразном только то, что действительно и одновременно соответствует закону мышления. Неизменное в изменении разум постигает посредством понятий и их взаимоотношений. Соответствующее этим понятиям в бытии носит, правда, общий характер, но должно вместе с тем обладать реальностью согласно предпосылке отражения или соответствия между мышлением и бытием. Следовательно, соответственно понятиям существуют и субстанциальные формы, а соответственно отношениям понятий в мышлении - система этих форм. Эта метафизика субстанциальных форм выражает то, что невооруженное око познания видело как действительное на стадии подлинно греческого мышления. Свет, камень, растение, животное, процессы теплоты или мышления выступают в одном месте пространства и времени, чтобы затем исчезнуть, уступая место другим. Однако понятие воспринимает в каждом из них субстанциальную форму, целесообразную действенную сущность, которая есть в движении мира одновременно во многих местах и всегда возвращается. Постоянное содержание мира заключается именно в отношении этих форм в рамках целостности соответственного мысли или разумного космоса.
Однако как ни решительно действует в качестве главного мотива греческой метафизики эстетически-научное отношение, оно лишь постепенно освободилось от религиозных идей; символы понятий, возникшие из установки религиозного сознания, обнаруживаются даже на вершине греческой философии; когда же энергия национальной греческой спекуляции ослабевает, сфера
398
Человек в контексте культуры
их действия вновь расширяется. Назовем здесь лишь управление миром у Анаксимандра, закон мира и его охранительницы Эриннии, служанки Дикэ у Гераклита, многое у Пифагора, примыкающее к Гомеру изречение Ксенофана: «Бог, величайший среди богов и людей», применение понятий провидения, управления миром, откровения божеству и его действиям у Сократа, ndvrtov paoiXrvg Bdtnv те xui avOpcnnivcuv лрауцатюу Пиндара (у Платона), гомеровский xoipavog, господин неба и земли у Аристотеля, свержение этого высокого господина и введение во власть Дина в «Облаках» Аристофана. Благодаря Зенону и Клеанту символы религиозных понятий вновь начинают господствовать в метафизике. Ведь сциентистская формула об основании мира вообще может быть легко переведена в религиозную формулу о господине мира.
Из трех мотивов, сплетенных в европейской метафизике, третий нашел свое выражение в жизненных понятиях и в национальной метафизике римлян. Гак же как религиозный мотив, он не сумел развиться в философию. Однако как новое положение человека в мире он оказал существенное воздействие. Здесь отправным пунктом понимания мира и образования метафизических понятий служит и роль воли в условиях господства свободы, закона, права и долга. Понятия, с которыми мы уже встречались в понятийной символике религиозного отношения, становятся здесь центральными и руководящими. Это власть суверенной высшей воли над всем миром, отграничение ответственной свободы личности по отношению к этой власти, отграничение сфер господства отд ельных воль друг от друга в правовом устройстве общества, закон как правило этого отграничения, снижение объекта до подчиненной воле вещи, внешняя телеология.
При взгляде на римский бюст, считающийся изображением Сципиона Африканского, нас поражают массивность и мощь прирожденной королевской воли, которая как бы подавляет все находящиеся вблизи греческие лица. То же массивное властное достоинство выражено в своде и в соотношении масс римского Пантеона, в Трирской Porta nigra или в языке Двенадцати таблиц, оно все еще ощущается даже в стихах Вергилия и в стиле Тацита. Римское общество в его великое время — это устройство, объединявшее мужей в высшем смысле слова, властителей в своей семье и в своих владениях, для совместной деятельности в магистрате, где всей их мощи была дана единственная свобода — служить благу целого. То, как в аристократических семьях Рима мужчины воспитываются в качестве прирожденных властителей и их деятельность в правлении становится лишь естественным выражением силы их воли, повторилось в мире лишь один раз, в аристокра-
Вплы е-чьи Дильтей. Постижение и исследование человека в XV н XVI веках 399 тической республике Англии. Они связаны, как камни в римских сводах, которые благодаря методу их укладки служат опорой друг другу в свободном пространстве.
В Риме отношения в семье, в сфере имущественных прав, в магистратуре и в политическом влиянии составляют для правящего класса всю арену его деятельности, что определяет оценку жизненных благ. Это народ, не имеющий истории богов и эпоса, а также подлинной философии. Еще Цицерон неустанно просит его простить за философствование. Вся сила мышлени.ч римлян концентрируется в искусстве и правилах господства над жизнью.
Они распространяются на земледелие, хозяйство, семейную жизнь, право, военное дело, управление государством. Повсюду ощущается стремление установить правила, довести до сознания ведущие принципы. Инстинктивно и сознательно в каждой сфере жизни угверждаются целесообразность, интерес и польза. И повсюду в соответствии с этим принципом момент подчиняется длительному состоянию, отдельный интерес — правилу и целому. Своей вершины этот римский дух достигает в создании самостоятельного права и самостоятельной юриспруденции. Он отделяет право от религиозных и нравственных законов и от философских принципов справедливости, которая для греков всегда стояла в качестве господствовавшего фактора над каждым позитивным правом. Действия римлян были позитивны и индуктивны. Исходя из условий жизни, они устанавливали правовые истины небольшой общности, которые затем подчиняли более широким правилам и наконец приводили к систематической связи. Решающим было то, что это вещное мышление римлян опиралось на такие жизненные понятия, которые были необычайно благоприятны для формирования самостоятельного гражданского права из фактов собственности, семьи, общения. Господствующая воля индивида в сфере его действий, связанных с собственностью, семьей и магистратурой, была защищена от всех нападок, противоречащих воле правового лица. «Идея господства, - говорит Иеринг (Ihering. Geist des romischen Rechts. II, 139), - была той призмой, сквозь которую древнее право рассматривало все отношения, связанные с индивидуальной жизнью. Даже если они по своему подлинному значению и назначению совершенно не решались и не затрагивались в жизни этой точкой зрения, как, например, в браке, в отношении отца к детям, П]5аво исходит только из нее». Эту милитаристски и юридически воспитанную волю определяют в ее сущности слова Ливия: «Se in armisjusferre et omnia fortium virorum esse»3*(Liv. V 36, 5).
Однако эта воля к господству не была пустым и формальным произволом, право служило гарантией пользы, потребления, ин-
400 Человек в контексте культуры
тересов. Реальным принципом его является полезность и целесообразность. Его форма состоит в правиле, в понятии, а также в аналогии, посредством которой вынесенное правовое решение переносится на новые случаи. Исходя из права, господство воли, целесообразность, полезность и правило становятся для римского духа органами исполнения и постижения вообще.
Таким образом, из самого римского права возникает понятие naturalis ratio4*.
В соответствии с ним в самих жизненных понятиях заключено последнее основание того, что в гражданском праве или в праве чужеземцев справедливо. Римляне первыми поняли, что созданные волей отношения, связанные с собственностью, семьей, общением, несут в себе присущий им naturalis ratio, нерушимую целесообразность и закономерность. Так право есть raison ecrite, кодекс законов, относящихся к существу дела. Оно привносит целесообразность жизненных отношений к артикулированному выражению. Греки в своей беспокойной диалектике хотели все доказать, в своем живом стремлении к формированию - все изменить. Достигнутое право для римлян служит неприкасаемой основой совместной жизни. Последовательная и жесткая разработка вещного права является доказательством энергии этой мысли. Таким образом понятие naturalis ratio и убеждение в незыблемости соответствующего ему порядка жизни переходят из права во все мышление.
Из этого следует, что римляне находились на более высокой стадии исторического сознания, чем греки. Незыблемость обретенных прав, прочное построение общественного порядка на не подлежащих дискуссии субъективных правах посредством naturalis ratio дают им основу и содержание концепции движения истории к цивилизаторскому господству Рима над миром. Это воззрение присуще политикам и представлено впервые Полибием. Вергилий говорит: «Ти regere imperio populos Romane memento»5* (Aen. VI, 852). И как особенно благоприятный фактор этого продвижения рассматривается непрерывность медленного развития государственного устройства; «Quod nostra respublica non unius esset ingenio, sed nniltorum, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculorum»6’ (Cic. De rep. II c.l). С римским народом в мир исторического сознания приходит мир новых понятий. Будто новая часть света поднялась из глубин моря. Все эти новые понятия основаны на гордом сознании римлян, что только то мышление, которое подчинено воле, господствующей в доме, и в поле, на Forum Romanum, и в сражениях, достойно римлянина. Поэтому сознание римлян могло создать жизненные понятия, выражающие новую установку сознания, но не философию в строгом
Вилы ельм Дмльтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 401
понимании разума. Особое место римлян в истории философии состоит в том, что они привнесли в жизненные понятия новую установку сознания, хотя и не дали миру ни одного философа.
Только в религии жизненная позиция римлян проецируется с национальной исконностью на универсум. Ее ядро и древнейшее содержание - культ умерших и предков, тесная связь с духами дома, богами полей и лесов. Ни один народ не выражал с такой проникновенностью непреходящесть господствующей воли высоких предков, их продолжающееся влияние в семье, как это происходило в грубой и мрачной церемонии аристократического погребения умерших, когда открывалась гробница и процессия предков в раскрашенных восковых масках и должностных одеяниях шествовала перед гробом; на рынке садились вокруг поднятого трупа, и происходило восхваление дел и деяний умершего. Продолжающееся действие воли выражено здесь религиозно, как в римском завещании оно выражается юридически. Также предшествующая всякому правовому образованию неприкосновенность дома и собственности, любовь к дому и земле проявляется в доверительном общении с ларами, с духами полей и лугов. Над этим, недоступно воле человека, властвуют, наподобие магистратов, простые и лишь абстрактно выраженные божества, такие, как духи каждого действия, войны и согласия, благополучия и добропорядочности, посева и цветения. Эти божественные магистраты находятся в правовых отношениях с людьми, на которых распространяются их действия. Они обладают благоприобретенным правом на ограниченные действия. В принесении обета человек вступает в договорные отношения с Богом. И страх перед Богом похож на чувство, с которым должник вспоминает о своем, очень требовательном кредиторе, почитание Бога самым точным образом урегулировано римским жречеством таким образом, чтобы экономный человек и требующий определенных деяний Бог получили причитающееся каждому из них.
Эта религия и теология не развились во всеохватывающее единое понятие власти Бога и ее отношения к миру исходя из силы римского духа. Создана была только административно-юридическая техника. Проецирование разработанных жизненных понятий на универсум было совершено феками, они создали для римлян и философскую теологию. Цицерон, первый национальный римский философ, работал, по его собственному откровенному признанию, по греческим образцам, и исследование может в ряде случаев выявить поверхностное и небрежное использование этих образцов. Однако за проблемой использования Цицероном греческих образцов скрывается еще иной, более сложный вопрос. И только ответ на него позволит судить о действительном отношении созданных римлянами жизненных понятий,
402 Человек н контексте культуры
даже всей установки их сознания, к написанным Цицероном работам. Сами учителя, которых слушал Цицерон, в Риме - прежде всего Филон из Лариссы, в Афинах — Антиох из Аскалона, на Родосе — Посидоний, работы, которыми он преимущественно пользовался, относились уже к тому духовному течению, которое было обусловлено огромным впечатлением от поднимающегося к господству нац миром Рима и его обладающих могучей волей мужей, а также потребностями знатной молодежи этого народа. Греческие мыслители давали римлянам философскую формулировку того, что они восприняли как жизненную силу. Если я не ошибаюсь, важнейшим отправным пунктом этого нового духовного течения был обмен идеями между Сципионом Африканским Младшим (род. в 185 г. до н. э.), Панеци-ем (род. в 180 г. до н. э.) и Полибием (род. в 204 г. до н. э.). А у стоиков этот обмен мнениями между римлянами и греками, соединение но-моса и логоса, разумной связи и власти, от которой можно было двигаться дальше, был уже завершен. Мы не можем подробно показать, как это новое римско-греческое интеллектуальное движение преобразовало стоическую систему, центром которой первоначально было понятие природы как логической системы сил, определяющей все изменения; как это движение посредством воздействия Панеция коснулось римского правоведения, придав ему систематическую форму; как оно создало при действии римского права казуистическое учение об обязанностях; как в работах Полибия, отчасти посредством стоических идей, делалась попытка вывести из теории смешения государственных устройств силу римского государства, длительность и величие Рима, как здесь греческая диалектика, способная все доказать, повсюду соединялась с римской позитивностью. Мы только бросим взгляд на возникшую таким образом систему.
Эта философия ищет по возможности прочную основу для жизненных понятий римлян и находит ее в непосредственном сознании. В нем присутствуют элементы, которые лежат в основе всех моральных, юридических и политических понятий. Это врожденные задатки. «Sunt enim ingeniis nostris semina innata virtutum (naturae lumen)» (Tusc. Ill 1, 2) и [Natura homini] ingenuit sine doctrina notitias parvas re rum maximarum»7* (Fin. V 21, 59). Признак этих врожденных задатков состоит в эмпирической общности их проявлений. Примеры таких гарантированных consensus gentium8* задатков - нравственный закон, правовое сознание, сознание свободы, Бога. Принципы, содержащиеся, по мнению Платона и Аристотеля, в нус человека, так же как xoival lc,woi(iL (notitiae communes)9*, и выведенные из них научные понятия, которые возникают, по мнению стоиков, из применения логических операций к данным опыта вследствие логического
Вильгельм Дильтей. J 1остиженне и исследование человека в XV и ХУТ веках 403 характера действительности - по своим действиям равноценны платоновско-аристотелевским принципам и суть в первую очередь средства конструкции космоса. Напротив, врожденные задатки служат основой жизненных понятий. Это — новое учение, оказавшее огромное историческое влияние: из этого источника черпают не только латинские отцы церкви, но и представители современного философского нативизма от Герберта Чербери до Лейбница.
Непосредственное знание является непоколебимой основой всех определений, посредством которых мы устанавливаем отношение универсума к нам. Доказательство греками бытия Бога, исходя из разумного, прекрасного и целесообразного устройства мира, сохраняет для здравого смысла свое значение, невзирая на скептиков. Эта философия, совершенно так же, как позже Кант, устанавливает наряду с мыслью о звездном небе нравственное достоинство человеческой природы (Tusc. I 28, 69; De natura deorum II 61, 153). Добродетель, благодаря которой человек подобен Богу, является знаком его высшего происхождения.
Исходя из доказательства бытия Бога, эта философия способна распространить свои жизненные понятия на универсум и укрепить таким образом юридически морально-политические понятия и правила в вечном; с другой стороны, выходя за пределы принятой греками связи с разумом, содержательно определить из жизненных понятий связь между человеком и универсумом.
Напомним об Антисфене, о «Политейе» Зенона. Он был еще почти мальчиком, когда в 323 г. до н.э. умер Александр. Зенон вырос с мыслью о соединении государств в мировой империи. Мы находим еще у Плутарха ощущение того, как работа Зенона связана с деяниями Александра. В ней утверждается, что космос вследствие действующего в нем одного закона есть единство; поэтому и все люди должны, невзирая на разделяющие их политические границы, ощущать себя единой жизненной общностью, подобно стаду пасущихся животных. Для стоической школы все люди, следуя их единому мировому номосу, образуют единую общественную систему, а мир — охватывающую богов и людей politic10*.
В ней действует общий закон: право природы. Это понятие естественного права постигают теперь римляне.
«Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna. Huie legi nec abrogari fas est, neque derogare ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest: nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes ct omni tempore una lex est et sempiterna et immutabilis continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator omnium deus»11’ (De rep. Ill 22).
404
Человек в контексте культуры
В этом естественном законе и естественном праве содержится весь этос жизни человеческого сообщества. Так, перед Цицероном стояла проблема внутреннего отношения этого естественного права к созданному римлянами самостоятельному, отделенному от это-са частному праву. Он даже не понимал сущности этой проблемы, настолько он не был подлинным философом. Основательнее действовала римская юриспруденция. Наряду с римским гражданским правом (ius civile) сложилось исходя из потребностей общения в Средиземном море право чужеземцев. Его более свободные формы проникли и в гражданское право. В это международное право входили, например, установления военного права о защите послов и о свободном проезде, а также о приобретении добычи, институт рабства, заключение договоров путем вопросов и ответов без ограничения торжественной формулы римлян и т.д. В этом праве растущее влияние получали naturalis ratio, aequitas12* и соображения пользы.
Так это право стало в юриспруденции носителем идеи, согласно которой в жизненных понятиях содержится совокупность правил, общих для всех народов. Эта совокупность правил неизменно основана на природе вещей, людей, общества. Этим объясняется, что в словоупотреблении Цицерона и юристов выражение ius gentium13* обозначает прежде всего фактическое право чужеземцев, но одновременно и значимые для всех народов правила, и поэтому может быть отождествлено с выражением ius naturae14*.
Так здесь сложилась более глубокая направленность естественного права, которая господствовала, исходя из понятий справедливости не над позитивным правом, а стремилась посредством сравнения, обобщения, отношения к пользе, справедливости и соответствия делу продвигаться от данного права к праву свободному от национальных границ. Действующее право само выработало из своих положений принципы своего продвижения и установило для себя отношение к общей связи вещей. Это имело неизмеримое значение для будущего. Параллелью этому правовому учению было учение об обязанностях, которое выводило из lex naturae15* добродетельное действие как следствие обязанности личности и как бы подчиняло его понятию обязательства: «Quum еа lege natus sis, ut utilitas tua communis sit utilitas vicissimque communis utilitas tua sit»16’ (De offic. Ill 12, 52). Масштабы правил заключаются в honestum17*, которое служит у римлян признаком того, что представляется достойным, в utile18*, при конфликтах в общем благе и предотвращении ущерба отдельных людей. Здесь образовалась казуистика обязанностей, которая затем действовала в римской церкви. Таким образом, мир постигался посредством следующих понятий. Основу ему дает открытая греками мыслительная связь. Но она на-
Вильгельм Дилмей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 405 полняется понятием власти божества, управления миром. Единое законодательство охватывает все живые существа, прежде всего людей. Оно обращено к людям как к ответственным, наказуемым существам, которые должны быть поэтому свободны. Так обособляются друг от друга власть Бога, сфера господства и правовой порядок в государстве и сфера господства свободной воли. Отчетливее всего познается изменение сознания Цицерона по сравнению с сознанием ранних стоиков в этом утверждении человеческой свободы. Этому в первую очередь была посвящена работа «De fato»19’. Выводу из логизма греческой философии в учении раннего стоицизма, согласно которому natura naturans20’ определяет все, что происходит, будь то в камне или в душе человека, Цицерон решительно противопоставляет жизненные понятия своего народа и непосредственное сознание. «Est autem aliquid in nostra potestate»21’ (De fato 14, 31). А этому царству личностей подчинено царство вещей, данных человеку для его пользования и связанных с царством людей посредством ставшей внешней телеологии.
Эта философия повсюду возвращается из метафизического богатства и полемики греков к единой простой системе, формирующей данное в непосредственном сознании в простые понятия.
Эти три великих мотива сплетены в метафизике человечества как в мощной симфонии. В христианской эпохе, у отцов церкви это сплетение проступает повсюду. Из него возникла метафизика средневековья, столь долго господствовавшая в Европе. И еще сегодня она является глубинной основой нашей народной и религиозной метафизики.
Однако вскоре стали проступать противоречия, возникшие из сплетения столь различных составных частей. Мотивы разъединялись. В борьбе Возрождения и Реформации за свободу духа Реформация возвращалась к религиозной позиции сознания в его естественной свободной жизненности; Макиавелли возродил римскую идею господства; Гроций, Декарт, Спиноза возродили на стоической основе автономию нравственного и научного разума. Однако в эпоху XV и XVI вв., полную напряжения, новой энергии и силы, все представляется новым. Молодые нации формировались в единства. Постоянное состояние войны в средние века сменилось упорядоченным правовым состоянием, развитием промышленности, торговли, благосостоянием городских классов, превращением городов в центры спонтанной индустриальной деятельности и растущего комфорта. Власть феодалов и церкви приходит в упадок. Люди видят перед собой безграничное будущее. Европа образует сферу деятельности, в которой промышленность и торгоюы связаны с научными открытиями и изобретениями, с художественным
406
Человек в контексте культуры
формированием. И эта безудержная деятельность новых сил еще не нашла упорядоченных путей, по которым она сегодня так урегулированно движется. Поэтому в изобретателях тех дней проявляется буйная индивидуальная сила. Она выражается в новой политике суверенных властителей и в самосознании бюргеров, в каждом противодействии давлению, в героических вылитых из бронзы образах Донателло, Вероккио, Микеланджело, лихорадочном пульсе драматического действия и героях Китса, Марло, Шекспира, Мессинджера, а также в основных понятиях динамики у Галилея. В том, как подлинный герой Марло, Мортимер, перед казнью говорит:
Bewcint mich nicht, der diese Well vcrachtend, wic ein Wanderer nun neue lander zu entdecken gcht122‘.
В эпоху Возрождения вновь появляются эпикурейцы, стоики, преисполненные верой в природу пантеисты, скептики и атеисты. И впервые у молодых германо-романских народов все эти оттенки жизненной настроенности и веры выступают в ясном свете дня, с открытым забралом. Лоренцо Валла, Эразм, Макиавелли, Монтень, Юстус Липсиус, Джордано Бруно выражают различные жизненные позиции человека. От лиц итальянских тиранов исходит дьявольское соблазнительное сияние атеизма и эпикуреизма, и среди правителей старых монархий также появляется новый тип свободной духовной, проникнутой идеями Возрождения образованности, представителем которой в средние века был только Фридрих II. Вообще теперь, в этом свободном воздухе, когда новый гуманистический дух требует жизни, которая может быть прочувствована в фантазии, увеличивается многообразие характеров. Постепенно появляются многообразные виды жизненного поведения: набожный католик, различные его типы вплоть до иезуита, вера протестантов-индепендентов как единая воля, идущая от Бога и в качестве таковой подчиненная лишь Божьему суду, оттенки этой веры в направлении деизма в сектах, основывающийся на силе разума философ, следующий Эпикуру сдержанный светский человек и, наконец, атеистически настроенный чувственный человек. И одновременно среди всех этих типов возникает углубленная энергия мышления о человеке и о моральном законе. Представители церковных партий высказываются в научной философской форме вплоть до позднего XVII в.; так среди иезуитов появляются Беллармин, Суарес, Мариана, среди ораторианцев — Мальбранш, среди янсенистов — Паскаль, Арно, Николь, среди французских гугенотов — выдающиеся юристы и
Вильгельм Дильгей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 407 ученые-государственники того времени, среди ремонстрантов -Гуго Гроций.
Глубокое преобразование в отношении человека к жизни в XV и XVI вв. создает обширную литературу, в которой описываются и подвергаются рефлексии внутренняя жизнь человека, характеры, страсти, темпераменты. Возникнув из изменения жизненного чувства и образа жизни, эта литература сопровождает теперь данный процесс, она усиливает и углубляет внимание к внутренней жизни человека, воздействует на растущую дифференциацию индивидуальностей и повышает радостное сознание людьми коренящегося в природе человека естественного развития. В течение XVI в. эта литература развивается, а в XVII в. ее поток поражает своей широтой. Своей вершины она достигает в открытии великой истины об основном моральном законе воли, по которому воля способна собственными силами достигнуть господства над страстями. Эта истина постепенно утверждалась, но только в XVII в. она обрела свой полный, свободный от догмы образ. В ней человечество получило вечное, бесценное благо.
Сначала литература такого рода сложилась у стареющих народов империи. Углубление в свои переживания - естественная склонность духа в старости - одновременно проявилось в конце эпохи греков и римлян у Сенеки, Марка Аврелия, Эпиктета, Плотина и у ранних христианских писателей. Исследование своей внутренней жизни, проникающее во все извилины души. Этому соответствовала возросшая способность Тацита постигать в истории характеры и страсти людей, проникать в тайны душ монархов, государственных деятелей и придворных. Излюбленной литературной формой этого времени становятся медитации, монологи, письма, моральные эссе. А впоследствии такие медитации, монологи, разговоры души с Богом образуют цепь, которая ведет от Августина через св. Бернара и францисканскую набожность к мистике XIV и XV вв. Процесс, в котором воля от отказа от Бога и рабского подчинения страстям приходит, вследствие стремления к длительному общему благу, к миру в Боге, после неоплатоников и отцов церкви, особенно после Августина, все больше затрагивает и молодые германо-романские народы. Углубление в человеческую душу привело их уже в границах церковного учения к тонкому пониманию различия между волями людей и формами раскрытия воли к жизни. Еще в XI в. мы видим у клюнийцев благочестие в строгой монотонности и как бы формальности, напоминающее изображение Христа в раннехристианском или романском стиле. Однако вскоре под влиянием ряда событий появляется ббльшая жизненность, глубина и индивидуальность выражения религиозно-морального душевного про
408
Человек в контексте культуры
цесса. Об этом свидетельствует уже то, как пилигримы в крестовых походах следовали жизненным путем Христа в святых местах; как миннезингеры придавали интимную, глубоко внутреннюю окраску жизни души с Богом; как великие философы в монашеских рясах анализировали волю, страсти и морально-религиозный процесс; как у Бернара и Франциска Ассизского религиозный гений придавал посредством сердечного тепла жизнь и движение церковной дисциплине. Но сильнее всего действовали на жизненную глубину и индивидуальное восприятие новых народов их естественный рост, развитие их культуры, прогресс в их социальных отношениях. И проявлялось это прежде всего в том, что самостоятельность, основанная на какой-то внутренней глубине, лучше познавалась и сильнее подчеркивалась в ходе религиозно-этического волевого процесса. С какой тонкостью Таулер касается в своих проповедях для слушателей всех сословий душевных переживаний и о сколь широком распространении изощренного религиозно-морального знания они позволяют заключить! По сравнению с ними сегодняшние проповеди представляются грубыми и схематичными.
По мере того как, начиная с Возрождения, наступило обмирщение этого несравненного состояния, как бы секуляризация церковных благ, литература о человеке обрела свое богатство и свой подлинный характер.
Это сразу бросается в глаза в творчестве создателя новой литературы, Франческо Петрарки (род. в 1304 г.). Его слава, по суждению венецианского сената, была величайшей из всех, которую с незапамятных времен имел среди христиан моральный философ и поэт. В нем, по определению флорентийцев, дух Вергилия и красноречие Цицерона воплотились в человеческом образе. Не его сонеты, в которых он наряду с традиционными тонкостями любви и холодными аллегориями по-новому и в своеобразной манере изображал волнующие моменты жизни, оказывали это магическое влияние на его современников. Оно не было также следствием исторического и поэтического предвидения, с которым он, изучая манускрипты, освобожденные им подчас от длительного забвения, или пребывая среди развалин Рима, где некогда действовали «необычайные люди», умел возрождать мысли и жизнь своих предков. И уж меньше всего это очарование заключалось в научных положениях его моральной философии, которую он составил из сочинений Цицерона, Сенеки и Августина. Все это не принесло бы ему мировой славы. Однако они были составными частями и явлениями того, что оказывало это таинственное очарование. На 32-м году жизни, сразу после события, о котором пойдет речь, он сообщает другу, как поднимался на Мон Ванту.
Вилы ельм Днльгсй. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 409
Величие панорамы, вид на Севенны, залив Лиона и Рону возвысило его душу. Ведь он относился к тем немногим в то время, для кого чувство природы в современном смысле стало частью их жизни. Солнце близилось к закату перед взором одинокого путника. Он открыл «Исповедь» Августина, которую, гуляя, часто брал с собой, и прочел: «И путешествуют люди, чтобы восхищаться высотой гор, огромными волнами моря, широким течением рек, простором океана и орбитами звезд - на себя же они не обращают внимания, себе они не удивляются». Петрарка задумался о том, что и для философов древности человеческая душа была наиболее достойна знания и удивления. Гак в этот день сократическое scito te ipsum23’ и noli foras ire, in te ipsum redi, in interior homine habitat veritas24* Августина соприкоснулись с его собственным вниманием к индивидуальному, несравненно живому состоянию собственной души.
Это было чем-то особенным и совершенно новым. В период полного обмирщения церкви, в непосредственной близости от коррумпированного Авиньона, итальянец, который любил в великих римских писателях своих предков, поэт, готовый отказаться от всех схоластических хитросплетений ради мгновения полной жизни, хотел быть действительно подлинным человеком, полностью прожить свою жизнь. Чувством жизни и ее отражением в поэзии была полна его молодость, мыслями о себе, о человеке и о судьбе людей — его зрелые годы. В науке для него было важно то, что имело отношение к человеку. В своих сонетах, в занятиях древними авторами, в письмах, философских трактатах он лишь представал в различных аспектах перед своими современниками. Его моральный облик, не слишком значительный, не всегда соответствовал идеальному образу мудреца, которым он хотел казаться; его Лаура наряду с другими его увлечениями, его культ дружбы наряду с его эгоизмом, его презрение к миру наряду с домогательством приходов при папском дворе в Авиньоне и в других местах — все это носит несколько театральный характер. Однако то, что он открывал как одно, так и другое, готов был допустить в самые затаенные уголки своего сердца, представал со всеми естественными изменениями чувств в различных возрастах — с полнотой любви в юности, с жаждой славы в зрелые годы и с пресыщением миром, даже страданием от восприятия мира в старости, — именно это восхищало его современников. Философское затворничество в Воклюзе, которым он любил датировать свои Письма, «в тиши ночи» или «при утренней заре», было для него и его времени истиной. Он написал книгу «De vita solitaria»25*; она полна радости покоя, свободы и досуга, позволяющих мыслить и писать. Больше всего он жаждал венчания лавровым венком на Капитолии, оно состоялось в 1341 г. И все-таки подлинным было
410 Человек н контексте культуры
и то настроение, когда он задавал себе вопрос, не лучше ли гулять по полям и лесам, быть среди крестьян, ничего не знающих о его стихах. В славе он наслаждался отражением собственной личности. Славу, признанную современниками, он считал неудобной, но удивительные записи о своей жизни и о своей личности он в сознании славы и упоенности славой завещал «своим потомкам» (posteritati). С развитием индивидуальности в нем возникла жажда славы, которая впоследствии стала принимать самые резкие формы. Он хотел, чтобы его сочинения имели свой особый стиль, хотел быть оригинальным философом своего времени.
Правда, влияние его латинских произведений, содержащих эту философию жизни, особенно работы «De remediis utriusque fominae»26* и «De contemptu mundi»27*, распространились по всей Европе. Это диалоги. Работа «De remediis» состоит из двух разговоров. В первом беседуют gaudum, spes и ratio2**, во втором — dolor и ratio27*, подобно тому как позже в юношеском диалоге Спинозы беседуют рассудок, любовь, разум и вожделение. Первая беседа учит преодолевать опасность даров счастья, вторая - бесчисленные страдания жизни. Работу «De contemptu mundi», написанную с отдельными интервалами между 1347 и 1353 гг., Петрарка называет «своей тайной», тайной своей жизни и души (secretum). В некоторых рукописях она озаглавлена «De secreto conflictu curarum suarum»30*.
Это беседа Франциска и Августина. Ибо из «Исповеди» Августина Петрарка всегда исходил в своих размышлениях о себе. И в конце «Тайны» он исчезает в тени Августина.
Проблема двух названий работ заключается в том, как человеку достигнуть tranquillitas animi31* в этой жизни, в которую входит осознание смерти. Впечатляющий конец «De remediis» (от диалога 117: De metu mortis32* и далее), в котором речь идет об ужасах царицы смерти, показывает, каким бременем представляется ему страх смерти. Его позицию в качестве морального философа определяет то, как в нем борются и все-таки соседствуют Сенека и Августин. В Сципионе Африканском он видит свой идеал, а у Франциска Ассизского и его сторонников он заимствует другие сведения о проявлениях жизни. Учение древних философов об автономии разума в нашей моральной жизни служит ему масштабом мышления, и все-таки оно не освобождает его полностью от церковного пути. Однако новое в этих моральных сочинениях именно то, что в них автор непосредственно и полностью противостоит жизни и предоставляет решающее слово ratio. Божественные силы привлекаются только как вспомогательные войска, когда борьба жизни становится для ratio слишком трудной. Жизнь для Петрар
Видп.гельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV п XVI веках_411
ки — борьба. Он повторяет вслед за Гераклитом: «Omnia secundum litem fieri. Et quae vicissitudo dicitur, pugna est»33*.
В работе «De remediis utriusque fortunae» он описал окружающие нас силы несчастья и счастья - и переносить вторую кажется ему труднее, чем первую — подчас слишком многословно, но с безграничной глубиной ощущения страданий, опасностей и мизантропии жизни.
«Animus quam diversis quamque adversis secum pugnet affectibus, unus quisque non alium sese interroget sibique respondeat, quam vario quamque reciproco mentis impulsu modo hue rapitur, modo illuc. Nusquam totus nusquam unus, secum ipse dissentiens, te discerpens»34* (Praef. 1. 1649, p. 351).
Решение проблемы философии жизни, которое он нашел у Сенеки, особенно используемое в работе «De tranquillitate» и в моральных письмах, он мог в ряде основных черт соединить с учением Августина. От рабского подчинения внешним воздействиям и аффектам душа может освободиться посредством добродетели и достигнуть transquillitas animi. Однако стоические учения ослаблялись и дополнялись обращением к божественной помощи. Эта половинчатость псе время будет встречаться нам в XV и XVI вв. в развитии сознания нравственной автономии человека. Своей цели — спокойствия души, ratio и virtus35’ не могут полностью достигнуть и с божественной помощью. Ибо прежнее доверие к ней было потеряно. Так возникает пессимизм Петрарки. Он говорит о жизни: «Cuius initium caecitas et oblivio possidet, progressum labor, dolor exitum, error omnia»36’ (Praef. Dial. 1. De remediis. Ibid. P. 2)2. И работа «De contemptu mundi» завершается подчинением авгу-стинизму с одной оговоркой: «Sed desiderium fraenare non valeo»37*. Пессимизм, который распространяется и на область морали — он определяет его наименованием acedia, мировой скорби, - является его последним словом. Это старая монашеская болезнь в новой форме. То, что книга, описывающая эти страдания, жадно читалась во всей Европе, показывает, как распространены были в конце средневековья настроения, устранить которые не мог францисканский идеал. Ибо человек не рожден для того, чтобы размышлять о происхождении, об индивидуальности, вине и будущем.
С Петраркой в Италии растет число морально-философских трактатов в духе Цицерона и Сенеки. Стоическая философия преобладала. Боккаччо пишет: «Mihi pauper vivo, dives autem et splendidus aliis viverem»3*’ (Lettere p. 33). Великий канцлер Флорентийской республики Салютати (умер в 1406 г. после тридцатилетнего пребывания в этой должности) писал морально-философские трактаты в том же духе, цитировал Цицерона и Сенеку, как дру
412
Человек в контексте культуры
гие — церковных авторитетов, и учения стоиков усиливали врожденную твердость его характера. Под воздействием Салютати сложился Леонардо Бруни и стал его последователем. В небольшой работе о морали Бруни проводит в духе Цицерона сравнение между эпикурейским и стоическим учением и доказывает - это также в духе Цицерона - преимущество стоицизма. Можно сказать, что героическое время Флоренции нашло свое выражение в господстве стоических учений: чувства людей были такие, как во времена, когда высшим философским авторитетом считался Панеций.
В Италии безудержно росла коррупция. Прежняя virtif9' вытесняется чувственностью и расчетом. Это отражено в моральных трактатах. В почитании Петрарки, которого Салютати любил как сына, вырос Поджо (род. в 1380 г.). В своих моральных трактатах (об изменчивости счастья, о страдании человека) он хотел найти средний путь между жесткостью стоиков и эпикурейцами.
Еще решительнее проявляется изменившаяся философия жизни у великого ученого Лоренцо Валлы (род. в 1407 г.). Его диалог «De voluptate» («О наслаждении») вызвал испуг в его время; в нем, правда, стоик и эпикуреец на высоком философском уровне дискутируют совершенно в духе Цицерона о высшем благе. Однако в начале работы резко и прямо декларируется, что высшее благо жизни состоит в наслаждении, и все дальнейшее изложение посвящено доказательству этого (De voluptate. Praef. Ср. Dial. disp. I 10). To, что Валла в конце концов отвергает как учение стоиков, так и эпикурейцев и утверждает христианский сверхчувственный порядок вещей, может отчасти объясняться свойственными тому времени колебаниями, отчасти склонностью к приспособленчеству. Нетвердые в своих убеждениях поэты легко сбрасывают маску.
Подобное чувственное наслаждение жизнью составляет также главную часть атмосферы, в которой жил Макиавелли. Другая ее часть - политическое искусство того времени. В лице гуманистов, как в лице софистов времени греческого Просвещения, сложилось новое сословие, полностью посвятившее себя служению литературным и научным интересам, что не препятствовало им интересоваться любезными их сердцу приходами. Во взаимодействии между ними и политиками Флоренции и Венеции, в сплаве обоих типов деятельности сформировался Макиавелли. В период его отставки он описывает в письме 1518 г. свою жизнь в бедном деревенском домике близ Флоренции. Он рассказывает, как следит за вырубкой своих лесов, и торгуется, устанавливая цену; как затем гуляет с книгой поэта в кармане, болтает в дорожной таверне с проезжающими и проводит обычно весь день за игрой в триктрак с местными мясниками, булочниками и мастерами по обжигу
Вилы сльм Дильтеи. Постижение н иес. юдование человека в XV и XVI веках 413
кирпичей; при этом они постоянно ссорятся. «Но с наступлением вечера я направляюсь в свою рабочую комнату. На пороге я сбрасываю крестьянскую одежду, надеваю великолепный наряд и иду в должном облачении к дворам великих мыслителей древности. Любезно принятый ими, я наслаждаюсь пищей единственно для меня пригодной, той, для которой я рожден. Я не смущаясь разговариваю с ними, спрашиваю их о причинах их поступков, и они любезно отвечают мне на мои вопросы». Политическая гениальность и опыт позволили Макиавелли соединить свое знание римского мира с состоянием тогдашней Италии, и он получил мировую известность, оказал влияние на Марло и Шекспира, на Гоббса и Спинозу, а также на практических политиков. Макиавелли обладал новым воззрением на человека.
Человек был для него силой природы, живой энергией. Чтобы постигнуть сложившееся у Макиавелли понятие человека и общества, надо, подобно ему, исходить из видения его времени. Борьба папы с императором за Италию привела к тому, что уже в XIV в. императоры сохранили в лучшем случае высшую власть сюзерена над Италией. Папы могли, правда, предотвратить единство Италии, но не могли установить его. Как Макиавелли говорит, «е la cagione, che la Italia non sia in quel medesimo termine, ne habbia anch’ella d una Republica d un principe che la govemi, ё solamente la chiesa»40* (Discorsi 112). Политическая власть в Италии XIV в. принадлежала фактическим мелким властителям, каждый из которых был вооружен до зубов. Многие из них были полны неуемной воли к власти. Они ценили только смелость и хитрость. Когда у последнего из дома Каррары больше не было людей, чтобы защищать от венецианцев стены и врата опустошенной чумой Падуи, его слуги часто слышали по ночам, как он взывал к дьяволу, моля убить его. В XV в. эти мелкие локальные властители уничтожались или переходили в качестве кондотьеров на службу к крупным, которые округляли свои владения. Во второй половине XV в. Папская область, Венеция, Милан и Неаполь образуют систему равновесия. Уменьшение военной силы, преобладание политического расчета, обусловленного равновесием этих «крупных государств» и содействием мелких, ужасающая коррупция отличают время, в которое жил Макиавелли (он родился в 1469 г.). Наступила катастрофа французского вторжения 1494 г., Макиавелли пережил его еще молодым, пережил он и власть арагонца Фернандо в Неаполе (1458-1494), наибольшим удовольствием которого, кроме охоты, было знать, что его противники пребывают вблизи от него живыми в хорошо охраняемых тюрьмах или мертвыми и забальзамированными в своих обычных одеждах. Макиавелли пережил также правление его сына, «самого
414
Человек в контексте кулыуры
жестокого, дурного и порочного человека из всех когда-либо существовавших» (по определению Коммина). В 1496 г. этот правитель в бессмысленном бегстве оставил свою землю и своего сына во власти французов. В Милане Макиавелли видел правление великого политика Лодовико Моро, который похвалялся, что держит в одной руке войну, в другой — мир; на аудиенциях он отдалял от себя своих любимых подданных, и им приходилось говорить очень громко, чтобы быть им услышанным; при его блестящем дворе царила безграничная безнравственность. В Риме Макиавелли видел, как ужасный Сикст IV посредством денег, полученных от продажи духовных милостей и санов, подавил всех властителей Романьи и находящиеся под их защитой разбойничьи банды. Затем он видел, как Иннокентий VIII вновь заполонил Папскую область разбойниками, так как за определенную плату можно было получить прощение за грабеж и убийство, а папа и его сын делили деньги. И наконец, он пережил страшное правление Александра VI и его сына Чезаре Борджа, который своей дьявольской гениальностью властвовал над отцом и носился с планом секуляризации Папской области после его смерти.
Об этих двух людях, занятых такими грандиозными планами, говорили: папа позволяет своим кардиналам обогатиться, чтобы затем убрать их с помощью яда и унаследовать их богатство; Чезаре же ходит по ночам со своей гвардией по Риму, чтобы насытить свою жажду убийства. Церковь была коррумпирована, национального государства, которое подчинило бы себе и воспитало людей, не было, существовали только богатство, чувственные удовольствия, способность к художественному творчеству, безграничное стремление к власти не связанных друг с другом индивидов. Однако повсюду, даже в вырождении, проявлялись римские идеи господства.
В этой невероятной коррупции в значительной степени участвовал и Макиавелли. В нем обнаруживается большая острота наблюдения, но полное отсутствие силы действующей натуры. Между его характером и его разумом, которому все казалось проницаемым, существовало несоответствие. Он был, невзирая на все его расчеты, обычный bon homme4r, распущенный в своих любовных похождениях, добропорядочный по отношению к друзьям, любезный собеседник. Рано, еще до 30 лет, он стал главой канцелярии Совета Десяти, но не государственным канцлером, как вышеназванные флорентийцы, скорее подчиненным ему. Он рьяно и соответственно своим обязанностям выполнял то, что требовалось этой должностью. О его действиях посла мы знаем из многих источников, которые дают ряд поучительных сообщений. Повсюду он проявлял безграничный талант наблюдения, но никогда его политическая деятельность не получала прочного признания в общественном
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и ХУТ веках 415 суждении. У него отсутствует тот металл, который необходим, чтобы воспользоваться нужным моментом, в беде сохранить личное достоинство и оставаться верным проигранному делу. Его комедии показывают, как он без зазрения совести не только принимал коррупцию своего времени, но и наслаждался ей. Когда его и в поздние годы охватывало увлечение карнавальным весельем, его друзья сожалели о том, что он забывал о достоинстве. Из противоречия между его искренним решительным республиканским убеждением применительно к флорентийским делам и стремлением к монархии, способной утвердить единство Италии, неизбежно возникали политическая неуверенность в его позиции, двойственность его выступлений вовне сначала в цветах республики, затем в цветах Медичи; но полностью его политическую репутацию уничтожила неустойчивость, проявляемая им в этих трудностях его положения. Это было доктринерством нравственной безответственности. Суждения его современников и соотечественников\ отнюдь не склонных к чопорности в вопросах морали, которые сохранили свидетельства о его поступках в мелких, особенно поучительных делах, могут благодаря ставшим нам доступным архивным данным не признаваться в тех случаях, когда речь идет об обвинениях в партийности, и подчас могут быть смягчены, но не полностью опровергнуты.
Эти личные черты должны были прежде всего оказать влияние на восприятие Макиавелли человека и общества. Однако он был во власти общих идей, происходивших из изучения римского мира и связанной с ним идеи господства, а также из описанного выше искажения этой идеи в Италии.
Макиавелли был, как и многие из его современников-гуманистов, законченным язычником. В происхождении нашей религии он не видел ничего сверхъестественного и не верил, что с помощью церкви в Италии может быть достигнуто нравственное упорядочение жизни, нравственное развитие личности. В римской курии, с которой он, будучи послом, хорошо познакомился, он видел не только причину политической беды Италии, но и источник моральной коррупции. Если бы курию можно было отправить в Швейцарию, в самую религиозную и воинственную страну, этот эксперимент показал бы, что папской коррупции и интригам неспособны противостоять ни благочестие, ни военная сила (Discorsi 112). С хладнокровным весельем Макиавелли выразил в образе фра Тимотео в своей гениальной комедии «Мандрагора» свой взгляд на церковь. Фра Тимотео чистит в своей церкви изображения святых, читает жития отцов церкви, сентиментально рассуждает об упадке набожности и при этом с любопытством ждет, произойдет ли подготовленное с его помощью нарушение супружеской верности, благословляя всех
416
Человек в контексте культуры
участников этого действия. «Наиболее близкие Риму народы наименее религиозны». «Мы, итальянцы, обязаны церкви и священникам тем, что стали нерелигиозны и дурны» (Discorsi I 12). Но от очищения церкви он ничего не ждал. Он был сознательным противником христианской религии. Она заставляет нас меньше ценить мирскую славу и делает нас поэтому нежнее и мяте. Древние же считали эту славу высшим благом и были поэтому смелее в своих действиях и жертвах. Древняя религия вообще обещала блаженство лишь тем, кто обрел блеск в мирской жизни, военачальникам и правителям государств. Наша религия прославляет смиренных, созерцательных, а не действующих людей. Высшим благом она провозгласила признание низости всего земного и презрение его, древняя же религия считала высшим благом величие духа, физическую силу и все то, что способно сделать людей смелыми. Наша религия требует силы, чтобы страдать, а не для того, чтобы совершить смелое деяние. Так мир стал добычей злодеев, с уверенностью господствующих в нем, ибо люди, стремясь попасть в рай, склонны скорее терпеть их злодеяния, чем мстить за них. Исходя из этой острой исторической оценки христианства, мы легко приходим к его взгляду на религию вообще. Он мыслит как римлянин времени Сципионов. Значение религии он определяет ее воздействием на государство и нравы, на силу клятвы и добропорядочность, в которых нуждается государство. Он замечает, чго лишенная единства Германия обладает опорой в религиозности (Discorsi I 55). Еще очевиднее для него сила римской религии, соединенная с государством, в которой он вслед за Полибием видит главную причину величия римского государства (Discorsi III, Polyb. XI 56). Но религия была для него только изобретением людей. Нума изобрел римскую религию, чтобы опираться на ее авторитет для своих новых установлений. И здесь мы обнаруживаем согласие с Полибием (VI, 56). Полибия по поручению папы Николая легковесно, но изящно перевел гуманист Перотти; в 1473 г. перевод был напечатан еще до появления в Италии греческого оригинала. Этот перевод охватывал только пять первых книг, и откуда Макиавелли знал выдержки из шестой книги, нам неизвестно. Во всяком случае, ни один писатель не оказал на Макиавелли большего влияния, чем Полибий.
Улучшения нравственности он ждал только от государства. Происхождение не добра, а моральных принципов он связывает непосредственно или посредством религии с воспитанием, осуществляемым государством, которое нуждается в прочности клятвы, в добросовестности и преданности. Если он и признает значение религии на других стадиях развития или для других народов, для итальянцев его дней и будущего он, допуская, что обоснование
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 417 новой религиозности интересами государства не исключено, ждет восстановления величия Италии только от монархии.
Понимание всех проблем людей исключительно с точки зрения государственных интересов сложилось в политике итальянских государств, для которых оценка сил и сохранение равновесия имели преимущественное значение. В отчетах венецианских послов мы располагаем несравненными источниками этого нового объективного понимания значения сил и их отношений. Макиавелли и Франческо Гвиччардини сложились в этой школе. Идеи Макиавелли развились в значительной степени под влиянием его посольства к Чезаре Бор-джа в Романью, во Францию и к Максимилиану в Германию. Оценивая Чезаре Борджа как человека действия, он увидел в нем властителя, а его опыт уже тогда научил его рассматривать политические действия вне всякой связи с их церковным или моральным значением. Из его мастерских посланий о Франции следует, насколько очевидно для него стало значение монархии в централизации всех политических сил. Когда после его отставки в 1512 г. его гениальная способность наблюдения, сравнения и обобщения свободно развивалась в его трудах, он вычленил развитый в делах новый метод рассмотрения и превратил его в основу политической науки. У Макиавелли практический рассудок как логика дел, наблюдение, индукция, сравнение, обобщение материала жизни и истории с его инстинктивной методической силой, с его отвращением к дедукции утверждает свою суверенность; и не только в практической области, но и в науке. Наступило полное обмирщение морали и политики без каких-либо оговорок и отступлений. В этом уме итальянца, занятого как рутинными делами, так и изучением древних мыслителей, возрождается могучая воля римлян, для которой цель жизни — господство, это господство — результат рассудочного расчета, а вся культура, священнослужители, храмы, знание, поэзия, чувственная жизнь -- лишь средства и дополнение этой властвующей воли. Макиавелли с гениальным проникновением приходит к выводу, что великая задача подобной господствующей воли - создание национальной монархии в Италии. С этой точки зрения для политики как науки остается только проверка исчислений политиков и обнаружение правила, которое лежит в основе всех их расчетов. Он хочет, следовательно, показать то, что есть, а не то, что должно быть: «Кто в политической жизни пренебрегает перуым и направляет свое внимание только на второе, идет к гибели, а не к сохранению» (Principe. Кар. 15)42*.
Из всего этого для Макиавелли складывается картина или понятие человеческой природы и общества, более того, оно уже содержалось во всем этом как его основа. Макиавелли не был систематиком, однако в его мышлении содержится единство гения.
418 Человек в контексте культуры
Основная его мысль — единообразие человеческой природы. Мы не можем измениться и должны следовать тому, к чему склоняется наша природа (Discorsi III 9). «Чтобы предвидеть, что случится, следует рассмотреть, что было. Ибо действующие лица на великой арене мира, люди, обладают всегда одинаковыми страстями, и поэтому одна и та же причина должна всегда вести к одному и тому же действию» (Discorsi 111 43). На этом основана возможность политической науки, предсказание будущего и использование истории (Discorsi I 39). «В мире всегда все происходило равномерно, в нем было столько же хорошего, сколько дурного, только в разные времена оно распределялось по странам различным образом». Доблесть (virtii) переходит из Ассирии в Мидию и Персию, оттуда в Рим, а затем распределяется между сарацинами, турками, немцами (Discorsi VIII, Введение). Идея эволюции или развития человечества совершенно чужда Макиавелли. Он относится к тем, кто на основе тезиса об однородности людей во все времена подготовил в XVI в. выведение системы культурных форм из природы человека. И для него на этой идее основывалась возможность государственного управления и политической науки. Его тенденция к обобщению способствовала тому, что он в силу этой однородности конструировал индукции на основе данных истории всех времен, а первые положения, которых он держался, дали ему Платон, Аристотель, Полибий, зависящий от Полибия Ливий и другие римские авторы. Любимым изречением Макиавелли было: «Это следует принять как общее правило».
По своему содержанию эта однородная природа людей негативно определена для него тем, что он не признает моральной автономии. Он разделяет точку зрения Полибия, которому следует в важной для его понимания второй главе первой книги своих «Discorsi»4. Если Полибий постоянно использует «Законы» и «Государство» Платона, то в пятой главе этой книги появляется выведение нравственности и права, взятое, вероятно, из современной ему работы или учения. Политическая жизнь возникает из стадной жизни людей; они объединяются в группы, как животные, и следуют за самым мужественным и сильным. Так возникает первая монархия. В таком обществе хвалят то, что соответствует интересу выносящего суждение. Из этого складываются нравственные и правовые понятия. Они обретают ббльшую силу по мере того, как первичная монархия применяет их, и в свою очередь усиливают монархию. Макиавелли приводит выдержки из этой теории Полибия о происхождения права и нравственности с небольшим, но преднамеренным отклонением. Зла насилия, затрагивающего других, примитивный человек для себя хочет избежать, поэтому первоначальное стадо ввело законы и наказания; так возникло понятие справедливости. После того как это
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 419
понятие вступило в действие, стадо стадо избирать своим вождем уже не самого сильного, а того, в ком стремилось найти соединение силы, рассудка и справедливости. Тем самым Макиавелли признает не идущую изнутри автономную моральность, а только создаваемую государством добродетель. Соответственно, и высшая для него религия, древнеримская, установлена государством, изобретена правителем и посредством обмана сделана приемлемой для народа. По мнению Макиавелли, человек не зол от природы. Это как будто высказывается в ряде мест; правда, он как-то сказал, что по свидетельству истории основатель государства и законодатель должен исходить из предпосылки, что люди действуют по злому умыслу, когда им представляется такая возможность (Discorsi I 3). Однако он имел лишь в виду, что люди обладают непреодолимой склонностью переходить от желания ко злу, если этому ничто не противодействует. Основные свойства человеческой природы — животная сущность, влечения, аффекты и прежде всего любовь и страх. Макиавелли неисчерпаем в своих психологических наблюдениях за игрой аффектов, стремлением человека к новому, преобладанием первичной страсти над вторичным нравственным принципом, половинчатыми, не вполне добрыми и не вполне дурными мерами, которые губят государства и индивидов, а также в совершенно беспристрастно им описанной безграничности и ненасытности нашего вожделения5.
Из этого основного свойства человеческой природы он выводит фундаментальный закон всей политической жизни. Его он также заимствовал у Полибия, который здесь в психологической трактовке зависит от Платона. Примитивная монархия коррумпируется в престолонаследии; но и следующее за ней аристократическое правление неудержимо переходит в смене поколений вследствие природы человека в олигархию с ее жадностью, жаждой власти и домогательством женщин. Наступившая затем демократия столь же часто уже в следующем поколении превращается в анархию, что ведет к возврату монархии. Таков круговорот простых форм государственного устройства. Хорошие из них длятся недолго, дурные действуют разлагающе и уничтожают часто независимость государств. Рим продлил время своего могущества - в этом высказывании Макиавелли также следует за Полибием - прежде всего благодаря тому, что принял смешанную форму правления (Discorsi I 2). Психологический мотив этого круговорота Макиавелли кратко и ярко определяет на примере истории Флоренции. «Сила создает покой, покой — праздность, праздность - беспорядок, беспорядок - разруху, а из нее возникает порядок, из порядка — сила, из силы - слава и счастье». (Istorie fiorent. V, начало). Так из природы человека следует общая задача государственного
420 Человек в контексте кулыуры
управления. Ему надлежит задерживать безумную стремительность, с которой человеческая природа впадает в коррупцию, сохранять или возрождать посредством законов и религии энергию, смелость, правосознание, миролюбие; если же государство стало жертвой коррупции, правитель должен стремиться восстановить государственный порядок в случае необходимости открытым и не считающимся с существующим правом насилием, даже беспринципной политической интригой.
Содержащаяся в «Discorsi» и в «Principe» теория служит этой задаче. Внимание Макиавелли направлено на два обстоятельства. Он хочет, чтобы во Флоренции была сохранена свобода, ибо по своим убеждениям он умеренный республиканец в древнеримском понимании. Он считает основным недостатком флорентийской политики то, что народ, злоупотребив своей победой, ослабил и коррумпировал знать. В общем он требует, чтобы сложное политическое тело посредством внешнего вмешательства или изнутри посредством политического искусства возвращалось через короткие промежутки времени к своим исконным силам и как бы медицински регулировалось. Когда же он взирал на Италию в целом и ее состояние после французского вторжения, на расщепление страны, на власть чужих, коррупцию, то ему представлялось необходимым, чтобы не только кровью и железом, но и посредством полного пренебрежения всеми моральными принципами была установлена на новой основе национальная монархия. Страшное противоречие: средствами Чезаре Борджа он стремился к построению нового прочного общественного устройства.
Только приняв все это во внимание, можно постигнуть идеи Макиавелли о человеке и обществе. Он первый представитель романских народов, защищавший в новых условиях имперскую идею римского мира. И он значительно более велик, чем столь переоцененный теперь его ученик Гоббс, потому что он, современник Борджа, итальянец по крови, взирая на Рим, представлял на почве Италии, где воля к господству в Римской республике, в империи, в папстве царила всегда, эту идею господства в ее исконной силе.
По теории Макиавелли, общество - механизм влечений; игра аффектов исчисляема, так как человеческая природа всегда одна и та же, принципы морали, права, религии содержатся только в интеллекте, который выводит основные законы совместной жизни из принципов благоденствия, моральной автономии нет нигде: в таком мире существует лишь одна подлинно творческая способность, воля к господству, которая исчисляет этот допускающий исчисление мир по принципам государственной мудрости, исходя
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 421 из игры аффектов в обществе, и насильственно подчиняет аффекты привнесенным более сильным аффектам.
Макиавелли вынужден был удовлетвориться образцами подобного итальянского политического искусства в его дни, политикой Медичи и Борджа: осуществлением его имперской идеи был бы корсиканец Наполеон. В его произведениях нет ни одного места, где речь бы шла о ценностях религии. Нигде не появляется ощущение величия художественных творений, которыми было столь богато его время. Он приносит извинения за то, что создает поэтические и прозаические произведения, объясняя это тем, что вытолкнут из политической жизни. Свою фантазию, которую по ее размаху можно сравнить с фантазией его современников, Ариосто и Микеланджело, Макиавелли ощущает только как политическую способность, лишенную материала для действий. Он постигает посредством избирательного сродства, как ни один философ, занимавшийся государственными проблемами, творческую способность политического гения, эту считающуюся с фактами позитивную фантазию, которая, исходя из общих условий одинаковой человеческой природы и вытекающих из нее законов политической жизни, воздействует на эту жизнь. По мнению Макиавелли, политик основывает государство, вводит своими законами право и нравственность, используя для этого религию. Это Макиавелли находит в истории римских цезарей, которая писалась, исходя из подобных предпосылок. О внутренних нравственно-религиозных силах народов у него нет никакого понятия. Поскольку государству свойственно изменяться и ухудшаться, над этим сложным телом всегда должен надзирать политик, ибо это тело должно постоянно находиться под наблюдением и с короткими промежутками регулироваться, как часовой механизм. И в этой политике нет уже ни следа формирующей государственной педагогики, нет ничего из того, что говорится германскими писателями о содержательности личностей и о связи их реальных, проникающих государство целей. Понятия, которыми работает Макиавелли, это — сохранение государства, его прочность, усиление, равновесие политических сил в республике, равновесие между государствами, соотношение сил и механика партий, различие формы компромиссов между ними путем войны во Флоренции или законного соглашения в Риме, наконец, техника господства, направленная на то, чтобы посредством использования игры аффектов подчинить своей воле единичные силы, через какие бы преступления ни шел этот происходящий через соотношения сил процесс.
Изучение морального мира под углом зрения игры природных сил завершается также примыкающими к Полибию спекуляциями о счастье. Они служат как бы проекцией наблюдений Макиавелли
422
Человек в контексте культуры
на универсум. Успехи господствующей воли достигаются посредством совместного действия живой свободной воли и счастья. «Я полагаю, — говорит он в “Principe” (гл. 25), — что счастье управляет половиной наших действий, предоставляя, однако, вторую половину нам самим». Персонифицировать эту слепую силу и описать формы ее воздействия невозможно. Судьба ослепляет душу для того, чтобы безудержно властвовать. Счастье избирает для великих дел такого человека, у которого достаточно мужества, чтобы пользоваться обстоятельствами. Никто не может противодействовать счастью и разорвать его сеть; удача сопутствует человеку до тех пор, пока его действия соответствуют счастью; если его воля меняется и человек проявляет по отношению к счастью упрямство, он погибает. Фортуна — женщина, поэтому с ней лучше обращаться буйно, чем осмотрительно. Главное же правило, близкое учению стоиков, гласит: чтобы быть счастливым, надо узнать, как этого хочет природа (Discorsi II 29, III 9)6. В маленьком биографическом романе «Жизнь Каструччо Кастракани» Макиавелли изображает прирожденного властителя, который умел вследствие своей могучей жизнерадостности жить в добром согласии со счастьем.
Эта римская воля к господству нашла в «Государе» концентрированное и художественно сильное выражение и оказала большое влияние на европейских правителей и государственных деятелей, писателей и поэтов; воздействие ее ощущается даже в английских трагедиях, у Марло и в «Ричарде 111» Шекспира; часто оно сказывалось и в продажной итальянской литературе того времени. Эта самая влиятельная из всех политических брошюр возникла из содержания «Рассуждений». Однако ее цель, как показывает ее конец, выходит за пределы рассмотренной в «Рассуждениях» общей проблемы возрождения и государства посредством политики государя. Эта цель - создание в Италии национальной монархии. Написана и опубликована данная работа была в связи с политической комбинацией, которая позволяла предположить, что дом Медичи сумеет способствовать достижению национальной идеи. Литературную судьбу этой работы предопределило то, что она была выведена из «Рассуждений». Поэтому никто не замечал, что здесь врач прописывает бессмысленные средства безнадежному больному. Общественностью Европы этот особый случай, в котором содержались условия потребности в определенной тиранической системе и ее оправдание, постигался вне его границ. Если же читать эту книгу, имея в виду упомянутые условия, то страшной в ней окажется лишь последовательность, с которой имперская идея государства, механическое исследование государства прослеживаются в их последних выводах. Макиавелли здесь говорит: правитель
Ви. п>ге.1ьм Диль гей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 423
должен быть, когда это требуется, лисой и львом; лисой, чтобы обнаруживать западни, львом, чтобы освобождаться от волков. Жестокость достойна порицания лишь тогда, когда она бесполезна, а
обман - политическая необходимость первого ранга.
Эпоха Макиавелли была вершиной обусловленной гуманиз-момдуховной жизни Италии.
На почве гуманизма в Италии в эту эпоху все росло и цвело пышным цветом новой весны. Современниками Макиавелли были Леонардо (род. в 1452 г.) и Микеланджело (род. в 1475 г.). Одновременно с ним жил Рафаэль Санти (род. в 1483 г.), он умер
раньше него; другим его современником и соперником в создании комедий был Ариосто (род. в 1474 г.), современником его был и великий историк Гвиччардини (род. в 1482 г.). В 1492 г. Колумб отплыл из Европы. Итальянское Возрождение нашло пути проникновения во все культурные страны Европы. Следующим после Петрарки гуманистом, который обрел беспредельную славу, был нидерландец Дезидерий Эразм (род. в 1466 г.). Около 1520 г. ранний немецкий и нидерландский гуманизм достигли своей высшей точки. Во второй половине XVI в. возглавлять гуманистическое движение стала Франция. Здесь Возрождение принимает форму образования большого аристократического общества в самой могущественной монархии. Во Франции оно впервые охватило живые силы общества, все реальности юридического, политического и эстетического характера. В этих условиях возникают глубокое
понимание римского права, превосходящее итальянцев понимание истории, и поэтика, ведущая за собой национальную поэзию. Историческое самосознание самой могущественной романской нации пронизывает и ее знаменитых государственных деятелей, юристов и духовных лиц, понимание их предков в Риме. Здесь уже нет никаких следов комнатной атмосферы немецкого гуманизма. От Франциска 1, его духовника Петра Кастелланского и советника Бюде исходит великое духовное движение, в результате которого в 1520 г. наряду со старым университетом был создан Colldge de Fiance, проводивший идеи Нового времени. В ходе дальнейшего развития появляются Петр Рамус, Турнебус, Ламбинус, Муретус, оба Скалигера, Куяций и Донеллус, исторические работы де Ту; даже теологии Кальвина и Безы были гуманистически окрашены. Таковы обстоятельства, в которых новый писатель высказал свое мнение о Человеке, вызвавшее внимание всего мира.
Монтень (род. в 1553 г., Essais 1588) пишет в легкой, привлекательной манере рассказчика; в его беспорядочно скомпонованных работах, написанных прекрасным наивным языком, шутки и серьезные размышления, рассказы о себе, анекдоты, цитаты из
424 Человек н контексте кулыуры
древних авторов, глубокие оригинальные прозрения следуют друг за другом. Радостью окрашена каждая фраза. В одном случае он отказывается считать себя философом7, однако в ряде других мест отражается его наивное сознание значения своих неметодических, но и не скованных никаким метафизическим догматом приемов индукции в анализе человека. Он сам говорит о себе: «Nouvelle figure, unphilosophe impremeditd et fortuity45*.
Однако и его мышление о человеке, как всех других, выходящих за границы церковного понимания писателей тех дней, уверенно покоится на массивном фундаменте античной морали. Его книга насыщена и проникнута философией античных мыслителей, Цицерона, Сенеки и любимого им Плутарха*. Вслед за скептиками он полностью отвергает метафизику, но, следуя Сократу, которого он особенно почитает, находит в рефлексии о нас самих и естественном законе нравственности открытую человеку истину и объединяет все подлинно сократическое в качестве основы жизненного поведения. Острым пониманием ядра древней практической философии и прежде всего свободным пониманием жизни он поставил в центр своей морали стоическую формулу, по которой добродетель состоит в жизни, соответствующей природе, и развил ее плодотворнее и проще, чем любой стоик, в личностное отношение к жизни9. В нас исконно действует природа, и надо только всегда слышать ее требования. Природа ведет нас посредством влечений к радости, аффекты относятся к нашей здоровой жизни, без них наша душа была бы неподвижна, как корабль в спокойном открытом море.
Под влиянием древних авторов находятся важнейшие французские писатели этой эпохи, сохранившие еще сегодня свое значение: Рабле и Монтень. Роль Монтеня в перенесении скептического духа древних на современное мышление Декарта, в ослаблении авторитета церкви и метафизики не вызывает сомнения. Однако если Бокль (гл. VIII) видит в этом значение Монтеня, если он вообще считает рост скептического духа единственным средством для подготовки нового мышления XVII в., то он совершенно неверно понимает природу человека, которая нуждалась, правда, для построения целостности в устранении препятствующих этому авторитетов, но в такой же степени и в твердой позиции разума. Оба условия дальнейшего познания природы были созданы в XVI в., когда автономия нравственного сознания была достигнута посредством пренебрегаемых Боклем теологических споров и оставленного им без внимания гуманистического движения. Скептицизм Монтеня был ограничен его позитивным построением независимого, не нуждающегося в теологической и метафизической догматике человека. Именно этой двоякой позицией он подготовил Декарта. Монтень
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 425
основывал свой скептицизм, отвергающий теологическую и^мета-физическую догматику, а также свое позитивное воззрение на моральную независимость человека на работах древних авторов, на публикуемых в эпоху Возрождения книгах о моральных философах, особенно о стоиках, и на всей гуманистической настроенности того времени, которая именно во второй половине XVI в. достигла своей кульминации. Однако только в себе и в характере своего народа он находил несокрушимую жизнерадостность и связь ясного рассудка с весельем сердца, характеризующего его как типичного француза. Если Рабле был в этом отношении его предшественником, то Монтень был более современен, более уравновешен в своих чувствах. Так возник взгляд на человека в его «Опытах».
Он согласен со стоиками в предпочтении сильной, мужественной и радостной настроенности сочувствию, которое он считает свойством женщин, детей и необразованной толпы. Согласен он со стоиками и в оценке раскаяния и в неприятии сожаления о прошлом, ибо оно обусловлено общей связью универсума. Его мораль отражает веселый, мягкий лик самой природы. Это предстает особенно возвышенно в его направленном против стоиков изречении о самоубийстве: «Уходите из мира, говорит нам природа, так же, как вы вступили в него. Тем же путем, которым вы идете из смерти в жизнь, без страсти и ужаса, следуйте обратно из жизни в смерть. Ваша смерть - часть порядка универсума, часть жизни мира» (I 19). Все живые существа обладают, как говорят уже стоики, чувством самосохранения (1 12). Существует общий закон мира; из элементов этого универсального разума формируется наша нравственная жизнь. Здесь вновь мысли стоиков, Сенеки, Цицерона. Но Монтеня отличает от них то, что он видит закон природы не в абстрактных положениях, кажущихся ему сомнительными, а в связи наших целей со всей природой и их регулировании ею. Мы стремимся к самосохранению и ищем радость; нравственность как в эпикурейском, так отчасти и в католическом понимании является дисциплинированием наших влечений, исходит из сознания связи природы и универсального закона. Монтень рассказывает, как он не позволяет страстям расти, а стремится регулировать их в самом начале, когда их еще можно подчинить; как он еще в молодости, руководствуясь разумом, противопоставлял любовной страсти противодействующие ей импульсы; как он сознательно наслаждался достигнутым умиротворением и пытался возвысить его; как он отстранял грустные представления. «Немногие вещи, - говорит он в духе своих любимых сократиков, — привлекают меня. То, что они нас трогают, хорошо, но они не должны властвовать над нами. Чувствам, которые уво
426 Человек в контексте культуры
дят меня от меня самого и приковывают к чему-то другому, сопротивляюсь всеми силами» (III 10, начало). Можно ценить здоровье, жену, детей, имущество, но надо иметь обитель для себя, где чувствуешь себя совершенно одиноким и свободным. Tranquillitas animi44*, свобода, пребывание в себе — все это стоические идеалы в свойственном Монтеню смягчении. «Счастье нашей жизни зависит от спокойствия и довольства правильно сформированного духа и стойкой воли в хорошо регулируемой душевной жизни».
Ответ на вопрос, откуда наш разум получает силу действовать как моральный закон, дан Монтенем не более отчетливо, чем в сказанном выше. Иногда он обращается для утверждения нравственного процесса к своему католицизму. Однако великий принцип нравственной независимости человека пронизывает все его творчество. Он последователь Сократа, стоиков, ученик тускулан-цев, Сенеки, Плутарха. Однако он и нечто большее. Концентрированное богатство материала, превосходящая сила самонаблюдения, рост индивидуального в духовной физиогномике, более тонкая модуляция душевной настроенности возвышают его над античными мыслителями. В своей душевной настроенности и отношении к жизни он - прототип Декарта и многими отдельными проявлениями воздействует на него.
|]
Гуманистическое движение в Италии охватывало города, дворы властителей и высшие сословия. Предпосылкой его беспрепятственного развития был характер папства при Александре VI, Юлии II и Льве X. И контрреформация доказала, что она не проникла в глубины нации. Медленно, осторожно охватывая народы в их последней глубине, возникало на севере Европы у германских народов реформационное движение; освободив их от римского священства, оно создало внешние условия для независимого научного движения; перемещение правовой основы догматов в сферу религиозной нравственности сделало возможным развитие критической теологии и в ходе своего развития превратило моральную и религиозную автономию личности в основу духовной жизни у нас.
В Германии, откуда шло это движение, шел процесс роста силы ее народа, ее богатства, промышленности и торговли. После того как Константинополь перестал служить отправным пунктом великих путей на север, торговля стала идти из Италии через ставшие теперь доступными альпийские проходы, затем через Германию к Северному и Балтийскому морям: теперь расцвели немецкие го
Вильгельм Дильтей. Постижение п исследование человека n XV и XVI веках 427
рода. Из рудников Гарца и Рудных гор было извлечено множество благородных металлов, которые еще в большей степени, чем поступления золота и серебра из Америки, вызвали революцию цен во втором десятилетии XVI в. К этому присоединялось то, что Макиавелли назвал в 1508 г. главной причиной растущего немецкого богатства, - относительно простые и легко удовлетворяемые обычаи. «Они ничего не строят, не придают значения одежде, ничего не тратят на вещи домашнего обихода; им достаточно иметь изобилие хлеба, мяса и натопленную комнату»10. Немецкий купец встречается теперь на всех рынках. Аугсбургские мировые фирмы имеют своих представителей во всех крупных городах. Возросшая сила народа устремлялась вовне, в колонизацию и на военную службу. Так в этом еще не централизованном народе, неспособном из-за противоположности между городами, рыцарями, князьями и императорами к единому политическому действию, образовались бесчисленные самостоятельные центры духовного развития, сложился избыток духовных сил; следствием растущей связи с Италией было знакомство с итальянским искусством и с гуманистической литературой.
Однако вся страна была покрыта сетью церковных владений с центром в Риме. В городах тех дней повсюду существуют прочные врата, рвы и укрепления, внутри же господствуют башни, порталы с высокими фронтонами и далеко простирающиеся строения соборов, церквей и монастырей. Духовная жизнь стесненных там людей была подчинена твердым церковным понятиям. Человек может избавиться от чувственных стремлений, греха, дьявола, вечных мук только посредством упорядоченной помощи церкви, посредством строго установленной системы таинств, исповеди, покаяния и добрых дел; даже после его смерти его близкие должны выполнять религиозный долг, чтобы вывести его из чистилища. В этой последовательности исповеди, таинств, отпущения грехов, жертвы и добрых дел нашел свое выражение весь глубокий смысл мистики и францисканского следования Христу. Научные понятия о природе были еще в известном созвучии с церковной дисциплиной. Действие природы складывалось для естествоиспытателя в конечном итоге из действия в ней духовных сил. Магические действия сил допускались и выдающимися представителями натурфилософии. Глубокой вере в молитву соответствовала в качестве темной стороны этого миропонимания вера в дьявола и*ведьм. Не было еще и методически обоснованной исторической критики всех церковных традиций. В народе внезапно возникали пароксизмы страха перед этими повсюду действующими потусторонними силами, в церквах кровоточили гостии, на небе появлялись окровавленные кресты и копья, города и деревни
428____________________________________Человек н контексте культуры
были переполнены бесчисленными паломниками, флагеллантами и пророками, совершающими чудеса изображениями Марии, и призывающими к покаянию проповедниками. Строительству новых церквей и часовен, а также их украшению не было предела. Все эти действия церковной системы были как железными скобами введены в устройство Германской империи.
Так произошло, что в германоязычных странах переходящее из одной европейской страны в другую духовное движение обрело религиозное выражение. И именно поэтому громадное растущее религиозное напряжение, давно существовавшее и все время увеличивавшееся в римской церкви, привело здесь к взрыву. Прогресс цивилизации, рост открытий, изобретений и промышленности действовали в XV в. совместно с номинализмом, который был могильщиком старой рациональной теологии. Теологическая метафизика средневековья распалась. Именно вследствие этого внутри церковной организации и у ее представителей усилилось отношение к догмату как к правопорядку и возросло значение и использование церковного аппарата, короче говоря, господство курии. Это внешнее давление на живые религиозные силы способствовало тому, что из подспудно тайно тлеющей сектантской веры вспыхнуло пламя гуситского движения. Церковная аристократия, в свою очередь, также, правда, тщетно, предприняла на трех больших соборах XV в. борьбу с господством курии, стремясь к реформе церкви, ее главы и членов. Если таким образом требование реформы было общим, то развивалось уже и ядро нового. В практической мистике центром религии и теологии стал внутренний процесс, посредством которого отдельный человек, борясь со своими аффектами и своими страданиями, достигает внутреннего мира. Начиная с Брадвардина и с XIV в. одновременно обратились к августинизму, с помощью которого надеялись вновь сделать более близким нуждающемуся в умиротворении сердцу человека метафизическое представление о Троице и вочеловечении. Это было временным паллиативом. Решающим же стало перемещение религиозного интереса из космической драмы в личностное отношение к Христу и Его страстям, к ощущаемому более близким и задушевным Богу-Отцу. Это находит свое выражение в картинах Беллини и Перуджино, Рогир ван дер Вейдена и Мемлинга, в плясках смерти и статуях XV — начала XVI в., а также в проповедях этого времени. Курия, правда, разумно старалась внешним образом использовать это смещение религиозного интереса, но внутренне удовлетворить его она не могла.
При этих обстоятельствах движение в германоязычных странах обратилось к религиозным и теологическим проблемам. Мы будем рассматривать движение Реформации, возникшее таким образом,
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках
429
не под углом зрения истории церкви и догматов, не станем следить за тем, как возникали новые церкви и менялся характер христианских догматов, а попытаемся понять это движение как важнейшее звено в сцеплении духовных процессов XVI в. Мы хотим постигнуть, как человечество пришло от метафизики средневековья к деянию XVII в., к обоснованию господства человека над природой, к автономии постигающего и действующего человека, к формированию естественной системы в области права и государства, искусства, морали и теологии. Здесь особенно важно, как в начале XVI в. во всей Европе победоносно поднялся религиозно-универсальный теизм, как он был подхвачен Лютером, воспринят в ряде пунктов Цвингли и развит сектами, прежде всего сектами реформированной церкви: с этими сектами и духом реформы находится, в большинстве случаев в ясно постигаемой исторической связи, развитие этой точки зрения в XVII в. Не менее важно и то, как в изменившемся положении общества возникает новый жизненный идеал, в соответствии с которым индивид чувствует свою внутреннюю самостоятельную ценность и радостно стремится к ее раскрытию в деятельности в конкретных условиях жизни; как Лютер и Цвингли создают в самой жизни церкви место и свободу для этого жизненного идеала, так и здесь новое лишь с трудом прорывается через традиционные представления. Мы хотим затем понять, как у людей времени Реформации в отличие от средневековых мыслителей и их теологической метафизики сложился новый способ утверждения и обоснования высших убеждений об отношении человека к Невидимому. Мы хотим постигнуть отношение этих идей к обществу на стадии его возникновения: отношение, которым около двух веков были обусловлены все изменения в европейском обществе. И последнее. Здесь и начало новой по своему характеру теологии', свободной от схоластических спекуляций, основанной на познаваемом, на пережитом религиозном процессе и на христианской литературе. Ибо вплоть до наших дней эта новая теология основывалась на внутреннем опыте и на критической истории христианства. Благодаря ей лишь постепенно было достигнуто понимание, принимающее во внимание все инстанции нравственной автономии человека.
Эразм, этот Вольтер XVI в., в течение одного поколения господствовал над духовной жизнью людей и возглавлял антицерковное Движение.хС самого рождения он страдал от угнетения монахов, в монастыре он основательно познакомился с ними и стал их ненавидеть. Он обратился к восходящему солнцу гуманистической науки и, занимаясь ей, вскоре почувствовал, что рожден быть писателем. Эразм пользовался всеми жанрами, поэзией и прозой, диалогом, научным исследованием и письмами, всегда бегло, оста
430 Человек в контексте культуры
ваясь импровизатором; однако каждое из его произведений преисполнено тем, в чем нуждается время. В его применении новой латыни гуманистов без всякой педантичности, с несравненным чувством, этот язык всего мира стал выражать все идеи и настроения времени. В произведениях Эразма звучало все противоречивое, свойственное этому времени: склонность сильного мужественного поколения к грубым шуткам, связанным с чувственностью, радость от восхода солнца наук, ненависть независимого духа к церкви, но при этом серьезное проникновение в теологические проблемы: Эразм был подобен демону о ста ликах с совершенно различными выражениями и мимикой; именно поэтому к нему были прикованы, вопрошая, сомневаясь, очарованно, взоры современников. Неизмеримая его заслуга состояла в выступлении за религиозную терпимость; основное требование этого хрупкого, маленького, болезненного человека с полузакрытыми, голубыми, наблюдающими глазами состояла в том, чтобы признавать слово единственным оружием в религиозном споре. В политике он защищал либеральные идеи своего времени. Однако философское и универсальное свойство его натуры заключалось в том, что он все подчинял проверке мышлением. Радость уверенного в своей суверенности интеллекта пронизывает, отражаясь в озорной шутке и в научной критике, его личность. Высшее свое выражение его чувство жизни получает в его самом гениальном и оказавшем наибольшее воздействие произведении «Похвала глупости». В нем Эразм, поднимаясь над своими предшественниками, достигает подлинного юмора. Он изображает ту сторону жизни, в которой легко можно обнаружить изрядную долю глупости, любовь, продолжение рода, героизм, без которых, однако, в этом мире не было бы и не могло бы существовать что-либо разумное. И он показывает это в подлинно юмористическом выражении. Госпожа Глупость держит речь, прославляющую ее самое, и все ее слушатели также глупцы. Все слабости времени, в частности церкви и наук, привлекаются в беспримерной смелости к суду рассудка и юмора. Эта работа высказывает то поверхностно, то глубокомысленно чувство двойственности жизни. Настроение, которое так же, как настроение Петрарки, еще ни у одного из авторов Нового времени не нашло равного выражения. Правда, учителем Эразма был Лукиан. Как очаровательны некоторые шутки в беседах: достаточно прочесть диалог юноши с девушкой, которая хочет уйти в монастырь. Но и для этого Вольтера XVI в. центром его критических размышлений была великая проблема его времени, истинное христианство. Он хотел постигнуть чистое Евангелие. Эту задачу он осуществил в своем важнейшем научном труде, в издании Нового Завета; за этим, вслед за Лоренцо Валлой, последо
Вильгельм ;(ильтей. Постижение и исследование человека н XV и XVI веках 431
вали историко-критические аннотации к Новому Завету и парафразы к Посланиям и Евангелиям от Матфея и Иоанна, а также его работы в области патристики: начало патрологии. С помощью всех этих вспомогательных научных средств он пытался проникнуть в «философию Христа». Душа, говорит он в «Кинжале христианского воина» (Enchiridion), помня о своем небесном происхождении, борется с земной материальностью. И опорой ей служит вера, состоящая в том, что душа видит свою цель в Христе. «Christum vero esse puta non vocem inanem, sed nihil aliud quam charitatem, simplicitatem, patientiam, puritatem breviter quidquid die docuib>n^\ И эта простая философия Христа совпадает, как он считает, с философией Цицерона, Сенеки и Платона. Они также писали под влиянием божественного вдохновения. Цицерон был вдохновлен Божеством. Так, уже Эразм высказывает мнение об откровении, или вдохновенном внушении благороднейшим римлянам и грекам. Вместе с тем он также остро ощущал, сколько загадочного содержится в библейских книгах, и понимал, что Ветхий Завет не свободен от предосудительного. В таких случаях он обращается к доступному средству - видеть как в мифологических сказаниях греков, так и в священных книгах аллегории. Если бы ему пришлось понимать «Книги судей» или Книги царств буквально, он вынужден был бы предпочесть им Ливия. Для него аллегориями являются не только такие рассказы, как грехопадение с его яблоком и змием. Даже в раннехристианских представлениях он обнаруживает элемент символического.
«Nec alia est flam ma, in qua cruciatur dives ille commissator evangelicus; nec alia supplicia inferorum... quam perpetua mentis anxietas, quae peccandi consuetudinem comitatur»46*.
Разработкой новой, основанной на источниках самого христианства теологии занимался наряду с Эразмом Рейхлин, не крупный писатель, но сосредоточенно работающий ученый. Особое значение имели его «Rudimenta hebraica», которые дали первое полное научное построение древнееврейского языка. «До меня не было никого, кто бы решился написать книгу о правилах древнееврейского языка, и пусть у завистника разорвется сердце, я остаюсь первым. Exegi monumentum aere perennius»12 47*. Во многих местах своего труда он указывал на грубые ошибки в Вульгате.
Однако находящиеся под влиянием Италии немецкие гуманисты вышли далеко за границы публичных высказываний Эразма.
Уже Эразм и Рейхлин испытывали сильное влияние религиозно-универсалистского теизма итальянских гуманистов. Под этим я понимаю убеждение, согласно которому Божество одинаково действовало и еще сегодня действует в различных религиях и философиях. Оно находит свое выражение в морально-религиозном
432 Человек в контексте культуры сознании каждого благородного человека. Утверждение, предпосылкой которого служит идея универсального действия Божества во всей природе и в сознании всех людей. Оно должно быть связано с пантеистическим или же с панентеистическим пониманием мирового устройства, которое было в то время, наряду с номиналистским воззрением, очень распространено и опиралось на платонизм, стоицизм и христианскую мистику.
Этот религиозно-универсалистский теизм возник из сравнения глубокомысленными средневековыми наблюдателями религиозно-нравственного образа жизни в различных религиях, тем самым, из самой жизни и ее непосредственного изучения. Основные линии его были уже проведены в образованном кругу Фридриха II Штауфена. Боккаччо и другие итальянские новеллисты видели в Саладине идеал гордости, достоинства и благородства. В рассказе о трех кольцах выражен этот религиозно нейтральный теизм. В эпической поэзии итальянцев, восхваляющей борьбу между христианами и мусульманами, авторы часто вкладывали в уста мусульман или демонов внехристианской области то, что они сами высказать не смели. Так, Пульчи предоставляет демону Астароту высказывать соображения об относительной ценности религий. Та же точка зрения выводилась в течение XV в. из гуманистического изучения классиков. Этому содействовали почтение к моральной высоте древних, усвоение их развившегося со времен стоиков универсалистского теизма. Ведь работы Цицерона и Сенеки, в которых была выражена эта высшая, достигнутая в древности точка зрения, постоянно изучались гуманистами и связанными с ними образованными итальянцами. Георгий Гемист Плифон, принимавший участие в соборе середины XV в. в Ферраре и Флоренции, очень значительная личность в историко-религиозном отношении. Скрытой целью его жизни было обоснование религиозно-универсалистского теизма в качестве новой, отличной от христианства религии. Материал дал ему Платон, имена богов и божественных сил он взял из родной древнегреческой мифологии, игнорируя христианские обозначения, - настолько строго он отделял эту новую веру от христианской13. Этот принятый в Платоновской академии Флоренции с многочисленными приближениями к христианству религиозно-универсалистский теизм нашел свое полное выражение в гимнах Lorenzo Magnifico4*’.
Их влияние ощущается в поэзии Микеланджело. По мнению Якоба Буркхардта, теизм был широко распространен в кругах образованных итальянцев тех дней. Его принимала историческая критика новой школы. Лоренцо Валла опроверг подлинность письма Абгара Христу, формулировку апостольского символа все-
Вилы елыч Дильтей. Понижение и исследование человека в XV и XVI веках 433
ми апостолами, считал Моисея и евангелистов просто историками и окончательно уничтожил басню о Константиновом даре. В ходе расследования 1498 г. дела одного болонского врача инквизиция установила, что он считал зачатие Христа естественным, а приговор к Его распятию справедливым14.
Такое соединение универсалистского теизма с философской, иногда очень радикальной, критикой источников христианства мы обнаруживаем и в кругах эрфуртских гуманистов. Здесь та же пламенная ненависть к монахам, церковной дисциплине и схоластической метафизике, как та, которая воодушевляла итальянцев и Эразма, и неустойчивые моральные понятия, с неизбежностью возникшие из воспринятой, а затем отвергнутой монашеской морали.
Духовной главой этого направления был эрфуртский каноник Конрад Мут (Mutianus Rufus). Он рано отправился в Италию; там он воспринял религиозно-универсалистский теизм в его особой неоплатонической форме у Пико и Марсилио Фичино; его сильное влияние испытали другие выдающиеся немецкие теологи, в том числе Рейхлин и Цвингли. Вернувшись, Муциан Руф сидел в своем доме за собором в Готе, занимаясь мирной литературной деятельностью. Над входом была надпись: «Beata tranquillitas»49*. Внутри другая надпись призывала входящих к самоконтролю: «Bonis cuncta pateant»50". Когда однажды в его любимую библиотеку одновременно поступило несколько прекрасных изданий древних авторов, он расплакался от радости. Так же как он отказывался от всех предложений заняться публичной деятельностью, он не стал ничего публиковать. Однако благодаря напоминающему Глейма радушию и полной глубины оживленной переписке эта импонирующая личность оказывала большое влияние на Эрфуртский университет, а также за его пределами. Сегодня мы узнаем о его воззрениях только из этих писем. В этом скромном мыслителе великое универсалистское учение итальянских неоплатоников о незримом Логосе в качестве носителя всех откровений и философий человечества соединяется с растущей филологической критикой, распространяющейся теперь на раннехристианские источники. В знаменитом письме Спалатину он решает вопросы, связанные с догматическим представлением о длительной тьме языческого мира до явления Христа15, посредством учения об общем откровении, т.е. божественного одухотворения всего человечества. Истинный Христос невидим и присутствует во все времена и повсюду; божественная мудрость, она существовала не только у иудеев в уголке Сирии, а повсюду и во все времена, у греков, римлян и германцев. Мут мыслит распространение божественной мудрости за пределы теистских религий и философий культурных народов, присутствие ее даже в мифологии. Своему близкому другу,
434 Человек в контексте культуры
цистерцианскому священнику Генриху Урбану, он доверяет как последний вывод следующее учение. «Есть один Бог и одна богиня. Но сколько их образов, столько и имен: Юпитер, Соль, Аполлон, Моисей, Христос, Луна, Церера, Прозерпина, Теллус, Мария. Но будь осторожен, не болтай об этом. Оно должно быть окутано молчанием, как мистерии Элевсинских богинь. В вопросах религии следует пользоваться покровом легенд и загадок. Презри молча с разрешения Юпитера, лучшего и величайшего Бога, мелких богов. Когда я говорю — Юпитер, я имею в виду Христа и истинного Бога»16. Из этого религиозно-универсалистского теизма он, как и почитаемый им Цицерон, выводил существование естественного нравственного закона, введенного высшим учителем в наши души. При этом он отвергал всю церковную нравственную дисциплину, нищенствующих монахов, посты, исповедь, панихиды. А о Священном Писании он подчас высказывал мнения, намекающие на весьма смелые критические гипотезы.
Когда же в Кёльне началась, а затем в Риме продолжилась грустная комедия процесса против Рейхлина, внезапно обнаружилось, что в Германии существует общественное мнение, защищающее новую «истинную теологию». В «Письмах знаменитых людей» (1514, 1519) совершен смотр сторонников Рейхлина, а в «Письмах темных людей» (1515—1517) объектом популярного сатирического изображения стала партия обскурантов, изображения, которое соответствовало духу немцев XVI в., смело и здраво объявившего войну всему отжившему. Здесь в резких чертах и в ряде непристойных ситуаций показан немецкий теологический Дон Кихот XVI в., грубо чувственный, ограниченный, ленивый, невежественный, бестолковый поп, тщетно противодействующий веяниям Нового времени. Здесь еще до Лютера идет борьба с индульгенциями. И в немногих словах, но очень выразительно, характеризуется новая подлинная теология, представителями которой являются Эразм и Рейхлин. Эта теология возвращается к первоисточникам на языке оригинала, делает вновь доступными отцов церкви и упрощает готическую витиеватую теологию и церковную дисциплину, утверждая по Евангелию: кто правильно действует, будет блажен.
В связи с этим религиозно-универсалистским теизмом в германоязычных странах возник новый религиозный жизненный идеал.
В Италии христианский аскетический жизненный идеал уступил место естественно развивающейся, по своим задаткам совершенной личности. Здесь в XV в. возникло понятие uomo universale51'. Оно проступает в автобиографии Леона Баттисты Альберти, в ярких чертах личности Леонардо да Винчи. «Человек создан, — говорит Леон Баттиста Альберти, — для деятельно
Вильгельм Днльтей. Постижение и исследование человека в XV и XVT веках
435
сти, такова его цель, приносить пользу его назначение». Эти люди полностью зависят от самих себя и стремятся придать свободную завершенность природной сущности17. Близкий этому идеал рисует Рабле в описании монастырского товарищества в «Гаргантюа». «Еп leur reigle nestoit que ceste clause: Fay ce que vouldras. Parce que gens liberes, bien nayz, ben instruictz, conversans en compeignies honnestes, ont par nature ung instinct et aguillon qui tousjours les poulse A faictz vertueux, et retire de vice: lequel ilz nommoyent honneur»™*2*.
В Англии Томас Mop в своей идеальной картине общества, в «Утопии» (1516), также указал на то, что основные положения религии, бессмертие и вера в Бога, должны быть основаны на разуме и служить условиями счастья и совместной жизни людей: законы природы суть и законы Того, кто дарует веру в Христа; истинная религиозность состоит не в следовании требованиям религии, а в добросовестном выполнении повседневных обязанностей.
И в Германии, там, где гуманизм оказывает свое воздействие, в жизнь значительных сильных личностей вступает возросшее сознание их самости, развившееся повсюду под влиянием морального величия древних. Уже в середине XV в. Григорий Хеймбургский, «самый ученый и красноречивый из немцев», как сказал его учитель Эней Сильвий, ощутил в своей оказавшей большое влияние деятельности близость древним авторам вследствие присущего им чувства жизни и жизненного идеала. Они усилили его непосредственную радость от деятельности в миру. Господству римской церкви он противопоставлял независимость человека в вере. «Nam compulsis et invitis nihil vel modicum prodest Tides et quaecunque exhibitio fidei. Constat enim coactaservitia Deo non placere»1953*.
Его воодушевляет образ мышления мужественных римских авторов. Одновременно это же находит свое выражение в послании Сигизмунда Австрийского, направленном против Пия II: он ссылается на ius naturae quod nemo nobis prohibere potest nec a nobis auferre, quia naturanobis instinxit et nobiscum nata est2054*. В качестве таких же людей предстали перед современниками в эпоху Реформации рыцарь Гуттен и городской патриций Виллибальд Пирк-хеймер. Гуттен — первый немец, который с античным самоощущением едва ли не навязывал свою личность обществу на каждом повороте своего существования; Ниркхеймер выглядит на портрете Дюрера преисполненным чувством собственного достоинства статным рослым человеком с выразительным лицом. У древних он, как Эней Сильвий и Григорий Хеймбургский, научился прежде всего радоваться жизни и деятельности, здоровому ощущению своей личности. Итальянский идеал универсального человека воплощен здесь в чисто немецкой натуре и в жизни бюрге
436
Человек в контексте культуры
ра имперского города. У него мы также обнаруживаем в качестве ядра всех соединяющих личность убеждений учение римских стоиков и их мужественное жизненное чувство. Так, он пишет своей сестре Харитас: «Блага истинной добродетели значительно прекраснее всех преходящих титулов и почестей; они вырезаны не на мраморе и бронзе, а на памятниках вечной славы и превосходят все богатства, почести и знатное происхождение, и к тому же они прочнее, подлиннее и постояннее, чем все внешние, преходящие достоинства. Ибо они могут не только уверенно и надежно привести людей, носящихся по волнам этого мира, в гавань высшего блаженства и бессмертия, но и устранить все неприятности, несчастья и страдания. А поэтому стоические философы разумно и мудро утверждали, что живем мы благодаря природе, но живем серьезно и правильно благодаря философии. И это неудивительно, ибо человеку не дано Богом ничего более высокого и прекрасного, чем философия». И в другой раз: «Поэтому, обладая философией, мы должны быть готовы и вооружены радостно и смело выносить все неприятности». Хваля подагру, он говорит: «Надо быть бесстрашным и ничего не бояться, презирать все низкое и стремиться к возвышенному и великому, переносить во славу добродетели также грубое и тяжкое, непоколебимо держаться принятого намерения». В увещевании учеников младенцем Христом сказано:
Gang nicht mufiig, arbeit hier auf Erden, So magstu reich und selig werden55*.
И если наши мышление и литература сохраняют твердые черты немецкого характера и христианскую непоколебимость, то античное сознание придает личности, ее природной силе новую форму. Деятельность, преисполненная чувством общности, особенно в городах, обнаруживает себя у древних авторов. Так непосредственно, в наивном согласии жили в дружбе с афинянами и римлянами флорентийцы предшествующего великого времени, это повторилось у бюргеров Нюрнберга и других имперских городов, в советах имперских правительств, у знатных властителей и популярных писателей. Так именно в период до выступления Лютера выражается в противостоянии церковной дисциплине и аскетизму спокойная непоколебимая уверенность в себе смело действующего человека и его естественное отношение к Богу и к литературе.
Выдающимся представителем поднимающегося бюргерства в поколении до Лютера был Себастьян Брант. В своем «Корабле дураков», напечатанном в 1494 г., он говорит:
Вилы ельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 437
Schau den Duckmauser!..
Wir wollen ja doch auch erwerben, DaB tins Gott lafit in Gnaden stcrben, Wie er, obglcich er Tag und Nacht Liegt auf den Knien, betel und wacht; Er will nur fasten und Zellen bauen, Wagt weder Gott noch der Welt z.u trauen! Gott hat uns durum nicht geschaffen, Daft wir Monche werden оder Pfaffen, Und zumal, daB wir uns sollten entschlagen Der Welt!...
Esist Gottcs Willeund Mcinungnicht, DaB man der Welt so tue Verzicht Und auf sich ganz allein hab aeht$6‘.
В своей сатире на понтификат Юлия II Гуттен еще до выступления Лютера писал: боритесь с «ослеплением будто такой бандит, как Юлий может владеть ключами от Царства Небесного». «Как? Человеческий дух, искра божественного света, часть самого Бога может быть настолько ослеплен обманом?»
Mut, landsleute, gefaBt! Ermannen wir uns zu dem Glauben, DaB wir dasgottliche Reich durch redliches Leben erwerben; DaB nur eigencs Tun, und nimmer der heiligste Vater Heilig uns macht2157*.
В отличие от старых изображений плясок смерти, показывавших человека под властью темных сил, Дюрер в 1513 г. на вершине жизни выразил в картине «Рыцарь, смерть и дьявол» с такой силой, как ни один художник его времени, победоносную мощь человека. В святом Иерониме он представил гуманистическое мудрое миролюбие Эразма. О своем отце Лютер пишет в дневнике: он прилагал большие усилия, чтобы воспитывать своих детей в почитании Бога; его высшим желанием было укоренить в них чувство повиновения, чтобы они были приятны Богу и людям. Поэтому он ежедневно увещевал нас любить Бога и быть справедливыми к ближнему своему22. Как ярко выражена великая душа Дюрера, посвятившего себя просто содержащейся в Библии высшей связи вещей, в том месте его дневника, где он пишет о распространившемся в 1521 г. ложном слухе об аресте Лютера. Он обращается к Эразму, надеясь, что тот возглавит движение Реформации. «Внемли мне, ты, рыцарь Христов! Выступи под защитой Господа нашего Иисуса, защити истину, обрети венец мученика!
438 Человек в контексте кулыуры
Ведь ты уже стар. Я слышал, что ты и сам давал себе только два года, чтобы совершить еще что-нибудь».
Памфилий Генгенбах в стихотворении 1514 г. «Der alt EidgenoB» рисует швейцарцам свой идеал в изображении прежнего поколения.
Waren from biderb Lent,
Viel, Berg und Tai hand sie gereut, DeB taten sie sich nahren.
Kein Untreu, Hoftahrt war in ihnen Und dienten Gott dem Herm. Briiderliche Oreu war unter ihn’, In ganzer Einfalt zogen’s hin Und hatten Gott im Herzen58’.
Стихотворение против «пожирателей мертвых», т.е. священников, живущих на доходы от панихид, написано, вероятно, после лютеровской sermo de poenitentia59’.
Духовные лица, от папы до церковного служки, наслаждаются счастливой жизнью на доходы от панихид, а души умерших скорбят. Так, крестьянин говорит:
Von minen Eltern hab ich ghort, wersich siner handarbcit nert. der sei selig und werd ihm wol60’.
Люди, обладавшие такой жизнерадостной, бесхитростной набожностью, были, конечно, увлечены борьбой Лютера против Рима. Однако когда в споре с Эразмом было высказано учение о грехе и оправдании, произошло разделение. На одних действовало влияние могучей личности Лютера, других он оттолкнул. Сестра Пиркхеймера Харитас считает невыносимым, как она пишет в своем дневнике, что «человек не обладает свободной волей», «что Бог хочет без всякого участия человека считать его спасенным или погибшим»23, и Пиркхеймер был с ней согласен24. Особенно ясно определяет свое отношение к этому вопросу Теобальд Тамер: «Нечто верно не потому, что так сказано в Библии, а в Библии оно сказано потому, что это верно: Библия не может противоречить истине, открывающейся в совести и в творениях, она ее предполагает»75.
Таким образом еще до Лютера под действием гуманизма распространился универсалистский теизм. Каждый, кто, освободившись от средневековой теологической метафизики, читал Цицерона или Сенеку, утверждался в теизме. Этой точке зрения соответствовал жизненный идеал развития природных задатков и радостной дея-
Bif.Ti»re.7i»M Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 439 тельности в миру. В том же направлении действовал переход от периода воинственного феодализма к периоду изменившегося оружия и изменившегося способа ведения войны, подчинения заносчивой знати князьям и развития промышленности и торговли в городах: в Европе происходил рост деятельной духовной энергии. В Германии считали, что этот универсалистский теизм и идеал активной жизни соответствуют подлинной теологии, философии Христа, которую надеялись выявить посредством критического изучения источников христианства. Эта здоровая, честная, правдивая, жизнерадостная набожность, пребывавшая в мужественном единстве научного мышления и глубокой веры, подчинила у нас приходящие в упадок средневековые порядки, особенно гетерономное регулирование церковью нравственно-религиозного процесса, основанной на здравом рассудке критике. Упростить религиозно-нравственный процесс в человеке и сделать его независимым от аппарата церкви — такова была повсюду у нас проявляющаяся потребность. И так как впоследствии французской аристократии под защитой Фридриха, Екатерины и Иосифа удалось достигнуть господства в литературе той философии, которая затем, начиная с Французской революции, привела к сотрясению тронов, представленные здесь идеи пользовались в XV и в начале XVI в. поддержкой или, во всяком случае, молчаливой толерантностью пап, кардиналов и епископов, которым позже эти идеи стали угрожать.
Пришел Лютер.
В истории человечества существует не только континуум прогрессирующей науки, но и континуум религиозно-морального развития. Как человек, прогрессируя, живет в рамках своего жизненного опыта, так и человеческий род. И важные изменения в нравственной жизни всегда находятся в связи с изменениями в религиозной жизни. В истории нам нигде не встречается идеал нерелигиозной морали. Новые активные силы воли всегда, насколько нам известно, формируются в связи с идеями о Невидимом. Однако плодотворное новое в этой области возникает в исторической связи на основе религиозности уходящей эпохи, как каждое состояние жизни происходит из предшествующего. Ибо лишь когда у подлинно религиозного человека возникает в данном союзе из его глубочайшего нравственного переживания неудовлетворенность на основе изменившегося сознания, даны импульс и направление для нового. Так произошло и с Лютером. Он хотел реформировать католицизм, хотел возродить Евангелие. Сегодня, зная раннее христианство, мы видим, что в моральном понятии Лютера и его сторонников о человеке сделан решающий дальнейший шаг на пути религиозно-нравственного развития, ко
440 Человек в контексте культуры
торый выводит за пределы раннего христианства. Задача состоит в том, чтобы вычленить это новое из его идей, обусловленных и обремененных традицией, и высказать это.
В Лютере концентрировались все мотивы оппозиции. У него проявился особый дар чувствовать потребности времени и объединять его живые мысли. Вместе с тем в его религиозном гении присутствовала одинокая и односторонняя сила, которая как бы посредством высшей, чуждой его современникам власти увлекала их за собой или заставляла их пройти определенный отрезок ее пути. Лютер был рожден для деятельности и господства. В его личности было нечто диктаторское, суверенное. Его инвективы, бичующие герцога Георга, апостола дьявола, английского короля, шута, послание которого против протестантизма он сравнил с руганью разгневанной публичной девки, его необузданный юмор в ответ на буллу святейшего отца, папы, выражают ощущение своей силы бесстрашным человеком. Меланхтона, высказывавшего свои опасения, он утешает следующим образом: что еще может сделать дьявол, разве что только уничтожить его. Уже в 1516 г. мы видим этого монаха-августинца занятым бесчисленными делами: только для писем ему нужны были два писца. Его демонические глаза, которые уже в юношеском возрасте казались папскому легату Каэтану столь зловещими, проницали всю действительность немецкого мира. А его смелая энергия, его пон имание действительности, его господство над ней основывались на постоянно сознаваемой им связи с невидимым миром. Следуем ли мы стоикам или Лютеру, Канту или Карлейлю — это единственная основа героических действий, и бесчисленные Вольтеры достигли бы только подчинения умников господству грубой силы. Лютеру при всей бьющей ключом созидающей способности и богатстве гениальной натуры была дана простая душа. В его вере присутствует то свойственное волевым людям, что идет от человека к человеку. Благодаря своей простой и при этом столь богатой натуре он уменьшил церковный беспорядок, охватил в вере всю целостность человека, оторвал нацию от Рима и остался большей ее части понятным и близким даже тогда, когда все сильнее стала проступать жесткая односторонность его понимания религиозно-нравственного процесса. Он господствовал над людьми своего времени, потому что они видели в нем свою потенцированную сущность. В борьбе не на жизнь, а на смерть он в качестве освободителя личной религиозности от управления римского священства привлек на свою сторону лучших людей своего времени. Лютер, сжигающий папскую буллу, Лютер в Вормсе, в Вартбурге — этого Лютера нация будет любить и тогда, когда его личное выражение религиозности, дававшее ему героическую волю для всех его дел, давно уступит место другим фор
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 441
м<ш веры. А рядом с ним Цвингли на кафедре цюрихского собора и на поле сражения на Каппельской равнине.
Здесь, следовательно, должно быть сказано, что соединяет Лютера с предшествующей ему немецкой мистикой и с нашим последующим трансцендентальным идеализмом и благодаря чему он был для современников тем, кто восстановил общество на глубокой религиозно-моральной основе. Это содержится в трех больших работах 1520 г.: «О свободе христианина», «Проповедь о добрых делах», «К христианскому дворянству немецкой нации». Однако эти религиозно-нравственные стороны Лютера должны быть в данных работах выделены, ибо они смешаны здесь с компонентами более жесткими и грубыми, с традиционным догматом и с учением о грехе и оправдании. Об этих компонентах прежде всего пойдет речь.
Одним из законов истории религии является то, что вера людей обладает прочной жизненностью и способностью к развитию только в историческом континууме и религиозном сообществе. Образующая церковь сила Лютера заключалась именно в том, что его реформа следовала этому закону. Если первый из эдиктов кодекса Юстиниана, следствием которого были решения всех устанавливающих догматы соборов вплоть до Никейского, еще во времена Лютера служил основой публичного права, то Лютер исходил из этого права, и даже внутренне более свободный Цвингли также стоял в Марбургском диспуте на этой почве. Хребтом средневековой церкви был августинизм. Преобразование его, совершенное августинским монахом, из потребности глубины, независимости и непоколебимости веры, изменило форму и обоснование установленных в Никее догматов посредством замены в учении способов спасения. Оправдание средневекового человека было объективным, нисходящим из трансцендентного мира как следствие вочеловечения через каналы церковных институтов, освящения, таинства исповеди на верующего потоком сил, сверхчувственным управляемым процессом. Оправдание верой, которое пережил Лютер, было личным опытом верующего, пребывающего в континууме христианского сообщества, ощутившего в личностном процессе веры уверенность в милости Божьей вследствие приобщения к деянию Христа благодаря своей избранности. Если из-за этого должно было произойти изменение установки сознания по отношению к догмату и в обосновании веры в него, то оно не затрагивало материю раннехристианского догмата.
Содержание лютеровской веры, насколько оно допускает расчленение на понятия греха и милосердия, оправдания и примирения вследствие жертвенной смерти Христа, на таинства и связь верующих церковью, в последнее время после появления значительной
442 Человек в кои тексте культуры
книги Ричля рассмотрено глубже, и поэтому теперь для понимания этих вопросов можно отсылать к новейшим исследованиям, в первую очередь — к мастерски выполненному исследованию Гарнака26. Не подлежит сомнению, что у Лютера, как и у Цвингли, энергия морального суждения, уверенность в связи человека через его совесть с Высшим Судией, радостная уверенность в том, что оправданный Им человек может действовать в мире как Его орудие, получили более глубокое выражение, чем когда-либо раньше. Именно это единое с великой традицией церкви содержание веры давачо реформаторам героическую силу, способную сбросить аппарат и дисциплину церкви и преобразовать ее. Однако вместе с тем остается неизменным то, что эта связь религиозных понятий не есть конец догмата, не есть «конец старого догматического христианства» (если только не понимать под этим связанную с научным доказательством систему), но всегда исходит из него как из своей необходимой предпосылки. Связь религиозных понятий держится и падает вместе с догматом. Даже религиозный идеал францисканского монашества следует рассматривать как предпосылку учения о грехе и неспособности к добру27. В той мере, в какой учение о первородном грехе освобождалось от этой дуалистически мотивированной основы, ему приходилось обращаться к совершенно несостоятельным данным о человеческой природе. И Лютер в своем учении о Христе и данном Им оправдании рассматривает, правда, «дело, которое Он взял на себя», как ядро догмата в отличие от метафизических определений Его сущности. Однако именно этим понятие жертвы, эта наиболее сложная для нравственного чувства часть всего догмата, еще решительнее выдвигается на первый план. Ограничение временного и вечного блаженства теми, кто оправдан и примирен верой посредством жертвенной смерти Христа, догмат, сильнее и страшнее затрагивающий чувство человека, чем любое метафизическое положение, более односторонне, чем когда-либо, удерживается Лютером. И необходимой догматически-метафизической предпосылкой всего этого учения служит свободная от греховной связи со всем человечеством природа Христа. И наконец, учение Лютера о Тайной вечери сохранило всю метафизическую догматику Богочелове-чества. Правда, все эти догматические предпосылки поставлены на службу властвующего над душой доверия веры; тем самым они становятся частями единственного живого опыта и изымаются из рефлексии разума. Однако они продолжают существовать; само учение об оправдании верой существует, пока сохраняют свою значимость эти ее догматические предпосылки.
Теперь обратимся к тому новому в учениях Лютера и Цвингли, которое выходит за пределы их близости учениям апостола Павла
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 443 и Августина; мы попытаемся постигнуть внутреннее продвижение формирования и обоснования наших высших убеждений.
Греческое христианство осталось в образности созерцательного мышления. Его интеллигибельный, трансцендентный космос был подобием данного в созерцании космоса. Его трансцендентность нигде не выходила за пределы созерцательного мышления. Оно жило в сверхчувственных событиях Троицы, в вечном рождении и мире божественных сил. Римское христианство было господством. Римский дух мог мыслить религиозный процесс только связанным с новой духовной империей. Высшая жизнь проистекала на христиан от Бога только в регулируемом этим божественным государством порядке и дисциплине. Fides implicita была послушанием подданных. Лишь у северных народов религиозный процесс вступает в сферу невидимости. Он становится полностью отличным от процессов созерцательного мышления, действующих в формулах и доказательствах греческой догматики, и освобождается от внешнего аппарата средств, дисциплины и дел, требующих послушания духовной империи, созданной римским духом господства. В преобразованном Лютером учении полностью завершается глубочайшее движение средневековья, христианство францисканцев и мистика, и одновременно положено начало современного идеализма. В францисканском и мистическом движении произошло полное освобождение религиозного процесса от эгоистического интереса человека. Эта глубоко истинная, хотя содержащая только одну сторону религиозно-нравственного процесса, душевная настроенность должна была быть доведена до ее последних выводов. Только Лютер, сын рудокопа, житель северных гор, монах в тумане, снегу и безобразности природы, в душе которого не было даже искры искусства, без большой потребности в науке, окруженный лишь невидимостью всего высшего, безббразностью высших сил и их отношений, только он полностью освободил религиозный процесс от образности догматического мышления и внешнего господства церкви.
Первое для него - жизнь. Из жизни, из данного в ней нравственно-религиозного опыта происходит все его знание о нашем отношении к Невидимому и остается связанным с ней. Так интеллектуальная связь космоса, которая соединяет разумные существа с мировым разумом, отступает перед моральной связью.
И даже ясли Лютер относился отрицательно к религиозно-универсалистскому теизму вследствие своих номиналистских предпосылок, тем решительнее он принимал в своем прогрессивном движении жизненный идеал времени: этот идеал повсюду его окружает, и он принимает его в высшем смысле: внутренний процесс веры находит свое выражение и сферу своего действия в форми
444 Человек п контексте культуры
ровании всего внешнего устройства общества. Как ослаб для него позже этот идеал!
Исходя из этой позиции, он в октябре 1520 г. публикует написанный по-немецки и по-латыни трактат «О свободе христианина», в котором развивает идею о сумме христианской жизни, т.е. о религиозно-моральном процессе, таком, каким он составлял тогда христианство Лютера. В религиозно-моральном процессе, центре своей душевной жизни, человек свободен. Со стоической энергией Лютер говорит о пленности плоти, о болезни и страдании: «Ничто из этого не затрагивает душу, не может ее освободить или взять в плен». И с идеализмом, напоминающим Карлейля или Фихте, он выражает полное безразличие к священным одеяниям, святым местам, святым вещам2*. Религиозный процесс в своей основе нечто невидимое, совершенно недоступное рассудку: вера®. Присутствие Божьего слова в душе верующего - нерасчленяемый опыт, признаком которого является доверие Богу. «Только слово и вера господствуют в душе. Каково слово, таковой становится и душа: так же, как железо становится ярко-красным, подобно огню, в соединении с огнем»30. Этот самый деятельный, наиболее мощно владеющий языком писатель нашего народа таил в себе также поэта. С неповторимой силой глубины переживания и задушевной поэзии облекает он свой христианский опыт в символы. «Разве это не радостное событие, когда богатый, благородный, благочестивый жених Христос вступает в брак с бедной, презираемой, грешной душой?»31. «Кто может измыслить честь и величие христианина? Благодаря своему царству он владеет всеми вещами, благодаря своему священству он владеет Богом»32. В этом процессе содержится прежде всего то трудное отношение первородного греха к оправданию верой перед Богом посредством крови Христовой, которое Лютер нашел у апостола Павла и в августинизме и подчинил своей основной идее о величии верующего человека. Однако в нем присутствует также и более глубокое исконное понятие о формировании души по образу Бога, идущее из Евангелий и мистики33. Из этого складывается отношение между верой и делами. «Также, как деревья должны предшествовать плодам, и плоды не делают деревья ни хорошими, ни дурными, а таковыми делают их деревья, и человек должен сначала быть благочестивым или дурным, прежде чем он совершает добрые или дурные дела»34. «Так из веры проистекает любовь и стремление к Богу, а из любви — свободная, послушная, радостная жизнь, готовность служить ближнему, не ожидая ответного даре!»35.
Следующий вывод из этого учения о совершенно невидимом и внутреннем процессе веры есть полная свобода христианина и всеобщее священство. Это не только внешняя свобода от церковной
Вильгельм Дильтей. Постижение и иссле;»>ваиие человека в XV и XVI веках 445 дисциплины, но и внутренняя - от всей власти мира, что совпадает со стоическим понятием свободы. «Христианин настолько возвышается благодаря вере над всеми вещами, что духовно становится их господином, ибо ничто не может воспрепятствовать ему достичь блаженства. Все должно быть ему подчинено и помогать ему обрести блаженство». Свобода «внутреннего человека» и его господство над вещами состоят в том, что каждая вещь становится для него благом, и он все-таки ни в одной не нуждается46. Таким образом, христиане благодаря своей вере независимы. Священство всеобще. Духовный сан только должность, служение — «занятие», и «мирское, внешнее, пышное, ужасное господство», в которое оно превратилось, должно быть отвергнуто37.
Проповедь о добрых делах связана, как считает сам Лютер, с работой «О свободе христианина»38. Отношение веры к добрым делам представлено в этом наставлении как отношение здоровья всего тела к действию отдельных его членов. «Жизнь никогда не знает покоя». Человеческая природа всегда в действии: так из веры должны постоянно проистекать добрые дела39. Добрые дела сами возникают из содержания веры. Так, как верующий, пребывая в Боге, «образует в себе Христа»4^. Только дело веры идет к Богу41. И здесь мы видим формирующий принцип социальной морали Лютера. Из веры следует как ее выражение «действие дела Божьего в мире». Бог «хочет с нами и посредством нас совершать действие своего дела»42. И Лютер развивает из богатства своего внутреннего опыта, следуя десяти заповедям, созидающее действие верующего в миру. Власть Лютера над немцами основывалась на живых силах преобразования существующего общества, выросших из его нового понимания христианства. Он возглавлял волевое, изобретательное, глубокомысленное поколение, которое в новых условиях и в соответствии с ними подвергало отжившие порядки критике здравого рассудка и хотело наконец урегулировать государственное устройство. Все лучшие люди встали на его сторону прежде всего вследствие его неустрашимости перед господствующей властью. «Легко бороться с несправедливостью, которая совершается по отношению к папам, королям, князьям, епископам и прочим важным особам. Здесь каждый хочет быть самым благочестивым». «Если же случается что-либо с бедным, ничтожным человеком, то лицемерный взор не находит для себя ничего благоприятного и, допуская возможность неудовольствия властей, оставляет бедняка без всякой помощи». «А в этом случае могло бы быть совершено множество добрых дел. Ибо большинство могущественных, богатых и их друзья совершают несправедливость и насилие по отношению к бедным, несчастным и своим противникам; и чем они могущественнее, тем более жестоко»43.
446
Человек в кон тексте культуры
Здесь в совокупность лютеровских идей вступает, как новое звено в цепи, самая важная в практическом отношении работа Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации, об улучшении христианского сословия» (1520). В ней речь идет о преобразовании немецкого общества и о главных мерах такого преобразования. Носителем социального действия является, как следует из углубленной религиозной нравственности, политическая организация общества. «Внутренний человек», невидимость религиозного процесса в нем, его свобода не содержат в себе отношения власти и послушания в церковном целом: только политический союз делает возможной организацию социального действия. Сфера дел веры — мирское общество и его устройство. Этим положением достигнуто полное прекращение какого-либо социального действия церкви. Им завершается трудная борьба Лютера с «официальными мошенниками», «святыми лицемерами», с пышностью, властью и множеством добрых дел, со склонностью к «пышным облачениям». Оно является одной из величайших организационных идей, когда-либо зарождавшихся у человека. И все-таки Лютеру не удалось провести эту идею во всей ее полноте! Средневековому учению о двух царствах, светском (мирском) и духовном, противостоит теперь реформационный тезис: «У Христа нет двух видов тел, плотского и духовного. Он — одна глава, и у него одно тело»44. Светская власть «крещена, как и мы», т.е. ее также осуществляют христиане, тем самым она также «духовного сословия». Поскольку же ей по божественному решению дана власть принуждения, христианское общество немецкого народа получает благодаря ей свою организацию. Она охватывает все виды социальной действительности. «Сапожник, кузнец, крестьянин, каждый их них имеет в своем ремесле свою должность и свое дело и должен быть в своей профессии полезен другому, служить ему, следовательно, в одном обществе множество дел служат телу и душе, подобно тому как служат друг другу члены тела»45. «Таковы также профессия и дела тех, кому поручены церковные функции, от нищенствующего монаха до папы. Государственная же власть господствует над всеми должностями и видами деятельности». «Пусть они свободно, беспрепятственно совершают свое дело во всем теле христианства». А так как оно преисполнено теперь новыми идеями, находящимися в связи с полным изменением европейского духа, христианство должно стать носителем и органом реформ в церкви и в миру. Во имя нового христианского духа Лютер требует преобразования немецкого общества, его светской и духовной структуры. Это было время, когда слова человека, воплотившего в себе дух немецкого народа, вызывали отзвук в сердце каждого немца, и все, чего нация ждала
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках
447
от государства и его правления, казалось совпадающим с лютеровской реформой. Лютер отвергает папскую власть, кардиналов, церковное право, аннаты, поборы на паллий, вообще передачу такого количества немецких денег Риму; каждого, кто приходит из Рима, чтобы получить предназначенное ему место, следует бросить в воду; подтверждение духовного сана не должно приходить из Рима; папе надлежит надзирать над епископами лишь в делах веры; финансовую власть курии следует строго контролировать. Каждый монах может по своему усмотрению оставаться в монастыре или уйти из него. Каждый священник может решить, вступать ли ему в брак. В светской области Лютер требует введения законов, воспрещающих пышные одежды, массовый ввоз пряностей, откуп податей, крупные торговые компании, а также и направленных против давнего порока немцев — обжорства и пьянства, против домов терпимости. Он призывает к заботе об образовании молодежи, напоминает о сказанном им в проповеди о судопроизводстве: в паутину попадают мелкие мушки, но мельничные жернова прорывают ее. Величайшим злом он считает, наряду с войной, злых зверей, волков, змей, драконов, каковыми являются дурные правители.
Таковы были идеи Лютера в 1520 г. В них над Германией как бы занялась новая заря. Они возникли в такой ситуации, когда реформированная национальная церковь под властью папы казалась еще возможной. Проведения реформы Лютер ждал уже не от Общего собора, а от Германской империи, императора, знати и городов46. Когда Карл V в октябре 1520 г. прибыл в Германию для коронования и участия в рейхстаге, Гуттен обратился к нему с призывом: «День и ночь готов я служить тебе без всякой награды; гордых рыцарей я приведу на помощь тебе. Ты будешь главой, зачинателем и завершителем, не хватает лишь твоего приказа». Так душевная жизнь нации была преисполнена глубокой связью между стремлением к национальному, сословному, сильному имперскому правлению, внутренним его воодушевлением чистым Евангелием, и вхождением в него новой веры. Меморандум Вормсского рейхстага о дурном управлении папы и злоупотреблениях церкви вырос из одной почвы с обращением Лютера к знати и с листовками Гуттена. Было ли возможно осуществление этих идей Лютера? К нашему несчастью, церковная политика Империи была обусловлена внешними отношениями между императором, французским королем и папой.
Рядом с Лютером выступил Цвингли. В Цвингли совершилось такое же преобразование христианства в самостоятельную внутреннюю жизнь единой в своей воле личности. Если в нем и не было непоколебимой оригинальности Лютера, то он именно поэтому пребывал в большем согласии со всем духовным движением времени. Цвингли
448
Человек я контексте куп> л ры
самым решительным образом ввел религиозно-универсалистский теизм и созданный этим теизмом жизненный идеал в подлинное Евангелие, как он его понимал, а именно в смысле распространенного августинизма, который возвращал его к апостолу Павлу. В этом статном, веселом, смело действующем согласно своим республиканским идеям о государстве человеке ощущается освежающее мужественное здоровье, которое распространяется на все в его окружении. Он вырос на чистом воздухе высоких Альп в состоятельной семье, веселой и деятельной; почти мальчиком он под влиянием гуманиста Вёльфлина и теолога Виттенбаха преисполнился душевным стремлением к чистому, простому Евангелию и одновременно радостью от чтения великих античных писателей, так что впоследствии мог сказать: общим у нас с Лютером было наше убеждение, которого мы придерживались, еще не зная и имени Лютера; поэтому он без внутренней борьбы с ясным мужественным чувством приступил к тому, чтобы освободить Цюрих от католического епископа, установить чистое, простое Евангелие, а также улучшение нравов и республиканского строя Швейцарии.
Для этого швейцарского реформатора христианства центром его веры было доверие Богу, основанное на оправдании верой. Только в континууме убеждений совершается великое нравственное религиозное развитие. Он рано твердо уверовал под влиянием своего учителя Виттенбаха в учение апостола Павла и Августина об оправдании верой. Однако в его общих с августинизмом формулах выступает в качестве присущей ему основной черты то, что он видит участие Бога во всем, происходящем в конечной жизни, и рассматривает верующего человека как активную силу, как орудие Бога; верит в то, что вочеловечение Сына Божьего и Его смерть находятся в связи с проявлением воли Божьей, начало которой выражено в творении человека, предназначенного грешить, а центром служит откровение людям сущности Бога, Его справедливости и благости; что в этом необходимом акте спасения каждый определен милостью Божией к вере в спасение посредством своей избранности и, наконец, что этот верующий безошибочно и неизменно становится благодаря своей избранности орудием Бога, который своей целенаправленной деятельностью в качестве блага наполняет весь мир. Грандиозная установка воли’ Лишая человека всякой свободы выбора, она одновременно придает ему высочайшую ценность, наполняет его неизмеримым самосознанием и уверенностью в том, что он является сознательным, волевым и поэтому свободным, связанным с Богом органом божественного деяния в миру. Длинный ряд героических натур вплоть до Кромвеля находится под влиянием этой волевой установки.
Вильгельм /(ильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 449
Однако у Цвингли эта евангельская установка связана с философскими идеями, которые он находил у Платона и своего любимого Сенеки, а в дальнейшем у гуманистов, от Флорентийской академии и Пико47 до Эразма.
Связь между обоими отправными пунктами у Цвингли осуществляло понимание задачи философии Сенекой и Пико. Ведь и Сенека определял философию как stadium virtutis61*; ведь и для него целью было достижение beata vita62*, блаженства, посредством глубокого проникновения в деяния Бога, который есть воплощение блага, и добровольной отдачи себя Ему48. Если мы и не можем измерить соотношение формирующих сил в реформаторском сознании Цвингли, в интересах истинно исторического рассмотрения Реформации следует признать, какое глубокое значение имел религиозно-универсалистский теизм для свободного образования реформированной установки веры. Бог для Цвингли есть в духе, словами Пико, - панентеистично всеединое бытие, всеохватывающее благо или благостность: summum bonum63’. Так как существует только бесконечное, из этого необходимо следует, что вне его нет ничего. Таким образом, бытие универсума вещей есть само бытие Бога. Цвингли может принять формулу элеатов «Все есть единое». Если бы что-либо приходило в движение собственной силой, оно ограничивало бы силу Божества49. Поэтому прав Плиний, утверждая, что природа есть Бог. Следовательно, в Боге положено и детерминировано все конечное. «Человеческую мудрость о свободной воле» внушили нам язычники. Из последовательного панентеистического учения о необходимости следует определение человека как к падению, так и к вере. Избрание к спасению, которое существовало до веры, есть не ее следствие, а ее основа50. Теодицея и здесь пребывает только в связи с божественным планом мира. Стоическая жизненная настроенность, питаемая чтением Сенеки, выражается в этом обосновании нравственной свободы панентеистическим детерминизмом. Подчиняясь божественной воле, человек становится независимым от всего внешнего. Цвингли не сомневается в том, что и язычники, такие, как Сократ и Сенека, избраны к вечной жизни.
Этой общей детерминации, совершаемой Богом, соответствует универсальное откровение Бога. Религия для Цвингли — доверие ребенка отцу, уверенность, что Он обратит заботы, беды и зло в благо51. Откровение в его понимании — внутреннее просветление, даруемое Богом, которое учит познавать Его и жить по Его воле. Это откровение не связано ни с чем внешним и не ограничено рамками христианства. Если языческие авторы высказывали истину, то это было внушено им Богом, в противном случае это не было бы истиной52. Изречения Платона и Сенеки суть божественные про
450
Человек в контексте культуры
рицания. Эти язычники черпали свои мысли из божественного или природного источника. Сенеку, в частности, можно цитировать наряду со Священным Писанием53. Моисей, апостол Павел, Платон и Сенека выступают у Цвингли в качестве свидетелей. Все истинное, святое, значительное от Бога. «Тот, кто высказывает истину, говорит по велению Бога».
Цвингли, соответственно его твердому сознанию Бога, его уверенности в избранности к спасению, его вере в универсальное откровение, подчеркивает значительно решительнее, чем немецкие деятели Реформации, исключительную каузальность Бога в религиозно-нравственном процессе и его проистекающую из этого внутреннюю глубину. В величественном сознании могущества Бога и веры он отверг те внешние вспомогательные средства религиозной жизни, которые были еще дороги человечески и эстетически более богатой и живой душе Лютера. В этой светлой, простой, ясной церкви царит только внутренняя глубина, невидимость, слово, жизнь, энергия. Поскольку Цвингли твердо придерживался учения ранней христианской церкви и основанного на нем учения апостола Павла и Августина об оправдании, Троица и вочеловечение были для него основами всей его религиозной жизни. Однако уже в идее вочеловечения у Цвингли преобладает проявление божественной справедливости и благости. А в каждом истолковании Троицы ему наиболее важно утверждение единства божественной сущности. Таким образом, духом цвинглианской церкви глубоко обосновано, что из нее вышли унитарии. Поскольку только дух или внутреннее слово порождает веру и может породить ее также там, куда не проникала буква Священного Писания, то Священное Писание может быть открыто и истолковано лишь духом. У Цвингли христианский дух отвергает целую книгу Нового Завета, Апокалипсис. Человеческая слабость, присутствующая в общине, делает необходимым введение норм посредством Священного Писания. Более резко, чем Лютер, Цвингли, настроенный против церковного предания, даже против сердечного, задушевного в нем, склоняется к правилу, что сохранить в нем следует только то, что подтверждено внутренним словом и Священным Писанием. «В вере и помазании вы сами чувствуете, что Бог внутренне охраняет нас своим духом и что все приходящее в нас извне никак не может повлиять на наше исправление»54. Дух сам есть сила и действие: он движет всем, так как же ему может быть нужно средство55. Цвингли отвергает сверхъестественное действие, следовательно, и сверхъестественную природу таинств: они только знаки, символы. Пышность службы, обращение к святым, изображения Христа или святых в церквах уводят душу от Невидимого, от всей внутренней активной силы Бога в нас.
jjIL п»i e. ibM Дилыей. Понижение и исследование человека н XV и XVI исках 451
Весь этот мир внутренней глубины, невидимости, слова, жизни, сообщаясь от души к душе в лишенных изображений, посвященных слову домах моления или проповедей, становится зримым и действенным в волевых действиях христиан в миру и в формировании человеческого общества согласно христианскому идеалу. И только здесь этот мир становится таковым. Новый религиозно-нравственный жизненный идеал, обращенный к деятельности в миру, выражается еще решительнее, чем у Лютера, в созданном Цвингли понимании жизни, согласно которому вера есть активная сила, а правило действия этой силы заключено в нравственном законе, и посредством этой силы человек становится орудием Бога в его деяниях в мире. Закон есть выражение божественной сущности и в качестве составной части Благой вести или Евангелия входит в веру. Более близкий Закону характер реформатской религиозности, обусловленное этим почитание Ветхого Завета и соблюдение церковной дисциплины выступают в ней повсюду, в Англии, Шотландии, Северной Америке; наряду с этим - поразительная энергия в формировании общества в соответствии с принципами веры, нравственного закона, Священного Писания: подлинная социальная этика.
Однако здесь у Цвингли и реформатов еще решительнее проявляется уже замеченная у Лютера трудность. Правда, понятие Царства Божьего и его деятельных членов требует социальной, формирующей общество нравственности, однако религиозное содержание Евангелий не дает необходимых телеологических принципов формирования общества. Живущий по этим принципам христианин не только не должен взимать проценты, ему надлежит раздать свое имущество бедным, ему не следует ни приносить клятвы, ни обнажать меч, ни нести военную службу. И все эти требования провозглашались сторонниками Цвингли во имя апостольской жизни. К выходу, которым воспользовался Цвингли, часто обращались впоследствии. Цвингли проводил различие между внутренним (идеальным) устройством общества, которое может быть создано истинно святыми, и внешним, обусловленным нашими грехами. Право собственности, в частности, менее совершенно, чем общность владения, но в мире, полном корысти, оно неизбежно, и мы можем приближаться к совершенному состоянию только посредством благотворительности56. Этот выход не всегда ведет к цели. Право собственности обеспечивает природную сферу именно той активной энергии нашей воли, в которой, по Цвингли, мы подобны действующей божественной силе. Мужество действий, которое выражается в способности носить оружие, не есть несовершенство по сравнению с мужеством терпения, а часть подлинно
452 Человек в контскс ie кулыуры
человеческого идеала. Христианство исходит только из трансцендентного отношения человека, будто остается только Бог и душа, а все действительное исчезает. Следующие из этого трансцендентного отношения понятия, особенно понятие о братстве всех людей, об их равенстве перед Богом, их достоинстве вследствие их богоподобия, достойны самой высокой оценки как религиозное переживание, однако они лишены конкретных целевых определений, которые позволили бы, исходя из них, формировать жизнь. Поэтому понимание положения человека, предоставляемое источниками христианства, нуждается для руководства социальным построением общества в дополнении под другим углом зрения.
Это подтверждается еще одним обстоятельством. Цвингли считал истиной, что задачей общественных институтов в христи-анско!и государстве должна быть совместная жизнь стремящихся к идеалу христиан. Следовательно, в ведущие принципы христианского государства должны входить правила, возникающие из этого всеобъемлющего отношения. Это также ведет к принципам социальной морали, в которых христианские идеи являются лишь составной частью.
В исключительности трансцендентного отношения людей можно усмотреть односторонность христианства; можно усмотреть в этом односторонность любой религии: во всяком случае, Лютер и Цвингли тщетно боролись, чтобы привести свой полный, всесторонний, религиозно-нравственный идеал жизни в соответствие с источниками христианства. Цвингли достиг в этом большего, чем Лютер. Прежде всего потому, что идеи античных авторов и политическая атмосфера его родины побуждали его преодолеть самую ощутительную границу апостольского времени. При изложении деятельности Цвингли и реформатской церкви никогда не следует забывать о том, чего они в этом достигли. Они обладали достаточным мужеством, чтобы на столь недостаточной основе, несмотря на показанные здесь трудности, несмотря на невозможность полностью их разрешить, воздействовать на преобразование общества и политической жизни, исходя из обретенного нового жизненного состояния христиан. Они первыми разорвали рабские оковы, наложенные на христианскую традицию со времен господства цезарей: правило апостольского времени, требующее пассивного послушания смиренных сельских общин чуждому им правительству. Они первыми признали право нового христианского духа формировать государственное устройство. Они видели долг христиан в том, чтобы участвовать в создании структур власти. Государству необходимо, по мнению Цвингли, обладать присутствующим в истинном Евангелии высшим убеж-
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 453 дением: лишь истинный христианин правильно выполняет функции своей должности; правление, лишенное страха Божьего, — тирания, и низложение тирана общей волей народа оправдано57.
Здесь апостольские общины и швейцарские институты служат реформатской церкви образцом для развития политического устройства в республиканскую систему. Поскольку Цвингли видел в христианском образе мыслей правило для политического устройства общества, то вследствие названного недостатка во всеохватывающих принципах социальной нравственности образцом политического устройства стала для него возникшая вместе с этим образом мыслей структура общин в апостольское время. Таково начало движений, которые вместе с идеей естественного права около двух столетий сотрясали Европу. Таким образом, идеи отнюдь не следует рассматривать как сопутствующие явления политических изменений. Самоуправление христианского народа стало идеалом реформатов вплоть до эпохи Кромвеля и его кавалеров, и этот идеал способствовал преобразованию Европы вплоть до революции 1688 г.
Подведем еще раз итог проявлениям величия в деятельности Лютера и Цвингли, которым они в то время увлекали всех. Это — новый нравственно-религиозный идеал жизни, преобразование отношения личности к Невидимому в нечто окружающее ее несо-зерцаемое, внутреннее, независимое. Лютер и Цвингли понимают веру как единую, исполненную доверия настроенность воли человека, основанную на ее реальной связи с Невидимым; внешнюю же дисциплину старого церковного религиозного процесса, так долго обременявшую людей и подчинявшую себе всю их жизнь, они решительно отвергают. Из этой веры проистекает активная энергия целостной личности, функцией которой является полная жизнь в миру, нравственное формирование всех конкретных условий жизни, более того, преобразование всей гражданской, политической и религиозной жизни общества. Таким образом, это религиозно, граждански и политически структурированное общество становится для них телом христианского духа, они отвергают средневековое деление управления миром на два царства; отжившие установки повсюду сотрясаются и частично разрушаются во имя глубокого, завоеванного христианского понимания жизни.
Однако резюмируем еще раз, почему эта новая волевая направленность человека не привела сразу к желаемой новой церковной, гражданской и политической структуре общества. В новом религиозном образовании в такой же степени, как в христианстве апостольского времени, на которое оно опиралось, отсутствовали достаточные принципы для формирования общества. Именно из апостольского христианства римский дух господства вывел систему
454
Человек в контексте культуры
католической церкви. Для глубоко внутренней, отстраненной от мира жизненной установки Рим стремился создать такую действенную организацию, посредством которой она обрела бы господство над миром. Невероятное противоречие! Оно должно было проявиться в обмирщении этой духовной организации. И оно трагически ощущалось внутри нее глубоко духовными людьми всех времен. Реформация устраняет это противоречие. Однако сможет ли она своими силами создать общественный порядок, который бы соответствовал ей?
Сначала под натиском новых идей содрогается почва старой Империи к северу до Нидерландов, к югу до Швейцарии. Конечно, так же, как идеи французского Просвещения не были причиной Революции, проповеди и работы Лютера и Цвингли не привели к Крестьянской войне и к восстаниям анабаптистов (перекрещенцев). В обоих случаях революционные силы пробудило невыносимое угнетение. Однако в обоих случаях новые идеи сообщили движению высшее право и проложили ему путь. В первом случае преобладала борьба за духовную независимость, которую миряне вели с духовенством. Во втором - борьба за политическую свободу, которую народ вел с князьями и со знатью. В обоих случаях со ссылкой на эти ведущие идеи совершались бесчисленные нарушения существующего права. Реформация не может считаться ни просто ответственной, ни просто оправданной за акты насилия, которые совершались от ее имени, и за столкновения, которые происходили в ее рядах. К тому же в этих революционных событиях действовали не только дурные свойства человеческой природы, которые всегда проявляются там, где нарушаются привычные правила ведения дел, где гражданская жизнь прерывается чрезвычайными обстоятельствами, подвергшиеся изгнанию люди кочуют из города в город, теряют свои права на существование, как здесь беглые монахи и лишившиеся своих приходов священники. В самих принципах нового Евангелия были заложены достаточные основания для нарушений порядка. Эти принципы допускали совершенно различное толкование. В Аугсбурге их понимали иначе, чем в Базеле, в Цюрихе иначе, чем в Страсбурге. И повсюду шла борьба за бесчисленные оттенки этих принципов, прежде всего в имперских городах. Они порождали безграничные ожидания, но они не содержали, как мы видели, достаточного твердого принципа для создания в прочных границах ожидаемого преобразования общества.
Новое представление о жизненном устройстве вышло за границы апостольского времени. В доказательстве, почерпнутом из Священного Писания, оно не находило больше необходимой ему прочной основы. Новое в нем покоилось на власти и праве религиозного
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 455
опыта. Положением, что живой религиозно-нравственный процесс веры не только предшествует познанию Невидимого и его отношения к нам, но заключает в себе именно это живое знание, не допускающее дальнейшего объяснения, оно вышло за пределы прежней метафизической точки зрения. Но оно было со всех сторон окружено тьмой. Каково отношение внутреннего слова к совокупности догматических символов, фиксированной утвердившими догматы соборами? Насколько наряду с религиозными формами нашего осознания Невидимого оправданы философские формы? Не следует ли от христианского образа высшей жизни возвращаться к его условиям в одинаковой всегда природе человека, данным в психологии, самосознании, теории познания? Заимствовать дополнительные принципы для преобразования общества из других систем культуры? Все это вопросы, от которых зависели разъяснение и границы этого субъективного образа жизни. Огромная сила субъективной уверенности и доверия к жизни в этой новой точке зрения еще не были связаны с соответствующей ясной зрелостью и силой формирования. В протестантской общине шел спор между принципом внутреннего слова и принципом Писания, Евангелий с апостолом Павлом, апостольской жизни с людьми, каковы они суть по своей природе, христианского идеала с государственными интересами, в первую очередь слова Библии с развившейся в Реформации формой религиозной жизни.
К этому присоединился новый момент всеобщей неуверенности, революционной борьбы. В то время, когда в Германии новые идеи повсюду победоносно утверждались, единое действие Империи по отношению к ним было парализовано.
В Швейцарии обострилась противоположность между старыми кантонами и протестантскими областями, которая казалась непреодолимой; здесь также тщетно стремились к единому урегулированию реформы внутри Конфедерации. Единое управление великим движением создать не удавалось.
Таковы были условия, в которых движение, объединившее все прогрессивные силы, всесторонне распространившееся как поток пылающей лавы и увлекшее все за собой, около 1524 г. начало застывать. Создание церквей перешло к территориям, идеал охватывающей Империю религиозной реформы растаял в туманной дали. Для сторонников новой веры после отрицания авторитета соборов и пап не было больше судьи и нормы для толкования Писания и постиженйя веры. Все трудности, с которыми по сей день борется протестантизм, сразу же возникли тогда. И несмотря на все эти трудности, протестантизм жил своей жизнью в этом свободном многообразии личных убеждений. Наиболее вероятным казалось, что это движение должно с евангелической свободой распасться на
456___________________________________Человек в контексте куль гуры
общины и мелкие союзы. Однако это сделало бы религиозное брожение постоянным, что противоречило отношению такого религиозного гения, как Лютер, к ищущим веры, нуждающимся в авторитете людям, каковы они суть. Это предполагало ясные принципы дальнейшего формирования общества в духе евангелической веры, на которые можно было бы спокойно положиться. Я показал, что подобные ясные принципы не могли быть выведены из возврата к Библии. Против хаотических требований и грез, провозглашенных на основе истинного Евангелия перекрещенцами и спиритуалистами в городах, поднимающимися крестьянами в селах, твердо выступил Лютер, опираясь на внешний жесткий принцип божественного права держащей меч власти, на принцип, сложившийся из дуализма смиренных общин и языческих правителей. Протестантизму не хватало также общих принципов для образования церкви, и параллельно существовали церковь отдельных общин и церковь, опирающаяся на синоды и на высшую церковную власть. Решающей в этих условиях оказалась формирующая религию и церковь личность Лютера, его твердая христианская настроенность. Он держался решений Никейского собора, разошелся с Цвингли, порвал с Эразмом. Спиритуалистов он предоставил гонению. В немецких протестантских землях он основал свою церковь.
Труд Данаид по созданию теологическо-метафизической системы возобновился в этой церкви. Поскольку она таила в себе религиозное глубокомыслие Лютера и после Меланхтона стремилась соотнести его с признанием древних авторов, а впоследствии, начиная с Лейбница - с современным мышлением, из этого сопереживания исторических точек зрения в их полной особенности возникли историчность мышления немцев, универсально-историческое понимание, трансцендентальная философия. Однако от этой возникающей церкви отошли Эразм, Штаупиц, Виллибальд Пиркхеймер, Ульрих Цазий, Себастиан Франк и многие другие менее известные мыслители, перечисление которых можно найти в первом томе работы Деллингера, а также у Янсена. Эта церковь становилась все более узкой и жесткой. Теологический прогресс XVII в. подготавливался лицами, которые в своей независимости противопоставляли себя Лютеру, а также идущими от Цвингли церквами и сектами на основании изложенной выше близости Цвингли к общему духовному движению и утвержденному им принципу общины; с этим было преимущественно связано и философское движение.
Уже в эпоху реформаторов из взаимодействия описанных духовных сил возникли два основных направления теологии, которые в последующий век разделили господство с ортодоксальной
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека н XV и XVI веках 457 теологией: рационалистическая и спекулятивная, или трансцендентальная. Основоположники обеих школ относятся к германоязычной культуре, но стоят вне лютеровской церкви.
Основателем теологического рационализма является Эразм. Под теологическим рационализмом я понимаю суверенную рефлексию рассудка о содержании веры, посредством которой оно разделяется на отношение Бога, Христа, человека, свободной воли и воздействий Бога как на чуждые друг другу независимые факторы. К этому обычно присоединяется твердое сознание границ рассудка, определяемое Эразмом как его скептицизм. Этот теологический рационализм развился из гуманистического просвещения, представителями которого являются Лоренцо Валла и Лудовико Вивес. Первым классическим произведением этого направления была работа Эразма «De libero arbitrio»64*, опубликованная им после длительного колебания в 1524 г. В ней рассматривался основной пункт вероучения Лютера. Лютер ответил на нее в работе «De servo arbitrio»65*, которая вышла в декабре 1525 г. За ней последовали новые возражения Эразма, ничего существенно не добавившие к первому изложению его точки зрения.
У Эразма невозможно отделить то, что он считал необходимым в его положении, в том числе и в финансовом, от его убеждений. Лютер, конечно, не был способен справедливо оценить многообразие, играющее всеми красками в этом вольтеровском гении; его высказывания об Эразме бьют мимо цели; самое резкое из них заключено в его «Застольных речах»58. «Эразм — вообще враг религии и прежде всего враг и противник Христа, совершенный портрет и подобие Эпикура и Лукиана». Однако если Эразм с самого начала подчиняет свою книгу «De libero arbitrio» приговору церкви, то это приспособленчество первого рационалиста. Оно Идет дольше. Хотя Эразм сопоставляет отдельные места Библии и придает изречениям апостола Павла такое же значение, как евангельским, тем не менее очевидно, что предпочитает он сказанное в Евангелиях; он несомненно усматривал здесь противоречие и считал евангельский текст более соответствующим своему пониманию. Ведь он подчеркивает разницу между единственно не ведающим заблуждений Христом и подчас ошибающимися апостолами59. Эразм не только отрицает принадлежность Апокалипсиса Иоанну, но даже подозревает, что его обманным путем внес в Священное Писание Керинф. Евангелие от Марка он считает выдержкой из Евангелия от Матфея. Во всем этом проявляется его поразительное чутье в области иррационалистической критики. Наряду с ним на недостаточное знание источников христианства указал в своей гениальной работе Агриппа Неттесхеймский: ведь
458 Человек в контексте культуры
существовало много Евангелий, которые были потеряны. Поэтому несправедливо предполагать, что Эразм считал различные места Библии равноценными в соответствии с догматическими требованиями его времени. Он приспосабливался.
В своей работе Эразм сначала устанавливает ведущую точку зрения, требующую осторожного отношения к этой проблеме. Затем он указывает на противоречие между теми высказываниями Библии, где утверждается или предполагается свободная воля человека, и теми, где говорится исключительно о воздействии Бога на дарование благодати. И наконец, он приходит к выводу о возможности устранить это противоречие, признавая наличие и свободы, и божественного воздействия.
Свободу воли Эразм определяет как «силу человеческой воли, посредством которой человек может обратиться к тому, что ведет к вечному блаженству, или отвернуться от него»60. «Прежде всего нельзя отрицать, что в Священном Писании есть множество мест, где совершенно отчетливо утверждается свободная воля человека»6'. Наряду с этими совершенно ясными местами Евангелия Эразм подчеркивает и то, что предписания Христа вообще теряют жизнь и воздействие, если сила свободной воли отрицается62. Вместе с тем ему трудно высказать сомнение по поводу открыто им признаваемой63 убедительности того, что сказано апостолом Павлом против свободы воли64. Разрешение этого противоречия Эразм видит в том, что в одном случае подчеркивается моральный мотив к самостоятельной деятельности и возбуждается доверие к себе, в другом — религиозный мотив, согласно которому в смиренном чувстве зависимости от Бога вся заслуга приписывается Ему. Следовательно, в этих двух различных по своему характеру местах указывается лишь на две стороны одного процесса. Существование вседействия Бога никто не отрицает. Но и наличие свободной воли не должно подвергаться сомнению. Эразм очень убедительно развивает эту мысль и все время внушает: условием всех понятий возмездия, кары, заслуг и суда, а также наличия совести, евангельских и библейских предписаний, угроз, обещаний является свобода воли. Эразм проницательно указывает на то, что даже специфически религиозные понятия помощи Бога и Его поддержки, заслуги, молитвы требуют свободы человека. И никто не показал так убедительно, как он, что избранность к спасению превращает Бога, милосердного к избранным, в жестокого тирана по отношению к отвергнутым Им. Бог, дающий человеку законы, которые никто не может соблюсти, деспотичнее сиракузского тирана, создававшего законы для того, чтобы наказывать нарушающих их. Эразм убедительно доказал в своей полемике с Лютером,
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 459 что раннехристианские понятия, которые даны в Евангелиях и постоянно ощущаются христианами в глубине их совести, требуют в качестве своей предпосылки свободу воли.
Однако тогда возникает вопрос, как этот акт согласуется с всемогуществом Бога, и здесь проявляется неспособность рационалиста оправдать эту связь.
Происходит «соединение для неделимого деяния духовного обновления». Причем так, что милосердие Божие есть causa principalis66*, а свобода воли — causa secundaria65 67’. Это поясняется следующей аналогией: огонь обладает способностью гореть, но principalis causa (главная причина) этой способности все-таки одновременно есть Бог, сохраняющий своим воздействием эту способность огня. Однако это всегда сводится к auxilium68’ и к механически внешнему соединению могущества Бога со свободной волей.
Другой и более соответствующий идеям Эразма пример: отец показывает ребенку, еще не умеющему ходить, яблоко; мальчик тянется к яблоку, отец ведет его дальше. Но может ли быть более внешнее и грубо механистическое представление?
С этой механистической точки зрения, согласно которой воля человека и воздействие Бога являются соперничающими силами, эти сами по себе метафизически неразрешимые проблемы отношения всеведения, провидения и всемогущества к свободе воли могут быть рассмотрены лишь в чувственной плоскости рассудка. Господину известны дурные склонности раба, и он ставит его на такое место, где раб будет в соответствии с этими склонностями действовать дурно; другим рабам это послужит угрожающим примером. Можно ли мыслить более плоско? И все-таки здесь также bon sens69’ Эразма предстает в своей полной силе по сравнению Лютером; он все время советует держаться фактов внутреннего опыта и со здоровым скептицизмом, заменявшим в то время критическое сознание, отвергает все попытки погружаться в метафизические глубины, исследуя их связь.
Исходя из этой рационалистической, историко-критически прочно обоснованной точки зрения, Эразм начал подрывать догматику. Осторожно, но со скрытой упорной ненавистью, он указывает на то, как редко Христос называется Богом, а Святой Дух никогда Им не называется; так он поколебал учение о Троице66. Меланхтон приписывал спор о Тайной вечери скрытому влиянию Эразма67. От Эразма путь прямо ведет к Коорнхерту, к социниа-нам и арминианам, а от них - к деистам.
Наряду с ортодоксальной и рационалистической теологией возникла теология спекулятивная, или трансцендентальная. Ее отличительная черта состоит в том, что она видит в историчности
460 Человек в контексте культуры
отдельной религии, особенно христианства, выражение сознания, вечно обоснованного природой человека и вещей.
Ей это удается только благодаря тому, что в качестве ключа для постижения религиозных понятий откровения, вдохновения, избрания к спасению, оправдания она применяет тот религиозно-универсальный панентеизм, влияние которого мы уже рассматривали и который — скажем откровенно! — победоносно опережает и позитивистское глубокомыслие Лютера.
Современная спекулятивная теология вышла из мистики. Ведь ядро всей борьбы в эту религиозную эпоху состоит в следующем: Лютер, правда, отрицал в качестве центра культа в мессе древнюю, безгранично воздействующую на людей идею жертвы, господствовавшую в христианстве со времен апостола Павла, а также связанное с ней древнеримское понятие священства, однако он все-таки подчеркивает ее как центральный догмат среди тех догматов первой степени подлинной религиозной символики, которая предшествует систематическому занятию теологией. Этому противостоит мистическое понятие forma Dei70‘ в человеке. И ему принадлежало будущее. Кант, Шлейермахер привели его к победе. Критика Нового Завета показала отсутствие идеи жертвы в первоначальном христианстве.
Обратимся к началам этого. Когда стало очевидным, что надеяться на единое руководство религиозным движением имперской властью невозможно, в движение пришли элементарные религиозные силы — ремесленники в городах, крестьяне. После подавления Крестьянской войны в среде городских ремесленников выступают евангелические перекрещенцы. Происхождение их не просто. В нем действовали совместно такие факторы, как принявшее различные формы после подавления вальденсов народное движение, выдвигавшее требование апостольской жизни, проповеди францисканцев о следовании Христу и подражании Его жизни и, наконец, охватившие всю светскую и духовную сферы идеи Реформации. Возвращаясь к внутреннему слову и к апостольской жизни, эти общины вывели из равенства христиан и братской любви общность имущества и отмену повинностей и десятин, из слов Христа — отказ от клятвы и военной службы, из учения о внугреннем слове - неверие в действие таинства Крещения и, следовательно, нежелание крестить детей. В Швейцарии перекрещенцы появились в 1522 г., но были изгнаны Цвингли. Затем они были обнаружены в 1526 г. под водительством Хубмайера, Денка, Хецера, Гребеля в Южной Германии. Первоначально они принадлежали большей частью к сторонникам Лютера и Цвингли. В Аугсбурге, Нюрнберге, Страсбурге среди тех, кто шел за Цвингли и за Лютером, были сторонники самых различных оттенков протестантизма, их было
Вильгельм /(ильтей. Постижение и исследование человека и XV и XVI веках 461 очень много, и они повсюду составляли общую массу с другими протестантами. Жестокое преследование их и Цвингли, и Лютером послужило одной из причин упадка Реформации и привело также к ужасному Мюнстерскому восстанию, которое можно сравнить только с господством якобинцев в период Французской революции. Решение против перекрещенцев было осуществлено внешней политической силой: это было необходимо уже потому, что без права на сопротивление и меч протестантизм был бы обречен!
Это движение во многом было связано с возникшими в ходе научного исследования сомнениями по поводу догматов и священной истории. В начале этого века в Нидерландах был сожжен еретик Германн Риссвик, проповедовавший аверроистские идеи; одновременно он отрицал, что Бог явился Моисею, что Христос Сын Божий, и объявил Христа мечтателем: «Вся наша вера не более, чем выдумки и легенды»6*. В 1525 г. несколько человек из Антверпена уверяли Лютера, что Святой Дух не что иное, как разум и рассудок69. В Нюрнберге наряду с атеистами пытались утвердиться деисты, отрицавшие позитивное христианство; эта точка зрения отчетливо проявилась в весьма интересном «процессе против безбожных художников» Георга Пенца, Зебальда и Бартеля Бехайма; так, Бартель сравнивал евангельские рассказы о Христе с легендой о герцоге Эрнсте, якобы въехавшем в гору70.
Какое преобразование всех традиционных идей в Германии! Карлштадт, неутомимый борец против возникшей лютеровской теологии и веры Лютера в чудо Тайной вечери, смятенный, гениальный, преисполненный зависти к превосходящему его Лютеру: уже в 1520 г. у него возникло сомнение, является ли Моисей автором приписываемых ему книг и дошли ли Евангелия до нас в их первоначальном виде; в 1521 г. он, подобно Толстому и Руссо, советовал виттенбергским студентам уйти из аудиторий и обрабатывать землю в поте лица своего; позже он перестал носить облачение священника и ходил в крестьянской одежде. Мюнцер, анархистски настроенный сторонник насилия, также выступает против Лютера с позиций мистики, призывая к апостольской жизни, к общности имущества; но новое царство мира он хочет создать кровью и железом. В работе «Против жизни нежной плоти в Виттенберге» он нападает на самые слабые пункты лютеровского учения, отвергает самоуничижение в догмате о грехе и несвободной воле, насмехается над логическими уловками удержать бедняков в повиновении посредством ссылок на слова Библии о божественном праве властей. Затем - Каспар Швенкфельд, Мигель Сервет, Кампанус, Хубмайер, Хецер: куда ни взглянешь, всюду смутные размышления о Троице, богочеловечестве, оправдании, тайн-
462 Человек в контексте культуры
ствах, апостольской жизни. Но повсюду и великая прогрессивная тенденция к развитию в духе лютеровского учения 1520 г. личностной глубины религиозно-нравственного процесса, моральной способности человека, реформаторской силы истинной веры, к противопоставлению их состоянию общества во всех его последствиях, а также формирующейся церкви Лютера: в значительной степени — это прогресс в постижении христианства, идущий от апостола Павла к евангельскому Христу, в значительной степени также борьба, направленная на то, чтобы освободиться наконец от идеи жертвы, связанной с устарелыми формами религиозности, которая обременяла человечество и вновь обрела центральное значение в идущем от апостола Павла лютеровском христианстве. В ряде мест к тому же стали выступать унитарии.
Это движение соединилось у ряда лиц несомненного дарования с гуманистической, общенаучной духовной настроенностью; прежде всего принималась защита человеческой свободы, провозглашенная Эразмом; так возникла особая спекулятивная форма религиозно-универсалистского теизма и связанного с ним учения о религиозно-моральной независимости человека по отношению к любой церковной традиции и роли церкви в спасении души.
Ганс Ден к основывает христианское убеждение на внутреннем голосе, совести и религиозном чувстве: в этом он видит искру божественного духа. Следовательно, этот дух действует повсюду, независимо от Священного Писания. Он живет во всех людях. Значимость Священного Писания может быть доказана лишь исходя из него. Вера возникает из жизни в следовании Христу. Неверующие те, кто ищет самих себя. И Денк, как Эразм, идет от апостола Павла к Евангелиям, к словам Христа, особенно к Евангелию от Иоанна. В работе Денка об устройстве мира Богом указывается, что «в человеке присутствует воля к добру, искра божественного духа. Человек обладает свободной волей. Если он занимается самим собой, в нем возникает расхождение с Богом, ад, неверие. Его воля в плену, и только с Божьей помощью он может вновь достичь единения своей воли с волей Бога». Путь к этому единению - - самоотрицание, утрата самого себя. Исходя из этих мыслей, Денк отрицает учение Лютера об оправдании и примирении. Цель выполнения законов Христа — проложить нам путь к следованию Ему71. Денк отрицает вечные муки ада, по-видимому, и существование дьявола, который так занимал Лютера.
Из этого революционного хаоса возвышается подлинно гениальный мыслитель и писатель, Себастиан Франк, которому принадлежит более ясное и исторически широкое понимание этой точки зрения.
Вильгельм Дильтей. Нопижение и исследование человека в XV и XVI веках
463
Шваб, родившийся около 1500 г. в Донауверте, Франк получил очень скромное образование; однако побуждаемый чувством врожденного призвания, решился стать писателем. Он начал с переводов, с обработки имеющегося на немецком языке, с составления сборников, и этого рода деятельности он всегда придерживался. Объектом его интереса были, конечно, в первую очередь теологические вопросы. В Нюрнберге, где Пиркхеймер занимался историей, где Франка окружала историческая жизнь и он жадно впитывал гуманистический дух, его кругозор расширился. Он набросал план всеобщей истории, которая была опубликована в Страсбурге; за этой работой последовали космография, история Германии и сборник поговорок. Его значение состояло в том, что посредством идей немецкой Реформации он внес жизнь и связь в материал исторических хроник, а затем увидел в этой универсальной связи и историческое в Библии; так, он воспринял Священную историю с вполне оригинальных точек зрения. Религиозные брошюры, в которых он развивал эти точки зрения, прежде всего гениальные «Парадоксы», неминуемо должны были вести к конфликту его позиции с формирующейся церковью Лютера. И в религиозно более свободных имперских городах, в Нюрнберге, Страсбурге, Ульме, этот державшийся в стороне от сект мыслитель также не нашел спокойного пристанища. Он стоял вне всех христианских конфессий, «вне партий», как он говорил; этим он напоминает Спинозу. Методы новой лютеранской ортодоксии, в соответствии с которой под мягкими братскими словами удовлетворялась привычная для церкви потребность преследования, ранили его душу и отравляли ему жизнь, тем более что он был лично связан с Швенкфельдом и перекрещенцами и вообще стоял вне всей партийной сумятицы. Утомленный всем этим, он рано умер.
Религиозно-универсалистский теизм или панентеизм, представителями которого были древние мыслители, а в последней и по-человечески высшей форме их мышления римские стоики, был тогда высшим и наиболее свободным элементом европейской образованности. Именно под этим углом зрения Франк рассматривал внутренне сопережитое им религиозное движение в Германии, от Таулера и немецкой теологии до Лютера, Цвингли и перекрещенцев. Невидимость, глубина, безббразность морально-религиозного процесса, стремление освободить его от эгоистических компонентов вульгарной религиозности, уверенность в несбвместимости этого процесса с любым правящим церковным союзом, это, если угодно спиритуалистическое направление в немецкой Реформации, Франк проводил со спокойной ясностью, отсутствовавшей у глав сект. Для проведения этой точки зрения он обладал если недостаточно основательными знаниями,
464 Человек в контексте кулыуры
то вполне широким универсально-историческим кругозором. И последовательность его точки зрения должна была более отчетливо проявиться в универсально-исторической направленности. Если процесс веры составлял центр в существовании личности, он должен был быть и центром истории, связующим в ней. Если он обусловлен только внутренним отношением человека к невидимому порядку, то он независим от времени и места и присутствовал всегда в истории человечества. Тогда невидимая церковь имела своих членов и во время, предшествующее Христу, в вере иудеев, турок и всех язычников. Следовательно, Франк поставил перед религиозно универсальным панентеизмом задачу доказать свою плодотворность в качестве «связующего звена» универсальной истории и ядра библейской теологии для обеих этих наук.
Начнем с понятия Бога. Оно не выведено Франком философски, а получено посредством свободной рефлексии. Это — распространенный тогда в Европе, очищенный развивающимся естествознанием и изучением древних авторов панентеизм. Франк, как и Цвингли, воспринимает Бога как вездесущее благо. Бог не имеет ни воли, ни аффектов, ни вожделений, ему все безразлично, для него все благо72. Это понятие Франк особенно развивает в работе об искусстве и мудрости человека. «Природа не что иное, как введенная Богом сила каждой вещи, сила действовать и страдать. Бог есть в природе повсюду, он сохраняет структуру мира своим присутствием и глубиной. Как воздух наполняет все и все-таки не замкнут в одном месте, как солнечный свет есть повсюду, освещает всю Землю и все-таки не есть на Земле, но все-таки есть, вызывает жизнь всего, — так и Бог есть во всем и вместе с тем все пребывает в Нем». «Бог — свободно разлитое внутреннее благо, действующая сила, пребывающая во всех существах»73. Важно, что Франк считает требуемое учением Лютера об оправдании разделение божественной сущности на состояния и стороны несовместимым с проясненным мыслью сознанием Бога. Etiain fulminans Jupiter bonus7471*. Неподвижный Бог не гневается ни на кого.
Это религиозное и философское сознание абсолютной зависимости Себастиан Франк считает совместимым с его в высшей степени энергичным, подтвержденным изучением древних мыслителей сознанием моральной независимости человека. В отличие от одностороннего религиозного глубокомыслия обоих реформаторов он вместе с Эразмом утверждает моральное сознание. «Если бы не было свободной воли и все должно было бы происходить в соответствии с тем, как того желал и как воздействовал Бог, то не было бы и греха, всякая кара была бы неоправданна и всякое учение тщетно, нелепостью было бы и то, что Христос горюет о слепоте фарисеев» и т.д.
Ви.1Ы С1ЬМ Диль гей. Постижение и нссле. кшшшс человека в XV и XVI веках 465
франк полагал, что может разрешить метафизически неразрешимую для интеллекта трудность, состоящую в отношении этой свободы к вездесущности Бога, посредством понятия божественной силы, добровольно себя ограничивающей, отпускающей из себя волю в свободу выбора, но подчиняющей внешнее действие связи телеологического порядка. «Птица в сущности не поет и не летает, а ее заставляет петь и носиться в воздухе некая сила. Бог поет, живет, действует и летает в ней. Все создания делают только то, чего хочет Бог. Отличен от этого человек, ему Бог дал свободную волю и посредством ее Он хочет вести его и руководить им»75. Божество, бесчувственная и вневременная действующая сила, только в человеке становится волей. В человеке сила проходит во времени и движется в чувствах. Воля свободна в своем выборе, однако ее действие в мире обусловлено божественной силой, определяющей связь мира. Божественная сила использует каждое решение воли для блага. Скупщики и скупые в городах, действующие в своих эгоистических интересах, служат хозяйственным интересам целого.
Из взаимодействия божественной силы со свободной, индивидуальной волей человека возникает связь истории. Ее ядро и ключ - нравственно-религиозный процесс.
Он основан на антагонизме между моральным принципом человеческой природы, коренящимся в Боге, и эгоистическим принципом, происходящим из воли, ставшей свободной. Этот антагонизм понимается Франком в манере Таулера и немецкой теологии. Как он его постоянно трактует, легко прочесть в одной из его книг. Я коснусь здесь только решающего для дальнейшего прогресса пункта, того места системы, которая подготовляет кантовскую философию религии. Я имею в виду его своеобразное учение о Христе. Во всех людях существуют врожденные моральные задатки. Вслед за стоиками и Цицероном Франк считает ближайшей задачей человека следовать природе или Богу и усматривает в каждом «естественный свет» (lumen naturale), который делает это возможным. Таким естественным светом обладают все люди, поэтому суждение присутствует в душе каждого. Франк называет разум «источником всех человеческих прав, который поэтому выше всех писаных прав»76. То, что Платон, Сенека, Цицерон и все просвещенные язычники называли светом природы и разумом, теология определяет как Слово, как Сына Божьего и невидимого Христа. Он есть как в апостоле Павле, так и в Сенеке и Цицероне. Таким образом, Франк понимает под Христом (Логосом) имманентность нравственно-религиозных идей в Боге, их действие и сообщение их людям.
Для того чтобы этот невидимый Христос достиг в нас господства, мы должны преодолеть в себе Адама, эгоизм. «На вопрос
466 Человек в контексте культуры
одному философу, когда он стал философом, он ответил: когда стал другом самому себе. На вопрос христианину, когда он стал христианином, он ответил бы: когда стал врагом самому себе».
Следовательно, нравственно-религиозный процесс состоит в преодолении существующего в каждом человеке антагонизма между плотью и духом, между эгоизмом и светом природы посредством преображения, определяемого в Священном Писании как возрождение. Тогда совершается odium sui, renunciato12', отречение эгоистической воли от всего, что она есть и имеет, и невидимый Христос возвышается до формы и правила жизни. Этот процесс совершенно универсален. Он не связан с условиями ограниченного временем и местом внешнего откровения, а связан лишь с универсальным откровением в Христе, который есть не что иное, как божественно имманентные моральные задатки человека. Парадоксальность этого изречения еще усиливается. Франк вводит формулу общего оправдания перед Богом благодаря невидимому Христу как только что данную. Поскольку он, так же как Эразм, перемещает содержание веры в то, чему Христос учит словом и еще более своим примером, возникает полное преобразование учения об оправдании из объективно происходящего в Боге в субъективный процесс сознания. В находящемся вне времени, свободном от аффектов Божестве, не ведающем смены состояний, содержится прощение грехов до падения: Бог всегда милосерд. Невидимый Христос всегда учит людей и сообщает им форму своей жизни. Явление Христа во плоти как бы открыло людям небо и показало им милосердного Бога. Оно устранило их заблуждение о гневе Господнем. Оно позволило им вовне увидеть в качестве примера и учения внутреннего незримого Христа; его сущность есть любовь, и он пребывает в каждом высоком сознании человека. Таким образом, столь же универсально, как впадение человека в эгоизм, его оправдание перед Богом благодаря Христу.
Из этих содержащихся в мистике, не только посредством римского стоического, а также гуманистического теизма отчетливо сформулированных положений Франк делает выводы, благодаря которым он стал предшественником или основателем современной философии религии. Сотнями русл идеи Франка текут навстречу современности.
Историческое в Священном Писании, в той мере, в какой в нем содержится однократное событие, является символическим выражением, типом повсюду и во все времена происходящего в человеческом роде процесса, а именно религиозно-нравственного процесса в каждом отдельном человеке. «Vita una et eadem omnibus. Жизнь на Земле одна и повсюду одинакова. Omnis homo unus homo.
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 467
Все люди— один человек. Тот, кто видит естественного человека, видит их всех». Все есть Адам. Мы обнаруживаем другие нравы, другой язык и одежду, но душа, сердце, чувство и воля во всех одинаковы. Турок в феске хочет того же, что немец, носящий широкий берет. Адам и Христос — выражение антагонизма в человеческой природе, и он повсюду один и тот же. Грехопадение и спасение — выражение вечного внутреннего процесса. «Писание есть вечная аллегория». Ибо если понимать его буквально, толкование его может иметь такое же значение, как толкование «Ars amandi» («Искусство любви») Овидия. Турок ссылается на свой Коран, иудей— на Талмуд, папа - на свой декрет, все - на свои книги, и каждый называет другого еретиком: «Пусть поэтому каждый помнит, что у других также есть свои книги». Если бы в истории событие и его отражение в Писании было условием оправдания и спасения, то все, до кого вследствие пространственных и временных условий не могло дойти внешне сказанное слово, были бы прокляты. Поэтому оправдание, благодаря Христу, тех, кто впал в Адаме в грех, следует понимать «как независимый от времени, места и внешних условий внутренний, незримый и универсальный процесс».
Каково же отношение к этому вечному процессу сообщаемых в Священном Писании внешних событий? Старое аллегорическое толкование Писания отличается в этом вопросе от философии религии Канта и его последователей. Предположение, что Священное Писание имеет двойственный смысл, следует строго отличать от того, что вечные истины выражены в нем в исторических символах, которые не имеют исторического значения. Второе предположение не может быть, правда, применено ко всей библейской истории и теологии, и ни один разумный исследователь его так и не применял. Ибо в Библии есть много исторических фактов, не вызывающих сомнения. Спорно лишь их число. Но кто же станет сегодня отрицать, что к этим фактам присоединились символы, т.е. чувственные образы внутренних и вечных истин, не имеющих исторического значения, что существуют догматы, объективирующие внутренние истины во внешние, рассказы, облекающие вечное бытие в форму однократного временного? И это толкование вслед за рядом отдельных указаний гуманистов впервые полностью высказано Себастианом Франком.
Прохождение грехопадения во времени, гнев Божий и оправдание человека перед лицом Бога благодаря искупительной жертве Христа является для Франка символом вневременного. Этот символ примыкает к историческим фактам, изложенным в Евангелии, которые Франк не подвергает сомнению. Принятое учение об оправдании переносит процесс, происходящий в сознании че
468 Человек в контексте культуры
ловека, в котором разрешается заблуждение об отношении Бога к человеку, в само божество. «История об Адаме и Христе не есть Адам или Христос. Поэтому как во всех углах и на всех островах есть Адам, хотя живущие там люди и не знают, что на земле был когда-то Адам, так и во времена язычников всегда были христиане, хотя они и не ведали, был ли или будет ли когда-либо Христос. Я думаю, что Адам и Христос существуют во всех сердцах. Внешний Адам и Христос — лишь выражение внутреннего, пребывающего в каждом Адама или вечного Христа, убитого в Авеле»77.
Таким образом Франк близко подошел к проблеме образования представлений, в которых невидимое и внутреннее каждой религии и теологии символически опредмечиваются в объективные внешние и временные образы. Его универсально-историческое видение позволило ему также совершить ряд глубоких проникновений в силы, из которых возникает это образование представлений.
Всеобщая история Франка построена, как показал на ряде примеров Бишоф, на хронике нюрнбергского врача Шеделя, к которой добавлено несколько десятков источников и других работ78. Средства и методы историко-филологической критики ему неизвестны. Однако его книга превосходит предшествовавшие исторические труды тем, что он использует великое вспомогательное средство времени Реформации, глубокое чувство действующих в истории религии сил, чтобы установить в истории внутреннюю связь, которая соответствовала бы эпохе Реформации и далеко ушла вперед по сравнению со средневековой всеобщей историей. Широкий непредвзятый взгляд, мужественный, истинно народный язык, смелое сердце сделали его идеи понятными, и они оказали серьезное влияние на нацию, а также на последующих писателей.
Франк, как и средневековые авторы работ по всеобщей истории, исходит из сознания внутренней телеологической связи всей истории. Он хочет показать «сцепление, закон, содержание, ядро и связующее звено истории», повсюду подчеркнуть «существенное» и «описывать историю, исходя из ее причин». Однако эта связь не заключается для него во внешнем и происходящем во времени действии спасения: как бы в параметре длины истории. Она заключается для него во всегда имеющихся отношениях внутреннего опыта, в отношениях между эгоизмом, невидимым Христом и действием Божества. Он хочет понять, как из этих внутренних отношений возникают всегда одна и та же внешняя форма мира, государства, князья, секты, догматы, церемонии, как «важно выступают» и затем распадаются их отдельные образы, а образ мира остается, по существу, одним и тем же. Он рассматривает связь истории как бы в параметре ее глубины. Исследует, как в ней из
Вилы ельм Дильтей Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 469 постоянно действующих сил создаются формы исторической жизни. Если по своим убеждениям он родствен Шлоссеру, то по этой своей великой интенции — Джованни Баттиста Вико.
Бог проникает своей сущностью историю. Грех есть «только бесполезная попытка и желание получить то, что хотели бы иметь, но достичь чего не могут»79. Он проявляется как вожделение и эгоистическое стремление, тем самым как свободная причина; но его действия входят в связь, которая служит добру. Тиран желает, вожделеет и действует свободно, исходя из эгоизма, ответственность за который он несет, однако в своих действиях он является орудием Бога. История повсюду пронизана эгоизмом и ограниченностью людей; они повсюду овнешняют внутренний религиозно-нравственный процесс, подчиняют его во внешних структурах воле господина и делают наглядным в церемониях. Однако смена великих образов возникает по мере того, как каждый из них в соответствии с содержащимися в нем эгоизмом и ограниченностью распадается в свое ничтожество. Настроенность историка одновременно трагична и сатирична или юмористична, преисполнена глубокой иронии всемирной истории. Так, о своем времени Франк говорит: «Тот, кто ко всему этому отнесется серьезно, не должен удивляться тому, что у него сердце разрывается от рыданий; если же взирать на это, как Демокрит, безмятежно, можно лопнуть со смеху. Так фокусничает мир. Все мы перед Богом смех, басни и карнавал». Лютер порицает Франка за его безудержную брань, в чем упрекали и Шлоссера. Франк называет мир не только распутным Вавилоном, но и свинарником. Он глубоко ощущает трагическую иронию, то, как Бог «позволяет высоко подняться» отдельным образам мира, которые происходят не из Него, а затем «приводит их к вызывающему насмешку концу». «У римлян было свое развитие, свои победы и свое время, им никто не мог противостоять, и они склонили и подчинили себе всех. Но как только они завершили свою роль, всему пришел конец - душе народа и империи»80.
С этим связан и всемирно-исторический взгляд Франка на религию. Внутренний свет присущ Плотину, Диогену, Платону, Орфею, Софоклу и сивиллам в такой же степени, как людям Библии. Но столь же универсально из своеволия человека, его ограниченности, даже глупости, возникает овнешнение внутренней глубины, воля, господствующая над свободным во внешнем порядке, расщепление единой религиозной истины на секты и их религиозные понятия, а также наглядность невидимого процесса в церемониях. Злых и глупых больше, чем благочестивых, которые встречаются в религиозном обществе лишь очень редко. «Как бы там ни было — таково глубокое, грустное выражение его жизненного опыта — мир должен
470 Человек в контексте культуры
иметь папство, ибо в противном случае люди не будут знать, каков их путь и что им делать. Мир хочет и должен иметь папу, служа которому он готов верить во все; он должен иметь папу, даже если бы ему пришлось его украсть или вырыть из земли, а если бы его ежедневно лишали папы, он сразу же находил бы другого». Из человеческой природы проистекает также то, что «мир приемлет только внешнее богослужение с его церемониями, т.е. с пением, возбуждением, молитвами, хождением в церковь, с постами и образами святых».
Франк высказывает также важные мысли о зависимости эпох религиозной истории друг от друга. Он исследует, как папская церковь вышла из институтов империи. «У римских священников также был папа, которого они называли pontifex maximus»73*. «У язычников каждый бог имел своего священнослужителя; фла-мины, представители и служители храмов наряжали идолов, украшали церковь, следили за светильниками, объявляли о наступлении святых дней и празднеств»81. Одни и те же храмы, священнослужители и церемонии проходят через всю историю религии в континууме, который Франк прослеживает вплоть до египтян. Все это тени и фигуры внутреннего слова.
А он сам? Историк, беспристрастно наблюдающий за этой фантасмагорией мира? На темном фоне всех этих преследований, пыток и казней перекрещенцев и спиритуалистов, официальной лжи глав протестантской и католической церкви, разочарования в ходе Реформации возвышается морально-религиозный пессимизм Себастиана Франка; его грустный, погруженный в глубокое раздумье взор как будто проникает в море горя и несправедливости. Этот человек еще более одинок, чем впоследствии Спиноза. Он ощущает себя внутренне далеким всем сектам, на которые разорвана единая истина, поэтому он не входит ни в одну из современных ему церквей и не ждет ничего от какой-либо внешней церкви. Он — член той невидимой общины, к которой принадлежали уже Сократ и Сенека. В нее входят «все истинно богобоязненные и добросердечные люди», верующие без церемоний и внешнего богослужения. «В ней и у нее пребываю и я, к ней я стремлюсь в моем духе, к ней, пребывающей рассеянной среди язычников и сорняков»82. Кто не вспомнит при этом о Лессинге, одиноком в последние годы жизни в Вольфенбюттеле, о христианстве в его словах о Евангелии от Иоанна в «Воспитании рода человеческого»?
Примечания
1 Marlowe Ch. Eduard II, act 5, scene 3.
2 Даже по отношению к женщинам, которые играли такую большую роль в его поэзии и жизни, он уже в зрелом возрасте пришел не только к стой-
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и ХУТ веках 471
ческому, но циническому заключению. Vita. Rotterd. Ausg. 1649, третья непронумерованная страница вначале. Ср.: Boccaccio. De casibus illusts. vir. p. 11: «Blandum ct exitiale malum mulier» (Женщина вкрадчивое и сокрушающее зло - лат.).
3 Ср. данные в книге: Capponi G. Gesch. d. florent. Republik. Buch 6. Кар. 7.
4 Начиная co слов «различные формы правления возникали» до конца эта часть рассуждений составлена из VI 5 -11 книг Полибия, особенно из VI 5,9, 10, 11.
5 Это также близко Полибию I 81, ср. XVII 15.
6 Здесь повсюду использовано известное учение Полибия о Тихе (например, I 4,1 35).
ЧП9.
8 Сравнение между Плутархом и Сенекой III 12, защита обоих II 32, о Цицероне говорится 1 39.
9III 13.
10 Так пишет Макиавелли в своем сообщении о Германии в июне 1508 г.
11 В Enchiridion (Opp. Ed. Cleric. V 25). Ср. описание вульгарной веры в Encomion Moriae Opp. IV 443, а также изображение процесса, входе которого простая философия Христа превратилась в систему и аппарат церкви Annot. ad Matth. 11, 30 к словам lugum meum suave (бремя мое легко. -лат.) Уже у Эразма проявляется стремление к большей простоте, характерной для Jhomepa.
12 Hardt. Historia Ref. P. 49: «In Reuchlini Consilium pro libris ludaeorum non abolendis».
13 Эту позицию Плифона характеризовал Ф. Шульце в первом томе своей работы «Geschichte der [Philosophic der] Renaissance» (1874), в которой идет речь о Плифоне и его реформаторских стремлениях.
14 Burckhardt J. Renaissance. II. S. 299 if.
15 Gerson. Opp. 111. p. 1585 уже упоминает об обычных среди светских людей дебатах о том, почему Бог вместо того, чтобы избирать нескольких, не решил спасти всех. Рульман Мерсвин в книге о девяти скалах, 1352, приводит следующий разговор между человеком и увещевающим его голосом: «То, что зы говоришь, будто злой иудейский и злой языческий народы будут преданы погибели, неверно». Человек: «Ах, какими странными мне представляются эти слова». Близко Кристоф Фюрер у Лохнера (Lochner. S. 89).
16 Est unus dens et una dea. Sed sunt mnlta uti nnmina ila et nomina: Jupiter, Sol, Apollo, Moses, Christus, Luna, Ceres, Proserpina, Telhis, Maria. Sed haec eave enunties. Sunt enim occultanda silenlio tanquam Eleusinarum dearum mysteria. Utcndum est fabulis atque enigmatum integumentis in re sacra. Tu love, hoc est optimo maximo deo propito, conteimne tacitus deos minutos. Quum Jovem nomino, Christum intelligo et verum Deum.
17 Более подробное доказательство см.: Burckhardt J. Kultur der Renaissance in Italien. Особенно раздел 11 (4. Ausg. I. S. 143 tf.).
18 Gargantua I. P. 57.
19 Goldasl. Monarchia I 558.
20 Goldast II 1581. Здесь отчетливо выражена и национальная точка зрения. «Nostrum est patriam nostrum lutare alacriter» (Пам надлежит мужественно защищать пашу отчизну лат.).
472 Человек в контексте культуры
21 In tempora lulii satyra. Schriften III 269 f. StrauB. Hutten (Ges. Schr. VII 69).
22 Дневник Дюрера (Thausing. S 73).
23 Denkwurdigkeiten der Charitas Pirkheimer. Hrsg. von Hdfler. Vorw. XXXVI: Txichner. Gesch. Studien. S.86.
24 Письмо Пиркхеймера Килиану Лейбу. Ibid. XXXVIII; ср. Dollinger. Reformation I 533.
75 В удивительной книге Неандера о Тамере (1842). S. 25. Ср. сказанное об автономии совести даже по отношению к 11исанию. S. 24: «Совесть это само открывшееся божество». S. 28: «Она - внутренний Христос или живое слово».
2< э Ritschl. Christliche Lehre von der Rechtfertigung. I I S. 126 tT. Hermann. Verkehr des Christen mit Gott. 1886; Hamack. Dogmengeschichte III. S. 700 ff. С этим следует сравнить защищающие другую точку зрения работы Ломмача (Lommatzsch. Luthers Lehre vom ethisch-religiosen Standpunkte aus. 1879) и Кёстлина.
27 Иного мнения придерживается Гарнак: Harnack. Ibid. S. 713. Однако по Conf. August. Art. 2 первородный грех заключается не просто в неспособности доверять Богу, а в такой же мере в том, что «quod omnes homines nascantur sine metu Dei» (все люди рождены без страха божьего) и «cum concupiscencia» (с вожделением). Не устранена и связь с половым желанием; в апологии решительно подчеркивается сказанное в deutsche Konfession, что «принятое и рожденное в грехе уже в материнском лоне преисполнено дурного желания», и вообще значение concupiscencia (вожделения). Этому соответствует и отношение Лютера к браку. В противоположность этому предпосылкой подлинного жизненного идеала является возможность этического преобразования половой жизни.
28 Freiheit. § 3 4.
29 Функцией духа является «постигать непонятные, вечные, невидимые вещи». Magnificat. 1521. - В отношении к вере, по «Sermon», первым следует считать и любовь. «Ибо я не доверял бы Богу, если бы не думал, что Он будет ко мне милосерден и благостен, а вследствие этого я буду всем сердцем доверять Ему».
30 § 10.
31 § 12.
32 § 16.
33 § 6 и в латинском тексте Opp. I 235. Об отрицании единичного временного события, напоминающем точку зрения Канта, ср. другое место. Opp. 11 327.
34 §23.
35 § 27.
36 § 15.
37 § 17.
38 Письмо барону фон Шварценбергу 1522 г.
39 W(erke) Erl. A(usgabe). Bd. 20. S. 206, 207.
40 Ibid. S. 212.
41 Ibid. S. 213.
42 Ibid. S. 227.
43 W. Erl. A: Bd 20. S.225.
Вилы ельм Дильтей. Постжснне и исследование че.ювека в XV и XVI веках 473
44 An den Adel, in «Niederlegung der ersten Papiermauer», в начале.
45 Ibid., сокращено.
40 Sermon W. 20, 267.
47 Целлер (Zeller. Zwingli. 1853, особенно S.41) совершенно справедливо указал на влияние стоиков на Цвингли. Зигварт сделал прекрасное открытие, что учение о Боге у Цвингли обусловлено Пико делла Миран-долой. (Sigwart. Zwingli. 1855. Введение). Если же Ричль (Lehre von der Rechtfertigung. S. 151 ff.) упрекает Целлера в том, что он хочет прежде всего обнаружить у реформаторов учение об оправдании, будто «понимание значения Лютера и Цвингли как реформаторов исчерпывается изображением и сравнением их теологических систем», то работа Целлера в Jahrb. 1857 должна была бы убедить его в ошибочности этого предположения. То же, что действительно отличает Ричля от его предшественников: обособление внутри церкви ведущих духовных лиц, отказ их от общей связи идей и исключительное постижение религиозного и церковного континуума в их деятельности, как ни плодотворно оказалось проведение этой точки зрения в продолжении исследования родственного ему Пеаидера, который недостаточно уделял внимание организации и учению церкви, и в дополнении к работам других историков догм, она не соответствует непредвзятой интерпретации фактов в области истории, религии.
48 Из бесчисленных мест я указываю Epp.mor. 89, 108, затем 16, ПО de providentia (о провидении). Особенно I 4 ss. о свободе христианина, De vita beata. Р. 4 ss. (О блаженной жизни). О понимании философии Пико делла Мирандолой см.: Sigwart. Zwingli. S. 16.
49 «Quum unum ас solum infinitum sit, necesse est, praeter hoc nihil esse». -«Esse remm iniversarum esse numinis est.» — «Si quicquam sua virtute ferretur aut consilio, iam isthic ccssaret sapientia ac virtus nostri numinis». Zwingli. Providentia. P. 85. (Так как есть только одно бесконечное, необходимо, чтобы кроме него не было ничего. - Быть во вселенной, значит быть в Божестве. Если кто-либо действует по своей доблести или разумению, он лишает мудрости и доблести наше Божество. - лат.)
50 «Electio non sequitur fidem, sed fides electionem sequitur. Qui enim ab aeterno electi sunt, nimirum et ante fidem sunt electi». Fid. rat. IV 7 m. (He избрание следует за верой, а вера за избранием. Те, кто избраны от века, несомненно избраны до веры. - лат.).
51 «Еа igitur adhacsio, qua Deo, utpote solo bono, quod solum aerumnas nostras sarcirc, mala omnia avertcre aut in gloriam suam suorumque usum convertere scit et potest, inconcusse fidit eoque parentis loco utitur, pietas est, religio est». De vera et falsa rel. 1525. S. 50. (To отношение, при котором человек незыблемо верит, что Бог как высшее благо способен устранить наши бедствия и обратить их в Его высшую славу, и воздействие, при котором человек видит в Нем отца, есть благочестие, есть религия. — лат.)
52 «Quod si quidam de hoc quaedam vere dixerunt, ex ore Dei fuit, alioqui verum non esset». Ibid. S. 9 s. (Если кто-либо говорит о чем-нибудь истинное, то он говорит под воздействием Бога, иначе это не было бы истинным. - лат.)
53 «Peregrium testimonium si adduxero, non protinus ad cuiusvis damnationem, consternabor, qui nondum perdidicit, literas turn sacras rite adpellari, quum
474 Человек в контексте культуры nuncient, quid sancta, pura, aeterna et infallibis mens sentiat». Pro vid. 93. (Если я обращаюсь к свидетельствам язычников, то нс для того, чтобы подстрекать к осуждению тех, кто еще недостаточно уразумел, но чтобы обратиться к священным книгам за разъяснением того, что чувствует святая, чистая и непогрешимая душа. - лат.)
54 Frundlich. Verglimpfung. 1527. Bd. 4.
55 Fidei ratio. IV 10.
* Zeller. S. 187.
57 Из работ Цвингли особенно поучительны De vera et falsa religione. 1525. S. 296 ff. и Проповедь о человеческой и божественной справедливости. 1523.
58 Tischreden. Forstemann. II. S. 419.
59 К Евангелию от Матфея II. Р. 7. Opp VI. Р. 610 В.
60 De lib. arb. 12, 17. «Рогго liberum arbitrium hoc loco sentimus vim humanae voluntatis, qua se possit homo applicare ad ea quae perducunt ad aetemain salutem, aut ab iisdem avertere». (Под свободной волей мы понимаем силу человеческой воли, посредством которой человек может стремиться к тому, что приведет его к вечному спасению или к тому, что лишит его спасения, лат.)
61 Ibid. Р. 27 ss.
62 Р. 35.
«Ibid. Р. 66.
64 Ibid. Р. 66 ss.
65 Ibid. Р. 81.
66 Особенно показательна для этого лишь слабо маскирующая его убеждение работа «Adversus Monachos quosdam Hispanos». Opp. 9, 10, 23.
67 Corp. ref. 1 1083.
^Sebastian Franck. Chronik 1531. Fol. 406f.
69 Обращение Лютера к христианам Антверпена. De Wette III 60.
70 Лютер Брисманну от 4 февраля 1525 De wette II 623. К тому же времени - Пиркхсймер в: Strobel. Beitrage zur Lit. 1, 496. Процесс у Баадера: Beitrage II 52ff. и перепечатанный в приложении.
71 Ср. особенно: Keller. Ein Apostel der Wiedertaufer. S. 131, 133 ff, 187 ff. Близки по своей оппозиции (Hagen. Reformation. III. S. 267 ff) нюрнбергский советник Фюрер (Hagen. 1П. 290), Кауц (Hagen. III. S. 306), Бюндер-лин.
72 Paradoxa 3 ss.
74bid. 29 -31.
74 Ibid. 53.
75 Paradoxon 264 - 268, направлен против «De servo arbitrio» Лютера.
76 Paradoxon 247, 248.
77 Paradoxon 231 в сжатом виде.
78 Bischof. Sebastian Franck und die deutsche Geschichtsschreibung. 1857. Особ. S. 71 ff.
79 Paradoxon 31.
80 Kosm. 163 a.
81 G. В 494 a.
82 Paradoxa. Предисловие.
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 475
Перевод иноязычных текстов
’• Из ничто (греч., лат.). Далее при переводах с латинского указание на язык опускается. — Ред.
2’ Субстанциальные формы.
•’* С оружием отстаивать право и быть во всем одним из сильных мужей.
4‘ Естественный разум.
5’ Римлянин! Гы научись народами править державно -
В этом искусство твое!
Пер. С.Ошерова
6* Что наше государство создано умом не одного человека, а многих, и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков.
7‘ «В наших задатках есть врожденные семена добродетелей (света природы); Человеческая природа постигает без науки понятия немногих важнейших вещей.
8’ Согласие народов.
9‘ Общие понятия.
10’ Государство.
]|‘ Есть ведь истинный закон разума, существующий во всем, постоянный, непреходящий. От этого закона не дозволено что-либо отнимать или умалять в чем-либо его значение или отменять его вообще. Нет закона Рима, закона Афин, одного теперь, другого впоследствии; у всех народов во все времена существует один закон, неизменный и непреходящий, он всегда общий, учитель и правитель всех, Бог.
12* Естественный разум, равенство.
13’ Международное право.
14‘ Естественное право.
15’ Закон природы,
16* Ты рожден в сфере того права, которое требует, чтобы польза для тебя была пользой для всех, а польза для всех была бы и пользой для тебя.
,7’ Честном, достойном.
,8‘ Полезном.
,9‘ О судьбе.
20‘ Творящая природа.
21 * Есть кое-что и в нашей власти.
22’ Не оплакивайте меня,
того, кто, презирая этот мир, как странник уходит открывать другие земли (нем.)
23’ Познай самого себя.
24’ Не ищи вовне, читай в своей душе, истина живет во внутреннем человеке.
25* Об уединенной жизни.
26* О средствах против Фортуны, как счастливой, так и несчастливой.
27‘ О презрении к миру.
2S* Радость, надежда и рассудок.
29‘ Печаль и рассудок.
Л(|* О сокровенном единоборстве забот моих.
Человек в коитексте культуры
476________________
Душевного покоя.
2‘ О страхе смерти.
Все происходит посредством спора. И то, что мы называем превратностями, есть борьба.
4’ Дух сражается то с благоприятными, то с неблагоприятными ему аффектами, спрашивая только себя и отвечая только себе, и каждый раз под действием различных меняющихся импульсов души бросается то в одну сторону, то в другую. Он никогда не целостный, никогда не единый, всегда согласный сам с собой, волнуя тебя.
35‘ Разум и добродетель.
- ч* Ее начало - тьма и забытье, движенье, труд, вся она - ошибка.
7‘ Но не могу обуздать свое желание.
8’ Живу бедняком, но богатым и блестящим я был бы иным.
9’ Доблесть, добродетель (итал.).
40’ Причиной того, что Италия не оказалась в таком же положении, что в ней нет ни республиканской власти, ни князя, который бы ею управлял, следует считать только церковь (итал.).
41‘ Обычный человек (франц.).
42’ Государь (итал.).
43* Новая фигура, философ непредвиденный и случайный (франц.).
44’ Спокойствие духа.
45’ Знай, что Христос не просто Слово, он Любовь, простота, терпение, чистота, короче говоря, все то, чему Он учит. (Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 135.)
46* Нет другого пламени для пыток богатого евангельского грешника, нет других адских мук... кроме постоянной тревоги совести, которой сопровождается привычка грешить. (Там же. С. 198.)
47‘ Я памятник воздвиг вечнее меди прочной... (Гораций. III30).
48' Лоренцо Великолепного (итал.).
49“ Благословенный покой.
50* Добрым открыто все.
51‘ Универсальный человек (итал.).
52‘ У них одно правило: делай что хочешь. Ибо свободные люди благородного происхождения, образованные, вращающиеся в достойном обществе, обладают от природы правильным инстинктом, который всегда заставляет их совершать добродетельные действия и избегать порока: этот инстинкг они называют честью (франц.).
5j* Но насильственная и принудительная вера и любое ее выражение способны приносить лишь незначительную пользу. Вынужденное раболепие не может нравиться Богу.
54’ Естественное право, применять которое никто не может нам препятствовать, не может лишать нас его, ибо оно присуще нашей природе и рождено вместе с нами.
55‘ Не будь праздным, трудись здесь на Земле,
И ты можешь стать бо1атым и обрести блаженство (нем.).
56* Взгляни на ханжу?..
Мы ведь тоже хотим заслужить Милость божию в смертный час,
Вилы ельм Ди,п»тей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках 477
Как тот, хотя он день и ночь
Стоит на коленях, молится и бодрствует, Он хочет лишь поститься и строить кельи. Не решается доверять ни Богу, ни миру! Бог создал нас не для того, Чтобы мы стали монахами или попами И тем более, чтобы мы отказались От мира!..
Воля и желание Бога не в том. Чтобы отказывались от мира И уделяли внимание только себе (нем.).
57* Мужайтесь, соотечественники, спокойно! Утешимся верой, Что мы обретем Царствие Небесное честной жизнью: Что только собственные дела, а не святой отец, Дадут нам святость (нем.).
я’ Они были честными людьми, Объездили много гор и долин, На это они жили.
В них не было неверности, высокомерия, Они служили Господу Богу.
Среди них царила братская верность, В полном простодушии они сохраняли ее, И Бог был в их сердцах (нем.).
(«Старый соратник»).
59’ Проповедь покаяния.
60* От моих родителей я слышал, Кто живет грудом своих рук, Благословен и будет благо ему (нем.).
61‘ Науку добродетели.
62‘ Блаженной жизни.
63* Высшее благо.
64‘ О свободе воли. м‘ О рабстве воли. Первопричина.
67‘ Вторая причина.
68‘ Помощи.
(19’ Здравый смысл (франц.).
70‘ Образ Бога.
71’Даже мечущий молнии Юпитер благ.
72‘ Ненависть к себе, отказ.
73* Великий понтифик.
ПечатаетсяДс некоторыми исправлениями) по изданию: ДильтейВ. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. М.; Иерусалим, 2000. С. 7-75; 398-401.
Освальд Шпенглер
Человек и техника
На следующих ниже страницах я излагаю несколько мыслей, заимствованных из большого труда, над которым я работаю долгие годы. Моим намерением было испытание того метода, который в «Закате Европы» применялся мной исключительно к группе высших культур, на их исторической предпосылке, первоначальной истории человека. По ходу работы я убедился в том, что большинство читателей не в состоянии удерживать в памяти всю совокупность мыслей, а потому они теряются в лучше им известных частностях, видят криво или вовсе не видят всего остального и вследствие этого получают ложную картину как высказанного мной, так и того, о чем идет речь. Я по-прежнему убежден в том, что судьба человека постигается лишь при одновременном и сравнительном рассмотрении всех областей его деятельности, так мы избегаем ошибочно одностороннего освещения, скажем, из политики, религии или искусства, полагая, будто они могут все в себя вместить. Тем не менее я осмелюсь поставить здесь небольшое число вопросов, которые уже в силу их взаимосвязанности способны дать предварительный отпечаток великой тайны человеческой судьбы.
Техника как тактика жизни
1
Проблема техники в ее отношении к культуре и истории впервые возникает в XIX в. XVIII столетие ставило вопрос о смысле и ценности культуры главным образом скептически, с равным отчаянию сомнением — тот вопрос, который вел к дальнейшим, все более мелким вопросам, а тем самым создал предпосылки для того, чтобы сегодня, в XX в., стала заметной проблематичность всей мировой истории.
Освальд Шпенглер. Человек и техштка_____________________479
Тогда, в век Робинзона и Руссо, английских парков и пастушеской поэзии, в самом «первобытном» человеке видели некую овечку, мирную и добродетельную, лишь впоследствии испорченную культурой. Технику вообще не замечали и, во всяком случае, считали ее - в сравнении с рассуждениями о морали — чем-то не заслуживающим внимания.
Но со времен Наполеона колоссально разросшаяся машинная техника Западной Европы, с ее фабричными городами, железными дорогами и пароходами, заставила, наконец, со всей серьезностью поставить эту проблему. Что означает техника? Каков ее смысл в рамках истории, какова ее ценность для человеческой жизни, каков ее нравственный или метафизический уровень? На это были даны бесчисленные ответы, но по существу они сводятся к двум.
По одну сторону стояли идеалисты и идеологи, запоздалые потомки гуманистического классицизма времен Гёте, которые с презрением относили технические предметы и экономические вопросы вообще за пределы культуры как нечто низменное. Наделенный великой чувствительностью ко всему реальному, Гёте во второй части «Фауста» попытался проникнуть в глубины этого мира действительности. Но уже с Вильгельма фон Гумбольдта начинается чуждающееся действительности филологическое рассмотрение истории, для которого уровень исторической эпохи измерялся в конечном счете количеством написанных картин и книг. Государь получал значимость лишь в том случае, если меценатствовал. Во всем остальном он не стоил внимания. Государство было постоянной помехой для истинной культуры, свершавшейся в лекционных залах, ученых салонах и мастерских художников; война считалась невероятным варварством прошлых эпох, а хозяйство — чем-то прозаическим и тупым, что можно было не замечать, каждодневно им пользуясь. Упоминание великого купца или инженера наряду с поэтами и мыслителями означало чуть ли не оскорбление величия «истинной» культуры. Достаточно посмотреть на «Размышления о мировой истории» Якоба Буркхардта. Такой была точка зрения большинства занимавших кафедры философов, да и многих историков — вплоть до литераторов и эстетов нынешних больших городов, которые ставят изготовление романа выше конструирования мотора самолета.
По другую сторону стоял материализм, в основном английского происхождения - великая мода полуобразованных слоев второй половины прошлого столетия, мода либеральных статей и радикальных сборищ, марксистских и социал-этических писак, полагавших себя мыслителями и писателями.
Если первым недоставало чувства реальности, то для вторых характерна поразительная нехватка глубины. Идеалом было ис
480 Человек в контексте культуры
ключительно полезное. К культуре принадлежало, культурой было полезное для «человечества». Все остальное считалось излишеством, предрассудком или варварством.
Но полезным было то, что служило «счастью большинства». А счастье заключалось в бездельи. Таково последнее основание учений Бентама, Милля и Спенсера. Цель человечества состояла в том, чтобы избавить индивида от возможно большей части работы, возложив ее на машины. Свобода от «рабства зарплаты», равенство в развлечениях, довольство и «наслаждение искусствами» - во всем этом дает о себе знать «panem et circenses»’* поздних мировых городов. Филистеры прогресса приходили в восторг от всякой кнопки, приводившей механизм в движение, якобы сберегавшее человеческий труд. На место подлинных религий прошлых времен пришла плоская мечтательная болтовня о «достижениях человечества», под которыми в конечном счете подразумевался прогресс трудосберегающей и развлекающей техники. О душе не могло быть и речи.
За малыми исключениями, это соответствовало вкусу не великих первооткрывателей и истинных знатоков технических проблем, но их зрителей, которые сами не были способны что бы то ни было открыть, да и ничего не понимали в технике, хотя чуяли в ней какой-то для себя прок. При полном отсутствии воображения, - а это отличает материализм всех цивилизаций - рисовалась лишь одна картина будущего: вечное блаженство на земле как конечная цель и как постоянное состояние. В качестве предпосылки брались тенденции развития техники, скажем, 80-х годов прошлого века - с тем сомнительным противоречием самому понятию прогресса, которое исключает «состояние». Примерами могут служить книги, вроде «Старой и новой веры» Штрауса, «Взгляд на 2000 год» Беллами и «Женщина и социализм» Бебеля. Более не будет войн, различий между расами, народами, государствами, религиями, исчезнут преступники и авантюристы, не станет конфликтов с властями и с чужаками, не будет ненависти, мести - лишь бесконечное удовольствие на тысячи лет. Даже сегодня, когда мы переживаем заключительную фазу этого тривиального оптимизма, подобные нелепицы вызывают в душе ужасающую скуку — taedium vitae2* времен Римской империи - при одном лишь чтении этаких идиллий. Хотя бы частичная их реализация привела бы к массовым убийствам и самоубийствам.
Обе точки зрения на сегодняшний день устарели. XX в. наконец-то достиг зрелости, чтобы дойти до смысла тех фактов, составляющих целое действительной мировой истории. Речь идет уже не о том, чтобы на вкус индивида или всей массы подгонять вещи и события под свои желания или надежды, выдавая их за
Освальд Шпенглер. Человек и техника 481
некую рационалистическую тенденцию. На место «Так должно быть» или «Так должно было бы быть» приходит «Гак есть и так будет». Гордый скепсис отбрасывает сентиментальности предшествующих веков. Мы научились тому, что история ни в малейшей мере не считается с нашими ожиданиями.
Только физиогномическое чувство, как я его назвал1, способно проникнуть в смысл происходящего - взгляд Гёте, взгляд прирожденного знатока людей, жизни, истории. Он смотрит сквозь эпохи и раскрывает глубинный смысл каждой из них.
2
Чтобы понять сущность техники, нужно исходить не из машинной техники, по крайней мере не поддаваться искушению видеть цель техники в создании машин и инструментов.
В действительности техника принадлежит древнейшим временам. Она не является и какой-то исторической особенностью, будучи чем-то чудовищно всеобщим. Она простирается за пределы человека, назад, к жизни животных, а именно всех животных. В отличие от растений, к жизненному типу животных принадлежат свободное передвижение в пространстве, относительная самопроизвольность и независимость от всей остальной природы, а тем самым и необходимость себя ей противопоставлять, чтобы наделять свой вид смыслом, содержанием и превосходством. Значение техники установимо только исходя из души.
Свободно передвигающаяся жизнь животных есть не что иное, как борьба, и в истории этой жизни решающую роль играет тактика жизни, ее превосходство или подчиненность «иному», идет ли речь о живой или неживой природе. Ею решается, в чем судьба, - - претерпевать ли историю других или быть для других историей. Техника есть тактика всей жизни в целом. Она представляет собой внутреннюю форму способа борьбы, который равнозначен самой жизни. Следует избегать и другой ошибки: технику нельзя понимать инструментально. Речь идет не о создании инструментов-вещей, а о способе обращения с ними; не об оружии, а о борьбе. В современной войне решающее значение имеет тактика, т.е. техника ведения войны, тогда как техника изобретения, изготовления и применения оружия есть лишь элемент целого. То же самое мы обнаруживаем повсюду. Имеются бесчисленные техники без каких бы то ни было орудий: есть техника льва, перехитрившего газель, есть техника дипломатии, техника управления, как поддержания формы государства для борьбы в политической истории. Имеются химические методы и техники приме-
482 Человек в контексте культуры нения газов. При всякой борьбе наличие проблемы предполагает логическую технику. Есть техника живописи, скачек, управления самолетом. Речь идет повсюду не о вещах, но о целенаправленной деятельности. Именно это часто упускается в исследованиях о доисторических временах, в которых слишком много думают о музейных экспонатах и слишком мало о бесчисленных методах, которые наверняка существовали, но не оставили видимого следа.
Любая машина служит лишь одному методу и возникла из его замысла. Все средства передвижения родились из мысли о езде, гребле, хождении под парусами, полете, а не из представления о вагоне или лодке. Сам метод является оружием. Вот почему техника не является какой-то «частью» экономики, равно как экономика не представляет собой самостоятельной «части» жизни, наряду с войной и политикой. Все это — стороны одной деятельной, борющейся, одушевленной жизни. Но от правойны ранних животных путь ведет к методам современных ученых и инженеров, и тот же путь ведет от первобытного оружия, хитрости, к конструированию машин, при помощи которых ведется нынешняя война против природы, с помощью которых ее удается перехитрить.
Это называется прогрессом. Таково великое слово прошлого столетия. История виделась как прямая дорога, по которой бодро и все дальше марширует «человечество». По существу, под ним подразумевались только белые народы, а среди них только обитатели больших городов, а из последних только «образованные».
Но куда марширует? Как давно? И что затем?
Есть что-то комичное в этом марше в бесконечность, к цели, о которой всерьез даже не задумывались, не пытались себе ясно представить - не осмеливались представить, ибо цель является концам. Никто ничего не делает, не помыслив хоть на мгновение, чего он тем самым достигнет, чего он хочет. Люди не начинают войн, не выходят в море и даже на прогулку, не подумав о длительности и о завершении. Всякому действительно творческому человеку ведома та пустота, которая наступает вслед за завершением работы, а потому он его боится.
Развитию принадлежит его завершение - всякое развитие имеет начало, всякое завершение является концом: юности принадлежит старость, возникновению - исчезновение, жизни — смерть. Привязанное своим мышлением к настоящему животное не знает о смерти, не подозревает о ней как о чем-то грозящем ему в будущем. Ему ведом только страх смерти в то мгновение, когда его убивают. Но человек, чье мышление освободилось от пут «здесь» и «теперь», который блуждает в своих раздумьях по завтра и вчера, улавливая смысл «некогда» бывшего и будущего, заранее о ней
Освальд Шпенглер. Человек и техника 483
знает, и уже от глубин его сущности и от его мировоззрения зависит, преодолевает он страх конца или нет. Согласно одной древнегреческой легенде, которая вошла в «Илиаду», мать Ахилла поставила его перед выбором: долгая и спокойная жизнь или короткая, но полная дел и славы. Он выбрал последнее.
Мы были и остаемся слишком мелкими и трусливыми, чтобы выносить факт бренности всего живущего. Отсюда розовые краски прогрессистского оптимизма, в который, по сути, никто не верит. Мы прикрываемся литературой, прячемся за идеалы, только б ничего не видеть. Но преходящесть, возникновение и исчезновение -это форма всего действительного, начиная с непредсказуемой судьбы звезд и вплоть до мимолетной толкотни на этой планете. Жизнь индивида — идет ли речь о животном, растении или человеке -столь же преходяща, как жизнь народов и культур. Всякое творение подлежит гибели, любая мысль, каждое открытие или деяние будут забыты. Во всем мы ощущаем пропавшую без вести судьбоносную историю. Перед нашими глазами повсюду лежат руины бывших творений умерших культур. Дерзкому Прометею, поднявшемуся в небо, чтобы подчинить человеку божественные силы, не избегнуть падения. Что нам до болтовни о «вечных достижениях человека»?
Мировая история не похожа на мечтания нашего времени. История человека коротка, если соизмерять ее с историей растений и животных, не говоря уж о долгой жизни планет. Внезапный подъем и упадок через несколько тысячелетий — это маловажно для судеб Земли, но для нас, здесь и теперь рожденных, эта история обладает трагическим величием и силой. Мы, люди XX в., спускаемся вниз зрячими. Наше видение истории, сама наша способность писать историю — предательские знаки того, что путь ведет вниз. Лишь на вершине высоких культур, при переходе их в цивилизацию, на мгновение пробуждается этот дар проницательного познания.
Само по себе совершенно безразлично, какой будет судьба этой маленькой планеты в толпе «вечных» звезд, куда через краткое время повлечет ее по бесконечным пространствам; еще безразличнее мы к тому, будет ли через пару мгновений что-нибудь на ней двигаться. Но каждый из нас - сам по себе ничто - на несказанно короткое мгновение заброшен в эту толкотню длиной в одну жизнь. Потому для нас она безмерно важна — этот малый мир, эта «мировая история». Судьба помещает каждого не в мировую историю вообще, но каждь1й рождается в каком-то столетии, в определенном месте, народе, религии, сословии. Выбирать нам не дано, родимся ли мы сыном египетского крестьянина за 3000 лет до Христа, персидским царем или сегодняшним бродягой. Этой судьбе — или случаю — нужно повиноваться. Она осуждает нас на какие-то ситуации, созерца
484
Человек в контексте кулыуры
ния, деяния. Нет «человека в себе», о котором болтают философы, но только человек своего времени, места, расы. Он утверждает себя или покоряется в борьбе с данным ему миром, а божественную Вселенную, простирающуюся вокруг него, это совершенно не трогает. Эта борьба и есть жизнь, а именно борьба в смысле Ницше, как воля к власти, свирепая, жестокая, борьба без пощады.
Травоядные и хищники
3
Ибо человек является хищником. Об этом всегда знали тонкие мыслители, вроде Монтеня или Ницше. Жизненная мудрость древних сказаний и пословиц всех крестьянских и пастушеских народов, смеющийся взор великих знатоков людей — государственных деятелей, полководцев, купцов, судей - на высоте их богатой жизни это не замалчивается и не отрицается, вопреки отчаянию всех улучшателей мира и брани разгневанных священников. Только торжественная серьезность философов-идеалистов и прочих богословов лишена мужества для признания того, что тайком всем хорошо известно. Идеалы - это трусость. И тем не менее по их трудам можно составить недурное собрание изречений, в которых они иной раз соскальзывают к человеку-бестии.
Но такое понимание человека нужно, наконец, принять всерьез. Скепсис, последняя возможная в нашу эпоху философская позиция — и эпохи достойная — уже не позволяет ходить вокруг да около. Именно поэтому я выступаю против воззрений, берущих свое начало в естествознании прошлого века. Анатомическое рассмотрение и упорядочение животного царства по своему происхождению целиком подчинено материалистической точке зрения. Картина тела предстает здесь перед человеческим взглядом лишь с тем, чтобы его разложили на составные части, химически препарировали, истязали экспериментами и получали систему покоящихся оптических единиц. Эта картина обосновывалась Линнеем и была палеонтологически углублена школой Дарвина. Но помимо нее имеется и совершенно другая картина: несистематический порядок родов жизни, данный неученому сопереживанию, внутреннему чувству родства «Я» и «Ты», которое знакомо всякому крестьянину, равно как и любому подлинному поэту или художнику. Я имею в виду физиогномику2 родов души животных — систематику строения тел я оставляю зоологам. Но в таком случае появляется совсем иная иерархия - жизней, а не тел.
Освальд Шпенглер. Человек и техника
485
Растение живет, но оно лишь в весьма ограниченном смысле является живым существом3. В действительности нечто живет в нем или вокруг него. «Оно» дышит, «оно» питается, «оно» размножается, но по сути оно лишь сцена для этих процессов, образующих такое единство с окружающими температурой, днем и ночью, солнечным светом и брожением почвы, что само растение не способно ни желать, ни выбирать. С ним и в нем все происходит. Оно не ищет ни места, ни пропитания, ни других растений, с которыми оно зачинало бы потомство. Оно не движется, но движимо — ветром, теплом, светом.
Над этим типом жизни возвышается свободно движущаяся жизнь животных, но сама она делится на две ступени. Сквозь все анатомические виды, от одноклеточного праживотного и вплоть до водоплавающих птиц и копытных животных, проходит один тип, чья жизнь нацелена на мир растений как свое пропитание. Растения не убегают и не могут обороняться.
Над ним возвышается второй тип жизни: животные, живущие за счет других животных, жизнь которых поддерживается убийством. Сама добыча очень подвижна, может сражаться и богата всякого рода хитростями. Этот тип жизни также проходит через все систематизируемые виды. Каждая капля воды является полем битвы, и мы, привычные к борьбе на земле, забываем о ее всеобщности или даже о самом ее существовании, а потому с ужасом наблюдаем сегодня, какие фантастические формы принимают убийство и смерть в пучинах морей.
Хищник — это высшая форма свободно движущейся жизни. Это означает максимум свободы от других и свободы для себя самого, ответственность перед самим собою, одиночество, предельную нужду в самоутверждении -- в борьбе, в победе, в уничтожении. Высокий ранг типу человека придает то, что он является хищником.
Травоядное по самой своей судьбе является добычей, оно пытается спастись от этого проклятия путем бегства без борьбы. Хищник делает другого добычей. Одна жизнь по глубочайшей сущности оборонительна, другая наступательна, тверда, жестока, разрушительна. Их различает уже тактика движений: с одной стороны, привычка прятаться, удирать, быстрота бегства, уловки, увертки; с Другой стороны, прямолинейность атаки, прыжок льва, пикирование орла. Есть хитрость сильного и хитрость слабого. Умными в человеческом смысле, активно умными, являются только хищники. Травоядные в сравнении с ними тупы: не только «честная» голубка и слон, но даже благороднейшие копытные: бык, лошадь, олень, которые могут сражаться только в слепой ярости и при половом возбуждении, а в прочее время смирны и послушны даже ребенку.
486
Человек в контексте культуры
Разница еще виднее не по движениям, а по органам чувств. По тому, каковы чувства, различаются способы, коими дан «мир». Каждое существо живет в природном окружении, замечает оно его или нет. Лишь с помощью таинственного и необъяснимого для человека отношения между животным и его окружением, посредством ощупывающего, упорядочивающего, понимающего чувства, из среды возникает мир всякого единичного существа4. Высшие травоядные, помимо слуха, направляются чутьем, высшие хищники правят посредством глаза. Чутье есть истинное чувство защиты. Нос чует приближение или удаление опасности и дает тем самым целесообразное направление для бегства. |
Глаз хищника, напротив, задает цель. Уже потому, что пара глаз крупных хищников может, как и у человека, фиксироваться на одной точке в окружении, им удается зачаровывать добычу. Во враждебном взгляде для жертвы уже запечатлена ее неизбежная судьба, прыжок следующего мгновения. Фиксированные вперед и параллельно направленные глаза означают появление мира в том смысле, как он дан человеку — как образ, как мир перед его взглядом — мир не только света и цвета, но прежде всего уходящей вдаль перспективы, пространства и происходящих в нем движений, а также покоящихся в определенных местах пространства предметов. Таким зрением обладают лишь благороднейшие хищники. Травоядные, например копытные, наделены расставленными глазами, дающими иное, неперспективное восприятие. Уже в этом заключается идея господства. Образ мира есть окружающий мир во власти взгляда. Глаз хищника определяет вещи согласно их положению и дальности. Ему ведом горизонт. Он соразмеряет объекты и условия атаки на этом поле битвы. Чутье и высматривание — косуля и ястреб — подобны рабу и господину. Бесконечное чувство власти заключено в этом дальнем, спокойном взгляде, то чувство свободы, которое проистекает из превосходства и покоится на большей силе, на уверенности в том, что он не станет ничьей добычей. Мир есть добыча - в конечном счете из этого факта вырастает человеческая культура.
Наконец, этот факт прирожденного превосходства простирается как вовне, в бесконечные дали света, так и вовнутрь, в душевную организацию сильных животных. Душа представляет собой нечто загадочное, мы испытываем это уже при произнесении этого слова. Ее сущность недоступна никакой науке - та божественная искра в живом теле, которая должна господствовать или подчиняться в этом забытом богами мире. Ощущаемое нами, людьми, как душа в себе и в других, есть противоположный свету полюс, а свет человеческое мышление и чувство охотно принимают за ми
Освальд Шпенглер. Человек и техника 487
ровую душу. Чем более одиноко существо, чем решительнее оно строит себе мир — против всего мира вокруг, - тем сильнее отчеканена его душа. Что противоположно душе льва? — Душа коровы. Травоядные замещают силу одинокой души большим числом, стадом, совместным чувством и массовым действием. Чем меньше нужда в других, тем больше мощь. Хищник находится во вражде со всеми, на своей территории он не терпит никого себе равного — в этом корень королевского понятия собственности. Собственность есть та область, на которую распространяется ничем не ограниченная власть; завоеванная, отстаиваемая от себе подобных, победно утверждаемая власть. Это не право на простое обладание, но на самовластное хозяйствование и распоряжение.
Нужно понять, что имеется этика хищников и этика травоядных. Тут ничего не изменишь. Это внутренняя форма, смысл, тактика всей жизни. Это просто факт. Жизнь можно уничтожить, но породы ее не изменить. Прирученный, помещенный в клетку хищник — примеры мы найдем в любом зоопарке — душевно искалечен, болен, уничтожен изнутри. Есть хищники, в неволе выбирающие смерть. С травоядными ничего не случается, когда они делаются домашними животными.
В этом различие судьбы травоядного и судьбы хищника. Первый может только угрожать, второму нужны жертвы. Тот покоряется, делается мелким и трусливым, этот возвышается мощью и победой, гордостью и ненавистью. Тот сносит других, этот сам по себе. Борьба внутренней природы против внешней, в которой Шопенгауэр и Дарвин находили только несчастье struggle for life-', является высшим смыслом жизни; как думал Ницше: amorfati4'. Этому роду принадлежит человек.
4
Он не является «добрым от природы» и тупым простаком, полуобезьяной с техническими задатками, как описывал его Геккель или малевал Габриэль Макс5, На этой карикатуре все еще лежит плебейская тень Руссо. Напротив, тактика его жизни относит человека к великолепным, отважным, хитрым и жестоким хищникам. Он живет атакой, убийством, уничтожением. С тех пор как он существует, он хочет быть господином.
В таком случае «техника» действительно старше человека? Нет, все же не так. Имеется гигантское различие между человеком и всеми другими животными. Техника всех животных является техникой вида. Она и не изыскивается, и не овладевается индивидом посредством обучения, и не может развиваться. Со вре
488
Чаюнек в контексте культуры
мени своего возникновения пчела одинаково строит свои соты и будет так их строить, пока не вымрет. Они принадлежат пчеле точно так же, как форма крыла и расцветка тела. Лишь с анатомической точки зрения зоологов можно отделять друг от друга строение тел и способ жизни. Если отталкиваться от внутренней формы жизни, а не от тела, то и тактика жизни, и организация тела - оба являются выражениями одной органической действительности. «Вид» есть форма не того, что по-видимосги покоится, но того, что подвижно, не бытия, а деяния. Телесная форма есть форма деятельного тела.
Пчелы, термиты, бобры делают удивительные постройки. Муравьи знакомы с растениеводством, строительством дорог, рабством и ведением войны. Широко распространены уход за выводком, празднества, планомерные странствия. Всего, на что способен человек, достигали также отдельные формы животных. Эти тенденции вообще суть спящие возможности свободно подвижной жизни. Человеку не свершить ничего, что не было бы достижимым для жизни в целом.
Тем не менее все это, по сути, не имеет ничего общего с человеческой техникой. Видовая техника неизменна. Это и обозначается словом «инстинкт». Поскольку «мышление» животных приковано к здесь и теперь, поскольку оно не ведает ни прошлого, ни будущего, оно не знает также ни опыта, ни заботы. Неверно, будто самка животного «заботится» о своем потомстве. Забота есть чувство, предполагающее знание, уходящее в даль будущего, подобно тому как стыд есть знание о том, что было. Животное не способно ни каяться, ни отчаиваться. Уход за выводком, как и все прочее, представляет собой лишь темное, не ведающее влечение у многих типов жизни. Оно принадлежит роду, а не единичному существу. Техника вида не только неизменна, она безлична.
Человеческая техника, и только она, независима от жизни человеческого вида. Эго уникальный случай во всей истории жизни — индивид выходит за пределы принуждения вида. Требуется немалое усилие мысли для постижения неслыханное™ этого факта. Техника жизни человека сознательна, умышленна, изменчива, личностна, изобретательна. Человек стал творцом своей тактики жизни. В ней заключается его величие и его проклятие. Внутреннюю форму творческой жизни мы называем культурой: говорим об обладании культурой, творении культуры, страдании от культуры. Творения человека суть проявления такого существования в личностной форме.
Происхождение человека: рука и орудие
5
С какого времени существует этот тип изобретательного хищника? Это равнозначно вопросу: с каких пор существует человек? — Что такое человек? Благодаря чему Он стал человеком?
Ответ звучит так: благодаря появлению руки, несравненного оружия в мире свободно передвигающейся жизни. Достаточно сравнить ее с лапой, клювом, рогами, клыками и хвостами других существ. В ней настолько сконцентрирована тактильность, что ее можно поставить чуть ли не в один ряд с такими органами чувств, как зрение и слух. Она различает не только тепло и холод, твердое и мягкое, но прежде всего тяжесть, образ и место противостоящего ей предмета, короче говоря, вещь в пространстве. Но сверх этого в ней столь поздно сосредоточивается жизнедеятельность, что она одновременно формирует осанку и движение тела в целом. В мире нет ничего сопоставимого с этим ощупывающим и деятельным членом. К глазу хищника, «теоретически» господствующего над миром, добавляется эта практическая властительница.
В сравнении с темпом космических потоков она должна была возникнуть внезапно, вдруг, как землетрясение, как возникает все решающее, в высшем смысле слова эпохальное в мировых событиях. Поэтому нам нужно освободиться от воззрений прошлого века, которые со времен Лайелла подводят геологические исследования под понятие «эволюции». Медлительно-флегматичное изменение соответствует английской натуре, но не природе. Чтобы подкрепить «эволюцию», накручивают миллионы лет, хотя обозримые времена не показывают ничего подобного. Но мы не могли бы различать геологические слои, если б они не разделялись неведомыми по роду и происхождению катастрофами, и не отличали бы друг от друга виды ископаемых животных, если бы они не возникали внезапно, не сохранялись бы в неизменности вплоть до своего вымирания. О «предках» человека мы ничего не знаем, несмотря на все розыски и анатомические сопоставления. Со времени появления человеческих скелетов он таков же, каков и сегодня. «Неандертальцев» можно найти во всяком народном собрании^ Также совершенно невозможно, чтобы рука, прямохождение, посадка головы и т.д. развивались бы по отдельности или одно за другим. Все они возникли вместе и неожиданно6. Мировая история идет от катастрофы к катастрофе, независимо от того, можем ли мы это понять и обосновать. Начиная с X. Де Фриза7 это доныне называется мутацией. Последняя представляет со
490
Человек в контексте кулыуры
бой внутреннюю трансформацию, которая вдруг охватывает все экземпляры вида, разумеется, без всякой «причины», как и все в действительности. Таков таинственный ритм действительного.
Не только рука, прямохождение и осанка возникли одновременно, но и рука и орудие - ранее на это никто не обращал внимания. Невооруженная рука сама по себе ничего не стоит. Она требует оружия, чтобы самой быть оружием. Подобно тому как орудие формируется по образу руки, так и, наоборот, рука формируется по образу орудия. Бессмысленно разделять их по времени. Невозможно, чтобы сформировавшаяся рука хотя бы краткое время была деятельной без орудия. Самые ранние останки людей и их инструменты одинаково древние.
Не по времени, но логически отделимы друг от друга технический метод, а именно изготовление оружия, и его применение. Как есть техника производства скрипки и техника игры на ней, точно так же соотносятся искусство кораблестроения и мореплавания, изготовления лука и сноровки в стрельбе. Ни один другой хищник не избирает себе оружия. Человек же его не только избирает, он его изготавливает согласно своим собственным соображениям. Тем самым он обрел ужасающее превосходство в борьбе с себе подобными, в борьбе против других животных, против всей природы.
Таково освобождение от принуждения вида, неслыханное в истории всей жизни на этой планете. Вместе с ним появляется человек. Он сделал свою жизнь в значительной степени независимой от обусловленности своего тела. Инстинкт вида сохранился во всей своей силе, но от него отделились мышление и мыслящее действие индивида, свободного от чар вида. Эта свобода есть свобода выбора. Каждый сам мастерит свое собственное оружие, согласно собственному умению и замыслу. Многочисленные находки неудачных и отброшенных заготовок доныне свидетельствуют о муках этого первоначального «умного деяния».
Чрезвычайное сходство этих обломков на всех пяти континентах едва ли дает право различать «культуры» (вроде Ашельской или Солютрийской) и уж совсем не дает права проводить временные сопоставления. Сходство объясняется тем, что это освобождение от уз вида поначалу выступало как великая возможность, — до реализации индивидуализма было еще далеко. Никто не хотел оригинальничать. Столь же мало думали тогда и о подражании другим. Всякий мыслил и работал сам по себе, но жизнь вида столь могущественна, что результаты повсюду были сходными, - так это, по существу, остается до сих пор.
К «мысли глаза» - понимающему острому взгляду крупного хищника - добавляется теперь «мысль руки». Из первого вы
Освальд Шпенглер. Человек и техника 491
рабатывается в дальнейшем теоретическое, рассуждающее, созерцающее мышление - «размышление», «мудрость»; из второго развивается практическое, деятельное мышление, хитрость, «рассудительность» в подлинном смысле слова. Глаз ищет причины и следствия, рука работает по принципам средства и цели. Ценностные суждения действующего относительно целесообразности или нецелесообразности не имеют ничего общего с истинным и ложным, с ценностями размышляющего, с истиной как таковой. Цель является фактом, тогда как связь причины и следствия — истиной*. Так возникают столь различающиеся способы мышления: у людей истины — священников, ученых, философов - и людей факта - политиков, военачальников, купцов. С тех времен и поныне отдающая команду, указывающая, сжатая в кулак рука является выражением воли. Отсюда объяснения по почерку и по форме руки. Отсюда же словесные формулы о твердой руке завоевателя, счастливой руке дельца, отсюда свойства души, прочтенные по руке преступника или художника.
Вместе с рукой, оружием и личностным мышлением человек сделался творцом. Все, что делает животное, остается в рамках деятельности вида, а потому не обогащает его жизни. Человек же, созидающее животное, расширяет свои владения в мире с помощью ищущей мысли и дела, а это оправдывает то, что собственную краткую историю он называет «мировой историей», именует свое окружение «человечеством», включая в него всю остальную природу в качестве фона, объекта и средства.
Деятельность мыслящей руки мы называем деянием. Деятельность присуща животным, деяние возникает только с человеком. Ничто так не подчеркивает различия, как зажжение огня. В появлении огня видны причина и следствие. Их видят и многие животные. Но только человек измыслил метод — цель и средство — вызывания огня. Никакое другое деяние не впечатляет столь могущественно своим творческим началом. Таково деяние Прометея. Одно из ужасающих, насильственнейших, загадочнейших явлений природы - молния, лесной пожар, вулкан - само вызывается человеком к жизни, против всей природы. Как оно подействовало на душу - первое сияние им самим зажженного огня!
6
Под сильнейшим впечатлением свободного, сознательного, индивидуального деяния, которое поднимается над одинаковым, инстинктивным, массовым «действием вида», происходит формирование собственно человеческой души. Она одинока даже
492
Человек в контексте кулмуРЬ|
в сравнении с душами других хищников, она наделена гордым и мрачным взором ведающего о собственной судьбе, о неукротимости чувства власти в привычном к деяниям сжатом кулаке. Он враг всех и каждого - убивающий, ненавидящий, решительно избирающий победу или смерть. Страсти этой души глубже, чем у любого другого зверя. Она находится в непримиримом противостоянии со всем миром, от которого ее отделило собственное творчество. Это душа мятежника.
Самый ранний человек гнездится наподобие хищной птицы. Даже если несколько «семей» сбиваются в стаю, то связи между ними чрезвычайно слабы. Еще не может быть речи о племенах, не говоря уж о народах, стаю образует случайное объединение пары мужчин, которые по случаю не стали сражаться друг с другом, с их женами и детьми, без всякого общего чувства, в совершенной свободе — тут нет стадного «мы» простых экземпляров вида.
Душа этого одиночки насквозь воинственна, недоверчива. Она ревниво оберегает собственную власть и добычу. Ей знаком пафос не только собственного «Я», но также того, о чем она говорит «Мое». Ей ведомо упоение, когда нож входит в тело врага; запах крови и стоны вызывают чувство триумфа. Всякий «настоящий мужчина» даже на стадиях поздней культуры иной раз ощущал спящий в нем жар этой первоначальной души. Тут нет жалких слов о «полезности» чего-нибудь «трудосберегающего». Еще меньше беззубого сострадания, примирения, стремления к покою. Зато есть гордость своей силой, радость от того, что его боятся, что им восхищаются, его ненавидят; есть жажда мести ко всем — живым существам и предметам, хоть как-то задевшим эту гордыню пусть только самим своим существованием.
Эта душа идет по пути растущего отчуждения от всей природы. Оружие всех хищников естественно, не таков лишь вооруженный кулак человека — с искусно выделанным, замысленным, избранным оружием. Здесь начинается «искусство» как противоположность природы. Всякий технический метод человека представляет собой искусство, да так они всегда и назывались: искусство стрельбы из лука, военное искусство, строительное искусство, искусство правления, жертвоприношения, гадания, рисования и стихосложения, научного экспериментирования. Искусственно, противоестественно любое человеческое действие — от зажигания огня и вплоть до тех свершений высших культур, которые обозначаются нами как собственно принадлежащие к «искусствам». У природы были вырваны привилегии творчества. Уже «свободная воля» есть акт мятежа. Творческий человек выходит из союза с природой, и с каждым своим творением он уходит от нее все деть-
Освальд Шпенглер. Челонек и техника
493
ше, становится все враждебнее природе. Такова его «всемирная история», история неудержимого, рокового раскола между человеческим миром и Вселенной, история мятежника, переросшего материнское лоно и подымающего на него руку.
Трагедия человека начинается потому, что природа сильнее. Человек остается зависимым от нее, ибо она все охватывает, в том числе и его, свое творение. Все великие культуры являются поэтому столь же великими поражениями. Целые расы пребывают сломленными, внутренне разрушенными, впавшими в бесплодие и расстройство духа - это ее жертвы. Борьба против природы безнадежна, и все же она будет вестись до самого конца.
Вторая ступень: речь и предприятие
7
Мы не знаем, как долго длился век вооруженной руки, иначе говоря, с каких пор существует человек. Число лет не так уж важно, хотя сегодня их насчитывают слишком много. Речь должна идти не о миллионах, даже не о сотнях тысяч лет, но изрядное количество тысячелетий все же минуло.
Теперь наступило время второй эпохальной трансформации, столь же внезапной и громадной. Как и первое, оно перевернуло до самого основания человеческую судьбу, вновь произошла подлинная мутация в указанном выше смысле слова. Она была давно замечена в исследованиях доисторического периода. Действительно, выставленные в наших музеях предметы вдруг обретают иной облик. Появляются глиняные горшки, следы «земледелия» и «скотоводства» — как их беззаботно и явно модернизаторски именуют - следы строительства хижин, погребений, намеки на средства передвижения. Заявляет о себе новый мир технического мышления и технических методов. С музейной точки зрения, слишком плоской и помешанной на простом упорядочении находок, различаются древний и новый каменные века, палеолит и неолит. Но такое подразделение уже давно вызывает недовольство, и его на протяжении десятилетий пытаются заменить каким-нибудь другим. Такие названия, как мезолит, мио- и миксонеолит, указывают на то, что продолжают держаться простого порядка объектов, а потому не могут пойти дальше. Трансформировались, однако, не инструменты, а человек. Скажем еще раз: только по душе можно проследить историю человека.
Эта мутация довольно легко датируется — V тыс. до н.э.9. Самое большее через два тысячелетия уже начинаются высокие культу
494 Человек в контексте культуры
ры Египта и Месопотамии. Видно, как темп истории трагически ускоряется. Раньше тысячелетия играли малозаметную роль, теперь важность обретает каждое столетие. Скатившийся камень быстрыми скачками падает вниз.
Но что именно произошло? Проникая глубже в новый мир форм человеческих деяний, мы скоро обнаруживаем запутанные и усложнившиеся взаимосвязи. Все эти техники друг друга предполагают. Содержание прирученных животных требует выращивания для них корма, а посев и жатва растений предполагают наличие тягловых и перевозящих грузы животных. Это, в свою очередь, требует построения заграждений, всякого рода постройки и перевозку строительных материалов, а транспорт опять-таки требует Бьючныхживотных и кораблей.
Какой душевный переворот обнаруживается во всем этом? Я даю следующий ответ: планомерная деятельность многих. До сей поры каждый человек жил сам по себе, сам изготавливал свое оружие, в одиночку реализовывал тактику своей ежедневной борьбы. В другом никто не нуждался. Это неожиданно меняется. Новые методы простираются на длительные отрезки времени, иногда они требуют многих лет - достаточно проследить путь от срубленного дерева до путешествия на построенном из него корабле — и столь ж.е длинных расстояний. Они распадаются на ряды точно следующих друг за другом единичных актов и групп рядоположенных /действий. Такие целостные методы, однако, предполагают в качестве неотъемлемого средства слово, язык.
Речь с помощью предложений и слов не может явиться раньше или позже, она должна возникнуть именно тогда, скоро, как все имеющее решающее значение; а именно в тесной связи с новыми человеческими методами. Это нуждается в доказательстве.
Что такое «речь»10? Без сомнения, это метод, имеющий своей целью сообщение, - деятельность, которая осуществляется совместно многими людьми. «Язык» есть лишь абстрактная, внутренняя — грамматическая - форма речи, включающая и форму слова. Эта форма должна иметь известную распространенность и длительность употребления, иначе сообщение не может состояться. Ранее я показалн, что речь посредством предложений проистекает из более простых форм общения - поданые глазами знаки, сигналы, жесты, предупреждающие и угрожающие крики. Все они до сих пор подкрепляют речь с помощью предложений: мелодичность речи, ударение, мимика, движения руки. В современном письме они представлены знаками препинания.
И все же «текучая» речь по своему содержанию есть нечто совершенно новое. Со времен Гаманна и Гердера вновь и вновь за
(Х?в<ык1 UlueHi iep. Человек н техника____________________495
давался вопрос о ее происхождении. Причина того, что ни один из доныне предложенных ответов нас не удовлетворяет, заключается в ложной постановке самого вопроса. Ибо первоисток словесной речи нельзя искать в самой речевой деятельности. Это было свойственно чуждым действительности романтикам, выводившим язык из «первоначальной поэзии человечества». Даже больше того, язык был первой поэзией, был одновременно мифом, лирикой, молитвой, а проза представала лишь как позднейшее ниспадение до повседневного пошлого использования. Но в таком случае следовало бы совсем иначе рассматривать внутреннюю форму языка, грамматику, логическое построение предложения. Уже такие самобытные языки, как банту или язык тюркских племен, отчетливо указывают на наличие в них совершенно ясных, строгих, однозначных различений'2.
Но это ведет к основной ошибке врагов всякой романтики, рационалистов. Они держатся мнения, будто предложение выражает суждение или мысль. Они сидят за своими заваленными книгами письменными столами и ломают голову по поводу собственного мышления и писания. Поэтому целью речи им кажется «мысль». Поскольку они умеют только сидеть, ими забывается слушание речи, ответ на вопрос, наличие «Ты» для «Я». Они говорят: «Язык», подразумевая лекцию, доклад, трактат. Их взгляд на происхождение языка монологичен, а потому ложен.
Правильно поставленный вопрос звучит не так: «Когда возникает речь посредством слов?», но так: «Когда он возникает?» Тогда все сразу становится на свои места. Чаще всего не понимается и проглядывается ^ельречи в предложениях, а она вытекает из того времени, с которого она существует как беглая речь. Цель выявляется по форме построения предложений. Речь не монологична, но диалогична, роды предложений следуют не как в докладе, но как беседа между многими людьми. Цель речи — не понимание размышлений, а многостороннее согласие посредством вопросов и ответов. Каковы ее первоначальные формы? Не суждение, не высказывание, но приказ, выражение послушания, утверждение, вопрос, подтверждение, отрицание. Эти предложения всегда обращены к другому. Поначалу они, конечно, очень коротки: «Сделай это! Готово? Да! Начинаем!» Слова как обозначения понятий'3 проистекают из цели предложения, так что сначала словарь племен охотников был совсем иным, чем в поселении скотоводов или в деревне рыбаков. Первоначально язык был трудной работой14 и проговаривалось только самое необходимое. Доныне крестьянин молчаливее горожанина, которому речь привычна, который не может рта закрыть и болтает со скуки, затевает пустые разговоры, даже если ему нечего сказать.
496
Человек в контексте культуры
Первоначальной целью является осуществление деяния, согласно намерению, времени, месту, средствам. Однозначная формулировка была первым делом, и из трудностей понимания цели, передачи собственной воли другим проистекает техника грамматики - техника построения предложений и разбивки их по рядам правильных разделов приказов, вопросов, ответов, образование классов слов на основе практических, а не теоретических намерений и целей. Теоретическое размышление не играло почти никакой роли в происхождении речи. Всякая речь по своей природе практична, она происходит из «мышления руки».
8
Осуществляемое многими деяние мы называем предприятием (Unternehmen). Речь и предприятие предполагают друг друга подобно тому, как ранее рука и орудие. Разговор со многими имеет свою внутреннюю грамматическую форму, развившуюся при осуществлении предприятий, тогда как привычка к предприятиям вырабатывалась с помощью привязанного к языку мышления. Ибо речь означает мысленное общение с другими. Речь есть деяние, но это духовное действие посредством чувственных средств. Прямая связь с телесным действием вскоре перестает быть необходимостью. Теперь, с V тыс. до н.э., эпохальным становится нечто новое: мышление, дух, интеллект или как его еще называть, через язык освобождается от привязанности к действующей руке, противопоставляет себя душе и жизни как особая сила. Здесь, неожиданно и решительно все меняя, возникает чисто духовное размышление, «расчет»; совместное действие как единство приобретает такую эффективность, словно речь идет о деятельности великана. Как это иронически выразил Мефистофель в «Фаусте»:
Wenn ich seeks Hengste zahlen kann, Sind ihre Krafte nicht die meine? Teh rcnnc zu und bin ein rec hl er Mann, AIs hatt ich vierundzwanzig Beine.
(Но разве нс мое, скажи, в итоге, Вес, из чего я пользу извлеку? Купил я, скажем, резвых шестерню, Не я ли мчу ногами всей шестерки, Когда я их в карете разгоню?)
(Пер. Б.Пастернака)
()свальд Шпенглер. Человек и техника 497
Человек-хищник сознательно желает роста своего превосходства, выходящего за границы его телесной силы. Этой воле ко все большей власти он жертвует часть своей собственной жизни. На первом месте тут стоят мысль, расчет большей действенности. Во имя этого он согласен отдать часть личной свободы. Внутренне человек сохраняет независимость. Но в истории нет пути назад. Время и жизнь необратимы. Привыкнув к совместной деятельности многих и к ее успехам, человек все глубже погружается в роковые сети. Предприимчивое мышление все сильнее вторгается в его жизнь. Человек сделался рабом своей мысли.
Переход от употребления личных орудий к организации многих означает неслыханно возросшую искусность методов. Работа с искусственными материалами - гончарное, ткацкое дело — предвещает еще немного, но и она уже куда более одухотворенная, творческая, чем все предыдущее. Мы ничего не знаем о многочисленных методах, но иные из них оставили следы, говорящие об огромной силе мысли. Прежде всего те, что произросли из «строительной мысли». Существовало горное дело, добыча кремня, возникшая задолго до всякого знания о металлах. В Бельгии, Англии, Австрии, Сицилии, Португалии появились в эти времена шахты и штольни с вентиляцией и креплениями. В них работали с помощью орудий из оленьих рогов15. В «ранненеолитический» период существовали развитые связи между Португалией и Северной Испанией с Бретанью (в обход Южной Франции), между Бретанью и Ирландией, предполагавшие регулярное мореплавание, а также постройку эффективных повозок неизвестного нам образца. В Испании есть мегалитические строения из обтесанных камней гигантских размеров, с платформами до 100 тыс. кг весом, которые зачастую должны были доставляться издалека и устанавливаться с помощью неведомой нам техники. Разве не ясно, что подобным предприятиям требовались замысел, совет, надзор, приказ, месяцы и годы подготовки, подвоз материалов, распределение задач во времени и в пространстве, набросок плана, принятие решений и управление их исполнением? Путешествие на корабле требует куда больших предварительных расчетов, чем изготовление кремниевого ножа. Уже «составной лук» с испанских наскальных росписей того времени из сухожилий, рога и определенных пород дерева требует для своего изготовления сложных методов, простирающихся на 5-7 лет во времени. Мы наивно говорим «изобретение повозки», не задумываясь о предварительном размышлении, упорядочении, действии, которые включали в себя цель, путь и способ «езды», выбор и подготовку дороги (о ней обычно забывают), приобретение или приручение вьючных животных — вплоть
498 _________________________Человек в контексте культуры
до вычисления величины и сорта груза, его безопасности, управления повозкой и убежищах по дороге!
Совсем иной мир творений приходит от «порождающей мысли», а именно: разведение растений и животных, в котором человек замещает саму творительницу-природу. Он ей подражает, изменяет ее, улучшает, насилует. С тех пор как он стал возделывать, а не собирать растения, он уже явно сознательно преследует свои цели. Во всяком случае, такие открытия недостижимы для дикарей. А древнейшие останки костей животных, свидетельствующие о той или иной форме разведения скота, уже показывают следствия «приручения» — хотя бы отчасти они желались и достигались путем выведения новых пород16. Понятие добычи для хищника расширяется: добычей и собственностью становится не только убитое животное, но также пасущиеся дикие животные17, огораживаются эти пастбища или нет18. Стада кому-то принадлежат, племени или отряду охотников, которые отстаивают свое право на эксплуатацию. Помещение за ограду в целях разведения, предполагающее выращивание корма, представляет собой лишь один из многих видов владения.
Я показал выше, что возникновение руки имеет своим следствием логическое разделение двух методов: создания и применения оружия. Точно так же теперь из направляемого языком предприятия следует разделение деятельностей мысли и руки. Во всяком предприятии различаются замысел и осуществление: отныне первейшим и важнейшим является успех практического мышления. Есть работа вождя и проводимая работа: это стало основной технической формой всей человеческой жизни на последующие времена19. Идет ли теперь речь об охоте на крупного зверя или о строительстве храма, о военном или сельскохозяйственном предприятии, об основании компании или государства, следовании каравана, восстании, даже о преступлении - всегда для начала должна иметься предприимчивая голова с идеей. Она изыскивает, осуществляет руководство, приказывает, распределяет обязанности. Короче, должен иметься тот, кто рожден руководить теми, кто вождем не является.
В век руководимой речью организации имеются не только два рода техники, которые от столетия к столетию расходятся все дальше, но также два рода людей, которые различаются по своим способностям к одному или к другому. Во всяком методе есть техника вождя и техника исполнителя, а потому от природы есть безусловно приказывающие и подчиняющиеся, субъекты и объекты политических. или хозяйственных методов. Такова основная форма сделавшейся многообразной человеческой жизни со времен этой трансформации, отменить ее можно только вместе с самой жизнью.
Освальд Шпенглер. Человек и техника 499
Пусть эта форма противоестественна, искусственна — но это и есть «культура». Она может быть роковой и временами такой действительно становится, когда воображают, будто ее можно искусственно отменить. Тем не менее она является непоколебимым фактом. Правление, принятие решений, руководство, приказание — это искусство, трудная техника, которая, как и всякая другая, предполагает врожденную одаренность. Лишь дети верят в то, что король и спать ложится в короне, и лишь недочеловеки больших городов, марксисты, литераторы, думают нечто подобное о вождях промышленности. Предприятие есть работа, которая только и делает возможной работу руками. То же самое относится к открытию, изобретению, исчислению, осуществлению новых методов — творческой деятельности одаренных голов, имеющей своим необходимым следствием нетворческую деятельность исполнителей. К этому относится несколько старомодное различие между гением и талантом. Гений буквально20 представляет собой творческую силу, священную искру индивидуальной жизни, которая загадочным образом вспыхивает и потухает в потоке поколений, а затем вдруг возгорается через столетия. Талант есть дар решения наличных частных задач, который можно в значительной мере развить с помощью традиции, обучения, тренировки и дрессировки. Для своего применения талант нуждается в гении, а не наоборот.
Наконец, имеется естественное различие рангов между людьми — рожденных для господства и для услужения, вождями и ведомыми жизни. В здоровые времена и у здоровых народов это непроизвольно признается как факт, а в столетия упадка большинство начинает это отрицать или не замечать. Но как раз болтовня о «природном равенстве всех» выдает то, что именно это нуждается в доказательстве.
9
Руководимое речью предприятие теперь связано с насильственным ограничением свободы, древней свободы хищника — как для вождей, так и для ведомых. И те и другие духовно, душевно, плотью и жизнью своей делаются членами большого единства. Это мьг называем организацией. Она представляет собой отлитую в твердые формы деятельную жизнь, бытийную форму любого предприятия. Вместе с деятельностью многих свершается решающий шаг от органического к организованному существованию, от жизни в естественных группах к искусственным группам, от стаи к народу, сословию и государству.
500
Человек в контексте культуры
От борьбы между одинокими хищниками происходит война, предприятие племени против племени, с вождями и дружинами, с организованными маршами, нападениями и сражениями. На место уничтожения побежденных приходит закон, возлагающий дань на уступившего в бою. Человеческое право всегда есть право сильнейшего, коему должен следовать слабейший21, и такое право между племенами как нечто длительное понимается как «мир». Подобный мир имеется и внутри каждого племени, чтобы приуготавливать его силы для внешних задач: государство есть внутренний порядок народа для достижения внешних целей. Как форма, как возможность государство является действительной историей народа22. Но история есть история войн, так это остается и поныне. Политика есть лишь преходящий эрзац войны с помощью оружия духа. Мужское население какого-либо народа издревле было равнозначно его войску. Характер свободного хищника в значительной степени передается от индивида организованному народу - зверю с одной душой и многими руками23. Техники правления, войны, дипломатии имеют один и тот же корень, и во все времена они пребывали в глубоком родстве.
Есть народы, сильная раса которых сохранила характер хищника, — разбойничьи, завоевательные народы господ, любители борьбы с людьми, передоверяющие другим хозяйственную борьбу против природы, чтобы их грабить и покорять. Вместе с мореплаванием появляется пиратство, вместе с кочевничеством — нападения на торговые пути, вместе с крестьянством - его закрепощение воинственным дворянством.
Вместе с организацией предприятий разделяются также политическая и хозяйственная стороны жизни — по направлениям к власти или к добыче. Подразделение по родам деятельности имеется не только внутри народов (воины и ремесленники, предводители и крестьяне), но также организация целых племен для выполнения единственной хозяйственной задачи. Уже тогда существовали племена охотников, скотоводов, земледельцев, поселения горняков, гончаров, рыбаков, политические организации мореплавателей и торговцев. Но помимо этого существовали народы-завоеватели, не имеющие хозяйственной работы. Чем ожесточеннее борьба за власть и добычу, тем теснее и суровее узы права и насилия для каждого.
В древних племенах индивидуальная жизнь значит очень мало или вовсе ничего. Должно быть понятно — исландские саги дают нам образ, - что из всякого путешествия по морю возвращалась лишь часть команды, при любом большом строительстве гибла немалая часть работников, во время засухи вымирали от голода целые племена. Главное — сохранить ровно столько, чтобы они
Освальд Шпенглер. Человек и техника 501
могли представлять душу целого. Численность снова быстро возрастет. Уничтожением считали не гибель немногих или многих, но угасание организации, «Мы».
В растущей взаимозависимости обнаруживается безмолвная и глубокая месть природы тому существу, которое вырвало у нее привилегию творения. Этот малый творец против природы, этот революционер мира жизни сделался рабом собственного творения. Культура, включающая в себя искусственные, личностные, самодельные формы жизни, развилась в клетку с тесной решеткой для этой неукротимой души. Хищник, делающий другие существа домашними животными, чтобы эксплуатировать их в своих целях, поймал в загон и самого себя. Великим символом этого служит человеческий дом.
Растет число людей, в котором индивид утрачивает всякое значение. Ибо действия человеческого духа предпринимательства чреваты многократным увеличением населения. Там, где бродила стая из нескольких сотен, теперь сидит народ из десятков тысяч24, не остается пустого безлюдного пространства. Народ граничит с народом, и простой факт границы - границы собственной власти — возбуждает древние инстинкты ненависти, агрессии и уничтожения. Любого рода граница, в том числе и духовная, — смертельный враг воли к власти.
Неверно, будто человеческая техника сберегает труд. Сущность изменчивой, личностной человеческой техники, в противоположность видовой технике животных, в том, что каждое изобретение содержит в себе возможность и необходимость новых изобретений. Всякое исполненное желание пробуждает тысячи других, любой триумф над природой подвигает к еще более грандиозным. Душа этого хищника ненасытна, его воля никогда не удовлетворяется - таково проклятие, лежащее на этом роде жизни, но также и величие его судьбы. Покой, счастье, наслаждение неведомы как раз высшим его экземплярам. Ни один изобретатель не мог правильно предсказать, каким будет практическое воздействие его деяния. Чем плодотворнее работа вождя, тем больше требуется ведомых им рук. Поэтому начинается эксплуатация физической силы пленников враждебных племен - их перестали убивать. Таково начало рабства, которое должно быть столь же древним, как и рабство домашних животных.
Эти народы и племена приумножаются вниз, растет число не «голов», но рук. Группа природных вождей остается небольшой. Это стая хищников в собственном смысле слова, стая одаренных, которая так или иначе располагает растущим стадом всех прочих.
Но даже это господство далеко от древней свободы. Об этом сказано Фридрихом Великим: «Я — первый слуга моего государства».
502
Человек в контексте кулыуры
Отсюда глубокое, отчаянное стремление избранных людей к внутренней свободе. Только здесь начинается индивидуализм, противостоящий психологии «массы». В этом заключается последнее восстание души хищника против темницы культуры, последняя попытка выхода за пределы душевного и духовного выравнивания, возникающего и устанавливающегося под воздействием факта многочисленности. Тут берет свое начало тип жизни завоевателя, авантюриста, отшельника, даже некий тип преступника или человека богемы. Хотят избегнуть влияния засасывающего количества - поставив себя над ним, убегая от него, его презирая. Идея личности, начало которой теряется во тьме, есть протест против человека массы. Напряжение между ними обоими растет вплоть до трагического конца.
Ненависть, подлинное расовое чувство хищника, предполагает, что врага почитают. Это связано с неким признанием душевного ранга. Нижестоящих презирают. Низкие существа завистливы. Все древние сказки, мифы о богах и саги о героях полны такими мотивами. Орел ненавидит лишь ему подобных. Он никому не завидует, он презирает многих, всех. Презрение смотрит свысока, зависть косит глазами снизу — это всемирно-исторические чувства организованного в государства и сословия человечества. Мирные его экземпляры покорно трутся о прутья клетки, охватывающей все человечество. От этого факта и его последствий не освободиться. Так было, так будет — или вообще больше никак не будет. Есть смысл почитать или презирать положение дел, изменить его невозможно. Судьба человека уже в пути, и она должна свершиться.
Исход: подъем и конец машинной культуры
10
«Культура» вооруженной руки существовала долгое время и охватывала весь человеческий вид. «Культуры речи и предприятия» уже четко между собой различаются, их много. В этих культурах начинается противостояние личности и массы. Только часть человечества входит в эти культуры с маниакально рвущимся к господству «духом» и насилуемой им жизнью. К сегодняшнему дню, через несколько тысячелетий, все эти культуры давно угасли и разрушились. Те, кого мы сегодня называем «детьми природы» или «первобытными людьми», представляют собой лишь останки жизненного материала, руины некогда одушевленных форм, в которых погасло пламя становления.
Освальд Шпенглер. Человек и техника 503
На этой почве с III тыс. до н.э. тут и там вырастают высокие культуры25, культуры в узком и великом смысле слова. Каждая из них заполняет уже совсем небольшое пространство земной поверхности и длится едва больше тысячелетия. Это время последних катастроф. Каждое десятилетие что-нибудь значит, чуть ли не всякий год имеет «свое лицо». Гакова мировая история в подлинном и взыскательном смысле слова. Эта группа страстных потоков жизни нашла свой символ и свой «мир» в городе — против деревни на предшествующей ступени: каменный город, как обиталище искусственной, оторванной от матери-земли, совершенно противоестественной жизни. Город оторван от корней мышления, он притягивает к себе и потребляет потоки жизни, идущие от страны26.
Тут возникает «общество»27 с его рангами — дворяне, священники, бюргеры — против «грубой деревенщины». Такие ступени жизни искусственны; естественно деление на сильных и слабых, умных и глупых. «Общество» становится местом культурного развития, которое целиком пронизано духом. Здесь царствуют «роскошь» и «богатство». Эти понятия завистливо искажаются теми, кто не принадлежит этому миру. Но роскошь есть не что иное, как культура в самой притязательной форме. Достаточно вспомнить об Афинах времен Перикла, о Багдаде Гарун Аль-Рашида или об эпохе Рококо. Эта городская культура насквозь и во всем пронизана роскошью, во всех слоях и профессиях, становясь со временем все более богатой и зрелой, все более искусственной, идет ли речь об искусстве дипломатии, стиля жизни, украшений, письма и мысли, хозяйственной жизни.
Без экономического богатства, скапливающегося в руках немногих, невозможно «богатство» изящных искусств, духа, благородства нравов, не говоря уж о такой роскоши, как мировоззрения, как теоретическая мысль, сменяющая мысль практическую. Упадок хозяйства влечет за собою духовную и художественную нищету.
В этом смысле духовной роскошью являются также технические методы, вызревающие в группе этих культур, — поздний, сладкий, легкоранимый плод все возрастающей искусственности и одухотворенности. Они начинаются со строительства египетских гробниц-пирамид и шумерских храмовых башен в III тыс. до н.э. Они рождаются далеко на Юге и знаменуют победу над тяжкой массой, за^ем они проходят сквозь творения китайской, индийской, античной, арабской и мексиканской культур, движутся к фаустовской культуре II тыс. н.э. на высоком Севере. Она представляет собой победу над тяжкой проблемой чисто технического мышления.
Эти культуры растут независимо друг от друга и одна за другой сдвигаются с Юга к Северу. Фаустовская, западноевропейская
S04
Человек в контексте культуры
культура, быть может, не последняя, но она наверняка самая насильственная, страстная, трагичнейшая в своем внутреннем противоречии между всеохватывающей одухотворенностью и глубочайшей разорванностью души. Возможно, в следующем тысячелетии, где-нибудь между Вислой и Амуром, запоздало явится ее бледный наследник, но здесь борьба между природой и человеком, восставшим против нее своим историческим существованием, будет вестись практически до самого конца.
Северный ландшафт тяжестью условий жизни, холодом, постоянной нуждой выковал из людской породы твердую расу — с предельно обостренным духом, с холодным пламенем неукротимой страсти к битвам, со стремлением вперед и вперед, к тому, что я назвал пафосом третьего измерения*. Это воистину хищники, сила души которых устремлена к невозможному, а превосходство мысли, искусственно организованной жизни, претворяется в кровь и преображается в служение, возвышающее судьбу свободной личности до мирового смысла. Воля к власти, смеющаяся над всеми границами времени и пространства, имеющая своей целью безграничное, бесконечное, подчиняет себе все континенты, охватывая, наконец, весь земной шар своими средствами передвижения и коммуникации. Она преображает его насилием своей практической энергии и неслыханностью своих технических методов.
В начале всякой высокой культуры образуются оба первых сословия, дворянство и жречество, представляя собой первое «общество», возвышающееся над равниной крестьянской жизни29. Они воплощают идеи, причем идеи взаимоисключающие. Благородный, воин, авантюрист живет в мире фактов ученый, философ обитает в мире истин. Один чувствует себя или является судьбой, другой мыслит каузально. Один желает поставить дух на службу сильной жизни, другой ставит жизнь на службу духу. Нигде это противоречие не обретало столь непримиримых форм, как в фаустовской культуре, где кровь хищника в последний раз восстает против тирании чистой мысли. От борьбы идей императоров и папства в XII—XIII вв. и вплоть до борьбы между силами благородной традиции — королем, дворянством, войском — теориями плебейского рационализма, либерализма, социализма во французской и немецкой революциях вновь и вновь отыскивается решение этого противоречия.
И
Во всем своем величии заявляет о себе это расхождение викингов крови и викингов духа во времена подъема фаустовской культуры. Одни ненасытно рвутся в бесконечную даль: с высокого Севера в
(къальд Шпенглер. Человек н техника__________________ 505
Испанию (796), в глубь России (859), в Исландию (861). Одновременно они приходят в Марокко, оттуда идут к Провансу и Риму, в 865 г. через Киев (Kaenugard) движутся к Черному морю и Византии, в 880 г. доходят до Каспийского моря, в 909 г. - в Персию. Около 900 г. они заселяют Нормандию и Исландию, в 980 г. — Гренландию, в 1000 г. открывают Северную Америку. В 1029 г. они приходят из Нормандии в Южную Италию и Сицилию, в 1034 г. - через всю Византию проходят из Греции в Малую Азию, в 1066 г. - из Нормандии завоевывают Англию30.
С той же дерзостью и такой же жаждой духовной власти и добычи нордические монахи XHI-XIV вв. погружаются в технико-физические проблемы. Здесь нет ничего похожего на чуждое деяниям и праздное любопытство китайских, индийских, античных и арабских ученых. Тут нет спекуляций с одной лишь целью получения чистой «теории», картины того, что познается. Всякая естественно-научная теория есть рассудочный миф о силах природы, и каждая из них целиком зависит от своей религии31. Здесь и только здесь теория с самого начала является рабочей гипотезой32. Последней не требуется быть «правильной», она должна быть только практически пригодной. Она не разгадывает тайны мира, но становится на службу определенным целям. Отсюда требование математического метода, выдвинутое англичанами Гроссетестом (род. в 1175 г.) и Роджером Бэконом (род. около 1210 г.), немцами Альбертом Великим (род. в 1193 г.) и Витело (род. в 1220 г.). Отсюда эксперимент, scientia expert mentalis5 Бэкона: допрос природы с применением пытки, с помощью рычагов и винтов33. Experimentum enim solum certificat6*, как писал Альберт Великий. Такова военная хитрость хищника духа. Они думали, что хотят «познать Бога», но желали только неорганических сил природы, той невидимой энергии, которая пребывает во всем; они хотели сделать полезным все происходящее, изолированное, ощутимое. Фаустовское естествознание, и только оно одно, представляет собой динамику — против статики греков и алхимии арабов34. Речь тут идет не о веществе, но и силе. Самая масса есть функция энергии. Гроссетест развивает теорию пространства как функции света, Петр Перегрин — теорию магнетизма. В одной рукописи 1322 г. намечается коперниковская теория движения Земли вокруг Солнца, а полвека спустя Николай Оресм в «De coelo et mundo»7" обосновывает эту теорию яснее и глубже, чем это сдел<Сл сам Коперник, а в «De differentia qualitatum»8’ им предугадываются закон падения Галилея и геометрия координат Декарта. В Боге видят более не господина, правящего миром со своего трона, а бесконечную, едва персонифицированно мыслимую силу, которая повсеместно присутствует в мире. Необычна такая служба
506 Человек в контексте культуры
Богу — это экспериментальное исследование тайных сил благочестивыми монахами. И как было сказано одним старым немецким мистиком: как ты Богу служишь, так служит тебе Бог.
Уже не удовлетворялись службой растений, животных и рабов, захватом у природы сокровищ - металлов, дерева, волокна, воды в каналах и в колодцах; ее сопротивление стали побеждать мореплаванием, дорогами, мостами, туннелями и плотинами. Ее уже не просто грабили, отнимая у нее вещества, но вместе со всеми своими силами она попадала под иго и рабски прислуживала приумножению человеческой мощи. Этот неслыханный для всех других культур замысел столь же стар, как фаустовская культура. Уже в X столетии мы встречаем технические инструкции совершенно нового типа. Роджер Бэкон и Альберт Великий думали о паровых машинах, пароходах и самолетах. Многие в своих кельях ломали голову над идеей perpetuum mobile35.
Эта мысль нас потом уже не оставляла. Вечный двигатель был бы окончательной победой над Богом и над природой (deus sive natura10*): малый мир творит сам себя и, подобно большому миру, движим своей собственной силой, послушной только человеку. Самому построить мир, самому быть Богом — вот фаустовская мечта, из которой проистекли все проекты машин, насколько возможно приближавшиеся к недостижимой цели perpetuum mobile. Понятие добычи хищника было продумано до самого конца. Не что-то одно, вроде огня, украденного Прометеем, но сам мир со всеми своими тайными силами стал добычей, привносимой в постройку этой культуры. Тот, кто никогда не был одержим этой волей к всевластию, должен находить ее дьявольской - машин всегда боялись, считая их выдумкой дьявола. С Роджера Бэкона начинается долгий ряд тех, кто погибал как колдун или еретик.
Но история западноевропейской техники продвигается вперед. Около 1500 г. вместе с Васко де Гама и Колумбом начинается новый цикл походов викингов. В Вест- и Ост-Индии создаются новые царства, и поток людей с нордической кровью36 выливается на Америку, где некогда впустую высаживались исландцы. Одновременно гигантским становится продвижение викингов духа, изобретаются порох и книгопечатание. Со времен Коперника и Галилея один за другим следуют новые технические методы, имеющие один и тот же смысл: найти неорганические силы окружающего мира и приспособить их к работе вместо животных и людей.
Вместе с ростом городов техника становится бюргерской. Наследником готического монаха был мирской ученый-изобретатель, познающий жрец машины. С появлением рационализма «вера в технику» делается чуть ли не материалистической религией: техника
Освальд Шпенглер. Человек и техника 507
вечна и непреходяща, подобно Богу-Отцу; она освобождает человечество, подобно Сыну; она просветляет нас, как Дух Святой. А молится на нее филистер прогресса — от Ламетри до Ленина.
На деле страсть изобретателя не имеет ничего общего со своими последствиями. Она представляет собой личностное жизненное влечение, личное счастье и страдание, ему нужны победа над трудной проблемой, богатство и слава, приносимые успехом. Польза или вред, созидательный или разрушительный характер изобретения его не касались бы даже в том случае, если б о них дано было знать заранее. Но воздействия «технического достижения человечества» никто не предскажет, не говоря уж о том, что «человечество» никогда и ничего не изобретало. Открытия в химии, вроде синтеза индиго, а потом искусственного каучука, уничтожили благосостояние целых стран, электрическая передача и освоение гидравлики обесценили старые угледобывающие районы Европы вместе со всем их населением. Разве мысли о подобных последствиях остановили хоть одного изобретателя? Подобные мысли говорят о полном непонимании хищнической природы человека. Все великие открытия и изобретения происходят из радости победы сильного человека. Они — выражение личности, а не думающей о пользе массы, которая только наблюдает, но которая должна принимать последствия, какими бы они ни были.
А последствия чудовищны. Маленькая горстка прирожденных вождей, предпринимателей и изобретателей заставляет природу выполнять работу, исчисляемую миллионами и миллиардами лошадиных сил. В сравнении с ней физическая сила человека уже ничего не значит. Тайны природы понятны не больше, чем когда бы то ни было, но используются рабочие гипотезы, которые не «истинны», но только целесообразны. С их помощью природу понуждают покоряться человеческим приказам, малейшему нажатию кнопки или рычажка. Темп открытий фантастически растет, и тем не менее все время приходится повторять, что нет никакого сбережения человеческого труда. Количество необходимых человеческих рук растет вместе с числом машин, поскольку роскошь техники ведет к росту всякого рода роскоши37, а искусственная жизнь делается все более искусственной.
Вместе с изобретением машины, хитрейшего из оружий в борьбе против природы, предприниматели и изобретатели получают необходимое им число рук для изготовления машин. Работа машины осуществляется благодаря неорганической силе пара или газа, электричества или тепла, высвобождаемой из угля, нефти и воды. Но вместе с тем угрожающе растет душевное напряжение между вождями и ведомыми. Они более не понимают друг друга.
508 Человек в контексте культуры
Самые ранние «предприятия» дохристианских тысячелетий требовали понимающих работников, знающих и чувствующих, что предпринимается. Имелось некое товарищество, наблюдаемое сегодня разве что на охоте или спортивном состязании. Уже великие стройки Древнего Египта и Вавилона этого не знали. Единичный работник не понимал ни цели, ни предназначения всего метода в целом. Он был к нему равнодушен, он мог его даже ненавидеть. «Труд» был проклятием, как о том говорится в библейском сказании о рае. Но теперь начиная с XVIII столетия бесчисленные «руки» трудятся над вещами, о действительной роли которых в жизни (включая и собственную жизнь) они практически ничего не знают, в созидании которых они внутренне не принимают никакого участия. Всеохватывающее духовное опустошение, безотрадное равнодушие, не ведающее ни высот, ни глубин, пробуждает ожесточенность — против жизни одаренных, против рожденных творцами. Работники не желают ни видеть, ни понимать, что труд вождя является самой тяжелой работой, что от ее исполнения зависит и их собственная жизнь. Ощутимо лишь то, что эта работа делает счастливым, что она окрыляет и обогащает душу - за это ее и ненавидят.
12
В действительности ни головы, ни руки ничего не могут изменить в судьбах машинной техники, развившейся из внутренней, душевной необходимости и ныне приближающейся к своему завершению, к своему концу. Мы стоим сегодня на вершине, там, где начинается пятый акт пьесы. Падают последние решения. Трагедия завершается.
Каждая высокая культура есть трагедия; трагична история человека в целом. Злодеяния и крушение фаустовского человека, однако, превосходят все то, что могли изобразить Эсхил или Шекспир. Творение поднимается на творца. Как некогда микрокосм-человек поднялся на природу, так восстает теперь микрокосм-машина против нордического человека. Властелин мира сделался рабом машины. Она принуждает его, нас, причем всех без исключения, ведаем мы об этом или нет, хотим или нет -идти по проложенному пути. Взбесившаяся упряжь влечет низвергнутого победителя к смерти.
К началу XX в. «мир» на этой небольшой планете выглядел следую щим образом: группа наций нордической крови под руководством англичан, немцев, французов и янки была хозяином положения. Их политическая власть покоилась на богатстве, а богат
Освальд Шпенглер. Человек и техника
509
ство заключалось в силе их промышленности, она, в свою очередь, была связана с углем. Наличие освоенных угольных шахт практически обеспечивало чуть ли не монополию германских народов и влекло за собой беспримерное во всей истории умножение населения. В местах добычи угля и в узловых точках путей сообщения собирались неслыханные человеческие массы, выведенные машинной техникой, — для нее они работали, и ею они жили. Прочие народы, будь они колониями или формально независимыми государствами, играли роль поставщиков сырья или покупателей. Такое разделение обеспечивалось армией и флотом, содержание которых предполагало богатство индустриальных стран, а сами они в силу технической оснастки сделались машинами и «работали» по мановению руки. Здесь вновь заметно внутреннее родство, чуть ли не тождество политики, войны и экономики. Уровень военной мощи зависит от ранга индустрии. Промышленно бедные страны вообще бедны, а потому не способны оплачивать армию и войну. Они политически бессильны, а потому их работники, как вожди, так и ведомые ими, являются объектами экономической политики своих противников.
Массой исполнителей, смотрящих только своим завистливым взглядом «маленького человека», уже не понималась и не ценилась растущая значимость работы вождей, небольшого числа творческих голов, предпринимателей, организаторов, изобретателей, инженеров. В чуть большей мере они ценились в практичной Америке, в наименьшей степени в Германии «поэтов и мыслителей». Дурацкая фраза: «Все колеса встанут, если того захочет твоя сильная рука», затуманивала мозги болтунов и писак. На это способен и козел, если допустить его к приборам. Изобрести и создать эти колеса, чтобы от них кормилась эта самая «сильная рука», — это могут только немногие для того рожденные.
Непонимаемые и ненавидимые, стая сильных личностей, обладают иной психологией. Им еще ведомы победное чувство хищника, сжимающего в своих клыках трепещущую добычу, чувство Колумба, смотрящего на проступающую на горизонте землю, чувство Мольтке под Седаном, наблюдающего с высот Френуа, как к концу дня его артиллерия замкнула кольцо окружения под Илли и тем самым довершила победу. Такие мгновения, такие вершины человеческого переживания сходны с теми, которые испытывает конструктор сходящего со стапелей огромного корабля или изобретатель новой безукоризненно работающей машины или первого вздымающегося в воздух цеппелина.
Трагизм нашего времени заключается в том, что лишенное уз человеческое мышление уже не в силах улавливать собственные
510
Человек в контексте кулыуры
последствия. Техника сделалась эзотерической, как и высшая математика, которой она пользуется, как физическая теория, незаметно идущая со своими абстракциями от анализа явлений к чистым формам человеческого познания48. Механизация мира оказывается стадией опаснейшего перенапряжения. Меняется образ земли со всеми ее растениями, животными и людьми. За несколько десятилетий исчезает большинство огромных лесов, превратившихся в газетную бумагу. Это ведет к изменениям климата, угрожающим сельскому хозяйству целых народов. Истребляются бесчисленные виды животных, вроде буйвола, целые человеческие расы, вроде североамериканских индейцев и австралийских аборигенов, доходят до почти полного исчезновения.
Все органическое подлежит тотальной организации, искусственный мир пронизывает и отравляет мир естественный. Сама цивилизация стала машиной, которая все делает или желает делать по образу машины. Мыслят теперь исключительно лошадиными силами. Во всяком водопаде видят только возможность электростанции. На кочующие по земле стада не могут смотреть без оценки привеса мяса, а на прекрасный предмет древнего ремесла первобытного народа не могут глядеть без желания заменить его современным техническим устройством. Есть в том смысл или нет, но техническое мышление желает осуществления. Роскошь машины — следствие принудительности мышления. В конечном счете машина есть символ, подобно своему тайному идеалу, perpetuum mobile, - это душевная, духовная, а не жизненная необходимость.
Машина входит в противоречие с хозяйственной практикой. Распад уже повсеместен. Цель машин исчезает за их числом и утонченностью. В больших городах масса автомобилей привела к тому, что пешком можно дойти быстрее. В Аргентине, на Яве и в других местах простой плуг с лошадью у мелкого землевладельца оказываются продуктивнее больших моторов и снова их вытесняют. Во многих тропических районах цветные крестьяне со своими примитивными методами сделались опасными конкурентами современных технизированных плантаций белых. Между тем белый промышленный рабочий старой Европы и Северной Америки начинает ставить под сомнение свою работу.
Глупо говорить сегодня, как то модно было в XIX в., об угрожающем истощении угольных шахт за несколько столетий и о последствиях оного. Все это мыслилось тоже материалистически. Даже не упоминая о том, что нефть и вода все более привлекаются в качестве неорганических резервуаров энергии, техническое мышление способно очень быстро открыть и освоить совсем дру-
Освальд Шпенглер. Человек и техника 511
гие источники. Но речь должна идти осовеем иных временных отрезках. Западноевропейско-американская техника умрет раньше. Этому послужит не какое-нибудь плоское обстоятельство, вроде нехватки сырьевых ресурсов, якобы способное сдержать развитие. Пока на высоте действующая мысль, она всегда сумеет создать средства для своих целей.
Но сколь долго она будет на этой высоте? Только для того, чтобы сохранить на достигнутом уровне технические методы и приспособления, требуется, скажем, 100 тыс. выдающихся голов организаторов, изобретателей и инженеров. Это должны быть сильные и одаренные головы, воодушевленные своим делом и готовые долгие годы учиться с железным упорством и огромными затратами. Действительно, на протяжении полувека у самой одаренной молодежи белых народов господствовало именно это стремление. Уже маленькие дети играли техническими игрушками. В городских слоях и семьях, сыновей которых в первую очередь следует принимать в расчет, имелись благосостояние, традиция профессиональной духовной деятельности и утонченная культура - нормальные предпосылки образования такого зрелого и позднего плода, как техническое мышление.
За последние десятилетия ситуация меняется во всех странах великой и старой промышленности. Фаустовское мышление начинает пресыщаться техникой. Чувствуется усталость, своего рода пацифизм в борьбе с природой. Склоняются к более простым, близким природе формам жизни, занимаются спортом, а не техникой, ненавидят большие города, ищут свободы от принуждения бездушной деятельностью, свободы от рабства у машины, от холодной атмосферы технической организации. Как раз сильные и творчески одаренные отворачиваются от практических проблем и наук и поворачиваются к чистому умозрению. Вновь всплывают на поверхность презиравшиеся во времена дарвинизма индийская философия, оккультизм и спиритизм, метафизические мечтания христианской или языческой окраски. Это настроения Рима времен Августа. Из пресыщенности бегут от цивилизации в примитивные уголки Земли, уходят в бродяги, бегут в самоубийство. Начинается бегство прирожденных вождей от машины. Скоро в распоряжении тут останутся только второсортные таланты, запоздалые потомки великого времени. Во всяком большом предприятии обнаруживается убывание качества духа наследников. Но великолепное техническое развитие XIX в. было возможно только на основе постоянно растущего духовного уровня. Не только убывание, уже остановка тут опасна и указывает на приближение конца, независимо от числа хорошо обученных рабочих рук.
512
Человек в контексте культуры
Нс как обстоят дела с ними? Противостояние между работой вождей и работой ведомых достигло катастрофического уровня. Значимость первых и хозяйственная ценность всякой истинной личности в данной области стала настолько велика, что для большинства из нас эта ценность сделалась невидимой и непонятной. По другую сторону работа рук индивида утратила всякое значение. Цену теперь имеет лишь количество. Знание неотвратимости этого положения, возбуждаемое, растравляемое и финансово эксплуатируемое болтунами и писаками, оказывается столь безотрадным, что по-человечески можно понять восстание против машин (а не их владельцев, как то рекомендуется большинству). Этот бунт принимает бесчисленные формы - от покушений или забастовок до самоубийств - бунт рук против своего удела, против машины, против организованной жизни, наконец, против всего и вся. Деятельность многих на протяжении тысячелетий предполагала организацию работы39, основанием которой было различие между вождями и ведомыми, головой и руками. Теперь она подрывается снизу. Но «масса» есть лишь отрицание, а именно: отрицание самого понятия организации. Поэтому масса нежизнеспособна. Войско без офицеров представляет собой просто потерявшуюся и ненужную толпу40. Мешанина из обломков кирпича и железа - уже не здание. Этот бунт грозит уничтожением технико-хозяйственной работы на всей Земле. Вожди могут удалиться, но тогда погибнут и сделавшиеся ненужными ведомые. Их обрекает на смерть самое их число.
Третий и самый серьезный симптом начинающегося крушения я назвал бы предательством техники. Речь тут идет о всем известном, но никогда не рассматривавшемся во взаимосвязи, которая только и выявляет роковой смысл. Неслыханное превосходство Западной Европы и Северной Америки во второй половине прошлого века по мощи всякого рода — хозяйственной, политической, военной мощи — покоилось на неоспоримой промышленной монополии. Крупная индустрия имелась только там, где были залежи угля этих стран Севера. Остальной мир служил только рынком сбыта, и колониальная политика всегда была направлена на поиск новых рынков сбыта и сырья, а не на образование новых районов производства. Уголь имелся и в других местах, но добывать его мог только «белый» инженер. Мы были единственными владельцами не природных ископаемых, но методов и мозгов, обученных для применения этих методов. На этом покоилась роскошь жизненного уровня белого рабочего, доход которого был сравним с доходом цветного князька^, — это положение привело марксизм к гибели. Оно мстит нам сегодня, когда проблема безработицы приобретает все большие размеры. Заработок белого
()свальд 111пенглер. Человек н техника 513
рабочего представляет сегодня угрозу для его жизни: величина заработка зависела исключительно от монополии, воздвигнутой для него вождями промышленности42.
Так слепая воля к власти к концу XIX в. начала совершать ошибки решающего значения. Вместо того чтобы держать в тайне технические знания, величайшее сокровище «белых» народов, им стали хвастаться и предлагать всему миру в высших школах, да еще гордились, глядя на изумление индийцев и японцев. Так называемое «рассеивание промышленности» также родилось из мысли об увеличении доходов путем приближения производства к потребителю. На место простого экспорта продуктов пришел вывоз тайн, методов, инженеров и организаторов. Уезжают даже изобретатели. Они бегут от социализма, желающего подчинить их своему игу. Всем «цветным» открыты тайны нашей силы, они их постигают и используют. Японцы за тридцать лет стали первоклассными знатоками техники, доказав свое военно-техническое превосходство во время войны с Россией. У них могли бы поучиться и их учителя. Повсюду сегодня — в Восточной Азии, в Индии, в Южной Америке, в Южной Африке - возникают или замышляются промышленные центры, которые в силу низкой заработной платы представляют собой смертельных конкурентов. Непременные привилегии белых народов промотаны, растрачены, преданы. Их противники могут достичь того же или даже превзойти свой образец с помощью хитрости цветных рас и перезрелого интеллекта древнейших цивилизаций. Нотам, где имеются уголь, нефть и водная энергия, можно выковать и оружие против самого сердца фаустовской культуры. Тут начинается месть эксплуатируемого мира против своих владык. Бесчисленные руки цветных работают столь же умело и без таких притязаний, а это потрясает самые основания западной хозяйственной организации. Привычная роскошь белого рабочего в сравнении с кули сделается его проклятием. Сама работа белых становится избыточной. Гигантские массы северных шахт, промышленных предприятий, вложенного капитала, целые города и края находятся под угрозой конкуренции. Центр производства неуклонно смещается, а после мировой войны цветные утратили и всякое почтение к белым. Такова последняя причина безработицы в белых странах - это не кризис, это начало катастрофы.
Но для цветных, — а в их число входят и русские — фаустовская техника не является внутренней потребностью. Только фаустовский человек мыслит, чувствует и живет в этой форме. Ему она душевно необходима — не ее хозяйственные последствия, но ее победы: navigare necesse est, vivere non est necesse11*. Для «цветного» она лишь
514
Человек r контексте культуры
оружие в борьбе с фаустовской цивилизацией, что-то вроде времянки в лесу, которую оставляют, когда она выполнила свою роль. Машинная техника кончится вместе с фаустовским человеком, однажды она будет разрушена и позабыта - все эти железные дороги, пароходы, гигантские города с небоскребами, как некогда были оставлены римские дороги или Великая китайская стена, дворцы древних Мемфиса и Вавилона. История этой техники приближается к скорому и неизбежному концу. Она будет взорвана изнутри, как и все великие формы всех культур. Когда и как это произойдет - мы не знаем.
Перед лицом такой судьбы есть только одно достойное нас мировоззрение, некогда выраженное Ахиллом: лучше прожить короткую жизнь, полную деяний и славы, чем долгую пустую жизнь. Опасность настолько возросла - для каждого индивида, слоя, народа, — что самообман был бы жалким делом. Время неудержимо, обратного пути нет, как нет и мудрого отречения. Лишь мечтатели верят в наличие выхода. Оптимизм является трусостью.
Мы рождены в это время и должны смело пройти до конца предназначенный нам путь. Другого нет. Терпеливо и без надежды стоять на проигранных позициях — таков наш долг. Стоять, как тот римский солдат, чьи кости нашли перед воротами Помпеи, погибшего, потому что ему забыли отдать приказ об отходе во время извержения Везувия. Вот величие, вот что значит быть человеком расы. Этот полный чести конец есть единственное, чего нельзя отнять у человека.
Примечания
1 Untergang des Abendlandes. Bd. I. Кар. II.
2 Untergang des Abendlandes. Bd. I. Кар. II, § 4 5.
3 Unteigang des Abendlandes. Bd. II. S.i ff.
4 Uexkiill. Bi ologische Weltanschauung. 1913. S. 67 ff:
5 Только систематизаторе кое классифицирующее пристрастие чистых анатомов поставило человека рядом с обезьяной, да и это представляется сегодня поспешным и поверхностным. Достаточно почитать «Становление человечества» Клаача (klaatsch. Der Werdegang der Menschhcit), который сам был дарвинистом. Уже «по системе» человек выходит за пределы всех порядков: по одним чертам телесного строения он весьма примитивен, по другим является исключением. Но нас, рассматривающих жизнь, это вообще не касается. Своей судьбой, душевно, он является хищником.
6 Вообще, что эго за «развитие»! Дарвинисты говорят, что обладание великолепным оружием подобного рода способствовало борьбе за существование и самосохранение. Но только уже готовое оружие давало бы преимущества; если брать его в развитии, которое должно было бы длиться тысячелетия, - оно было бы бесплодным привеском и даже вело бы к прямо противоположному. А как они представляют себе начало та
Освальд Шпенглер. Человек и техника_______________________________515
кого развития? Заняты охотой па причины и следствия, каковые являются все же формами человеческого мышления, а не мирового процесса. Было бы нелепо полагать, будто подобным образом можно проникнуть в тайпы мира.
7II. de Vries. Die Mutationstheorie (1901. 1903).
K Untergang des Abendlandes. Bd. I. Кар. И, § 16; Bd. IT. Кар. Ill, § 6.
9 Основываясь на исследованиях Де Геера: De Geer. Reallex. d.Vorgcschichte. Bd. II (Diluvialchronologie).
10 См. по этому поводу; Unterping des Abendlandes. Bd. II, 1: Volker, Rassen, Sprachen.
11 Ibid.
12 Вплоть до того, что во многих языках «предложение» является единственным гигантским словом, которым, с помощью классифицирующих приставок и суффиксов, упорядоченно выражается все то, что намеревались высказать.
,ч Понятие представляет собой упорядочение вещей, состояний, деятельностей в классах практической всеобщности. Владелец лошади никогда не скажет «лошадь», по «сивая кобыла» или «вороной жеребенок»; охотник говорит не «дикая свинья», но «кабан», «кабаниха»,«вепрь».
14 И говорить бегло научались взрослые, подобно тому как много позже они стали учиться писать.
15 Reallex. d. Vorgcschichte. Bd. I (Bergbau).
lb Hilzheimer. Natiirliche Rassengeschichte der Haussaugetiere (1926).
17 Как и сегодня дичь в наших лесах.
18 Еще в XIX в. племена индейцев следовали за стадами бизонов, как доныне гаучос в Аргентине следуют за стадами коров, являющимися частной собственностью. Таким образом, и кочевничество хотя бы отчасти проистекает из оседлого образа жизни.
19 Untergang des Abendlandes. Bd. II. Кар. V, § 2, 4.
20 От латинского genius, мужской порождающей силы.
21 Untergang des Abendlandes. Bd. II. Кар. I, § 15; Кар. IV, § 6.
22 Ibid.
23 И с одной головой, не с многими.
24 А сегодня теснятся миллионы.
25 Untergang des Abendlandes. Bd. I. Кар. II, § 6.
26 Untergang des Abendlandes. Bd. II. Кар. II, Die Seele der Stadt.
27 Untergang des Abendlandes. Bd. II. Кар. IV, § 1.
28 Untergang des Abendlandes. Bd. I. Кар. IV, § 2; Кар. V § 3.
29 Untergang des Abendlandes. Bd. 11. Кар. IV, § 2.
30 Strasser К. Th. Wikinger und Nonnannen (1928).
31 К этому: Untergang des Abendlandes. Bd. 1. Кар. VI.
32 Ibid. Bd. 11. Кар. Ill, § 19.
33 Untergang des Abendlandes. Bd. II. Kap.V, § 6.
34 Untergang des Abendlandes. Bd. 1. Кар. IV, § 2.
35 Untergang des Abendlandes. Bd II. Кар. II: Die Maschine. Эпистола о магните Петра Перегрина относится к 1269 г.
30 Ибо те, кто пустился в странствия из Испании, Португалии и Франции, но большей части были, конечно, потомками завоевателей времен
516______________________________________Человек в контексте культуры
Великого переселения народов. 11а месте остались представители той же самой человеческой породы, которые пересидели еще кельтов, римлян и сарацин.
37 Достаточно сравнить уровень жизни рабочих в 1700 и 1900 гг., вообще жизненные условия городских рабочих с крестьянами. См.: IJntergang des Abendlandcs. Bd.I. Кар. VI, § 14- 15.
39 См. выше.
40 На протяжении 15 лет советская власть занята не чем иным, как восстановлением под другими именами политической, военной и хозяйственной организации, которую она же и разрушила.
41 Под «цветными» я подразумеваю и жителей России, а также части Южной и Юго-Восточной Европы.
42 На это указывает уже различие между заработком сельского батрака и доходом рабочего в промышленности.
Перевод иноязычных выражений
р Хлеба и зрелищ (лат.).
2* Отвращение от жизние (лат.).
3’ Борьба за существование (англ.).
4‘ Любовь к судьбе (лат.).
5’ Экспериментальная наука (лат.).
б* Ибо единственное доказательство - эксперимент (лат.).
7* О небесах и о мире (лат.).
8* О различии качеств (лат.).
9‘ Вечный двигатель (лат.).
Бог и природа (лат.).
п‘ Плыть необходимо, жить не необходимо (лат.).
Перевод выполнен но изданию: Spengler О. Der Mensch und die Technik.
Beitrag zu einer Philosophie des Lebens. Munchen, 1932.
Альфред Шюц
Феноменология и социальные науки
Важность феноменологии Гуссерля для обоснования социальных наук, по-видимому, будет в полной мере осознана лишь тогда, когда будут опубликованы гуссерлевские рукописи, касающиеся данной проблемы. Разумеется, в опубликованных трудах уже содержатся наиболее важные темы для размышлений относительно данного предмета. Они постоянно волновали Гуссерля со времен написания шестого «Логического исследования». Однако эти важные подспудные темы остаются почти не замеченными, и не только потому, что первое место в публичных дискуссиях заняли масштабные открытия феноменологии в области чистой логики и общей теории познания, но и потому, что проблема социальных наук получила систематическое рассмотрение лишь в поздних работах мастера.
Даже в этих поздних сочинениях Гуссерль действовал крайне нерешительно. Как известно, в 1913 году он завершил второй том «Идей», и работа дошла уже до стадии чтения корректуры. В этом томе предполагалось рассмотреть проблемы личности, интерсубъективности и культуры. Однако буквально накануне публикации его, ученого, который всегда был образцом добросовестности, стали одолевать сомнения по поводу результатов работы. Он понял, что обращение к этим проблемам требует дальнейшего анализа, особенно прояснения конституирующей активности сознания.
Впервые дорога в эту новую тематическую область была проложена в «Формальной и трансцендентальной логике» (1929), хотя и здесь эта тематика рассматривалась под углом зрения проблем чистой логики. В этой работе можно также найти’ отправные точки тех размышлений, которые позднее получили развитие в послесловии к английскому переводу «Ideen» и в пятом «Картезианском размышлении» (и то, и другое - 1931) и должны были быть представлены в законченном виде в большой серии очерков. Эти очерки планировалось издать под общим названием «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология». В последних
51Я Человек в контексте культуры
беседах с Гуссерлем, которые посчастливилось иметь автору, он неизменно называл эту серию очерков итогом и венцом всех своих жизненных трудов. Он не отрываясь работал над ними на протяжении последних трех лет своей жизни, однако в свет вышел только первый очерк, в журнале «Philosophia» (Белград, 1936). Смерть вырвала перо из руки Гуссерля, и лишь один проникновенный фрагмент, появившийся в «Revue Internationale de Philosophie» под заголовком «Вопрос о возникновении геометрии»2, указывает на масштабность работы, к которой он приступил в этот период.
В первой части этого очерка будет предпринята попытка четко выявить начальные стадии феноменологического обоснования социальных наук, содержащиеся в упомянутых выше произведениях. Далее, во второй части очерка, будет поднят вопрос о независимости социальных наук, и мы, пойдя дальше Гуссерля, рассмотрим, какую лепту может внести феноменология в решение их конкретных методологических проблем. Само собой разумеется, что мы будем вынуждены ограничиться лишь самыми общими указаниями.
1
Все науки, будь то относящиеся к объектам природы или к так называемым культурным феноменам, составляют, сточки зрения Гуссерля, тотальность человеческой деятельности, а именно, деятельности сообща работающих ученых. Сама наука как факт принадлежит к той сфере объектов, которая должна быть прояснена методами наук о культуре, называемых в немецком языке Geisteswissenschaften. Кроме того, смысловой основой (Sin nfundament) каждой науки является донаучный жизненный мир, который есть единственный и единый жизненный мир для меня, тебя и любого из нас. В ходе многовекового процесса развития науки понимание этой основополагающей связи может быть утеряно. Однако принципиально необходимо суметь возвратить ее к ясности посредством выявления той смысловой трансформации, которую претерпел сам этот жизненный мир в непрерывном процессе идеализации и формализации, составляющем самую суть развития науки. Если не прояснить ее или прояснить в недостаточной степени и непосредственно и наивно подменить жизненный мир идеальными сущностями, созданными наукой, то на следующих этапах развития науки проявятся те самые проблемы оснований и парадоксы, которыми страдают сегодня все так называемые позитивные науки; критика знания ex post facto, в лечении которой они нуждаются, приходит слишком поздно.
Феноменологическая философия претендует на то, чтобы быть философией человека, живущего в своем жизненном мире, и на
Альфред Шюн. Феноменология н социальные науки
519
способность объяснить смысл этого жизненного мира строго научным способом. Ее лейтмотив связан с демонстрацией и объяснением активности сознания (Bewsstseinsleistungen) трансцендентального субъекта, внутри которых конституируется этот жизненный мир. Поскольку трансцендентальная феноменология ничто не принимает как самоочевидное, а направляет усилия на доведение всего до самоочевидности, она избегает всякого наивного позитивизма и может надеяться стать подлинной наукой о духе (Geist), поистине рациональной в собственном смысле этого слова.
Однако уже эта отправная точка открывает нам целый ряд сложных проблем. Мы отберем лишь некоторые группы проблем, трактуемые Гуссерлем, которые в наибольшей степени связаны с нашей темой.
1) Прежде всего, как может такая трансцендентальная философия, как конститутивная феноменология, отважиться утверждать, что жизненный мир, рассматриваемый в естественной установке, остается ее смысловым фундаментом, притом, что одновременно необходима мучительная попытка феноменологической редукции, чтобы заключить этот естественный мир в скобки? Эта редукция создает предпосылки для исследования тех составных интенциональностей, в которых конституируется мир для трансцендентального субъекта.
2) Если жизненный мир, рассматриваемый в естественной установке, остается смысловым фундаментом трансцендентальной феноменологии, то не только я, но также ты и любой другой принадлежим к этому жизненному миру. Стало быть, моя трансцендентальная субъективность, активностью которой конституируется этот мир, с самого начала должна быть связанной с другими субъективностями, в соотнесении с активностью которых она узаконивает и выправляет свою собственную активность. И к этому самому жизненному миру, который характеризуется как единственный и единый для всех нас, принадлежат по сути все феномены социальной жизни, от простого Ты-отношения до самых разных типов социальных общностей (включая и все науки как общую сумму достижений людей, которые наукой занимаются). Короче говоря, к нему относится все, что конституирует наш социальный мир в его исторической актуальности и все прочие социальные миры, знание о которых дает нам история. Но не должна ли попытка конституировать мир из активности трансцендентального субъекта неизбежно привести к солипсизму? Может ли она объяснить проблему альтер эго, а тем самым природу всех социальных феноменов, основанных на взаимодействии человека со своими собратьями в реальном жизненном мире?
520
Человек в контексте кулыуры
3) Правомерно ли утверждать, что позитивные науки наивно подменили жизненный мир идеальными сущностями, и тем самым утратили связь со своим смысловым фундаментом, а именножизненным миром, в свете неоспоримого успеха естественных наук, и особенно математической физики, в установлении контроля над этим жизненным миром? И мыслима ли вообще особая наука о культуре (Geisteswssenschaff), которая необходимо не соотносилась бы с естественными науками на том предположительном основании, что весь мир духа (Geist) базируется на вещах природного мира, а психическое проявляет себя лишь в психофизических связях? Не следует ли, скорее, требовать единого стиля для всех наук, претендующих на точность, и не является ли таковым стилем единой науки стиль математических наук, к чьим выдающимся успехам, даже в сфере практического применения, мы не можем относиться иначе, каке благодарным восхищением?
4) Если феноменологический метод действительно сумеет доказать законность своих притязаний на то, чтобы заложить основы науки о культуре и, тем самым, успешно высветить свойственный этим наукам специфический стиль мышления путем анализа конститутивной активности трансцендентального субъекта, то внесет ли вообще это доказательство хоть какой-нибудь вклад в решение методологических проблем конкретных наук о культурных феноменах (праве, экономическом и социальном мире, искусстве, истории и т.д.)? Ведь все эти науки связаны с той обыденной сферой, которую трансцендентальная феноменология заключила в скобки. Можно ли вообще ожидать от феноменологии помощи в решении всех этих вопросов? Не является ли решение этой проблемы скорее делом психологии, ориентированной на повседневную жизнь?
Далее мы попытаемся собрать воедино ответы на эти вопросы, данные Гуссерлем в разных местах упомянутых выше работ.
Ad 1. Сразу же следует сказать о широко распространенном неверном понимании трансцендентальной феноменологии, когда ей приписывается отрицание действительного существования реального жизненного мира или объяснение его как не более чем иллюзии, которой естественное, или позитивное, мышление позволяет себя обмануть. Все обстоит совершенно не так: трансцендентальной феноменологии вовсе не свойственно сомневаться в том, что мир существует и проявляет себя в непрерывности гармоничного опыта как универсум. Однако эту несомненность необходимо сделать умопостижимой, а способ бытия реального мира— объяснить. Между тем, дать такое радикальное объяснение возможно, лишь доказав относительность этого реального жизненного мира и любого мысли
Альфред 1Пюц. Феноменология и социальные науки 521
мого жизненного мира для трансцендентального субъекта, который один только обладает оптическим смыслом абсолютного бытия3.
Чтобы открыть сферу трансцендентальной субъективности как таковую, философ, начинающий свое размышление с естественной установки, должен осуществить то изменение в установке, которое Гуссерль называет феноменологическим эпохе, или трансцендент ально-феноменологической редукцией. Иными словами, он должен лишить мир, который прежде, в естественной установке, просто полагался как существующий, этого самого полагаемого бытия, и возвратиться к живому потоку собственных переживаний этого мира. Однако в этом потоке переживаемый мир остается наполнен в точности теми же содержаниями, которые актуально ему принадлежат. С осуществлением эпохе мир никоим образом не исчезает из сферы опыта философствующего эго. Напротив, в этом эпохе схватывается чистая жизнь сознания, в которой и через которую весь объективный мир существует для меня в силу того, что я переживаю его в опыте, воспринимаю его, помню его и т. п. Вместе с тем, в этом эпохе я воздерживаюсь от веры в существование этого мира и направляю свой взор исключительно на мое осознание этого мира.
В этом универсуме переживаний трансцендентального субъекта я нахожу все мои мысли об окружающем меня жизненном мире — жизненном мире, к которому принадлежит, помимо всего прочего, моя жизнь вместе с другими, а также присущие ей процессы образования общностей, активно и пассивно придающие этому жизненному миру форму мира социального. В принципе, все эти переживания, обнаруживаемые в жизни моего сознания — если только они сами не являются изначальными и основополагающими переживаниями этого жизненного мира, - можно изучить с точки зрения истории их осаждения. Таким образом я по существу могу возвратиться к изначальному переживанию жизненного мира, в котором могут непосредственно схватываться сами факты.
Истолкование всего этого через демонстрацию интенциональных свершений трансцендентального субъекта дает широчайшее поле для исследований в области конститутивной феноменологии. Таким образом, это в подлинном смысле слова наука о духе (Geist), и она претендует на то, чтобы стать методом — причем фактически единственным методом, — всерьез нацеленным на радикальное объяснение мира через разум.
Лd 2. Ио этот жизненный мир, на который мы выше постоянно ссылались и который может быть конституирован только активностью моей трансцендентальной субъективности, определенно не является моим частным миром. К нему принадлежат, разумеется, и другие люди, мои собратья, причем не просто как другие
522
Человек в контексте культуры
тела или как объекты моего переживания этого мира, но как другие Я, т.е. как субъективности, наделенные такой же активностью сознания, что и я. Мир, переживаемый после совершения его редукции к чистой жизни моего сознания, есть интерсубъективный мир, а это значит, что он доступен каждому. Все культурные объекты (книги, орудия труда, всевозможного рода произведения и т.п.) по своему происхождению и смыслу возвращают к другим субъектам и их активным конститутивным интенциональностям; и благодаря этому они переживаются как поистине «существующие для каждого». (Конечно, речь идет лишь о таком «каждом», который принадлежит к соответствующей культурной общности, но это уже проблема совсем иного рода, и мы обсудим ее позже.)
Итак, для феноменологии проблема переживания других - это уже не темный угол, который, если воспользоваться прекрасным выражением Гуссерля4, внушает страх лишь детям в философии, которым часто мерещатся в нем призраки солипсизма или психологизма и релятивизма. Настоящий философ должен осветить этот темный угол, а не бежать от него, куда глаза глядят.
В пятом «Картезианскомразмышлении» Гуссерль предложил решение этой проблемы, которое мы попытаемся здесь в основных чертах изложить, пользуясь, по мере возможности, его собственными словами5.
После осуществления эпохе я, в первую очередь, могу удалить из тематического поля трансцендентальной универсальной сферы все проявления конститутивной деятельности, прямо или косвенно связанные с субъективностью Других. Тем самым я редуцирую универсум жизни моего сознания к моей собственной трансцендентальной сфере (transzendentale Eigensphare), к моему конкретному бытию в качестве монады. В результате такого абстрагирующего устранения смысла другой субъективности остается единообразно связанный слой феноменального «мира» — Гуссерль называет его примордиальной сферой, — и это уже не мир, объективно существующий для каждого, а мой мир, принадлежащий исключительно мне одному. И это, стало быть, в самом подлинном смысле мой частный мир.
В этом редуцированном мире-феномене один объект выделяется из всех других объектов аналогичным образом редуцированной природы. Я называю его моим телом, и оно отграничивается от всего прочего тем, что я могу управлять им в действии и приписываю ему чувственные области сообразно своему опыту. Если я редуцирую подобным образом других людей, то получу специфические телесности; если я редуцирую самого себя как человеческое существо, то получу «мое тело» и «мой разум» или себя как психо
Д.иьфре;] Шиш. Феноменоло] ня и социальные науки 523
физическое единство, а в нем - мое личное Я, функционирующее в моем теле или воздействующее на внешний мир, и благодаря телу переживающее его в опыте. Теперь, в этом редуцированном внешнем мире, «Другой» также предстает как телесность, однако такая телесность, которую я схватываю как тело, причем именно как тело другого, благодаря процессу аппрезентатииного спаривания6.
Другая телесность, воспринятая в опыте, фактически продолжает являть себя как тело через свои изменчивые, но всегда согласованные жесты, которые аппрезентативно указывают на свою психическую сторону. Эта психическая сторона, на которую поначалу аппрезентация лишь указывает, должна быть заполнена подлинным переживанием. Таким образом, Другой аппрезентативно конституируется в моей монаде как эго - но не как эго, которое есть «я сам», а как второе эго, зеркально отраженное в моей монаде. Это второе эго, между тем, не просто пребывает здесь, в самом себе и само по себе данное; это алыпер эго. Это Другой, который, в соответствии с его конституирующим смыслом, отсылает обратно ко мне, т.е. к эго этого алыпер эго. Этот Другой, тем не менее, не просто дубликат меня. Чужая телесность, представленная в апперцепции как «Другой», появляется в моей монадической сфере прежде всего в модусе «там» (////с), тогда как мое собственное тело — в модусе абсолютного «здесь» (hie). То, что таким образом аппрезен-тируется, проистекает не из моей особой собственной сферы; это эго, сосуществующее в модусе illic, и, стало быть, алыпер эго.
Первая общность, которая существует между мной, примордиальным психофизическим Я и аппрезентативно переживаемым Другим и образует основу всех других интерсубъективных сообществ более высокого порядка, есть общность Природы, принадлежащая не только моей примордиальной сфере, но также и примордиальной сфере Другого. Есть вместе с тем и одно отличие, состоящее в том, что мир Природы Другого видится с моей точки зрения как illic, а это значит, что Другой схватывает ту его сторону, которую бы схватил и я, будь я не hie, a illic. Таким образом, каждый объект природы, переживаемый или могущий быть пережитым в моей примордиальной сфере, приобретает новый аппре-зентативный слой, а именно - как тот же самый природный объект в его возможных способах данности для Другого.
Начиная с самого себя как изначальной конститутивной монады, я, стало быть, прихожу к другим монадам, т.е. Другим как психофизическим субъектам. Эти Другие не просто связываются с моим психофизическим существованием посредством ассоциативного спаривания как телесно противоположенные мне; напротив, здесь имеет место объективное уравнивание, взаимосвязан
524
Человек в контексте кулыуры
ность моего существования с существованием всех Других. Ибо как тело Другого аппрезентируется мною в качестве Другого, так и мое тело переживается Другим в качестве его Другого, и т.д. Го же касается и всех субъектов, т.е. того открытого сообщества монад, которое Гуссерль обозначает как трансцендентальную интерсубъективность.
Нужно подчеркнуть, что эта трансцендентальная интерсубъективность существует исключительно во мне, размышляющем эго. Она конституируется только из источников моей интенциональности, однако конституируется таким образом, что в интенциональных переживаниях каждого отдельного человека присутствует (только в иных субъективных модусах явления) одна и та же трансцендентальная интерсубъективность. В этом конституировании трансцендентальной интерсубъективности осуществляется, кроме того, конституирование единственного и единого объективного мира, а вместе с тем и тех специфически духовных предметностей — особенно разного рода социальных общностей, - которые характеризуются как личности более высокого порядка.
Для нашей темы особенно важно конституирование специфически человеческих - а, стало быть, культурных - миров с их особым способом объективности7. Согласно Гуссерлю, в самой сущности конститутивного смысла Природы, живой телесности и психофизического человеческого бытия заложена доступность для каждого. Мир культуры, со своей стороны, обладает ограниченным родом объективности, а потому следует постоянно помнить, что жизненный мир дан как мне, так и любому другому человеку, остающемуся в естественной установке, прежде всего как культурный мир, а именно - как значимый мир, в формировании которого рассматриваемый человек исторически принимает участие. Конституция мира культуры, как и конституция любого другого «мира», в том числе мира собственного потока переживаний, имеет закономерную структуру конституирования, ориентированную по отношению к некоторой «нулевой точке» (Nullgliedy а именно -личности. Я и моя культура пребываем здесь; она доступна мне и моим собратьям по культуре в качестве своего рода опыта других. Другое культурное человечество и другая культура могут стать доступными лишь посредством сложного процесса понимания, а именно: на базисном уровне общей для всех Природы, который конституирует своей специфической пространственно-временной структурой бытийный горизонт доступности всего многообразия культурных феноменов. Стало быть, поскольку Природа конституирована конкретно и единообразно, постольку и само человеческое существование соотносится с существующим жизненным
Альфред Шюц. Феноменология н социальные науки 525
миром как сфера практической деятельности, изначально наделенная человеческим смыслом. Все это, в принципе, можно прояснить с помощью феноменологического конститутивного анализа, который, начиная с аподиктического эго, должен в конечном счете раскрыть во всей конкретности трансцендентальный смысл мира как преемственного жизненного мира, общего для всех нас.
Ad 3. Выше уже говорилось, что естественные науки в целом, и особенно те из них, которые пользуются математикой, утратили связь со своим смысловым фундаментом, а именно, жизненным миром. Как можно обосновать такой упрек, когда только что было показано, что именно эта универсальная Природа конкретно и единообразно конституирует себя в интерсубъективности и должна рассматриваться как основная форма доступа к мирам другой культуры, проникновения в их способ ориентированного конституирования? Hit это мы можем прежде всего ответить, что Природа как предмет естественных наук означает не то же самое, что Природа как конститутивный элемент жизненного мира. То, что принимает в качестве природной реальности человек, живущий наивной жизнью, не есть объективный мир наших современных естественных наук. Его концепция мира, достоверная для него в ее субъективности, сохраняется вместе со всеми ее богами, демонами и т.д. В этом смысле, как элемент жизненного мира, Природа, стало быть, представляет собою некий концепт, имеющий место исключительно в духовной (geistig) сфере. Она конституируется в нашем повседневном значимом опыте по мере развития этого опыта в нашем исторически детерминированном бытии.
Возьмем в качестве примера геометрию. Когда мы в нашем перцептуальном жизненном мире, абстрагируясь, направляем свой взор на простые пространственные и временные формы, мы, по правде говоря, переживаем «плотные тела». Между тем, это не идеальные тела геометрии; это плотные тела, какими мы их актуально себе представляем, наполненные тем же самым содержанием, которое является истинным содержанием нашего опыта8. Миру, заранее данному нам в нашем повседневном переживании, присуща пространственно-временная форма, в которую заключены телесные фигуры, внутри нее упорядочиваемые, и в которой мы сами живем в соответствии с телесным способом бытия нашей личности. Но здесь мы не находим ни геометрических идеальных сущностей, ни геометрического пространства, ни математического времени со всеми их формами9. Конкретные эмпирические фигуры даны нам в нашем жизненном мире просто как формы некоей материи, или «чувственной наполненности»; таким образом, они даны вместе с тем, что репрезентируется так называв-
526
Человек в контексте культуры
мыми специфическими чувственными качествами (цветом, запахом и т.д ). Чистая же геометрия имеет дело с предметами чувственного мира лишь в чистой абстракции: иначе говоря, лишь с абстрактными фигурами пространственно-временной структуры, которые, как отмечает Гуссерль, суть чисто идеальные «смысловые фигуры», смыслообразования человеческого разума. Это не означает, будто геометрическое существование является психологическим или частным существованием в частной сфере сознания. Напротив, геометрическое существование сродни существованию смысловых структур и объективно для каждого, кто является геометром или понимает геометрию.
Геометрические фигуры, аксиомы и положения — точно так же, как и большинство структур мира культуры, - имеют идеальную объективность} они всегда могут быть реактивированы как тождественно те же самые. Иначе говоря, может быть повторена та смыслопорождающая активность, которая привела к их осаждению. Однако в этом смысле реактивация есть и прояснение значения, скрыто заложенного в аббревиатурах этого осаждения, посредством обратного его соотнесения с изначальной очевидностью. Всегда остается открытой возможность обратиться к изначальной очевидности традиции, например, геометрической или любой другой дедуктивной науки, работающей на протяжении веков. Если этого не делается, то изначальные активности, заключенные в базисных понятиях этой дедуктивной науки, и их основания в донаучных данностях так и остаются нераскрытыми. Традиция, в рамках которой эти науки нам вручаются, тем самым лишается смысла, а та смысловая основа, к которой эти науки апеллируют - а именно, жизненный мир, — забывается10. Между тем, именно такая ситуация, согласно Гуссерлю, сложилась в Новое время не только в геометрии и математике (включая все естественные науки, пользующиеся математикой), но также и в традиционной логике”.
Основная идея современной физики состоит в том, что природа есть математический универсум. Ее идеал — точность, способность распознавать и определять природные объекты в их абсолютной идентичности как субстраты абсолютно идентичных и методически однозначно и наглядно определяемых свойств. Чтобы достичь этого идеала, физика пользуется измерениями, математическими расчетами и формулами. Таким образом, она пытается создать для физического мира совершенно новый род предсказания и научиться рассчитывать случайные события этого мира в категориях неотвратимой необходимости. Но, с одной стороны, полнота чувственных качеств тел в жизненном мире и изменения этой полноты не поддаются математизации; с другой стороны, донаучная интуи
Альфред 111юц. Феноменологии и социальные науки 527
тивно постигаемая природа не лишена этой предсказуемости. В мире, воспринимаемом нашими органами чувств, изменения в пространственно-временном положении тел, а также в их форме и полноте не случайны и не безразличны, но чувственно типичными способами зависят друг от друга. Основополагающий стиль нашего непосредственно воспринимаемого мира — эмпирический. Этот универсальный, поистине каузальный стиль делает возможными гипотезы, индуктивные заключения и предсказания, однако в донаучной жизни все они имеют характер приблизительный и типический12. Лишь когда эмпирические объекты физического мира подменяют идеальными объективностями, когда абстрагируют или одновременно идеализируют нематематизируемую интуитивно постигаемую полноту чувственных качеств, появляется гипотеза, лежащая в основании всей математической естественной науки, а именно: что в интуитивно постигаемом мире господствует универсальная индуктивность, обнаруживающая себя в повседневном опыте, но остающаяся сокрытой в своей бесконечности. Отсюда следует, что универсальная причинность математических естественных наук тоже является идеализацией. Итак, говорит Гуссерль, несомненно истинно, что в удивительной структуре естественных наук эта гипотеза подтверждается в бесконечности, а именно в своем предсказании событий в жизненном мире. Но несмотря на любую проверку, она остается лишь гипотезой и, стало быть, непроясненным допущением математической естественной науки.
По установившейся традиции ученый-естествоиспытатель принимает унаследованные идеализации и непроясненные допущения как технику (xexvr)), не сознавая, какой смысловой сдвиг претерпела изначально живая задача познания мира13. В процессе математизации естественных наук, говорит Гуссерль, мы примеряем к жизненному миру удобное одеяние идей. Тем самым мы получаем возможность такого предсказания событий в интуитивно постигаемом жизненном мире, которое намного превосходит процедуры повседневного предвосхищения. Однако все, что жизненный мир преподносит ученому-естествоиспытателю как «объективную, действительную и истинную природу», облачено в эти одеяния символов и укрыто от глаз. Этот покров идей приводит к тому, что мы принимаем метод за истинное бытие, дабы далее до бесконечности совершенствовать грубые предсказания, которые одни только и возможны в реальных переживаниях жизненного мира. Между тем, подлинный смысл методов, формул и теорий остается непонятым до тех пор, пока кто-нибудь не задумается о том историческом смысле, который вкладывался в их изначальное учреждение.
528
Человек в контексте культуры
С необычайным успехом математических естественных наук пришло и то, что современная философия и критика познания обычно усматривают в их методах прототип научного мышления. Следствием этого стало дуалистическое расщепление мира на реальный, замкнутый физический мир и мир духовный; последний, однако, остается зависимым от природного мира и не наделяется собственным независимым статусом. Дальнейшим следствием становится то, что даже этот духовный мир следует объяснять тоге geometrico, в соответствии с непроясненным рационализмом математических естественных наук, или, как именует его Гуссерль, физикалистским рационализмом. Прежде всего надлежит объективистски трактовать психологию, где «объективистски» означает, что в этой области мира, которая самоочевидно дана в опытном переживании, нужно искать «объективные истины», не исследуя субъективную активность разума, из одной лишь которой конституируется онтический смысл предданного жизненного мира. Ибо жизненный мир— субъективное образование, возникающее из переживания донаучной жизни. Поскольку интуитивно постигаемый жизненный мир, сугубо субъективный, был забыт в тематическом интересе естественной науки и объективистской психологии, то работающий субъект — а именно, человек, занимающийся своей наукой, — никак не тематизировался. Только в чисто культурно-научном познании ученого не сбивает с толку отрицание самосокрытия его деятельности. А следовательно, будет ошибкой, если социальные науки начнут состязаться с естественными за равную степень достоверности. Как только социальные науки делегируют естественным свою объективность как собственный независимый атрибут, они сами впадают в объективизм, ибо только Дух (Geist) существует сам по себе и является независимым. Рассмотреть природу как нечто сущностно чуждое духу и затем поставить науки о культуре на базис естественных наук, тем самым делая их якобы точными, — абсурд. Ослепленные натурализмом, исследователи культуры не позаботились даже поставить вопрос об универсальной и истинной науке о культуре.
Ad 4. Но должны ли вообще науки о культуре, в том смысле, в каком сегодня используют этот термин, исследовать проблему универсальной науки о духе, в гуссерлевском смысле? Разве не является эта задача специфически философской или, точнее говоря, феноменологической проблемой, которая становится заметной лишь в трансцендентальной сфере, — а стало быть, лишь после того, как этот обыденный мир, который один только является и должен быть темой всех конкретных наук о культуре, будет заключен в скобки? Идеал истории - изложить все так, «как на самом деле было» (фон Ранке) - является, с некоторыми модификациями, и идеалом всех других наук о
Альфред 111н>11. Феноменология н социальные науки 529
культуре. Суть его в том, чтобы определить, что на самом деле собой представляют общество, государство, язык, искусство, экономика, право и т. д. в этом нашем обыденном жизненном мире и его историчности и как можно сделать смысл всего этого понятным в сфере нашего обыденного опыта. И не следует ли в этой сфере обратиться за решением проблемы универсальной науки о культуре к психологии?
Кроме того, для Гуссерля не существует никаких сомнений в том, что все до сих пор существовавшие науки о культуре и обществе связаны в основе своей с феноменами обыденной интерсубъективности. А потому трансцендентальные конститутивные феномены, заявляющие о себе лишь в феноменологически редуцированных сферах, редко попадают в поле зрения наук о культуре. Вместе с тем, психология, от которой можно было бы ожидать решения проблем наук о культуре, должна осознать, что она не является наукой, имеющей дело с эмпирическими фактами. Она должна быть наукой о сущностях, исследующей корреляты тех трансцендентальных конститутивных феноменов, которые связаны с естественной установкой. Следовательно, она должна исследовать инвариантные, специфичные и сущностные структуры разума; но это не значит, будто она исследует их a priori^. Конкретное описание сфер сознания, которое должна осуществить подлинная дескриптивная психология в естественной установке, остается, однако, описанием замкнутой сферы интенциональностей. Иначе говоря, оно требует не только конкретного описания переживаний сознания в духе локковской традиции, но и обязательного описания сознательных (интенциональных) «объектов в их объективном смысле»15, обнаруживаемых в активных внутренних переживаниях. Но такая истинная психология интенциональности есть, по Гуссерлю, не что иное, как конститутивная феноменология естественной установки16.
В этой эйдетической обыденной науке (а стало быть, в психологической апперцепции естественной установки), лежащей у истоков всех методологических и теоретических научных проблем всех наук об обществе и культуре, все анализы, производимые в феноменологической редукции, по существу содержат свое обоснование. И именно здесь кроется колоссальная значимость полученных Гуссерлем результатов для всех наук о культуре. Теперь пойдем немного дальше.
* II
В приведенном резюме некоторых важнейших направлений размышления поздней философии Гуссерля понятие жизненного мира раскрывается во всей его основополагающей значимости как
530 Человек в контексте кулыуры
смысловой базис всех наук, в т.ч. естественных, а также философии, поскольку она претендует на статус точной науки. Таким образом, каждая рефлексия обретает свою очевидность лишь в процессе мысленного возвращения к своему изначальному основополагающему переживанию в этом жизненном мире, и бесконечной задачей мышления остается задача сделать понятной интенциональную конституцию контрибутивной субъективности в соотнесении с ним как ее смысловым базисом. Однако мы, наивно живущие в этом жизненном мире, сталкиваемся с ним как с уже конституированным. Мы, так сказать, в него рождаемся. Мы живем в нем и претерпеваем его, а живая интенциональность нашего потока сознания поддерживает наше мышление, благодаря которому мы в этом жизненном мире практически ориентируемся, и наше действие, посредством которого мы в него вмешиваемся.
Наш повседневный мир с самого начала есть интерсубъективный мир культуры. Он интерсубъективен, ибо мы живем в нем как люди среди других людей, связанные с ними общим влиянием и работой, понимающие других и являющиеся для них объектом понимания. И это мир культуры, ибо с самого начала жизненный мир есть для нас универсум обозначений, т.е. смысловая сеть (Sinnzusammenhang), которую мы должны проинтерпретировать, и мир смысловых взаимосвязей, которые мы устанавливаем лишь посредством нашего действия в этом жизненном мире. Это мир культуры еще и потому, что мы всегда сознаем его историчность, с которой сталкиваемся в традиции и привычности и которую можно подвергнуть исследованию, поскольку «уже-данное» отсылает нас к нашей собственной активности или активности других, осадком которой оно является. Я, человек, рожденный в этом мире и наивно в нем живущий, являюсь центром этого мира в исторической ситуации моего актуального «Сейчас и Таким Образом»; я есть «нулевая точка, по отношению к которой ориентирована его конституция»17. Иначе говоря, этот мир обладает значимостью и смыслом прежде всего через меня и для меня.
Далее мы намерены попытаться прояснить эту тему, выведя из хода размышлений Гуссерля некоторые фундаментальные следствия относительно знания структуры социальных наук, не обнаруживаемые в его работах.
Этот мир, выстроенный вокруг моего собственного Я, предлагает себя для истолкования мне, существу, наивно в нем живущему. С этой точки зрения, все соотносится с моей актуальной исторической ситуацией, или, как еще можно сказать, с моими прагматическими интересами, принадлежащими ситуации, в которой я оказываюсь сейчас и таким образом. Место, в котором я живу, значимо для меня
Альфред I! !юи. Феноменология и социальные науки 531
не как географическое понятие, а как мой дом. Предметы моего повседневного пользования значимы для меня как мои орудия и инструменты, а люди, с которыми я состою в тех или иных отношениях, являются для меня родными, друзьями или чужими. Язык для меня — не субстрат философских или грамматических рассуждений, а средство выражения моих намерений или понимания намерений других и т.п. Лишь через соотнесение со мной эта связь с другими обретает свой специфический смысл, который я обозначаю словом «Мы». По отношению к Нам, центром которых я являюсь, другие выступают как «Ты», а в соотнесении с Тобой, который взаимно соотносит себя со мной, третьи стороны выступают как «Они». Мой социальный мир с находящимися в нем алыпер эго упорядочивается вокруг меня как центра и разделяется на партнеров (Umwelt), современников (Milwell), предшественников (Vorwelt) и преемников (Folgewelt)™, благодаря чему я и различные мои установки по отношению к другим учреждают эти многообразные отношения. Все это делается в различных степенях близости и анонимности.
Кроме того, жизненный мир упорядочен на области (Zentreri) разной релевантности соответственно состоянию моих интересов; каждая из областей имеет свой специфический центр плотности и наполненности, а также открытые, но поддающиеся истолкованию горизонты. В этой связи в поле внимания попадают категории знакомости и чуждости, а также очень важная категория досягаемости. Эта последняя относится к группировке моих сред в соответствии с 1) тем, что актуально находится в пределах моей физической досягаемости, видимости и слышимости или некогда там было и при желании могло бы быть в пределы актуальной досягаемости возвращено; 2) тем, что доступно или было доступным для других и, таким образом, потенциально могло бы стать доступным для меня, если бы я был не здесь (hie), а там (illic)™; 3) открытыми горизонтами того, что может быть мыслимо как достижимое в свободной фантазии.
К этому следует добавить: я полагаю, что все, имеющее смысл для меня, наделено смыслом и для Другого или Других, с которыми я разделяю этот мой жизненный мир как партнер, современник, предок или потомок. Этот жизненный мир предлагает себя для истолкования и им тоже. Я знаю об их перспективах релевантности и их горизонтах знакомости или чуждости; но на самом деле я знаю еще и то, что некоторыми сегментами своей осмысленной жизни я принадлежу к этому жизненному миру Других, как и Другие принадлежат к моему жизненному миру и т.д. Все это дает мне, наивному человеческому существу, многогранную ориентацию. Я полагаю осмысленным ожидать, что Другие дадут им осмыслен
532
Человек в контексте культуры
ное истолкование, и моя схема полагания ориентирована на схему интерпретации Других. В то же время, я могу исследовать все, что, являясь продуктом Других, предлагает мне себя для осмысленной интерпретации с точки зрения того смысла, который Другой, его произведший, возможно, с ним связывал. Таким образом, в этих взаимных актах смыслополагания и интерпретации смысла возводится мой социальный мир обыденной интерсубъективности; это также и социальный мир Других, и все прочие социальные и культурные феномены на нем базируются.
Все это для меня в моей наивной жизни так же самоочевидно, как и то, что этот мир действительно существует и действительно таков, каким я его переживаю (если не принимать во внимание обманы, которые впоследствии, по мере развертывания потока опыта, оказываются просто кажимостями). У наивного человека нет мотива ставить трансцендентальный вопрос о реальности этого мира или реальности альтер эго, т.е. совершать прыжок в редуцированную сферу. Напротив, он полагает этот мир в общем тезисе как значимо для него достоверный, вместе со всем, что он в нем находит, со всеми природными объектами, живыми существами (особенно людьми) и всевозможного рода значащими продуктами (орудиями труда, символами, языковыми системами, произведениями искусства и т.д.). Следовательно, наивно живущий человек (а мы всегда говорим о здоровых, взрослых и бодрствующих людях) автоматически имеет, так сказать, под рукой некие смысловые комплексы, которые для него достоверны. Из всего, что он унаследовал и усвоил, из многообразных осаждений традиции, привычности и собственных прежних конституирований смысла, могущих сохраняться в его памяти и реактивироваться, складывается его запас переживаний своего жизненного мира как некий закрытый смысловой комплекс. Этот комплекс обычно является для него не проблематичным и остается под его контролем таким образом, что его сиюминутный интерес отбирает из этого запаса опыта то, что релевантно требованиям ситуации. Переживание жизненного мира имеет свой особый стиль подтверждения. Этот стиль складывается в процессе гармонизации всех единичных переживаний. В конце концов, но не в последнюю очередь, он со-конституируется перспективами релевантности и горизонтами интереса, которые должны быть эксплицированы.
Все, что до сих пор было сказано, однако, представляет собой не более чем перечень заголовков для широкого исследования. На данный момент достаточно твердо уяснить, что нужен особый мотив, чтобы вообще заставить наивного человека поставить вопрос о смысловой структуре его жизненного мира, пусть даже в рамках общего тезиса. Этот мотив может быть самым разным; например,
Альфред Шю1Ь Феноменшю] ня и социальные науки 533
некий новоявленный смысловой феномен может воспротивиться своей интеграции в запас опыта, или особое состояние интереса может потребовать перехода от наивной установки к рефлексии более высокого порядка. Как пример последнего можно привести так называемое рациональное действие. Рациональное действие имеет место тогда, когда все цели действия и все средства, которые будут к ним вести, представляются ясно и отчетливо, как, например, в случае экономического действия. При таком мотиве к оставлению естественной установки всегда может быть поднят благодаря процессу рефлексии вопрос о смысловой структуре. Всегда можно реактивировать процесс, выстроивший данные смысловые осадки, и после этого объяснить интенциональности перспектив релевантности и горизонтов интереса. Затем все эти смысловые феномены, которые просто принимаются наивным человеком как данность, в принципе могут быть точно описаны и проанализированы даже в рамках общего тезиса. Сделать это на уровне обыденной интерсубъективности - задача обыденных наук о культуре; прояснение же их специфических методов определенно есть часть той конститутивной феноменологии естественной установки, о которой мы говорили (и для которой лишь немногие темы были намечены в этой части очерка в качестве программных примеров). Будем ли мы называть эту науку Интенциональной Психологией или, лучше, Общей Социологией, поскольку она всегда должна возвращаться к обыденной интерсубъективности, — вопрос второстепенной важности.
Всякая наука предполагает особую установку человека, который ею занимается; это установка незаинтересованного наблюдателя. Прежде всего, она отличается от установки человека, наивно живущего в своем жизненном мире и имеющего к нему отчетливо выраженный практический интерес. Однако с переходом к этой установке все категории переживания жизненного мира претерпевают фундаментальную модификацию. В качестве незаинтересованного наблюдателя, в отличие от частного лица, которым он также, безусловно, является, ученый не участвует в жизненном мире как действующее лицо и уже не захвачен в своих действиях живым потоком интенциональностей. Человек, наивно живущий в жизненном мире, как мы уже сказали, может быть мотивирован таким образом, чтобы поставить вопрос о его смысловой структуре. Но хотя он и рефлексирует таким образом, он никоим образом не теряет своего практического интереса к нему и все еще остается центром, «нулевой точкой» этого своего мира, по отношению к нему ориентированного. Между тем, настроиться на научное наблюдение этого жизненного мира — значит принять решение не помещать более себя и свое состояние интереса в центр этого мира и
534
Человек в контексте культуры
заменить эту ориентацию феноменов жизненного мира другой нулевой точкой. Что будет представлять из себя эта нулевая точка и как она будет конституироваться как тип (экономический человек, субъект права и т.п.), зависит от частной проблемной ситуации, выбранной ученым. Жизненный мир как объект научного исследования будет для исследователя как ученого преимущественно жизненным миром Других, наблюдаемых. Это не отменяет того факта, что ученый, являющийся еще и человеком среди других людей в этом единственном и едином жизненном мире, сама научная работа которого представляет собой совместную работу с Другими в этом мире, постоянно обращается и обязан обращаться в своей научной работе к собственному переживанию жизненного мира. Однако всегда нужно ясно понимать, что беспристрастный наблюдатель в известной степени отстранился от живого потока интенциональностей. Вместе с заменой системы ориентации другой нулевой точкой каждое смысловое соотнесение, которое было для наивного человека самоочевидным в отношении его собственного Я, претерпело теперь фундаментальную специфическую модификацию™. Каждой социальной науке и науке о культуре остается лишь разработать тип такой модификации, ей соответствующий; а это значит не что иное, как разработать свои особые методы, Иначе говоря, каждая из этих наук должна дать свое уравнение преобразования, согласно которому будут трансформироваться посредством идеализации феномены жизненного мира.
Ибо идеализация и формализация играют в социальных науках такую же роль, какую, как установил Гуссерль, они играют в науках естественных, только состоит она не в математизации форм, а в разработке типологии «наполнений» (Fullen). Кроме того, в социальных науках имеется очевидная опасность, что их идеализации — в данном случае типологии — станут рассматриваться не как методы, а как подлинное бытие. На самом деле, в науках, изучающих человека и его жизненный мир, эта опасность даже выше, ведь им всегда приходится работать с исключительно сложным материалом, заключающим в себе типы более высокого порядка. Этот материал не отсылает непосредственно к субъективной активности индивидов, последняя же всегда является главной проблемой в сфере обыденной апперцепции.
Великий вклад в решение этих проблем внес Макс Вебер21 и его verslehende Soziologie. Вклад этот состоял в том, что Вебер представил основы метода, пытающегося объяснить все социальные феномены, в самом широком смысле (т.е. все объекты наук о культуре), в соотнесении с тем «предполагаемым смыслом», который связывает со своим действием сам действующий. Одновременно
Альфред IПюи. Феноменология н социальные науки 535
он дал и основные стилевые характеристики, присущие методу этих наук, в теории идеального типа и законов его образования. Однако мне представляется, что в полной мере эти методы могут быть осмыслены лишь с помощью серьезного исследования конститутивной феноменологии естественной установки.
В исследованиях Гуссерля в сфере трансцендентальной феноменологии такая наука найдет нечто большее, нежели просто руководство, ибо, как мы уже сказали, всякий анализ, проводимый в русле феноменологической редукции, должен сохранять свои обоснования в коррелятах феноменов, исследуемых в естественной сфере. А следовательно, задачей этой науки должно стать применение всего богатства знаний, открытых для ее сферы Гуссерлем. Назовем лишь гуссерлевский анализ времени, его теорию знаков и символов, идеальных объектов, окказиональных суждений и, наконец, его телеологическое истолкование истории. Разработка программы такой науки, пусть даже в самых общих ее очертаниях, и выведение ее за рамки простого предложения, какое было предстащтено выше, намного превысило бы объемы, отведенные для этого очерка22.
Примечания
J См. в особенности: Logik. § 94 и далее.
2 Brussels, 1939. Vol. I. № 2. Р. 203 225.
3 Husserl Е. Nachwort zu meinen Ideen //Jahrbuch. XI. S. 562 IT.
4 Logik. S. 210.
5 Для этой цели мы не стали пользоваться французским переводом, а воспользовались оригинальной неопубликованной рукописью на немецком. Критику гуссерлевского постулирования трансцендентального субъекта, против которого можно, па мой взгляд, выдвинуть ряд серьезных возражений, мы вынуждены отложить до следующей публикации.
6 Под аппрезентацией Гуссерль понимает процесс аналогизирующего уподобления, однако этот процесс никоим образом не является выводом по аналогии. Благодаря ему актуальное переживание соотносится с другим переживанием, которое не дано и не будет дано в действительности. Иными словами, аппрезентируемое не обретает актуального присутствия в настоящем. Например, при взгляде па лицевую сторону объекта обратная его сторона ап презентируете я. Спаривание (в переводе на французский accouplement) изначальная форма пассивного синтеза, или, иначе говоря, ассоциации. Ес характерная особенность состоит в том, что две данности, отличные друг от друга, предстают в сознании как единство; это означает, что они конституируют как пара некое феноменологическое единство подобия, учреждаемое чистой пассивностью, независимо от того, что они кажутся отличными, а также того, обращено на них внимание или пет. См.: Meditations Cart&iermes. §§ 50, 51.
7 По этому поводу см. в особенности: Mdditations Cartdsiennes. § 58.
536 _______________________________________Человек в контексте культуры
8 Husserl Е. Krisis. S. 98 ff. (Рус. пер.: Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 67 и далее.)
9 Ibid. S. 125 ff. (Там же, с. 87 и далее.)
10 Husserl Е. Geometric. S. 203-226, особенно S. 209 217. (Рус. пер.: Гуссерль Э. Начало геометрии. М.: Ad Marginem, 1996. С. 210-245.)
11 В связи с последним замечанием относительно логики см.: Logik. § 73 -81,9411.
12 См.: Krisis. S. 101 — 105. (Гуссерль Э. Кризис... С. 69 72.) n Ibid. S. 113 116, 132 ff. (Там же. С. 78 81, 92 и далее.) l4Nachwort, S. 553; ср. р. 14 в переводе Бойса Гибсона.
15 Ibid. S.565.
16 Ibid. S. 567.
17См выше, с. 524.
18 Эти термины переводятся здесь так, как в статье Алфреда Стоние-ра и Карла Боде о работе д-ра Шюца: Stonier A.t Bode К. A New Approach to the Methodology of the Social Sciences // Economica. Vol. IV (November 1937). P. 406-424. Эти термины подробно разъясняются в работе д-ра Шюпа: Der sinnhafte Aulbau der sozialen Welt. Wien, 1932. Umwelt непосредственный мир, в котором возможно непосредственное и относительно интимное переживание других. Mirwelt мир опосредованного, но со-временпого переживания, в пределах которого другие могут переживаться косвенно и относительно анонимно. Vorwelt означает опыт исторического прошлого. Folgewelt означает будущее, пережить которое невозможно, но ориентация на которое может существовать. - Прим. Ричарда Уильямса, переводчика статьи на англ. яз.
14 См. выше, с. 187 188.
-° Например, социальный ученый не изучает конкретное действие (Handelri) людей, как это делаем ты, я и каждый в пашей повседневной жизни, со всеми нашими надеждами и страхами, ошибками и ненавистями, радостями и бедами. Он анализирует лишь некоторые определенные последовательности деятельности (Handlungsablaufe) как типы, с присущими им отношениями «средства пели» и мотивационными цепочками, а также конструирует (конечно, согласно вполне определенным структурным законам) устойчивые идеальные личностные тины, которыми и населяет тот сегмент социального мира, который был отобран им в качестве объекта научного исследования.
21 Превосходное изложение его теории на английском языке можно найти в книге: Parsons Т. The Structure of Social Action. N.Y., 1937.
22 Некоторые основные принципы были изложены мной в книге: Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. (См.: 1Нюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. - Ред.).
Печатается по изданию: Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С. 180 202.
Эрих Калер
Культура и эволюция
I
Термины «культура» и «эволюция» никоим образом не являются чем-то однозначным. Они имеют разные толкования, и разнообразие их значений отражает разнообразие жизни человека на разных этапах истории. В кратком обзоре различных употреблений этих слов я продемонстрирую, как по мере расширения значений терминов появлялись, напротив, их более узкие коннотации.
Слово «культура» происходит от латинских cultura и cultus, что значит «уход, культивирование», но заключает в себе множество сопутствующих значений, таких как «воспитание», «обучение», «украшение», а также «благоговение» и «культ». Оба слова изначально употреблялись в атрибутивном, функциональном смысле, обозначая возделывание чего-либо. Фактически cultura встречается раньше всего в составной форме: agricultural сельское хозяйство, возделывание земли, обработка почвы; следы этого происхождения были заметны и в Средневековье, когда изредка поклонение Богу называют agricultura Dei, «агрикульт» Бога. Значение термина cultura расширяется по мере раздвижения границ его приложения: Цицерон говорит о cultura animi, воспитании души, что для него тождественно философии; но постепенно cultura animi перестала сводиться только к этому, в нее стали вкладывать смысл культивирования искусств и книжности, умственных способностей вообще. Так, на первый план выступила черта, присущая любому воспитанию; а именно - контроль и организация, утончение и сублимация того, что дано природой.
Так различные атрибутивные, функциональные употребления терминов cultura и cultus слились в одно субстантивированное понятие «культура», используемое и по сей день, когда культуру противопоставляют варварству или когда кого-то называют культурным человеком. Этот переход от атрибутивности к субстантив-ности предполагает коренное изменение: представление о культу
538____________________________________Человек н контексте кулыуры
ре как возделывании, деятельности (обработка чего-либо, воспитание кого-либо - cultivare se ipsum) сменилось понятием культуры как устойчивого состояния, состояния «окультуренности».
В этом качестве, применительно к присущему человеку состоянию, термин «культура» стал синонимом других понятий: humanitas, «человечность», т. е. состояние, присущее человеку в отличие от животного, или civilitas, «благовоспитанность», и urbanitas, «вежливость», состояние, свойственное городскому жителю и гражданину в отличие от крестьянина, мужлана. Римская империя1’ и страны, возникшие на месте римских провинций и со-хравнившие римские традиции, были порождены городом, юрод был их организующим центром. Страна в целом мыслилась подчиненной городу, а городская жизнь была жизненным стандартом, в отличие от Германии, где города развились поздно, уже после образования некоего подобия всемирной империи, и где по причине привязанности знати к деревне города так и не смогли обрести такого господствующего положения, как в других странах Западной Европы. В самом деле, лишь сравнительно недавно в Германии появилась столица2*. Думается, этими различиями в конечном счете объясняется преобладание термина «цивилизация» на романском и англосаксонском Западе и термина «культура» в Германии. Немецкое понятие и высокая оценка культуры, Kultur, вышли из понятий немецкой философии. Культура (Kultur) отождествлялась с Bildung, воспитанием души, умственных и духовных способностей, и ставилась выше западной «цивилизации», которая толковалась как комплекс внешних признаков: благородства манер, развития техники и общественно-политических институтов.
В XVI в. складывается новая концепция культуры. На волне формирования современных наций и государств с особой территорией политические мыслители начали выделять отличающиеся друг от друга национальные обычаи и институты и осмыслять их национальные особенности. Теоретик французской монархии Жан Боден в Шести книгах о государстве (Six Livres de la Republique) (1576) впервые заговорил о разных государственных формах как об организмах, которые, подобно всему живому, растут и увядают, а их специфические особенности обусловлены характером народа и климатом. В этом он предвосхитил современные теории Шпенглера и Тойнби. Позднее Монтескьё в сочинении О духе законов (Esprit des Lois, J748) и Вальтер в Эссе о нравах (Essai sur les Moeurs, 1757) говорили о «гении народа» (le genie du peuple), о «всеобщем духе» (esprit general)', употребляли они и выражение «genre de vie», которое можно адекватно передать как «стиль» или «образ жизни». Нет нужды прослеживать всю линию развития данного понятия;
Эрих Калер. Культура и эволюция 539
достаточно сказать, что в XIX в. ее увенчала концепция «культур» как непохожих друг на друга форм жизни этнических общностей или эпох. Насколько мне известно, первым, кто взял на вооружение такое понятие культуры, был швейцарский историк Якоб Буркхардт; в середине XIX в. он использовал его в конкретных исследованиях «Культура Возрождения» (Kultur der Renaissance) и «История греческой культуры» (Griechische Kulturgeschichte). В этом узком смысле пользуются термином «культура» и современные этнографы применительно к изучаемым ими племенным группам.
Сдвиг от понятия культуры как общечеловеческого состояния к понятию культуры как самобытного образа жизни этнических групп — короче говоря, от культуры в целом к отдельной культуре, предполагает еще одно важное изменение. Культура как общечеловеческое состояние, свойственное определенной стадии развития, предполагала оценку; это свойство было утрачено, когда культура получила толкование просто особого стиля жизни. Культура как ценность была эквивалентна превосходству над состоянием дикой природы, над варварством, была интеллектуальным и моральным критерием определения ценности и достоинства индивидуумов и народов. Это понятие означало совершенствование, утончение, просвещение, что в свою очередь подразумевало развитие.
Итак, изначально cultura (культура) была синонимом развития, причем (и это особенно важно) развития в смысле прогресса, совершенствования человека.
II
Теперь перейдем в проблеме развития, или эволюции. Оба слова по сути значат одно и то же: развитие — это развертывание, а эволюция- раскрытие. Различие лишь в одном: эволюция превратилась в более общее, а развитие — в более узкое понятие.
Если речь идет о человеке, то эволюция протекает от сугубо физического уровня к уровню сугубо психическому, или умственному, а это значит, что она переходит в развитие сознания, а сознание- это важнейшая составная часть того, что можно назвать историей. Мир истории— это мир сознания, но я не буду излагать здесь все подробности этого процесса. Достаточно наметить основные фазы1.
Античное мышление и общество зиждились на неизменном образе Вселенной. Понятие эволюции погибло в зародыше; сама эволюция, как это ни парадоксально, была статичной. Впрочем, Аристотель, впервые использовавший понятие энтелехии, счита
540 Человек в контексте культуры
ется родоначальником идеи эволюции; и правда, обращаясь к разным сферам живой природы - растениям, животным и человеку, и считая их последовательными стадиями эволюции, он полагал, что каждая из них обусловлена предшествующей, но он не мыслил, чтобы эти стадии на самом деле последовательно сменяли друг друга. Для него любое живое существо или вид были сотворены особым прикосновением божества. Точно так же древние, по крайней мере до эллинистического периода, не имели понятия об историческом развитии человечества. Древние греки и римляне не представляли себе реальной, цельной истории, т.е. истории как единого, уникального и неповторимого потока событий, пронизывающего и охватывающего отдельные народы, истории как полной записи жизненного пути человечества. Им казалось, что человеческий мир незыблем и вечен и что он то созидается, то гибнет, совершая круговорот. Поэтому их концепция изменения и эволюции оставалась очень поверхностной: развитие сводилось к движению по кругу.
Что такое настоящая эволюция, впервые испытали евреи; для них история превратилась в путь человека от изначального состояния бессознательного целомудрия, утраченного в результате грехопадения, к высшему состоянию сознательно обретенного целомудрия в Царстве Божием, которое грядет в конце времен. Конечно, ход человеческой истории все еще представляется им движением по кругу, поскольку создается впечатление, что он возвращается к своему началу, тогда как на самом деле человек достигает иного уровня - уровня сознания. Вот в чем коренное отличие: весь процесс приобретает неповторимость.
Мессианское пророчество иудаизма привело к христианству; христианская вера в божественного спасителя, совершившего самопожертвование, превратила иудейский путь к целомудрию, достижение которого всецело зависело от человека, в путь к божественному спасению. Таким образом, в христианскую эпоху эволюция стала тождественна постепенной подготовке человека к спасению.
Так, благодаря иудейско-христианским концепциям судьба человека обрела динамику, превратившись в один неповторимый эволюционный процесс. Этот эволюционный процесс сделал явственным то, на что лишь намекали античные концепции культуры: совершенствование и сублимацию3*. И вновь в понятие развития вкладывался смысл улучшения, достижения человеком нового, возвышенного счастья.
Наконец, когда на исходе Средневековья христианская догма пала, а место Бога занял человеческий разум, рационализм уна
)рих Катер. Кулыура и эволюция 541
следовал от христианского богословия концепцию истории как путь человечества к совершенству. Предустановленная ясная цель, каковой представлялось Царство Божие, исчезла, и вместо нее возникла неясная цель Царства Разума: эволюция перестала быть путем к конкретному событию спасения, превратившись в бесконечное приближение к мирскому совершенствованию и счастью посредством рационального, научно-технического улучшения условий жизни человека. Эта цель распалась на поступательные стадии; она стала сливаться с самим путем, с собственно прогрессом, цель которого развивалась вместе с ним. Акцент сместился с окончательного достижения на бесконечное становление.
С конца XIX в., а тем более в XX в., человечество постепенно утрачивало веру в прогресс. Точнее, исчезало не что иное, как надежда на то, что научно-техническое улучшение материальных условий само по себе повлечет улучшение внутреннего мира человека, иначе говоря, сделает его лучше и счастливее. Задолго до рубежа веков прозорливые люди предвидели темную, оборотную сторону распространения рационального просвещения, все большего коллективизма и дегуманизации, которые нес с собой технический прогресс. Они предчувствовали то, чему суждено было случиться в великие кризисы XX в.: с высот цивилизации человечество внезапно низверглось в новое, рационализированное варварство. Надежды поколений рационалистов обернулись горьким разочарованием в прогрессе; а поскольку эволюция всегда отождествлялась с прогрессом, то вместе с идеей прогресса ушло в небытие и понятие эволюции.
Были и другие факторы, способствовавшие дурной славе эволюции. В области истории саму идею истории как взаимосвязанной эволюции человечества дискредитировало не что иное, как гипертрофия историцизма: именно избыток нового фактического материала затмил широкую перспективу развития и сделал историков падкими до «обобщений». Или, вернее, то было не само накопление фактического материала, а скорее неспособность историков вписать новые факты в общую концепцию эволюции человека, чему причиной — сциентистские амбиции и позитивистская тенденция современной исторической науки. Как реакция на великие философские и социальные концепции посткантианской эпохи в первой половине XIX в. воцарилось все сметающее недоверие некритического умозрения. Такая реакция, несомненно, была до какой-то степени оправданной, но, как водится, она дошла до иной крайности, приведя к столь же некритической позиции. Под влиянием сциентистского позитивизма все критерии фактов были утрачены; историческое исследование пришло к
542 Человек в контексте кулыуры
тому, что я назвал бы демократией фактов, - т. е. к полному равноправию фактов, что аннулировало различие между существенным и несущественным. Да и откуда бы взялась широкая оценка фактов, если исчезло само представление об историческом процессе? Всякое недвусмысленное утверждение развития стало невозможным; развитие буквально исчезло за формулировками. В конце концов эта тенденция вылилась в сциентистские, в основе своей антиисторические теории (наподобие теорий Шпенглера и Тойнби), разбившие процесс человеческой эволюции на множество «философски-современных» культур, чтобы вывести из них «законы истории», тождественные законам природы. Построения этих «культур», или «цивилизаций», не менее некритично умозрительны, чем былые философские системы.
Разумеется, биология так и не смогла расстаться с концепцией эволюции, пусть даже модифицированной, а в геологии только историческая точка зрения и позволяет понять структуру Земли. Но антиэволюционизм оставил свой след даже в палеобиологии. Немецкий палеонтолог Эдгар Даке, сведущий человек, наделенный творческим воображением, выдвинул теорию, которой предназначалось совершить переворот всего хода эволюции живых форм. В книге Доисторический мир, сага и человечество2 он утверждал, что с начала возникновения жизни существовали разные генетически разобщенные типы или типовые группы (Typenkreise)> которые постепенно развились в различные животные формы. Подобно им, человек тоже изначально рудиментарно существовал как самостоятельный генетический тип. Конечно, Даке не мог отрицать, что прежде чем человек достиг человеческой формы, ему пришлось пройти через разные животные стадии, но для объяснения этого он создал теорию, согласно которой конкретные условия и окружающая среда разных палеонтологических периодов навязали генетически самостоятельным группам некоторые как бы гомогенные структурные формы и органы, некую структурную моду: от кембрийского периода до девона преобладающей формой были рыбы; в пермский период разные виды «приоделись», так сказать, в амфибий; от пермского периода до мела они превратились в рептилий; с наступлением эоцена4’ появились млекопитающие, а позднее преобладающим видом стала обезьяна. Как атавизм этого явления Даке называет фауну Австралии, где самые разные виды более высоко организованных хмлекопитающих, похоже, имитируют форму более низко организованного типа млекопитающего— сумчатого. Сумчатый барсук, опоссум, кенгуру, кускус, австралийский медведь (коала) — все это разнообразные варианты формы сумчатых.
)рих Калер. Культура и эволюция 543
Но даже эта гипотеза не покончила с самим фактом эволюции. Предположение, что была не одна, общая линия развития, а несколько первоначальных групп, говорит только о том, что множество эволюций протекали параллельно; что же касается эволюции человека, то нет особой разницы, назвать ли рептилию рептилией или человеком, на какое-то время принявшим облик рептилии.
III
Основным источником этого течения, поистине, моды на эволюционизм, было, как говорилось выше, разочарование в прогрессе и отождествление эволюции с прогрессом. Чтобы правильно понять, что же такое эволюция, необходимо, по-видимому, покончить с этой путаницей и четко разграничить эволюцию и прогресс. Прежде всего скажу, что вначале была эволюция, а не прогресс. Прогресс подразумевает оценку; эволюция - просто процесс.
Прогресс означает совершенствование. В человеческой сфере его понимали как улучшение не только жизненных условий, но всей жизни человека; т.е. не только как поступательное развитие материальных условий, но и как достижение все большего счастья, все более высокого нравственного уровня, когда (если выразить это простыми словами) люди будут вести себя разумно. Совершенно очевидно, что великие ожидания эпохи Просвещения не сбылись. Биологические теории также отождествляли эволюцию с прогрессом настолько, насколько видели в ней поступательное движение, ведущее к человеку, если не как к предустановленной цели, то как к венцу творения. И правда, Джулиан Хаксли, похоже, и по сей день полагает, что отдельно взятый человек есть самый совершенный продукт эволюции. Учитывая нынешние условия жизни, я считаю это довольно сомнительным. Поэтому, говоря о нынешней эволюции, думается, лучше было бы элиминировать понятие прогресса, поскольку его невозможно лишить изначального, откровенно оптимистического значения.
Но если эволюция не прогресс, то что же? Прежде всего, следует принять во внимание, что в науке последние эксперименты и открытия продолжали движение мысли, диаметрально противоположной моде на антиэволюционизм. Картина природы ныне стала насквозь динамичной, т.е. природа уже не видится, как в XIX в., статичной, неподвижной сферой; она раскрылась как процесс. Как доказала современная физика, природа не только сплошь состоит из процессов— она всегда была и остается процессом по своей сути. Ныне астрономия считает себя исторической наукой. Не буду вдаваться в детали этой новой динамической концепции
544 Человек в контексте культуры
космической природы и гипотезы о расширяющейся или взрывающейся Вселенной, с одной стороны, и непрерывного творения — с другой3. Биологическая природа видится как процесс уже давно, еще со времен Бюффона и Ламарка. Конечно, полуторавековое изучение создало картину истории жизни, и эта история предстает, скорее, как древо с густо разветвленной кроной, чем как прямолинейное развитие. Но важнейшее изменение, которое произошло в научных взглядах на проблему эволюции, состоит в том, что разрыв между неживой и живой природой начал сокращаться, а преграды между ними- рушиться.
Если соединить воедино все эти эксперименты, то история Вселенной, история Земли, история жизни и история человека предстанут как множество частей и стадий единого неповторимого события. Это потрясающее событие, начавшееся во Вселенной и продолжающееся по сей день, в тот самый момент, когда мы сидим и размышляем о нем, — этот процесс в его целостности, безусловно, идет в определенном направлении. Говоря направление, я не имею в виду замысел, трансцендентный или иной. Здесь снова требуется строгое разграничение. Направление в смысле течения не обязательно означает направление в смысле руководства или провидения, или замысла. Я вижу направление, но не могу ничего сказать о его происхождении или причине. Именно такое направление и позволяет нам говорить об эволюции.
Так что же такое эволюция? Какова природа этого явления? Обратись мы к биологам, и вместо одного исчерпывающего ответа мы скорее всего получили бы множество неполных ответов о функциональных или структурных особенностях. Джордж Гейлорд Симпсон, например, называет разные критерии эволюции (по его терминологии, «прогресса»), такие как «тенденция жизни расширяться, заполнять всевозможные пространства в пригодной для жизни среде», «все большая адаптация», «контроль над окружающей средой», «все большее структурное усложнение», «прогресс индивидуализации» и т.д.4. При этом он всячески старается остаться «объективным» по отношению к человеку, т. е. не рассматривать эволюцию с точки зрения его предустановления, когда человек выступает как цель или вершина эволюции. Он отказывается от критерия «все большего приближения к человеку»; напротив, он обнаруживает даже отдельные аспекты, свидетельствующие, что человек не стоит на самой вершине развития, например: «Если бы надо было выделить одну, господствующую ныне группу, то это оказались бы насекомые»5; это говорит о довольно узком, сугубо физическом толковании господства. Однако он не может не поставить человека почти по всем показателям
Эрих Калер. Культура и эволюция 545
на высочайшую ступень эволюции; на основании данных он заявляет: «Человек действительно самое организованное живое существо. То, что только он способен на такое суждение, уже есть доказательство того, что это суждение верно»6. Симпсон идет еще дальше, утверждая, что человек- животное, «...в котором хотя и продолжается органическая эволюция, появляется также совершенно новый вид эволюции», основа которой— «новый вид наследственности— наследственность навыков»7. Но на самом деле он останавливается, как почти все биологи, на пороге этого нового вида эволюции — там, где «Гомо сапиенс» вступает на путь истории, что влечет за собой психическое, умственное и социальное развитие, а это совершенно новые параметры развития, намного превосходящие наследственность навыков. Джулиан Хаксли более оригинален в том, что он без колебаний, как уже говорилось, смело заявляет, что человеческий индивидуум не только есть, но «.навсегда останется высочайшим продуктом эволюции»8. Эволюцию он определяет как усложнение: «...больший контроль, большая самостоятельность и самоуправляемость, большая, но в то же время более гармоничная в своей сложности организация, больший объем знаний и жизненного опыта»9.
IV
Попробую теперь дать свою интерпретацию, принимая во внимание как биологическую, так и историческую сферы, но не затрагивая генетического и функционального аспектов данной проблемы. Взглянув на историю жизни и историю человека под таким углом зрения, рассматривая лишь возникновение форм в их последовательности, мы увидим эволюцию как постепенное, но упорное расширение масштаба, раздвижение границ бытия с сопутствующими ей все большей дифференциацией, организацией, концентрацией, во всем их разнообразии. Такое расширение границ бытия кажется тождественным процессу интериоризации, что означает перемещение и трансформацию внешних функций во внутренние, все большее вживление содержания внешнего, экстенсивного мира во внутренний, интенсивный. На самом деле этот процесс складывается из двух процессов, в чем-то напоминающих то, что стоики5’ называли диастолой и систолой, - расширением и сокращением. Только в процессе расширения может быть усвоено и интегрировано новое содержание мира.
Конкретизируем это соображение. Начнем с того, что сама жизнь— это концентрация, интериоризация и интенсификация физических элементов: вслед за молекулой образуется клетка.
546
Человек в контексте культуры
Этот процесс продолжается в преобразовании живых форм: от споровых растений, размножающихся спорами, до цветущих растений, которым свойственно внутреннее размножение, а среди животных— от яйцеродящих до млекопитающих; даже Симпсон обращает на это внимание как на одну из самых неопровержимых характеристик эволюции: «Млекопитающие... это в данном отношении, бесспорно, самые высокоорганизованные животные, и это очевидно из того, как они вынашивают и защищают своих будущих детенышей, а после рождения вскармливают их высококалорийным материнским молоком»10. Параллельно происходило следующее: переход от экзоскелета (раковины, как у паукообразных, насекомых, ракообразных, панцирных животных) к эндоскелету (внутренняя костная структура позвоночных; костистые рыбы появились позже всех других рыб); далее, постепенная ин-териоризация метаболизма и образование центральной нервной системы — шаг вперед от метаморфозы метаболических растений и животных к непосредственному воспроизводству высших форм. Во всех этих примерах внешние процессы и связи преобразовались во внутренние функции и системы и все более тесно интегрировались в расширяющуюся органическую систему.
В этом процессе интеграция идет неотрывно от дифференциации тзсе более широкого и дифференцированного мира - интеграция различных дифференцирующихся и специализирующихся отделов и органов и организма в целом, направленная не только внутрь, но и вовне. Все большая дифференциация органической системы означает соответственно и накопление, расширяющее масштаб взаимосвязей и контроля. Итак, перед нами два направления процесса— расширение и концентрация, и трудно сказать, что чем вызвано.
Тот же процесс можно проследить и в сугубо человеческой сфере - в сфере истории, где эта эволюция протекала, переходя с физического уровня на психический, умственный, а затем на все более преобладающий социальный. Внешние, магические и мифические, связи человека с внешними, божественными силами постепенно превратились в интериоризованные связи региональных идей и концепций; населенная множеством одушевленных образов Вселенная сопричастия и религии переместилась во внутренний мир человеческого разума, организующего исследования. На смену внешней зависимости пришло все более явственное ощущение внутренней автономии, суждение, выбор, овладение человека собой и миром. Развитие человеческого сознания происходит по мере того, как перед ним раскрывается мир во всем его богатстве и разнообразии. Мы видим, что этот процесс дифферен
)рих Калср. Культура и эволюция_________________________547
циации, выработки характерных умственных способностей соразмерен процессу интеграции, инкорпорации все более обширной феноменальной территории.
Наконец, сравнивая состояние человеческого знания и овладения природой с помощью техники в первые века нашей эры с тем, что происходит в наши дни, можно отметить новый шаг в том же направлении. Вселенная, живущая по законам механики Ньютона, находилась во власти внешних, грубо материальных сил, доступных чувственному восприятию; современная физика наблюдает Вселенную, недвижимую внешними силами, но вечно находящуюся во власти свойственного ей движения, Вселенную, в которой материя тождественна энергии и познание которой возможно только все более умозрительно. Ныне современному беспрецедентному расширению объективной орбиты человеческого созерцания и манипуляций соответствуют значительно более изощренные методы познания. Нет нужды привлекать внимание к прогрессу в техническом овладении природой, которое превратило земной шар как бы в единое пространство и поставило нас на грань межпланетного общения. Современная биология и медицина проникли в микросферу генов, гормонов и энзимов; стали яснее тонкие взаимосвязи внутри органического целого; современная психология вторглась в сферу бессознательного. Нечто похожее происходит и в современном искусстве, которое выходит за рамки изображения индивидуальных, осязаемо «объективных» форм, сюжетного повествования, эстетически прекрасного «мелоса», превращаясь в абстракцию формы как таковой, феноменальности как таковой, существования как такового, чередования звуков как таковых.
V
Впрочем, мои соображения требуют известных уточнений, которые привносят новый аспект в проблему эволюции. Этот новый аспект затрагивает отношения между индивидуумом и группой, т. е. между разными уровнями бытия. Думается, без разъяснения этих отношений невозможно в наше время понять, что такое эволюция. Могу сформулировать это так: ныне колоссальное расширение человеческих возможностей и усвоение содержания Вселенной человеческим сознанием относится к человеку вообще, но вовсе не к конкретному человеку. Когда Джулиан Хаксли определяет эволюцию как все большую сложность и ее организацию, как больший контроль, большую самостоятельность и саморегулирование, накопление знаний и т.д., становится более чем очевидным, что так можно
548
Человек в контексте культуры
сказать о человечестве, но едва ли о конкретном человеке нашего времени. Ныне индивидуум, напротив, обнаруживает явный спад контроля, самостоятельности, саморегулирования и накопления знаний; и этот слад на индивидуальном уровне, похоже, соотносится с подъемом на уровне коллективном.
А.Л. Крёбер в эссе «Концепция культуры в науке» проводит резкое различие между разными «уровнями организации» и просто «уровнями»— физико-химическими, биологическими, или органическими, общественными и культурными. И он справедливо отказывается от научной практики XIX в., когда категории одного уровня переносили на другой, или, точнее, сводили условия более высоких уровней к якобы фундаментальным условиям физико-химического уровня. «Гравитация,- пишет он,- электропроводимость и валентность химических элементов приложимы и к неорганическим, и к органическим телам. Но законы приложимы не только к неорганическим телам; и все же они не дают никакого серьезного объяснения таким присущим живому миру явлениям, как зачатие, смерть, приспособляемость. Эти сугубо органические процессы подчиняются существующим физико-химическим процессам, но не проистекают из них». Итак, различные уровни до некоторой степени автономны и в то же время в определенных отношениях они «...зависят от глубинных уровней и сами поддерживают лежащие под ними самостоятельные уровни»1 ’.
В целом разделяя эту точку зрения, я не прочь допустить наличие более тесной связи между разными уровнями бытия. Конечно, было бы крайне ошибочно связывать явления, присущие одному уровню, с явлениями другого уровня, но если мы хотим понять реальную природу любой субстанции или существа, то не стоит резко отграничивать один уровень от другого, не стоит ограничиваться изучением одного уровня, полностью изолируя его от уровня, лежащего под ним, и оттого, который находится над ним. Как индивидуумы, мы не живем # обществе или в нации словно внутри охватывающего нас беспредельного космического пространства. Мы в значительной степени и есть это общество, эта нация; мы — их часть, а они — часть нас, вплоть до физического бытия. Мы все, как любая субстанция, существуем на разных уровнях одновременно. Существование— штука многоуровневая. Как тело, я— естественная организация более низких существ, живых, движущихся, меняющихся, растущих и умирающих существ, а именно - клеток. Любое изменение или нарушение этой организации или даже внутренней организации самих клеток сильнейшим и серьезнейшим образом воздействует на то, что можно считать самой сутью
Эрих Ка.юр. Культура и эволюция 549
или квинтэссенцией физической системы, — на душу. Это, в конце концов, признается психосоматической теорией и современной психиатрией. Душа, в свою очередь,- и это всеми признано, -воздействует на разум. Впрочем, такая зависимость не упраздняет то, что функционирование или действие на каждом конкретном уровне имеет свои особенности и до какой-то степени автономно. Надо осознавать и то, что всякое воздействие уровней друг на друга— двусторонний процесс: он направлен и вверх, и вниз. Существует взаимодействие между разумом, душой, телом и так далее.
Подобное же взаимодействие существует между индивидуумом и группой, и это очень важно в нашем конкретном случае. Как существо, наделенное душой и умом, как личность и индивидуум, я состою в постоянном взаимодействии с социальными единицами, с общностями и коллективами (принципиальные различия между этими видами социальных единиц невозможно уточнить в данном контексте, да это и не нужно). Важно то, что и в социальном плане я живу на разных уровнях одновременно, в теснейшей взаимозависимости и взаимодействии с разными группами, к которым я принадлежу. По сути, я - часть групп, а группы — часть меня самого. Я просто не существую без них; и любые изменения в группах касаются и лично меня. Значит, изучая социальную или психическую эволюцию, бесполезно рассматривать социальные формы и душу индивидуума в отрыве друг от друга, поскольку они развиваются и изменяются вместе, в постоянной взаимосвязи друг с другом. Изменения одного немедленно влекут за собой изменения в другом, причем меняется и природа этой взаимосвязи. Развивается не группа сама по себе и не индивидуум сам по себе, а сочетание и взаимосвязь того и другого, и приходится изучать их, учитывая и то, и другое. 11оэтому невозможно получить полную картину человеческих процессов, если заниматься психологией, упуская из виду социологию, или, напротив, если заниматься социологией или связанными с нею любыми сторонами человеческой жизни, не обращаясь к психологии.
Как я уже говорил, индивидуальная психика меняется в связи с изменениями общественных форм и наоборот; при этом меняется и характер этой взаимосвязи. Но наряду с этим взаимосвязанным развитием происходит еще более важное изменение. Эволюция, как я пытаюсь показать, - это процесс расширения масштаба. Ну, а в ходё этого процесса порой случается, что центр тяжести событий сдвигается с одного уровня на другой. Как с появлением «Гомо сапиенс» акцент сместился с тела на разум и эволюция превратилась в историю человечества, точно так же в наше время (начавшись в XIX в.) центр тяжести событий, похоже, сместился с ин
550
Человек в контексте культуры
дивидуального уровня на коллективный. И если на коллективном уровне человек безмерно расширил свои возможности, то индивидуум (чему виной все тот же процесс) уже не обладает прежней самостоятельностью, саморегулированием, силой контроля и кругозором. То, что технический и интеллектуальный масштаб человечества намного расширил возможности человеческого разума и что индивидуальное сознание все менее успевает за расширяющимся диапазоном и сложностью событий и затем, что я называю «коллективным сознанием» (а именно обширным полем нашего нынешнего, вечно движущегося, вечно меняющегося знания), -это трагическое несоответствие- одно из основных причин кризиса в человеческом мире.
VI
Так как же вписать в эту картину культуру! Каковы ее роль и значение в процессе эволюции?
Из исторического обзора понятия «культура» вырисовываются четыре разные концепции: 1) культура как состояние человека, заключающая в себе оценку (это мы подразумеваем, говоря о «культурном человеке»); 2) лишенная оценки концепция культуры как особого образа жизни, стиля жизни народа или, по определению Крёбера, как совокупность обычаев и образов жизни народа', 3) культура как простая этническая субстанция — в этом смысле понятие обычно используется современной этнографией и 4) культура как региональная метаэтническая субстанция— концепция, предложенная Лео Фробениусом и Освальдом Шпенглером и заимствованная у них Тойнби для конструирования его цивилизаций.
Разные концепции культуры свидетельствуют, как видим, о том, что они появились на разных эволюционных стадиях; в них отражается развитие самосознания человека. Осмысление этого разнообразия и множества органических сопряжений этнических групп предполагает иудейско-христианское осознание общечеловеческого. В дохристианскую, доэллинистическую, достоическую эпохи каждая конкретная этническая общность отождествляла человечество с собой. Между взглядами таких народов, как зуни, дене, кайова6*, которые наивно давали эти племенные имена человеческим существам, и тем, что древние греки и римляне отождествляли чужаков с варварами, нет особой разницы. Культура для греков и римлян была антитезой варварства, наступлением на варварство.
Античная концепция культуры как состояния человека и оценки, как просвещенного, утонченного состояния человека, как
Эрих Калер. Культура и эволюция 551
самого желанного его состояния, как paideia в древнегреческом смысле, жива и по сей день; для выражения ее нет лучшего слова. Культура в смысле образа жизни или совокупности обычаев кажется мне многословным синонимом. Почему не сказать: образ жизни или обычаи? Это проще и соответствует смыслу. Но нашему времени ближе понятие культуры как самостоятельной субстанции, как собственно культуры. В данном случае можно выбирать между отождествлением культуры с этнической общностью или постулированием метаэтнических культур, состоящих из разных этнических групп.
Для Шпенглера и Тойнби понятие человека как сопряженной субстанции вряд ли существует в ясно выраженной форме. По крайней мере, Тойнби заменяет его богословской надстройкой, которая как-то объединяет или же предполагается, что по закону обратной связи она объединит разные, мертвые или живые, цивилизации. Но и Шпенглер, и Тойнби разбивают последовательность человеческой эволюции в истории на изолированные единицы так называемых «философски современных» метаэтнических цивилизаций. От общечеловеческого качества остаются лишь хорошо известные параллелизмы, исторические «законы природы». (Случайной шпенглеровской характеристикой человека как «технического хищника» можно пренебречь.)
Скрупулезный анализ доказал бы— и критические исследования ряда ученых, действительно, доказывают— сомнительность таких теорий. Поскольку природа в целом в ее широчайшей перспективе приобретает видимость исторического процесса, то собственно историю надо понимать как уникальный отрезок уникального космического события; ее надо понимать как историю органического рода, Человека. Стало быть, надо прежде всего исследовать уникальность процесса человеческой истории, уникальность ее места внутри более широкой, всеобъемлющей целостной природы и уникальность ее стадий и разветвлений, а уж потом можно будет познать реальные генотипные гомологии, преобладающие среди различных подразделений и субпроцессов. Надо прежде всего установить, какую конкретную стадию представляет собой каждое подразделение во всей истории человечества, и только на фоне этой сопряженной исторической последовательности и разнообразия можно попытаться осторожно выяснить, что общего между этими подразделениями, или вариантами, единого исторического процесса. Но если начать с поиска общих законов, то не избежать грубых упрощений и ошибок. Казалось бы, тождественное явление или установление могут коренным образом разниться в той или иной конкретной единице в зависимости от их
552
Человек в контексте культуры
происхождения, связи с целым и различных эволюционных стадий, которые они представляют. Изучая историю, надо использовать метод, диаметрально противоположный методу Шпенглера и Тойнби; надо стремиться ко все более тонкой дифференциации и познанию уникального.
Ненадежность и поверхностность «всеобщих законов», выводимых из «философской современности», усугубляется, если выбрать в качестве единиц такие «цивилизации», которые будут подчиняться этим всеобщим законам. Такая процедура таит в себе опасность голословного утверждения, а именно соблазн подогнать цивилизации под всеобщие законы, подтверждением которых они якобы служат. Но даже абстрагируясь от этой двусмысленности концепций Шпенглера и Тойнби, их взгляды следует считать неадекватными, ибо они сводят исторические процессы на один-единственный уровень, а эти процессы, как я пытаюсь доказать, развиваются одновременно на разных уровнях и вызывают изменения не только от стадии к стадии, но и от уровня к уровню.
В связи с изложенным я предпочел бы единицы, выработанные в ходе человеческой эволюции,— этнические общности. И здесь я не стал бы просто приравнивать эти этнические общности к «культурам». Культура и общность- не совсем одно и то же. Думается, что культуры и общности также связаны между собой, как душа или характер индивидуума с его телом. И я приравнял бы культуру этноса как чего-то субъективного, закрытого, к душе, а как чего-то объективного и открытого — к характеру этнической общности.
Но есть некоторые переломные моменты в историческом процессе, когда культуры начинают существовать независимо от места и общности, в которых они возникли. Когда какой-то древний народ идет к своему концу и после бурного расцвета и усвоения всего того, что мог дать окружающий мир, его физические силы начинают истощаться и что-то уходит, то душа, являющаяся как бы его трансцендентной формой, остаточный характер этого народа, отрывается от его основ, духовно выживает и оплодотворяет новые силы. Только такая трансцендентная форма жизни, которая отрывается от собственных начал и становится духовностью в себе, оказывает влияние на другие единицы, сливается с другими единицами и уносится дальше другими, уже после того, как ее творец, должно быть, умер и рассыпался во прах, — только такая самостоятельная субстанция может считаться культурой, или цивилизацией, самой по себе, явно отличной от народа, ее породившего. Под этим углом зрения культуры не тождественны народам и исторической среде, в которой они возникли; они — их от-
Эрих Калер. Культура и эволюция 553 прыски, как бы их духовные ответвления. Они вызревают очень поздно и вступают в жизнь как оторванные, отдельные единицы истории лишь на заключительных стадиях их творцов. В этом качестве, как самостоятельные субстанции, как посредники между этническими общностями и Человеком, они представляют и несут эволюцию.
Первыми такими культурами, или цивилизациями, первыми, получившими признание как метаэтнические, были культуры, созданные древними греками и евреями: эллинизм и христианство. Сам факт их признания таковыми говорит о том, что они представляют собой исторические единицы высшего порядка, в котором присутствуют и новая стадия, новый уровень сознания. Другие примеры: в европейской сфере— католицизм, унаследованный от римской традиции, а на Востоке - буддизм и ислам.
Исторический процесс влечет за собой постепенный сдвиг в сторону более широких единиц и в то же время в сторону высших уровней сознания. Этот процесс начинается с людей. Люди — те единицы, которые, сменяя друг друга, создают эволюционный процесс и развивают, в их внутренней и внешней формах, в их психической и социальной формах, самобытное качество и сознание человека. Накопление постепенно приводит к новым, более широким единицам, которые в свою очередь перенимают основной процесс.
В наше время мы являемся свидетелями постепенного отделения и независимого расширения в мире того, что можно назвать западной цивилизацией. Впрочем, является ли западная цивилизация культурой в первоначальном смысле этого слова— это еще вопрос.
Примечания
1 Подробнее об этом процессе см. в моей работе: The Meaning of History. New York, 1964.
2 Dacqud E. Urwelt, Sage und Menschheit. Munchen, 1924.
3 Общую информапиию о повой концепции природы (не самую последнюю. но в основном адекватную см. в книге немецкого физика: Weizsaecker C.F. von. The History of Nature. Chicago, 1949.
4 Simpson G.G. The Meaning of Evolution. New Haven, 1951. Pt. II. Ch. XV. P.240 ff.
5 Ibid. 1*. 246.
о Ibid. И. II. Ch. XVII. P. 285 ff.
7 Ibid. P. 286.
8 Huxley Т.Н., Huxley J. Touchstone for Ethics 1893-1943. New York; London, 1947. P. 133.
554 Че.i«e<‘K и контексте кулыуры
’Ibid. Р. 146.
10 Simpson G.G. Op. cit. Pt. II. Ch. XV. P. 257 fl.
11 Kroeber A. L. The Concept of Culture in Science // The Nature of Culture: Collected Essays. Chicago, 1952. P. 120 ff.
Комментарии
p Священная Римская империя — средневековая империя, основанная в 962 г. германским королем Отгоном Г в результате подчинения Северной и Средней Италии (с Римом).
2* Берлин стал столицей объединенной Германии в 1871 г.
3' Сублимация (лат. sublimatio) в психологии психический процесс преобразования и переключения аффективных влечений на цели социальной деятельности и культурного творчества. Понятие введено 3. Фрейдом в 1900 г.
4’ Кембрийский период, девон и пермь - соответственно, первый, четвертый и шестой периоды палеозойской эры. Мел - третий период мезозойской эры. Эоцен - средний отдел палеогенового периода.
5‘ Стоики— представители стоицизма, школы древне1реческой философии, основанной Зеноном из Китиона ок. 300 г. до п.э.
6* Зуни, дене, кайова — племена североамериканских индейцев.
Печатается по изданию: Калер Э. Избранное: Выход из лабиринта. М., 2008. С. 143- 156.
Эрих Калер
Живучесть мифа
Denn wer ist noeh unhefangen Formen gegenuber, die einen Namen hahen ?
(Кто же будет беспристрастен перед формами, имеющими имя?)
Рильке
Для уяснения исторического понятия небесполезно обратиться к его языковой основе. Греческое слово mythos, по мнению большинства этимологов, восходит к т«, ти (му), имитации простейшего звука типа мычания, урчания животных или раската грома; изначально это было выражением любого нечленораздельного звучания: блеяния, жужжания, рычания (лат. mugire, франц. mugiг), журчания, гудения, громыхания, завывания, бормотания или воспроизведения людьми звуков с закрытым ртом; отсюда-немота (лат. mutus). От того же корня образовано греческое слово miiein, myein — «закрывать», «закрывать глаза»; от него же произошли мистерия и мистический. Следовательно, слова «миф» и «мистерия» имеют общее происхождение.
В результате развития языка, которое столь часто превращает слово в его противоположность (например, лат. muttire, «бормотать» и mutus, «немой», дали во франц, mot «слово»), греческое ти, обозначающее нечленораздельное мычание, превратилось в mythos «слово».
Итак, значение корневого звука в его узком смысле древние греки в конце концов связали с mythos. Поэты и писатели древности то и дело использовали mythos в смысле «слово» (например, у Гомера его противоположением было ergon «деяние»); они не видели особой разницы между ним и другими греческими понятиями, обозначающими «слово»: epos и logos. Но постепенно mythos конкретизировалось: оно превратилось в слово, обозначающее самое древнее, самое раннее повествование о начале мира, некое божественное откровение или религиозную традицию, слово о богах и полубогах и о генезисе космоса, космогонии; миф стал полной противоположностью эпосу, т. е. повествованию о людях, и (начиная с софистов) логосу, слову как рациональной конструкции.
Созревание человеческого сознания нашло отражение в движении от мифа к логосу, от сказок о возникновении космоса из хаоса, как об этом повествуют древнегреческие мифы, к иудейско-христианскому Слову Божию, с помощью которого
556 Человек в контексте культуры
Творец разумным действием сотворил мир и которое само по себе есть все творение.
Однако миф так и не был полностью вытеснен логосом; прорвавшись сквозь столетия, миф жив и сегодня. Разум сможет упразднить его только в том случае, если самые глубинные, примитивные пласты нашего существования будут насквозь пронизаны рациональным мышлением. Но сам миф претерпевает изменения, которые происходят по мере эволюции нашего мышления и сознания; на него наслаиваются формы, методы и результаты достижений нашего разума и потому миф порой нелегко распознать.
В греческом понятии мифа можно обнаружить все основные свойства и увидеть все преобразования, которые он претерпел до наших дней. Вот основные черты мифа: он обращается к основам нашего бытия; он не объясняет, но лишь повествует; он питается от анонимного источника или от источника, ставшего анонимным; его утверждения бесспорны, окружены аурой святости и поклонения; он дышит очарованием непостижимого.
В своей первичной форме собственно миф (наивное предание) един с гем, что он передает: генезис мира и жизнь божеств. Прошлое неотделимо от настоящего: оба причастны к безвременью, соединяя в себе вечность и сиюминутность. Это означает (и даже налагает отпечаток на функционирование мифа в наше время), что мифология была формой жизни и поведения. «Между мышлением и действием нет лакуны... Говорят, что в древности “эго” и его самоосознание были открыты прошлому, которое, проникнув в “эго”, вновь оживало, оказываясь “снова здесь”... В древности человек умел ощущать своих богов в этом мире живыми. Точно так же и жизнь человека тяготела к тому, чтобы войти в создания его мифологии и проверить их» L Эта самая ранняя стадия «жизни в мифе» неожиданно пробивается даже у Наполеона, который «сожалел, что современное состояние сознания не позволяет ему, как Александру Македонскому, провозгласить себя сыном Юпитера-Амона. Но вряд ли можно сомневаться, что в период его Восточной кампании он мифически мнил себя по крайней мере Александром, а позднее, ограничившись Западом, заявил: “Я- Карл Великий”. Заметьте, он не сказал: “Глядя на меня, мир вспоминает его” или “Мое положение подобно его положению”, или даже “Я словно он”, а сказал: “Я— это он”. Вот она— формула мифа»2.
Стало быть, сначала миф появляется как данное— рожденное, а не рукотворное. Но вскоре человеческие «творцы», поэты (от poiein делать, творить) начали развивать и расцвечивать его, вплетая в него новые вымыслы. Когда труд поэтов воплощается в памяти народа и освящается традицией, неоспоримый авторитет
Эрих Ka.iep. Живучее 1Ъ мифа______________________________557
мифа распространяется на них и на то, о чем они говорят. Сами люди, внесшие в миф свою лепту, становятся его частью; мыслится, что они (поэты, провидцы и мудрецы) вдохновлены богами. От их личности и жизни веет мифом; так было с древнегреческими философами, а также с родоначальниками и пророками религий Востока. Тому примерами Эмпедокл и Илия1*: оба (один бросился в Этну, другой вознесся к небесам смерчем) являют свою связь с чем-то потусторонним, возвращаясь в земные глубины или в выси космоса.
Платоническая философия рационализирует миф, или, можно сказать, придает вновь открытой человеческой системе логического мышления форму новой мифологии. Платон попытался разрушить древние мифические повествования об очеловеченных богах и заменить их мифологией идей как парадигм2*, мировой душой и демиургом3*.
Так возникает вторая форма мифа: мифизация насквозь человеческих мыслей и творений. Привычка видеть мир как миф настолько въелась в Платона, что его рассказ о мире человеческой мысли немедленно и непроизвольно приобрел мифический характер. Этот процесс, мифизация человеческих элементов, позднее стал более явным, т. е. вполне историческим: обычные люди и события, даже рукотворные, рационально спланированные события, ретроспективно преобразовывались в миф.
Личности, реальные или вымышленные, если в них находили выражение судьбы, устремления, позиции, типичные для человека или конкретных групп, приобретали мифический характер. Самые могущественные средневековые императоры: Карл Великий, Оттон Великий и два Фридриха из династии Гогенштауфенов4’, по мере увядания в памяти народа приобретали мифическую окраску и наделялись всевозможными атрибутами из языческого германского или христианского культа. Они не умерли, но продолжали жить в глубинах горных недр, и люди ждали, что они выйдут оттуда в урочный час как мессии и спасители христианского мира и немецкого народа. Для французов, да и для всего XIX в., такой мифической фигурой, имевшей мало общего с реальным человеком, стал Наполеон. Для миллионов людей уже давно превратился в миф основатель нового общественного строя Ленин. А удивительное восхождение Гитлера, его чудовищные деяния, его показное «вдохновение», его эксцентричность и его резиденции под землей и на вершинах гор— все это сделало его парадигмой мифизации. Еще при жизни он стал почти мифическим, а если учесть таинственные обстоятельства его бесследного исчезновения, то он, возможно, намеренно уготовил себе легендарное бессмертие.
558
Челонек в кон тексте кулыуры
Любой культ героев невольно мифизируется. При этом происходит любопытное взаимодействие сотворения и одновременно сохранения дистанции: люди отдаляют себя от героя, преувеличивая его необычные свойства, и при этом они, кажется, всячески стараются приблизить его с помощью отточенных деталей. Существование необычайного доставляет людям массу беспокойств. Они выискивают и возвеличивают необычное, одновременно страшась его; они томятся по утешительной связи с ним; они порой вынуждены укреплять свое «эго» участием в нем. Нередко, чтобы не дать природе выйти за рамки рационального объяснения, они склонны видеть в исключительном сверхъестественное. И действительно, в природе немало непознанного: есть в ней и непостижимые явления- «сверхъестественные», как говорили в былые времена.
Любая колоритная историческая личность, любая богатая событиями жизнь, фактически все, непохожее на других, в деревне или в городе, несет в себе зародыш мифа. Трепет, пронизывающий при виде всего чуждого и аномального, может стать стимулом развития мифа в благоприятном историческом климате, т. е. когда какое-то волнение в народе или группе послужит тому стимулом. Зародыши мифа вечны и вездесущи. Наши современники, для которых рациональность и реализм так много значат, падки до сплетен о личной жизни известных людей и особенно об их самых колоритных и странных причудах; они не осознают, что в этом своем желании они потакают рудиментарной жажде мифизации. Газетчики и радиожурналисты, сообщающие, что такая-то кинозвезда жаждет одиночества, а такой-то премьер-министр обожает лимоны, сами того не ведая, выступают преемниками древних бардов.
Мифологизируются и литературные персонажи: Дон Кихот, Дон Жуан, Доктор Фаустус, Вечный Жид, Тиль Уленшпигель, Рип ван Винкль5* и Швейк. Во всех них типичный народный характер или человеческая черта, или особенность внешности живет как иррациональный образ, который можно только описать, но нельзя объяснить и который ассоциируется с этим особым внешним видом и жизнью. В таких персонажах люди узнают себя; в них они видят своих затерянных в глубине веков предков или архетипы6* своих духовных прародителей. Но если древние мифологии виделись людям живой реальностью, сравнимой с реальностью исторических событий, то реальность современных мифов- всего лишь конденсированная реальность символа.
Разумеется, век Рационализма7* объявил миф вне закона и лишил его всякого жизненного значения. Наш мир (так мыслилось) должен все больше обустраиваться и определяться исключительно логикой и эмпирическими исследованиями. Мир уверенно
Эрих Калер. Живучесть мифа 559
двигался в направлении поставленной цели, а между тем подспудно шел процесс мифизации, и он просочился оттуда, откуда его меньше всего ждали: из самих рационалистических посылок.
События или действия, которые в эпоху Просвещения привели к становлению современного демократического государства: Французская революция, Декларация независимости и Конституция США и, самое главное, — идеи и посылки, на которых зиждился новый политический порядок, естественное право8*, гражданские свободы, идея прогресса и неизменные блага, которые несли достижения техники, - все это подчинялось анонимному, незаметному процессу мифизации. В книге Теория делового предприятия Торстейн Веблен показал, что вся англо-американская юриспруденция и цивилизация основаны на признании святости частной собственности как неотъемлемого права человека— доктрина всесилия разума сама стала мифом.
Все это было прочно, раз и навсегда мифизировано как незыблемый фундамент современного мира и было признано как святая святых. Эпоха Просвещения стала космогонией нашей цивилизации. Люди не прочь забыть, при всей их вере в прогресс, что условия жизни человека не стабильны, но подвержены вечному изменению и что основные допущения, на которых зиждятся их системы, следует вновь и вновь пересматривать, чтобы не дать процессу мифизации и догматизации глубоко укорениться и вытеснить изначальное рациональное значение. При его живучести и упрямом притязании на жизнь человека миф готов возникать снова и снова. Первые испытания разума не гарантируют безграничной и постоянной действенности законов. Отсюда- парадоксальная ситуация, при которой предположения рационалистического толка должны подвергаться сомнению, чтобы соответствовать той самой претензии на рациональность. Надо устранить неизгладимость, мифическую неизменность этих предположений. И начать следует с признания самого факта, что их навязывание мифично, что вся наша жизнь и мир основаны на мифе и пронизаны мифом, что миф нерасторжимо связан с людьми и что он отвечает примитивной потребности человека. Ныне ученые-мыслители осознают, что все основные допущения в любом рациональном построении, достойном этого названия, суть «предположения», т. е. постулаты. «Аксиома»уже давно превратилась в своего рода миф или несет на себе печать мифа.
Мифизация порождается не только человеческой инерцией, не только постоянной регенерацией жажды мифа, но и боязнью изменений, потребностью человека не допустить, чтобы что-то своим вторжением нарушило размеренный уклад его жизни. В глубокой древности жизненный уклад был завещан Богом; искренне
560 Человек в ко» «тексте культуры полагали, что его всемогущество и власть распространяются на все бесчисленное множество укладов, благодаря чему страх перед непостижимым утрачивал масштаб и остроту. Миф был одним из средств связи с Богом, сближения и добрых отношений с ним, установления надежного контакта между человеком и Богом. Другими средствами были чародейство и волшебство.
Прошли века, и космос и человек и его институты лишились божественности. Космос открыт для бесконечных исследований, а в своей истории человек переживает перемены, изменения образа жизни. Он сделал разум, его суждения и выводы тем прочным фундаментом, на котором он может спокойно заниматься повседневными делами, на котором происходят изменения и материальный прогресс. Для этого, чтобы не напрягать свои мозги, он хочет придать рассудку стабильность, поставить его вне сомнения; и это он неосознанно делает путем его мифизации. Таким образом, мифизация теряет свою конкретику; она уже не обретает формы образов или идолов, но превращается в чистую функцию.
Страх человека перед коренными изменениями и перед отверзаемой ими пропастью, страх человека перед собой и своими внутренними глубинами, в которые он предпочитает не вторгаться, используются силами, кровно заинтересованными в сохранении статус-кво и выступающими против любой радикальной реформы. Поэтому эти «консервативные» силы нарочито культивируют общую тенденцию мифизации основ государства и традиционного образа жизни и даже блокируют, где только можно, самую дискуссию о них. Неважно, насколько рациональны первоосновы, — становясь нерушимыми и священными, они становятся и все более иррациональными.
Конечным итогом всего этого стали фашистские движения. Они просто пошли напролом и сфабриковали собственные мифы ради достижения своих целей: вдохновенный фюрер, иерархия, чистая раса и т.д. И даже излагая эту мифологию современным научным языком, они не скрывали ее иррациональности, на основе которой развязали кампанию против разума. С помощью этих хитрых мифов и их неприкосновенности, нарушение которой каралось законом, нацистам удалось подорвать нравственные устои нашей цивилизации— устои, которые в свою очередь покоились на принципах, уже давно ставших мифическими. В этом нацисты оказали нам услугу: то, что казалось лишь желаемым, они сделали необходимым; мы, со своей стороны, вынуждены перекроить принципы нашей цивилизации, подвергнуть их испытанию знаниями нынешнего времени, а с другой стороны, заставить их действовать в нынешней жизни.
Фашизм обнажил самую низменную потребность человеческой души, которую отказывался признать век Рационализма. Желание
Эрих Калер. Живучесть мифа 561
прочной, не требующей участия разума основы существования невозможно искоренить. Отрицая эту человеческую слабость, полагая, что она преодолена или преодолима или что она— пережиток древнего суеверия, мы не видим таящейся в ней опасности, которая обнаруживается, если признать и учесть эту слабость. И действительно, ныне такое желание оправдано как никогда. Не только индивидуум в повседневности чувствует себя беспомощно запутавшимся в хаотической сумятице, которую он не в состоянии распутать с помощью разума, но и на самых передовых рубежах человеческого знания создалась ситуация, при которой экстремальное расширение силы человека в то же время заставляет его заново осознать свое вековечное бессилие перед тайнами космоса. Пределы нашего разума становятся все очевиднее, и сами естественные науки умаляют рационалистическую самоуверенность в возможности безграничного покорения человеком природы. В новейших выдающихся достижениях физика оказалась на рубежах, которые, похоже, не поддаются рациональному постижению. Наука вторглась в глубины реальности, где явления уже невозможно описать, но можно только схематизировать, т. е. символизировать. Она так углубилась в сокровенную структуру элементов, что открыла способы их преобразования и, таким образом, стала признавать сами элементы лишь особыми устройствами, связями общих энергий. Она не только явила всеобщее превращение материи, но и материю как превращение, и даже воспроизвела это превращение и сделала его орудием человека.
Физика на новом уровне сплавляет внутренний и внешний миры воедино, постулирует на эпистемологической основе единство, которое при знаки! ось как данность на древних этапах истории религии. Между наблюдателем и объектом наблюдения существует тесное взаимодействие: они влияют друг на друга и изменяют друг друга. Научные открытия, полностью превращая объект в комплекс отношений, увели физиков еще дальше от мира чувственных восприятий в мир абстрактных понятий, которые можно выразить только математическими символами и верифицировать косвенным путем. Исследование идет через понятийные действия; и оперирующий ум, признанный фактором, обусловливающим то, что он формулирует, должен находиться внутри, а не вне явления. Любопытно, что при этом физика, начиная с внешнего мира, перекликается с теорией психоанализа9*, который, начиная с внутреннего мира, достигает слияния внешнего и внутреннего миров, рассматривая реакции, направленные вовне, как проекции внутренних состояний. Физика, при всем ее триумфе, пробуждает в человеке первобытный ужас перед лицом непостижимого, которое вновь возникает на периферии внешнего мира; психоанализ вскрывает скрытый страх человека перед своими
562 Человек в контексте культуры
глубинами. Но физика, равно как и психоанализ, свидетельствует, что эти тревоги— функции друг друга, что они — один и тот же страх перед неизвестным, которое и есть подлинный источник мифа.
Есть уровень явлений в мире и в человеке, который оказывается все более неподдающимся осмыслению даже в рациональном исследовании. Рациональный контроль нашего мира возможен лишь в ограниченных пределах и действителен лишь в ограниченные периоды. Ничто нельзя признать конечным— конечное превращается в миф. Надо все время быть начеку, чтобы исследовать и пересматривать основы нашей жизни и не уклоняться от перестройки наших систем, когда эти основы сдвигаются. Надо приучать себя к жизни на этой зыбкой основе, которая уже давно стала основой развития науки.
Примечания
1 Kerenyi К. Die antike Religion. Amsterdam, 1940. Анонимные цитаты — из работы Томаса Манна «Фрейд и будущее».
2 Манн Т. Фрейд и будущее. (Mann Th. Freud und die Zukunft // Gesammelte Werke. Bd. 10. Berlin. 1955. Ped.).
Комментарии
p Илия (Elijah) (ок. IX в. до н.э.), иудейский пророк, утверждавший монотеизм.
2‘ Парадигма (от греч. notpd&iypxx - пример, образец) — понятие, используемое в античной и средневековой философии для характеристики взаимоотношения духовного и реального мира. Платон усматривал в идеях реально существующие прообразы вещей, их идеальные образцы (парадигмы), обладающие подлинным существованием.
Демиург (греч. Зтщюцууо^, букв. - изготавливающий вещи для народа, отсюда ремесленник, мастер) термин древнегреческой философии для обозначения «творца» («мастера»), введенный в философский лексикон Платоном в «Тимее». Демиург - «творец и отец этой Вселенной». 4* Фридрих I Барбаросса, Фридрих 11 Штауфеп.
5‘ Доктор Фаустус - герой немецкой легенды, возникшей в период Реформации; ученый, заключивший союз с дьяволом ради знаний, богатства и мирских наслаждений.
Вечный Жид - Агасфер, персонаж легенд, возникших в Средние века; был якобы осужден Богом на вечные скитания за то, что не дал Христу отдохнуть па нуги к месту распятия.
'Гиль Уленшпигель фольклорный образ, герой книги III. де Костера «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Франции и других краях» (1867).
Рин ван Винкль герой одноименной новеллы В. Ирвинга.
6‘ Архети11 (1реч. йрх^пмюу, от dpxfl 1 гачало и runoq образ) 11рообраз, идея.
7* Рационализм (франц, rationalisme, от лат. rational is - разумный, ratio разум), философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей. Термин «рационализм» используется для обозначения и характеристики философских концепций начиная с XIX в. Обосновывая
)рих Калср. Живучесть мифа 563 безусловную достоверность научных принципов и положений математики и естествознания, рационализм пытался решить вопрос, каким образом знание, полученное в процессе познавательной деятельности человека, приобретает объективный, всеобщий и необходимый характер. Рационализм утверждал, что научное знание, обладающее этими логическими свойствами, достижимо посредством разума, который выступает его источником и вместе с тем критерием истинности.
8* Естественное право одно из широко распространенных понятий политической и правовой мысли, обозначающее совокупность или свод принципов, правил, прав, ценностей, продиктованных естественной природой человека и тем самым как бы независимых от конкретных социальных условий и государства.
9* Психоанализ (от 1реч. душа и разложение, расчлене-
ние), метод психотерапии и психологическое учение, ставящее в центр внимания бессознательные психические процессы и мотивации. Был разработан в конце XIX начале XX в. 3. Фрейдом.
Печатается по изданию: Колер Э. Избранное: Выход из лабиринта. М., 2008. С. 168 173.
Пауль Лкллих
Теология культуры: Аспекты религиозного.
1. Анализ культуры
Если абстрагировать понятие религии от великих заповедей, то можно сказать, что религия - это состояние предельной заинтересованности тем, что есть и должно быть нашим предельным интересом. Это значит, что вера есть состояние захваченности предельным интересом, а Бог — имя, обозначающее содержание этого интереса. Такое понятие религии имеет мало общего с ее описанием как веры в существование высшего бытия, именуемого Богом, а также с теоретическими и практическими последствиями подобной веры. Вместо этого мы указываем на экзистенциальное, а не теоретическое понимание религии.
Христианство утверждает, что Бог, явивший Себя в Иисусе Христе, есть истинный Бог, истинный субъект предельного и безусловного интереса. Рядом с Ним все другие боги не могут считаться подлинными объектами предельного интереса, и если их таковыми делают, они становятся идолами. Христианство имеет право претендовать на такое экстраординарное положение в силу экстраординарности событий, на которых оно основано: творения новой реальности в условиях трагического положения человека. Иисус, принесший новую реальность, подчиняется этим условиям конечности и тревоги, закону и трагедии, конфликтам и смерти. Но он победоносно сохраняет единство с Богом, принося себя как Иисуса в жертву — себе как Христу. Таким образом он творит новую реальность, которую в виде сообщества в истории воплощает Церковь. > Отсюда следует, что безусловное притязание христианства соотносится не с христианской Церковью, а с тем событием, на котором Церковь основана. Если она не подчиняется суждению, провозглашенному Церковью, то становится идолопоклоннической по отно
Пауль Тиллих. Теология культуры: Аспекты религиозного 565
шению к себе самой. Такое идолопоклонство — ее постоянное искушение именно потому, что она носитель Нового Бытия в истории. В этом качестве она судит мир самим фактом своего присутствия. Но Церковь тоже принадлежит к миру и подлежит суду, которым она судит мир. Церковь, которая пытается исключить себя из такого суда, теряет право судить мир и справедливо осуждается миром. В этом трагедия католической церкви. Ее обращение с культурой основано на нежелании подчиниться суду, ею самой провозглашенному. Протестантизм, по крайней мере теоретически, противится этому искушению, хотя реально вновь и вновь по-разному в него впадает.
. Второе следствие экзистенциальной концепции религии - исчезновение разделения между сферой сакрального и секулярного. Если религия — это состояние захваченное™ предельным интересом, то это состояние не может быть ограничено какой-либо особой сферой. Безусловный характер этого интереса подразумевает, что он затрагивает каждый момент нашей жизни, всякое пространство и все области. Вселенная — святилище Бога. Каждый трудовой день — день Господа, каждый ужин — Господня вечеря, каждый труд - исполнение божественной задачи, каждая радость — радость в Боге. В любом предварительном интересе присутствует, освящая его, предельный интерес. По существу религиозное и секулярное — области не разделенные. Точнее было бы сказать, что они располагаются одна в другой.
Но в действительности все обстоит иначе; в действительности секулярный элемент стремится стать независимым и создать собственную область. А в противовес этому религиозный элемент также стремится утвердить себя как особую область. Эта ситуация и создает трагическое положение человека, так как возникает отчуждение человека от его истинного бытия. Можно справедливо утверждать, что существование религии как особой области --наиболее очевидное свидетельство падшести человека. Это не означает, что в условиях отчуждения, которое определяет нашу судьбу, религиозное должно быть поглощено секулярным, как того желает секуляризм, или же что секулярное должно быть поглощено религиозным, как того желает церковный империализм. Но это означает, что такое неразрывное разделение свидетельствует о трагическом положении человека.
Третье,следствие, вытекающее из экзистенциальной концепции религии, касается отношения религии и культуры. Религия как предельный интерес есть субстанция, наделяющая смыслом культуру, а культура - это сумма форм, в которых выражается основополагающий интерес религии. Коротко говоря, религия -субстанция культуры, культура ~ форма религии. Такое понима
566
Человек в контексте культуры
ние полностью препятствует возникновению дуализма религии и культуры. Всякое религиозное действие, не только в ситуации организованной религии, но также и в сокровеннейшем движении души, сформировано культурой.
Тот факт, что любое действие духовной жизни человека выражается посредством языка, вслух или мысленно, — достаточное доказательство справедливости этого утверждения, ибо язык - основополагающее творение культуры. С другой сторрны, нет такого творения культуры, в котором не выражался бы предельный интерес. Это относится и к теоретическим функциям духовной жизни человека, например к художественной интуиции и когнитивному восприятию реальности, и к практическим функциям духовной жизни человека, например к личной и общественной трансформации реальности. Предельный интерес присутствует в каждой из этих функций, во всем культурном творчестве человека. Непосредственное выражение предельного интереса - это стиль культуры. Тот, кто способен увидеть стиль культуры, может обнаружить ее предельный интерес, ее религиозную субстанцию. Это мы сейчас и попытаемся сделать на материале нашей современной культуры.
2. Особый характер современной культуры
Наша сегодняшняя культура должна быть описана в терминах одного преобладающего движения и все более мощного протеста против этого движения. Дух господствующего движения — это дух индустриального общества. Дух протеста — это дух экзистенциалистского анализа сегодняшнего трагического положения человека. Сформированный в XVII—XIX вв. и существующий поныне стиль нашей жизни выражает все еще не сломленную силу духа индустриального общества. Этот стиль мышления, жизни и художественного выражения не раз бывал предметом анализа. Одна из трудностей, возникающих при анализе этого стиля, - его динамический характер, постоянная изменчивость и то воздействие, которое уже оказало на него движение протеста. Тем не менее мы можем подробно разобрать две важнейшие характеристики человека в индустриадьном обществе.
Первая из них — концентрация деятельности человека на методичном исследовании и техническом переустройстве своего мира, включая его самого, а также последовавшая за этим утрата глубины при встрече с реальностью. Реальность утратила свою внутреннюю трансцендентность, или, если применить другую метафору, свою прозрачность для вечного. Система конечных взаимосвязей, которую мы называем миром, стала самодостаточной. Она до
Пауль I n. t'Bix. Теология культуры: Aciickii.i релшмозиого 567
ступ на расчетам и управлению и может быть улучшена ради нужд и желаний человека. С начала XVIII в. Бог был устранен из силового поля человеческой деятельности. Он был помещен рядом с миром без права вмешиваться в его жизнь, потому что всякое вмешательство могло бы нарушить технические и деловые расчеты человека. В результате Бог стал излишним, а мир был предоставлен человеку как его господину. Эта ситуация привела ко второй характеристике индустриального общества.
.. Чтобы осуществить свое предназначение, человек должен владеть творческими силами, аналогичными тем, что прежде приписывались Богу: следовательно, способность творить должна стать человеческим качеством. При этом не учитывается конфликт между тем, что определяет человека сущностно, и тем, каков он в действительности, т.е. его отчуждение, или, выражаясь традиционно, состояние падшего существа. В эпоху раннего индустриального общества смерть и вина исчезают даже из проповедей. Их признание было бы помехой для поступательного покорения природы человеком, как вне, так и внутри него. У человека есть изъяны, но нет греха, и, конечно же, не существует общечеловеческой греховности. Рабство воли, о котором говорит Реформация, демонические силы, вопрос о которых является центральным для Нового Завета, структуры разрушения в личной и общинной жизни - все это игнорируется или отрицается. Образование может приспособить большинство людей к требованиям системы производства и потребления. Поэтому действительное положение человека ошибочно принимается за его сущностное состояние, и его изображают в процессе поступательного осуществления своих возможностей.
И это считается верным не только относительно человека как индивидуальности, личности, но и относительно людей как общности. Научное и техническое покорение пространства и времени рассматривается как путь к объединению человечества. Демонические структуры истории, конфликты власти в каждом реальном проявлении жизни рассматриваются как всего лишь временные помехи. Отрицается их трагический и неустранимый характер. Как Вселенная замещает собой Бога, как человек в центре Вселенной замещает Христа, так же и ожидание Царства Божьего замещается ожиданием мира и справедливости в истории. Видение глубины в божественном и демоническом исчезает. Таков дух индустриального общества, запечатленный в стиле его творений.
Отношение церквей к этой ситуации было противоречивым. В какой-то мере они защищали себя, угверждая традиции прошлого в учении, культе и жизни. Однако при этом они использовали категории, созданные индустриальным духом, против которого
568
Человек в контексте кулыуры
сами боролись. Символы, в которых выражается глубина бытия, они снизили до уровня обыденною, двухмерного опыта. Они истолковывали их буквально и отстаивали их значимость, помещая сферу сверхъестественного над сферой естественного. Однако супранатурализм - всего лишь перевернутый натурализм, и наоборот. Они создают друг друга в бесконечной борьбе друг с другом. Они не могут существовать без своей противоположности.
Невозможность такой защиты традиции подтверждается другим способом, которым церкви реагировали и на дух индустриального общества. Они приняли новую ситуацию и попытались приспособиться к ней с помощью новой интерпретации традиционных символов в современных категориях. В этом определении есть даже заслуга того, что мы сейчас называем либеральной теологией. Но необходимо заметить, что в своем теологическом понимании Бога и человека либеральная теология за приспособление к современным условиям заплатила утратой вести о новой реальности, которую сохранили ее защитники - супранатуралисты. Оба способа реакции церквей надух индустриального общества оказались неудовлетворительными.
В то время как натурализм и супранатурализм, либерализм и ортодоксия вели свою нерешительную борьбу, промысл истории приготовил другой способ соотношения религии с современной культурой. Эта подготовка совершалась в глубинах индустриальной цивилизации, подчас людьми, представлявшими ее крайние антирелигиозные проявления. Я имею в виду широкое движение, известное как экзистенциализм, которое началось с Паскаля, было продолжено несколькими профети чески ми умами в XIX в. и достигло полной победы в XXв.
Экзистенциализм в самом широком смысле — это протест против духа индустриального общества в рамках этого общества. Этот протест направлен против положения человека в системе производства и потребления в нашем обществе. Человек считается господином своего мира и самого себя. Нов действительности он стал частью созданной им реальности, объектом среди других объектов, вещью среди других вещей, винтиком во вселенской машине, к которой он должен приспособиться, чтобы она его не уничтожила. Но это приспособление превращает его в средство для достижения целей, которые и сами оказываются средствами, не имеющими предельной цели. Результатом этого трагического положения человека в индустриальном обществе стали опыт пустоты и отсутствия смысла, дегуманизация и отчуждение. Реальность утратила для человека смысл. Реальность в ее обыденных формах и структурах больше ничего ему не говорит.
Один из выводов отсюда состоит в том, что человек ограничивает себя частью реальности и защищается от вторжения мира н свою
Пауль Гиллих.Теология культуры; Аспекты религиозного 569
крепость. Это невротический способ, который становится психотическим, если реальность полностью исчезает. При этом происходит подчинение требованиям культуры и подавление вопроса о смысле. Однако у некоторых хватает сил, чтобы мужественно принять на себя тревогу и отсутствие смысла и жить творчески, выражая в произведениях культуры трагическое положение наиболее чутких людей нашего времени. Именно этот путь дал нам художественные и философские произведения первой половины XX в., которые творчески выражают деструктивные тенденции в современной культуре. Великие произведения изобразительного искусства, музыки, поэзии, литературы, архитектуры, балета, философии с помощью своего стиля обнаруживают' и встречу с небытием, и силу, которая способна выдержать такую встречу и творчески ее выразить. Без такого ключа современная культура остается закрытой дверью. С помощью этого ключа она может быть понята как откровение о трагическом положении человека и в современном мире, и в мире вообще. Это делает элемент протеста в современной культуре теологически значимым.
3. Формы куль гуры, в которых реализуется религия
Форма религии есть культура. Это особенно ясно видно в языке, используемом религией. Каждый язык, в том числе язык Библии, - результат бесчисленных актов культурного творчества. Все функции духовной жизни человека основаны на его способности говорить -вслух или про себя. Язык ~ выражение свободы человека ог заданной ситуации и ее конкретных требований. Он дает человеку универсалии, с помощью которых он может творить миры над заданным миром технической цивилизации, а также духовное содержание.
И наоборот, развитие этих миров определяет развитие языка. Не существует священного языка, упавшего со сверхъестественных небес и вложенного в переплет книги. Но существует человеческий язык, основанный на встрече человека с реальностью, меняющейся на протяжении тысячелетий, применяемый для нужд обыденной жизни, для выражения и общения, для литературы и поэзии, а также испольвуемый для выражения и передачи нашего предельного интереса. Во всех этих случаях язык не остается тем же самым. Религиозный язык — это обычный язык, измененный под влиянием того, что он выражает, т.е. предельности бытия и смысла. Его выражение может быть повествовательным (мифологическим, эпическим, историческим) либо профетическим, поэтическим, литурги
570
Человек в контексте культуры
ческим. Этот язык становится священным для тех людей, для которых он из поколения в поколение выражает предельный интерес. Но не существует священного языка как такового, что доказывают переводы, новые переводы и исправления текстов.
Это подводит нас ко второму примеру использования в религии творений культуры — к религиозному искусству. Единственный принцип, о котором необходимо говорить вновь и вновь, кргда речь идет о религиозном искусстве, — это принцип «художественной честности. Не существует священного художественного стиля в протестантизме в отличие, например, от греко-православного учения. Художественный стиль честен только тогда, когда он выражает реальную ситуацию художника и культурного периода, к которому художник принадлежит. Мы можем участвовать в художественных стилях прошлого настолько, насколько честно они выражают свою встречу с Богом, человеком и миром. Но мы не можем правдиво подражать им и создавать для культа Церкви произведения, которые не возникли в результате творческого экстаза, а представляют собой всего лишь заученное воспроизведение творческого экстаза прошлого. Религиозно значимым достижением современной архитектуры стгшо ее освобождение от традиционных форм, которые в контексте нашей эпохи были всего лишь бессмысленными украшениями, не имеющими поэтому ни эстетической ценности, ни религиозной выразительности.
Третий пример я беру из области познания. Вопрос в том, какие элементы современного философского сознания могут быть использованы для теологической интерпретации христианских символов. Если принять всерьез экзистенциалистский протест против духа индустриального общества, следует отвергнуть и натурализм, и идеализм как орудия теологического самовыражения. Оба они порождены тем духом, против которого направлен протест нашего столетия. Оба были использованы не совместимыми друг с другом теологическими методами, но ни один из них не выражает современной культуры.
Вместо этого теология должна использовать обширный и глубокий материал экзистенциального анализа во всех сферах культуры, включая терапевтическую психологию. Но теология не может использовать его путем простого приятия. Теология должна сопоставить его с тем ответом, который заключен в христианской вести. Сопоставление экзистенциального анализа с символом, в котором христианство выразило свой предельный интерес, и есть метод, соответствующий вести Иисуса как Христа и трагическому положению человека, как оно открывается современной культуре. Ответ не может быть выведен из вопроса. Тому, кто спрашивает,
Пауль Тиллих. Геология культуры: Аспекты pej шлюзного 571
дают ответы, а не получают их от него. Экзистенциализм не способен дать ответ. Он может определить форму ответа, но всякий раз, когда экзистенциалистский художник или философ отвечает, он делает это, пользуясь другой традицией, источник которой — откровение. Давать такие ответы - функция Церкви, и не только самой себе, но также и тем, кто вне ее.
4. Влияние Церкви на современную культуру
Одна из функций Церкви — отвечать на вопрос, заложенный в самом существовании человека, вопрос о смысле этого существования. Один из ответов на этот вопрос - христианское провозвестие. Принцип этого провозвестия - показать людям вне Церкви, что символы, в которых самовыражается жизнь Церкви, представляют собой ответы на вопросы, заложенные в их собственном существовании как людей. Так как христианская весть — это весть о спасении, и так как спасение означает исцеление, весть об исцелении во всех смыслах этого слова очень подходит для нашей ситуации. Этим объясняется столь большой успех маргинальных движений — сектантских и евангельских, в высшей степени примитивных и неглубоких по характеру. Тревога и отчаяние по поводу самого существования толкают миллионы людей на поиски исцеления любого рода, которое обещает успех.
Церковь не может пойти таким путем. Но она должна понять, что проповедь среднего качества не способна достичь людей нашего времени. Им необходимо ощутить, что христианство — не набор доктринальных, ритуальных или моральных законов, а добрая весть о победе закона через явление новой исцеляющей реальности. Они должны почувствовать, что христианские символы - не нелепости, неприемлемые для вопрошающего ума современного человека, а что они указывают на то единственное, что составляет предельный интерес, на основание и смысл нашего существования и существования вообще.
Остается последний вопрос: вопрос о том, как Церковь должна относиться к духу нашего общества, который определяет многое из того, что должно быть исцелено христианской вестью. Стоит ли перед Церковью задача и имеет ли она власть критиковать и преобразовывать дух индустриального общества? Безусловно, она не может пытаться заменить нынешнюю социальную реальность Другой, т.е. ускорять осуществление Царства Божьего. Церковь не может наметить план совершенных социальных структур или
572
Человек в контексте культуры
предложить конкретные преобразования. Культурные изменения происходят вследствие внутренней динамики самой культуры. Церковь участвует в них, иногда играет ведущую роль, но тогда она становится одной из культурных сил наряду с другими, а не представляет новую реальность в истории.
В своей профетической роли Церковь - страж, обнаруживающий динамические структуры в обществе и подрывающий их демоническую власть, выявляя их даже внутри самой Церкви. Действуя таким образом, Церковь прислушивается к профетическим голосам за своими пределами, оценивая и культуру, и Церковь в той мере, в какой она составляет часть культуры. Мы упоминали о таких профетических голосах в нашей культуре. Большинство из них принадлежит не активным членам видимой Церкви. Но, вероятно, их можно назвать участниками «скрытой Церкви», Церкви, в которой предельный интерес, движущий видимой Церковью, скрыт под культурными формами и искажениями.
Иногда эта скрытая Церковь выходит на поверхность. Тогда видимая Церковь должна распознавать в этих голосах то, чем должен был бы быть ее собственный дух, и принимать их, даже если они кажутся ей враждебными. Однако Церковь должна также стоять на страже против демонических искажений и подвергать их критике, если они не захвачены должным предметом нашего предельного интереса. Такой была судьба коммунистического движения. Церковь не достаточно осознавала свою функцию стража, когда это движение было еще в нерешительности относительного своего пути. Церковь не расслышала профетический голос в коммунизме и потому не распознала его демонических возможностей.
Судить - значит видеть обе стороны. Церковь судит культуру, включая собственные церковные формы жизни. Ведь эти формы созданы культурой, а ее религиозная субстанция делает возможной культуру. Церковь и культура находятся друг в друге, а не рядом. А Царство Божье включает их обе, трансцендируя их.
Печатается по изданию: Тиллих II. Избранное: Теология культуры. М., 1995. С. 264 273.
Историко-социологическое видение культуры
Альфред Вебер
Принципиальные замечания к социологии культуры
Общественный процесс, процесс цивилизации и движение культуры
П редвари гел ьн ые замечай им
Постановка темы в данной работе соответствует сформулированной мною задаче, которую я изложил, правда, очень несовершенным образом, в лекции зимой 1909/10г.в Гейдельберге. Моим намерением было определить свою позицию в вопросе о ситуации нашей западной культуры, которая выходила бы за пределы надежд и желаний, используя достигаемые результаты социологического понимания, чтобы уяснить себе наше место в общем историческом движении данного времени. Ясно было следующее: при более глубоком проникновении должно было обнаружиться, что, с одной стороны, невозможно обойтись без разработки ряда основных воззрений по социологии культуры; с другой - их применение к истории должно было постоянно расширять перспективу и безгранично увеличивать изучаемый материал, даже если он, что обычно в социологии культуры, может быть группирован только после получения его из вторых рук. Я надеялся, что, несмотря на ограниченные силы и обременительную профессиональную деятельность, мне удастся предложить в 1915 г. какие-либо предварительные результаты.
Война и ее последствия, которая меня, как и других, на четыре с половиной года вырвала из сферы научной деятельности, превратили эту, как и прочие научные работы, в груду развалин. Однако постановка вопроса, из которой я исходил, была несомненно существенной и правильной для состояния нашего сегодняшнего сознания.
В мое намерение отнюдь не входило охватить исторические факты рамками общего философского и историко-теоретического рассмотрения в виде единой картины, притязающей на то, чтобы предоставить основу нового взгляда на историю вообще и одно
576 HciopMKo coinfaioririecKoe видение культуры
временно на новую философию1. Задача, которую я поставил, была значительно скромнее. Я хотел и хочу оставаться в рамках социологического анализа, т.е. исходить из типичных принципов форм движения культуры, типизируя анализировать, исходя из этого, историю и судьбу культуры различных крупных исторических тел, чтобы затем применить полученные результаты, «схему» — назовем это так - к современной ситуации. Правда, оказалось необходимым определить свое отношение к существующим философиям истории, однако только для того, чтобы уяснить понятия «культура» и «движение культуры». Это было сделано в докладе о понятии «социология культуры», основной мысли которого я сегодня, быть может, сумел бы придать лучшую форму2. К этому предполагалось присоединить анализ принципов форм развития западной культуры (ее периодизации, аспектов ее выражения, ее динамики и т.д.) и ее социологически постигаемой сущности, что было в форме набросков дано в лекции 1909—1910 гт.; предполагалось также попытаться с помощью полученных воззрений мысленно открыть культурно-социологическое качество XIX и начала XX в. Хотя даже частично осуществить эту программу при выполнении профессиональных обязанностей теперь едва ли возможно, здесь все-таки делается попытка в ряде свободно построенных статей предложить для дискуссии ранее сложившиеся основные мысли.
1
В каждом культурно-социологическом анализе целесообразно различать сферы исторических процессов, а именно проводить различие между общественным процессом, процессом цивилизации и движением культуры.
Политическая история, так же как история хозяйства и социальная история, изучает по своей сущности судьбу крупных исторических образований человечества, их больших, географически, событийно и культурно связанных друг с другом единств, намереваясь посредством установления представляющихся существенными для общего хода развития конкретных фактов уяснить в каждом данном случае их особую судьбу. Эти науки рассматривают каждую историческую сферу - китайскую, индийскую, переднеазиатскую, античную, арабскую, герман о-романскую исторические сферы, а также другие, как в известном смысле «единое тело», внутри которого происходит определенная последовательность событий, как связанное местом и временем происходящего целое, для общей судьбы которого выявляются главные данные. При этом делается попытка связать изложение и отчасти также объяснение
Угьфред Вебер. При>пцпшашп»1е замечания к социологии культуры_577
крупных событий, образы великих людей, судьбу масс с характером хозяйства, развитием структуры политических образований, с социальными преобразованиями и другими материальными формированиями и переформированиями исторических образований. Эта работа является конкретной исторической морфологией'. При использовании так называемых духовных факторов и течений внимание уделяется прежде всего материальной судьбе этих образований. Совершенно иной является деятельность в области истории искусства, литературы, музыки, религии, философии и науки, короче говоря, всех превратившихся в дисциплины частей истории культуры, которой как общей науки сегодня не существует4.
Для этих дисциплин материальных форм исторических судьбоносных образований в качестве существенного предмета их изучения и существенных данных развития не существует. Их толкование и объяснение важных эманаций и движений культуры, которыми они занимаются, духовных течений и систем идей, сущность которых они пытаются открыть и приблизить к нашему пониманию, исходит, если они не считают достаточным ограничиться описанием образа и содержания изучаемых явлений, из объяснения связей в целом, следовательно, с одной стороны, из «проблем», которые следует решить в областях культуры (история проблем философии и т.д.), с другой — прежде всего из технических принципов в отдельных областях, их развития и ценности их выражения (развития техники живописи, изобразительного искусства, законов гармонии в музыке, законов развития языка, литературного стиля и форм выражения и т.д.). И результатом такого исследования становится констатация обычно методически недостаточно проверенной последовательности и ритмики в происходящем, борьбы «духовных течений», стилистических форм и выражений и прочего, но всегда констатация того процесса, который в своей сущности по технике или содержанию лежит в принципах самих областей культуры и их развития. Эти дисциплины рассматривают историю культуры соответственно принципам их исследования в значительной степени как автономную сферу истории, движение и развитие которой они пытаются объяснить из нее самой5. Исследователь политической истории притязает на право каким-либо образом ввести результаты деятельности всех этих отдельных дисциплин в области истории культуры в свою картину исторического процесса, вставить «духовные течения и факты», открытые другими дисциплинами, в «материальный» процесс, который он освещает, и таким образом превратить его изображение судеб больших исторических тел в общую картину, а если он такие общие картины соединяет — создать всеобщую историю.
578 Историке -социологическое видение культуры
Перед социологом, если он, в свою очередь, хочет попытаться увидеть вещи в их единстве, встает очень пестрое, составленное не только из оснований, связанных с историей науки, но и с необходимыми техническими и методическими основаниями, в сущности, несвязанное смешение структурных элементов, — если он хочет понять какую-либо часть исторического процесса, например культурный процесс, в целом и в его необходимости, в которой этот процесс вырастает из исторического целого, и если он к тому же решает установить его типическую или закономерную связь с общим процессом развития; если он в качестве социолога культуры пытается необходимым образом связать эманации культуры в мире западной истории, их существенное содержание, повторение или неповторение их типических форм и выражений с судьбой великого западного сообщества, связать их с обосновываемыми различными ответвлениями истории объективными фактами, материальными фактами, проводящими границы в историческом процессе, так, чтобы они были понятно и убедительно соотнесены с ними. Перед ним встают сначала, как было сказано, несвязанные, лишь внешне объединенные в общем изображении истории ряды событий. И если он хочет соединить эти ряды, ему придется для своих целей иначе расчленить материал, чем это делают различные специальные дисциплины, исходя из их задач. Он должен попытаться понятийно упорядочить для своих целей общую историю в других группировках и дать в представлении ее синтез. При этом факты, касающиеся внешних форм исторической жизни, установленные исследователями политической истории, хозяйства и социальных отношений, эти факты необходимым образом представятся ему в несколько иной форме. Он увидит большой единый общественный процесс, в котором в различных сообществах при всем их различии все-таки выявляются типичные формы и стадии развития. Крупные события (войны, революции, реформации и пр.) будут типическим образом входить в эти формы и стадии, и великие люди будут необходимо, а не случайно, занимать определенные места. Социолог обнаружит влияние на этот общественный процесс и духовной сферы, тех фактов и процессов, следовательно, которые ему предоставляют дисциплины в области культуры. Но если он будет рассматривать этот процесс в его ядре, то он предстанет ему как форма, в которой при определенных природных (географических, климатических и прочих) условиях тотальность естественных человеческих влечений и воли, действующих в различных сообществах, получает, соединенная в них как «население», какой-либо необходимый образ. Один образ или, вернее, меняющиеся в развитии образы, которые следуют друг за другом, борются друг с другом, сменяют друг друга и
Альфред Вебер. Принципиальные замечания к социологии культуры_579
приводят в своей борьбе к важным перипетиям вековых исторических событий. При этом социолог заметит, как этот процесс в больших изучаемых им сообществах, рассматриваемых и им как замкнутые образования, повсюду ведет от примитивных условий, от отсталых родовых образований, в которых он впервые их увидел на исторической сцене, посредством совершенно различной в каждом случае группировки все-таки сходных форм; как этот процесс через высокие ступени общественного движения в конце концов приводит к различным стадиям, к длительному окостенению формы, к старческому распаду или к мировой экспансии своих сил; посредством параллельного развития — к различному характеру перехода их судьбы в универсальный исторический процесс человечества. Он увидит, как Китай, Индия — каждая из этих стран в данных ей природных условиях и в направлении предначертанного им развития — проходят через века свой необходимый общественный процесс, пока не переходят в старческое окоченение, пребывая в нем на протяжении веков и сохраняя это состояние еще сегодня, омываемые мировой экспансией Запада. Древнюю переднеазиатскую и египетскую культурную сферу, развитие которой в тысячелетия до н.э. социолог может восстановить благодаря открытым документам, он также познает в направлении и характере их общественного развития определяемыми природными условиями существования (прежде всего ирригацией, системой каналов); он поймет, что их старческое окоченение в последнее тысячелетие до н.э., когда они испытали воздействие античной средиземноморской исторической сферы, было необходимым результатом их развития. Он увидит, что эта средиземноморская сфера также проходит заданное ей общественное развитие, исходя из условий ее существования, прежде всего близости к морю, торговли и «свободы» - понимаемой в указанном широком смысле, как охватывающей все происходящее в данной исторической сфере, - из условий, которые должны привести ее к своего рода мировой экспансии, а в ней к старческому распаду ее форм, ее материальности. Ведь не что иное, как такой старческий распад, есть история поздней античности в период императорского правления. И социолог видит, как западная историческая сфера, вытесняющая, начиная с Великого переселения народов, вследствие нового перемещения арены на север античную, проходит, исходя из условий, «из которых она появилась», совершенно иное, но также необходимое развитие, развитие, которое позволяет ей посредством многих стадий эволюции и конвульсий достигнуть в конце концов мировой экспансии, причем самой большой из всех когда-либо существовавших, действительно охватывающей всю Землю, в которой сегодня ее «врожденные» формы,
580 Историк<>-с(>ци<>.югическ<>с видение кулыуры
по-видимому, распадаются, и сама эта сфера, вероятно, переходит в нечто новое, движется к своей гибели или к созданию новых исторических тел. Короче говоря, социолог всегда будет рассматривать конкретный ход событий в различных крупных исторических телах, их в известной степени материальную судьбу, которую предлагают ему исследователи политической, хозяйственной истории и истории социальных отношений, в рамках картины общественной эволюции, в каждом данном случае особой, но всегда зависящей по своему содержанию от природных условий, происходящей при новой группировке и новом порядке общих форм; эта эволюция проходит необходимое заданное число стадий и ведет к необходимому определенному конечному результату, в ней данные общие общественные силы действуют в каждом случае в особой окраске, общие данные общественные формы получают определенное, каждый раз особое выражение и господство, общие данные процессы выступают в различной группировке и с различным конечным результатом, однако в этой эволюции все-таки действует общий общественный принцип развития, только в различных формах. Важные события и перевороты, констатируемые историком, становятся определениями стадий развития, выражением связанных с эволюцией перипетий, а великие люди выступают как бы в качестве оруженосцев и представителей наступления новых периодов.
Так социолог группирует в новую, адекватную его рассмотрению форму представления данный ему историком конкретно индивидуализированный материал «материального» развития различных исторических сфер - так он превращает массу исторических событий, касающихся этих исторических сфер, в картину, которую я предлагаю называть созерцаемой им сферой общественного процесса человечества.
И
При этом социолог будет исходить, как было сказано, из того, что этот основанный, в его понимании, прежде всего на природных влечениях и ведениях, принимающий в зависимости от природных условий в каждом историческом теле свою форму и свое направление общественный процесс определяется также факторами, устанавливаемыми другой группой историков, историков «духовной области», «идеями», «духовными течениями», художественными воззрениями, религиозными убеждениями и т.д. Их конкретное динамическое отношение к ступеням, перипетиям, общественным формам и т.п., их каузальное влияние на них, prius et post1* содержания и форм обеих сфер, «духовной» и «материальной», должно быть сначала безраз
Альфред Вебер. Принципиальные замечания к социологии культуры 581
личным6. Духовно-культурную сферу он видит наряду с материальной в каждом историческом теле, так же как тотальность. И что бы он ни думал о взаимовлиянии обеих сфер, он обнаруживает и в этой рассмотренной как целое духовно-культурной сфере закономерности, которые пребывают в еще невыясненной связи с материальным общественным процессом. Он обнаружит в ней расцвет и старение, параллельную судьбу «культур», пребывающих в различных по своему развитию исторических телах, как бы необходимо данное появление следующих друг за другом стадий развития, своеобразно повторяющийся ритм продуктивности, различное и все-таки обладающее известной закономерностью появление различных аспектов выражения культуры (религии, философии, искусства и внутри искусства — музыки, эпоса, лирики, драмы, живописи и т.д.) и различных видов выражения (классики, романтизма и т.д.); он обнаружит своеобразное повторение великих религиозных движений и родственных им течений идей при одинаковых условиях общественного процесса в различных «телах», короче говоря, духовно-культурное развитие в различных исторических телах, которое находится в какой-либо связи, по крайней мере в своего рода параллельности к данному общественному процессу. И он сочтет необходимым социологически рассмотреть это духовно-культурное развитие, так же как единство, как вторую сферу исторического процесса, и для этого вывести ее из изолированности фактических рядов, в которых специальные дисциплины предлагают ему части этой сферы, поставить ее как целое исторического движения, как общий процесс различных исторических тел рядом с их общественным процессом. При этом у социолога возникает желание — в сущности это является его подлинной задачей — показать, в каких динамических отношениях друг к другу находятся эти сферы, рассмотренные социологически как единые, в различных исторических телах.
Однако если он, стремясь решить эту задачу, внимательно всматривается в духовно-культурную сферу, то он ощущает нечто странное. Он замечает, что между подлинно культурными частями этой сферы с ее различными аспектами выражения и формами выражения в религии, искусстве и т.д. и общественным процессом вклинивается еще нечто, духовно-промежуточная область, пребывающая в значительно более тесной и отчетливо познаваемой связи с образом и течением общественного процесса, чем подлинные a potiori2* явления культуры, возникновение религии, системы идей, периоды искусства и т.д., а именно интеллектуальный космос, предоставляющий общественному процессу технические средства для его форм и образований и являющийся вместе с тем одной из основ феноменологии культуры. Правиль
582 Историко-<о1(ио.гюг1«ческое видение ку.п.туры
нее было бы сказать: он видит, что воспринятый им вследствие изолирования специальной дисциплины и рассмотренный как единый духовно-культурный процесс в различных исторических телах в действительности по своей сущности, по феномену своего развития, своего развертывания, как и по своему отношению к общественному процессу, - совсем не единство, а двоичность, что в нем в сущности содержатся две совершенно различные стороны человеческого исторического развития, которые -неоправданно были объединены в одном воззрении.
При более внимательном наблюдении оказывается, что этот «духовно-культурный процесс» содержит в каждом большом историческом теле троичность в качестве частей особого целого: во-первых, в качестве глубочайшего «чисто духовного» этого целого развитие сознания населения, которое является подлинным ядром процесса чисто духовного роста и старения исторических и культурных тел, рассмотренных с духовно-культурной стороны. Социолог обнаруживает, что в каждой большой исторической сфере, будь то китайская, индийская, античная, западная, в каждой, которую ему удается тщательно исследовать, развитие сознания типическим образом ведет от примитивных стадий, на которых мир и собственное Я рассматриваются в формах, близких сегодняшним первобытным и полукультурным народам, ко все большему рефлектированию бытия, обнаруживает, как сознание отказывается от тотемных, а затем от мифических представлений или, во всяком случае, придает им совершенно иное, уже не наивно понятое, а определенное рефлексией значение; как, далее, от чисто эмпирического отношения к миру и к Я происходит переход к научной или, по крайней мере, интеллектуально оформленной, т.е. определенной какими-либо интеллектуальными абстракциями позициями, как эта позиция развивается и на определенной стадии роста в каждом историческом теле содержится так или иначе рационализированная система понимания мира, которая может и далее развиваться и меняться; однако при этом не только внешнее переживание, «мир», но и собственное Я, его эмоции, его влечения и непосредственные представления «проработаны» и заключены в совершенно определенные, хотя и повсюду различные, формы интеллектуального систематизированного воззрения.
Этот процесс социолог обнаруживает во всех исторических телах, в которых он его наблюдает, тесно связанным со вторым и третьим процессами, также принадлежащими к упомянутому «целому». Во-первых, с растущим духовным господством над природой, которое параллельно интеллектуализированию образа мира и Я представляет собой как бы другую сторону того же развития, ин
Х1ьфрсл Вебер. Принципиальные замечания к с<>цио.:югим культуры_583
теллектуальное формирование практически-полезного научного космоса, опыта и знания жизни, и по своей тенденции также принимает интеллектуально-систематическую форму. Это, оставаясь в различных исторических телах на самых различных стадиях, также являет собой повсюду замкнутый в себе процесс. И наконец, социолог обнаруживает it качестве третьего духовного, связанного с этим процесса не что иное, как материализацию и конкретизацию этого второго интеллектуального космоса: трансформацию построенной там практической системы знания в нечто совершенно реальное посредством разработки аппарата орудий и методов, принципов организации и т.д., которые формируют существование в конкретные образования. Здесь вся духовная сфера внутри рационализированного развития сознания, проецированная вовне в оба названных значения, непосредственно входит в общественный процесс, обусловливает его определенным образом и этим техническим аппаратом. Короче говоря: социолог видит как нечто совершенно особенное и замкнутое большой, лишь обладающий различными аспектами выражения процесс рационализации существования, который проходит через все исторические тела, участвует в определении их формы, и его излучения затрагивают как внутреннее существование, так и наблюдающее и практическое отношение к внешнему. Этот процесс рационализации обладает собственными законами развития, собственной необходимостью развития и условиями стагнации. Он - несомненно нечто совсем другое, совсем иное сущностное единство, чем возникновение религий, систем идей, художественных произведений и культур, это - большая самостоятельная сфера развития, которая находится в совсем ином отношении к общественному процессу, чем сфера культуры; тот, кто однажды созерцал ее как единство, разделяет прежнее созерцание единства духовно-культурной сферы на «двоичность». Этот процесс интеллектуализации и рационализации, проходящий через исторические тела, и интеллектуальный космос, повсюду им выявляемый, его единство, отражающееся в трех выражениях внутреннего интеллектуального освещения, интеллектуального формирования знания и интеллектуализированного внешнего опосредствующего аппарата; воздействия, формы и образы этого космоса как особую большую сферу исторического процесса, которую надлежит целесообразно отделять в представлении как от сферы общественного процесса, так и'от подлинного движения культуры, видеть и исследовать в единстве ее воздействий и своеобразных закономерностей, в историческом и социологическом рассмотрении в целом, таким образом до сих пор не изучали7. Я предлагаю называть это процессом цивилизации и принципиально отчетливо отделять его и его сферу
584 Ипорико-сщцккиогичсское видение культуры
как от общественного процесса, так и от сферы движения культуры. Сфера культурного движения также входит в общественный процесс больших исторических тел, но находится в совсем другом отношении к нему, чем процесс цивилизации, в ней господствуют, как будет показано, совсем иные законы развития, ее сущность и ее положение в историческом процессе совсем другие. Я предлагаю в исследовании социологии культуры и, быть может, социологии вообще разделять исторический процесс таким образом, чтобы обособленно рассматривать «материальное» в его развитии,-то, что мы называли общественным процессом исторических тел, сферу преимущественно естественных сил влечения и воли и их формы, и мыслить затем этот общественный процесс, с одной стороны, под влиянием процесса цивилизации, сферы рационализации человечества, в конечном же итоге задать себе вопрос, в какой связи находится движение культуры в подлинном смысле слова с этими двумя процессами и их взаимодействием; складывается ли оно в своих формах каким-либо созерцательно познаваемым образом из их взаимодействия, проходит ли оно и в какой степени независимо от них и насколько оказывает на них в свою очередь обратное воздействие. Я предлагаю такого рода деление, потому что оно позволит получить единое социологическое представление об историческом процессе, а также, как я полагаю и надеюсь показать, в первую очередь обрести социологический анализ его феноменологии культуры.
111
Процесс цивилизации и движение культуры по своей сущности, как я показал, различны; они обладают совершенно различными формами и законами развития, совершенно различной феноменологией, в которой они выступают перед нами в общем историческом процессе.
Процесс цивилизации (в его различных частях образования интеллектуально сформированного образа мира и Я — макрокосма и микрокосма - космоса практически интеллектуального знания и интеллектуального сформированного опосредствующего аппарата господства над существованием) может достигать в различных исторических телах совершенно различного уровня; он может придавать создаваемому им образу мира значительно отличающиеся друг от друга формы выражения - но в каждом историческом теле он всегда шаг за шагом строит космос познания, который в трех названных частях находит лишь различные фронты своего выражения; его образование, приведенное в движение в одном направлении, идет логически закономерно дальше, подобно тому как
Альфред Вебер. Принципиальные замечать к социологии культуры 585
построение здания подчинено законам некоей имманентной каузальности. То, что выявляется, целое и его части, всегда не «создается», а «открывается», находится, следовательно (если направление интеллектуального движения дано), уже есть до того, как оно находится, предсуществует, с точки зрения развития, в известном смысле лишь втянуто в сознательное человеческое существование, в освещенную сферу бытия, которой человек себя окружает. Это относится как ко всему космосу практического знания естественных наук, так и к каждому отдельному естественно-научному «открытию»: оно относится также к общей системе теоретического знания и к каждому отдельному установлению в области теории познания. Относится оно также и ко всему техническому аппарату существования, к каждому орудию, каждой машине, каждому методическому принципу и средству, открытым в области труда и организации. Законы евклидовой геометрии «существовали» прежде, чем они были открыты, — иначе ведь они не могли бы быть открыты; также и коперниканские формулы движения мира, и a priori Канта, поскольку все они «правильно» открыты и формулированы. Совершенно также - паровая машина, телефон, телеграф, топор, лопата, бумажные деньги, разделение труда и вообще все имеющиеся средства, методы и принципы господства над природой и существованием; все это — «предметы» практически интеллектуального космоса нашего существования: все, чем мы уже обладаем, и все, что мы еще обретем, в своей сущности имеется, «предсуществует», прежде чем нам удается ввести его в сознательную сферу нашего существования и заставить нам служить. Общий процесс цивилизации, реализующий весь этот космос и предоставляющий нам все свои «предметы» — к ним относятся и открытия в области чисто духовного мира, - лишь открывает и делает нам последовательно доступным уже имеющийся мир, вообще имеющийся для нас, людей, мир. Этот мир, как было сказано, имеется вообще для всех людей, и каждая его часть «предназначается всем». Это становится ясным из того — о кажущихся отклонениях я сейчас скажу, — что как только предметы этого мира в своей духовной или материальной конкретности открываются в каком-либо историческом теле и вводятся в сознательное существование, они как бы посредством само собой разумеющегося необходимого волнового движения распространяются по всему миру и находят себе применение во всех остальных исторических телах; при условии, конечно, что общественный процесс там достиг достаточного уровня, чтобы принять их, а психическое просветление сознания настолько развито, что способно «увидеть» их — предполагая, несомненно, что вследствие развития средств сообщения они вообще могут быть увидены. Универсалы
586 Историко-социогюгическое видение культуры
ность технических открытий известна. Однако эта универсальность не ограничивается космосом «технической» цивилизации, вещные и духовные предметы которой, ее методы и средства, начиная от умения обрабатывать металлы и использования огня до нынешних средств и методов общения и производства, во времена наличия универсальной связи или ее отсутствия всегда более или менее молниеносно, как вследствие электрической вспышки, распространяются по всему миру. Эта универсальность характерна в такой же степени и для космоса интеллектуального познания. Математические, астрономические, естественно-научные и другие открытия такого рода распространяются иногда, быть может, медленнее, так как их восприятие зависит также от достигнутой стадии сознания в различных исторических телах и так как в ряде случаев их практическое использование (исчисление времени, денег) в некоторых из них, возможно, еще не может найти себе применения вследствие их общественного строя. Но это не препятствует тому, что такие открытия в конце концов проникают повсюду. И эта универсальность распространяется с известными модификациями форм выражения и способов распространения, на чем мы сразу же остановимся, также на удавшееся где-либо выявление новых частей интеллектуально сформированного образа мира и Я, на интеллектуальные результаты освещения сознания, на уяснение в известном смысле внутреннего фронта предсуществующего космоса цивилизации. Феноменология реализации и развития космоса цивилизации в его практической и теоретической части, рассмотренная как общая картина истории, означает, что большие исторические тела, в своем общественном и культурном развитии значительно отклоняющиеся друг от друга, по развитию своей цивилизации полностью соотнесены друг с другом и как по установленному плану работают над выявлением чего-то вполне единого. При таком рассмотрении весь исторический процесс во всех своих частях является, собственно говоря, только процессом единого выявления космоса цивилизации человечества, которое происходит со своеобразными связанными с судьбой различных исторических тел перерывами, этапами и разломами. Древняя переднеазиатско-египетская, античная, арабская, сегодняшняя западноевропейская историческая сфера и находящаяся в более слабой связи с ними китайская и индийская, — все они, сколь они ни отличаются друг от друга по своему историческому процессу, своему общественному развитию и движению их культуры, являются в таком рассмотрении только членами, в известном смысле только вспомогательными факторами замкнутого, проходящего через всю историю в логическом строении ступеней выявления Космоса цивилизации, сегодня общего для всего человечества.
Альфред Ikftep. Принципиальные чамечания к социологии культуры 587
Технические части этого космоса цивилизации становятся впервые исторически зримыми в их сегодняшней рациональной форме в разделении орудий и труда у египтян и вавилонян, уже в III—IV тысячелетиях до н.э. Развиваясь в недостаточно известной корреляции с историческими сферами Индии и Китая, они становятся не только основой всего технического аппарата цивилизации античного и арабского исторического тела, но посредством них и сегодняшнего западноевропейского, который, захватив с XIV в. руководство в технических открытиях, начиная с XVIII в. создает на этой в сущности уже созданной во всем мире базе сегодняшний технический аппарат мировой цивилизации.
Духовные части этого космоса мировой цивилизации, математическое, астрономическое и естественно-научное знание, по-видимому, также находят свое первое интеллектуальное освещение в исторических глубинах обоих первых исторических тел на Евфрате и Ниле. В античном, арабском и китайском исторических телах они получают свое дальнейшее развитие, а затем в XVI в. переходят к западной исторической сфере и через знаменитую «эпоху великих открытий» доводятся до нынешнего универсального математически-естественно-научного образа мира, «значимого» для всего человечества и принятого им.
Интеллектуальный «космос сознания», который сегодня, выраженный, правда, в различных формах, стал по своему содержанию общим достоянием человечества, «образ Я и образ мира», как интеллектуально созерцаемая единая сфера, выступает впервые перед нами в ярком свете сознания в мудрости брахманов индийской исторической сферы. Затем этот космос становится предметом как античной и арабской, так и китайской исторической сферы, а в западной философии XVIII в. (Кант!) обретает наконец те принципы интеллектуальной формы, которые показывают границы его проясняемости, одновременно объединяют формы различных прояснений в ряде исторических сфер и в той мере, в какой они имеют интеллектуальное содержание, экуменизирует их.
При этом описанном здесь совершенно поверхностно и недостаточно полно медленном выходе предсуществующего, духовного и вещного космоса цивилизации человечества из мрака в свет общего человеческого незнания совершенно неважно, это «не более чем несчастный случай дня», если определенные знания и открытия, однажды сделанные, из-за исторических случайностей, прежде всего из-за исторического характера сдвигов при развитии исторических тел, которые становятся носителями процесса открытий, временно вновь теряются; так, например, знание коперниканского образа мира было уже известно в греко-римской древ-
588 Ис горико-социоло! ичеекое видение кулыуры ности, а затем дремало в лоне истории, пока не было самостоятельно вновь открыто Западом в XVI в. Не имеет также значения для общего процесса, если при формировании «технического космоса» ряд средств технической цивилизации, «случайно» где-либо найденных, быть может, сначала остаются неиспользованными до тех пор, пока они не открываются вновь в другом месте и внезапно получают огромное значение и универсальное практическое применение; так, механические часы или паровая машина были уже давно открыты в Китае, но не нашли там полезного для общества применения, тогда как вновь «открытые» на Западе, они привели к великой технической революции современности. Это — «шутки» и обвивающие процесс арабески, которые следуют из его вхождения в движение общества и культуры и не меняют сущности развития.
И наконец, для сущности процесса цивилизации в качестве последовательного формирования единого духовного типа неважно, что развитие сознания, его основа, в различных исторических телах на начальной стадии их «истории» каждый раз отбрасываются назад и должны в известном смысле начаться сначала, в какой-либо сравнительно примитивной по уровню своего развития части света. Таким было развитие сознания в античности в сравнении с переднеазиатско-греческим (проникавшие в эти регионы в своих странствиях греки были, конечно, варварами по сравнению с крито-микенской исторической сферой, с которой они столкнулись как с ответвлением переднеазиатско-египетской культуры). Таким было развитие арабского сознания по сравнению с античным и сознание западной исторической сферы по сравнению с обоими. Это означает только, что при проникновении новых народностей в общий космос цивилизации человечества «субъективная» цивилизация, «цивилизованность» новых народностей всегда должна вновь пройти всю последовательность ступеней, которые внутри общего объективного и субъективного космоса цивилизации до того уже были открыты и пройдены другими. При этом подъем и достижение предшествующей субъективной высоты всегда существенно облегчаются тем, что каждое новое историческое тело принимает самые существенные объективные элементы цивилизации и тем самым также те, которые имеют очень большое значение для ускорения субъективного процесса цивилизации, для субъективного интеллектуального прояснения сознания, для господства сознания над существованием. Если, например, античное историческое тело переняло от переднеазиатско-египетского не только аппарат орудий, принципы и формы разделения труда, но и монету, математику и астрономию, то это были последние элементы «объективной»
Альфред Вебер. Пришрп шалы пае замечания к социологии культуры 589
цивилизации, которые сразу же сделали возможным исчисляемое интеллектуальное господство над существованием, чрезвычайно облегчили рационально осознанное овладение «внешними» и «внутренними» вещами существования и несомненно также способствовали невероятно быстрому просветлению сознания и развитию цивилизации, которые произошли в течение нескольких столетий у «греческих варваров», после дорийского вторжения; это же оказало, по-видимому, и содержательно влияние на чрезвычайно раннее рациональное формирование греческого образа мира и Я. Но все это лишь между прочим. Тоже можно, например, сказать о значении заимствования античного денежного исчисления западной исторической сферой после Великого переселения народов для развития сознания и цивилизации этого вначале также «бессознательного», грубого, выраженного только в примитивных формах исторического тела. Мы обнаруживаем «исчисление денег» и тем самым начала «исчисляемости» в германо-романском историческом теле, как известно, в Leges barbarorum3* задолго до развития денежного хозяйства и денежного оборота.
Несомненно, «субъективная цивилизация» вследствие проникновения новых народных масс в общий космос цивилизации, вследствие развития нового исторического тела, вследствие перемещения исторического процесса в новый центр, в новую область, в которой это историческое тело формируется и совершает свое общественное и культурное развитие, в этом месте каждый раз на века отбрасывается назад. И с субъективной точки зрения там всегда вновь возникает своего рода древность, за которой затем должны последовать средние века и Новое время. Нет сомнения поэтому в том, что процесс субъективной цивилизации всего человечества предстает нам как картина постоянного повторного затемнения определенных «пространств», в которые человечество исторически введено, пока и там вновь не возникает, а затем и опережается прежнее просветление. Но, несомненно, то. что объективные элементы цивилизации и субъективное просветление в других остающихся неразрушенными исторических регионах сохраняются, служит средством, позволяющим вновь быстро устранить отставание отдельных частей и вновь двинуть вперед общий процесс просветления, исходя из того или иного пространства. И несомненно, это общее просветление есть выявление проходящего в логически каузальной, хотя и сломленной и расщепленной последовательности ступеней великого, значимого для всего человечества единства, его универсального объективно и субъективно предсуществующего мира цивилизации.
При этом от особой внутренней установки (пока я не хочу пользоваться более точным и определенным словом) различных боль
590 Псторико уоцишюгическое видение культуры
ших исторических тел, быть может, также (как в последнее время утверждали) от душевной направленности их населения — об этом мы вскоре скажем - зависит, какие стороны «процесса просветления» будут в каждом данном случае приняты во внимание. В древнем переднеазиатско-египетском регионе были разработаны в соответствии с его установкой основы практически технической стороны, а в «теоретической» области только связанные с исчислением, необходимые для непосредственного господства над существованием части этого процесса (астрономия, хронология, денежное исчисление и т.д.). Напротив, античность в соответствии с ее установкой вообще как бы не «видела» техническую часть космоса цивилизации, не проявляла к ней никакого интереса (как известно, кроме данных о сводах нет ни одного достойного внимания упоминания о технических открытиях античности); интерес античности был направлен исключительно на интеллектуальную и теоретическую область, вследствие чего в это время были основаны математика, естественные науки, философия и все остальное, именуемое сегодня «наукой». Индийская же сфера, столь удивительно введенная в существование, вообще оставляет почти все в стороне и делает своей едва ли не единственной и проведенной с большим успехом познавательной задачей только философское уяснение и проникновение в глубочайшую область познания образа мира и Я в религиозном облачении. Вполне правильно, что все исторические тела, и названные здесь, и все остальные, облекают полученные познания — особенно глубоко философские - в зависимости от их «установки» и их средств выражения в формы, которые не всегда позволяют сразу ощутить их универсальность и могут затруднить их общечеловеческое применение и распространение, — особенно в тех случаях, когда эти знания выступают смешанными с внецивилизационными элементами и встроены в религиозные и метафизические системы идей, как, например, прежде всего «познавательно-теоретические» результаты брахманов. Верно также, что при этом сознательно или бессознательно примененный аппарат представлений и понятий (в котором всегда содержится определенная математика, т.е. определенное формирование представлений о пространстве и времени) в зависимости от его качества ставит в различных исторических телах совершенно разные границы содержанию просветления сознания: без «представления о функции», возникшего только в западной сфере, невозможна была бы не только высшая математика, но и вообще все современное западное знание; без представления Евклида о трех измерениях пространства не существовал бы весь познавательный мир античности; без индийского представления, что физическое чувство — лишь
Альфред Вебер. Принципиальные замечания к coiukkioihh культуры 591
«явление», не возникла бы вся индийская философия и т.д. Однако когда говорят, что «знания» (следовательно, в нашей терминологии, — выявленные части космоса интеллектуальной цивилизации) суть «символы души» различных исторических тел, значимые лишь для них, и что существуют, например, западне-фаустовская, арабско-магическая и антично-аполлоническая математики с ограниченным содержанием применения и истины только для этих тел, или, если даже только намекают на это, не понимают суть проблемы. Быть может, появление евклидовой геометрии - об этом мы здесь спорить не будем - и есть результат «аполлонической души» греков и представлено впервые миру в этих формах выражения. Содержание ее истины и знания в человеческом понимании вечно, т.е. общезначимо и необходимо для всех людей, так же как познавательное содержание «фаустовского» исчисления бесконечно малых со всеми его следствиями, или кантовского a priori, или индийской противоположности между «сущностью и явлением». При этом, правда, из храмов универсального «познания» всегда и повсюду следует выбрасывать то, что Кант при проверке формальных предпосылок познания выбросил из чистой познавательной сферы опыта и определил как метафизику. Но из храма познания цивилизации и тем самым просветления универсального предсуществую-щего космоса цивилизации, его теоретической и практической сторон — не из храма «истины» вообще! Ибо с этими метафизически или религиозно обусловленными частями «мира духовного познания» различных исторических тел мы еще встретимся в другом месте, в мирах их культуры и в движении их культуры. И мы обнаружим, что в этом мире они обладают, правда, не цивилизационным, т.е. универсально человеческим общезначимым и необходимым познавательным содержанием, но огромным, культурным, скажем сразу, душевным содержанием истины, составляющим содержание и сущность эманации культуры. Но об этом позже.
Здесь следует только прийти к заключению: логически каузальный характер раскрытия в форме поступенчатого, пусть даже в различных частях сломанного растущего освещения чего-то предсуще-ствующего, наличного для всего человечества, выявление его как общезначимого и необходимого и есть феноменология и форма явления процесса цивилизации. И интеллектуально сформированный космос общезначимых и необходимых вещей, которые внутренне связаны в<5 всех своих частях, которые, рассмотренные с практической стороны, универсально одинаково полезны (практически правильны) для целей людей, рассмогренные с теоретической стороны, одинаково неизбежны (т.е. теоретически правильны) и в освещении образа мира и Я одинаково очевидны (т.е. априорно верны), сово
592
Исгорико-социаюгичсское нидение кулыуры
купность всего того, что освещаемое таким образом в нарастающей степени стоит над человечеством, и есть космос цивилизации. Его выявление происходит поэтому по законам логической каузальности. На каждой стадии этого выявления понятия могут быть применены правильно или неправильно. И выявленные и освещенные в нем предметы носят характер общезначимости и необходимости и распространяются молниеносно на весь космос общения, именно потому, что они в сущности пред существуют для человечества.
IV
Совершенно противоположный характер имеют движение культуры и все то, что находится и возникает в ее сфере. Эта сфера не создает космос общезначимых и необходимых вещей, напротив, все возникающее в ней пребывает и остается по своей сущности замкнутым в том историческом теле, в котором оно возникает, и внутренне связанным с ним. Возникает не объективный космос, а душевно обусловленная рядоположность символов. Подобным самостоятельным миром символов, обладающим собственным руническим письмом и собственным в сущности непередаваемым содержанием, являются китайский, индийский, египетский, вавилонский, античный, арабский, западноевропейский и все остальные миры культуры — все, что в них действительно относится к культуре. Невозможно высвободить греческую культуру из исторического тела Греции, перенять, перенести и повторить ее содержание, как ни часто такая попытка делалась применительно к ее существенным частям, ее изобразительному искусству, ее трагедии, миру ее философских идей. Каждое возрождение, - а попыток таких возрождений греческой культуры было множество - начиная от времени Августа и греко-буддистской в Гандхаре, через итальянскую до возрождения в стиле ампир и других, - ведет к чему-то совершенно иному, а не к повторению греческой культуры, хотя известные внешние формы перенимались и во многих случаях делались попытки найти то освобождающее содержание, которое было выражено в греческом культурном мире. Освобождающее душевное содержание, так же как и выступающие конкретизированными в художественных произведениях и идеях формы душевного освобождения, следовательно, вновь созданный мир культуры всегда отличается от греческого, мнимое возрождение в действительности всегда создание нового, чего-то другого. И то же относится к заимствованию и распространению чисто религиозных освобождающих содержаний там, где при распространении «мировых религий» как будто — но именно как будто — происходит нечто подобное, как, например, при распро
Альфред Bvfa*p. Принципиальные замечания к социолог ии кульчуры_593
странении освобождающих содержаний и уничтожении замкнутости культуры в историческом теле, в котором она возникла, ее универсализации для всего человечества или, по крайней мере, для больших его частей. Духовная и душевная универсализация мировых религий, даже в тех границах, в которых она происходила, христианской, мусульманской, буддистской, — видимость.
При внимательном наблюдении это оказывается либо результатом военной экспансии исторического тела, в котором эта религия возникла, подобно тому как распространение мусульманства почти точно совпадает с границами завершающейся экспансии монголоизированного арабского исторического тела; либо эта универсализация является, подобно распространению буддизма на Восточную Азию, «перенесением ценностей», возрождением в другом историческом поле, т.е., в сущности, «новым созданием» по своему содержанию, как мы это уже видели в искусстве. Причем в буддизме это в значительной степени даже не связано со сходной направленностью стремления к душевному освобождению. Ибо «Махаяна», которая дала материал для буддизма Восточной Азии и далее развивалась в нем, в действительности совершенно иная, не космологическая, а преисполненная субъективным содержанием счастья религия, совершенно отличающаяся от подлинно индийского буддизма, еще существующего на Цейлоне. Во всех разновидностях буддизма Восточной Азии используются формы созерцания подлинного буддизма, однако его душевное содержание иное. И наконец, как это произошло в христианстве и его распространении на весь мир, при кажущейся универсализации насильственное расширение исторического тела переплетается с перенесением вновь созданных ценностей. Христианство, возникшее как явление душевного одряхления античности, в действительности родилось вновь как нечто совершенно иное в германо-романской исторической сфере при подлинно внутреннем приятии его новым молодым миром, начало которого относится приблизительно к 1000 г. С тех пор оно стало не только догматически, но и по своей сущности отличаться от восточного христианства, которое, воспринятое в России, также привело к целому ряду новых образований. В обоих случаях христианство претерпевало возрождения (на Западе они назывались реформациями), которые в различных исторических телах всегда вели к новым конфессиям, — Трёльч совершенно правильно где-то указал, что их следовало бы называть новыми религиями, - к образованиям сект и т.д. с совершенно различным содержанием и также внешне различными формами выражения. В своих различных формах христианство начиная с XVIII в. распространяется на весь
594 HcTopKKQ-coiuiwioi ическое видение культуры так называемый «мир», в сущности, в рамках распространения на этот мир самого западного исторического тела. Эта мнимая «универсальная религия» человечества, и именно она, составляет сегодня конгломерат многих различных одновременно существующих и следующих друг за другом религий с одинаковым душевным содержанием истины в различных исторических телах, где они служат выражением душевной ситуации, но полностью замкнуты в них по своей сущности, содержанию и распространению.
При этом выражение религиозной душевной культуры внешне почти повсюду облекается в «познавательные категории». Оно выступает как «откровение», как «познание», как «известная (знающая) уверенность в том, что незримо», и пытается посредством этого отождествления «переживания» с «познанием невидимого» узурпировать, распространить посредством миссионеров и убедить в своей универсальной общезначимости и необходимости; инаковерующие же, прежде всего в христианских странах, объявляются еретиками или сжигаются. Однако все это лишь маскировки того факта, что в действительности различные по своей сущности душевные выражения борются друг с другом, будучи связаны с разными душевными установками по отношению к миру различных исторических тел и замкнуты в них.
Сказанное о религии относится и к содержанию метафизических идей философских систем, которое повсюду есть лишь выражение культуры определенного исторического тела. Совершенно невозможно перенести индийскую метафизику в ее подлинном выражении, ее веру в перевоплощение душ и ее стремление освободиться от индивидуальной сущности в западное или какое-нибудь другое историческое тело. Если это происходит, то возникает шопе нгауэрианств о или теософия, которая, применяя внешне, быть может, те же или сходные формы понятий и представлений, полностью изменяет охваченное и пораженное ими содержание. Также никогда не станет возможно придать греческому платонизму какую-либо универсальность; он пережил бесчисленные возрождения в неоплатонизме, в платонизме Ренессанса, в немецком идеализме и т.д., но они каждый раз представляли собой совершенно новое создание, нечто иное по своей сущности и содержанию. Все эманации культуры, религии, системы идей, художественные произведения в полной противоположности открытиям цивилизации замкнуты по содержанию своей истины в исторические тела и во время, в которое они возникли. Перенесение их в другие исторические тела и другое время - всегда только перенесение их выражения и ценности душевного освобождения, перенесение ценности, которая ведет к так называемым «распространениям». Однако оно
Альфред Вебер. Принципиальные замечания к социологш! культуры 595
не имеет ничего общего с логически-каузальным распространением открытых частей универсального космоса цивилизации.
Все эманации культуры всегда «творения». Они несут на себе знак каждого творения, имеют характер «исключительности» и «однократности», в отличие от всего, выявляемого процессом цивилизации, которое всегда носит характер «открытий» и тем самым общезначимости и необходимости, выявления чего-то уже имеющегося.
Соответственно этому феноменология движения культуры, тип развития сферы культуры совершенно отличен от типа развития цивилизации. В процессе цивилизации, как мы видели, существует, правда, надломленное и зависящее от исторических случайностей, но все-таки проходящее определенные ступени «развитие», идущий через всю человеческую историю единый процесс прояснения, который ведет к определенной цели, к общему прояснению предсуществующего. Напротив, в сфере культуры мы видим происходящие, как будто необъяснимым образом подобные протуберанцам, взрывы продуктивности в разных местах, внезапно создающие нечто великое, совершенно новое, неповторимое и исключительное, ни с чем не сравнимое и по своей сущности ни с чем необходимо не связанное «творение». А если мы стремимся заметить и установить какие-либо закономерности и связи, то обнаруживаем не «ступени развития», а замкнутые периоды продуктивности и непродуктивности, упадка и стагнации, внезапно происходящие повороты, противоположные «течения времени», борющиеся друг с другом, не стадии, а формы выражения новых душевных ситуаций, волнующееся море, то бурное, то тихое, приводимое в движение тем или иным «душевным» ветром, которое никогда не «течет», не стремится к какой-либо цели. В той мере, в какой мы можем констатировать «развитие», оно относится только к техническим средствам выражения культуры и к их усовершенствованию, к каким-либо образом связанной последовательности натуралистического, классического, романтического или барочного типа выражения в различные, замкнутые периоды продуктивности, к как-то обусловленной смене более эмоциональных или более рациональных форм выражения создаваемого в области культуры, в религии и художественных произведениях и т.д.; к замене мифической формы выражения немифической при старении,различных исторических тел и т.п. — короче говоря, развитие относится не к содержанию, а в сущности к поверхностным течениям, которые происходят в культуре каждого исторического тела независимо от других, как в ином самостоятельном мире.
В движении культуры различных исторических тел нам предстает действительно образование совершенно различных «миров»,
596 Историко-социологическое видение культуры которые возникают и погибают вместе с этими историческими телами; они неповторимы и исключительны, совершенно отличны по своей сущности от построения единого космоса, создаваемого процессом цивилизации.
Если для предметов процесса цивилизации и космоса цивилизации с их общезначимостью и необходимостью можно использовать «интеллектуальные» понятия и представления, понятия современного естествознания, и посредством такого их применения создать для нашего сознания образ этого процесса и его результатов, то к предметам движения культуры и к различным культурным мирам в их исключительности и неповторимости можно подходить только с помощью «исторического» образования понятий, с понятиями и представлениями «неповторимой сущности». А в социологическом рассмотрении культурных миров и движения культуры речь может поэтому идти только о разработке типизации. т.е. о сравнении и разработке повторяющейся феноменологии, о ее поверхностном явлении и о попытке поставить эту феноменологию и ее неповторимые свойства в какую-либо постигаемую связь с общим процессом цивилизации всего человечества и с общественным процессом различных исторических тел. Показать это более конкретно является задачей социологии культуры.
V
Теперь мы можем подробнее рассмотреть внутреннюю сущность «культуры», в отличие от «цивилизации», динамическое их отношение друг к другу и их отношение к общественному процессу, следовательно, подлинный принципиальный вопрос социологии культуры.
Как бы ни объяснять возникновение цивилизации в историческом процессе человечества, медленное выявление описанного космоса в его прохождении по ступеням, несомненно, что этот космос — самое существенное средство человечества в борьбе за существование, его духовное и материальное вспомогательное средство. П/©средством интеллектуализации материала своих переживаний человечество приходит к господству над природой. Посредством происходящего при этом выявлении предсуществующего космоса цивилизации оно помещает между собой и природой промежуточную область содержаний сознания, знаний, средств и методов, с помощью которых оно стремится господствовать над природой и целесообразно формировать собственное существование, осветить и расширить свои естественные возможности. Этот космос цивилизации есть не что иное, как целесообразная и полезная промежуточная
Альфред Вебер. Принципиальные замечания к социологии кулыуры_597
область; и регион его общезначимости и необходимости простирается до тех границ, в которых действуют в своем значении эти целесообразность и необходимость. Космос цивилизации выступает как конкретизация мира понятий и представлений, как формирование созерцания природы, мира и Я, которое существует для того, создано как будто для того, чтобы, осветив интеллектуально природу, мир и Я, господствовать над ними духовно, а затем и практически8. Этот космос есть если не возникший в борьбе за существование, то во всяком случае примененный к этой борьбе «образ» природы, мира и Я, чьи внутренняя структура и элементы формы, априорные формы созерцания, категории и априорные математические синтетические «суждения» служат инструментарием, каким-то образом возникшим в человеческом духе, чтобы медленно построить это его господство. Так как борьба за существование в своих основных элементах по своей природе одинакова для всех людей, где бы они ни жили, то само собой разумеется, что и эти категории созерцания, внутренний духовный инструментарий этой борьбы, для всех одинаков и что выявленный им «образ», космос цивилизации, должен быть общим для всех, т.е. обладать общезначимостью и необходимостью. Тем самым его кажущееся удивительным предсуществование теряет свою странность: оно — следствие повсюду аналогично разработанных основополагающих категорий созерцания. А он сам не что иное, как медленно построенный и освещенный ими, ими и посредством них созданная «картина мира». Он — «аспект природы», который «фабрикуют» эти категории созерцания. И это воззрение на природу наиболее целесообразно, чтобы господствовать над ней и над существованием вообще и создать внешнюю «область его господства», аппарат цивилизованного существования, ибо это воззрение на природу выросло из категорий, которые, как кажется, возникли именно для этой цели.
Такова подлинная сущность космоса цивилизации, который представляет собой, следовательно, большую область целесообразно и полезно освещенного и целесообразно и полезно сформированного существования, но в своем формировании существования ни на шаг не ведет дальше, чем обусловлено точкой зрения целесообразности и полезности.
Напротив, формирование существования культурой не имеет ничего общего с целесообразностью и полезностью. То, что действует на существование в религиях и системах идей, что отражается в художественных произведениях и «образах», проистекает из области совершенно иных категорий и созерцаний, из душевности. В противоположность цивилизационной, т.е. интеллектуальной переработке материала существования, его переработка и
598 HciopifKo-coipioj ioi нческое видение кулыу ры
формирование материала душевны. Большая вина XIX в. состоит в том, что он утратил понимание душевной области, душевной сферы человечества как его последней и глубочайшей сущностной сферы для познания и созерцания исторического процесса. Посредством понятия «духа», прежде всего гегелевского «объективного духа», он сделал эту подлинную сущностную сферу, отправляясь от которой все остальное в существовании есть только выражение, образ, воплощение, явление, подобие и символ «душевной» сущности или должно быть им, невидимой для исторического и философского, а тем самым и для прежнего социологического созерцания; в этом понятии объективного духа были соединены элементы интеллектуального господства над существованием с элементами душевного выражения, сведены воедино интеллект и душа9, а тем самым безнадежно смешаны цивилизация и культура. Между тем культура есть лишь выражение души, во-ление души, а тем самым выражение и воление лежащей за всяким господством над существованием «сущности», души, которая в своем стремлении к выражению и в своем волении совершенно не интересуется целесообразностью и полезностью, а стремится только к проникновению в материал жизни, к его формированию, которое дало бы некое отображение ее самой и посредством этого отображения, посредством получения образа в самом материале жизни или вне его помогло бы душе достигнуть «освобождения». Культура всегда — не что иное, как такое стремление души различных исторических тел к освобождению, ее попытка обрести выражение, образ, отображение, форму своей сущности и либо придать форму данному материалу существования, либо, если это невозможно, бежать от него и искать трансцендентное бытие как область формирования и спасения.
Это, следовательно, означает: если исторический процесс является «материальным» в развитии различных исторических тел, то процесс цивилизации предоставляет ему технические средства для того, чтобы построить ту или иную целесообразную или полезную форму существования. Для движения же культуры все это только субстанция, материал, который ей надлежит душевно переработать, преобразовать, чтобы выразить живущую в различных исторических телах «душу», придать ему форму как существенный образ души. Из этого следует понятие культуры как формы выражения и спасения душевного в материально и духовно данной субстанции бытия. А из этого следуют уже некоторые предварительные данные о динамическом отношении между общественным процессом, процессом цивилизации и движением культуры и о ритмике продуктивности культуры в различных исторических телах.
VI
Общественный процесс различных исторических тел, их социологически созерцаемый материальный исторический процесс, связь и борьба сформированных в нем человеческих естественных сил, проходит различные стадии. Он следует от простых к более сложным формам «жизненного синтеза». В ходе этого развития он претерпевает полные перегруппировки общества, расширение и сужение своего горизонта, окостенение и распад общественных форм. Ему ведомы частичные преобразования материала существования и - с точки зрения живущей в нем души, беря все это как переживание и материал формирования для нее, - полностью новые синтезы жизненных элементов, которые представляют существование как новую целостность переживания; и ему ведомы также длинные или краткие периоды продолжающегося окоченения, времена «оцепенении синтеза», чистого повторения переживания, которое в разных поколениях, быть может, тысячелетиями предлагает душе одно и то же переживание и материал формирования. При этом процесс цивилизации - один из существеннейших факторов, который посредством предоставления новых технических методов формирования существования, новых знаний и горизонтов способствует развитию прежде всего материальной структуры общества, от простых к более сложным формам, к развитию и сдвигам материального синтеза жизни и может посредством открытий и изображений привести к большим поворотам в нем, к новым формированиям, к совершенно новым синтезам. Он может также, остановившись в каком-нибудь историческом теле, способствовать его материальному оцепенению и его распаду вследствие старения. Следовательно, процесс цивилизации создает новые внешние жизненные синтезы в согласованности с естественными силами общественного процесса.
Но процесс цивилизации и без такого преобразования внешнего синтеза жизни, совершая чисто духовные прояснения или проникая с ним в какое-либо историческое тело извне, уже посредством этого (посредством нового духовного приведения в связь всех элементов существования) может создать совершенно независимо от материального преобразования существования новый чисто духовный синтез элементов жизни, который может оказаться таким же значимым, как какой-либо созданный новой материальной общественной группировкой. Если до сих по «мир» виделся как похожий на тарелку диск, над которым куполообразно поднимается «небесный шатер», а вместо этого внезапно появился и был всеми постигнут коперниканский образ мира с его бесконечными всесторонними перспективами, то наступил новый синтез, духовное
Историко-социологи»1еское видение культуры
600 преобразование и изменение порядка всех жизненных элементов, столь же значительный или, быть может, для «души» еще более значительный, чем какой-либо процесс преобразования. И совершенно то же должно произойти, когда внешний мир внезапно начинает восприниматься уж не как нечто независимое от нашего Я, его форм и условий, как бытие чистых тел, а как «продукт» психофизических возможностей восприятия нашего Я и его априорных форм созерцания (Кант). Тем самым все факты переживания существования получают измененное значение для души, измененное положение и значение по отношению друг к другу. Существование и без нового внешнего синтеза выступает перед душой в новом «синтезе». И это происходит если и не повсюду столь очевидно и радикально, то в большем или меньшем масштабе во всех других духовных космосах цивилизации.
В каждом историческом теле «душа» стремится, как мы видели, формировать соответственно своей сущности материал существования, который становится материалом ее переживания, сделать его выражением ее внутреннего бытия и создает этим «культуру». Независимо от того, следовательно, совершается ли это посредством переформирования материального существования или посредством нового духовного образа существования, она видит себя каждый раз вследствие созданного таким образом «нового синтеза всех элементов» введенной в новое существование, в новый мир, в новый материал, который ей надлежит формировать. В каждой такой ситуации решение ее задачи вновь начинается с самого начала... «Ииз этого возникает стремление ее и необходимость ее продуктивности в области культуры». Это не что иное, как попытка душевного формирования этого нового существования, этого по-иному расположенного жизненного материала.
Таким образом, периоды продуктивности культуры — всегда результат нового синтеза элементов жизни. И наоборот, когда это новое существование душевно оформлено или выражено, неизбежно наступает стагнация культуры, быть может, в течение некоторого времени маньеристское повторение выраженного прежде, и наконец остановка. С точки зрения «общей души» исторических тел (в научном выражении — их общего душевного состояния в какое-либо время) это означает, что при новом синтезе возникает новое «чувство жизни», новый способ ощущать жизнь как нечто общее, и это новое чувство борется за возможность своего выражения, за новое формирование, новое душевное формирование, за новое общее отношение к общественным и духовным фактам. Возникают новые «эпохи» и периоды культуры с новым ощущением. С точки зрения «продуктивных умов» в различных исторических те-
Альфред Вебер. Принципиальные замечании к социшкн ин кулыуры 601
лах это означает, что они формируют новое ощущение и вводят его в объективный мир. Они впитывают по-новому синтезированный жизненный материал как переживание, соединяют его со своим душевным центром, преобразуют его на основе своего нового чувства жизни и представляют созданное таким образом, их «творение», в «синтезе личности и мира». Они совершают это либо с намерением просто дать в законченной форме без определенной цели отображение по-новому ощущаемого мира, его сформированного душой содержания, - тогда возникает произведение искусства; или с намерением душевно формировать цивилизационную форму этого существования, сделать ее выражением нового чувства жизни и ее содержания, идеально преобразовать, переплавить ее; или, наконец, если это невозможно, если противостоящее им бытие оказывается недоступным идеальному формированию, в этом смысле лишено ценности, они пытаются «спасти» от него эманацию душевности, поставить ее рядом с этим и вне этого, перевести ее в трансцендентность. Так наряду с произведениями искусства возникают религиозные системы и системы идей, направленные на посюсторонний или потусторонний мир. И появляются великие художники, пророки, вестники нового чувства жизни, которые воплощают в себе это различное по своему характеру стремление к «эманации», вводят, завершают или «венчают» эпохи и периоды культуры.
В этом предварительном первом рассмотрении становятся сначала только поверхностно понятны ритмика движения культуры, следование друг за другом ее периодов продуктивности и угасания, возникновение ее «эпох», борьба течений культуры (которая всегда выражает борьбу нового чувства жизни с иным, более старым), появление великих людей (которые в общем должны стоять как бы на местах «излома» развития), необходимая группировка толп менее продуктивных людей вокруг великих творцов (менее продуктивные «ищут» выражение, указывают в качестве «предтеч» или «соратников» на появление единственно великих), - понятным становится социологическое значение всего этого. Социологический тип движения культуры, ее членение на все новые замкнутые периоды продуктивности, ее борющиеся друг с другом течения и пребывание в них великих людей как бы фланкирующих постов, сходные с протуберанцами появления обладающих вечным содержанием эманации культуры с их исключительностью и неповторимостью, которые делают движение культуры столь полярно противоположным развитию цивилизации, — все это становится понятным. И одновременно, как указывалось, освещается в известной степени общая направленность выражения и форма выражения; то, что великие эманации культуры могут в одном случае
602 Историко-социологическое видение кулыуры
означать удаление от жизни (как многие религиозные системы, раннее христианство, буддизм, которые не верят в возможность распространить на жизнь как тотальность душевную эманацию); что в другом случае они утверждают веру в возможность идеально формировать посюсторонне эту несинтезированную жизнь (магометанство, лютеранство, немецкий идеализм); в третьем же случае они ведут к радостному восприятию жизни такой, как она есть, и просто выражают ее в формах утверждающего жизнь чувства в возвышенном образе и совершенной форме (античность времени Перикла, позднее Возрождение).
Задача социологического исследования — выявить типы таким образом сломленного или замкнутого чувства жизни и их стремление выразить себя в различных формах и условиях, установить их связь с материально или духовно созданным новым синтезом жизненных элементов и объяснить, исходя из этого, не только большие периоды продуктивности культуры, ее повторение и ее сущность и положение в ней великих людей, но и выход на первый план различных сторон выражения культуры, последовательность и смену ее формальных принципов, объяснить или, выражая это более осторожно и скромно, истолковать все это.
Здесь, где речь идет о принципах динамики культуры, следует еще только сказать: каждый возникающий из какого-либо нового жизненного чувства период культуры, поскольку он стремится формировать материал существования, его общественный и цивилизационный синтез, и придать ему его душевный облик, оказывает в свою очередь обратное воздействие на этот материальный и цивилизационный синтез жизненных элементов. В религиях каждый такой период создает с помощью церкви охраняемые и распространяемые, в системах идей посредством духа и идей утверждаемые принципы формирования, в художественных произведениях - вечные образы объективных форм, в великих людях — личностные «образцы» формирования жизни; такой период вводит все это по общественным и духовным каналам во все поры общественного и личностного формирования, переносит на весь материальный и духовный облик исторической сферы, в которой он возник. Таким образом, он в известной степени погружается со своими принципами формирования в глубины общественного и цивилизационного потока истории и пропитывает его. Таковы ведь его задача и его намерение в качестве формы душевного выражения нового жизненного синтеза. Таким образом, каждый период культуры интенсивно воздействует на дальнейшее развитие общества и процесса цивилизации в каждом историческом теле. Их развитие из естественных сил влечения, воли и сил интеллектуальных происходит часто, почти всегда, в борьбе с
Л;п.фред Вебер. Принципиальные замечания к социологии культуры 603
вышедшим из этого погружения формированием культуры предшествующего жизненного синтеза. (Достаточно вспомнить в качестве исторического примера об утверждении раннекапиталистического синтеза, который был огромной победой воли в борьбе со средневековой, душевно -культурно сформированной и фиксированной жизнью.) Обретенные в культуре формирование и фиксация могут даже просто остановить процесс жизненного синтеза на определенной ступени посредством ритуального установления и связывания всех естественных сил (религиозно фиксированное кастовое деление в Индии). Они могут замкнуть такими ритуально связанными представлениями процесс цивилизации. И посредством всего этого формирование культуры становится действующим в обратном направлении, существенным элементом конкретного образования общества и цивилизации различных исторических тел. Однако это ничего не меняет в том, что развитие общества и цивилизации изначально, — в той мере, в какой общественный процесс опирается на естественные силы влечения и воли в рамках естественных условий, а процесс цивилизации — на интеллектуальные силы целесообразного господства над существованием, - и посредством каждый раз создаваемого нового жизненного синтеза ставит движение культуры и ее внутренний центр, душу, перед новой ситуацией и новыми задачами. Их конкретное решение создает тогда фиксации и формы, в которых исторические тела в каждом данном случае пребывают, формы, из которых их естественные и интеллектуальные силы постоянно стремятся их освободить. В результате ими постоянно создается новая душевная ситуация, новое основание для продуктивности культуры. Общественный процесс, процесс цивилизации и движение культуры находятся в такой коррелятивной, динамической взаимосвязи, конкретный характер которой для каждого исторического тела и каждого исторического периода следует пояснять в монографическо!л исследовании, в принципе соответствующем, однако, той схеме, которая здесь дана в общих чертах.
Существуют исторические тела и периоды, когда — причины этого должны быть подробнее рассмотрены в монографиях — движение культуры оказывает меньшее обратное воздействие на «естественное» формирование всего тела или его отдельных образований, чем в другие времена, когда оно способствует развитию естественных образований в известной степени по их собственным законам и только выражает созерцаемую жизнь в одушевленной форме. Таким периодом является, например, античность в правление Перикла, когда хозяйство, семья, до известной степени государство и, с другой стороны, «познание» могли полностью жить и развиваться по своим естественным законам, а религиозный фун
604 Истор1псо соцмо.юпР1еское видение культуры
дамент создавался только для государства как «полиса», как более близкого сообщества народа. При этом произведения искусства и идеи связывали сформированную таким образом жизнь с последними душевными инстанциями и придавали ей, исходя из этого, ее выражение. Совершенно противоположный тип представлен в переднеазиатско-египетской древности: в ней государство и познание полностью охвачены религиозными формами, им придано культурно фиксированное выражение ритуализации и константность, поддерживаемая и усиливаемая своеобразным общественным укладом (бюрократия!). То же, хотя иное по своему характеру и своим общественным основам, обнаруживается в индийской и китайской исторических сферах. В средневеково-феодальном жизненном синтезе также под влиянием церкви заметны подступы к подобной фиксации жизни. Характерной чертой Возрождения является то, что естественные общественные и цивилизационнорационалистические силы разорвали эти оковы, вновь освободили общественный процесс и процесс цивилизации, предоставили государству, хозяйству, познанию, освободив их от божественной власти, естественно «формироваться»; при этом «культура», обретя известное, правда, отдаленное и преувеличенное сходство с античностью, могла вновь, как и в древности, вступить в родственную связь с естественной жизнью.
Здесь все дело в следующем: различные общественные образования, хозяйство, государство, классы, семья и т.д., также как и сферы цивилизации и их части, могут быть в различных исторических телах и периодах различным образом «насыщены культурой» и совершенно различно связаны этим в определенной форме. Это меняется в зависимости от условий «корреляций» трех сфер, которые надлежит исследовать.
И для нашей современной ситуации и находящейся в ней связи, быть может, интересно ясно понять, что душевная разработка сложившегося в раннекапиталистический период, поднявшегося в эпоху Возрождения «современного» синтеза жизни начинается в сущности только в идеалистический период XVIII в.; только его потребностью было придать новую душевно-культурную форму новым цивилизационным и естественным силам, создавшим «современный» образ жизни. Это ему не удалось. Мощная сила освобожденных начиная с Возрождения естественных, общественных и цивилизационных сил, в начале действия которых он пребывал (хотя ему представлялось, что он может их вновь подчинить), разрушила все его подступы и привела XIX в. с его преобразованием. Однако все, что сегодня существует из «постулатов культуры» в отличие от естественных сил и тенденций нашей жизни, — все, чем
Альфред Вебер. Принципиальные замечания к социологии кулыуры 605
мы располагаем вне областей хозяйства, государства, общества, семьи, в сущности происходит из душевно-духовного арсенала той попытки преодоления. Мы еще не создали новую идеологию, которая могла бы соответствовать нашему сегодняшнему жизненному синтезу. Социализм во всех его нынешних идейных формах является постулатом новой культурной формы хозяйства и общества, противопоставленным тогдашним чувством жизни возникающим силам капитализма, — со всеми недостатками и предвосхищениями душевно-духовной установки того времени. Так же и современная идея государства; с тех пор не возник ни один новый постулат, который исходил бы из действительного, сложившегося с тех пор жизненного синтеза и в культурном отношении преодолевал бы его. С новой «идеей семьи», вокруг которой сегодня идет борьба, происходит нечто подобное. И так далее вплоть до идей «нации» и «человечества» - о них мы сегодня еще размышляем в опытных схемах, в которых XVIII в. пытался постигнуть и идейно формировать эти созерцаемые высшие членения человеческой общности.
Мы еще сегодня боремся за современную душу и современный жизненный синтез. Мы ведем эту борьбу старым, ставшим уже почти тупым оружием этого раннего времени без того, чтобы стало возможным новое душевное тотальное постижение жизни, которое дало бы нам новое, более действенное оружие, и поэтому наша борьба более тяжелая и отчаянная, чем была когда-либо. И самыми существенными объектами, о которых идет речь, стали сегодня постепенно в продолжающемся отдалении от высших целей самые простые основные общественные образования, естественный фундамент существования вообще. Они могут, если все взорвано, — в зависимости от природы жизненного синтеза — стать подлинным первым объектом принудительного душевного требования, который должен тогда спуститься вниз и, пребывая у корней существования, попытаться там, внизу, ориентироваться новым, радикально новым, образом.
В целом следует, резюмируя, сказать: в разные периоды в исторических телах движению культуры удается в весьма различной мере воздействовать на общественные и цивилизационные образования, и в разные периоды оно хочет этого в совершенно различной степени: ибо жизненное чувство души, которое видит себя противопоставленным определенному жизненному синтезу и из него произрастает, может осуществить это в зависимости от своей силы в разной мере и считает полное формирование жизненного материала в значительной мере возможным или - в счастливые «времена» — нужным. Все это должно быть предметом пристального исследования в области социологии культуры. Здесь же речь
606 Историко-социаногическое видение культуры
идет только о том, чтобы внести в принципе ясность в понятия культуры и движение культуры, в понятия процесса цивилизации и общественного процесса и в их динамическое взаимоотношение, насколько это возможно в кратких указаниях.
VII
С этой точки зрения мы обретаем определенную позицию по отношению к двум типам исследования, в которых до сих пор историко-философски и социологически рассматривалось движение культуры, - к «эволюционному» и к называемому в последнее время «морфологическому». Эволюционное историко-философское рассмотрение движения культуры коренится в смешении интеллектуальной и духовной сфер под общим понятием «духа» и вследствие этого в соединении процесса цивилизации и движения культуры под общим представлением «духовного развития». Это смешение началось в XVIII в. и достигло вершины в немецком идеализме. С этого времени процесс цивилизации и движение культуры настолько переплетаются, что в представление «духовного развития», а затем «развития» вообще, вводятся закономерности развития цивилизации как формы созерцания историко-философского исследования и проникновения в общий исторический процесс человечества. Кондорсе видит в общей истории проходящий по ступеням процесс человеческого усовершенствования, содержание которого в сущности есть «просвещение», т.е., в нашем понимании, только и исключительно выявление части космоса цивилизации. Кант, Фихте, Гегель, сколь ни различно именно их социологическое конструирование, усматривают все содержание истории в прояснении сознания (т.е. другой стороны процесса цивилизации), доходящего до появления «сознания свободы», которое должно основать царство разума. Безразлично, совершается ли это в рациональных формах (притяжение и отталкивание, совместные или индивидуальные силы, общее действие которых в конечном итоге ведет к царству разума - Кант), в библейско-протестантской оболочке, как у Фихте (стадия невинности, начинающейся и полной греховности, освобождения, господства разума) или принимает величественную гегелевскую форму эволюции мирового духа, который использует влечения и страсти людей, их стремление к ясности и разумному порядку, чтобы посредством тезиса, антитезиса и синтеза, следовательно, раскрытия в ходе логического процесса саморазвития, в конце концов прийти к созданию царства «разума», воплощенного в государстве.
А п.фред Вебер. Принципиальные замечания к социологии культуры 607
Совершенно ясно, что в каждом данном случае развитие происходит по логическо-интеллектуальным принципам. И выявленное в конечном счете царство разума, в которое единичный человек должен войти в «свободе сознания», — в сущности не что иное, как именно наш проясненный и выявленный космос цивилизации, который впитывает все остальное, искусство, религию, идеи и т.д., все эманации культуры как элементы своего «разумного» продвижения и поглощает их в своем разумном завершенном образе. Видение сущности культуры скрывается в психологически впервые созерцаемом образе сущности процесса цивилизации, который посредством понятий реализации разума и самоэволю-ции духа охватывает все исторические факты и вводит их в область своих представлений. Маркс совершил в принципе то же: он просто видит только другую, материально-техническую сторону развития космоса цивилизации, превращает ее в исконный принцип исторического развития, формами выражения которого являются все общественные процессы, а отражением которого — движения культуры. Позитивисты, от их гениальных основателей, Сен-Симона и Конта, до сегодняшних прагматистов, видят линию духовно-научного развития, растущее вытеснение мифических маскировок образа мира, все большее интеллектуальное и научное влияние на строение существования и общества (промышленная система Сен-Симона), следовательно, также считают, что в этом цивилизационно-позитивистском образе мира и существования, следовательно, вновь в выявленном космосе цивилизации, в конце концов исчезает все, в том числе и культура, которую они, конечно, также не рассматривают как нечто отличное по своей сущности; ничего не меняет в их позиции попытка придать этому выявленному как последняя цель культуры рационалистическому и полностью организованному космосу цивилизации заимствованное из подчеркиваний ценности культуры религиозное освящение (как Сен-Симон в его «Nouveau christianisme»4*). Последующие социологи, как, например, Спенсер, придерживавшиеся позитивистско-цивилизационной установки, расчленяли следующее из нее созерцание исторического процесса не по фактам раскрытия объективного духа, техническим средствам производства или господства науки над существованием, а по отражению всего этого на развитие сознания: таким образом рационализированный, меркантильный и способный к сочувствию человек следует как необходимый продукт развития за воинственным, мифически-религиозно настроенным человеком начальных стадий. В некоторых случаях рассматривают действие развития на установку сознания индивида по отношению к общности: за ран
608 Историко-социологическое видение культуры
ними периодами корпоративной общей связи повсюду следует время индивидуализма и, быть может, нигде, правда, ясно не описанного так называемого субъективизма (Лампрехт).
Всегда просто видится и исследуется процесс цивилизации и его действия. Все остальное определяется только как его часть, следствие или отражение. Повсюду выявление какой-либо одной стороны предсуществующего космоса цивилизации вместе с ее действием рассматривается как содержание, назначение и цель мировой истории. Для сознания всех этих людей космос цивилизации является в его последней части, появление которой они способны увидеть, чем-то определенным, последней целью, к которой мы должны стремиться. I Поэтому такие социологи эволюции цивилизации и философы истории, даже самые гениальные среди них, причем именно они, всегда одновременно дают эсхатологии, предсказания или констатации конечного состояния человечества, конечного состояния, которое всегда есть не что иное, как увиденная ими последняя ступень раскрытия космоса цивилизации. Гегель и Фихте считали, как известно, свою эпоху началом осуществления разума, последней эпохой человечества -- небольшое заблуждение, как мы знаем сегодня. А марксизм с его предсказанием будущего социалистически-рационального царства, которое в конечном итоге должно логически-диалектически произойти из чисто циви-лизационно созерцаемого общественного процесса, — также не что иное, как подобная цивилизационно конципированная эсхатология, попытка политически и социально-агитаторски подчеркнутого предвосхищения будущего космоса цивилизации и его форм.
Неудивительно также, что все эти различные исторические теории и философии культуры, как ни различны они по провозглашаемым ими принципам, идеалистические, материалистические, позитивистские, психологические и т.д., в сущности настолько близки друг другу, что при ближайшем рассмотрении незаметно переходят друг в друга. Примером может служить убедительно доказанная Пленге не только формальная, но и содержательная родственность, даже в значительной степени социологическое тождество гегельянства и марксизма, тех двух философий истории, которые по своей внешней позиции (эволюция духа и эволюция материи) столь враждебно противостоят друг другу, хотя в сущности обе они утверждают происходящее с необходимостью и общезначимостью образование общей рациональной социальной организации человечества, при нерушимости которой отдельный человек обладает свободой лишь сознательно входить в нее. Однако большое тождество можно обнаружить во всех этих теориях развития и культуры. Ибо все они являются лишь различными
Альфред Вебер. Принципиальные замечания к социологии культуры 609
освещениями общих рациональных принципов, формирующих и развивающих внутреннее и внешнее человеческое бытие, в образе которого исчезает все остальное.
Все авторы этих теорий находятся социологически в известной степени до «грехопадения» основополагающего понимания. Они не видят того, что рациональная организованность, рациональное вхождение по собственной воле, рациональное освещение существования и любые другие рационализации, - даже если в них привносят эманацию «мирового разума», связывают их с развитием принципов свободы или с тенденциями равенства, и в таких душевных облачениях в качестве таковых еще ничего общего не имеют с культурой, ничего общего не имеют с формированием исторического тела, исходя из центра его сущности. Все дело в том, что им неведомо различие между тенденциями развития цивилизации в исторических телах и развитием культуры. В противном случае они видели бы во всех этих процессах рационализации лишь средства формирования существования, а не его сущность. Они не могли бы видеть в этих фактах цели и последние идеи развития человечества, а видели бы в них общие свойства развития и его необходимость, под растущим господством которых пребывает душевное в историческом процессе, осуществляя задачу постоянного преодоления созданного ими естественного существования во все более новой и трудной борьбе. Эсхатологический и цивилизационный рай организации, который они видят, потерял бы для них свое высокое значение, общая «культурная цель» человечества перестала бы существовать. Однако они обрели бы нечто глубокое и последнее в вопросах культуры.
VIII
«Морфологическое» рассмотрение истории и культуры - нечто совершенно противоположное. Оно стремится постигнуть «душу», которая возникает, пробуждается, теряет свои силы и стареет в различных больших исторических телах, проявляя эманации культуры как символы своего существования и судьбы. Религии, системы идей, художественные произведения являются совершенно неповторимыми, несравнимыми, не стремящимися к общей цели человечества, просто ставшими «образом» формы выражения души различных больших исторических тел на различных ступенях их расцвета и старения.
История — не внутренне связанный процесс с внутренним единством, а область морфологического возникновения, роста и гибели этих больших тел. У каждого из них собственный закон, собственная сущность и собственный тип борющейся за свое выражение
610 Историко-гоциатогическое видение кулыуры
души. Все они проходят «гомологические» ступени развития и обладают «гомологическим» стремлением выражения — поскольку все они однажды бывают молодыми, вырастают, переживают расцвет и стареют и все стремятся отразить тотальность своего душевного содержания в формах своего выражения. Каждая отдельная сторона их выражения, причем не только сторона культуры в нашем понимании, но и цивилизации, столь же неповторимо исключительна и несравнима, как сама их душа, чистое выражение их сущности. По этому представлению существуют не только фаустовско-западные, аполлонически-античные и арабо-магические искусства, религия, метафизика, но и наука и математика; в каждом случае это особенным образом сформированный непередаваемый тип познания, в нашем понимании, принадлежащий каждому историческому телу, по своей сущности не передаваемый космос цивилизации, а не универсальный, обладающий общезначимостью и необходимостью. Все части космоса цивилизации вообще рассматриваются не как цивилизационные, а как «культурные», т.е. как формы душевного выражения; таким образом, здесь, как и в противоположном направлении, эволюционном, цивилизация и культура смешиваются. Разделяются они лишь постольку, поскольку цивилизационное формирование рассматривается и определяется как сознательная рациональная, «конечная форма» «мирового города» в историческом процессе каждого большого тела; следовательно, на определенной «гомологической» ступени старения культура должна повсюду переходить в цивилизацию — в «рациональную старческую немощь». Тем самым сущность цивилизации как рационального формирования жизни и сознательного прояснения существования до известной степени усматривается и познается. Однако сам процесс цивилизации как единый процесс, пронизывающий судьбу человечества, существующий всегда с самого начала исторического развития и проникающий в своеобразном, идущем по ступеням развития все исторические тела, не познается. При этом несомненно правильно видится растущее значение цивилизационного формирования, следующего из просветления сознания. Только это просветление сознания не ставится в соответствующую связь, а именно в связь с постоянным повторением и развитием начавшегося или достигнутого в других телах общего просветления сознания человечества, объективный космос цивилизации которого должен представлять собой очевидную и неоспоримую целостность, не сломленную, даже во времена меньшей общей связи, и для этого воззрения. Те факты исторического процесса, которые в сущности обладают собственной закономерностью, реальность и формы выражения общественного процесса различных исторических тел так
Альфред Вебер. Принципиальные замечания к социологии кулыуры 611
же произвольно толкуются, минуя каузальность, как символы выражения душевной воли. Короче говоря, в «морфологически» созерцаемое движение культуры втягивается не только процесс цивилизации, но и общественный процесс, чтобы достигнуть в каждом случае самостоятельного роста, старения и судьбы различных больших исторических тел. И из этого возникает картина, имеющая ряд смешных сторон. Так, смешно, например, предсказывать будущее старение западной культуры, предоставляя ей отсрочку на 100 лет до той или иной гомологической ступени. И это в момент, когда западная культура вследствие ее переплетенности с общей судьбой человечества (мировая война!) пребывает в огромном процессе преобразования, который ведет ее то ли к распаду ее прежнего исторического тела и ее «души», то ли к метаморфозе или транспонированию в другие возникающие тела, то ли к ее полной, быть может, очень скорой «физической» гибели, - во всяком случае, к совершенно неведомой, абсолютно необозримой судьбе. Такая ошибка и в этом воззрении следует из неумения разделять общественный процесс, процесс цивилизации и движение культуры и из попытки по каким-либо образом схваченной душевности различных исторических тел понять и определить их судьбу, не видя и не исследуя реальные свойства общественного процесса и процесса цивилизации и их закономерности.
IX
Тем не менее не вызывает сомнения, что наше понимание понятия культуры родственно морфологической точке зрения. Для нас все эманации культуры также лишь символы, неповторимые, не движущиеся к общей цели развития, несравнимые друг с другом и исключительные образы выражения душевного, «души» каждого исторического тела, которая бросает их в мир. Правда, символы, получающие свою форму и в значительной степени содержание своего выражения и от сложившейся в своем синтезе жизненной субстанции, общественной и цивилизационной материальности, в которой эта «душа» пребывает в различных исторических телах в различное время, - которую она стремится превратить посредством символизации, посредством придания им формы культуры в свое «тело». Общественный и цивилизационный материал окружает душу различных исторических тел самим по себе чуждым душе материалом, материальным слоем, которому она в каждое мгновение истории пытается придать свой «лик» или, если это не удается, с которым она, отвращаясь от жизни (великие отрицающие жизнь религии), прощается. Или если предпочтительнее другая картина -
612 Историко-социо^о> ичсское видение кулыуры
некий материал, материал жизни, проникает по собственным неотвратимым законам в душу и требует от нее, чтобы она воспламенила его и придала ему культурный образ. Это — задача культуры каждого времени и сущность движения его культуры, которое, мы вновь повторяем это, зависит главным образом не от «самораскрытия души исторических тел», а от совсем иных факторов. И по этому воззрению может происходить самораскрытие души различных исторических тел, рост, расцвет и старение. Однако все это нельзя рассматривать как происходящее само по себе, беспричинное. Оно зависит от созданного процессом цивилизации последовательного озарения человечества субъективной стороной процесса цивилизации, прояснения сознания жизненной субстанции различных народов, от в ходе их следующего друг за другом вхождения в него. Это вхождение в процесс цивилизации предоставляет народам различных исторических тел периоды молодости, непроясненности, неведения очень различного характера и различной длительности в зависимости от типа, места и времени их вхождения в этот космос. Оно устанавливает для них периоды их душевного пробуждения при совершенно различных условиях в окружении совершенно различных предоставленных уже космосом цивилизации психических и физических объектов. Оно совершенно различным образом ведет их в периоды расцвета сознательного продуктивно формирующего душевного господства над существованием и совсем не везде к одинаковому или вообще каким-либо образом определяемому старению. Напротив: так же как этот процесс развития сознания и душевного роста обусловлен характером, местом и временем вхождения в общечеловеческий космос цивилизации, как он получает в зависимости от этого темп своего развития, возникновение его начальных и средних ступеней, он и в своем дальнейшем развитии (как покажет наше культурно-социологическое исследование различных исторических тел) одновременно обусловлен также совершенно различным продвижением и совершенно различной структурой общественного процесса; тем, остаются ли сначала в данном историческом теле полностью или частично не обладающие сознанием слов, которые поднимаются лишь в процессе роста и в них вновь совершается развитие сознания (как последовательно поднимавшиеся на Западе слои клириков, рыцарей, бюргеров, рабочих и т.д.); наступает ли одновременное общее прояснение вообще принимаемого во внимание населения, как в классической древности (одноступенное развитие!); или фиксированное общественное и духовное членение стоящих друг над другом слоев следует из динамики общественного, цивилизационного и культурного процессов, как в Индии и т.д. Душевный процесс просветления, роста
Альфред Вебер. Принципиальные замечания к социологии культуры 613
и старения со всеми проявлениями его культуры и возможности' ми находится, следовательно, для нашего исследования, как и все остальное, в рамках упомянутой обоюдной динамики общественного, цивилизационного и культурного процессов. Поэтому в различных исторических телах точки его отправления совершенно разные. (Арабская историческая сфера началась вследствие типа своего вхождения в космос цивилизации на совсем другой ступени сознания, чем античная, и у нее никогда не было своей мифологии.) Этот процесс обладает также совершенно различными возможностями развития (одноступенность, многоступенность развития и т.д.). И вследствие различной переплетенности исторических тел он входит в общий исторический процесс (более или менее изолированное существование, как в Китае и Индии, или связь с различными телами и в конце концов, быть может, мировая экспансия, как в античности, у арабов и сегодняшнего Запада) в совершенно различном, абсолютно не допускающем схематизации конечном состоянии. Все это, следовательно, «судьбу» культур, как и фазы и формы выражения «движения» культуры в различных телах, следует объяснять в рамках рассмотрения, никогда не теряющего из поля зрения общий процесс исторического развития человечества, посредством толкования, которое, как теперь следует без дальнейших объяснений понять, должно происходить в трех плоскостях и тщательно разделяться на три части.
Такое толкование должно, во-первых, просто принимать нечто, не пытаясь как-то расчленить или объяснить его; а именно специфичность душевного, «живущего» во всех больших исторических телах и все время стремящегося к выражению в рамках их общей судьбы. Это душевное в его специфике может быть постигнуто только «вчувствованием» в области культуры тем, кто способен к такому вчувствованию, может быть схвачено, постигнуто в своей сущности, истолковано и выявлено как специфическое «ядро» данной культуры в каждой объективации. Для социолога, во всяком случае применительно к здесь преследуемым целям, это — нечто, чего ему касаться не следует, толкование и передачу чего он предоставляет более тонким исследователям; так же как толкование и передачу глубочайшего смысла и сущности всех великих объективаций культуры вообще.
Для него важно второе, совершенно противоположное, а именно «движение на поверхности», которое это «ядро» создает в своей борьбе с внешним жизненным материалом. В этом движении на поверхности социолог должен констатировать типическое и повторяющееся, следование эманации друг за другом, распад сторон и форм выражений, типичную периодичность, характер
614 Историкч>-со1р1ологическое видение культуры
и форму стадий, следовательно, «ритм движения культуры»; причем, конечно, по возможности во всех допускающих анализ телах истории и культуры. В своем анализе он должен всегда задаваться вопросом, в какой степени констатируемая типика связана с развитием материального и интеллектуально-цивилизационног о слоев, окружающих душевное «ядро», с общественным процессом и процессом цивилизации, т.е. следует из ситуаций, из характера жизненного синтеза, в который они вводят душевное ядро. Социолог должен индуктивно представить здесь, руководствуясь данной нами динамикой различных сфер, общую формальную типику движения культуры в качестве социологически объясненного поверхностного движения в развитии культуры.
Затем он может попытаться, в-третьих, проникнуть глубже и задать вопрос о подлинной судьбе «душевного ядра» в этом движении. Он может проследить душевное ядро различных исторических тел в его развитии внутри общественного процесса и процесса цивилизации. Может рассмотреть содержательные «повороты», в которых оно «борется» со своей «судьбой», предопределенной ему в общественном процессе и процессе цивилизации. Социолог может, пожалуй, пролить свет на то, как в этой борьбе и этих «поворотах» появляются великие люди, возникают великие «эпохи», течения культуры и течения, идущие в противоположном направлении, становятся отчетливыми великие вещные линии истории культуры. Быть может! Социологу следует по крайней мере сделать такую попытку. Этим он наполнит формальную социологическую поверхностную типику движения культуры социологически объясненным вещным содержанием и одновременно проложит мост к толкованию содержания и понимающему схватыванию сущности великих объективаций культуры и тех явлений, толковать которые в их глубочайшем смысле не есть, как было сказано, его задача. Однако он может таким образом по-своему создать для их понимающего схватывания среду, создать социологическую решетку и чаши, в которых будут лежать золотые шары истории культуры; в них они могут быть лучше увидены и, быть может, в своей сущности легче поняты, чем посредством «вчувствования» в них «в пустом пространстве». Этим он уже почти выйдет за пределы чисто социологического исследования. Однако, если он достигнет этого, он, в свою очередь, поможет нам найти то, к чему мы главным образом стремимся в познающем понимании культур: их душевное возрождение в над.
К этой задаче автор попытается подойти в дальнейших работах с помощью тех ограниченных средств, которыми он располагает, не будучи честолюбиво уверен в том, что ему удастся дать в каком-либо решающем пункте окончательный результат.
Л.1ьфре.'| Вебер. Принципиальные замечания к coiukuioi hh кулыуры 615
Примечания
1 Как, наггример, Шпенглер в своей книге «Закат Европы».
2 Труды Второго конгресса социологов, октябрь 1912 г.
3 Следует заметить, что это понятие не введено Шпенглером, а высказан -но или невысказанно лежит в основе всей новейшей историографии. Так же, как «молодость» и «старение» тел уже с давних пор являются само собой разумеющейся составной частью этого воззрения.
4 Несмотря на блестящие работы прежде всего Якоба Буркхардта и некоторых других.
s Более широкие исследования, такие, например, как работы Макса Вебера и Трёльча в области истории религии и в известной степени «спонтанные» подходы, обнаруживаемые в множестве новых исследований различных областей культуры, не остаются здесь вне внимания.
6 Ясно, что здесь речь идет об основных вопросах материалистического понимания истории. Однако постановка вызывающих там «интерес» вопросов не ведет к объяснению решающих категорий этого воззрения.
7 Сколь ни много точек соприкосновения в сказанном здесь с рассуждениями Макса Вебера в его статьях по социологии религии, его точка зрения все-таки иная: показать здесь отличие ее от нашей, к сожалению, невозможно.
8 Это сказано без того, чтобы мнения Бергсона этиологически или гносеологически принимались или отвергались в рамках их философской постановки вопроса.
9 Протест Гегеля против переоценки рассудка ничего не меняет в его фактической связи с этой установкой вследствие его понятия о господствующем над всем разуме.
Перевод иноязычных текстов
и Дои после (лат.).
2‘ Главные (лат.).
3’ Варварских правдах (лат.).
4* «Новое христианство» (франц.).
Печатается (с некоторыми исправлениями) по изданию: Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. СПб., 1998. С. 7-40.
Альфред Вебер
К вопросу о социологии государства и культуры
Часть 1
Принципиальные основания
Социологическое понятие культуры1
Существует очень простой способ уяснить единство всех исторических событий, а также взаимосвязь явлений культуры с остальными фактами жизни и попытаться таким образом решить проблему историко-социологического видения культуры, т.е. охватить мировую историю во всех ее частях как эволюционное развитие некоего принципа, как осуществление его по ступеням в мире событий. По сути безразлично, подходить ли при этом к истории на основе теологического и, следовательно, более или менее религиозного способа видения или же на основе каузального, т.е. в целом механистического способа видения, понимать ли ее — подобно Августину — как осуществление Божественной идеи, идеи civitas Dei1* в природном мире; или же — подобно Гегелю — как зависящее от воли Бога развитие в сознании свободы; подобно Сен-Симону и позитивистам — как постепенное освобождение человеческого мышления от традиционных религиозных и метафизических форм; или - подобно Лампрехту - как осуществляющийся по ступеням процесс освобождения индивидуума; или, подобно историческим материалистам, - как поэтапное развитие производительных сил. При этом всегда происходит одно и то же; все отдельные факты истории в результате того, что их относят или к единственной causa2*, или к единственной цели, всегда последовательно присоединяются к единственной системе мыслей и ставятся в одну очень простую внутреннюю связь.
При этом история, весь процесс становления человеческой жизни понимаются невероятно упрощенным образом как некое единство. Но я думаю, нечто в нашем чувстве всегда восстает против переработки исторической жизни в столь простой фабрикат,
Альфред Вебер. К вопросу социологии государства и культуры______617
против этой мысленной ее конденсации. Что-то препятствует нам видеть отдельные факты жизни, лишенные их собственного значения, воспринимать их в качестве низших членов, частей мысленно познаваемой целостности, в своем содержании стоящей над ними; в то же время мы совершенно отчетливо чувствуем присущую им ценность и единственность, ощущаем их только как тысячекратно оформленное многообразие не поддающегося осознанию бесконечного потока, цели которого мы не узнаем никогда: смысл и сущность его можно лишь предчувствовать, а прекраснейший дар его мы познаем именно в бесконечном неисчерпаемом множестве его образов. В связи с этим мы чувствуем, что все эти способы видения, относящие отдельные явления жизни, а также и явления культуры к познаваемому принципу, одновременно опустошают их изнутри, лишают их округленности и целостности, их полного предметного содержания, превращая их в ступени раскрытия индивидуальности или сознания, интеллектуального господства или чего-то иного. Однако если мы, стремясь избежать упрощения, вместо одного принципа будем видеть в истории несколько развивающихся одновременно течений, то и тогда мы отчетливо ощутим, что мы также что-то отнимаем у мельчайших явлений жизни, постигая их не как чистую индивидуальность, но как формирование какой-либо, пусть даже самой сложной, всеобщности - это, конечно, еще сильнее сказывается в случае значительных феноменов, великих культурных деяний или великого характера. Если Гегель, пытаясь спасти великое индивидуальное деяние и великое отдельное явление, позволяет мировому духу, раскрывающему себя в истории, использовать страсти людей в качестве двигающей историю силы; если он разворачивает грандиозную картину, показывая, как из страстей великих людей, откровенно эгоистических, дурных страстей в обычном смысле слова, творится нечто новое; при этом они в качестве мыслей и форм эволюции мирового духа нужны его собственному развитию в качестве орудия Бога, то на мгновение эта картина нас захватывает, но мы вновь возвращаемся к пониманию, что каждое подобное действие, превратит ли оно великое явление в модус развития мирового сознания или в воплощение каких-либо иных, пусть даже самых сложных принципов, этим всегда приводит его к деградации и лишает прекраснейшего значения. Динамическое рассмотрение жизни, которое должно сделать понятным нашему чувству эманации культуры в ней, состоит в том, что мы постигнем вещи, подобные платоновскому миру идей, в их неповторимой красоте и чистоте, в их высокой обособленности от всех других философий, но вместе с тем мы почувствуем, что они вырастают из жизни, в которой они коренились; такой взгляд
618 Историко социаюгмческое видение культуры
на жизнь должен вознести для нас Давида Микеланджело в его несравненной нежности, глубине и силе над всеми сходными явлениями этого времени столь же высоко, как он ныне стоит над городом на площади Микеланджело. Такой взгляд на жизнь позволит отчетливо ощутить корни жизни, питавшие его рост; короче, он должен постигать великое в его неповторимости и иметь возможность поместить его во взаимосвязь явлений жизни. Именно это мы требуем от теории культуры, которая удовлетворила бы нас полностью.
Здесь я хочу поставить следующий вопрос. Возможно ли подобное социологическое культурно-теоретическое видение? Каково его понятие культуры и что означают в сопоставлении с ним предшествовавшие попытки социологического объединения исторических событий и явлений культуры?
Мы с нашей психикой находимся в двух совершенно различных мирах: с одной стороны, в космосе общих вещных данностей, которые мы усваиваем и содержание которых мы можем расширять, но в которые мы не можем привнести ничего личного, ибо этот мир построен только из чисто объективного и внеличностного, из содержаний, применительно к которым мы можем сказать лишь «да» и «нет», «верно» и «неверно», но которые мы бы исказили, если бы хотели прибавить к ним нечто индивидуальное. С другой стороны, мы духовно пребываем в мире, в котором все существует лишь благодаря тому, что оно вырастает из совершенно индивидуального в нас, что оно проникло в нас посредством чего-то личного, самого личного; в этом мире все окрашено и нюансировано личным, в котором все становится тем действеннее и реальнее, чем больше погружено в личностное. В первом мире все имеет значение лишь потому, что оно объективно всеобщее, далеко от жизненной судьбы любого человека; в другом мире, наоборот, только потому, что оно отражает жизненную судьбу человека, поскольку оно тем самым является совершенно конкретным и особенным, всеобщим же оно может быть совсем в ином смысле, в символическом смысле всеобщего значения. Оба мира содержат переработанный результат первоначально сырого материала наших переживаний, оба основаны в своем построении на движущих силах нашей психики, на отношениях действия и противодействия, связывающих нас с окружающим миром. Но в одном мире пробужденная активность воспринимала материал переживаний в его интеллектуально постижимых всеобщих отношениях, растворяла их в своих всеобщих объективных элементах и уплотняла до психических объектов; иначе говоря, этот мир все доводил до интеллектуальных созерцаний, понятий и мыслительных форм и тем самым возводил построения всеобщно-стей, совершенно чуждых отдельным судьбам, — учение о катего
Альфрс,! Вебер. К вопросу социологии государства и кулыуры 619
риях Канта, теоремы Ньютона и т.д., под сводом которых замирал любой субъективный звук; в другом же мире все остается во власти чувства и не только вырастает из почвы чувства, но и уплотняется им в психические предметы, придает образ его содержанию, его сущности и его форме. Мы находимся во всеобщем, созданном интеллектом мире неизбежности и необходимости, который помещен над нами в той мере, в какой нами владеют технически абстрактные формы мышления; и находимся в другом, преисполненном особенностей, созданном чувством мире: в нем никогда не может быть ничего совершенно всеобщего, но лишь большее или меньшее по своему значению, ибо в нем любое единичное явление значимо лишь в той степени, в какой значимо создавшее его чувство.
Предположим, что все созданное нами и нашей психикой в нашем существовании, обладающее особенностью и многообразием, каким-либо образом выросло из эмоциональной сферы, а все общее и необходимое, помешенное над нами благодаря нашему духовному деянию в космос объективных неизбежностей, возникло от деятельности нашего интеллекта.
Мы применяем это к истории и к рассмотрению последовательной переработки в ней жизненного материала, чем занимались прежние исторические теории. Если историческая теория стремится утверждать, что мы в переработке жизненного материала и нашей, вытекающей из этого исторической судьбы заключены в ряды объективной неизбежности, и если она хочет научить нас заранее распознавать определенную цель, к которой мы с необходимостью движемся, если захочет она быть эволюционным учением в принятом сегодня, указанном выше смысле слова, то мы предположим, что она до сих пор принимала во внимание лишь интеллектуальное развитие человека и говорила только об одной половине нашего духовного бытия.
И в самом деле: все великие эволюционные учения до сих пор группировались только вокруг факта интеллектуализации; все они — парафразы того факта, что человек, поскольку он полагает из себя в интеллектуальной сфере всеобщие и необходимые духовные предметы, подчинен посредством развития этой сферы необходимым и непреложным законам; эти теории, в зависимости от основы нашей интеллектуализации, в большей степени принимают во внимание развитие сознания или его форм и содержаний и в соответствии со с^оей точкой зрения прослеживают различные направления. Так, учение Фихте и Гегеля, гениальное и величественное учение о необходимом прогрессе человечества в сознании свободы, с его ступенями развития от состояния инстинктивной неосознанности до полностью разумного овладения бытием, если отделить его
620 Исюрико-соццологичсч’кое видение кулыуры от метафизической основы, подчеркивает не что иное, как развитие сознания в его последствиях для самого глубокого и самого личного состояния Я, развитие великого процесса рефлектирования, который должен вести нас к осознанному внутреннему возвышению над скованным природными узами бытием. Если привести другой пример, как будто относящийся к совершенно противоположному философскому представлению о мире (учение Сен-Симона и Конта, согласно которому мировая история представляет собой преобразование религиозно и метафизически созерцаемого сформированного материала жизни в материал, над которым господствует и которому придает образ позитивная наука), это учение означает не что иное, как рассмотрение процесса рефлексии в его применении к более внешне понимаемому Я в мире. И если Маркс, следуя за ними, затем растворяет весь мировой процесс в последовательно рациональной эволюции производительных сил, то это означает, что он просто принимает во внимание только применение интеллектуализации к господству над природными силами, сводит это к единственной движущей силе и в невероятно одностороннем толковании выводит из этой одной части интеллектуального процесса всю мировую историю. Все это совершенно ясно. Но точно так же поступает и Спенсер. Как известно, он видит закономерное и необходимое в историческом процессе в росте альтруизма, переходе человеческого общества от военного типа к меркантилистскому и в превращении самого человека из человека насилия в человека сострадающего. Даже если мы предположим в этой теории констатацию необходимого и неизбежного хода развития, — а что-то в ней мы в самом деле так ощутим, - я повторяю, поскольку мы почувствуем в этом нечто подобное, мы снова увидим констатацию воздействия на нас процесса интеллектуализации: все, что из идей, мировоззрения, религии и этических законов восходит к развитию альтруизма человеческого общества и отдельного человека, хотя такое воздействие несомненно существует и благодаря христианской морали сострадания составляет значительную часть нашей внутренней жизни, - все это мы ощущаем как нечто, чему мы не подчинены безвольно, что мы можем стряхнуть с себя и что, действительно, в наше время стремятся устранить создатели новых систем мировоззрения. Однако ни Ницше, ни любой другой пророк не могут освободить нас от определенной стороны этого процесса, возвращающего нас к все возрастающей рефлектированности в нашем внешнем и внутреннем поведении, к тому, что делает для нас невозможной бездумную жестокость, специфическую жестокость ребенка, как и всех людей примитивных периодов, ибо рефлексия освещает все большую часть нашей жизни и жизни других людей
Л.пьфред Вебер. К вопросу социологии государства и культуры 621
и позволяет ощутить страдания, которые мы ранее не чувствовали, поскольку мы их не знали, рассматривать их как факт своего собственного переживания и включить в наше восприятие образа жизни. Постижение новых сфер нашего бытия благодаря мышлению, возвышение врожденных инстинктов не эгоистической природы до сознания, активизация в нас этих альтруистических инстинктов и возникающие из этого нежность и внимательность в общении — таков и здесь процесс, последствий которого мы не можем избежать, где бы и как бы ни формировалось наше мировоззрение. И далее: если нам скажут, что имманентный принцип истории есть постепенное освобождение индивидуума от объективных, вне его находящихся духовных сил, которым он вначале был подчинен, мы и в этом ощутим как необходимое и неизбежное то, что связано с разрушением традиционных, не проверенных, не объективированных посредством рефлексии данностей. Но a priori мы не можем сказать, не идет ли история к тому, чтобы эти старые непроверенные рефлексией узы индивидуума, эти традиционные цепи заменить, быть может, еще более прочными, сознательно принятыми, выкованными самими людьми цепями. Мы и здесь ощутим трансформирование неосознанного состояния в осознанное, преобразование нашего существования под воздействием внутренних процессов интеллектуализации как необходимое проявление человеческого развития.
И так повсюду. Если хоть раз наш интеллект осветил какую-либо сферу нашего существования, если он хоть раз — воспользуемся обветшалым, но понятным образом - сорвал покров с его темных основ, мы не можем делать вид, будто тьма никогда не освещалась и будто мы ничего не видели. Увиденное нами есть здесь, вошло в нашу жизнь и стало частью нашего существования. И если однажды нечто осветится в нашем сознании, то наша психика привнесет это в творения интеллектуального мышления, она расширит и углубит вместе с нами космос данностей нашего внешнего и внутреннего интеллектуального аппарата, она выстроит этот мир объективностей в нас и вокруг нас, и они станут нашей жизнью — также станут ею. И так как развитие нашего мышления никоим образом нельзя сдержать, оно движет сознание во все новые области, подобно развитию сознания ребенка до взрослого; поскольку все это — и изощренность*, и усовершенствование интеллектуального овладения постигнутым — протекает как автоматический процесс, который мы не можем остановить, то мы подчинены этим рядам альтруи-зации и индивидуализации, внутренней рационализации нашего существования так же, как подчинены и ряду процессов внешней механизации и интеллектуалистического преобразования аппарата.
622 И стоpin<o-coiuiалогическое видение культуры
Это и есть позитивное содержание, которое мы можем почерпнуть из прежних теорий для нашего исторического видения.
Но здесь и их граница. У нас есть удачное выражение, которое мы в действительности, хотя и полусознательно, применяем ко всем этим процессам интеллектуализации: мы говорим о внешнем развитии цивилизации, если у нас перед глазами находится процесс поступательного овладения природой, который есть не что иное, как внешний процесс интеллектуализации и рационализации нашей жизни; и говорим о внутренней цивилизации, о цивилизованности в противоположность варварству, если мы думаем о внутренней интеллектуализации, о том, что поступки, которые примитивный человек совершает бессознательно, для нас невозможны: присущая ему жестокость нам уже несвойственна, владевшие им представления не будут более нас подчинять. Прежние теории анализируют, устанавливая всеобщие ряды и правила, фактически только процесс цивилизации: мы, постигая его в каком-либо конкретном пункте истории и осознав его, сразу же воспринимаем его как неизбежность. Мы ясно ощущаем, например, что способность к рефлектированности и альтруизации в поздней античности могла быть отброшена на столетия назад из-за вторжения новых людей; эта способность могла утрачиваться в жизни самой античности в известных слоях населения; ее развитие с точки зрения мировой истории в нашей сфере цивилизации всем этим только задерживалось, но было и нечто вроде давления с огромной высоты, которое охватывало новые массы людей или не затронутые цивилизацией слои населения в форме христианства; эта способность к рефлексии всегда приходила к новому человеческому материалу в изменившихся обстоятельствах на той или на другой, более высокой, чем ранее, ступени, и при этом на более широкой основе. Мы чувствуем: наш инструментарий, внешнее рациона-лизирование, могли прийти в течение истории к замедлению развития или частично забываться; они могли в силу общественных обстоятельств даже упрощаться, но всегда снова приходило в движение все построение, всегда более позднее развитие логически присоединялось к уже существующему, всегда утерянное снова замещалось теми или иными адекватными формами, всегда космос, уже как бы предформирующийся, прежде чем он возникнет вовне, существуя в нас, снова выстраивался в мире - постоянно на более широком основании и более совершенным образом. Все это в известной мере существующая в нас жизнь, которую мы хотя и медленно, но необходимо приводим к раскрытию.
Но по своим корням и сущности жизнь, развивающаяся через процесс цивилизации, в своих истоках есть не более чем про
Л.1ьфрс » Вебер. К вопросу социологии государства и кулыуры_623
должение биологических рядов развития человечества. Ибо все это опирается просто на биологический прогресс процесса мышления, на схватывание-вокруг-себя мыслительной переработки психического материала, на процесс, который позволяет показать, как он, идя от данных от природы связей человека, создает и востребует внешний мир; биолог сразу заметит, что он регулируется совершенно теми же принципами приспособления, что и развитие психофизической субстанции во всех формах. Это есть продолжение биологического развития и — в более широком смысле этого слова — сам биологический процесс по своему содержанию и эффекту: подобно тому как мыслительный аппарат и раскрытие предпринятых им переработок происходят от необходимости приспособления и востребованы ею, содержание подобной мыслительной переработки жизненного материала должно являться как продукт, предлагаемый человеку для лучшего «оснащения» человека в борьбе за существование, лучшей адаптации в окружающем мире... Рефлективное постижение, внутренняя интеллектуализация и внешнее рационализирование нашего существования - просто техническое оформление материала жизни, наподобие того, как овладевают чем-то внешне и внутренне в более легких формах, выражение-себя (Sichauswirken) в нашем бытии, благодая чему мы поднимаемся над нашими чисто животными биологическими данными до специфически биологических человеческих; пусть при этом в какой-то точке мы придем к угрозе нашему существованию - мы невероятно раздвигаем пределы нашей внутренней и внешней сферы господства в жизни, но посредством этого мы сохраняем и расширяем только наше природное существование. И все, что сделано до сих пор для эволюционного обобщения истории, в сущности относилось просто лишь к нашему биологическому развитию, к нашей эволюции в качестве естественно-научного вида, к нашему природному потоку жизни.
Но сегодня мы чувствуем, что над всем этим стоит культура, что мы под развитием культуры понимаем нечто иное, нежели тот или иной биологический процесс, нечто отличное от расширения наших жизненных возможностей, от формирования их необходимости и полезности с точки зрения целесообразности этого процесса. Мы чувству ем, культуры нет в течении этого природного потока, мы никогда не сможем понять ее или найти в нем. Да, культура в известном смысле начинается только там, где прекращается непосредственное воздействие этого потока, где наше существование обретает образ посредством полагайия цели, которое в биологическом смысле надцелесообразно или нецелесообразно и которое не может быть выведено, с точки зрения продолжения
624 Историко-соииоло! ичсское видение культуры
существования и лучшего обеспечения нашей природной жизни, из биологического пребывания человека в окружающем мире. Мы чувствуем: одним из самых больших и плоских упрощений последнего времени было то, что эти факты не замечались, культуру и природную жизнь смешивали друг с другом, говорили о развитии культуры, лишь когда просто улучшалась природная жизнь, когда усовершенствовали паровую машину или обучили одного человека вместо восьми обслуживать ткацкий станок, когда начали летать с двигателем внутреннего сгорания в воздушном пространстве и при помощи рентгеновских лучей расширили возможности физического зрения, одерживали все новые победы в борьбе с бациллами, опасными для жизни. Все это факты невероятной важности, вещи и успехи, завораживающие нас по праву, ибо они завоевывают для нас новый мир или открывают еще неведомые силы в старом, возвышая нас от мелкого и ограниченного, недолговечного и окруженного со всех сторон угрозами вида до торжествующего победу, в значительной мере стоящего над болезнями и опасностями; но все эти факты, хотя и дарят нам новую жизнь, пока не дали ничего, кроме натуралистического нового существования, изнутри совершенно неоформленного, внутренне еще не подведенного к каким-либо последним принципам и внутренне не возвысившегося над самим собой. Только тогда, когда это произойдет, когда жизнь от своей необходимости и полезности придет к стоящему над ними образу, только тогда будет существовать культура,
Я думаю, мы снова сегодня чувствуем и понимаем, что в целеполаганиях биологически-природной жизни нет целеполаганий, которые связывают существование со стоящими над ним принципами и создаваемым изнутри формированием, не найдем мы и несущие их силы в психологическом и биологическом механизме, построенном природной жизнью, интеллектуальные преобразования которых до сих пор рассматривали интеллектуалистические теории истории. Да, мы поймем, что вообще не сможем найти эти силы в видимом мире, поскольку используем для этого интеллектуальные формулы и стремимся, исходя из них, открыть ими же созданные закономерности. Ибо эти формулы и законы — лишь осадок рационально сформированного мира понятий, того духовного мира, в котором мы пребываем, мира, ограниченного господством необходимого и полезного в нашем бытии, духовным постижением нашего чисто биологического существования, для более глубокого понимания которого, как вскоре будет ясно, этих формул и законов недостаточно. И мы должны за созерцаемым таким образом миром в его зримости доходить до трансцендентального в чисто интеллектуальном смысле, до метафизической
Альфред Вебер. К вопросу социологии государсгва и кулыуры 625
основы, если мы хотим постичь, что такое культура, и включить ее во всеобщие явления жизни.
При этом не имеет особого значения, какую из различных метафизических мыслительных конструкций мы изберем, чтобы найти в этой основе пункт, из которого проистекают все наши действия в сфере культуры. Ведь все метафизические конструкции необходимы лишь для того, чтобы мысленно уточнить нечто недоступное в своей сущности мыслям и понятиям, ибо оно находится вне созерцаемого мира, из которого мы их строим. Это только путь аналогий и пояснений, а не истинная речь о чем-то подлинном, где путь и форма не важны. Но совершенно ясно: если мы хотим понять, что такое культура и культурная деятельность, то существует пункт, где нечто становится понятным хотя бы в виде намека; из этого пункта мы и придем к тому, чтобы действовать в известном смысле сверхбиологично, возвышаясь над целесообразностью в природном смысле, даже противоположно целесообразности; действовать сверхцелесообразно не только с точки зрения личности и сохранения ее существования, ибо эти возвышающиеся над целесообразностью действия, позволяющие нам служить государству или классу, сколь это ни удивительно, входят в природную жизнь; они существуют повсюду — уже в биологическом процессе поведение, посредством которого биологическая жизнь длительно сохраняется, есть метафизическая основа этих действий. Но мы поступаем нецелесообразно и жертвуем личностью, как уже было сказано, ради чего-то, что для продолжения жизни является излишним, но тем не менее ощущаем это как ее высший смысл, то, ради чего она дана: ради мысли, которая в своей реализации, быть может, уничтожит самую жизнь и тем не менее порождает у нас чувство, что стоит жить и умереть; ради произведения искусства, которое может поколебать все формы и принципы жизни, может действовать разлагающе и разрушающе, но существование которого мы все-таки ощущаем как более высокое и живое, нежели все здоровое, которое оно разрушает.
Я говорю - достаточно безразлично, какую метафизическую вспомогательную конструкцию основания мы используем, чтобы найти исходный момент и сделать все понятным. Я не хочу объяснять здесь, почему я следую за Шопенгауэром, а только хочу из соображения удобства рассуждать вместе с Шопенгауэром. Итак, я говорю об основании нашего действия, о глубочайшем основании нашего бытия, которое уходит за пределы разделения мира на субъект и объект, об основании нашего бытия, которое - называть ли его волей или как-нибудь иначе — из-за того, что оно уходит корнями за пределы этого разделения мира, за пределы того рубежа, которые сознание проводит через все сущее разделением
626 Ис горико-социо. югичсскос видение ку. гыу ры
субъекта и объекта, сообщает нам волю как глубочайший последний импульс нашего действия, чтобы преодолеть этот principium individuationis3*, в который мы заперты, чтобы сломать, взорвать пространственно-временные границы нашей личности и создать синтез самого себя и объективного мира, — и тогда будем растворены — он в нас, а мы в нем. Это есть момент, исходя из которого то личное сверхцелесообразное биологическое действие, самоотречение отдельного для чего-то всеобщего, действие, которое служит опорой самой жизни, становится в последней инстанции понятным; на это со своей стороны намекает естествоиспытатель, говоря, что непосредственной внутренней целью жизни является поддержание вида. Но это значит только, что силы, которые несут биологические действия, находятся за пределами индивидуального: они есть воля, которая принуждает эти индивидуации к разрешению в жизнь. Это и есть момент, исходя из которого мы поймем наше культурное действие и сущность культуры - именно тогда, когда мы это принуждение и волю к синтезу не будем мыслить только на уровне нашего витального бытия, только между видом и биологическим субъектом и только для круга чувств и волеизъявлений, которые их охватывают, но будем мыслить на тех высотах нашего бытия, где встречаются мир и духовная личность, т.е. все объективное содержание бытия во времени и наше внутреннее бытие, когда мы мыслим отношение единства воли ко всем тем содержаниям, которые, если они встречаются, бывают заключены в них как совокупность. То, что возникает в таком случае, что создает единство воли нашей метафизической экзистенции, когда оно направлено на обретение целостности нашего собственного внутреннего бытия вместе с целостностью всего внешнего мира, который противостоит ему, и что представляет синтез личности и мира, — это и есть культура и культурное деяние.
Это может, видимо, происходить только посредством втягивания всех вещей в центр нашего бытия и одновременной отдачи этого центра миру, посредством деяния и воплощения, при котором объективный мир погружается в нас, а в личном действии, в том же процессе, погружается в сформированный мир и личность; в определении этого действия какие-либо целесообразности не участвуют; они исчезают, потому что в круге тех вещей, которые при этом образуют нечто единое, теряет свое значение сохранение вида, и собственные цели больше не существуют. И процесс, о котором идет при этом речь, может — это видно и без лишних усилий — получить для себя разрешение лишь с двух сторон и объективно лишь в двух формах: или личность впитывает в себя мир, которому она отдается, и заключает его в форму свободно сотворенного продукта, пере
Альфред Вебер. К вопрос} сощюлогии государства и культуры 627
плавляя себя с ним, рождает из себя мир в образе объективации: в них изначально пребывает единство, которое личность ищет, — так возникает художественное произведение. Либо она, втягивая в себя все объективное, формирует в себе образ мира, единство, внешне еще не существующее, воплощаемое в мире только ею самой, которому она и должна придавать жизнь и образ. Отсюда возникает то, для чего личность должна жертвовать собой, — идея. Нет иной формы предметно объективного воплощения культуры, нежели художественное произведение и идея, и нет иного продуктивного носителя культуры, нежели художник и пророк.
Однако личность и не нуждается в объективировании вовне в вещное. Она может совершить это и в себе. Синтез - то единство, к которому она стремится, -- она может осуществить в себе, в своей чистой экзистенции, она может его просто пережить; и при этом безразлично, переживает ли она единство, которое творит сама, или же, подобно огромной массе людей, переживает чужое единство, синтез, созданные художником или пророком.
В обеих формах есть центр, в который мы втягиваем мир объективного, горнило, в котором мы его расплавляем и видоизменяем, центр нашего чувства, т.е. наше чувство жизни. В обоих случаях вещи, которые мы творим, помещены ли они нами во внешний мир или же остаются в конечном счете в нас, созданы чувством, однако не так, будто это последний импульс, позволяющий им возникнуть, в то время как интеллект придает им форму, а так, будто свершается творение, созидание образа, уплотнение посредством чувства. В обоих случаях это предметы иного психического мира, о котором мы говорили вначале. В том и другом случае мы наполняем мир не всеобщим, а конкретным, если мы все пережитое воплощаем не в художественном произведении, не в субъективном бытии, а в том, что так часто и неверно называют мыслью, - в формировании идеи. Мы можем, воплощая ее в образе, вынужденно работать с понятиями, которые предлагает нам интеллектуальная переработка жизненного материала, можем вообще поместить идею в созерцании в оболочку таких понятий: она всегда есть то, что она есть, и все же нечто другое, она в конечном счете всегда есть порождение нашего чувства, она всегда вырастает из материнской почвы общего восприятия жизни. Идеи, как и все связанное с культурой, — выражение чувства, не абстрактное общее понятие, а совершенно конкретная вещь. Это, можно сказать, те самые конкретные вещи в жизни, которые имеют значение всеобщего, не только как нечто фактическое, которым обладает и каждый значительный биологический факт. Мы ощущаем их как ценность, ради которой мы любим жизнь и историю, ибо они
628 Историко-соцдкхпогическое видение культуры
представляют в ней нечто большее ее самой, то, благодаря чему и сами мы можем стать большим, чем мы есть. Задача социологически ориентированного культурологического исследования состоит ныне в том, чтобы объяснить из жизни динамическое вырастание конкретностей, которые мы обозначаем как культуру; их сущность и понятийная установка по отношению к прочим фактам жизни уже описаны. При этом должны быть очевидны ее сущностная основа, возникновение и динамическое значение чувства жизни, совершенно конкретной почвы, на которой все эти вещи произрастают. Этим должно будет заниматься каждое социологическое культурно-теоретическое исследование. Мы не можем больше следовать за материальным направлением в теории культуры при существующем понятийном разнобое. Остается еще сказать следующее. Как бы ни сложилось ощущение времени, ощущение творческого духа этого времени, из скольких различных компонентов оно бы ни строилось, а в действительности оно строится всегда из многих старых и новых компонентов, один его компонент должна составлять природная жизнь, к которой оно непосредственно относится, в которой оно возникает и которая участвует в его создании, и оно всегда будет новым и иным, вместе с изменением жизни. И таким образом из каждого изменения жизни, из которой оно вновь вырастает и к которой оно относится, должна возникнуть новая задача возвысить его от бесформенного состояния, в которое оно вновь попало, до другого — оформленного и культурного.
Жизнь меняется. Это вызывается уже ее биологической природой, стремлением экспансии сил, действующих в ней и создающих бесконечный круговорот народов, государств, классов, семей и отдельных людей. Это вызывается также уже упомянутым, всегда прогрессирующим процессом интеллектуализации и цивилизации, который непрерывно придает этому стремлению к экспансии сил новые формы рационализации и новые возможности деятельности; этот процесс непрерывно сдвигает условия отдельных областей жизни в их борьбе, меняет реальное положение и соотношение сил, непрерывно сдвигает общие предпосылки внешнего бытия, преобразует общий взгляд на жизнь извне, подобно тому как он в своем внутреннем развитии непрерывно трансформирует и воззрение на мир изнутри, бытие, как оно созерцается изнутри. Фактически мы пребываем внутри процесса, который все время длится, где быстрее, а где медленнее, в некоторых моментах истории и Земли как будто непрерывно, в других — вероятно, только с перерывом в тысячелетия, но всегда мы перед новым бытием, перед новой субстанцией, которые мы должны выразить в образе. Стремление выразить их в образе, сколь бы сложно оно ни было
Альфред Вебер. К вопросу социологии rocyiapciBa и кулыуры 629
в своих истоках и оттенках, стремление, формируемое (оставляя в стороне непосредственно пережитое и созерцаемое бытие) меняющимися склонностями людей, культурными, религиозными, метафизическими основами, которыми обладает любое время, а свое собственное особенно, — перед ним новое бытие и ставит новые задачи в обновляющемся времени.
Очевидно, культурный процесс может, с этой точки зрения, и не быть процессом развития в обычном смысле, в нем не заложено материально данное последнее содержание, нет содержательно поставленной последней цели в себе, он не стремится к раз и навсегда данной форме бытия и к последнему содержанию бытия, созерцаемому в конкретности. Его задача становится, в значительной мере в результате преобразования и прогресса самой природной жизни, всегда новой и всегда поставленной в иной форме. Его суть может быть только следующей (по крайней мере, насколько мы, люди, можем понять его путь): всегда заново пытаться поднять в вечном потоке бытия эту жизнь до вечности и абсолютности; мы ощущаем, что они вознесены над жизнью и все-таки находятся в ней, и поднимаемся до абсолютности, ибо наше культурное чувство и действие не имеют ничего общего с относительностью, они стремятся к вечному. Но возвышенное, прекрасное и доброе или то, что мы при этом хотели бы считать истиной, есть не материально раз и навсегда данное, это — диадема, к которой мы прикасаемся и которую любое время пытается водрузить себе на голову; каждый раз она сияет не только над совсем различными ликами, но и сама всегда иная, и это разным временам удается понять по-разному. В этом нет прогресса.
Утверждали даже, будто условия для такого понимания, для преобразования представления о вечности в нашей жизни становились все хуже; трагичность культурного процесса состоит якобы в том, что мы, пытаясь воздействовать на формирование культуры, привносим тем самым в жизнь объективации, которые нас самих, в конце концов, разрушают, потому что они обрезают бытие по своим собственным законам, и ему мы должны подчиниться вместо того, чтобы воплотить его в образе. При этом большая часть попавших в поле зрения объективаций (государство, право, экономика и все другие формы общественных институтов, которыми нам надлежит наполнить нашу жизнь) являются прежде всего продуктами процесса*цивилизации, чисто биологическими образованиями. Это не объективации культуры, они созданы и сохранены стремлением к существованию, его расширением и его борьбой, от него они получают подлинный первоначальный, внутренний и необходимый образ, и от тех средств, которыми оно пользуется для своего
630 Ис1х>рик<ьс<)циа1огическое видение кулыуры осуществления, образованных посредством интеллектуализации. Эти объективации и построение жизни общества, совершенно произвольно таким образом помещенное в бытие, становятся предметом (так как культура означает придавать жизни форму), которому культура придает свой образ, становятся, возможно, величайшим, важнейшим, во всяком случае значительным, предметом. Тенденции цивилизации и цели культуры сталкиваются в своих требованиях и встречаются в них. Без сомнения, нужно считать громадным счастьем возможность формирования образа времени, если общественные образования не настолько фиксированы создавшим их стремлением к жизни, чтобы затруднить их переработку в форме культуры. Это было счастьем всех ранних времен, которые еще обладали более слабой рационализацией и потому в известной мере — не застывшими пластическими созданиями цивилизации. Сегодня мы стоим перед проблемой, когда естественные основания этой биологической жизни принимают в больших областях, в экономике, государстве формы, которые структурно настолько фиксированы, что, как представляется, в них исключено всякое личное воздействие. Однако эта естественная форма не создана волей культуры, а эти объективации изначально не проистекают из нее самой, и они не превосходят простую жизнь, которую культура только должна егце воплотить в образ, точно так же в этом отсутствует и трагичность развития культуры, которое бы само себя уничтожило. Ситуация такова, будто мы для наших культурных преобразований из плодородного и богатого окружающего мира, данного природой, перемешены в бедный, скалистый, скудный неподатливый мир, с пригодной для нас земли на неудобную. В этом заключен рост притязаний к нам, усложнение задач, которые мы должны решить, и больше ничего. Но существование культуры и ее задачи в наше время от этого не зависят. В этом, быть может, состоит даже момент, усиливающий волю культуры и совершенно несомненно чувство культуры. Ибо человек, помещенный в высокоорганизованную, каменную, скудную, наполненную машинами среду нашего сегодняшнего бытия, является, как любой из его предшественников, не только исчисляющим и волящим, но и чувствующим субъектом, он, как любой другой, преисполнен метафизическим стремлением преобразовать это бытие, чтобы оно стало единым с его чувством. Чем менее это чувство обнаружит сегодня в природных формах бытия удобный для себя материал, чем больше они ему сопротивляются, тем более мощно это чувство перейдет в потребность культурного преобразования этих форм, тем более подчеркнуто оно должно ценить все культурные явления и с тем большей ясностью оно снова поймет специфическую природу всего связанного с культурой. Мы
Альфред Вебер. К вопрос}’ социологии государства и культуры 631
ощущаем это сегодня повсюду. Если, однако, мы в глубине души, наконец, вновь узнаем, что вопреки обывательскому, свойственному цивилизации обожествлению интеллектуализма и форм его существования культуру создает наше чувство, когда мы познаем, что игнорирование этого факта было основной опасностью прошедшего и настоящего времени, когда мы постигнем, что из-за смешения нашего метафизического чувства с ratio, или разумом, мы стали считать чисто технические средства жизни и их понятийные образы ее высочайшим содержанием, что этим история поставила нас на колени перед фетишами не живыми, а мертвыми, тогда опасность, что мы будем задушены этими фетишами, будет преодолена, ибо тогда мы, действительно, могли бы сказать им, познанным нами: «Прислуга, выйди вон!» Когда мы переживем образование новых внутренних понятий, которое вместо рациональных, для внешней жизни необходимых общих представлений и понятий, наполнит нас конкретными значениями всеобщего, символами чувства, тогда, исходя из них, поскольку всякая внешняя форма бытия всегда есть только проецированный вовне внутренний мир, и наша слабость состоит сегодня в том, что мы еще не содержим в себе надрационального внутреннего мира форм, то, говорю я, тогда мы преодолеем этим новым миром форм и внешнюю форму, мир современной механизации, преодолеем в культуре.
Если же конструировать периоды развития культуры, то было докартезианское время (сколь несомненно в нем еще существовали следы схоластики!), в котором создаваемое в культуре образование понятий было еще вполне конкретным, рационально не разложимым, внутренняя жизнь была полна образов и, подобно языку, полна картин; внешне воспринятая, она полностью сохраняла внутренне прочувствованную форму, преисполненную живой крови, как каждое слово Шекспира или каждое изваяние Микеланджело; затем наступило картезианское время, в котором вследствие внутренней рационализации и обобщения все потеряло свою окраску, каждый внутренний образ медленно улетучивался, а внешний - приобретал общую форму; это продолжалось столь долго, что, в конце концов, внутренне система сложилась из мертвых формул, а вовне мир - из пустых механизмов. За этим последует посткартезианское время, за рациональным - постра-ционалыгое время и период культуры, когда еще будут познавать и использовать эти формулы и механизмы, но когда мир полнокровной действительности, создаваемый извне, несомненно, также и этими формулами и механизмами, но внутренне основанный на совсем иных принципах, этот иной мир составит наше внутреннее содержание. Гак же как Декарт пережил тот день, когда
632 Историко-ст цюлогическое видеине культуры
он понял, что он разрушил свой старый внутренний мир и должен заменить его другим, и каждый из нас переживет день, когда начнет строить в себе новый мир.
Социология культуры и истолкование смысла истории
Существует такой подход к миру, природе, жизни и истории, при котором пытаются постичь за предметами и процессами их «смысл», пытаются понять этот «смысл» не в предчувствии и интуитивно как нечто невыразимое, а как отчетливое знание, как нечто, подлежащее выражению. Следуя ему, мир должен быть, по крайней мере в своем центре, интеллектуальным духом, Логосом, от которого проистекает эманация, к которому приближаются и который доступен до последних глубинных оснований, до центра: благодаря человеческому интеллекту его можно постичь и подчинить. Там, где религиозное мировоззрение обретает «Бога», для этого подхода обнаруживается нечто духовное, идентичное по виду и структуре человеческому духу и потому доступное ему для понимания и ясное в своих путях. Познание, что для такого видения означает пребывать в средоточии мира, есть спасение от чисто фактического бытия. Такое видение со всей совокупностью своих ценностей будет двигаться лишь по плоскости за миром явлений, будет пытаться постигнуть и истолковать многообразие вещей с находящихся за этими вещами позиций; оно будет оценивать исторический процесс как своего рода «духовное» продвижение и почти неизбежно оценит его как «прогресс», т.е. как развитие, допускающее свое освещение рациональностью с подчеркнутой ценностью движения к цели. При таком подходе отдельное явление подвергается опасности утратить собственную ценность и уступить ее познаваемому «смыслу» целого. Абсолют постигается этим подходом вне дистанции, прямо и полностью может быть выражен в слове.
Этот абсолют для иного — второго — подхода к бытию как целостности мирового и исторического процесса непостижим для человеческого рассудка, непонятен и как некий доступный «разум» вещей. «Об абсолюте в теоретическом смысле говорить невозможно» (Гёте). «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути»2. Это относится ко второму видению мирового процесса, даже если не связывать с этим религиозный подход, в сфере которого возникли приведенные слова. Категории рассудка и разума человека, сложившиеся в узких рамках его существования, не адекватны мировому процессу и его сущности и не поднимаются до него. Они настолько же не способны понять «смысл» мира как целого, на
Альфред Вебер. К вопросу социологии юсударства и кулыуры 633
сколько наши категории созерцания не способны охватить универсум в пространстве и времени. Задавать вопрос о смысле мирового и исторического процесса для человеческого рассудка есть «сверхсмысл». Все, что исходит из последней и самой глубокой сферы бытия и связывает человеческий разум с ней, доя человека - «судьба». Мостом к этой «судьбе», которая не может быть «понята», служит только чувство, душевная связь. Она — единственный путь к трансцендентному. Этот подход к бытию, если он не становится верой в откровение или не может ею исчерпаться, должен искать абсолют и спасение от чисто фактического в ценностном мире абсолюта, там, где есть непосредственная духовная связь с абсолютом, т.е. там, где он «трансцендирует» в явление. В явлении абсолют трансценди-руется в доступной для человека форме там, где он принимает законченный облик, постижимый образ для глубочайшего духовного стремления человека, благодаря которому он чувствует себя единым с вечностью. Абсолют как таковой может транецендироваться в возвышенное, святое, прекрасное, в каждое идеальное, каждый великий и совершенный образ. Человек, обладающий таким подходом к бытию, держится этого образа абсолюта. Образ является для него в преходящем мире подобием и ликом абсолюта.
Я готов принять этот последний подход и спрашиваю, какая жизненная позиция следует из него в то время, когда в собственной сфере культуры каждый духовный образ современности представляется распавшимся, когда прежние более ранние формы выражения стали опустошенными и чуждыми; во время, когда духовный образ к тому же утратил наивность и непреложность в качестве формы выражения, когда «явление», в котором абсолют и вечность зримы, проникает в неслыханном многообразии всех периодов времени и всех областей в пространство опыта и жизни и нас окружает мир символов истории как огромный полифонический хор, когда, следовательно, явление абсолюта уже релятивируется, а сам абсолют тем самым кажется для человеческого восприятия устраненным, если не пытаться вернуться на путь первого подхода, отклоненного как невозможный, если не пытаться осмысленно понять абсолют в его сущности и существе посредством собственного трансцендирования за пределы явления. Разве это время путаных форм, пансциентизма и панисторизма, если оно не станет метафизически панлогистским, не завершится необходимым образом душевным и духовным релятивизмом, психической отчужденностью, личной неразборчивостью и всеядностью, бесхарактерным колебанием и слабостью и, следовательно, - легитимированием всеобщего распада формы?
На этот вопрос, который все время ставится и должен ставиться постоянно, есть только один ответ, который в конеч
634 Историк<>-социои1огич1ч.'кос видение кулыуры
ном счете полностью коренится в личном переживании. Но этот ответ может быть применен и к общему и ведет к следствиям духовно-познавательного характера, на которых я считаю нужным остановиться.
Возникающим когда-либо в релятивистской запутанности, множественности и внешней размягченности из личного переживания, для каждого, кто проверяет себя, ответом о существующей еще опоре служат верные, мудрые слова Гёте о непреложности «собственного закона»: «Да, только так — и отступить нельзя» («Таким ты должен быть, от себя ты убежать не можешь.’»). Сущность того, чем человек является, предначертана. Но понятое однажды, это относится не только к индивидууму, который непосредственно это переживает и для которого это отлито в слово, но и совершенно в такой же степени к временам и культурам. Ведь только кажется, что, стремясь узнать и понять существование других народов, прошедших времен и их образ, можно потерять себя. В действительности у этих народов заимствуют только то, чем уже виртуально располагают. То обстоятельство, что мы колеблемся между этими временами и народами и ощущаем «относительность» адекватного выражения собственного бытия, на которое можно ориентироваться, и данного нам подобия и символа, в котором мы видим и представляем вечное, означает, что мы живем в период собственной неспособности выразить бытие и мучительно ищем спасения в чужом выражении. Именно это, а не многообразие и полнота явления есть причина мнимой релятивизации, под которую подпадает и абсолют. В действительности и тогда чуждое выражение бытия не постигается в своих глубинах. Оно остается адекватным выражением существования только других народов и времен. Это не делает его менее абсолютным, но именно благодаря этому оно становится таковым. Ибо только в конкретной (в недоступной глубинной чужой сущности) исключительности форм индивидуальных существований народов и времен проявляет себя абсолют на земле. Во всяком случае, для того типа людей, которые способны видеть абсолютное только в «образе» и которым недостаточно созданной для этого интеллектуальной формулы.
Итак, релятивизм нашего панисторического и пансциентистского времени есть не что иное, как симптом собственной слабости, симптом отключенности от способности к выражению в образе и отсюда - от способности жизни в абсолютном. Поскольку мы по какой-то причине не можем в выросшем на собственной почве образе представить и увидеть вечное, мы блуждаем на поле сражения всех времен и народов и, замерзая, укрываемся то в обломках образов чужих богов, то облекаемся в их одежды.
Лльфре,! Вебер. К вопросу социологии государства и культуры 635
От этого состояния время ищет каким-либо образом пути спасения. И оно обрело бы эти пути, если бы ему была дарована возможность создавать символический образ. Пока ему это не дано, оно с отчаянием вопрошает: «Каковы условия этого? В чем причина Каиновой печати собственной отверженности, каково основание большей силы других времен и исторических образований?» Однако внезапно все эти чудесные образы других народов, служившие до тех пор средством душевного переоблачения и страстной мимикрии, превращаются в нечто иное. Из суррогата переживания они сразу же становятся материалом познания, на который мы пытаемся ориентироваться. И в этот момент возникает то, к чему я здесь вкратце подводил, - новая наука, вырастая повсюду тем или иным способом из этого основного переживания, одновременно воспринятая учеными и обычными людьми, поглощая весь материал истории и познания современности, пытается найти ответ на вопрос об условиях образования символов на земле, о закономерностях возникновения освобождающего мира явлений. Безразлично, как ее называть - социологией культуры, морфологией культуры или любым другим образом. Она ждет от истории и мира образов человечества нечто подобное тому, что Гёте в свое время ждал от истории природы3. Социология культуры стремится взорвать границы «линнеевской системы», системы только фактического, разложенного по полочкам бытия бесконечного мира исторических явлении, найти связующее нечто, из которого мир прорастет в своем многообразии; она стремится созерцать его субстанцию как бы еще текучей и связанной, понять, исходя из этого, условия его различных кристаллизаций и таким образом обрести ключ к его многообразию, к его формам движения, к его периодам упадка и взлета, к ответу на вопрос о судьбе, о котором я уже говорил.
Эта установка не является философской. Она не представляет собой попытки вывести из лежащего за пределами вещей понимания «смысла» движения истории феноменологию бытия. Это означало бы упомянутым выше способом подходить к проблеме, исходя из понимания Логоса в его отношении к бытию. Здесь же мы сознательно придерживаемся переживания образа как последнего нам доступного, придерживаемся факта пребывания человеческого познания в состоянии плененности и связанности с явлением. Толкование здесь может следовать лишь эмпирическим и интуитивным путем от явления переднего плана к явлению в основании, от эпифеноменов к протофеноменам, от сложного образа к простому. Таков путь Гёте, которым он шел в исследовании природы; мы здесь избираем этот путь для истории.
И что же окажется на этом пути? Он полностью лишен дополнительного видения и антиципации даже в самых читаемых новых
636 Историко~социолопг1еское видение культуры
книгах, которые хотят представить свои результаты, но именно в них, как я полагаю, он и не был пройден. Если охватить, следуя этим путем, развитие человечества в целом, а без этого нельзя на него ступить, он открывает почти безграничные перспективы. Но не эти перспективы, а понимание совершенно конкретных высоких и глубоких периодов человеческой истории, появление завершенных образов и великих людей в совершенно конкретных исторических условиях и временах - именно это он должен предложить в качестве ответа на вопрос о жизни, который от него требуют. Преждевременный ответ на этот вопрос был бы гораздо хуже отсутствия ответа; каждый ответ должен предполагать понимание невозможности составить гороскоп будущего. Никогда это не сможет быть каким-либо эмпирическим рассмотрением прошлого. Оно всегда может показывать только единичное и неповторимое в каждой, в том числе и современной ситуации, только определить место, на котором мы находимся в общем историческом процессе, помещая в его необратимое и огромное единство как все остальные процессы истории, так и современный процесс. Что произойдет с нами — эмпирическое рассмотрение сказать не может, но может, вероятно, дать нам предчувствие наших возможностей и задач, рисуя картину грандиозного потока, в котором мы движемся и который в своем течении обусловливает наше воление и ограничивает его.
Так оно и есть; не пытаясь предложить здесь большее, можно указать, что первый результат даже при самом поверхностном обращении к новому пути показывает нам единый процесс цивилизации человечества, который протекает в истории, рассмотренной как единство, и логически в ней продолжается. Процесс цивилизации есть восхождение по ступеням внутренне связанного интеллектуального космоса практического знания и зависящих от него средств и методов внешнего оформления бытия и господства над природой, теоретического понимания и данного тем самым непрерывного построения образа мира и образа «Я» (Ichbilds); есть процесс озарения сознания и проистекающих из него растущих духовных форм овладения бытием. Этот космос есть Нечто, представляющее собой для человека, где бы он ни был, предсуществующий мир, все более открываемый им в ходе истории, который в этих своих уже открытых частях переносится на все человечество, привносится в его существо! ^ание, расстилается, как обширное духовное и материальное междуцарствие знаний и предметов между человеком и природой. В едином потоке истории все то, что в философии говорится о прогрессе человечества, но без акцентирования ценности, рассмотренное чисто фактически как феномен, воспринимается, если вообще облечь это в человеческое чувство, как судьба, которую человек
Альфред Вебер. К вопросу социо. ioi ми государства и кулыуры 637
принял своим деянием Прометея: при этом нельзя решить, если исходить из его сути, во благо это или во зло.
И тогда в этом потоке развития и его продолжающегося движения новый взгляд усматривает обособленные друг от друга большие исторические массивы человечества. Они возвышаются в нем как особые образования со своей собственной судьбой, растут, стареют и исчезают. Эти исторические образования строят свои формы обществ при помощи средств, которые предлагают в каждом данном случае общий поток цивилизации, его уровень, высота его развития. Они строят эти формы соответственно своим особенным географическим и климатическим условиям, движению их исторической направленности и развивают их, следуя их особой судьбе, таким образом, что происходящий в них «общественный процесс», как мы его называем, действует в каждой из них по собственному закону, хотя в большинстве из них и обнаруживаются в значительной степени повторяющиеся типы рядов и форм развития.
Но этот общественный процесс, как доказывает новый взгляд на историю, состоит в определенном динамическом взаимодействии со всеобщими духовными преобразованиями, которые вызывают проходящий через все массивы истории и поднимающийся в них процесс цивилизации. Эта динамика служит основой формирования и дальнейшего движения некоего третьего - культуры, выражение и характер которой полностью заключены в отдельных исторических образованиях и зависят от их судьбы, опираются на стремление в этих образованиях выразить духовное; и следовательно, материально-общественный и духовно-цивилизационный «синтез жизни», который в них присутствует, составляет только субстанцию, материал; его надлежит формировать, исходя из духовности, и, насколько это возможно, возвысить до символического образа.
И если удастся это символическое воплощение в образе, если оно поднимется до трансцендирования вечности в абсолюте в особом материале, в особой форме выражения того или иного исторического образования в то или иное время, воплотится в этом времени в творении или личностном образе, — на этот судьбоносный вопрос, из-за которого и был пройден весь путь, и должно ответить это новое учение на основании бережного и внимательного исследования всего исторического материала. Инструментом для этого моЖет послужить то, что я здесь пытался показать. Совершенно очевидно, что нужно исследовать каждое историческое образование, его различные периоды и социологическую констелляцию в нем, противопоставленность характера и уровня формы общества и его движения, развитие цивилизации и культурного
638
Истирико-социологическос видение кулыуры
воления, чтобы уяснить и истолковать периодичность и ритм движения культуры в них. Таким образом, если достаточно далеко проникнуть и свести исследуемые потоки к настоящему времени, то, вероятно, можно сообщить и современному обществу предчувствие его культурной ситуации и его задач.
Следует подчеркнуть: если все то, что утверждают о человеческом прогрессе, является для упомянутого развития цивилизации непрерывным процессом продвижения интеллектуально определенных форм существования человека, в культуре как в сфере духовно абсолютного прогресса быть не может. Здесь существуют только удача и неудача, периоды взлета и падений, в зависимости от того, как будет переработан материал существования и в той или иной форме обретет символический образ, обращенный к миру или отвращенный от мира, художественный или пророческий. Пессимистично это лишь для того, для кого в переживании завершенного явления не исчерпывается смысл бытия, кто принужден искать постигаемый при помощи системы понятий стоящий за ним логический смысл. Для любого другого это учение утешающе, ибо каждый новый жизненный синтез ставит и новые задачи воплощения, предлагает новые возможности «прорыва в образ», трансценденцию духовного в явлении.
Часть II
Осколки идей
Культурный тип и его превращения
Я не знаю, осталось ли еще у образованного человека наших дней ощущение того, что он «формирует» культурный тип своего времени, и какой облик он ему придает; сохранилось ли в нем еще что-то от того упоения и сознания высоты, с которыми его «предок в истории», человек ренессансной культуры, осуществлял это «формирование себя» в том смысле, что он осознанно придавал себе форму и этим давал образец для других; сохранилась ли в нем еще искра видения себя «человеком как творением искусства», той прекраснейшей реликвии Ренессанса, которую донес до нас Буркхардт, не заслонила ли ему взор полезность, а точнее — банальная функция предпринимательства, до которой деградировала так называемая образованность, с тех пор как современное бюрократическое государство сделало ее предпосылкой «профессии» и «положения»; не закрыла ли эта функция предпринимательства своей широкой те-
Альфред Вебер. К вопросу социологии государства и культуры 639
нью взгляд на высокие черты становления своего образования. Я не знаю, как с этим обстоит дело, хотя сегодня я опасаюсь худшего для Германии с ее утилитарностью, ее ярко выраженным инстинктом к духовной разменной монете. Но как бы то ни было, пусть даже подлинная функция образованности совершенно скрыта для массы образованных людей, сегодня важно, как образованный человек «видит самого себя», его представление о том, что он должен из себя сделать; его культурное сознание в наши дни имеет то же фундаментальное значение для культуры народа, как и прежде. Культура создает усредненный культурный тип народа; сегодня она создает его посредством отчасти иных, прежде всего более сложных каналов: не посредством простого подражания, а при помощи таких средств, как пресса, в совершенно иных организациях, отличных от прежних. Однако и сегодня, как и прежде, культурное осознание образованным человеком самого себя фактически является массовым основным элементом всего развития культуры, почвой, на которой насаждают новые идеи и объективации и которая должна их питать, чтобы они обрели живое значение для своего времени.
Мы, немцы, вступили в XIX в., оснащенные самосознанием универсальности и глубины, в чем, без сомнения, могли бы нам позавидовать многие времена и пароды, не сумевшие этого достигнуть. «Век бездействия», как назвал его Бисмарк, из которого мы вышли, сообщил нам способность к самоанализу, возможность открывать в глубине нашей души и миры и их противоположности, соединять с ними общекультурное содержание истории человечества - талант постигать вещи изнутри и одновременно дистанцироваться от них и от самих себя, который, если мы обнаруживаем его в переписке того времени, повергает нас в изумление, как некий странный, чуждый мир. Нет сомнения в том, что в начале XIX в. образованный слой нашего народа состоял из людей не только всесторонней образованности, но и из людей, у которых элементы культуры проникли в личность и характер, в психике которых они открыли глубину, оформили образ, сгладили противоречия и обнаружили невероятное духовное богатство. Пусть «романтический тип», созданный тогда, был крайне беспомощным в своем отношении к действительности, прежде всего политической, пусть, чувствуя огромное культурное богатство прошлого, которое он мог ощущать во всей полноте и с величайшей интенсивностью, он отрицательно относился к демократическим упрощениям своего времени и был, следовательно, на практике в основном реакционным, т.е. неплодотворным. Но так же как он открыл прошлое и все его величие, он, остро ощущая внутреннюю связь всего человеческого, почувствовал и «всесторонность» как нечто необходимое и в конце концов действительно «от
640 Историко-социолопр|еское видение культуры
крыл» политику, которая для прежних времен была еще «трансцендентальным» явлением. От этого универсального и одновременно дифференцированного типа, того типа, которому удалось создать из образованного человека Германии - о, чудо природы и небес! -подвижного, духовно богатого и склонного к юмору человека; от него и присущего ему сознания культуры мы прошли вплоть до сего дня чрезвычайно странное развитие продолжающегося овнешнения и упрощения, чтобы не сказать, примитивности. Это еще не ощущается в возникающей затем форме, в младогерманском типе. Ибо, хотя он и утратил многочисленные фантастические покровы предшествующих периодов и именно поэтому яснее увидел действительные вещи, увидел их так он ценой обеднения своего внутреннего мира. Он еще использует все богатство имеющихся элементов культуры для воплощения внутреннего мира в образе. Как романтик он егце чувствует неизбежные, нои углубляющиеся антиномии, которые возникают при этом; его сознание остается сложным и поэтому культурным. Но как прост уже немец 1848 г., который появляется, когда политические проблемы становятся практикой. В нем сомкнулись все эти расселины внутреннего мира, которые были разъяты в романтике страстной рецепцией всех достигнутых элементов культуры, перед глубинами которых он стоял в удивлении, порой и беспомощно. Это покрылось корой. И когда исчезло все многообразие личности, мы стали ощущать человека, находящегося перед нами, сквозь облака его прекрасных словесных излияний все-таки поверхностным; мы невольно видим его как бы раздвоенным: одна половина обращена к общественному существованию, в котором правит честно понятая либеральная идея, другая — частная, которой правит в целом лишь литературно понятый (уже не формирующий личность) идеал «классической образованности», погруженный в атмосферу буржуазного семейного чувства; это - человек, «способный, правда, любить», но не решить хотя бы единственную из наших важных проблем культуры, потому что он больше не чувствует их сущности.
Отодвинем перспективу несколько дальше. Мы стоим перед невероятным превращением и перед возникшим из него типом, который — можно с уверенностью сказать — создан Бисмарком. То, что с нами произошло, можно выразить следующим образом: па обеих сторонах нашего существования, общественного и частного, как бы переворачивается «вывеска» с надписями, и на политической стороне вместо либерализма появляется консервативный оппортунизм, а на стороне личного существования вместо надписи «идеалистический» — «реалистический», т.е. непосредственные жизненные интересы. С тех пор мы претерпели не толь
Альфред Вебер. К вопросу со1щологпи государства и культуры 641
ко овнешнение, но и новое упрощение. Ибо с «идеализмом» были утеряны и остатки нашего старого мира идей, его культурные проблемы и видение личности, его мышление и творчество; перед глазами возникает удивительный мир, очищенный от наслоений прошлого, где действует энергичный, способный организатор, неогерманский реалист, больше не томимый укорами и сомнениями, физически и духовно «коротко подстриженный», «ревар-варизированный» человек, как с болью назвал его Моммзен.
Но и это еще не конец. Сегодня мы видим перед собой нечто иное; ведь этот бисмарковский тип обладал хотя и упрощенно ориентированным, но чрезвычайно сильным чувством общности. Государственные установления, которые он воспринимал как образ организации национальной власти, были тем, чему он отдавал часть своей энергии и своего интереса с такой же очевидностью, как это делал предшествующий либеральный тип, борясь за свободную личность и национальную культуру. И пусть он был только стержнем без всяких более тонких ответвлений, но этот стержень всегда состоял из двух сторон: публичной и частной. Но интерес к государственному был связан с успехами нации. Они давно прошли. Из-за отсутствия новых успехов этот интерес ослаб. Тем самым мы оказались перед последним решающим изменением. Общественная сторона нашего культурного типа ослабевает. Он превращается в тип чисто «делового» человека в экономической или любой иной профессиональной жизни - это безразлично. В политической реальности он доходит до крайности - он хвастает, что научился этому у Бисмарка, — но его «реальная» политика в сущности применима только для господства над ближайшими к нему вещами, в конечном счете - для его личных и самых личных интересов. Предшествующий тип еще обладал величием, а этот мелок, иногда даже банален. Люди такого типа вырастают сегодня вокруг нас как грибы, они - последний замечательный продукт нашего векового «развития». Этот тип так прост и ограничен, что он оказался даже не в состоянии протолкнуть воды нашей национальной культуры сквозь шлюзы своей сузившейся психики. Эти воды ушли в сторону. Таким образом, мы видим сегодня, как в качестве его противоположности распространяется другой, более или менее постоянно, но в разные периоды в зависимости от состояния духовного общества д различной степени преобладающий тип «культурного» эстета. Этот тип добавляет к сознательному пренебрежению политическими и иными общими интересами, которое он разделяет с деловым человеком, еще и пренебрежение его деловитостью; не затронутый жизнью, он с гордым видом «специализируется» на заботе об утративших родину эстетических интересах. Перед нами трез
642 И cTopiiRX)-coi отологическое видение культуры
вый, ограниченный деловой человек и «культурный» эстет. Если сомневаетесь в этом, спросите у иностранцев. Они «будут полны восхищения» — обычного восхищения — нашими хозяйственными добродетелями, нашим прилежанием, нашей энергией, нашим организаторским талантом, нашей надежностью, дисциплиной и т.д. Но, услышав вопрос, заметили ли они что-либо более высокое, они приходят в смущение и, если они честны, отвечают как некий знакомый мне русский: иностранцу иногда кажется, будто у современного немца пропало четвертое измерение. И этим совершенно верно обрисована одна сторона процесса. К этому следует лишь добавить, что сегодня, когда у нас все специализировано, это оставшееся бесприютным четвертое измерение также имеет своих представителей, у которых, однако, обычно отсутствуют три остальных.
Без всякого сомнения, развитие, завершившееся этим состоянием, было неизбежным и необходимым не только в смысле чисто внешней причинности, но и в более широком смысле: целеполагания, которые в конечном счете его создали, мы даже не в состоянии были отклонить. Обладая тесным географическим пространством, мы не могли, как только наше население стало быстро расти, не отдать предпочтение экономическим целям перед всеми другими, не могли не стать народом, вынужденным отдавать свою энергию работе и ее оценке; и до тех пор, вплоть до сегодняшнего дня, он должен действовать таким образом, пока не займет прочного места среди других наций и не обретет определенной экономической задачи. Ибо природа дала ему среди них только маленький pied A terre4’, на котором он должен искусно возводить выступающие друг над другом этажи. Нам было дано сделать только организацию, дисциплину и т.д. преимущественно господствующими факторами всей нашей общей жизни. Ибо верна часто повторяемая мудрость, что в нашей международной ситуации мы можем сохранить подлинно самостоятельное государственное существование только с помощью строгой организованности. И поэтому, поскольку мы были здоровым народом, понимающим, в чем сто жизненная необходимость, ценность всех упомянутых качеств реалистической деловитости должна была продолжать расти, а конституированный этими качествами тип все более выступать на первый план. Превращение, о котором здесь говорилось, есть только маскировка этого необходимого процесса.
По мы должны сказать, что необходим он был к сожалению. И настало время, когда мы должны переосмыслить это «к сожалению». Ибо если бы сказанное исчерпало положение вещей, дело обстояло бы не так дурно, как оно обстоит в действительности. Тогда мы были бы народом, который с гордой высоты духовно
Лиьфрсл Вебер. К вопросу социологии государства и кулыуры______643
го преобладания, где он находился в начете XIX в., упал до уровня экономически полезного и политически уважаемого члена международного сообщества. И мы могли бы с честной скромностью утешиться этой простейшей ролью как вполне достойной. И все же дело заключается совсем в другом. И подобно тому как каждый тип образованного человека вызывает подражание и распространение - ведь отчасти он для этого и существует- и как вследствие этого всегда рядом с ним возникает его тень, которая может быть его карикатурой, и в каждом случае полностью показывает присущую ему ценность или ее отсутствие, так, конечно, имеют тени и оба типа, которые у нас распространены. Только по теням, которые они бросают на нашу жизнь, мы можем оценить полное культурное значение этих типов. А эти тени следующие: есть тип «поверхностного эпикурейца», который распространился в реалистической атмосфере полезности чисто деловой и профессиональной специализации; есть тип «аристократического болтуна», который пребывает в атмосфере культурного эстетизма. Не стоит говорить о последнем, ему просто нужно надеть шутовской колпак. Но вот первый... Это буржуазный массовый тип, опасность производить который нам сегодня грозит; его появление объясняет то, что сегодня за границей нас начинают «презирать», - спокойно скажем это, хотя это и больно. И в самом деле: достаточно взглянуть на тип людей, который мы каждые полгода в сезон путешествий отправляем за наши границы, достаточно взглянуть на него там, где его характерные контуры выделяются на фоне чужой среды и рядом с типами других наций; достаточно почувствовать с внутренним ужасом, каковы эти контуры среднего человека, как они прорисованы при помощи комбинаций ярко выраженной тяжеловесности с примитивностью и грубой надменностью, при помощи соединения абсолютной тривиальности внешних и внутренних проявлений с ужасающим умением придавать большое значение мелочам жизни и материальным удовольствиям. Достаточно это ощутить, и мы «поймем» и не будем больше удивляться тому, что сегодня француз в новой, столь восхваляемой книге, в которой он любезно хотел «приблизить» современную Германию своим соотечественникам, предлагая им, как наши само собой разумеющиеся признаки, «материализм нашей расы, нашу любовь к еде и напиткам, недостаток тонкого чувства, наш бесполетный реализм в любви». Человеку, который пишет нечто подобное, мы скажем, что он еще не научился различать у нас повара и официанта, что ему следовало бы еще лет 20 подождать, прежде чем ему станет ясно, что немец и немецкий парвеню - совсем не одно и то же. Но несмотря на это, мы его «поймем». И если мы честны, то почувствуем, что стоим на краю пропасти, что та ат
644 fici-opMKo-conngiiorHMecicoe видение юлыуры
мосфера полезности, господствующая в нашем современном образованном мире, то ставшее ограниченным культурное сознание, которое больше не освещает основы существования, чтобы отчетливее видеть его верхние пласты, то нежелание расчленять вещи на элементы собственной внутренней жизни, чтобы тем легче применять их в их реалистической предметной форме и к господству над жизнью, — что все это состояние, с необходимостью создавая у нас сегодня только деловую и профессиональную специализацию, порождает и свое эпикурейское отражение — таким образом мы оказываемся перед опасностью из-за подобной конфигурации сферы нашей образованности самим нанести на лик своего народа в качестве его постоянных признаков отвратительные черты парвеню, которые мы должны преодолеть.
Как же нам выйти из этой унизительной ситуации? Если что-либо из сказанного верно - то при помощи нового культурного сознания образованного слоя и нового видения самих себя. Разумеется, научить этому нельзя; и новый тип, который нам нужен, не возникнет из описаний и менее всего из сочинения какого-нибудь профессора. Он должен быть прочувствован, увиден и пережит. Столь же справедливо, что он не может возникнуть без уяснения определенных вещей, исходя из которых мы вообще только и можем достигнуть нового самосозерцания и которые вообще являются решающими для возможности «пережить» новое. Это не может возникнуть без осознания безграничного внутреннего обеднения, куда привело нас развитие XIX в., без страстного желания выйти из этого, без сознательной воли вновь впитать в себя потерянные и расчлененные элементы нашей культуры, прибавить к ним новые, действительно превратить их во внутренние факторы нашей способности воплощения в образе и на основе реализма, который погружен в новое созерцание общности, привести от нового центрального пункта к новому синтезу. Если мы сообща поймем это, то мы достигнем уже многого. Придут люди, которые помогут нам в этом. Но до той поры достаточно, если поле нашего самосознания, как сказала однажды Рахель Варнхаген, мы будем «удобрять отчаянием» в той мере, насколько оно подлинно.
Дух и политика
Я не буду говорить о духе Локарно. Я не говорю и о какой-либо другой конкретной форме, в которой столь подвижное, непостоянное и вместе с тем такое серьезное творение (Geschopf), как дух, могло коснуться каким-то образом этих хладнокровных, трез
Альфред Вебер. К вопросу социологии государства и культуры 645
вых государственных мужей нашего времени, должно было бы коснуться или даже коснулось. И подойду к этому вопросу совсем как это сделал бы профессор. Я спрашиваю: «Что есть вообще дух в политике? Как он в ней возможен?» Но я говорю об этом только в практическом смысле, не теоретически.
У нас в Германии стало до какой-то степени избитой истиной, что политика и дух, а дух здесь понимается только как некий компас, который руководит нашим существом, в наши дни, если оставить в стороне случайные встречи, имеют мало общего, что наши политические вожди не являются духовными вождями, наши духовные вожди не занимаются политикой, а если это иногда происходит, то во времена волнений они ставят на карту даже жизнь. Некий рок словно отделяет духовное от политики и политику, поскольку она должна быть действенной на практике, снижает до уровня делового умения, ловкой хитрости и обоюдного обмана.
Сегодня так чувствует, если я не ошибаюсь, прежде всего большая часть молодежи, той самой, которая после происшедшего краха стремится к чему-то ярко выраженному живому, к захватывающему и увлекающему, к настоящей духовной новизне; ей недостаточны случайные связи духа и политики, и она именно Германии бросает упрек в действительном расколе духа и политики, в глубокой слабости и закоснелости политики.
Я думаю, мы будем единодушны в том, что политика никогда не сможет быть, по крайней мере в практике современности и будущего, тем, что хотел из нее сделать Платон в своем «Государстве», - подлинным воплощением духа, формой господства мудрецов. Это было потусторонним идеалом, который этот великий человек с отчаянием создал в своей фантазии, когда стало ясно, что форма политического существования в Греции, полис, разрушена; это было попыткой представить себе, где можно поместить воплощение его идеала, дух строгой самоотдачи целому, который основан на калокагатии, и как он может создать форму политической общности; это была сознательная утопия, позже признанная им самим таковой в процессе реалистического корригирования «законов». Дух и политика являют собой, после того как завершилось великое разделение различных сфер жизни - религиозной, политической, экономической, научной, — то разделение, которое происходило не повсюду, его не было ни в Китае, ни в Индии, ни в догреческой античности, но которое на европейском Западе в ясной и вполне определенной форме совершил Ренессанс. С тех пор дух и политика — брат и сестра, которые могут находиться друг с другом в дружбе или вражде, подобно экономике и политике, религии и государству. С тех пор речь идет о характере их
646 Исторшго-социолог1г<еское видение кулыуры
синтеза или антитезы, о том, насколько политика может возобладать над духом, дух над природными силами, т.е. прежде всего над силами политики. Всякое политическое воление - это нельзя завуалировать никаким самообманом или игрой слов — всегда имеет свои глубокие корни в «воле к власти», которая не только здесь, не только в экономических, но и повсюду, даже в самых личностных отношениях людей, всегда имеет какое-либо значение. Надо быть достаточно честным, чтобы это привить. Воля к власти - везде действующий инстинкт. Поэтому и речи не может быть, чтобы его уничтожить. Naturam expellas furce5* и т.д. Не говоря уж о том, насколько это обеднило бы жизнь. Речь может идти только о том, чтобы включить его в рамки бытия, где тогда, конечно, нечто душевно более высокое будет признано последним принципом формирования — принципом духовным.
Утверждают: с каждой политической формой неизбежно дан определенный дух, который с ней связан.
Это, по-видимому, имел в виду уже Монтескье, говоря о связи аристократии и самообладания, демократии и добродетели. Хотя, если присмотреться, здесь перед нами не констатация, а лишь духовный постулат, связанный с существованием той или иной формы. А Токвиль действительно соединил с аристократией энтузиазм, стремление к славе и блеску, с демократией - стремление к счастью, спокойную посредственность и послушание закону как необходимо соответствующие им основания духа. Таким или подобным образом с тех пор рассуждают и многие другие. Это касается нас не только потому, что сегодня на каждом шагу перед нами стоит вопрос о демократии или каком-либо другом политическом строе. Скорее, в более общем и одновременно более насущном смысле, потому что мы должны знать, придется ли нам, действительно. при определенной политической форме существования фаталистически смириться с определенным образом духа и определенной оценкой возможности выражения человеческих качеств.
Я утверждаю, что такая точка зрения неверна. Каждая политическая аристократия — чтобы все свести к простой противоположности - может с таким же успехом быть господством посредственности, бездуховной усредненности. как и демократия допускает, чтобы в ней возобладали свойства аристократии духа и чтобы она прониклась ими.
Венецианская аристократия, несомненно, одна из самых устойчивых и исключительных в истории, правившая государством около тысячи лет, была, действительно, хотя и жестокой, часто коварной, но тем не менее высоко стоящей аристократией духа, которой все время удавалось сохранять свою огромную колониальную
Л1ьфре,1 Вебер. К вопросу социологии государства и кулыуры 647
державу и свое место в мире посредством комбинации смелости, ставящей все на карту, и выдержки в сочетании с неслыханной мудростью и дипломатическим превосходством. И не случайно сегодня реляции венецианских послов служат современным историкам важнейшей сокровищницей для понимания дипломатической и собственно политической жизни в новой европейской истории, они - технический осадок высокого духовного уровня, необычайной способности этой аристократии к наблюдению и суждению при независимом обращении с фактами. Аристократия старой Пруссии (Пруссия фактически была в последнем столетии в той же мере политической аристократией, как и монархией), эта прусская аристократия, которая в начале XIX в. одновременно представляла собой и аристократию духа, и могла стать сферой рождения и носительницей романтизма, и которая позже еще в образе пиетизма заключала в себе хоть и простой, но глубокий этос, в последней четверти XIX столетия превратилась — по разным основаниям - по своей политической роли в придворную и дипломатическую посредственность; посредственность, совершенно несостоятельную перед лицом великих политических задач, которые тогда, как и для каждого времени, были и духовными; в своей посредственности, а часто и ограниченности она вызывала просто ужас благожелательных иностранных дипломатов и во многом способствовала тому, чтобы изолировать нас в Европе. Демократия Афин во времена Перикла и Кимона, когда они боролись как представители народного и консервативного течений, была также самой поразительной политической аристократией духа, которая когда-либо существовала. При этом политический характер этой демократии никак не затрагивало, что она сохраняла определенные элементы привилегий, не меняющих ее суть, и существовала благодаря деятельности рабов. Несмотря на распространяющуюся тогда в ней демагогию и невзирая на все гневные выпады современных историков по адресу ее главного представителя Клеона (лучше бы они негодовали по поводу возбудимого темперамента афинян), она оставалась такой аристократией духа еще до периода борьбы с Филиппом, до периода Демосфена. Достаточно прочесть речи Демосфена и представить себе духовный уровень, на который они были рассчитаны, и мы почувствуем, как сильно еще в этом пришедшем в упадок афинском демократическом теле пульсирует духовная кровь прежних времен. Политическая же аристократия Рима, — а таковой Рим оставался при всех государственных преобразованиях в республике, - подарившая миру в это время громадное число духовных аристократов от Сципиона до Юлия Цезаря, является, по описанию Георга Брандеса, может быть, немного преувеличенному, но в
648 Историко-сошкмюгнческос видение кулыуры
целом верному, со времен Августа консорциумом частью продажных и хищных, частью и добропорядочных, но стоически ограниченных, совсем ни к чему не способных посредственностей, хотя они в это время еще играли большую роль в политике.
А сегодня? Существуют современные демократии, в которых господствует ярко выраженная тенденция к духовному упрощению при верности нескольким сильным простым идеям в соединении с очень действенной заботой о материальном благосостоянии, о business и money making6* - известная американская смесь. Есть и другие (Франция), которые достигли вполне современной, высокой, свободной и гибкой духовности и завершенности своей позиции, такого уровня своих государственных деятелей, который вполне сопоставим с любой политической вершиной из практики прежних государственных форм и времен. А также иные (Англия), где при всех изменениях политических форм сохранился традиционный тип государственного деятеля, аристократа духа; эти деятели участвовали в принятии решений, хотя и в своеобразном смешении с часто неотесанными представителями деловых кругов, и все-таки сохраняли этот уровень.
Я не хочу пользоваться простой формулой, будто все зависит от отбора ведущего слоя и при демократии, и при аристократическом строе, ибо они могут обладать совершенно разными принципами отбора. Я не хочу следовать этой простой формуле здесь. Хотя она и не ошибочна, но, взятая сама по себе, является слишком внешней и потому недостаточной. Отношение духа к политике более сложно. Духовная атмосфера, традиции, история, сила духа, духовное воление нации в целом при том или ином способе выбора вождя имеют по крайней мере такое же значение для характера и духа, в котором представлена нация и формируется политика, как безусловно и достаточно важный, в известной степени технический, принцип отбора, внешнее формирование ведущего слоя.
Здесь речь идет о следующем: если даже кое-где технические принципы отбора, общественная структура, фактические элементы духа носят более решающий характер, то во всяком случае нет фаталистической зависимости духовного качества политического тела от его формальной политической структуры, будь то аристократия, демократия и тому подобное. Решающим является то, как духовное соединяется с политическим, а не политическая форма.
Исходя из этого, можно надеяться приблизиться к пониманию нашего положения. Прежде всего нужно беспощадно, не принимая во внимание какие-либо политические принципы, даже и принцип демократии, и — если придерживаться демократических взглядов — не нанося ей ущерба, констатировать все негативное,
Альфред Вебер. К вопросу социологии государства и культуры 649
что вообще существует в отношении между духом и политикой в современности и особенно остро ощущается у нас, в Германии. По существу это негативное хорошо известно: господство над волей к власти в политике чуждых духу экономических сил, подчинение чисто политической воли к власти бездуховному, склонному к экспансии национализму, сложившемуся на той или иной основе, искажение изначально духовных концепций и благородной национальной идеи. И тому подобное.
Ко всему тому, что существует везде, у нас присоединяется особая парализованность политического воздействием духовного. Отсутствует сплоченный слой вождей, который сегодня мог бы быть носителем еще жизнеспособной великой политической традиции, как в Англии (несмотря на все отклонения, происшедшие со времен Фокса и Питта) или во Франции, где он был необыкновенно талантливо создан в рамках Третьей республики после последнего поражения Наполеона. Именно этот новый французский слой ведущих деятелей, созданный в рамках демократии, использовав все ошибки послебисмарковской дипломатии, всю бездуховность и театральную экзальтированность наших наиболее выдающихся политических деятелей, поставил нам мат и изолировал нас в Европе, пока мы, наконец, после этого мата с нелепым грохотом не вверглись в войну. Фактически мы жили перед войной в условиях ужасного, вероятно, исторически единственного в своем роде расхождения духа и политики. У наших политических руководителей был сломан хребет чрезмерно мощной волей Бисмарка. У нас были подступы к образованию одновременно духовно и политически ведущего слоя со времени Немецкого национального союза. Этот слой в своих последних представителях, как правило консервативных, стал закосневшим и неплодотворным, надломленным и беспомощным, даже сохраняя присутствие духа и не изливая по-лакейски, как некоторые люди, свои настроения, что подходит больше комнате для прислуги, чем политике. Конечно, нелегко возместить в короткое время потери.
К этому у нас присоединяются и Другие затруднения в воздействии духовного на политику: отсутствие старой политической традиции, которая бы привычно воспринимала духовные элементы для политической практики. Отсутствие символического воплощения подобной традиции, формирования национального духа по вцолне определенным предначертанным идеям, которые, указывая на миссию человечества и призывая взорвать всю узость чисто национального аспекта, принуждали бы к одухотворению, хотя бы только формальному, практической политики. Подобно тому одухотворению, которым обладают прежде всего Англия и Франция. Англия - со времен «славной» революции 1688 г. в идеях
650 Историко-со1шаюг|г<еское видение культуры
терпимости, свободы и самоуправления, Франция — с 1789 г. в известном революционном тройном требовании: великие магические средства, при помощи которых они еще и сегодня воздействуют на народы, соединяя дух и политику. Немецкая революция 1848 г. не противопоставила идеям великой революции и ее французской формулировке какого-либо иного привлекательного воплощения этих мыслей и какого-либо зримого символического принципа. Но сколь несомненно была она во многих отношениях глубже, ибо мыслила не просто рационально, а одновременно также и исторически созерцательно; и сколь несомненно, что в исторически и культурно обоснованной национальной идее, в наследии романтизма она обладала огромным достоянием, за практическое осуществление которого она впервые боролась и которое искало в ней духовного выражения. Ответ Ренана на вопрос, что такое нация, гласил, что она есть «плебисцит дня»; этот ответ, так или иначе обоснованный, все-таки поверхностен по сравнению с историческими глубинами, об адекватном политическом выражении которых действительно шла речь в 1848 г. Однако эта революция, которая потерпела крушение, не привела к какой-либо понятийно или созерцательно цельной, одухотворенной ярко символической формулировке какого-либо всеобщего действия. Черно-красно-золотое знамя, которое все это воплощает, стало символом немецкого единства. Но это дело немцев, не более того. Сравните с «Марсельезой» и ее воздействием на мир, и вы это поймете.
Ничего подобного не было. Не было даже заменяющих объективные символы индивидуальных примеров руководящих деятелей, на которых можно было бы ориентироваться как на некую формулу, так, как американцы — на Вашингтона и Линкольна, французы — на Гамбетту или деятелей более раннего периода, итальянцы — на Гарибальди и Мадзини, англичане — на Питта, Дизраэли или Гладстона. Бисмарк, который несомненно был исторически намного грандиознее, как личность несравнимо гениальнее, чем все они, остается единственным в своем величии, одиноким исполином; на него можно взирать как на героя, но он стоит вне всякого принципа и всякой допустимой политической формулы. И каждый раз, когда пытались взять его за образец и вывести из его деятельности такого рода формулу, получалась карикатура. В течение четверти века после его кончины мы с ужасом пережили это при канонизации его деятельности и подражании его реальной политике: разрушение инстинктов нашего самоуправления наряду с изгнанием духа. И если во всех этих дарах, предоставленных историей другим великим европейским нациям в противовес современной экономизации и утрате духа политикой, нам было отказано,
Альфред Вебер. К вопросу с<щи<>л<иии государства и кульпры 651
то за этим следовало и дальнейшее, особенное: та же история как наследие нашей политической раздробленности нашего, в связи с этой раздробленностью многообразно распространившегося духовного богатства, не дала нам целенаправленной организованности духа для его действенного влияния на политику; не дала централизации духа там же, где централизована политика, не дала их легкого и непосредственного повседневного соприкосновения, выражаясь по-современному, - их локальной телефонной связи в столице, одновременно политической и духовной. И тот, кто в какой-то степени сегодня знает технику этой совместной работы духа и политики, к примеру во Франции, их возможности в критических и новых ситуациях без всякого внешнего принуждения встречаться и находить взаимопонимание, кто имеет представление о воздействии этого, тот придаст большое значение хорошо известному отсутствию у нас такой возможности. Изменение фронта от узколобого пуанкаризма к европеизму, которое сумела в последнее время произвести французская политика, могло быть осуществлено только как определенным образом дисциплинированная, политическая и духовная перемена направления всего фронта кавалерии.
Все это мы знаем. Должны ли мы поэтому отчаиваться? Для этого было бы основание лишь в том случае, если бы мы не могли поставить перед собой цели, которые с самого начала не казались бы нам фантастическими и нереализуемыми.
И прежде всего, все исторические недостатки, все связанные с этим практические трудности полностью взвешены и осознаны; ситуация была бы безнадежной, если духовное у нас было бы настолько организовано и в его идеальной форме одновременно настолько разработано, что оно не могло бы влиять на политику.
Я знаю то, что знает каждый: олигархически структурированный ведущий слой, который после нашей катастрофы примкнул к старым партиям и в значительной степени действительно сегодня определяет нашу судьбу, который, впрочем, внешне технически, поскольку мы являемся современной массовой демократией, и должен быть неизбежно структурирован в олигархию, — этот ведущий слой почти сплошь состоит сегодня все еще из людей довоенного поколения, с большим тихим упорством препятствует почти во всех партиях проникновению новых поколений на ключевые посты в политике. В общем, препятствует этому успешно. Преобладанию духа, иному духу противостоят деловая рутина и привычная техника - не может быть сомнения в том, кто из них, а они должны были бы пронизать и дополнить друг друга, одержит сегодня верх. Однако я спрашиваю, действительно ли сожалело тогда молодое поколение о том, что осталось не у дел, о расколе
652 Историко-сониолкм ичсское видение кулыуры
духа и политики; оно должно было влить молодое вино в старые меха, сделать все, чтобы захватить эту крепость.
Я знаю: организация молодого поколения существует во всех партиях. И я считаю это весьма необходимым и ценным. Ибо если в 20 лет дается право участвовать в выборах, то ориентироваться политически нужно начинать не позднее 18 лет. Но легко может случиться, что при этом партийный шаблон, слегка видоизмененный, несколько приспособленный к требованиям молодежи, просто нахлобучивается на голову молодому поколению, которое, если оно сегодня очень рано входит в партийные кадры, духовно, чтобы служить новым ферментом и носителем задачи, о какой я говорю, должно быть защищено по возможности от всякой четко сформулированной программы, прежде всего от всякой партийной программы, и для своего, быть может, самого насущного существования, само должно создать для себя если не особые органы (что немаловажно, но второстепенно), то, во всяком случае, создать духовно -политический принцип жизни.
Уточню: я за то, чтобы, например, в демократической молодежной организации получили бы слово не только демократы, но и члены Народной партии, социал-демократы, немецкие националисты, центристы и т.д. И vice versa7* также во всех других организациях. Это было бы выражением предшествующего принятию программы существования. Да и то в значительной степени внешним.
Его подлинное содержание должно заключаться в установлении общей цели для всех организаций молодежи, имеющих политические интересы на духовной основе. И это отнюдь не пустая фантазия; посредством последовательного самовоспитания молодежи она может стать действительностью: все молодые поколения, какому бы направлению они ни принадлежали - демократическому или антидемократическому, привыкнут требовать от всех руководителей Германии, как и повсюду, совершенно определенной духовно-аристократической позиции, короче говоря - прежде всего определенного уровня. Демократический руководитель, который им не обладает, лично для меня ничуть не лучше, чем антидемократический, а, с моей точки зрения, быть может, еще и хуже. Во всяком случае, только если руководители всех партийных направлений вынуждены будут занять подобную позицию, если станет невозможным, чтобы какой-нибудь политический деятель, не обладающий таким уровнем, сохранил бы свое положение, тогда можно считать, что даны предпосылки для воздействия духа на политику. Кроме того, при действии подобного остракизма сразу же гарантируется определенная, достаточно значительная степень
Альфред Вебер. К вопросу социологии государства и культуры 653
влияния, ибо человек решительно требуемого внутреннего склада не может жить без прочной духовной основы.
Это, конечно, трудно, но возможно. Если молодежи всех партий станет ясен масштаб личного благородства, совершенно не зависимый от партийной программы, которого она требует от всех руководителей своей партии, отказывая им в противном случае в повиновении, объявляя собственной партии своего рода забастовку, - это все-таки средство. Я знаю, что это звучит фантастически ново у нас в Германии. Только у нас принадлежность к партии рассматривается как проявление характера; иного человека из-за его противоположных политических убеждений считают дурным, и именно поэтому всякий духовно-аристократический масштаб личности, независимый от партийного мнения, уничтожается, а оценка уровня личности перекрывается оценкой программы.
Здесь следует прежде всего заметить: расхождение масштаба личности с партийным мнением и понимание этого расхождения является, как мне кажется, специфической задачей нового поколения Германии в наши дни — его первой задачей.
Однако эту первую задачу нельзя и пытаться решать, если к ней не добавить вторую: выработать и защищать содержательно наполненную, характерно очерченную, духовно-аристократическую норму. Лишь это, в общем, дает право на такое расхождение и сделает его понятным.
Я не считаю, что подобную норму можно определить понятий -но или вообще выразить в строго очерченном словообразовании или даже изобрести. По своей сути эта норма — просто переживание и, как всякое переживание, не может быть изобретена. Но такие переживания существуют. И существуют все-таки определенные, выразимые в словах нормативные характеры, на которые можно ориентироваться и прийти по их поводу к соглашению. Действовать рыцарски или не рыцарски, защищать ложную духовную позицию или наоборот - это все ясные вещи. А также быть толерантным и объективным по отношению к духу, или ограниченным и ненавидящим, аргументирующим, исходя из духовной перспективы, или же эмоционально грубым, банальным в своей фразеологии, или же подлинным и деловым, что никогда не бывает банальным. Но все это, если оно группируется вокруг духовно-аристократического переживания нормы в качестве его внешних симптомов, вполне постижимо. Если мы продвинемся на этом пути, то, мы, правда, никогда не придем к тому, чтобы начертать что-то великое или даже гениальное, не говоря уже о том, чтобы приблизиться к нему. Все это, разумеется, всегда является даром и велением судьбы. Но мы, вероятно, достигнем возвыше
654 Историко-социологическое видение культуры
ния среднего типа руководителей, того, который нам ежедневно нужен.
Появление подобного улучшенного среднего типа позволяет открыть доступ действительно великим вождям в собственном смысле слова. Речь здесь всегда идет о традиции в олигархии. Если она дурна, а средний уровень невысок, то подобная олигархия будет кооптировать только заурядных людей и предлагать выбирать именно их для своего пополнения, тем самым еще более снижая свой уровень. Совершенно так же, как опустившийся ниже определенного уровня факультет университета действует при кооптации, обращаясь со своими предложениями к правительству. Социологический тип здесь совершенно тот же. В одном случае олигархия, — а таковым всегда является всякий факультет, он должен быть духовно-аристократической олигархией по своей сути — предлагает своего нового члена правительству, в другом случае партия предлагает обществу утвердить избирательные бюллетени. Внешний модус утверждения различен, а сущность в значительной мере та же самая. И олигархия необходимым образом по своему характеру подобна партийному руководству и должна быть таковым в массовом демократическом государстве. Иначе невозможно дело управления. При этом техника выборов и личная связь с массами, имеющими право голоса, могут носить, конечно, различный характер, связь может быть тесной или более свободной. Если традиция ведущего слоя в контроле над средним уровнем выбора хороша, то побеждает тенденция пополнения по возможности мощными силами, в общении с которыми только и хорошо себя чувствуют и с помощью которых верят в выполнение своих задач. И одновременно действует стремление, насколько это возможно, к тесной связи с духовным бытием. Всякая духовная широта, являющаяся предпосылкой терпимости и объективности, сама собой приводит к тому, чтобы действовать соответствующим образом, совершенно независимо от всех мудрых правил, которые, конечно, с большей легкостью укореняются у представителей ведущего слоя, избранного по своим качествам. Я думаю, что мы, старшее поколение, тоже не вполне можем эти идеи выразить и облечь в слова, если мы их и переживаем. Я уже об этом достаточно часто говорил. Предпринять - это прежде всего задача молодежи; в ее душах те великие переживания, на которых покоится наше время, помещены в еще нетронутое поле новой плодотворности. Но в то же время не следует порицать политику и исключительно старшее поколение, находя сегодня, и, как мне кажется, с полным правом, положение вещей неудовлетворительным и в значительной мере безрадостным. Не путем револю
Альфрсл Вебер. К вопросу социологии государства и культуры 655
ции в политике, а посредством образования духа для восприятия новых идей, не путем насильственного устранения ведущих деятелей старшего поколения, которые иногда незаменимы, но посредством духовно-аристократического контроля над выборами и кооптацией, на что я пытался указать, мы сможем способствовать господству духа в политике.
Мы как народ несомненно стоим перед всемирно-политическими преобразованиями. Не имеет значения, как оценивать вступление в союз народов, всю новую современную ситуацию. Эта ситуация ставит нас в политике с небывалой ранее остротой перед вопросом: принять духовное поражение или же утвердиться в качестве равных. Времена изолированной дипломатии и внешнеполитических будуарных переговоров прошли. Одного вооружения, одной политической хитрости сегодня недостаточно. На действительно становящемся все более значительным форуме европейской и международной политики в будущем борьба будет идти не только посредством ума, но и с помощью идей - с помощью духа. Поэтому сегодня, как никогда, важен дух в политике.
Примечания
1 Доклад-на торжественном вечере, посвященном Второму когрессу немецких социологов, 20.Х. 1912.
2 Исайя 55, 8. - Прим. ред.
3 Это верно понял и выразил Шпенглер.
Перевод иноязычных текстов
р Града Божия (лат.).
2* Причине (лат.).
3* Принцип индивидуации (лат.).
4* Пристанище; точка опоры (франц.).
5* «Природу гонишь вилами...» (лат.) - соответствует русскому варианту: «Гони природу в дверь, она влетит в окно».
6‘ Бизнес и умение делать деньги (англ.).
7* Наоборот (лат.).
Перевод с сокращениями выполнен по изданию: Weber A. Idecn zur Staats und Kultursoziologie. Karlsruhe: Braun, 1927. 142 S.
Эрнст Трёльч
О построении европейской истории культуры
1. Развитие и построение
Существуют две главные темы материальной философии истории: культурный синтез современности и всеобщая история. Они тесно связаны друг с другом. Первый составляет предпосылку и идеал всеобщей истории, определяющий отбор фактов, вторая образует объективный фон и дает конкретный материал для культурного синтеза.
Между ними действуют отношения взаимного определения и взаимной зависимости, следовательно, они образуют цикл. Мы измеряем обращение Солнца и Земли по равномерности количества часов, а эту равномерность — по их обращению. Подобных цикличных определений нельзя избежать нигде, где речь идет о последних причинах. К тому же эти определения носят характер цикличности лишь тогда, когда они исходят из неуверенности в одном элементе и хотят ее преодолеть с помощью другого. Они перестали бы быть таковыми, если бы существовал интуитивный взгляд, способный охватить и постигнуть сразу оба эти элемента и воспринять их вместе. Только потому, что нам не дано такого рода одновременное восприятие и мы вынуждены всегда начинать с какого-либо одного из этих элементов, чтобы затем мыслить их в единстве, у нас возникает эта цикличность.
В сущности и для нас такой интуитивный взгляд — уже преодоление цикличности и начало всей постановки проблемы. Дело лишь в том, что вследствие недостаточной надежности и общего характера этого взгляда нам необходимо сразу же разложить его на оба его направления, чтобы подтвердить данные одного данными другого. А такое последующее взаимное подтверждение, в свою очередь, возможно лишь потому, что мы убеждены в их соответствии друг другу в самой сущности вещей и поэтому можем надеяться найти на обеих сторонах объективные элементы, указывающие друг на друга. В конечном счете это глубокая вера в единство и
Эрнсг Трёльч. О поп роении европейской истории кулыуры 657
смысл действительности, такая же, как та, которая нам необходима в естественных науках, когда мы ждем, а часто и достигаем, совпадения логически развитых гипотез с действительным ходом вещей. Следствием этого является то, что обоим упомянутым мыслительным образованиям в области философии истории действительно предшествует некое общее начало, смутное предчувствие взаимной связи и внутреннего соответствия, возникшее из сочетания исторических знаний и практически-этических установок. Лишь исходя из этого предчувствия мы разделяем направления в нашем исследовании, и после того, как каждое из них продумано и проработано, вновь соотносим их друг с другом - задача, которая по самой своей сущности может быть решена только в бесконечном приближении.
На этом основаны два важных явления, с которыми мы уже неоднократно встречались и которые только исходя из этого вполне уясняются.
Конечно, может случиться, и почти постоянно случается, что в зависимости от таланта, склонности, потребности и обстоятельств отдельные исследователи останавливаются на каком-нибудь одном из этих направлений и не находят больше пути к изначальной концепции, более того, полагают, что это возвращение им вообще больше не нужно. Тот, кто по своему духу склонен больше к истории, уделит все свое внимание истории какой она была; исполненный жаждой реальности, он будет стремиться к чистому созерцанию и, быть может, совсем забудет о субъективной априорности своей исходной точки, хотя совершаемые им отбор и сочетание фактов и тогда сохранят связь с этой исходной точкой посредством становящихся все более тонкими, но все еще достаточно крепких нитей. Христианин или гуманист, пессимист или реалист будет при всей преданности делуи критической проверке своих данных всегда конструировать по-разному, так как действенные и решающие события не могут не представляться по-разному каждому из них. Однако об этом можно забыть, и тогда возникает идеал чисто объективного созерцания, отражающего бытие-в-себе универсально-исторической связи. Поскольку бытие-в-себе вещей может быть только их бытием для абсолютного духа, исследователь предположит, что он не заинтересованно и чисто объективно созерцает божественное в истории, пока какое-либо столкновение с другим конструирующим исследователем не напомнит ему о человеческой, связанной с настоящим субъективности, о его скрытой или забытой, бессознательной или глубоко запрятанной исходной точке1. И наоборот, практические или этические волевые натуры, пророчески или поэтически возбудимые люди, склонные к ожиданию будущего и к фантастическому предвидению, обратят все свое внимание на культурный синтез,
658 Историко-социало! ическое видение ^лыуры
придадут ему фантастические и произвольно изменяемые исторические основы и диалектические развивающиеся исторические силы или сочтут, что мотуг вообще действовать и строить планы совершенно независимо от истории, забывая о своих всегда очень конкретных исторических корнях, сублимируя их в общую разумную необходимость или превращая в гениальные новообразования, в результате чего они резко сталкиваются с историческими силами или узнают о своей исторической обусловленности от противников, действующих теми же методами, нос противоположным пониманием содержания своей деятельности2. Спокойные времена, когда системы обшей гуманности, национальной культуры или религиозной этики непоколебимы и сами собой разумеются, могут призывать к чисто объективному созерцанию, которое полностью утверждает все существующее и очень толерантно по отношению к ценностным суждениям об отдельных исторических событиях, ибо ценностное суждение в целом, суждение об общем развитии само собой разумеется. Напротив, в неспокойных катастрофических условиях или при стремлении к ставшим достижимыми целям культурный синтез связывается со страстями и надеждами, созерцающая реалистическая история вызывает презрение, а история в целом рассматривается совершенно субъективно как средство целенаправленных конструкций. Тогда точность, критическое отношение, вычисление проблем и чистая объективность исследования подвергаются насмешкам и именуются педантизмом, узостью или бездуховностью; тогда господствует стремление к обобщениям и обзорам, соответствующим собственному беспокойному, ищущему великих целей жизненному чувству. Понятно также, что философы с их интересом к общему значению истории для мировоззрения проявляют преимущественный интерес к проблеме культурного синтеза и подводят под нее конструкции универсального процесса, а историки, напротив, проявляют к этому недоверие и предпочитают решать проблему всеобщей истории, опираясь на чисто эмпирические, поясняющие каузальные связи факторы, если они вообще эту проблему признают. При этом те и другие в конечном счете наталкиваются на предпосылки и проблемы друг друга, потому что эти проблемы коренятся в самой сущности вещей.
Само собой разумеется, что на практике эти разделения и расщепления мысли неизбежны. Однако над ними все-таки всегда парит общая цель согласия и плодотворного взаимного влияния, в результате чего история достигает философского завершения и общего значения в деле воспитания и образования, а философия, исходя из логической и познавательно-теоретической техники, приходит к содержанию, определяющему жизнь. Для нас, людей
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры 659
Земли, философия может черпать это содержание только из познаваемой стороны нашего существования, из борьбы и стремления к созиданию, из сил и надежд нашей земной жизни, как бы наше существование ни выходило за пределы этой формы деятельности и сколько бы других сфер жизни и чувств ни было наряду с человеческой. Нам известен только этот исторический мир, и все, что выходит за его пределы, можно в лучшем случае лишь предчувствовать, основываясь на аналогии с ним и на его постулатах. Перед самой земной жизнью каждый момент вновь ставит задачу формировать из прошлой истории историю грядущую4.
Однако все это не выводит нас за цикличность нашей основной проблемы в такой степени, как это нужно для дальнейшего хода наших мыслей. На постоянно уходящем вдаль ценностном приближении к цели нашего познания нельзя успокоиться, так как речь ведь идет не об исследовании покоящихся предметов, к которым можно всегда вернуться, а об изучении меняющихся и изменяющих свои очертания событиях, когда каждая новая постановка проблемы сталкивается с новыми условиями и новыми вопросами, а каждое решение является также и практической позицией под напором событий. Поэтому возникает вопрос, нельзя ли прорвать этот цикл с большим успехом и возможностью большего практического применения.
И это действительно происходит, когда еще более расчленяют взаимоотношения обеих сторон. Современный культурный синтез совсем не нуждается в полностью установленной, подтвержденной во всех отдельных сочетаниях связи. Он нуждается только в видении больших основных масс, особых значимых культурных образований, которые выделились из этого потока и, соединенные для постоянной связи и взаимопроникновения, представляют темы, которые современность должна вновь переработать, соединить в новую мелодию. Для этого культурному синтезу нужны образы этих больших массивов, представленных в той строгой научной, объективной ясности, в какой их может дать лишь связная всеобщая история. Но и сама эта история остается задачей, которая может быть беспрепятственно решена при строгости, объективности, понимании фактов и реализме историка. Культурному синтезу не только не нужно непосредственно примыкать к линии развития, прочерченной историком; культурный синтез и не может просто и непосредственно этим воспользоваться, ибо в его задачу не входит непосредственно продолжать линию развития, действительно выявляющую последние связи, это невозможно уже потому, что в настоящем никогда не бывает только одна линия развития, а присутствует множество различных и поэтому борющихся друг с дру
660 Истор|псо-соц1ю.г1вгимеское видение культуры
гом линий. Культурный синтез именно и стремится подняться над этой борьбой и умиротворить ее: благодаря тому что он становится на более высокую точку зрения, он понимает борющиеся в настоящем тенденции культуры из их исторических источников, обогащает и исправляет и соединяет их в новой связи, которая, правда, принимает во внимание требования современности, но вместе с тем в какой-то степени освобождается от нее посредством погружения в важные в прошлом и продолжающие действовать культурные массивы. Лишь таким образом культурный синтез может стать творческим и в свою очередь связать новые линии развития из тех, которые расчленяют современность.
Другими словами, в решении нашей проблемы речь идет совсем не непосредственно о самом процессе общего исторического развития, а о становящемся из него ясным построении больших пластов нашей культурной среды. Это предполагает историческое развитие, но само является чем-то другим. Следовательно, речь идет о точке, из которой теория понятого таким образом построения может отделиться от исследования исторического развития, которую следует предоставить философски ориентированному историку.
Эту точку определить нетрудно. Она находится в периодизации всеобщей истории, которая ведь представляет собой только отделение друг от друга различных больших культурных связей, введение между ними цезур и общую характеристику и понятийное обобщение лежащих между этими цезурами больших и характерных культурных целостностей. В такой периодизации заключен подлинный философский элемент всеобщей истории, к ней может примкнуть выделение больших массивов, положенных судьбой в виде пластов друг над другом, которые надлежит как бы перекопать идо известной степени по-новому расположить или, вернее, привести это напластование в новую жизненную связь с современностью.
По мере того как идея построения занимает место идеи развития, мы в значительной степени преодолеваем упомянутую выше цикличность. Допустим, что большие культурные массивы отчетливо выделились бы посредством реальной связи их действенных составных частей и исторического видения — тогда мы имели бы объективную периодизацию и, соответственно, по крайней мере в принципе, объективные, т.е. просто доступные созерцанию основания крупных главных элементов нашей культурной жизни. Возникает вопрос, до какой степени и посредством чего возможны их объективная характеристика и понятийное обобщение. Если мы сначала оставим в стороне сложный второй вопрос, то в периодизации как таковой остается объективный момент, на который может опереться современный синтез и по отношению к которому
)рнсг Трёльч. О построении енронсчиской истории кулыуры 661
единичная конструкция происходящего, созданная историком, сравнительно безразлична. Тогда перед нами были бы большие, объективно разделенные основные материалы, и только при новом их соединении с напирающими силами современности начала бы складываться неустранимая субъективность, чья сущность и все-таки объективное ядро описаны во второй главе.
Возражая на это, указывали на ненадежность и колеблющуюся субъективность всех периодизаций. В той мере, в какой речь идет только об установлении цезур на определенные годы и события, это возражение не требует пояснения. Ибо в этом смысле цезуры всегда приблизительны, и старое всегда продолжает существовать, когда новое уже становится заметным. Речь вообще может идти лишь о характеристиках a potion1*. Завершать ли античность основанием Византийской империи, или реформированием Империи Диоклетианом, или почти канонической датой 476 г., вторжением варваров, ориентализацией, начиная с Северов, или уменьшением роли рабов, исчезновением металлических денег, или победой христианства - совершенно безразлично. Все это ничего не меняет в том, что античность была крупным культурным единством и что западное средневековье начинает новый культурный мир. Примерно так же обстоит дело с попыткой провести границу между средними веками и развитой европейской культурой. Само различие несомненно и объективно существует. И подобным же образом обстоит дело с подразделениями внутри периодов. Во всех этих случаях различия могут быть твердо установлены, и немаловажная задача историка — определить тот или те пункты, где новое действительно возникает. Лишь в обосновании, разделении и соединении их в группы или в характеристике их содержания присутствует нечто меняющееся и зависимое от восприятия, на которое оказывает влияние общее понимание всего развития. Но и здесь нет субъективного произвола. Для всех достигших своего завершения периодов возможны действительно объективное деление и характеристика. Различие в понимании и в периодизации зависит от уровня знания вопроса, от глубины постижения развития, нахождения решающих пунктов. Там, где обнаруживаются действительно большие цезуры, они проявляются посредством силы их созерцаемости и конструкции. Так, например, периодизацию западноевропейского капитализма надо было сначала увидеть и разработать, исходя из самой сути дела* С тех пор, как это совершилось, периодизация установлена и спор идет только о деталях. Так же обстоит дело с историей государственного строя, с историей хозяйства, с историей религии и искусства. Здесь несомненно существует прогресс в объективной периодизации. Периодизации теологов, гуманистов, просветите
662 HcivpHKO-coiiMOJKM ическое гонение кулыуры
лей, сторонников романтического или позитивистского умозрения, исторического реализма представляют собой логически развивающийся ряд попыток создать все глубже проникающие конструкции, а не только смену субъективных предположений.
Только в одном пункте полагание цезур в значительной степени обусловлено также и субъективно — при указании начала современного мира, т.е. всего периода, когда возникли решающие для настоящего и будущего проблемы культуры, периода, для которого, к сожалению, нет другого обозначения. Любое другое было бы ведь характеристикой их содержания, о котором здесь и ставится вопрос. В данном случае период не завершен; правда, установление начала будет всегда восходить к важным в их созерцаемое™ цезурам, но оценка значения такой цезуры будет зависеть от того, как мыслятся основные черты дальнейшего продвижения, как представляют себе власть, значение и содержание появляющихся в этот период новых элементов. Католик, который ждет возврата мира к церкви и в этом смысле толкует знаки времени, увидит в Реформации, Возрождении и Просвещении промежуточную стадию или возврат к язычеству.
Протестант, который исходит из утверждения в будущем умеренно ортодоксальной теологии, увидит и Реформации решающий фактор, определяющий будущее. Гуманист и сторонник классицизма увидит это в Возрождении, а исследователь политической истории и государственного права - в возникновении национальных, вводящих новое бюрократическое управление государств, знаменующих конец средневековья и зарождение системы крупных держав. Социолог и историк духовной культуры увидит решающий фактор в критическом индивидуализме и культе науки, заступающей место основанной на авторитете религии. Здесь в самом деле все зависит от понимания грядущих событии, и периодизация связана отнюдь не с произволом, а с недоказуемым доверием в конструирование проникающим в события взором, способным, как полагает исследователь, различить в борющихся силах современности решающую, преобладающую над всеми остальными линию, которая определяет их и исходит из определенных узловых точек. Это не просто субъективно, это недоказуемо, так как проверку может дать только будущее.
Следовательно, в некоторой степени объективная периодизация, по крайней мере замкнутых основных отрезков истории, существует и для современного мира, а тем самым и для построения истории европейской культуры. Самое важное и трудное в этом — установление начала или основ современного духа.
К этим вопросам нам теперь и надлежит обратиться.
2. Европеизм
Откажемся, следовательно, от всех умозрительных мыльных пузырей и воздушных замков чисто философски или преимущественно философски конструированного развития человечества, а также от более серьезных соображений, предметом которых служит начало и конец истории, рождение и смерть индивидов; отправляясь от них, обычно ждут ту основу, откуда происходит и куда возвращается жизнь. Вероятно, исходя из этого, Лессинг пришел к учению о переселении душ, а Шопенгауэр пришел к сближению с индийским мышлением, которое вплоть до сего дня столь заманчиво для многих. Еще недавно мыслитель такого трезвого и ясного ума, как Дриш, поставил эту проблему в центр своей философии истории и в конец своей метафизики и, отправляясь от этого, в свою очередь пришел к выводу о ничтожности величайших интересов эмпирической истории. Однако это отчасти вопросы чистой метафизики и религии; отчасти же, в той мере, в какой они относятся к истории, Запад, исходя из своих греческих и иудейско-христианских корней, дает на эти вопросы только один ответ, а именно, что эти неизвестные нам вещи мы можем мыслить лишь исходя из известных, и, следовательно, все потустороннее — плод и результат земной, посюсторонней, т.е. исторической и культурной деятельности, к которой следует относиться со всей серьезностью. О ней идет речь в истории, а достигнутое историей должно служить основой всего того, на что история как таковая не дает и не может дать ответа. В сущности ведь и Лессинг полагает, что будущей жизни надо ждать как грядущего дня, т.е. как плода и результата добросовестно выполненного земного труда, а Гёте говорит, что, чтобы стать энтелехией, надо уже быть ей. Об этом и только об этом идет речь в истории - о том, как происходит становление энтелехий в великой исторической борьбе жизни, как они сложились и продолжают формироваться в настоящем для будущего. Во всяком случае, такова решающая и характерная вера европеизма4.
Это полностью совпадает с ограничением всеобщей истории рамками Европы, которое сегодня требуется от историков ввиду необозримости источников и фактов, а также как следствие понимания глубоких структурных различий, если они не идут еще дальше в своем ограничении всеобщей истории. В сущности, однако, эти ограничения означают лишь понимание особого положения античности, как того требуют Эдуард Мейер и Виламовиц на основании точного исторического исследования, чтобы затем вновь тесно связать современный западный мир с антично-средиземноморским. В самом деле, эти великие куль
664 Историко-со|(иаг1огическое видение культуры
турные миры формируют в нераздельном единстве европеизм и еще сегодня определяют его там, где он в ходе великой англосаксонской и латинской колонизации распространился на большую часть земного шара. Только европеизм обладает реальной каузальной, неразрывной и существенной связью, к тому же доступной обозрению в источниках и контролю; только в нем мы обнаруживаем, несмотря на все различия, смысловое единство, когда задаем вопрос об исторической связи и смысловой целостности, составляющих основу нашего существования5. Таков общий и все время повторяющийся результат всех проведенных до сих пор исследований и изысканий. К этому все больше сводятся историческое мышление и исторический реализм. Это ядро нашей исторической работы. Филологические труды и истории других областей культуры с их до сего дня преимущественным вниманием к филологии кажутся несколько экзотичными по сравнению с этим.
Следовательно, уже фактическая сторона проблемы, которая стала нам известна за последнее время, значительно выходящая за пределы горизонта Вольтера и Гердера, делает понятие истории человечества невозможным. Но она столь же невозможна, как здесь неоднократно указывалось, и с философской точки зрения. И это решающее. Предмет истории может быть сведен только к единому или сросшемуся в единство смысловому содержанию, сколь богатым и меняющимся оно бы ни было, и это содержание должно быть доступно общему переживанию и пониманию. Между тем для «человечества» в его еще полностью не воспринятом и не понятом временном и пространственном распространении мы не обладаем общим смысловым и культурным содержанием. Запад, Ближний и Дальний Восток, культурные народы, народы с не полностью развитой культурой и примитивные народы настолько различны, что об общем содержании культуры современного человечества речь вообще не может идти, сколь ни повсеместно распространены некоторые общие и формальные понятия человеческого достоинства, справедливости, чистоты и добра. Они не составляют смысл общего культурного единства и именно поэтому слишком часто ограничены в своем признании и осуществлении сферой собственной культуры и общества, так называемой внутренней моралью. Во всяком случае, их нельзя считать стержнем истории человечества. Путевой дневник графа Кейзерлинга, что бы ни говорили о нем филологи и историки, в этом смысле чрезвычайно поучителен6. Узнать, изменится ли это в будущем, в настоящее время невозможно. Сам по себе круговорот культур возможен, как и расцвет и упадок великих народов и культурных циклов, а также редкие, преходящие взлеты культур7. Очевидно, во
Эрнст Гр&гьч. О построении енронейской истории культуры 665
всяком случае, что «человечество» не может быть единым предметом истории и совершенно невозможно постигнуть или провести мысль об истории человечества как некоей целостности. В лучшем случае, это применимо к отдельным, довольно большим группам. Человечество как целое не обладает духовным единством, а поэтому и единым развитием. Все, что предлагают в качестве такового, -не более чем романы, в которых рассказываются метафизические сказки о несуществующем субъекте. Предмет истории существует лишь постольку, поскольку он замкнут в познаваемом смысловом и культурном единстве, а историческое развитие — лишь постольку, поскольку в его основе лежит общий смысл и дух культуры, либо поскольку оно образуется в слиянии событий таким образом, чтобы к общему результату культуры вела действительно неповторимая в становлении индивидуальная и конкретная связь. На этом основан и обычный сдвиг понятий, который только и позволяет говорить о всеобщей истории, человечестве и прогрессе, этот сдвиг сводится к тому, что, используя в действительности только западное, европейско-американское развитие, выдают живущих в этих границах людей за человечество, а само это развитие — за всемирную историю и развитие мира. При этом время от времени бросают взгляд на Восток, большей частью на Передний Восток, и связывают европейское развитие с данными антропологии. Иногда же говорят, что речь идет не о биологическом понятии человечества, а об его идее и идеале, а они развиты в своем определении именно на Западе или — проще — лишь там действительно осуществлены8. Но все это не более чем наивное или утонченное высокомерие европейца, которому благоприятствуют известные понятия христианской догматики, все еще очень сильные даже у врагов христианства или тех, кто его не исповедует. Палестина, Рим, Виттенберг и Женева — центры, где возникает единое стадо с единым пастырем, царство абсолютной истины и спасения, которое современный человек превратил в царство культуры, разума и науки. В европейском мышлении всегда присутствует завоеватель, колонизатор и миссионер. В этом источник его практической силы и плодотворности, но и многих теоретических ошибок и преувеличений.
Для нас существует только всемирная история европеизма. Прежняя мысль о всемирной истории должна принять новые и более скромные формы. Надо решиться на отказ от насильственного монизма'мышления, сводящего все к одной точке, и от преувеличенного чувства собственной значимости, присущего европейцам. Надо ясно понять, что даже самое глубокое философское обобщение не может игнорировать эмпирические данные и что действенным оно может быть только в единении культурных сфер, действи
666 1№н)рико-с<яцюл<н'нческое внинме кульп ры
тельно связанных в общем результате и подчиненных относительно единому смысловому содержанию. Есть, правда, целый ряд таких культурных сфер: переднеазиатская, которая в конце концов вошла в исламскую, египетская, индуистская, китайская и, наконец, средиземноморско-европейско-американская, если назвать только основные и самые интересные и оставить в стороне такие, как исчезнувшая центрально-американская культура. Только в таких культурных сферах существует единый культурный синтез, который в каждой из них совершенно самостоятелен и своеобразен по своему смыслу, и только каждая сфера в отдельности имеет свою историю развития, в свою очередь всегда своеобразную, конкретную и индивидуальную. Совершенно невозможно охватить духовным взором эти находящиеся на очень различных уровнях развития, частично больше не существующие культуры. Так же как они с трудом понимают друг друга, никто не может понять одновременно их все, и даже если бы такое понимание стало бы возможно, оно было бы, правда, интересно и послужило бы поучительным свидетельством о возможностях человеческой природы, но практически не принесло бы никакой пользы для определения собственной позиции и позитивной культурной деятельности. Между тем в этом и заключен единственный смысл, который я по ряду указанных причин могу видеть в философии истории и который в принципе противостоит всем желаниям и попыткам создать чисто созерцательное и в этом смысле универсальное видении истории. Обозрение всей истории в целом могло бы вызвать удовольствие только у того, кто отличается духовным гурманством, квиетистеким скепсисом или пантеистическим чувством целостности. Однако в действительности и к счастью для человеческого здоровья такого рода обозрения посредством наших познавательных и мыслительных средств совершенно невозможны. Подобное доступно только Богу. Существующие сравнительные картины, данные в идеях Гердера, эссе Вальтера, в размышлениях Шпенглера об упадке и в путевом дневнике Кейзерлинга, являются творениями фантазии и могут служить людям сильного ума материалом для поучительных сравнений и ярких ретроспективных обзоров собственной культуры, но понимания действительного исторического развития всех культур в целом они не дают, едва ли дают даже понимание их современного состояния. Такая невозможность объясняется не только громадным фактическим материалом, его недоступностью, неизвестностью и неполнотой, а прежде всего отсутствием такой потребности и способности созерцать собственную культуру, обретенных европейцами в своей своеобразной истории и почти неведомых другим. У народов вне Европы отсутствует историческое самосознание и
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории кулыуры 667
критическое отношение к прошлому — такую потребность ощущал лишь европейский дух. Поэтому, если оставить в стороне исламскую культуру, также воспринявшую эту потребность от греков, и китайские анналы, у остальных народов вне Европы отсутствуют грамоты, источники и подготовительные разработки в понимании европейского исторического мышления. Поэтому привести к общему знаменателю нашу историю и историю других народов и, основываясь на этом, объединить их невозможно. Таким образом, мы по тысяче причин вынуждены ограничиваться нашим собственным историческим развитием. И на это уйдут все наши силы.
В сущности, мы знаем только самих себя и понимаем только наше собственное бытие, а поэтому только наше собственное развитие. Лишь знание их является нашей практической потребностью и необходимостью, предпосылкой собственной формирующей культуру деятельности и желания будущего. Если кругосветное путешествие есть и самый краткий путь к самим себе, то мы на этом пути, сравнивая и учась, всегда и приходим именно к самим себе. Знание чужих культур может быть чрезвычайно важным для самопознания, понимания мира и практических отношений. Но во всем этом мы понимаем и утверждаем только самих себя, формируем, сколько бы мы ни приспосабливались к чужим культурам и как бы ни воспринимали их, только самих себя такими, как мы сложились и создавались в течение тысячелетий. Надо иметь мужество признать свою историческую судьбу, ибо нам не удастся выпрыгнуть из нашей исторической кожи. Надо ясно понять, что существуют различные возможности человеческой природы, которые, быть может, в последней глубине являются различными выражениями общечеловеческого начала, но что это общечеловеческое начало фактически существует лишь в громадных различиях, и каждая созревшая на протяжении тысячелетий особая форма является для всех, охваченных ею, неотвратимой, включающей в себя всю глубину и силу, хотя и постоянно находящейся в движении судьбой. Каждый, пребывая на своей почве, может обрести самый далекий обзор, стремиться к величайшим высотам, но мыслит, аргументирует, действует и созидает он, только опираясь на свою почву. И здесь применимо: «Ты - то, что представляешь ты собою».
Таким образом, всеобщая история, философия истории и созидание будущего в сущности становятся, насколько это возможно, единым пониманием собственного становления и развития. Для нас существует только единая история европейской культуры, которая, конечно, практически и теоретически нуждается в сравнении с чуждыми ей культурами, чтобы понять саму себя и свое отношение к ним, однако слиться с ними во всеобщую историю человечества, в
668
Историко-социаттоппеское видение культуры
единое развитие человечества она не может. Наша всеобщая история тем более является самопониманием европейца, что только европеец с накопленными им самыми разнообразными элементами культуры, с его никогда не пребывающим в покое интеллектом и с его беспрерывным стремлением к самообразованию нуждается в таком универсально-историческом сознании, покоящемся на критической основе. Лишь он постоянно занят построением рационально намеченного будущего, и для этого ему нужен исторический материал, который он собрал на различных стадиях и ступенях своего развития, чтобы длительно сохранять его. Только европеец превратился из хрониста, эпика, пророка и мистика, собирателя грамот и политика в философа истории, ибо только он стремится обрести из сознательно сохраненного прошлого сознательно созидаемое будущее. Но именно поэтому его философия истории должна ограничиваться проникновением в единый процесс его собственного становления с точки зрения его современных переживаний и в соответствии с наброском построения будущего при критическом продолжении и творческом преобразовании настоящего.
Это остается европейцу от философии истории и всеобщей истории. Но это не скудный остаток, а животрепещущая важная задача формулирования европейской сущности и разработки европейского будущего. Такова проблема, которая возникла вместе с сущностью нового европеизма и становилась все богаче и важнее с растущим усложнением этой сущности. Сегодня, на несомненно поворотном пункте европейских судеб, она более важна, чем когда-либо, и способствует тому, что история, невзирая на все сетования по поводу историзма и обременения памяти, обретает центральное философское значение
Что же, в самом деле не может быть распространения исторического знания и мышления за пределы, достижимые в человеческой жизни? Это было бы неправильным применением сказанного. Только подлинное требование современного европейского исторического мышления в области философии истории, постижение общих действий и связей в развитии культуры, разработка крупных индивидуальных и единичных связей в становлении, которым мы являемся, и выработка современного культурного синтеза — только это ограничивает указанный предмет. Совершенно ясно, что полезно и необходимо писать об истории Индии, Китая, Японии и т.д. в той мере, в какой на это способен европеец, и либо издавать эти истории отдельно, либо соединять их с историями других неразвитых народов, как это сделано, например, во Всемирной истории Гельмольта или в сборнике «Культура современности». Однако в этом отсутствуют историческая связь и развитие, такие
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории кулыуры 669
работы относятся к числу столь часто появляющихся сегодня работ переплетного синтеза либо к изделиям ученой фабрики или кооперации. Если же этим все-таки отчасти энциклопедическим знаниям хотят сверх того придать философский характер, то возникает созерцание, родственное универсализму и пантеизму романтиков, которое очень скоро отказывается от критического исследования фактов и при неизбежной релятивизации всех образований впадает в скепсис. Блестящим примером того и другого служит книга Шпенглера, примером тем более поучительным, что в своем основном философском воззрении автор основывается не на интеллектуальном созерцании, а на граничащем с прагматизмом подчинении мышления жизни и ее постоянному практическому самоформированию. У людей более грубого ума это созерцание превращается в идею калейдоскопа или панорамы, относящейся к системе общего образования. У более тонких историков идея «отражения божества в духе народа» - ободок или бахрома, которые, не будучи отчетливо представлены, но определяя горизонт, окружают каждую конкретную тему. Для эмпирического историка это в самом деле необходимо и оправдано. Но как только речь заходит о выведении философско-исторических следствий, сразу же оказывается необходимым выбор между скептическим квиетизмом и продолжением формирования европеизма с точки зрения планетарной ситуации в мире. Последнее является идеей Г.Д.Уэллса, который тем самым может быть определен как характерный англосаксонский аналог немецкого романтика Шпенглера9.
Еще одно универсальное расширение исторических границ выражается в желании обозреть с точки зрения современной мировой политики и мирового хозяйства европейские и национальные интересы в их далеком горизонте и запутанных связях. Однако это уже не созерцательное видение развития человечества и не всеобщая история, а практически обусловленная ориентация в мире с точки зрения современных интересов самого европеизма, который остается при этом в центре, возникает вопрос о борьбе с желтой расой, об угрозе возможных варварских вторжений или о компромиссе и взаимопонимании там, где эти чуждые культуры выступают как равноправные и можно найти общие этические и культурные точки соприкосновения с ними. Одно представляет собой пугающее предчувствие многих европейцев, другое — требование исламских и переднеазиатских культурных слоев, а исход всего этого непредсказуем. Однако мысль о «всемирной истории Нового времени» напоминает нам, что всемирной истории почти не было и раньше, напоминает, насколько поразительно поздно после относительно широкого, но все же ограниченного распро
670 Историко-социологическое видение кулыуры
странения античной культуры и после значительного сокращения границ средневековой Европы началось действительное распространение европеизма на планете и насколько, в сущности, только европейской культуре свойственно громадное влияние на культуры других народов в настоящем. И тогда совершенно естественно возникает мысль, что всемирная история Нового времени возможна только как отношение всей планеты к европеизму и его судьбе. Таким образом, именно размышление о судьбах других культур возвращает нас к нашему собственному развитию и к его требуемому данным моментом самоформированию, следовательно, именно к тому, что мы только и можем постигать и ощущать как связную, развивающуюся всеобщую историю10.
Мыслима и получившая в прекрасных работах свое выражение также другая, в научном отношении значительно более важная, часто совершаемая разработка данной проблемы во всем ее объеме. Можно попытаться проводить сравнение между национальным или групповым развитием, чтобы вывести из этого общие законы — правда, только эмпирически генерализирующие и поэтому очень неточные — процессов развития и подъема различных групп и народностей, затем установить типологию индивидуальных характеров и развитий, а между двумя этими полюсами построить особые ряды развития религиозной, эстетической и философской жизни и становления. Сюда относятся этиология Милля, психотипика Дильтея, психология мировоззрения Ясперса, ряд современных теорий в области истории литературы и искусства, прежде всего схемы параллельных и однородных политических, общественных, экономических стадий развития, как те, которые предлагают Лампрехт, Шмоллер и Брейзиг11, а также уподобления процессов развития культур возрасту ребенка, юноши, зрелого мужчины и старца, созданные античными исследователями всеобщей истории и заимствованные у них Августином; или еще более простое сравнение с весной, летом, осенью и зимой, использованное Шпенглером в качестве основной мысли своей морфологии. Наиболее приемлемой из всех этих попыток я считаю теорию ступеней, предложенную Брей-зигом; утверждая, что большинство народов пребывает на древнейшей ступени, он затем строит иерархию ступеней, которые различные культурные народы проходят с различной интенсивностью и в различном темпе; или теорию Фиркандта, который очень тонко различает примитивные народы, народы, обладающие частичной культурой, и культурные народы, а также оперирует этими понятиями в значительной степени на основе социальных форм. Сюда относится и учение Макса Вебера об идеальных типах, в которых он посредством исторического сравнения устанавливает главные типические
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры 671
формы в социальной и экономической сферах и посредством которых он определяет научный характер так называемой теоретической экономии; вследствие основополагающей важности экономического фактора это получает одновременно всемирно-историческое значение12. Это социология в том единственном смысле, который я могу признать, но не подлинная история. Против всеобщей истории как социологии ничего возразить нельзя. Но это именно социология, не история и не философия истории, а генерализирующая вспомогательная наука для них обеих, очень поучительная и интересная, но еще недостаточно разработанная13.
Для нашей темы это второстепенное замечание о подлинном смысле действительно всеохватывающей всеобщей истории прежде всего в качестве социологии имеет не только то значение, что оно опровергает одностороннее неверное понимание нашего главного положения о необходимом ограничении подлинной всеобщей истории и философии истории сферой европейской культуры. Напрашивается вопрос, не окажется ли, что такие общие схемы развития мало помогут нам именно в постижении европейского мира. Ведь следуя этим путем, мы опять в известной степени вводим его в рамки общего рассмотрения человечества в целом. Этот вопрос очень важен для существа дела, так как указывает нам на своеобразие европейского мира, которое придает ему нечто совершенно неповторимое, не допускающее никаких аналогий; постановка этого вопроса, выходя далеко за пределы простого европейского высокомерия или широко распространенной наивной самоабсолютизации, содержит основания для специфической самооценки европеизма. Важнейшее своеобразие европейского развития состоит в том, что в нем содержится не одна разновидность развития и последовательности ступеней культуры данной народности, которые могут быть даны в схеме теории ступеней, а две, причем совершенно различные и разъединенные друг с другом. Поэтому здесь заключено богатство совершенноразличных эпох и духовных содержаний культуры, здесь, как нигде более, критика и дальнейшее развитие все время вновь создаются посредством трения и противоречий, и именно вследствие этого фактически частное возвышается до сферы возможной мыслительной общности. Это, насколько мне известно, не имеет аналогий в известной нам истории, разве что в ослабленной степени в культуре ислама, которая также была привита к античности и именно поэтому всегда тесно соприкасалась с европейской культурой, а в средние века в течение некоторого времени даже превосходила ее. К этому надо сразу же добавить следующее. Сходные с европейской культурой черты можно, пожалуй, обнаружить в чуждых нам и далеких мирах; так, в отношениях между шумерами и аккадами, асси
672 Hcropw>eo-c<wq«VTOnriecicof видение культуры
рийцами и вавилонянами было, быть может, нечто подобное, и вообще Древний Восток по своему характеру и сложности напоминает средиземноморский мир Запада. Однако в своей полной жизненности он нам мало известен, практически очень далек, и к тому же там не были достигнуты такие результаты, которые действительно допускали бы сравнение с современным европейско-американским миром. Частью рецепции культуры Древнего Востока, как, например, освещаемые Японией или Индией, или обособление от него, подобное тому, которое происходило в культуре становящегося эллинского мира, - нечто совсем иное. Наш европейский мир основан не на рецепции и не на обособлении от античности, а на полном и осознанном срастании с ней. Европейский мир состоит из античности и современности, из древнего мира, который прошел все ступени от примитивной стадии до сверхкультуры, и из нового мира, который формировался у романо-германских народов со времени Карла Великого и также прошел все ступени. И эти различные по своему смыслу и развитию миры настолько прониклись друг другом и настолько срослись в историческом воспоминании и континууме, что современный мир, несмотря на свой совершенно иной дух, самым тесным образом связан с античной культурой, с ее традицией, правом и государственным строем, языком, философией и искусством. Только это дает европейскому миру его глубину, полноту, сложность и подвижность, а также уже названную раньше склонность к историческому мышлению и историческому самопостижению14. Именно поэтому, быть может, только в этом средиземноморско-европейско-атлантическом мире присутствует сама мысль о развитии, которая произошла не только из ясного целенаправленного мышления Аристотеля в его учении об энтелехии и из хилиастической идеи о цели христианства; эта мысль не просто связана с представлением о прогрессе, бытующем в современном гражданском мире, а наряду со всем этим есть следствие содержания такого двойственного мира, содержания богатого, полного напряжения и противоречий, и все-таки единого, всегда призывающего к переработке и сознанию. В отличие от него Восток совершенно стабилен и консервативен, и это также объясняет, что понятие развития и понятие истории, и прежде всего философии истории, лишь в незначительной степени влияют на внеевропейский мир15. Арабская и китайская история не вышла за пределы повествования и объяснения, а последняя — даже за стадию анналов, хотя ей и присуща известная склонность к критическому установлению фактов. Такое парадоксальное положение дел в Европе было бы необъяснимо, если бы между этими двумя мирами не появилось некое посредничество, которое их столь же разделяет, сколь и самым тесным образом соединяет. Это посред
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры 673
ничество осуществляет христианская церковь. Являясь результатом самораспада античности, она спасла государство, культуру и общество в рамках созданной ею организации, привела к своего рода восстановлению античности, к образованию в Византийской империи римского государства, а затем перенесла устройство этого государства и его культуру в общество варварских романо-германских народов, преобразовав его в соответствии с их потребностями. В этом состоит огромное всемирно-историческое значение христианской церкви для нашей культуры: она являет собой не только столь значимый для всех культур религиозный элемент, но сверх того осуществляет связь и непрерывность между двумя совершенно различными народностями и их развитием16. Именно поэтому еще сегодня и в обозримом будущем европейско-американская культура связана с христианством, конечно, не с давно раздробившимися и оттесненными более могущественными силами церквами, а с тем христианством, в котором заключены и соединены античность и современность, историческая непрерывность и живое своеобразие современности. Христианство - не только религия Европы, но сверх того также слияние различных по своему характеру сторон, ее дуализма души и тела, посредством этой своей функции оно вводит в западный мир особые религиозно-социологические моменты, которые не соответствуют ни одной из ступеней общих схем и придают своеобразный характер всем европейским проблемам, не свойственный ни одной из мировых религий в их отношении к государству, обществу и культуре17.
Если тем самым отпадает возможность конструировать европейскую историю, исходя из общих всемирно-исторических схем, и они могут быть применены только по отдельности к каждой из составляющих ее частей, то из этого следует, что развитие и совершаемое в этом процессе построение европейской культуры представляют собой весьма своеобразную проблему. Здесь неприменима готовая формула, для этого должна быть найдена формула особая и специальная. Вместе с тем становится понятен и жизненный интерес европейского мира к обладанию этой формулой. Европейская культура состоит из содержаний самых различных культур, принадлежащих своеобразным историческим мирам и ступеням развития. Они все время сталкиваются и соединяются, ибо они остались живыми и непосредственно воздействующими, а не превратились в результат учености и исторического исследования. Они постоянно соприкасаются и смешиваются с теми новыми силами и идеями, которые создает европейская культура, но в этом постоянном преобразовании сохраняется ясно осознанная наследственность. Поэтому по мере того как эти культуры сталки
674 Историко-социологическое видение культуры
вались, соприкасались и одновременно созидали и действовали, европейский мир нуждался в понимании своей истории, в историческом образовании и в том единственном, что может преодолеть историзм, - в пронизывании исторического содержания европейского мира в его отношении к настоящему и будущему материалом философии истории.
К тому же взаимопроникновение процессов развития двух культур, различных по своим климатическим, географическим и антропологическим условиям, имеет еще то значение, что именно сегодняшнее особое положение Запада, обусловливающее своеобразие его общественной, технической и административной организации, в значительной степени является следствием этого слияния. В античности и в средние века европейские народы были в значительной степени сходны в социальном и техническом отношении с другими народами. Современная же Европа и Америка обладают, если принять во внимание социальное, политическое, административное и экономическое устройство, исключительным своеобразием, сущность и возникновение которого, а также отношение к аналогичным, нигде не выходящим за известные пределы условиям существования других народов античности и современности, составляет историческую проблему первостепенной важности. Причины этого заключаются в соединении конструктивного научного рационализма греков, строгой систематизации права римлян и созданных внутренними отношениями, свободным трудом и ростом средневековых городов аутохтонных сил Запада. При этом решающим было и становилось все более таковым влияние греческой науки. Она ввела математику в естественные науки и технику, гуманизм — в школьное обучение и право и в качестве всесильной автономной науки легла в основу европейского общества. Результатом соединения неодолимого стремления к распространению и созиданию, присущих северянам, с наследием античности, что помогло им освободиться от традиционализма и религиозной скованности, взять свою судьбу в свои руки и организовать все свои действия на основе сознательно намеченной цели, была научно обоснованная, полностью осознанная целерациональная организация, которая может быть подчинена только научной образованности. Это привело прежде всего к возникновению современного рационально управляемого государства и современного крупного предприятия, связанного с мировым рынком, — к этим двум центрам современной Европы, а вместе с этим и к присущим данной стадии развития социальным проблемам и напряжению, они полностью отличаются от проблем древних и современных рабовладельческих государств или государств с кастовым
>рнсг Трёльч. О построении европейской исюрии кулыуры 675
делением, а также от китайской патриархальности и корпоративной системы, и поэтому требуют новых неведомых ранее решений, к которым здесь приступают с тем же охватывающим огромную область рационализмом. Не случайно учение отцов современного социализма вышло из науки, философии и гуманизма, а материалом, который они имели перед глазами, было современное государство и крупные предприятия. Прообраз всех этих организаций, католическая церковь, ее право, понимание истории, систематика и техника государства, также вышла из античного рационализма, поэтому она еше сегодня требует от своих священников соответствующих сану научных знаний, начатков систематического и одновременно трезвого реального мышления: эта особенность ее служителей отличает их от всех священников и пророков мира и постоянно вызывает нападки энтузиастов и мечтателей. И если современное общество нуждается в историческом и систематическом самоанализе и вследствие этого создало историческую науку и социологию, то этим оно продолжает то, что было начато в греческой критике и систематике и вело через христианское естественное право к современной светской, а отсюда к чисто эмпирической рациональной науке и технике изучения общества, от античных государственных форм к современному сравнительному праву, науке о государстве и социальных отношениях. Всего этого нет во всем остальном мире и, насколько нам известно, никогда не было. Считать все это само собой разумеющимся и нормальным, простым завершением и развитием повсюду существующих задатков, которые ищут даже в этнологии, - не более чем самообман. Нет, мы в этом отношении единственны - к нашему счастью или несчастью, в данном контексте безразлично, и эта наша исключительность возникает из соединения двух очень своеобразных и самих по себе уже исключительных ступеней культуры - северо-европейской и средиземноморской античной. С конца так называемого европейского средневековья это соединение и срастание становилось все более осознанным и систематичным, и сегодня его результат — чрезмерное богатство и напряжение сил — очевиден18.
Так возникает для нашего европейского мира большое значение истории, а на стадиях его сложного созревания — задача философии истории в вышеописанном смысле. Своего рода подступы к этому обнаруживаются уже в период поздней античности у следующих за Полибием эрудитов, у гностиков и апологетов христианства от апостола Павла до Августина. Но полная и сознательная постановка этого вопроса была достигнута лишь на стадии зрелости современного мира, от Вольтера и Гердера до Конта и Гегеля и их нынешних продолжателей. То, что упоминалось уже
676 Историко-социологическое видение культуры
раньше, только в это время получило свое последнее и настоящее освещение. При этом особое своеобразие этого исторического мышления состоит в том, что оно не удовлетворяется, в отличие от истории Востока, Библии и раннего христианства, мифическими поэтическими картинами. В этом проявляется не только ясный критический рационализм, заимствованный Западом у греков и применяемый во всех областях, но и растущая внутренняя необходимость. С того момента, как внимание людей было обращено на сложность всего содержания культуры и была предпринята попытка овладеть этим содержанием посредством исторического анализа, при наличии соперничества различных культурных содержаний и их мифических супернатуралистических обоснований, возникла необходимость выявить на почве истины и доверия к истине подлинные сложные исторические проблемы и свести тиранические обоснования мифических ценностей и веры в чудеса к их подлинному значению. Это было совершено уже в античности. Если в Новое время это было сделано в значительной мере еще решительнее и строже, то причина заключалась в необходимости освободиться от церковного мифа и огромной мощи всеохватывающей легенды, посредством которой христианство противостояло дальнейшему развитию исторической науки и творениям современной мысли. Так же как современное понятие исключительности суверенного государства возникло в соперничестве абсолютной истины и суверенности церкви, с одной стороны, и становящегося государства — с другой, из освобождения от церковного мифа возникла современная историческая критика в ее значительно превосходящей античное понимание остроте, методичности и осознанности. Исходя из этого, критика распространилась и на вторую важную догму, догму классической древности, и на мифические элементы античной истории и в конце концов втянула все в свою сферу, превращаясь в конечном итоге едва ли не в спорт и самоцель19. Историческая критика как духовная позиция стала подобно критической позиции в естествознании составной частью специфического европейского этоса и заключает в себе как практическую необходимость жизненной ориентации, так и непоколебимость определенного чувства истины, которое одновременно представляет собой большей частью бессознательное метафизическое доверие к истине: все это в целом — объединенное воздействие греческого рационализма, религиозной идеи истины и ее догматической борьбы.
Это соединение критики, конструирующего отображения и философско-исторического синтеза возымело, как оказалось в конце концов, еще совершенно особое практическое значение,
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры 677
которое вначале совсем не имелось в виду и возникло внезапно как все усиливающееся в своем могуществе побочное воздействие. Критическое исследование периодов великого прошлого с его погружением в живо увиденную, исследованную во всех ее каузальных связях историческую действительность привело к ее своеобразному оживлению и возрождению. Выявление в догмах, мифах и учебниках живой реальности прошлого возобновляло и усиливало его воздействие. Историческое исследование создало новую идею христианства, и с каждым новым, глубже или дальше проникающим изучением его истории продолжает вносить в эту идею новую жизнь. Совершенно так же историческое исследование античности освободило ее от академических интерпретаций и послужило основанием ее громадного обновленного воздействия. То же происходит и будет, по-видимому, и впредь происходить с изучением средневековья и всего германизма. Подлинное историческое исследование в этой области освобождает нас от ложных притязаний и ведущих к заблуждениям образов, но одновременно открывает нам подлинный источник нашего существа. Из этого возникает своеобразная игра сил и тенденций. Для того чтобы освободиться от истории и обрести над ней суверенное господство, мы бросаемся в пучину исторической критики и реконструкции. Этой работой, которая в действительности отодвигает от нас прошлое, мы все-таки одновременно вновь оживляем его и пробуждаем его дух более свежим, исконным, живым и действенным, чем он был в обличье прежних исторических условностей. Критически и конструктивно проникающая в суть проблемы историческая наука освобождает нас от догм, посредством которых мы превратили наше знание о прошлом в догматическую и постепенно теряющую свой живой дух силу. Однако это уничтожение является одновременно оживлением и восстановлением более глубокого, по-новому увиденного, исходя из установки современности и расширения области исследований, образа прошедших вещей. Что эта игра не лишена опасности и легко может выродиться в чисто пассивно созерцающий, остроумно сравнивающий и превращающийся в конце концов в тупо изучающий факты историзм, само собой разумеется и хорошо нам известно из грустного опыта. Однако это неизбежная судьба каждой культуры, содержащей столь различные двойственные ценности и достигшей такой зрелости, как наша, особенно в последние века. По мере образования мифической и конвенциональной истории ей приходится все время разрушать ее, чтобы, соприкасаясь с материнской почвой, обретать, как Антей, силу для своего становления. Такова награда за доверие к истине и за критическое чутье, награда, желанная, правда, толь
678 ИCTopineo-coiдологическое видение культуры
ко в этой атмосфере, но вместе с тем постоянно очищающая ее и вносящая в нее новую жизнь. Из этого вновь возникают исторические понятия и догмы, соответствующие новым потребностям, чтобы вновь подвергнуться разрушению и замене другими. Это продолжается до тех пор, пока сохраняется суверенная сила переработки, упрощения, углубления и оживления исторического материала, выявления все новых исконных сил и отбрасывания все время накапливающегося балласта. Если эта сила будет утрачена, историческая наука утратит всякий смысл и интерес. Как знание о событиях прошлого она никому не нужна. Она превратится в схоластику и забудется, как та, ибо в обществе всеобщего варварства и примитивности нового типа потребности в ней не будет.
Это не пророчество о будущем, а лишь пояснение существа дела. Пока мы еще не лишены этой силы, также как интереса ко все новому и более глубокому историческому исследованию. Правда, очевидно, что европейский мир в важный период империалистически-капиталистических, суверенных и бюрократических крупных держав переживает глубокое потрясение. Этот период, который начался с позднего средневековья образованием суверенных светских государств, опиравшихся на армию и аппарат чиновников, в мировой войне, по крайней мере поскольку речь идет о Европе, завершился внутренним и внешним крушением. Но мы еще не готовы, не говоря уже о все более становящейся центром, уверенной в своем будущем Америке, к идиллии, к сокращению населения и потребностей, ценой чего может быть достигнут мирный покой старости, или к героической смертельной борьбе внутри всей сферы нашей культуры, борьбе, которая, при отсутствии способности и склонности к самоограничению, ввергла бы вступающие в нее честолюбивые, жадно стремящиеся к власти и владениям государства в последнюю войну на взаимное уничтожение. Мы еще стремимся к новому социальному и политическому устройству мира, а в связи с этим к новой концентрации и углублению идей. Однако то и другое невозможно без глубокого исторического самоосмыс-ления, без формирования нового исторического самосозерцания и без новой связи между получившим обновленную жизненность содержанием и складывающимся социально-политическим существованием. Это требует прежде всего исследования истории и философии истории в указанном здесь смысле, а вместе с этим и соприкосновения, и размежевания обеих. Здесь ничего не может изменить ни сиюминутный радикализм разума взывающих к новшествам революционеров и удобная мистика переживаний велеречивых, преследующих свои интересы людей, ни детская ненависть к науке пресыщенной школьными занятиями молодежи. Все это
)pnci Трёльч. О построении европейской истории кулыуры 679
свойственно всем революциям. Но революциям свойственно и то, что после них происходит углубление исторического самоосмыс-ления и восстановление духовного и общественного мира на основе вновь проверенных данных. И это тем скорее, чем в большей степени уже до революции начались критическое самоосмысле-ние и философско-историческое построение, вызванные инстинктивным ощущением все сильнее действующих на нас жизненных кризисов. После революции этот процесс возобновится с новой силой. Французская революция также была, наряду с материальными, социальными и политическими причинами, подготовлена исторической критикой и историческими конструкциями, и после короткого междуцарствия чистого рационализма и энтузиазма за ней последовало громадное углубление исторического мышления. Полагаю, что и в данном случае все произойдет также.
Сомневаться можно лишь в объеме этой всеобщей истории европеизма. Из-за существовавшей с незапамятных времен общности между Европой и Передним Востоком многие требовали включить в нее исламский мир, утверждая, что он родствен по своим корням еврейскому пророчеству и эллинистической культуре, в течение долгого времени способствовал развитию Европы, влиял на нее в качестве превосходящей ее культуры и даже еще теперь, пребывая нашим ближайшим соседом, обладающим относительно близким нам принципом культуры, ставит перед нами часть наших самых существенных жизненных проблем. Из этого исходит монументальная, только отличающаяся излишним преобладанием здравого смысла «История Древнего мира» Эдуарда Мейера; в своем грандиозном исследовании первого периода европеизма он ставит эллинский и римский мир в тесную связь с Передним Востоком. Конечно, вещи нужно видеть так. Но видеть их так не означает объединять их в единый мир и в единое развитие, разве только решающей для такого объединения может послужить мысль о едином и общем смысле культуры.
Если не рассматривать древность только как таковую, к чему слишком склонен Эдуард Мейер, а видеть ее в тесной связи с европеизмом, то оказывается, что, невзирая на тесное переплетение античности со всей средиземноморской и переднеазиатской сферой политики и культуры, все-таки начинающими и основополагающими были греки, и тогда их тесная связь с Востоком для нас теряет св<5е значение. В этом отношении справедлива концепция Гегеля, который считает, что с появление.м греков человечество впервые открыло глаза, если, конечно, под человечеством понимать европейцев. С Востока в европейскую культуру проникло как самостоятельно действующая сила только еврейское пророчество
680 Исгорнко-со11м<ы!огичсскос видение культуры
и его следствие - христианство, и это не без глубокой внутренней причины. Ибо идея личности в пророчестве родственна не Востоку, а именно греческому миру, поэтому она и была воспринята им в силу внутренних причин еще до христианства и присутствовала в нем параллельно христианству, тогда как Восток отверг ее. О том, как Восток воспринял эту идею, свидетельствует ислам, арабизировавший иудаизм и христианство и превративший возникшую из них религию в военно-политический принцип. Если он соединил с ним эллинистическую культурную традицию, то это именно эллинистическая, а не, как в Европе, преимущественно римская с ее практическим административным духом. К тому же соединение исламской религии с греческой культурой даже в отдаленной степени не носит столь внутренний и сущностный характер, как на Западе. Эллинизм остался лишь принципом культуры, и гуманизация ислама шла скорее из персидской мистики, чем из греческой культуры. И прежде всего речь может здесь идти только о родственности и общности основ, а не целей и образа жизни. Цели исламского мира никогда не были, как в Европе, целями автономного, свободного и не имеющего границ, независимо действующего человеческого духа, а образ жизни состоит там скорее в жестокой борьбе, чем в сообществе семьи народов, подобном тому, которое создал Запад в полном отличии от восточного и позднеантичного империализма. Поэтому у ислама своя всеобщая история, сколь бы многообразно и тесно ни было его отношение к европеизму, и он не входит во всеобщую историю Европы. Культурного синтеза обоих миров быть не может, разве что возможна идея взаимной толерантности и взаимного понимания очень различных духовных миров; но для этого нужен модернизированный и европеизированный ислам, такой, как тот, к которому, быть может, стремятся современные египтяне. Скорее наоборот, именно при относительной общности предпосылок различное развитие обоих миров чрезвычайно поучительно для понимания сокровеннейших движущих сил европеизма20.
Следующий важный вопрос — включение России в европеизм. Славяне пришли вслед за переселением германцев, и под влияние решающей для Европы латинской культуры попали только их западные форпосты. К восточным славянам, а вместе с ними и к русским христианство и ряд культурных влияний пришли из Византии. Однако это настолько отличалось от древней подлинной эллинской культуры, что вряд ли может служить основой глубокой общности с Западом. К тому же русские были и географически так тесно связаны с Азией и азиатскими политическими властями, что в начальной стадии развития европейской культуры составляли особый мир. Но несмотря на это, они как раса на
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры 681
столько связаны с Западом христианством и, наконец, своей политикой и экономикой, что их можно рассматривать как одну из его великих сил будущего. Впрочем, это вряд ли произойдет таким образом, как полагают сторонники бурно расцветающей в России большей частью весьма легковесной философии истории панславянского мессианства. Это мессианство со всеми его великими писателями и фантастическими социальными экспериментами, вероятно, — лишь следствие внутреннего противоречия между насильственной европеизацией, проводимой царизмом, и подлинными, пробуждающимися специфическими духовными силами русского славянства. Здесь едва ли не все еще в движении, но это свидетельствует и о том, как далек еще конец Запада21.
Последний вопрос сводится к тому, в какой мере можно вообще говорить об европеизме ввиду господствующего положения Америки. Индийские писатели, занимающиеся поставленными здесь вопросами, вообще говорят не о Европе, а о Евро-Америке. Это странное, но многозначительное словообразование. В самом деле, нет сомнения в том, что Америка все больше выходит на первый план мировой культуры, а после разорвавшей и парализовавшей Европейский континент мировой войны заняла в ней даже центральное положение. Но для нашей проблемы это, в сущности, не более чем географический сдвиг, нередко встречающееся возвышение колоний над метрополией. Однако Америка все-таки колония, духовно полностью пропитанная европеизмом и все более поглощающая духовные силы старой Европы. Подобно тому как ее музеи заполняются теперь выдающимися произведениями европейского, а насколько возможно, и античного искусства, как ее наука постепенно впитывает европейскую культуру, она во все большей степени будет перенимать и внутреннюю логику европейского духовного развития, и переживет в сфере социальных, политических и экономических отношений еще многое из того, что пережили мы. Америка находится еще в начале своего пути, но ее собственное начало - идеал свободной от европейских конфликтов и пороков абсолютизма демократической моральной идиллии, экономически и религиозно образцового мира, уже давно утрачен. Колониальный провинциализм Америки исчез, хотя еще достаточно часто проявляется. Америка вступает в могучее непредсказуемое будущее, силы для которого она черпает в европеизме. И здесь перед нами один из открытых вопросов будущего, который предостерегает нас от слишком узкого, только центральноевропейского понимания культурного синтеза и от уверенности, что для развивающихся народов нашей культурной сферы этот синтез должен отличаться от нашего, но вместе с тем и от того, чтобы мы
682 Истормко-соцмапгогическое видение культуры
не слишком строго и высокомерно относились к американизму, в котором мы по существу уже пребываем и о котором нам не следует забывать при размышлении о нашем будущем22.
3. Проблема объективной периодизации
Речь, следовательно, идет, со всеми сделанными здесь оговорками и дополнениями, о всеобщей истории европеизма, которой в таком понимании еще никто не занимался, хотя есть достаточное количество работ, где рассматривается главная проблема - связь между античностью и европейским Западом. Отдельные отрезки этого процесса изучались в подлинном духе всеобщей истории, и в ряде исследований эта проблема поставлена. Однако для нашей цели, как было указано выше, не требуется полностью произведенное изучение исторического процесса, нужна лишь объективная периодизация, необходимая для расчленения периодов и для общей конструкции. Что такая периодизация возможна и что на эту возможность не влияет возникающая в каждой новой ситуации задача построения новой периодизации, было также указано выше. В вопросе о расчленении главных исторических периодов общее согласие почти достигнуто, речь идет о более тонком историческом понимании, скорее о смысловом содержании каждого периода и о глубоких причинах их разъединения и следования друг за другом. В соответствии с принятым нами методом, мы и здесь дадим обзор уже разработанных ранее периодизаций. В них много говорилось о том, надо ли исходить из состояний или из событий. Однако это различие носит поверхностный характер. Состояния, которым, как полагают, должна оказывать предпочтение история культуры, в сущности - следствия событий и основания событий, а события, в свою очередь, объясняются только из всегда меняющихся, хотя и пребывающих в мнимой неизменности состояний. Одно предполагает и обусловливает другое. Здесь дело обстоит так же, как в столь же неверно поставленной проблеме о различии между массой и личностью, - один из многих встречающихся в науке циклов. Верно в этом только то, что в общем средний результат событий является устойчивым состоянием равновесия, тогда как прорыв складывающихся в них новых возможностей требует особого рода ведущих личностей, создающих новое, их действия вызывают новые состояния устойчивого пребывания и как бы подспудное воздействие определенных тенденций. Надо сказать, что такие прорывы к новому происходят не слишком часто, и лишь тогда, когда они происходят, появляются многочисленные личности такого рода2’. Более
Эрнст Трёльч. О построении енропейской истории культуры 683
правильно поставлен другой вопрос: следует ли класть в основу периодизации крупные социологические, длительно сохраняющиеся формы жизни, которые и сами могут быть духовно обусловлены, но пока они сохраняются, в свою очередь формируют и определяют духовную жизнь, возможности действий и их направления, или следует исходить из последних глубочайших духовных установок периодов, которые, во всяком случае, также сопричастны социологическому формированию и представляют собой движущие силы единства? Это в самом деле лежит в основе различия существующих периодизаций, и в конце будет необходимо прежде всего определить наше отношение к этому вопросу.
Выдающийся представитель второго направления — Гегель, он оставался при всех обстоятельствах не только философом, но и глубоко проникающим в историческую действительность исследователем, при этом, однако, он исходит из более раннего состояния исторической науки. Гегель рассматривает указанную проблему прежде всего в ее прежнем общем понимании как всеобщую историю человечества, но лишь для того, чтобы сразу же присоединить к древней истории Переднего Востока греко-римскую и христианско-германскую историю как основной фактор. Географически-антропологические соображения при этом не оставлены без внимания, но включены в идеальное, не забыты и политические моменты, и каждый идейный период связан с определенным типом государства, так что последовательность типов государств образует подлинный костяк развития. При этом Гегель, и это характерно, колеблется в определении главной периодизации и устанавливает типичную подчиненную периодизацию для каждого периода в истории государства, которую он, в сущности, провести не может. Его колебание не лишено интереса. В главном разделе, где он рассматривает эту проблему, он делит всемирную историю на следующие периоды: восточное государство, где наивно преобладает субстанциальное мышление, а индивидуальное распылено; греческое, где индивидуальное выступает на первый план, но только в прекрасном достигает для мышления не опосредствованного единства всеобщего и индивидуального, в остальном же созидающая политическая сила — незначительна; затем римское, где всеобщее соединяется в праве с индивидуальным в полном, но только светском синтезе, не проникающем в последние глубины; и наконец, германское, которое начинает с коренящегося в христианстве духовно-религиозного синтеза, но затем посредством очень сложных процессов доводит вначале лишь в себе совершенное примирение до внутреннего усвоения и в конце концов переносит это усвоение в современное разумное государство и его философскую
684 Историко-coiyiaiioi ическое видение кулыуры
культуру. Эти четыре ступени сопоставляются с развитием человека от детского до старческого возраста. Но r других местах это относительно реалистическое социологическое деление на четыре ступени переходит в соответствующее его дедуктивному методу троичное деление — на сущий в себе, сущий для себя и сущий в себе и для себя дух, в результате чего греческая и римская культуры соединяются в одну культуру, и последовательность ступеней получает посредством возвращения к диалекгически-метафизической системе свою действительную объективную необходимость. Лишь таким образом история становится совершенно объективно систематизированной, но именно в этом, несмотря на всю глубину диалектики, состоит несостоятельность такого построения. От него в действительности остается только деление по типам государств, которые одновременно служат воплощениями свойственных только каждому данному государству духовных типов. Это быстро поняли критики, и от гегелевской системы исторического развития осталось, в сущности, только деление на главные типы государств с соответствующей им духовностью. Уже блестящий исследователь Генрих Лео дал эту критику и подчеркнут важность реалистического и политико-социологического элементов, что имело значительно большее значение, чем его догматически-религиозные указания.
Периодизация Гегеля, в сущности, чисто идеологична. Ибо государство является у него самостоятельной правовой конструкцией общего духа или души, которые в свою очередь определены в конечном итоге религиозно-метафизической установкой сознания, а она складывается из судьбы народов и наций и именно поэтому относительно независима от чисто биологических и естественных условий, более того, подчиняет себе их в качестве пластической силы. Великие люди в качестве управителей мирового духа служат отправными пунктами, а местность - формирующей почвой этих предстающих в виде государств культур.
При жизни Гегеля и после него делалось множество попыток построить подобные чисто идеологически обоснованные периодизации. Теологи охотно переносили периоды церковной истории во всеобщую историю и рассматривали изменения религиозного сознания как исходные моменты периодизации, что, конечно, вело у протестантов и католиков к совершенно различным последствиям24. Верно только то, что каждый большой период культуры в самом деле обладал в своих глубинных пластах, осознанно и неосознанно, желая или не желая того, особым метафизическим сознанием. Но эта основа определяется опосредствованно и при участии множества других сил, именно постигаемой и представляемой религией, которая в качестве живого интереса всегда
Эрнст Трельч. О построении европейской истории культуры 685
присуща лишь немногим и лишь в исключительных случаях превращается во всеобщее движение, тогда как великие религиозные точки зрения, в свою очередь, определяются также и общими культурно-историческими условиями, а их результаты сразу же в зависимости от места и связей ассимилируются общей ситуацией в светской жизни. Религиозно-метафизическое начало ведет в последние глубинные пласты, но в качестве средства объективной периодизации оно при его непостигаемости и его неидентично-сти течению официальной организованной религии использовано быть не может. Еще менее правомерно перенесение на всеобщую историю периодов истории искусства, распространенное ныне под влиянием всезнающих историков искусства. Говорят о классической, романской, готической культурах, о культурах Возрождения, барокко и рококо, полагая, что это периоды, которые должна пройти каждая культура. Степень правильности здесь еще меньше. Искусство благодаря его неинтеллектуальному и созерцательному характеру, правда, при известных обстоятельствах особенно зримо представляет дух эпохи, а в исключительных случаях придает содержанию эпохи посредством художественного оформления этоса способность очень сильного воздействия и дает ему яркое воплощение, как это совершают Гомер, Шекспир, Данте и Гёте, но расцвет искусства зависит от многих обстоятельств, а гении в области искусства — дар судьбы, который не всегда обнаруживается там, где необходимо что-либо выразить. К тому же оно в качестве принципа, оказывающего еще значительно менее общее, чем религия, воздействие, повинуется собственным законам развития25. Таким образом, во всех этих случаях не может быть и речи об объективной периодизации, тем более что собственные убеждения открывают здесь широкий доступ субъективности. Это относится и к самой интересной и оригинальной со времен Гегеля попытке идеологической периодизации, предложенной Шпенглером. В его морфологии из биологического потока бессознательной истории животной жизни возникают, правда, лишь восемь великих сознательных, просто сосуществующих, расцветающих и увядающих по одинаковому закону культур, каждая из которых выражает своеобразную, определяемую характером местности душу и, в сущности, может быть лучше всего характеризована с художественной точки зрения. Тем це менее действительность заставляет его в ряде случаев так же, как это сделано здесь, объединять античность и Запад и тем самым периодизировать европеизм. Затем следуют аполлоновская, арабо-магическая, т.е. христ ианско- сем итически-неоплатонически -церковная, фаустовская или готическая культура и культура барокко, каждая из них перерождается в цивилизацию с ее господством
686 Историко-со1ц1олоп<ческое видение культуры
интеллекта, техники, крупных городов, демократии и космополитизма, что служит началом упадка и возвращения к существованию феллахов. Суть этой конструкции — враждебная характеристика современной цивилизации, которая рассматривается с отвращением, родственным школе Георге, насильственно лишается души посредством исключения христианства как арабо-магического чуждого тела, посредством презрения к интеллекту и науке, ко всему тому, что носит какой-либо естественно-правовой, этически гуманный характер, следовательно, ко всем существенным тенденциям современного мира. В этом уже проявляется догматический исходный пункт, который, будучи присоединен к произвольным характеристикам, исключает, несмотря на множество очень значительных наблюдений, всякую мысль об объективной периодизации. В близкой прагматизму, биологизму и скепсису философии Шпенглера полностью отсутствует что-либо подобное тому, чем служит у Гегеля диалектика в качестве логического стержня понятийно необходимого следствия. В философии Шпенглера мы оказываемся на почве романтической гениальности, так же, как у столь многих современных авторов после Ницше. Подлинная периодизация должна держаться более твердо постигаемых политических и социальных форм, что и совершают большей частью настоящие историки.
Тем не менее и такой мастер, как Ранке, проводит идею политической периодизации только при большом внимании к идеологическому содержанию, причем для указания на филиацию воплощающихся таким образом идей или тенденций нередко обращается к диалектике или к «природе вещей»26.
Гем самым он строит периодизацию, которая основана прежде всего на действительном политическом положении, но тем не менее отклоняется от единого принципа. Этот принцип — созданный Римской империей политический и культурный мир, который затем становится западным или германо-романским миром. Восток и эллинство - только преддверие, в котором еврейский монотеизм составляет важнейший элемент мировой истории, позднее оказавший благодаря христианству и его связи с римской культурой первостепенное воздействие на установление единства Запада. Таким образом, Ранке начинает периодизацию с римской мировой империи I—IV вв. и описывает монархический строй, государство, управление и право, а также литературу и философию этого периода, и прежде всего связь мировой империи с мировой религией. Второй период - период германских и арабских завоеваний, становления самостоятельности западного мира и превращения его в семью римско-германских народов. Третий период - период рецепции римской идеи империи каролингскими и немецкими
Эрнст Трельч» О построении европейской истории кулыуры 687
императорами IX-XI вв. Заканчивается этот период ослаблением императорской власти вследствие отделения ряда государств и обретения самостоятельности высшей аристократией и церковью. За этим следует четвертый период — господство иерархии XI—XIII вв., господство духовного принципа, которое стало возможным только в определенных условиях и основано на дипломатии и войне, а не на идейной последовательности - преобразование римской идеи империи в идею папства. Пятый период - период разрыва тесной связи между государствами и церковью, достигшей чрезмерной власти, время образования национальностей, сословного строя, непомерной автономии отдельных сословий, городской культуры. Шестой период — период Реформации и религиозных войн, когда в ходе общей децентрализации постепенно возникает система великих европейских держав и господствующего в ней габсбургско-французского противоречия, когда благодаря Реформации сломлено преобладание церкви и религиозный элемент в значительной степени подчинен национальному, одновременно благодаря Великим географическим открытиям и колонизации происходит расширение территории Запада, а в войнах с турками возникает восточный вопрос, в остальном этот период в духовном отношении означает возврат к теологии и средневековью. Седьмой период - эпоха великих держав, когда в ходе религиозных войн поднимаются Англия, Голландия и Швеция, а Россия сближается с уже не полностью католическим Западом. Римская идея империи и идея церкви вытесняются теперь идеей семьи европейских народов и равновесия Европы, а теология и гуманизм — самостоятельной мировой литературой Европы, новой по своему духу и своим интересам, среди которых большую роль начинают играть интересы естественно-научные, коммерческие и технические. На этот период была прежде всего обращена гениальность и симпатия Ранке, о чем свидетельствует его классическая работа о «великих державах». Восьмой период - эпоха революций, когда посредством абстрактного перенесения Америкой односторонне рассмотренного английского принципа демократии были вытеснены все предпосылки существовавшего до сих пор строя романо-германских государств с их ярко выраженным духовным и сословно-монархическим характером и тем самым вновь встала проблема западного мира. И наконец, последний период — период конституционализма, в который западный йир решает эту новую проблему, перемещает невероятное возбуждение в область национального развития и экспансии и связывает с этим поразительный расцвет экономики и техники. Таковы главные периоды. Внутри этих периодов Ранке любит пе-риодизировать по столетиям, быть может, исходя из предложенно
688 И сторико-coi отологическое видение кулыуры
го Лоренцом основания, что столетие охватывает три возраста и тем самым означает непрерывную личную связь от деда к внуку. Внутри столетия он периодизирует по поколениям и охотно иногда подчеркивает, что при всей непрерывности при смене одного поколения другим происходят изменения. Это было бы в самом деле преобразованием диалектики в психофизическое учение, своего рода натурализацией диалектики, очень объективным принципом периодизации, но он касался бы только более тонкого подразделения, а не главного деления на большие периоды27. Следовательно, это, в сущности, периодизация, основанная на изменении идеи, но сами изменения этой идеи зависят в первую очередь от политических событий и сохраняются прежде всего в их длительно существующей политической форме. Литературные, художественные и философские тенденции лишь редко и преходяще становятся господствующими. Вообще, высказывания о больше всего интересующем нас здесь пункте, о связи между основной политико-социологической формой и духовно-культурными элементами, лишь неопределенны23. О причине следования друг за другом самых основных политических типов и отсутствии такового он говорит мало. Он отчасти сводит их к случайным катастрофическим событиям, таким, как вторжение монголов, турок или варваров, или к открытиям - притоку золота, расширению территории, отчасти — к внутреннему психологически-л оги чес кому развитию, поворотам, расщеплениям и синтезам, напоминающим о диалектике. Следовательно, здесь достаточно сильно проявляется объективный характер периодизации, но одновременно и продолжающаяся непрерывность, которая расчленяется в этих периодах и в качестве основного духовного содержания часто превалирует над политическими формами.
Сходное обобщение свойств идеологической и социологической периодизации дано в блестящей и теперь еще достойной внимания книге Гизо «Histoile gdndrale de la civilisation en Europe» («История цивилизации в Европе») 1828 г. У него место политического, дипломатического и военного понятия государства заняло понятие скорее общественного характера, но оно, как и у Ранке, становится вместилищем идей: идеи определяются как цивилизация, как внутреннее жизненное единство социальных порядков с индивидуально-личностным духовным содержанием, что соответствовало тогдашнему либерализму. Разделению на цивилизацию и культуру, а также индивидуальности и особой духовности культуры почти не уделяется внимание. Но процесс духовного развития Европы дан необычайно пластично. Основой служит, как и в исследованиях Ранке, Римская империя и коррелятивная ей христианская церковь. За этим следует первый большой период истории Запада,
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории кулыуры 689 примитивный, или хаотически-варварский, который слагается из элементов германских королевств, феодального строя, иерархии и, наконец, городов при постепенном возвышении и преобладании этих сил, и завершается крестовыми походами, возглавляемыми единственным принципом единства, церковью. С ней в унаследованные от древности институты проникает современный и европейский дух личной свободы и субъективности. Второй период — позднее средневековье, когда из этого примитивного состояния начинают формироваться национально и политически централизованные единства народов и культур и закладываются основы современной идеи государства, связи народа и правительства. Движущей силой этого процесса является королевская власть, она стремится создать современное суверенное государство, но действительно достигает успеха лишь благодаря психологическому давлению правовой идеи, результат которой повсюду - кроме Германии и Италии - составил основу значительного прогресса. В связи с этим возникают попытки реформировать церковь, значительно более высокая духовная культура античности вновь проникает в светскую сферу жизни, и цивилизация обретает в развитии техники, мировой торговли и колонизации неведомую до той поры на Западе силу. Третий период начинается с XVI в., разрушает в восстании против церкви принцип церковного единства и заменяет его в конечном итоге идеей мира европейских государств или идеей равновесия, в результате чего возникает полная взаимосвязь и живое культурное единство стран Запада, которые сохраняют свое значение до сего дня, все время расширяя сферу своего действия. Важным событием этого периода является английская революция: относясь еще к конфессионально и религиозно определяемому отрезку западной истории Нового времени, она тем не менее окончательно связывает личную независимость с конституционным отказом от абсолютизма и тем самым ставит проблему современного мира, а именно открывает германо-нордическому чувству личной свободы доступ в созданные феодальной аристократией из варварства и хаоса города, а затем в образованное абсолютизмом государственное и общественное единство.
С этим чувством связана вся полнота и жизненность современной европейской культуры, дух которой во многом противоположен пространственно и политически значительно более узкому и не ведающему глубин субъективности античному полису, но которая тем не менее в сущности питается созданной им культурой29.
Пользуясь такой идеологической периодизацией, историки в отличие от чистых философов очень подчеркивали реалистическую сторону государства, хотя и рассматривали государство всегда как
690 Историко-сощюлогичссюм? видение кулыуры
тело культуры и цивилизации. На этом основано то, что здесь периодизация оказывается очень сильно связанной с мыслью о внутренней филиации идей и тем самым становится выражением логического членения. Однако при большой зависимости государства от внешних и случайных событий это сопоставление государственных идей или проявлений государственного духа не дает действительной филиации идей, которая могла бы служить основой внутренне необходимой периодизации: она в конечном итоге превращается в смещение психологическо-логической непрерывности с тысячами случайностей. Но прежде всего несостоятельно положение о действительно существенной обусловленности государства идеями и его наполненности ими. Экономические, социальные, а также властные и популистские условия играют большую роль в государстве, и, поскольку психологические и духовные основные позиции в свою очередь определяют эти условия, отношение всегда оказывается особым, трудно постижимым и уж, как правило, не объяснимым общей непрерывностью духовного воздействия. Таким образом, государство предстает - во всяком случае, для компактного замкнутого понимания крупных взаимосвязанных отрезков - скорее как образование, созданное очень реальными силами и материальными потребностями, удовлетворение которых только и создает основу для относительно самостоятельного, заполняющего короткие промежутки времени глубокого осознания и самоформирова-ния духа30. Так, вместо идеологической периодизации появляется периодизация социологическая, в ней филиация с самого начала значительно слабее и является поэтому скорее сопоставлением материальных и институциональных состояний. Это позволяет рассматривать периоды как самостоятельные данности и основывать деление больше на фактическом впечатлении от социологической особенности. Находить опосредствования и переходы предоставляется конкретному исследованию. Последовательность периодов может быть при этом объяснена из законов перехода к более сложным видам жизненного устройства, которые выводятся из сравнения различных культурных процессов только в самой общей форме и недостаточно убедительно. Духовные и психологические основы названных состояний, специфическое стремление к искусству, хозяйственная настроенность, исконная склонность к политике могут быть лишь предположены с недостаточной степенью уверенности и, во всяком случае, не позволяют построить продуманную чисто логически цепь развития. Отделяющиеся и становящиеся на более поздних стадиях самостоятельными содержания культур всегда сохраняют известную связь с индивидуальной особенностью материальных и институциональных состояний, но при этом стремятся к
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры 691
самостоятельности в чистом эфире мысли и создают, опираясь на свою внутреннюю и независимую структуру, возвышающуюся над различными эпохами, а в случае рецепций - над различными сферами культуры, собственное независимое представление о своей связи и филиации, которое склонно заменять действительную, значительно более тяжелую земную связь в развитии и поэтому часто обманывает историка. Конструкции в области истории искусства, истории религии и истории философии нередко подпадают под такого рода обман. Его надо в первую очередь устранить31.
Своеобразие идущей от Сен-Симона социологии Конта и Спенсера состоит в том, что государство или то, что для них занимает его место, общество, в свою очередь рассматривается как коррелятивное жизненное единство, создающее все явления, но само это единство принимается во внимание только со стороны природы человека и его потребностей, а в духовном же отношении - лишь исходя из поверхностного пласта интеллекта и требующего симпатии и счастья аффекта. Этим путем мы в самом деле пришли к объективно устанавливаемому принципу. Попытка ввести мыслимые таким образом социальные организмы в пе-риодизированный эволюционный ряд, подчинить их известному закону трех стадий, представляет собой опыт на прежний манер периодизировать развитие человечества, не уделяя внимания особым культурным сферам, и для поставленной здесь задачи хотя и не лишена некоторых импульсов, но в главном значения не имеет. Наиболее приемлема, пожалуй, идея Спенсера об эволюции от стадного состояния посредством дифференциации и интеграции; ее можно применить к отдельным культурным сферам и использовать развитие от статуса к контракту или, по терминологии Тённиса, от общности к обществу, как типичную схему внутренней связи и продвижения. Если стать на такой путь, то проявления этого основного направления в институтах, как в имеющих силу только в действительности, так и в правовых, получают решающее значение в качестве средства периодизации. И тем самым мы достигли главного пункта. Эти средства периодизации не объясняют, а характеризуют период и образуют связующие узы, внешне бросающийся в глаза признак, прочную и ограничивающую систему каналов, по которым следует каждое духовное и материальное развитие до тех пор, пока явные или подспудные перевороты не разрушат эти каналы и не приходится вновь их создавать. Средствам характеристики институтов соответствуют тогда перевороты в качестве существенных цезур. Это относится к возникновению полиса и империи, к появлению германцев на политической арене, к концу средневековья и т.д. В этом смыс
692 HcTopiwo-connftioririecKoe видение культуры
ле Лакомб*2 особенно подчеркивает, что в обществе наиболее необходимые и элементарные жизненные потребности составляют решающий фактор, что экономика служит как бы генерал-басом, в соответствии с которым находятся все остальные тона. Затем он выводит из экономики и ее переплетения с политическими, правовыми и социальными интересами важные длительно действующие институты, которые посредством своей мощной власти и проистекающей из этого определения всей духовной жизни образуют основу периодизации. Подобным же образом в своей области Гарнак положил в основу периодизации образование и уничтожение важных институтов и оказываемое ими влияние на более свободный мир мышления в религии и теологии, а затем формулировал эту мысль в своих историко-теоретических высказываниях для истории в целом, сознательно руководствуясь при этом противоположностью своего построения теориям Ф.Хр.Баура и Гегеля35. Однако исследуя эти институты, нельзя не прийти к заключению, что в них, хотя и не всегда, экономическое начало преобладает как обусловливающая основная сила. Это ведет к марксизму, который видел во всяком праве только юридическое выражение производственных отношений, выводил структуру общества вплоть до его духовной надстройки из этого абсолютно всеобусловливающего фактора и пытался понять последовательность экономических состояний только исходя из некоего логически-диалектического движения. Такова философия истории марксизма, составная его часть, которую надо строго отличать от его агитационно-пророческой, революционной стороны, хотя влияние последней тенденции в значительной степени шаржирует ее. Маркс и сам, исходя из этого, производил периодизацию, к сожалению, только в манере прежней всемирной истории, не уделяя внимания периодизации, основанной надвойной культурной сфере, греко-римской и романо-германской. В сущности он рассматривал капиталистический период вообще лишь внутри последней сферы. Во всяком случае внимание к экономике и основанное на этом учение о базисе и надстройке стало центральной проблемой всякой периодизации даже для тех исследователей, которые очень далеки от грубого рассмотрения экономики как единственной независимой переменной и от связанной с этим атеистической антиспиритуалистической догматики. Таким образом, искомое средство было в принципе найдено, если не стремиться прежде всего к пониманию внутренней логики движения объективно познаваемых длительно сохраняющихся периодов. Именно по этой причине необходимо подчеркнуть, что данное средство периодизации имеет внешний характер, при нем совер
)рнс1 Трёльч. О пост роении европейской истории кулыуры 693
шенно открытыми остаются все более глубокие вопросы о связи этой внешней формы с внутренним душевным содержанием.
У нас нет, правда, настоящего исследования с точки зрения этой теории. Прежде всего потому, что экономическая история, особенно стран древности, еще недостаточно исследована и объяснена. Тем не менее можно указать на попытку Ьрейзига в области всеобщей истории34. В своей книге о ступенях развития он, несколько примыкая к Спенсеру, конструировал типичный закон развития всех культур как чередование первобытного времени, древности, средних веков, Нового и новейшего времени, в целом как движение к дифференциации и интеграции, завершающихся высшей стадией зрелости. В «Истории культуры Нового времени» он применяет свой закон к обеим интересующим нас здесь областям культуры, принадлежащим к немногим, которые прошли все ступени и не остановились на какой-либо одной из них. Средство деления - внимание к связи политических, экономических, классовых и властных сил, наряду с которыми духовная жизнь имеет самостоятельные корни, хотя и развивается в большой зависимости от них. Переход от одной ступени к другой обусловлен отчасти спенсеровской идеей, отчасти психологическими диалектическими стимулами, отчасти случайностями извне, такими, как, например, Персидские войны, вторжения монголов, открытие золотых приисков и т.д.
Гем самым мы в античности имеем предисторию, которая, вероятно, сходна с предисторией всех народов с военным коммунизмом, военными нравами, стадным существованием, матриархатом и затем патриархатом. За этим следует древность, оседлость со всеми ее экономическими и социологическими последствиями — возникновением индивидуальной семьи, замкнутым домашним хозяйством, возвышением крупных варварских государстве крепостничеством и рабством. Третье — раннее средневековье с мелкими властителями и рыцарством, мир, отраженный в гомеровском эпосе. Четвертое — позднее средневековье, время аристократии, крупного землевладения и публичных состязаний, синойкизма и образования городов, тиранической реакции против создающей города знати, время колонизации, архаически средневекового искусства, страстной поэзии и умозрения, противоположности между народной религией и формирующимися мистически-оргиастическими сектами. Новое время начинается с внезапного развития и расширения полисов как следствия войны с персами. Это время расцвета созданного знатью, но постепенно все более демократизирующегося полиса, время борьбы за гегемонию между большими превращающимися в государства главными городами и мощного экономического развития, возникновения торгового капитализма и морского
694 Исгориксьсыииыогическое видение кулыуры
господства, в духовном смысле этот расцвет полиса одновременно и расцвет искусства, философии и экономики, причем расцвет духовной культуры существует дольше, чем расцвет государств. Завершением развития является новейшее время или поглощение полиса эллинистическим империализмом и в конце концов империализмом римским, который на начальной стадии своего развития был средневековым городом-государством, а затем, поглотив греческие и восточные государства, в ходе невероятно быстрого развития вступил в период собственного Нового и новейшего времени. Тем самым мы достигли той точки, из которой исходил Ранке, - -Римской империи, с ее достижениями в области права, политики, науки и религии. За этим следует изображение внутренне родственного империи христианства, что, однако, не вполне соответствует социологическим конструкциям Брейзига и воспринимается им скорее в духе Ницше, хотя при этом и отдается должное позитивному значению христианства как обобщающему и продолжающему культуру античности35. 1 ем самым довольно неожиданно совершается переход ко второй культурной сфере, к романо-германскому Западу, называемому так Брейзигом вслед за Ранке, и по такой же схеме периодизации рассматривается развитие западного мира, при постоянных сетованиях на то, что Западу не было дано такое независимое, самостоятельно себя обосновывающее и проходящее свой путь развитие, как греко-римскому миру. Здесь полностью отсутствует понимание того, что великие творения культуры редки и что продолжение античности во второй культурной сфере и составляет выдающееся, характерное и мощное в европейской культуре, причем такое понимание отдает должное и громадному значению звеньев христианско-эллинистического переходного периода. Вместо этого Брейзиг высказывает свои предположения о забытой пред-истории германцев и затем переходит к германской древности, которая охватывает переселения, основания государств на территории империи и, наконец, рассматривает варварское государство Каролингов, которое использует элементы римской культуры и христианства и искажает великолепные начала духовного мира германцев рецепцией чисто внешне воспринятого и непонятого христианства. Следовательно, Брейзиг соединяет время переселения германцев и время восстановления Римской империи, как они даны у Ранке, в едином понятии древности германизма, исходя прежде всего из понимания начавшегося после Каролингов больпгого хозяйственного и политического преобразования, перехода к феодализму. За этим следует германское раннее средневековье, 900— 1300 гг., связанное с феодализмом, с началом возникновения отдельных наций, имперской романтикой, преходящим господством папства; этот период
Эрнст Трё.т!Л1.0 построении европейской истории культуры 695
ведет в результате возникновения городов, а также начала абсолютизма во Франции, парламентаризма в Англии, появления территорий в Германии и Италии к позднему средневековью, а оно, в свою очередь, в 1300-1500 гг. - к возникновению системы европейских государств, следовательно, образования, которое завершившаяся империализмом античность вообще не сумела создать. Новое время ведет посредством преобразований в науке и религии к системе современных культурных государств, которые затем подвергаются глубоким изменениям в ходе революций XVIII в. Новейшее время начинается после революций и отличается перезрелостью культуры. Впрочем, последнее у Брейзига только намечено, его изложение доходит до позднего средневековья. В целом автор оперирует главным образом внешними чертами типов социологических периодов, но одновременно стремится в какой-то степени проникнуть в создающие эти формы глубины.
Конечно, Брейзиг не достигает в своей конструкции последней сущности образующих периоды сил. Для этого соотношение социологического и духовно культурного элемента недостаточно глубоко изучено36. Его точка зрения - в сущности точка зрения смягченного ницшеанства, которая измеряет все отношением между массами и индивидами37; в частности, связь между базисом и надстройкой он рассматривает с точки зрения того, как это отражается в искусстве, литературе и религии. Его радует обретение духовной культурой аристократическо-индивидуалистической самостоятельности, но огорчает ее распространение и переход к рационалистической демократии. В сущности, это не более чем любительство, очень субъективное ценностное суждение, влияние Ницше.
Тот, кто хочет перейти от такого схематизма к внешне зримым социологическим постоянным формам и одновременно к действующим в них последним пластическим силам истории и понять, исходя из них, ход событий, должен значительно глубже проникнуть в сложные тайны учения о базисе и надстройке. Это сделали задачей своей жизни два тесно связанных в истории данной проблемы, в остальном же совершенно различных мыслителя - Макс Вебер и Вернер Золюарт. Здесь каждая сфера культуры разделяется на свои составные части — социологически-экономически-политические, цивилизаторски-технические, развивающиеся по внутренней логике, хотя и наталкивающиеся на многочисленные препятствия; эти составные части, в случае необходимости допускающие интернациональное перенесение, в конце концов редко и ненадолго поднимаются каждый раз к вполне индивидуальной высшей точке развития своей культуры. Это продолжение и углубление мысли, которую уже высказал, как я указал выше, Ранке. Однако только с этим
696 Игторико социологическое видение культуры
делением возникает проблема взаимной обусловленности, которая в каждой культурной сфере или культурном периоде характеризуется совершенно особыми отношениями и взаимными условиями. Чисто социологический и прежде всего экономический элемент всегда обусловлен культурными и духовными установками, иногда даже подчинен им, но затем обычно вновь подчиняет их себе. Этот элемент зависит также от цивилизаторско-техническо-интеллектуального состояния и сам влияет на его темп и полноту. Бывают времена технических чудес, как, например, XIX в., когда достигаются большие успехи, чем за два предшествующих столетия. В конечном счете оказывается, что духовно-культурный элемент всегда, даже в своих высочайших откровениях, связан с двумя другими элементами и одновременно освобождается от них, поднимаясь к самостоятельной чистой духовности38. Это ведет к чрезвычайно сложным и тонким исследованиям, которые, изучая предмет, должны каждый раз по-новому ставить проблему. Правда, такие исследования обычно больше направлены на анализ отдельной, самостоятельной культурной связи. Однако тем самым они все-таки одновременно проникают в глубину последней исторической связи, в которой различные компоненты, быть может, в корне едины и исходя из которой они затем дифференцируются в игре внутренней последовательности и внешних случайностей. Подлинная периодизация должна была бы проникнуть в этот последний корень и в его преобразования и дальнейшие изменения в каждый новый период, но по крайней мере до сих пор это превышает человеческие силы и сохраняет свое значение только как познавательный идеал, а не как действительное деяние. Поэтому и оба названные мыслителя, работа которых носит ярко выраженный философский характер, наметили и обосновали лишь идеал, пояснив его на ряде примеров. Но и такие попытки пояснения вносят значительный вклад в решение нашей проблемы. Они в значительной степени выявили основные социально-экономические формы и мотивы отдельных периодов, оставив открытой особую для каждого периода проблему, которая сводится к тому, как в нем обстоит дело с взаимообусловленностью экономия еско-социологической структуры и различных идеологи-чески>< элементов. Как при всем том одновременно происходит относительно самостоятельная филиация духовных элементов, должно быть показано дальнейшими исследованиями, когда для них буду г установлены реальные основы. Именно так, на основе этих глубочайших и сложнейших исследований, создается полностью обусловленная выявлением реальных форм жизни периодизация, последовательность которой, конечно, психологически опосредствована, иногда связывается внешними катастрофами и перево
Эрнст Трельч. О построении европейской исюрии кулыуры 697
ротами и не притязает на логическую или идейную необходимость, как это делает марксизм на основании своей странной, в принципе оставленной духом и все-таки следующей логическому движению духа диалектики. Обо всем этом здесь нет и речи, и тем объективнее предложенная периодизация.
Дня того, чтобы дать представление о периодизации такого рода, попытаюсь, выделив из бесконечного переплетения ученых соображений и оговорок, передать точку зрения Макса Небера на развитие античности, с чем его исследование было прежде всего связано. Он начинает с коренного различия между восточно-азиатским и с редиземноморско-переднеазиатско-европейским развитием. Это различие заключается в различном характере оседлости: в первом случае — отказ от молочного животноводства, преобладание садоводства, немногочисленные пастбища и альменды, мелкие владения и соответствующее духовное развитие; во втором — соединение земледелия с молочным животноводством, сохранение индивидуализма кочевников и одновременно наличие территориальной общности, а в связи с этим значительно большая напряженность и импульсивность исторического развития. Только великие культуры на Евфрате и Ниле, создававшие укрепленные города и строившие оросительные системы, по своим особенностям являются исключением среди стран Востока, что сразу же отражается на особой структуре их общества и духовного развития. Своеобразную черту каждой оседлости составляет возникновение воинственной, живущей на ренту с земли и осуществляющей военные задачи знати. Здесь сразу же проявляются различия между греко-римской античностью и нордическим Западом, хотя в остальном их развитие идет одним путем. На Западе с его большой территорией, замкнутой во внутренних границах экономикой и слабыми средствами сообщения эту задачу выполняла феодальная знать. В античности же для той же цели возникала группирующаяся вокруг укрепленных пунктов городская знать полиса, обеспечивавшая свое существование, помимо земельной ренты, охотой на рабов, морским разбоем и морской торговлей, так был создан античный полис в качестве центра античной культуры со всеми вытекающими из этого последствиями. В этом отличие античного города, состоящего из знати и полноправных горожан, чьим высшим идеалом было служение государству и культуре, существование на ренту, основанную на рабском труде, и презрение к низшим слоям, от средневекового города ремесленников, основанного на свободном труде и имевшего после освобождения от сеньоров чисто бюргерский характер. Города повсюду являются стержнем и творцами подлинной духовной культуры. История античного и современного Запада — это история городского духа, прерывающая
698 Исгорико-сошюлш ическос видение кулыуры
ся небольшими периодами, в которых отсутствовали города. Крестьянство следует за городом, и только романтики, оппозиционеры и враги современного развития рассматривают его как главный фактор. Античный и современный город очень отличаются друг от друга, и на этом в значительной степени основано и различие обеих великих эпох вообще. В античности полис возник раньше и определял все, на севере город возник поздно и должен был срастись с другими элементами в государство. Зачатки важных политических преобразований возникали в античном полисе лишь в виде отдельных попыток, в Греции - только в период правления Македонской династии и в эллинистических государствах. В них полис вытесняется империализмом и в конце концов поглощается выросшей до мировой империи римской civitas2*, которая тем самым вполне последовательно превращается в монархию. Эта военная монархия, связанная с упадком рабовладения, с развитием арендной системы, колоната и крупного землевладения, в своем конечном результате была возвратом к натуральному хозяйству, временем упадка социально-экономической структуры античности и переходом к нордическому средневековью. Империи сопутствуют, таким образом, глубокие духовные перевороты, возникновение ради опальной индивидуалистической мировой культуры, мирового права, мировой религии и потребности освобождения, испытываемой задавленным и потерявшим свои духовные корни населением. Так создается полная убедительная периодизация: процесс оседлости, основание и развитие полиса, мировая империя и военная монархия, следствием которой явились нивелирование и принудительная организация, зависимость от варварских вспомогательных отрядов и упадок городов, прежних носителей культуры39.
Не менее впечатляющее изображение другой части нашей единой мировой истории, развития на севере Западной Европы предложил Зомбарт; попытаюсь дать и его концепцию в неизбежно более грубом и кратком изложении40. Исследование Зсмбарта относится к истории Запада и, следовательно, непосредственно примыкает к работе Макса Вебера. Решающим и здесь является, конечно, период оседлости и поселения, тогда уже произошло смешение германских и римских основ права и общественного устройства, и обратный процесс в развитии античности во многом совпал с потребностями варварского общества41. Следствием было развитие феодализма и власти крупных землевладельцев вместе с ростом несвободы тех, кто не нес военных повинностей, хотя свободные крестьяне, деревни и дворы и не исчезли полностью. Так складывается система господских дворов и деревень в раннее средневековье. Владельцами первых были феодализированный клир и монастыри. Эта стадия ха-
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры 699
растеризуется традиционалистско-патриархальным хозяйственным этосом, недостаточной духовной и волевой энергией, господством привычки, оценкой продуктов по потреблению их отдельными сословиями, пышностью и представительностью рыцарского образа жизни, охраной продуктов потребления и привычной гарантией их наличия у крестьян, слуг и ремесленников, — дух, который позже переместился в северные города. Этот дух был близок христианской этике самоограничения и органическому сословному устройству жизни, идеалу же глубокого христианского чувства любви он соответствовал лишь в виде исключения, принимая вид аскезы. Последний отголосок этого мировоззрения представляет собой картина мира и общественный идеал у святого Фомы. Культура здесь всегда носит рыцарский или духовный характер. Вторую эпоху образует после переходного периода возродившегося менового хозяйства культура городов. Выросшие из резиденций крупных землевладельцев и из укреплений, города являются носителями ремесленного духа, основанного на свободном труде и внутренней торговле. Здесь также господствует дух строгой солидарности, строгого подчинения, охраны продуктов и сословного строя жизни, исключение конкуренции благодаря закрытому рынку и наследственное сословное деление. Воинственный дух переместился из рыцарской любви к приключениям в готовность к защите, и тем самым только с образованием городов стала возможной подлинная христианизация общества. Город становится опорой и предтечей замкнутого бюрократического государства, создателем светской школы и светского образования. Возникший слой крупных бюргеров стремится ко все более широкому и свободному образованию, которое впитывает сохранившиеся от прошлого элементы культуры, - расширяя и углубляя их. Личность и деяние еще тесно связаны, а узость жизненной сферы, прочность и определенность жизненного уклада допускают еще сильное воздействие личной этики, не переходящей в разрушительный индивидуализм. Третий период - возникновение и развитие современного специфически западного капитализма, выросшего вместе с современным государством, техникой, наукой, новой религией из глубоких основ европейской души, — земной светский дух беспокойного эгоизма и самоопределения, преисполненный огромной силы, которая направлена на уничтожение старых естественных образований и уз, но обладает и достаточной силой для построения новых форм жизни, искусно и искусственно созданных целевых образований. На этом духе и его политических, социальных, технических и духовных коррелятах основан расцвет культуры пяти последних столетий; из него и его последствий в виде механизации, массовой занятости, конкуренции крупных хозяйственных образо
700 ИCTOpin<o <oiдологическое видение культуры
ваний, перенаселения и субъективистской гиперкритики выросли и опасности, которые угрожают изнутри этой культуре, охватывающей сегодня Америку и значительную часть мира42. Все конкретное в этом процессе известно слишком хорошо, чтобы его стоило здесь хотя бы только наметить. Достаточно сказать, что и в этом мы располагаем периодизацией социологического характера: во-первых, процесс оседлости, во-вторых, феодализм в раннее средневековье; в-третьих, городской строй в позднее средневековье, в-четвертых, современный мир как культура капитализма и современного единого государства. Экономически-социологическая периодизация выступает и здесь как основа общей периодизации в той мере, в какой речь идет о крупных духовных типах. Всякая чисто политическая периодизация будет, правда, тоньше и богаче, но должна входить в названные большие периоды.
Сравнение различных периодизаций, которые рассматривают либо обе части средиземноморско-европейской целостности, либо лишь вторую, западную ее часть, но при этом всегда предполагают античность, ведет глубоко в существо вопроса.
Эти теории следуют от чисто идеологических периодизаций к политико-идеологическим, от них—к чисто социологически-инсти-туциональным и, наконец, - к выявлению последних идеологических основ, длительно сохраняющихся социологических форм, которые определяются не только естественными, географическими и антропологическими условиями, но и глубокой склонностью и направленностью воли. Для обозначения этого у нас нет слов, и мы говорим о расах, пластических формирующих силах истории или об исконных импульсах43. Впрочем, эти истоки могут быть найдены скорее не в широких массах, а в узких сферах, которые затем определяют и формируют массы в той мере, в какой они поддаются формированию. Это проходит через различные выявленные Максом Вебером формы господства: от патриархального до бюрократически-рационального, причем каждое из них он приводит в связь с определенной духовной основой. Так мы вновь возвращаемся к последним проблемам конструирования развития, которое по этим очень сложным и устанавливаемым от случая к случаю точкам зрения можно все-таки разделить на вполне объективно определенные периоды. Правда, это огромная задача; сегодняшняя наука находится лишь в начале ее решения, и мы не можем быть уверены в том, что она когда-либо это решение завершит. Однако для нашей цели эти последние глубокие задачи, которые встают перед периодизацией, возникающей из идеи развития, не столь важны. Мы задаем вопрос не о периодах, складывающихся в развитии, а о построении, образующем напластование из результатов
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры 701
больших периодов. Для этого достаточно несколько более внешнего понимания периодизации, внимания к предстающим в созерцании и допускающим понятийный анализ крупным, длительно сохраняющимся формам социологического, экономического и политического характера, понимания того, в какой мере они коренятся в глубоких пластах жизни и каково их значение для духовной жизни и их воздействие на нее. Именно то, что это средство периодизации носит внешний характер, гарантирует его объективность44.
В самом деле, действительно объективная периодизация возможна, только если исходить из социально-экономических, политических и правовых оснований. Только они дают прочные, несущие, определяющие и к тому же легко внешне постигаемые структурные связи. Но основа этого лежит глубже: все духовные, цивилизаторские и культурные элементы покоятся на этой глубокой основе, связаны с ней уже в ее исконной структуре, при всей своей самостоятельности длительно пребывают в ней и определены ею вплоть до своего душевного центра. Насколько, в какой мере и с каким воздействием? Это в каждом данном случае особый вопрос. Так уж устроено, что элементарные жизненные потребности - пропитания, половой жизни, общения, внешнего образа жизни и ее мирного устройства, - как в большом, так и в малом, как для отдельного человека, так и для групповой жизни, определяют форму жизни и вместе с ней как бы и кадры духовной жизни. Поэтому такая объективная периодизация глубоко проникает и в течение внутренней жизни. Существование общего корня, из которого происходят основные формы того и другого вместе с их взаимным определением, представляется часто возможным, однако в такие глубины взор человека проникает с трудом. Насколько это необходимо и достижимо - вопрос, который можно ставить при описании и оценке результатов отдельных периодов. Поэтому, несмотря на выявление скользящих и психологически опосредствующих переходов, такая периодизация остается скорее установлением последовательности и связи больших оказывающих взаимное воздействие комплексов, чем пониманием внутренней необходимости и континуума становления. Но для идеи построения и напластования, которую мы здесь рассматриваем, большего не нужно.
4. Пласты построения
Следовательно, в самые последние глубины идея построения не может проникнуть, да ей это и не нужно. Ей требуется только по возможности объективная периодизация на основе общего исторического развития, которую мы в ее деталях можем не принимать
702 Историко-социологическое видение культуры
во внимание. Однако и периодизация как таковая еше не тождественна идее построения. Периодизация должна охватывать весь материал» поскольку он вообще поддается делению, она ставит затем сложные проблемы дальнейшей внутренней периодизации. Для идеи же построения полнота и дальнейшая периодизация также имеют только косвенное и несущественное значение. Идея построения, рассматриваемая с позиции современности, требует от нас, чтобы мы вычленяли и подчеркивали лишь те большие периоды, в которых возникли решающие элементы нашей сегодняшней жизни. Ведь решающие и борющиеся силы настоящего — не отдельные, разорванные отрывки исторического наследия или их совокупность, а проявления великого духа целых периодов. Их надлежит выявить как определяющие жизнь и ясно понять их состоявшееся в ходе времени слияние и переплетение. Все остальное относится только к научному историческому исследованию и объяснению, к выявлению существовавших некогда связей, переходов и подготовительных стадий. Оно относится к строгой исторической науке, а не к значимой и притягательной для каждого человека картине истории, благодаря которой мы понимаем самих себя. Надо со всей серьезностью различать историю как строгую специальную науку и историческую образованность, которая лежит в основе воззрения на мир и жизнь, хотя великим историкам присуще, что вполне естественно, то и другое. Конечно, граница между картиной построения и тщательной, равномерно исследующей все периоды исторической наукой изменчива и всегда может быть сдвинута в том случае, если история изменяет, углубляет, преобразует привычную картину мира или если проблема построения ставит перед исторической наукой новые вопросы. Но само различие остается основополагающим и решающим. Оно отделяет на пути к понятию всеобщего развития философский интерес человека к истории от профессионального историзма и постоянно придает ставшим конвенциональными идеям построения оживление и углубление посредством действительно исторического исследования.
Однако прежде чем мы обратимся к задаче выявления напластования больших результатов культурного развития, необходимо ответить на два трудных предшествующих этому вопроса: во-первых, как значимый для нас результат или культурный смысл эпохи может быть выявлен посредством хотя бы в некоторой степени объективного метода, во-вторых, с чего следует начинать Новое время?
На первый вопрос ответить трудно, и мы еще далеки от его общепризнанного решения. На практике, правда, существует в достаточной степени общее признание «классических» вершин больших
Эрнст Трёльч. О построении европейской историк культуры 703
эпох, хотя и нет недостатка а постоянных новых открытиях и изменениях акцентов. Особенно интересным примером может служить начавшаяся в наши дни переоценка барокко, открытие его связей или аналогий с готикой и проистекающая из этого новая ориентация в определении вершин западной культуры вообще45. С этим несомненно связано большое удовольствие, испытываемое от построения парадоксов, от возвышений и низложений, обычных для беспокойно ищущих все новых возбуждений литераторов. Тем более необходимо обрести объективное или по крайней мере более объективное правило. Но в этом нам мало поможет в принципе внешнее средство социологической периодизации. Ведь сегодня для значительного и действенного результата все дело, конечно, не в социологических формах жизни прошлого, а в культурном смысле, в итоге духовной истории, который заключен в этих условиях и формируется в них. Это, естественно, ведет к внутренним связям идеи развития и отличается от нее лишь тем, что речь идет не о тотальности развития в данный период, а о его вершине, о длящемся «классическом» итоге, который входит в наше наследие духовных сокровищ. Исходя из новых предпосылок и новых целей этот смысл можно видеть все время по-разному и по-новому вводить его в тотальность развития, но речь всегда будет идти об установлении вершины и типичного итога. Существует ли для его выявления какой-либо в некоторой степени объективный метод или здесь все зависит от личной позиции и тем самым от «веры»44'? Это не имеет значения, если принять во внимание тесную внутреннюю связь между социологическим формированием и духовной жизнью. Принцип, который позволяет построить объективную периодизацию, не является неплодотворным и для типизации. Надо только прежде всего обращать внимание на связь между элементом социологическим и духовно-культурным, которая глубоко коренится в общей сущности исторической жизни. Она протекает в ритмическом движении между более субстанциальной и традиционалистской «общностью», где все силы тихо и подспудно формируются прежде всего под действием длительно существующих слоев господства, и более индивидуалистическим, разрушающим связи «обществом», где содержание культуры расширяется, индивидуализируется, гуманизируется и универсализируется. Это формальное основное отношение, способное создавать различные конкретные формирования, и есть ключ к решению стоящей здесь проблемы. Во всяком случае, оно является таковым для истории развития европейской культуры. Развиваются ли другие культуры вообще в ином ритме или подчиняются этому основному закону, я утверждать не осмелюсь, так как не обладаю достаточным для этого зна
704 Историко-со«ц<о.погическое видение культуры
нием. Второе, вполне вероятно, - вследствие внутренней природы вещей — это отношение между веками существования крестьян и знати, консервативно-аристократического формирования духовного, религиозного, политического, художественного и этического элемента и относительно кратким временем индивидуалистического высвобождения, в течение которого эти элементы сублимируются в общезначимые, всеобще сообщаемые духовные принципы и классические творения. Частное становится здесь гуманным, а традиционное - творческой силой. Переход от одного к другому — таков самый плодотворный момент, в котором возвышаются надвременные, значимые, ценнейшие образования, наполненные силой и субстанцией тихих тысячелетий и поднимающиеся к свободе и подвижности чистого духа. Тогда в свободу индивидуальной подвижности и чисто внутреннего фактического обоснования вторгается происходящее из последних глубин народного или расового предрасположения, которыми мы здесь заниматься не будем, длительно и упорно, властно и авторитарно формируемое содержание. Архаическая жесткость, сословная исключительность, господствующие среди знати пышность и спортивный характер исчезают, и вместе с тем еще отсутствуют изнеженность, утрата корней, интеллектуализация и несерьезность, свойственные духовному содержанию увядающего индивидуализма. Это положение дел не может быть схематизировано посредством психологических законов, как, в сущности, пытался схематизировать сходную мысль Лампрехт. Не может быть оно обосновано при современных средствах и параллелями из истории мира и человечества. Оно ведь и должно служить не подчинению процессов законам, а определению классического момента плодотворности. Это представляется возможным. Такой переходный период от аристократии к демократии и есть подлинно творческое и классическое время крупных культурных центров Греции, если оставить в стороне единственное в своем роде явление - Гомера, принадлежащего древним временам, однако также получившего подлинное значение лишь тогда, когда его творения превратились из рыцарской поэзии в народную книгу, -- преобразование, которое, вероятно, не могло не оказать определенного воздействия и на самый текст. То же обнаруживается у израильтян, у которых пророчество характеризует сходное, хотя и совсем иное по своей направленности переходное время, и впоследствии теряется в законе и апокалиптике, тогда как до того господствовал крестьянский традиционализм. Это относится и ко времени расцвета средневековой культуры, когда аристократические ордена уступают место народным и рыцарская поэзия сливается с городской культурой, как у Данте. Это относится к Возрождению и протестантизму,
Эрист Трёльч. О построении европейской истории культуры 705
даже к великим свершениям Просвещения, литература которого знаменует собой переход от аристократической культуры к гуманности, а государство - переход от национального утверждения абсолютизма к современной политической свободе. Сомнение могут вызывать лишь такие эпохи, когда господствует индивидуалистический хаос, а общность только формируется, как это было во времена римских императоров и создания католической церкви. Но в сущности и здесь то же отношение, только перевернутое, образование субстанциальной общности из распадающегося, потерявшего свои устои общества. Образование церкви знаменует собой восстановление единства и сопутствует возвращению общества к аграрным и феодальным формам. Быть может, нечто подобное можно определить и как характерную черту современности, которая ищет восстановления в социализме разных видов, хотя и не нашла его до сих пор на этом пути и при полностью индивидуалистической ценностной структуре социалистического мышления вряд ли его найдет. Во всяком случае, и в такие эпохи классические моменты находятся там, где индивидуализм и вся совокупность субстанциальности вновь объединяются и гуманно-всеобщее образует сплав с конкретной общностью. Примером такого классического и всемирного воздействия служит Августин. Детали должны быть показаны в более подробном изложении. Но принцип в целом представляется в самом деле средством для постижения итогов и смысловых содержаний периодов для той цели в области философии истории, которая здесь поставлена. Из этого становится понятной и относительная недолговечность тех классических эпох, свойства которых последующее время превращает в общие принципы, строит на них свою жизнь, все время давая им новое истолкование и связь, если само это время и не принадлежит к таким счастливым благословенным эпохам. Тем самым периодизация переходит в типизацию, но это не общая, а идеально-типическая периодизация, опирающаяся на самые плодотворные и характерные моменты. Исходя из этого, надо тщательно определять ее сложное отношение к внешней хронологии. Однако с точки зрения «исторического времени» чисто хронологическая проблема вообще не так важна, как для того, кто стремится определить периодизацию исходя из физически определяемой хронологии и, естественно, всегда выражает неудовольствие по/юводу того, что не существует точно очерченных периодов времени.
Легче ответить на второй вопрос. Ответ, данный на него, почти всегда в достаточной степени одинаков. Начало Нового времени относится к эпохе поразительного роста интенсивности и распространения европеизма, вышедшего за пределы своих средневеко
706 Историко-социолоппеское видение культуры
вых географических и духовных узких рамок, к возникновению современного единого национального государства, капиталистического хозяйства, к захвату колоний и к духовной автономии научного мышления, к обращению к практическим реалистическим задачам. В общем таковым можно считать XV столетие. Однако трудность вопроса заключается в том, что определение этого начала очерчивает лишь общие рамки, но не дает особенностей подлинного современного положения вещей. Ибо результатом названного расширения и роста сил были прежде всего абсолютистское государство, система великих держав и связь абсолютизма с конфессионализмом, новое единение и стабилизация культуры. От всего этого подлинное Новое время отделено глубокой пропастью, хотя все эти прежние силы продолжают в нем действовать — своим влиянием или непосредственно. Подлинное Новое время родилось из разрыва с абсолютизмом и конфессионализмом. Это было и остается его пафосом, основой его государственных, социальных и церковных образований, импульсом его научного мышления. Гражданское общество, автономия и способность к организации осознанной науки - ее признаки. С Английской революции начинается распад конфессионально-абсолютистской эпохи. Следующая революция выводит на арену мировой истории новые государственные и общественные идеи американизма, а Французская революция устраняет на континенте последние остатки средневековья. С тех пор революционное движение продолжается; оно ставит вопрос о конце этой проникнутой революционностью эпохи, все больше стремящейся выйти за пределы равновесия начального периода, догматизирующей и подвергающей его теперь насмешкам в качестве бюргерской47.
Таким образом, следует различать Новое время в широком и узком смысле. В первом смысле оно начинается с XV в., с нового военного и бюрократического государства, с суверенитета по отношению к церкви и империи; во втором — с Английской революции и Просвещения, и его отнюдь не следует считать эпохой, с которой покончено и которая заслуживает только насмешек. Романтические, противоположные Просвещению движения также продолжали то главное, что было достигнуто им, т.е. движение к самостоятельности национального государства и к автономии науки, и в остальном не противопоставили начатому Просвещением огромному экономическому и техническому движению какую-либо противоположную силу или понимание. Просвещение с его национальным государством, духовной автономией и возникшим в его рамках капитализмом является до сего дня не интермеццо, а длительной критической основой современной
'Эрнст Трёльч. О нос троении европейской истории культуры 707
жизни. Не само Просвещение, а начатый и проникнутый им период следует считать отправной точкой, если вообще стремиться понять современность.
Можно, как это часто и происходит, определять весь западный мир в отличие от античности как современный - определение правильное, ибо только в нем выражено правильное понимание средневековья как основы и культуры, предшествующей нашей современной жизни. Однако не это является смыслом выражения «современный мир». Под ним подразумевается упомянутое определение Нового времени в широком и узком смысле. Этот современный мир, или современность, произвел преобразование варварских государств и феодальных владений Запада в большие современные военно-бюрократические государства и в соответствующую им социально-экономическую систему капитализма, создающую и сохраняющую огромные массы населения, крупного предпринимательства и эксплуатации колоний. Этот мир начинается с позднего средневековья, с возникновения суверенного абсолютистского государства, которому соответствуют также возникновение суверенной, свободной и индивидуальной духовной культуры и огромный рост интеллектуальной и технической цивилизации. Конфессиональная эпоха XVI в., продолжающаяся до конца Тридцатилетней войны и до Английской революции, последнего акта великой церковной революции, — это кризис и переходный период. За ней следует эпоха завершенной абсолютной монархии и великих держав. Одновременно это эпоха великой новой философии и международной теперь светской культуры, прежде всего в области изобразительного искусства и литературы, которая завершается Просвещением и Американской и Французской революциями. Второй основной акт — образование национальных государств, завоевание господства в мире экономически развитыми державами и возникновение сопутствующих этому неизмеримой духовной гибкости и продуктивности, питающихся идеями враждебных друг другу движений — рационализма и романтизма; быстрее всего они исчерпываются там, где требуются известная наивность, невостребованная уверенность, в религии и искусстве: вместе с тем это время создает из собственной сущности опасность военного самоуничтожения и социального распада, которые заставляют нас сегодня помышлять о новых формах жизни, а некоторыми рассматриваются как знак начинающегося упадка48.
Таков мир, в котором мы еще сегодня живем и внутри которого все легко может стать нам близким и понятным, мир, постигаемый нами непосредственно как континуум. Этот мир имеет чрезвычайно богатое и разнообразное духовное содержание, которое возникло
708 11с горико-социо.1<)1'нческ,<к‘ видение кгудыуры
не только в нем самом, а происходит в своей большей части из всей нашей истории, начиная с греков. Таким образом, горизонт расширяется и включает в себя все ведущее к нашему времени общеисторическое развитие. Однако идея построения требует только того, чтобы из этого были вычленены крупные, первичные основные силы, которые значимы, действенны и созерцаемы непосредственно, а не только для научного исторического знания и преисполненного им школьного обучения. Сделать эти основные силы понятными в их исконном смысле и в их возникновении из исторического развития, придать тем самым нашему историческому воспоминанию решающие акценты, расчленить его в применении к настоящему и, наконец, постигнуть формирующееся в современном мире отношение этих основных сил друг к другу и к современной жизни — такова идея построения европейской истории культуры. Здесь прежде всего надо ответить на вопрос, каковы вообще эти основные силы.
В решении этого вопроса все, предшествовавшее грекам, нам совершенно безразлично. Их связь с Передним Востоком может быть очень важна для исторического объяснения греческой культуры. То, что имеет в этом непреходящее значение, перешло к грекам и имеет значение для нас только в этой его переоценке и в сплаве с греческой культурой. Лишь один элемент Переднего Востока имеет и для нас значение — еврейское пророчество и еврейская Библия. Но это - элемент, который и сам возник лишь в ходе разрушений, произведенных великими державами Востока; преобразование национально-религиозных идеалов превратилось под этим влиянием в глубокую этику человечества; к ней обратилась приходящая в упадок эллинская античность, и она вместе с христианством стала основным столпом европейского мира. Это не случайность, а следствие полного преодоления эллинами общего восточного духа, родственности активному индивидуализму и стремлению к общечеловеческому этосу греческой культуры. Лишь это сделало возможным срастание, которое сегодня нерасторжимо, и придает общие черты всем связанным с еврейским пророчеством народам — христианам, евреям и мусульманам. И все они восприняли культуру античной Греции.
Вторая основная сила — классическая Греция, т.е. культура греческого полиса, в нее с песнями Гомера проникает из рыцарских времен Греции первичная книга, которую можно сравнить с Библией, книга, преисполненная наивной фантазии и простой героической и семейной этики. Полис не допустил введения вместе с царской властью священства восточного образца и стал благодаря этому источником свободной эстетической и научной образованности, которая также в значительной степени обусловлена социо
Эрнст Трельч. О построении европейской истории культуры 709
логической основой, но все-таки достигла в своем отношении к ней необычайной свободы и глубины. О том, в какой мере чудесные творения греческой науки и греческого искусства стали движущей силой и сдерживающей формой для Запада и как глубоко они проникли сначала в сущность римской, а посредством нее и западной культуры, говорить излишне.
На третьем месте стоит мир античного империализма, римско-эллинистическая монархия, которая в буквальном смысле слова послужила своими строениями, улицами, правом, управлением, языком и техникой фундаментом для германо-романских народов. Все эти связи, правда, важны больше для ученого, юриста, историка государственного строя, историка хозяйства и не входят в общее сознание, разве только как нечто само собой разумеющееся, в которое все верят, но немногие действительно знают. Но два фактора этого империализма действуют с необычайной силой - идея замкнутого, военно-бюрократического крупного государства и мировой религии, которая возникла в конечном счете из потребности в мировой империи и с этой целью образовала из миссионерских общин Востока христианскую церковь. Христианская церковь в качестве поистине последней жизненной формы античности принесла варварам государство и право, культуру и науку. Говорить о значении этого факта вплоть до наших дней также излишне.
Четвертая основная сила находится по ту сторону великой цезуры между античностью и современностью — это наше западное средневековье. Свою культуру оно получило от церкви, Византии, арабов. Но все-таки оно - подлинное лоно всей нашей сущности, бесконечно более тесно с нами связанное и бесконечно более глубоко нас обусловливающее в тысяче осознанных и еще более неосознанных вещей, чем все названное выше. В средневековье коренится и наш подлинный дух, так же как наши политические и социальные институты. Об этой связи знают немногие, но все живут ей. Здесь в тиши формировалась глубина и стремление к бесконечности, которое отличает развитый европеизм от античности и всех других культур; достигнув зрелости, он воспринимает критический и рациональный дух античности, а также ее ощущение существования внутри мира и ее художественное чутье, создавая этим сильнейшую из всех когда-либо существовавших напряженность жизни. Все это должно быть более глубоко осознано и показано в ходе исторической работы, чем совершалось до сих пор. Культура средневековья еще ждет своего изучения. Однако уже чувствуется, как многочисленные силы обращаются к решению этой задачи.
Эти четыре основные силы в качестве несущих столпов и продолжающих действовать факторов еще поддерживают и пронизы-
710 Историко со1щологнческое видение культуры вают современный мир, перекрещиваясь и смешиваясь с его глубочайшей сущностью. Из всего этого и из привлечения новых сил должна быть выработана душевная мощь будущего.
Такова картина построения, которую мы искали. С подобной картиной в мыслях можно приступить к работе над культурой настоящего, освободить ее от всего излишнего и устаревшего, свести к новому единству и созидающей силе, быть может, пожертвовать дорогим и великим, чтобы объединить оплодотворяющий элементы и открыть перед ними новое пространство. Более подробно останавливаться на этом мы здесь не можем, это будет сделано в следующем томе. Нов конце возникают три важных элемента знания, которые, правда, здесь непосредственно содержатся, но должны быть еще особым образом отмечены и подчеркнуты. Они являются следствием проникновения в отношение социологических и идеологических элементов истории, возникающих из современного исторического мышления.
Первое положение следует из того обстоятельства, что, хотя все духовные компоненты культуры возникают в определенной зависимости от их социологических основ и предпосылок, однако, обладая самостоятельным происхождением и стремясь выйти из этого случайного и частного происхождения, проникнуть в область общечеловеческой значимости, они освобождаются и преобразуются в самостоятельный духовный или культурный принцип. Еврейская этика забыла о своем очень конкретном происхождении и выступает как данная в откровении или как рациональная человеческая этика. Греческий классицизм оторвался от всесторонне обусловливающего его полиса и стал принципом гуманизма и т.д. Этот процесс отторжения, обособления и одухотворения всех некогда конкретных и индивидуальных, к тому же в значительной степени социологически обусловленных содержаний культуры является одним из основных фактов истории вообще и прежде всего истории средиземноморско-европейской. В ней повсюду продолжает жить дух, чье изначальное социологическое тело распалось и забылось, он обретает собственную самостоятельную филиацию своего таким образом обособившегося содержания, которая следует отчасти из неисчерпаемых логических и психологических импульсов, отчасти из их соединения и смешения, когда творит уже только мысль, а не ситуация. Так впоследствии возникает становящаяся все более сложной относительно самостоятельная духовная история, которая продолжает плести свою нить над подлинно реальными регионами по относительно узкой, но в некоторых случаях значительно расширяющейся линии. Опасность заключается при этом в возможности абстрагирования, догматизации, рационализации, схоластизации,
Эрнст Трельч. О построении европейской истории культуры 711
опустошенности и поверхностном создании конвенциональных или мнимо рациональных «культурных идей» или «ценностей», как говорят теперь. Если такая опасность ощущается, то историческое исследование возвращает эти идеи и ценности на их родную почву, наполняет их конкретным, изначальным и живым смыслом, вследствие чего они, правда, отдаляются от современности и историзируются, но именно тогда вновь начинается процесс обособления и наполненное жизненностью содержание вновь делается надисторическим принципом. Так достаточно часто происходило с античностью, христианством, со средними веками. Эти обособления и обобщения, преобраз ован и я в «-измы» — нечто совершенно нормальное и необходимое. Они составляют жизнь европейского мира. Но столь же необходимо их постоянное обновление посредством точного исторического изучения и все нового определения отношений принципов, которые в своей основе во многом противоречат друг другу, но живут общей жизнью49. Это все время происходило в поздней античности и в развитой европейской культуре и вызывает беспокойство в наших духовных часах. В этом состоит также и загадка современного историзма, который отнюдь не должен просто следовать александрийской школе, если находит в себе силу отказаться от чисто исторического понимания и обратиться к новым комбинациям.
Второе положение в сущности лишь перевернутое первое. Обо-собляемость культурных содержаний от их первоначальных исторических ситуаций и потрясающее соперничество этих принципов в развитой духовной жизни заставляет ее все время представлять себе эти содержания культуры исторически и посредством переработки истории вновь упорядочивать их, причем их изначальная социологическая обусловленность, может быть, даже должна быть забыта. Совсем наоборот обстоит дело с социологическим политико-экономически-правовым состоянием современности. Современность требует только от тех, кто осуществляет технические функции, знания принципов права и управления, а от ученого — исторического, уходящего в далекое прошлое, понимания своей нации. Само по себе оно нечто непосредственно данное и понятное в жизни, созерцании, судьбе и труде, и для того, кто ищет только знания жизни и ориентации в ней, не нужны подведение исторического фундамента и сравнение. Все эти обстоятельства — практически наша судьба, и надо научиться использовать и пониматьих практически. В отличие от воздушных духовных построений, которые все время требуют своего прежнего тела и могут быть поняты и соединены только исходя из истории, они сами — живое тело, которое понимает себя из собственного ощущения здоровья или болезни и может ясно постигнуть свою структуру из
712 Исюрико-социологическое видение кулыуры
практической жизни. Здесь для создания практического уклада жизни не требуется историзм, нужны лишь ясное, отчетливое наблюдение, практический смысл и не замутненный теорией рассудок. Именно последнее важно и следует из положения вещей. Речь идет не о ценностях и идеях, которые должны быть соединены в каком-либо «-изме», а о тысяче практических деталей и их объединенном действии не в логической, а в практической систематике. Поэтому «образованный» человек, интересующийся историей с философской точки зрения, должен в своем обращении к содержаниям культуры исходить из совсем иного отношения к истории, чем в практически-социологическом строе жизни. Содержания культуры он должен понять из истории, начиная со времени евреев и греков. Во-вторых, он должен прежде всего постигнуть историю практически созерцательно в ее реальности, современной особенности и единичности, а для этого ему не нужны данные, которые выходили бы за пределы формирования нашего общества со времени переходного периода, XVI в. Ибо такого рода вопросы надо рассматривать не исторически, а практически, надо постигнуть их неизбежную, обусловливающую нас судьбу и выявить возникающие в этом образе жизни, устремляющиеся в будущее силы. Если мы проведем это ограничение, наше видение станет более ясным и жизненным, мы сможем сбросить значительную часть балласта, которая предназначена лишь для корабля ученого. Общее историческое образование должно быть направлено при изучении предшествующих современности времен только на их идеологический аспект, может и должно быть только историей духа. Таким образом, оно может стать более простым и концентрированным50.
Третье положение следует из соединения двух первых и касается практической задачи современной культуры. В этом случае идеологическая и социологическая стороны уже не могут рассматриваться отдельно, а должны быть увидены и поняты в тесной связи. Тогда возникает двойная задача: с одной стороны, создать ясную картину современного социального строя жизни, его движущих, отмирающих и неизменных сил, обосновать их в практически-материальных и психологических условиях, короче говоря, в условиях свойственной им структуры, частью которой является каждый отдельный человек, с другой - показать концентрацию, упрощение и углубление содержаний духовной культуры данных нам историей Запада, которые должны выйти из тигля историзма и в новой замкнутости, и в единении. Эта двойная задача выступает как единая в стремлении науки, образования, философии, школы и литературы соотнести эти две величины соответствующим современности и будущему образом, создать для
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры 713
идеологического содержания новое социологическое тело и одухотворить социологическое тело новой свежей духовностью, новым обобщением, согласованием и преобразованием больших исторических содержаний. Указания, как это надлежит и как это можно сделать, правда, не существует. Это творческое деяние и проявление решимости тех, кто верит в будущее, кто не позволяет настоящему убаюкать или сломить себя, а способен в меру своих сил и возможностей видеть и утверждать задачу подобной комбинации. Для этого нужны мужественные люди, преисполненные такой верой, а не скептики и мистики, не рационалистические фанатики или обладающие исчерпывающим знанием истории ученые. Такая задача не может быть делом одного человека. Это, естественно, дело многих, совершаемое сначала в тиши, в глубине души, а затем распространяемое в широких кругах. Лишь в этих кругах возникнет новая жизнь и, исходя из различных точек, сложится в единство. Наибольшее значение имел бы для этого великий художественный символ, как им некогда была Divina comedia3*, а позже будет Фауст. Однако такие символы даруются эпохе только как счастливая случайность и появляются обычно только в ее конце. Надо действовать и без них; к тому же теперь, когда мировая война бросила всю предшествующую эпоху в плавильный котел, мы вообще не можем даже в малейшей степени надеяться на это.
Сама же задача всегда, осознанно или неосознанно, стоявшая перед каждой эпохой, для данного момента нашей жизни особенно важна. Идея построения — это преодоление истории историей и расчистка почвы для нового созидания. На ней строится современный культурный синтез, который является целью философии истории. Об этом в меру сил отдельного человека речь пойдет в следующем томе51.
Примечания
1 Склонностью прорываться из основополагающей корреляции к объективному и чистому созерцанию обладает и Мейнеке. В цитированном выше месте (Meinecke F. PreuBen und Deutschland. 1910. S. 104 f.) он резко и точно формулирует эту корреляцию, затем продолжает: «А поскольку всякое глубокое историческое понимание основано на жизненной связи между созерцающим и созерцаемым, она никогда не может быть полностью прервана и критическим осмыслением. Однако задача состоит в том, чтобы постоянно*иметь в виду эту субъективную априорность, выявлять в ней и устранять все очевидные источники ошибок, чтобы таким образом постепенно, снимая оболочку за оболочкой, в конце концов приблизиться к истине вещей в созерцании или предчувствии недостижимой высокой цели». То же еще более резко на S. 468. «Высокая цель есть чистое созерцание исторических явлений», S. 467. «Чистое созерцание у Ранке», S.470. Сущность это
714_____________________________Историко-социологическое видение культуры
го созерцания - наслаждение индивидуальностей: «Мировая история есть раскрытие индивидуальностей, и от живущей в них моральной энергии зависит, расцветут ли они или погибну!'», S.5O2. «Идеал чистого созерцания исторического мира, однажды открывшийся душе и ею воспринятый, не может в ней исчезнугь. Он становится для нес внутренней святыней, в которой она находит спасение от смутности и мрака. Пусть будет сохранено нам это тихое убежище», S. 470. Но основная корреляция вновь инстинктивно ощущается в следующих словах: «Наше историческое мышление и наш культурный идеал живут и творят в созерцании многообразия и сосуществования свободных, сильных государств, наций и культур». Здесь, совершенно так же, как у Ранке, двойное восприятие всеобщей истории -чисто созерцательное восприятие бытия в себе, с одной стороны, и восприятие, занимающее этическую и культурно-философскую позицию, организующее, исходя из этого, с другой. См. сказанное Ранке в дневнике (Ranke L. Zur eigenen Lebensgeschichte. Hrsg. von A. Dove. S. 569 ff.): «Все удовольствие от занятия (историей) заключается в прослеживании духовной стороны вещей... Последний результат - сочувствие, сознание всего». Совершенно противоположное этому говорит лучший знаток Ранке А.Дове в статье «Zur Begriissung der Weltgeschichte Rankes» (Ausgewahlte Schriftchen. 1898): «Сам Ранке считает всю мировую историю время от времени возобновляемой попыткой переработать общее достояние человеческих воспоминаний для современного использования». У Ранке следует строго различать слои и направления, их нельзя прослеживать одновременно. Абсолютно универсальный, чисто созерцательный элемент должен быть познан во всей его сложности. Он является при всех различиях общим для него и Гегеля.
?См.: Meinecke F. Op. cit. S.464: «В разорванное всевозможными проблемами, полное материалом различных формирований время современный человек жаждег духовной связи, упрощенной конструкции, смелых и сильных вождей, ощущающих всю сложность современной жизни, но способных соединить ее в едином сплаве убедительного и выразительного синтеза. Ему уже предлагался целый ряд подобных синтезов, начиная со сверхчеловека и эстетизма до идеи евроцентризма». В наши дни необходимо указать и на Шпенглера, последователя Ницше, который связывает его независимую от всякого интеллектуализм?) и каузальности интуитивную философию силы и воли с заимствованной у органологической школы созерцательной морфологией всех культур и тем самым занимает колеблющуюся позицию между мнимой чистой созерцательностью и практическим гениальным синтезом современности.
3 Сходную мысль высказывает П.Тиллих (Tillich Р. Kairos // Die Tat. 1922. August.), именуя его принятым в школе Георге термином «каирос» (благоприятный момент - грен.). Он стремится обосновать религиозный социализм как требование каироса, а не диалектики или естественного права.
4Об этом см. замечания Седерблома в работе: Soderblom N. Die Religionen derEnde. 1919.
5 Cp.: Lorenz О. Cjeschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben. 1886—1891. Лоренц, обладая пониманием философских проблем истории, чувствовал себя в те времена белой вороной. Его решения носят
Эрнст Трёльч. О построении европейской нсторнн культуры 715
сильный натуралистический оттенок, и почти смешным кажется, как он пытается толковать в этом смысле Ранке. Сравнение Лоренца с сегодняшними теоретиками истории полезно. Большое значение всеобщей истории придает Керст (Karst J. Studien zur Entwicklung und Bedeutung der Universalgeschichte // HZ. Bd.106; 111); однако в его работе речь идет преимущественно о понятии всеобщей истории у Ранке, которое, в сущности, охватывает только Запад, следовательно, совпадает с установленным здесь гребованием. Против понятия Ранке выступает Виламовиц-Меллендорф (WilamowitzMollendorf U, Weltperioden // Gottinger Rede. 1X97, ем. также «Reden und Vortrage»). Остальную литературу но вопросу периодизации можно найти у В.Бауэра (Bauer Einfuhrung. S. 99-146); см. также: HeussiK. Altertum, Mittelalter und Neuzeit in der Kirchengeschichte. 1921; Kohler W. Idee und Personlichkeit in der Kirchengeschichte. 1910. У Бернгейма дано немного. Кроче высказывается преимущественно скептически, но тем не менее сам дает периодизацию европеизма в стиле Гегеля. Литературу по отдельным вопросам см. далее.
6 См.: Keyserling Н. Das Reisctagebuch eines Philosopher!. 1919; см. мое сообщение (HZ. 1920), кроме того, известные работы Лафкадио Херна, Персивала Лоуэлла, Альфонса Паке, Ку Хун Мина. Особенно поучителен Окакура Какуцо, директор японского музея; его книги «Das Buch vom Thee» (Inselbticherei. Bd. 142) и «Die Ideale des Oslens» (1922) представляют собой едва ли пс забавную копию европейского историзма с обратным знаком. И наконец, Вилли Хаас (Haas W. Die Seele des Orients. 1916) в качестве психолога конструирует различные психологические предположения относительно обеих сторон: Востоку ведом индивид, но неведомо время.
7 Ср.: Weber М. Roscher und Knies // Schmollers Jahrbuch. Bd.27, 29, 30. Виламовиц в напечатанной в том же сборнике работе также защищает теорию замкнутых циклов, применяя ее прежде всего к отношению между античным и современным миром, чему следует, впрочем, и Эд.Мейер в своей «Geschichte des Altertums». Книга Шпенглера полностью основана на этой мысли; автор стремится только установить параллели и генеалогии циклов, невзирая па то, что они, как он полагает, неспособны понимать друг друга.
8 'Гак, например, Windelband W. Geschichlsphilosophie. 1916. Очень похоже у Ранке (Epochen der neueren Geschichte. 1917. S. 19), хотя в своей «Weltgeschichte» Ранке в общем порвал со старой концепцией всеобщей истории и офаничивает свой универсализм рамками романо-германекого мира, сложившегося на основе Римской империи и христианства. Америка еще почти полностью находится вне его поля зрения.
9 Философская позиция Шпенглера стала значительно более ясной после выходу второго тома его работы «Welthistorische Perspektiven» (1922). Сравнение с Уэллсом напрашивается. Выдающийся лейденский историк культуры Хейзинга сравнил в голландском журнале обоих под характерным названием: «Das Ringcn mil dem Engel». Поучительно также для понимания упадочнического настроения Шпенглера сказанное Уэллсом в его «Mister Britlig»: «Now everything becomes lluid. The world is plastic for
716 И ci орико-coiuiojiof ичсскос видение культу ры
men to do what they will with it» (Все стало теперь неустойчивым. Мир стал пластичен, и люди могут делать с ним, что хотят, англ.), Эти слова взяты в качестве эпиграфа для выпускаемого французской молодежью журнала «Cahiers de Probus». L’Univesftd Nouvelle, T. 1. См. уже упомянутую статью Э.Р.Курциуса {Curtius E.R Das franz. Universitatsleben // Frankf, Zeitung. 1922.18. Mai.)
10 Ср. Д. I Пефер: SchaferD. Weltgpschichte der Neuzeit. 1920.11одобным же образом мыслят и аргументируют на Востоке, в Японии, Китае и Индии. I кредо мной лежит список трудов профессора Веной Кумара Саркара, директора Академии Панини в Аллахабаде. Среди них: «Историческая наука и надежда человечества»; «Позитивная основа индийской социологии»; «Современный мир»; «Обзор нововведений в промышленности, науках, воспитании, литературе, искусстве и социальной деятельности»; «Футурология молодой Азии»; «Политическая философия индусов»; «Сравнительное исследование литератур с индийской точки зрения»; «Сравнительное исследование политики на основе индийских данных»; «Прочнеют!» монархии на Западе» и т.д. Сюда же относится распространяемая в Берлине книжка японца-христианина Чуичи-ро Гомио «Единство человеческой сущности», где проблема рассматривается с азиатской точки зрения. Таковы лишь случайные примеры. Подобных работ очень много, все они построены но аналогии с европейской наукой, но их авторы видят и чувствуют, исходя из другого центра.
11 См. выше раздел «Историческая динамика позитивизма» (Гл. III, 5); Вгеу sig К. Stufenbau und Gesetze der Weltgeschichte. 1905. - Существует очень много, причем значительных, попыток такого рода. Назову, например: Usenerll. Philologie und Geschichtswissenschaft в его «Vortrage»; Dieterich A. Mithrasliturgie; Wolfflin H Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. 1920, особенно начало и конец; Hamann R. Impressionismus. 1907; Mitscheriich Ж Skizzc ciner Wirtschaftsstufentheorie. 1921; Meyer RM. Prinzipien einer wiitschaftlichen Periodenbildung mit besonderer Riicksicht auf die Literatuigeschichte // Euphorion. Vlll. 1901; StrzygowskiJ. Veigleichende Kunstforschung auf geographischer Grundlage // Mitt. d. geogr. Ges. in Wien. Bd. 61. 1903. Оба тома работы Шпенглера; НасктаппН. Allgemcine Rcligionsgeschichte // Nieuwe lheologisch Tijdschrift. 1919. Преобладает ли в этих «образованиях законов» оргапологичсски-виталистический метод романтиков и исторической школы, или социологически-механистический метод англо-французского позитивизма, или смешение того и другого особый вопрос; см.: RothackerЕ. Einleitung in die Geisteswissenschaften. 1920.
12 Об этом см. статью Шульце-Геверница (Frankf. Zeitung. 1920. 7. April). В указанной выше работе Вебера {Weber М. Wirtschaftsethik der Weltrcligionen.) это применяется во всемирно-историческом масштабе.
13 Ср. мою рецензию па работу Пауля Барта {Barth Р. Die Philosophic der Geschichte als Soziologie. Leipzig, 1915) (Weltwirtschaftliches Archiv. VIII. 1916). 11опятие теории исторической пауки гак же не может быть выражено одной формулой или целеполаганием, как понятие естественных наук.
14О склонности каждой «полностью развитой культуры» к историзму см.: VierkandtA. Naturvolker und Kulturvdlker. 1896. Эта склонность усиливается там, где существует сплав двух культур и обе они осознаются.
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры 717
15 Ср. Keyserting Н. Philos, als Kunst. 1920. S.80, вообще весь раздел о «Германской и романской культуре» и о «Востоке и Западе». S. 101 f. Тот же вопрос рассмотрен в работе Мейпеке «РгеиВеп und Deutschland». 1910. S. 1OOf. 1(' Ср. мою книгу: Augustin, die christliche An tike und das Mittelalter (Munchen, 1915) и статью о «старой церкви» (Logos. VI. 1916/17). Одна из непонятных черт Шпенглера заключается в том, что он, видя полное различие между античностью и современностью, игнорирует посредническую роль церкви. Вместо этого он вводит третью совершенно чуждую культуру, совокупность арабско-магической культуры, которая должна охватывать Иисуса, апостола Павла, Мухаммеда, Августина и Юстиниана; при этом он чрезмерно преувеличивает различие между античностью и современностью. См. по этому вопросу: Soden II. von. Spenglers Morphologic und die Kirchengeschichte. Leipzig, 1921. S.459 -478; Gutschmidt K. Kleine Schriften. V. S. 393—417.
17 Ср. мою книгу: Soziallehren der christlichcn Kirchen und Gruppen. 1911. Однако в ней еще недостаточно понята исключительность христианских социальных учений и проблемы европейской религии и культуры.
См. об этом: Weber М. Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie. 1921; также: Sombari W. Kapitalismus. Bd. 1. 2. Aufl. 1916, а также весьма поучительный труд «Vom Altertum zur Gegcnwart», 1919; о статическом характере хозяйства вне Европы и Америки, об отсутствии в нем развития и ограничении экономического развития пределами современною европейского мира см.: Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichcn Entwicklung. S. 108, 113 f.
19 Об этой критике и скрытом уже в самом подходе к фактам, в понимании источников и их использовании философском содержании см. меткие замечания О.Лоренца (Bd. II). Он только не заметил более осгрую постановку вопроса по сравнению с античностью, вызванную борьбой против христианского мифа и авторитета догмата. О критическом душевном отношении и его этосе см.: также «Gesetze des historischen Erkenncns» Зибеля.
20 Ио этому вопросу ср.: Becker С.Н Der Islam als Problem // Islam. 1910. NI и в соотнесении с данными здесь моими соображениями: Idem. Der Islam im Rahmen einer allgemeinen Kulturgeschichte // Z. d. deutschen Morgenl. Gesellschaft. Bd. 76. 1922. Я могу лишь согласиться с автором этой в высшей степени интересной работы. Однако точка зрения историка несколько отличается от точки зрения специалиста в области философии истории, как я ее понимаю. Последний исходит из общности результатов, историк - из общности происхождения. Для Беккера на первом плане стоит общность в борьбе за усвоение составных частей византийской, восточнославянской и эллинистической культур и затем превосходство культуры в средние века. По он и сам задается вопросом о причинах неодинаковых результатов. Эти причины он видит в различной реакции на античное наследие. «Великое отличающее Запад переживание гуманизм», S.29. Запад, по его словам, нс просто продолжал античную культуру, а вновь создал ее. Только благодаря этому, по мнению Беккера, возник «европеец», в корне отличный от восточного человека. Однако почему это стало возможным на Западе? Причина заключается, по Беккеру, в гом, что само христианство уже означало разрыв с эллипистиче-
718 Историко-социопогическое видение культуры
ской античностью. На этом пути стало возможно открыть подлинную доэллипистическую античность, как только христианство отступило. Но это ведь означает, что здесь все с самого начала обстояло иначе, чем в исламе. «Открывающая саму себя Европа проникала в глубину Я. Сначала бессознательно, затем рационально. До того как cogito ergo sum (мыслю, следовательно, существую — лат.) было сформулировано как мысль, оно было пережито», S. 31. Однако это относится уже к Августину.
21 Об этой чрезмерно мистифицированной в нашей литературе проблеме ср. кроме известной книги Масарика (Masaryk T.G. Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie. 1913), появившиеся теперь по-немецки «Три очерка» Киреевского (Мюнхен, 1921), которые охватывают период 1832 1855 гг. Очень поучительны также мемуары Александра Герцена; общее обозрение дает Hot&ch О. Russian d. 1917, а практическим примером может служить NotzelK. Vom Umgang mit Russen. 1921. Особенно интересна уже упомянутая книга Соловьева «Россия и Европа», 1917. Общее философско-историческое видение автора и его стремление к созданию всеобщей истории совпадает по мотиву и результату со сказанным здесь. Соловьев борется со своего рода русским Шпенглером, Данилевским («Россия и Европа»), выступая против натуралистической органологии, и призывает к основанной на религиозной этике всеобщей истории. Импульсом к ее развитию он считает прежде всего гребование соединить греческо-ортодоксальное и латинско-католическое исповедания. Лишь в этом случае возможен, как он полагает, европеизм.
22 В работе Пленге (Plenge J. Die Zukunft in Amerika. 1912) дано критическое рассмотрение очень интересной книги Г.Уэллса. См. также: Luckwaldt F. Geschichte der Vereinigten Staaten. 1920; Hassert K. Vereinigte Staaten. 1922.
23 Об этом см.: Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung и Vierkandt Steligkeit im Kulturwandel. Периодизировать, исходя из личностей, нельзя, в крайнем случае это допустимо только по преимущественно статическим и преимущественно личностно-динамическим периодам, как это делает Шумпетер. В обоих случаях в основе лежат определенные духовные позиции, которые Шумпетер различает в экономике как гедонистически-статическис и эпергически-динамические. Но это слишком абстрактно и носит внешний характер, к тому же применимо только к политической экономии, причем Шумпетер преувеличивает неподвижность статического хозяйства. Его попытки перенести свою схему на другие области культуры очень схематичны и неисторичны.
24 Heussi К. Op. cit; Gaiter Е. Die Periodisierung der Kirchengeschichte und die epochale Stellung des Mittelalters. 1919. Следует также напомнить об имеющих большое значение концепциях Гарпака и Дёллингера. О критике переоценки религий в этом отношении см. мою работу «Soziallehren...» и «Islam» К.Г.Беккера.
25 См. по этому вопросу прежде всего: Hamann R. Op.cit., который, впрочем, принимает во внимание различие между периодами всеобщей истории и периодами стиля; об отношении между понятием искусства, понятием культуры и периодизацией см.: We is bach W. Renaissance als Stilbegriff//HZ. 1919. Bd. 120.
Эрнст Трельч. О нос i роении европейской истории кулыуры 719
26 О приближении к диалектике см.: Lorenz. О. II. S.352; 67, 73; О «природе (логических) вещей» см., например: Ranke L. Epochcn dcr neueren Geschichtsschreibung. 1917. S.76.
27 Образование главных больших периодов путем соединения трех, шести или девяти столетий, посредством чего Лоренц хочет сделать эту систему приемлемой и для главных разделов, не встретило сочувствия Ранке, и у самого Лоренца становится чистой каббалой. Принцип поколений использует и Гарпак (Harnack A. Aus Wissenschaft und Lebcn. J. S. 96). Близка периодизации Ранке и работа: Crome F.L. Das Abendland als weltgeschichlliche Einheit. 1922, впрочем, это скорее книга из области политической практики с национальной немецкой тенденцией: 1. Возникновение Европы в Римской империи; 2. Возникновение романо-германского культурного мира; 3. Западное универсальное государство; 4. Образование европейских наций; 5. Возвышение Европы до уровня гегемона части Земли. Остальное путанно.
29 О преимущественно политической сущности «тенденций» см.: Ranke L. Epochen. S. 124; 141. Наряду с этим, безгранично прогрессирующее и логически опосредствованное развитие цивилизации, S. 20 и 17 f., совершенно индивидуальный характер культуры, которая не прогрессирует, а обладает в каждом случае своими индивидуальными вершинами и связана с непостижимостью духовного прорыва, S. 17. Эти три элемента всегда присутствуют, но пи в одном периоде они не развиваются равномерно; превалирует то одно, то другое. Историк может держаться, рассматривая это возвышение и падение, только политического элемента, S. 16. Впрочем, Райке проводил эту терминологию - политика, цивилизация, культура - очень нерешительно.
29 Guizot F. Histoire gdndrale de la civilisation en Europe depuis la chute de Fempire remain jusqu’A la revolution fran$aise. 1825. Гуч называет эту книгу еще и сегодня наиболее впечатляющим обзором развития европейской цивилизации, S. 189. Характерно следующее высказывание, S.349 (4 dd., 1840): Quand les dvdnement sont une fois consommds, quand ils sont devenus de Fhistoire, ce que 1’homme cherche surtout, ce sont les faits gdndraux, Fenchainement des causes et des eflets. C’est 1A, pour ainsi dire, la portion immortelle de Fhistoire, cette A laquelle toutes les gdndrations ont besoin d’assister pour comprendre le passd, et pour se comprendre elles-mdmes (Когда события уже совершились, когда они стали историей, люди ищут в них прежде всего общие черты, связи причин и действий. В этом как бы бессмертная сторона истории, которую должны знать все поколения, чтобы понять прошлое и попять самих себя. - франц.). Но за этим сразу же следует требование точного изучения деталей.
30 Своего рода переходом и промежуточным образованием служат книги Чьслана: Kjellen R. Der Staat als Eebensform. 1917; Die GroBmachte der GegenwarU 1915.
31 'Гак, Виндсльбапд в учебнике по истории философии (Windelband W. Lehrbuch d. Gesch. d. Phil. S.ll) связывает в принципе даже развитие философии с важными изменениями в истории политики и культуры, поскольку отсутствует логически конструируемая необходимость в последовательности проблем и систем.
720 Исгорико-сониаюгическое видение кулыуры
32 Лакомб известен мне только но книге Пауля Барга (Barth Р. Philosophic der Geschichte als Soziologie. 1915. S. 231-237; 3. Aufl. 1922) и по работе Анри Берра (Berr H. L’histoire traditionnelle etc. P. 57 -146). Берр считает его величайшим мастером synthdse historique, histoire scienlilique (исторического синтеза, научной истории - франц.). Незадолго до смерти в нем проснулся дух умозрения и он ста.'! живо интересоваться немецкими идеями, прежде всего идеями Гегеля, которые до того были ему чужды. Р.61.
33 Патаск A. Aus Wissenschaft und Leben. 1911. I. 43 f.; II. 85 ft'. Uber die Sicherheit und die Grenzengeschichtlicher Erkenntnis. Munchen, 1917. S. 17.
34 Breysig K. Kull urgesc hie h(c der Neuzeit. II. Книга представляет собой итго-жение этой теории на основе лучших работ, сопровождаемое многочисленными рассуждениями, среди которых есть ряд очень дельных замечаний. В первом томе содержатся основные мысли автора о ступенях развития, 1905.
35 BreysigК. Op. cit. II. S. 673.
36 Ср. замечания о марксистской проблеме: Breysig К. Op. cit. II. S. 1250-1294 и ряд отдельных замечаний, как, например, S. 1322, 1406, 1424.
38 О многозначности понятия «индивидуализм» и невозможности, исходя из него и его недостаточно точных значений, проникнуть в суть социологических движений см.: Schmalenbach Н. Individualitat und Individua-lismus // Kantstudien 24. 1920. Брейзиг и сам различает (демократический) индивидуализм масс и (ницшеанский) индивидуализм избранных. 11ослсдний в значительной степени присущ аристократии позднего средневековья при переходе к демократии, вследствие чего Брейзиг, как и Ницше, отдает предпочтение этому времени.
38 Продолжение этой мысли дано в очень тонкой и глубокой работе Альфреда Вебера: Weber A Prinzipielles zur Kultursoziologie. (Gesellschafts-prozess, Zivilisationsprozess und Kultuibewegung) //Archiv fur Sozialwissen-schaft. 47. 1920.
39 Ср. большие статьи: Weber M. Agrargeschichte des Allertums; Kolonal // Il.St.W.; первая из них представляет собой экономическую историю древности, в ней (S. 182) сказано: «Непрерывному развитию средневековой европейской культуры неведомы были до сих пор ни замкнутые “кругообороты”, ни однозначно ориентированное “прямолинейное” развитие. Временно полностью исчезнувшие явления античной культуры вновь появились позже в чуждом им мире. С другой стороны, подобно тому как города поздней античности, в частности эллинистические, были предтечами средневекового ремесла, так и позднеантичные вотчины были в области аграрных отношений предтечами вотчин средневековых». Сходное у Рейнгарда Юнге (Junge R. Problem der Europaisierung orientalischer Wissenschaft. 1915). К вопросу о роли города: WeberМ. Die Stadt, cine soziologische IJntersuchung //Archiv f. Soz. Wiss. 47. H. .3.
40 Cp.: Sombart W. Der modeme Kapitalismus. 2. Aull. I. 1916, а также мою близкую но замыслу работу: Soziallehren der christlichcn Kirchen und Gruppen. 1912.
41 Cp.: Sombart W. I. S. 34. Идея пропитания, накладывающая свой отпечаток на все виды докапиталистического хозяйства... родилась в лесах Европы у осевших на землю племен молодых народов.
Эрнст Трёльч. О построении европейской исп»рии кулыуры 721
42 См.: Sombart W. I. S. 327; местами повторено дословно: «Это фаустовский дух, дух беспокойства, нервозности одушевляет теперь людей... Можно с полным основанием назвать его стремлением к бесконечности, ибо цель перемещена в безграничность, все естественные меры органической связанности воспринимаются стремящимися вперед людьми как недостаточные, ограничивающие... душевную настроенность, в которой дух предпринимательства и бюргерства связаны воедино, мы называем капиталистическим духом». Очень важную составную часть возникновения этого духа, поясняющую хозяйственную настроенность англосаксов, рассматривает Макс Вебер в своем знаменитом труде: «Протестантская этика и дух капитализма» (Weber М. Die protestantischc F.thik und der Geist des Kapitalismus //Archiv fur Sozialwissenschaft. XX; XXI; теперь также: Rel.-soz. Studien. I). Об основополагающем различии между античным и современным капитализмом по их сущности, структуре, духовным основам и воздействию см. уже упомянутую работу того же автора об аграрной истории древнего мира.
43 Приведем меткое замечание Зиммеля по этому вопросу (Simmel G. Philosophic desGeldes. 1907. S. VIII): «Нод исторический материализм следует подвести фундамент таким образом, чтобы введение хозяйственной жизни в число причин духовной культуры сохранило в объяснении свою ценность, но сами эти хозяйственные формы признавались бы результатом более глубоких опенок и 'течений психологического, даже метафизического характера. Для практики познания это должно развиваться как бесконечная противоположность; к каждому объяснению идейного образования экономическим должно присоединяться требование понять его в свою очередь из еще более глубоких идей, а для этих глубин необходимо вновь найти общую экономическую основу, и так далее до бесконечности». Последнее представляет собой довольно софистическую идею. В своей рецензии на работы Вебера по социологии религии (Schmolleib Jahrbuch. 1922) О.Гинне справедливо указывает на то, что когда-нибудь этот регресс должен завершиться, и удивляется тому, что Вебер совершенно не касается напрашивающегося здесь понятия расы. Впрочем, Вебер часто говорит о пластических формирующих силах истории. О понятии расы в этом смысле есть ряд ценных наблюдений во втором томе работы Шпенглера, названной выше.
44 В связи с этим также можно привести замечание Зиммеля (SimmelG. Probleme der Geschichtsphilosophie. 3. Aull. S. 71 f.): «Экономические и политические факторы служат теми психологическими связями, которые при их простоте, понятности для всех и практической мотивированности составляют общий центр человеческих интересов, будь то в виде инстинкта сохранения жизни или формы массовой организации. Это психологические процессы, но самые элементарные, всеобщие и объединяющие большинство людей. При этом вопрос, обладает ли каждый из них более высокими, дифференцированными и сложными свойствами и переживает ли такого рода судьбы, остается нерешенным. Историю они образуют лишь (?) посредством тех определений, которые общи для всех, в которых их силы соединяются в единое действие». «В частности, государство является практическим минимумом каждого состояния культуры», /(ля
722 Историко-социологическое видение культуры
объяснения самих этих длительно сохраняющихся форм применимо, конечно, сказанное в предыдущем примечании.
45 Об этом см. новую главу о барокко в книгах: Neumann К. Rembrandt. 3. Aufl. 1922. S.544 ff., Weiflbach W. Der Barock als Kunst dcr Gegen-refomiation. 1921, а также: WolfflinH. Grundbegriffe.
48 Этот вопрос поставил нс кто иной, как Гёте, который, продолжая в маленькой статейке о «духовных эпохах» (Cottas Jubil.-Ausg. Bd. 37) мысль Готфрида Германа, описывает типичные для каждой культуры ступени: 1) примитивизм и зародышевые клетки культуры у отдельных людей; 2)ступень поэтической чувственности; 3) теологической святости; 4) переход традиции в гуманизированные и универсализированные индивидуальные ценности без отрицания традиционных ценностей; 5) механизирующее опошление; 6) хаотический распад. Себя он, конечно, относил к четвертой ступени; ее он называет благородной, умной, искренней, но более соответствующей одаренным индивидам, чем целым народам. См. мою статью: Konservativ und liberal. (Christliche Welt. 1917.) По вопросу о различии между периодизацией и типизацией см. Хейсси, который, в свою очередь, исходит из прекрасной работы: Кет F. Rccht und Vcrfassung im Mittelalter I/ HZ. Bd. 120. 1919. Его различение между «временным и понятийным средневековьем» носит, правда, несколько иной характер. Я бы предпочел выявлять понятийную и типическую сущность эпохи с помощью веберовского понятия «идеальных типов». Связью проблемы периодизации с характером понятий времени никто не занимался, между тем именно в этом заключено последнее решение. Сделал это лишь Шпенглер, но использовал, к сожалению, только для своей злосчастной «одновременности» и своих гомологий, а не для главного, для периодизации и типизации определенного конкретного процесса; впрочем, он и вообще пе анализирует ни один процесс спокойно и осторожно в его собственной сущности, а все время прерывает анализ параллелями и дополнениями. Хорошим примером спокойного анализа могут служить работы уже упомянутого Фрица Керна, см., прежде всею: Mittclalterlichc Studicn. I. 1914. Сходные принципы характеристики даны в очень интересных и глубоких работах Вальтера Ратенау (RathenauW. Zur Kritik der Zeit. 1917; Zur Mechanik des Gcistcs. 1917). Вполне в духе изложенных здесь мыслей у него за исследованиями в области философии истории следует синтез современной культуры (Von kommenden Dingen. 1917); по этому вопросу в целом см. работы 1П мол л ера в его ежегоднике (Sehmollers Jahrbuch. 41. 1917) и Шелера (в кн.: Walter Rathenau. Koln, 1922). В формальном отношении теория Ратенау о синтезе современной культуры и ее отношении ко всеобщей истории близка моему пониманию, однако значительно менее связана с действительной историей.
47 См. мою работу: Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit (2. Aufl.) // Kultur der Gegenwart. Tl. I. Abt. IV. I. 1909; теперь она вышла отдельно в третьем издании с послесловием, в котором речь идет именно о рассматриваемой здесь проблеме; ем. также: Die Bedeutung des Protes-tantismus fur die Entwicklung der modemen Kultur. 2. Aufl. 1911. А также близкую по точке зрения работу. Friedrich Е Versuch liber die Perioden der Ideengeschichte der Neuzeit und ihr Verhaltnis zur Gegenwart // HZ.
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории кулыуры 723
Bd. 122. 1922; а также: Wolff к. Studicn zu Luthers Weltanschauung. 1920), другого мнения придерживается Белов (Below G.v. Die Ursachen der Reformation. 1917); дальнейшее ем/. HeussiK. Op.cit. К характеристике современного мира: Sombarl W. Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen. Критика его точки зрения дана Шелером (Abhandlungen und Aufsatze. II). Выражение «буржуа» представляется мне уничижительным в применении к очень важному явлению. Гражданское общество нельзя считать буржуазным, разве что стремиться вместе с социалистами, представителями богемы и романтиками сделать его смешным. Оно различно во всех странах и повсюду состоит из разных слоев.
46 При этом надо мысленно обращаться отнюдь не только к Шпенглеру и кругу Георге в Германии. Выше упоминались Ф.ЛЛанге, Буркхардт и Виндельбанд. О том, что и в Англии положение вещей воспринимается так же, свидетельствует У.Р. Индж (Inge W.R. Outspoken Essays; вскоре выйдет 9-е изд., 1922). Уэллс также видит альтернативу в радикальном обновлении или гибели.
49 Эта теория обособления культурных содержаний и обретения ими самостоятельности существенна и для Гегеля, см. выше (гл. III. 2). См. также: Ranke L. Epochen. S. 30: «Следовательно, и здесь мы встречаемся, как в литературе и в праве, с тем замечательным обстоятель ном, что из частного постепенно развивается общее». См. также: EngelsF Feuerbach. S. 45.
50 Это также уже понято Гегелем, который вообще совсем не был таким создателем априорных конструкций, каким его представляет легенда. См. его «Geschichtsphilosophie» (изд. Reclam). S.87: «Поэтому вообще, что касается сравнения государственного ушройства у существовавших на ранней стадии мировой истории пародов, то из него ничего нельзя использовать для принципа нашего времени. В искусстве и науке дело обстоит совсем по-другому... Здесь перед нами предстает как бы непрерывное строительство одного здания, фундамент, степы и крыша которого остались прежними... Что же касается государственного строя, то здесь у старого и нового нет общего существенного принципа».
51 Смерть в феврале 1923 г. оборвала груд Э.Трсльча, и второй Том задуманной работы не был написан. Прим. ред.
Перевод иноязычных текстов
р По преимуществу (лат.).
2‘ Государство (лат.).
3‘ «Божественная комедия» (лат.).
Печатается (с некоторыми исправлениями) по изданию: Трёльч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994. С. 595 661.
Макс Вебер «Объективность» познания в области социальных наук и социальной политики
Если называть науками о культуре те дисциплины, которые рассматривают события человеческой жизни под углом зрения их культурного значения, то социальная наука в нашем понимании относится к этой категории. Скоро мы увидим, какие принципиальные выводы из этого следуют. Нет сомнения в том, что выделение социально-экономического аспекта культурной жизни существенно ограничивает наши темы. Нам, конечно, скажут, что экономическая, или, как ее недостаточно точно называют, «материалистическая» точка зрения, с которой здесь будет рассматриваться культурная жизнь, носит «односторонний» характер. Это справедливо, но к этой односторонности мы и стремимся. Утверждение, что наша задача состоит в устранении «односторонности» экономического исследования посредством расширения его до границ общественных наук в целом, свидетельствует о непонимании того, что «социальная» точка зрения, т.е. изучение связи между людьми, позволяет с достаточной определенностью разграничить научные проблемы лишь в том случае, если эта точка зрения характеризуется каким-либо особым содержательным предикатом. В противном случае ее объектом окажется не только предмет филологии или истории церкви, но и вообще всех дисциплин, занимающихся таким важнейшим конститутивным элементом культурной жизни, как государство, и такой важнейшей формой его нормативного регулирования, как право. То, что социально-экономическое исследование занимается «социальными» отношениями, в такой же степени не может служить основанием для того, чтобы видеть в нем необходимую стадию в развитии «общественных наук» в целом, как то, что оно занимается явлениями жизни, не превращает его в часть биологии, или то, что оно изучает процессы на одной из планет, - в часть будущей, более разработанной и достоверной, астрономии. В основе деления наук лежат не «фактические» связи «вещей», а «мысленные» связи проблем: там, где с помощью нового метода исследуется новая проблема и тем самым обнаруживаются
Макс Вебер. «Объективность» познания в области социальных наук... 725
истины, открывающие ее новые важные аспекты, возникает новая «наука».
И не случайно, когда мы проверяем возможность применения понятия «социального», понятия, как будто общего по своему смыслу, то оказывается, что его значение носит совершенно особый, специфически окрашенный, хотя в большинстве случаев и достаточно неопределенный характер. В действительности его всеобщность - следствие именно этой его неопределенности. Взятое в своем «общем» значении, оно не дает специфических точек зрения, которые могли бы осветить значение определенных элементов культуры.
Отказываясь от устаревшего мнения, будто всю совокупность явлений культуры можно дедуцировать из констелляций «материальных» интересов в качестве их продукта или функции, мы тем не менее полагаем, что анализ социальных явлений и культурных процессов под углом зрения их экономической обусловленности и их влияния был и - при осторожном свободном от догматизма применении — останется на все обозримое время творческим и плодотворным научным принципом. Так называемое «материалистическое понимание истории» в качестве «мировоззрения» или общего знаменателя в каузальном объяснении исторической действительности следует самым решительным образом отвергнуть; однако экономическое толкование истории является одной из наиболее существенных целей нашего журнала. Это требует дальнейшего пояснения.
Так называемое «материалистическое понимание истории» в старом гениально-примитивном смысле «Коммунистического манифеста» господствует теперь только в сознании профанов и дилетантов. В их среде все еще бытует своеобразное представление, которое состоит в том, что их потребность в каузальной связи может быть удовлетворена только в том случае, если при объяснении какого-либо исторического феномена, где бы то ни было и как бы то ни было, обнаруживается роль экономических факторов. В этом случае они довольствуются самыми шаткими гипотезами и самыми общими фразами, поскольку принята во внимание их догматическая потребность видеть в «движущих силах» экономики «подлинный», единственно «истинный», в конечном счете всегда решающий фактор. Впрочем, это не является чем-то исключительным. Почти все науки, от филологии до биологии, время от времени претендует на то, что они создают не только специальное знание, но и «мировоззрение». Под влиянием огромного культурного значения современных экономических преобразований, и в частности господствующего значения «рабочего вопроса», на этот путь естественным образом вел неискоренимый монизм каждого некри
12Ь Ис 1х»рико-соци<)л<)гическое видение кулыуры
тического сознания. Теперь, когда борьба наций за господство в области политики и торговли становится все более острой, тот же монизм используется в антропологии. Ведь вера в то, что все исторические события «в конечном итоге» определяются игрой врожденных «расовых качеств», получила широкое распространение. Место некритичного описания «народного характера» заняло еще более некритичное создание собственных «общественных теорий» на «естественно-научной» основе. Мы будем тщательно следить в нашем журнале за развитием антропологического исследования в той мере, в какой оно имеет значение для наших точек зрения. Надо надеяться, что такое состояние науки, при котором возможно каузальное сведение культурных событий к «расе», свидетельствующее лишь об отсутствии подлинных знаний, — подобно тому как прежде объяснение находили в «среде», а до этого в «условиях времени» - будет постепенно преодолено исследовательской деятельностью профессиональных ученых. До настоящего времени работе специалистов больше всего мешало представление ревностных дилетантов, будто они могут дать для понимания культуры нечто специфически иное и более существенное, чем расширение возможности уверенно сводить отдельные конкретные явления культуры исторической действительности к их конкретным, исторически данным причинам с помощью неопровержимого материала, полученного со специфических точек зрения в ходе эмпирического исследования. Только в той мере, в какой они могут предоставить нам это, их выводы имеют для нас интерес и квалифицируют «расовую биологию» как нечто большее, чем продукт присущей нашему времени лихорадочной жажды создавать новые теории.
Так же обстоит дело с экономической интерпретацией исторического процесса. Если после периода безграничной переоценки этой интерпретации теперь приходится едва ли не опасаться того, что значимость ее недооценивается, то это следствие беспримерной некритичности, которая лежала в основе использования экономической интерпретации действительности в качестве «универсального» метода дедукции всех культурных феноменов (т.е. всего того, что в них для нас существенно) к экономическим факторам. В наши дни логическая форма этой интерпретации бывает разной. Если чисто экономическое объяснение наталкивается на трудности, существует множество способов сохранить его общезначимость в качестве основного причинного момента. Один из них состоит в том, что все явления исторической действительности, которые не могут быть выведены из экономических могивов, именно поэтому считаются незначительными в научном смысле, «случайностью». Другой способ состоит в том, что понятие «эко-
Макс Вебер. «Объективность» познания в области социальных наук... 727
комического» расширяется до таких пределов, когда все человеческие интересы, каким бы то ни было образом связанные с внешними средствами их реализации, вводятся в названное понятие. Если исторически установлено, что реакция на две в экономическом отношении одинаковые ситуации была тем не менее различной из-за политических, религиозных, климатических и множества других неэкономических детерминантов, то для сохранения превосходства экономического фактора все остальные моменты сводятся к исторически случайным «условиям», в которых экономические мотивы действуют в качестве «причин». Очевидно, однако, что все «случайные» с экономической точки зрения моменты следуют совершенно так же, как экономические, своим собственным законам развития и что для той точки зрения, которая исследует их специфическую значимость, экономические «условия» в таком же смысле «исторически случайны», как случайны с экономической точки зрения другие «условия». Излюбленный способ спасти, невзирая на это, исключительную значимость экономического фактора состоит в том, что константное воздействие отдельных элементов культурной жизни рассматривается в рамках каузальной функциональной зависимости одного элемента от других, вернее, всех других от одного, от экономического. Если какой-либо нехозяйственный институт осуществлял исторически определенную «функцию» на службе экономических классовых интересов, т.е. был подчинен им, если, например, определенные религиозные институты могут быть использованы и используются как «черная полиция», то считается, что этот институт' был создан только для этой функции, или - совершенно метафизически - утверждается, что на него наложила отпечаток коренящаяся в экономике «тенденция развития».
В наше время специалисты не нуждаются в пояснении того, что это толкование экономического анализа культуры было отчасти следствием исторической констелляции, направлявшей свой научный интерес на определенные экономически обусловленные проблемы культуры, отчасти отражением в науке неуемного административного патриотизма и что теперь оно по меньшей мере устарело. Сведение к одним экономическим причинам нельзя считать в каком бы то ни было смысле исчерпывающим ни в одной области культуры, в том числе и в области «хозяйственных» процессов. В принципе ^стория банковского дела какого-либо народа, в которой объяснение построено только на экономических мотивах, столь же невозможна, как «объяснение» Сикстинской мадонны, выведенное из социально-экономических основ культурной жизни того времени, когда она была создана; экономическое объяснение носит ничуть не более исчерпывающий характер, чем выведение капитализ
728 Историко социо,г1ог>г»еское видение культуры
ма из тех или иных преобразований религиозного сознания, игравших определенную роль в генезисе капиталистического духа, или выведение какого-либо политического образования из географических условий среды. Во всех этих случаях решающим для степени значимости, которую следует придавать экономическим условиям, является то, к какому типу причин следует сводить те специфические элементы данного явления, которому мы в отдельном случае придаем значение, считаем для нас важным. Право одностороннего анализа культурной действительности под каким-либо специфическим «углом зрения» — в нашем случае под углом зрения ее экономической обусловленности — уже чисто методически проистекает из того, что привычная направленность внимания на воздействие качественно однородных причинных категорий и постоянное применение одного и того же понятийно-методического аппарата дает исследователю все преимущества разделения труда. Этот анализ нельзя считать «произвольным», пока он оправдан успехом, т.е. пока он дает значение связей, которые оказываются ценными для каузального сведения исторических событий к их конкретным причинам. Однако «односторонность» и недейственность чисто экономической интерпретации исторических явлений составляет лишь частный случай принципа, важного для культурной действительности в целом. Пояснить логическую основу и общие методические выводы этого положения является главной целью дальнейшего изложения. Не существует совершенно «объективного» научного анализа культурной жизни или (что, быть может, означает нечто белее узкое, но для нашей цели, безусловно, то же самое) «социальных явлений», не зависимого от особых и «односторонних» точек зрения, в соответствии с которыми они избраны в качестве объекта исследования, подвергнуты анализу и расчленены (что может быть высказано или допущено молча, осознанно или неосознанно); это объясняется своеобразием познавательной цели любого исследования в области социальных наук, которое стремится выйти за рамки чисто формального рассмотрения норм — правовых или конвенциональных - социального существования.
Социальная наука, которой мы хотим заниматься, - наука о действительности. Мы стремимся понять действительную жизнь в ее своеобразии - установить взаимосвязь и культурную значимость отдельных ее явлений в их нынешнем облике, а также причины того, что они исторически сложились именно так, а не иначе. Между тем жизнь предлагает нам, как только мы пытаемся осмыслить образ, в котором она непосредственно предстает перед нами, бесконечное многообразие явлений, возникающих и исчезающих последовательно или одновременно «внутри» и «вне» нас. Абсолютная
Макс Вебер. «Объективное i-ь» познания в ойпасги социальных наук... 729 бесконечность этого многообразия остается неизменной и в том случае, когда мы рассматриваем отдельный ее «объект» (например, конкретный акт обмена), как только мы делаем серьезную попытку исчерпывающе описать это «единичное» явление во всех его индивидуальных компонентах, не говоря уже об его каузальной обусловленности. Поэтому теоретическое познание бесконечной действительности конечным человеческим духом основано на молчаливой предпосылке того, что в каждом данном случае предметом научного познания может быть только конечная часть действительности, что только ее следует считать «существенной», т.е. «достойной знания». По какому же принципу вычленяется эта часть? Долгое время предполагали, что и в науках о культуре решающий признак в конечном итоге следует искать в «закономерной» повторяемости определенных причинных связей. То, что содержат в себе «законы», которые мы способны различить в необозримом многообразии смен явлений, должно быть - с этой точки зрения - единственно «существенным» для науки. Как только мы установили «закономерность» причинной связи, будь то средствами исторической индукции в качестве безусловно значимой, или сделали ее непосредственно зримой для нашего внутреннего опыта, мы подчиняем каждой найденной таким образом формуле любое качество однородных явлений. Та часть индивидуальной действительности, которая остается после вычленения «закономерного», рассматривается либо как не подвергнутый еще научному анализу остаток, который впоследствии в ходе усовершенствования системы «законов» войдет в нее, либо ее просто игнорируют как нечто «случайное» и именно поэтому для науки несущественное, поскольку она не допускает «понимания с помощью законов», следовательно, не относится к рассматриваемому «типу» явлений и может быть лишь объектом «праздного любопытства». Таким образом, даже представители исторической школы все время возвращаются к тому, что идеалом всякого, в том числе и исторического, познания (пусть даже этот идеал перемещен в далекое будущее) является система научных положений, из которой может быть «дедуцирована» действительность. Один известный естественник высказал предположение, что таким (фактически недостижимым) идеалом подобного препарирования культурной действительности можно считать «астрономическое» познание жизненных процессов. Приложим и мы свои усилия, несмотря на то, что этот предмет уже неоднократно привлекал к себе внимание, и остановимся несколько конкретнее на этой теме. Прежде всего бросается в глаза, что «астрономическое» познание, о котором здесь идет речь, совсем не есть познание, основанное на законах, что «законы», которые здесь используются, взяты в качестве предпосылок
730 Историко-гоциолотичсское видение кулыуры
исследования из других наук, в частности из механики. В самом этом познании ставится вопрос, к какому индивидуальному результату приводит воздействие этих законов на индивидуально структурированную констелляцию, ибо эти индивидуальные констелляции обладают для нас значимостью. Каждая индивидуальная констелляция, которую нам «объясняет» или предсказывает астрономическое знание, может быть, конечно, объяснена в рамках причинной связи только как следствие другой предшествующей ей столь же индивидуальной констелляции; и как далеко бы мы ни проникали в густой туман далекого прошлого, действительность, для которой значимы законы, всегда остается одинаково индивидуальной и в одинаковой, лишь очень незначительной степени может быть выведена из законов. «Первичная» космическая «стадия», которая не имела бы индивидуального характера или имела бы его в меньшей степени, чем космическая действительность настоящего времени, конечно, явная бессмыслица. Однако разве в области нашей науки не обнаруживаются следы подобных представлений то в виде открытий естественного права, то в виде верифицированных на основе изучения жизни «первобытных народов» предположений о некоей первичной стадии свободных от исторических случайностей социально-экономических отношений типа «примитивного аграрного коммунизма», «сексуального промискуитета» и т.д., из которых затем в виде некоего грехопадения в конкретность возникает индивидуальное историческое развитие?
Отправным пунктом интереса в области социальных наук служит, разумеется, действительная, т.е. индивидуальная, структура окружающей нас социокультурной жизни в ее универсальной, но тем самым, конечно, не теряющей своей индивидуальности связи и в ее становлении из других, также индивидуальных по своей структуре культур. Очевидно, здесь мы имеем дело с такой же ситуацией, которую мы выше пытались обрисовать с помощью астрономии, пользуясь этим примером как пограничным случаем (обычный прием логиков), только теперь специфика объекта еще определеннее. Если в астрономии наш интерес направлен только на чисто количественные, доступные точному измерению связи между небесными телами, то в социальных науках нас прежде всего интересует качественная окраска событий. К тому же в социальных науках речь идет о духовных процессах, «понять» которые в сопереживании - совсем иная по своей специфике задача, чем те, которые могут быть разрешены (даже если исследователь к этому стремится) с помощью точных формул естественных наук. Тем не менее различие это оказывается не столь принципиальным, как представляется на первый взгляд. Ведь естественные науки - если
Макс Вебер. «Объективность» познания в области социальных наук...731 оставить в стороне чистую механику — также не могут обойтись без качественного аспекта; с другой стороны, и в нашей специальности бытует мнение (правда, неверное), что фундаментальное для нашей культуры явление товарно-денежного обращения уж во всяком случае допускает применение количественных методов и поэтому может быть постигнуто с помощью законов. И наконец, будут ли отнесены к законам и те закономерности, которые не могут быть выражены в числах, поскольку к ним неприменимы количественные методы, зависит от того, окажется ли понятие «закона» узким или широким по своему характеру. Что же касается особого значения «духовных» мотивов, то оно во всяком случае не исключает установления правил рационального поведения; до сих пор еще бытует мнение, будто задача психологии заключается в том, чтобы играть для отдельных «наук о духе» роль, близкую математике, расчленяя сложные явления социальной жизни на их психическую обусловленность и испытываемые ими влияния, сводя эти явления к наиболее простым психическим факторам, классифицируя последние по типам и исследуя их в их функциональных связях. Тем самым была бы создана если не «механика», то хотя бы «химия» социальной жизни в ее психических основах.
Мы не будем здесь решать, дадут ли когда-либо подобные исследования ценные или — что отнюдь не тоже самое — приемлемые для наук о культуре результаты. Однако для вопроса о том, может ли быть посредством выявления закономерности и повторяемости достигнута цель социально-экономического познания в нашем понимании, т.е. познание действительности в ее культурном значении и каузальной связи, это не имеет ни малейшего значения. Допустим, что когда-либо, будь то с помощью психологических или любых иных методов, удалось бы проделать анализ всех известных и всех мыслимых в будущем причинных связей явлений совместной жизни людей, соотнеся эти связи с какими-либо первичными простыми «факторами», затем с помощью невероятной казуистики понятий и строгих значимых в своей закономерности правил исчерпывающе их осмыслить -- что это могло бы значить для познания исторически данной культуры или даже какого-либо отдельного ее явления, например капитализма в его становлении и его культурном значении? В качестве средства познания — не более и не менее чем справочник по соединениям органической химии для биогенетического исследования животного и растительного мира. В том и другом случае безусловно можно было бы считать, что проделана важная и полезная предварительная работа. Однако в том и другом случае из этих «законов» и «фактов» не могла бы быть дедуцирована реальность жизни, и совсем не потому, что в жизненных явлениях
732 Историко сощюлогическое видение кулыуры
заключены еще какие-либо более высокие, таинственные «силы» (доминанты, «энтелехии» и как бы они ни назывались), — это вопрос особый, но по одному тому, что для понимания действительности нам важна констелляция, в которой мы находим те (гипотетические!) «факторы», сгруппированные в историческое, значимое для нас явление культуры, и потому, что, если бы мы захотели «каузально объяснить» эту индивидуальную группировку, нам неизбежно пришлось бы обратиться к другим, столь же индивидуальным группировкам, с помощью которых мы, пользуясь (конечно, гипотетическими!) понятиями закона, дали бы ее объяснение. Установить упомянутые (гипотетические!) «законы» и «факторы» было бы для нас лишь первой задачей среди множества других, которые должны были бы привести нас к желаемому результату. Второй задачей было бы проведение анализа и неупорядоченного изображения исторически данной индивидуальной группировки тех «факторов» и их обусловленного этим, конкретного, в своем роде значимого взаимодействия, азатем пояснение причины и характера этой значимости. Решить вторую задачу можно только при наличии предварительных данных, полученных в результате решения первой, но сама по себе она совершенно новая и самостоятельная по своему типу. Третья задача состояла бы в том, чтобы проследить, уходя в далекое прошлое, становление отдельных, значимых для настоящего свойств этих группировок, их историческое объяснение из предшествующих, также индивидуальных констелляций. И наконец, возможная четвертая - в оценке предполагаемых констелляций в будущем. Нет сомнения в том, что для реализации всех этих целей безусловно важно было бы располагать ясными понятиями и знанием таких (гипотетических) законов, они могли бы служить весьма ценным средством познания, но только средством; более того, в этом смысле они совершенно необходимы. Однако даже используя эту их функцию, мы в определенный решительный момент обнаруживаем границу их эффективности и, установив это, приходим к выводу о безусловном своеобразии исследования в области наук о культуре. Мы определили, что науками о культуре мы называем такие дисциплины, которые стремятся познать жизненные явления в их культурном значении. Значение же явления культуры и причина этого значения не могут быть выведены, обоснованы и пояснены с помощью системы законов и понятий, какой бы совершенной она ни была, гак как это значение предполагает соотнесение явлений культуры с идеями ценности. Понятие культуры есть ценностное понятие. Эмпирическая реальность является для нас культурной потому, что мы соотносим ее с ценностными идеями (и в той мере, в какой мы это делаем); культура охватывает те и только те компоненты дей-
Макс Вебер. «Обьекшнность» познания н области социальных всук,.733 ствительности, которые в силу отнесения к ценности становятся значимыми для нас. Ничтожная часть индивидуальной действительности окрашивается нашим интересом, обусловленным ценностными идеями, лишь она имеет для нас значение, и вызвано это тем, что в ней обнаруживаются связи, важные для нас вследствие их соотнесенности с ценностными идеями. Только поэтому — и поскольку это имеет место — данный компонент действительности в его индивидуальном своеобразии представляет для нас познавательный интерес. Однако определить, чтб именно для нас значимо, никакое «непредвзятое» исследование того, что дано нам в эмпирической реальности, не может. Напротив, установление этого и есть предпосылка, в силу которой нечто становится предметом исследования. Значимое как таковое не совпадает, конечно, ни с одним законом как таковым и тем меньше, чем более общезначим этот закон. Ведь специфическое значение, которое имеет для нас отрезок действительности, завлючено совсем не в тех его связях, которые общи для него и многих других. Отнесение действительности к ценностным идеям, придающим ей значимость, выявление и упорядочение окрашенных этим компонентов действительности с точки зрения их культурного значения - нечто совершенно несовместимое с гетерогенным ему анализом действительности посредством законов и упорядочением ее в общих понятиях. Эти два вида мыслительного упорядочения реальности не находятся в обязательной логической взаимосвязи. Они могут иногда в каком-либо отдельном случае совпадать, однако следует всячески остерегаться чрезвычайно опасного по своим последствиям заблуждения, будто это случайное совпадение меняет что-либо в их принципиальном различии по существу. Культурное значение какого-либо явления, например денежного обмена, может состоять в том, что оно принимает массовый характер; и таков действительно фундаментальный компонент культурной жизни нашего времени. В этом случае задача исследователя состоит именно в том, чтобы сделать понятным культурное значение того исторического факта, что в данном случае упомянутое явление играет именно эту роль, дать каузальное объяснение его исторического возникновения. Исследование общих черт обмена как такового и техники рыночного обращения - очень важная (и необходимая!) подготовительная работа. Однако это не только не дает ответа на вопрос, каким же образом исторически обмен достиг своего нынешнего фундаментального значения, но не объясняет того, что нас интересует в первую очередь, - в чем состоит культурное значение денежного хозяйства, что вообще только и представляет для нас интерес в технике денежного обращения, из-за чего вообще в наши дни и существует наука, изучающая этот предмет; ответ на такой во-
734 Историко-социоло! ическое видение кульпры
прос не может быть выведен ни из одного общего закона. Типовые признаки обмена, купли-продажи и т.п. интересуют юриста; наша же задача — дать анализ культурного значения того исторического факта, что обмен стал теперь явлением массового характера. Когда речь идет об объяснении этого, и мы стремимся понять, чем же социально-экономические отношения нашей культуры отличаются от аналогичных явлений культур древности, где обмен обладал совершенно теми же типовыми качествами; когда мы, следовательно, пытаемся понять, в чем же состоит значение «денежного хозяйства», тогда в исследование вторгаются логические принципы совершенно иного свойства: мы, правда, пользуемся в качестве средства понятиями, которые предоставляет нам изучение типовых элементов массовых явлений экономики в той мере, в какой в них содержатся значимые компоненты нашей культуры. Однако каким бы точным ни было изложение этих понятий и законов, мы тем самым не достигнем своей цели; более того, самый вопрос, что же должно служить материалом для образования типовых понятий, вообще не может быть решен непредвзято, но только в зависимости от значения, которое имеют для культуры определенные компоненты бесконечного многообразия, именуемого нами денежным обращением. Ведь мы стремимся к познанию исторического, т.е. значимого в индивидуальном своеобразии явления. И решающий момент заключается в следующем: лишь в том случае, если мы исходим из предпосылки, что для нас значима только конечная часть бесконечной полноты событий, идея познания индивидуальных явлений может обрести логический смысл. Даже при всеохватывающем знании «законов» всех общественных процессов нас поставил бы в тупик вопрос, как вообще возможно каузальное объяснение индивидуального факта, если даже любое описание наименьшего отрезка действительности нельзя считать исчерпывающим. Число и характер причин, определяющих какое-либо индивидуальное событие, всегда бесконечно, а в самих вещах нет признака, который позволил бы вычленить из них единственно важную для данной цели часть. Серьезная попытка «непредвзятого» познания действительности могла бы привести только к хаосу экзистенциальных суждений о бесчисленном количестве индивидуальных восприятии. Однако возможность такого результата иллюзорна, так как при ближайшем рассмотрении оказывается, что каждое подлинное восприятие состоит из бесконечного множества компонентов, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть отражены в суждениях о восприятии как таковом. Порядок в этот хаос вносит только тот факт, что интерес и значение имеет для нас лишь часть индивидуальной действительности, так как только она соотносится с ценностными идеями культуры, которые мы при-
Макс Вебер. «Об|>ективиость» пошлин я п области со1(иалып»гк наук... 735
лагаем к действительности. Поэтому только определенные стороны бесконечных в своем многообразии индивидуальных явлений, те, которым мы приписываем общее культурное значение, представляют для нас познавательную ценность, только они и являются предметом каузального объяснения. Однако и в каузальном объяснении обнаруживается та же сложность: исчерпывающее каузальное сведение какого бы то ни было конкретного явления во всей полноте его действительных свойств не только практически невозможно, но и бессмысленно. Мы вычленяем лишь те причины, которые в отдельном случае могут быть сведены к «существенным» компонентам события: там, где речь идет об индивидуальности явления, каузальный вопрос - не вопрос о законах, а о конкретных каузальных связях, не о том, под какую формулу следует подвести явление в качестве частного случая, а о том, к какой индивидуальной констелляции его следует свести; другими словами, это вопрос сведения элементов действительности к их конкретным причинам. Повсюду, где речь идет о каузальнОхМ объяснении «явления культуры», об «историческом индивидууме» (мы пользуемся здесь термином, который начинает входить в методологию нашей науки, а в своей более точной формулировке уже принят в логике), знание законов причинной обусловленности не может быть целью и является только средством исследования. Знание законов облегчает и помогает нам произвести сведение единичных компонентов явлений к их конкретным причинам, которые в своей индивидуальности обладают культурной значимостью. В той мере и только в той мере, в какой законы этому способствуют, применение их существенно в познании индивидуальных связей. Й чем «более общи», т.е. абстрактны, законы, тем менее они применимы для каузального сведения индивидуальных явлений, а тем самым косвенно и для понимания значения культурных процессов.
Какой же вывод можно сделать из всего этого?
Разумеется, это не означает, что в области наук о культуре познание общего, образование абстрактных родовых понятий и знание правил, попытка формулировать закономерные связи вообще не имеют научного оправдания. Напротив, если каузальное познание историка есть сведение конкретных следствий к их конкретным причинам, то значимость сведения какого-либо индивидуального следствия к его причинам без применения «помологического» знания, т.е. знания правил функционирования каузальных связей, вообще немыслима. Следует ли приписывать отдельному индивидуальному компоненту реальной связи конкретное каузальное значение в осуществлении того результата, о котором идет речь, можно в случае сомнения решить только, если мы сопоставим роль, ко
736 Истор|псо-соци<кпогическое видение культуры
торую обычно играет в нашем объяснении данный компонент, с ролью других компонентов того же комплекса; вопрос сводится к тому, каково адекватное воздействие элементов данной причинной связи. В какой мере историк (в самом широком смысле слова) способен уверенно совершить это сведение с помощью своего, основанного на личном жизненном опыте методически дисциплинированного воображения и в какой мере он использует при этом выводы других наук, решается в каждом отдельном случае в зависимости от обстоятельств. Однако повсюду, а следовательно, и в области сложных экономических процессов, надежность такого причинного сведения тем больше, чем полнее и глубже знание общих законов. То, что при этом всегда, в том числе и во всех так называемых «экономических законах», без исключения, речь идет не о «закономерностях» в узком естественно-научном смысле, но об «адекватных» причинных связях, выраженных в определенных правилах, о применении категории «объективной возможности» (которую мы здесь подробно рассматривать не будем), ни в коей мере не умаляет значения этого тезиса. Следует только всегда помнить, что установление закономерностей такого рода - не цель, а средство познания; а есть ли смысл в том, чтобы выражать в формуле в виде «закона» хорошо известную нам из повседневного опыта повторяемость причинной связи, является в каждом данном случае вопросом целесообразности.
Для естественных наук важность и ценность законов прямо пропорциональна степени их общезначимости; для познания исторических явлений в их конкретных условиях наиболее общие законы, в наибольшей степени лишенные содержания, имеют, как правило, наименьшую ценность. Ведь чем больше значимость родового понятия - его объем, тем дальше оно уводит нас от полноты реальной действительности, так как содержать общие признаки наибольшего числа явлений оно может только, будучи абстрактным, т.е. бедным по своему содержанию. В науках о культуре познание общего никогда не бывает ценным как таковое.
Из сказанного следует, что «объективный» подход к явлениям культуры, идеальная цель которого состоит в сведении эмпирических связей к «законам», бессмыслен. И совсем не потому, что (как часто приходится слышать) культурные процессы, в частности духовные, «объективно» проистекают в менее строгом соответствии законам, а по совершенно иным причинам. Во-первых, знание социальных законов не есть знание социальной действительности; оно является лишь одним из целого ряда вспомогательных средств, необходимых для исторического мышления. Во-вторых, познание культурных процессов возможно только в том случае, если оно ис
Макс Вебер. «Объективность» познания в области социальных наук... 737
ходит из того значения, которое имеет для нас всегда индивидуаль-ная действительность жизни в определенных конкретных связях. В каком смысле и в каких связях обнаруживается эта значимость, нам ни один закон открыть не может, ибо это решается в зависимости от ценностных идей, под углом зрения которых мы в каждом отдельном случае рассматриваем культуру. Культура - это тот конечный фрагмент лишенной смысла мировой бесконечности, который, с точки зрения человека, обладает смыслом и значением. Такое понимание культуры присуще человеку и в том случае, когда он выступает как злейший враг какой-либо конкретной культуры и требует «возврата к природе». Ведь и эту позицию он может занять, только соотнеся данную конкретную культуру со своими ценностными идеями и определяя ее как «слишком поверхностную». Это чисто формально-логическое положение имеется в виду, когда речь идет о логически необходимой связи всех исторических индивидуумов с «ценностными идеями». Трансцендентальная предпосылка всех наук о культуре состоит не в том, что мы считаем определенную — или вообще какую бы то ни было - «культуру» ценной, а в том, что мы сами являемся людьми культуры, что мы обладаем способностью и волей, которые позволяют нам занять определенную позицию по отношению к миру и внести в него смысл. Каким бы этот смысл ни был, он станет основой наших суждений о различных явлениях совместного существования людей, заставит нас отнестись к ним (положительно или отрицательно) как к чему-то для нас значительному. Каким бы ни было содержание этого отношения, названные явления будут иметь для нас культурное значение, которое только и придает им научный интерес. Говоря в терминах современной логики об обусловленности познания культуры идеями ценности, мы уповаем на то, что это не породит столь глубокого заблуждения, будто, с нашей точки зрения, культурное значение присуще лишь ценностным явлениям. К явлениям культуры проституция относится не в меньшей степени, чем религия или деньги, а все они вместе — только потому и только в той степени, в какой их существование и форма, которую они обрели исторически, прямо или косвенно затрагивают наши культурные интересы; потому, что они возбуждают наше стремление к знанию с тех точек зрения, которые выведены из ценностных идей, придающих значимость отрезку действительности, мыслимому в этих понятиях.
Из это^о следует, что познание культурной действительности — всегда познание под совершенно особым углом зрения. Когда мы требуем от историка или социолога в качестве элементарной предпосылки, чтобы он умел отличать важное от неважного и основывался бы, совершая это разделение, на определенной точке зрения,
738 Исгорико-<оциологиче€кое видение кулыуры
то это означает, что он должен уметь осознанно или неосознанно соотносить явления действительности с универсальными «ценностями культуры» и в зависимости от этого вычленять те связи, которые для нас значимы. Если часто приходится слышать, что эти точки зрения «могут быть почерпнуты из материала», то это — лишь следствие наивного самообмана ученого, не замечающего, что он с самого начала в силу определенных ценностных идей, которые он неосознанно прилагает к материалу исследования, вычленил из абсолютной бесконечности крошечный ее компонент в качестве того, что для него единственно важно. В этом всегда и повсеместно, сознательно и бессознательно производимом выборе отдельных особых сторон событий проявляется и тот элемент научной работы в области исследования культуры, на котором основано часто высказываемое утверждение, будто личный момент научного труда и есть самое ценное в нем, что в каждом труде, достойном внимания, должна отражаться личность автора. Очевидно, что без ценностных идей исследователя не было бы ни принципа, необходимого для отбора материала, ни подлинного познания индивидуальной реальности. Подобно тому как без веры исследователя в то, что определенное содержание культуры имеет значение, любые его усилия, направленные на познание индивидуальной действительности, просто бессмысленны, так и характер его веры, преломление ценностей в зеркале его души придают его исследовательской деятельности определенное направление. Ценности же, с которыми господствующий в данное время дух в науке соотносит объекты своего исследования, могут определить восприятие целой эпохи, т.е. сыграть решающую роль в понимании не только того, что считалось тогда в явлениях ценностным, но и того, что было значимым или незначимым, «важным» или «неважным».
Следовательно, познание в науках о культуре так, как мы его понимаем, связано с «субъективными» предпосылками в той мере, в какой оно интересуется только теми компонентами действительности, которые каким-либо образом, пусть даже самым косвенным, связаны с явлениями, имеющими в нашем представлении культурное значение. Тем не менее это, конечно, чисто каузальное познание, совершенно в таком же смысле, как познание значимых индивидуальных явлений природы, которые носят качественный характер. К числу многих заблуждений, вызванных вторжением в науки о культуре формально-юридического мышления, присоединилась недавно остроумная попытка в принципе «опровергнуть» «материалистическое понимание истории» с помощью ряда следующих будто бы убедительных выводов: поскольку хозяйственная жизнь проходит в юридически или конвенционально урегулированных формах,
Макс Вебер. «Объектив носи,» познания в об.час гн социальных наук... 739
экономическое «развитие» неизбежно принимает форму устремления к созданию новых правовых форм, следовательно, может быть понято только под углом зрения нравственных максим и поэтому по своей сущности резко отличается от любого «естественного» развития. В силу этого познание экономического развития всегда телеологично по своему характеру. Не останавливаясь на многозначном понятии «развитие» и на логически не менее многозначном понятии «телеологическое», мы считаем лишь нужным указать здесь на то, что развитие уж во всяком случае не «телеологично» в том смысле, какой в это слово вкладывают сторонники данной точки зрения. При полной формальной идентичности действующих правовых норм культурное значение фиксированных правом отношении, а тем самым и самих норм может быть совершенно различным. Если решиться на фантастическое прогнозирование будущего, то можно, например, представить себе «обобществление средств производства» теоретически завершенным без того, чтобы при этом возникли какие бы то ни было сознательные «устремления» к реализации этой цели, и без того, чтобы наше законодательство уменьшилось на один параграф или пополнилось таковым. Правда, статистика отдельных фиксированных правом отношений изменилась бы коренным образом, число многих из них упало бы до нуля, значительная часть правовых норм практически перестала бы играть какую-либо роль, и их культурное значение изменилось бы до неузнаваемости. Поэтому «материалистическое» понимание истории могло бы с полным правом исключить соображения de lege ferenda1*, так как его основополагающим тезисом было именно неизбежное изменение значения правовых институтов. Тот, кому скромный труд каузального понимания исторической действительности представляется слишком элементарным, пусть лучше не занимается им, но заменять его какой-либо телеологией невозможно. В нашем понимании цель — это такое представление о результате, которое становится прич ин ой действия, и также, как мы принимаем во внимание любую причину, способствующую значимому результату, мы принимаем во внимание и эту. Специфическое значение данной причины состоит в том, что наша цель - не только конституировать поведение людей, но и понять его.
Нет никакого сомнения в том, что ценностные идеи субъективны. Между историческим интересом к семейной хронике и интересом к развитию самых важных явлений культуры, в одинаковой степени общих для нации или всего человечества на протяжении целых эпох и вплоть до наших дней, проходит бесконечная градация значений, степени которых по-разному чередуются для каждого из нас. Такому же преобразованию они подвергаются в зави
740
Историко-соццикю! ическос видение кулыуры
симости от характера культуры и господствующих в человеческом мышлении идей. Из этого, однако, отнюдь не следует, что выводы в области наук о культуре могут быть только субъективными в том смысле, что они для одного человека значимы, а для другого нет. Меняется лишь степень интереса, который они представляют для того или другого человека. Иными словами: что становится предметом исследования и насколько глубоко это исследование проникает в бесконечное переплетение каузальных связей, определяют господствующие в данное время и в мышлении данного ученого ценностные идеи. Если обратиться к методу исследования, то ведущая точка зрения является, правда, как мы увидим ниже, определяющей для образования вспомогательных понятийных средств, которыми пользуется ученый; однако характер этого использования в данном случае, как всегда, связан, конечно, с нормами нашего мышления. Научная истина - ведь только то, что хочет открыться всем, кто стремится к истине.
Один вывод из этого не вызывает сомнения - это полная бессмысленность идеи, распространившейся и в кругах историков, будто целью, пусть даже отдаленной, наук о культуре должно быть создание замкнутой системы понятий, в которой действительность можно будет представить в некоем окончательном членении и из которой она затем может быть опять выведена. Бесконечный поток неизмеримых событий несется в вечность. Проблемы культуры, волнующие людей, возникают во все новых образах и красках, сменяя друг друга. Зыбкими остаются границы того, что в вечном и бесконечном потоке индивидуальных явлений обретает для нас смысл и значение, становится «историческим индивидуумом». Меняются мыслительные связи, в рамках которых исторический индивидуум рассматривается и постигается научно. Отправные точки наук о культуре будут и впредь беспредельно меняться до тех пор, пока китайское окостенение духовной жизни не станет общим уделом людей и не отучит их беспрестанно задавать вопросы всегда одинаково неисчерпаемой жизни. Система в науках о культуре, даже просто окончательно и объективно значимо фиксированная систематизация проблем и областей знания в этих науках - бессмыслица. Результатом этого может быть лишь перечисление многих, специфически выделенных разнородных и несовместимых друг с другом точек зрения, с которых действительность являлась или является для нас культурой, т.е. значимой в своем своеобразии.
После этих длительных пояснений можно, наконец, обратиться к тому вопросу, который в рамках рассмотрения объективности познания культуры представляет для нас методологический интерес. Какова логическая функция и структура понятий, которыми поль-
Макс Вебер. «Объективность» познания в области социальных наук...741 зуется наша, как и любая другая наука? Или, если сформулировать вопрос более узко, обращаясь непосредственно к решающей для нас проблеме: «Каково значение теории и образования теоретических понятий для познания культурной действительности?»
Политическая экономия была, как мы видели раньше, по крайней мере изначально, в главных своих идеях «техникой», т.е. рассматривала явления действительности с однозначной (по видимости, во всяком случае), прочно установленной, практической ценностной точки зрения, с точки зрения роста «богатства» подданных государства. С другой стороны, она с самого начала была не только «техникой», так как вошла в могучее единство естественно-правового и рационалистического мировоззрения XVIII в. Своеобразие этого мировоззрения с его оптимистической верой в то, что действительность может быть теоретически и практически рационализирована, оказала существенное воздействие, препятствуя открытию того факта, что принятая как нечто само собой разумеющееся точка зрения носит проблематичный характер. Рациональное отношение к действительности не только возникло в тесной связи с развитием естественных наук, но и осталось родственным ему по всему характеру своего научного метода. В естественных науках практическая ценностная точка зрения, которая сводилась к непосредственно технически полезному, была изначально тесно связана с унаследованной от античности, а затем все растущей надеждой на то, что на пути генерализирующей абстракции и эмпирического анализа, ориентированного на установленные законами связи, можно прийти к чисто «обьективному» (т.е. свободному от ценностей) и вместе с тем вполне рациональному (т.е. свободному от индивидуальныхслучай-ностей) монистическому познанию всей действительности в виде некоей системы понятий, метафизической по своей значимости и математической по форме. Неотделимые от ценностных точек зрения естественные науки, такие, как клиническая медицина и еще в большей степени дисциплина, именуемая обычно «технологией», превратились в чисто практическое «обучение ремеслу». Ценности, которыми они должны были руководствоваться — здоровье пациента, технологическое усовершенствование конкретного производственного процесса и т.д., были для них незыблемы. Средства, применяемые ими, были (только и могли быть) использованием закономерностей и понятий, открытых теоретическими науками. Каждый принципиальный прогресс в образовании теоретических понятий был (или мог быть) также прогрессом практической дисциплины. При твердо установленной цели каждое новое решение отдельных практических вопросов (данного медицинского случая, данной технической проблемы) и подведение его под общезначи-
742 Историко-социологическое видение культуры
мый закон, следовательно, углубление теоретического знания, было непосредственно связано с расширением технических, практических возможностей и тождественно им.
Когда же современная биология подвела под общезначимый принцип развития и те компоненты действительности, которые интересуют нас исторически, т.е. в их данном, а не ином становлении, и этот принцип, как казалось (хотя это и не соответствовало истине), позволял упорядочить все существенные свойства объекта в схеме общезначимых законов, тогда как будто действительно наступили сумерки богов для всех ценностных точек зрений в области всех наук. Ведь поскольку и так называемое историческое событие — часть действительности, а принцип каузальности, являющийся предпосылкой всей научной работы, как будто требовал растворения всего происходящего в общезначимых «законах», поскольку, наконец, громадные успехи естественных наук, которые отнеслись к этому принципу со всей серьезностью, были очевидны, стало казаться, что иного смысла научной работы, помимо открытия законов происходящего, вообще нельзя себе представить. Только «закономерное» может быть научно существенным в явлениях, «индивидуальное» же может быть принято во внимание только в качестве «типа», т.е. в качестве иллюстрации к закону. Интерес к индивидуальному явлению как таковому «научным» интересом не считался.
Здесь невозможно показать, какое сильное обратное влияние оказала на экономические дисциплины эта оптимистическая точка зрения, присущая натуралистическому монизму. Когда же социалистическая критика и работа историков превратили эти исконные представления в проблемы, требующие дальнейшего изучения, то успехи биологии, с одной стороны, влияние гегелевского панлогизма - с другой, воспрепятствовали тому, чтобы в политической экономии были отчетливо поняты взаимоотношения между понятием и действительностью во всем их значении. Результат (в том аспекте, в котором нас это интересует) свелся к тому, что, несмотря на мощную плотину, созданную немецкой философией со времен Фихте, трудами немецкой исторической школы права и исторической школы политической экономии — ее назначением было противостоять натиску натуралистических догм, натуралистические теории тем не менее, а отчасти и вследствие этого в своих решающих моментах еще не преодолены. Сюда относится прежде всего оставшаяся до сих пор нерешенной проблема соотношения «теоретического» и «исторического» исследования в нашей сфере деятельности.
«Абстрактный» теоретический метод еще и теперь резко и непримиримо противостоит эмпирическому историческому иссле
Макс Вебер. «Объектвное гь» познания в области социальных наук... 743
дованию. Сторонники теоретического метода совершенно правы, когда они утверждают, что заменить историческое познание действительности формулированием законов или, наоборот, вывести строгие законы из простого перечисления исторических наблюдений методически невозможно. В выведении законов (а что такова должна быть главная цель науки им представляется несомненным) сторонники теоретического метода исходят из того, что связи, составляющие человеческие действия, мы постоянно переживаем в их непосредственной реальности и поэтому можем, как они полагают, пояснить их с аксиоматической очевидностью и открыть лежащие в их основе законы. Единственно точная форма познания, формулирование непосредственно очевидных законов есть также, по их мнению, и единственная форма познания, которая позволяет делать выводы из непосредственно не наблюдаемых явлений. Поэтому построение системы абстрактных, а потому чисто формальных положений, аналогичных тем, которые существуют в естественных науках, — единственное средство духовного проникновения в многообразие общественной жизни, в первую очередь, если речь идет об основных феноменах экономики. Невзирая на принципиальное методическое разделение между помологическим и историческим знанием, которое было некогда проведено создателем этой теории в качестве первого и единственного, теперь он сам исходит из того, что положения абстрактной теории обладают эмпирической значимостью, поскольку они допускают выведение действительности из законов. Правда, речь идет не об эмпирической значимости абстрактных экономических положений самих по себе; его точка зрения сводится к следующему: если разработать соответствующие «точные» теории из всех остальных принятых во внимание факторов, то все эти абстрактные теории в своей совокупности выразят подлинную реальность вещей, т.е. те стороны действительности, которые достойны познания. Точная экономическая теория устанавливает якобы действие одного, психического, мотива, задача других теорий - разработать подобным же образом все остальные мотивы в виде научных положений гипотетической значимости. Поэтому в ряде случаев делался совершенно фантастический вывод, будто результат теоретической работы в виде абстрактных теорий в области ценообразования, налогового обложения, ренты может быть использован, по мнимой аналогии с теоретическими положениями физики, для выведения из данных реальных предпосылок определенных количественных результатов, т.е. строгих законов, значимых для реальной действительности, так как хозяйство человека при заданной цели по своим средствам «детерминировано» однозначно. При этом упускалось из виду, что
744 Историк<ьсо10«>ло1 -нчсское видение кулыуры
для получения такого результата в каком бы то ни было, пусть самом простом, случае должна быть положена «данной» и постулирована известной вся историческая действительность в целом, со всеми ее каузальными связями, и что если бы конечному духу стало доступно такое знание, то трудно себе представить, в чем же состояла бы тогда познавательная ценность абстрактной теории. Натуралистический предрассудок, будто в таких понятиях может быть создано нечто, подобное точным выводам естественных наук, привел к тому, что самый смысл этих теоретических образований был неверно понят. Предполагалось, что речь идет о психологической изоляции некоего специфического стремления человека к наживе или об изолированном рассмотрении специфической максимы человеческого поведения, так называемого хозяйственного принципа. Сторонники абстрактной теории считали возможным опираться на психологические аксиомы, а результатом этого оказалось, что историки стали взывать к эмпирической психологии, стремясь таким образом доказать неприемлемость этих аксиом и выявить эволюцию экономических процессов с помощью психологических данных. Мы не будем здесь подвергать критике веру в значение такой систематической науки, как «социальная психология» (ее, правда, еще надо создать), в качестве будущей основы наук о культуре, в частности политической экономии. Существующие в настоящий момент подчас блестящие попытки психологической интерпретации экономических явлений отчетливо свидетельствуют о том, что к пониманию общественных институтов следует идти не от анализа психологических свойств человека, что выявить психологические предпосылки и воздействие институтов можно только исходя из хорошего знания их структуры и научного анализа их связей. Только тогда психологический анализ может в определенном конкретном случае оказаться очень ценным, углубляя наше знание исторической культурной обусловленности и культурного значения этих институтов. То, что нас интересует в психическом поведении человека в рамках его социальных связей, всегда специфическим образом изолировано в зависимости от специфического культурного значения связи, о которой идет речь. Все эти мотивы и влияния весьма разнородны и очень конкретны по своей структуре. Исследование в области социальной психологии означает тщательное изучение единичных, часто несовместимых по своему типу элементов культуры в свете возможного их истолкования посредством нашего сопереживания и понимания. Таким образом, мы, отправляясь от знания отдельных институтов, придем к более глубокому духовному пониманию их культурной обусловленности и культурного значения, вместо того чтобы выводить институты из
Макс Вебер. «Объективность» познания п области смщальиых наук... 745
законов психологии или стремиться объяснить их с помощью элементарных психологических явлений.
Длительная полемика по вопросу о психологической оправданности абстрактных теоретических конструкций, о значении «стремления к наживе», «хозяйственного принципа» и т.п. оказалась малоплодотворной.
В построениях абстрактной теории создается лишь видимость того, что речь идет о «дедукции» из основных психологических мотивов, в действительности же мы обычно имеем дело просто со специфическим случаем формообразования понятий, которое свойственно наукам о культуре и в известном смысле им необходимо. Нам представляется полезным характеризовать это образование понятий несколько подробнее, так как тем самым мы подойдем к принципиальному вопросу о значении теории для социологического познания. При этом мы раз и навсегда отказываемся от суждения о том, соответствуют ли те теоретические образования, которые мы приводим (или имеем в виду) в качестве примеров, поставленной цели, обладает ли их построение реальной целесообразностью. Вопрос о том, например, до каких пределов следует разрабатывать современную «абстрактную теорию», является по существу вопросом характера научной работы, направленной также на решение и других проблем. Ведь и «теория предельной полезности» подвластна «закону предельной полезности».
В абстрактной экономической теории мы находим пример тех синтезных образований, которые обычно именуют «идеями» исторических явлений. Названная теория дает нам идеальную картину процессов, происходящих на рынке в обществе товарно-денежного обмена, свободной конкуренции и строго рационального поведения. Этот мысленный образ сочетает определенные связи и процессы исторической жизни в некий лишенный внутренних противоречий космос мысленных связей. По своему содержанию эта конструкция носит характер утопии, полученной посредством мысленного доведения определенных элементов действительности до их полного выражения. Ее отношение к эмпирически данным феноменам действительной жизни состоит в следующем: в тех случаях, когда абстрактно представленные в этой конструкции связи, т.е. процессы, связанные с «рынком», в какой-то степени выявляются или,предполагаются реально действующими, мы можем, сопоставляя их с идеальным типом, показать и пояснить с прагматической целью своеобразие зтих связей. Такой метод может быть эвристическим, а для определения ценности явления даже необходимым. В исследовании идеально-типическое понятие — средство для вынесения правильного суждения о каузальном сведении
Историко-социолоппеское видение культуры
746
элементов действительности. Идеальный тип — не «гипотеза», он лишь указывает, в каком направлении должно идти образование гипотез. Не дает он и изображения действительности, но представляет необходимые для этого средства выражения. Таким образом, перед нами «идея» исторически данной хозяйственной организации современного общества, представленного по совершенно таким же логическим принципам, с помощью которых была сконструирована в качестве генетического принципа, например, идея «городского хозяйства» в средние века.
В такой конструкции понятие городского хозяйства строится не как среднее выражение совокупности всех действительных хозяйственных принципов, обнаруженных во всех изученных городах, но также в виде идеального типа. Оно создается посредством одностороннего усиления одной или нескольких точек зрения и соединения множества диффузно и дискретно существующих единичных явлений (в одном случае их может быть больше, в другом — меньше, а кое-где они вообще отсутствуют), которые соответствуют упомянутым, односторонне вычлененным точкам зрения и складываются в единый мысленный образ. В реальной действительности этот мысленный образ в его понятийной чистоте нигде эмпирически не обнаруживается; это - утопия. Задача исторического исследования состоит в том, чтобы в каждом отдельном случае установить, насколько действительность близка этому мысленному образу или далека от него, в какой мере можно, следовательно, считать, что характер экономических отношений определенного города соответствует понятию «городского хозяйства». Это понятие, при осторожном его применении, также специфическим образом способствует достижению цели и наглядности исследования. С помощью совершенно такого же метода можно (приведем еще один пример) создать ’j виде утопии «идею» «ремесла», соединив определенные черты., диффузно встречающиеся у ремесленников самых различных злох и народов и доведенные до их полного логического предела, в едином, свободном от противоречий идеальном образе. Можно даже попытаться нарисовать общество, где все отрасли хозяйственной и вообще всей духовной деятельности подчинены максимам, являющимся результатом применения того же принципа, который был положен в основу доведенного до идеального типа «ремесла». Далее, идеальному типу «ремесла» можно, абстрагируя определенные черты современной крупной промышленности, противопоставить в качестве антитезиса идеальный тип капиталистического хозяйства и вслед затем попытаться нарисовать утопию «капиталистической» культуры, т.е. культуры, где господствуют только интересы реализации частных капиталов. В ней должны быть объедине
Макс Вебер. «<)бъек1ивносп>» ночнания в области социальных наук... 747
ны отдельные, диффузно встречающиеся черты материальной и духовной жизни в рамках современной культуры, доведенные в своем своеобразии до лишенного противоречий идеального образа. Это и было бы попыткой создать «идею» капиталистической культуры; мы оставляем здесь в стороне вопрос, может ли эта попытка увенчаться успехом и каким образом. Вполне вероятно, более того, нет сомнения в том, что можно создать целый ряд, даже большое количество утопий такого рода, причем ни одна из них не будет повторять другие, и уж, конечно, ни одна из них не обнаружится в эмпирической действительности в качестве реального общественного устройства; однако каждая из них претендует на то, что в ней выражена «идея» капиталистической культуры, и вправе на это претендовать, поскольку в каждой такой утопии действительно отражены известные, значимые в своем своеобразии черты нашей культуры, взятые из действительности и объединенные в идеальном образе. Ведь наш интерес к тем феноменам, которые выступают перед нами в качестве явлений культуры, всегда связан с их культурным значением, возникающим вследствие отнесения их к самым различным ценностным идеям. Поэтому так же, как существуют различные «точки зрения», с которых мы можем рассматривать явления культуры в качестве значимых для нас, можно руководствоваться и самыми различными принципами отбора связей, которые надлежит использовать для создания идеального типа определенной культуры.
В чем же состоит значение подобных идеально-типических понятий для эмпирической науки в нашем понимании? Прежде всего следует подчеркнуть, что надо полностью отказаться от мысли, будто эти в чисто логическом смысле «идеальные» образования, которыми мы здесь занимаемся, в какой бы то ни было мере носят характер долженствования, «образца». Речь идет о конструировании связей, которые представляются нашей фантазии достаточно мотивированными, следовательно, «объективно возможными», а нашему номологическому знанию - адекватными.
Тот, кто придерживается мнения, что знание исторической действительности может или должно быть «непредвзятым» отражением «объективных» фактов, не увидит в идеальных типах никакого смысла. Даже тот, кто понял, что в реальной действительности нет «непредвзятости» в логическом смысле и что даже самые простые данные актов и грамот могут иметь какое бы то ни было научное значение лишь в соотнесении со «значимостью», а тем самым с ценностными идеями в качестве последней инстанции, и тот сочтет, что смысл таких сконструированных исторических «утопий» состоит только в их наглядности, которцы может представлять опасность для объективной исторической работы, а чаще увидит в них просто
748 Исгорико-социоло! ическое видение культуры
забаву. В самом деле, априорно вообще никогда нельзя установить, идет ли речь о чистой игре мыслей или научно-плодотворном образовании понятий: здесь также существует лишь один критерий - в какой мере это будет способствовать познанию конкретных имений культуры в их взаимосвязи, в их причинной обусловленности и значении. Тем самым в образовании абстрактных идеальных типов следует видеть не цель, а средство. При внимательном рассмотрении понятийных элементов в историческом изображении действительности сразу же обнаруживается следующее: как только историк делает попытку выйти за рамки простой констатации конкретных связей и установить культурное значение даже самого элементарного индивидуального события, «характеризовать» его, он оперирует (и должен оперировать) понятиями, которые могут быть точно и однозначно определены только в идеальных типах. Разве могут быть такие понятия, как «индивидуализм», «империализм», «феодализм», «меркантилизм», «конвенционально», и множество других понятийных образований, с помощью которых мы пытаемся, мысля и постигая действительность, подчинить ее себе, разве могут быть они определены по своему содержанию посредством «беспристрастного» описания какого-либо конкретного явления, а не посредством абстрагированного сочетания черт, в одинаковой степени присущих многим конкретным явлениям? Сотни слов в языке историка содержат такие неопределенные мысленные образы, идущие от безотчетной потребности выражения, значение которых лишь зримо ощущается, а не отчетливо мыслится. В бесконечном множестве случаев, особенно в области политической истории, стремящейся к изображению событий, неопределенность их содержания, безусловно, не наносит ущерба ясности картины. Здесь достаточно того, что в каждом отдельном случае ощущается то, что представлялось историку. Можно также удовлетвориться тем, что частичная определенность понятийного содержания мысленно предоставляется в его относительной значимости для данного случая. Однако чем отчетливее должна быть осознана значимость явления культуры, тем настоятельнее становится потребность пользоваться ясными понятиями, которые определены не только частично, но и всесторонне. «Дефиниция» синтеза в историческом мышлении по схеме genus proximus, differentia specifica2*, конечно, просто бессмыслица; чтобы удостовериться в этом, достаточно произвести проверку. Такого рода установление значения слова применяется лишь в догматических дисциплинах, оперирующих силлогизмами. Простого «описательного разъединения» упомянутых понятий на их составные части также не существует, существовать может лишь видимость этого, так как все дело заключается в том, какую из этих составных частей следу
Макс Вебер. «Объективность» познания в области социальных наук... 749
ет считать существенной. Попытка дать генетическую дефиницию понятийного содержания приводит к тому, что сохраняется только форма идеального типа в указанном выше смысле. Это — мысленный образ, не являющийся ни исторической, ни, тем более, «подлинной» реальностью. Еще менее он пригоден для того, чтобы служить схемой, в которую явление действительности может быть введено в качестве частного случая. По своему значению это чисто идеальное пограничное понятие, с которым действительность сопоставляется, сравнивается, для того чтобы сделать отчетливыми определенные значимые компоненты ее эмпирического содержания. Подобные понятия являют собой конструкции; в них мы строим, используя категорию объективной возможности, связи, которые наша ориентированная на действительность, научно-дисциплинированная фантазия рассматривает в своем суждении как адекватные.
Идеальный тип в данной его функции - это прежде всего попытка охватить исторические индивидуумы или их отдельные компоненты генетическими понятиями. Возьмем, например, понятия «церковь» и «секта». Их можно, классифицируя, разъединить на комплексы признаков; тогда не только граница между ними, но и содержание обоих понятий окажутся размытыми. Если же мы хотим постигнуть понятие «секты» генетически, например, в его соотношении с известными важными культурными значениями, которые «сектантский дух» имел для современной культуры, то существенными станут определенные признаки обоих понятий, так как они находятся в адекватной причинной связи с тем воздействием, о котором шла речь. Тогда понятия станут идеально типическими, поскольку в полной понятийной чистоте эти явления либо вообще не встречаются, либо встречаются очень редко; здесь, как и повсюду, каждое не чисто классификационное понятие уводит нас от действительности. Однако дискурсивная природа нашего познания, то обстоятельство, что мы постигаем действительность только в сцеплении измененных представлений, постулирует подобное стенографирование понятий. Наша фантазия, безусловно, может часто обходиться без этого точного понятийного формулирования в качестве средства исследования; однако для изображения, которое стремится быть однозначным, применение его в области анализа культуры в ряде случаев совершенно необходимо. Тот, кто это полностью отвергает, должен ограничиться формальным, например историко-правовым, аспектом культурных явлений. Космос правовых норм может быть, конечно, отчетливо определен в понятиях и одновременно (в правовом смысле!) сохранять значимость для исторической действительности. Однако социология в нашем понимании занимается
750 Историко-социологическое видение культуры
ее практическим значением. Очень часто это значение может быть ясно осознано только посредством соотнесения эмпирической данности с идеальным пограничным случаем. Если историк (в самом широком значении этого слова) отказывается от попытки формулировать такой идеальный тип, считая его «теоретической конструкцией», т.е. полагая, что для его конкретной познавательной цели он неприемлем, не нужен, то в результате, как правило, оказывается, что этот историк, осознанно или неосознанно, пользуется другими подобными конструкциями, не формулируя их в определенных терминах и не разрабатывая их логически, или что он остается в сфере неопределенных «ощущений».
Однако ничто не может быть опаснее, чем коренящееся в натуралистических предубеждениях смешение теории и истории, в форме ли веры в то, что в теоретических понятийных построениях фиксировано «подлинное» содержание, «сущность» исторической реальности, или в использовании этих понятий в качестве прокрустова ложа, в которое втискивают историю, или, наконец, в гипостазирован и и «идей» в качестве стоящей за преходящими явлениями «подлинной» реальности, в качестве реальных «сил», действующих в истории.
Последнее представляет собой теперь тем более реальную опасность, что под «идеями» эпохи мы привыкли понимать — и понимать в первую очередь — мысли и идеалы, которые господствовали над массами или над имевшими наибольшее историческое значение людьми рассматриваемой эпохи и тем самым были значимы в качестве компонентов ее культурного своеобразия. К этому присоединяется еще следующее: прежде всего то, что между «идеей» в смысле практической или теоретической направленности и «идеей» в смысле конструированного нами в качестве понятийного вспомогательного средства идеального типа эпохи существует определенная связь. Идеальный тип определенного общественного состояния, сконструированный посредством абстрагирования ряда характерных социальных явлений эпохи, может — и это действительно часто случается — представляться современникам практическим идеалом, к которому надлежит стремиться, или во всяком случае максимой, регулирующей определенные социальные связи. Так обстоит дело с «идеей» «обеспечения продовольствием» и с рядом канонических теорий, в частности с теорией св. Фомы, в их отношении к используемому теперь идеально-типическому понятию «городского хозяйства» средних веков, о котором шла речь выше. И прежде всего это относится к пресловутому «основному понятию» политической экономии, к понятию «хозяйственной ценности». От схоластики вплоть до Марксовой теории представ
Макс Вебер. «Объективность» познания в области социальных наук... 751
ление о чем-то «объективно» значимом, т.е. долженствующим быть, сливается с абстракцией, в основу которой положены элементы эмпирического процесса ценообразования. Эта идея, согласно которой «ценность» материальных благ должна регулироваться принципами «естественного права», сыграла громадную роль в развитии культуры, отнюдь не только в средние века, и сохраняет свое значение поныне. Она интенсивно влияла и на эмпирическое ценообразование. Однако что понимают под этим теоретическим понятием и что может быть таким образом действительно понято, доступно ясному, однозначному постижению только с помощью строгих, а это означает идеально-типических, понятий; об этом следовало бы задуматься тем, кто иронизирует над «робинзонадами» абстрактной теории, и воздержаться от насмешек, хотя бы до той поры, когда они смогут предложить нечто лучшее, т.е. более очевидное.
Каузальное отношение между исторически констатируемой, господствующей над умами идеей и теми компонентами исторической реальности, из которых может быть абстрагирован соответствующий этой идее идеальный тип, может, конечно, принимать самые различные формы. Важно только в принципе осознавать, что они совершенно различны по своей природе. Однако к этому присоединяется следующее: сами эти «идеи», господствующие над людьми определенной эпохи, т.е. диффузно в них действующие, можно, если речь идет о каких-либо сложных мысленных образованиях, постигнуть со всей строгостью только в виде идеального типа, так как эмпирически они живут в умах неопределенного и все время меняющегося числа индивидов и обретают тем самым разнообразнейшие оттенки по форме и содержанию, ясности и смыслу. Так, компоненты духовной жизни отдельных индивидов в определенную эпоху средневековья, которые можно рассматривать как «христианскую веру» этих индивидов, составили бы, конечно, если бы мы могли их полностью воспроизвести, хаос бесконечно дифференцированных и весьма противоречивых связей мыслей и чувств, несмотря на то что средневековая церковь достигала высокой степени сохранения единства веры и нравов. Однако когда встает вопрос, что же в этом хаосе было подлинным «христианством» средних веков, которым мы постоянно оперируем как неким твердо установленным понятием, в чем же состоит то подлинно «христианское», которое мы обнаруживаем в средневековых институтах, то оказывается, что и здесь мы в каждом отдельном случае пользуемся созданным нами чисто мысленным образованием. Оно являет собой сочетание догматов веры, норм церковного права и нравственности, правил образа жизни и бесчисленных отдельных связей, объединенных нами в «идею», в
752
Истор»П€<>-соци<мо1 ическ<>е видение кулыуры
синтез, достичь которой без применения идеально-типических понятий мы вообще бы не могли.
Логические структуры систем понятий, в которых мы выражаем подобные «идеи» и их отношение к тому, что нам непосредственно дано в эмпирической реальности, конечно, очень отличаются друг от друга. Сравнительно просто обстоит дело, если речь идет о тех случаях, когда над людьми властвуют и оказывают на них историческое воздействие какие-либо теоретические положения (или одно из них), которые легко могут быть выражены в формулах, как, например, учение Кальвина о предопределении или отчетливо формулируемые нравственные постулаты; такую «идею» можно расчленить на иерархическую последовательность мыслей, которые логически выводятся из этих теоретических положений. Однако и здесь часто игнорируется тот факт, что каким бы огромным ни было чисто логическое воздействие мысли в истории — ярчайшим примером этого может служить марксизм, — эмпирически и исторически человеческое мышление следует толковать как психологически, а не как логически обусловленный процесс. Отчетливее проявляется идеально-типический характер такого синтеза исторически действенных идей, если упомянутые основные положения и постулаты вообще не живут - или уже не живут - в умах индивидов, которые руководствуются мыслями, логически выведенными из этих постулатов или ассоциативно вызванными ими, поскольку некогда лежавшая в их основе «идея» либо отмерла, либо с самого начала воспринималась только в своих выводах. Еще отчетливее проявляется этот синтез — идея, созданная нами, в тех случаях, когда упомянутые фундаментальные положения изначально либо неполно осознавались (или вообще не осознавались), либо не нашли своего выражения в виде отчетливых мысленных связей. Если же мы эту процедуру совершим, что очень часто происходит и должно происходить, то такая «идея» — например, «либерализма» определенного периода, «методизма» или какой-либо недостаточно продуманной разновидности «социализма» — окажется чистым идеальным типом, совершенно таким же, как синтез «принципов» какой-либо хозяйственной эпохи, от которой мы отправлялись. Чем шире связи, о выявлении которых идет речь, чем многограннее было их культурное значение, тем больше их систематическое изображение в системе понятий и мыслей приближается по своему характеру к идеальному типу, тем в меньшей степени можно обходиться одним понятием такого рода, тем естественнее и неизбежнее все повторяющиеся попытки осознать новые стороны значимости посредством конструирования новых идеально-типических понятий. Все изображения «сущности» христианства, например, являют собой идеальные типы
Макс Вебер. «Объективность» птнания в области социальных наук;..753 относительной и проблематической значимости, если рассматривать их как историческое воспроизведение эмпирической реальности; напротив, они обладают большой эвристической ценностью для исследования и большой систематической ценностью для изображения, если пользоваться ими как понятийными средствами для сравнения и сопоставления с ними действительности. В этой их функции они совершенно необходимы. Этим идеально-типическим изображениям присущ еще один усложняющий их значение момент. Они хотят быть или неосознанно являются идеальными типами не только в логическом, но и в практическом смысле, а именно — стремятся быть образцом, который, если вернуться к нашему примеру, указывает на то, каким христианство, по мнению исследователя, должно быть, что исследователь считает в нем «существенным», сохраняющим постоянную ценность. Если это происходит осознанно или, что чаше случается, неосознанно, то в идеальные типы вводятся идеалы, с которыми исследователь соотносит христианство как с ценностью. Задачи и цели, на которые данный исследователь ориентирует свою «идею» христианства, могут (и всегда будут) очень отличаться от тех ценностей, с которыми соотносили христианство ранние христиане, люди того времени, когда это учение возникло. В этом своем значении «идеи», — конечно, уже не чисто логические вспомогательные средства, не понятия, в сравнении с которыми измеряется действительность, а идеалы, с высоты которых выносится оценочное суждение о ней. Речь идет уже не о чисто теоретической операции отнесения эмпирических явлений к ценностям, а об оценочных суждениях, содержащихся в «понятии» христианства. Именно потому, что идеальный тип претендует здесь на эмпирическую значимость, он вторгается в область оценочного толкования христианства — это уже не эмпирическая наука; перед нами личное признание человека, а не образование идеально-типического понятия. Несмотря на это принципиальное различие, смешение, этих двух в корне различных значений «идеи» очень часто встречается в историческом исследовании. Такое смешение уже вполне реально, как только историк начинает развивать свои «взгляды» на какое-либо историческое лицо или какую-либо эпоху. Если Шлоссер, следуя принципам рационализма, применял не знающие изменения этические масштабы, то современный, воспитанный в духе релятивизма историк, стремясь, с одной стороны, понять изучаемую им эпоху «изнутри», с другой - вынести свое «суждение» о ней, испытывает потребность в том, чтобы вывести масштабы своего суждения из «материала», т.е. в том, чтобы «идея» в значении идеала выросла из «идеи» в значении «идеального типа». Эстетическая притягательность подобного способа приводит к тому, что граница между эти-
754
Историко-социологическое видение культуры
ми двумя сферами постоянно стирается, в результате чего возникает половинчатое решение, при котором историк не может отказаться от оценочного суждения и одновременно пытается уклониться от ответственности за него. В такой ситуации элементарным долгом самоконтроля ученого и единственным средством предотвратить подобные недоразумения является резкое разделение между соотнесением действительности для сравнения с идеальными типами в логическом смысле слова и оценочным суждением о действительности, отправляясь от идеалов. «Идеальный тип» в нашем понимании (мы вынуждены повторить это) - нечто, в отличие от оценивающего суждения, совершенно индифферентное и не имеет ничего общего с каким-либо иным, не чисто логическим «совершенством». Есть идеальные типы борделей и идеальные типы религий, а что касается первых, то могут быть идеальные типы таких, которые, с точки зрения современной полицейской этики, технически «целесообразны», и таких, которые прямо противоположны этому.
Мы вынуждены отказаться здесь от подробного рассмотрения самого сложного и интересного феномена — от вопроса о логической структуре понятия государства. Заметим лишь следующее: если мы зададим вопрос, что в эмпирической действительности соответствует идее «государства», то обнаружим бесконечное множество диффузных и дискретных действий и пассивных реакций, фактически и юридически упорядоченных связей, либо единичных по своему характеру, либо регулярно повторяющихся; связей, объединенных идеей, которая является верой в действительно значимые нормы или долженствующие быть таковыми и в отношения господства-подчинения между людьми. Эта вера отчасти являет собой духовное достояние; отчасти же она, смутно ощущаемая или пассивно воспринятая в самом разнообразном виде, существует в умах людей, которые, если бы они действительно ясно мыслили идею как таковую, не нуждались бы в «общем учении о государстве».
Научное понятие государства, как бы оно ни было сформулировано, всегда является синтезом, который мы создаем для определенных целей познания. Однако вместе с тем этот синтез в какой-то мере абстрагирован из малоотчетливых синтезов, обнаруживаемых в мышлении исторических деятелей. Впрочем, конкретное содержание, в котором находит свое выражение в этих синтезах современников историческое «государство», может быть сделано зримым только посредством их ориентации на идеально-типические понятия. Не вызывает также ни малейшего сомнения, что первостепенное практическое значение имеет характер того, как эти по своей логической форме всегда несовершенные синтезы создаются современниками, каковы их идеи о государстве (так, например,
Макс Вебер. «Объективность» познания в области социальных наук..._755
немецкая метафизическая идея «органического» государства в ее отличии от «делового» американского представления). Другими словами, и здесь долженствующая быть значимой или мыслимая значимой практическая идея и конструированный с познавательной целью теоретический идеальный тип движутся параллельно, постоянно проявляя склонность переходить друг в друга.
Выше мы намеренно рассматривали «идеальный тип» преимущественно (хотя и не исключительно) как мысленную конструкцию для измерения и систематической характеристики индивидуальных, т.е. значимых в своей единичности, связей, таких как христианство, капитализм и пр. Это было сделано для того, чтобы устранить распространенное представление, будто в области явлений культуры абстрактно типическое идентично абстрактно родовому, что не соответствует истине. Не имея возможности дать здесь анализ многократно обсуждаемого и сильно дискредитированного неправильным применением понятия «типического», мы полагаем, что все наше предшествующее изложение свидетельствует о том, насколько образование типических понятий в смысле исключения «случайного» также происходит именно в сфере исторических индивидуумов. Конечно, и те родовые понятия, которые мы постоянно обнаруживаем в качестве компонентов исторического изложения и конкретных исторических понятий, можно посредством абстракции и усиления определенных существенных понятийных элементов превратить в идеальные типы. Именно это чаще всего происходит на практике и являет собой наиболее важное применение идеально-типических понятий; каждый индивидуальный идеальный тип составляется из понятийных элементов, родовых по своей природе и превращенных в составные части идеального типа. И в этом случае обнаруживается специфически логическая функция идеально-типических понятий. Простым родовым понятием в смысле комплекса признаков, общих для ряда явлений, является, например, понятие «обмена», если отвлечься от значения понятийных компонентов, т.е. просто анализировать повседневное словоупотребление. Если же соотнести это понятие с «законом предельной полезности» и образовать понятие «экономического обмена» в качестве понятия экономического рационального процесса, то это, как вообще любое полностью развитое понятие, будет содержать суждение о «типических» условиях обмена. Оно примет генетический характер и тем самым станет в логическом смысле идеально-типическим, т.е. отойдет от эмпирической действительности, которую можно только сравнивать, соотносить с ним. То же относится ко всем так называемым «основным понятиям» политической экономии: в генетической форме они могут быть развиты только в качестве идеальных типов. Противопо
756
Исторшгоч'О! дологическое видение кулыуры
ложность между простыми родовыми понятиями, которые только объединяют общие свойства эмпирических явлений, и родовыми идеальными типами, такими, например, как идеально-типическое понятие «сущности» ремесла, в каждом отдельном случае, конечно, стерта. Однако ни одно родовое понятие как таковое не носит характер «типического», а чисто родового «среднего» типа вообще не существует. Во всех тех случаях, когда мы говорим, например, при статистическом обследовании, о «типичных» величинах, речь идет о чем-то большем, чем средний тип. Чем в большей степени речь идет о простой классификации процессов, которые встречаются в действительности как массовые явления, тем в большей степени речь идет о родовых понятиях; напротив, чем в большей степени создаются понятия сложных исторических связей, исходя из тех их компонентов, которые лежат в основе их специфического культурного значения, тем в большей степени понятие - или система понятий - будет приближаться к ему типу. Ведь цель образования идеально-типических понятий всегда состоит в том, чтобы полностью довести до сознания не родовые признаки, а своеобразие явлений культуры.
Тот факт, что идеальные типы, в том числе и родовые, могут быть использованы и используются, представляет особый методический интерес в связи с еще одним обстоятельством.
До сих пор мы рассматривали идеальные типы только как абстрактные понятия тех связей, которые, находясь в потоке событий, составляют исторический индивидуум в его развитии. Однако здесь возникает осложнение, так как понятие «типического» сразу же вводит ложную натуралистическую идею, согласно которой цель социальных наук есть сведение элементов действительности к «законам». Дело в том, что идеальный тип развития также может быть сконструирован, и конструкции такого рода обладают в ряде случаев большим эвристическим значением. Однако при этом возникает серьезная опасность того, что грань между идеальным типом и действительностью будет стираться. Можно, например, прийти к такому теоретическому выводу, что при строго «ремесленной» организации общества единственным источником накопления капитала является земельная рента. На этой основе можно, вероятно (мы не будем здесь проверять правильность подобной конструкции), конструировать обусловленный совершенно определенными простыми факторами (такими, как земля, рост народонаселения, приток благородных металлов, рационализация образа жизни) идеальный тип преобразования ремесленного хозяйства в капиталистическое. Являлся ли исторический процесс развития эмпирически действительно таким, как он выражен в данной конструкции, можно установить
Макс Вебер. «Объективное «ъ» нолнания в обиасти социальных наук...757 с помощью этой конструкции в качестве эвристического средства, сравнивая идеальный тип с «фактами». Если идеальный тип сконструирован «правильно», но действительный процесс развития не соответствует идеально-типическому, мы тем самым обрели бы доказательство того, что средневековое общество в ряде определенных моментов не было строго «ремесленным» по своему характеру. Если же идеальный тип был сконструирован в эвристически «идеальной» манере (имело ли это место в нашем примере и каким образом, мы совершенно оставляем в стороне), то он приведет исследователя к более отчетливому постижению не связанных с ремеслом компонентов средневекового общества в его своеобразии и историческом значении. Если идеальный тип приводит к такому выводу, можно считать, что он свою логическую цель выполнил именно потому, что открыл свое несоответствие действительности. В этом случае он был проверкой гипотезы. Такой метод не вызывает сомнений методологического характера до тех пор, пока исследователь отчетливо осознает, что идеально-типическую конструкцию развития, с одной стороны, и историю — с другой, следует строго разделять и что в данном случае упомянутая конструкция служила просто средством совершить по заранее обдуманному намерению значимое сведение исторического явления к его действительным причинам, возможным, как нам представляется, при существующем состоянии нашего знания. Отчетливо видеть эту грань затрудняет подчас, что нам известно из опыта, одно обстоятельство: конструируя идеальный тип или идеально-типическое развитие, часто пытаются придать им большую отчетливость посредством привлечения в качестве иллюстрации эмпирического материала исторической действительности. Опасность этого самого по себе вполне законного метода заключается в том, что историческое знание служит здесь теории, тогда как должно быть наоборот. Теоретик легко склоняется к тому, чтобы рассматривать это отношение как само собой разумеющееся или, что еще хуже, произвольно подгонять теорию и историю друг к другу и просто не видеть различия между ними. Еще резче это выступает в том случае, если конструкция идеального развития и понятийная классификация идеальных типов определенных культурных образований насильственно объединяются в рамках генетической классификации. (Например, формы ремесленного производства идут в такой классификации от «замкнутого домашнего хозяйства», а религиозные понятия — от «созданных на мгновение божков».) Последовательность типов, полученная посредством выбранных понятийных признаков, выступает тогда в качестве необходимой, соответствующей закону исторической последовательности. Логический строй понятий, с одной стороны, и эмпирическое упоря-
758 Историко-социологическое видение кулыуры
дочение понятого в пространстве, времени и причинной связи — с другой, оказываются в столь тесном сцеплении друг с другом, что искушение совершить насилие над действительностью для упрочения реальной значимости конструкции в мире действительности становится почти непреодолимым.
Мы сознательно отказались здесь от того, чтобы привести наиболее важный, с нашей точки зрения, пример идеально-типической конструкции — мы имеем в виду концепцию Маркса. Отчасти это сделано из тех соображений, чтобы не усложнять еще больше наше исследование толкованием Марксова учения, отчасти, чтобы не опережать события, так как наш журнал1 ставит перед собой задачу постоянно давать критический анализ всей литературы об этом великом мыслителе и всех работ, продолжающих его учение. Поэтому мы здесь только констатируем, что все специфически марксистские «законы» и конструкции процессов развития (в той мере, в какой они свободны от теоретических ошибок) идеально-типичны по своему характеру. Каждый, кто когда-либо опирался в своих исследованиях на марксистские понятия, хорошо знает, как высоко неповторимо эвристическое значение этих идеальных типов, если пользоваться ими для сравнения с действительностью, но в равной мере и то, насколько они могут быть опасны, если рассматривать их как эмпирически значимые или даже реальные (т.е. по существу метафизические) «действующие силы», «тенденции» и т.д.
Для иллюстрации безграничного переплетения понятийных методических проблем, существующих в науках о культуре, достаточно привести такую шкалу понятий: родовые понятия; идеальные типы, идеально-типические родовые понятия; идеи в качестве эмпирически присущих историческим лицам мысленных связей, идеальные типы этих идей, идеалы исторических лиц, идеальные типы этих идеалов, идеалы, с которыми историк соотносит историю; теоретические конструкции, пользующиеся в качестве иллюстрации эмпирическими данными, историческое исследование, использующее теоретические понятия в качестве пограничных идеальных случаев. К этому следует добавить множество различных сложностей, на которые здесь можно лишь указать, таких, как различные мысленные образования, отношение которых к эмпирической реальности непосредственно данного в каждом отдельном случае весьма проблематично. В нашей статье, цель которой состоит только в том, чтобы поставить проблемы, мы вынуждены отказаться от серьезного рассмотрения практически важных вопросов методологии, таких, как отношение идеально-типического познания к познанию закономерностей, идеально-типических понятий к коллективным понятиям и т.д.
Макс Вебер. «Объективность» почнания в области социальных наук..._759
Несмотря на все эти указания, историк будет по-прежнему настаивать на том, что господство идеально-типической формы образования понятий и конструкций является специфическим симптомом молодости научной дисциплины. И с этим можно в известной степени согласиться, правда, выводя при этом иные заключения. Приведем несколько примеров из других наук. Конечно, задерганный школьник, так же как начинающий филолог, представляет себе язык сначала «органически», т.е. как подчиненную нормам надэмпирическую целостность; задача науки — установить, чтб же следует считать правилами речи. Первая задача, которую обычно ставит перед собой «филология», — это логически обработать «письменный язык», как это было сделано, например, в Accademia della Crusca; свести его содержание к правилам. И если сегодня один ведущий филолог заявляет, что объектом филологии может быть «язык каждого человека», то самая постановка такого вопроса возможна только после того, как в письменной речи дан относительно установившийся идеальный тип, которым можно оперировать в исследовании многообразия языка, принимая его хотя бы в виде молчаливой предпосылки; без этого оно будет лишено границ и ориентации. Именно так функционируют конструкции в естественно-правовых и органических теориях государства, или, возвращаясь к идеальному типу в нашем понимании, такова теория античного государства у Б. Констана; они служат как бы необходимой гаванью до той поры, пока исследователи не научатся ориентироваться в безбрежном море эмпирических данных. Зрелость науки действительно всегда проявляется в преодолении идеального типа, в той мере, в какой он мыслится как эмпирически значимый или как родовое понятие. Однако использование остроумной конструкции Констана для выявления известных сторон античной государственной жизни и ее исторического своеобразия совершенно оправдано и в наши дни, если помнить об идеально-типическом характере этой конструкции. Есть науки, которым дарована вечная молодость, и к ним относятся все исторические дисциплины, перед ними в вечном движении культуры все время возникают новые постановки проблем. Для них преходящесть всех идеально-типических конструкций и вместе с тем постоянная неизбежность создания новых составляют главную задачу.
Все время делаются попытки установить «подлинный», «истинный» смысл исторических понятий, и конца этому нет. Поэтому синтезы, используемые историей, всегда — либо только относительно определенные понятия, либо, если необходимо придать понятийному содержанию однозначность, понятие становится абстрактным идеальным типом и тем самым оказывается теоре
760 HcTopHKO-coipicKiorifHecKoe видение культуры
тической, следовательно, «односторонней», точкой зрения, которая способна осветить действительность, с которой действительность может быть соотнесена, но которая безусловно непригодна для того, чтобы служить схемой, способной полностью охватить действительность. Ведь ни одна из этих мысленных систем, без которых мы не можем обойтись, постигая какую-либо важную составную часть действительности, не может исчерпать ее бесконечного богатства. Все они являют собой не что иное, как попытку на определенном уровне нашего знания и имеющихся в нашем распоряжении понятийных образований внести порядок в хаос тех данных, которые мы включали в круг наших интересов. Мыслительный аппарат, который разработало прошлое посредством мысленной обработки, а в действительности путем мысленного преобразования непосредственно данной действительности и включения ее в понятия, соответствующие познанию и направлению интереса того времени, всегда противостоит тому, что мы можем и хотим извлечь из действительности с помощью нового познания. В этой борьбе совершается прогресс исследования в науках о культуре. Его результат - постоянно идущий процесс преобразования тех понятий, посредством которых мы пытаемся постигнуть действительность. Поэтому история наук о социальной жизни - это постоянное чередование попытки мысленно посредством образования понятий упорядочить эмпирические данные, разложить полученные таким путем образы посредством расширения и сдвига научного горизонта и попытки образовать новые понятия на этой измененной основе. В этом не проявляется несостоятельность данного стремления как такового — каждая наука, в том числе и только описательная история, работает с помощью понятий своего времени, в этом находит свое выражение то обстоятельство, что в науках о человеческой культуре образование понятий зависит от места, которое занимает в данной культуре рассматриваемая проблема, а оно может меняться вместе с содержанием самой культуры. Отношение между понятием и понятым в науках о культуре ведет к тому, что синтез здесь всегда носит преходящий характер. Значение попыток создать в нашей науке крупные понятийные конструкции заключается, как правило, именно в том, что они демонстрируют границы значения той точки зрения, которая лежит в их основе. Самые далекоидущие успехи в области социальных наук связаны в своей сущности со сдвигом практических культурных проблем и облечены в форму критики образования понятий.
Одна из важнейших задач нашего журнала состоит в том, чтобы служить этой критике и тем самым исследованию принципов синтеза в области социальных наук.
Макс Вебер. «Объективность» познания н области социальных наук... 761
В выводах, которые следует сделать из сказанного выше, мы приходим к тому, что наши взгляды в ряде случаев отличаются от взглядов некоторых выдающихся представителей исторической школы, к воспитанникам которой мы причисляем и себя. Дело в том, что они открыто или молчаливо исходят из того, что конечной целью, назначением каждой науки является приведение ее материала в систему понятий, содержание которых должно быть получено и постепенно усовершенствовано посредством наблюдения над эмпирической закономерностью образования гипотез и верификации последних, вплоть до того момента, когда это приведет к возникновению «совершенной» и поэтому дедуктивной науки. Индуктивное исследование современных историков, обусловленное несовершенством нашей дисциплины, служит предварительной стадией в достижении этой цели. Ничто не представляется с такой точки зрения более сомнительным, чем образование и применение четких понятий, которые как бы опрометчиво предваряют упомянутую цель далекого будущего. Принципиально неопровержимой эта точка зрения была бы на почве антично-схоластической теории познания; ее основные положения до сих пор прочно коренятся в мышлении основной массы исследователей исторической школы: предполагается, что понятия должны быть отражениями «объективной» действительности, своего рода представлениями о ней; отсюда и постоянно повторяющиеся указания на нереальность всех четких понятий. Тот, кто до конца продумает основную идею восходящей к Канту современной теории познания, согласно которой понятия суть и могут быть только мысленными средствами для духовного господства над эмпирической данностью, не увидит в том обстоятельстве, что четкие генетические понятия неизбежно являются идеальными типами, основания ддя отказа от них. Для такого исследователя отношение между понятием и историческим изучением станет обратным вышеназванному: конечная цель представляется ему логически невозможной, понятия для него — не цель, а средство достижения цели, которая являет собой познание значимых под индивидуальным углом зрения связей. Именно потому, что содержание исторических понятий необходимым образом меняется, эти понятия должны быть четко сформулированы. Исследователь будет стремиться к тому, чтобы в применении понятий всегда тщательно устанавливался их характер в качестве идеальных мысленных конструкций, чтобы идеальный тип и история строго различались. Поскольку при неизбежном изменении основных ценностных идей разработка таких понятий, которые служили бы общей конечной целью, невозможна, упомянутый исследователь будет верить, что именно посредством образования четких, одно
762 Ис1ор»ко-социо.ц>гическ(к? индские кулыуры
значных понятий для любой отдельной точки зрения создается возможность ясно осознать границы их значимости.
Нам укажут на то (и мы уже раньше согласились с этим), что в отдельном случае конкретная историческая связь вполне может быть отчетливо показана без постоянного ее сопоставления с определенными понятиями. Поэтому принято считать, что историк в нашей области может, подобно исследователю в области политической истории, говорить «языком повседневной жизни». Конечно, к этому надо только добавить следующее: при таком методе более чем вероятно, что ясное осознание точки зрения, с которой рассматриваемое явление обретает значимость, может быть только случайностью. Мы не находимся обычно в таких благоприятных условиях, как исследователь политической истории, который, как правило, соотносит свои данные с однозначным - или кажущимся таковым — содержанием культуры. Каждое чисто описательное изложение события всегда носит в какой-то степени художественный характер. «Каждый видит то, что он хранит в сердце своем», — значимые суждения всегда предполагают логическую обработку увиденного, т.е. применение понятий. Можно, разумеется, скрыть их in petto**, в этом есть даже известное эстетическое очарование, однако такого рода действия, как правило, дезориентируют читателя, а подчас оказывают и отрицательное влияние на веру автора в плодотворность и значимость его суждений.
Самую серьезную опасность представляет отказ от образования четких понятий при вынесении практических соображений экономического и социально-политического характера. Неспециалисту трудно даже вообразить, какой хаос внесло, например, применение термина «ценность», этого злополучного детища нашей науки, которому какой-либо однозначный смысл вообще может быть придан только в идеально-типическом смысле, или применение таких слов, как «продуктивность», «с народнохозяйственной точкой зрения», которые вообще не выдерживают анализа, пользующегося четкими понятиями. Причем вся беда сводится именно к употреблению заимствованных из повседневного языка коллективных понятий. Для того чтобы наша мысль стала понятной и неспециалистам, остановимся на таком известном еще со школьной скамьи понятии, как «сельское хозяйство», в том его значении, которое оно имеет в сочетании слов «интересы сельского хозяйства» как эмпирически констатируемые, более или менее ясные субъективные представления о своих интересах отдельных хозяйствующих индивидов; при этом мы совершенно оставляем в стороне бесчисленные столкновения интересов, связанные с разведением племенного скота или с производством животноводче
Макс Вебер. «Объективность» познания в области социальных наук... 763
ских продуктов, с выращиванием зерна или с расширением кормовой базы, с дистиллированием продуктов брожения зерна и т.п.
Если не каждому человеку, то специалисту во всяком случае хорошо известно, какой сложный узел сталкивающихся противоречивых ценностных отношений образуют смутные представления об этом понятии. Перечислим лишь некоторые из них: интересы земледельцев, собирающихся продать свое хозяйство и поэтому заинтересованных в быстром повышении цен на землю; прямо противоположные интересы тех, кто хочет купить, округлить или арендовать участок; интересы тех, кто хочет сохранить определенную землю для своих потомков из соображений социального престижа и поэтому заинтересован в стабильности владения землей; противоположная позиция тех, кто в личных интересах и интересах своих детей стремится к тому, чтобы земля перешла в собственность наилучшего хозяина или — что не совсем то же самое — покупателя, обладающего наибольшим капиталом; чисто экономический интерес «самых рачительных» в частнохозяйственном смысле хозяев, заинтересованных в свободном движении товаров внутри экономической сферы; сталкивающийся с этим интерес определенных господствующих слоев в сохранении унаследованной социальной и политической позиции, своего «статуса» и «статуса» своих потомков; социальные чаяния не господствующих среди сельских хозяев слоев, которые заинтересованы в освобождении от этих стоящих над ними, оказывающих на них давление слоев; в ряде случаев противоположное этому стремление обрести в высших слоях политического вождя, который действовал бы в их интересах. Наш перечень можно было бы значительно увеличить, не достигнув и в этом случае завершения, хотя мы строили его в самых общих чертах и отнюдь не стремились к точности. Мы не касаемся того, что с этими как будто чисто «эгоистическими» интересами могут сочетаться, связываться, могут служить им препятствием или отвлекать их в сторону самые различные идеальные ценности, и напоминаем только, что, говоря об «интересах сельского хозяйства», мы обычно имеем в виду не только те материальные и идеальные ценности, с которыми земледельцы связывают свои интересы, но и те подчас совершенно гетерогенные им ценностные идеи, с которыми мы соотносим сельское хозяйство. Сюда относятся, например: производственные интересы, связанные с заинтересованностью в предоставлении населению дешевых и, что не всегда совпадает, хороших по своему качеству продуктов питания; при этом между интересами города и деревни могут возникать самые разнообразные коллизии, а интересы поколения данного времени совсем не обязательно должны совпадать с предполагаемыми интересами будущих поко
764 Историко-€01<иологи*<еское видение кут.прм
лений; различные демографические теории, особенно заинтересованность в многочисленном сельском населении, связанная отчасти с «государственными» интересами, проблемами политической власти или внутренней политики или с другими идеалами, различными по своему характеру, например, с предполагаемым влиянием роста сельского населения на специфику культуры данной страны; этот демографический интерес может в свою очередь прийти в столкновение с различными частнохозяйственными интересами всех слоев сельского населения, можно даже предположить, что они окажутся интересами всей массы сельского населения в данное время. Речь может идти также о заинтересованности в определенном социальном расслоении сельского населения ввиду того, что это может быть использовано как фактор политического или культурного влияния; этот интерес может в зависимости от его направленности прийти в столкновение со всеми мыслимыми, самыми непосредственными интересами как отдельных хозяев, так и «государства» в настоящем и будущем. И наконец, что еще усложняет положение дел, «государство», с «интересами» которого мы склонны связывать эти и многие другие подобные отдельные интересы, часто служит нам просто маскировкой очень сложного переплетения ценностных идей, с коими мы по мере необходимости его соотносим. Это происходит, когда встают следующие вопросы, чисто военные соображения безопасности границ; обеспечение господствующего положения династии или определенных классов внутри страны, сохранение и укрепление формального единства государства и нации в интересах самой нации или для того, чтобы сохранить определенные объективные, весьма различные по своей природе культурные ценности, которые мы, как нам кажется, олицетворяем в качестве объединенного в государство народа; преобразование социального строя государства в соответствии с определенными, также весьма различными, культурными идеалами. Если бы мы попытались только указать на все то, что входит в собирательное понятие «государственные интересы», с которым мы можем соотнести «сельское хозяйство», это завело бы нас слишком далеко. Взятый нами пример, и еще в большей степени нащ суммарный анализ, груб и элементарен. Пусть неспециалист сам попытается подобным же образом (и основательнее, чем это сделано здесь) проанализировать понятие «классовые интересы рабочих», и он увидит, какой узел противоречивых интересов и идеалов рабочих, с одной стороны, идеалов, под углом зрения которых мы рассматриваем положение рабочих, — с другой, содержится в этом понятии. Преодолеть лозунги, провозглашаемые в ходе борьбы интересов, чисто эмпирическим акцентированием их «относительности» невозможно.
Макс Вебер. «Объективность» шикания в области социальных наук... 765
Единственный способ выйти из сферы ничего не значащих фраз -это установить ясные, строгие понятия различных возможных точек зрения. «Аргументация свободы торговли» в качестве мировоззрения или значимой нормы — нелепость, однако то, что мы недооценили эвристическую ценность древней жизненной мудрости величайших коммерсантов мира, выраженной в этих идеально-типических формулах, принесло большой вред нашим исследованиям в области торговой политики, совершенно независимо от того, какими идеалами торговой политики стремится руководствоваться тот или иной человек. Лишь с помощью идеально-типических понятийных формул становятся действительно отчетливыми те точки зрения, которые рассматриваются в каждом случае, так как их своеобразие раскрывается посредством конфронтации эмпирических данных с идеальным типом. Использование же недифференцированных коллективных понятий, присущих языку повседневной жизни, как правило, маскирует неясность мышления или воления, часто служит орудием сомнительных ухищрений и всегда - средством предотвратить правильную постановку вопроса.
Мы подходим к концу наших рассуждений, преследующих только одну цель — указать на часто очень небольшой водораздел между наукой и верой и способствовать пониманию того, в чем смысл социально-экономического познания. Объективная значимость всякого эмпирического знания состоит в том и только в том, что данная действительность упорядочивается по категориям, в некоем специфическом смысле субъективным, поскольку, создавая предпосылку нашего знания, они связаны с предпосылкой ценности той истины, которую может нам дать только опытное знание. Тому, для кого эта истина не представляется ценной (ведь вера в ценность научной истины не что иное, как продукт определенной культуры, а совсем не данное от природы свойство), мы средствами нашей науки ничего предложить не можем. Напрасно, впрочем, будет он искать другую истину, которая заменила бы ему науку в том, что может дать только она, - понятия и суждения, не являющиеся эмпирической действительностью и не отражающие ее, но позволяющие должным образом мысленно ее упорядочить. В области эмпирических социальных наук о культуре возможность осмысленного познания того, что существенно для нас в потоке событий, связана, как мы видели, с беспрестанным использованием специфических в своей особенности точек зрения, соотносящихся в конечном итоге с идеями ценностей, которые, будучи элементами осмысленных человеческих действий, допускают эмпирическую констатацию и сопереживание, но не обоснование в своей значимости эмпирическим материалом. «Объективность»
766 Историко-социологнческое видение кулыуры
познания в области социальных наук характеризуется тем, что эмпирически данное всегда соотносится с ценностными идеями, которые только и создают познавательную ценность этих наук, позволяют понять значимость этого познания, но не могут служить основой его эмпирического обоснования. Присущая нам всем в той или иной форме вера в надэмпирическую значимость важнейших для нас высочайших ценностных идей, в которых мы видим смысл нашего бытия, не только не исключает беспрестанное изменение конкретных точек зрения, придающих значение эмпирической действительности, но включает его в себя. Жизнь в ее иррациональной действительности и содержащиеся в ней возможные значения неичерпаемы, конкретные формы отнесения к ценности не могут быть поэтому постоянны, они подвержены вечному изменению, которое уходит в темное будущее человеческой культуры. Свет, расточаемый этими высочайшими ценностными идеями, падает на постоянно меняющуюся часть чудовищного хаотического потока событий, проносящегося сквозь время.
Из всего этого не следует, конечно, делать ложный вывод, будто задача социальных наук состоит в беспрерывных поисках новых точек зрения и понятийных конструкций. Напротив, мы со всей решительностью подчеркиваем, что главная цель образования понятий и их критики состоит в том, чтобы служить (наряду с другими средствами) познанию культурного значения конкретных исторических связей. Среди исследователей социальной действительности также есть «сторонники фактов» и «сторонники смысла» (по терминологии Ф.Т.Фишера). Ненасытная жажда фактов, присущая первым, может быть удовлетворена только материалами актов, фолиантами статистических таблиц и анкетами - тонкость новых идей недоступна их восприятию; привычка к изощренности мышления приводит сторонников второй группы к полной утрате вкуса к фактам вследствие непрерывных поисков все более «дистиллированных» мыслей. Подлинное мастерство — среди историков им в громадной степени обладал Ранке — проявляется обычно именно в том, что известные факты соотносятся с хорошо известными точками зрения и между тем создается нечто новое.
В век специализации работа в области наук о культуре будет заключаться в том, что, выделив посредством постановки проблемы определенный материал и установив свои методические принципы, исследователь будет затем рассматривать обработку этого материала как самоцель, не проверяя более познавательную ценность отдельных фактов посредством сознательного отнесения их к ценностным идеям и не размышляя вообще о том, что вычленение изучаемых фактов ими обусловлено. Так и должно быть. Однако
Макс Вебер. «Объективность» почианин в области социальных наук... 767
наступит момент, когда краски станут иными: возникнет неуверенность в значении бессознательно применяемых точек зрения, в сумерках будет утерян путь. Свет важных проблем культуры уйдет в будущее. Тогда и наука изменит свою позицию и свой понятийный аппарат, чтобы с вершин человеческой мысли взирать на поток событий. Она последует за теми созвездиями, которые только и могут придать ее работе смысл и направить ее по должному пути:
...Проснулосьновое влеченье,
Я устремляюсь пить их вечный свет, 11ередо мною день, за мною ночь И небо надо мной, а подо мною волны2.
Примечания
1 Речь идет об «Архиве социальных наук и социальной политики», в редакцию которого входили в 1904 г. Э.Яффе, В.Зомбарт, М.Вебер. - Прим. ред.
2 Гёте. Фауст. Часть I. См. также: Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. С. 42. М., 1976/Пер. Б.Пастернака.
Перевод иноязычных текстов
р Связанные с изменением закона (лат.).
2“ Общий род, видовые отличия (лат.).
v В глубине своей духа.
I [еревод выполнен по изданию: Weber М. Die «Objektivitat» sozialwissen-schaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis // Separat-Abdruck aus dem Archiv fur Sozialwisscnschaft und Sozialpolilik. 19. Bd. [N.F. 1. BdJ 1. Hft. Tubingen; Leipzig: Mohr (Siebeck), 1904. S. 22—87.
Эрнст Трёльч
Макс Вебер. Слово прощания
То, что друзьям представлялось невероятным и невозможным, произошло -Макс Вебер умер... Пусть примерно то, что я хотел сказать у его ipo6a, будет написано здесь. И прежде всего - впечатление от его личности. Оценить его как ученого я в данный момент не могу, хотя я знаю все его работы и они свежи в моей памяти. Но что такое научные заслуги по сравнению с его могучей личностью в целом?
Макс Вебер был одним из немногих великих людей современной Германии, одним из немногих действительно гениальных людей, которых я встречал в своей жизни. Он происходил из семьи людей выдающихся духовных способностей, правда, подверженных тяжелым нервным потрясениям. Вебер состоял в близком родстве с Баумгартеном, Йолли, Хаусратом. Его магь была выдающейся женщиной, долгое время стоявшей во главе женского движения и благотворительной деятельности; она отличалась добротой, умом и энергией и такой осталась в памяти тысяч людей. Ее дети, напоминавшие львят, смогли стать такими, какими они стали в действительности, только благодаря ее бесконечной доброте и уму. С образом Макса Вебера неразрывно связан образ его выдающейся мазери. Выдающийся человек и его жена, деятельно участвующая в движении за права женщин и сумевшая сохранить в этой борьбе женственность и душевное очарование значительной женщины. Все члены этой семьи редкие люди, связанные друг с другом узами величай}ней нежности и искренности. Их величие и открытость, простота, духовное богатство и вкус соче тались с такой добротой, внимательностью и душевной тонкостью, которые в век сверхчеловека стали едва ли не с гаромодными и напоминают нам лучшие времена с гарой немецкой культуры. В замечательном дедовском доме на берегу Пеккара, который был прочным центром жизни семьи, служившим также и прибежищем Гервинусу и Хаусрагу, в доме, где некогда в качестве ближайших друзей семьи постоянно бывали Трейчкс и Хейссер, Макс Вебер провел самые продуктивные, несмотря на болезнь, годы и стал притягательным центром для обладающей духовными запросами молодежи. Этот дом стал тем, чем был Гейдельберг незабвенных времен Еллипека, Альбрехта Дитсриха, Вивдсльбанда! Не случайно закон человек, как граф Кейзерлинг, ежегодно перед поездками в Лондон и Париж посещал Гейдельберг, чтобы насладиться немецкой культурой. Там он черпал полноту мыслей для своего путешествия но миру. И подобно ему этот дом посещало бесчисленное множество людей из Германии и других стран.
Такой человек, как Макс Вебер, не мог не оказывать сильного влияния на других, и его окружали многие более или менее близкие ему друзья. Правда, сам он не очень нуждался в людях, но люди нуждались в нем. Близкая дружба связывала его, насколько мне известно, лишь с Паулем Гере, но и эта дружба вскоре по неизвестным мне причинам прекратилась. В основе большинства его связей в первую очередь лежали общие научные интересы. Так, он был близко связан с Фридрихом Науманом, испытавшим сильное воздействие его социально-политических теорий. То, что столь многих поражало в Наумане, сочетание современной социальной политики и отношения к природе власти с глубокой религиозностью, является сплавом отцовского наследия и его глубоко личных свойств с воспринятыми им мыслями Макса Вебера. В гаком преломлении и сплаве эти мысли оказали историческое влияние на немецкий народ. Из философов ближе всего стояли к Максу Веберу Генрих Риккерг, самый острый логик современной немецкой
Эрнст Трёльч. Макс Вебер. Слово прощания 769
философии, и его ученик Эмиль Ласк. Близок был ему и Зиммель. Вебер с подчас удивлявшей меня строгостью связывал себя с этим направлением неокантианства и привнес в него ряд собственных значительных мыслей, которые сгали известны не только благодаря глубоким работам Вебера, но и работам этих ученых. В области политической экономии он прежде всего был связан с Зомбартом, в длящуюся десятилетиями полемику с которым вносили живую струю этические контроверзы; иесли в труде Зомбарта речь идет в первую очередь о понятии «капитализм» и его проблемах, то в такой постановке вопроса нельзя не увидеть сильного влияния Макса Вебера, а это означает; что современное понимание всеобщей ист ории, которое отчасти идет ог Маркса, сложилось под влиянием Макса Вебера. Я же могу только сказать, что в течение ряда лет ощущал в ежедневном общении бесконечно стимулирующую силу этого человека, и в полной мере сознаю, что обязан ему значительной частью своих знаний и методов.
К этому кругу лип следует'добавить бесчисленное множество других, связанных с ним менее тесно. В период его деятельност и в Берлине в качестве асессора и приват-доцента отг познакомился с многими политическими деятелями бис-марковского времени. Впоследствии Вебер постоянно приезжал в Берлин, чтобы поддержать старые связи с ведущими полигиками различных партий или завязать новые. В своих многочисленных путешествиях он знакомился с выдающимися деятелями различных стран. Во время войны он был одним из немногих авторитетных деятелей Германии, с которыми сшттались за ее пределами. Г го участие в Версальском меморандуме о военной доктрине, где речь шла о вине Германии, было следствием достигнутого им признания. Но Вебер уделял внимание не только политикам и ученым, но и художникам и поэтам. Он был почитателем Макса Клингера и одновременно интересовался современным искусством. В последние годы его жизни с ним сблизился Стефан Георге; без глубокого воздействия Вебера немыслим и гейдельбергский круг Георге, хотя Вебер придерживался точки 'зрения, что деятельность этих людей в эпоху классовой борьбы, капитализма и социальных преобразований не более чем беспомощный анахронизм.
Но в чем же заключалась сущность этого, оказывавшего столь магическое влияние человека, который начал свою деятельность в сфере юриспруденции и торгового права, перешел затем к политической экономии и умер, нс закончив свой обширный труд по социологии, сущность человека, обогатившего своими пролагавшими новые пути философско-методологическими исследованиями как свою специальную науку, так и философию; человека, который вывел из своих основных трудов такие отдельные проблемы, как культурное значение кальвинизма в своей работе о хозяйственной этике мировых религий, и тем самым направил взор исследователей на новый духовный мир человека, который, несмотря на тяжелое нервное заболевание, сделал в науке больше, чем десять здоровых и достаточно умных людей?
1 [о моему мнению, его научная деятельность при всей ее силе, глубине и исследовательской строгости была лишь внешней стороной его жизни. В глубине души он был политиком, обладал натурой властителя, был горячим патриотом, кот орый видел, что его родина идет по ложному пути, и страстно желал стать ее руководителем, о чем он при данных условиях не мог и помышлять. В правление Вильгельма он не хотел тратить силы па службе недееспособных партий, а после поражения Германии эти партии не сумели увидеть и использовать его силу. Он не бы)] догматически настроенным демократом. В демократии он просто видел судьбу современного мира, и она означала для него утрату бесконечно великою и прекрасного. Вебер видел в демократии лишь то преимущество, что опа поднимала слои народа, которые подавлялись другими системами, и дава
770 Историко-социологическое видение культуры
ла возможность избрать новых вождей, которых нельзя было больше ждать от исчерпавшей свои возможности старой аристократии и пресыщенных близоруких интеллектуалов. Вебер не был и социалистом, хотя и считал возвышение рабочих необходимым следствием современной техники и современного производства и видел в этом своего рода неизбежный возврат к строю средневекового общества; отношение сгарых господствующих классов к социал-демократии он определял как бессзыдсзъо и глупость. Вебер предвидел, что насзунит время, когда преобладание гильдий и цехов вытеснит свободную индивидуальность, и боролся за государсзъо, в котором либерализм, т.е. богатство и свобода индивидуального развития, еще был бы относительно возможным. Он вообще не занимался вопросами метафизики и этики государства, видя в нем лишь меняющееся в соответствии с условиями и различно консзруируемое средство нации и всей ее богатой жизни. Любыми средствами спасти :иу жизнь, когда миру грозила сзрашная опасность, а на родине царило ослепление, организовать эту жизнь перед липом грядущих катастроф, спасти ее любыми средствами - таков был величественный пафос его души. Во всех политических и социальных вопросах он был релятивистом и знал лишь две абсолютные доты: веру в нацию и казегорический императив человеческого достоинства и снраведливосз и. Последние годы были для него езрашной душевной мукой. Последние его высказывания преисполнены духа, ранее ему несвойственного; я моту определить его только как тероический скептицизм. Моральные принципы были для нею, как и для Ф.Т.Фишера, чем-то само собой разумеющимся.
Нация пе поняла значение этих выдающихся поли тических способностей и не использовала их. Вебер в этом аспекте оказался Рафаэлем, которого лишили бы рук; поскольку политиком он стать не мог, а демагогом быть не хотел, он вернулся к науке. Смерть вырвала из его рук важную, многообещающую работу, У Вебера были недостатки, недос газки великих и сильных людей, и не стоит успокаивать филистеров таким признанием. Его жизнь, как и жизнь его народа, была зрагедией, но в своей трагичности он не хотел казаться инзсрес-ным, не хотел даже испытывать чувства трагичности. ,/1ля пего достаточен был долг как смысл жизни в езроюм кантовском понимании. Вебер презирал проявления современной субъективности, интересности, веры в сверхчеловека; не разделял он и влечения к религии. Стоическое величие и твердость озаряют его, как шекспировского Брута - они только более жестки и героичны. К нему можно отнести последние слова Антония в шекспировском «Юлии 1 (езаре»:
...И все стихии
Так в нем соединились, что
Могли б сказать: “Он человеком был!”1
— перед этими словами отступае т личное чувство по трясения, дружбы и тихого, благоговейного трепета по отношению к этому, в сущности, чуждому мне сочетанию скепсиса, героизма и моральной строгости.
Примечания
1 Шекспир У. Юлий Цезарь / Пер. М.Зенкевича // Поли. собр. соч.: В 8 г. М., 1959. Т. 5. С. 323.
Перевод выполнен по изданию: Troeltsch Е. Deutscher Geist und Westeuropa. Tubingen, 1925. S. 247 252. Впервые опубликовано: Frankftirter Zeitung. 1920. 20. Juni.
Николай Гартман
Проблема духовного бытия.
Исследования к обоснованию философии истории и наук о духе
Филосо<|)ско-историческое введение
1. Три задачи философии истории
Проблема духовного бытия - это не просто проблема философии истории. Ни история не есть одна только история духа, ни дух не есть одна лишь историчность. Но, пожалуй, всякий дух имеет свою историчность; и под историей в строгом смысле всякий раз подразумевают историю людей. Человек - духовное существо, единственное в этом роде, какое мы знаем. Конечно, он не «только» духовное существо, но все-таки «также» и в сущности именно духовное существо. И как таковой, он — историческое существо. Бездуховное бытие не имеет истории.
Эта взаимосвязь с самого начала ставит проблему духовного бытия в непосредственную близость к кругу проблем философии истории. Здесь до всякого исследования требуются разграничение и позитивная формулировка взаимосвязи проблем. И то и другое удалось бы лучше всего, если сознательно исходить из предварительно проделанной работы. Не подлежит сомнению тот факт, что последняя в наше время концентрируется не вокруг проблемы духовного бытия, а вокруг проблемы философии истории. Это причина того, почему настоящее введение должно быть философско-историческим.
Тем самым оно проделывает окольный путь. Но окольный путь в данной проблемной ситуации всегда самый короткий, таким образом, о/носительно нее, это - прямой путь.
Между тем сама проблемная ситуация предстает в раздробленном виде. И это глубоко характерно для философско-исторических опытов наших дней. Что, собственно, делать философии истории радом с позитивным исследованием истории? Это вопрос о вопро-
772 Историко-социологическое нидение кулыуры
се, который она ставит. И уже в нем нет никакого единодушия. Согласны только в том, что есть проблемы истории, которые не есть проблемы историографии. Но к чему они относятся и вокруг какого фундаментального вопроса концентрируются — об этом идет спор.
Где спорят научно, там есть живое отношение к предмету, там перспективы остаются открытыми. Тем более что философия всегда и больше всех учила своими спорами. Разброс мнений относительно истории как философской проблемы весьма поучителен. Он доказывает, что существует нечто большее, чем группа проблем, которые надлежит решить. Поэтому имеет смысл воспринимать и оценивать этот разброс мнений серьезно. Ибо как раз многообразие вопросов и способов подхода к их решению должно было бы означать, что здесь не все сводится к одному-единственному фундаментальному вопросу - или что фундаментальный вопрос, который, вероятно, в самом деле стоит за всем этим, еще недостаточно созрел, чтобы быть высказанным.
Здесь можно выделить три группы проблем. Все они имеются в современном мышлении, но по своему содержанию, направленности интереса и представителям отличаются друг от друга вполне определенно.
1. Из источников мы знаем только части исторического процесса. Как он протекает в целом? Какова его тенденция, если проследить ее из настоящего в будущее? Есть ли в нем цели, которыми он направляется? Или, по крайней мере, действующие в нем законы?
2. Наше знание об историческом прошлом не только имеет пробелы - оно также неадекватно, полно предрассудков и просто ошибок. Какой должна быть работа исторического познания, если оно претендует на научную значимость?
3. Наша собственная жизнь с ее познанием встроена в историю. Мы знаем ее наивным образом только в своей непосредственности, принимаем ее формы за абсолютные и только себя — за объективных судей. Но каким образом мы сами, включая наше историческое понимание, обусловлены исторически? Как онтически построена наша собственная историчность? И как мы в качестве познающих и понимающих выходим за пределы собственной исторической обусловленности?
Из этих трех проблемных групп первая — группа проблем метафизики истории, вторая — методологии исторического мышления, третья — историзма и его преодоления. Первая имеет общий предмет с позитивным исследованием истории - ход мировой истории; она лишь иначе ставит о нем вопрос. По своей установке она наивна, все ее теории догматичны. Опасность, которой она всегда подвержена, —
Николай Гартман. Проблема духового бытия... 773
это опасность всякого спекулятивного мышления: конструктивный выход за границы возможного знания. Во вторую группу проблем входит философская критика исторического мышления, причем входит достаточно радикально для того, чтобы не только касаться исторических спекуляций, но одновременно и позитивного исследования историка. Наконец, историзм снова перемещает внимание с вопроса о критике на вопрос об историческом процессе, пытаясь понять критикуемые аспекты как продукты того же самого исторического развития, течение которого должно быть в них понято.
Может показаться, что три группы проблем превосходят друг друга по восходящей линии. Да, естественно было бы видеть в третьей группе своего рода синтез первых двух - если бы именно в ней обратная связь с процессом не подрывала однозначность вопроса. Если знание об историческом процессе само обусловлено исторически, то ведь критическое знание об этой обусловленности тем более обусловлено знанием об историческом процессе. Здесь очевидный круг. Критика ловит саму себя в собственную сеть. Историцистская группа проблем — с какой бы логической необходимостью и последовательностью она ни стояла перед нами в качестве задачи - диалектична в своих предпосылках. И пока в этой диалектике не могут разобраться, было бы иллюзией брать ее за отправной пункт.
Вот почему две первые группы проблем надо рассматривать пока в качестве самостоятельных, не имеющих отношения к третьей, поскольку именно они привели к современной ситуации в философии истории.
2. Метафизика истории
Многообразие спекулятивных толкований истории не сводится только к философии истории. С них начинается уже мифологическое мышление. Известно древнее верование, будто вначале была «золотая эпоха», райское состояние совершенства, по сравнению с которой все дальнейшее развитие есть лишь продолжающееся ухудшение, и, таким образом, исторический процесс - это одно великое падение. Более поздней является обратная перспектива, в соответствии с которой совершенства и блаженства следует ожидать в далеком будущем, а в процессе мировой истории оптимистически видят восхождение к ним. Следы этих верований мы находим и в греческом мире — не только в платоновской утопии, где очевидна вера в приближающийся образ будущего, но и в произросшей на здраво-реалистической почве теории договора, в том виде, в каком ее сохранил для нас Эпикур.
774 Историкоччмсиологическое видение культуры
В мышлении христианских народов идею восхождения как проникновение и распространение царства Божьего на земле в классической форме запечатлел Августин. Он, таким образом, заложил основополагающую идею телеологического образа истории, образец теорий истории немецкого идеализма.
В противоположность гердеровской идее процесса универсального развития, который еще отчетливо несет в себе форму некоего высшего естественного процесса, у Канта в осторожной критической формулировке пробивается мысль о конечной моральной цели. Правда, движущие силы развития - это не моральные силы, они кроются в «антагонизме» человеческих способностей и интересов, но все же они таковы, что продвигают людей к «гражданскому обществу», к «свободе в условиях действия внешних законов». Здесь телеология конечной цели еще не поднялась до уровня метафизического тезиса. Она еще скрывается за необязательностью «как если бы» - правда, понятой не в качестве голой фикции.
Спекулятивные системы идеализма очень быстро отбрасывают все критические оговорки - как в принципах, так и в проблеме истории. В этом пункте всех опередил Шеллинг со своей «Системой трансцендентального идеализма» (1800). Здесь больше нет , спора о конечной цели; вопрос только в том, как мыслить гарантии | ее реализации в истории. В деянии человека таковые не могут быть ! заложены — не потому, что деяние человека ограничено, и не потому, что ему недостает свободы, а как раз потому, что он свободен. Свобода-то как раз и противоположна всяким гарантиям единой направленности процесса; в сущности она есть свобода творить зло и добро, таким образом, она не может гарантировать по самому своему существу тенденцию к добру. В этом Шеллинг усмотрел доказательство того, что в истории должен господствовать Бог. Лишь необходимость, превышающая всякую свободу и примиряющая ее своим великим предначертанием, может гарантировать реализацию конечной цели. Человек предстает здесь, таким образом, как актер на сцене мировой истории, а Бог — как творец великой драмы.
Но это только начало. Стоило однажды выйти за рамки осторожного, взвешенного размышления — и остановиться уже невозможно. Сочинение Фихте «Основные черты современной эпохи» (1806), которое должно было быть расправой над Просвещением и, несо-; мненно, было таковой для людей вдумчивых, дает периодизацию ! истории, исходя из двух точек зрения - разума и свободы; обе вместе i они составляют конечную цель. В самом начале беспрепятственно господствует разум, но без самосознания и свободы - состояние невинности, явно по образцу мифа о рае. За ним следует эпоха зарождающейся свободы и греховности. Здесь свобода принимает направ
Николай Гартман. Проблема духового бьпмя... 775
ление к отклонению от заповедей разума, потому что она считает их для себя внешним авторитетом, не сознавая того, что они суть и ее заповеди. Развитие происходит в форме открытой борьбы против разума, раскрепощенная свобода празднует кончину всех высших общезначимых смыслов. Эту эпоху Фихте понимает как Просвещение и изображает ее в виде эпохи абсолютной греховности. Но свобода не может существовать как чистая вседозволенность, как нечто снимающее все запреты, т.е. она не может существовать без разума. Она должна, очнувшись однажды, узреть, наконец, что общезначимые смыслы, против которых она восстала, - это ее собственные общезначимые смыслы. Гем самым она открывает свое единство с разумом и должна вернуться к нему, чтобы реализовать свою сущность. Поэтому дальнейший ход мировой истории готовит, по Фихте, начинающуюся эпоху реабилитации и исцеления, у порога которой он видит и свое собственное философское творчество. Пятой и последней эпохой является, как следствие, совершенный синтез того, что изначально в основе было единым, — синтез свободы и разума, золотая эпоха будущего, завершенные реабилитация и исцеление.
Две вещи бросаются в глаза в этой конструкции истории: соединение нисхождения и восхождения и несинхронная реализация обоих компонентов конечной цели, разума и свободы. Благополучное состояние — в начале и в конце, злополучное — в середине. Но последнее состояние есть упадок только по отношению к разуму. Оно суть греховность. Но греховность — это фаза крепнущей свободы. Свобода начинается в фихгевском образе истории с Ничто: в начале есть закрепощенный разум без свободы, в середине — раскрепощенная свобода без разума, и только в конце свобода и разум взаимно находят и возносят друг друга к совершенству. Таким образом, путь свободы в истории есть однозначное восхождение, в то время как путь разума начинается с нисхождения, чтобы затем выйти из состояния упадка. Свобода и разум словно бы описывают различные кривые в одно и тоже время. Они пересекают друг друга и промахиваются, пока в конце концов не встречаются. Для метафизики истории все это не лишено смысла. Здесь лежит начало воззрения, что становление человечества, даже если его толковать идеалистически-телеологически, не может быть понято только из одного-единственного принципа.
# 3. Философия истории Гегеля
Гегелевская философия замкнула собой этот идейный круг, оставив далеко позади односторонности предшественников и превзойдя своим величием все то, что философия сделала в области
776 Ис1орико-с(>циологическ<№ видение кулыуры
истории. Поскольку для наших последующих исследований этот образ истории составляет предмет длительного критического разбора, причем не в одном отношении - и как раз с учетом проблемы духовного бытия, обзор тезисов философии Гегеля здесь просто необходим. Правда, изложенные ниже тезисы — это всего лишь один фрагмент из всего богатства его мыслей и не претендуют на полноту. Они отобраны с учетом того, что последует далее.
1. Идеалистическая метафизика разума у Гегеля переходит в метафизику духа. Носителем исторического процесса является «объективный дух», существо высшего порядка, стоящее над отдельным человеком, всеобщая субстанция - духе присущим ей собственным способом бытия и собственной жизнью. Индивидуальные духи относятся к нему как акциденции. Не они, в он есть в них то подлинное, о котором только и идет речь. Индивиды есть лишь несовершенные выражения его сущности. Они никогда не существуют вне его, будучи целиком им несомы. Они, правда, могут в слепоте своей «отделиться» от него, но «отделившийся дух» обречен на смерть.
2. За этим стоит общий фундаментальный тезис: дух есть все. По Гегелю, он есть также истина всего бездуховного, материального, живого, но только не в своем самобытном обличьи. Он пробуждается в человеке, достигает сознания, но узнает в нем себя еще далеко не совершенно. Как неопознанная общая духовная субстанция он стоит за множеством индивидов. И они черпают из него жизнь, живут в нем.
3. Всеобщая субстанция-дух не только носитель, но и руководитель мирового процесса. Мировое правительство — разум. План хода истории - возвращение разума к самому себе.
4. Сущность разума — это свобода, конечная цель истории, бытие свободы, ее самоосушествление. К этой конечной цели исторический процесс идет сам собой, это мог бы проследить в нем и каждый отдельный человек. Также и в его деянии всякий раз скрывается, оставаясь для него неосознанным, тенденция духа возвратиться к самому себе.
5. Вот почему мировая история — это «прогресс в осознании свободы». Это ее основной внутренний закон. Дух, правда, есть «свободное в себе», но свобода «действительна» лишь тогда, когда тот, кто ее имеет, знает о ней. В противном случае он скорее на самом деле несвободен. Издревле народы были свободны в той мере, в какой они «знали о своей свободе».
6. И все-таки дело обстоит не так, что весь центр тяжести лежит на конечной стадии, и в этом заключается главное отличие гегелевского образа истории от фихтевского: сам процесс есть существенное истории, каждая стадия есть самобытный непреходящий
Николай Гартман. Проблема духового бытия...777 образ духа. Процесс «снимается» лишь в результате, историческое духовное наследие народов — это сохранение всего, что есть в них истинного. В целом процесс и результат должны содержательно совпадать друг с другом. Ибо «истина есть целое».
7. В процессе, понимаемом таким образом, единый «мировой дух» проходит, однако, через множество исторических форм. Но так как он должен раскрыться в них, то он распадается на множество «народных духов». И тем самым он вырабатывает различные «принципы» или основные цели исторического духа. Всякий народный дух имеет свой собственный «принцип», реализовать который в мире -их задача. Мировой процесс есть последовательность народных духов и поэтому как история идей - изменение «принципов» духа.
8. Самоосуществление такого рода «принципа» входит в историческую жизнь народа задолго до осознания принципа. Принцип действует как смутно ощущаемая, внутренне-судьбоносная задача в данном кругу народов определенного времени. Однако осуществление принципа суть самоосуществление народа.
9. Этому соответствует периодичность в развитии одного народного духа в молодости, зрелости и старости. Молодость народа, время суровой борьбы за свое существование и самоутверждение, по Гегелю, — счастливейшая эпоха в его истории. Здесь индивидуум еще совсем скрыт в полубессознательном общем духе; он еще не вышел из него к самостоятельности, чувствует себя целиком членом целого. Здесь народ бессознательно творит из своего принципа. Чем ближе он подходит к зрелости и старости, тем больше творчество переходит в пожинание плодов. Но в наслаждениях теряется сила; индивидуум, выступая на первый план, чувствует себя самостоятельным, тем самым отделяет себя от целого. Это — начало распада. Народу, осуществившему то, что было его задачей, нечего больше делать в этом мире. Он мертвеет. По-настоящему пожинают его плоды лишь последующие народы, которые несут в мир новый принцип.
10. Средства самоосуществления духа — личные страсти индивидов. Разум обслуживает ими себя, обманывая в них людей с их собственной помощью: стремление к личным целям всякий раз приводит в движение и помогает осуществить нечто иное - реализовать общий принцип. Такова «хитрость разума» в истории. В этой форме, по Гегелю, разум правит в истории как провидение; этим у него обусловлено и своеобразное место свободы. Человек служит принципу, не сознавая этого. Но его моральность заключается именно в том, чтобы, также и зная это, служить принципу ради него самого по свободному самоопределению. Так его свобода входит в предопределение.
778 Историко-сошютогическое видение кулыуры
11. Ни каждый в отдельности, ни толпа в целом не знают, чего они, собственно, «хотят» добиться своими желаниями и стремлениями. Но все великое в истории происходит там, где оно входит в сознание и является целью свободного самопожертвования личности. Поэтому важно, чтобы толпе говорили, чего она «в действительности хочет». Это - задача и дело исторически великих индивидуумов. Великие люди истории - это не те, которые являются перед толпой с собственными идеями и влекут ее к тому, чего она не «хочет», а те, которые сумеют сказать толпе, чего же она «хочет в действительности». Одним усилием воли этого не сделать, точно так же, как свободой без сознания: надо знать, чего хочешь. Индивид вырастает до исторической величины лишь тогда, когда поднимается до осознания общего духа. Тем самым он дает ему его «бытие-в-себе».
12. Поэтому иллюзорно всякое насильственное улучшательство мира, иллюзорны призывы к тому, «как должно быть», все неорганические перевороты, всякое всезнайство отдельных лиц или групп, всякая спроектированная идеология. Реально-исторически существует лишь постоянный и внутренне необходимый ход объективного духа. Опережать его — заблуждение. Для каждого' времени истинно нечто определенное и всякий раз иное — то, что становится в ходе развития объективного духа, т.е. соответствует его моментному историческому продвижению. Точно так же ложен и всякий пессимизм: добро не привязано к конечной цели, оно всегда уже тут, всегда осуществляется. Только тот не в состоянии видеть его, кто не принимает в нем участия. Поэтому он хочет мнимо-«лучшего». Но его уже опередила сама история; именно она критикует, поскольку заставляет пасть то, что не способно к изменению. Она в тоже время есть не что иное, как мировой суд.
4. Материалистическая философия истории
Излишне подвергать гегелевские тезисы критике. Их часто критикуют и всегда с одинаковым эффектом. Легко показать, где и как они спекулятивно переходят пределы прочности; но этим мало чего добиваются, ибо как бы потом ни старались охватить всего богатства обобщенных ими феноменов истории, для этого недоставало масштабных точек зрения. Бесспорно, что они обоснованы метафизически и что всякая критика касается лишь следствий их основ. В данной форме ни один современный человек их не примет. Но, несмотря на это, он сразу чувствует, что просто так покончить с ними было бы неправильно. Здесь дело обстоит так
Николай 1 арчман. I [роблема духового бытии... 779
же, как всегда бывает в философии: смысл того, что легко опровергается, заключается не в опровергаемом.
Поэтому задачей дальнейшего исследования будет попытка выработать по отношению к этим тезисам не только критическую, но и оценочную позицию. Не стоит забегать вперед и говорить о том, насколько эта большая позитивная задача до сих пор еще далека от решения (ср. ниже ч. И, гл. 18). Пока достаточно придерживаться конструкции как таковой, отвлекаясь от какой бы то ни было оценки образа истории. В связи с этим поучительно сравнить гегелевскую метафизику истории с ее противоположным, «материалистическим», эквивалентом.
Последнюю Маркс создал в сознательном противопоставлении Гегелю. В основе своей — это не теория истории, а теория общества, но она с такой силой врывается в историческое измерение, что получается столь же конструктивный образ истории. Противоположность же выражается в том, что она исходит не из сферы духа, а из сферы потребностей и хозяйства.
По Марксу, решающим в истории всегда являются экономические отношения, а в частности — производственные. Они решают дело не только на рынке, бирже, в торговой политике, не только в поддержании жизни и внешнем благополучии, но тем более - в духовных течениях и в их смене. В основе всей человеческой деятельности и развитии человеческих отношений лежат постоянные жизненные потребности. Человек должен влачить свое существование. Он должен приобретать то, что ему требуется, должен «производить».
Это приобретение, в свою очередь, зависит от сил и средств труда. Орудие труда, используемая сила природы, собственная рабочая сила - вот что является решающим. Форма производства, таким образом, определяется средствами производства. Простым инструментом может обладать каждый, машинами - только капиталист. Появление машины как средства производства навязывает тому, кто с ней работает, такое производственное отношение, которое в корне перестраивает всю его жизнь. Форма производства стала другой, а вместе с ней и форма жизни.
Форма производства создает, со своей стороны, определенную форму общества. Она создает целые классы, накладывает на них свой отпечаток, задает направленность их интересов и социальное отношение к другим классам, обостряет противоречия и порождает «классовую борьбу». Так она решительно наводит порядок в социальной, политической, духовной жизни. Ибо каждый вид общественных отношений выражается в духовных тенденциях, идеях, оценках. Но это означает: форма общества, в свою очередь, определяет «идеологию».
780 Иегорико-сощцуми-ичестсое ннденнс ку;п»пры
Следствием этой трехступенчатой зависимости является, далее, то, что понятие идеологии неслыханно расширяется и, наконец, охватывает все многообразие духовного мира со всеми его особыми сферами: моралью, знанием, образованием, искусством, мировоззрением, религией. На историческом разнообразии отношений собственности и трудовых отношений возвышается в полной зависимости от него столь же многообразно варьирующаяся надстройка воззрений, способов мышления, оценок, предрассудков, иллюзий. Каждый тип класса, каждая социальная форма жизни предстают в этом аспекте как необходимо сопровождаемые эпифеноменом особого, соответствующего им, духа (Маркс говорит «сознания», но подразумевает целый тип и направление духовной жизни). Не дух, таким образом, определяет историческое бытие, но исторически ставшее бытие — в конечном счете экономическое - определяет дух. И не дух направляет историю, а его грубо направляют в ней экономические силы.
Правда, и он должен обратно воздействовать на них. Идеология оказывается также историческим фактором, который хотя и вторичен, но, однажды возникнув, не лишен значительной движущей силы. У Маркса это весьма пластично получается в его теории классовой борьбы, поскольку последняя ведется от имени специфической идеологии. Энгельс и более поздние последователи, развивавшие данную теорию, в этом моменте пошли еще дальше, вплоть до утверждения своего рода взаимодействия между идеологией и экономикой или их взаимного приспособления. Но тем самым вовсе не снято фундаментальное отношение, каким его начертал Маркс, а именно, что вся духовная жизнь была когда-то однажды сформирована экономическими силами — все вновь формирующееся происходит из того же источника.
Эти тезисы также не будут здесь критиковаться. Они и без того дискутируются в наше время больше, чем какие-либо другие. Несомненно, последнее слово о них еще не сказано. Их кризис, судя по всему, заключен не столько в круге философе ко-исторических, сколько социологических и социально-политических проблем. Последние, однако, затрагивают вещи, слишком близкие к современности и слишком актуальные. Что касается нашей проблемы, то все фундаментальное в ней находится в другой плоскости. Тем самым тезисы выводят нас к иной перспективе.
5. Принципиально ошибочна»! ситуация в философии истории
Если сопоставить философии истории Гегеля и Маркса, то сначала бросается в глаза их противоположность. Это почти контрадикторная противоположность позиций, в которой, кажется, одна теория шаг за шагом отрицает то, что утверждает другая. Поскольку, как этого следует ожидать, в каждой есть зерно истины, то следует сделать вывод, что ошибки обеих сторон заключаются в односторонности исходных пунктов; и поскольку последние у обеих сторон — это известные феномены, которые обнаруживают себя во все времена, то далее следует сделать вывод, что обе теории имеют перед глазами лишь один осколок совокупного феномена истории.
Между тем здесь не все так просто, как кажется. Логика учит: где противоположность приближается к контрадикторному отношению, там в его основе должен лежать общий genus1*. В случае взаимопротиворечащих теорий таковой может лежать только в общности неартикулированной предпосылки. И если она окажется ошибочной, то тем самым выяснится их общая принципиальная ошибка.
Здесь надо еще раз остановиться. Спрашивается: где же то общее и фундаментальное, внутри которого теории противоречат друг другу? Видимо, его следует искать не внутри декларированных тезисов, но, как уже говорилось, где-то за ними как нечто недосказанное. Необходимо, таким образом, рассмотреть обе перспективы в их логической структуре. Метафизическая предпосылка выдаст себя в структурной форме.
То, что здесь обнаруживается, есть нечто совершенно простое, даже наипростейшее. Обе теории предполагают однозначную зависимость между факторами исторического процесса. При этом речь идет не о временной зависимости в процессе - она могла бы быть и гомогенной в однородном, — а о расположенной в другом измерении, самой по себе безвременной зависимости гетерогенных групп феноменов в историческом процессе; в конечном счете речь идет об отношении зависимости между бездуховным и духовным бытием. Поэтому нет спора о том, что в совокупном содержании одной исторической фазы оба бытия всегда вместе и находятся в теснейшей связи. Спрашивается только, определяет ли фаза духовного развития «материальную» (экономически-общественную) или последняя — духовную.
Здесь-то и находится то общее, что объединяет обе теории. И только исходя из него, можно более точно уяснить их противоположность. Обе пытаются понять целостность историческо
782 Историко-со»1иологическое видение культуры
го бытия, исходя из одной-единственной группы феноменов. Если обозначить внутри этой целостности духовное бытие как высший слой, экономическое - как низший, то, говоря языком формул, можно сказать: Гегель пытается концептуализировать целое «сверху», Маркс — «снизу». Но оба пытаются понять его исключительно с одного конца, только с противоположного. Гегель не допускает, чтобы наряду с духом и его самоосуществлением в историческое развитие могли самостоятельно вмешиваться экономические факторы; Маркс также не предусматривает места для изначально духовных тенденций наряду с продуктами форм производства. Таким образом, их позиции совпадают в том, что они оба, признавая значимость односторонней, необратимой зависимости, с самого начала исключают взаимопроникновение самостоятельных детерминаций различных слоев. Они оба воспринимают историческое бытие чисто монистически, допускают лишь один источник определяющих сил, будто бы уже решено, что наряду с ним не могут существовать многообразные, различные, совершенно автономные и взаимоуравновешивающие источники.
Таким образом, оба они делают одну и туже ошибку, только с обратным знаком. Это можно выразить иначе: они оба поступают так, как будто надлежит исходить из альтернативы, что историческое бытие может определяться либо только «сверху», либо только «снизу». Они не видят того, что оба эти случая вовсе не составляют альтернативу, что дизъюнкция не полна, что могут быть еще иные формы определенности. В одном историческом потоке могут действовать сообща не только гетерогенные детерминации — враждуя, взаимно ограничивая или интенсифицируя друг друга, - но, кроме полюсно расположенных, могут быть еще иные слои исторического бытия и они точно так же могут вносить самобытную и самостоятельную определенность в целостность исторического процесса. Например, общественная форма, которая как таковая не есть ни экономическое, ни духовное образование, наряду со всеми внешними факторами, которые действуют в ней определяющим образом сверху или снизу, могла бы, в свою очередь, также иметь собственный закон, который влиял бы на целое истории как самостоятельная детерминанта.
То, что противоположные теории в их односторонности имеют общего, как раз и составляет проблемную ситуацию в философии истории — сегодня уже не новую, но отнюдь не преодоленную. Она указывает на типичную ошибку в самой постановке проблемы: проблему берут с двух сторон, но ни с одной из них ею не овладевают.
6. Общий метафизический аспект проблемной ситуации
О том, чем чревата эта ситуация, лучше всего свидетельствует тот факт, что она возвращается к нам в виде бесчисленных проблем. Наиболее известна проблема метафизики органического. До сегодняшнего дня в ней борются две противоположные теории — механистическая и виталистическая. Одна объясняет все «снизу», другая — «сверху». Каузальный принцип был и остается категорией низшего слоя бытия, неорганической природы; телеология же, - а всякий витализм, явно или скрытно, оперирует ей - была и остается категорией высшего слоя бытия, сознания. Что организм мог бы иметь и собственный принцип детерминации, который противопоставлялся бы обеим как самостоятельный, это третья, явно напрашивающаяся возможность, но ей далеко до господствующих, давно укоренившихся предрассудков, несмотря на то, что со стороны эмпирии тому есть подтверждения.
Мало чем отличается ситуация с антропологической проблемой, которая сегодня вновь занимает именитые головы. Человек-существо многослойное, по крайней мере духовное и физическое сразу. Проще всего было бы понять его, исходя из такой слоистой структуры. Вместо этого мы видим, как снова и снова возникают теории, которые хотят понять его либо только исходя из духа (скажем, из этоса и свободы), либо только из природного начала. К числу последних надо отнести и те, которые оперируют средствами естественно-научно ориентированной психологии.
Вообще, можно сказать, что в метафизике господствует тенденция понимать комплексные образования односторонне-монистически, сверху или снизу - таким образом, с помощью категорий, которые не являются подлинными категориями этих образований, в лучшем случае составляют в них лишь частичные моменты и не могут открыть нам своеобразия целого. Здесь играет свою роль древний предрассудок, будто объяснение из «одного принципа» - лучшее, а простота — печать истины. Пугаются любого рода множественности принципов, боятся плюрализма уже в его простейшей форме, форме дуализма, о которой в большинстве случаев вообще не рефлектируют. Итак, в метафизике мы имеем два основных типа мирообъясне-ния, которые противостоят друг другу почти без опосредствовании, часто прямо контрадикторно. Существует мирообъяснение «сверху» и «снизу*. Одно держится за разум, дух, идеи, Бога, другое - за материю, законы природы, каузальность. Одно одухотворяет материю и природу, другое низводит дух до придатка материи.
Длинный ряд философских «измов» отчетливо показывает дуальность этих типов. Изначальная ошибка мстит расколотостью и
Исгорико-социоло! нческое видение культуры непримиримостью способов мышления. Избежать дуализма, без которого пытаются обойтись в обоих лагерях, таким образом не удается. Он возвращается в двойственности самих лагерей. Ситуация, в которой находится метафизика, — это характерная ситуация ошибки. Ошибка же обеих сторон в принципе одна и та же.
7. Онтологическое разъяснение положения вещей
Обнаружить принципиальную ошибку и исправить ее — не одно и то же. В философии настоящая беспомощность часто начинается только после обнаружения ошибки. В данном случае этого сказать нельзя. Совокупный феномен «мир», каким бы непроницаемым он ни казался в деталях, уже при поверхностном взгляде, несомненно, демонстрирует характер слоистого строения. Если последний удастся осмыслить по крайней мере на уровне постановки проблемы, то ситуация ошибки будет устранена.
Чтобы понять многослойность, достаточно придерживаться того, что общеизвестно. Никто не сомневается, что органическая жизнь существенно отличается от физически-материального бытия. Но она существует не независимо от последнего, она содержит его в себе, покоится на нем; законы физического распространяются далеко в глубь организма. Это не мешает организму иметь кроме них не сводимую к ним автономию. Последняя, в свою очередь, преобразует низшие общефизические законы.
Аналогично обстоит дело с отношением душевного бытия к органической жизни. Душевное, как показывают феномены сознания, не тождественно органическому; ясно, что оно образует собственный слой бытия над ним. Но всюду, где мы с ним сталкиваемся, оно находится в зависимости от него как бытие несомое. По крайней мере в действительном мире мы не знаем душевной жизни, которая не имела бы в качестве носителя организм. Если сделать из этого вывод, что не существует никаких самобытных определенностей и законов, которые бы не сводились к определенности и законам органического, то этот феномен остался бы непознанным и мы бы впали в «объяснение снизу». Психология больше не сомневается в том, что здесь господствует специфическая душевная автономия; правда, мы еще мало о ней знаем (психология ведь молодая наука), но все, что мы о ней узнаем, убедительно свидетельствует о ее своеобразии, самостоятельности, нередуцируемости. Душевное бытие, таким образом, — это хотя и несомое бытие, но при всей зависимости вполне автономное в своем своеобразии.
Николаи Га pi май. Проблема духового бытия... 785
Наконец, после того как психологизм был преодолен, стало широко известным фактом, что и сфера духовного бытия не идентична сфере душевного бытия и его закономерностям. Ни логические законы, ни самобытность познания и знания не сводятся к психологии. В еще меньшей степени - сферы воли и действия, ценностного отношения, права, этоса, религии, искусства. Эти области возвышаются хотя бы уже по своему феноменальному содержанию над царством психических феноменов. В качестве духовной жизни они образуют собственный бытийный слой более высокого порядка, с богатством и многообразием которого низшие слои бытия не могут даже сравниться. Но и здесь сохраняет силу то же самое отношение к низшему бытию. Дух парит не в воздухе, мы знаем его только как несомую духовную жизнь — несомую душевным бытием, причем не так, как последняя несома бытием органическим и, далее, материальным. Итак, здесь (и здесь тем более) также речь идет об автономии высшего бытия по отношению к низшему при всей зависимости от него.
8. Категориальное многообразие и закономерность зависимости
Посмотрим, что из себя представляет такое слоистое строение. Отношения слоев бытия можно свести с трем пунктам.
I. Каждый слой имеет свои собственные принципы, законы или категории. Своеобразие бытия одного слоя никогда нельзя понять посредством категорий другого — ни высшего, ибо они не адекватны, ни низшего, ибо они недостаточны. Царство категорий устроено не монистически; объяснение всего мира из одного принципа или группы принципов - вещь невозможная. Там, где оно все-таки предпринимается, оно ведет к насилию над категориальной спецификой. Царство категорий само несет слоистое строение. Его многообразие имеет ту же порядковую величину, что и слои бытия.
2. В слоистом строении мира высший слой всегда несом низшим. Поэтому он имеет не самостоятельное бытие, а лишь «бытие, покоящееся на». Это отношение можно понимать как проникающую зависимость высшего от низшего: без материальной природы нет никакой жизни, без жизни нет никакого сознания, без сознания нет никакого духовного мира. Направление этой зависимости невозможно обратить вспять; нельзя сказать: без жизни нет никакой материи, без сознания нет никакой жизни и т.д., факты говорят против. Этому соответствует направление зависимости в царстве категорий: низшие категории возвращаются в высшие как
786
Историко-социологичссксм? видение КУЛЬТурЫ
элементы; высшие, таким образом, находятся в зависимости от низших, не в силах разорвать их цепь, они могут лишь преобразовать или перестроить ее. Низшие категории - сильнейшие. Этот «закон силы» есть основной закон категориальной зависимости.
3. Зависимость высшего слоя бытия — не помеха для его автономии. Низший слой для него - только несущая почва, condicio sine qua non2*. Высший слой обладает по отношению к низшему неограниченным диапазоном формообразования и своеобразия. Так, органическое хотя и несомо материальным, но богатство форм и чудеса жизни происходят не из материального, а добавляются к нему как нечто новое. Точно так же душевное возвышается как нечто новое над органическим, духовное - над душевным. Это новое, возникающее в каждом слое, есть не что иное, как самостоятельность или «свобода» высших категорий по отношению к низшим. Это - та свобода, которая ограничивает зависимость в ее естественной мере и таким образом сосуществует в ней в единстве взаимопроникающего категориального отношения слоев. В сочетании с предыдущим закон этого единства можно сформулировать так: низшие категории хотя и более «сильны», однако высшие более «свободны» по отношению к ним1.
Закон силы и закон свободы образуют вместе нерасторжимое, совершенно единое отношение; в принципе они образуют одну-единственную категориальную закономерность зависимости, которая господствует в слоистом царстве мира, начиная с его низов и кончая его высотами. Эта закономерность не выражает собой ничего, кроме синтеза зависимости и автономии. С зависимостью считаются все философские теории, но с самостоятельностью в зависимости они не считаются. А именно потому, что они считаются только с тотальной зависимостью. Но как раз тотальной зависимости в ступенчатом царстве бытийных слоев и не существует. Если бы она была в форме зависимости «сверху», то этому царству не было бы нужды быть таким, каково оно есть; ибо высшие категории несравненно богаче, и если бы вся полнота их определения распространилась на низшее бытие, то они не только определили бы его в достаточной степени, но и сверх того, так что в действительности оно находилось бы от них в тотальной зависимости. Но они не распространяются, они - «более слабые» категории, низшее бытие полностью определяется самим собой. Нет никакой зависимости «сверху», есть лишь зависимость «снизу». Но последняя не может быть тотальной, ибо содержательная полнота высшего бытия далеко превосходит содержательную полноту низшего и отнюдь не покрывается низшими категориями, даже там, где они по-прежнему остаются в силе. Таким образом, у высшего слоя бытия всегда есть широкий диапазон авто
Николай Гартман. Проблема духового бытия... 787
номного категориального формирования. Низшие категории хотя и более сильны, зато более бедны и элементарны.
Очевидно, что оба закона препятствуют всякой односторонней дедукции, всякому монистическому мирообъяснению как «сверху», так и «снизу»; тем самым они кладут конец всякому метафизическому конструированию «измов». Вместо объяснения «сверху» появляется закон силы, поскольку он допускает зависимость только высшего от низшего. А объяснению «снизу» портит игру закон свободы, поскольку он обнаруживает неспособность низших категорий давать полноту формообразования высшим. Правда, можно произвольно утверждать, что существует любого рода зависимость. Нов явлениях обнаруживается лишь ограниченная зависимость. В философии же следует придерживаться только того, что подтверждают явления.
9. Применение к философско-исторической проблеме
Что значимо для «мира», то значимо и для истории, которая в нем разыгрывается. В отношении нее это значимо в еще более тесном смысле, чем в отношении органической жизни или еще какого-либо отдельного слоя сущего. Ибо история подобна миру тем, что имеет многослойное строение. Она суть процесс, в котором действуют факторы всех слоев бытия; таким образом, процесс, который — и вообще и в каждом отдельном случае — может быть понят только как совокупная результирующая гетерогенных сил, длительное время сталкивающихся между собой.
История - это в такой же мере экономический, как и духовный процесс, в такой же мере витальная, как и культурная жизнь народов. Географические и климатические условия сказываются в ней не меньше, чем идеи, оценки, заблуждения, мировоззренческие пристрастия; технические средства - не меньше, чем массово-психологические внушения; «случайное» стечение обстоятельств - не меньше, чем планомерное стремление и ввод спонтанных энергий.
Этот взгляд прост и, конечно, не нов. Он всюду молчаливо сопровождал трезвую работу историка там, где она приближалась к смыслу свое^ задачи. В значительно меньшей степени он актуален для философско-исторических теорий. Дело дошло до того, что по отношению к последним он приобретает ниспровергающее значение.
Лучше всего это видно на примере обеих выдающихся теорий истории XIX в., противоположность которых была рассмотрена выше. Гегелевская метафизика истории объясняет исторические
788 Историко-социолоитческгм* видение культуры
процессы не только односторонне, исходя из духа — она скорее предполагает, что эти процессы в принципе есть не что иное, как духовные процессы. По крайней мере низшие слои исторически происходящего почти полностью исчезают под слоями духовной жизни; если они и включены в рассмотрение, то опять-таки оцениваются по тому, как сказываются в них духовные факторы.
То же самое относится и к «материалистической» метафизике истории. Она не только старается понять все исторически происходящее исходя из экономических отношений; она скорее молчаливо предполагает, что все происходящие события есть в принципе события экономической сферы. Общественные формы и идеологии полностью включены в эту сферу, являя себя в ней лишь как выражения, придатки, эпифеномены. Правда, в столь грубой форме такого одностороннего подхода нет ни у Маркса, ни у его наиболее известных последователей. Но вся осторожность мудрейших мало что дает, пока в самой теории заложена тенденция к содержательному заострению односторонности, а тенденция, возникнув однажды, сама собой беспрепятственно растекается в полупонимании широкого круга адептов.
По крайней мере, можно сказать, что в обоих случаях мы имеем дело с односторонним акцентом на одном слое исторического бытия, что обесценивает и как бы лишает прав другие слои. Сконструированная тотальная зависимость ведет к тому, что центр тяжести перекладывают на нечто мнимо независимое. Гегель не только преступает закон силы, а Маркс закон свободы — они оба елце и сужают реальное богатство исторического бытия.
Всякая односторонняя конструкция оказывается тем самым заблуждением. Ситуация ошибки, в какой находятся две противоречащие друг другу7 теории, зиждется здесь, как и в случае с картиной мира, на общем предрассудке; и тут и там это — монистический предрассудок. Только с его устранением открывается метод, адекватный целостному феномену.
10. Следствия для возможного понимания исторического н|м>цесса
С образом истории дело обстоит так же, как и с картиной мира: можно лишь в принципе показать, как исправить ошибку; но решить задачу, которая из этого следует, сразу невозможно. Речь идет лишь о том, чтобы извлечь уроки из вывода о слоистом характере исторического бытия. Их можно сформулировать в следующих пунктах.
Николай Гартман. Проблема духового бытия...789
1. Многослойность исторического бытия обнаруживает такое же фундаментальное отношение, как и в мире, в котором оно разворачивается. Выясняется, что его составляют те же самые слои. Таким образом, категориальная закономерность зависимости должна быть в принципе той же самой, хотя у нее и могут быть свои особенности. Низшие слои должны быть и здесь «носящими», высшие - «несомыми», но в то же время и автономными по отношению к ним. Из этого следует, что особые факторы каждого слоя в их своеобразии невыводимы и могут быть извлечены только из соответствующего круга феноменов.
2. Полная структура или форма исторического процесса должна быть, соответственно, комплексной. В принципе в нее может войти все, что составляет бытийное многообразие мира. И поскольку оно в нее входит, постольку все эти моменты суть существенные и самостоятельные факторы.
3. Задача, которая отсюда вырастает, необозрима и во всяком случае невыполнима в пределах человеческих возможностей. Основная философско-историческая проблема разделяет тем самым характер и судьбу большинства фундаментальных философских проблем: она не разрешима полностью, содержит в себе иррациональный остаток и постольку есть подлинно метафизическая проблема.
4. В то же время сама постановка вопроса направляется тем самым в другое русло. Идеалистическая метафизика истории пыталась дать всеохватывающую конструкцию процесса; она включала в нее настоящее и предсказывала будущее (Фихте). Для этого требовалось знание конечной цели, истолкование происходящего как телеологически определенного осуществления и исполнения смысла. Все это оказалось несостоятельным перед лицом продвинувшейся исторической науки. После этого опыта для философии истории не так-то легко вновь думать о том, чтобы спроектировать течение процесса. Тем самым она отступается от вопроса о развитии во времени и подходит к предварительному вопросу, расположенному в другом измерении. Это измерение лежит поперек временности, отношения, которые в нем господствуют, - это категориальные отношения. И поскольку это отношения, которые связывают различные бытийные слои исторического многообразия, то речь идет об особых формах взаимопроникновения гетерогенных категорий. Исследование, которое здесь необходимо, - это онтологическое исследование.
5. Наконец, с этим связан дальнейший вопрос, который лежит в том же измерении и с тем же правом должен считаться предварительным: вопрос о носителе истории, точнее, о структуре того образования, которое «имеет историю». Таковым мог бы быть просто
790 Исюрико-сощкккн ическое видение кулыуры
человек или нечто, лежащее вне его: сообщество, народ, человечество, дух и его формы. Этот вопрос имеет то преимущество, что по существу его можно рассматривать феноменологически. Все названные образования доступны анализу, некоторые из них (как, например, сообщество, народ) неоднократно подвергались анализу.
Оба последних вопроса должны быть в первую очередь актуальны с точки зрения философской проблемы истории - не вообще и не всегда, но в данной проблемной ситуации. Первый из них (п,4) заглядывает намного дальше, содержательно более сложен и велик, метафизически более возвышен. Второй вопрос (п. 5) для него всего лишь прелюдия: он, напротив, непосредственно доступен. Предмет, который он затрагивает, допускает любые временные ограничения, а каждое частичное исследование, проводимое в этой области, доставляет кусочек необходимого фундамента для обсуждения онтологически-категориального вопроса.
Здесь же находится пункт, с которого начинаются исследования данной книги. Они выбирают из всего богатства исторического бытия только духовное бытие. Они, таким образом, начинаются в том пункте, в котором историческое бытие в принципе отличается от внеисторического, но не претендует на то, чтобы исчерпать его в этом его отличии. О весомости не-духовных факторов в историческом процессе в этих исследованиях не может и не должно быть сказано ничего решающего. Они, стало быть, принципиально остаются по эту сторону собственно метафизико-исторических вопросов; не для того, чтобы выделить один из них, а для того, чтобы сначала можно было оценить, какой из них доступен обсуждению и с чего оно могло бы начаться. Вот почему — это не собственно философско-исторические исследования, несмотря на то что они постоянно имеют дело с историчностью духовного бытия, но всего лишь предварительные исследования о возможном обосновании философии истории и наук о духе.
11. Влияние следствий на проблемы метафизики истории
Насколько отход к предварительному вопросу уже одной своей установкой влияет на отношение к метафизическим проблемам истории, можно представить себе до всякого исследования. А именно, эти проблемы, если исходить из новой установки, со всей очевидностью делятся надоступные и недоступные. Поясним это на некоторых примерах.
К недоступным вопросам относятся следующие. Является ли история чем-то происходящим слепо, как естественный про-
Николай Гартман. Проблема духового бытия...791 цесс, или она целенаправлена? Есть ли в ней вообще тенденция к чему-либо, которая могла бы ее определить? Царит ли в ней необходимость или «случай»? Играет ли в ней человек со своей волей определяющую роль? Обладает ли он вообще свободой определить историю? Или в истории существует какой-либо другой определяющий разум, который детерминирует ее как бы поверх его головы (как учили идеалисты)? Подвержена ли, далее, история ценностному определению? Есть ли она осуществление чего-то, сущность чего в ней заложена, но чье наличное бытие лежит вне ее; или она есть нечто бессмысленно происходящее? Или она, по крайней мере, ведет вверх, есть процесс возвышения?
Искать ответ на такие вопросы — значит выйти далеко за рамки феноменов. Это метафизические вопросы истории в самом узком смысле. Это как раз такие вопросы, которые с переключением установки на феноменологические вопросы следует отложить в сторону и как бы отодвинуть на второй план. Это вовсе не означает, что к ним не могло бы быть других подходов; и если таковые когда-нибудь будут открыты, то найдутся, естественно, и возможности их решения. Но до сих пор к ним мог привести только очень длинный путь - такой путь, который, во всяком случае, нельзя пройти без тщательного разбора названных выше предварительных вопросов. Метафизика истории, которая в сегодняшней проблемной ситуации хотела бы его сократить или вовсе перескочить, т.е. хотела бы прямо начать с вопросов детерминации, телеологии или разума в истории, была бы заведомо обречена на провал. Конечно, в любой момент можно легко создать образы истории такого сорта — и оптимистические и пессимистические, — но дискутировать о них бессмысленно, это — пустые спекуляции, карточные домики.
Иначе обстоит дело со второй группой вопросов, которые близки к этим, не менее фундаментальны, но и не менее претенциозны. Является ли история историей одних лишь индивидов или историей общностей более высокого порядка, историей коллективов? А может быть, она является историей конкретно-всеобщего, которое есть нечто большее, чем просто коллективы? Носят ли исторически меняющиеся формы хозяйственной, политической, духовной жизни коллективный характер или они представляют собой нечто иное — то, что задает им живое сообщество как их форму? Существуют ли повторы, однообразие, закономерности в историческом течении событий или в истории все абсолютно уникально и однократно? Далее, происходит ли в истории все как процесс временндй или же в ней существует и нечто сверхвременнбе? И та ли это временность, что и в природе? Является ли вообще различие между исторически происходящим и
792 Историко-социапогическое видение кулыуры
неисторически происходящим различием самой временности или только различием в характере происходящего в одно и то же время? Наконец, обусловлена ли история историческим сознанием и в какой мере? А поскольку историческое сознание само включено в историю, то обусловлено оно или определяет течение истории, в свою очередь, как фактор? Или здесь имеет место взаимодействие? Какую форму оно принимает?
На эти вопросы тоже сразу не ответишь, и структурный анализ также не ведет прямо к их решению. Но с его помощью здесь можно планомерно выработать какое-либо решение. Ибо эти вопросы не переходят границ исторического опыта, при всей своей принципиальности они остаются близки историческим феноменам. Только нельзя с них начинать, здесь нужен долгий путь предварительного исследования, для которого потребуется работа всей жизни.
Так, уже в ходе феноменологического анализа духовного бытия, который составляет лишь часть предварительной работы, могло бы выявиться множество указаний на то, как подходить к решению этих проблем. Да, многое в них наводит на мысль схватить решение голыми руками, и только достаточно сдержанная критическая установка может предохранить от поспешных шагов. К примеру, уже сейчас можно разработать проблему целостных духовных образований во всех областях истории, которые хотя и несомы коллективом индивидов, но не идентичны ему, а имеют свою структуру и способ исторического бытия. Разработать можно, далее, проблему их отношения как к индивидам, так и к коллективу; при этом сталкиваешься со значительной степенью их автономности. Насколько, однако, последнюю можно истолковать как закономерность исторического процесса - это совсем другой вопрос, который вовсе не подлежит ответу в той же мере. Ибо как раз эти духовные целостности оказываются повсюду в свою очередь чем-то исторически уникальным, по отношению к чему аналогии всегда остаются чем-то внешним. Более определенны указания в том, что касается отношения к временности. Они однозначно учат, что специфику исторической подвижности следует искать не во времени как таковом, а в структуре движения во времени; что часто предполагаемые и защищаемые от нападок критики элементы сверхвременного в истории могут быть при ближайшем рассмотрении сведены к минимуму, который даже не принадлежит собственно исторической реальности. Наконец, наиболее плодотворным мог бы стать вклад в выяснение места исторического сознания в истории. И в этом пункте результат исследования непосредственно актуален, так как касается проблемы историзма и его преодоления, которая тяжким бременем легла на наше время.
Николай Гартман. Проблема духовою бытия...793
Эта перспектива представляет собой лишь предварительную ориентировку. Она должна оправдать себя только в самом исследовании. Между тем в рамках общей ситуации с проблемой истории она затрагивает лишь одну сторону - хотя она и чрезвычайно весома, но отнюдь не составляет целого. Другой стороной является проблема метода.
12. Логика истории и образование ее понятий
Если от исторического бытия перейти к историческому познанию, то из солнечного света реальности вступаешь в тень рефлексии. Своеобразие всех вопросов критики в том, что от предмета познания они обращаются к самому этому познанию. Так сделала кантовская критика, правда, только с познанием природы. Возникновение наук о духе и актуализация их внутренних методологических трудностей повлекли за собой как следствие критику исторического разума. После крушения великих конструкций метафизики-истории и не могло быть ничего другого, кроме того, что было обещано самой великой из них. В самом деле - кантовская критика, насколько простиралось ее влияние, дольше всех оплодотворяла теоретическую философию. Казалось, можно было надеяться, что ее распространение на историческое познание поставит его на новый фундамент.
Проблема назрела в пору расцвета неокантианства. В 1894 г. Виндельбанд выступил с идеей различения «номотетических» и «идиографических» наук. Последние были науками о духе. Они радикально отличались от естественных наук тем, что исходили не из всеобщего, не из законов действительного, а из отдельного случая как такового, из происшедшего единожды и в своем роде уникального. То, над чем работает историк, это всегда нечто индивидуальное, все равно, идет ли речь о личностях, решениях, деяниях или о народах, событиях, войнах, всякого рода процессах развития.
Здесь возникает проблема, более детальной разработкой которой мы обязаны Риккерту. Наука движется посредством образования понятий. По своей природе понятия есть всеобщие образования; по отношению к экстенсивно и интенсивно бесконечной действительности они всегда лишь аббревиатуры. В законополагающих науках они - в своей родной стихии, так как законы сами по себе есть всеобщности, в которых отвлекаются от содержательного богатства конкретного случая. Естественно-науч ное образование понятий представляет в своем роде образец, но его
794 Исгорико-сошккк)! ическое видение культуры
нельзя перенести на историю как предметную область познания. Здесь его граница. Индивидуальный предмет познания — там, где он должен быть понят строго как таковой, — не выносит никакого обобщения. Можно было бы добавить: даже если бы в истории закономерности господствовали не в меньшей мере, чем в природе, то отдельный случай все равно бы не укладывался в понятия закона. Он есть и в природе, только естествознание безразлично к нему, его интересует закон. Однако историческую науку интересует отдельное как таковое.
Что здесь, собственно, было бы нужно, так это индивидуальные понятия. Но это как раз и невозможно. Понятия по природе своей всеобщи. Всякое понятийное понимание идет путем аналогии. Это всегда понимание «через посредство» чего-то, что для этого уже надо иметь. Там, где «чистые понятия разума», «аналогии опыта» предзаданы, там понятийное понимание идет своим накатанным путем. Там, где каждый предмет есть нечто единственное и где он должен быть понят в этой единственности, там понятийное понимание отказывает.
Здесь кроются основные трудности идиографической науки. Можно, правда, возразить, что понятиям об индивидуальном вовсе не требуется быть индивидуальными понятиями. Можно также вместе с Зиммелем допускать мысль о существовании «индивидуальных законов» в истории и таким образом искать своего рода континуальность законополагающей науки. Но ни то, ни другое совершенно не годится, если попытаться методологически применить это к истории. Методы нельзя конструировать как правила счета в точных науках. Единственный путь, по которому, как выяснилось, можно идти, избрал Дильтей. Он объединил идею чисто описательной исторической науки с идеей «понимания» (das Verst ehen) в противовес «понятийному пониманию» (das Begreifen), т.е. предложил метод, в котором понятие означает всего лишь средство для взаимопонимания, неизбежное зло науки, переместив тем самым центр тяжести с образования понятий на интуитивное понимание, которое во многих отношениях приближается к художественному созерцанию.
Но этим трудность снимается только в практическом отношении и лишь для того, кто обладает исключительной силой исторической интуиции. Метода для всех, который можно было бы усвоить, а затем применять, из него не сделаешь. Такой метод был подвластен разве только личному мастерству самого Дильтея.
13. Проблема ценностей в изучении истории
Вторая трудность исторического познания заключается в ценностных точках зрения, которые историк сознательно или бессознательно кладет в его основу. Из громадного фактического материала, который перед ним открывается, он должен что-то выбрать, для того чтобы вообще добиться обозримости материала. Но отбор предполагает точки зрения. Что «имеет значение», а что нет? Общеизвестно, что здесь в историческое познание входит ценностное отношение, которое историк привносит из тенденций своего времени. По Трёльчу, контуры «исторического предмета» возникают вообще только посредством полагания цели исследования «извне». Таким образом, при этом вовсе не нужно думать о тенденциозном изображении истории. Партийный характер интереса к определенным сторонам исторически целого и конкретного уже предрешает вопрос о том, «что имеет значение» там, где формируется направление познавательного вмешательства.
То, что здравый идеал исторической правдивости реализуется при этом далеко не в полной мере, ясно a priori. Это - старое, часто предъявляемое требование «изображать все так, как было на самом деле». Нельзя сомневаться в его серьезности. Можно сомневаться только в его осуществимости. Ибо факт различной направленности интересов и выбора оно устранить не может. Против него не защитит ни идея интуитивного понимания, ни чисто описательного подхода.
Достаточно резко отличаются друг от друга две ценностные точки зрения — субъективная, или привносимая от себя, и объективная, занимаемая соразмерно с весом исторических последствий. Изображение Александра, Цезаря, Наполеона как героев своего времени или как авантюристов, вознесенных на волне истории, — всегда будет в значительной мере зависеть от симпатий, вкуса, оценок в отношении человеческого величия2. Но вопрос о том, имели ли значение походы Александра для развития и своеобразия эллинистического мира, — это уже не вопрос вкуса, а взгляда на историческую взаимосвязь. Чем экстремальней случаи - тем больше бросается в глаза противоположность обоих типов ценностного отношения.
Но где провести между ними грань? Фактический материал исторической науки дан обычно не в такой удобной форме контрастных случаев. В нем обычно расплываются все границы; вопрос о том, стоят ли за сделанными оценками действительно существующие ценностные качества самой истории или нет, на практике редко можно решить однозначно. У нас нет для этого ни
796 Историко-социологическое видение культуры
одного критерия, который бы уже сам не носил ценностного характера и не подлежал бы на самом деле такому же рассмотрению.
Эта апория с отнесением к ценностям распадается на различные специальные вопросы. К наиболее известному из них принадлежит вопрос о периодизации, а также о структуре исторических эпох. Следует ли исходить из народов и периодов их жизни? Или надо исходить из истории духа и идей (скажем, из истории религии, как принято в христианской историографии)? Или из политической и военной истории? Или из внутренних подвижек мировой экономики? Существуют ли срезы, касающиеся всего этого одновременно, - это вопрос, к которому мы тут не можем позволить себе подступиться; ибо без насильственно навязанного толкования у нас мало шансов получить на него позитивный ответ. Отсюда вывод: здесь также все дело в том, какой слой исторических фактов считают наиболее важным. Таким образом, решение всегда будет заключаться в ценностном отношении.
14. Принципиальное в проблеме методологии
Не случайно, если эта раскрутка вопроса о методологии в его двух главных направлениях не принесет удовлетворения; не случайно также, что нельзя правильно ответить на этот вопрос, хотя в интересных предложениях нет недостатка. Для критики исторического разума не хватает все-таки очень многого. Отсутствует прежде всего то. что Кантона критика установила в отношении характера чистого методологического исследования, — позитивная аналитика, выявление фундамента познания. Она дала, в той мере, в какой она вообще раскрыла проблему познания, структуру принципов. Это то, чего еще нет в проблеме исторического разума. Над этим, даже в том, что касается направления в постановке вопроса, еще никто всерьез не размышлял. Но почему же неплодотворно чисто методологическое рассмотрение? Потому, что оно ставит на первый план вторичную проблему, потому, что оно хочет начать с того, на чем живое исследование заканчивается. Не существует пропедевтического методологического познания, которое предваряло бы познание самих вещей, делая метод этого познания своим предметом.
Некоторым современникам этот взгляд еще может показаться парадоксальным. Неудивительно - ведь мы еще не так далеко ушли от эпохи методологизма в философии и позитивной науке. На исходе XIX в. позитивистское течение в философии не оставляло ничего другого, как пожинать плоды прогресса специальных наук. Могло ли это дать больше, чемтематизация средств и путей,
Николай Гартман. Проблема духового бытия... 797 которым специальные науки были обязаны своим прогрессом? Но это означало бы просто углубление, а вовсе не заблуждение философии. Заблуждение начинается лишь там, где философия воображает себя предвосхищающей познавательную работу наук, как бы указывает ей пути, поставляет методы. Такое заблуждение не замедлило возникнуть.
В принципе можно сказать: метод всегда обусловлен, с одной стороны, предметом, а с другой — структурой сложного акта, который мы называем познанием. Оба фактора мы не можем варьировать произвольно, а должны принимать их такими, какие они есть. Познание определенного предмета никогда не может происходить произвольно, так или по-другому. Оно всегда начинается с открывающихся «уязвимых мест» предмета, т.е. с того, что дано, - безразлично, насколько эти «уязвимые места» определены собственным своеобразием или своеобразием предмета. Во всех обстоятельствах оно может начать свое проникновение в предмет только с них. Но тем самым ему предначертан путь и способ продвижения. И то и другое оно не может изменить. Правда, может проигнорировать. Но тогда это и не есть познание.
Следовательно, строго говоря, нет никакого обобщения и переноса метода с одной группы предметов на другую. Каждый вид предметов требует применения к нему своего собственного метода. Популярный взгляд, согласно которому пути познания всеобщи, ошибочен и нанес большой вред. Только при самом поверхностном подходе здесь можно говорить об общей типологии методов. Она состоит в неоднократно обсуждаемых понятиях индукции, дедукции, анализа и др. Но как раз они-то никогда и не выступают в действительном процессе исследования изолированно, никогда не исчерпывают его; только особый способ их применения, точки их приложения, их вплетенность в более общую взаимосвязь делают из них метод. Они — не методы, а только абстракции в высшей степени вариабельных элементов метода.
Каждая наука беспрестанно работает над своим методом - но не тогда, когда она рефлектирует над методом или, тем более, когда делает его предметом исследования. Над своим методом она работает скорее тогда, когда целиком отдается своему объекту. Ее продвижение вперед — это постоянные подходы, пробы, ошибки, новые подходы — до тех пор, пока не удастся сделать один шаг вперед. Она стремится сладить со своим предметом, овладеть им; и эта борьба есть в то же время вырабатывание метода. Метод вырастает у нее в руках во время работы над вещью. Он идентичен прогрессу этой ее работы. Таким образом, она создает себе метод по ту сторону от рефлексии о нем. Она не знает о нем, когда тво
798
Ис1орико-со1[И(к1огическос нидение культуры
рит его; и она не нуждается в том, чтобы знать о нем, до тех пор пока пребывает в действительном творчестве.
Из этого, далее, следует: всякое знание о методе вторично; оно - дело последующей рефлексии. Осознание метода никогда не идет «перед», оно может идти лишь «за». Нельзя предписывать метод как норму. Его можно иметь, т.е. быть могущественным благодаря ему, но не познавая его, — и это обычное дело там, где идет плодотворная исследовательская работа, — и точно так же его можно познавать, не имея его, т.е. быть могущественным и без него, — и это типичная эпигонская работа, методология. Правда, обладание методом и его познание вовсе не исключают друг друга; но обычно они не совпадают. А там, где они действительно сосуществуют, обладание предшествует познанию.
Подлинные мастера метода, и прежде всего те, кто создает его, первопроходцы, редко знают в деталях его структуру. Как они его находят, - отдаваясь предмету, - так они с ним и работают. Редко бывает, когда им есть что сказать о нем. И тот, кто хочет узнать тайну их могущества, придерживается не того, что они говорят, а того, что они фактически делают. Этого достаточно, чтобы овладеть мастерством. Будут ли они при этом говорить так, как они это умеют делать, - не играет роли. Они похожи в этом на художников. Их искусству научить нельзя.
Примеры тому - большинство великих историков, которые с присущей им оригинальностью открыли нам кусочек прошлого. На границе исторической и философской работы Дильтей — единственный в своем роде представитель методического мастерства, которое не сумели методологически объяснить ни он сам, ни его ученики, мастерства, которому, как оказалось, также нельзя обучиться, а подражать можно только в очень несовершенной форме. В области философских систем Гегель явил нам поучительный феномен высокого штиля. Многократно оспоренная диалектика — внутренняя форма его мышления — выходит к нам из его творений и захватывает своей пронизывающей предмет силой. При этом знание о ее сущности всегда было и осталось ограниченным. Он воспринимал ее как высший модус «опыта», но эти скупые указания не открывают нам тайны этого опыта. Мы должны искать ее в его предметных исследованиях, т.е. в целостности его жизненной работы. Эти поиски - труд эпигонов.
Теперь можно пояснить и то, почему вообще методология есть эпигонская работа, отнюдь не призванная указывать пути. Там, где таятся действительно большие проблемы, там интерес обращается к «методу» великих, работой которых он питается. Пожи-нание плодов этой работы может быть (в своем роде) успешным,
Николай Гартман. Проблема духового бытия...799 но с той оговоркой, что не забывают место этой работы и не думают, будто предвосхищают новое предметное познание. Живой работающий метод во всяком прогрессе познания - это первое, методологическое сознание — последнее. Один прокладывает путь, другой - наводит порядок на проложенном отрезке пути.
В этом заключается предметное основание краха философской методологии исторического познания.
15. Историзм и его место в философской проблеме истории
Выше было показано, как историзм, делая темой историчность исторического сознания, превращает вопрос о методе в основную проблему исторического процесса. Апория, в которую он при этом впадает, не нуждается здесь в рассмотрении. Не негативные аспекты историзма, а его непреходящий позитивный вклад определяет третью группу философско-исторических вопросов. Каким образом мы вглядываемся в историю? Насколько мы сами обусловлены исторически? И как этим обусловлено наше историческое сознание? Эти вопросы восходят к зависимости исторической науки от реальной исторической ситуации человека, который ею занимается. С философской точки зрения они центральны еще и потому, что в их направленности заложена хотя бы релятивистская возможность решения вопроса о ценностях в рамках проблемы метода.
Но в то же время эти вопросы ведут дальше. Существует двоякого рода историческое сознание. Научному предшествует другое — наивное, которое может быть примитивным или развитым, но сначала оно независимо по отношению к научному. Каждый человек сам переживает кусочек истории, умеет о нем рассказать, передает подрастающему поколению. Одновременно с тем, что мы пережили сами, происходит отбор из непосредственно доступной нам традиции. Последний дополняется устоявшимися преданиями — будь то семейное предание, края или страны, - а также тем, что продолжает жить и невольно обращает нас к прошлому в строениях, памятниках, годовщинах, праздниках, учреждениях. Сюда можно добавить еще очень многое. Все это вместе образует почву данности донаучного исторического сознания. Однако историческая наука хорошо знает эту почву и пользуется ею как своим источником, с известной осторожностью, но широко.
В донаучном историческом сознании историческая обусловленность более явная, чем в научном. Оно отличается от последнего прежде всего тем, что несет свою обусловленность прямо-таки
800 Историко-социологическое видение культуры в самом видении, а не отрицает ее и не выдает за преодоленную, как научное. «Случайность» и безразличие, образующие его неисторическую установку, составляют как раз его силу. Оно еще целиком связано тем, что вторгается из прошлого в настоящее, оно не держит дистанции. Напротив, научное историческое сознание начинает с того, что устанавливает по отношению ко всему дистанцию; но этим оно не освобождается от связанности. И такая ситуация, очевидно, постоянна и необходима при любом прогрессе. Вот почему созданная историзмом проблемная ситуация в исторической науке не преодолевается и все попытки преодолеть ее наталкиваются с этой стороны на твердую стену.
С другой стороны, именно эта проблемная ситуация представляется все-таки локализованной. Она словно упирается в связанность исторического сознания в его настоящем положении, вместо того чтобы понять его как ставшее бытие, т.е. исходя из прошлого, которым оно определяется. Правда, такого рода понимание еще само в себе связано; но, делая факт этой связанности предметом, оно приобретает иное к нему отношение. То, что здесь остается открытым путь, который можно пройти без экзальтированной претензии на абсолютные результаты, следует хотя бы из окончательного поворота проблемы метода к проблеме исторического предмета, который тем самым осуществляют. Ибо здесь вновь попадаешь на плодородную почву опыта, открывающуюся перед историческим сознанием.
Донаучное историческое сознание открывает нам следующий ход. Оно полностью несомо тем, что вторгается из прошлого в настоящее. В связи с этим спрашивается: что мы получаем вместе с этим «вторжением» и как оно вообще происходит? Ибо сам факт его существования как таковой уже достаточно примечателен: в нем заножено - как бы противоречиво это ни звучало — настоящее бытие прошлого. Очевидно, здесь мы стоим перед одним из основных факторов структуры исторического бытия, поскольку он одновременно определяет историческое становление и историческое сознание.
16. О современности прошедшего в истории
История — не просто череда событий. Это — их взаимосвязь в происходящем, и взаимосвязь очень своеобразная. К основным формам этой взаимосвязи относится то, что прошедшее в нем не абсолютно прошло и исчезло, не совсем умерло, но еще как-то живет в настоящем. Одноразовость и невоспроизводимость истории тем самым отнюдь не затрагиваются. Современность прошедшего —
Николай Гартман. Проблема духового бытия...801 это не повторение и даже не аналогия. Скорее ее можно назвать своеобразным сохранением, актуальностью прошлого в настоящем, несмотря на уход того, что было. Это именно то, что ранее было названо «вторжением» прошлого в настоящее.
Итак, каким образом прошедшее вторгается в настоящее? Какие виды вторжения существуют?
Сначала можно подумать, будто таковой является уже сеть причинной зависимости. Туг прошедшее определяет настоящее, делая себя в нем таким образом весьма заметным. А так как в истории достаточно каузальных взаимосвязей, то именно здесь и надо было бы, таким образом, искать первый модус вторжения. Тем не менее дело обстоит совсем иначе. В каузальной связи причина входит в следствие или, точнее говоря, «переходит в него». В этом переходе она истощает саму себя, полностью сама исчезает, таким образом, не сохраняется в следствии, не является в нем. Если не знать специфику процесса -будь то из опыта или из знания законов, — то из следствия никоим образом нельзя усмотреть особенности причины. Она исчезла в следствии, перестает существовать в нем, не показывается в нем. Если бы исторический процесс был не чем иным, как процессом каузальным, то не было бы никакого вторжения прошлого в настоящее.
В противоположность каузальной связи основные типы подлинных вторжений видны вполне отчетливо. Сначала укажем на два из них, которые, хотя их и нельзя четко разграничить друг от друга, все-таки явно противоположны.
Первый можно назвать «молчаливым» вторжением. Оно простирается на все, что еще живо в нас из прошлого, удерживает нас или владеет нами, но не ощущается как прошедшее. Так обстоит дело с большей частью того, что продолжает жить в традиции, поскольку оно ощущается как настоящее, например, с нравами, манерами, обычаями, первоначальный смысл которых забыт и не соответствует более современным воззрениям, но которые еще продолжают существовать и воспринимаются как «сегодняшние», потому что каждый поддерживает их как свои собственные. То же самое относится к формам языка и мышления, воззрениям (например, религиозным или мировоззренческим), моральным, правовым, политическим тенденциям, идеям и оценкам, предрассудкам и суевериям. Все это не сознается как прошедшее, вообще не дано предметно, но и не исчезает в своем следствии. Оно еще продолжает жить в живущем как то, чём оно было, - правда, не в неизменном, но в узнаваемом для знающего виде. Прошедшее здесь еще в настоящем, но незаметно, молчаливо.
Ему противостоит второй вид «внятного», артикулированного вторжения. И оно ведет себя по всем статьям противополож-
802
Историко-социологическое видение культуры
ным образом. В этом случае живущий знает о том, что прошедшее прошло — либо имея его перед глазами в предметной форме, либо просто «ощущая» его как прошедшее. Он знает, таким образом, о вторжении, и это его знание принадлежит к одной из форм этого вторжения. Здесь оно словно бы разговаривает с ним голосом из прошлого и время от времени также воспринимается им как таковое. Образом «внятности» мы хотим сказать: настоящее бытие прошедшего — в современном сознании о прошлом. Все пережитое, сохранившееся в воспоминании, в этом смысле внятно вторгается в настоящее; и так же обстоит дело со всем тем, что получают из рассказов, что продолжает жить в семейных и местных преданиях, в легендах или анекдотах, а также с тем, о чем напоминают памятники, постройки, руины, скульптуры. Такое прошедшее может, конечно, еще жить в живущих людях, не нуждаясь в том, чтобы те знали о нем. Внятное вторжение перекрывает тогда молчаливое, они обоюдно дополняются; собственное историческое прошлое народа сохраняется им в большинстве случаев в обеих формах, хотя и в различных, лишь отчасти взаимоперекрывающих фрагментах. И все-таки обе формы существуют самостоятельно и встречаются по отдельности. Что касается «внятного» вторжения, то его можно почувствовать, когда путешествуешь в странах древних, великих культур и ощущаешь следы прошедшего в их отдаленности, чуждости и самобытности. Тд, следами чего они являются, исчезло из исторической жизни, и оно может вторгнуться в настоящее только посредством предметного осовременивания.
Особый вид внятного вторжения представляет собой вторжение, опосредствованное письменностью. Оно составляет своеобразную часть проблемы духовного бытия и как таковая будет исчерпывающим образом рассмотрена ниже. Внятность и предметность чрезвычайно повышается здесь посредством своеобразной способности письменности являть нам не-настоящее. Не случайно историческое исследование в первую очередь придерживается этого источника.
И только четвертой включается историческая наука. Она ни в коей мере не тождественна своим источникам, даже там, где они представляют собой позднейшие формы записи и изображения. Она всегда начинает лишь с их оценки и использования. Она поэтому всегда остается зависимой от основных форм вторжения. И для этой зависимости характерно то, что она выражается в двойственной определенности. Селективный, ценностно-определенный и задающий проблемное направление момент исторического исследования почти исключительно укоренен в том, что молчаливо вторгается из прошлого в настоящее;
Николай I артман. Проблема духовою бытия... 803
напротив, материал в своей подавляющей массе дан историческому исследованию во внятно-предметном вторжении. Поскольку методическая трудность и историцистская апория исторического сознания целиком заключена в первом виде зависимости, легко увидеть, что дальнейшее прояснение положения вещей следует искать в проблеме молчаливого вторжения.
Этой проблемной ситуации посвящены исследования второй части данной книги. Духовное бытие как сверхличностный общ-ностный феномен — это тот уровень, на котором действует молчаливое вторжение.
17. (делегирующие моменты в сохранении прошедшего
Не все прошедшее вторгается в настоящее. Всякое сохранение исторически ставшего подлежит селекции. Однако не мнение и не оценка решают, что из прошлого может еще вторгнуться, а что уже нет, а содержание и своеобразие самого исторически ставшего, как прошедшего, о вторжении которого идет речь, так и настоящего, в которое оно только и может вторгнуться.
Здесь, таким образом, не царит никакой произвол, никакой сознательный выбор; есть лишь историческое изменение существующего. То, что в нем или вопреки ему реализуется, то и сохраняется в новом формообразовании отношений, оставаясь в них как настоящее.
Из этого следует сделать вывод, что существуют два момента, по которым различаются сохранение и забвение. При молчаливом вторжении их нетрудно отделить друг от друга. Один - это вступление в силу или дальнейшее продолжение действия (каких-либо нравов, воззрений), т.е. сила «вещи», дела или духа, продолжающего жить и прочно удерживаться с известной постоянностью даже там, где он заметно изменился. Это можно видеть на примере права: оно сохраняет силу в течение того времени, пока оно есть выражение реального чувства справедливости; продержавшись сверх того, оно воспринимается как устаревшее, и тогда возникает тенденция к его вытеснению.
Второй момент заключается в типе современности, как бы в силе, способности живущего духа преобразовывать старое, которое он в себе несет, и целесообразно приспосабливать его к новым формам жизни. Лучше всего это видно на примере государственных форм, общественных учреждений. Пока народ развивается в полную силу, они находятся в процессе постоянной перестройки. Практически едва ли возможно создать новую государствен
804 Историко-coi(иоиюгическос видение кулыуры
ную форму, к чему обычно стремятся во времена революций. По-настоящему совершенно новое — это всегда отважный поступок, оно нестабильно, неустойчиво в своей неопробованности и может укрепиться только после эксперимента, оплаченного дорогой ценой; но даже это происходит лишь постольку, поскольку старое, опробованное ранее, вновь берется на вооружение. Естественный путь - это органическая перестройка изнутри. Но для этого требуется преобразующая сила нового, находящегося в становлении.
При внятном вторжении все обстоит иначе, здесь сама «вещь» больше не продолжает жить, непосредственная традиция разорвана. Здесь решающим являются следующие моменты. Вторгается, во-первых, то, что дольше сохраняется в некоем носителе-посреднике, в котором оно «объективировано» и посредством которого манифестировано. Следы прошедшего времени могут остаться на камне или в письменах. Но здесь требуется, во-вторых, определенная установка современности; время должно быть открыто для восприятия этих следов. Для этого оно должно иметь особый орган. Их должны встретить хороший вкус и интерес. Выдающееся произведение литературы или искусства могут проспать и похоронить во времена, когда не понимают или не знают, о чем оно «говорит», даже если произведение открыто лежит у всех перед глазами. Все ренессансы — это внутреннее, спонтанное встречное движение; они представляют собой повторные находки и повторные открытия.
Наряду с этим существенную роль играет и кое-что другое. Так, например, оценка старого как почтенного и авторитетного существует постольку, поскольку та или иная современность нуждается в этом для оправдания собственных тенденций. На созданное исстари ссылаются как на что-то благонадежное и освященное. Так было, когда основатели рейха взывали к древней «римской империи германской нации»; так было, когда религиозные реформаторы ссылались на Августина или Лютера. Мыслители тоже не брезгуют такой поддержкой - «это есть уже у Канта» или «это можно найти еще у Аристотеля» — такого рода ссылки заставляют прислушаться.
Наконец, нельзя забывать, что легче всего сохраняется то, что согласуется с какой-либо постоянной потребностью, с непреходящей проблемной ситуацией, с общечеловеческой склонностью. Многие религиозные воззрения обнаруживают удивительную историческую стойкость даже там, где их происхождение носит случайный характер, и более не соответствуют утвердившемуся культурному направлению; в них сохраняется глубокая человеческая страсть, не меняющаяся в условиях изменившегося миропо
Никчгый Гартман. Проблема духового бытия... 805
нимания. Аналогично обстоит дело с фундаментальными философскими проблемами; они сохраняются в пестром многообразии систем и их противоположностей, потому что мир и жизнь постоянно ставят человека перед одними и теми же необъяснимыми вопросами. Предрассудки и сущие пустяки также держатся на этой основе. Так, суеверие относительно счастливых и несчастливых примет выстояло и в самые просвещенные времена, постоянно осмеянное, но так и не искорененное. Человек всегда пребывает в одинаковой растерянности относительно того, что лежит вне его власти, - того, что он называет «случаем». Его незнание о том, как сложится ближайшее будущее, неустранимо.
18. Дифференциация сфер исторической жизни
В двух основных формах вторжения есть между тем одно и то же различие в общей позиции эпохи. Существуют эпохи, верные традициям, эпохи, чуждающиеся традиций, эпохи, сохраняющие старое ради него самого, и такие, которые отвергают его ради него самого. Для первых прошлое принципиально благонадежно и священно, для вторых - нечто отжившее и отягощающее. В одном случае действует молчаливая предпосылка: раньше было лучше, древние были умнее, стояли ближе к Божественному; в другом -раньше было хуже, древние еще не знали того, что знаем мы, их влияние сомнительно.
В противоположности этих установок и оценок вновь просматриваются два философско-исторических аспекта — восхождения и нисхождения - с тем лишь отличием, что здесь они попадают в сферу знания без предваряющей работы философской рефлексии. Это - фундаментальные позиции исторической жизни самой эпохи, основные формы духа времени. Философия же, присоединяющая сюда свои теории, исторически вторична, она несома ими, есть их мыслительное выражение. Это весьма явственно видно, если сопоставить столетия средневековья с эпохой Просвещения: там глубочайший непререкаемый пиетет к созданному, здесь тенденция к самоосвобождению по всем направлениям. И какова фундаментальная позиция, таковы и ее философские выражения. Но в еще большей степени, чем исторические эпохи, в этом пункте следует различать различные сферы исторической жизни — в особенности духовной жизни. Противоположность переносится тем самым в одновременность их совместного существования. По своей внутренней форме эти сферы характеризуются в высшей степени различной открытостью в отношении их собственного
806 Историко-социологическое видение культуры
прошлого. С этим связано то, что и сопутствующее им историческое сознание в принципе различно. Существуют сферы духа, которые принципиально обращены к истории и которые от нее принципиально отвращены. И в зависимости от того, какая из этих сфер доминирует или отступает в том или ином духе времени, последний также оказывается либо обращенным к истории, либо отвращенным от нее.
Крайнюю позицию в этой градации, несомненно, занимает сфера религиозной жизни, особенно там, где речь идет о религиях откровения и тех, которые имеют своих основателей. Она не только обращена к прошлому, но она прямо-таки живет прошлым, ощущает его как вечно современное, вознесенное над временем. В основе всего этого лежит предметно-артикулированный первичный факт как таковой, локализованный во времени, и эта основа никоим образом не снимается религиозным способом представления, которым она понимается как вневременное бытие настоящего. Этому соответствует абсолютная авторитетность документа, Священной книги. Религия, теряющая современность прошедшего, теряет саму себя, перестает быть тем, что она есть, становится реминисценцией.
Если сравнить с этим другой полюс — сферу практического овладения природой, технику, — то противоположность будет разительной. Техника использует достижение в той мере, в какой оно ее продвигает, но ничего не знает о нем как о прошедшем. Она всюду идет к своим меняющимся целям кратчайшими путями, полностью погружена в них, живет актуальной современностью, отвращена от прошлого. Она, правда, имеет свою историю, но не имеет исторического сознания. Старое для нее — отжившее, новое - истинное.
Между двумя этими полюсами лежит длинная цепь градаций. Известно, насколько могущественным в сфере права является авторитет старого, как обдуманно он всегда используется, как упорно противостоит новаторскому правотворчеству. Аналогично дело обстоит с общественной формой, моралью, господствующими правами, языком. С тем разве отличием, что в этих сферах вторжение прошедшего почти повсюду молчаливо, в то время как право - хотя бы уже посредством поиска прецедентов — живет в обращенности к прошлому, знает о нем предметно. Куда более подвижна и равнодушна к тому, что когда-то было, экономика. Правда, верность традиции во многих ее отраслях чрезвычайно устойчива, но экономика привязана к старому не ради него самого, она просто держится на нем — живет по накатанной колее. В ней действуют, однако, влиятельные силы, выбивающие ее из этой колеи. Одной из таких сил является техника, другой — открытие новых материалов, третьей —
Николай Гартман. Пробигема духовой» бытия... 807 производственные и оборотные кризисы. Все это неудержимо противодействует инерции традиционно установленного.
Особое место занимают науки. Естествознание, к примеру, совершенно не интересуется собственным прошлым. То, что не подтверждает свою истинность, оно скрупулезно исключает, оставшееся, однако, столь же заботливо собирает. Таким образом, у него есть как бы зримая верность традиций; на самом же деле это не что иное, как его «уверенный шаг», в котором сохраняются только достижения. По отношению к сохранению исторически ценного оно совершенно неисторично.
Иначе обстоит дело с философией и некоторыми науками о духе. Здесь нет никакого уверенного шага, есть лишь продвижение на-ощупь, всегда сопряженное с ошибками, источники которых остались незамеченными. Поэтому преобладает известная нерешенность относительно прошлого. Продвигаясь вперед, философия не отбирает достижений, она не сохраняет непрерывно все исторически ценное, так как не может в любой момент с уверенностью идентифицировать его как таковое. Она должна, таким образом, продвигаясь вперед, постоянно вести критический разбор того, что оставляет позади, снова и снова решать, как ей все это оценить. Она живет в обращенности к прошлому. Но она живет не им.
Намного сложнее дело обстоит с искусствами. В них глубочайший пиетет к произведениям старых мастеров может идти рука об руку с интенсивным стремлением к новому, причем иногда в сознательном противопоставлении к ним. Где старые стилистические формы владеют самим творчеством, там они молчаливо вторгаются в современность; где они как таковые артикулируются, там они уже стали «объективными» — стали предметами сознания, которое уже знает, как отделить себя от них. Старое тогда уважают, им восхищаются, но его больше не ощущают как свое. Пробивающееся к свету новое уже оставило его позади себя. Новый способ видения, слышания, восприятия неудержимо рвется к тому, что адекватно ему. Поскольку он представляет собой нечто исторически подвижное, у него есть собственный закон движения, по которому он и живет. В этом смысле он, несмотря ни на что, чужд прошедшему. Он являет самого себя в своих произведениях как вечно современный.
19. Духовное бытие в истории
Эти размышления — всего лишь наметки и указатели направлений возможных исследований, которые здесь проводиться не будут. Они не претендуют ни на оригинальность, ни на совершенство в
808
IIciopiiKo-coiuiojioi ическое видение кулыуры
каком-либо отношении. Для предстоящих исследований они имеют ценность только потому, что из ситуации с проблемой истории выводят к проблеме духовного бытия. Тем самым они направляют нас от вопроса об историческом процессе и его структуре к вопросу о структуре и способе бытия того, что находится в процессе истории, т.е. того, что «имеет историю».
Правда, историю имеет не только духовное бытие. И все-таки любая история - это также и по существу история духовного бытия. Народы, государства, человечество сами по себе не есть дух. Однако без наличия в них духа все, что с ними происходит, не было бы историей. Всякий же дух, придавать ли ему большое или небольшое значение, несомненно имеет историю. Это положение звучит сегодня как нечто само собой разумеющееся. Но не всегда оно было таковым. Это — основной позитивный взгляд историзма. Он достаточно фундаментален, чтобы стоило помнить о нем как о завоевании историзма.
Наши размышления показали, как историчность данной современности зависит от вторжения прошедшего, как оно обнаруживает свои основные формы и как они в соответствии с различной структурой духовных сфер многообразно меняются. Но различия, которые здесь выявились, не есть, очевидно, временные различия, а такие, которые возвращаются в любой временной ситуации. Они, таким образом, не есть и различия исторические. Это различия, которые со своей стороны должны обусловливать структуру исторического процесса.
Отсюда в общем можно сделать вывод: существуют условия структуры исторического процесса, которые сами вовсе не есть исторические условия. Осязаемыми эти условия могут стать только в таком рассмотрении, которое идет в другом измерении, как бы перпендикулярно по отношению ко времени. Ибо они лежат в сущностных структурах — будь то духовного бытия вообще, будь то сфер духа и их отношений друг к другу.
На этих структурных условиях следует остановиться, и сделать это надо перед собственно философско-историческим вопросом. Последний тем самым не предвосхищается. «История» в строгом смысле слова — это не частичные процессы, разыгрывающиеся в отдельных сферах духа, а их пересечение, их взаимодействие, их слоистое устройство и взаимообусловленность в одном времени и в одном общем событии, короче говоря, их конкретное единство. Анализ структурных условий составляет здесь только предварительную по отношению к философии истории работу.
Тем самым путь предначертан.
Во-первых, нужно знать, что такое «дух» в историческом смысле вообще, - дух как то, на чем и в чем разыгрываются эти са-
Никапай I артман. Проблема духового бытия...809 мне частичные процессы. Исторический дух не есть отдельный личностный дух. Он есть совокупный феномен иного масштаба и поэтому по праву называется «объективным духом». Но то, что это означает, взято не из метафизики — идеалистической или какой-либо другой, - а исключительно из анализа богатейшего содержания соответствующих феноменов.
Во-вторых, следует попытаться, помимо всего прочего, внести ясность в то, что заключено в объективациях духа, которые в «произведениях», словно в капсулах, проносят и сохраняют духовные ценности через все изменения исторического духа. Их способ бытия и закономерности, очевидно, иные, нежели у живого, меняющегося исторического духа.
И в-третьих, необходимо создать предпосылку для того и другого: понять, что же такое индивидуальный или личностный дух. Выяснится, что эта задача далеко не самая легкая. Но то обстоятельство, что личности в большинстве случаев — непосредственная данность, заставляет нас начать ход исследований как раз с этого последнего вопроса.
Примечания
1 Оба закона нуждаются, конечно, в более детальном обосновании. Для него здесь не нашлось места. Это сделано в кпи1с «Der Aufbau der realen Welt» (Berlin, 1940), гл. 55-61. Там же и все необходимое к пункту 1, что касается категориального многообразия.
2 Здесь вспоминается гегелевский «психологический камердинер», для которого не существует никаких героев, - не потому, что великие люди истории не могли быть героями, а потому, что он камердинер.
Перевод иноязычных текетов
J‘ Происхождение, род (>ш/л.).
2* Обязательное условие (лат.}.
Перевод выполнен по изданию: Hartmann N. Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur Grundlegung der Geschichtsphilosophie und derGeisteswissenschaften. 3, unveranderte Auflage. Berlin, 1962.
С.Я. Левит
Космос культуры:
вместо послесловия
Предлагаемая читателю антология включает работы ведущих западных мыслителей, представителей основных направлений культурфилософии - философской дисциплины, ориентированной на постижение культуры как универсального и всеобъемлющего феномена. Работы В.Виндельбанда, Г.Риккерта, А.Вебера, М. Вебера, Н.Гартмана, Г.Зиммеля, Э.Кассирера, К.Манхейма, Т.Лессинга, О.Шпенглера заложили фундамент культурологии - интегративной области знания, возникшей на стыке культурфилософии, культурной и социальной антропологии, социологии культуры, теологии культуры, этнологии, культурпсихологии, семиотики, истории культуры. Она интегрирует знания различных наук о культуре в целостную систему, формулируя представления о сущности, функциях, структуре и динамике культуры как таковой, моделируя культурные конфигурации различных эпох, народов, конфессий, сословий, выявляя и систематизируя черты своеобразия различных культурных миров.
Особенно плодотворно культура исследовалась в рамках культурфилософии, оказавшей огромное влияние на становление культурологии. В работах культурфилософов сформулированы основные идеи культурологии, осмысливаются различные подходы. к изучению культуры и человека, ее творца и носителя, вырабатывается язык этой науки.
Как полагает В.С.Малахов, можно выделить три плана, в которых существовала философия культуры в первой трети XX века:
• методологический - философия культуры как методология «наук о культуре», в отличие от «наук о природе» (такой подход развивался не только в рамках «философии ценностей» баденского неокантианства, но и в «философии жизни» (В.Дильтей), и в новой онтологии (Н.Гартман, Х.Фрейер);
• социально-критический — философия культуры как критика современной европейской цивилизации (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Ф.Степун, X.Ортега-и-Гассет, А.Бергсон, А. Швейцер, Э.Курциус);
С. Я. Левит. Космос культуры; вмес то послесловия
811
• теоретико-систематический — попытка построения универсальной теории культуры (Э. Кассирер, Н. Гартман, Р. Кронер, Й.Хейзинга, О.Шпенглер, А.Тойнби, Э.Ротхакер).
В становлении корпуса идей философии культуры сыграли заметную роль учение Г.Зиммеля о конфликте жизни и форм культуры, генеалогический метод анализа культурной традиции (Ф. Ницше), идея творческого порыва как основы процесса созидания культуры (А.Бергсон), метод отнесения к ценностям (Г.Риккерт), теория локальных цивилизаций (А.Тойнби), философия символических форм (Э.Кассирер), феноменологическое описание структуры основных форм культуры от языка и мифа до истории и науки, теория идеальных типов (М. Вебер), идея целостности культуры (Р.Кронер), идея культурного синтеза (Э.Трёльч), идея синтетической науки о культуре (А.Вебер), теория общего кризиса современности («модерна») (А.Вебер).
В постмодернистской философии культуры, представленной не только ее наиболее популярным вариантом — постструктурализмом (М.Фуко, Ж.Деррада, Ж.Бодрийяр, Р.Барт, Ю.Кристева и др.), но и «новыми философами» (Б.-А.Леви, А.Глюксман и др.), авторами, близкими к герменевтической установке (Дж.Ваттимо), теоретиками неопрагматизма (Р.Рорти, Дж.Стур и др.), формируются ее основные черты: отказ от стремления к идеалу научной объективности и признание значимости и равноправия различных форм культуры, выражающих их знаковых систем; изучение интертекстуальности в контексте рассмотрения генезиса новоевропейского романа; критический вариант культурфилософской рефлексии, роднящий ее с генеалогическим анализом ницшеанского и неомарксистского типа.
Постмодернистская философия культуры встречает критику со стороны Э.Гидденса, Р.Бернстайна, Ю.Хабермаса. Ее порицают за забвение общезначимых ценностей, бесцельную де конструктивную игру с текстами культуры. Однако, как отмечает Б.Л.Губман, крупные представители постмодернизма, отстаивая релятивность любых интерпретаций или же утверждая несоизмеримость и непереводимость смыслов, присутствующих в различных культурных мирах, все же не отбрасывают универсальные ценностные ориентиры, делая их опорой критико-рефлективного отношения к прошлому и современности, взывая к гуманизму и человеческой солидарности как ориентирам современной культуры. Дискуссии, ведущиеся в рамках различных направлений современной философии культуры, оказали существенное влияние на формирование теоретике-методологического инструментария культурных исследований.
Центральные темы культурфилософии: анализ культурного творчества и кризиса постренессансной гуманистически и рацио
812 11сторико-с<)1|м<ш<н ичсское видение кулыуры
налистически инспирированной культуры, рассмотрение онтологических предпосылок культурного творчества сквозь призму герменевтики, идеи укорененности человеческого мира в языке, коммуникации, критика эволюции западной цивилизации, критика сложившихся в современном мире форм отчуждения.
Культурфилософы исследовали проблемы, имеющие для культурологии существенное значение: культура как специфически человеческий, творимый самим человеком мир; культура и цивилизация; кризис культуры; символические формы человеческой деятельности - язык, миф, религия, наука, искусство; ценностная природа культуры; взаимосвязь культуры и истории; генезис культур; человек и культура; инвариантные структуры, остающиеся неизменными в ходе исторических преобразований; формы культурной жизни человека; судьбы европейской культуры и цивилизации; классификация культурных форм; динамика культуры; логика науки о культуре.
В данном томе антологии предпринята попытка раскрыть особенности трансляции некоторых основополагающих ориентаций классической и современной философии в культурологические исследования, показать роль культурфилософии и социологии культуры в становлении культурологии как интегративной области знания.
В ее теперешнем состоянии, культурологию можно сравнить с «хорошо темперированным клавиром», с полифоническим произведением, в котором каждый голос обладает относительной самостоятельностью, его можно услышать и пропеть отдельно, но только когда эти голоса — культурфилософия, антропология, история культуры, семиотика, лингвокультурология — сливаются в мощные гармонические созвучия, только тогда и можно говорить о культурологии как целостной науке.
♦ * ♦
Первое издание антологии, вышедшее в серии «Лики культуры», положило начало систематизации информации, созданной и накопленной в сфере исследований культуры. В серии «Лики культуры», основанной в 1992 г., были изданы классики культурологии, философии, социологии, в частности: М.Вебер «Избранное. Образ общества». М., 1994; Э.Трёльч «Историзм и его проблемы». М., 1994; К.Манхейм «Избранное. Диагноз нашего времени». М., 1995; Я.Буркхардт «Культура Возрождения в Италии». М., 1996; Г.Зиммель «Избранное» в 2-х т. М., 1996; Альманах «Лики культуры». М., 1995; Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. М., 1995; Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М., 1996; В.Виндельбанд «Избранное. Дух истории». М., 1995; Опыт тыся
Я. Левит. Космос культуры: вместо послесловия 813
челетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. М., 1995; Э.Кассирер «Избранное. Опыт о человеке». М., 1997.
Труды этих ученых заложили фундамент культурологии и в значительной мере определили направление развития научного знания в XX веке. В этих изданиях предпринята попытка показать генезис саморефлексий культуры, генезис истории культурологической мысли, общую логику истории культурологической мысли. Эта задача наиболее успешно решается в лоне двух других серий — «Книга Света» и «Культурология. XX век». В первой основной акцент сделан на культурфилософии, теологии культуры, социологии культуры, а во второй - на культурной и социальной антропологии, психологии культуры, этнопсихологии и т.д. Именно в этих многообразных и взаимодополнительных теоретике-методологических вариантах складывалась культурология на рубеже 19-20 вв.
Название серии «Книга Света» отсылает нас к Декарту; книга света - это книга мира, и ее Декарт намеревался прочитать в свете истины. Но существует и множество других смыслов в этих словах, и самый важный тот, что в наше смутное время, когда рушатся привычные системы ценностей, вместо гуманистических ценностей распространяются ксенофобские, шовинистические, расистские устремления, оживают самые чудовищные и разрушительные мифы, «мчатся бесы рой за роем», и кто-то опять начинает играть на дьявольской дудочке, вовлекая загипнотизированных им людей в очередную бездну. Вот в это сложное время как раз и следует создавать великую книгу Света, книгу Добра и Истины, способную вернуть обездоленному и в очередной раз заблудшему человеку, в отчаянии стоящему «у самой бездны на краю», его прекрасный божественный лик.
В серии «Книга Света» были изданы следующие книги: М.Фуко «История безумия в классическую эпоху», Т.Адорно «Избранное. Социология музыки», К.Леви-Стросс «Мифологики», Э.Левинас «Избранное. Трудная свобода», О.Розеншток-Хюсси «Язык рода человеческого», К.Манхейм «Избранное. Социология культуры», Н.Элиас «О процессе цивилизации», Х.Яннарас «Избранное. Личность и Эрос», П.Рикёр «Время и рассказ», Ж.Маритен «Творческая интуиция», Г.Башляр «Избранное. Поэтика пространства», Э.Кассирер «Избранное. Опыт о человеке», Э.Кассирер «Избранное. Индивид и космос», А.Шюц «Избранное. Мир, светящийся смыслом» и многое другое.
Серия дает представление о мире человека в контексте его культурного существования. Она знакомит читателя с неизвестными «культурными пластами» западной гуманитарной науки, раскрывает тот опыт исследований культуры, который нарабатывался в течение долгого времени в западной науке. Все это прояс
814 Историкосо! дологическое видение культу ры
няет вклад серии «Книга Света» в разработку проблем культурологии и ее становление как науки.
Серия «Культурология. XX век» преимущественно освещает комплекс проблем культурной антропологии, вклад культурантро-пологии в разработку категориального аппарата культурологии, в расширение проблемного поля ее исследований, а также раскрывает становление и развитие культурологии как принципиально новой науки. Программа этой серии обширна: «Антология исследований культуры», словарь «Культурология. XX век», избранные труды классиков культурологии Л.Уайта, У.Уорнера, Ь.Малиновского, К.Гирца и др. Особо хотелось бы остановиться на работе К.Гирца, оказавшего существенное влияние на общее развитие антропологических исследований в последней четверти XX в., а также на проблематику культурологии. Книги и лекции К.Гирца положили начало интерпретативной антропологии — наиболее динамичному и интеллектуально ориентированному направлению в американской антропологии конца 70-х - начала 90-х гг. XX в. Ему принадлежит первая в американской антропологии попытка совместить «материальное» и «идеальное» — символические формы с реалиями человеческой жизни. Издание работы КТирца «Интерпретация культур», междисциплинарной по установкам, методам, исследуемому материалу и выводам, оказало огромное воздействие на все области гуманитарных и социальных наук, в том числе и на антропологию и на культурологию, которая в условиях постмодерна — интеллектуального движения, охватывающего все гуманитарные и социальные науки, нередко трактуется как шанс возвращения к целостному миру из расколотого и отчужденного ею состояния.
Серия «Humanitas» ориентирована преимущественно на учебный процесс в высших учебных заведениях, обеспечение преподавателей и студентов монографиями и учебниками по культурологии, философской антропологии, эстетике, социологии, истории культуры, социальной психологии — науках о человеке, обществе, культуре. В этой серии подготовлены книги: П.Гайденко «История новоевропейской философии в ее связи с наукой», В. Губин «Философская антропология», А.Косарев «Философия мифа», В.Розин «Семиотические исследования», В.Розин «Мышление и творчество», Г.Померанц, З.Миркина «Великие религии мира», Б.Губман «Современная философия культуры» и др. Многие книги этой серии носят характер экспериментальный - они не столько предлагают готовые окончательные знания, сколько стимулируют вопросы, размышления, поиск новых решений. Совокупное знание, которое содержит в себе эта серия, несет заряд обновления общества, выработки на основе глубинного исследования человека нового гуманистического миросозерцания.
' С. Я. . IcBin. Космос кулыуры: вместо послесловия
815
Огромное значение придается серии «Российские Пропилеи». В этой серии представлены труды выдающихся мыслителей России и русского зарубежья, входящие в сокровищницу философской и культурологической мысли. Это классики как ушедшие от нас, так и живые, лицо России, ее парадный облик. Именно в этом ключе можно расшифровать название серии: если Пропилеи - парадный вход на Акрополь, то российские Пропилеи - парадный облик России. Перед читателями, сменяя друг друга, проходят мыслители XIX-XX вв., прошлого и современности. Их идеи, духовные искания способны высветить многие грани современной жизни. Серию открывает книга известного философа, культуролога, публициста, писателя Г. Померанца «Страстная односторонность и бесстрастие духа». В нее вошли работы 80—90-х гг. с несколькими возвращениями в прошлое: «Опыты вольной мысли», «Философия идиота», «Целостное знание и плюрализм теорий», «Литература и искусство» (статьи о Достоевском, Мандельштаме, Пастернаке, Данииле Андрееве, Синявском, Самойлове, Чичибабине, Тарковском и др.), «Разрушительные тенденции в русской культуре», «Метахудожественное мышление в культурологии» и др. Попытаться передать все многообразие идей этой книги было бы утопией. Остановим свое внимание на следующей важной мысли, проясняющей предназначение культурологии, королевским доменом которой являются белые пятна, оставшиеся между научно установленными фактами. Она оперирует с предметами, которые не распадаются на отдельные факты, с целостностями разных порядков. «Выход культурологии за рамки немецкой философии культуры, общее признание культурологии как науки и рост культурологического сознания связаны с чувством угрозы целому цивилизации и общим поворотом к проблемам целостности общества, целостности биосферы — или, в негативном описании: духовного кризиса и экологического кризиса» (с.557). Культурологию Г. Померанц рассматривает как науку на полдороге к искусству, и эти «полдороги» каждый проходит по-своему: М.Вебер ближе к строгой науке, а Л.Н.Гумилев, с его безудержным разгулом воображения в теории этносов, представляет противоположный полюс. К требованиям строгой науки приближается критическая история культурологии, которая проясняет смысл культурологического творчества, метахудожестве иного мышления почти так же, как литературная критика выявляет смысл романа. Но, как отмечает Померанц, при этом теряется творческая сила метахудожественного мышления — культурология воображения захватывает больше, чем сухие схемы.
Теоретическое ядро в этой серии определяют книги: В.Г.Щукин «Российский гений просвещения. Исследования в области мифопо-этики и истории идей», В.К.Кантор «Русская классика, или Бытие
России», М. В. Юдина «Высокий стойкий дух», Г.Г.Шпет «Мысль и слово. Избранные труды», Г. Г. Шпет «Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры», двухтомник В.В. Бычкова «2000 лет христианской культуры», в котором дан глубокий анализ роли христианства в формировании духовных ориентаций в истории России. Это уникальное исследование становления, развития и бытия христианской культуры на протяжении почти двухтысячелетнего периода ее существования.
Думается, что даже такой беглый обзор дает представление об основных концепциях, направлениях исследований, структуре этой серии, в которой вышло 40 книг. Издание работ российских исследователей М.О.Гершензона, А.Н.Веселовского, С.И.Беликовского, А.Я.Гуревича, Л. В. Михайлова, Г.С. Померанца, В.В.Бычкова, Ф.И.Буслаева, В.Г.Щукина, В.К.Кантора, Г.Г.Шпета, М.В.Юдиной, И.Ф.Стравинского, В.И.Мильдона, Г.С.Кнабе, А.И.Патрушева, Н.И.Цимбаева и др. открывает важнейший пласт истории культуры. В издаваемых работах освещается комплекс важнейших проблем: единство европейской культуры; мир античной культуры; категории средневековой культуры; культура эпохи Возрождения; барокко как язык культуры, культурные эпохи и культурные переломы как моменты гибели смыслов; феноменология русской культуры; диалог между русской и западной культурами; русское религиозное сознание, русская художественная традиция; русское западничество; история повседневности как история культуры; христианство перед лицом современной цивилизации; геокультурный образ мира.
В монографиях, представленных в серии «Российские Пропилеи», раскрывается процесс духовного обогащения России достижениями мировой цивилизации и воздействия научных достижений России на мировой процесс развития науки и культуры.
Издание работ западных и российских исследователей культуры внесло определенный вклад в укрепление позиций культурологии и создало предпосылки для ее успешного развития. Особое место среди изданий по культурологии занимают: словарь «Культурология. XXв.». СПб., 1997; энциклопедия «Культурология. XX в.». СПб., 1998. Т.1., Т.П; энциклопедия «Культурология: Summa culturologiae». М., 2007. Т.1., Т.Н. В них определены основные идеи культурологии, категориальный аппарат, все многообразие методов исследования и познания мира человека, язык культурологии как принципиально новой науки, устремленной в пока еще непроницаемые слои человеческого существования. Осмысление накопленного классикой культурологической мысли материала, представленного в этих изданиях, вероятно, будет стимулировать дальнейшие исследования в области культурологии, которая по праву займет ведущее положение среди гуманитарных наук в XXI в.
Сведения об авторах
Вебер (Wfeber) Альфред (1868-1958) - немецкий экономист, философ, социолог 'теоретик культуры. Младший брат Макса Вебера. С1897 е -доктор философии. В 1899—1907 ге преподавал в Берлинском и Пражском университетах. С 1907 е - профессор кафедры экономики и социальных наук Гейдельбергского университета. После прихода к власти национал-социалистов отошел от преподавателккой деятельности и целиком посвятил себя научным занятиям. В этот период были созданы важнейшие труды А. Вебера в области социологии культуры: Uber den Standort der Industrie (О территориальном размещении промышленности, 1909); Religion und Kultur (Религия и культура, 1912); Die Krise des modemen Staatsgedankens in Europa (Кризис современной европейской идеи государства, 1925); Ideen zur Staats- und Kultursoziologie (Идеи по поводу социологии государства и культуры, 1927); Kulturgeschichte als Kultursoziologie, 1935 (История кулыуры как социология культуры, 1935). А позднее такие произведения, как Das Tragische und die Geschichte (Трагическое в истории, 1943); Abschied von der bisherigen Geschichte (Прощание с прежней историей, 1946); Prinzipien der Geschichts- und Kultursoziologie, 1951 (Принципы социологии истории и культуры, 1951); Der Dritte Oder der Vierte Mensch (Третий или Четвертый человек, 1953). По окончании Второй мировой войны возобновил преподавание в Гейдельбергском университете. АВебер оставался профессором Гейдельбергского университета до самой своей смерти 2 мая 1958 г. «Германия и кризис европейской культуры» - одна из трех статей А Вебера, включенных им в изданный в 1924 г. в Берлине одноименный сборник. Сам автор называл эту статью итогом своих многолетних «неуверенных исканий» и раздумий о судьбе Европы после Первой мировой войны, позволивших ему прийти к выводу о неизбежности преодоления кризиса европейской экономики и культуры. «Вопрос, окажемся ли мы, немцы, целиком и полностью увлечены потоком, хлынувшим с Востока, И завершится ли история германо-романской Европы, — писал АВебер во введении к сборнику, - решен для меня сегодня в том смысле, что я верю в возрождение прежней динамики духовного развития. Европа опягь восстанет из волн». (Deutschland und die europaische Kulturkrise, S. 9).
818
('ведения об авторах
Вебер (Weber) Макс (1864-1920) - немецкий социолог, историк, экономист, чьи груды в значительной мере определили направление развития социально-научного знания в XX в.
Преподавал в Фрейбургском (1893-1896), Гейдельбергоком (1896— 1898, 1902-1919) и Мюнхенском (1919-1920) университетах. Основатель социологии религии. Социальная философия, лежащая в основе исторической социологии Вебера, наиболее отчетливое воплощение получила в работе «Протестантская этика и дух капитализма» (1904-1905).
Методологическая специфика социологии Вебера определяется концепцией понимания, учением об идеальном типе, а также постулатом свободы от ценностных суждений. Наличие «ценностных идей» - трансцендентальная предпосылка наук о культуре; она состоит в том, что мы, будучи «культурными» существами, нс можем изучать мир, нс оценивая его, нс наделяя его смыслом. Какая из ценностей является определяющей в познании — не результат произвольного решения ученого, а продукт духа времени, духа культуры. Идеи и интересы, определяющие направленность и цели исследования, изменяются во времени, что отражается в формулируемых науками о культуре понятиях, т.е. в идеальных типах. В бесконечности этого процесса - залог безграничного будущего наук о культуре.
Вивдельбавд (Windelbaad) Вильгельм (1848-1915). Родился в семье прусского служащего. После окончания гимназии в родном городе он учился в университетах Йены, Берлина и Геттингена, изучал сначала медицину и биологию, а позже - историю и философию. Как философ он испытал в равной мере влияние как Куно Фишера, так и Германа Лотце. Взгляды на историю сформировались в русле идей Фишера, а под руководством Лотце Виндельбанд в 1870 е защитил диссертацию на тему «Концепции случайности», в которой проявилось его «тяготение к системности». В 1873 е он получил доцентуру в Лейпциге после своей работы «Достоверность знания», а с 1876 е — профессор в Цюрихе; спустя год он переезжает в Фрейбург. Первая крупная публикация Виндельбанда — это «История новейшей философии и ее связь с общей культурой и частными науками», первый том которой вышел в 1878 г. Самыми продуктивными были годы, проведенные в Страсбурге (1882-1903). В это время он гтодютовил и записал ряд популярных сочинений и речей по теме «Введение в философию»; первый выпуск вышел в 1884 е, а затем пережил многочисленные дополненные и расширенные переиздания под названием «Прелюдии». К этому же периоду относится знаменитая речь на заседании Страсбургского ректората, известная под названием «История и естествознание», а также (а может быть, прежде всего) опубликованная в 1892 году, а затем продолженная Хайнцем Геймзёгом (Hcimsoeth) «История философии». В 1903 г Виндельбанд как преемник Куно Фишера был приглашен в Гейдельберг, где проработал вплоть до самой смерти (в 1915 г).
Сведения об авторах_________________________________________819
Для последнего периода характерны работы системного направления: это «Принципы логики» (1912), но - главное - «Введение в философию» (1914). Особого внимания заслуживает его академический труд «Обновление гегельянства» (1910), в котором он, по словам Ih-дамера, «подготовил неогегельянство». И кроме того, к этому периоду относятся «Лекция о войне» (1916) и «История философии», составившие его наследие.
Как специалиста по истории философии Виндельбанда интересовал вопрос о том, как в сознании формируются принципы научного понимания мира и человека и какую роль в этом шрают идеи, возникающие в процессе историческою развития. При этом в первую очередь его занимают не личности философов, хотя их портреты, по мнению Виндельбанда, «не лишены привлекательности», а история понягий и проблем. Он считает, что их следует понимать как «некоторую целостность, в которой все категории находятся во всеобщей связи и взаимодействии». При этом историко-философское исследование не может быть ограничено чисто «понягийным» конструированием исторического процесса, а должно опираться на «беспристрастное» изучение фактов. Особое значение Виндельбанд придавал греческой философии, ибо был убежден, что именно в греческом духе были «выкованы понятия и категории», наложившие свой отпечаток на все наше интеллектуальное бытие. И в этом смысле философия древних важнее всего того, что было создано философами всех последующих эпох (за исключением Иммануила Канта). Уже одно эго указывает на тяготение Виндельбанда к системности. Виндельбанд известен не только своими историко-философскими работами в области категориального аппарата, он считается основателем Юго-западной школы неокантианства в Германии.
При этом он не столько призывает буквально «назад к Канту», сколько предлагает в свете кантовских противоречий руководствоваться девизом: «Понять Канта — это значит превзойти его». Конкретно Виндельбанд усматривает значение Канта в том, что он создал основание для все-об1£млю!цсй культурфилософии, хотя он подчеркивает, ’гго этот термин отражает не «собственно кантовский подход к проблеме, а является результатом влияния его учения на духовную жизнь нашей эпохи». В центре внимания культурфилософии находятся универсальные ценности Истины, Добра и Красоты, которые существуют и проявляют себя как нормы во всех областях: мышления, чувствования и волеизъявления -ибо они укоренились в «нормальном сознании» (так Виндельбанд назы-вает кантовский разум вообще). Такие ценности не то чтобы реально существуют, но действуют (как это формулирует Виндельбанд), - и только опираясь на них он счит ает возможным противостоять релят ивизму, ибо только абсолютные ценности позволят' человеку «одержать победу над временным потоком» (остановить поток времени).
Отромное историческое значение имела попытка Виндельбанда положить в основу исторических наук теорию ценностей; его рассу
820 Сведения об авторах
ждения по этому поводу положили начало спору о ценностных суждениях и «дискуссии о естественных и общественных науках, длящейся щуг уже несколько десятилетий* (Гадамер). Виндельбанд проводил грань между естественными науками, имеющими дело с номотетиче-ским знанием и опирающимися на общие законы, и историческими науками, для которых представляют интерес отдельные события, неповторимые судьбы (идио1рафичсское знание). В исторической науке ценностная позиция занимает центральное место, поскольку она обусловливает выбор событий и объектов. Ведь не все, что происходит, становится историческим фактом; по словам Виндельбанда, индивидуальное событие становится исторически значимым лишь тогда, когда оно «возвышается над единичным и представляет интерес для человеческого сообщества в целом* (Gemeinschaft). Таким образом, «ценностная ориентация на человеческое сообщество (на социум) является главным критерием для зачисления отдельного события в разряд исторических»»... Это положение, которое сам Виндельбанд изложил лишь в общих чертах, было подробно разработано его учеником Генрихом Риккертом и превратилось в законченный раздел аксиологии и теории познания.
Гартман (Hartmann) Николай (1882-1950) - немецкий философ, основатель «критической онтологии*. Учился в Петербургском университете, после 1905 г. жил в Германии, с 1909 г. преподавал философию в Марбурге, с 1925 г. - профессор Кёльнского, а затем Берлинского университетов, в 1945-1950 п: работал в Геггингене. Его философские взгляды формировались в традициях Марбургской школы неокантианства.
Первая крупная работа Н.Гартмана «Платоновская логика бытия* (1909). Публикации 1909—1920 гг. были посвящены традиционным неокантианским темам, но именно в эти годы начинается работа по переосмыслению основ мировоззрения. Ее итогом сзади книги «Основные черты метафизики познания*, в которой Н.Гартман отходит от «мстодологизма* и «субъективизма* Марбургской школы. В 1926 г. появляется его выдающееся произведение «Этика*, основные идеи этого труда отчасти совпадают с идеями, высказанными М.Шелсром в труде «Формализм в этике и материальной этике ценностей*. Следующей важной вехой в философской эволюции Н.Гартмана стала книга «Проблема духовного бытия. Исследования к основоположению философии истории и исторических наук* (1933). Эта работа подготовила почву для «онтологии*, основная цель которой - систематически-философски изобразить и упорядочить все богатство познаваемого нами сущего. В онтологии Н.Гартмана весь космос знания рассмотрен и упорядочен с точки зрения философа.
Дильтей (Dflthey) Вильгельм (1833-1911) - немецкий историк культуры и философ. Представитель «философии жизни*; осново-
Сведения об авторах 821
положиик понимающей психологии и Школы «истории духа* (истории идей) в немецкой истории культуры XX в. Философские воззрения Дильтея формировались под влиянием, с одной стороны, немецкою идеализма и романтизма (внимание к миру субъекта и интерес к культуре и истории), с другой - англо-французскою позитивизма (Дж.С.Милль, Конт). Влияние на Дильтея оказало также неокантианство Баденской школы (противопоставление естествен но-научного и культурно-историческою познания). Центральным у Дильтея является понятие «жизни* как способа бытия человека, культурно-исторической реальности. Человек, по Дильтею, не имеег истории, но сам есть история, которая чолько и раскрывает, что он такое. Понимание собственного внутреннего мира достигается с помощью интроспекции (самонаблюдения), понимание чужого мира - путем «вживания*, «сопереживания*, «вчувствования*; по отношению к культуре прошлого понимание выступает кзк метод интерпретации, названный Дильтеем герменевтикой: истолкование отдельных явлений как моментов целостной душевно-духовной жизни реконструируемой эпохи. В более поздних работах Дильтей отказывается от интроспсции как психологического способа «понимания*, сосредоточиваясь на рассмотрении культуры прошлого как продуктов объективного духа. Вслед за романтиками Дильтей сближает историческое познание с искусством, ибо рассматривает целостность исторических образований сквозь призму целостности исторической личности. Он разработал учение о трех основных типах мировоззрения, понимаемого как выражение единой личностной установки: натурализме, идеализме свободы и объективном идеализме. Дильтей оказал большое влияние на развитие западной философии XX в.
Зиммель (Simmel) Георг (1858—1918) — немецкий философ и социолог, один из главных представителей поздней «философии жизни*, культурфилософ. Различают зри этапа духовной эволюции Зиммеля. Первый - натуралистический - связан с воздействием на Зиммеля прагматизма, социал-дарвинизма, спенсеровского эволюционизма. Второй этан - неокантианский. В центре внимания - ценности и культура, относимые к сфере, лежащей по ту сторону природной каузальности; деятельность гуманитария понимается Зиммелем как «трансцендентальное формотворчество*. Источник творчества - личность с ее априорно заданным способом видения. В соответствии с формами видения возникаю'! различные «миры* культуры: религия, философия науки, искусство и др. — каждый со своеобразной внутренней организацией, собственной уникальной «логикой*. Индивид живете нескольких мирах, и в этом - источник его внутренних конфликтов, имеющих глубинные основания в «жизни*. Идея «жизни* разработана Зиммелем на третьем, итоговом этапе его творчества. Жизнь реализуется в самоо1раничении посредством ею же самою созидаемых форм. На витальном уровне эта форма и фаница — смерть;
822
( 'ведения <>б ан т pax
смерть не приходит извне, жизнь несет ее в себе. На «трансвитальном» уровне жизнь превозмогает собственную самоограничен-ность, образуя «более-жизнь» («Mehr-Leben») и «более-чем-жизнь» («Mehr-als-Leben») - относительно устойчивые образования, порожденные жизнью и противостоящие ей в ее вечной текучести и изменчивости. «Более-жизнь» и «более-чем-жизнь» представляют собой формы культуры. На этом пути «философия жизни» трансформируется у Зиммеля в философию культуры. Зиммель даст общую схему развития культуры: бесконечное порождение «жизнью» новых культурных форм, которые окостеневают, становясь тормозом ее (жизни) дальнейшего развития, а потому «сносятся» сю и заменяются новыми формами, обреченными пережить ту же судьбу. В этом движении воплощается целый ряд конфликтов: содержания и формы, «души» и «духа», «субъективной» и «объективной» культур. В сознании неизбывности этих конфликтов состоит ««трагедия культуры».
Характерной чертой современного ему этапа развития культуры Зиммель считал борьбу жизни против принципа формы вообще, т.е. против культуры как таковой, которую Зиммель понимает как утонченную, исполненную разума форму жизни, результат духовной и практической работы.
КАЛЕР (КжЫег) Эрих фон (1885-1970) — австрийско-немецкий историк, социолог и философ, искусствовед и литературовед, представитель неоромантического направления в современной философии (порой его причисляют и к неогегельянцам). Обладая неким синоптическим видением современного мира и используя для решения выдвигаемых современностью проблем метод комплексного анализа, в котором проявилась вся широта его эрудиции, он внес весомый вклад в развитие культурологии.
Огец, Рудольф Капер (1854-1932), промышленник, за заслуги перед Австро-Венгрией был возведен императором Фрапцем Иосифом в рыцарское достоинство. Мать — Антуанетта Шварц (1862-1951), детская писательница. Калер получил образование в университетах Вены, Мюнхена, Гейдельберга. В 1911 г присуждена докторская степень в Венском университете за диссергацию «О праве и морали». В 1913-1933 п: живет в Термании. Эти годы ознаменованы знакомством и дружбой с leopie, Вебером и Гундольфом. В 1933 г: Калер был внесен нацистами в черные списки, эмигрировал в Чехословакию и получил чешское гражданство. В 1935 i; переехал в Швейцарию, а в октябре 1938 г эмшрировал в США, где вместе с семьей поселился в Принстоне (Нью-Джерси). В 1941-1945 гс Калер читал лекции в Школе социальных исследований (Нью-Йорк), работал в универ-ситезах Чикаго, Нью-Йорка, Манчестера, Принстона и штата Огайо, а также в Инстизуте нро(рсссивных исследований (Принстон). В послевоенные годы читал лею щи вунивсрсигезахтах Великобритании и Германии.
Среди наиболее известных трудов Калера — «Династия Габебур-
Сведения об авторах 823
гов* (1919), «Израиль среди народов* (1933), «Немецкий характер в истории Европы* (1937), «Человек-мерило* (1943), «Башня и бездна* (1957), «Смысл истории* (1964), «Выход из лабиринта* (1967) и «Орбита Томаса Манна* (1969).
Творчество Калера носит поистине энциклопедический характер и охватывает множество различных гуманитарных дисциплин и исторических периодов.
Делом, которому Калер посвятил всю жизнь, было изучение человеческой истории и истории человеческого сознания. Средоточием его философской мысли было человечество как всеединство, подтверждением чему, как он полагал, служит вся историческая и биологическая эволюция человека. В своих исторических трудах Калер вырабатывает методику, позволяющую ему досгичь некоей «целостности*, при наличии которой прошлое предвосхищает настоящее, а настоящее угадывается в прошлом; в таком единстве «далекого* и «близкою* история предстает вневременной целостностью, обретает протяженность и обращенность в будущее. Калер проводит также идею единства знания (при котором исчезает деление на «науку* и «искусство*) и единства жизненного опыта. Он усматривает тесную взаимосвязь между человеком (человеческим сознанием) и историческим событием. Раскрывая их органическую структуру, Калер впервые заявляет о «нравственной антропологии*, науке «о человеке, /для человека и посредством человека*, — «новой науке*, по характеристике Г. Бро ха, основанной па тезисе о самосознании человека, т.е. о его способности (в силу трансцендентной сущности) познавать окружающий мир и самого себя. По мере накопления знаний, взаимодействие между человеком и окружающим его миром становится все теснее, происходит сближение форм и обзяктов сознания, а научная система все более приближается к достижению изначального (донаучного) видения единства мира. Такова цель, постулируемая Калером, — цель, к которой можно стремиться, но которая едва ли достижима. Неоромантик, Калер видел будущее как развитие человеческого духа, вплоть до того момента, когда «единая наука* придет к «человеку как идее*. В этой науке будущего исчезнет привычное ныне деление на отдельные области знания. В «новой науке* Калер видит особый вид творчества, в процессе которого исследователь одновременно реализует себя как ученый и как художник, создавая при этом идеальный образ единой картины мира.
Кассирер (Cassirer) Эрнст (1875-1945), немецкий философ, родился в Бреслау (ныне Вроцлав) в Силезии, учился в университетах Берлина, Лейпцига, Гейдельберга, Мюнхена и Марбурга. В Map6ypie он был наиболее одаренным учеником Германа Когена. Позднее Кассирер примкнул к Марбургской школе неокантианства. Свою научную деятельность он начал в качестве приват-доцента Берлинского университета. Во время первой мировой войны находился па государственной
824
Сведения об авторах
гражданской службе. В 1919 г. получил звание профессора во вновь учрежденном Гамбургском университете, ректором которого он стал в 1930 г. Еврей по национальности, Кассирер вышел в отставку, когда Гитлер пришел к власти в Германии. После двух лет пребывания в Оксфорде (1933-1935) он перебрался в Швецию, в Гётеборгский университет. В 1941 г. он уехал в Соединенные Штаты, где стал работать на философском факультете Йельского университета, а затем, с 1944 е, па философском факультете Колумбийского университета в Нью-Йорке. Наибольшее влияние на Кассирера, кроме неокантианства Германа Когена оказали «Феноменология духа* Гегеля, философия истории Гердера и физическая теория Герца. Хотя Кассирер прежде всего является философом культуры, он более чем кто-либо из его современников повлиял на развитие философской антропологии. Разрабатываемая им концепция человека побуждала его к занятиям не только теорией языка; он много писал и по проблемам, связанным с научной методологией, занимался также примитивными культурами, мифологией, политикой, религией и литературой.
В своем главном труде «Философия символических форм* в трех томах (1923-1929) Кассирер предпринял попытку проанализировать всю совокупность форм творческой активности человека. Ведь ни одна из областей культуры, будь то язык, мифолотя, наука, образование, искусство или религия, не дает непосредственного знания о мире. Скорее, все они представляют' собой различные «формы представления*, которые коренятся в различного рода первобыт ных символах, образах и актах. Человеческое сознание как бы умозрительно предполагает эти формы, ибо человек не находит в действительном мире ни порядка, ни разумности, все это создастся его разумом. Поэтому совсем не нужно, чтобы категории познания обосновывались теоретически, как это делал Кант, они могут быть лишь эмпирически схвачены и установлены. Методика и символика так называемых естественных наук обязаны формальным конструкциям ничуть нс меньше, чем математика. Творческой активностью человеческого разума объясняется вся человеческая деятельность в целом, но нигде роль символов нс выступает настолько значительно, как в естественных науках. Физика, например, выросла из первоначально грубого житейского реализма и постепенно преобразилась в нечто в высшей степени символическое. Она не столько «описывает* реальность, сколько «упорядочивает* ее. Эго же самое движение аг конкретной частности к созданию абстрактных структур характеризует и все остальные устремления и достижения человеческого разума. Затем, для того чтобы понимать человека, мы должны понИхМать его язык, символические конструкции и функции которого характеризуются тем же движением от эмпирически «схваченного* к абстрактному.
Философия Кассирера стремится взаимодействовать со всеми аспектами человеческой деятельности. Выведенная им морфология сознания показываем различные направления движения человеческого
Сведения об авторах 825
духа, и модели этого движения различаются между собой. История, согласно Кассиреру, демонстрирует то, как растет знание человека о самом себе как об индивиде, выражающем свою автономную сущность. В ней всегда присутствует тенденция развития от порабощения к познанию сущности, ко все увеличивающейся свободе. Но сама эта свобода никогда полностью в мире не отсутствует; полнота ее существования в мире зависит от смыслообразующей, понятийной функции сознания, которая творчески и раскрепощенно использует язык символов.
Нс в меньшей степени, чем на философию XX в., 'груд Кассирера повлиял и на развитие семантики, антропологии и социальной психологии. И хотя идеалистический налег его неокантианских идей может по большей части считаться уже чем-то прошедшим, ею вклад в философию языка и культуры всегда будет непреходящей ценностью.
Кронер (Kroner) Рихард (1884- 1974) - философ, профессор, преподавал в 1919 г. - - во Фрейбурге, в 1924 г. - в Дрездене, в 1929 г. - в Киле, в 1934 г. - во Франкфурте-на-Майне. В 1935 г. лишен нацистами права преподавания; эмигрировав из Германии, Кронер работал в Оксфордском университете, затем — с 1940 г. - в Канаде и США. В 1949- 1952гг. - профессор философии религии в Обадиненной теологической семинарии (Нью-Йорк), с 1953 г. - в Тсмпльском университете (Филадельфия). Эволюция философских взглядов Кронера прошла три этапа. Он начинал как ученик Риккерта и унаследовал от него интерес к проблеме ценности. В 1910 г. вместе с Г Мелисом, Ф.А.Стспуном и С. И.Гессеном Кронер основал международный журнал «Логос» и до 1933 г был редактором немецкого издания. В этом журнале Кронер критиковал с дуалистических позиций философский монизм. Жестокость мировой войны и потребность осмыслить происходящее обратили его внимание к философии Гегеля. Во второй, неогегельянский период в книге «От Канта до Гегеля» (1921-1924) Кронер пытался реконструировать целостный ход развития немецкого идеализма. Впервые в историо1рафии он раскрыл значение идей Ф. Шиллера для истории немецкой классической философии. По Кроперу, интерпретируя интеллектуальную интуицию как эстетическую, Шиллер способствовал переходу от этического идеализма Канта и Фихте к эстетическому идеализму Шеллинга. В книге «Самоосу-ществление духа. Пролегомены к культурфилософии» (1928) Кронер утверждал, ото сущность и смысл культуры коренятся в потребностях человеческого духа, в присущих ему противоречиях природного и божественного, чувственного и разумного, в полюсах единства и множественности духа. На этом основании Кронер езроит работу «Куль-турфилодофская база политика» (1931), объясняя противоположность внешней и внутренней политики, демократии и монархии, сословного и классового господства. В годы эмифации начинается третий период его творчества, связанный с религоозными исканиями. Кроперу становятся близки идеи С.Кьеркегора и «диалектической теологии».
826 (.'ведения об авторах
Лессинг (Lessing) Теодор (1872—1933) относится к числу почти неизвестных у нас авторов, да и на Западе имя его знают только специалисты, ибо в большинстве энциклопедических словарей оно даже не упоминается. Между тем это один из крупнейших европейских мыслителей начала века, философ и культуролог, литературный критик и публицист в одном лице. К тому же он был медик, п потому среди его работ встречаются сугубо специальные исследования по медико-психологическим проблемам. Т.Лессинг родился в семье врача. Он получил прекрасное образование и имел две докторские степени: по медицине и философии. Он читал лекции как приват-доцент, работал в литературном журнале «Аксьон* и, кроме того, находил время для просветительско-благогворигельной деятельности, что на некоторое время сблизило его с социал-демократическим движением. Так, в 1904 г. в Дрездене он впервые основал курсы для бесплатного обучения рабочих.
Лессинг начал печататься в 90-е годы. Объемный литературоведческий труд о комедии был опубликован еще в 1891 г. На рубеже ХХв. он пишет несколько литературно-философских работ: «Право жизни* (1899), «Одинокие песни* (1899). А в период с 1904 по 1910 г. возникают его главные труды: «Посевы в снегу* (1904), «Шопенгауэр, Вагнер и Ницше* (1906), «Гипноз и внушение* (1907), «Душа театра. Эстетика сценического искусства* (1907), а также «Лекции по аксиоматике ценностей* (1908).
События Первой мировой войны оказали серьезное влияние па Лессинга кгж культуролога. Уграта иллюзий и разочарование нашли выражение в трех его работах - «Философия как действие* (1914), «История как осмысление бессмыслицы* (1919), а также «Проклятая культура* (1921). Здесь он выступает как приверженец «философии жизни*, его основные идеи созвучны, в первую очередь, А Бергсону и Людвигу Клагесу.
В автобио1рафической книго «Мгновения* Лессинг подробно рассказывает о том времени, когда они вместе с Клагесом «призвали дух к себе на суд*. Лессинг осуждал дух, считая его могильщиком жизни, мертвящим рассудком, способным подбить и человека, и землю. Однако в 20-е годы их нуги разошлись, и Клагес на целые 20 лет пережил друга своей юности Теодора Лессинга, который, спасаясь от фашизма, был вынужден эмигрировать в Чехословакию, где и погиб от рук неизвестных убийц.
20-е и 30-е годы окрасили творчество Лессинга новыми красками. В эти годы созданы «Принципы харакзерологии* (1926), «Цветы* (1928), «Демоны* (1928), «Еврейская ненависть к себе* (1930), «Германия и евреи* (1933).
После смерти Лессинга в 1935 г. в г Праге было издано Собрание его сочинений в десяти томах.
В приведенной главе из книги «Шопенгауэр, Вагнер, Ницше* как нельзя более ярко выражены идеи «философии жизни*. Лессинг
Сведения об авторах 827
противопоставляет разум и чувство, приветствуя чувство (страсть) как символ жизни и клеймя ист ину (разум, дух) за разрушение веры.
Небезынтересны обращение Лессинга к теме душевного конфликта в русской культуре, сравнение Ницше с гончаровским Обломовым; и, конечно же, никого нс оставят равнодушным рассуждения Лессинга о взаимоотношении полов: оценка женщины как существа более высокого не только в биологическом, но и в рациональном, интеллектуальном плане. Пожалуй, не так уж часто мы слышим от мужчины признание того, что мужчина - существо более примитивное, природное, инстинктивное и эгоцентричное.
Риккерт (Rickert) Генрих (1863-1936) — немецкий философ, главный представитель Баденской школы неокантианства, культур-философ. Его книга «Науки о природе и науки о культуре* вышла в 1899 г. и заключала в себе первое более или менее законченное изложение его методологической теории. В 1905 г. появился русский перевод первою издания книги, в 1911 г. — второго издания. Термин «Naturwissenschaften* передается в переводе двояко: «науки о природе*, когда они противополагаются «наукам о кульгуре*; и «естественные науки*, когда речь идет о противоположности их историческим. Термин «5Afertbegriff* переводится через понятие «ценности* (а не «ценностные понягия*), объединяющее в себе как понятия, образованные па принципе ценности (например, исторические понятия, образованные через отнесение к ценностям), так и понятия о ценностях (как, например, все философские понятия). С появлением этой книги теория, получившаясвое обоснование в большом 1руде Риккерга «Границы естественно-научною образования понятий. Логическое введение в исторические науки* (Пер.с нем. Бодена А. СПб., 1903. II, 615, VI), значительно уточнялась, развивалась. Развивая выдвинутую Виндель-бандом идею о различии между идиофафическим и номотетическим методами, Риккерт при шел к выводу, что это различие вытекает из различных принципов отбора и упорядочивания эмпирических данных.
Тиллих (Tillich) Пауль (1886-1965) — немецко-американский христианский мыслитель, теолог, философ культуры. Получил богословское образование в университетах Берлина, Бреслау, ГЬлле. До 1933г.— профессор философии в Марбурге и Франкфурте. С 1933 г- профессор Нью-Йоркского, с 1955 г. — Гарвардского университетов. Пивные проблемы творчества Тиллиха - христианство и культура: место христианства в современной культуре и духовном опыте человека, судьбы европейской культуры и европейского человечества в свете евангельской Благой Вести. Эти проблемы рассматриваются Тиллихом в терминах онтологии и антропологии, культурологии и философии истории, христологии и библейской юрменевтики. Критерием глубины культуры для него является религиозный опыт, всегда в культуре присутствующий.
828 Сведения об авторах
Трёльч (Ttoeltsch) Эрнст (1865-1923) - немецкий теолог и философ; с 1894 г. — профессор в Гейдельберге, с 1915 г. — в Берлине. Известен прежде всего своей критикой историзма и работами в области религиозной социологии. Религиозно-философские взгляды Трёльча сложились в русле идей либерального протестантизма. Вслед за Ричлем он стремился выработать исторический метод в теологии и заменить им чисто догматический метод, ставя задачей рассмотреть «общую историю развития религиозного духа с точки зрения его укорененности в жизни* и анализируя в этом плане развитие христианства (особенно протестантизма) в его связи с общим развитием европейской кулыу-ры. Отводя религиозной ценности центральное место в сисгеме культуры, Трёльч надеется таким путем преодолеть «опасности* историзма, т.е. релятивизма в оценке культуры и ее истории.
Шастель (Chastel) Авдре (1912-1990) родился в Париже, профессиональное образование получил в Высшей нормальной школе у Анри Фосийона. Развивая исследования в направлении, близком принятому иконо1рафической школой Варбургского института в Лондоне, Шастель имел тесные контакты с наиболее видными его представителями Фрицем Закслем, Эрвином Панофски, Рудольфом Вштковсром. Труды Андре LUастеля, вышедшие в конце 50-х годов, являются классической работой по истории ренессансной культуры. Им опубликованы монофафии «Марсилио Фичиыо и искусство*, «Искусство и гуманизм в эпоху Лоренцо Великолепного*. Шастель обнаружил тесную связь и взаимодействие искусства с гуманистической и философской мыслью Флоренции второй половины XV в., а также влияние флорентийского неоплатонизма на шедевры высокого Возрождения. Привлекая произведения выдающихся мастеров «века Медичи* и их менее известных собратьев по ремеслу, сочинения таких мыслителей, как Фичино, Пико, Ландино, Полициано и самого Лоренцо Медичи, Шастель показал зависимость стиля и содержания изобразительного искусства от идейного климата и духовной ситуации времени.
Шпенглер (Spengler) Освальд (1880-1936) - немецкий философ, один из крупнейших теоретиков культуры XX в., представитель «философии жизни*. В «морфологии культуры* Шпенглера прослеживается влияние некоторых идей А.Шопенгауэра, Ф.Ницше, А.Бергсона, эстетического учения В.Воррингера. Сам Шпенглер не признавал за философией в век «цивилизации* сколько-нибудь существенной роли. В наиболее значительном своем произведении, первом томе «Заката Европы*, вышедшем в свет по окончании Первой мировой войны, Шпенглер выдвинул концепцию культуры, непосредственно или косвенно оказавшую очень большое влияние на историко-культурологическую мысль XX столетия. Опираясь на обширный материал, накопленный к тому времени археологией, этнографией, сравнительным языкознанием и другими пауками, Шпен
Сведения об авторах___________________________________________829
глер стремится раздвинуть горизонты традиционной исторической науки, определить место, прежде всего, западноевропейской культуры в истории человечества. В его творчестве ота попытка тесно связана с резкой критикой основных постулатов западной исторической науки XIX в.: европоцентризма, панлогизма, историзма «линейной» направленности. Этой схеме развития Шпенглер противопоставляет учение о множестве культур, равноценных по уровню достигнутой ими зрелости. Таких завершенных кульгур Шпенглер насчитывает восемь: египетская, индийская, вавилонская, магическая (арабско-византийская), китайская, аноллоновская (греко-римская), фаустовская (западноевропейская) и культура майи. Их существование, согласно Шпенглеру, сеть свидетельство не единого процесса мировой истории, а единства проявлений жизни во Вселенной. Циклическая теория развития должна, по Шпенглеру, преодолеть механицизм одномерных эволюционных схем развития. Идея круговорота, угверждающая цикличность развития в разрозненных в пространстве и во времени культурных мирах, которые даже при одновременном существовании нс сообщаются между собой, обусловливает особое внимание к их индивидуальности, исключительности, вну грен нс му единству. При изучении их «физиогномики» Шпенглер применяет получивший большой резонанс в изучении истории культуры метод морфологического анализа. Движение истории, се логика рассматриваются Шпенглером как развитие и закономерные превращения (юность, расцвет, зрелость, упадок) предельно обобщенных культурно-исторических форм. Культура, по Шпенглеру, - это отличающее эпоху и, более того, создающее ее как целостность определенное внутреннее единство форм мышления и творчества, некая единая стилистика, запечатленная в формах экономической, политической, духовной, религиозной, практической, художественной жизни. В центре морфологии культуры Шпенглера - анализ этого стилистического единства. В противоположность догматическим, на его взгляд, принципам научного познания, Шпенглер обосновывает, ссылаясь на Гете, приоритет «лирического начала», «чувства жизни» в подходе к историческому целому как развивающемуся живому организму. Идея «прасимвола» в концепции Шпенглера призвана быть ключом к пониманию морфологии данной культуры. Одна из важнейших проблем культур критицизма XX в. - отношение культуры и цивилизации - в философии Шпенглера принимает характер непримиримой антиномии. Шпенглер выделяет в развитии культурно-исторического индивидуума следующие фазы: мифосимволическую раннюю культуру, метафизико-религиозную высокую культуру и поздпюю, окостеневшую культуру, переходящую в цивилизацию. Вееь цикл, согласно автору, длится около тысячелетия. Наряду с мегодом а наложи Шпенглер, стремясь доказать «параллельно-одновременный» характер прохождения этих стадий всеми историческими культурами, использует метод гомологии. Цивилизация повсюду обладает одними и теми же признаками. Она - симптом и выражение от
830 ( 'ведения об авторах
мирания культурною мира в его целостности, как организма, затухания одушевлявшей ею формотворчество идеи, возврат в небытие культуры, в этнический хаос. Предельно политизированная культурология Шпенглера строится на идее предопределенности близкой гибели Запада. Глубоко переживая идею неизбежного заката западноевропейской, «фаустовской», культуры, Шпенглер при этом демонстрирует весьма противоречивую, двусмысленную позицию, подчас переходящую в откровенную аполоютику, в отношении многих факторов «эпохи цивилизации», гибельных для исторической культуры, как переизбыток разрушительной техники, гиперурбанизм, безоглядное подчинение человеком природы, война. В области философии науки Шпенглер стремился акцентировать историко-культурную обусловленность научных концепций, выделить исторический, подвижный элемент картин мира, оценить по достоинству значение открытий естественных наук, особенно физики, для понимания динамизма общей мировоззренческой картины, какой она складывалась в начале XX в. Концепцию Шпенглера характеризуют абсолютизация роли духовной традиции, отрицание за наукой функции объективного познания действительности; Шпенглер подчеркивает антропоморфную, магнате-ски-суевсрную основу научного мышления. Задачу науки, так же как и других форм культуры, он видит в символизации, смысловой организации действительности. Шпенглер предугадал развитие самосознания науки в направлении все большей историчности. При этом он перенес некоторые положения теории энтропии в сферу социально-исторического познания, что и послужило ему обоснованием апокалипсиса западной культуры. Он точно охарактеризовал многие явления в современной науке: как, например, возрастающее методологическое единство научных дисциплин, сращенность отдельных наук в будущем, перенасыщенность научного языка символикой и т.п. Очевидно воздействие на взгляды Шпенглера становления неклассической науки: по Шпенглеру, именно такое развитие науки сделало абсолютно наглядной «душевную противоположность», которую осуществили в мире античная и западноевропейская культуры, - первая, тяготея к принципу телесности, пластичности, вторая - с самого начала стремясь к «обесплочивапию» мира. Обесплочивание, «борьбу пространства против материи» Шпенглер считает гграсимволом западной культуры, запечатленным уже в кельгеком и древне герма неком эпосах. Влияние философии Шпенглера носит многосторонний характер. Метод морфологического анализа, концепция «эквивалентных кульгур» стимулировали изучение локальных цивилизаций. Философия культуры Шпенглера оказала определенное влияние на так называемую историческую школу в науке (Кун, Фейерабепд и др.). Большое значение для современной философии культуры имеют установки Шпенглера на выявление общего языка культуры, культурной символики, а также его гипотезы относительно происхождения языка. В работах 20-30-х годов обнаруживается растущая реающонность взглядов
('ведения об авторах 831
Шпенглера, прежде всего политических. Многие его идеи с энтузиазмом воспринимаются идеологами фашизма, однако сам Шпенглер в 1933 г. отклоняет предложение национал-социалистов о сотрудничестве. В последующем критика Шпенглером политики властей повлекла за собой запрет упоминать его имя в политической печати. В одной из наиболее значительных его работ этого периода «Человек и техника» на смену концепции эквивалентных высоких культур приходит упрощенно-монистическая картина всемирного развития, вульгаризированные мотивы «воли к власти», борьбы за существование. Антиномия «культура - цивилизация» снимается в интерпретации всемирной культуры исключительно как «искусственности», противоестественности. Тем самым за развитием человечества отрицается культурно-духовное значение. Исключением Шпенглер считает лишь триумф научных открытий, порожденных техническим гением Запада, - сюда он перемещает центр тяжести духовности «фаустовского человека». Наряду с определением техники как «тактики жизни» Шпенглер ут верждает трансцендентный характер целей технической деятельности как не содержащей в себе ничего прагматического, ее символическую, «душевно-духовную» необходимость, самозабвенное и самоубийственное подвижничество западного человека. Шпенглер - первый в условиях принципиальной недооценки фактора техники западной философской мыслью - поставил вопрос о месте и роли техники в истории, о ее, как он писал, «метафизическом и моральном статусе», об универсальном воздействии техники на природу и общество. Особенное значение имел тезис Шпенглера о собственных закономерностях развития техники, ее автономности, гак же как и фундаментальная тенденция анализировать технику в рамках общего исторического процесса культуры. Отдельные стороны культурологии и философии Шпенглера нашли свое отражение в творчестве таких мыслителей XX в., как Л. Мэмфорд, И.Хёйзинга и др.
Шюц (Schfitz) Альфред (1899-1959) - австрийский философ и социолог, последователь Гуссерля, основатель социальной феноменологии. В 1939 в связи с «аншлюсом» Австрии эмигрировал в США, с 1952 г. — профессор социологии и социальной психологии Нью-Йоркской Новой школы социальных исследований. Испытал воздействие идей М. Вебера, Бергсона, позже Джеймса и Дж.-Г. Мида.
В первой, высоко оцененной Гуссерлем, книге «Смысловое строение социального мира» (1932) заложены основные идеи, развитые в последующих работах. В ней предпринята попытка философского обоснования социальных наук на основе гуссерлевской описательной феноменологии. Тем самым Шюц стремился выполнить поставленную Гуссерлем задачу восстановления связи абстрактных научных категорий с «жизненным миром», понимаемым как мир непосредственной человеческой жизнедеятельности, мир культуры. Исходя из факта непосредственной данности Я и «другого», Шюц анализирует переход
832 Сведения об авторах
от непосредственного глубоко индивидуального переживания индивида к социальности как объективному феномену, к представлению о социальном мире как мире «вещей». Этапы перехода: 1) индивидуальное сознание конституирует «значимые единства» из перасчлег генного потока переживания; 2) эти значимые единства объективируются во взаимодействии с другими индивидами; 3) «другие» выступают носителями типичных свойс тв, в свою очередь характеризующих социальные структуры, объективно (интерсубъекгивно) существующие в «точках пересечения» практических целей и интересов взаимодействующих индивидов. Таким образом, Шюц воспроизводит путь познания от субъекгишгых смыслов индивидуальной деятельности до высокогсиерализировапных конструкций социальных паук. По сути дела социальная феноменология Шюца оказывается социологией знания, ибо формирование социального 'трактуется здесь как продукт объективации знания в процессе человеческой практики.
То, что на первом этапе творчества Шюца трактовалось как жизненный мир, рассматриваемый в связи с его осмыслением в терминах объективной науки, позже, в американский период, стало анализироваться с позиций учения о конечных областях значений. Конечные области значений - специфичные, относительно изолированные сферы человеческого опыта: религия, сон, игра, научное теоретизирование, художественное творчество, мир душевной болезни и т.п. Повседневность - одна из конечных областей значений. Эти области значений или сферы опыта конечны в том смысле, что замкнуты в себе и переход из одной в другую если не невозможен, то требует определенных усилий и предполагает своего рода смысловой скачок, т.е. переориентацию восприятия па иную реальность, иную сферу опыта. Например, религиозный опыт резко отличается от опыта повседневности и переход аг одного к другому требует определенной душевной и эмоциональной перестройки. Каждая из конечных областей значений представляет собой совокупность данных опыта, демонстрирующих определенный «когнитивный стиль» и являющихся (по отношению к этому стилю) совместимыми друг с другом и в себе непротиворечивыми. Когнитивный стиль, определяющий каждую из этих сфер, складывается из шести элементов: особенная форма активности; специфическое отношение к проблеме существования обьек-тов опыта; напряженность отношения к жизни; особое переживание времени; специфика личностной определенности действующего индивида; особая форма социальности. Любая из сфер опыта или конечных областей значений отличается но нескольким из этих параметров. Если взять такие сферы, как мир повседневности и мир научного теоретизирования, окажется, что когнитивный стиль, характерный для повседневности, определяется в конечном счете особенной формой активности, по Шюцу, трудовой деятельностью. В мире научного теоретизирования, наоборот, практикуется созерцательная установка. Это основное отличие. Другое отличие мира повседневности от мира
С'педения об авторах
833
науки в том, что специфическое «эпохе» повседневности есть воздержание от сомнения в объективном существовании самою деятеля и предметов внешнего мира. В научном теоретизировании, наоборот, принято не учитывать личностную определенность теоретика. Специфичная форма переживания времени в науке - впевремешюсть, придающая теоретизированию свойство обратимости. Повседневная же деятельность необратима но причине необратимости изменений, вносимых в окружающий мир. Необратима и игра, но по другой причине. Теоретик может начать снова, пересмотреть, изменить решение проблемы. Подобного рода различия можно найти между миром повседневности и миром фантазии, миром повседневности и миром душевной болезни и т. д. Но все прочие «миры» ио отношению к миру повседневности характеризуются какого-либо рода дефицитом - дефицитом существования, дефицитом активности, дефицитом личностной вовлеченности и т.н. Поэтому Шюц именует повседневность «верховной реальностью» и ее рациональная типологическая структура оказывается, таким образом, наиболее полной и насыщенной, наиболее соответствующей деятельной природе человека формой человеческого восприятия мира.
По сути дела анализ различных сфер опыта, данный Шюцом, оказался анализом различных «культурных миров», выявлением свойственного каждому из них когнитивного стиля, внутренних форм их организации. Сам Шюц продемонстрировал возможности использования разработанного им понятийного аппарата, дав блестящие образны анализа и литературы, и мифологии, и некоторых типов личностей, распространенных в рамках повседневности (чужак, новичок и т.п.). В дальнейшем идеи Шюца легли в основу целых направлений в западной, прежде всего американской, науке об обществе, известных как феноменологическая социология и социология повседневности (или социология обыденной жизни).
Указатель имен
Абгар V Ухомо (8 - 50), царь Эдессы в Месопотамии - 432
Август (Augustus) Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н.э. 14 н.э.), первый римский император (с 27 до н.э.) 511, 592, 648
Августин Блаженный (Augustinus Sanctus) Аврелий (354 - 430), христианский теолог и церковный деятель 194, 298, 299, 313, 314, 358, 407 411, 443, 448, 450, 616, 670, 675, 705, 717, 718, 774, 804
Аверроэс - см. Ибн Рушд
Агриппа Неттесхеймский (Agrippa von Nettesheim) Генрих Корнелий (1486 1535), немецкий (уманист 269, 457
Аде мар (Adhemar) Альфонс Жозеф (1797 1862), французский естествоиспытатель - 277
Адорно (Adorno), Визенгрунд-Адорно Теодор (1903 - 1969), немецкий философ , социолог, музыковед 813
Александр Македонский (356 - 323 до н.э.), царь Македонии с 336 г., полководец 142, 268, 403, 556, 795
Александр VI (Родриго Ленцуоли Борджа) (1431 1503), папа римский с 1492 г., политический деятель 414,426
Алексис (Alexis) Виллибальд (наст, имя Георг Вильгельм Генрих Херинг) (1798 1871), немецкий писатель 221
Альберт Великий (Albertus Magnus), Альберт фон Болыптедт (ок. 1193 - 1280), немецкий философ и богослов, доминиканец - 505, 506
Альберт Саксонский (Albert von Sachsen, Albertus de Saxonia) (ok. 1316 1390), немецкий религиозный деятель, философ, математик, естествоиспытатель - 344
Альберти (Alberti) Леон Баггиста (1404 - 1472), итальянский ученый, архитектор, теоретик искусства 330, 372, 387, 389,434
Анаксагор из Клазомен (ок. 500 428 до н.э.), древнегреческий философ 171, 173, 335
Анаксимандр Милетский (ок. 610 после 577 до н.э.), древноречсский философ 398
Анголус Силсзиус (Angelus Silesius) (собств. Иоганн Шеффлер) (1624 - 1677), немецкий поэт-мистик 256
Анджелико (Angelico) Фра Джованни да Фьезоле; Беато Анджелико (ок. 1400 1455), итальянский живописец 289
Антиох из Аскалона (ок. 130 - ок. 68 до н.э.), древнегреческий философ-плагоник 402
Указа гель имён 835
Антисфен (ок. 455 ок. 360 до н.э.), древнегреческий философ 403
Апельт (Apelt) Эрпет Фридрих (1812 1859), немецкий философ 172
Араго (Arago) Доминик Франсуа (1786 - 1853), французский астроном, физик и политический деятель 264
Ареопагит см. Псевдо Дионисий Ареопагит
Арстино - см. Бруни Леонардо
Ариосто (Ariosto) Лудовико (1474 1533), итальянский поэт 384, 421, 423
Аристипп из Кирены (ок. 435 366/355 до н.э.), древнегреческий философ 170
Аристотель, Аристотель Стагирит (384 - 322 до н.э.), дрсвне|рсчсский философ 42, 143, 171, 173, 174, 177, 179, 229, 296, 308 310, 316, 318, 324, 341 344, 348, 351, 356, 360, 370, 371, 385, 395 398, 402, 418, 539, 672
Аристофан (ок. 445 - ок. 385 до н.э.), древнегреческий комедиофаф - 268, 398
Арно (Amauld) Антуан, «Великий Арно» (1612 1694), французский богослов и философ, священник 406
Архимед (ок. 287 - 212 до н.э.), древне ipc чес кий ученый - 395
Баадер (Baader) Франц Ксавер фон (1765 1841), немецкий религиозный философ, врач, естествоиспытатель - 474
Бальзак (Balzac) Оноре де (1799 1850), французский писатель - 159
Барт (Barthes) Ролан (1915 1980), французский семиотик, критик, эссеист -811
Барт (Barth) Эрнст Эмиль Пауль (1858 - 1922), немецкий философ и социолог 716, 720
Баумгартен (Baumgarten) Карл Август Людвиг Герман (1825 1893), немецкий историк, публицист - 768
Баур (Baur) Фердинанд Христиан (1792 1860), немецкий церковный историк 692
Бауэр (Bauer) Вильгельм (1877 - 1953), австрийский историк - 715
Бах (Bach) Иоганн Себастьян (1685 - 1750), немецкий композитор и органист 157,221,226
Бацци Джовапаптонио см. Содома
Баччо д’Аньоло (Baccio d’Agniolo) (наст, имя Бартоломео (Баччо) Бальони) (1462 1543), итальянский архитектор и резчик по дереву 374
Башкирцева Мария Константиновна (1860 1884), писательница и художница - 32
Башляр (Bachelaid) Гастон (1884 1962), французский философ, эстетик -813
Бебель (Bebel) Август (1840 - 1913), деятель германского и международного рабочею движения - 480
Беза (Beza, de Bdze) Теодор (1519 1605), деятель Реформации в Швейцарии и Франции 423
Бейль (Bayle) Пьер (1647 - 1706), французский публицист и философ - 172
БеккадсллиА. см. Паиормита
Беккер (Becker) Карл Генрих (1876 1933), немецкий историк ислама 717, 718
Беллами (Bellamy) Эдуард (1850- 1898), американский писатель - 480
836
Указатель имён
Беллармин (Bellarmin) Роберто Франческо Ромео (1542 1621), итальянский теолог и философ 268, 406
Беллини (Bellini) Джованни (ок. 1430 - 1516), итальянский живописец - 428
Белов (Below) Георг фон (1858 - 1927), немецкий историк-медиевист - 17, 18, 723
Бельтрами (Beltrami) Лука (1854 1933), итальянский искусствовед - 388
Бембо (Bembo) Пьетро (1470 - 1547), ит альянский писатель, теоретик литературною языка и стиля 364, 374
Бенивьепи (Benivieni) Джироламо (1453 1542), итальянский по эт 301, 380
Бентам (Bentham) Иеремия (1748 - 1832), английский философ, основатель утилитаризма 480
Бергсон (Bergson) Анри (1859 1941), французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни - 171, 175, 228, 260, 615, 810, 811, 826, 828, 831
Беркли (Berkley) Джордж (1685 1753), английский философ 126
Бернар Клервоский (Bernard de Clairvaux) (1090 - 1153), французский церковный деятель, теолог-мистик - 407, 408
Бернардин Сиенский (Bernardino da Siena) (1380 1444), итальянский священник, монах-фрагщисканец - 387
Бернгейм (Bernheim) Эрнст (1850 - 1942), немецкий историк 715
Бернсон, Беренсон (Berenson) Бернард (1865 - 1959), американский историк искусства 388
Бернстайн (Bernstein) Ричард Джейкоб (р. 1932), американский философ 811
Берр (Вегт) Анри (1872 1954), французский историк 720
Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770 1827), немецкий композитор 158, 221, 249
Бехайм, Бехам (Beheim, Be ham), Бартель (1502- 1540) и Ганс Зсбальд (1500 1550), немецкие художники-граверы, братья - 461
Бисмарк (Bismark) Отто Эдуард Леопольд фон Шёнгаузен (1815 1898), немецкий государственный деятель, рейхсканцлер - 13, 19, 20, 36, 223, 224, 235,264,639 641,649,650
Бициус А. см. Готхельф И.
Бишоф (Bischof) Герман, немецкий историк (XIX в.) - 468
Блант (Blunt) Энтони Фредерик (1907 - 1983), британский искусствовед - 386
Боде (Bode) Карл (1911 1993), америкаг гский литературовед и культуролог 536
Боден (Bodin) Жан (1530 1596), французский писатель и мыслитель, политический деятель, юрист 538
Бодлер (Baudelaire) Шарль (1821 - 1867), французский поэт - 367
Бодрийяр (Baudrillard) Жан (р. 1929), французский эстетик, культуролог, социолог - 811
Боккаччо (Boccaccio) Джованни (1313 1375), итальянский писатель, гуманист - 411,432
Бокль (Buckle) Генри Томас (1821 - 1862), английский историк и социолог-позитивист 424
Борджа, Борджиа (йен. Borja, итал. Borgia), итальянский аристократический род испанского происхождения 263,421
Указатель имён 837
Борджа (Boigia) Чезаре (ок. 1475 - 1601), итальянский политический деятель, правитель Романьи 414, 417, 420
Боринский (Borinski) Карл (1861 - 1922), немецкий историк литературы -328
Боттичелли (Botticelli) Сандро (наст, имя Алсксандро Филипепи) (1445 1510), итальянский живописец 375,378,381,384,387
Брадвардин (Bradwardine) Томас (Фома) (1290 - 1349), английский богослов, церковный деятель - 428
Брандес (Brandes) Георг (1842 1927), датский литературный критик * 647
Брант (Brant) Себастьян (1457 1521), немецкий писатель 437
Браччолини Поджо (Bracciolini Poggio) Джованни Франческо (1380 - 1459), итальянский (уманист, церковный и политический деятель 412
Брейзиг (Breysig) Курт (1866 1940), немецкий социолог и историк - 19,
22 - 24, 49, 670, 693 - 695, 720
Брисман (Brismann) Иоганнес (1488 1 549), немецкий теолог - 474
Брох (Broch) Герман (1886 1951), австрийский писатель - 823
Брунеллески (Brunelleschi) Филиппо (1377 1446), итальянский архитектор, скульптор, ученый - 387
Бруни (Bruni) Леонардо (Аретино) (1370/1374 - 1444), итальянский туманист и историк - 388, 412
Бруно (Bruno) Джордано Филиппо (1548 - 1600), итальянский философ и поэт 157, 172, 176 178, 284, 305, 317, 354 357, 364, 406
Будда, индийский принц Гаутама Сиддхартха (623 - 544 или 560 - 480 до н.э.), основатель буддизма 261,269
Буркхардт (Burckhandt) Якоб (1818 - 1897), швейцарский историк и философ кулыуры 261,314,361,387,432,479,539,615,638,723,812
Буслаев Федор Иванович (1818 1897), филолог, историк литературы, искусствовед - 816
Бугру (Boutroux) Эмиль (1845 1921), французский философ 228
Бычков Виктор Василевич (р. 1942), культуролог, искусствовед, философ -816
Бэкон (Bacon) Роджер (ок. 1214- 1294), английский философ и естествоиспытатель 505, 506
Бэкон (Bacon) Фрэнсис (1561 1626), английский философ 315
Бюде (Budd) Гильом (1468 - 1540), французский гуманист, эллинист - 423
Бютщсрлин (Bunderlin, Wunderl) Ганс (ум. в 1533), деятель Реформации в Германии 474
Бюффон (Buffon) Жорж Луи Леклерк (1707- 1788), французский естествоиспытатель - 144, 544
Бюхнер (Buchner) Фридрих Карл Христиан Людвиг (1824 1899), немецкий врач, естествоиспытатель и философ 168, 169
Вагнер (ybgner) Вильгельм Рихард (1813 1883), немецкий композитор, писатель и театральный деятель 158, 234, 261,267, 290
Вазари (\fasari) Джорджо (1511 - 1574), итальянский архитектор, живописец, историк искусства 374, 376, 383, 385
Вакксрнагсль Otockemagel) Мартин (1881 - 1962), швейцарский историк искусства 386
838
Указатель имен
Валла (Valla) Лоренцо (1405/1407 1457), итальянский филолог, туманист 329, 406, 412, 430, 432, 457
Ван Гог (Van Gogh) Винсент (1853 - 1890), голландский живописец - 249, 250
Варбург (Wirbuig) Аби (1866 1929), немецкий философ, историк, антрополог - 337
Варнхаген (Vamhagen) Рахель Антония Фредерика (урожд. Ле вин-Маркус) (1771 1833), немецкий общественный деятель 644
Васко да Гама (da Gama) (1469 1524), португальский мореплаватель - 506
Ваттимо (Vhttimo) Джанни (р. 1936), итальянский философ, культуролог, эстетик - 811
Вашингтон (Vfochington) Джордж (1732 1799), американский птсударствсн-1пяй деятель, первый президент США - 650
Вебер (Vfeber) Альфред (1868 - 1958), немецкий социолог и экономист - 720, 810,811,817
Вебер (Vfeber) Еле на (урожд. Фалленпттейн) (1844 1919), мать М. и
А.Веберов - 768
Вебер (Vfeber) Макс (Карл Эмиль Максимилиан) (1864 1920), немецкий социолог, историк, экономист и юрист 534,615,670, 695, 697, 698, 700, 716, 721,767 770,810 812,815,817,822,831
Вебер (Vfeber) Марианна (урожд. Шнитгер) (1870 - 1954), немецкая писательница, деятель женской) движения, жена М.Вебера 768
Веблен (Vfeblen) Торстейп Бунде (1857 1929), американский социолог и экономист - 559
Всликовский Самарий Израилевич (1931 1990), литературовед 816
Всльгаузен, Вельхаузсн (Vfellhausen) Юлиус (1844 1918), немецкий востоковед 18
Вёльфлин (Wolflin) Генрих (1470 - 1534), швейцарский £уманист, проповедник 448
Вергилий (Vfeigilius) Марон Публий (70 - 19 до н.э.), римский поэт - 398,400,408
Верроккьо, Всроккио (Vferrocchio) Андреа дель (наст, имя Андреа ди Микеле Чони) (1435/1436 1488), итальянский скульптор, живописец, ювелир 378,380, 381,406
Веселовский Александр Николаевич (1838 1906), филолог, историк литературы - 816
Вивес (Vives) Хуан Луис (Лудовико) (1492 1540), испанский мыслитель, iy-манист, педагог - 457
Вико (Vico) Джамбаттиста (Джованни Баггиста) (1668 - 1744), итальянский философ, один из основоположников историзма 273, 469
Виламовиц, Виламовиц-Меллендорф (Wilarnowitz-Mollendorf) Ульрих фон (1848 - 1931), немецкий филолог-эллинист - 52, 230, 663, 715
Вилысльм I Оранский (1533 - 1584), деятель Нидерландской буржуазной революции 208,218
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859 1941), германский император и прусский король в 1888 - 1918 гг. - 769
Випдсльбанд (Windelband) Вильгельм (1848 1915), немецкий философ неокантианец 10, 14, 24, 48, 66, 719, 723, 768, 793, 810, 812, 818 820, 827
Винкельман (Winckelmann) Иоганн Иоахим (1717- 1768), немецкий историк искусства 46,144
Указатель имён___________________________________________________839
Виссарион Никейский (ок. 1400 1472), византийский церковный деятель, ученый, гуманист - 379, 389
Витсло, Вителло (Witelo, Vitello) Пеле к (ок. 1230 ок. 1275), польско-немецкий философ и естествоиспытатель - 505
Витрувий (Vitruvius) Марк Поллион (вт. пол. 1 в. до н.э.), римский архитектор и инженер 377
Виттенбах (Wyttenbach) Томас (1472 1526), немецкий теолог, проповедник, деятель Реформации - 448
Ви'ггковер (Wittkower) Рудольф (1901 - 1971), немецко-американский искусствовед, историк архитектуры 828
Вольтер (Vbltaire) (наст, имя Мари Франсуа Аруэ) (1694 1778), французский писатель, философ, историк - 144, 172, 269, 538, 664, 666, 675
Вольф (ААЫП) Христиан (Кристиан) фон (1679 1754), немецкий философ-рационалист 157
Воррингер (Wbiringer) Вильгельм (1881 - 1965), немецкий философ и искусствовед 828
Вундт (Wundt) Вильгельм (1832 1920), немецкий психолог, философ, языковед 69
Вюйо (Vuillaud) Поль, французский ученый, специалист ио эзотеризму, псре-водчик (к. XIX нер. пол. XX в.) 390
Гадамср (Gadamer) Ганс Георг (1900 - 2002), немецкий философ - 819, 820
Гайденко Пиама Павловна (р. 1934), историк философии - 814
Галилей (Galilei) Галилео (1564 1642), итальянский физик, механик, астроном 111, 317, 322, 324 - 326, 331 333, 336, 339 341, 350, 351, 355, 365, 395, 406, 505, 506
Галлерани (GaUerani) Чечилия (Цецилия, Сесилия) (1473 - 1536), фаворитка Лодовико Моро, «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи 381
Гаман, Гаманн (Hamann) Иоганн Георг (1730 - 1788), немецкий философ, критик, писатель 494
Гамбетта (Gambetta) Леон Мишель (1838 1882), французский политический и государственный деятель - 650
Гарибальди (Garibaldi) Джузеппе (1807 - 1882), народный герой Италии, один из вождей революционно-демократического крыла Рисорджименто - 650
Гарнак (Hamack) Адольф фон (1851 1930), немецкий протестантский теолог - 230, 442, 472, 692, 718, 719
Гартман (Hartmann) Людо Мориц (1865 1924), австрийский историк 48,49
Гартман (Hartmann) Николай (1882 1950), немецкий философ, основоположник критической онтологии - 287, 810, 811, 820
Гарун аль Рашид, Харун Ар Рашид (763/766 - 809), халиф (с 786) из династии Аббасидов 503
Гаутама Шуддходана (V11/V1 в. до н.э.), индийский раджа, отец Будды 261
Гвиччардини (Guicciardini) Франческо (1483 - 1540), итальянский историк, философ, 1уманист 417, 423
Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770 1831), немецкий философ -57, 109, 148, 164, 172, 176- 178, 203, 223, 229, 606, 608, 616, 617, 619, 675, 679, 683, 686, 692, 714, 715, 720, 723, 776, 777, 779 782, 788, 798, 824, 825
ГЬйлинке (Geulincx) Арнольд (1624 1669), голландский философ - 273
840
Указатель имён
Геймзёт (Heimsoeth) Хайнц (1886 1975), немецкий философ 818
Геккель (Haeckel) Эрнст (1834 1919), немецкий биолог-эволюционист 487
Гельдерлин (Holderlin) Иоганн Кристиан Фридрих (1770 1843), немецкий поэт - 158, 204
Гельмгольц (Helmholtz) Герман Людвиг Фердинанд (1821 1894), немецкий физик, математик, физиолог и психолог 101
Гельмольт (Helmolt) Ганс Фердинанд (1865 - 1929), немецкий историк - 668
Генгенбах (Hengenbach) Памфилий (ок. 1480 1524/1525), i ивейцарский писатель, драматург, поэт 438
Гендель (Handel) Георг Фридрих (1685 1 759), немецкий композитор 157, 227
Георг Бородатый (Богатый) (1471 1539), герцог Саксонский с 1500 г, противник Реформации 440
Георге (George) Стефан (1868 - 1933), немецкий поэт - 686, 714, 723, 769, 822
Георгий Трапсзундский (1395 1484), византийский философ - 379,389
Гераклит Эфесский (Темный) (ок. 540 ок. 480 до н.э.), древнегреческий философ - 148, 160, 165,176 - 179, 396, 398, 411
Гербарт (Herbert) Иоганн Фридрих (1776 - 1841), немецкий философ, психолог и педагог 125,172
Гервинус (Gervinus) Георг Готфрид (1805 1871), немецкий историк, литературовед, политический деятель - 768
Гердер (Herder) Иоганн Готфрид (1744 1803), немецкий философ, критик, эстетик 144, 176, 494, 664, 666, 675, 824
Гере (Gohre) Пауль (1864 - 1928), немецкий политический деятель и теолог -768
Герман (Hermann) Иоганн Якоб Готфрид (1772 1848), немецкий филолог-классик 722
Герхардт (Gerhardt) Карл Иммануэль (1816 - 1899), немецкий историк, историк математики - 366
Герц (Hertz) Генрих Рудольф (1857 1894), немецкий физик 101, 102, 111, 824
Герцен Александр Иванович (1812 1870), писатель, публицист, философ, революционер 718
Гершензон Михаил Осипович (1869 1925), литературовед, философ, публицист - 816
Гесиод (VIII VII в. до н.э.), древнегреческий поэт 108
Гессен Сергей Иосифович (Осипович) (1887 1951), философ-неокантианец - 820
Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749 1832), немецкий поэт и мыслитель 27 32,34 36,40,74,89,113,138,148,158,159,176,178,181,200,205,218, 219, 221, 224, 230, 231, 266, 275, 326 328, 331, 479, 481, 632, 634, 635, 663, 684, 722, 767, 829
Гиберти (Ghiberti) Лоренцо (1378/1381 1455), итальянский скульптор и ювелир 376, 387
Гибсон (Gibson) Уильям Ралф Бойс (1869 - 1935), английский философ - 536
Гидденс (Giddens) Энтони (Антони) (р. 1938), британский социолог - 811
Гизо (Guizot) Франсуа Пьер Гййом (1787 1874), французский историк, политический деятель - 688
Указатель имён
841
Гинце (Hintze) Отто (1861 - 1940), немецкий историк - 721
Гиппий Элидский (иг. иол. V в. до н.э.), древнегреческий философ-софист 144
Гирландайо (Ghirlandaio) (наст, фамилия ди Томаззо Бигорди) Давид (1452 1525), итальянский живописец, мозаичист 386
Гирландайо (Ghirlandaio) (наст, фамилия ди Томаззо Бигорди) Доменико (1449 - 1494), итальянский живописец флорен гийской школы - 375, 386,387 Гирц (Geertz) Клиффорд (1926- 2006), американский антрополог, этнолог, теоретик культуры 814
Гитлер (Hitler) (Ш иклъгрубер) Адольф (1889 1945), глава германского фашистского государства - 557, 824
Гладстон (Gladstone) Уильям Юарт (1809 1898), английский государственный деятель 650
Die им (Gleim) Иотнн Вильгельм Людвиг (1719 - 1803), немецкий поэт - 433
Глюк (Gluck) Крист(х|) Виллибальд (1714 1787), австрийский композитор 226
Глюксман (Glucksmann) Андре (р. 1937), французский философ 811
Гнаук-Кюне (Gnauck-Kiihne) Элизабет (1850 - 1917), немецкая писательница, деятель женскою движения 281
Гоббс (Hobbes) Томас (1588 1679), английский философ-материалист 166,
169, 267, 413,420
Гогенштауфсны, Штауфспы (Hohenstaufen), династия германских королей и императоров Священной Римской империи в 1138 1254 гг. 143,328,557
Гольбах (Holbach) Поль Анри (1723 1789), французский философ 165
Гольбейн (Holbein) 1анс Младший (1497/1498 - 1543), немецкий живописец и график 227
Гомер, легендарный древнегреческий поэт 27, 108, 158, 398, 555, 685, 704, 708
Гомио Чуичиро, японский ученый, многие годы живший в Германии (к.
XIX - пер. пол. XX в.) - 716
Гонзага (Gonzaga) Фсдериго (1500 - 1540), маркиз, с 1530 г. герцог, правитель Мантуи - 386
Гончаров Иван Александрович (1812 1891), писатель 266
Гораций (Horatius), Квинт Гораций Флакк (65 до н.э. 8 н.э.), римский поэт - 386, 476
Готейн (Gothein) Эберхард (1753 1923), немецкий историк 72
Готхельф (Gotthelf) Иеремия (наст, имя Альберт Бициус) (1797 1854), швейцарский писатель - 227
Гоццоли (Gozzoli) (наст, фамилия ди Лезс) Бсноццо (1420 - 1497), итальянский живописец 381
Грация (Grazia) Винченцо ди (к. XVI нач. XVII в.), итальянский ученый 365
Гребель (Grebe 1) Конрад (ок. 1498 1526), немецкий религиозный деятель 460
Григорий Хсймбургекий, Грегор Геймбургский, Геймбург Григорий (Gregor von Heimbuig) (после 1400 1472), немецкий юрист, политический деятель, дипломат 435
Гроссетест см. Роберт Гроссетест
842 Указатель имён
Граций, Гуго де Гроот (Grotius, Hugo de Groot) (1583 - 1645), голландский
юрист, социолог и государственный деятель 405, 407
Грюневальд (Grunewald) Матиас (Матис Нитхардт) (1470/1475 ок. 1528), немецкий живописец - 227
Губин Валерий Дмитриевич (р. 1940), философ 814
Губман Борис Львович (р. 1951), философ, культуролог 811,814
Гумбольдт (Humboldt) Вильгельм фон (1767 1835), немецкий филолог, фило-
соф и языковед, государственный деятель - 117, 479
Гумилев Лев Николаевич (1912 1992), историк, этиолог, гео1раф 815
Гундолъф (Gundolf) (паст, имя Фридрих Леопольд Гунделъфипгер) Фридрих
(1880- 1931), немецкий историк литературы, писатель - 822
Гуревич Арон Яковлевич (1924 2006), и сгори к-медиевист, культуролог 816
Гуссерль (Husserl) Эдмунд (1859 1938), немецкий философ, основатель
феноменологии - 517 522,524,526 530,534 536,831
Гуттсн (Hutten) Ульрих фон (1488- 1523), немецкий писатель, гуманист, политический деятель 435, 437,447
ГУфеланд, Хуфелацд (Hufeland) Кристоф Вильгельм (1762 1836), немецкий врач-терапевт - 271
Гуч (Gooch) Джордж Пибоди (1873 1968), английский историк 719
Гюисманс (Huysmans) Шарль Мари Жорж (1848 1907), французский писатель 389
Даке (Dacque) Эдгар (1878 - 1945), немецкий палеонтолог, гоолог, философ -542
Д’Аламбер (D’Alembert) Жан Лерон (1717 1783), французский философ и математик - 144,168
Данилевский Николай Яковлевич (1822 1885), публицист, философ, социолог, идеолог панславизма - 718
Данте Алигьери (Dante Alighieri) (1265 1321), итальянский поэт, философ -158, 329, 374, 376, 379, 387, 389, 685, 704
Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809 1882), английский естествоиспытатель 484,487
Д’Аржан (d’Aigens) Жан Батист де Бойе (1704 - 1771), французский писатель и философ 269
Де Геер (De Geer) Герард Якоб (1858 1943), шведский геолог 514
Дезидерио да Сеттиньяно (Desiderio da Settignano) (ок. 1430 1464), итальянский скульптор - 381
Декарт (Descartes) Рене (Картсзий) (1596 1650), французский философ и математик 109, 130, 157, 293, 298, 353, 395, 405, 424, 426, 505, 631, 813
Де Костер (De Coster) Шарль Теодор Анри (1827 - 1879), бельгийский писатель 562
Дёллингер (Dollinger) Иоганн Йозеф Игнац (1799 1891), немецкий историк церкви - 456, 718
Демокрит (ок. 460 - ок. 370 до н.э.), древнефсчсский философ, основоположник атомистики 99,100, 165, 170, 395, 469
Демосфен (ок. 384 322 до н.э.), древнегреческий политический деятель, оратор - 647
Указатель имён 843
Денк (Derick) Ганс (1495 - 1537), теолог, один из вождей анабаптистов в Южной Германии 460,462
Деррида (Derrida) Жак (1930 2004), французский философ, эстетик, теоретик кулыуры - 811
Дестют де Трас и (Destutt de Тгасу) Антуан Луи Клод (1754 1836), французский философ, экономист, политический деятель - 144
Де Фриз (De Vries) Хуго (Гуго) (1848 1935), нидерландский ботаник 489
Джемс, Джеймс (James) Уильям (1842 - 1910), американский философ и пси-холоц один из основателей прагматизма 175,831
Дженсон (Janson) Хорст Вольдемар (1913 1982), американский искусствовед - 389
Джироламо, фра Джироламо - см. Савонарола Дж.
Джотто ди Бопдоне (Giotto di Bondone) (1266/1267 1337), итальянский жи-
вописец и архитектор 157
Дизраэли (Disraeli) Бенджамин, лорд Биконсфильд (1804 - 1881), английский государственный деятель, писатель 650
Диккенс (Dickens) Чарлз (1812 1870), английский писатель 221
Дильтей (Dilthcy) Вильгельм (1833 - 1911), немецкий философ и историк культуры 230, 260, 670, 794, 798, 810, 820, 821
Диоген Синопский (ок. 400 ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник - 469
Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (243 -313/316), римский император (284 305) 39,661
Дионисий Ареопагит - см. Псевдо-Дионисий Ареопагит
Дитерих (Dieterich) Альбрехт (1866 1908), немецкий филолог-классик - 768
Дове (Dove) Альфред Вильгельм (1844 1916), немецкий историк 77, 714
Донателло (Donatello) (Донато ди Никколо ди Бетто Барди) (ок. 1386 1466), ита;гьянский скульптор - 376, 389, 406
Донеллус, Донелль (Donellus) Гюг (1527 - 1591), французский юрист - 423
Достоевский Федор Михайлович (1821 1881), писатель и мыслитель 200
Дригп (Driesch) Ганс Адольф Эдуард (1867 - 1941), немецкий биолог и философ - 663
Дуглас (Douglas) Роберт Лонгтон (1864 1951), британский историк искусства 388
Дюгсм (Duhem) Пьер Морис Мари (1861 - 1916), французский историк науки 362, 366
Дюнцер (Duntzer) Генрих Йозеф (1813 - 1901), немецкий филолог 35
Дюрер (Durer) Альбрехт (1471 - 1528), немецкий живописец, теоретик искусства - 227, 390, 435, 437, 472
Евклид (III в. до н.э.), древнегреческий математик - 590
Екатерина II (1729 - 1796), российская императрица с 1762 г. - 439
Еллипек (Jellinek) Георг (1851 1911), немецкий юрист, государство вед - 768
*
Жан Поль (Jean Paul) (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) (1763 1825), немецкий писатель - 221
Жил (Gide) Андре Поль Гийом (1869 1951), французский писатель 389
844 Указатель имён
Заксль, Заксл (Saxl) Фриц (1890 1948), немецкий историк культуры 828 Зенкевич Михаил Александрович (1886 - 1973), поэт, переводчик - 770
Зенон из Китиона (между 336 и 332 между 264 и 262 до н. э.), древнегреческий философ-стоик - 398,403,554
Зибелъ (Sybel) Генрих фон (1817 1895), немецкий историк и политический деятель - 229, 717
Зигварт (Sigwart) Христофор фон (1830 1904), немецкий логик 473
Зиммель (Simmel) Георг (1858 1918), немецкий философ и социолог 50, 259, 260, 721, 722, 769, 794, 810 - 812, 821, 822
Золя (Zola) Эмиль (1840 1902), французский писатель 221
Зомбарт (Sombait) Вернер (1863 1941), немецкий экономист, историк и социолог, философ-неокантианец - 695, 698, 767, 769
Ибн Рутц, Ибн Роит (латинизир. Аверроэс) (1126 1198), арабский философ и врач, последователь и комментатор Аристотеля 143, 172, 300
Ибсен (Ibsen) Генрик (1828 - 1906), норвежский драматург - 159
HepHHr(Ihermg) Рудольф (1818 1893), немецкий юрист 399
Иероним Хирнхеймский (Hieronymus Himheim) (1637 1679), богемский философ, теолог 269
Индж (luge) Уильям Ральф (1860 - 1954), английский религиозный деятель -723
Иннокентий VIII (Джованни Батисто Чибо) (ум. в 1492), папа римский с 1484 г. - 414
Иосиф II (1741 1790), австрийский эрцгерцог с 1780 г., император Священной Римской империи с 1765 г. 439
Ирвинг (Irving) Вашинггон (1783 - 1859), американский писатель - 562
Йолли (Jolly) Юлиус (1823 1891), немецкий юрист, государственный деятель, публицист - 768
Кавальсри (Cavalieri) Томмазо (к. XV пер. пол. XVI в.), итальянский поэт -379, 383
Кавальканти (Cavalcanti) Джованни (1444? - 1509), итальянский дворянин -379, 380
Калер (Kahler) Эрих фон (1885 1970), немецкий историк, социолог и философ, искусствовед и литературовед 822, 823
Кальвин (Calvinus) Жан (1509 1564), деятель Реформации, основатель кальвинизма - 221, 423, 752
Кампанелла (Campanella) Томмазо Джованни Домипико (1568 1639), итальянский философ, поэт, политический деятель 317, 319 321, 337, 362
Кампанус (Campanus), Кампапо Йоханнес (ум. в 1574), голландский атттитри-нитарий времен Реформации - 461
Кант (Kant) Иммануил (1724 1804), немецкий философ 56 63, 65, 66, 104, 105, 123, 130, 131, 139, 144, 157, 171 173, 175, 177, 179, 227, 228, 234, 272, 277, 289, 364, 403, 440, 460, 467, 472, 585, 587, 591, 606, 619, 761, 774, 819, 824, 825
Кантор Владимир Карлович (р. 1945), писатель, литературовед 815, 816
Указатель имён_____________________________________________________845
Кардано (Cardano) Джироламо (Джеронимо) (1501/1506 - 1576), итальянский философ, врач и математик 319
Кареев Николай Иванович (1850 1931), историк и социолог 49
Карл Великий (742 - 814), король франков с 768, император с 800 г., из дина-
стии Каролингов 206, 218, 557, 672
Карл V (1500 1558), германский король и император Священной Римской империи в 1519 - 1556, испанский король Карлос I в 1516 - 1556 гг. - 447
Карлейль (Carlyle) Томас (1795 - 1881), английский философ и историк - 175, 200, 440, 444
Карлштадт (Karlstadt) (наст, имя Андреас фон Боденштейп) (ок. 1480 1541), деятель Реформации в Германии - 461
Карнеад из Кирены (214 129 до н.э.), древнегреческий философ 167
Каролинги, королевская (с 751) и императорская (с 800) династия во Франкском государстве - 328, 694
Каррара (Carrara), итальянский аристократический род, правивший в Падуе в 1318 1406 гг. 413
Касобон (Casaubon) Исаак (1559 1614), французский филолог-эллинист, геолог - 268
Кассирер (Cassirer) Эрнст (1874 1945), немецкий философ-неокантианец -
810,811,813,823 825
Кастельфранко (Castelfranco) Джорджо (1896 - ?), итальянский искусствовед 388
Кастильоне (Castiglione) Балъдассарре (1478 1529), итальянский писатель 374
Кауц (Kautz) Якоб (ок. 1500 - после 1532), деятель Реформации в Германии, проповедник - 474
Каэтан (Cajetanus) Томмазо де Вио (1469 1534), итальянский церковный дея-
тель, геолог, философ - 440
Кей (Key) Эллен Каролина София (1849 1926), шведская писательница и общественный деятель 281
Ксйзсрлин! (Keyserling) Герман (1880 - 1946), немецкий философ - 664, 666, 768
Ксйтлср (Keitler) R, немецкий исследователь (XXв.) 388
Келлер (Keller) ГЪтфрид (1819 1890), швейцарский писатель 272
Кеплер (Kepler) Иоганн (1571 - 1630), немецкий астроном - 321, 332, 333,
344, 348, 352, 353, 355, 364, 366
Керипф (I в.), один из первых гностиков 457
Керн (Кет) Фриц (1884 - 1950), немецкий историк и философ - 722
Керст (Karst) Юлиус (1857 1930), немецкий историк 715
Кёстлин (Kostlin) Юлиус (1726 1802), немецкий протестантский теолог -472
Кимон (ок. 504 - 449 до н.э.), афинский полководец и политический деятель />47
Киреевский Иван Васильевич (1806 1856), философ, литературный критик, публицист - 718
Кирхгоф (Kirchhoff) Густав Роберт (1824 1887), немецкий физик 77
Кистяковский Богдан (Федор) Александрович (1868 1920), правовед, социолог, философ 49
846
Указатель имён
Китс (Keats) Джон (1795 - 1821), английский поэт романтик - 406
Клаач (Klaatsch) Герман (1863 1916), немецкий антропологи анатом 514
Клагес (Klages) Людвиг (1870 1956), немецкий психологи философ 826
Кларк (Clarck) Кеннет Макензи (1903- 1983), британский искусствовед -388, 390
Клеант, Клеапф (ок. 330 ок. 232), древнегреческий философ, один из основателей стоицизма - 398
Клейн (Klein) Роберт (1918 1967), французский историк искусства 386
Клеон (ум. 422 до н.э.), древнефечсский политический деятель 647
Клингер (Klinger) Макс (1857 1920), немецкий живописец, график и скульптор - 769
Кнабс Георгий Степанович (р. 1920), историк, филолог, культуролог 816
Коген (Cohen) Герман (1842 1918), немецкий философ - 823, 824
Колонна (Colonna) Виттория (1490 - 1547), итальянская поэтесса - 384
Колумб (Columbus) Христофор (1451 1506), испанский (итальянского происхождения) мореплаватель 423, 506, 509
Коммин (Commynes, Commines) Филипп де (1447 1511), французский политический деятель, историк - 414
Кондильяк (Condillac) Этьенп Бонно де (1715 - 1780), французский философ просветитель 144
Кондорсе (Condorcet) Мари Жан Антуан Никола (1743 - 1794), французский философ-просветитель, математик, социолог политический деятель - 56
Констан де Ребек (Constant de Rebecque) Бенжамен Анри (1763 - 1830), французский писатель и публицист - 759
Конт (Comte) Огюст (1798 - 1857), французский философ, один из основателей позитивизма 607,620,675,691,821
Контрони Лука (XV в.) 301
Коорнхсрт (Coomhert) Дирк (1522 - 1590), голландский мыслитель - 459
Коперник (Kopemik, Kopemikus) Николай (1473 - 1543), польский астроном и мыслитель 355, 505, 506
Корнель (Corneille) Пьер (1606 - 1684), французский драматург - 159
Корреджо (Correggio) (наст, имя Антонио Аллегри) (ок. 1489 1534), итальянский живописец 384
Кортезе (Cortese) Грегорио (1483 1548), итальянский церковный деятель - 364
Косарев Александр Федорович (1942 - 2005), философ - 814
Кребер (Kroeber) Альфред Луис (1876 I960), американский этнограф и
культуролог, этнолог, антрополог 548, 550
Кристева (Kristeva) Юлия (р. 1941), французский философ, писатель - 811
Кристеллер (Kristeller) Пауль Оскар (1905 1999), немецкий историк философии .386
Кроллъ (Croll) Джеймс (1821 1890), шотландский естествоиспытатель 277
Кромвель (Cromwell) Оливер (1599- 1658), деятель Английской революции
XVII в., лорд- протектор с 1653 г. 448, 453
Кропер (Kroner) Рихард (1884 1974), немецкий философ 811, 825
Кроче (Croce) Бенедсгго (1866 - 1952), итальянский философ, историк, литературовед, политический деятель 51,326, 715
Ксенофан (ок. 570 после 478 до н.э.), древнегреческий поэт и философ -108, 176, 398
Указатель имён___________________________________________________847
Ку Хуп Мин, Гу Хунмин (1854 1928), китайский ученый и писатель - 715
Кузанец - см, Николай Кузанский
Кун (Kuhn) Томас Сэмюэл (1922 1996), американский философ и историк науки 830
Курциус (Curtius) Эрнст Роберт (1886 - 1956), немецкий филолог-романист -716, 810
Куяций, Кюжас (Cujacius, Cujass) Жак (1522- 1590), французский юрист, историк римского права 423
Кьеркегор, Киркегор (Kierkegaard) Сёрен (1813 - 1855), датский теолог и философ - 825
Лагранж (Lagrange) Жозеф Луи (1736 - 1813), французский математик и механик 324
Лайсль, Лайелл (Lyell) Чарлз (1797 1875), английский естествоиспытатель 489
Лакомб (Lacombe) Поль (1833 1919), французский историк - 692, 720
Лактанций (Lactantius) Луций Целий Фирмиан (ок. 240 - ок. 320), христианский писатель и философ - 387
Ламарк (Lamarck) Жан Батист Пьер Антуан де Моне (1744 - 1829), французский естествоиспытатель - 144, 544
Ламбинус (Lambinus) Дионисий, собств. Дени Ламбин (1520 1572), французский филолог 423
Ламетри (Lamettrie) Жюльен Офре де (1709 1751), французский врач и философ - 506
Ламнрехт (Lamprecht) Карл (1856 - 1915), немецкий историк - 10, 82, 608, 616, 670, 704
Лаше (Lange) Фридрих Альберт (1828- 1875), немецкий философ и экономист - 723
Ландино (Landino) Кристофоро (1424 - ок. 1504), итальянский гуманист, писатель, философ, комментатор Овидия, Вергилия, Данте - 301, 359, 828
Ласк (Lask) Эмиль (1875 - 1915), немецкий философ - 768
Лаура де Нов (de Noves) (1308/1310 1348), возлюбленная Петрарки - 409
Лафонтен (La Fontaine) Жан де (1621 1695), французский поэт 51
ЛевX (Джованни Медичи) (1475 1521), папа римский с 1513 г. 426
Леви (Levy) Бернар Анри (р. 1949), французский философ, писатель, публицист - 811
Левик Вильгельм Вениаминович (1907 - 1982), поэт, переводчик, литературовед, художник - 181
Лсвинас (LGvinas) Эмманюэль(1906 - 1995), французский философ, культуролог 813
Леви-Стросс (Ldvi-Strauss) Клод (р. 1908), французский антрополог, этнограф, философ, культуролог - 813
Лейб (Leib) Килиан (1471 1553), немецкий церковный деятель 472
Лейбниц*(Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646 1716), немецкий философ, математик, физик, языковед - 111, 112, 126, 136, 139, 172, 176, 179, 227, 293, 300, 403, 456
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 1924), политический деятель, основатель Советского государства 506, 557
848 Указатель имён
Лео (Leo) Генрих (1799 1878), немецкий историк 684
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) (1452 - 1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер 317, 322 332, 335, 336, 338 340, 362, 363, 369, 370, 372, 375, 376, 378 382, 385, 387, 388, 390, 423, 434
Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим (1729 - 1781), немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик - 144, 364, 470, 663
Лессинг (Lessing) Теодор (1872 1933), немецкий философ и писатель 810, 826, 827
Либерт (Liebert) Артур (1878 1946), немецкий философ - 361
Ливий Тит (Titus Livius) (59 до н.э. 17 н.э.), древнеримский историк 387, 399, 418, 431
Линкольн (Lincoln) Авраам (1809 - 1865), американский государственный деятель, 16-Й президент США 650
Лиштей (Linn6) Карл (1707 1778), тпведский естествоиспытатель 484
Липман (Liepmann) Мориц (1869 - 1928), немецкий правовед - 48
Липпи (Lippi) Филиппо фра (ок. 1406 1469), итальянский живописец 381
Липсиус (Lipsius) Юстус (1547 1606), голландский философ и историк 406
Ллойд Джордж (Lloyd Geoige) Дэвид (1863 - 1945), британский государственный деятель - 234
Лодовико Моро (Lodovico il Moro) см. Сфорца Лодовико Мариа
Ломмач (Lommatsch) Зигфрид Отто Натаниэль (1833 - 1897), немецкий теолог и философ - 472
Лоренц (Lorenz) Отто кар (1823 1904), немецкий историк 688, 714, 715, 717, 719
Лоренцо, Лоренцо Великолепный см. Медичи Лоренцо
Лоррен (Lorrain) Жан (наст, имя Поль Дюваль) (1856 1906), французский писатель символист, драматург, поэт, журналист 389
Лоще (Lotze) Рудольф Герман (1817 - 1881), немецкий философ, врач, естествоиспытатель - 59, 818
Лоуэлл, Ловелл (Lowell) Псрсивал(1855 1916), американский ас тропом 715
Лохнер (Lochner) Георг Вольфганг Карл (1798 1882), немецкий историк -471
Лукиан (ок. 120 ок. 190), древнегреческий писатель-сатирик 430
Лукреций (Lucretius), Тит Лукреций Кар (I в. до н.э.), римский поэт и философ-материалист 169,170,273
Лютер (Luther) Мартин (1483 - 1546), деятель Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма 193, 204, 221, 223, 224, 263, 264, 337, 429, 434,436 448,450 454, 456 - 464,469, 471 474, 804
Мадзини, Мацципи (Mazzini) Джузеппе (1805 1872), итальянский политический деятель 650
Майер (Mayer) Юлиус Роберт (1814 1878), немецкий естествоиспытатель, врач - 285
Македонская династия, династия византийских императоров (837 1056) - 698
Макиавелли (Machiavelli) Никколо ди Бернардо (1469 1527), итальянский политический мыслитель, писатель - 405, 406, 412 - 423, 427, 471
Макс (Мах) Габриэль (1840 1915), австрийско-немецкий художник 487
У Ka m i ель имён 849
Максимилиан I (1459 1519), австрийский эрцгсрцох; императоре 1493 г., из династии Габсбургов 417
Малахов Владимир Сергеевич (р. 1958), философ - 810
Малиновский (Malinowski) Бронислав Каспар (1884 1942), британский (польского присхождения) антрополог 814
Мальбранш (Malebranche) Никола (1638 - 1715), французский религиозный философ - 406
Мапетти (Manetti) Антонио ди Туччо (1423 1497), итальянский архитектор и математик 387
Манн (Mann) Томас (1875 - 1955), немецкий писатель - 562
Мантенья (Mantegna) Андреа (1431 1506), итальянский живописец и гравер 390
Манхейм, Мангейм (Mannheim) Карл (1893 - 1947), немецкий социолог -810, 812,813
Мариана (Mariana) Хуан (1536 1 623), испанский историк, теолог 268, 406
Маритен (Maritain) Жак (1882 1973), французский философ 813
Марк Аврелий (Marcus Aurelius) Антонин (121 - 180), римский император с 161 г, философ, представитель позднею стоицизма 407
Маркс (Магх) Карл Генрих (1818 1883), немецкий экономист, социолог, политический деятель - 31, 32, 34 - 37, 607, 620, 692, 758, 768, 779 - 782, 788
Марло (Marlowe) Кристофер (1564 1593), английский драматург 406,413,422
Мархольм, Хаттссон-Мархольм (Marholm) Лаура (1854 1928), немецкая писательница, деятель женского движения 281
Масарик (Masaryk) Томаш Гарриг (1850 - 1937), чешский философ, социолох, политический деятель, президент Чехословакии в 1918 1935 гг. 718
Медичи (Medici), итальянский род, правивший во Флоренции в XV XV1H вв. 263, 379, 415, 421, 422
Медичи Козимо Старший (1389 1464), правитель Флоренции с 1434 г. - 379
Медичи Лоренцо, Лоренцо Великолештый (1449 1492), итальянский поэт; меценат; правитель Флоренции с 1469 х; - 373, 376, 380, 383, 828
Мейер (Меуег) Эдуард (1855- 1930), немецкий историк - 7-27, 30, 31, 33 35, 37 49, 52, 81, 84, 230, 663, 679, 715
Мейзепбуг (Meysenbug) Амалия Мальвида фон (1816 1903), немецкая писательница - 261
Мсйтхеке (Meinecke) Фридрих (1862 1954), немецкий историк - 713, 717
Меланхтон (Melanchthon, грецитированное от наст, фамилии Шварцэрд) Фи-линхх (1497 - 1560), немецкий хуманист, теолог и педагог, деятель Реформации 440, 456, 459
Мелис (Mehlis) Георг (1878 1942), немецкий философ, историк философии 825
Мсмлинг (Mending) Ханс (ок. 1440 - 1494), нидерландский живописец - 428
Мен де Биран (Maine de Biran) Мари Франсуа Пьер Гонтье (1766- 1824), французский философ и политический деятель 171, 175
Менхср (Menger) Карл (1840 - 1921), австрийский экономист - 49
Мениль (Mesnil) Жак (наст, имя Жан Жак Двельсовср) (1872 - 1940), бельгийско-французский писатель, журналист, историк искусства, общественный деятель - 387
Мерсвин (Merswin) Рульман (1307 - 1382), немецкий мистик - 471
850
Указатель имён
Мессинджер (Massindger) Филип (1583 1640), английский драматург 406
Мид (Mead) Джордж Герберт (1863 - 1931), американский философ, социолог социальный психолог 831
Мидделдорф (Middeldorf) Ульрих Александр (1901 - 1983), американский (немецкого происхождения) историк искусств 390
Микеланджело Буонарроти (Michelangelo Buonarroti) (1475 - 1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт - 71, 158, 305, 322, 334, 369,370,374 376,378 380,382 388,406,421,423,432,618,631
Милль (Mill) Джон Стюарт (1806 - 1873), английский философ-позитивист и экономист 480, 670, 821
Милъдон Валерий Ильич (р. 1939), литературовед 816
Миркина Зинаида Александровна (р. 1926), поэт, переводчик, эссеист - 814
Михайлов Александр Викторович (1938 - 1995), филолог, музыковед, историк искусства, переводчик 816
Михайловский Николай Константинович (1842 1904), публицист, социолог, литературный критик - 49
Моленютт (Moleschott) Якоб (1822 1893), немецкий философ и физиолог -168, 169
Мольткс (Moltke) Хельмут Кард Бернхард (1800 - 1891), германский военный деятель и военный теоретик - 509
Моммзен (Mommsen) Теодор (1817 1903), немецкий историк - 230,641
Монтень (Montaigne) Мишель де (1533 1592), французский писатель, философ, 1уманист - 406, 423 - 426, 484
Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи де Секонда (1689 1755), францухжий философ, просветитель, правовед, писатель 144, 538, 646
Mop (More) Томас (1478 - 1535), английский гуманист, государственный деятель и писатель - 435
Мультатули (Multatuti) (паст, имя Эдуард Дауэс Деккер) (1820 - 1887), нидерландский писатель - 261
Муретус (Muretus, Muret) Марк Антуан (1526- 1585), новолатинский писатель и поэт, ученый - 423
Мут Конрад - см. Муциап В
Мухаммед (Магомет) (ок. 570 - 632), основатель ислама - 717
Муциап (Mutianus) Руф (нас г. имя Конрад Мут) (1471 1526), эрфуртский гу маттист, филолог, правовед, теолог 433
Мэмфорд (Mumford) Льюис (1895 1990), американский философ - 831
Мюнцер (Munzer, Muntzer) Томас (ок. 1490 - 1525), проповедник, богослов, один из вождей и идеолог Крестьянской войны 1525 г. в Германии - 461
Наполеон 1 Бонапарт (1769- 1821), французский император в 1804- 1814 и 1815 гг, полководец 89, 264, 421, 479, 556, 557, 795
Наполеон Ш (Луи Наполеон Бонапарт) (1808 - 1873), французский император в 1852 1870 гг. - 649
Науман (Naumann) Фридрих (1860 - 1919), немецкий политический деятель 768
Неандер (Neander) Август (наст, имя Давид Мендель) (1789- 1850), церковный историк - 472, 473
Николай V (Томмазо Парентучелли) (1397 - 1455), папа римский с 1447 ь - 416
Указатель имён 851
Николай Кубанский (Nicolaus Cusanus), Кузансн (Николай Кребс) (1401 - 1464), философ, теолог, ученый, церковно-политический деятель раннего Возрождения 179, 229, 300, 312, 322, 338,339,344, 346 - 348, 350, 359, 365
Николь (Nicole) Пьер (1625 - 1695), французский моралист и богослов - 406
Нифо (Nifo) Агостино (ок. 1473 1538/1545), итальянский философ, гуманист 384
Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844 - 1900), немецкий философ - 231, 239,245, 260 262, 266 271, 273, 276, 278, 282, 283, 289, 290, 484, 487, 620, 686, 694, 695, 714,720,811,827, 828
Ницше Э. см. Фёрстер-Ницше Э.
Новгородцев Павел Иванович (1866 - 1924), философ, правовед, историк права, общественный деятель 49
Нума Помпилий, второй царь Древнего Рима (715 - 672 до н.э.) - 416
Ньютон (Newton) Исаак (1643 - 1727), английский физик, астроном, математик 121,136,326,344,547,619
Овербек (Overbeck) Иоганн Адольф (1826 1895), немецкий историк искусства -261
Овидий (Ovidius), Публий Овидий Назон (43 до н.э. ок. 18 н.э.), римский поэт 467
Ойленбург Ф. - см. Эйленбург Ф.
Окакура Какуцо (1862 1913), японский искусствовед 715
Олланда (Hollanda) Франсиско де (1517 1584), португальский художник и теоретик искусства 386
Ольшки (Olshlti) Леонардо (1885 - 1961), немецкий историк-романист - 326
Орем, Оресм (Oresme) Никола (ок. 1323 1382), французский ученый, богослов и философ 505
Ортега-и-Гассет (Ortega-у-Gasset) Хосе (1883 - 1955), испанский философ, публицист 810
Оствальд (Ostwald) Вильгельм Фридрих (1853 1932), немецкий физико-химик и философ - 52
Оттон I Великий (912 - 973), германский король 936 г., император Священной
Римской империи с 962 г. 554, 557
Отгоны, императоры Священной Римской империи из Саксонской династии в 962 - 1002 it. - 328
Ошеров Сергей Александрович (1931 - 1983), филолог и переводчик 475
Павел (5 - 64 или 67/68), один из апостолов, автор 14 посланий, включенных в Новый Завет 165, 442, 444, 448, 450,455,458,462,465, 675,717
Павел I (1754 1801), российский император с 1796 г. 48, 49
Паке (Paquet) Альфонс (1881 1944), немецкий поэт, писатель, журналист -715
Пальмиери (fblmieri) Матгсо (1406 1475), итальянский туманист и политический деятель 370
Панеций (Панетий) Родосский (ок. 185- 110/109 до н.э.), древнегреческий философ-стоик 402,412
Панормита (Panormita) (Антонио Беккаделли) (1394 1471), итальянский гуманист - 329, 379
852 Указатель имён
Панофски (Panofsky) Эрвин (1892 - 1968), немецко-американский историк и теоретик искусства 364, 365, 386, 828
Парменид из Элеи (ок. 540 до н.э. ?), древнегреческий философ 100,176
Паскаль (Pascal) Блез (1623 - 1662), французский философ, писатель, физик и математик - 406
Пастернак Борис Леонидович (1890 1960), поэт и писатель 496, 767
Па грицци (Patrizzi) Франческо (1529 1597), итальянский философ 304, 305, 318, 337
Патрушев Александр Иванович (1946 2006), историк, историограф 816
Пауль (Paul) Герман (1846 1921), немецкий языковед-герман ист - 70, 71
Пезар (Ptezard) Андре (1893 - 1984), итальянский ли тературовед, историк искусства 389
Пеладан (Peladan) Жозефин (1859 1918), французский писатель, автор философских романов 389
Пенц (Ptens, Pencz) Георг (Йорг) (ок. 1500 - 1550), немецкий художник и график 461
Перикл (ок. 490 429 до н.э.), древнегреческий политический деятель, афинский стратег - 503, 602, 603, 647
Псрини (Perini) Гсрардо (XVI в.), флорентийский дворянин 379
Перино дель Вага (Perino del Vaga), Пьетро ди Джованни Бонакорси (ок.
1501 1547), итальянский живописец 386
Перогти (Perotti) Никколо (1429 - 1480), итальянский гуманист - 416
Перуджино (Perugino) (наст, фамилия Ваннуччи) Пьетро (1445/1452 1523), итальянский живописец 384,428
Петр Кастслланский (Petrus Castellanus) (XVI в.), духовник Франциска I -423
Петр Перегрин, Пьер из Марикура (Petrus Peregrirms, Pierre de Maricourt) (вт. нол. XIII в.), французский ученый - 505, 515
Петрарка (Petrarca) Франческо (1304- 1374), итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры Возрождения - 299, 313, 314, 329, 356, 408 412,423,430
Пиалла Берто (XV в.) - 387
Пий II - см. Пикколомини
Пикколомини (Piccolomini) Эпеа Сильвио (Эней Сильвий) (1405 1 464), итальянский гуманист, с 1458 г. папа римский Пий II - 272, 435
Пико делла Мирандола (Pico della Mirandola) Джованни (1463 1 494), итальянский мыслитель, гуманист 301, 319, 330, 337, 338, 362, 364, 367, 370, 373, 380, 433, 449, 473, 828
Пиндар (ок. 518 - 442/438 до н.э.), древнегреческий поэт - 398
Пиркхеймер (Pirckheimer) Виллибальд (1470 1530), немецкий гуманист и политический деятель 435, 438, 456, 463,472, 474
Пиркхеймер (Pirckheimer) Харитас (1467 - 1532), немецкий религиозный деятель, сестра В.Пиркхеймера 436, 438
Пистойя (Pistoia) Джованни да (XVI в.) 379
Питт (Pitt) Уильям Младший (1759 1806), британский государственный деятель - 649, 650
Пифагор Самосский (VI в. до н.э.), древнегреческий мыслитель, математик, политический деятель 398
Укязате.гь имен 853
Платеи (Platen, Platen-Hallennunde) Агауст фон (1796 1835), немецкий поэт 192
Платон (428/427 - 348/347 до н.э.), древне грс чес кий философ - 99, 100, 120, 139, 165, 171, 174, 177, 179, 200, 223, 229, 294, 296, 301, 334 336, 338 340, 360, 368, 379, 395 398, 402, 418,419, 431, 432, 449, 450, 465, 469, 557, 645
Пленгс (Plenge) Иоганн Макс Эмануэль (1874 1963), немецкий философ, экономист, социолог, политолог 608, 718
Плиний (Plinius), Гай Плиний Секунд Старший (23/24 79), римский писатель, ученый 449
Плифон (наст, фамилия Гсмист) Георгий (ок. 1355 - 1452), визинтийский философ-платоник, ученый и государственный деятель 432, 471
Плотин (204/205 269/270), греческий философ, основатель неоплатонизма - 305, 360, 371, 385, 386, 407,469
Плутарх (ок. 45 ок. 127), древнефсчсский писатель и историк 403, 424, 426, 471
ПоджоДж.Ф. - см. Браччолини Дж.Ф.Поджо
Полибий (ок. 200 - ок. 120 до н.э.), древнегреческий историк - 400, 402, 416, 418,419,421,471,675
П оли циано (Poliziano) Анджело (паст, имя Аньоло Амборджини) (1454 1494), итальянский поэт, гуманист - 364, 373, 376, 380, 387, 828
Поллайоло (Pollaiolo) (наст, фамилия Бенчи) Антонио дель (1433 1498), итальянский живописец, скульптор, гравер - 376
Полонский Г., переводчик - 192
Померанц Григорий Соломонович (р. 1918), философ, культуролог, писатель 814 816
Помпонацци (Pomponazzi) Пьетро (1462 1525), итальянский философ 305 - 307, 309 - 311,360, 362
Понтий Пилат (Pontius Pilatus) (ум. ок. 37), римский наместник Иудеи (26 36) 262
Порта (Porta) Джамбаттиста (Джованни Батиста) делла (1535 - 1615), итальянский ученый, драматург - 319 - 321, 361, 362
Посидоний (ок. 135 51 до н.э.), древнегреческий историк-стоик 402
Протагор из Абдеры (ок. 490 ок. 420 до н.э.), древнегреческий философ-софист - 167, 169, 170
Пруст (Proust) Марсель (1871 - 1922), французский писатель - 385
Псевдо-Дионисий Ареопагит (V в.), христианский неоплатоник, автор богословских произведений под именем епископа Дионисия Арсопагита (I в.) - 368,385
Пульчи (Pulci) Луиджи (1432 1484), итальянский поэт 388,432
Пьеро делла Франческа (Piero della Francesca) (ок. 1420 1492), итальянский живописец - 372
Пьеро ди Козимо (Piero di Cosimo) (наст, имя Пьеро ди Лоренцо) (1462 1521), итальянский живописец флорентийской школы 375
Раабе (Raabe) Вильгельм (1831 - 1910), немецкий писатель - 221
Рабле (Rabelais) Франсуа (ок. 1494 1553), французский писатель 32, 424, 425, 435
Рамс (латинизир. Рамус) (Ram£e, Ramus) Пьер де ла (1515 - 1572), французский [уманист, философ, логики математик - 423
854
Указатель имён
Ранке (Ranke) Леопольд фон (1795 1886), немецкий историк 15, 39, 77, 229, 528, 686 - 688, 694, 695, 713 - 715, 719, 766
Ратснау (Rathenau) Вальтер (1867 1922), немецкий политический деятель, промыт ленник, финансист 722
Рафаэль Санти (Raffaello Santi) (1483 - 1520), итальянский живописец и архитектор - 143, 322, 334, 376, 384, 423
Рейтер (Reuter) Фриц (1810 1874), немецкий писатель 221
Рейхлип (Reuchlin) Иоганн (1455 1522), немецкий гуманист, филолог, юрист - 431,433,434
Рембрандт (Rembrandt) Харменс ван Рейн (1606 - 1669), голландский живописец 227
Ренан (Renan) Жозеф Эрнест (1826 - 1892), французский писатель, историк религии, филолог-востоковед - 269,358,650
Рентген (Rontgen) Вильгельм Конрад (1845 1923), немецкий физик 23, 24, 49, 50
Рескин, Раскин (Ruskin) Джон (1819 - 1900), английский писатель, теоретик искусства 385
Рийсвик, Риссвик (Rijswick, Risswich) Германн ватт (ум. 1512), голландский теолог, еретик - 461
Рикёр (Ricoeur) Поль (1913 - 2005), французский философ 813
Рикксрт (Rickert) Генрих (1863 1936), немецкий философ-неокантианец -
17, 22, 24, 36, 40, 46, 50, 52, 97, 98, 768, 793, 810, 811, 816, 825, 827
Риль (Riehl) Алоиз (1844 - 1924), немецкий философ-неокантианец - 79, 81, 84, 97
Риль (Riehl) Вильгельм Генрих фон (1823 1897), немецкий историк культуры и писатель - 222, 234
Рильке (Rilke) Райнер Мария (1875 - 1926), австрийский поэт - 555
Риссвик Г. см. Рийсвик Г.
Риттер (Ritter) Иоахим (в тексте — Ганс Иоахим) (1903 1974), немецкий фи-
лософ - 365
Рихтер И.П.Ф. см. Жан Поль
Ричль (Ritschl) Альбрехт (1822 1896), немецкий теолог, неокантианец 442, 473, 828
Роберт Гроссетест (Robert Grosseteste) (Болыцентовый) (1175 1253), английский естествоиспытатель и философ - 505
Рогир ван дер Вейден (Rogir van der Wfcyden) (ок. 1400 - 1464), нидерландский живописец - 428
Роде (Rohde) Эрвин (1845 1898), немецкий филолог-классик 261
Розешпток-Хюсси (Rosenstock- Huessy) Ойген Мориц Фридрих (1888 1973), немецко-американский философ, историк, культуролог 813
Розин Вадим Маркович (р. 1937), философ, культуролог - 814
Ролан (Roland), Ролан де Ла Платьер Манон Жанна Мари (1754 1793), деятельница Великой Французской революции - 32
Роллан (Rolland) Ромен (1866 1944), французский писатель, общественный деятель, музыковед 226
Ромул (754/753 717/716 до н.э.), легендарный основатель Рима, первый римский царь - 39
PopTn(Rorty) Ричард (1931 2007), американский философ 811
Указатель имён 855
Россегги (Rossetti) Данге Габриел (1828 - 1882), английский живописец и поэт 381
Ротхакер (Rothacker) Эрих (1888 1965), немецкий философ, культуролог - 811
Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712 - 1778), французский писатель и философ -30, 31, 56,172, 205, 244, 267 - 270,461, 479, 487
Савонарола (Savonarola) Джироламо (1452 1498), итальянский религиознополитический деятель, поэт - 378, 387
Сайпа (Saitta) Джузеппе (1881 - 1965), итальянский философ, историк философии 359
Саймондс (Symonds) Джон Эддингтон (1840 - 1893), английский писатель, критик, историк литературы - 389
Саладин, Салах ад Дин (1138 1193), египетский султан с 1175 г., полководец 432
Салаи (Salai), Якомо Салаино Джан Джакомо Канрогги (1480 - 1524), итальянский художник, ученик Леонардо да Винчи 378,382,388
Салютати (Salutati) Лино Колуччо ди Пьетро (1331 1406), итальянский гуманист, политический деятель, дипломат - 322, 323, 361, 411, 412
Саркар Боной Кумар (1887 - 1949), индийский социолог, экономист 716
Северы, династия римских императоров в 193 - 235 it. - 661
Сёдерблом (Soderblom) Натан (Ларс Олаф Ионатан) (1866 1931), шведский геолог, церковный деятель - 714
Сенека (Seneca) Луций Анней (ок. 4 до н.э. 65 н.э.), римский политический деятель, философ-стоик, писатель - 287, 407, 408, 410, 411, 424 426, 431, 432, 438, 449, 450, 465, 470, 471
Сен-Симон (Saint-Simon) Клод. Анри де Рувруа (1760 - 1825), французский мыслитель, социолог, социалист-утопист 607, 616, 620, 691
Сервет (Servet) Мигель (1509/1511 1553), испанский мыслитель, врач 461
Сигизмунд Австрийский (Зигмунд) (1427 - 1496), герцог Тироля, из рода Габсбургов; близок (уманистам - 435
Сикст IV (Франческо делла Ровере) (1414 1484), папа римский с 1471 г. - 414
Симпсон (Simpson) Джордж Гейлорд (1902 - 1984), американский палеонтолог, эволюционист - 544-546
Синьорелли (Signorelli) Лука (1445/1450 1523), итальянский живописец 376, 382, 383
Скали rep (Scaliger) Жозеф Жюст (1540- 1609), французский гуманист - 423
Скали rep (Scaliger) Юлий Цезарь (Жюль Сезар) (наст, имя Джулио Бордони) (1484 1558), французский филолог, критик, поэт, врач - 268,423
Содома (Sodoma) (наст, имя Джованни Антонио Бацци) (1477 - 1549), итальянский живописец 388
Сократ (ок. 470 399 до н.э.), древнегреческий философ 170 172, 334, 395, 396, 398, 424, 426, 449, 470
Соловье»Владимир Сергоевич (1853 - 1900), философ, поэт, публицист - 718
Софокл (ок. 496 406 до н.э.), древнегреческий поэт-драматург 469
Спалатип (Spalatin) Георг (1484 1545), деятель Реформации, священник, писатель и историк - 433
Спенсер (Spencer) Герберт (1820 1903), английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма 480, 607, 620, 691, 693
856 Указатель имён
Спиноза (Spinoza) Бенедикт (Барух) (1632 - 1677), нидерландский философ -
123, 157, 172, 176 179, 273, 405, 4Ю, 413, 463, 470
Стайтс (Stites) Раймонд Сомерс, американский искусствовед (XX в.) 388
Стендаль (Stendhal) (Анри Мари Бейль) (1783 - 1842), французский писатель 159
Степун Федор Августович (1884 1965), философ 810, 825
Стониер (Stonier) Альфред Уильям (р. 1905), английский экономист - 536
Стравинский Игорь Федорович (1882 - 1971), композитор, дирижер - 816
Стур (Stuhr) Джон Дж., американский философ (поел, треть XX нам.
XXI в.) 811
Стэнли (Stanley) Генри Мортон (наст, имя Джон Роуленде) (1841 - 1904), журналист, исследователь Африки - 268
Суарес (Snares) Франсиско (1548 - 1617), испанский теолог и философ 406
Сфорца (Sforza) Лодовико Мариа, Лодовико Моро (1451 - 1508), итальянский политический деятель 414
Сципион Публий Корнелий Эмилиап Африканский Младший (Scipio Africanus Junior) (ок. 185 129 до н.э.), римский полководец, политический деятель и оратор - 402, 410, 647
Сципионы, одна из ветвей древнеримского рода Корнелиев 416
Тамер (Thamer) Теобальд (ум. 1569), немецкий теолог - 438, 472
Таулер (Tauler) Иоганн (ок. 1300 1361), немецкий мистик, монах-доминиканен, проповедник 408, 463, 465
Танит (Tacitus) Публий Корнелий (ок. 58 ок. 117), римский историк 268, 398, 407
Тейлор (Taylor) Рэчел Ананд (1876 1960), американская журналистка 388
Телезио (Telesio) Бернардино (1509 1588), итальянский натурфилософ -311,315 - 318,335,361
Тённис (Tonnies) Фердинанд (1855 1936), немецкий социолог 691
Тереса Авилъская, Терезия де Хесус (Teresa de Avila, Santa Teresa de Jesus) (1515 1588), испанская писательница, мистик 32
Тиллих (Tillich) Пауль (1886- 1965), немецко-американский протестантский теолог, философ 714,827
Тициан, Тйциано Вечеллио (Tiziano \fecellio) (1476/1477 или 1489/1490 1576), итальянский живописец - 322, 334, 384, 390
Тойнби (Toynbee) Арнольд Джозеф (1889 1975), английский историк, философ, культуролог 538, 542, 550 552, 811
Токвиль (Tocqueville) Алексис (1805 - 1859), французский социолог историки политический деятель - 646
Толстой Лев Николаевич (1828 1910), писатель и мыслитель 32, 269,461
Толънаи (Tolnay) Шарль (Карой, Карл) де (1899 1991), историк искусства венгерскою происхождения, работавший в Германии, США, Франции, Италии 390
Трейчке (Treitschke) Генрих фон (1834 1896), немецкий историк и публицист - 229, 263, 768
Трёльч (Troeltsch) Эрнст (1865 1923), немецкий тсолоц философ, социолог и историк религии 593, 615, 723, 795, 811, 812, 828
Указатель имён 857
Ту, де Ту (de Thou) Жак Опост (1553 1617), французский политический деятель, историк - 423
ТУрпебус, Турпсб (Tumebus, ТигпёЬе) Адриан (1512 1565), французский гуманист, философ, филолог 423
Тюме (Thume) Ганс, немецкий филолог (XX в.) - 363
Уайльд (Wilde) Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс (1854 1900), английский писатель 272
Уайт (White) Лесли Элвин (1900 - 1975), американский антрополог, культуролог 814
Уильямс (Williams) Ричард Хейз (р. 1912), американский психолог 536
Уорнер (Wimer) Уильям Ллойд (1898 - 1970), американский социолог, антрополог - 814
Урбан (Uiban) Генрих (ум. 1539), немецкий гуманист 434
Уэллс (Wtells) Герберт Джордж (1866 - 1946), английский писатель 669, 715, 718, 723
Фаринелли (Farinelli) Артуро (1867 - 1948), итальянский историк литературы - 362
Фсйсрабенл (Feyerabend) Пауль (Пол) Карл (1924 1994), американский (австрийскою происхождения) философ и историк науки - 830
Фейербах (Feueibach) Людвиг Андреас (1804 1872), немецкий философ-материалист и атеист - 168, 169, 171
Фемистокл (ок. 525 - ок. 460 до н.э.), афинский государственный деятель, полководец 23
Фердинанд I Арагонский, Фернандо, Ферранте (1423 - 1494), король Неаполя с 1458 г. 413
Ферма (Fermat) Пьер (1601 - 1665), французский математик 353, 354
Фёрстер-Н ицтпе (Forster-Nietzsche) Элизабет (1846 1935), сестра
Ф.Ницше - 282
Фехнср (Fechner) Густав Теодор (1801 1887), немецкий физик, психолог, философ, писатель 276
Филипе пи Симонс (к. XV - нач.ХУ1в.) - 387
Филипп II (ок. 382 336 до н.э.), царь Македонии с 359 г. 647
Филон из Ларисы (Лариссы) (11 - 1 в. до н.э.), античный философ - 402
Фиркандт (Vierkandt) Альфред (1846 - 1935), немецкий социолог и этнолог -670
Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762 1814), немецкий философ 163, 172, 173, 177, 216, 223, 228, 444, 606, 608, 619, 742, 774, 775, 789, 825
Фичино (Ficino) Марсилио (1433 - 1499), итальянский гуманист и философ-неоплатоник 300 305, 309 311, 336, 358, 359, 362, 367 - 374, 376, 377, 379 381,385,386,389,433,828
Фишер (Fischer) Куно (1824 1907), немецкий историк философии - 818
Фишер (Vischer) Фридрих Теодор (1807 1887), немецкий философ, эстетик, критик, писатель 766, 770
Фокс (Fox) Чарлз Джеймс (1749 1806), английский политический деятель -649
858 ____________________________________________Указатель имен
Фома Аквинский (Thomas Aquinas) (122571226 1274), философ и теолог, си-стематизатор схоластики 297, 307, 308, 351, 368, 699, 750
Форатти (Foratti) Альдо (1881 1964), итальянский искусствовед 390
Фосийон (Focillon, Focillion) Анри (1881 - 1943), французский историк искусства 828
Фосслер (VbBler) Карл (1872 1949), немецкий филолог - 51
Фра Анджелико - см. Анджелико
Франк (Franck) Себастиан (1499 1542/1543), немецкий гуманист, религиозный философ-мистик, историк 456,462 470
Франциск I (1494 1547), французский король с 1515 г. 423
Франциск Ассизский (Franciscus Assisiensis) (1182 - 1226), итальянский рели-
гиозный деятель, основатель ордена францисканцев - 313, 408, 410
Фрейд (Freud) Зигмунд (1856 1939), австрийский врач-психиатр и психолог - 378, 388, 554, 563
Фрейер (Freyer) Ханс (1887 1969), немецкий социолог - 810
Фридрих 1 Барбаросса (ок. 1125 1190), германский король с 1152 г.,
император Священной Римской империи с 1155 г. - 557
Фридрих II Великий (1712 - 1786), прусский король с 1740 к, из династии Го-пгнцоллернов - 439, 501
Фридрих II Штауфен (1194 1250), германский король с 1212 г., император Священной Римской империи с 1220 к - 142, 406, 432, 557, 562
Фридрих Вильгельм IV (1795 1861), прусский король с 1840 г 13, 22, 23, 25, 81
Фриз (Fries) Якоб Фридрих (1773 - 1842), немецкий философ - 57, 172
Фробениус (Frobenius) Лео (1873 - 1938), немецкий этнограф-африканист, археолог 550
Фуко (Foucault) Мишель Поль (1926 1984), французский философ, культуролог, эстетик 811,813
Фумахалли (Fumagalli) Джузсппина (1894 1966), итальянский историк - 389
Фьезоле - см. Анджелико
Фюрер (Рйгег von Haimendorf) Кристоф (1479 1537), немецкий купец - 471,474
Хаас (Hass) Вилли (1891 - 1973), немецкий публицист и литературный критик 715
Хабермас (Habermas) Юрген (р. 1929), немецкий философ, социолог, теоретик культуры - 811
Хаксли (Huxley) Джулиан Сорелл (1887 1975), английский биоло|,
философ 543, 545, 547
Халцидий, Халкидий (Chalcidius) (IV - V в.), римский философ-неоплатоник, переводчики комментатор «Тимея» Платона - 296
Хаусрат, Гаусрат (Hausrath) Адольф (1837 1909), немецкий теолог, историк 768
Хейзинга (Huizinga) Йохан (1872 - 1945), нидерландский историк культуры и философ 715,811,831
Хейссер, Гейссер (Hausser) Людвиг (1818 1867), немецкий историк, политический деятель - 768
Хейсси (Heussi) Карл (1877 - 1961), немецкий тсолох, историк церкви 722
Указатель имён 859
Херп (Hearn) Лафкадио (1855 1940), немецкий литературовед - 715
Херцфельд (Herzfeld) Мария (1855 1 940), немецкий литературовед, переводчик с итальянского - 362
Хецср (Hatzer) Людвиг (ок. 1500 1529), немецкий религиозный деятель 460, 461
Хикс (Hicks) Джордж Дауэс (1862 - 1941), английский философ - 234
Хуана I Безумная, Хуана Драю нс кая (1479 1555), королева Кастилии с 1504 г. 384
Хубмайср (Hubmaier) Балтазар (ок. 1485 - 1528), немецкий теолог, религиозный деятель - 460,461
Цазий (Zasius) Ульрих (1461 1535), швейцарский правовед, гуманист 456
Цвингли (Zwingli) Ульрих (1484 - 1531), деятель Реформации в Швейцарии -
429, 433, 441, 442, 447, 449 454, 456, 460, 461, 463, 464, 473, 474
11езальпино А. см. Чезалытино А.
Цезарь Гай Юлий (102/100 - 44 до н.э.), римский полководец, политический деятель и писатель - 268, 647, 795
Целлер (Zeller) Эдуард (1814 1908), немецкий философ, евангелический теолог, историк античной философии 473
Цильзель (Zilsel) Эдгар (1891 - 1944), немецко-американский философ, историк науки 363
Цимбаев Николай Иванович (р. 1946), историк, историограф, историк культуры - 816
Цицерон (Cicero) Марк Туллий (106 - 43 до н.э.), римский политический деятель, оратор и писатель 171, 399, 401, 402, 404, 405, 408, 411, 412, 424, 425, 431, 432, 434, 439, 465, 471, 537
Цойтен (Zeuthen) Иероним Георг (1839 - 1920), немецкий историк математики 365
Чезалышно, Цсзалышно (Cesalpino) Андреа (1519- 1603), итальянский врач, ботаник, философ 315
Чербери, Герберт (Херберт) Чербери (Herbert Cheibury) Эдуард (1583 1548), английский религиозный философ, политический деятель - 403
Чьслан, Чсллен (Kjellen) Юхан Рудольф (1864 - 1922), шведский государство-всд и социолог, один из основателей геополитики 719
Шамфор (Chamfort) Себастьен Рок Никола (1741 - 1794), французский писатель-моралист 232
Шарпантье (Charpantier) Иоганн (Жан) де (1786 1855), швейцарский геолог 276
Шастсль (Chastel) Андре (1912 - 1990), французский историк искусства - 385, 387, 390, 828
Шварцен(^рг (Schwarzenberg) Иоганн фон (1463 1528), немецкий политический деятель, юрист - 472
Швейцер (Schweitzer) Альберт (1875 - 1965), немецко-французе кий мыслитель, протестантский теолог, врач, музыковед и органист 810
Швснкфсльд (Schwenkfeld) Каспар (1490 - 1561), основатель секты швенк-фельдианеров - 461, 463
860 Указатель имён
Шверин (Schwerin) Максимилиан фон (1804 - 1872), прусский государственный деятель 234
Шедель (Schedel) Хартман (1440 1514), немецкий врач, гуманист, историк -468
Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564 - 1616), английский драматург и поэт -158, 227, 406, 413, 422, 508, 631, 685, 770
Шелер (Scheier) Макс (1874 1928), немецкий философ и социолог 722, 723, 820
Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Йозеф (1775 1854), немецкий философ 172, 176 1 79, 774, 825
Шефер (Schafer) Дитрих (1845 - 1929), немецкий историк - 72, 716
Шсфтсбери (Shaftsbury) Антони Эшли Купер (1671 1713), английский философ, эстетик 176,178
Шиллер (Schiller) Иоганн Кристоф Фридрих (1759 1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства, историк - 158, 159, 174, 175, 181, 825
Шлсйермахер (Schleiermacher) Эрнст Христиан Фридрих (1768 1834), немецкий теолог и философ 172, 176 1 79,460
Шлоссер (Schlosser) Фридрих Кристоф (1776- 1861), немецкий историк -469, 753
Шмейдлер (Schmeidler) Вернер (1890 1969), немецкий математик 52
Шмоллер (Schmoller) Густав (1838 1917), немецкий экономист, один из основоположников исторической школы политэкономии - 230, 670, 722
Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788 1860), немецкий философ 157, 176 179, 245, 260, 267, 278, 487, 625, 663, 828
Шпенглер (Spengler) Освальд (1880 - 1936), немецкий философ - 538, 542, 550 552, 614, 655, 666, 669, 670, 685, 686, 714 717, 721 723, 810, 811, 828 831
Шпет Густав Густавович (1879 1937), философ, психолог, теоретик искусства, переводчик - 816
Штаммлер (Stammler) Рудольф (1856 1938), немецкий теоретик права, неокантианец 15
Штауииц (Staupiz) Иоганнес фон (ок. 1465- 1524), католический теолог -456
Штейн (Stein) Генрих фон (1857 - 1887), немецкий философ - 274
Штейн (Stein) Шарлотта фон (1742 - 1827), подруга Гете - 27, 28, 30 - 32, 34, 43
Штейнман (Steinmann) Иоганн Генрих Конрад Готфрид Густав (1856 1929), немецкий геолог, палеонтолог 276
Штифтер (Stifter) Адальберт (1805 - 1868), австрийский писатель и художник 221
Штраус (StrauB) Давид Фридрих (1808 1874), немецкий теолог и философ-младогстельянец - 480
Штраус (StrauB) Эмиль(1866 I 960), немецкий философ - 364
Шульце (Schultze) Фриц (1846 1 908), немецкий философ -471
Шульце-Ге вер ниц (Schulze- Gavemitz) Герхарт (1864 1943), немецкий экономист, политический деятель - 716
Шумпетер (Schumpeter) Йозеф Алоиз (1883 - 1950), австрийско-американский экономист, социолог 718
Указатель имён 861
Шюц (Schutz) Альфред (1899 1959), австрийский философ, социолог 536, 813, 831 - 833
Щукин Василий Георшсвич (р. 1952), литературовед, культуролог 815, 816
Эйленбург (Ойленбург) (Eulenbuig) Франц (1867 - 1943), немецкий экономист 48, 52
Элиас (Elias) Норберт (1897 1990), немецкий социолог 813
Элиот (Eliot) Джордж (наст, имя Мэри Энн Эванс) (1819 - 1880), английская писательница 221
Эмпедокл из Агригента (ок. 490 ок. 430 до н.э.), древнегреческий
философ 557
Энгельс (Engels) Фридрих (1820 - 1895), немецкий философ, экономист, политический деятель 780
Эней Сильвий еле. Пикколомини
Эпиктет (ок. 50 - ок. 140), древнегреческий философ-стоик - 407
Эпикур (ок. 341 - ок. 270 до н.э.), древнегреческий философ-материалист -163, 170, 406, 773
Эразм Роттердамский (Erasmus Roterodamus), Дезцдерий (наст, имя Герхард Герхарде) (1469 - 1536), нидерландский гуманист, филолог, писатель - 364, 406,423,429 431,433,434,437,438,449,456 459,462,464,466,471,476
Эсхил (ок. 525 456 до н.э.), древнегреческий драматург, <отец трагедии» -42,148, 508
Ювенал (Juvenalis) Децим Юний (55/60 ок. 130), римский поэт-сатирик -268
Юдина Мария Вениаминовна (1899 1970), пианистка, педагог, музыкальный писатель 816
Юлий II (Джулиано делла Ровере) (1443 1513), папа римский с 1503 г. - 426, 437
Юм (Hume) Дэвид (1711 1776), английский философ, историк и экономист 120, 128, 144, 168
Юнге (Junge) Рсйнгард (1888 - 1975), немецкий экономист - 720
Юстиниан I (483 565), византийский император с 527 г. 39, 441, 717
Якоби (Jacobi) Фридрих Генрих (1743 1819), немецкий писатель и философ - 171, 172, 177
Япнарас Христос (р. 1935), греческий философ, богослов - 813
Янсений, Янсен (Jansenius) Корнелий (1585 1638), голландский католический геолог - 456
Ясперс (Jaspers) Карл (1883 1969), немецкий философ-экзистенциалист -670
Яффе (Jaffe) Эдгар (1866 1921), немецкий экономист - 767
Содержание
Логика наук о культуре
\ Макс Вебер. Критические исследования
в области логики наук о культуре. Перевод М.И.Левиной 7
Культурфилософские рефлексии
Вильгельм Виндельбанд. Философия культуры и трансцендентальный идеализм. Перевод С. И. Гессена 55
Генрих Риккерт. Науки о природе и науки о культуре. Перевод М. И.Зингера..................67
Эрнст Кассирер. Философия символических форм:
Введение и постановка проблемы. Перевод А. П. Малинкина............................99
Вильгельм Дильтей. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах.
Перевод Г.А.Котляра и С. И.Гессена................142
Рихард Крон ер. Самоосуществление духа. Пролегомены
к философии культуры. Перевод Е. И. Кузнецовой и Л. Т.Милъской..........182
Альфред Вебер. Германия и кризис европейской культуры.
Перевод Т.Е. Егоровой........................... 205
Эрнст Трёльч. Метафизический и религиозный дух немецкой культуры (1916). ПереводМ.И.Левиной..............220
Георг Зиммель. Кризис культуры. Перевод М.И.Левиной.236
Георг Зиммель. Конфликт современной культуры. Перевод Г. А.Шевченко. Примечания Л.ГИонина .....241
Теодор Лессинг. Проблема культуры. Перевод М.И.Левиной ..261
Человек в контексте культуры
Эрнст Кассирер. Проблема взаимоотношения субъекта
и объекта в философии Возрождения. Перевод А. Г. Таджикурбанова......................293
Андре Шастель. Алкание красоты. Перевод И.Н.Зубкова .367
Вильгельм Дильтей. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках. Перевод М.И.Левиной............391
Освальд Шпенглер. Человек и техника. Перевод А. М. Руткевича ..........................478
Альфред Шюц. Феноменология и социальные науки. Перевод В.Г. Николаева............................517
* Эрих Калер. Культура и эволюция. Перевод В.И. Матузовой.... 537
Эрих Калер. Живучесть мифа. Перевод В.И. Матузовой...555
ПаульТш1лцх, Теология культуры: Аспекты религиозного.
Перевод О.В Боровой, В.В.Ринкевича, ГЕ.Савицкой....564
Историко-социологическое видение культуры
Альфред Вебер. Принципиальные замечания к социологии культуры. Перевод М.И.Левиной .......573
: Альфред Вебер. К вопросу о социологии государства
и культуры. Перевод Е.И. Кузнецовой и Л.Т.Мильской.616
Эрнст Трёльч. О построении европейской истории культуры. Перевод М.И.Левиной.............656
Макс Вебер. «Объективность» познания в области социальных наук и социальной политики. Перевод М.И.Левиной...............................724
Эрнст Трёльч. Макс Вебер. Слово прощания. Перевод М.И. Левиной..............................768
Николай Гартман. Проблема духовного бытия.
Исследования к обоснованию философии истории и наук о духе. Перевод А.Н.Малинкина..............771
С.Я. Левит. Космос культуры: вместо послесловия......810
. Сведения об авторах. Составители: А.Г. Вашестов,
Н.П.Гайденко, О.Я.Зоткина, Т.Е.Егорова, Л.Г.Ионин,
О.Ф. Кудрявцев, С.Я.Левит,Д.П.Ляликов, В. И. Мату зова, ГМ. Тавризян, Э.М. Телятникова....................817
Указатель имен. Составитель Е.Н.Балашова.............834
Научное издание Культурология. XX век Логика культуры. Антология
Корректор Н.С. Сотникова Компьютерная верстка Ю.В. Балабанов
По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
190031, г. Санкт-Петербург, Столярный переулок, дом 10-12, email: unikniga@yandex.ru, unibook@mai1.ru.
Руководитель центра Соснов П.В.
По вопросам реализации книги обращаться: «Университетская книга-СПб»
198052, г. Санкт-Петербург, ул. Броницкая, дом 17. В Москве - ООО «Университетская книга-СПб», телефон (495) 915-32-84, e-mail: ukniga-m@libfl.m.
в Санкт-Петербурге ООО «Университетская книга-СПб», телефон (812) 317-89-72, e-mail: uknigal@westcall.net
Розничные издательские продажи: в Санкт-Петербурге - магазин «Книжный окоп» (широкий ассортимент гуманитарной литературы) Тучков переулок, д.11 (812) 323-85-84 В Москве - www.notabene.ni (495) 745-15-36
Подписано в печать 22.06.2009.
Гарнитура NewtonTT. Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 54. Уч.-изд. л. 54. Тираж 1000 экз. Заказ 201
Отпечатано: ООО «Издательство МБА» Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая, д.2 тел.: 726-31-69, 608-47-15, 625-38-13