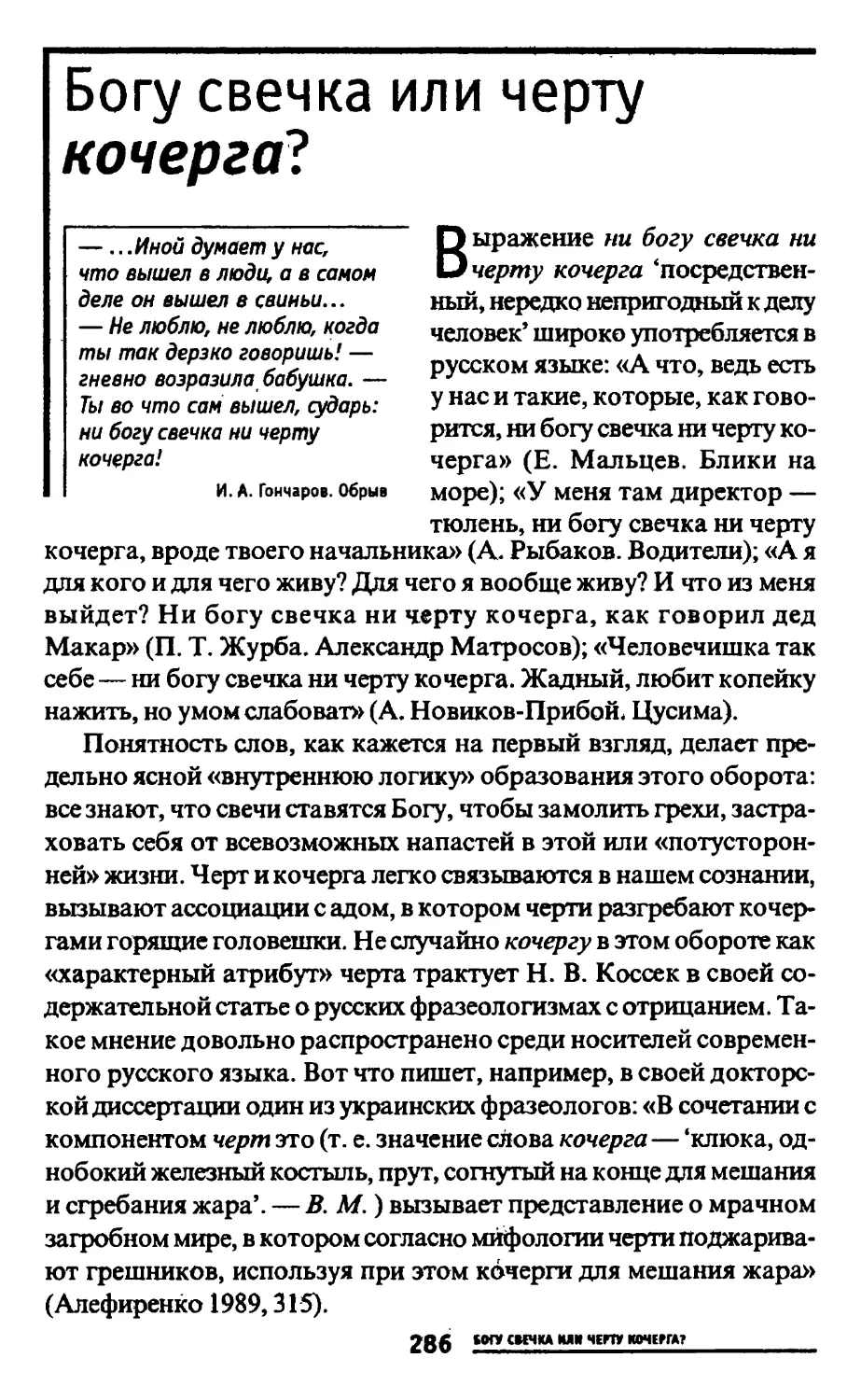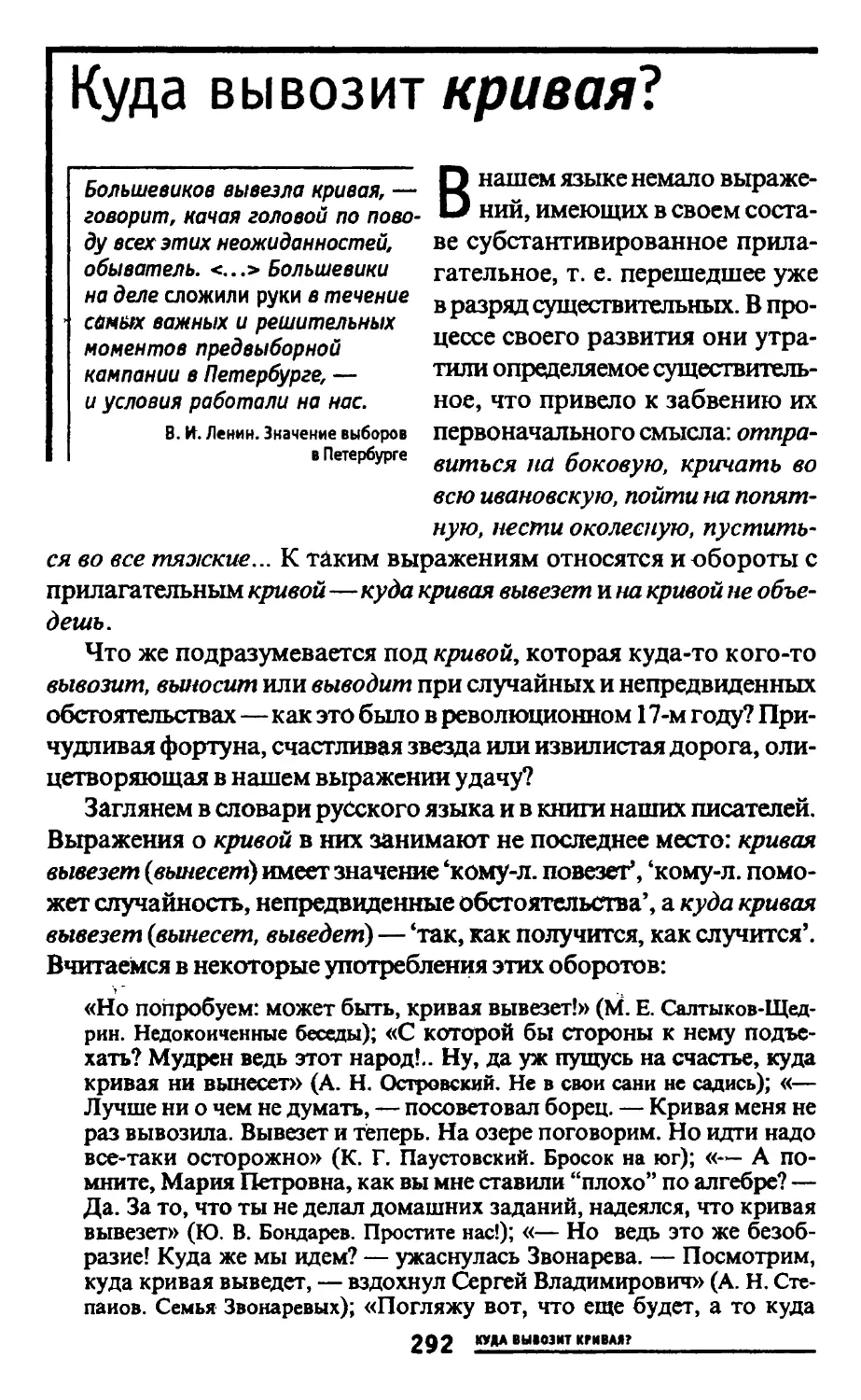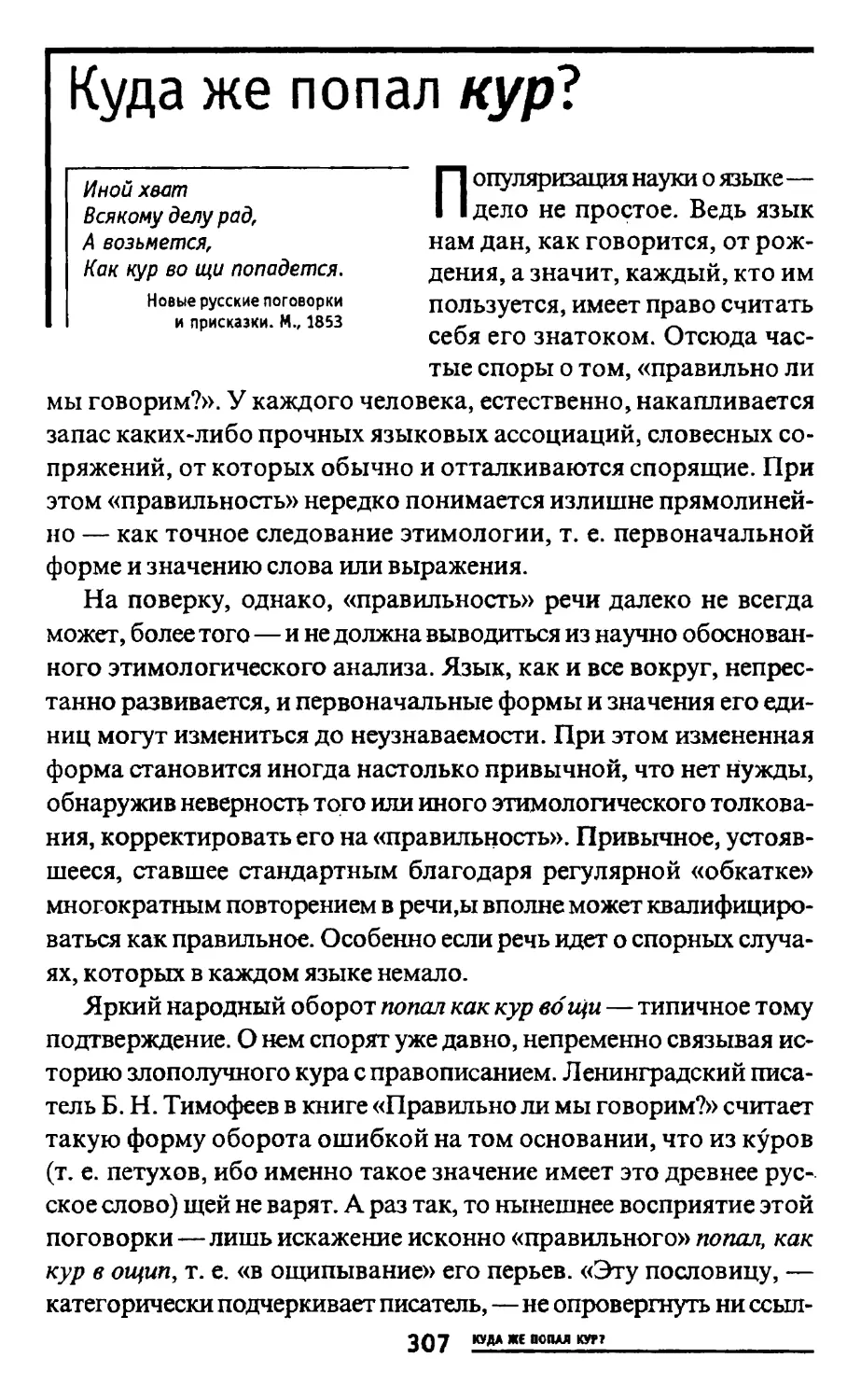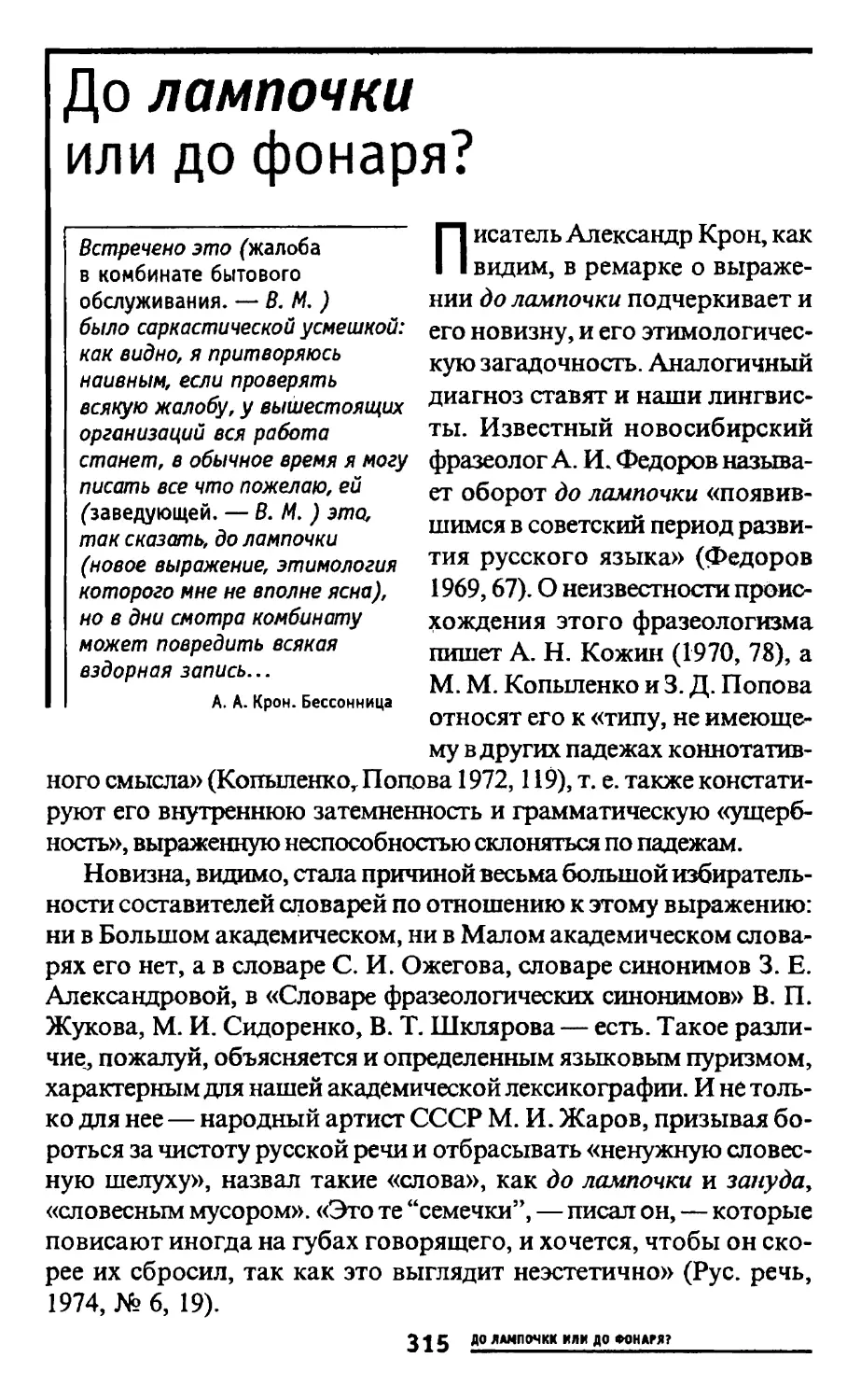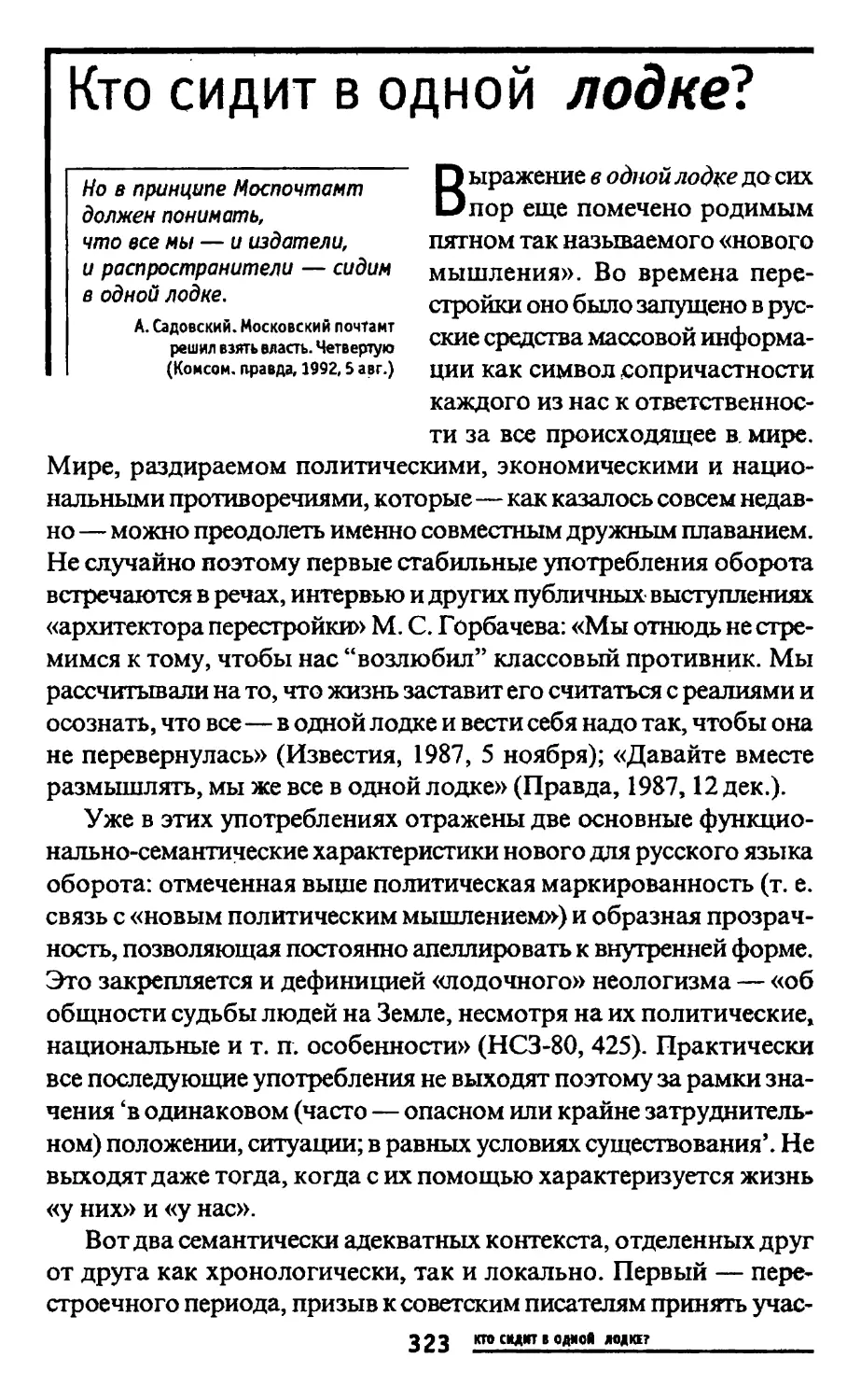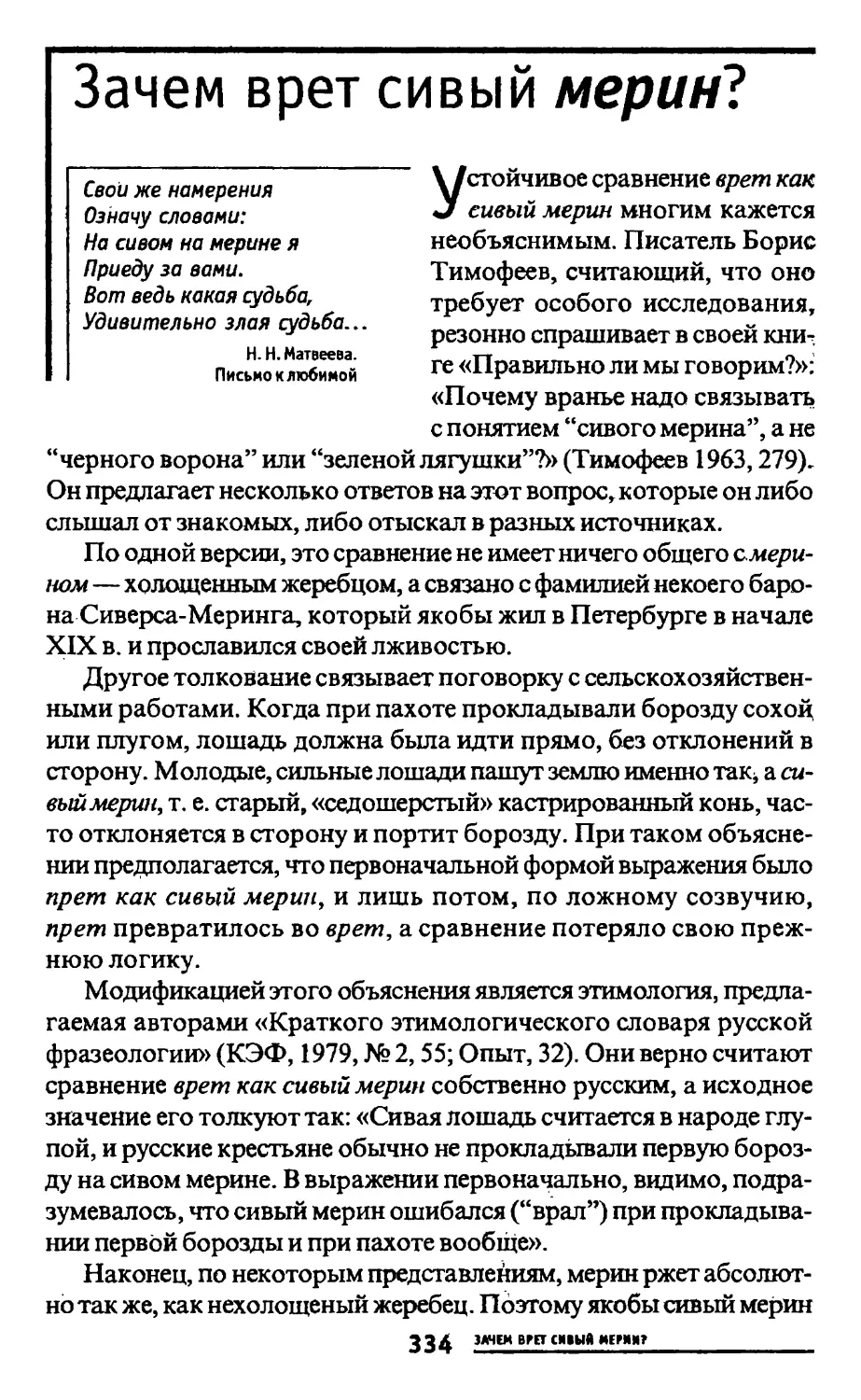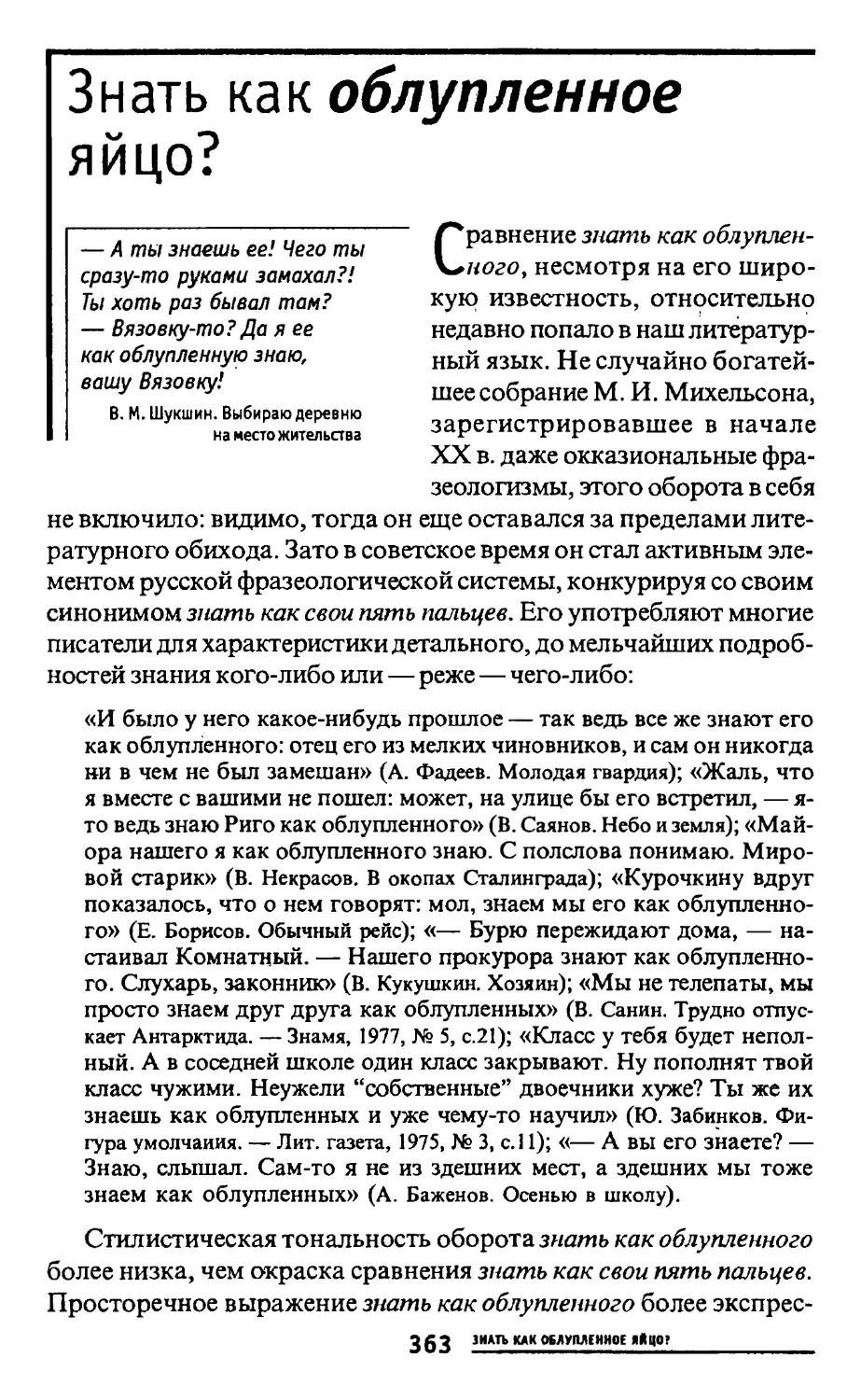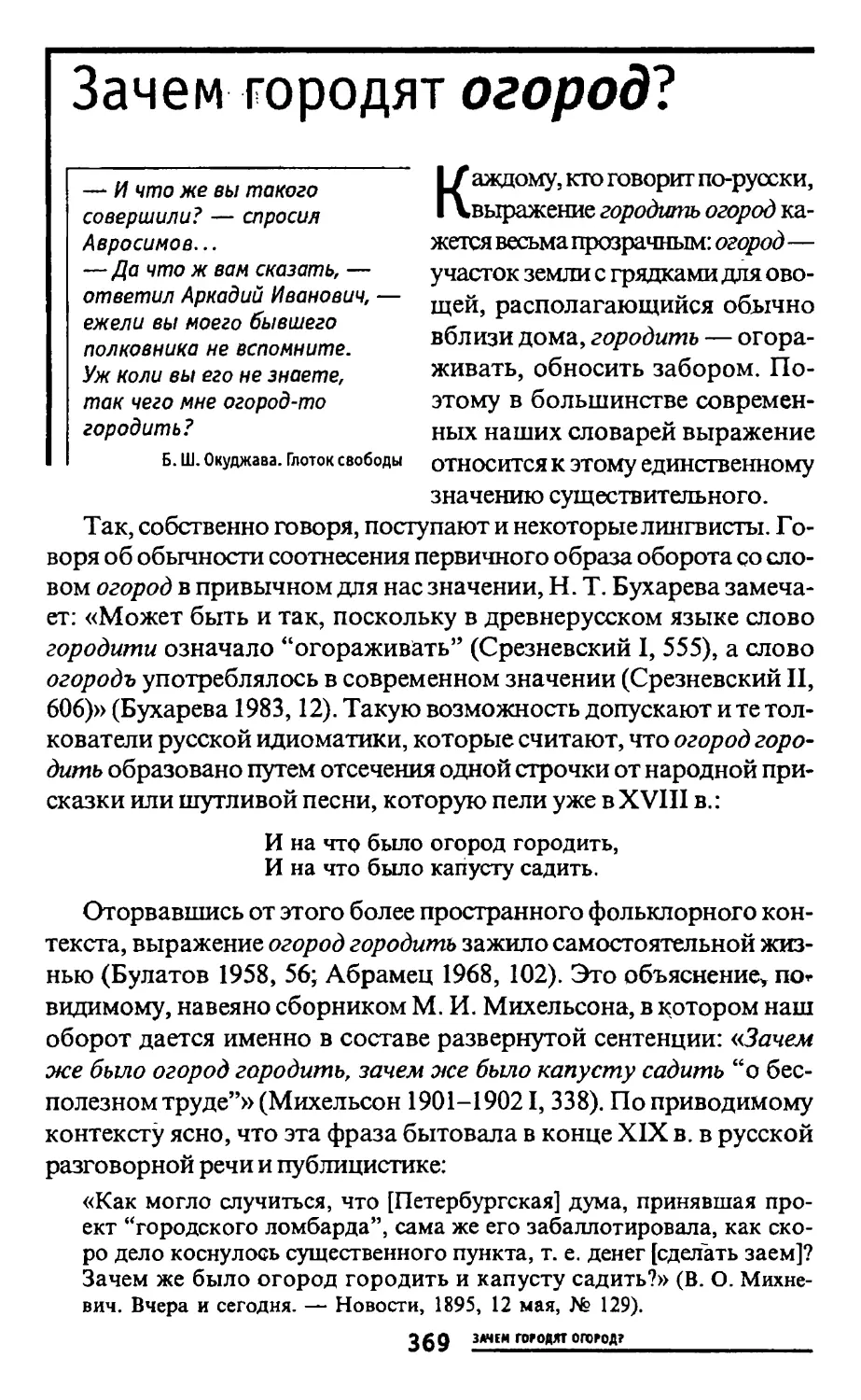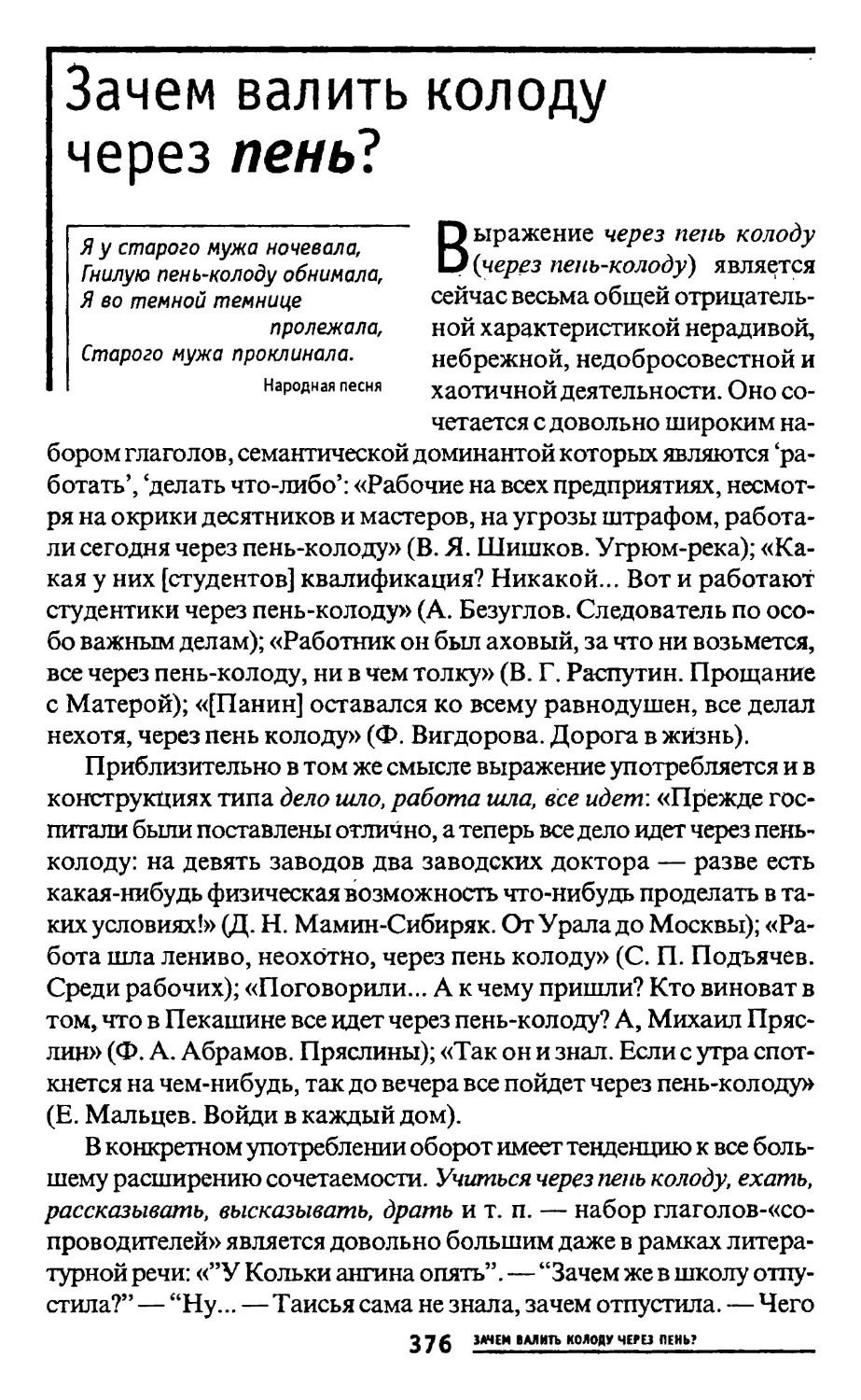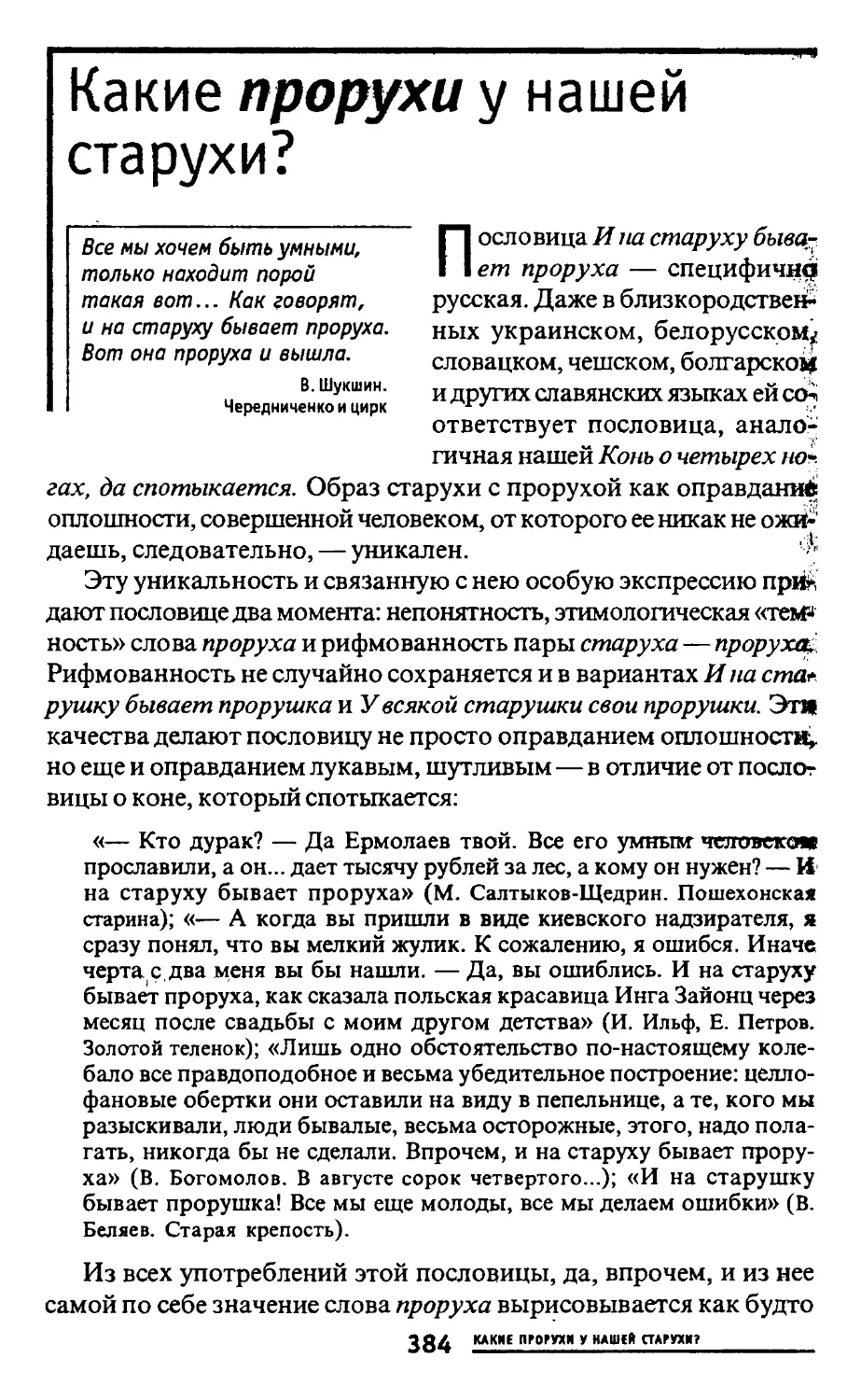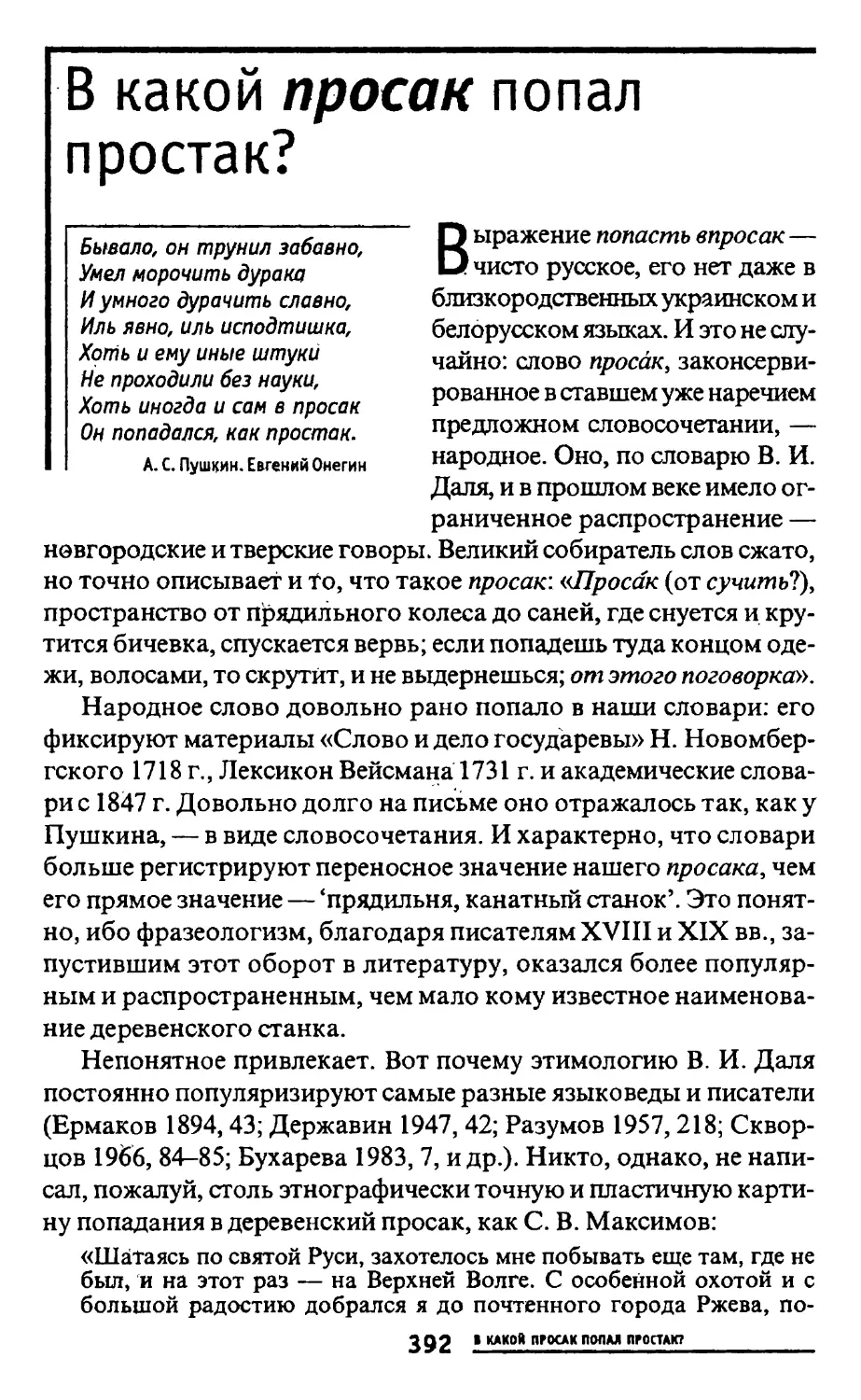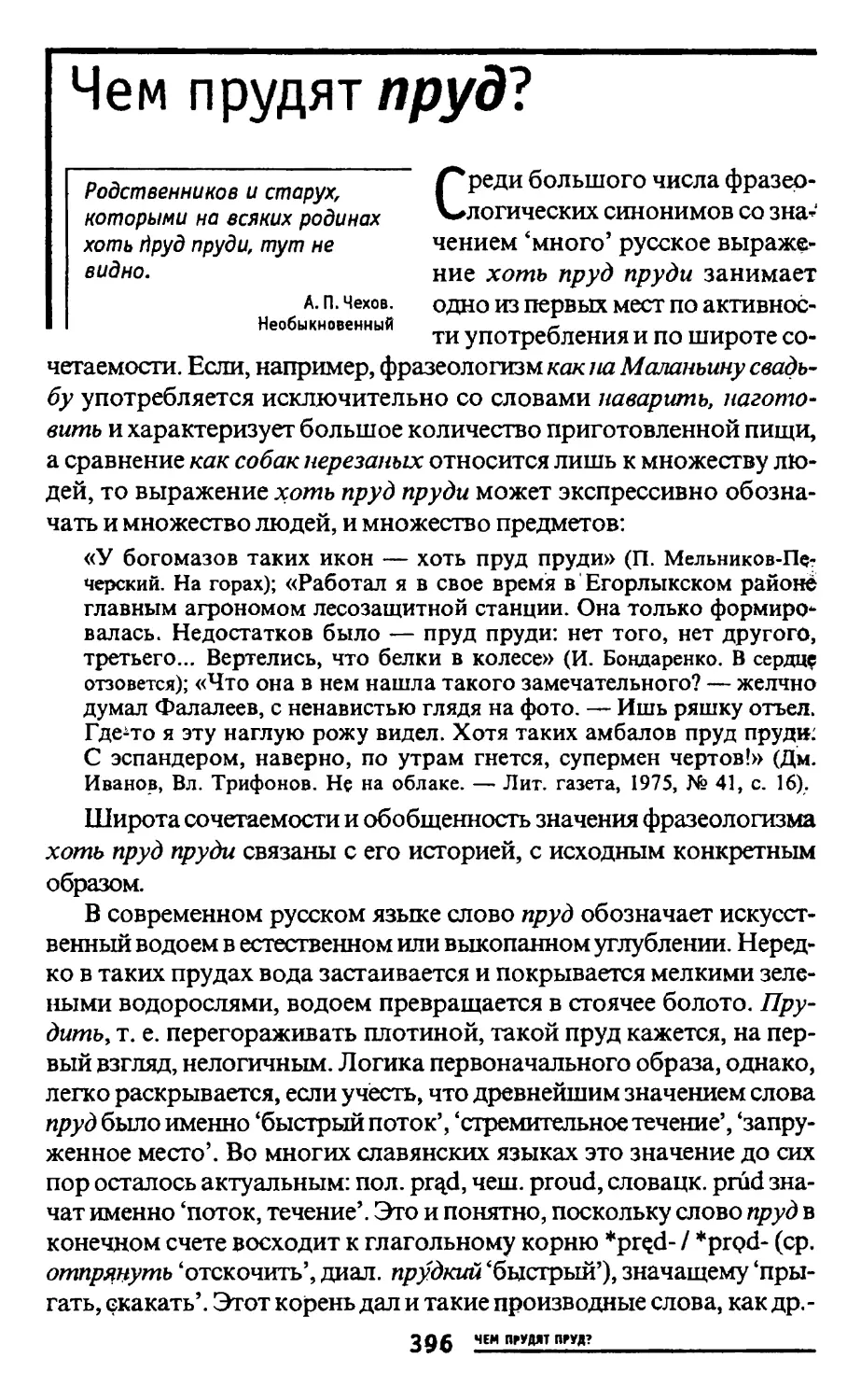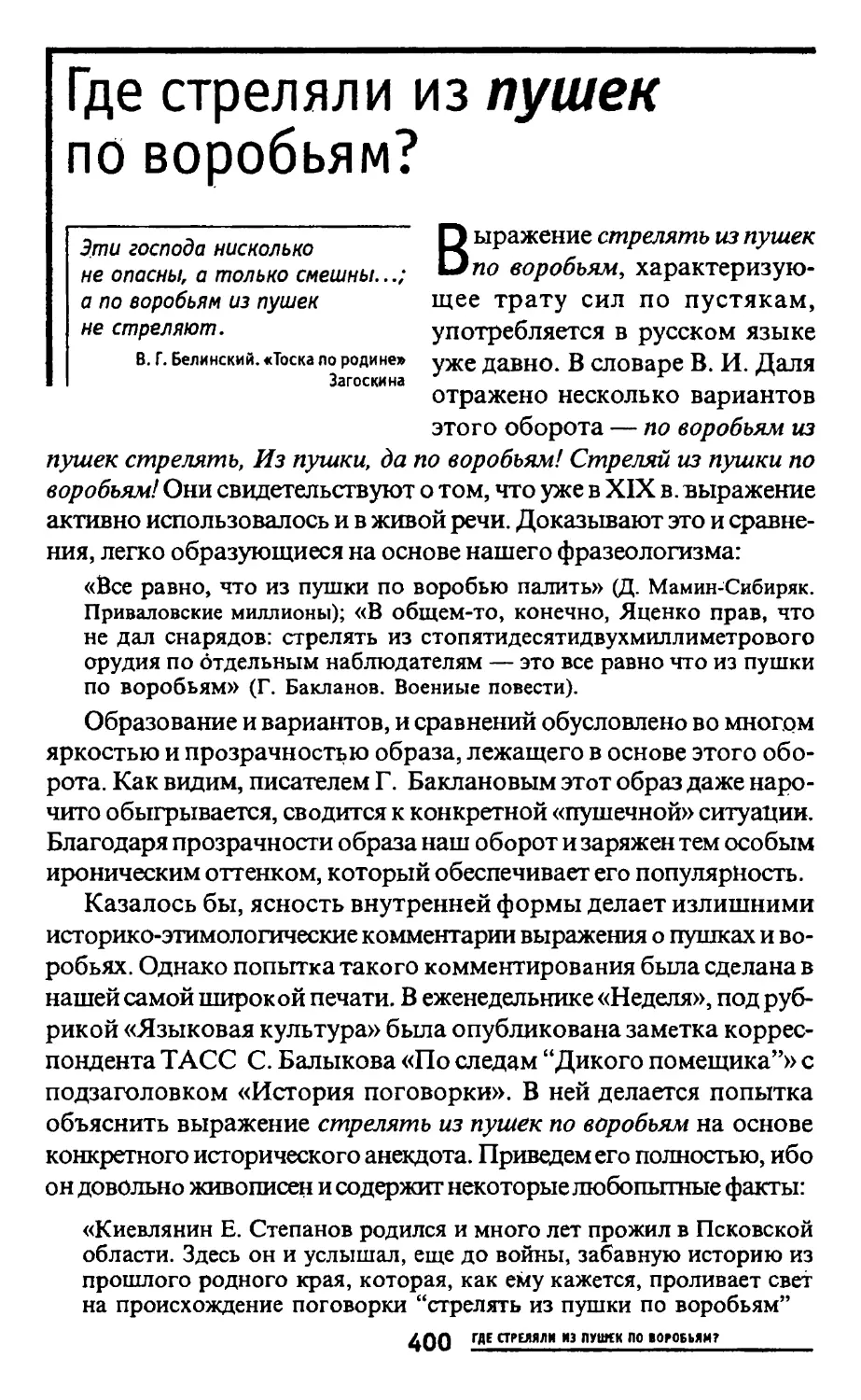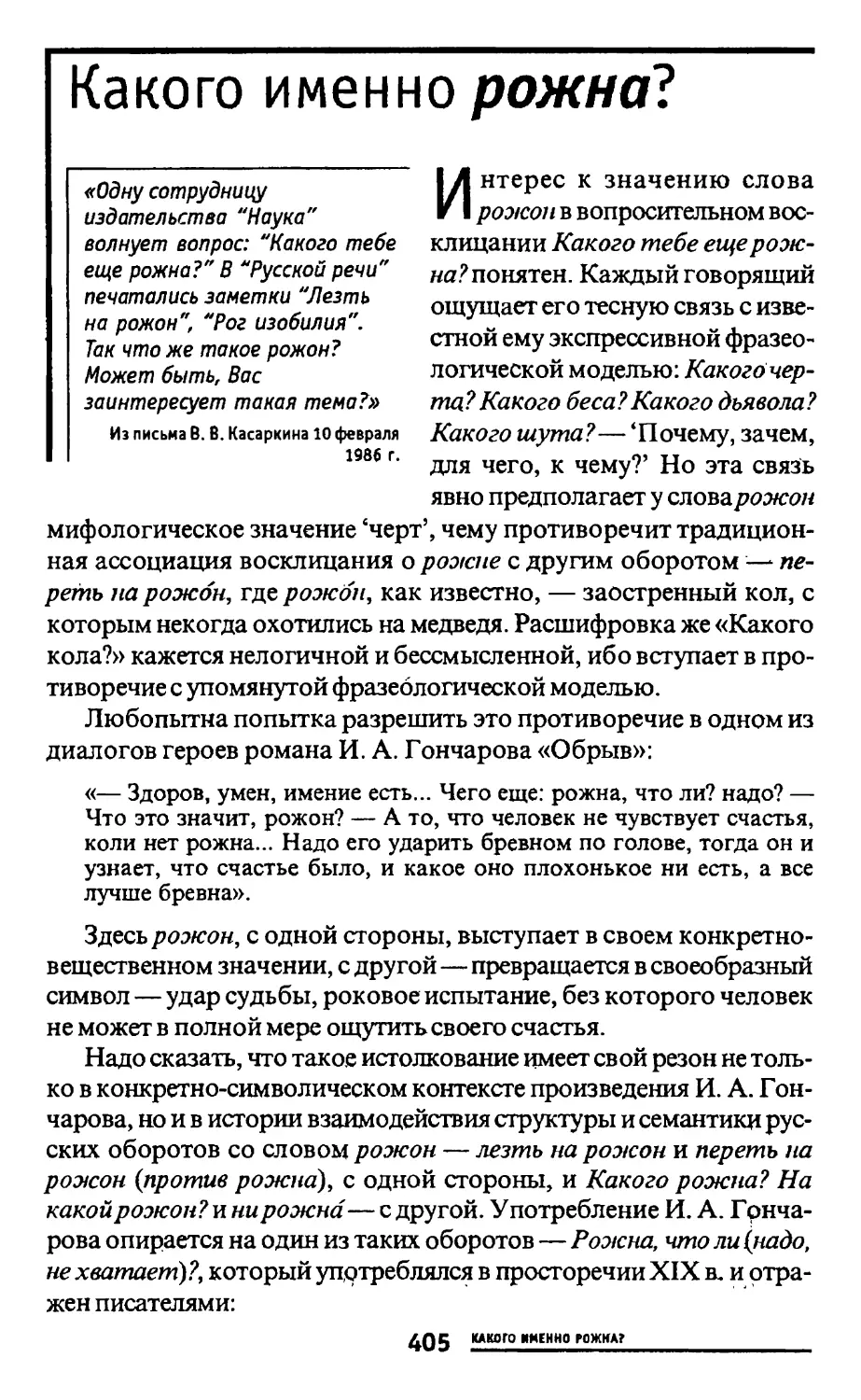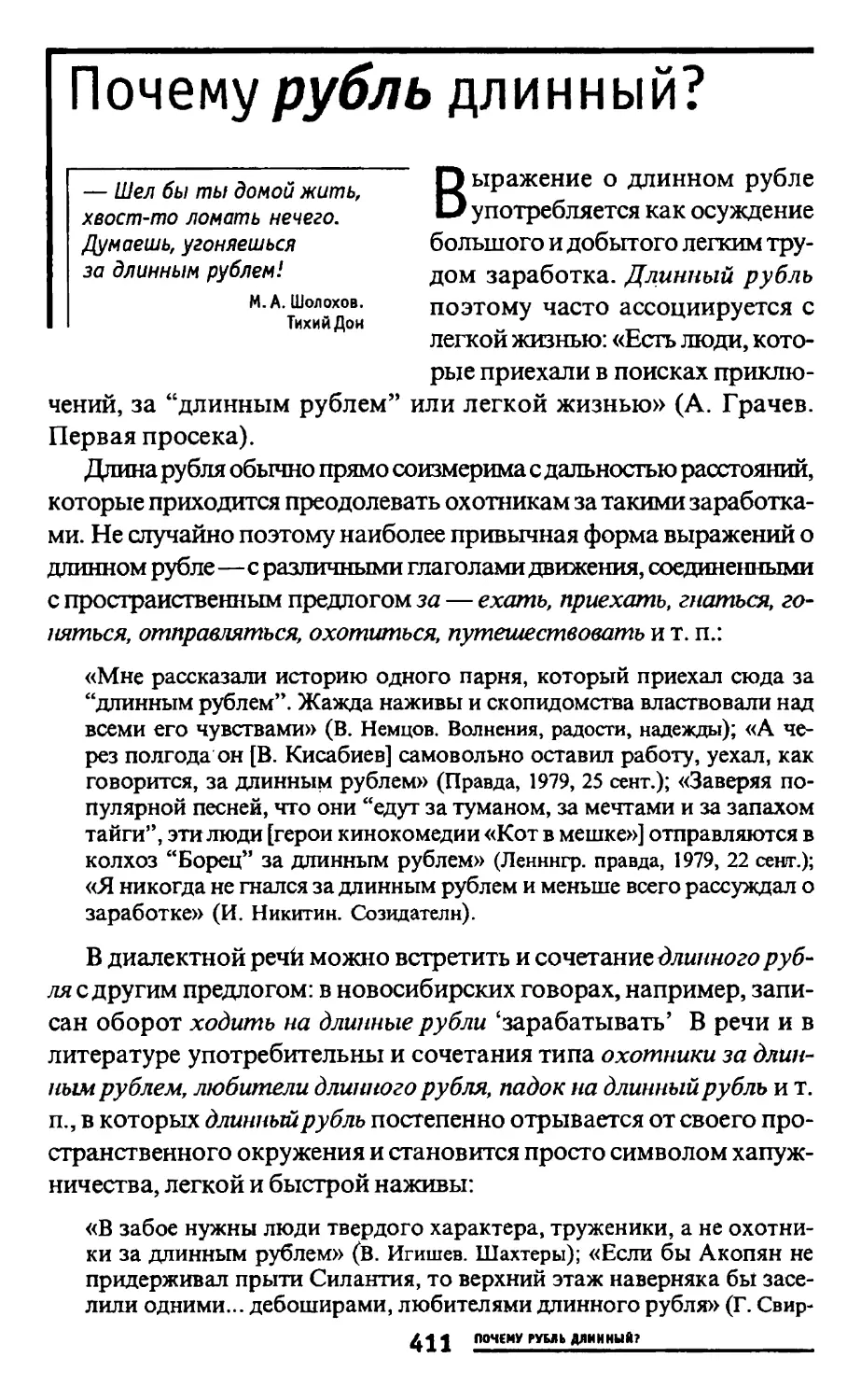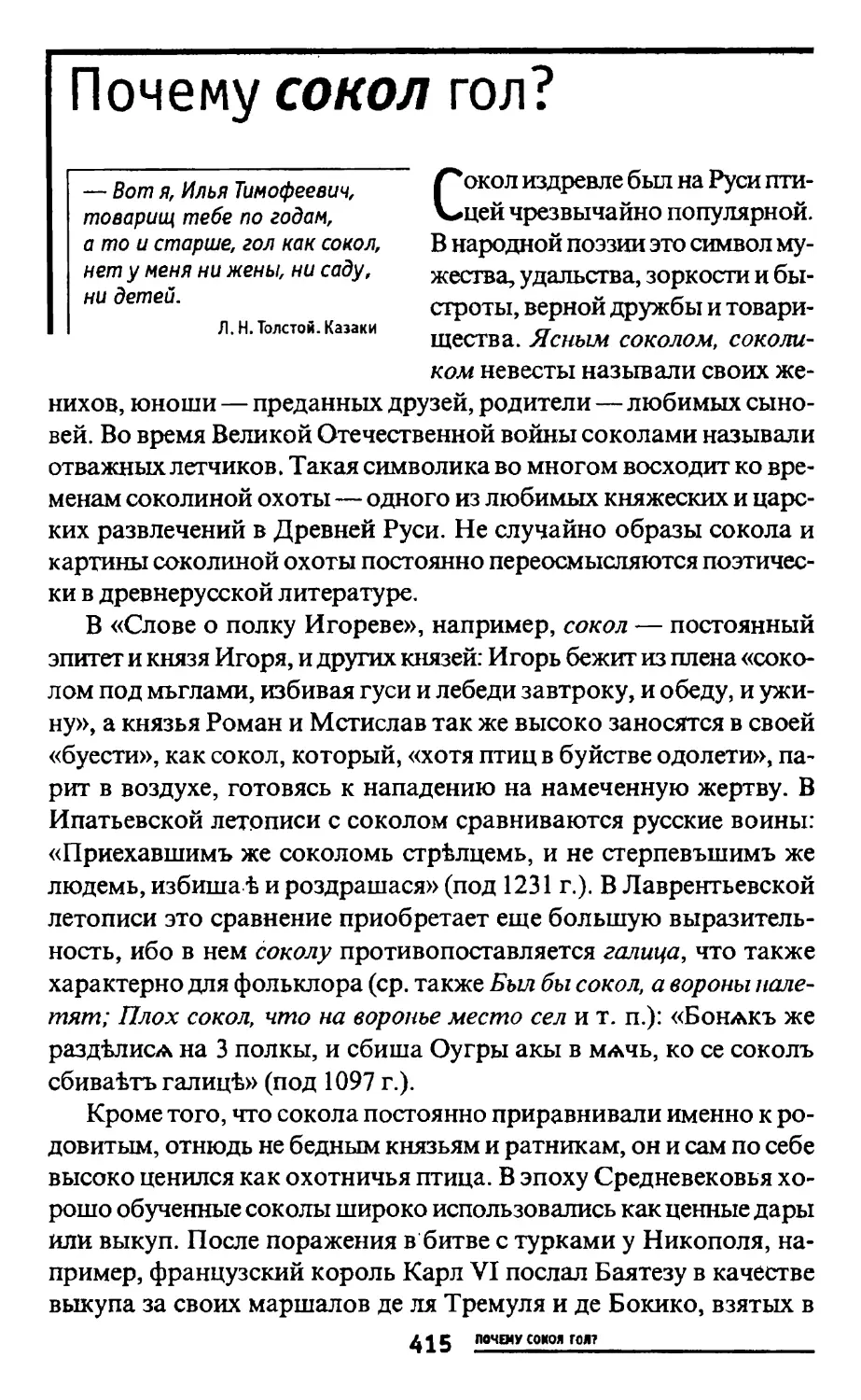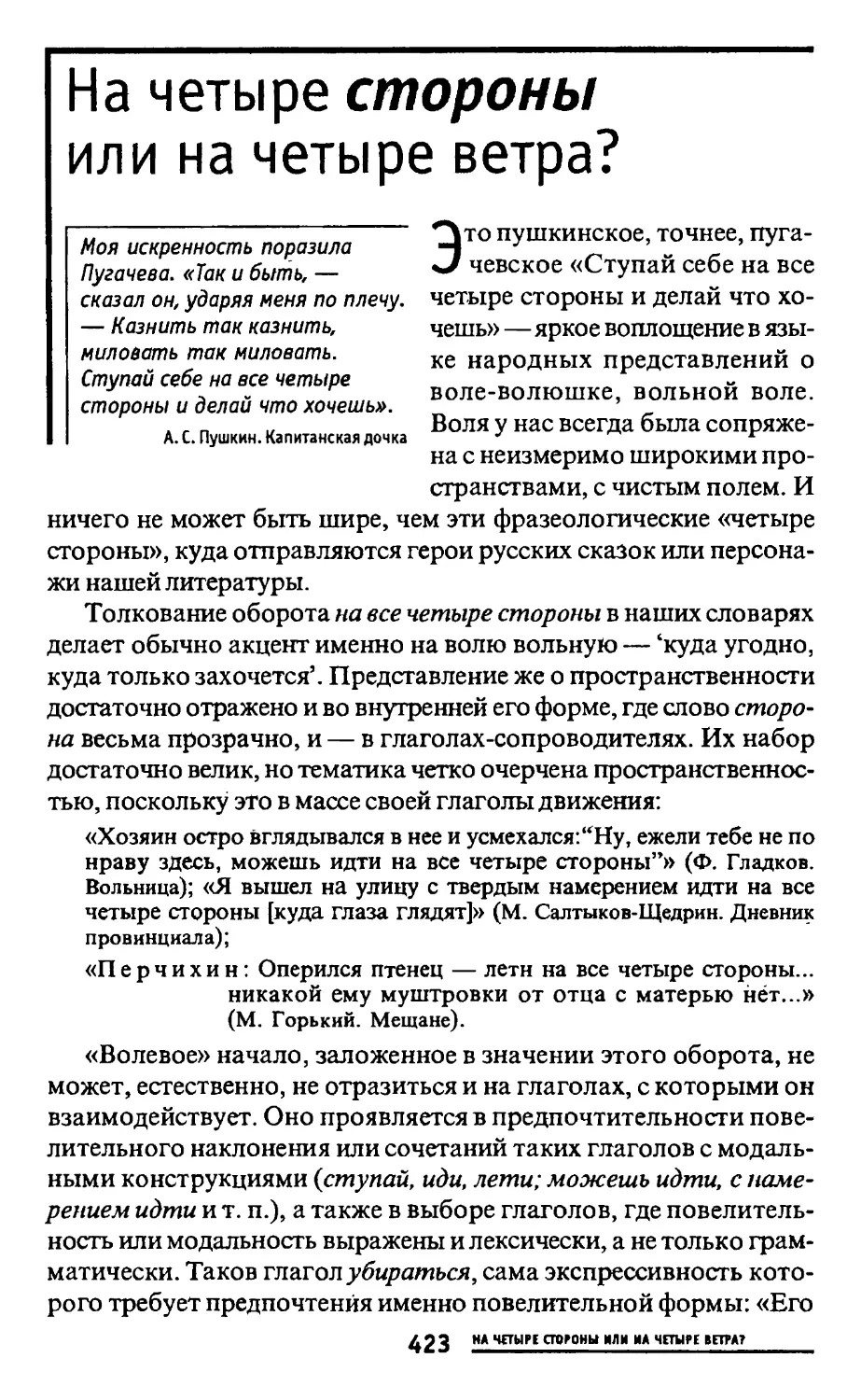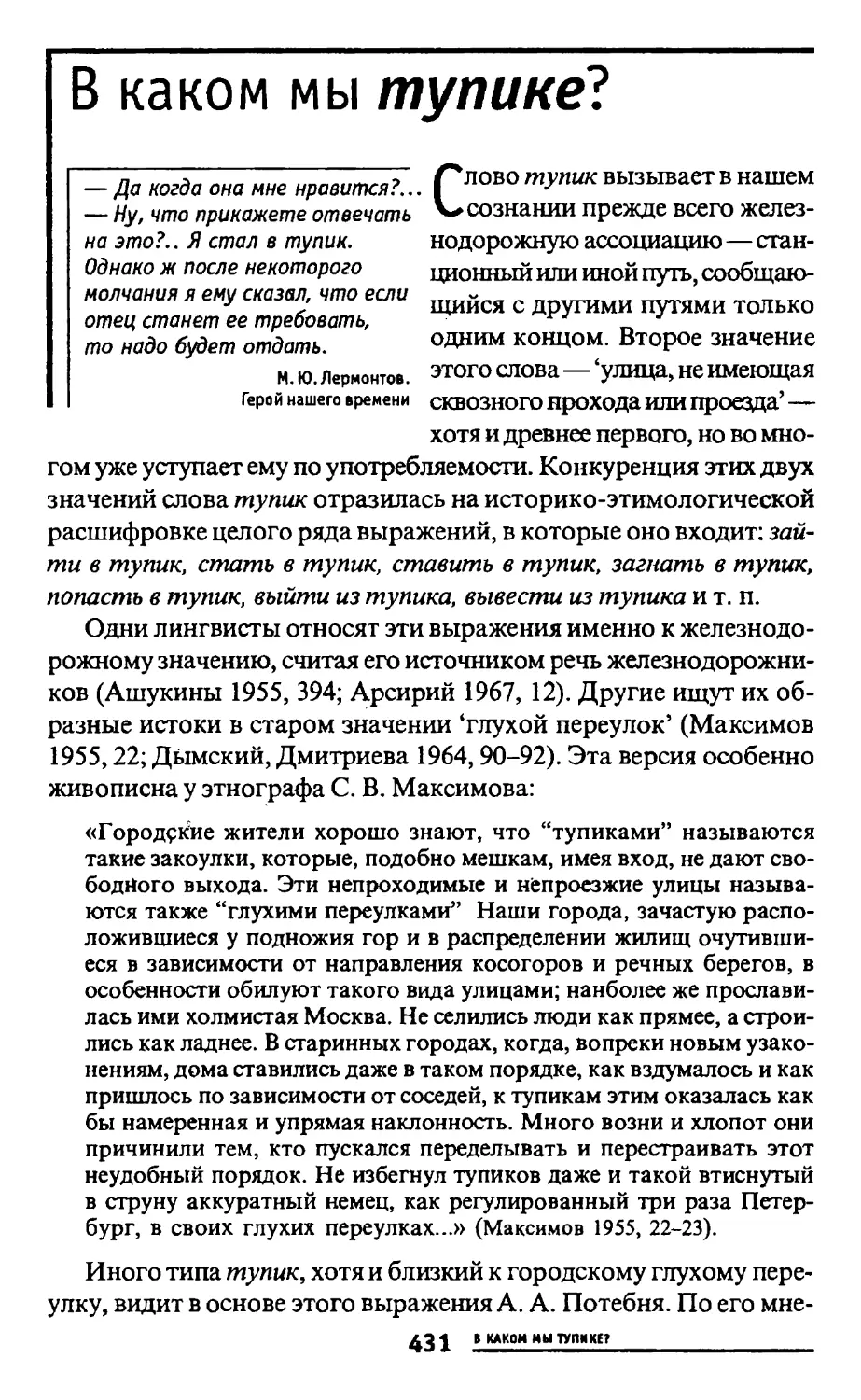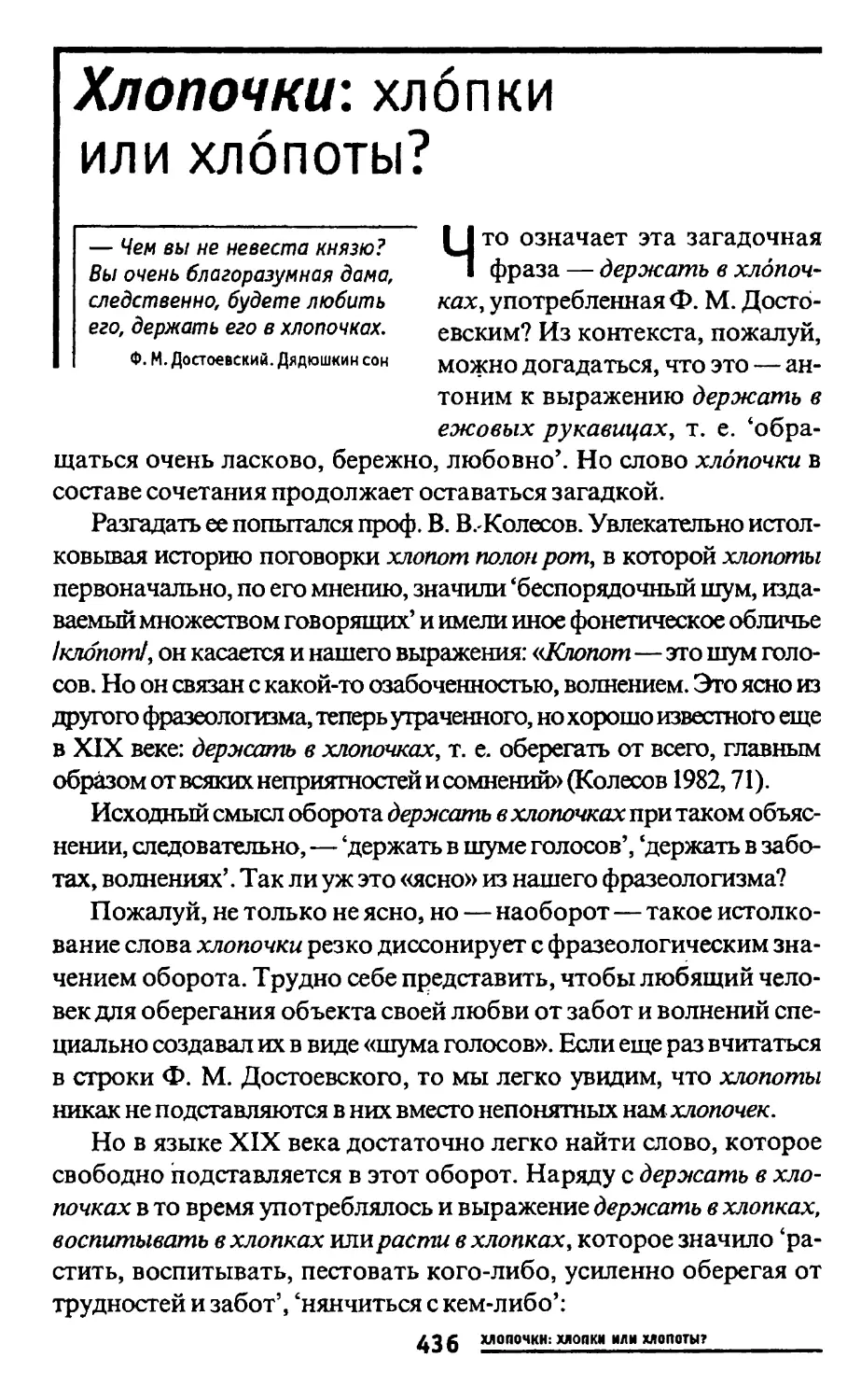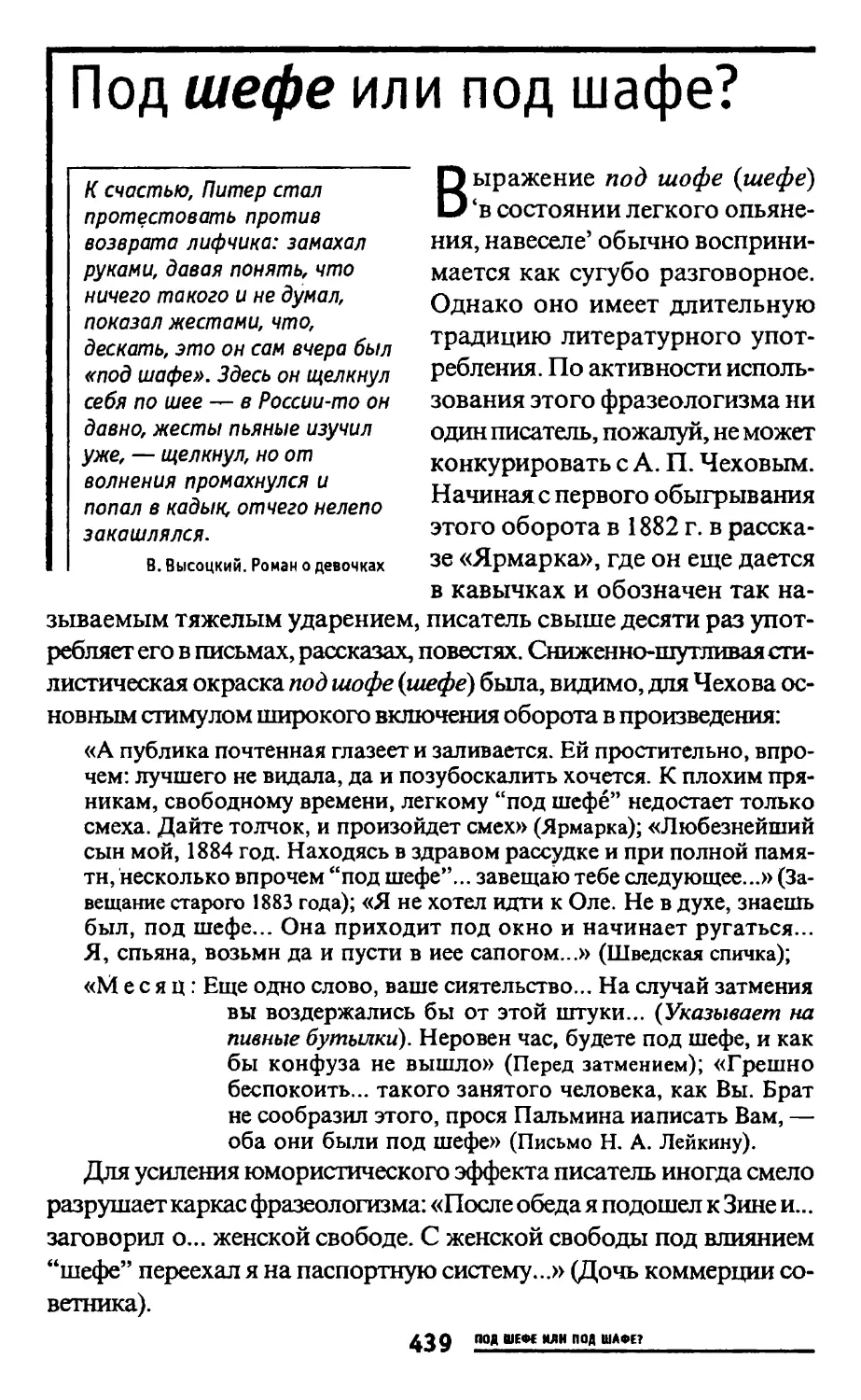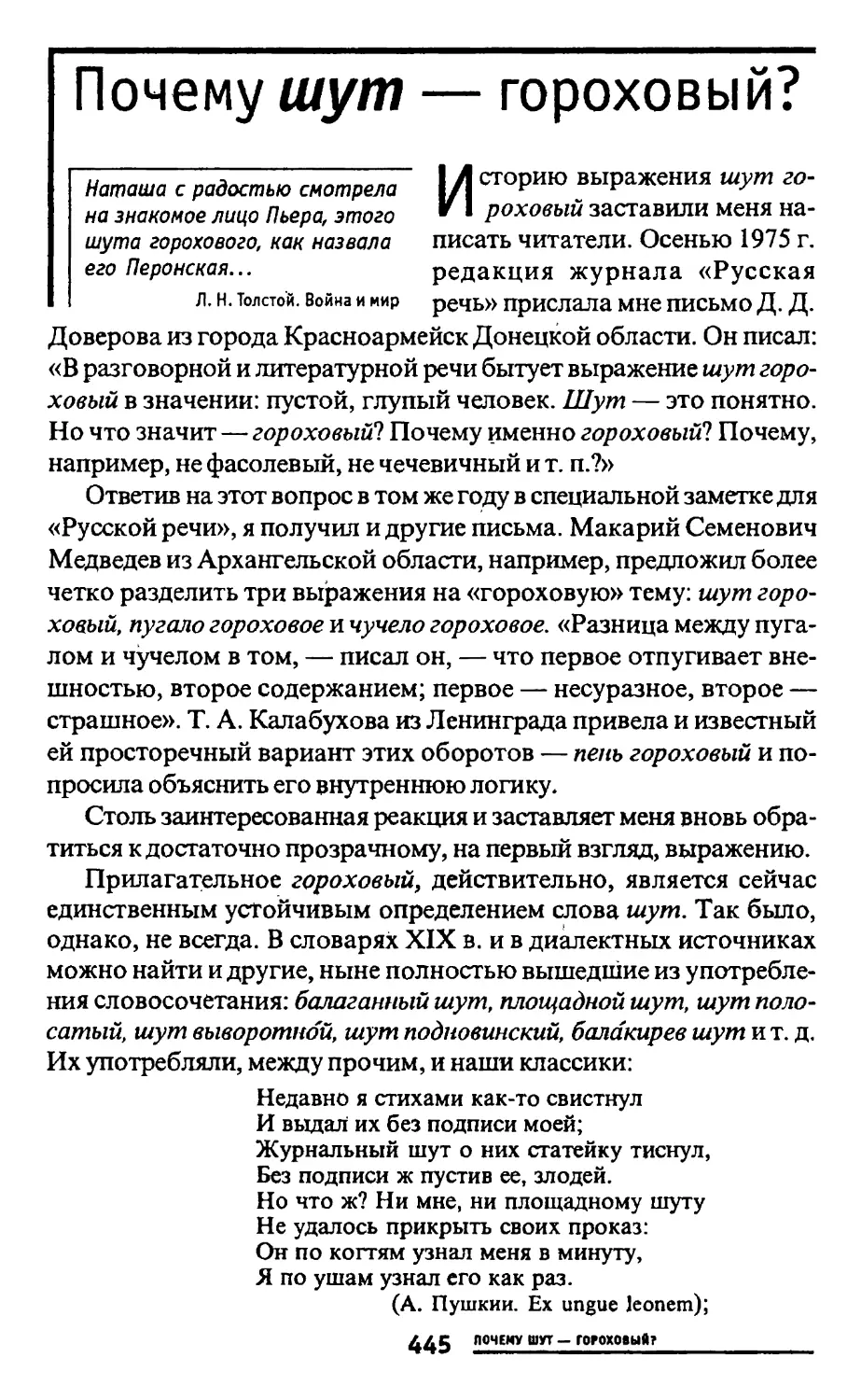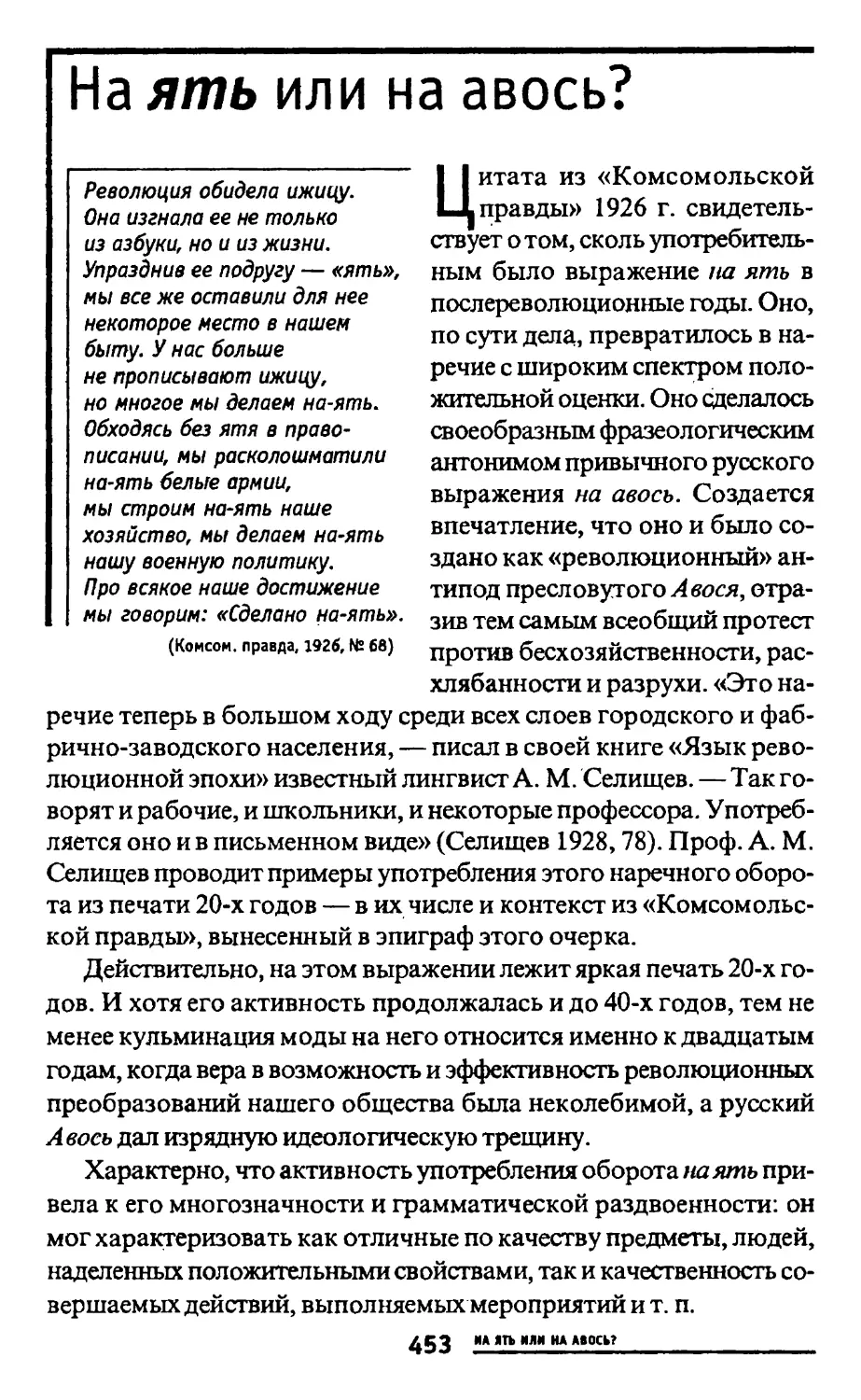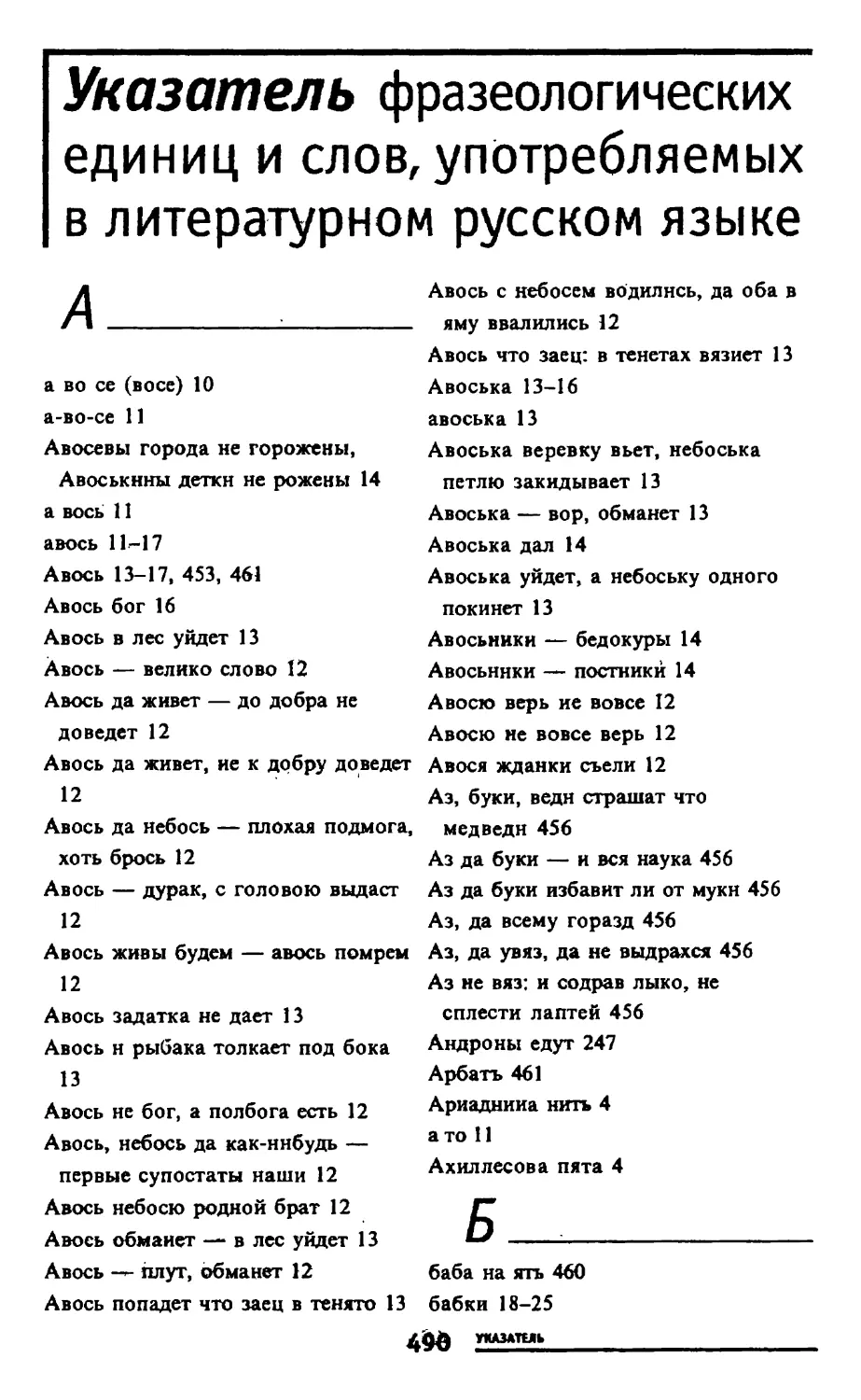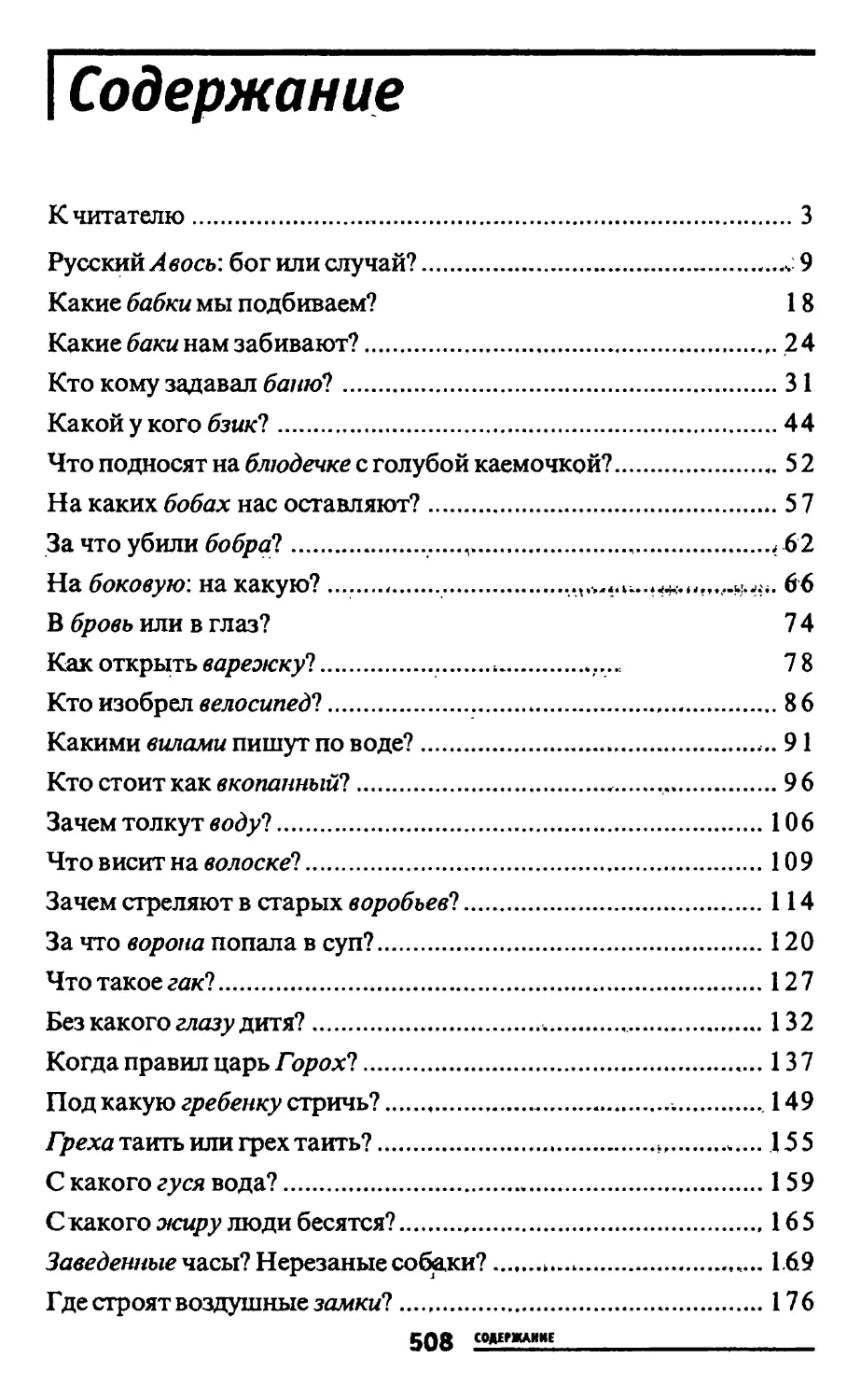Автор: Мокиенко В.М.
Теги: просодия стихосложение вспомогательные науки и источники филологии языки мира фразеология
ISBN: 5-7711-0152-4
Год: 2003
Текст
В. М. МОКИЕНКО
ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ?
ОТ АВОСЯ ДО ЯТЯ
п
ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК ПО РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
CAHKfrIPIEPWPI «НОРИНГ» 2004
УДК 801.318(031)=82
Б БК 81.2Р-4
М74
Редактор И. А. Богданова
Рецензенты: канд. филол. наук О. С. Мжельская (Санкт-Пе1 ербургский государственный университет), канд. филол. наук В. Н. Сергеев (Институт лингвистических исследований РАН)
Оформление обложки В. А. Ноздрин
ISBN 5-7711-0152-4
© «Норинт», 2003
К читателю
В филологической науке наиболее долговечны факты, а не идеи,
Д. С. Лихачев. Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет
Перед читателем — пятая книга из фразеологической серии того же автора1. В отличие от всех предыдущих, она не связана с каким-либо жестким лингвистическим или экстралингвистическим сюже
том и композиционно строится не по главам, а по отдельным очеркам. Единственная композиционная «перекличка», пожалуй, — лишь в том, что книга начинается и завершается фразеологизмами тождественной структуры и диаметрально противоположного смысла. При желании в этой «перекличке» от на авось до на ять можно усмотреть некий алфавитно-фразеологический символизм — движение автора и читателя от полного небрежения и поверхностного отношения к языковым фактам до их «ятевого» усвоения. Понятно, что это лишь алфавитные рамки словарного распределения типа от альфы до омеги или от а до я.
В книге — 63 очерка об отдельных фразеологизмах русского языка. Неспециалисту такое число может показаться малым для большой по объему книги. Но, во-первых, в большинстве очерков предлагается расшифровка самых спорных и загадочных по происхождению оборотов. Во-вторых, в каждом очерке рассматривается, как правило, целая серия фразеологизмов: литературных, просторечных, диалектных, русского и иноязычного происхождения. Поэтому общее число фразеологизмов, попавших в поле историко-этимологического исследования, — свыше тысячи. Указатель к книге поможет быстро найти каждый из них и получить соответствующую информацию.
Очерки расположены по алфавиту стержневого, или “ключевого”, слова фразеологизма. Не вдаваясь в споры о возможностях объективного выделения таких слов (а такие споры ожесточенно ведутся фразе-ологами уже свыше тридцати лет), замечу, что они обычно интуитивно вычленяются как основные носители образности и экспрессии. Расшифровка их семантического своеобразия обычно и привлекает читателя. Обычно такими словами оказываются существительные, субстантивированные прилагательные или причастия (баня в обороте задать баню,, комар в комар носу не подточит, вкопанный в как вкопанный и т. п.). Условность их выделения возрастает при многочленное™ оборота (ср. ни богу свечка ни черту кочерга; вилами на воде писано или у семи нянек
Мокиенко В. М. I) В глубь поговорки. М., 1975; 2-е изд. Киев, 1989; 2) Славянская фразеология. М., 1980; 2-е нзд. М., 1989; 3) Образы русской речи. Л., 1986; 4) Загадки русской фразеологии. М., 1990.
3 к ЧИТДТЕЛЮ
дитя без глазу). В этом случае обычно очерк располагается под первым существительным. Исключение — фразеологизмы при царе Горохе (под горох), повесить нос на квинту (квинта) и пословица На старуху бывает проруха (проруха), где под соответствующими словами концентрируется основной заряд образности и экспрессивности.
Очерковая композиция довольно традиционна и для книг популярного жанра по лексике и фразеологии. В отечественной традиции известно немало сборников крылатых слов, расположенных именно по алфавиту и представляющих собою отдельные очерки (Максимов 1955; Займовский 1930; Овсянников 1933; Ашукины 1966; Альперин 1956; Вар-таньян 1973 и др.). Эта книга, однако, весьма отличается от них. В таких сборниках обычно кратко и популярно излагаются — без научного анализа — те или иные историко-этимологические версии. Аргументация в пользу их доказательности приводится редко, и читатель должен принимать многое просто на веру. Кроме того, основная масса очерков посвящена объяснению интернациональных крылатых слов типа Ахиллесова пята, Ариаднина нить, яблоко раздора и т. п. Исключением в этом смысле является сборник С. В. Максимова, где основу книги составляют национально-специфичные обороты. Но методика расшифровки этимологий в сборнике справедливо характеризовалась Б. А. Лариным как “собрание средневековых анекдотов”.
Пожалуй, по типу отношения к материалу и цели его описания эта книга ближе всего к очеркам об истории слов Л. Я. Борового. Книга его “Путь слова” издавалась дважды (1960; 1974) и получила признание не только у читателей и любителей слова, но и у специалистов. Писатель Л. Я. Боровой всю жизнь вел наблюдения над словом, внимательно изучал переливы его смыслов в разные эпохи и результаты этого изучения синтезировал в очерках. Каждый из них — детальная биография слова с его точной паспортизацией в художественной литературе и разговорной речи. Лингвистическим образцом таких биографий слов и фразеологизмов для меня остаются очерки В. В. Виноградова (1968; 1971; 1994 и др.), Б. А. Ларйна (1977; 1987), Б. Л. Богородского (1988). Высокая ученость и насыщенность конкретными фактами в их очерках сочетаются с изяществом и доступностью изложения.
Настоящая книга — попытка создать серию подобных “биоочерков” по русской фразеологии. Языковые факты имеют здесь также первостепенное значение, именно им придается статус доказательной силы. Я ие хочу навязывать читателю той или иной этимологической гипотезы, а лишь предлагаю аргументы в пользу той из них, которая более всего соответствует фактам. Читатель в этом случае оказывается ие “объектом поучения”, но моим строгим судией или же (чего бы мне, не буду лицемерить, хотелось) — моим единомышленником.
Читатель, заинтересованный вопросами культуры речи, собственно говоря, и является инспиратором этой книги. Многие ее пассажи
4 и ЧИТАта|Ю____________________
“заказаны” именно им. Очерки о выражениях попал как кур во щи, что греха таить, какого рожна и многие другие написаны по предложению читателей или зрителей телепередачи “Русская речь”, в которой мне не раз приходилось участвовать с моим земляком проф. В. В. Колесовым. Отразились в этих очерках и письменные диалоги с моими читателями в течение более чем двадцати лет. Их сомнения, каверзные вопросы, критические выпады и благожелательные дополнения побудили меня вернуться в этой книге к давно или недавно написанным историкоэтимологическим очеркам — зарубить на носу, белая ворона... Трудно перечислить всех авторов писем, лишь некоторых я цитирую в разных местах книги и пытаюсь убедить в своей трактовке того или иного выражения. Но всем — и названным в ней, и не названным, и “отвеченным”, и “не отвеченным” — хочется сейчас, пользуясь случаем, сказать доброе слово благодарности. Уже и потому, что их письма заставили меня вернуться и к тем гипотезам, которые мне уже казались доказанными, и здесь, в этой книге, привести новый материал, который продолжает поступать из бездонной сокровищницы русской речи.
Интерес этот чаще всего возникает там, где возможно несколько равно логичных интерпретаций. Если к тому же нет надежного метода анализа и большого количества конкретных аргументов, то плюрализм мнений превращается в резкие, категорические споры о том, “правильно ли мы говорим”.
Понимая всю опасность выдвижения новых версий в таких случаях, в данной книге для очерков я все же избрал, как уже сказано, именно “остросюжетные” обороты. Каждый очерк — спор с какой-либо традиционной или нетрадиционной версией, полемика со специалистами, увещевание читателя, не принявшего тех или иных аргументов, предложенных ранее. Во многом это спор с авторами “Опыта этимологического словаря русской фразеологии” — Н. М. Шанским, В. И. Зиминым, А. В. Филипповым (см.: КЭФ; Опыт), рецензентом которого вместе с проф. Ю. В. Откупщиковым я был дважды.
В отличие от этого словаря в данной книге основной упор при аргументации этимологий делается на славянский, в частности восточнославянский (русский, белорусский и украинский), материал. Родственные языки и особенно диалекты нередко предлагают надежную подсказку при экзаменах фразеологии на этимологическую достоверность. Немало в очерках “перекличек” и с другими языками. В этой книге французских, немецких, итальянских, испанских и т. д. параллелей больше, чем в предыдущих, уже и потому, что интернациональной фразеологии здесь уделяется особое внимание. По-прежнему отражена в этимологических очерках связь фразеологии с этнографией, мифологией, историей, фольклором. Ко многим выражениям находятся и такие источники, как народные пословицы, с которыми фразеологизмы тесно связаны. Подчеркнута здесь и роль универсальных явлений в послови
5
К ЧИТАТЕЛЮ
цах и поговорках, их межнациональные связи. В наше время, когда национальные страсти накалены до предела, осознание интернационального фонда разных языков особенно необходимо. Ведь сам язык показывает полезность и притягательность мирного межнационального общения.
На этой книге, которая писалась в основном в 1980-е годы и долго не издавалась по вполне понятным “экстралингвистическим” причинам, естественно, лежит печать своего времени. Кое-что поэтому в процессе редактирования и чтения корректур пришлось изменить, кое-что — изменить захотелось. Однако полностью ломать эту “печать времени” я все-таки не стал. Она тоже — часть нашей языковой истории, без которой мы рискуем вновь оказаться Иванами, не помнящими родства.
Новое время принесло и новые языковые задачи. Необходимо, как кажется, реабилитировать роль так называемых жаргонизмов, “блатной музыки” в создании наших фразеологизмов. В некоторых очерках я касаюсь и этой, запретной прежде, темы, демонстрируя глубокую связь народно-речевого, диалектного начала с жаргоном и в меру сил демонстрируя конкретные пути от последнего к литературной речи.
Большое место в книге отводится употреблению того или иного фразеологизма в художественной литературе. Это, правда, не стилистические очерки, но — контекстуальная аргументация жизненности и эффективности употребления фразеологизмов писателями. Такое “насыщение” контекстами почти всех очерков также вызвано, по сути дела, инициативой читателей. Да и вообще, весь фактический материал призван убедить читателя в достоверности бытования фразеологизма в литературе, народной речи, научных интерпретациях. Ведь довольно часто письма читателей и начинаются с того, что “такого ие бывает”, “это ие типично для русского языка”, “этого в нашей области нет”. И опыт переписки с такими любителями русской речи показывает, что цитирование источников, приведение выборки из диалектных словарей, извлечение из фольклорных материалов делают из автора того или иного письма, настроенного вначале скептически, единомышленника или даже соавтора.
Иллюстративный материал, используемый автором этой книги, извлекался многие годы из самых разных источников, среди которых — собственная выборка из художественной литературы и публицистики; извлечения из монографий, словарей, картотек, архивов; записи живой речи. Понятно поэтому, что подача такого материала не всегда унифицирована: выдержки из газет и журналов, в частности, даются по-разному — как это делается в соответствующих источниках. Исключать же яркий и броский материал лишь в угоду его формальной унификации казалось неоправданным.
6
К ЧИТАТЕЛЮ
Эпиграфы, предваряющие каждый очерк, также демонстрируют читателю яркие примеры употребления наших образных оборотов писателями, поэтами, публицистами. Оии — своеобразная увертюра к рассказу о функционировании и происхождении фразеологизма, образчик его эстетических и экспрессивных потенций.
Многие из читателей популярной литературы о языке нередко являются одновременно и авторами этимологических гипотез. Этот исследовательский интерес я также попытался учесть в книге. В ней даиа достаточно большая (хотя и далеко не полная) выборка библиографии. Любознательный читатель легко отыщет по ней интересующую его справку и сможет более аргументированно включиться в дискуссии, подогреваемые этимологическим плюрализмом. Более развернутое реферативное изложение наиболее дискуссионных фразеологических этимологий с собственной интерпретацией автора этих строк можно найти в комментариях к собранию М. И. Михельсона. (Михельсон 1994) и своде материалов, изданных членами петербургского фразеологического семинара (Мокиенко 1993). Если и таких справок ему покажется недостаточно, то он найдет полную сводку всего, что писалось за последние 200 лет о том или ином русском фразеологизме, в специальном библиографическом указателе (Бирих, Мокиенко, Степанова 1994).
Не только добротность материала и знание литературы вопроса, разумеется, определяют объективность этимологических разысканий. Очень важно то, каким исследовательским методом добывается конечный результат. К сожалению, многие расшифровки первичного образа русских фразеологизмов до сих пор напоминают разные по степени остроумности анекдоты, популярность которых во многом зависит от степени их яркости. Что греха таить — такой подход до сих пор и серьезными лингвистами оправдывается фактом кажущейся единичности, уникальности, неповторимости, образного своеобразия идиом. “Всякая идиома в любом языке—штучный товар, — пишет, например, проф. В. В. Колесов, — а образ конкретен” (Колесов 1988, 81). То, что образ почти всегда конкретен, — несомненно. Но вот то, что идиома — “щтучный товар”, — весьма спорно. Как и любая другая единица языка, идиома (фразеологизм в узком смысле слова) воспроизводит формальные и смысловые модели языка. Эти модели могут быть ретроспективны, оторваны от конкретного нынешнего периода жизни языка, но именно они и делают идиоматику отнюдь не “штучным”, а “оптовым” товаром. Именно моделирование дает, как кажется, основу объективного этимологического анализа фразеологии. Метод структурно-семантического моделирования, разрабатываемый уже давно автором этой книги (Мокиенко 1980; 1989), положен в основу и настоящих очерков. Раскрытие языковой модели, по которой создано то или иное выражение, — главная цель историко-этимологического анализа фразеологизмов. Но, понятно, акценты анализа каждого оборота
у К ЧИТАТЕЛЮ
всегда зависят от конкретного материала. В одном случае для раскрытия этой модели достаточно белорусских и украинских или даже только русских диалектных данных, в других — приходится подключать всю языковую область Славии, жаргоны, сленги, европейские и неевропейские языковые параллели, этнографию, фольклор.
Нужно признаться, что не всегда конечный результат таких многотрудных поисков нравится читателям. Многие анекдотические, псевдоисторические и мифологические объяснения обычно более привлекательны и неожиданны — как и все фантастическое. Истина же обычно проста и обыденна — как и всякая реальность. Вот почему искатель нагой истины оказывается в крайне невыгодном положении: разрушая этимологические мифы, он предлагает прозаические факты, которые и так как будто известны многим. Так, под строгим этимологическим микроскопом выражение положить зубы на полку оказывается отнюдь не свидетельством о распространении ткачества на Руси, но всего лишь незатейливым каламбуром, стрелять из пушки по воробьям — лингвистической шуткой, не имеющей никакого отношения ни к псковскому самодуру-помещику, ни к графу Андраши и Бисмарку, а вилами по воде писано — вполне прозаическим крестьянским образом, а не отражением сурового обычая гадать по воде.
Не скрою: разрушать любые мифы, даже этимологические, — дело не из приятных. Ведь мифы — это поэзия, изящная выдумка, остроумная находка. Более того, миф — это объяснение, и весьма логичное, непротиворечивое, многих реальных и полезных для слушателя и читателя фактов и явлений. Миф — это и народное творчество, к которому необходимо относиться и с должным вниманием, и с должным почтением.
Но истина есть Истина. И если кажется, что ты к ней приблизился, то уже не веришь мифотворцам. И хочется поделиться добытым с другими. “Для меня нет интереса знать что-либо, хотя бы и самое полезное, — писал Сенека, — если только я один буду это знать. Если бы мне предложили высшую мудрость под непременным условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался”.
Конечно, очерки, лежащие перед вами, не являются этимологической истиной в последней инстанции. И тем паче это не высшая этимологическая мудрость. Но знаниями, добытыми многолетним трудом, хочется поделиться и со старыми, и с новыми читателями. В надежде, что они вновь станут моими добрыми и взыскательными корреспондентами.
Русский Авось: бог или случай?
Бог ухабов, бог метелей, Бог проселочных дорог. Бог ночлегов без постелей, Вот он, вот он, русский бог.
П. А. Вяземский. Русский бог
Нашему выражению на авось особенно повезло в бурное время начала перестройки. С последних, фельетонных страниц нашей печати оно переместилось в самые ее передовые статьи. Так,
одна из передовиц «Правды» от 17 января 1987 г. о трудностях, связанных с жестокими зимними морозами, называется «Не “авось”, а порядок и дисциплина во всем». Выражение на авось здесь становится экспрессивным лейтмотивом, хлестким символом нашей бесхозяйственности, расхлябанности и безответственности:
«Нынешняя погода серьезно экзаменует городские хозяйства, руководителей министерств, ведомств и предприятий, различные службы. И надо сказать, многие не выдержали этого экзамена. При наступлении холодов в ряде мест вышли из строя системы электроснабжения и тепловой сети. В редакции раздаются тревожные звонки: “В квартире не топят. Помогите”...
Причина одна — бесхозяйственность, непонятное благодушие, отсутствие элементарной житейской предусмотрительности. Это — и надежда “на авось”. Может быть, зима теплая будет, “авось” пронесет. И хотя уже ие раз случалось, что “ие проносило”, — выводов нужных не сделали. Ссылались на нехватку материалов, времени. И только тогда, когда гром грянет, находятся и материалы, и рабочие руки, и специалисты, и время...
В последнее время мы часто говорим о зиме как о чем-то стихийном. Дескать, ничего нельзя поделать с этим. А что, собственно, необыкновенного в нашей зиме! Морозы бывали и покрепче, посуровее. Только и готовились мы к ним, надо признаться честно, получше. И сейчас там, где ие понадеялись на “авось”, а готовились к зиме жарким летом, там никаких проблем нет.
Морозы и снегопады, бураны и вьюги были и будут. Им нужно противопоставить не “авось”, а организованность, дисциплину, четкость».
Подобных призывов решительно разделаться с «авосем» на всех фронтах раздавалось-немало:
«Честные люди не терпят бесхозяйственности и неорганизованности, расхлябанности и пресловутого “авось”. А питательная почва подобных явлений — как раз невзыскательность, мягкотелость и безынициативность руководителя. Недаром о таком в народе отзываются с презрением: “Рохля!”» (Правда, 1980, 11 мая).
g РУССКИЙ АВОСЬ; W ИДИ СЛУЧАЙ?
Руководителей подобного типа мы уже давно развенчали и ниспровергли, а пресловутый Авось живет как ни в чем не бывало и продолжает авосничать в широком масштабе, переживая не только зимы и лета, но целые века. В языке его живучесть поддерживает литературная традиция, ибо уже с XVIII в. выражение на авось практически не меняет ни своего иронического смысла, ни своей лапидарной формы:
Хватайко: Ты разве позабыл, что издревле весь свет Все на авось либо надежду полагает? —
вопрошает один из героев ядовитой комедии В. В. Капниста «Ябеда», написанной в 1798 г. Под обобщением «весь свет» он, видимо, уже тогда имел в виду прежде всего носителей русского языка. Эта утешительная надежда на авось, т. е. расчет на счастливую случайность, на благополучный исход, на легкое и неожиданное везенье, составляет главный смысл нашего выражения. Он и акцентируется, и конкретизируется многими нашими писателями:
«Городничий:О тонкая штука! Эк куда метнул!.. Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну да уж попробовать... что будет, то будет, попробовать на авось» (Н. Гоголь. Ревизор);
«Подхалюзин так и не знает, что он идет на авось» (Н. Добролюбов. Темное царство); «Но он неспособен был вооружиться той отвагой, которая, закрыв глаза, скакнет через бездну или бросится на стену на авось» (И. Гончаров. Обломов); «Править лошадью он не умел, дороги не знал и ехал на авось... надеясь, что сама лошадь вывезет» (А. Чехов. Воры).
Как же развивался этот иронический оборот? Как складывалось его фразеологическое значение? Как заряжалось оно иронической экспрессией?
На эти вопросы частично отвечают этимологические словари русского языка. Они расшифровывают слово авось предельно прозаически, выводя его из союза пи указательной частицы осе ‘вот’, а в объясняя как интервокальное, «вставное» (ср. вот из от или вон из он), вторичное (Фасмер 1,59; ЭСРЯI, вып. 1,30). Буквальное значение авося, следовательно, нечто вроде—«а вот». Еще в XIV—начале XVI в. слово это писалось и как два, и как три отдельных слова— а восе, а во се (т. е. се): «А восе, господине, грамота пред тобою» (1490 г.—Срезневский 1,305); «А во се, господине, те люди добрые перед тобою» (Акты XIV—начала XVI в.). Постепенно, как показывает специальный историко-лингвистический очерк об этом слове (Отин 1983), оно сплавлялось в знакомое нам авось—через поте
10 гаский АВОСЬ; БОГ ИЛИ СЛУЧАЙ?
рю конечного гласного звука и промежуточное сочетание а вось. В начале XVI в. этот процесс был уже завершен. Сочетание а во се стало словом авось, однако в деловых документах продолжало иметь прежнее «бесцветное» местоименное значение. Характерна в этом отношении перекличка нашего слова с местоименным сочетанием а то: авось при этом указывает на ближайший к говорящему предмет, а а то — на отдельный от него: «И царь мне молвил: верь ми, авось тебе челма, а то тебе знамя; да положил на меня челму» (Памятники дипломатических отношений Московского государства с Крымом, Нагаями и Турциею. Т. 2. СПб., 1895).
Авось, следовательно, прежде обозначало нечто, находящееся поблизости. Как же произошел семантический сдвиг в сторону ‘может быть’? Е. С. Отин с сожалением отмечает полное отсутствие следов этого смыслового и стилистического «скачка» в письменных источниках и верно предполагает, что он произошел в разговорной речи. Здесь, кажется, уместно напомнить и предположение В. И. Даля, категорично отвергаемое некоторыми этимологами (ЭСРЯI, вып. 1,30), разлагавшего наше словечко на а-во-се «а вот, сейчас», т. е. придававшего ему и пространственное, и временное значение (Даль 1,3). Тесное взаимодействие пространственных и временных понятий в языке—одна из его стойких смысловых закономерностей, вполне вероятно поэтому, что и здесь она сыграла свою роль. Указательная частица со значением ‘вот’, конкретизируясь в ‘вот оно [самое ближайшее от меня]’, постепенно сплавлялось с ассоциациями о быстром, моментальном предоставлении кому-либо этого «оно». Так авось стало обозначать и ‘вдруг’, и ‘если’, и — ‘может быть’.
На этом, однако, смысловое развитие слова авось еще не закончилось. Его форма, оканчивающаяся на частицу -сь, располагала по аналогии (ср.: лось, ось, лосось, морось и т. п.) к субстантивации, т. е. к его превращению в существительное. А модальное значение послужило истоком его вторичного осмысления как ‘неожиданное везенье, счастливый случай, удача’. Это же смысловое движение вело, в свою очередь, и к мифологическому — разумеется, заведомо шутливому, ироничному—восприятию авося как Авося, Так это слово и стало титулом беспечного и бесхозяйственного божества, воспетого князем А. П. Вяземским в стихотворении «Русский бог».
Этапы такого развития легко проследить по русским пословицам, где Авось является одним из излюбленных персонажей. По значению этого слова их можно разделить на несколько групп.
Ц РКСКМЯ АВОСЬ; БОГ ИЛИ СЛУЧАЙ?
Первая—это пословицы, где авось употребляется в значении ‘может быть’, подчеркивая прежде всего такую возможность, которая желательна для говорящего, выражая какие-либо его надежды, а иногда — сомнения: Авось живы будем — авось помрем; До того доживем, что авось еще наживем; Ждем-пождем, авось и мы свое найдем; Живи — ни о чем не тужи! А все проживешь, авось еще наживешь; Лежи на печи, авось что-нибудь вылежишь; Не во всякой туче гром; а и гром да не грянет; а и грянет, да не по нас; а и по нас — авось не убьет!; Поживи в рабах, авось будешь и в господах.
Во второй группе пословиц уже ощутима субстантивация нашего слова, хотя значение частицы еще продолжает доминировать: Авось — велико слово; Авось да живет — до добра не доведет; Авось да живет, не к добру доведет; Авось да небось — плохая помоги, хоть брось; Держись за авось, пока не сорвалось.
Субстантивация в некоторых случаях хорошо подкрепляется грамматическими изменениями слова авось: в некоторых пословицах оно легко склоняется; Авосю верь не вовсе; Авосю не вовсе верь; Авося жданки съели (т. е. кто-либо очень заждался); От авося добра не жди.
Субстантивация постепенно, как уже говорилось, превращает авось в обозначение какого-либо одушевленного существа. Чаще всего это обозначение человека: А вось—дурак, с головою выдаст; А вось небосю родной брат; А вось — плут, обманет; А вось с небо-сем водились, да оба в яму ввалились.
Третья группа пословиц тесно смыкается со второй и заметно приближается к раду пословиц, где А вось играет уже мифологическую роль, т. е. воспринимается как обозначение какого-либо божества. Одна из них, правда, весьма четко оговаривает «неистин-ность» Авося как бога: Авось не бог, а полбога есть. Эта «полубожественность» легко уловима и по многим другим косвенным признакам, отраженным именно в пословицах. В уже известных пословицах типа Авосю верь не вовсе отражает здоровый скепсис к этому шутливому божеству. В пословице От авося добра не жди есть намек на типичную «оделяющую» функцию бога, но тут же она становится и предупреждающей: от столь ненадежного бога надо ждать, скорее, чего-либо худого, опасного. О том, что этот бог— враг рода человеческого, свидетельствует и пословица А вось, небось да как-нибудь — первые супостаты наши.
12 ₽УСО(И<| А80СЫ 80Г ИЛИ
Такое отношение к Авосю ставит его в один мифологический ранг со многими зловредными представителями «нечистой силы», характерными для народного русского мировоззрения. О том, что Авось постепенно стал восприниматься именно как один из «нечис-тиков», толкающих суеверных язычников на нерадивость и небрежение, говорят и такие пословицы, в которых имплицитно даются признаки черта разных калибров. Так, пословицы Авось в лес уйдет и Авось обманет — в лес уйдет вполне могут интерпретироваться и как шутливый намек на «лесного хозяина» — лешего, который заманивает доверчивых людей в свое царство и «водит» их там, сбивает с пути истинного. Пословицы А восъ попадет что заец в тенято и А восъ что заец: в тенетах вязнет, записанные уже в XVII в., также, как кажется, «намекают» именно на врага рода человеческого. Известно ведь, что заяц, как и черная кошка, у русских—одно из перевоплощений «оборотня-дьявола»: не случайно оба этих животных, перебежав кому-либо дорогу, сулили несчастье. В пословице А восъ и рыбака толкает под бока, видимо, скрыт намек на водяного, готового в любой момент сунуть «беса в ребро» зазевавшемуся любителю рыбной ловли.
Сохранилось (а точнее—развилось) в пословицах и представление об Авосе как некой наделяющей силе, Судьбе, Доле, Участи. И здесь, однако, это не столько бог, сколько антибог, не столько судьба, сколько ее оппозиция. Авось задатка не дает — гласит одна из пословиц на эту тему. Особенно характерны для этой мифологической линии пословицы не собственно об И восе, а о его родном брате А восъке: Судьба—не авоська; Вывезет и авоська, да не знать куда. Не случайно такое божество Судьбы пословицы несколько раз окрестили вором, т. е. судьбой коварной и преступной: Завтра — вор авоська, обманет, в лес уйдет; Авоська — вор, обманет. Это уже нечто похожее на шутливый народный афоризм о судьбе: Судьба — индейка, жизнь — копейка. Ненадежность и коварство А воськи как судьбоносителя отражены и в других пословицах: Авоська уйдет, а небосъку одного покинет; Авоська веревку вьет, небоська петлю закидывает; Тянули, тянули авоська с небоськой, да животы надорвали. Можно найти и другие нелицеприятные признаки «злополучия» А вося и Авоськи как судьбоносного начала—например, его безответственность: С авоськи ни письма, ни записи, т. е. на такое божество нельзя полагаться, ибо оно никогда не дает письменных поручительствсвоим обещаниям.
РУССКИЙ АВОСЬ БОГ ИЛИ СЛУЧАЯ?
Все сказанное подтверждает идею этнографа Я. И. Гина о том, что русское «авось—это не только факт языка, но и этнографический, этнопсихологический и поэтический факт» (Гин 1988,142) и что оно в народном мифологическом сознании отчетливо коррелируется с Богом. Характерна в этом смысле даже словесная перекличка в пословицах на одну тему: На Бога не надейся — На авось не надейся; Бог дал—А воська дал.
Нужно, правда, еще раз подчеркнуть, что такая корреляция с Богом—все-таки шуточная, фарсовая. Фарсовая уже потому, что во всех названных нами пословицах постоянно ощущается двуплановость. Значение частицы продолжает жить в них и оживлять их шутливые ассоциации, что и мешает нашему А восю стать настоящим «русским богом». Поэтому и пословица Русский бог — авось, небось, да как-нибудь не может пониматься в собственно мифологическом смысле или как отражение серьезной, глубокой веры нашего народа в небрежную, неожиданную случайность или праздный фатализм. И эта пословица, и ее переосмысление в стихотворении П. А. Вяземского, и многочисленные вариации на эту тему — это не что иное, как народное осмеяние всех тех, кто на такую случайность полагается. Осмеяние и — предостережение. Шуточное и нешуточное. Ибо во многих шутливых образованиях от слова авось и пословицах с ними звучит именно такое предостережение против небрежной и халтурной работы по принципу «Тяп-ляп — вышел кораб»: Авдеевы города не горожены, Авдськины детки не рожены; Авосьники — бедокуры; Авосьники — постники; Кто авосьничает, тот и постничает.
Как видим, положившийся «на авось», по народной мудрости, должен не на шутку знать, что он останется и в неогороженном (т. е. абсолютно незащищенном от врага) городе, и бездетным, и голодным. Словом—станет полным бедокуром. А такое знание уже не только мифология, а наука жизни, мудрословие.
В этом отношении шутливый «русский бог» Авось гораздо жизненнее, чем его серьезный мифологический «предшественник» Святой Николай, Никола Угодник, который и считался истинным «русским богом» и не случайно был чрезвычайно почитаем во всех уголках нашей державы. Специальной функцией его являлась охрана русского народа, что соответствовало восприятию Св. Николы как покровителя русских. Сохранилось немало легенд о чудотворных деяниях этого святого. «Русский же бог» А вось—его шутливый антипод, Бог наизнанку.
ГЖСКИЙ АВОСк ВОГ ИЛИ СЛУЧАЙ?
Отсюда и устойчивые ассоциации с «дурным», неожиданным везеньем, незаслуженно привалившей удачей, случайным счастьем. Они отражены и в литературных употреблениях выражения на авось, которое писатели нередко «подкрепляют» его синонимами — на удачу, на счастливый случай, на счастье и т. п.:
«Там [в Новгороде] все были купцами случайно и торговали на авось да на удачу, по-азиатски» (В. Белинский. Статьи о народной поэзии); «О пригодности их [мест] к заселению... администрация может судить только гадательно, и потому обыкновенно ставится окончательное решение в пользу того или другого места прямо наудачу, на авось» (А. Чехов. Остров Сахалин); «В воздухе ничего не может быть на авось, на счастье. Все должно быть проверено не только в механизме самолета, ио и в механизме летчика» {Б. Лавренев. Большая земля); «Нигде не подвергали они себя такому риску, как во времена захода в деревни, усадьбы... Беглецы часто надеялись на авось, на счастливый случай, на человечность» (В. Быков. Альпийская баллада).
Это и понятно: ведь выражение на авось входит в активный ряд слов и оборотов, образованных по модели на + «случайность», причем «случайность» может быть как счастливая, так и несчастливая: наудачу, наугад, на беду, на счастье, на славу, назло, наверняка, на ура, напропалую, наобум, нашармака, нахрапдк и т. п. История каждого из этих слов и выражений особая, но конечный результат весьма близок. Не случайно в разных славянских языках наше на авось передается близкими к перечисленному ряду словами: бел. наудалую, наудачу, нашармака; укр. на галайбалай, навмання, на удачу, на щастя; пол. liczyd па «а nuz» (букв, ‘рассчитывать на «а ну»’), чеш. nazdarbuh (‘на «дай боже»’), словацк. naverimboha (‘на «верую в бога»’), naslepo (‘наслепую’). Ср. и русские диалектизмы типа влад. на обмах ‘кое-как’ (обмах - ‘промах, ошибка’) и ряз. насшиббк ‘в расчете на случайное везение’.
Между прочим, значение ‘расчет на случайное везение’ в нашем обороте породило обиходное, весьма прозаическое слово—авоська ‘хозяйственная сумка из сетки’. Оно появилось после революции — и в новом качестве, и в новом—женском—роде. «Слово родилось в очередях,—пишет о нем писатель Л. Я. Боровой,—как уверяют некоторые мемуаристы, оно родилось не где-либо, а именно в коридорах ленинградского Дома ученых в голодные годы, когда там выдавали “акпайки”. В этих коридорах вообще процветало тогда замечательное в своем роде, мрачное, злорадное или самозлорадное, но очень ученое словотворчество. “Авоська” в новом предметном значении была для этих людей особого рода развитием старого,
15 ГЖСКМЙ АВОСк БОГ ИЛИ СЛУЧАЯ?_
русского “авоськи”» (Боровой 1974,161). Мотивировка наименования здесь ясна: авоська — это такая легкая продуктовая сумка, которую удобно носить с собой в расчете на неожиданную и случайную покупку при нашем хроническом дефиците—«авось что-нибудь да и купишь» (ШИШ, 23).
Как видим, шутливо-«божеское» начало и стабильные ассоциации авось с «дурным» везением постоянно переплетаются и, в сущности, неотрывны друг от друга. Их неотрывность объяснима мифологической сутью Счастья, Доли, Удачи, зависящих от Бога. Кстати, в этой зависимости кроется еще одна причина семантического перехода авось в значении частицы к авось в значении ‘случай’, ‘неожиданная удача’. Авось—‘может быть’, ‘вероятно’, ‘надеюсь, что’ — часто сопрягалось именно с упованиями на Бога: «Авось-таки милосливой Спас подержит над нами свою руку, и даст нам еще хорошую погоду» (Живописец, 1772 г.); «Авось-либо Бог и просвещенное начальство защищат нас и присных наших от Дракинских козней» (М. Салтыков-Щедрин. Письма к тетеньке); «Авось-ли Бог приведет нам еще встретиться» (Н. Загоскин. Юрий Милославский).
Такие устойчивые словосочетания, прозрачно расшифровывающиеся как ‘если только Бог поможет, даст, охранит и т. п.’, постепенно и превратили, как кажется, частицу авось в существительное с мифологическим и «судьбоносным» значением. Тем более что сочетание авось бог... на слух и могло восприниматься как синонимическая пара слов или приложение, т. е. как Бог А вось. Восприниматься и переосмысляться, разумеется, в том шутливом ключе, о котором уже говорилось.
Этот шутливый образ, собственно говоря, и создал наше выражение полагаться на авось. Его первоначальный смысл—полагаться на весьма ненадежного, несуществующего в серьезной мифологии бога Авося. В русском фольклоре, особенно в пословицах, это выражение семантически выкристаллизовывалось в ироническую характеристику небрежно исполняемых обязанностей: Кто делает на авось, у того все хоть брось; На авось врага не одолеешь; На авось города брать, да как-нибудь век скоротать; На авось и кобыла в дровни лягает; На авось казак на конь садится, на авось его и конь бьет; На авось мужик и хлеб сеет; На авось не надейся.
В пословицах, между прочим, самокритично признается, что привычка полагаться на авось — в какой-то мере черта нашего русского национального характера: Русак на трех сваях крепок: авось, небось да как-нибудь; Русйк ыГавось й взрос:
Jg РУССКИЙ АВОСЬ: ЮГ ИЛИ СЛУЧАЙ?
Из таких шутливых пословичных ассоциаций вырос один из вариантов выражения на авось — понадеяться(положиться) на русский авось, знакомый нам с детства по пушкинской «Сказке о попе и работнике его Балде»:
Призадумался поп, Стал себе почесывать лоб, Щелчок щелчку ведь розь, Да понадеялся он на русский авось.
Жадный поп жестоко поплатился и за надежду на русский авось, и за погоню за дешевизною. Но, сколь ни силен у нас авторитет Пушкина, мораль его сказки мало кому из нас помогает. То и дело продолжают поступать сведения о крахе тех же самых надежд: «Рассказывают, что в таких проходах (между плавучими островами) погиб не один охотник, понадеявшихся на русское авось» (Д. Мамин-Сибиряк. На заимке).
Почему же ни гибель охотников, ни полное «отшибание ума» у старого попа не служат нам уроком в борьбе с пресловутым русским А восем*! Видимо, потому, что, по словам историка В. О. Ключевского, «наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось». Эта наклонность и заставляет нас, несмотря на многовековые крушения надежд, верить, что русский авось нас когда-нибудь и куда-нибудь все-таки вывезет.
Какие бабки мы подбиваем?
Лет пятнадцать назад работал тот грешник в нашем городе в мясном магазине... Время шло. Заходил в тот магазин покупатель, наезжали комиссии, а грешник все стоял за прилавком... Долго бы он там простоял, если бы не объявился к нему тот самый человек. Объявился, поздоровался. Ревизор как ревизор. Моложавый такой, веселый. Стали бабки подбивать, и вышел у нашего продавца излишек.
Д. В. Вампилов. Прощание в июне
жен. Жаргонное слово бабки ‘деньги’ — это как бы внутренняя речь продавца-обиралы, для которого тысяча-другая прежних рублей не проблема: он в итоге сулит неподкупному ревизору двадцать тысяч. Денег у него, говоря по-народному, как грязи, нажиты они бесчестным путем, потому он к ним и относится как к грязи. И здесь заниженно-оценочное слово бабки помогает создать писа-
Известно, чем закончилась эта притча, рассказанная в пьесе Александра Вампилова циником Золотуевым, не верившим, что есть на свете честные и неподкупные ревизоры. Ревизор посадил грешного продавца на десять лет—не столько за излишек, сколько на настойчивые попытки того дать ему взятку. Но, отсидев положенный срок, злополучный продавец так и не поверил в честность ревизора, думая, что просто «мало дал».
В этом эпизоде просторечный оборот подбить бабки очень ва-
телю нужную тональность, становится густым мазком в портретной характеристике героя притчи.
Слово бабки в «денежном» значении давно уже бытует в русской устной речи. В начале века оно имело четко выраженную жаргонную тональность и широко употреблялось в «блатной музыке» —речи преступного мира. Не случайно в этом значении оно регистрируется практически всеми ^доперестроечными» словарями и словариками воровского жаргона, «полное собрание» которых выпустили в Нью-Йорке. Вот лишь несколько выдержек из словарей:
«Бабки—деньги вообще, какого бы рода или вада они ни были. “Мужичонке раскошеливается и лезет за двугривенным. Маклак пронзительно устремляет взор свой в глубину его замшевой мошонки и, чуть заметит там относительное обилие бабок... тотчас же дружески хлопает мужичонку по плечу”» (Смирнов. — Козловский 1,30-31).
«Бабки. Деньги, преимущественно кредитные билеты. На жаргоне мошенников они называются “финагами” или “барашками”;
13 КАКИЕ БАБКИ МЫ ПОДБИВАЕМ?_______
на жаргоне же шулеров выигранные уже ими деньги называются “игрушками”, а находящиеся пока еще у “пассажира” — “кровью”. Отсюда шулерские выражения: “пустить кровь” — обыграть, “пошла кровь носом” — партнер начал расплачиваться. Кредитные билеты разного достоинства носят разные названия, даваемые либо по созвучию данного слова с самим названием, либо по цвету того или другого билета. Так, например, рублевый билет называется “кенарем” или “канарейкой”, трехрублевый — “попугаем”, пятирублевый — “петухом”, десятирублевый — “карасем”...» (Трахтенберг 1908. — Козловский I, 96).
«Бабки — деньги кредитными билетами» (Попов 1912. — Козловский И, 16).
«Бабки, голье, гроши, дрожжи, сармак, сурма, сара, форцы, шайбы — деньги» (Козловский IV, 7).
Столь большая популярность этого слова в преступном жаргоне понятна: ведь деньги—основное искомое того мира, где этот жаргон употребляется. Видимо, и в нашу современную речь это слово как заниженный синоним денег попало именно из такого жаргона. Не случайно составители издававшихся ежегодно словарных материалов «Новое в русской лексике», зарегистрировав его в литературном употреблении 1981 г., характеризуют его именно как «жаргонное» (НРЛ-81,26): «Наговорит им какой-нибудь Лариков всякого. И про звезды... И про любовь. А потом все кончается. Сочинения сочинены. Отметки получены. И в дело идут совсем другие слова. — Какие? — спрашивают у Ларикова его приятели. — Бабки... гирла, — перечисляет учитель словесности» (Е. Бунимович. Доживем до следующего понедельника. — Юность, 1980, № 9, с. 86).
Любопытно, что если «чистое» слово бабки относится к жаргонным и зарегистрировано в литературе совсем недавно и в единичном, стилистически акцентированном употреблении, то сочетание с ним подбивать или подводить бабки ‘подводить итоги’ — и шире по диапазону использования, и «выше» по стилистическому регистру: его относят к разговорным оборотам. Как устойчивое и общеизвестное регистрируется оно словарем-справочником «Новые слова и значения» материалов прессы 70-х годов:«— От слесаря нам больше пользы. А мастер что? Раз в смену глаза покажет да в конце там бабки подобьет. А больше что мы от него видим?» (А. Кривоносов. Гори, гори ясно); «Праздник был у председателя, когда Тошку призвали в армию. А молодежь на селе сразу поскучнела: не нашлось подходящей замены неистощимому на веселые выходки заводиле. Так что если подбить бабки, грустно размышлял Тошка, ничего путного в колхозе он не сделал. Сотрясал воздух
29 КАЮК БАБКИ МЫ ПОДБИВАЕМ?_____
веселым звоном, и только» (В. Санин. Семьдесят два градуса ниже нуля); «Подбейте-ка вы бабки, прикиньте-ка свои производственные возможности» (В. Липатов. Сказание о директоре Прончато-ве); «Внезапно как-то думы эти его настигли. Вот тут, на новом месте, вот посреди этой в ветряных завертях площади. С чего бы? Не старик еще, чтобы бабки подбивать» (Л. Карелин. Рассказы).
Немало примеров такого рода можно найти и в наших газетах: «И в системе “Амурэнерго” тоже подбили бабки. По-своему» (Правда, 1989,28 дек.); «Мой друг оптимист тоже был занят подбиванием бабок. В своем комментарии к уходящему году он заявил: — Конечно, упомянутые пессимистом воздушные замки—вещь хорошая, но переселяться в них навсегда не следует» (Правда, 1977, 1 янв.).
Употребление фразеологизма бабки подбить {подсчитать) многими писателями привело к его «узакониванию» на самом высоком лексикографическом уровне—он попал во второе издание Малого академического словаря 1981 г. с определением ‘подвести итог, выяснить окончательные результаты чего-либо’ и иллюстрацией из романа К. Симонова «Солдатами не рождаются»:«— Не сдаются, сволочи! И сил у них, видимо, больше, чем разведчики думали. А насколько больше—увидим, когда все бабки подсчитаем».
Если вариант бабки подсчитать вполне увязывается с жаргонным значением ‘деньги’ (тогда первичный смысл был бы ‘подсчитать денежные результаты какого-либо дела, торгового оборота’), то варианту подбить бабки и подвести бабки в эту логику никак не укладываются. А ведь поскольку вариант подсчитать бабки в принципе единичен (устойчивым и широкоупотребительным является все-таки подбить бабки), то трудно признать его первичным. Значит, необходимо искать иную логическую связь и иные смысловые истоки.
Логика сочетаемости глагола бить приводит нас к выводу, что первоначально наше выражение относилось не к денежной, а к «игровой» сфере. Оно связано с излюбленной прежде в России игре в бабки. Как писал этнограф XIX века, «в русской семейной жизни эта игра занимает самое почетное место, и нет местечка, где бы она не существовала» (Сахаров 1841,86). По его мнению, русские бабки были разновидностью древней греческой игры Астрогалос. Впрочем, не только по его мнению. А. С. Пушкин, видимо, не случайно выбрал именно высокий античный ритм для своего четверостишия «На статую играющего в бабки»:
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
2Q КАКИЕ БАБКИ МЫ ПОДБИКАЕМ?
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытный, Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.
Суть этой «русской удалой игры» — в сбивании бабок, т. е. надкопытных костей домашних животных, чаще всего говяжьих, или заменителей этих костей. Главная задача играющих—выбить бабки с кона — места за чертой, где они расставлялись в различном порядке и количестве. Понятно, что выигрывающий должен обладать не только удалью и удачливостью, но и столь важным прежде мужским качеством, как меткость.
«Ударность», сбиваемость, сшибаемость—основные характеристики бабок, которые имеют различную форму и размеры в зависимости от того, йх сбивают или ими сбивают. Естественно поэтому, что в игровой терминологии русской деревни глаголы бить, сбивать, сшибать, подбить, подшибить и т. п. — постоянные сопроводители слова бабки и многих его синонимов (см. также очерк «За что забивают козла?»). Не случайно даже этот глагол приобрел специализированное значение—‘бросать бабкой или палкой в кон в игре в бабки или в городки’: «Топерь тебе, Ванька, бить» (костром.); «Я не бил еще с одной биты» (влад.). Да и такие бабоч-ные термины, как бита ‘ряд расставленных на очерченном месте бабок, которые надо выбивать; кон’ (казан., перм.), биток ‘большая бабка, в которую для тяжести иногда вливают свинец, употребляемая в качестве биты при игре в бабки’ (сиб., перм.), бйтик ‘бита в игре в бабки’ (арх.), битук, битух — то же (яросл., волог.) и т. п., ярко подчеркивают «ударную» логику и самой игры в бабки, и наименований сбиваемых костяшек.
Итак, исходное значение оборота бить (подбить) бабки — ‘сбить игральные костяшки метким ударом’. Как же, однако, из этого чисто игрового значения выросло денежное?
Дело в том, что правила этой игры предполагают, что выигравший получает сбитые бабки, а проигравший может у него их выкупить. Словом, бабки могли становиться и одним из видов азартных игр—не случайно в литературе XVIII в. можно найти соположение бабок и с картами, и с игральными костями: «И с а й: Бьемся в картеж, в кости, в бабки, в свайку» (Н. П. Николаев. Попытка не шутка, или Удачной опыт: Комедия. — СРЯ XVIII в. 1,124). А раз так, то они, как денежный эквивалент, и стали в сниженном стиле синонимом слова деньги. Причем именно сниженным—потому что цены на бабки как на предмет игры преимущественно детской были пустяковые, ср. чеш. выражение koupit za babku ‘скупить за бесценок’.
21 КАКИЕ БАБКИ МЫ ПОДБИВАЕМ?
Изготовлением и продажей таких бабок занимались в основном мальчишки. Как пишет И. Сахаров, бабки «составляют особый род промышленности мальчиков. При продаже они считают бабки: гнездами — по две кости, тестерами — по шесть костей, битками — самую большую бабку, свинчатками — бабки, налитые свинцом» и т. д. (Сахаров 1841,86). Именно этот «мальчишеский промысел» с продажей и подсчетом бабок и отразился в обороте подбить бабки.
Он же, кстати говоря, стал основой и другого просторечного выражения—бабки сшибать ‘жить мелкими заработками, подрабатывать где только можно, халтурить’. Оно известно и русским (например, барнаульским), и украинским (подольским) — бабки збивати — говорам. По этой модели образованы не только его некоторые диалектные и жаргонные синонимы типа пск. шабашку сшибать, сиб. калым сбить или сбить хоря — ‘легко заработать’, но и широко известное выражение зашибать деньгу.
Этимологи, между прочим, довольно противоречиво толкуют происхождение последнего. С одной стороны, признается, что выражение зашибать деньгу (деньги) происходит «от денежных игр молодежи (в бабки, в расшибалку и др.)» (КЭФ; Доп., 65; Опыт, 54) и является «собственно русским». С другой стороны, те же авторы подчеркивают, что появилось оно «не без влияния фр. battre monnaie — букв, “чеканить монету”» (Опыт, 54).
В русском языке XIX в., действительно, была калька с фр. battre monnaie. Она, однако, иного типа — глагол battre передается русским ковать: «Боткину все в доме, начиная от старика-отца до приказчиков, толковало словом и примером о том, что надобно ковать деньги, наживаться и наживаться» (А. Герцен. Былое и думы). Мы видим, что она имеет и иную структуру, и иную стилистическую тональность, чем оборот зашибать деньгу, который по этим качествам гораздо более близок к народному бабки сшибать: «— Вот что я тебе скажу... против меня не иди — плохо будет; а вместе за дело возьмемся — деньгу зашибем» (А. Н. Толстой. Чудаки); «По дагестанским степям и даже далее — ставропольским и калмыцким—разлетелась весть о колхозе, где можно тепло пристроиться и зашибить частнопредпринимательским путем немалую деньгу» (В. Артеменко. Не в ту степь.—Правда, 1979,9 авг.); «Дай бог мне зашибить деньгу, тогда авось тебя выручу» (А. Пушкин. Письмо П. В. Нащокину, февр. 1833).
Кроме того, показательно, что при отсутствии варианта зашибить монету (который при калькировании с французского был бы наи-
22 КАКИЕ бльки мы подьиваемт
более вероятен) в русском языке имеются варианты с другими наименованиями денег—копейка, грош: «Он управлял имениями, домами и зашиб-таки копейку» (И. Тургенев. Новь); «Поднимется он на ноги, всем будет хорошо; вдвоем мы сумеем зашибить грош» (А. Шеллер-Михайлов. Лес рубят...).
Наш глагол зашибить может употребляться в значении ‘добыть, приобрести, нажить’ и с абстрактными существительными—зашибить большое состояние, зашибить капиталец, зашибить большой чин и т. п. Может этот глагол и варьироваться: в современной речи и публицистике известны варианты типа заколотить или загнать деньгу. Наконец, можно привести и славянские параллели выражения типа болт, ударя пара или пол. zbijad grosz букв, ‘сбить деньгу5, ‘сбить грош’. Любопытно при этом, что польский оборот по структуре очень похож на самый популярный фразеологизм для обозначения безделья—zbijac bqki ‘бездельничать’, который связан именно с игрой, в которой сбиваются b^ki, т. е. глиняные шарики (Мокиенко 1989,86-87).
В любом случае, следовательно, влияние французского battre monnaie на русское зашибить деньгу, зашибить копейку и зашибить грош было минимальным, ибо по многим признакам последние еще сохраняют связь с народным оборотом сшибать бабки.
Вернемся в заключение к обороту подбить бабки, с которого начинался этот очерк. Как мы видели, глагол бить и экскурсы в народную «игротеку» позволили нам возвести его не непосредственно к денежному значению слова бабки, а к соответствующей игре. Первоначальное значение оборота было, видимо, тоже игровым—‘выиграть игру, сбив максимальное количество костяшек’. Приставочный глагол подбить, однако, способствовал в дальнейшем изменению этого значения: поскольку он во многих сочетаниях (подбить счета, подбить баланс, подбить итог и т. п.) значит ‘заключить, закончить, суммируя что-л.; подытожить’, то и фразеологизм подбить бабки стал постепенно характеризовать подведение итогов.
«Давление» этой абстрактной «игровой» семантики оторвало наш фразеологизм и от «игровой», и от «денежной» сферы. И лишь сниженное стилистическое звучание позволяет писателям сократить этот разрыв. Именно так сделано это в пьесе А. Вампилова, где бабки— это и фразеолоптированное обозначение итогов ревизии, и намек на жаргонное, денежное значение слова.
Какие баки нам забивают?
Видите. Чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись: «Коля и Мика, июль 1914 г.» Незабываемое зрелище... Где вы сейчас, Коля и Мика.
Киса, — продолжал Остап, — давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть. Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были».
И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев
Фраза из «Двенадцати стульев», как и сам эпизод с легендарными Колей и Микой, всем хорошо известна. Хорошо известно и выражение забивать баки ‘обманывать, намеренно отвлекать чье-либо внимание пустыми разговорами’. В русском литературном языке оно, однако, еще не получило статуса устойчивой языковой единицы: ни один наш словарь его пока не зафиксировал.
Несмотря на пренебрежение им кодификаторами, оно давно уже используется писателями и исследуется лингвистами. Так, пример-
но в одно время с И. Ильфом и Е. Петровым его употребил в повести «Конец хазы» (1926) В. Каверин. Поскольку в этой повести
речь идет о преступном мире, писателю пришлось прилагать к ней специальный словарик, в котором толкуется и оборот вкручивать баки ‘врать, заговаривать’ (Козловский III, 151). Употреблено в 20-х годах выражение о баках и писателем Н. Карповым в рассказе «По рабкредиту»: Баки мне не заколачивай. Комментируя это употребление, проф. А. М. Селищев квалифицирует оборот как жаргонный, пришедший из языка преступников (Селищев 1928,75).
Действительно, выражение это в русском языке имеет несомненно жаргонную окраску. Не случайно его употребляет и «великий комбинатор» Остап Бендер. И не случайно его — в разных вариациях— стабильно фиксируют многие словари и словарики «блатной музыки», т. е. речи воров и других преступников. А. И. Молотков, отмечая его жаргонный характер, ссылается на «Словарь воровского и арестантского языка» В. М. Попова 1912 г. (см.: Козловский II), где баки вколачивать, баки вкручивать и баки забивать характеризуются определением ‘врать, отвлекать внимание’ (Молотков 1977,216). Можно назвать и источник, зафиксировавший оборот вколачивать (вкручивать) баки ‘врать что-либо, отвлекать разговором чье-л. внимание’ еще раньше В. М. Попова, — это словарь «Блатная музыка» В. Ф. Трахтенберга 1908 г. (Козловский 1,76). С тех пор во многих
2^ КАКИЕ БАКИ НАМ ЗАБИВАЮТ?
словариках нашего жаргона (словари Потапова, Вариводы и др.) это выражение фиксируется регулярно (Козловский П, 164; III, 77; IV, 102,162).
Жаргон, как известно, пополняется из самых разных источников — профессиональной речи, других языков, диалектов. Выражение забивать баки—исконно славянское, ибо мы находим его и в южнорусских (воронежских) говорах, связанных по происхождению с украинским языком, и в среднерусских, пограничных с языком белорусским (псковских). «3 ею век не сладишь, ёна табе баки на ходу забиваеть»,—сказала диалектологам из Самарканда одна старушка в Невельском районе Псковской области лет тридцать назад. Никаких связей с преступным миром эта старушка, разумеется, не имела: она слышала это выражение в своей собственной деревне с детства.
Точно так же не имеют никакого отношения к тюремному жаргону и украинские и белорусские обороты баки забивати, бак! заб1ваць в тех же самых значениях, что и русский жаргонизм. В этих близкородственных языках они давно уже стали достоянием литературного языка и широко употребляются многими писателями. В украинской литературе, например, они встречаются у Г. Ф. Квитко-Осно-вьяненко, И. Я. Франко, Я. Д. Качуры, Панаса Мирного, М. П. Стельмаха, П. А. Загребельного. Причем никакого особо «жаргонного» налета на этих выражениях здесь нет — их на русский язык можно перевести разговорным фразеологизмом морочить голову, который по стилю адекватен украинскому баки забивати.
В украинский и белорусский языки выражение пришло именно из живой народной речи, на что указывает его фиксация в старейших собраниях пословиц и поговорок. В украинском сборнике М. Номиса 1864 г., например, оно записано в составе рифмованной поговорки: Забйшмеш баки, зз1дятъмене собаки. Отражено оно и в словаре середины XIX века Я. Ф. Головацкого: «Баки забити 1.Обезуметь. 2.3аглушить н. пр. от удара». В словаре народной украинской речи Б. Д. Гринченко оборот забивати/забити баки определяется более обобщенно — ‘сбивать с толку, одурачивать, морочить’. Отмечается этот фразеологизм и в Западной Украине. И. Я. Франко в своем монументальном собрании украинских пословиц и поговорок не только дает ему оригинальную семантическую характеристику—«збаламутити кого, стуманити», но также исправляет неверную акцентовку, данную лексикографом Желе-ховским («хибно акцептовано “забити”»), указывает на параллель
25 КАКИЕ МО НАМ ДАЕИМЮТ?______
в воронежских великорусских говорах и предлагает расшифровку исходного образа, о которой я еще скажу ниже. Кроме того, в его сборнике дается и поговорочный контекст, включающий в себя наше выражение: Забили му баки, що не розум!е й mpemoi.
Столь же активно, как и в украинском, интересующее нас выражение употребляется и в белорусском языке. И. И. Носович, записавший в живом употреблении видовую пару баки забивйць — баки забиць, толкует его значение как ‘упорно опровергать очевидное’ и приводит фразеологический синоним—залепливатъ глаза (Насов1ч 1983,13). Сейчас, как уже говорилось, в белорусском литературном языке эта выражение живет активной жизнью, образуя варианты вроде баки пазаб1ваць — баки пазабщь.
Как же расшифровывают этимологи первичное значение украинского, белорусского и русского выражений?
О русском никто до сих пор ничего не писал в этимологическом ключе, ограничиваясь, как мы видели, лишь констатацией жаргонного характера этого оборота. По поводу же украинского и белорусского существуют разные точки зрения.
В некоторых словарях XIX века исходный смысл выражения баки забивати связывался с баки ‘глаза’. Я. Ф. Головацкий первый предложил такое толкование. «Баки, собственно глаза», — пишет он, приводя убедительную иллюстрацию, где это слово и не допускает иного толкования: ВытрЯщивъ бакиякъ цыбули. В словаре Б. Д. Гринченко также приводится сочетание, не допускающее иной семантизации слова баки: вибанчити баки ‘вытаращить глаза’. Столь же определенен материал И. И. Носовича, который, правда, и бел. баки ‘глаза’, и выражение баки забиваць описывает в разных словарных статьях, но к первому слову приводит выразительную иллюстрацию — Ци mo6t баки вылезли, а ко второму — фразеологическую параллель, не оставляющую сомнения в том, что баки — именно глаза: залЪпливатъ глаза.
Эта прозаическая и достаточно логичная версия была оспорена позднейшими исследователями. М. М. Шапиро в рецензии на словарь И. И. Носовича более ста лет назад подверг сомнению толкование «за-лепливать глаза, упорно опровергать очевидное». Указав на общность белорусского и украинского фразеологизмов, он предполагает не исконный, а заимствованный их характер. «Объяснение это ошибочное, —пишет он. — Выражение это известно и в малороссийском. Баки в этой фразе значит рот, а не глаза, а по глазам не бьют, и забить не значит залепливатъ. Это шуточное название рта, по на-
25 КАКИЕ ВАМИ ИАН ЗАШКАЮП
тему мнению, происходит из нижненемецкого и голландского Bakkes, вместо Backhuis—пекарня, где переваривается пища» (Шапиро 1873,5).
Здесь, как видим, автор исходит из кажущейся алогичности «забивания» глаз, понимаемого им буквально, в «ударном» смысле. Любопытно, что по этой же причине и И. Франко трактует дословный смысл украинского выражения как «вдарити кого в лице так, щоб не тямив, що з ним деться» и, по-видимому, слово баки воспринимает как заимствование из нем. Васке ‘щека, скула’, так же как и в выражении баки ceimumu ‘подлизываться, подхалимничать’.
Оригинальную трактовку высказал белорусский фразеолог В. И. Коваль. Комментируя русское диалектное (дон.) забивать буквы ‘сбивать столку, пугать’, он верно связывает его с пск. баки забивать ‘обманывать’ и зап.-брян. баки забить ‘пустить пыль в глаза, нахально без знания дела опровергнуть чьи-л. доводы’, но последние два оборота считает возникшими «лексико-фразеологическим способом в результате экспликации глагола бакать ‘говорить’». Далее он описывает последовательные этапы предполагаемой контаминации баки забивать в забивать буквы: «Однако переход баки забивать —> забивать буквы произошел не сразу, а через посредство другого, фонетически более близкого новому обороту фразеологизма забивать буки ‘заговаривать’ (ворон.). Таким образом, фраземообразование в данном случае имеет “трехступенчатый” характер: баки забивать (первичное фраземообразование, результат экспликации глагола бакать) —» забивать буки (вторичное фраземообразование, паронимическая трансформация предыдущей фраземы; «связующее звено») —> забивать буквы (вторичное фраземообразование, результат паронимической трансформации фраземы забивать буки)» (Коваль 1982,138).
Нужно сказать, что связь русских диалектных оборотов баки забивать, буки забивать и забивать буквы, действительно, несомненна уже потому, что это — единая структурно-семантическая модель. Контаминация буквы — буки — баки вызвана забвением внутренней формы и малоупотребительностью этого оборота в русском диалектном массиве. Согласиться же с тем, что русское диалектное и укр. баки забивать, баки забивати и бел. баки забиваць образованы экспликацией, т. е. развертыванием глагола бакать ‘говорить’, однако, нельзя.
Во-первых, выражение это ареально совпадает с распространением существительного баки ‘глаза’, чья относительно свободная
27 КАКИЕ ЕДКИ НАМ ЗАЕИМЮТ?_____
сочетаемость в украинском и белорусском, как мы видели, несомненна (ср. укр. вытрещив баки, вибанчшпи баки и бел. баки вылез-ли) и которое невозможно семантически объяснить развертыванием глагола бакать ‘говорить’. Во-вторых, вариант оборота баки бить — буки бить в русских говорах достаточно самостоятелен, представлен широким ареалом и оторван от узкодиалектного буквы биты забивать — забить буки ‘говоря намеренно сложно и запутанно, лишать кого-либо возможности ясно мыслить, понимать’ записано в воронежских, курских и калужских говорах (СРНГ 3, 265). Любопытно также, что этот южнорусский диалектизм уже нашел отражение в языке некоторых современных писателей: «Забивает буки своей матери» (Ф. Наседкин. Великие голодранцы). Как видим, и значение, и структура заставляют видеть в паре этих выражений фонетические разновидности одного и того же оборота, а не паронимию, как предполагает В. И. Коваль.
Составители недавно вышедших украинского и белорусского этимологических словарей уверенно относят наше выражение к баки ‘глаза’, тем самым как будто бы возвращаясь к традиционному толкованию XIX века. Аргументирует эту же точку зрения в специальной заметке и украинский фразеолог М. Г. Демский. Однако при ближайшем рассмотрении легко увидеть, что объяснения Я. Ф. Головацкого и И. И. Носовича коренным образом расходятся с трактовкой современных этимологов. Интерпретируя слово бака в выражениях забивати баки и ceimumu баки ‘подлизываться, подхалимничать’, авторы «Этимологического словаря украинского языка» сопоставляют его с бакулы ‘выпученные глаза’, пол. baka в обороте bake (baki) swiecid ‘подлизываться’ и на этом основании ставят следующий этимологический диагноз: «производное образование с первичным значением ‘глаза’ от глагола бачити» (ЕСУМ 1,119). Глагол же бачити, вслед за большинством исследователей, этот словарь считает заимствованием из польского языка (там же, 154). Еще более категорично утверждение о заимствованном характере баю ‘глаза’ в бел. заб1вацъ бак1 и укр. забити баки в «Этимологическом словаре белорусского языка». Здесь прямо констатируется, что данное слово заимствовано из польского: baka ‘глаз’ (а это, в свою очередь, — образование от baczyd ‘видеть’).
Мы видим, таким образом, что если некоторые украинские и белорусские лексикографы XIX века, связывая оборот баки забивати с баки ‘глаза’, отмечали его исконный, народно-разговорный
23 КАКИЕ БАКИ НАМ ЗАБИВАЮТ?
характер, то современные этимологи трактуют его как заимствование из польского.
Какая же из этих двух версий верна?
Чтобы установить истину, необходимо обратиться к польскому материалу.
При апелляции к польскому языку как источнику образования оборота баки забивати исследователи ссылаются на выражение bak$ (baki) коти swiecic ‘заискивать перед кем-л.’ либо на глагол baczyd ‘видеть’. Но при этом ни один польский источник не приводит выражения, структурно-семантически соотносимого с укр. баки забивати и бел. 6aKiзаб1вацъ. Получается парадокс: восточнославянские фразеологизмы активно употребляются вот уже два столетия в литературных языках и в живой народной речи, записаны на разных территориях, имеют фонетические, словообразовательные и семантические вариации, а в предполагаемом языке-источнике они вообще не зафиксированы. Вывод о заимствовании, следовательно, вступает в противоречие с законами лингвистической географии.
Нельзя не остановиться детальнее и на аргументации внутренней логики нашего оборота с точки зрения связи существительного баки ‘глаза’ с глаголом забиты, М. М. Шапиро, И. Я. Франко и частично В. И. Ковалю, как мы видели, такая связь казалась сомнительной —именно поэтому возникли гипотезы о германском заимствовании или эксплицировании глагола бакать. Сомнения эти, однако, лишаются всяких оснований, если отвлечься от буквалистическо-го, «ударного» пониманияглагол а забити. Впрочем, можно было бы довольно легко доказать возможность сочетания слова баки и с ударными глаголами. Для этого достаточно вновь заглянуть в «Двенадцать стульев» И, Ильфа и Е. Петрова:
«— Побьют!—горько сказал Воробьянинов.
— Конечно, риск есть. Могут баки набить! Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит во всяком случае».
Здесь набить баки, видимо, значит первоначально ‘нанести удары по глазам’.
Такое словосочетание, правда, для слова баки—не самое типичное. В украинском и в других славянских языках немало оборотов с общим значением ‘обманывать’, в которых компонент очи соединяется с другими глаголами. Таковы современные замазувати очи и замилювати очи, отраженные в литературном языке, заслтити очи, засипати очи, диалектные (подольские) запихати оч1 и замазати оч1
29 КАКИЕ БАИИ ИАН ЗАБИВАЮТ?____
‘обмануть’. Им соответствует наше русское замазывать глаза с широким вариативным рядом в русских говорах—застилать глаза, залить глаза, заслепить глаза (очи), глаза затемнять, глаза туманить и т. д. ‘вводить в заблуждение, обманывать’. Аналогичные выражения легко найти в польском, словацком, чешском и других славянских языках. И все они, как кажется, вполне определенно подсказывают, как надо понимать глагол забити в украинском выражении забити баки, — ‘залить, засорить пылью, песком’, ‘залепить грязью’, ‘закрыть, заколотить чем-либо’. При таком понимании логичность соединения этого глагола с баки в значении ‘глаза’ очевидна.
Специальный этимологический анализ показывает, что и глагол бачити ‘видеть’, и выражение бакизабивати являются исконно украинскими, а не заимствованными из польского языка (Мокиенко 1990а). Бачити образовано от баки ‘глаза’ по той же модели, что глазеть—от глаз (ср. и многочисленные параллели в европейских языках: швед, oga ‘глаз’ — ogna ‘присматривать’, голланд. ogen ‘глаза’—ogen ‘пристально смотреть, есть глазами’, португал. olho ‘глаз’ — olhar ‘смотреть’, исп. ojo ‘глаз’ — ojear ‘взглянуть, посмотреть’, итал. occhio ‘глаз’ — occhieggiare ‘посматривать, выглядывать’ и т. п.). Да, собственно, и русские образования типа таращиться, пялиться, вылупиться и т. п. также, в конечном счете, образованы именно от выражений со словом глаз: таращить глаза, пялить глаза, вылупить глаза.
Итак, история русского жаргонизма демонстрирует тесное взаимодействие русского, украинского и белорусского языков. Украинизм баки забивать, известный и южнорусским народным говорам, по стечению обстоятельств специализировался как жаргонный оборот. Возможно, на его проникновение и в жаргон преступников, и в русскую литературу повлияло активное его употребление в просторечии города Одессы — не случайно он употреблен именно у писателей-одесситов. Возникнув в недрах народной речи украинцев и белорусов, пройдя сквозь небезопасное горнило речи преступников, он дошел и до современного литературного языка. Дошел, донеся из своего «темного» прошлого грубовато-просторечный колорит и несколько вульгарную тональность.
Кто кому задавал баню?
«Теперь с социализмом покончено надолго!» — говорил ее (французской буржуазии. — В. М.) вождь, кровожадный карлик Тьер после кровавой бани, которую он со своими генералами задал парижскому пролетариату.
I В. И. Ленин. Памяти Коммуны
Происхождение образных выражений нередко связывают с конкретными историческими лицами. Оборот откладывать в долгий яьцик многие этимологи объясняют обычаем откладывать челобитные в длинный (долгий) ящик, прибитый по приказу царя Алексея Михайловича у дворца в
Коломенском. Праздновать труса возводят к имени польского полковника Струся, наголову разбитого Мининым и Пожарским.
Гонять лодыря толкуют со ссылкой на московского врача Лодера, лечившего своих больных, «гоняя» их по большому саду на Осто-
женке. Такие «исторические» толкования нередко кажутся правдоподобными лишь потому, что их авторы ссылаются на людей, действительно занесенных в анналы истории. Однако многие из таких объяснений не выдерживают проверки языковыми фактами и оказываются лишь занятными выдумками или вторичной переработкой народных выражений в псевдоисторические анекдоты.
Одним из таких толкований, как кажется, является и «историческое» объяснение оборота задать баню — ‘жестоко побить, отколотить’ или ‘сильно отругать, разбранить кого-л.’.
Выражение употребляется в русском литературном языке весьма активно уже с XVIII в., практически не меняя своей семантики и стилистической тональности:
«Камердинер мой, подавая мне бумагу, наступил нечаянно на лапку моей милой Налетки так, что у ней покатились слезы и она бедная завизжала; ну да я ему отплатил, повизжал и он с час времени у меня под окнами; дал же я ему добрую баню—долго не забудет» (Сатирический театр); «Эк, какую баню задал! Смотри ты какой!» (Н. В. Гоголь. Мертвые души); «Ну уж, брат... задал же я ему баню! Буржуа-жантильом этакой! Проучил же я его... Со мной, ты знаешь, коротка расправа» (Д. В. Григорович. Проселочные дороги); «—Так помни, бабий угодник, что батраков у меня вволю, велю баню задать—так вспорют тебя, что вспомнишь Сидорову козу» (П. И. Мельников-Печерский. На горах); «Нет, нет: задам баню, хорошую баню, на конюшню, запорю до смерти» (В. Г. Белинский. Дмитрий Калинин); «Если невзначай приедет доктор, и баню же задаст мне, что аптеку бросил» (А. С. Серафимович. Две ночи); «Бывало, задаст такую баню и бумаги вое по полу разбросает и раскричится» (А. И. Герцен. Долг прежде всего).
31 1(70 К0МУ ЗАДАВАЛ БАИЮТ
Историко-этимологическое же толкование этого оборота, несмотря на его кажущуюся прозрачность, меняется и по сей день.
Оригинальную его историю предложил около ста лет назад М. И. Михельсон. Он связывает это «иносказательное» выражение с рассказом летописца Мартина Галла (1110-1135) о польском короле Болеславе Храбром (971-1025), который якобы «брал с со-{ бою в баню провинившихся молодых людей и там задавал им баню». Крометого, известный историк русской фразеологии приводит ц немецкую параллель русского оборота — einem das Bad gesegnei( (букв, ‘благословить кому-л. баню’), переводя ее как ‘прибить’.
Эта точки зрения, следовательно, предполагает польское происхождение нашего фразеологизма о бане. Еще более определенно высказал мысль о его заимствовании неизвестный автор заметки, опубликованной в «Литературной газете» 1830 г. Задолго до М. И. Михельсона, который не ссылается на эту заметку, автор пересказывает версию о происхождении польской идиомы sprawid lazniqkomu ‘устроить кому баню’ из «Сокращенной истории царства Польского» Лелевеля, переделывая ее на русский лад:
«Болеслав Великий вникал сколько мог в судебные дела и решал оные справедливо. Строгость его к виновным доходила иногда до жестокости... Он сам предостерегал, громил и своеручно наказывал. Часто виновный вельможа, приглашенный королем к столу и в баню, выслушав слово правды, получал там наказание, долженствовавшее его исправить на будущее время. Отчего и произошла поговорка задать кому-нибудь баню (sprawic коти lazniq)» (Лит. газета, 1830, т.Г. №10, с.82).
Смысл этой этимологической гипотезы—в предельной конкретизации слова баня (наказывали именно в бане) и «исторических» обстоятельств («банная» порка, введенная Болеславом Храбрым), при которых оно вошло в поговорку.
Показательно, что историки польской фразеологии обычно недоверчиво ссылаются на этот исторический эпизод, толкуют происхождение оборота sprawic коти lazni^ либо как простое «битье метелками в бане» (Trzaski 1939 2,119), т. е.весьма прозаическую бытовую метафору (Zurek 1977,40-42), либо — как это делает один из крупнейших фольклористов акад. Юлиан Кржижановский—как кальку с нем. einem das Bad besegnen (Krzyzanowski 1975 2,102-103). При этом, в отличие от упомянутых исследователей, польский ученый опровергает известную ему версию о Болеславе Храбром и отмечает, что немецкий оборот имеет параллели в других европейских языках —например, в латинском—Mihi ipsi balneum ministrabo; в свою
^2 КТО КОМУ ЗАДАВАЯ БАИЮ?
очередь, он является калькой с греческого. Образ всех этих выражений о бане расшифровывается им вслед за немецким исследователем пословиц Вандером. В основе их якобы лежит представление о том, что человек в бане безоружен и поэтому на него легко напасть. При этом немецкие историки языка единодушно связывают выражение einem das Bad segnen с конкретным историческим эпизодом — убийством швейцарского наместника в ванной. Эта легенда зафиксирована в германских хрониках с XIV в. и стала популярной благодаря ее пересказу Шиллером (Rohrich 1977, 89-90).
Ю. Кржижановский приводит аналогичный эпизод из истории Польши: поморский князь Святоплук такую же «баню» устроил польскому князю Лешку Вялому, на которого напал в местечке Гон-саве. Выскочив голым из бани с несколькими воинами, Вялы погиб от ударов превосходивших его числом, оружием и доспехами противников. Такие эпизоды, по мнению польского ученого, доказывают, что немецкое и польское выражения связаны именно с убийствами в бане. Связь же с поркой в бане при Болеславе Храбром им решительно отвергается.
Еще др публикации сборника М. И. Михельсона, в 1852 г., известный собиратель славянского фольклора Франтишек Ладислав Челаковский выразил сомнение в «польской», а следовательно, и «исторической» трактовке выражения sprawid коти lazniQ на том основании, что оно известно и русскому {задать баню кому), и чешскому (pfipraviti коти lazefi ‘приготовить кому баню’) языкам (Celakovsky 1949, 698). Основанием для этого сомнения служат, как видим, именно языковые факты.
Если уж связывать выражение задать баню с обычаями «банных» истязаний, то почему именно эпохи Болеслава Храброго или раннего германского (или швейцарского) средневековья? Известно доподлинно, что и в Древней Руси при пытках «на заказ» подозреваемого преступника, накормив соленой пищей, сажали в жарко натопленную баню и, «поддавая пару», не давали ему пить до тех пор, пока тот не сознавался в совершенном злодеянии. Древнее русское предание рассказывает, как один из осужденных на пытку, встретив второго, только что снятого с дыбы и избитого до крови, спросил его: «Какова баня?»—на что тот ответствовал: «Еще остались веники». Об этой невеселой, воистину «висельнической» метафоре и о «банных» пытках «на заказ» повествует И. Снегирев в книге «Русские в своих пословицах».
33 КТО КОМУ ЗАДАВАЛ ЬАИЮ?
Не будем, однако, торопиться и связывать выражение задать баню с кровавыми обычаями наших предков. Ведь наша «исконно русская» историческая версия может также оказаться заблуждением на фоне славянских параллелей. Тем более что фольклористы и популяризаторы языка увлечены при своих толкованиях лишь общей «банной» метафорой, не делая больших различий между глаголами, которые ее конкретизируют. А ведь одно дело —устроить кому-либо кровавую баню, а другое — задать баню, qjxhq дело — нем. einem das Bad gesegnen, которое буквально значит ‘благословить кому-либо баню’ (точнее даже не ‘баню’, а ‘купель, сосуд, в котором моются’), а другое — пол. sprawic коти lazniQ ‘устроить кому-либо баню’. Как видим, даже при поверхностном взгляде на конкретные образы, породившие выражения о бане, легко увидеть довольно существенные различия в их деталях.
Во всяком случае лингвистическое сопоставление показывает, что наше выражение в форме задать баню является исконно русским, ибо и немецкое, и польское включают в свой состав иные глаголы. Характерно при этом, что монументальное четырехтомное собрание польских пословиц и поговорок, фиксирующее оборот sprawic коти lazniQ с 1545 г., не приводит ни одного варианта с глаголом dac (NKP II, 339). Значит, в исконности рус. задать баню сомневаться не приходится.
Впрочем, в какой-то мере «исконность» его оспаривается и теми, кто считает его чисто русским. Как это ни парадоксально, но такую мысль высказывает Н. М. Шанский при анализе оборотов намылить голову и задать головомойку, которые производятся им от нем. den Kopf waschen ‘мыть голову’. Слово головомойка, по его мнению, было использовано говорящими как слово той же смысловой сферы, что и баня, а потому — на базе русского фразеологизма задать баню— привело к образованию оборота задать головомойку. «Заметим, — продолжает Н. М. Шанский,—что выражение задать баню само по себе также не исконно. Оно родилось (как, между прочим, и фразеологизм задать жару) от оборота задать пару, в связи с замещением слова пар опять-таки словом той же тематической группы — существительным баня». Само же выражение задать пару (из дать пару) было «изначальным» и произошло не от модели, а от свободного словосочетания, «когда составляющие его слова стали употребляться не в прямом (“парильном”) значении, а в обобщенном и образно-переносном» (Шанский 1971,191).
Позднее Н. М. Шанский, правда, отказался от этой версии и вернулся к старому «пыточному» объяснению: «От пытки в бане:
3^ КТО КОМУ ЗАДАВАЛ ЬАНЮТ
провинившегося сажали в баню, обливали его попеременно горячей и холодной водой, поддавали пару и не давали пить» (Опыт, 52).
Разночтений в интерпретации оборота задать баню, как видим, предостаточно. Какой же из версий отдать предпочтение? Давайте обратимся к фактам языка.
Материалы русской народной речи сразу же позволяют отказаться от некоторых из них. Такова, в частности, версия о первич-нос-ти выражения задать пару по сравнению с задать баню. По данным вышедшего в 1990 г. 25-го тома «Словаря русских народных говоров» выражение дать пару с жаром! как угроза записано лишь в вятских говорах в 1901 г. Оно, конечно, известно и более широко, но—судя по данным русских, белорусских и украинских диалектов—никак не может конкурировать по широте распространения с задать баню. И не только по широте распространения, но и по активной вариативности, которая также является свидетельством его первичности, а не вторичности по сравнению с задать пару. В разных говорах находим такие варианты, как дать бани, задать бани, дать байну, дать байню, устроить байну, сделать байну.
Обычно это выражение является символом очень сильного наказания — как телесного, так и словесного. В. Даль в сборнике «Пословицы русского народа» приводит его развернутые определения, подчеркивающие эффект «задаваемой бани»: такую баню задали, что небо с овчинку показалось или что чертям тошно стало. Характерна и угроза, усиливающая ассоциацию с парной русской баней: Будешь баню помнить до новых веников. Такие ассоциации ярко подчеркиваются и шутливыми поговорками, записанными еще в середине XVIII в.: еловым веником парить (ППЗ, 52, 79). Подобные примеры легко найти и в других жанрах русского фольклора. В одной из русских сказок, например, Баба Яга сечет дочерей железными прутьями именно в бане (Новиков 1974,167).
Слово баня и его фонетические варианты байна, байня (которые трактуются как эпентеза]—переход бан]а в бщна'1) довольно часто употребляется в живой речи и как самостоятельная метафора, без сочетания с глаголами дать, устроить. Вот как старики из Островского района Псковской области рассказывают о барщине: «Норму не выполнишь на барышне (барщине), и байня тябе двадцать пять розог». Этот двойной, метафорический план слова баня постоянно
Т р у б а ч е в О. Н. [Рец. на кн.: Vahros I. Zur Geschichte und Folklore der grossrussischer Sauna. Helsinki, 1966] И Этимология 1967. M., 1969. C. 322-323.
35 КТО КОМУ ЗАДАВАЛ БАН Ю?______
ощущается носителями русского языка и в нашем выражении. Не случайно жительница деревни Горка Гдовского района на вопрос о значении оборота задать баню ответила именно «банным» описанием:
«Задать бёйню, ёта прибавить жару в байни, кагда на каменку (печь, сложенную из камней. — В. М.) воды льют, штоп была жара боль-шы в байни, парицца» (КПОС — 1972 г.).
Типично «банные» ассоциации имеет и целый ряд выражений с общим значением ‘бить, наказывать’: попарить сухим веником, намылить на сухую руку, устроить головомойку, намылить голову, вымыть голову. В русских говорах Прибалтики записано и шутливое выражение вытопить кому-нибудь сухую баню ‘избить, выпороть кого-л.’, переносный характер которого понятен каждому.
Подобные обороты широко известны и другим славянским языкам. Можно назвать немало сочетаний этого рода кроме параллелей, приводимых Фр.Челаковским. Особенно близки русским белорусские даць баню, даць (даваць) лазню ‘избить, отругать’ и дас-тацьлазню ‘получить порку’, записанные Ф. М. Янковским и Г. Ф. Юрченко. Слово лазня в двух последних оборотах, как и пол. laznia и чеш. lazen в уже приводимых выражениях, значит ‘баня’. Оно было известно и древнерусскому языку.
В польском кроме уже приведенного выражения sprawic lazniQ слово laznia становится стержнем выражений wyprawic lazniQ ‘приготовить баню’, dostac lazni$ ‘получить баню’. Любопытны и варианты этого сочетания, записанные в богатейших собраниях польской фразеологии—двухтомнике Станислава Скорупки и четырехтомнике «Новая книга польских пословиц и поговорок»: pu&cic lazniQ ‘наполнить ванну’, sprawic gor^c^ iazniQ ‘устроить горячую баню’, sprawic suchqdazniQ ‘устроить сухую баню’, urz^dzic laznia ‘устроить баню’, zazyc lazniQ ‘пережить баню’, suchq, vannQ sprawic ‘устроить сухую ванну’. Эти варианты ярко подчеркивают интересующие нас «банные» ассоциации.
В чешском языке мы также встречаем почти полную аналогию русского диалектного вытопить сухую баню\ М. Червенка и Я. Благослав уже в XVI в. записали народное выражение zatopit lazeft ‘жестоко выругать’, которое буквально значит именно ‘затопить баню’. A byt v lazni ‘быть в бане’ в то время значило ‘сносить ругань’. Немало образных оборотов с «банным» сюжетом, образованных от слова lizeh, записал и чешский переводчик Ярослав Заоралек, издавший уникальный сборник фразеологии своего языка. Вот их дословный перевод на русский язык: ‘получить сухую
36 100 К0ИУ МНЮ?______________
баню’, ‘испытать сухую баню’, ‘затопить (приготовить) кому-л. баню’, ‘сделать баню’, ‘приготовить (сделать) кому-либо кровавую баню’, ‘иметь горячую баню’. Их переносное значение понятно без комментариев.
Аналогичные выражения встречаются и в других языках. Так, словацк. krvavy kupel значит ‘драка’, болг. устроивам кървава баня—‘избить до крови, допустить кровопролитие’. Вспомним# нем. einem das Bad gesegnen ‘прибить’ с его дословным значением ‘благословить кому-л. купель’. Как видим, последнее выражение подчеркнуто-иронично, вроде русского благословить рогатиной, употребленного Маминым-Сибиряком. Мотивировка этого немецкого оборота, как мы видели, резко отличается от мотивировки славянских выражений. Но есть и другие немецкие обороты со словом Bad ‘ванна’, ‘баня’, весьма напоминающие славянские: jemandem ein Bad anrichten (riisten) ‘подвергнуть кого-л. опасности’, буквально значащее ‘приготовить кому-л. баню’. Неужели же все это многообразие (т. е. «множество образов») можно свести к жестоким обычаям польского короля Болеслава Храброго, к кровавому «благословению» швейцарского наместника или к русским «банным» пыткам?
До сих пор нас интересовало прежде всего содержание славянских оборотов, точнее—возможность переносного употребления слов со значением ‘баня’ в разных языках. Теперь обратим внимание на их форму.
Все приведенные выражения можно разделить на две группы: 1) сочетания существительного баня с глаголом, поддерживающим переносное значение этого существительного: устроить, сделать, вытопить баню; sprawid lazni$, zatopit lazeft; 2) сочетания существительного баня с глаголом дать (задать), не имеющим собственного значения: дать баню, задать баню, задать байну, задать байню, дацъ баню, даць (давать) лазню.
Сочетания второй группы встречаются лишь в русском и белорусском языках. Обращение к материалам русских словарей и картотек —прежде всего «Словаря русских народных говоров» и «Псковского областного словаря» — показывает, что такую форму имеет целый ряд оборотов, имеющих прямое отношение к «банной» тематике. Кроме известных в литературном языке задать жару (пару, духу), задать головомойку мы встречаем также задать зною (зной в русских народных говорах имеет значение ‘пот’ и ‘жар’), задать поту, дать жигу, задать жигона, дать жёгу и дать жеганку, дать
37 100 *0** ЗА*А,ЛЛ БАИР?
жарню и дать жарёху. К этому ряду относится и архангельский оборот дать вздавку ‘избить’, вошедший в народную частушку:
Милый полюшком идет, Головушка завязана; Вздавка славная дана, Дороженька показана.
Его можно назвать «классическим» выражением «банного» фразеологического сюжета: ведь глагол вздануть, от которого образовано слово вздавка, означает ‘плеснуть воды на банную каменку’.
Приведенный выше фразеологический ряд—лишь небольшая крупица массы выражений со значением ‘бить, избить’, образованных по модели дать (задать, поддать) + существительное со значением ‘удар’, записанных в русском народном языке. Большинство из них — своеобразные «расщепления», перифразы соответствующих «ударных» глаголов: бабахнуть — дать бабашку; бить — дать бойню, биту; драть — дать вздёрку, выдер, выдерку, дёрку, дёру, ддрку, дранйны, дранки, драни, передеру; пороть — дать порки, пёрки, выпорки, пранки; разить — дать раза; тузить — дать туза. В коллекции автора этих строк более 300 таких выражений, собранных в экспедициях и извлеченных из диалектных словарей и картотек. Это многообразие оборотов, подобных задать баню, — убедительное свидетельство их исконно русского, народного происхождения.
Кстати, такое наблюдение над народным бытованием модели дать + ‘удар’ позволяет рассеять еще одно лингвистическое заблуждение, связанное с историей и развитием оборота задать баню. «Известная фразеологическая структура задать баню, — пишет один из азербайджанских русистов Ф. Г. Гусейнов, — первоначально в глагольном звене имела глагол устроить (баню). Однако под воздействием аналогичных структур—задать перцу, задать трепака, задать жару, задать чёсу и т. п. происходит замена слова устроить глаголом задать» (Гусейнов 1977, 96-97).
С этим трудно согласиться. Ведь если бы развитие структуры фразеологизма задать баню шло именно по линии замены глагола устроить глаголом задать, то мы бы в диалектах нашли и устроить байню, устроить байну и т. п. Однако народная речь не отразила их. Глагол устроить в подобных оборотах — книжного характера и, видимо, наоборот, является «субститутом» более распространенного задать.
23 КТО КОМУ ЗАДАВАЛ баню?
Конечно, при поисках славянских параллелей нашего оборота можно найти и некоторые выражения «ударной» семантики, в которых также имеется глагол дать, давать. Так, в польском языке есть ряд фразеологизмов типа dawac baty, kije, waly, weirs ‘давать кнутов, палок, валов, втирания’, dac byka, fangs ‘дать быка, клыка’ с общим значением ‘бить, наказывать’. Известны подобные конструкции и другим западнославянским языкам, например чешскому.
Важно, однако, отметить, что для русской фразеологии такие конструкции являются наиболее характерной моделью образования выражений со значением ‘наказывать’ по сравнению с западнославянскими. И в польском, и в чешском, и в словацком языках они являются периферийными: не случайно в приведенных польских примерах некоторые существительные — узкие диалектизмы или окказионализмы. В русском же языке такие обороты не только многочисленны, но и широко варьируют форму глагола дать (задать) жару, пару; поддать пёндаля; раздавать тумаки; надавать пинков. Такой вариантности мы практически не наблюдаем в «ударной» фразеологии западнославянских языков.
И самое главное—слово laznia ‘баня’ в такой конструкции, как уже говорилось, польскому языку совершенно не свойственно. При фиксации оборота sprawic laznis во множестве употреблений с XVI в. единственный случай использования dac laznis отмечен лишь в 1921 г. Его употребил писатель-этнограф Вацлав Серошевский. Поскольку в других источниках—фразеологическом словаре Ст. Скорупки и толковых словарях польского языка—этот оборот не встречается, то объяснение польского dac laznis напрашивается само собой — это, по всей вероятности, влияние русского языка. Ведь В. Серошевский за участие в освободительном движении был сослан царским правительством в Сибирь, где пробыл более 10 лет (1880-1891). Книги его были посвящены в основном «русскому» периоду его жизни («На краю лесов», «Якуты», «Китайские повести»). Описывая заброшенные уголки России, он мог воспользоваться и «кондовым» русским выражением, дословно переводя его на родной язык. Выходит, не польский король повинен в том, что задать баню появилось в русском языке, а, наоборот, русский царь, сославший польского писателя-бунтаря в Сибирь, стал виновником появления этого оборота в польской литературе.
Языковые факты приводят к следующему заключению. С одной стороны, метафорическое употребление слова баня как символа
ЗФ КТО КОМУ ЗАДАВАЛ БАНЮ?_____
жестких побоев известно фразеологии многих народов. Следовательно, трудно предположить, чтобы эта, можно сказать, интернациональная символика восходила к узконациональному образу или обычаю. С другой стороны, эта «банная» метафора отражена польским и другими славянскими языками в иной конструкции (sprawic taznio), чем русским (задать, дать баню), для фразеологии которого характерна именно модель дать + существительное со значением ‘удар’.
Однако отличие русской «банной» метафоры от других инославянских отражает не просто различие синтаксических конструкций. Это еще и различие типов бани, и различие в отношении к ней. Ведь не зря русская пословица Баня — вторая мать не имеет эквивалентов в других языках. Она—мерило того почтения к процессу мытья в бане, которое характерно для севернорусского народного быта. Почтения, которое отразилось и в фольклоре, и в мифологии, и в специализированных «банных» приветствиях типа С легким паром, которое имеет массу разновидностей в разных уголках России: перм. Пар в бане\, ворон. Пар вам, бояре\, арх. С тёплым паром\ и т. п. Сам быт Русского Севера породил зто уважение, ибо тепло для северянина не просто жизненная необходимость, это особое наслаждение, как для жителей изнуряющего юга—прохлада.
Особое «банное» рвение у русских издревле было замечено иностранцами. Первого христианского святого, пришедшего на Русь, апостола Андрея больше всего поразили именно моющиеся новгородцы. Проплыв из Корсуни по Днепру до самого Новгорода и вернувшись затем в Рим, он поведал обо всем, что видел, и, в частности, рассказал следующее:
«Удивительное видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся и будут иаги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это всякий день, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то совершают омовенье себе, а не мученье» (Повесть временных лет).
Рассказ этот относится еще к дохристианскому времени. Но и в более поздние времена иностранцы продолжали удивляться банным обычаям наших предков. Более того—по отношению к бане последние даже ухитрялись отличать своего земляка от инородца, выдававшего себя за выходца из России. Вот еще одно иностранное свидетельство — из «Описания путешествия в Московию» Адама Олеария, знаменитого немецкого ученого-энциклопедиста
40 1(10 К0ЯУЗДД**АЛ БАНЮ?
(1599—1671), который побывал в России в 1643 г. Он пишет, что многие русские поняли, что Лжедмитрии не является русским по рождению и сыном великого князя, по двум приметам: во-первых, он не спал в полдень, как другие русские, во-вторых, он не ходил так часто в баню, как это полагалось на Руси. «Омовению русские придают очень большое значение, — замечает он при этом,—считая его, особенно во время свадеб, после первой ночи, за необходимое дело. Поэтому у них и в городах и в деревнях много открытых и тайных бань, в которых их очень часто можно застать». Далее следует столь живописное свидетельство очевидца средневекового мытья у русских, что позволю себе еще одну длинную цитату:
«В Астрахани я, чтобы видеть лично, как они моются, незамеченным образом отправился в баню. Баня была разгорожена бревнами, чтобы мужчины и женщины могли сидеть отдельно. Однако входили и выходили они через одну и ту же дверь, притом без передников; только некоторые держали спереди березовый веник до тех пор, пока не усаживались на место...
Они в состоянии переносить сильный жар, лежат на полке и вениками нагоняют жар на свое тело или трутся ими (это для меня было невыносимо). Когда они совершенно покраснеют и ослабнут от жары до того, что не могут более вынести в бане, то и женщины и мужчины голые выбегают, окачиваются холодною водой, а зимою валяются в снегу и трут им, точно мылом, свою кожу, а потом опять бегут в горячую баню. Так как бани обыкновенно устраиваются у воды и у рек, то они из горячей бани устремляются в холодную. И если иногда какой-либо немецкий парень прыгал в воду, чтобы купаться вместе с женщинами, то они вовсе не казались столь обиженными, чтобы в гневе, подобно Диане с ее подругами, превратить его водяными брызгамив оленя,—даже если бы это и было в их силах» (Россия XV — XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 344-345).
Олеарий замечает также, что подобного рода мытье известно не только в России, но и в Лифляндии и Ингерманландии, где простой люд, особенно финны, также после бани выбегают на улицу и трутся снегом. «Поэтому-то финны и латыши, так же как и русские,—заключает путешественник,—являются людьми сильными и выносливыми, хорошо переносящими холод и жару». Действительно, парная русская баня, как и финская сауна,—изобретение северян, и не случайно у русских и финнов здесь много общего (Vahros 1966).
В наше время любовь русских к банному пару да и сама процедура мытья практически не изменились. Один из моих корреспондентов, житель одной из архангельских деревень М. С. Медведев, после публикации моей заметки о выражении задать баню в «Русской речи» (1974, № 6) написал мне обстоятельное письмо. Поддерживая уже
41 1(70 И0МУ БАИЮ?
известное читателю исконно русское толкование этого выражения, он пишет:
«А ведь побывать бы им (т. е. сторонникам других этимологических объяснений) хоть раз в деревенской северной бане, да посмотреть, как “бАнится” (парится) русский мужик, выгоняя все хвори, и этимология выражения задать баню предстала бы воочию как исконно русская.
И сейчас на Беломорье и в Сибири люди умеют “задавать себе баню”. Да и оборот у наших дедушек и бабушек (родившихся в первой половине XIX века) был только “задавать себе баню”, и только потом—“задавать баню”.
Раньше баню топили так, что если встать во весь рост, то уши жгло. Придя в баню и слегка попарившись, мылись сидя на полу или низких скамеечках. После этого бросали ковш холодной воды на веник, который держали над каменкой. Поворачивали и снова поливали водой. Затем, подлив еще воды иа камеику, лезли с распаренным веником на полок. Так, повертываясь кверху попеременно боками, животом, спиной, истязали себя распаренным веником и пыткой под жгучим паром. Иногда уши завязывали рубашкой, а на руки надевали рукавицы. И когда не хватало воздуха, чтобы передохнуть, свешивали с полки голову, не переставая яростно хвостать тело веником, с которого кучами летели листья.
Это была и порка самого себя, и пытка под жгучим паром. Здесь давали: жару, пару, духу (запаху, настроения и выдержки), головомойку— взбучку (не нравоучение, а истязание), зною, поту, жигу, жёгу, жеганку, жареху, порку, дёрку, дрань, дранницу, вздувку и многое другое из семьи этих синонимов. И все, что присуще русской бане, давали не кому-нибудь, а—себе. И все эти обороты с дать/задать из банного арсенала связаны только с русской баней...» (письмо от 6.12.1974).
Такое свидетельство русского «очевидца» нашего банного мытья не менее ценно, чем показания святого Андрея или Адама Олеария. И лишь в одной детали, пожалуй, нельзя согласиться с М. С. Медведевым: что сначала «давали баню» непременно самому себе, а лишь потом — своим собратьям по банной полке. Ведь все, кто бывал в русских банях, знают, что в ней чаще всего парят именно других, а лишь когда нет сотоварищей, пользуются «самообслуживанием». Да и языковые факты убедительно подтверждают направленность банного действа на кого-либо, а не только на себя самого издревле. В XVIII в., т. е. задолго до рождения «дедушек и бабушек» моего уважаемого корреспондента с Архангелогородчины, это выражение употреблялось именно так же, как и сейчас. И даже с весьма выразительными вариациями, но с тем же управлением глагола дать\
«Новомодова: Давно не пороты: им каждому надо на всякий день бани по три давать, так и будут, как шелковые» (И. А. Крылов. Кофейница).
42 к™кому ЗАДАВЛЛ БАНЮ?
Мы видим, что баня в таком употреблении сохраняет довольно живую связь с реальным образом. Жива эта метафора и в таких современных диалектизмах со значением ‘бить, наказывать’, как стопить баню кому, влить баню кому, орл. навести баню кому и т. п. Впрочем, и в литературном языке «банный» фразеологический ряд до сих пор легко обыгрывается писателями и журналистами. Вот начало фельетона А. Головенко и Н. Мелехина «Лозунг в предбаннике», где задавание бани, жару и пару приобретает едва ли не идеологическое звучание:
«Не забыть чувства приятной огорошенности, которое испытали мы в одной сибирской баньке. Изрядно попотев в давке за билетами, направились было в моечное отделение. Но путь решительно преградил ядреный призыв: “Дадим жару международному терроризму!” Мы смело шагнули вперед, чтобы закидать засевших бандитов шайками да крепко намылить шею. Но в парилке, не щадя живота своего, лихо истязали себя вооруженные вениками мирные соотечественники...» (Правда, 1989, 29 окт.)
Как видим, русская банная метафора и ныне жива и экспрессивна. Как и сам обычай «творити мовенье собЪ, а не мученье», поразивший некогда апостола Андрея.
Какой у кого бзик?
Отец чудак был, с некоторым D «ражение с бзиком в довоен-
бзиком. -* ном четырехтомном «Толковом
в. в. Конецкий. словаре русского языка» под редак-
Кто смотрит на облака
циеи Д. Н. Ушакова уже отражено в виде контекстной иллюстрации к слову бзик (бзык) ‘странность, ненормальность, причуды’: «Человек с бзиком». Здесь же слово бзик характеризуется как разговорное и областное.
Словарь С. И. Ожегова и Малый академический словарь (2-е изд.) узаконивают сочетание с бзиком, причем второй словарь иллюстрирует его и примером из современной литературы:
«— Отец чудак был, с некоторым бзиком» (В. В. Конецкий. Кто смотрит на облака).
В разговорной речи слово бзик или бзык можно услышать как в свободном употреблении, так и в составе устойчивых оборотов бзик нашел (напал), бзык заиграл и т. д. Писатели используют их обычно как речевую, чаще всего просторечную, характеристику персонажа:
«Геннадий:...Встречаю я, представляешь, себя самого. Рост, фигура, пальто, голос. Одним словом — я. Бродил целую ночь за собой. Потом у доктора: нервы. Уехал в Ригу. Поступил пианистом в кабак, сочинял фокстроты. Чудесно зарабатывал, и все великолепно.
Дубравин (недоумевая): Галлюцинация, что ли?
Геннадий: Вроде этого. Бзик. Пустяки» (Б. Ромашов. Огненный мост);
«Оськи Лямкииа, свата моего, телок — месяцев пяти, черный, большой. Бзык заиграл и в церковь ворвался» (А. С. Новнков-Прн-бой, Цусима); «— Тут-то, господин вахмистр, и нападает на скотину бзык» (М. А. Шолохов. Тихий Дон).
Как видим, обороты бзык заиграл и бзык напал на кого-л. могут относиться и к человеку, который начал вести себя странно, сумасбродно, и к животному. Такое единство семантической характеристики не случайно: этимологи связывают значение слова бзик ‘странность, причуда’ с его исходным значением—‘слепень, овод’ и далее—‘рев и беготня скота от овода’, ‘беспокойное поведение’ (Фасмер I, 164; ЭСРЯ I, вып.2, 113). Первичность «энтомологического» значения несомненна, поскольку слово бзик (бзык) образовано от звукоподражания bzi- / bzy- (ср. жук и жужжать, бу-
44 у иого ьзик?
кашка и букатъ). Следовательно, развитие значения шло, как полагают этимологи, по линии ‘слепень, овод’ —> ‘беготня скота от укусов овода’ —> ‘беспокойное поведение животного или человека’ —> ‘странности, причуды в поведении человека’.
В целом такая линия семантического развития верна. Она, однако, излишне «материализована» и не учитывает некоторых языковых нюансов, существенных для историко-этимологического толкования слова бзик и фразеологизмов, образованных на его основе и, в свою очередь, обогативших это слово семантически.
Словарь под редакцией Д. Н. Ушакова, Малый академический словарь и Этимологический словарь русского языка под редакцией Н. М. Шанского трактуют слово бзик как заимствование из польского, считая тем самым, что отмеченное выше семантическое развитие произошло именно в языке-источнике. Действительно, пол. bzik имеет значение ‘причуда, странность’, a bzyk — ‘жужжание’. При этом, однако, авторы польских этимологических словарей А. Брюкнер и Фр. Славский считают это слово исконно общим для западных и восточных славян и возводят его непосредственно к bzikn^c, bzykn^c ‘об оводах, которые, жужжа, приводят скот в беспокойное состояние’. Известный же знаток польского фольклора акад. Ю. Кржижановский связывает это слово непосредственно со звукоподражанием bzu. Характерна при этом и фразеологическая перекличка русского и польского языков: ma bzika ‘у него бзик, причуда, странности’ соответствует рус. на него бзик нашел (напал). Показательно, что в литературном польском языке эти выражения имеют тоже относительно позднюю фиксацию — не ранее 1860 г.
Исконность слова бзик и соответствующих выражений в нашем языке легко подтвердить, обратившись к данным русских диалектных словарей. Они фиксируют его на разных территориях России, прежде всего—в южнорусских, среднерусских и смешанных сибирских говорах. По данным «Словаря русских народных говоров», в значении ‘приступ неистовства, необузданной ярости у скота из-за сильной жары и укусов оводов’ слово бзык (бзик) записано в пензенской, псковской, смоленской, астраханской, донской диалектных зонах, причем записано во многих случаях еще в XIX веке. Отражено оно и словарем В. И. Даля, который отмечал его как пензенское в значении ‘рев и беготня скота, коров, от овода и жара’ и приводил ряд глагольных образований от того же корня —
45 КА^УКОГОВЗИК?
бзырить, бзырять, бзыритъся ‘о рогатом скоте: рыскать в знойное и оводное летнее время, задрав хвост, и реветь; беситься» метаться’. Приводится здесь и синонимический ряд — зык, бызы, строка, дрок.
Связь звукоподражания, наименования слепней и реакции скота на жужжание и укусы этих насекомых хорошо демонстрирует запись одного из таких слов—бызз\—этнографом В. К. Магницким в Уржумском уезде Вятской губернии 1882 г.: «Таким звуком дети пугают летом лежащих коров, вызывая в них представление о присутствии надоедливых паутов (слепней); заслышав бызгание, коровы вскакивают и, задрав хвосты, мчатся, чем и доставляют удовольствие детям» (СРНГ 3,341). Не случайно поэтому и слово бзык, и многие его звукоподражательные синонимы обнаруживают своеобразный синкретизм значения. Так, южнорус. дзык обозначает и ‘мошкару, оводов, мух, от которых бесится летом скот’, и ‘время года, когда мошкара, оводы особенно сильно кусают скот’, и ‘волнение, буйство скота от оводов и жары’.
Учитывая такой синкретизм, можно понять смысловую логику соединения слова бзик (бзык) с глаголами или с предлогом с. Сочетания бзык нашел (напал) первоначально в народной речи имели конкретное значение, характеризуя слепней, кусающих скот и доводящих их своими укусами до бешенства. Такое употребление и отразил, как мы видели, в «Тихом Доне» М. А. Шолохов, именно так различные варианты этого выражения используются в современной диалектной речи разных районов:
«Напал бзык, говорили, на коров, от жару они бесются и пауты их обле-пют» (новосиб.); «На телят и коров нападает ззык» (ворон.); «Джудра (овод. — В. М. ) напала. Корова на месте не стоит, вся изджудри-лась» (урал.); «Зык идёт в май месицы, скатина зыкаить, казяфка шпигущая кусаить иё, ана хвост задираить и пашла дамой, нйхто ни удержыть, хоть и вирхом диржы. Бяжить ф халадок, ф станицу» (дон.); «Сянни нъ кароу бзик напау, дужа ванни их кусали» (смол.).
Образ обезумевшего от слепней животного столь ярок, что он не мог не стать в народной речи метафорой, характеризующей и человека: В некоторых говорах эти два употребления бытуют одновременно. Так, даже в пределах одной деревни бзык нашел (напал) употребляется по отношению и к человеку, который отказался от кого-либо, чего-либо, рассердившись, и к животным, которые убегают, спасаясь от насекомых (Андреева 1978,42). Ср. также сиб. нашёл бзык на кого ‘беспричинно рассердился’ или ворон, зук находит ‘о состоянии беспокойства’:
££ КАКОЙ У кого мим?
«От мужик, твою мать, опять нашёл на него бзык, лается и лается, опохмелиться надо» (ФСРГС, 12); «На рибёнка зук находя, кричить што есть магуты» (ВФ VI, 273).
Подобную семантическую двойственность можно отметить и для белорусских оборотов бзык (зык) напау6о неожиданно рассердившемся, заупрямившемся человеке’, зафиксированных еще в XIX в. Они сохраняют связь слова зык (бзык) с беспокойным состоянием скотины от укусов слепней, о чем свидетельствует пословица Корову бьють за зык, а бабу за язык.
Переключению сферы употребления оборота бзик нашёл из описания поведения животного в экспрессивную оценку поведения человека способствовала весьма активная для восточнославянских языков фразеологическая модель, в которой существительное имеет абстрактно-психологическое значение: блажь нашла, дурь нашла на кого ‘кто-л. стал вести себя странно, с причудами’, ср. — у рал. блазнь нашла на кого ‘кому-л. что-то привиделось, померещилось’, латв. глум нашел на кого ‘кто-л. стал сумасбродным, чудаковатым’; влад. голмяно нашло на кого ‘кто-л. впал в тяжкое душевное состояние, со-провождающееся приступами гнева, скорби, безумия’; диал. диконь-кое нашло на кого стал умопомешанным, пси-
хически ненормальным’; свердл. дур нашел на кого ‘кто-л. начал сумасбродствовать’, мана находит на кого ‘кому-л. что-то видится, мерещится’, столбняк нашёл на кого ‘кто-л. остановился в недоумении’; бел. шал нападает на кого ‘кто-л. становится очень раздражительным’ и т. д. Ср. широко известное в речи на него находит, представляющее «сгу-щенный» вариант таких оборотов.
Все эти народные выражения, как видим, относятся исключительно к человеку. В эту модель вливались поэтому различные существительные, первоначально не имевшие абстрактно-психологического значения, но относящиеся к сфере духовной жизни человека. Историю одного из таких выражений—стих нашел ‘кто-л. поддался какому-нибудь настроению’—детально описал В. В. Виноградов, показавший, что, несмотря на заимствованный характер слова стих (греч. stichos ‘стихотворение’), вся семантическая структура выражения и данного слова «овеяна народным духом, народным миропониманием» (Виноградов 1971,164). Стих в народном употреблении стал обозначать ‘заговор’, особенно такой, с помощью которого на человека насылается порча. Народный оборот бзык нашел, несмотря на кажущуюся семантическую удаленность его стержневого слова от стих ‘заговор’, сходится теперь с выражением стих нашел по
47 МАК0йу кого бзик?
переносному значению. Любопытно, что слово, этимологически близкое к бзык,—озык в народной речи имеет также значение ‘сглаз, порча’ или вообще ‘болезнь с наговору злого знахаря’, по характеристике В. И. Даля, который приводит и сочетания с этим словом — с озыку сталось, озык наслан.
Как видим, прозаическая, на первый взгляд, метафора, связанная с укусами оводов, неожиданно обнаруживает связь с суеверными представлениями о порче и сглазе.
Еще более глубоким оказывается мифологический подтекст оборота с бзыком. Чтобы этот подтекст обнаружить, нужно сопоставить русское выражение с аналогичными оборотами других языков.
О том, что оборот с бзыком устойчивое, а не свободное словосочетание, свидетельствует прежде всего его стабильная фиксация в разных народных говорах: «Манька—деука с бзикъм у нас, любой номир выкинить» (смол.); «Ана з децтва з бзыкам» (дон.) и т. д. Ср. также бел. быць с бзыком ‘иметь причуды, странности в поведении’. С бзыком буквально соотносится с уже упоминавшимся польским mabzika.
На первый взгляд, переносное значение русского, белорусского и польского оборотов вытекает из переносного значения слова бзик (bzik)—‘причуда, странность’. Так, как мы видели, и расшифровывают этот оборот авторы словарей: у него бзик — ‘у него причуды, странности’. Языковые факты, однако, заставляют усомниться в такой расшифровке.
В «Смоленском областном словаре» В. Н. Добровольский к слову бзик ‘странность, недочет в умственных способностях’ приводит любопытный вариант нашего выражения—у яго в голове здоровый бзик сядитъ. Он мог бы показаться окказиональным, если бы не польский оборот ma bzika w glowie (букв, ‘у него бзик в голове’), который фиксируется с 1861 г. многими источниками. Другие варианты этого выражения—ma malenkiego bzika ‘у него маленький бзик’, та tQgiego bzika ‘у него здоровенный бзик’, та srogiego bzika ‘у него свирепый бзик’; Kazdy та swego bzika ‘У каждого — свой бзик’—заставляют еще больше усомниться в том, что bzik здесь— обозначение абстрактного психологического качества человека. Скорее всего, перед нами — конкретный, хотя для современного человека и довольно странный образ — «у него овод в голове», «он с оводом в голове».
С точки зрения индоевропейской мифологии, этот образ, однако, весьма логичен. По суеверным представлениям именно в слеп-
48 1011(011 у 1(0(10БЗМК?
ней, мух, жуков или других насекомых мог оборачиваться дьявол, проникая спящему человеку в нос, рот или ухо и тем самым делая его бесноватым.
В русском просторечии бытуют выражения с мухами в носу или с тараканами в носу, характеризующие чудаковатого, с причудами человека. Они соответствуют бел. з мухам! [у галаве] или мае Myxiу носе, пол. ma muchy w nosie (‘у него мухи в носе’), чеш. md v hlavd mouchy (‘у него в голове мухи’) — ‘у него причуды, странности’, болг. влязла му муха в главата (‘ему в голову влезла муха’) ‘его беспокоит какая-то навязчивая мысль’, с.-х. имати мухе у главы ‘быть придурковатым, чудаковатым, глуповатым’. В конечном счете, как показал в специальном очерке В. В. Виноградов, такие мифологические ассоциации привели к образованию русского фразеологизма под мухой, ибо состояния опьянения и сумасшествия, чудаковатости весьма близки друг другу.
Характерно, что обороты со словом муха имеют и другую структуру — типа бзик нашел (напал). Ср. какая его муха укусила, бел. шалёная муха укуала за вуха и кашуб, gzik go kqsil (‘его укусил овод’) и ma gzika (‘у него овод’) — ‘не все дома у кого-л.’. Это еще раз свидетельствует о тесной связи выражений бзик нашёл и с бзиком (в голове).
О. А. Терновская, подробно исследовавшая представления, связанные с моделью мухи в голове у всех славянских народов, верно подчеркивает, что обороты такого типа «метафоризируют максимально длинный рад разнообразных внутренних состояний и настроений человека. С их помощью говорят о глупости, сумасшествии, упрямстве, безрассудстве, легкомыслии, капризе, опьянении, гневе, коварстве, тайных замыслах, смелости, отваге, хитрости, уме, сообразительности, состоянии перед смертью, колдовском знании, поглощенности настроениями, связанными с навязчивыми, подстрекающими, тяжелыми, дурными, грустными и т. п. мыслями... Этот ряд можно представить себе как основывающийся на оппозиции глупости и ума в архаичном значении последнего понятия с акцентированием ее эмоционального аспекта. Причем понятие опьянения, на первый взгляд, позднее и вторичное, по существу, органически входит сюда как относящееся к средству эмоционального возбуждения (водка — кровь сатанина)» (Терновская 1984, 122).
Фразеологические следы подобных суеверных представлений остались во многих языках. Вот лишь несколько наугад выбранных выражений: бел. мае чмял! у носе (букв, ‘у него шмели в носу’)
КАКОЙ У КОГО БЗИКТ
‘пьяный’, мае фомфры у носе (‘у него мухи в носу’) ‘капризный’; укр. (харьк.) eid горшки гудутъ джмел1вмакипр1 (голов!) ‘о пьяном’; пол. ma gzika (b^ka, owady) w glowie (‘у него овод в голове’), та fqfry w nosie (‘у него мухи в носу’), та sierszenie w nosie (‘у него шмели в носе’); чеш. та v hlavd cvrcky (‘у него в голове сверчки’), та komary v hlave (‘у него комары в голове’); нем. Grillen im Kopf haben (‘иметь в голове сверчков, кузнечиков’), Raupen im Kopf haben (‘иметь в голове гусениц’), Motten im Kopf haben (‘иметь в голове молей’), Mucken haben [im Kopf] (‘иметь [в голове] комаров’); фр. avoire l’araign£e [dans la tete] (‘иметь паука [в голове]’); англ, to have a bee in one’s bonnet (‘иметь пчелу в шляпке’) и т. п. Показательно при этом, что многие энтомологические наименования—подобно рус. бзик—в соответствующих языках отрываются от фразеологизмов и употребляются в самостоятельном значении ‘странность, чудаковатость, капризность’. Таковы, например, немецкие слова Grille ‘кузнечик, сверчок’ и ‘причуды, каприз’, Миске ‘комар’ и Миске ‘каприз, причуда, норов’, Motte ‘моль’ и ‘причуды, каприз’ и т. п. Все эти обороты и произведенные от них слова имеют значения, сводимые к характеристике странного, чудаковатого и капризного человека— такого, на которого «находит».
Такие обороты могут быть легко поняты нами благодаря близости мифологических ассоциаций русских «бзыков» или «мух» с немецкими «сверчками», «комарами» или «молями». Во всяком случае догадаться, что человек, у которого «сверчки в голове» или «комары в голове», — не совсем «того», можно. Иное дело, если структура выражения с тем же образом иная. Тогда приходится специально комментировать его. Так сделал, например, западногерманский публицист Фридрих Хитцер, опубликовавший 18 января 1985 г. в «Правде» свою острую политическую статью «А как с уроками прошлого?». Он начинает ее с комментария переведенного им дословно немецкого оборота j-m die Wiirmer aus der Nase ziehen ‘выковыривать у кого-либо из носа червей’:
«Старые обороты речи порой бывают тяжелы и грубы, как, к примеру, немецкое выражение “выковыривать из носа червей”. Но это — дословный перевод. На самом же деле оно означает: выпытывать у кого-нибудь тайну, вынуждать к признанию. В позднем средневековье многие люди верили, что причиной человеческого безумия являются черные демоны, которые, приняв образ червей, поселяются в теле несчастного. Знахари зарабатывали на этом суеверии. На городских и деревенских ярмарках они делали вид, что лечат больного, будто бы вытаскивают через нос червей, сидящих у него в мозгу. Трудно сказать, каким образом, с помощью каких фокусов
50 МАКОЙ у |(0ГО цниу
им удавалось дурачить зрителей. Но шарлатаны не жалели усилий. Ведь деньги им платили вперед.
Я вспоминаю о них всякий раз, когда слышу, как определенные политические деятели и военные из НАТО повторяют вот уже год на всех митингах и собраниях одно и то же: “Вы только не мешайте нам! Когда у нас будет достаточно “Першингов-2” и крылатых ракет, мы запросто выковырнем у русских червей из носа — добьемся от них всего, чего нам надо”. К сожалению, этот “фокус” не так уж безобиден для людей, как “врачевание” средневековой поры».
Как видим, несмотря на причудливость образа этого немецкого выражения, оно связано с теми же мифологическими ассоциациями, что и русский оборот бзык нашел.
В формировании современного значения слова бзик ‘странности, причуды’, таким образом, сыграли большую роль фразеологические сочетания, от него образованные. С одной стороны, это значение формировалось в сочетании бзик нашел (напал), первоначально характеризовавшем обезумевшего от укусов овода животного, а потом —рассерженного, выведенного из себя человека.С другой стороны, оно отразило ассоциации, рожденные оборотом с бзиком в голове, восходящие к древним суеверным представлениям о причинах сумасшествия и странного поведения. Так конкретно-вещественные наблюдения над окружающими явлениями и их мифологическое переосмысление слились в единый семантически узел.
Нем. j-m die Wurmer aus der Nase ziehen и рус. с бзиком — выражения, сомкнутые единой мифологической цепочкой. Их мифологическая подоплека сейчас уже не ощущается ни немцами, ни русскими. Не случайно немецкие слова Grille (букв, ‘кузнечик’), Миске (ср. Миске ‘комар’), Motte (‘моль’) сейчас означают ‘каприз, причуда’ — точно так же, как и русское слово бзик. В словарях их часто отражают как омонимы, подчеркивая тем самым непроходимую пропасть между их «этимологическим» прошлым и «психопатологическим» настоящим. Порвав со своим исходным мифологическим образом, выражение с бзиком—как и его многочисленные разноплеменные собратья—продолжает сохранять, однако, в своем значении некую таинственную «чудь», накладывающую свой отпечаток на его современное употребление.
Что подносят на блюдечке с голубой каемочкой?
— Ах, если бы только найти индивида! Я уж так устрою, что он свои деньги мне сом принесет, но блюдечке с голубой каемочкой.
— Это очень хорошо. — Балаганов доверчиво усмехнулся. — Пятьсот тысяч на блюдечке с голубой каемочкой...
И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок
У многих из нас выражение о блюд ечке с голубой каемочкой неразрывно связано с «Золотым теленком» И. Ильфа и Е. Петрова. Фразу о блюдечке, вынесенную в эпиграф, Остап Бендер произносит почти в самом начале романа. Образ заманчивого блюдечка становится одним из главных символов книги, ассоциируясь с искомым
золотым тельцом—содержимым этого блюдечка. И на последних страницах романа он, естественно, появляется. Характерно, что розовая, бодрая тональность, оптимистический акцент, с которым произносил фразу Остап Бендер в начале, сменяется равнодушной интонацией. Это и понятно: после многотрудных и суетных поисков миллионов Корейко, после пережитых трагедий и разочарований этот яркий символ потерял свою каемочную голубизну, стерся. Даже голубая каемочка преврати
лась от этого просто в каемку:
«...Ои перестал есть, запрятал деньги в карманы и уже ие вынимал оттуда рук.
—Неужели тарелочка?—спрашивал он восхищенно.
—Да, да, тарелочка,—ответил Остап равнодушно.—С голубой каемкой. Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я командую парадом. Чувствую себя отлично».
И две последние фразы Бендера уже потеряли былую бравурность. Здесь они скорее—шаблонное самоуспокоение, отторжение от себя дурных предчувствий, которые, как известно, не замедлили исполниться.
Популярность романа несомненно обусловила восприятие оборота поднести на блюдечке с голубой каемочкой как остроумной авторской выдумки авторов «Золотого теленка». В какой-то мере так оно и есть. В этом смысле правы составители «Опыта этимологического словаря русской фразеологии», ставящие этому обороту диагноз: «из романа И. Ильфа и Е. Петрова “Двенадцать стульев”».
52 410 ГТОДНОаГГ M ЫЮДЕЧКЕ С ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ?
Правы, правда, наполовину, ибо, как мы видели, впервые это выражение употреблено в «Золотом теленке», а не в «Двенадцати стульях», но связь оборота с именами популярных советских сатириков несомненна.
Не случайно почти во всех его употреблениях сохраняется шутливо-иронический колорит, характерный и для ильфо-петровского контекста: «Нужны лаборантки... Рожу я тебе их, что ли?.. Все хотят, чтобы на блюдечке с каемочкой преподнесли» (Н. Амосов. Мысли и сердце); «С ними было отменно просто разговаривать. Иногда ломаешь голову, пытаясь понять поступок человека, а тут вся недлинная жизнь открыто лежала на блюдечке с голубой каемочкой и девизом по ободку: “Главное, не напрягаться!” Средне учились в школе, потом без усердия в техникуме. Они плыли по течению жизни, и легкая зыбь баюкала их» (Б. Коновалов. Диплом — в архив?—Комсом. правда, 1984,22 авг.). Явно «намекает» на крылатую фразу И. Ильфа и Е. Петрова и название публикации «НЛО на тарелочке с голубой каемочкой» (Комсом. правда, 1989,30 июня).
Как усечение этого выражения воспринимается оборот поднес-ти (подавать, получать, принести и т. п.) на блюдечке ‘без затрат труда, усилий, в готовом виде’. Он регистрируется в основном в языке публицистов или писателей, пишущих на злобу дня: «”Я хотел бы жить в обществе, где не будет людей злобных, несправедливых, нечестных...” — Костя думает, что такое общество поднесут на блюдечке...» (И. Шамякин. Сердце на ладони); «Выходит, раз здесь не успели понастроить для всех дома с ваннами, то и жизнь должна замереть, остановиться до лучших времен? И кто тогда, по разумению крестьянской дочери Ирины Захаровой, окончившей к тому же аграрный вуз, — кто должен приготовить и принести на блюдечке все житейские блага таким, как она, молодым, едва вступившим на трудовую дорогу специалистам сельского хозяйства?» (Правда, 1980, 14 мая); «Одинаковая материально-техническая база, забота о труде и быте, поощрительные стимулы. Но порой за этими требованиями скрываются иждивенческие настроения, стремление получить все на блюдечке» (Правда, 1973, 20 мая); «Но то обилие информации, которое ежедневно подается на блюдечке едва ли не в постель, трудно переварить» (Д. Жуков. Самое колыбельное. — Наш современник, 1974, №4).
Во всех приведенных контекстах так или иначе акцентируется исходный образ. Есть попытки еще более индивидуализировать употребление оборота: у Б. Слуцкого («Осеннее Болдино») на блюдечке
53 «ПО ПОДНОСЯТ НА БЛЮДЕЧКЕ С ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ?
«подаются» бытовые и вместе с тем высокопоэтичные символы пушкинского Болдино:
Но прежде построим Болднно — дома его, небеса его.
Дожди его, трудодни его на блюдечке разве поданы? Язык доведет до Киева, но только труды до Болдино.
Иногда же новый семантический поворот нашего выражения задан заменой глагола, который отрывает исходный образ от «пищевой» основы: «...Дело наше служебное, — отрезал он. — Отчитываться вроде бы не обязаны. Вот к прокурору зайдите, он вам поможет, на блюдечке скажет» (Э. Ставский. Камыши). Это скажет на блюдечке уже не значит ‘преподнесет в готовом виде’, но, пожалуй, — ‘очень четко, ясно, вразумительно объяснит’.
Оборот поднести на блюдечке квалифицируется нашими лексикографами как неологизм (НСЗ-84,100). Но мы уже видели, что по семантико-стилистическому диапазону он тесно связан с оборотом, употребленном еще в 20-х годах авторами «Золотого теленка». В какой же зависимости находятся эти выражения?
Пожалуй, следует признать, что И, Ильф и Е. Петров лишь обогатили, индивидуализировали существовавшее прежде выражение поднести на блюдечке, расцветив его каемочкой цвета мечты и надежды на приобретение миллионов Корейко. Таково мнение некоторых лингвистов (Мелерович 1978, 37-38), и мнение это легко подтвердить реальными языковыми фактами.
Ведь в русском литературном языке давно, еще до уменьшительной, употреблялась и неуменьшительная форма этого выражения— поднести на блюде:
«— Батманов действует так, будто мы уже преподнесли новый проект на блюде и нам все видно до дна,—с некоторым беспокойством заметил Ковшов» (В. Джаев. Далеко от Москвы); «Вы о катере мечтали и думали, что вам катер на блюде поднесут» (Л. Соболев. Зеленый луг); «Ему только и нужно было, конечно, получить зацепку в духе той, которую поднес на блюде Капустин» (В. И. Ленин. Заказная полицейско-патриотическая демонстрация).
О первичности именно этой формы нашего выражения свидетельствует ее широкая известность во многих языках: болг. поднасям на тепсия, поднасям на блюдо: с.-х. dobiti (donijeti) kao па tanjiru (tanjuru); англ, hand somebody something on a plate; hand (present) something on a silver platter (букв, ‘поднести что-л. на блюде, серебряном подносе’); нем. einem etwas auf dem Prasentierteller bringen (‘поднести кому-л.
5ЧТО ПОДНОСЯТ НА БЛЮДЕЧКЕ С ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ?
что-л. на подносе') и т. п. И переносное, и прямое их значения аналогичны семантике русского оборота поднести на блюде. В таких случаях следует признать, что перед нами—фразеологический интернационализм, ибо точно констатировать, из какого языка в какой распространилось выражение, трудно.
Каков же исходный образ этого выражения?
Пожалуй, одна из самых причудливых и даже жутких («хоррор-ных») этимологий Н. М. Шанского, В. И. Зимина и А. В. Филиппова, высказана именно в попытке на этот вопрос ответить. Признавая, с одной стороны, собственно русский характер оборота на блюдечке с голубой каемочкой в связи с его отнесением к роману И. Ильфа и Е. Петрова, эти авторы одновременно констатируют: «Восходит к тексту Евангелия о том, как Саломея требовала поднести ей на серебряном блюде голову Иоанна Крестителя» (КЭФ, 1979, № 5, 84; Опыт, 83).
Не правда ли—от одного представления этой библейской картины дрожь охватывает?
Библейская легенда о непосредственном предшественнике Иисуса Христа Иоанне Крестителе, или Предтече, действительно, сообщает и о том, как падчерица правителя Галилеи Саломея, угодившая отчиму на пиру по случаю его дня рождения, просит в награду голову Иоанна. Палач, произведя «усекновение главы», подает ее Саломее на блюде, и та относит ее для глумления своей матери Иродиаде. Сюжет этот хорошо известен и отразился на многочисленных иконах, фресках, картинах, получил различные мифологические интерпретации и оброс деталями в разных европейских странах.
Можно ли, однако, притягивать этот сюжет к нашему шутливоироническому выражению? Как кажется—нельзя. Уже сама шутливо-ироническая тональность дисгармонирует с христианской трагичностью легенды об «усекновении главы» Иоанна Предтечи. К тому же и сам сюжет легенды вступает в смысловое противоречие с переносным значением оборота поднести на блюде: ведь фразеологизм предполагает поднесение чего-либо в готовом виде, получение чего-либо без всякого труда, без лишних усилий, Блюдо же с усеченной главой Иоанна Крестителя досталось Саломее абсолютно не так. Правитель Галилеи Ирод Антипа не сразу решился отдать приказ о казни праведника, который выступал с гневными обличениями против него, Ирода, нарушившего древние иудейские обычаи и женившегося при жизни своего брата на его жене Иродиаде. Он боялся популярности Иоанна и потому удовольствовался сначала лишь заточением его в темницу. Чтобы заставить Ирода отдать такой приказ, его падчерице пришлось исполнить на пиру столь зажигательную
55 ЧТО ПОДНОСЯТ НА БЛЮДЕЧКЕ С ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ?
пляску, что отчим пообещал исполнить любую ее просьбу. Как видим, блюдо с головой Иоанна Предтечи—это отнюдь не блюдечко с голубой каемочкой, на котором желаемое появляется само собой.
Вот почему образ этого выражения следует искать в ином, гораздо более прозаическом и гуманном древнем обычае, с которым обычно связывают соответствующие немецкие, английские и другие выражения историки европейской фразеологии (Rohrich 1977, 744). В основе фразеологизма—ритуальная символика серебряного или золотого блюда, на котором гостям подносили самые лакомые яства. Подношением на блюде подчеркивалось особое уважение (ср. шутливые пословицы Тот же блин, да на блюде или За спесивым кумом не находишься с блюдом). При осаде городов в средневековой Европе на блюде выносили городские ключи победителю: не случайно Наполеон ждал — правда, напрасно, — что ему вынесут ключи от ворот Кремля именно на традиционном золотом блюде.
Как уже сказано, это выражение интернационально и, видимо, распространялось в разных языках параллельно с популярностью «угощательной» символики серебряного и золотого блюда. На русской почве этот оборот развивался в направлении словообразовательного обогащения: из первоначального поднести на блюде (отраженного и в приводимых выше иллюстрациях) более употребительным постепенно оказалось выраженйе поднести на блюдечке или — с модификацией — на тарелочке, которое обладало большей экспрессивностью. Уточнения — с голубой или золотой каемочкой —еще более усиливают эту экспрессивность. Такое развитие во многом обусловлено и собственно русской традицией: в наших народных сказках именно на золотом или серебряном блюде, блюдечке герою подносят серебро или золото, драгоценные камни, золотые яблочки или золотые яички и даже — целые города, поля, леса й моря. Ср. также сибирскую пословицу Счастье — не пирожок, на тарелочке не поднесут, которую старые люди употребляют как напутствие молодоженам, или поговорку в русских говорах Мордовии как яблочко на блюдечке кататься ‘жить легко и беззаботно’.
В истории оборота о блюдечке с голубой каемочкой, таким образом, интернациональный символ, восходящий к гостевому и военному этикету средневековой Европы, слился с исконно русскими фольклорными представлениями. Именно из них И. Ильф и Е. Петров создали яркий и запоминающийся, а потому и кажущийся новым, их собственным, оборот, характеризующий чьи-либо необоснованные чаяния или требования.
На каких бобах нас оставляют?
Да разве ты не знаешь, что такое
«оставить на бобах»? Ничего не дать Машеньке, — вот и вся недолга, Н. С. Лесков. Обойденные
Как видам, для героя Н. Лескова вопрос о смысле выражения оставить на бобах затруднения не составляет. Без всяких сомнений отвечают на него и историки и популяризаторы русского языка. Обычно его соотносите оборотами
бобы разводить и гадать на бобах, а тем самым — и с гаданием
«на бобах». Суть такого гадания -— в бросании бобов на особые таблички с надписями. Если боб падал на слово «счастье», значит
дела того, кому гадали, будут благополучны, если же падение приходилось на надпись «смерть» — надо было готовиться к самому плохому концу. Соотнося выражение оставить на бобах с явно «гадательными» оборотами бобы разводить и гадать на бобах, Э. А. Вартаньян, однако, оговаривает, что оно, «вероятно, связано уже с какой-то старинной азартной игрой, в которой бобы играли роль косточек» (Вартаньян 1960,31).
Характерно, что при таком толковании интерпретаторы исходят из обобщенного значения фразеологизма как характеристики «неудачника». Действительно, он и означает ‘оставлять или оставаться без чего-л., на что очень надеялся или рассчитывал’ и в этом отношении семантически смыкается с фразеологизмами оставлять {оставаться) с носом, оставаться при пиковом интересе, оставаться ни с чем. Эти синонимы чаще всего характеризуют не просто оставление кого-либо без чего-либо, а лишение кого-либо чего-
либо посредством обмана, надувательства, одурачивания.
В употреблении нашего оборота о бобах есть, действительно, и такой «обманный» оттенок:
«А вот Дубрава и Жаркий прошли... Остался я на бобах. Меня здесь на пристанях хозяйством ворочать назначили» (Н. Островский. Как закалялась сталь); «Попытаюсь оставить Карпена и Кибирева на бобах — переманить большую часть дружинников к нам» (К. Седых. Даурия); «Лесниковой дочке счастье в руки шло, а Катюшка, самая пышная из всех низинковских девок, осталась “на бобах”. Красноармеец пошел проводить Ксену» (А. Караваева. Лесозавод).
57 НА НАС оетАМЯЮТ?
Большинство употреблений, однако, имеют иной акцент, чем оборот оставить {остаться) с носом. Чаще всего наше выражение подчеркивает чисто материальные потери, понесенные кем-либо. Речь идет о лишении чего-то самого необходимого, жизненно важного:
«Спасибо за письмо и подарки. Но если ты будешь столько слать, то сама останешься на бобах» (В. Маяковский. Письмо Л. Ю. Брнк 17 октября 1921); «По его словам, в Москву он приехал из Ярославля с матерью; мать умерла, и он остался на бобах» (А. Чехов. Письмо Л. Н. Трефолеву 14 апреля 1888); «Теперь она на бобах и осталась... пришла и просит, чтоб ей дали место кастелянши» (А. Писемский. В водовороте); «Остальное было разобрано Агашковым, Кривополовым, Куном и прочей прожорливой и добычливой братией... Фле-гонт Флегонтович остался на бобах» (Д. Мамнн-Сибнряк. Золотая ночь).
Для понимания исходного смысла нашего выражения также очень важны его варианты, которые подчеркивают именно материальный, «продовольственный» план—сидеть на бобах, сесть на бобы, сесть на бобах:
«Все имевшееся у меня я ухлопал на семью и теперь сижу на бобах» (А. Чехов. Письмо Д. Т. Савельеву 4 сентября 1884); «Перед самою почти смертью подбилась к старухе, да уговорила ее, обойдя меня, отдать (все имущество) одной младшей, Машет, а мы и сидим теперь на бобах» (А. Писемский. Сергей Петрович Хозаров н Мари Сту* пицына); «С весны так строили дело, чтобы не сесть на бобы зимой. Потому и совещания свои называли “зимними”, — больше не думали о зиме» (Д. Фурманов. Мятеж).
Такие контексты, как видим, мало дают ассоциаций для стыковки нашего выражения с обычаями гаданий на бобах или с Какой-то малоизвестной даже интерпретатору старинной азартной игрой в бобы-косточки. Наоборот, они позволяют судить, скорее, о конкретно-вещественном, «продовольственном» содержании образа этого оборота. Не случайно поэтому и в классической литературе, и в современной публицистике этот конкретно-вещественный образ иногда нарочито налагается на переносное значение, оживляется писателями и журналистами. Так, в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» переносное сесть на бобах искусно скрещивается с конкретным сочетанием сидеть с бобами, что еще больше подчеркивает характеристику крайней бедности, «закодированную» в этом выражении: «“Ну, куда мы теперь потащимся... Денег у нас нет... вот и сели теперь на бобах, среди улицы... ” — “Приятнее сидеть с бобами, чем на бобах”, — пробормотал генерал».
5g НА КАКИХ БОБАХ НАС ОСТАМЯ ЮТ?
Аналогично использование этого выражения в колонке комментатора «Правды» (1986, 3 апр.). Журналист Владислав Дробков так и называет свою заметку — «На бобах...». В ней рассказывается об экономических распрях между США и их западноевропейскими партнерами из-за введения дополнительных ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции в США странами ЕЭС. Такие ограничения резко сократили вывоз соевых бобов, кукурузы, сорго и других продуктов в Испанию и Португалию и привлекли конкурентов США к экспорту таких продуктов. Критикуя грубые попытки США навязать свой диктат в сфере сельскохозяйственной торговли, корреспондент заключает:
«В Соединенных Штатах, похоже, готовы взять на себя роль не только “мирового жандарма”, но и вообще верховного судьи по любым вопросам, будь то соблюдение “прав человека”, обеспечение “свободы мореплавания” или торговля соевыми бобами.
Однако неумеренные претензии Вашингтона вступают во все более ощутимое противоречие даже с интересами его ближайших партнеров. И в такой ситуации Вашингтон может остаться, как говорится, “на бобах”».
Такие устойчивые привязки нашего выражения к бобам как продуктам питания во многом идут от народной традиции, где оно употребляется именно в ситуациях, характеризующих материальную нужду, бедность и голод. Характерны, например, фразы, записанные в псковских деревнях: «Паслали денек, штобы перекупить, да астались на бабах»; «А вот бабушка тяпёрь и сиди на бабАх» (ПОС 2,53). О «продуктовом» образе свидетельствует и новгородское выражение раскусить бобину ‘познать много горя, трудностей в жизни’.
Первоначально, следовательно, выражение остаться на бобах имело конкретное значение—‘у кого-либо не осталось никакой другой пищи, кроме бобов’. По такой же модели в русском языке, между прочим, образованы и фразеологизмы остаться на хлебе и воде, остаться на одном хлебе, остаться на пище святого Антония. Ср. также обороты типа остаться в одной рубашке или остаться без штанов. В народной речи можно отыскать и фразеологические диалектизмы, родственные «бобовым»: арх. остаться на бубях и жить на бубях; волог., морд., перм., пенз. остаться налылах — ‘остаться без самого необходимого, без того, на что рассчитывал’, ‘остаться ни с чем’. Архангельские обороты, видимо, являются фонетическими вариантами выражения остаться на бобах (ср. арх. буб ‘предмет шарообразной формы’; диал. буба ‘ягода, горошина’; брян. буба ‘боб или горох’, бубка ‘зародыш и плод злаковых,
££ НА КАКИХ БОБАХ НМ ОСТАВЛЯЮТ?_
бахчевых и некоторых других культур’). Диалектизм же остаться на лылах можно объяснить на основе диал. лылы'‘нижняя часть лица, скулы’, ‘губы’—т. е. остаться с одними (пустыми) скулами. Такой же шутливый образ, между прочим, скрыт и обороте положить зубы на полку, которому в этой книге посвящен специальный очерк. Ср. также пск., твер. жить на лулах ‘ничего не иметь’ и на лулах сидеть ‘сидеть на мели, быть в затруднительном положении’. Как видим, и в этих случаях ассоциации диалектных синонимов к выражению остаться на бобах очень далеки от гаданий и весьма близки к прозаической пищевой тематике. Правда, и лылы, и лулы в соответствующих говорах имеют кроме значения ‘скулы’, ‘губы’ также и значение ‘болтовня, вздор, выдумки’: эти значения перекрещиваются и порождают дополнительный шутливо-иронический эффект.
Аргументом в пользу предложенного объяснения является и то, что оборот остаться на бобах в разных вариантах употребляется и в близкородственных украинском и белорусском языках. Причем укр. залишитися на бобах и cudimu на бобах менее употребительны, чем в русском, а бел. аставацца на бабах, астацца/паастацца на бабах — диалектное (мстиславские говоры Могилевской обл.) и в толковых словарях не фиксируется. Характерно при этом, что в речевых употреблениях эти выражения также очень привязаны к кругу пищевых представлений: «Да не взявся сивенький голубок та й зоста-вив на бобах наших горобчиюв» (П. Мирний. — Удовиченко 1984 II, 5); «Ныляцел!, як выраньё, усё рысхватал!, рысхваталь а ты, родная дычка, асталыся ны бабах» (Юрчанка 1972,47). Упоминание о голубе в украинском и о воронье в белорусском контексте весьма симптоматично: это семантический рефлекс «пищевого», а не «гадательного» значения в соответствующих оборотах.
И это неудивительно, поскольку такое употребление вытекает из переносной символики бобов как чего-то очень распространенного, легкодоступного, малоценного, как самого простого и дешевого продукта (ср. дешевле грибов и проще или дешевле пареной репы). Такая символика отразилась как в славянской, так и в неславянской фразеологии: чеш. nemit ani bobu (букв, ‘не иметь ни боба’) ‘абсолютно ничего не иметь’; нем. nicht die Bohne (‘ни боба’) ‘абсолютно ничего’, keine Bohne wert (‘не стоит и боба’) ‘абсолютно ничего не стоит’; с.-х. пе vrijediti ni piSljiva boba (‘не стоить и мизерного боба’) ‘не стоить и гроша медного’; англ, not have a bean (‘не иметь и боба’) ‘сидеть без гроша в кармане’; фр. rendre feve pour pois (‘отдать боб за горошину’)
6Q НА КАКИХ БОБАХ НМ ОСТАВЛЯЮТ?
‘дать немного в надежде получить больше’; итал. non valere (поп stimare) una fava (‘не стоить и боба’) ‘ничего не стоить’, ‘не ставить ни в грош’ и т. п. Та же символика малоценности, собственно говоря, отразилась и в знаменитом гоголевском сравнении как бобов на тарелке ‘о большом количестве народу’: «А в приемной (генерала. — В. М.) уж народу — как бобов на тарелке» (Мертвые души).
Такая символика, как видим, интернациональна. Оборот же остаться на бобах — исконно русский, сохраняющий национальную специфику. Об этом свидетельствует и его употребление в наших народных сказках, например, в сказке о Василисе Поповне — дочери попа Василия, выдававшей себя перед царем Бархатом за поповского сына Василия Васильевича. Хитроумная поповна сумела обмануть царя даже в бане, успев искупаться там прежде, чем тот разделся в предбаннике:
«Царь не мог и в бане ее захватить. Василиса Васильевна, вышед из бани, писала меж тем к царю писульку и велела слугам отдать ему, когда он сам выйдет из бани. А в этой писульке было написано: “Ах ты ворона, ворона, царь Бархат! Не умела ты, ворона, сокола в саду соймать! А я ведь не Василий Васильевич, а Василиса Васильевна”. Вот наш царь Бархат и остался на бобах: вишь, какая Василиса-то Васильевна была мудрая, да лепообразная!» (Афанасьев III, 35).
Показательно, что в одном из вариантов сказки последняя фраза звучит несколько иначе: «Вот наш царь Бархат и остался на бобах— на голубых щеках». Собиратель нашего фольклора А. Н. Афанасьев посчитал эту прибавку на голубых щеках, видимо, и липшей, и не совсем понятной читателю и потому при издании сказки снял ее. Но для нас эта прибавка (понятная уже из сопоставления с диалектным остаться на лылах ‘на скулах’) более чем ценна. Ведь голубые, т. е. истощенные, побледневшие до голубизны от голода щеки— еще одно народное свидетельство о «продуктовом», а не «гадательном» или «игровом», происхождении нашего оборота остаться на бобах. Бобы здесь — символ полуголодного существования, крайней бесхлебицы.
За что убили бобра?
Не вскроешь ты на козырь мысли, Проверка убить бобра пред-Как ни тасуй себе слова. 1 1 ставляет весьма редкий слу-Не такова твоя природа, чай «единства противоположно-Игрой ты не убьешь бобра. стей» в русской фразеологии.
П. А. Вяземский. Выдержка QHa имеет два значения, И ОНИ прямо противостоят друг другу. Первое, более распространенное, — ‘обмануться в расчетах, получив худшее вместо лучшего’. Второе — ‘приобрести что-либо ценное’ или ‘добиться чего-либо значительного’. И в том и в другом значении поговорка употреблялась в русской литературе, и оба они отражены словарями:
1. «— Эх, Потап Максимыч, Потап Максимыч, убил же ты бобра, любезный друг! На поверку-то парень дрянь выходит, как кажется» (П. И. Мельников-Печерский. В лесах). 2. «В министры попал почем? Понравился графу, что метко стреляет, бьет без промаху — ну и убил бобра. Бесконтрольно, можно сказать, всем царством владеет» (С. Н. Сергеев-Ценский. Сад); «А Лариса взяла под руку незнакомого человека, некрасивого. “Уж не за этого ли собирается, — подумал Геннадий, — убила бобра”» (В. Ф. Панова. Времена года).
Как видно из художественных текстов, оборот убить бобра в первом значении подчеркнуто-ироничен. Эта ирония, как предполагали В. И. Даль и известные историки русской фразеологии М. И. Михельсон и С. В. Максимов, во многом связана с анекдотом о калязинцах, которые якобы убили (по другим вариантам—купили) вместо бобра свинью. Некоторые языковеды, впрочем, сомневаются в связи этого выражения с некогда популярным анекдотом. «Не ясно, при чем тут свинья?—: пишет В. И. Чернышев.—Если это дикая свинья (кабан), то какая тут неудача! Я слыхал выражение убил бобра как ироническое, о незавидном приобретении, например, о женитьбе на заурядной девушке, принятой за необыкновенную» (Чернышев 19701,434).
Сомнения В. И. Чернышева оправданны тем более, что выражение убить бобра постоянно употребляется в составе древних русских пословиц, не имеющих никакого отношения ни к жителям города Калязина, ни к свинье, которую они якобы убили или купили. Эти пословицы столь же противопоставлены друг другу по смыслу, как и значения нашей поговорки: Не убить бобра—не видать добра и Убить бобра — не видать добра.
62 ЗА ЧТО УБИЛИ БОБЫ?
Первая из них кажется, на первый взгляд, гораздо более логичной и внутренне оправданной, чем вторая. Действительно, в бобровом промысле, который некогда был широко распространен на Руси, «не убить бобра», скорее, могло означать охотничью неудачу, так сказать, невыполнение плана. Причем, как известно, убить бобра — дело нелегкое, поскольку это животное весьма умное и осторожное: не случайно американские трапперы у Фенимора Купера охотились на бобров с помощью специально приготовленных для этой цели капканов.
Видимо, поэтому В. И. Даль, а следом за ним и такой глубокий знаток языка, как А. А. Потебня, считали исходным вариантом поговорки у бить бобра именно «насквозь отрицательную» пословицу Не убить бобра—не видать добра. А. А. Потебня так описывает историю выражения: «Мы говорим: “Вот убил бобра”. Эта поговорка и употребляется в ироническом смысле; она возникла из пословицы. Известно, что еще в XVII веке во всей России и Украине водились бобры и ловля их служила важным источником дохода; отсюда пословица “Не убить бобра, не видать добра”, т. е. его шкуры» (Потебня 1976,527). Толкование А. А. Потебни попытался подтвердить В. Т. Шкляров, в работе которого приведены ценные варианты пословицы из древних паремиологических сборников.
Несмотря на кажущуюся убедительность такого толкования, именно языковые особенности этой поговорки и соответствующих вариантов пословицы оставляют все же место для сомнений в ее достоверности. Прежде всего, непонятно, почему исконно отрицательная (по мнению А. А. Потебни) первая часть Не убить бобра... утратила отрицательную частицу. В. И. Даль в своем словаре объясняет эту утрату просто — пословица «переиначена», т. е. искажена. Однако странно, что искажению подверглась форма, от которой полностью зависит смысл всей пословицы. Во-вторых, при таком толковании остается неясным иронический характер поговорки: ъе&ъубить бобра тогда означает охотничье везенье, приобретение чего-либо ценного—именно такой смысл сохраняет второе, неироническое значение оборота.
Наконец, существенны все другие варианты пословицы, которые издревле фиксируются русскими собраниями народной мудрости. И характерно, что почти все они в первой части пословицы не содержат отрицания: Убить бобра — немного добра; Убить бобра — не видать добра; Ударить в бобра, не видать добра; Убил бобра, а не нашел добра. Справедливости ради необходимо назвать и те
63 ЗА ЧП) УБИЛИ БОБРА?
древнерусские пословицы, которые убийство бобра оценивают, в отличие от названных выше, положительно: 3 дуракомъ не убить бобра; Как будешь добръ, так будешь и бобръ; Хто добръ, тому и бобръ, а хто не добръ, тому и выдры не будет. Вместе с тем легко увидеть, что все они имеют иную структуру и смысл, чем варианты пословицы Убить бобра — не видать добра.
Для предположения об исконности именно этого варианта пословицы небезынтересна и фиксация оборота убить бобра в древнерусской тайнописи. Он употреблен в одной зашифрованной записке (по-видимому, зловредной анонимке) к некоему Ивану Федоровичу (XVII или XVIII в.): «Иван Федорович ты не омани жена твоя не обьманъ впред от тобя чает домав и хочеть мима тобя убить бобра...» (подробнее см.: Панкратова 1974, 128—129). Здесь, несмотря на фрагментарность контекста, ясно, что оборот убить бобра употреблен иносказательно, хотя и в другом значении, чем он используется сейчас, — видимо, ‘завлечь любовника’. Возможно, это своего рода каламбур-издевка, основанный на двуплановом понимании известной уже в то время поговорки.
Понятно, что поговорка об «убиенном бобре» не возникла на пустом месте. Уже само ее варьирование в разных славянских языках свидетельствует о том, что в ее основе лежит более общая фразеологическая модель «убить (поймать и под.) + животное = совершить неудачное действие», известная примерно в той же языковой зоне, что и поговорка о бобре. Таковы, иапример, шутливо-иронические выражения: рус. (енисейск.) глухаря добыть ‘упасть с коня’; укр. диал. лиса зловити, лисицю тймати ‘опалить полу одежды3; укр. вовка вбити ‘упасть на землю, споткнуться’; кулика вбиты ‘споткнуться’, шпака вбити ‘неудачно прицелиться’; бел. nica (тсу, л1сщу) злав1у (спаймау) ‘опалил полу одежды’; пол. йараё zajqca ‘упасть’, ziowic wydrQ ‘упасть в воду’, niedzwiedzia zabic ‘упасть на льду’; словацк. raka zdrapil ‘сам себе сделал плохо’, chytil косйга ‘сделал что-л. неудачно’; чеш. chytil vydru ‘упал в вод/, chytil zajice ‘упал’ и т. п.
Нетрудно, однако, увидеть, что, несмотря на общий иронический тонус и значение неудачности совершенного кем-либо, эти поговорки весьма сильно отличаются от семантического рисунка выражения убить бобра. И отличие это обусловлено тем, что, возникнув как один из вариантов этой славянской фразеологической модели, поговорка о бобре прошла образную «обкатку» в составе пословицы Убить бобра — не видать добра.
цчтоуьнлиюБмг
Особое значение для аргументации такой линии семантического развития нашей поговорки имеет факт, что именно эта ее форма представлена и в других славянских языках. Так, в польском она звучит как Jak zabijesz bobra, nie b^dziesz mial dobra (букв. ‘Если убьешь бобра, у тебя не будет добра’). Примерно тот же предостерегающий смысл таит в себе и белорусская пословица Бабер да-бёр, только каб сваей скуры (шкуры. — В. М.) за яго ни атдау.
Выходит, и русскую пословицу Убить бобра — не видать доб-ра можно понимать как некое предостережение типа нравоучительного Пить до дна — не видать добра!
Действительно, такое предостережение было в старину по-своему оправданным. У восточных и западных славян существовало поверье, что убить бобра—это дурное предзнаменование. В белорусском Полесье, например, никто из семьи человека, убившего бобра, не имел права строить дом поблизости места, где это произошло. Не случайно и сравнение «плачет как бобр», известное белорусам, полякам и словакам, связывается именно с представлением об обиде, которую люди творят бобрам.
Характерно, что устный запрет, выраженный в пословице Убить бобра—не видать добра, был своего рода «законом об охране природы». Не случайно, быть может, при интенсивном истреблении бобров с XVII по XIX в. в России и на Украине они лучше всего сохранились именно в белорусских и пинских болотах—там, где продолжало жить пословичное табу на убийство бобров.
В дальнейшем, когда это табу было снято, а исходный пословичный прототип поговорки забылся, она стала употребляться в ином, искаженном значении—‘приобрести что-либо ценное, значительное’. Так создалась антонимия в пределах одного выражения.
На боковую: на какую
Старик допивает последнюю чашку и начинает чувствовать, что глаза у него тяжелеют. Пора и на боковую.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина
Прилагательное боковая в этом выражении давно уже стало существительным, т. е. субстантивировалось — вроде слов столовая, пельменная, парикмахерская. Не случайно уже В. И. Даль в сво
ем словаре особо выделял это слово, отмечая, что оно «более употребляется с предлогом на». Тем самым подчеркивалась его тесная привязка к этому предлогу, связанная со смысловой специализацией. В. И. Даль приводит и «типовые» констексты оборота: Пообедав, да на боковую. На боковой-то тебе ладно. Характерно, что и в диалектных записях нашего времени сохраняются две основные ситуативные линии употребления фразеологизма на боковую: либо просто подчеркивается, что уже время, пора ложиться спать, либо—что спать пора после очень сытной пищи, которая «смаривает»: «Завалиться что ль на боковую? Мертвая жара и спать хо-чецца; Уелись, а теперь на боковую» (пск. — ПОС 2, 81); «Вечером грыбов с квасом науркаются (т. е. наедятся досыта.—В. М.) да и на боковую» (влад. — СРНГ 20,249).
Именно в таких ситуациях употребляется наше выражение и в литературном языке, сохраняя тенденцию народно-речевого употребления:
«Эхма! Уж укачало тебя! На боковую просишься!» (М. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы);«— Однако того...—сказал купец, выгибая спину и заводя руки за затылок.—Не пора лн на боковую» (Н. Успенский. Старуха); «Дядя зевнул и вынул часы. — Ого! уж скоро одиннадцать!.. Пора и на боковую» (В. Вересаев. Без дороги); «Ну-с, — вздохнул он, — поели, наливки попили, а теперь на боковую» (А. Чехов. Жена); «Володька допил остатки вина, закусил капустой и отправился в палатку на боковую» (С. Крутилин. Липяги); «Давайте-ка на боковую. Утром разберемся, что к чему присоединяется» (Г. Троепольский. В камышах).
Для подавляющего большинства субстантивированных существительных легко реконструировать то существительное, которое они прежде определяли, будучи еще прилагательными. Так, горничная происходит из сочетания горничная девушка ‘девушка, убирающая горницу’, столовая—столовая комната, кладовая — кладовая комната, парикмахерская—парикмахерская мастерская, первоначаль
66 ** ьо*овую: иа какую?
но ‘место, где производят парики’ (ср. нем. machen ‘делать’). Даже там, где прямая реконструкция невозможна, мы довольно легко «додумываем» такое существительное. Ясно, что такие слова, как пельменная, блинная, чебуречная и т. п., например, образованы по модели столовая и потому к ним без натяжек подставляется слово комната (прежде—изба). Пожалуй, в таких случаях мы даже сталкиваемся с двойной субстантивацией: пельменная—это «пельменная столовая», т. е. столовая, специализирующая на изготовлении пельменей, и т. п.
Можем ли мы произвести такую же реконструкцию и для субстантивированного существительного боковая в нашем обороте?
Л. И. Ройзензон, дважды пытавшийся объяснить субстантивацию этого прилагательного, приходит к выводу, что установить ее истоки трудно, поскольку неизвестно, с каким существительным оно первоначально сочеталось. «Возможно, существительного вообще не бы-ло, — пишет он, — и мы здесь... имели дело с мнимой субстантивацией, когда прилагательное субстантивируется не в составе двучлена “прилагательное + существительное”, а образовалось по существующей модели “на + прилагательное”» (Ройзензон 1962, 24-25; 1977, 27).
Трудности реконструкции исходного сочетания такого оборота налицо: перед нами — одна из фразеологических загадок типа бежать напропалую, идти на попятную, пойти на мировую и т. д., где уже трудно установить, что определяло соответствующее прилагательное. Опыт исторического анализа фразеологии, однако, показывает, что все они имеют достаточно реальный прототип или — во всяком случае—конкретную синтаксическую и смысловую модель в народной речи, откуда они в большинстве своем и попали в литературный язык. Речевая стихия вообще—питательная среда таких эллиптических конструкций, ибо одна из характерных черт речи—экономия средств выражения, а следовательно, «выпадение в осадок» всего того, что понятно из ситуации или из опыта говорящих.
Одним из свидетельств того, что оборот на боковую образовался из какого-либо сочетания с существительным, является записанный в народной речи вариант на боковину, где нашему прилагательному соответствует суффиксальное существительное: «Побузгаешь (т. е. попьешь.—В. М. )квасницу, да на боковину» (новосиб.—СРГНоб., 34). Как правило, наличие пары субстантивированное существительное—суффиксальное образование сигнализирует именно о «сочетаемостном» прототипе, ср.: кладовая комната — кладовая, кладовка;
НА БОКОВУЮ; НА КАКУЮ?
столовая комната — столовая, прост, столовка. Смысл поисков такого прототипа для нашего выражения, следовательно, есть.
Быть может, другие языки могут подсказать путь этих поисков?
Увы—тут такая «палочка-выручалочка» историка фразеологии не срабатывает. Выражение на боковую известно лишь украинскому и белорусскому языкам: укр. imu (nimu) на бокову и гти (nimu) на боковенъку, бел. (пайщ) на баковую. Характерно при этом, что в украинском языке оборот не очень распространен: он зафиксирован в русско-украинском фразеологическом словаре (ОС, 364), мало представлен в украинской художественной литературе и неизвестен таким словарям народной речи, как словарь Б. Д. Гринченко или монументальное собрание западноукраинских пословиц и поговорок И. Франко. Все это может характеризовать украинское на бокову как русизм.
Белорусский же оборот имеет явно народные истоки. Он записан как известным собирателем пословиц И. И. Носовичем, так и современными диалектологами, а также широко употребляется в художественной литературе. Показательно, что в его употреблении с XIX в. доминируютте же две ситуативно-семантические линии, что и в употреблении русского на боковую (ГЛЯ, 181):
«Подъевши, да й на боковую» (Носович, 1874,29); «Пыра, знаць, ны быка-вую, ui ня первый час» (Юрчанка 1974,104); «Cni... Паеу i—на бакавую. Так i ад ванны адвыкнеш» (В. Быкау. Трэцяя ракета); «Панду восъ зараз на бакавую. Што рабщь у святую нядзелю?» (Я. Брыль, ёй мы не скажем).
В белорусском языке уточняемое бывшим прилагательным боковая слово также безвозвратно утеряно. Остается лишь более внимательно приглядеться к нашим народным говорам, где слово бок развивает необычайную активность.
Многочисленные диалектные словари дают богатый материал по сочетаемости прилагательного боковой с разными существительными. В них зафиксировано немало терминологических сочетаний типа пск. и арх. боковой растбн, боковой ризец, боковая рбпуша, арх. боковые кнеки, брян. боковые лутки, боковые палки (билы в санях) и т. п. Они понятны лишь специалистам и требуют профессионального истолкования. Многие сочетания с прилагательным боковой понятны и без особых комментариев: пск. боковое окно, боковые вёсла, брян. боковые дощечки в бочке, арх. боковой (боковиннъщ) двор. Любопытно, что народная речь с помощью этого слова «перетолковывает» и современные термины. В говоре деревни Акчим Пермской области, например, оно использовано для передачи фут-
68 БОИО>УЮ: M
больного термина бить угловой: «Потом она (команда противника) начала бить нам боковой».
Находим мы в народных говорах и скованные субстантивацией формы этого прилагательного. В архангельских говорах, например, слово боковая значит ‘небольшое рубленое помещение в боковой части дома или рубленая пристройка, используемая для жилья зимой’, ‘горенка, часть избы, находящаяся по левую сторону связи’, а в смоленских—‘пристроенная к одной стороне (боку) дома летняя комната’, ‘душник в печи’ и ‘боковая дверца в душнике’. Нельзя не упомянуть, что архангельцы употребляют и краткую форму этого слова — бокова, что не отражается на его смысле.
Как и для нашего фразеологического оборота на боковую — на боковину (новосиб.), и для слова боковая ‘горенка в боковой части дома’ и т. п. характерна перекличка с существительными суффиксального типа. Здесь их число несравненно больше: арх. боковуша ‘небольшое рубленое помещение в боковой части дома или рубленая пристройка, используемая для жилья зимой’, арх., олон., ниж., симб., ирк., боковушка ‘небольшая боковая комната деревенского дома’, вят., костром., твер., тул., том. боковушка ‘боковая пристройка к избе, сараю, амбару ит. п.’, ворон, бокбвка ‘чуланчик, пристроенный к боковой стороне избы для складывания скарба или продуктов’, арх. боковик ‘сарайчик, пристроенный к боковой стене у дома для помещения «избытка» домашнего скота’ или ‘кухня или жилая пристройка за наружной стеной дома’. Здесь боковая легко допускает подстановку существительного комната, горница.
Быть может, именно на такую боковую комнату и намекали те, кто впервые употребил наше выражение? Тем более что некоторые из значений названных слов прямо указывают на связь со спальней, теплым местом для лежания: яросл. боковушка—это не просто боковая часть комнаты, но часть,«сптороженнаяперегородкойкак спальня» (ЯОС 2,9), а прибайк. боковушка —‘небольшая комнатка за печкой’ (СРГТТ I, 31). Ср. морд, боковушка ‘занавеска на спинке кровати’, верхнедои. бокова ‘подушка’, ‘перина’, вят. боковинка ‘перильца по бокам детской кровати’.
Реконструкция для таких слов прототипа боковая комната, действительно, сомнений не вызывает. Однако признать это сочетание основой нашего оборота нельзя из-за «сопротивления» предлога на. Ведь если бы речь действительно шла о комнате, то отправляться было бы надо не на боковую, а в боковую.
69 НА КАКУЮ?
Поиски сочетания-прототипа, отвечающие и такому условию, приводят к нескольким словам, обозначающим именно место для лежания. В пермских и новосибирских говорах записан омоним уже известной нам севернорусской боковушки. Но слово это означает здесь уже не комнату, а — лежанку на печи: «Мужик мой лежит на боковушке весь день» (СРГНоб, 34). Не правда ли, сочетание лежит на боковушке, употребляемое под Новосибирском, можно понять и как синоним нашему отправился на боковую!
В русской «печной» терминологии вообще корень бок- весьма активен; ср. урал. боковик ‘боковая сторона русской печи’, челяб. боковушка ‘чугунная печь на четырех ножках, устанавливаемая сбоку пекарной печи для обогревания комнаты зимой’, перм. боковина ‘задняя часть печки’, смол, бокдвка ‘боковая задвижка в печи’, брян. бокдвка ‘отдушина в русской печи, где кладут вьюшки, закрывающие дымоход’, арх. боковуха ‘дверца, прикрывающая боковую трубу’, ср.-урал. боковушка ‘то же’ и т. п. Характерно, что среди этих терминов находим и наше субстантивированное прилагательное: твер. боковая ‘заслонка, задвижка у дымовой печной трубы, расположенная сбоку’, прибайк. бокова ‘задвижка у печи’.
Одна возможность расшифровки оборота на боковую, следовательно, — ‘отправиться на боковую сторону печи, на лежанку’. Не случайно в определений В. И. Даля к слову боковой употреблено и слово лежанка. «Боковая... отдых, лежанка, спанье, сон» (ДК1,268). Правда, лежанка здесь употреблено в значении ‘лежание, лежка’, но языковой опыт великого «собирателя слов» не случайно подсказал ему именно такое слово, которое ассоциировалось с самым излюбленным местом для отдыха у русских—печью. А точнее—не печью вообще, а ее боковой частью. Такая лежанка стала устойчивым символом уютного и праздного ничегонеделанья. «Валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни», — пишет А. С. Пушкин П. А. Вяземскому 25 января 1825 г. Ясно, что поэт имел в виду не то, что он валяется на русской печи (которых в барских домах не было), а то, что он проводит время праздно (ср. лежать на печи и лежать на боку). Не случайно здесь и упоминание о народных сказках и песнях: в них печь и лежанка встречаются весьма часто. Характерно, что «лежачья» символика лежанки в народных сказках перекликается с одной из семантических линий выражения на боковую—‘уснуть после сытной еды’: «Поужинал да на лежаночку забираетце старичёк» (Б. и Ю. Соколовы. Сказки).
Вторым таким местом в крестьянской избе были лавки. Если на печь обычно клали стариков и детей, то на лавках располагались
70 ЬОМ0ВУ10: ** тело?
остальные члены семьи — вспомним русскую поговорку семеро по лавкам, характеризующую многодетную семью. И неудивительно, что и для лавки в народной речи нашлось слово вроде новосибирской боковушки-лежанки. Псковская боковуха, например, — это именно ‘лавка, стоящая вдоль боковых стен избы, дома’ (ПОС 2, 81). Слово это имеет и искомый нами «сочетательный» прототип— боковая лавка: «Зауся да присять на ету л а^ку, збоку, бакавая лау-ка» (Невельский район, дер. Мелюхи—ПОС 2,81). Такое сочета* ние актуально не только для нашей народной речи, оно встречается и в литературном языке: «Насилу-то устроился!—торжество* вал плотный господин в лисьей шубе, очистивший при содействии носильщика боковую лавочку» (Аникин. Накануне.—Сл. Грота— Шахматова V, 34).
Неудивительно, что именно боковая лавка плавка вообще была выбрана народной речью в качестве символа «лежебочья». Издревле лавка и сон были словами-сопроводителями в самых разных речевых и литературных контекстах. Вот контексты из XV и XVII вв. (СРЯ XI — XVII вв. VIII, 157-158): «Вдень воскресный пришелъ въ церковь велми пьянъ и заутреню началъ, а самъ въ олтарь на лавицЪ и уснулъ» (1453 г.); «Шолъ яз государь с монастыря в воскресенье поутру рано и пришол на бор на лавочку и повалилсе спать, на лавочки и уснул» (1649 г.). А вот аналогичные примеры из литературы прошлого века: «Присядь на лавочку, а подремать захочешь, привалишься на изголовье» (А. Островский. Комик XVII столетия); «Со слезами она и заснула, прикурнув на деревянной лавочке» (Д. Мамин-Сибиряк. Не мама). Да и в нашей речи лавочка и сон продолжают оставаться неразрывными, хотя представление о лавочках изменилось: из необходимого атрибута крестьянского дома они превратились в скамьи для отдыха в парках и дворах. И спать на такой лавочке стало намного зазорнее, чем на лавицах и лавках XV — XIX вв.
Итак, прототип выражения на боковую как будто бы найден. Оно образовалось, следовательно, на базе словосочетаний боковая сторона русской печи (лежанка) и боковая лавка. Отпадение соответствующих существительных превратило прилагательное боковая в своеобразную семантическую окаменелость, самостоятельное значение которой не совсем ясно.
Так—да не совсем так.
История этого оборота была бы и неполной, и необъективной, если бы мы не учли явно шутливой стилистической его окраски. Конечно, отправиться на боковую первоначально значило укладываться на
71 м БОИОВУЮ: НА КАКую?
боковую лавку или лежанку. Однако одновременно оно «намекало» и на другую «боковую» сторону — бок самого человека, человека-лежебоки. В этом отношении отправляться на боковую — прямой родственник другого популярного русского оборота—лежать на боку ‘бездельничать, долго валяться в постели’. Не случайно у обоих оборотов и общий корень, и общий предлог. Общая у них и стилистическая тональность—шутливо-ироническая. Она особенно хорошо ощущается в многочисленных пословицах и поговорках об отлеживании боков: Лежи на боку, да гляди на Оку (на реку)\ Боже, поможи, а ты на боку не лежи (южнорус.); Кто много лежит, у того и бок болит и т. п. Не случайно из народного обихода выражение лежать на боку рано попадает в такой литературный жанр, как басня. В «Нравоучительных баснях и притчах» В. А. Левшина, изданных в 1787 г., например, есть такие строки:
Надежда склонна к нам, однак велит трудиться, И лежа на боку вряд счастье ль к нам придет.
Не правда ли, это «лежа на боку... счастье... к нам придет» напоминает знаменитую фразу из фонвизинского «Недоросля», произнесенную Простаковой: «Как кому счастье на роду написано, братец! Из нашей фамилии Простаковых, смотри-тка, на боку лежа, летят себе в чины».
Лежать на боку, как видим, из шутки перерастает в иронию, даже сарказм, обличение праздных лежебок. Этим сарказмом, конечно, лежать на боку отличается от шутливого отправляться на боковую.
Однако народное на бок в шутливой поговорке Оттого казак и гладок, что поел, да—ина бок стирает и это стилистическое различие.
Словом, на боковую образовано по всем правилам каламбура: здесь в одном выражении скрещиваются сразу два плана—представление о лежании на боковой лавке или боковой части печи и — о человеческом боке. И то и другое—важно, ибо утрата одного плана уничтожает каламбур. Нужно сказать, что прилагательному боковой везет на каламбурносгь, ибо народная речь не устает обыгрывать этот двойной план. Вот, например, старая шутка жителей Ярославской области боковое правилъё ‘шутливо-игровые удары по бокам’: «Сходи за боковым правильем, — говорили ребятам их товарищи. Те шли, и их—в шутку—колотили в бока» (ЯОС 2,9).
Осталось, наконец, добавить, что фразеологическая шутка о боковой лавке закрепилась и распространилась в народной речи еще и потому, что сам синтаксический путь образования таких оборотов был для нее весьма привычен. В говорах можно встретить сочетания
72 м t0K0tY>0! м
типа Иди-ка на кочевую Чщи спать, ночевать’ (Даль II, 557), на мировую ‘разрешение спора мирным путем’, тамб. на воевую ‘разрешение спора битвой’ (СНРГ4,354) и т. п. Их немало и в живой речи, и в народных песнях, и в былинах, и в пословицах и поговорках. Конечно же, далеко не всем из иих удалось пробиться «на воевую» или «на мировую» в литературный язык и закрепиться в нем. На попятную, напропалую, наудалую, вкруговую, врассыпную... Выражение ид боковую оказалось в их числе. Оказалось, пожалуй, благодаря шутливой лукавинке, рожденной скрещением двух близких народной жизни ассоциаций.
В бровь или в глаз?
Комедия не мудрая, Однако и не глупая, Хожалому, квартальному Не в бровь, а прямо в глаз!
Н. А. Некрасов. Кону на Руси жить хорошо
Выражение не в бровь, а в глаз характеризует какое-либо меткое, удачное высказывание, реплику, фразу. Сейчас оно употребляется поэтому с глаголами речи—сказать, заметить, съязвить и т. п. Причем такие глаголы нередко,
подразумеваясь, опускаются: «Ребята возбужденно переговарива-
лись, перебивая друг друга, то и дело слышалось: верно сказал Мишутин, не в бровь, а в глаз» (Н. Сизов. Наследники); «Недавно
вот перечитал его статьи о кооперации и понял, что Ленин всю жизнь спорил с тобой и со мной... Ведь тут почти каждое слово звучит укором... Вот послушай... Не в бровь, а в глаз тебе, Иван!» (Е. Мальцев. Войди в каждый дом).
Более привычным, традиционным, однако, является употребление этого фразеологизма с глаголами конкретно-физического действия— бить, попадать, колоть, тыкать:
«Белинский сам про себя говорил, что он шутить не мастер, ирония его... тотчас становилась сарказмом, била не в бровь, а в глаз» (И. Тургенев. Литературные воспоминания); «Прозорлив еси, великий государь; попал, ваше величество, не в бровь, а самою точию в глаз. Все тебе ведомо, сквозь землю на три локтя зришь!» (Г. Данилевский. На Индию);«— Замечай за Верой,—шепнула бабушка Райскому.—Как она слушает. История попадает—не в бровь, а прямо в глаз. Смотри, морщится, поджимает губы!» (И. Гончаров. Обрыв); «Очень даже своевременно написана статья товарища Сталина! Макару, например, она не в бровь, а в глаз колет! Закружилась Макарова голова от успехов...» (М. Шолохов. Поднятая целина); «Так сказать, не в бровь, а в глаз их тычет смело» (Я. Полонский. Неуч).
Глаголы речи в нашем обороте появляются лишь в литературе XX в. Классики XIX в. в основном употребляют «ударные» глаголы. В XVIII в. не в бровь, а в глаз могло еще более конкретизироваться по линии «ударности»: «Не в бровь, а в самый глаз я страсти уязвлю» (Г. Державин. Пролог на открытие в Тамбове театра и народного училища). Причем, как мы видим, мишень попадания для этого выражения была гораздо более разнообразна: если сейчас это в основном люди, поражаемые метким, острым, язвительным словом, то у Г. Державина такие слова разят и абстрактную цель —
74 в Бро>ь или в ГВАЗ?
губительные страсти. Основная соль выражения, однако, и здесь остается прежней.
Наблюдения над сочетаемостью оборота и динамикой этой сочетаемости дают довольно простую отгадку его образа. Понятно, что речь здесь идет об исключительно точном попадании в один из самых важных органов, которые нужно хранить «как зеницу ока», — в глаз. Причем имеется в виду, пожалуй, попадание без промаха метательным снарядом допороховой эпохи—стрелой.
Этнограф и историк русской фразеологии С. В. Максимов нашел в свое время конкретно-историческое подтверждение такой расшифровки. Он объясняет оборот не в бровь, а прямо в глаз легендой терских казаков, повествующей о том, каким путем казачество получило такую свою привилегию, как «второй паек». Легенда эта, опубликованная в XIX в. в «Терских ведомостях», заслуживает того, чтобы и мы ее здесь привели полностью:
«В стародавнюю пору у Грозного царя Ивана Васильевича была война с татарами. Долго воевали они, но война ничем не кончилась. Вот татарва и говорит Грозному царю:
— Не будем больше воевать, а вот мы вышлем бойца, а вы, русские, своего высылайте. Если наш богатырь побьет вашего, то все наши рабы, а коли ваш победит, то мы будем вечными рабами русских.
Подумал Грозный царь и согласился. Выходит с татарской стороны великан саженного роста и хвалится перед русскими.
— Кто, мол, такой явится, что со мной вступит в бой великий: убью его, как собаку поганую.
Глубоко вознегодовал Грозный царь за такую похвальбу нескромную и решил примерно наказать злого татарина. Сделал он клич по всей рати... Долго не находилось охотника. Грозный царь начал уже сердиться. Но вот нашелся один — так, небольшой каза-чишко. Идет к государю, в ноги кланяется и говорит:
— Царь-батюшка, не прикажи казнить, дозволь, государь, слово вымолвить.
Приказал Грозный царь встать, приказал слово сказать.
— Я даю свое слово, — говорит казачишко, — великий царь, что убью этого поганого татарина каленой стрелой, прямо в правый глаз; если ж этого не сделаю, то волен ты, государь, в моей жизни...
Вышел он на поле ратное, навел тетиву на тугом луке и угодил стрелой татарину, чуть повыше глаза правого, прямо в бровь. Повалился злой татарин, а казачишко бросил лук и стрелы и пустился в бег... Царь послал гонцов за ним... Привели его к государю.
— Ты что же бежишь, ведь ты же убил врага лютого, — говорит Грозный царь.
— Да, царь-батюшка, врага-то я убил, да слова своего не выполнил: попал не в глаз, а в бровь, и стыдно мне стало явиться перед твои очи государевы.
у 5 I БГОБЫШИ I ГЛАЗ?
— Я прощаю тебя, — говорит Грозный царь, — и хочу наградить за такую услугу немалую.
— Спасибо, государь, что ты хочешь дать радость твоему рабу недостойному. Вот моя просьба к тебе. Я не буду просить многого, а коль возможно, то пусть жене моей, когда я на службе, идет второй паек, а коли будет твоя милость, то и всем женам казачьим.
Возговорил тогда царь-батюшка, повелел дать второй паек всем женам казачьим да прибавил:
— Пусть будет этот паек на веки вечные неизменным, поколь будет стоять земля русская.
С тех пор и получают казаки второй паек» (Максимов 1955, 369-370).
Выражение не в бровь, а в глаз, действительно,—языковой стержень всей этой легенды. Ведь без попадания в бровь, а не в глаз каза-чишко не пустился бы «в бег» от заслуженной награды и тогда, быть может, не было бы и «исторических» переговоров Ивана Грозного с этим скромным героем, добывшим одним выстрелом второй паек сразу для всех казачьих жен.
Можно ли, однако, вслед за С. В. Максимовым, считать легенду источником нашей поговорки?
Пожалуй, нельзя.
Само внимательное прочтение легенды подсказывает, что это выражение здесь употреблено как готовая, привычная для говорящих, узнаваемая ими языковая единица. По сути дела, здесь — типичное индивидуально-авторское преобразование уже сложившегося к тому времени устойчивого словосочетания, своеобразная фразеологическая шутка, основанная на обыгрывании прямого значения оборота. Вероятно, эта легенда столь же шутливо и воспринималась слушателями, знавшими, что второй паек казацкие жены получают от царя отнюдь не за единовременный подвиг невзрачного на вид и безымянного казачишки, а за длительную, опасную и многотрудную царскую службу вместе со своими мужьями на границах Российской державы.
Легенда, следовательно,—вторична, а поговорка не в бровь, а в глаз—первична. Это подтверждают и старинные рукописные сборники пословиц и поговорок XVII—XVIII вв., где наш оборот встречается уже в самых разных вариантах: Чуть не в глаз, а в самую бровь (XVIII в. — Романов 1912 2,235), не в бровь, а прямо в глаз (XVII в. — ППЗ, 128) и т. п. О древности поговорки свидетельствуют также диалектные ее варианты типа донского встромитъ-ся в глаз ‘попасть не в бровь, а в глаз’, употребленный, между прочим, и М. Шолоховым: «А почему ты, Давыдов, говоришь, что
76 1 ьговь или 1ГЯАЗТ
статья мне в глаз встромилась?» (Поднятая целина). Как легко догадаться, речь идет о той же статье Сталина, бичующей Макаров, у которых «закружилась голова от успехов».
Подтверждением большей «дальнобойности» нашего оборота при его возникновении являются и его соответствия в украинском и белорусском языках: укр. в око exinue, усалисенъко око; бел. не у бров, а у глаз, не у брывб, а у вока. Ср. и такие выражения, как сказать прямо в глаза кому-л. что-л., выпалить в глаза кому-л. что-л. и т. п., которые известны почти всем славянским языкам. Характерно и лит. pataiki kaip pirStu j aki (букв, ‘попал как пальцем в глаз’) ‘о метко сказанных словах, фразах’.
Можно ли, учитывая все это, представить, чтобы на всю столь широкую территорию выражение не в бровь, а в глаз распространилось из места пограничной службы терских казаков, к которым некогда заехал, по легенде, сам Грозный царь? Скорее всего, это выражение бытовало в самой речи казаков уже задолго до того, как они сочинили эту легенду. И—до того, как они переселились на реку Терек и стали вольными казаками.
«Легендарная» история выражения не в бровь, а в глаз, следовательно, прояснилась. Осталось рассеять еще одну—чисто лингвистическую легенду, связанную с ним же. Некоторые языковеды считают, что наш оборот образован путем вычленения его из состава пословицы Добрая пословица не в бровь, а в глаз (Абрамец 1968, 103). Против такой линии развития фразеологизма свидетельствует прежде всего внутренняя форма, образ, в нем скрытый. Нам уже ясно, что первоначально здесь имелось в виду исключительно меткое попадание стрелы в глаз врага, а лишь потом — по принципу уподобления слов со стрелой (ср. пословицы Слово не стрела, а пуще стрелы и Слово не стрела, а разит) — и попадание острой, язвительной репликой, замечанием, пословицей в чьего-либо идейного противника.
Меткая стрела, попадающая во вражий глаз, следовательно, предшествовала хлесткой и точной фразе, разящая сила которой и подчеркнута в народном афоризме Добрая пословица не в бровь, а в глаз. И здесь, как и в терской легенде, наше выражение первично, а пословица —вторична.
Как открыть варежку?
— Глот! — кричала Матрена... — Ты думаешь своей башкой дырявой, или она у тебя совсем прохудилась? — Закрой варежку, — предлагал Ганя. — И никогда не открывай.
— Я вот те открою счас — шумовкой по калгану!.. черт слепошарый.
В. М. Шукшин. В воскресенье мать-старушка...
Выражение открыть варежку ‘зазеваться, стать невнимательным’ известно каждому русскому. В грубо-просторечном стилистическом регистре употребляют выражение открыть / открывать варежку и писатели-деревенщики, например В. Астафьев: «Я подлил масла в огонь, заглядевшись на городские диковины, уронил в воду эмалированную кружку.
Мачеха отвесила и мне крепкую затрещину. Все правильно. Заработал, не открывай широко варежку» (Последний поклон). Столь же стили-стически «маркированы» и фразеологизмы-антонимы открыть варежку ‘начать говорить, кричать’ — закрыть варежку ‘замолчать, закрыть рот’. Их употребляет В. Шукшин: «’’...Злятся все, как собаки, — сказал снабженец с печки. — Не глянется, что
лучше вас Живу?” Павел и Федор не сразу нашлись, что на это ответить. “Закрой варежку, — сказал наконец Павел. — Ворюга...”» (Капроновая елочка). Как видим, эти фразеологизмы служат характеристиками речи персонажей и создают грубо-просторечный колорит текста.
Впервые зарегистрировано выражение открыть варежку словарными материалами «Новое в русской лексике» за 1981 г. Составители словаря подчеркивают, что сфера употребления оборот та — грубое просторечие. Это действительно так, хотя сами по себе слова открыть и варежка^ образующие его, — общеизвестны и стилистически нейтральны. Каким же образом два нейтральных по экспрессивности слова дают при их слиянии столь сильный эмоционально-стилистический результат?
Экспрессивность выражения во многом связана с неожиданностью самого сопряжения варежки с глаголом открыть. Ведь варежка в значении ‘рот’ — совершенно абсурдная, нелогичная метафора, ибо никакого видимого сходства между этими двумя понятиями, на первый взгляд, нет. В языке, однако, даже самое алогич
ное имеет свою внутреннюю логику, скрытую именно от «первого взгляда». Необходимо вглядываться многократно, чтобы эта логика прояснилась и абсурдное стало внутренне оправданным.
yg КАК ОТКРЫТЬ ВАРЕЖКУ?
Такое «вглядывание» облегчено тогда, когда за словом или выражением—длительная традиция литературного и общенародного употребления, масса вариантов, облегчающих поиски образного источника. Оборот же открыть варежку, как мы видели, в этом отношении — «отрезанный ломоть». Он новие только потому, что впервые зарегистрирован совсем недавно, но и потому, что у него нет фразеологических параллелей даже в близкородственных украинском и белорусском языках.
Быть может, в таком случае, это метафорическая находка какого-нибудь остряка, получившая постепенное хождение в просторечии?
История языка показывает, однако, что индивидуальное—почти всегда проявление коллективного. Это подтверждается и в нашем случае. Выражение открыть варежку, кажущееся составителям словарей неологизмом, на самом деле имеет свою предысторию в диалектном употреблении—как и многие просторечные и жаргонные выражения.
В «Ярославском областном словаре» записан такой вариант этого выражения: Что варягу-mo разинул? Значение слова варяга выводится в словаре непосредственно из фразеологического контекста — ‘рот’. Практически то же значение имеет и его фонетический вариант варега ‘горло, глотка, рот’, которое в тех же говорах является и наименованием однопалых, вязанных из шерсти рукавиц, надеваемых обычно под кожаные. Важно, что и выражение, и слова варега, варяга записаны в Ярославской области не в одном, а в нескольких населенных пунктах, что исключает индивидуальное употребление или узкую локальную приуроченность.
Это подтверждается и данными других русских диалектов, где для словвфегаиа^ежкахаракгерентотжеоемантическийпараллелизм. «Словарь русских народных говоров» фиксирует слово варега кроме ярославских также в пермских, костромских и владимирских говорах. Контекст(костром.),п]жвсдимыйдля иллюстрации значения ‘горло, глотка, рот’,—также фразеологизированный: Что разинул варегу-то?— Что разинул горло-то?. Как видим, он вполне идентичен обороту открыть варежку. В том, что варега и варежка в народном обиходе значили именно ‘рот, глотка’, убеждают и другие диалектные выражения, значения которых прямо с ним связаны: вят. пялить варегу ‘очень громко, что есть силы, во все горло кричать’; вл ад. заткнуть варежку ‘замолчать’, варежку распустить ‘начать кричать, много и шумно говорить’; арх. во всю варежку кричать ‘во всю мочь, что есть силы кричать’. Правда, в архангельских говорах последний
79 КАК 0TWPUn |АР ЕЖКУ?
оборот употребителен и в другом значении — во всю варежку бежать ‘во всю силу, во всю мочь бежать’, однако это, видимо, лишь расширительное значение, вызванное его скрещением с другим диалектным фразеологизмом, распространенным там же,—во всю варь (бежать, кричать).
Показательно, что именно в этой диалектной зоне зафиксирован и тот оборот, который попал в «Словарные материалы»,—открыть варежку. Этнограф и диалектолог Д. А. Марков записал его в бывшем Ветлужском уезде Костромской губернии еще в 1907 г.
Сопоставляя слова варега, ‘варежка, рукавица’ и варега ‘рот, горло, глотка’, легко увидеть, что ареал первого в русских диалектах гораздо шире, чем второго. Оно зарегистрировано от Архангел огородчины до Тульской и Орловской областей, от Тверской области до Забайкалья и Приамурья. Еще более широк ареал слова варежка в «одежном» значении — не случайно лишь оно и попало в литературный язык.
Этот факт наводит на мысль, что либо варега, варежка ‘рот’ — вторичное, метафорическое развитие первого значения, либо это не значения одних и тех же слов, а омонимы, случайно совпавшие по форме.
Если бы мы имели дело с метафорой, то семантическое сопряжение варежки со ртом могло бы повториться и с другими наименованиями варежки и рукавицы. Поскольку эта часть одежды для русских весьма актуальна и важна, в народном языке немалоее наименований-синонимов. Варежки или рукавицы называют в разных местностях России чрезвычайно разнообразно: валеги, валежки, валенки, валенцы, валешки, варенки, варенъки, вёрянки, варюги, ве-рюхи, верюшки, вевереньки, голицы, голючки, голянки, галунцы, ис-пбдки, вязёнки, вязёрки, делёнки, дёлъницы, дёницы, денйчки, дёнки, дёночки, дианки, дьянйцы, дьянки и мн. др. — ни один из этих синонимов не переосмысляется как ‘рот, горло, глотка’ и не образует фразеологизмов типа открыть варежку,разинуть варегу или заткнуть варежку.
Еще более убеждает в алогичности такого метафорического переосмысления анализ семантического ряда со значением ‘быть невнимательным, рассеянным; отвлекаться каким-л. зрелищем, рассматриванием чего-л.’, характерным и для открыть варежку.
В русском литературном языке он представлен прежде всего опорным, самым частотным фразеологизмом — разинуть или разевать рот, известным уже древнерусскому языку. В народных говорах
80 вТСРЫТЬ ВАРЕЖКУ?
о» записан в разнообразных словообразовательных и синтаксических вариациях: беломор. рот поразйнуть, курск., ирк. рот раззявить, разинуть рот во все глаза, пск. рот зевать, разинул рот — только мухе влететь ‘о разине’ и т. д. Собрания русских пословиц и поговорок фиксируют различные вариации этого фразеологизма уже с XVII-XVIII вв.: разиня рот ходить, не разиня рот ходи, не разевай рта до ушей; Родя спит и ходя, а Зиня и рот разиня; Розиня Ростяпе в рот заехал; Мир зинул (т. е. зевнул), и ад рот разинул; Животинка водить — не розиня рот ходить. Ср. также обороты типа себ. в рот зеваль въехал или моек, солнышко глотать ‘зевать’, которые развивают эту же фразеологическую ассоциацию. На базе оборота разевать рот возникли и экспрессивно-оценочные слова разиня и ротозей (ср. прост, и диал. зево-рбт, рётя, полоротый), что также свидетельствует о древности и употребительности соответствующего оборота. Это и неудивительно, ибо выражения разинуть рот—общевосточнославянское: ср. укр. роззявляти/роззявити рота и бел. разявщь рот.
В нашей народной речи немало выражений, построенных по той же структурно-семантической модели. Одни из них создаются варьированием глагольного компонента: беломор. рот отворить, рот растаращить, растопырить рот, растяпить рот, рот расщепе-рыть, рот гаять. Другие—морфологическим или синтаксическим трансформированием оборота: беломор. держать открытый рот, пск. сидеть и ртом зевать, глядеть ртом. Наконец, третьи создаются варьированием существительного. Для глаголов разевать, разинуть В. И. Даль приводит варианты разинуть пасть и разинуть челюсти. В говорах сохранен многочисленный ряд подобных вариантов: петерб. галяму растворить, костром, ёжево разинуть, урал. жерло раскрыть, разгаять зевало, дон.раззяпить зевало, разинуть раззяву ‘недосмотреть’, пск. раскрыть свое зепало, открыть свое зепало, растопырить курятник, расщемить лещёдку ‘расщелиться, разинуться’, перм. пасть немшоную отворить, во-лог. рожу роспёлить (в пословице XVIII в.: Глаза выпучил что сыч, а рожу роспелил што жопу. — Симоии 1899,180).
Ряд подобных лексических замен можно было бы умножить, если учесть многозначность оборота разинутьрогт он означает не только ‘зевать, быть невнимательным’, но и ‘сказать, крикнутъчго-л.’ и ‘прийти в изумление, недоумение’. Показательно, что и выражение разинуть варежку может употребяться в таком значении, причем с повышенной (по сравнению с литературным фразеологизмом разинуть рот)
81 *** ОТКРЫТЬ ВАРЕЖКУ?
экспрессивностью. Так, в пародии Александра Иванова «У подножия Машука» (Нева, 1980, № 1) варежку разинуть — это отнюдь не ‘зазеваться, быть рассеянным’, а ‘очень удивится, поразиться’:
Я замер, варежку разинув, Когда, кривя в улыбке рот, Передо мной возник Мартынов, Не Леонид, не наш, а тот...
Народные обороты той же модели со значением ‘кричать’ имеют в говорах чрезвычайно широкое распространение и употребление: перм. драть (открыть, отворить) ад, драть хайло, разинуть хайло, хайло распустить; вят. адище драть (пялить), драть (разинуть, разевать) глотку, распелить (пёлить) вилы; морд, разевать дыхло, жабу драть, жабу разинуть (распятить, распялить, раскрыть, пялить), кадык драть; брян. жерелд открыть; ниж. жерелд разинуть (распустить); орл. драть зяпу; новг. разинуть ляму, открыть ховалъницу; урал. драть пасть; пск. драть прорву; смол, храпу распустить и др. Некоторые из подобных вариантов имеют исключительную активность в говорах—например, оборотрот иялшиь ‘кричать, плакать, реветь’ и ‘быть крайне невнимательным, нерасторопным’, а также ‘смеяться’, известный в сибирских говорах. Ср.распялить (распелить) рот, распялить хайло, пялить вачегу, вят. пялить глотку и т. п.
Подобную активность этой фразеологической модели находим и в других славянских языках, где широко представлены фразеологизмы типа укр. розз1влятирот, роззявити вершу или бел.разявацьрот, горла (глотку) разяваць (распасцираць, расчыпяць, распускаць); разггнуць ляпу, разяць мялицу (ляпку, зипайлу) и т. п. Даже в пределах одного говора вариантность существительных со значением ‘рот’ может быть весьма высокой. Так, лишь в Львовской области зафиксированы следующие обороты со значением ‘замолчать’: заперши (заткати, закрити) рот (пйсок, папулю, пашчёгу, тяльку, тддувало, прайник).
Анализ таких существительных в русских, украинских и белорусских говорах показывает, что ии одно из них не образует наименования рта на основе метафорического переосмысления слов со значением ‘одежда’, конкретнее—‘варежка’. Это заставляет с еще большей уверенностью предположить, что»ярегя, варежка ‘рот’ и ‘варежка’ —лишь случайно совпавшие по форме слова, омонимы.
И действительно, если варега, варежка ‘варежка’—чисто русское слово, не имеющее параллелей даже в белорусском и украин-
52 КАК ОТКРЫТЬ КАРВККУ?
ском языках, где соответствующая одежда именуетсярукавща, ру-кавиця, плетенка, то его омоним выходит далеко за пределы русских диалектов. Ведь костром., яросл., влад. и перм. варега ‘рот, глотка’ (ср. ворон., ниж. варьга ‘нерасторопный человек, разиня’) прямо связано с перм. и урал. варга с тем же значением. Последнее же слово широко известно в украинском, польском и словацком языках, где оно, правда, имеет несколько иное значение: укр. варга, в!рга, ‘губа’, ‘подбородок, борода’; пол. warga ‘губа’, словац. varga ‘морда (коровы, коня)’.
Украинские этимологи считают это слово заимствованием из польского (ЕСУ М1,331). Этому, однако, противоречит как фиксация его в русских диалектах, так и широкий ареал в украинских (Дзендзел1вський 1969,33-34). Об исконном, праславянском происхождении этого слова у восточных славян свидетельствуют и южнославянские параллели этого слова: с.-х. vrganj, словен. wrganj ‘белый гриб’, имеющие параллель в венг. varganya в том же значении, которое было заимствовано у славян (см.: Kiss 1968,456). Семантическая перекличка ‘губа’ -> ‘гриб’ известна: само слово губа и в русских диалектах, и в других славянских языках имеет и значение ‘гриб’, а слово гриб может означать и ‘губу’ (ср. диал. грибы распустить ‘плакать, хныкать’. Показательно, что и для украинской зоны такая перекличка у слова варга еще актуальна: в подольских говорах записано сочетание кобиляч} варги ‘вид грибов’, которое по внутренней форме актуализируется как ‘кобыльи губы’.
Языковые факты позволяют считать рус. варга, варега и его украинские, польские и словацкие параллели семантическим развитием праслав. *vorga, *vbrga ‘нарост, опухоль’, ‘вздутие’ (Куркина 1974,80; Панин 1983,112). Это исходное значение объединяет такие, на первый взгляд, далекие друг от друга характеристики, как ‘губа’ и ‘гриб’.
Говоря о связи праслав. *vorga, *vwga ‘нарост, опухоль’, ‘вздутие’ с рус. диал. варега, варьга, варга ‘рот’, ‘губа’, нельзя обойти молчанием фонетическую сторону этой связи. В литературном русском языке рефлексы праславянских корней должны были дать, по законам исторической фонетики, формы *ворбга, *вбрга. Нетипич-ность огласовки, видимо, объясняется диалектным статусом русских слов. Аналогичное «нарушение» зафиксировано, например, для православянских корней *когкъ, *къгкъ, которые имеют в разных славянских языках и диалектах очень широкую шкалу значений, связанную с наименованием частей тела человека и животного —
gj КАК ОТКРЫТЬ ВАРЕЖКУ?_________
‘шея’, ‘плечи’, ‘бедро’, ‘нога’ — и их производными (ср. болг. крак ‘нога’ и рус. окорок, первоначально значившее нечто вроде ‘мясо вокруг ноги’). В русских народных говорах мы встречаем формы с корневым -а- (ср. на карачках): пск., твер. каракушки ползать, кара* ченьки и кукарач, бкарачь, карачка, карячка ‘широкий шаг’ — и с корневым -о* (ср. окорок) : арх. корача (ср. в былине: «Добры кони пали на корач» ), др.-рус. корачни (ср. в «Повести о Мамаевом побоище» XVII в.: «Кони же их на корачни падоша»), диал. корач* ка, корячка ‘широкий шаг’ (ср. «В одну корячку не дошагаешь до Москвы» — СРНГ 14, 311), бежать во все корки ‘очень быстро бежать’ и т. п. Такие рефлексы праславянских *когкъ, *къгкь, как кажется, подтверждают и фонетическую оправданность рус. диал. варега, варьга, варга ‘губа’, ‘рот’.
Логика семантических переходов полностью оправдывает и связь значений ‘губа’, ‘морда животного’, характерных для польского и словацкого, и ‘горло, рот, глотка’, свойственных рус. варга, варега. Так, рус. губа соответствует пол. g$ba ‘рот’ и ‘рожа, морда’, ‘пасть животного’ или чеш. huba ‘рот’ и ‘морда животного’, а слову рот — чеш. ret ‘губа’. Перед нами, следовательно, — четкая семантическая закономерность, которая позволяет увидеть в рус. вареге и варежке древнее славянское наименование рта.
Случайно ли все же, что это древнее слово было переосмыслено на новый лад именно в русской народной речи?
Конечно же, нет. Ведь омонимия характерна лишь для русского ареала — во всех других славянских языках у слова *vorga нет омонимической пары ‘варежка’. Столкновение же омонимов, как известно, нередко ведет к семантическому притяжению, стремлению перекинуть мостик между не имеющими ничего общего значениями. Так случилось и со словом варежка в составе фразеологизма. Архаичное, диалектное варежка ‘рот, горло’ было вытеснено широкоупотребительным варежка ‘варежка’. Алогичность такой метафоры этому не препятствовала — наоборот, она придала особую экспрессию выражению открыть варежку. К тому же в народном обиходе известны обороты со словами рукавица и варежка, характеризующие молчание: ворон, у него на языке варежка одета ‘о молчаливом человеке’ (СРНГ 4, 49) и заткни себе рот рукавицей ‘замолчи’ (Даль IV, 111). Они в какой-то мере могли стать метафорическим фоном, несколько снижающим алогичность совмещения ассоциаций ‘варежка’ -> ‘рот’.
84 КАК OTKFUTi URDt(t(y7
Таким образом, в основе выражения открыть варежку лежит русское диалектное слово варежка, варега ‘рот’, которое восходит к древнейшему праславянскому корню с тем жезначением. Вытесненное из активного речевого обихода более употребительным, а потому и более конкурентноспособным словом варежка ‘предмет зимией одежды’, это слово в составе фразеологизма выглядит алогизмом и потому кажется особо экспрессивным и оригинальным.
Пройдя через фильтры просторечия, выражение открыть варежку потеряло связь с древним варега ‘рот’, на основе которого оно создано. Любой русский, однако, легко узнает в этом слове древнейшее значение, ибо связывает его с употребительным открыть (разинуть) рот. В этом «эффекте узнавания», при необычности семантической связи,—секрет популярности выражения, прошедшего путь от узкого диалектизма до «нового», употребляемого в современной печати фразеологизма. Путь достаточно типичный для истории русской национальной идиоматики, где «новое» нередко оказывается лишь давно забытым «старым», исконно славянским.
Кто изобрел велосипед?
Что касается ассоциативного метода построения моих сочинений, получившего у критиков определение «раскованности», то это лично мое. Впрочем, как знать? Может быть, ассоциативный метод давным-давно уже открыт кем-нибудь из великих и я не более, чем «изобретатель велосипеда».
В. П. Катаев. Алмазный мой венец
БЫЛО. Брянск, 25 мая. (Внештатный корр. “Правды” М. Атаманенко). Считают, что заново изобрести велосипед — дело ненужное. Однако инженер одного из брянских предприятий В. Беловенко
Время от времени в нашей печати появляются сенсационные сообщения об изобретении нового велосипеда. Большинство из них предваряется своеобразным «злобным кивком» в сторону выражения изобрести велосипед, как бы ней-трализирующим его негативноироническую оттеночность:
«ВЕЛОМОБИЛЬ, КАКИХ НЕ
решил опровергнуть расхожее утверждение и сконструировал веломобиль. Эго трехколесная одноместная машина, у которой четыре передачи, рассчитанные на разный уровень физической подготовки и возраст. При необходимости она легко превращается в соединении с обычным велосипедом н в четырехколесный тандем. С
помощью специальных шарниров можно подсоединять грузовую тележку, смонтировать более объемный багажник, легкую кабину. Веломобиль удобен в использовании. Руль его откидывается, что облегчает посадку, седло и накладная спинка устанавливаются в любом положении. К тому же машина разбирается и складывается за считанные минуты» (Правда, 1987, 26 мая).
«СЕЛ И ПОЕХАЛ. Очередное традиционное Тартуское велоралли на этот раз собрало более 2600 участников. Люди разных возрастов, целые семьи вышли на старт этих популярных соревнований. Но среди них был один особенный участник —> изобретатель... велосипеда. Да, Николай Кудрин не согласился с известной поговоркой о том, что велосипед изобретать бессмысленно. И мало того, что изобрел, но и прошел всю дистанцию в 106 километров на машине собственной конструкции» (В. Панцырев. — Комсом. правда, 1985, 28 мая).
С нашими отечественными изобретателями велосипедов успешно конкурируют и зарубежные велоконструкторы. И хотя в соответствующих европейских языках, как увидим, нет нашей поговорки об этой нехитрой машине, наши журналисты столь же активно стремятся ее использовать, рассказывая о новых и новых заморских диковинках:
86 1(10 МЗОВГЕЛ ВЕЛОСИПЕД?
«ИЗОБРЕЛИ... ВЕЛОСИПЕД. Ироническая поговорка — “изобрели велосипед” — в наше время потеряла оттенок насмешки. Велосипеды продолжают изобретать, и небезуспешно. Недавно во Франции сконструирован электрический велосипед. Он развивает скорость до 45 километров в час, преодолевает довольно значительные подъемы и проходит без подзарядки батарей 125 километров. Велосипед легок в управлении, устойчив на ходу, а 125 километров про-бега обходится велосипедисту всего в один франк» (Правда, 1983, 14 марта).
«ВОКРУГ КОЛЕСА. Стоит ли изобретать велосипед? Ответ как будто бы известен заранее. И тем не менее американец Поль Макг-риди готов биться об заклад, что будущее — за его изобретением. Созданная им машина в первую очередь предназначена для любителей путешествий. Сконструированный с учетом законов аэродинамики, велосипед Макгриди может развивать скорость свыше 50 км/ час (из газеты “Интернэшнл геральд трибюн”)» (Комсом. правда, 1982, 4 дек.).
Разумеется, раз по части изобретения велосипедов существует такая острая конкуренция, то журналисты не проходят и мимо проблемы приоритета в этом деле. И бывает, находят патриархов ве-лостроения именно у нас на родине. Вот начало большой заметки А. Юсина об изготовлении спортивных веломашин:
«И ВЕЛОСИПЕД ИЗОБРЕТАЮТ. Когда хотят сказать о каком-то безнадежном начинании, обычно иронизируют: “Изобретает велосипед”. С того дня, как 177 лет назад уральский умелец Ефим Михеевич Артамонов сконструировал свой велосипед (сохранившийся до наших дней в Нижне-Тагильском краеведческом музее), зарегистрировано несколько тысяч авторских заявок на изобретение двухколесных машин...»(Правда, 1978,27 февр.).
Итак, первый изобретатель как будто бы найден. Был ли им на самом деле наш соотечественник, уральский умелец Ефим Михеевич Артамонов?
Пожалуй, и журналист А. Юсин знал, что нижнетагильский мастер не был таким изобретателем: он лишь хотел подчеркнуть, что на Урале уже около 200 лет назад такая машина изготовлялась.
И действительно—история велосипеда, в принципе, хорошо известна. Уже в середине ХШ в. английский ученый Бэкон предсказал, что будут сконструированы такие машины, которые не будут использовать тягу животных, а будут двигаться «самоходом». В начале XV в. появился чертеж такой машины. Она приходила в движение с помощью усилий человека, сидевшего внутри нее и оперирировав-шего веревкой и системой колес и колесиков.
Идея самодвижущихся транспортных средств вдохновляла и таких знаменитых художников, как Леонардо да Винчи и Альбрехт
87 1(10 ведоо1Пед?
Дюрер. Последний даже спроектировал для императора Максимилиана Первого великолепные кареты, которые приводились в движение слугами с помощью различных механизмов. В начале XVI в> в немецком городе Пирна была изобретена карета, двигавшаяся без лошадей, усилиями самого изобретателя, с помощью системы рычагов и шестеренок. К сожалению, этот один из первых «велопроходцев» далеко на своей машине не уехал: на пути в Дрезден, при большом стечении многочисленных зрителей, он увяз в грязи.
Немало попыток изобретения велосипедов было с тех пор. Из них стоит упоминания знаменитая карета, сконструированная в 1649 г. в Нюрнберге «циркульным мастером» Гаутчем. Это был удивительный «самоход», украшенный великолепной резьбой. Достаточно было нажать на его рычаги, и карета начинала двигаться в любом направлении, преодолевала возвышенности, давала заднийход Ивее—с невероятной для самоходов того времени скоростью — 2 тысячи шагов (т. е. около полутора километров) в час! Боковые стороны кареты были украшены изображениями ангелов, вздымавших по знаку едущего свои трубы и издававших «трубный глас». Если зрители преграждали карете путь, то дракон (похожий, скорее, на козла или греческого Пана) с передней части бешено вращал глазами и брызгал в них водой, чтобы очистить себе дорогу. Тайна волшебной кареты скоро обнаружилась. Оказалось, что ее приводят в действие— с помощью нехитрых механизмов—мальчишки, спрятанные внутри машины. Карета Гаутча так понравилась шведскому принцу Карлу Густаву, приехавшему в Нюрнберг, что он купил ее в 1650 г. за 500 рейнских теллеров и позднее включил в атрибуты своих королевских выездов.
Самым старым и очень примитивным прототипом нынешнего велосипеда историки техники считают так называемую целериферу (из лат. celerifera—букв, ‘быстроноска’) француза М. де Сиврака,. Она была сконструирована в 1690 г. Этот велосипед еще многое сохранял от средств передвижения с помощью лошадиной тяги. Изобретатель соединил оба колеса, а перекладину-основу снабдил седлом, на котором велосипедист сидел по-кавалерийски и попеременно отталкивался ногами от земли, приводя таким способом свою машину в движение. Этим удерживалось, кстати говоря, и равновесие —задача и сейчас еще для начинающих велосипедистов достаточно сложная. Целерифера Сиврака, однако, довольно быстро была предана забвению, и лишь в 1779 г. ее «вновь изобрели»
88 ИГОМЭОВЯЕЛ ВЕЛОСИПЕД?
его земляки Бланшар и Магир. Они-то и назвали свое изобретение велосипед. т. е. «быстроногий» (из лат. velox ‘быстрый’ и ped ‘нога’). Подобный же тип «самодвижки» сконструировал в 1784 г. и механик Трекслер в Богемии, в небольшом городишке Штырски Градец.
Приблизительно в те же годы и подключился наш уральский мастер Ефим Артамонов к этой европейской «велогонке». А дальше уже, собственно говоря, велосипед не изобретался, а лишь усо-вершенствовался, хотя, конечно, сравнив машины двухсотлетней давности с нынешними изящными гоночными «великами», мы бы, быть может, и не поняли, что перед нами—в принципе один и тот же самодвижущийся механизм.
История нашего изобретения, следовательно, отодвигается в XIII в. Но и это еще не самый древний временной предел. В глубь веков уходят следы безымянных изобретателей велосипедов. Ведь поскольку велосипед состоит из простых, давно известных деталей (колес, шестеренок, кривошипно-шатунного механизма), которые использовались еще до нашей эры,—как, скажем, шестерни, найденные в Древнем Риме во II в. до н.э.,—то велосипед мог быть изобретен как минимум тысячу лет назад. Это, между прочим, подтверждается и документально.
В римском Национальном музее есть саркофаг с изображением человека, едущего на машине, весьма напоминающей велосипед. Саркофагу около 2000 лет. Изображения подобных машин встречаются на стенах развалин Древнего Египта, Вавилона, Помпеи.
Но и это не предел истории велоизобретательства. Поскольку основная деталь велосипеда—колесо (ср. европейские наименования велосипеда по колесу: нем. Fahrrad, чеш. kolo, англ, bicycle и т. д.), то дату первооткрытия можно передвинуть в еще более темную глубь веков. До недавнего времени считалось, что родиной колеса является Восток—Месопотамия. Археологи, однако, лет двадцать назад установили, что его колыбелью был район Причерноморья., В болгарской деревне Беково недалеко от Черного моря было найдено самое старое колесо из доселе известных. После детальных анализов установлено, что этому экземпляру—свыше 5850лет.
Что ж—не случайно, видимо, синонимом нашего выражения иногда выступает именно изобретать колесо ‘начинать все сначала’: «Беда еще в том, что подчас приходится самим “изобретать колесо”» (В. Наливай. Эстетика рабочего города.—Известия, 1965,6 февр.).
gg КТО ИЗОБРЕЛ ВЕЛОСИПЕД?
Удивительно, кстати, что при столь большой древности колеса и велосипеда выражение об их изобретении—самой первой молодости. Его не зафиксировал ни один толковый словарь русского языка, кроме словаря С. И. Ожегова. Нет его и во всех фразеологических словарях русского языка, кроме большого русско-китайского словаря 1984 г., где приводится контекст из «Литературной газеты»: «Выходит на трибуну поэт и обрушивается на критику за то, что она, мол, не замечает такого-то и такого-то... А на самом деле — изобретает велосипед. Просто он не читал критиков. Они давно и не раз писали о названных поэтах» (РКФС, 40).
Удивительно, пожалуй, и то, что это выражение не зафиксировано в других языках—даже в близкородственных белорусском и украинском. При довольно тщательных поисках можно лишь найти несколько синонимов об изобретении в русском языке типа от-крытъ Америку или прост, изобрести нож хлеб резать и их экви* валенты, например: чеш. vymyslet trakaf ‘изобрести тележку’, vymyslet malou ndsobilku ‘изобрести небольшую таблицу умножения’, итал. inventare 1’ombrello ‘изобрести зонтик’, фр. ne pas inventer le fil a couper le beurre ‘не изобрести нитки для резки масла’. Самым общеизвестным в этом ряду является выражение об изобретении пороха—пороху не выдумает ‘о недалеком, неизобретательном, ненаходчивом человеке’. Оно, правда, имеет несколько иное значение, чем наше изобретать велосипед, но в его основе — все то же представление об изобретении чего-либо давно изобретенного: нем. das Pulver nicht erfunden haben, фр. ne pas inventer la poudre, исп. no haben inventado la polvora и т. п.
О судьбе изобретателя пороха (им считают монаха Бертольда Шварца, хотя китайцы задолго до его изобретения пользовались порохом для праздничных фейерверков) можно сказать словами героя М. Горького, а точнее—книги, которую этот герой читал: «В одной из них [книг]... было сказано: «“Собственно говоря, никто и не изобрел пороха; как всегда, он явился в конце длинного ряда мелких наблюдений и открытий”» (В людях).
Это относится—быть может, даже в большей степени—и к изобретению велосипеда. Столь простое устройство, конечно же, было изобретено так давно, что серьезные попытки изобретать его вновь может делать лишь человек, абсолютно не сведущий в истории технического прогресса. Именно поэтому наша поговорка и оценивает такого чудака столь насмешливо, что каждая попытка усовершенствовать велосипед нуждается в особой извиняющей его оговорке.
Какими вилами пишут по воде?
Непостоянны в Пошехонье судьбы человеческие. Смерд говорит: «от сумы да от тюрьмы не открестишься»; посадский человек говорит: «барыши наши на воде вилами писаны»; боярин говорит: «у меня вчера уши выше лба росли, а сегодня я их вовсе сыскать не могу».
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки
Водном из изданий книги польской афористики Яна Жабчица (первая публикация — 1616 г.) есть тематическая рубрика «Не познаемо». В ней помещены четыре поговорки: Путь на воде после лодки. //Птичье летание на воздухе. //Змия ползуща по камени. // Дева чистоту потерявшая (Симони 1899, 44-45).
Как видно из их переносного
смысла, под «непознаемым» собиратель имеет в виду не то, что непознаваемо, а то, что не оставляет после себя следа, то, что неузнаваемо после совершения каких-либо действий. И след на воде от
проплывшей лодки не случайно в этом ряду занял первое место: ничто так быстро не расплывается и не разглаживается, как линия, прочерченная по водной поверхности.
Не случайно поэтому писание по воде издавна у многих народов считалось заведомо бесполезным и ненужным делом. Выражения kath’ hydatos grapheis (греч.) и in aqua scribis (лат.) ‘на воде пишешь’ значили уже у древних греков и римлян — ‘ты выполняешь заведомо бесполезную работу, переливаешь из пустого в порожнее’. Есть такие выражения и во многих современных славянских и неславянских языках: чеш. па vodd psit, пол. па wodzie pisad, верхнелуж. па wodu napisac, с.-х. pisati ро vodi, ит. scrivere su una pozza d’acqua (букв, ‘писать на колодце с водой’), англ, write in (on) water и т. п. Именно поэтому оборот писать наводе, встречающийся у Софокла, Платона, Лукиана, Катулла, считают интернационализмом, калькой с греческого или латыни (Снегирев 1831 1,85; Тимошенко 1897, 42-43; Попов 1976, 25).
Такая точка зрения вполне приемлема, хотя в разных языках встре
чаются варианты нашего выражения, свидетельствующие не только о книжном, но и о речевом распространении и обогащении древнего образа. Бессмысленность какого-либо дела может характеризоваться, например, и писанием на песке (фр. etre ecrit sur le sable), на ветре,
какими вшами пишут по воде?
льде или снеге (пол. pisad па wietrze, pisac па ledzie, pisac па sniegu) и другом непригодном для долговременного хранения информации материале.
Немало таких вариантов обусловлено и попытками экспрессивной конкретизации орудия писания. В одном лишь польском языке записаны такие варианты, как palcem па wodzie pisano ‘пальцем на воде писано’, pisanymi gaiqzkq.na wodzie ‘веточками писано на воде’, па wodzie patykiem pisane ‘палкой на воде писано’ и даже pr^tkiem па piasku pisane ‘прутиком на песке иаписано’ (NKPII, 940).
Известны подобные варианты и русскому языку. В стихотворном собрании пословиц середины прошлого века, например, встречаем вариант о писании пальцем по воде:
Иному твердить о душевном вреде,
Что пальцем писать на воде: И ухом себе ие ведет, Пока его в крюк не согнет.
(НРП 2, ч. II, 75-76)
Записаны в народной речи и такие обороты, как сорока на воде хвостом писала (Михельсон 1912, 830), пишет, как черт шестом по Неглинной (улица и речка в Москве) (ДП, 420; Даль IV, 598) или писал Марка (Макарка) своим огарком (Даль II, 572).(Ср. «утешительное» обращение одной старушки к своему петуху в деревне Симоняты Псковской области: «Петенька, твая смерть ешшб мелом писана», т. е. неизвестно, когда настанет.)
Выражение вилами на воде написано — один из таких вариантов. Он, пожалуй, имеет наиболее широкое распространение и употребление, ибо известен не только русскому, но и белорусскому, украинскому и польскому языкам: вглами на вадзе тсана, вилами по eodi написане, to jeszcze widlami pisano. Характерно, что в диалектах оно может употребляться и в форме сравнения—как в лем-ковских говорах украинского языка: як би вилами по eodi написане було.
Если по поводу писания на воде у историков фразеологии практически нет разногласий, то вариант о писании вилами—предмет ожесточенной дискуссии.
Гидромантия—гадание по воде—действительно, была популярна и у восточных народов, и у славян. Свидетельством ее является, в частности, выражение как в воду глядел, связанное именно с предсказанием будущего по воде. Однако у славян, в отличие от
22 КАКИМИ ОМАМИ ПИШУТ ПО ВОДЕ?
персов, пока еще не зафиксировано такого гадания гидромантии, которое основано на бросании камней в воду и узнавании будущего по кругам. Более того, польские и русские варианты выражения писать на воде ясно показывают, что в творительном падеже в них стоит существительное, обозначающее отнюдь не форму начертания каких-либо знаков, а орудие письма: палец, веточку, палочку, шест, огарок и даже сорочий хвост. Это, следовательно,—то, чем «творят» написанное, а не то, что начертано на воде.
Известна и вторая гипотеза, объясняющая наше выражение на мифологической основе. Отталкиваясь от суеверного языческого оберега, заговора от хозяина водной стихии водяного, ее пытается отстоять Ю. А. Гвоздарев. Крестьяне предохранялись от «баловства» водяного тем, что чертили во время заговора крест ножом с косой, которые являются символами Перуна—верховного языческого божества. Писание вилами по воде, по предположению сторонника этой гипотезы, соотносится именно с этим суеверием и порожденным им обычаем. Значение же фразеологизма—‘сомнительно, неясно’, ‘неизвестно еще, когда и как что-либо произойдет’—развилось как результат скептической народной оценки таких заклинаний, не помогавших делу (Гвоздарев 1982,27).
Здесь, в отличие от первой версии, налицо известность суеверного ритуала именно в России. Достаточно рельефно проступают и детали писания ножом и косой по воде. Эти детали, однако, и помогают опровергнуть версию о связи заговора с историей нашего оборота. Ведь обращение к нему не имело целью узнать свое будущее. Наоборот, с помощью такой магической операции заговаривающие стремились запугать водяного, отпугнуть его святым крестом (ср. бояться как черт ладана и диалектное, известное также во многих языках, — бояться как черт креста или как черт святой (крещенной) воды). Так же как и очерчивание, осенение головы крестом (ср. очертя голову), эта магическая операция предохраняла от нечистой силы достаточно долго и устойчиво. Вот почему уже при такой гипотезе наше выражение никак не могло получить ассоциации с чем-либо весьма недолговечным, быстро исчезающим. Кроме того—еще одни, чисто мифологический контраргумент: вилы, по мифотворческой символике, в какой-то степени противопоставлены ножу и косе, они—орудие дьявола, поскольку напоминают один из его атрибутов—рога. Использовать их как оберег от нечистой силы поэтому, с точки зрения народного суеверного сознания, было бы «противоязычно».
КАКИМИ ВИЛАМИ ПИШУТ по водг?
Наконец, существует и третье объяснение оборота о писании вилами по воде. Авторы его исходят из материалистической реальности первичного образа—не оставлять следов на воде, если пишешь по ней вилами (Фелицына, Прохоров 1979,107; 1988,115; Ивченко 1987). А. А. Ивченко весьма основательно доказывает истинность такого прочтения оборота, приводит много языковых аргументов и критически оценивает версии предшественников.
Пожалуй, третья гипотеза и является самой убедительной. Необходимо лишь отметить, что все-таки какой-то элемент мифологичное™, интуитивно ощущаемый сторонниками первой и второй версий, в значении оборота присутствует. Это, правда, судя по употреблениям фразеологизма, не столько суеверие, сколько издевка над ним:
«“Какой повелительный тон! Сейчас видно, что говорит будущая знаменитость”, — подшучивал Антонин. “Это еще на воде вилами писано, буду ли я знаменитостью”» (П. Невежин. Тихий приют); «’’Какой вы части? Где стоите?”,— “Партизанской части, известно. Стоим сейчас на разъезде, а где завтра будем, про то вилами на воде писано”» (К. Седых. Отчий край); «Это еще вилами на воде писано, спасем ли мы собор» (Н. Рыленков. На старой смоленской дороге); «Но даже это обещание, как говорится, вилами на воде писано» (Правда, 1982, 19 сент.).
Этот иронический оттенок весьма устойчив. Он характеризовал и исконный вариант нашего оборота уже в XVIII в.:
Смотри ж и ты, Светильник ясной!
Не проведи нас на бобах;
И ложной радостью напрасной Не тешь нас на пустых словах. Чтоб были все твои ответы И все Сивиллины советы Написаны не на воде.
(Н. П. Осипов.Вергилева Енейда, вывороченная на изнанку)
Приведенный отрывок весьма примечателен. От него тянутся нити и к античным греко-латинским параллелям о писании по воде как о бесцельном времяпрепровождении, и к собственно русскому, народному переосмыслению его как очень ненадежного прогноза на будущее. Мифологический элемент предреченности в тексте «Енейды...» Н. Осипова подчеркнут и русским фразеологизмом провести на бобах (первоначально связанным с гаданием), и упоминанием легендарной прорицательницы античности Сивиллы (Сибиллы).
КАКИМИ ВИЛАМИ ПИШУТ ПО ВОДЕ?
Значит, все-таки наше выражение связано с гидромантией?
Пожалуй, все-таки — нет. Оно ассоциативно привязано к иному способу прогноза будущего—его предначертанием, написанием на чем-либо долговечном и надежном. Вот целая серия итальянских выражений, ведущих свое начало из глубокой античности: е scritto in cielo ‘написано в небе’, е scritto nei fati ‘написано на судьбе’, е scrito nel libro del destino ‘написано в книге судьбы’. А вот и несколько французских: etre ecrit au ciel ‘быть написанным на небе’, c’est ecrit ‘это написано’. Смысл их — тот же, что и у русского выражения на роду написано у кого-л. На роду — это как бы на «родовой книге судьбы», на родовом «фатуме» или, говоря по-со-временному,—на нашем генетическом коде.
Написанное же на воде—в отличие от неумолимо надежной и долговечной «родовой» записи—зыбко, непостоянно и потому недостоверно, сомнительно. Уже сам материал для записи будущего дает повод для скепсиса. А если к тому же эта запись сделана столь громоздким и неприспособленным для писания орудием, как вилы, то веры такому прорицанию и предначертанию вообще нет.
Кто стоит как вкопанный!
Собираясь навсегда покинуть это загаженное место, волки пошли краем лощины, как вдруг Акбара резко отпрянула и замерла на месте как вкопанная — человек!
В двух шагах от нее на саксауле, раскинув руки и свесив набок голову, висел человек.
Чингиз Айтматов. Плаха
Сравнение как вкопанный вот уже более полутора веков расшифровывается историками русского языка с удивительным единодушием. Его истоки видят в жестокой казни—закапывании преступника в землю, распространенной прежде как на Руси, так и в других странах. Первым такую расшифровку предложил в своей
книге «Русские в своих пословицах» И. М. Снегирев. Оснащенная выразительными и запоминающимися историко-этнографическими
деталями, она заслуживает приведения в полном виде:
«Не только в разговорный простой язык, ио и в письменный вошло поговорочное сравнение о неподвижном положении мужчины или женщины — как вкопанный и как вкопанная, т. е. стоит или сидит. Едва ли большая часть употребляющих сию пословицу знает, что поводом к оной было зарывание живых в землю по плеча, или, как говорят, по уши.
По преданию народному, в старину опускали отцеубийц живых на дно могилы, а на них ставили гроб с телом убитого и таким образом засыпали землей. У запорожцев всякий душегубец живой зарывался в землю вместе с убитым.
В “Уложении” и “Указе” царя Алексея Михайловича 1663 г. мая 11 велено: “Женок за убийство мужей против Уложения окапывать землю”. Этот обычай существовал даже при Петре I, как видно из свидетельства Кемпфера и Бруина1, которые описывают сию томительную казнь как очевидцы, именно так: “Убийцу своего мужа закапывали в землю по самую шею; днем и ночью стерегли ее стрельцы, чтобы кто-нибудь не утолил ее жавды и голода, до тех пор, пока она не умрет”.
Но в 1689 г. февраля 19, по Указу государеву и по приговору боярскому, не велено окапывать в землю жен за убийство мужей, но казнить их смертью, сечь головы. Муж за убийство своей жены, по приговору Земского приказа 1662 г. февраля 12, наказывался кнутом и отдавался на чистые поруки.
Хотя древние законы и не присуждают за другие преступления зарывать в землю; но из преданий и пословиц (Наш Фофан в землю вкопан)* взятых с какого-нибудь случая, видно, что кроме преступных жен и
’Барон Майерберг и путешествие его по России, изданные Ф. Аделун-гом. СПб., 1827. С.8
96 1(10 00111МАН
другие подвергались сей мучительной казни, на которую осуждались у римлян весталки, нарушившие целомудрие; а в римско-католических монастырях до XVIII века монахи и монахини, преступившие свои обеты, замуравливались живые (закладывались в стену)» (Снегирев 1831-1834 II, 204-206).
Позднее многие исследователи и популяризаторы науки о языке повторяют эту версию, делая акцент на те или иные детали (Михельсон 1901-1902II, 320; Уразов 1962, 23; ФСРЯ, 70; Опыт, 62; Вартаньян 1975,117; Мокиенко 1975,41; 1989а, 54; Шанский 1985, 170). Некоторые пытаются укрепить эту расшифровку лингвистически или этнографически. Ю. А. Гвоздарев, например, закапывание жены за убийство мужа сравнивает с захоронением и с соответствующим сочетанием заживо захоронить. А. И. Альперин добавляет к описанию казни детали (весьма, впрочем, субъективные), вроде того, что «вкопанного оплевывали прохожие, терзали голодные бродячие псы», а «когда он умирал, его откапывали и вешали кверху ногами» (Альперин 1956,59).
Благодаря таким уточнениям и этнографической живописности версия И. М. Снегирева приобрела не только всеобщую популярность, но и статус этимологически высокодостоверной, довольно редкий в исторической фразеологии.
Единственным и весьма мелким спорным вопросом здесь, пожалуй, остаетсялишьродоваяпринадлежность реконструированной формы причастия. Большинство считает, что основой сравнения был мужской род—как вкопанный, тем самым расширительно понимая объект казни живым захоронением. Другие же сужают исходную мотивировку до закапывания в землю лишь жен, убивших своих мужей, и исходной называют форму как вкопанная (Ермаков 1894,32). Кстати, сам И. М. Снегирев был не очень последователен в решении этого вопроса. В приведенном отрывке из его книги, как мы ввдели, он обычай закапывания трактует очень широко. В другом же месте этой книги он ограничивает ее происхождение именно формой как вкопанная, ссылаясь на уже известные нам исторические факты и на то, что подобные казни жен были известны и в весьма поздние времена, например, в Енисейске при Анне Иоанновне (Снегирев 1831-1834II, 62).
Вопрос об исходной форме сравнения оказывается с точки зрения обряда погребения заживо не существенным, ибо закапыванию издревле подвергались и мужчины и женщины в разных странах. Наша русская пословица Наш Фофан в землю вкопан, в частности, свидетельствуют об этом весьма убедительно. Предполагается, что она восходит к древнему обряду закапывания Феофана или Теофана — «агнца Божьего» во время так называемых
97 1(10 СТ0ИТ 1МК ВИОПДИНЫа?
феофаний. празднеств, посвященных богоявлению (букв, значение имени Феофан — ‘явление бога’). Такого Феофана либо закапывали в землю, либо убивали, разоблачая в каком-либо грехе (Кондратьева 1982, 55-56).
Возможны ли сомнения в истинности возведения оборота как вкопанный к соответствующей казни?
Не только длительная популяризация этой версии, но и целый арсенал исторических и этномифологических фактов как будто делают все сомнения в ее истинности беспочвенными. В самом деле: жестокий обычай наказывать грешников не только нашел свое отражение в исторических документах, но и ярко запечатлен художественной литературой. Достаточно вспомнить одно из драматических мест романа А. Н. Толстого «Петр Первый», где английский купец Сидней рассказывает молодому царевичу о жестоком наказании, коего он был свидетелем:
«— По пути к нашему любезному хозяину я проезжал по какой-то площади, где виселица, там небольшое место расчищено от снега, и стоит один солдат...
И вдруг я вижу—из земли торчитженская голова и моргает глазами. Я очень испугался, я спросил моего спутника: “Почему голова моргает?” Он сказал: “Она еще жива. Это русская казнь,—за убийство мужа такую женщину зарывают в землю...”».
О «русскости» подобных наказаний свидетельствует и их перекличка с различными народными обрядовыми действами, которые, возможно, и были каким-то «мифологическим» стимулом жестоких расправ. Так, в центральных губерниях России был широко распространен обычай зарывать молодых в снег. Корреспондент Русского географического общества П. Китицын описывает его в 1874 г. так, как ему довелось это увидеть в Тверской губернии:
«...В прощенный день перед вечером один из крестьян наряжается цыганом и всех без изъятия молодых, которые обвенчаны были в продолжение последнего года, вызывает на улицу, а заупрямятся, вытаскивает из дома противу желания их. К этому времени ребята на улице выкапывают в снегу яму глубиною в 1/2 сажени, в которую попарно, т. е. мужа с женою, кладут и зарывают снегом, где они должны пробыть около пяти мииут, потом вырывают и отпускают домой... К чему и для чего обряд сей делается, я никак не мог узнать ни от кого».
Как видим, свидетель этого обряда сам не в силах объяснить его смысл. Фольклористы и этнографы, однако, «разгадывают» такие действа достаточно однозначно: зарывание в снег и катание в нем молодых являются своеобразной (^демонстрацией любви: поцелуи должны были разбудить природу, содействовать ее расцвету и плодоношению» (Соколова 1979,41). Поскольку издревле известно, что от «демонстра-
98 К™ 01)1(7 1МК ДИОПАНИЫЙ?
। щи любви» до «демонстрации ненависти»—один шаг, можно предположить, что и зарывание в землю за убийство своего благоверного — осколок древнего мифологического сознания наших далеких предков.
Исторические факты и этнографические свидетельства, таким образом, неоспоримы. Именно поэтому и автор этих строк в одной из первых своих книг без всяких сомнений принимал версию И. М. Снегирева (Мокиенко 1975,41). С течением времени, однако, накапливались факты, подтачивающие эту неоспоримость. Факты лингвистические, а не историко-этнографические.
Попробуем беспристрастно взглянуть на сравнение как вкопанный с акцентом именно на лингвистические факты.
Первый взгляд—на употребление этого оборота. Негли здесь каких-либо намеков на древние казни или, наоборот, на опровержение связи с ними?
При такой постановке вопроса важным оказывается набор глаголов, с которыми употребляется наше сравнение, и тот субъект действия, который им характеризуется. Набор глаголов здесь очерчен достаточно четко: стоять, стать, останавливаться, замереть и застыть. Су&ьект действия — прежде всего стоящий или останавливающийся в неподвижности человек:
«Он [Измаил] скрылся меж уступов скал и долго русский без движенья один как вкопанный стоял» (М. Ю. Лермонтов. Измаил-бей); «Француз стоял как вкопанный» (А. С. Пушкин. Дуэль); «Как вкопанный, стоял кузнец на одном месте» (Н. В. Гоголь. Ночь перед Рождеством); «Часовые у денежного ящика и у трапа стояли как вкопанные» (Б. А. Лавренев. Выстрел с Невы); «Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал на пороге как вкопанный» (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание); «Кондратий наконец заметил ее: — Матушка! — Она метнула косой и стала как вкопанная. — Сбегай принеси боярам молока холодного — испить в дорогу» (А. Н. Толстой. Петр Первый); «Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках... он как вкопанный останавливался на месте» (Н. В. Гоголь. Мертвые души); «Оба остановились как вкопанные при виде Нежданова, а он до того удивился, что даже не поднялся с пня, на котором сидел» (И. С. Тургенев, Новь); «Девочка вдруг остановилась как вкопанная, раскинула свои д линные руки, оркестр замолк, и она стояла и улыбалась» (В. Ю. Драгунский. Девочка на шаре); «Я, разбежавшись, сделал в центре манежа переднее сальто, а встав на ноги, замер как вкопанный; затем, заложив руки в карманы, вяло, как пьяный, падал во все стороны, “вставая” на ноги со спины “курбетами”» (П. Румянцев. На арене советского цирка).
Такие контексты без всяких натяжек укладываются в версию о закапывании живого человека в землю. Глагол же замереть придает связи нашего сравнения с «заживо захороненным» грешником особую актуальность.
99 КТО СТОИТ КАМ ВКОПАННЫЙ?
Интенсивность употребления нашего оборота именно в таком окружении и с таким субъектом действия подтверждается и литературой XVIII в. Здесь наряду с глаголом стоять он употреблялся и с глаголом сидеть:
«Г-жа Простакова:На нево, мой батюшка, находит такой, по-здешнему сказать, столбняк. Иногда выпуча глаза стоит битой час как вкопаной» (Д. И. Фонвизин. Недоросль);
«Всякий из них [канцелярских служащих] сидит как вкопанный на своем месте и занимается своим делом наиприлежнейшим образом» (А. Т. Болотов. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков).
Казалось бы, такие употребления не дают уже никаких поводов для критического пересмотра традиционной этимологии. И это было бы так, если бы выражение как вкопанный кроме человека активно не характеризовало и животного. В эпиграф не случайно вынесен отрывок из романа Ч. Айтматова о волчице Акбаре: такое употребление не менее характерно для нашего оборота. На первом месте, разумеется, здесь стоят те животные, которые бегут и резко останавливаются по первому требованию человека,—кони:
«Сколько ни хлыстал их кучер, они [кони] не двигались и стояли как вкопанные... — Пришпандорь кнутом вон того-то солового» (Н. В. Гоголь. Мертвые души); «И вдруг мой конь, как вкопанный, ни с места, как в землю врос» (А. Н. Островский. Воевода); «В ожиданьи конь убогой, точно вкопанный стоит, Уши врозь, дугою ноги и как будто стоя спит» (А. Н. Майков. Сеиокос); «Тройка вылетела из леса на простор, круто повернула направо и, застучав по бревенчатому мосту, остановилась, как вкопанная» (А. П. Чехов. Почта); «Он [Левинсон] только тогда понял их значение, когда раздался залп по Морозке и лошади стали как вкопанные, вскинув головы, насторожив уши» (А. А. Фадеев. Разгром).
Характеристика нашим сравнением резкой остановки лошади, видимо, не менее активна и традиционна, чем характеристика человека. Об этом свидетельствует русский фольклор. Вот типичный контекст из народной сказки «Два Ивана солдатских сына»: «Хозяин чуть не плачет: жеребцы его поскакали за город и давай разгуливать по всему чистому полю; приступить к ним никто не решается, как поймать— никто не придумает. Сжалились над хозяином Иваны солдатские дети, вышли в чистое поле, крикнули громким голосом, молодецким посвистом —жеребцы прибежали и стали на месте словно вкопанные; тут надели на них добрые молодцы цепи железные, привели их к столбам дубовым и приковали крепко-накрепко» (Афанасьев 1,350).
Кроме лошадей субъектом характеристики могут быть и другие животные—олени, лоси, зайцы и т. п.: «В одном месте мы спугнули
100 1(70 00117 ИАК ВХ0ПАННЫЙ?
двух изюбров — самца и самку. Олени отбежали немного и остановились как вкопанные, повернув головы в нашу сторону» (В. К. Арсеньев. По Уссурийской тайге); «А там, у реки, лоси. Стоят как вкопанные, и зорька на шерстке играет...» (Ф. А. Абрамов. Деревянные кони); «А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человечка и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная» (М. И. Пришвин. Кладовая Солнца); «Стоит на задних лапах, как вкопанный, не то в сторону глазами косит, куда бы стречка дать, не то обдумывает: вот оно, когда пришлось с здравой точки зрения на свое положение взглянуть» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Здравомыслящий заяц).
В современном русском языке такая характеристика сравнением как вкопанный быстробегущего и резко остановившегося животного актуализируется: она переносится и на привычные сейчас средства передвижения. Вот несколько примеров из наших газет: «Машина заработала полный назад, но судно стоит, как вкопанное» (Комсом. правда, 1968,20 ноября); «Механизированная армада торопится в полуденные края, сдерживаемая только стрелкой инспекторского радара, который контролирует скорость. Впрочем, иногда эта армада замирает, как вкопанная. Ее обитатели располагаются биваком в тени придорожных осокорей» (В. Черкасов. Королевы бензоколонок. — Правда, 1979, 5 авг.); «Плавный толчок — выпущены шасси. И вот уже реактивная машина, взметав клубы снежной пыли, бежит по ледовой площади. Резкий толчок, неистовый рев двигателей, и как вкопанный самолет замер едва ли не в центре полосы. Для посадки ему хватило 350 метров» (Комсом. правда, 1987,7 ноября).
Характеристика нашим сравнением коня и других животных несколько подрывает «монопольность» возведения нашего оборота к жестокой казни средневековой Руси, В самом деле: если закапывать живьем в землю жен, убивших собственного мужа, еще в какой-то степени оправдано жестокими обычаями средневековья, то закапывать верных человеку четвероногих иноходцев, лосей или оленей—просто абсурдно.
Значит, здесь что-то не так.
«Но, возможно, — возразит дотошный читатель, — первоначально наше сравнение обозначало именно закопанного в землю человека, а лишь потом—лошадь». От такого возражения можно было бы сразу отмахнуться достаточно весомым доводом: обычно устойчивые сравнения семантически развиваются от животного к человеку, а не наоборот. Мы говорим хитрый как лиса, а не лиса,
JQJ КТО СТОИТ КАИ ВКОПАННЫЙ?__
хитрая как человек; злой как собака, а не собака, злая как человек; ползет как черепаха, а не черепаха ползет как человек и т. д. Уже поэтому шансов привязать и характеристику нашим оборотом сначала человеку, а лишь потом — к животному у нас мало. Тем не менее с такой возможностью все-таки следует считаться.
Обратимся поэтому за самой надежной лингвистической аргументацией, которая не раз уже выручала нас в трудных случаях, — к диалектной речи и сопоставлениям с другими языками. Лишь они помогут утвердить или рассеять неожиданно закравшееся сомнение в старой этимологии.
В диалектной речи вариации нашего сравнения не слишком разнообразны. Для нас наиболее интересен, пожалуй, донской оборот сидеть как врытый ‘о неподвижно сидящем человеке": «Таня байц-ца в Растбф ехать и сидить, как врытая» (СДГ1,80). Это сравнение использовано и М. А. Шолоховым в «Тихом Доне», причем с особой оттеночностью, поскольку речь идет о сидении в седле—не только неподвижном, но и плотном, уверенном, слитом с движением лошади: «Степан поехал от ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя».
Донскому причастному сравнению соответствует другое, где причастие определяется существительным соха, — стать, как врытая соха: «Ну, чего стал, как врытая соха?» (СДГ I, 80). Этот вариант переносит ассоциации о врывании кого-либо в землю уже в совершенно иную сферу—сферу закапывания неживых предметов. О такой возможности интерпретации нашего выражения, как это ни странно, до сих пор ни один историк русского языка не думал—видимо, действовала инерция и авторитет версии И. М. Снегирева.
Посмотрим, что дают для ее проверки данные родственных славянских языков.
В белорусском и украинском языках есть тождественное русскому сравнение як укапаны, якукбпаний. На их этимологию также простирается «историко-этнографическая» версия. И. Я. Лепешев, например, объясняет происхождение белорусского оборота—как неполную кальку с русского как вкопанный — обычаем закапывать живых в землю, существовавшим в России XVII в., добавляя от себя живописную деталь: «...в таком состоянии он [т. е. вкопанный человек] помирал на второй или третий день». При развитии этого сравнения произошло усечение первоначально более пространного сочетания—якукопаныу зямлю (Лепешау 1981,160).
Инерция традиционного этимологического прочтения оборота как вкопанный ведет И. Я. Лепешева не только к признанию неискон-
102 КГОетоИТ К** КОПАННЫЙ?
пости белорусского сравнения, но и к упреку в некоторой неправильности его употребления классиком и основоположником белорусского литературного языка Я. Кол асом. «Возникнув из свободного словосочетания як укопаны у зямлю, фразеологизм сократился, — пишет белорусский фразеолог. — Его первоначальная образность давно уже потемнела и потому порождает другие ассоциации (например, в поэме “Отплата” Я. Коласа: ...стащъ, тбыукопаны слуп)» (Лепешау 1981, 160).
Заимствованный характер белорусского сравнения, однако, опровергается не только тем, что оно имеется и в украинском языке, но и наличием другого его народного варианта в белорусском— стащь якурыты. Кроме того, сравнение як (што) укдпаный фиксируется и в диалектах, что противоречит предположению о литературном пути калькирования с русского.
Главное же—у русского, украинского и белорусского сравнений имеется довольно широкий круг славянских и неславянских «родственников»: пол. stanql jak wryty, чеш. stat jak vryty, c.-x. stajati kao ukopan, словен. stati kot ukopan, лит. kaip ibestas (nudiegtas, jdiegtas) (букв, ‘как воткнутый’, ‘как вколотый’), латыш, stav ka zeme iemiets (‘стоит как в землю вколотый’) и т. п. Их исконность не вызывает сомнений уже и потому, что они давно зафиксированы в соответствующих языках. Чешский оборот st&t jako vryty ‘стоять как врытый’ известен, например, уже с XIV в. (Zaoralek 1963,614), а польский standi jak wryty—с XVI в. (NKP III, 298). Не случайно почти во всех названных языках сравнение о неподвижно стоящем человеке имеет массу вариантов, где «зарывание» в землю конкретизируется глаголами, мало подходящими к закапыванию человека. Так, в чешской народной речи наряду с уже названным сравнением и устаревшим stat jako by koho do zem£ zaryl ‘стоять, словно его в землю зарыли’ известны также stat jako vbity do zemS ‘стоять как вбитый в землю’, stit jako vraieny (zarazeny) do zemd ‘стоять как вколоченный в землю’. Очень показательна здесь перекличка славянских оборотов с балтийскими. Мы уже видели, что и по-литовски, и по-латышски образ нашего сравнения выражается представлением о чем-либо вколотом, воткнутом в землю. С человеком такую операцию проделать трудно; вкалывают и вбивают в землю обычно колья и столбы. И не случайно в цепочку литовских сравнений легко подставляется и сравнение со столбом: kaip stulpas ‘как столб’.
Сопоставление неподвижно застывшего человека со столбом обычно для самых разных языков. Кроме привычного стоит как 103 КТО СТОИТ МАК КОПАННЫЙ? ____
столб в нашей народной речи можно найти множество аналогичных типа стоит как пень, стоит как кол, стоит как колода и т. п. Вот ряд вариантов с донским синонимом столба — надолбнем: стоять надолбнем, стоять как надолбень, стоять как надолба, стоять как надолбня (СДГII, 158). Таких оборотов масса во всех славянских языках — ср. бел. стащь як слуп и стащь як пень, пол. stoi jak ship, stoi jak pien, чеш. stoji jako sloup и т. п.
На этом фоне легко увидеть, что бел. стащь, шбы укапаны слуп, употребленное в поэме Я. Коласа, — отнюдь не индивидуальноавторское искажение русизма как вкопанный, а, наоборот, более древний и реальный образ славянского сравнения. Первоначально оно подразумевало, видимо, не вкопанного в землю живого человека, а прочно врытый неподвижный столб.
Такое прочтение исходной мотивировки подтверждается не только уже приведенными славянскими параллелями, но и конкретной фиксацией нашего сравнения в некоторых языках. Показателен в этом отношении польский материал, тщательно собранный и лексикографически обработанный фольклористами. Одно из первых употреблений сравнения stoi jak ship ‘стоит как столб’, зафиксированное в 1663 г., свидетельствует о том, что речь идет о «врытом» в землю столбе: stoi jak ship wryty ‘стоит как столб врытый’. Это сочетание издревле воспроизводится в различных вариациях: jako ship standi w miejscu wryty ‘он стоял, как столб врытый, на месте’, standi jako ship Artexias wryty ‘он стоял, как врытый столб Артексиас’, stai jak ship wryty ‘он стоял, как врытый столб’, stpisz jak ship w ziemie wryty ‘стоишь как столб, в землю врытый’ (NKPIII, 302).
Как видим, мотивировка нашего сравнения прошла через развернутый образ к усеченному: ‘стоять как врытый в землю столб’ —> ‘стоять как врытый’ и ‘стоять как столб’. Роль столба, врытого в землю, могли прежде играть и другие неподвижные предметы. Например, в 1603 г. польский писатель Скарга употребил сравнение «стоял врытый, как живой камень» (stal wryty jako zywy kamien ), иллюстрирующее такую возможность.
О своеобразной универсальности подобных представлений говорят и параллели из других европейских языков. В немецком и английском, например, идея неподвижности выражается глаголами: wie angewurzelt; rooted to the ground — ‘укорененный’, ‘вросший корнем’. Собственно говоря, это то же, что рус. как в землю врос, имеющее многочисленные параллели в других славянских языках. Врастание же в землю противоречит возведению оборота как вкопанный к соответствующей казни. Это представление также отрази
104 КТО СТОИТ КАК ВКОПАННЫЙ?____
лось в русском языке как характеристика недвижимого человека: «Гион, приемлющий впервые впечатления любви, остановился недвижим, бездыханен от восхищения, и как бы вкоренен в землю» (Оберон—СРЯ XVIII в. Ill, 186). Следовательно, и это—ассоциация одного ранга. Характерно, что в более ранний период это сравнение еще более конкретизировано: «Понеже, яко людей, не отступает вспять от Христа, но и умереть за истину готовь, уповая на господа, яко трость вкорененъ крепко, и яко стебль у кореня Христа прицепился неотлучно» (Аввакум. Книга толкований и нравоучений. — 1677 г. — СРЯ XI-XVII вв. II, 201). Это яко трость вкорененъ крепко даже в таком в высшей степени «духовном» контексте сохраняет свой «материальный» образ: речь идет о тростинке (палочке, стебле), вросшей прочно корнями в землю.
Еще бблыпую конкретность имеет издавна, естественно, и глагол вкопать. Обычны контексты, где что-либо укрепляется в вырытом углублении, вкопывается: «Дано хлыновцу Афонъсью Усолцо-ву шесть денегь, вкопалъ тюремного тына семнадцать тынин» (1679 г.); «Надобно вкопать двЪ высокие машты, чтоб не запретить путь суднам, которые на низ плывут» (XVIII в.); «Жолоб, по которому смола могла б течь в большие покрытые чаны вкопанные в землю» (XVIII в.). Типичным сочетанием, зафиксированным словарями Академии Российской, является и вкопаной столб (СРЯ XI — XVII вв. И, 201; СРЯ XVIII в. III, 185). Аналогичен материал и для глагола врыть — врыть столб в землю: «Около ямины врывают в землю сруб»; «Нижний конец столба вставляется глухим гнездом в круг или колоду в землю врытую» (СРЯ XVIII в. IV, 136)—такие контексты для него типичны.
Именно из употреблений такого рода и выкристаллизовывалось сравнение как вкопанный. Первоначальная его форма—стоять как вкопанный в землю столб. Сократившись, оно дало два аналогичных сравнительных оборота — стоять как вкопанный и стоять как столб. Второе было и осталось прозрачным по образу, первое же—как это часто случается с субстантивированными прилагательными и причастиями—«закодировалось» и переосмысли-лось. На его исконный образ наслоилась вторичная ассоциация с закапыванием в землю не столба, а человека. Она-то и была принята И. М. Снегиревым за первичную, этимологическую. Языковые факты, однако, показывают, что в основе этого сравнения лежит отнюдь не жестокий средневековый обычай казнить жен-мужеубийц, распространенный на Руси, а прозаическое вкапывание столбов в землю, известное многим народам издревле.
Зачем толкут воду?
Сперва как бы с пренебрежением, как бы с досадой против самого себя, что вот, мол, и он не выдерживает характера и пускается толочь воду, Нежданов начал толковать о том, что пора перестать забавляться одними словами, пора «действовать».
И. С. Тургенев. Новь
Выражение толочь воду в ступе— одна из самых хлестких характеристик бессмысленного и пустого времяпрепровождения, когда люди повторяют бесцельно что-либо заведомо бесполезное, ненужное или попросту празднословят. Оно употребляется чаще всего в двух вариантах—толочь воду в ступе и просто толочь воду. Первое—благодаря конк
ретности образа и некоторой экспрессивной окрашенности слова ступа (невольно вспоминается: «Там ступа с бабою Ягой...») — заряжено, пожалуй, большей негативной энергией, чем его сокращенный вариант:
«С московскими моими приятелями об этом не рассуждайте. Они люди умные, но многословны и от нечего делать толкут воду в ступе. Оттого их может смутить всякая бабья сплетня и сделаться для них предметом неистощимых споров» (Н. Гоголь. Письмо А. О. Смирновой 22 февраля 1847); «Другие собирались в профессорской комнате и долго еще толкли воду в ступе, не наговорились во время заседания. И сейчас они толкли эту воду в комнате, звонили по телефону, спорили» (В. Росляков. От весны до весны); «— Так я и начну их, прения эти... Должны же они когда-то начинаться? Илн так и будем воду в ступе толочь?» (П. Лебеденко. Льды уходят в океан).
Не меньшую дозу экспрессивности имеет и субстантивированный вариант этого выражения — толчение воды в ступе: «Писание в газетах отныне я считаю пустым и бесполезным толчением воды в ступе» (С. Скиталец. Огарки).
Сопоставляя обороты толочь воду в ступе и толочь воду, легко обнаружить их динамическую иерархию. Ясно, пожалуй, что второй оборот образовывался усечением первого. Ясно потому, что глагол толочь неразрывно связан в нашем сознании со ступой, в которой что-то толчется, измельчается пестом.
Иное дело—динамическая иерархия оборота толочь воду в ступе и пословицы Воду в ступе толочь — вода и будет. Многие лингвисты уверенно утверждают, что и первый оборот образовался усе-
106 тал ют
чением—усечением пословицы (Бабкин 1964,27;Гвоздарев 1977, 103). Любопытно, что тот же путь развития предлагается и для белорусской фразеологической единицы ваду у ступе таучы, хотя соответствующая пословица — Ваду у ступе таучы — вада i буд-зе — скорее реконструируется на основе русской, чем является народной белорусской (ср. ее отсутствие в двухтомном собрании белорусских пословиц и поговорок — Прыказю I, 57-58, стержневое слово вада). И. Я. Лепешев, предлагающий такую трактовку, не случайно замечает, что «выражение имеет то же значение, что и в пословице» (Лепешау 1981,27).
Языковые данные, однако, свидетельствуют об обратном развитии, т. е. об образовании пословицы на основе более древней поговорки. Во-первых, поговорка фигурирует в литературном языке с XVIII в. без соответствующего пословичного варианта (СРЯ XVIII в. III, 248). Во-вторых, в рукописном собрании русских пословиц Иоганна Вернера Пауса (1670-1735), одного из первых собирателей наших пословиц, записана пословица Терять воду — топчи воду в (неразборчиво), которая свидетельствует, что поговорка о толчении воды в ступе могла образовывать разные пословичные варианты (ППЗ, 45).
В-третьих, характерен и лексический вариант нашей поговорки, где вместо воды выступает песок: он в принципе несовместим с пословицей Воду в ступе толочь—вода и будет, ибо предполагает в таком случае замену обеих ее частей, что в пословицах случается реже, чем во фразеологизмах. Кстати, вариант этот, использованный Ф. М. Достоевским, подчеркнуто характеризует главное в значении нашей поговорки —удручающую бесполезность выполняемого «труда»:
«Если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, — я думаю, арестант удавился бы через несколько дней, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки» (Записки из Мертвого дома).
Наконец, решающим, быть может, аргументом в пользу вто-ричности русской пословицы по сравнению с поговоркой являются древнегреческие и латинские поговорки типа hydor hyperoi plettein ‘пестом воду толочь’ и aquam in mortario tundere ‘воду в ступе толочь’. Они встречаются у древних писателей — например, у Лукиана (Тимошенко 1897,133-134). Оборот этот был буквально
1Q7 ЗАМЕН ТОЛКУТ ВОДУ?__________
переведен на многие языки, особенно романские. На итальянском он активно употребляется и сейчас—battere (pestare, gettare) 1’acqua nel mortaio. He менее употребителен он и в некоторых славянских языках, близких к Средиземноморью. Сербохорватское (хорватс-косербское) выражение tuci vodu u avanu (u muSaru, u tuchju) (Matesid 1982, 750) имеет целых три лексических варианта. И все они — разные наименования знакомой нам ступы для толчения воды.
С толчением воды в ступе связывали весьма конкретный исторический факт. «Встарь,—писал В. И. Даль,—монахов на эпити-мии ставили воду толочь» (Даль 1,412). И. М. Снегирев более 150 лет назад поэтому не случайно утверждал, что поговорка воду толочь известна «в кругу нашего духовенства» и буквально означает уже знакомое наказание в монастырях. По его мнению, и эта поговорка, и это наказание пришли от древних греков и римлян (Снегирев 1831-1834 I, 86-87; Михельсон 1901-1902 I, 112; Гор-бачевич 1964, 207; КЭФ, 1980, № 2, 64; Опыт, 145).
Чисто языковое сопоставление оборота толочь воду в ступе с другими близкими выражениями показывает, однако, что обычай наказывать провинившихся все-таки вторичен, как и конкретно «монашеская» мотивировка, к нему привязываемая. Во многих языках можно отыскать массу иронических выражений, где праздное и бесцельное времяпрепровождение ассоциируется с различными манипуляциями с водой. Французы говорят, например, об ударах палкой по воде (battre I’eau avec un baton, battre I’eau a coups de batons) или раскалывании воды с помощью шпаги (fendre I’eau avec une ёрёе), итальянцы — о бросках водой об стену или распахивании воды (gettare 1’acqua sul muro, zappare in acqua (nell’acqua)), испанцы —о том же распахивании или рытье ее (агат (cavar) en el agua).
Самым популярным и, пожалуй, самым древним из них является оборот о ношении воды в решете или в сите: его «сюжет» с различными мифологическими переосмыслениями встречается не только во многих европейских странах, но также и в Латинской Америке, Индии и Японии (Аагпе 1964, 370-371; Топорков 1984). И носить воду в решете, и толочь воду в ступе—это фразеологизмы-шутки, основанные на внутреннем противоречии, оксюмороне. Эти формулы тесно связаны и со средневековыми европейскими обычаями наказывать монахов бессмысленным толчением воды в ступе, и с русскими народными поел овицами, и с необозримыми по своему разнообразию присказками, былинками и легендами о ношении воды в решете или переливании ее из пустого в порожнее.
Что висит на волоске?
— Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил, очень оживившись, развязанный.
— Ну, хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это! — Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил арестант. — Если это так, ты очень ошибаешься.
Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:
— Я могу перерезать этот волосок.
— Ив этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил? — Так, так, —улыбнувшись, сказал Пилат, — теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо...
М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита
В этом споре римского прокуратора Пилата и его узника Иешуа-Иисуса М. Булгаков не только обыгрывает скрещение двух выражений — висеть на волоске и язык (хорошо) подвешен, но и называет прямо то, что у арестанта «висит на волоске». С какими же существительными чаще всего он сопрягается «субъект висения»?
Их, надо сказать, достаточно много. Из конкретных, материальных понятий здесь типичны, например, богатство, вещи, должностное место, чья-либо кандидатура на него или вообще — реальное дело:
«Нам прислали похвальную грамоту. И вот теперь наша слава, наше богатство — все висит на волоске» (И. Арамилев. Путешествие на Кульдур); «А ведь, знаешь, на волоске висела твоя кандидатура. .. Решили в твою пользу на бюро большинством всего в один голос» (В. Тельпугов. Полынь на снегу);
«Наше дело висит на волоске. Если мы протянем еще неделю, все может сорваться. Надо торопиться. Завтра воскресение, и царь может проехать по Малой Садовой. Завтра все должно быть исполнено» (В. Войнович. Степень доверия); «Настроение в бригаде и на участке было прескверное, на волоске у всех висела прогрессивка» (В. Кукушкин. Рекламация).
Характеризуют наше выражение и такие понятия, как дружба, любовь, супружество и т. п.: «В эту пору дружба моя с Дмитрием держалась только на волоске» (Л. Толстой. Юность).
JQQ что вист НА ВОЛОСКЕ?
Если внимательно вчитаться в приводимые контексты, то окажется, что широта диапазона соединения оборота висеть на волоске с различными словами обманчива. Практически все они характеризуют очень опасные для существования ситуации, положения, близкие к краху, гибели, концу. Не случайно поэтому самым частотным типовым «окружением» оборота является слово жизнь:
«Жизнь его была на тонком волоске» (В. Жуковский. Капитан Бопп); «Смел я был до нахальства и особенно любил себя в те минуты, когда жизнь моя висела на волоске» (М. Горький. Карамора); «Несмотря, однако ж, что все здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома ребер и ног, падений, сопряженных со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли как с мячиком... встречались больше лица веселые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистывание» (Д. Григорович. Гуттаперчевый мальчик); «Он верил словам врача, что, судя по состоянию сердца, ее жизнь уже давно висела на волоске. Но из головы не выходила неотвязная мысль: с чем же все-таки сын пришел к ней? И почему она так закричала?» (К. Симонов. Живые и мертвые); «Роды были трудные, был и консилиум, и жизнь Ольги Сергеевны висела на волоске» (Д. Мамин-Сибиряк. Суд идет).
Сейчас, собственно говоря, можно констатировать устойчивую сочетаемость слова жизнь и оборота висеть на волоске. Можно даже говорить о фразеологизме жизнь его висела на волоске ‘он был на краю смерти’. В XVIII в., кстати, параллельно с этим оборотом (имевшем, как и сейчас, вариант жизнь висит на ниточке) существовал и диалектически уравновешивающий его вариант—смерть его висела на волоске:
Мадам (Старокраса. — В. М.)! Вы сделали меня совсем хоть брось, Своею красотой пронзив меня насквозь. Увидьте сей лимон, проколотый гвоздикой, И знайте, что и я в опасности великой, Что жизнь моя и смерть висят на волоске.
(Я. Княжнин. Жених трех невест)
Ср. и такие «фатальные» и «смертоносные» сопроводители нашего оборота, харакзерные для того времени, как война и судьбина: «Война висит на ниточке; я должен оставить здешнее мое пребывание» (Переписка московских масонов XVIII в.); «Судьбина Империи казалась только на волоске висящею. Оберон, царь волшебников...» (СРЯ XVIII в. Ill, 173). Сочетаемость со словом жизнь, однако, и в XVIII в. была для выражения висеть на волоске доминирующей.
Как видим, оборот висеть на волоске издавна и чаще всего употребляется в сочетании со словом жизнь. Именно о жизни узника
110 470 И* водоа(Е7
Пилата и идет речь в романе М. Булгакова. Более того, спор прокуратора с Иешуа—это не просто спор о сохранении жизни приговоренного к смертной казни, а спор о состоятельности новой религии — христианства. Ведь, по Библии, и волосок не падет с головы без воли Божьей, а тем более—не может быть своевольно перерезан волосок жизни. В словах узника Пилата — убежденность, что жизнь и смерть—в «руцЪ Божией», а отнюдь не в руках римского наместника из Ершалаима. «Она», висящая на волоске,—это жизнь, данная Иешуа Богом.
Как же крайняя угроза для человеческой жизни стала в нашей фразеологии сопрягаться именно с волоском?
Большинство историков языка объясняют это сопряжение, так сказать, «конкретно-исторически». Именно ассоциация со смертельным риском заставляет их обратиться к известной античной притче о Дамокловом мече (Вартаньян 1973,72;КЭФ, 1979, №2,53; Опыт, 27). Вот типичное изложение такого толкования:
«Со словом “волос” (“волосок”) есть еще выражение висеть на волоске, но оно имеет совсем другое значение—“оказаться в опасности, находиться под угрозой гибели”. У него есть варианты: висеть на ниточке, повиснуть на ниточке. Их происхождение связывают с легендой о сиракузском тиране Дионисии, который, желая показать сложность положения владыки, усадил своего придворного вельможу Дамокла в кресло, над которым на конском волосе висел острый меч. Отсюда идет и выражение дамоклов меч — с тем же значением, что и приведенные выше выражения» (Гвоздарев 1982,163).
Что и говорить, символика Дамоклова меча, висящего на конском волоске, и русского фразеологизма жизнь висит на волоске, действительно, близки. Значит ли это, однако, что между древнегреческим мифом и современным выражением существует прямая связь?
Пожалуй, не значит.
Об этом свидетельствуют, прежде всего, параллели из разных европейских языков, аналогичные русскому выражению. И нигде соответствующие обороты не употребляются в предполагаемом сторонниками «дамокловой» гипотезы полной форме: висеть на волоске как дамоклов меч. Характерно здесь и отсутствие предлога «над», которое бы могло быть сигналом такой полной формы (ср. известные сравнения висеть над кем-либо как дамоклов меч ‘о неотвратимости чего-л. опасного’).
Такие выражения известны многим языкам — ср., например, с.-х. visjeti о (па) dlaci ‘висеть на волоске’, visjeti о tankoj niti ‘висеть на тонкой нити’, visjeti о koncu ‘висеть на конце’; чеш. viset па
111 ЧГОМЦПЩМДОСИЕ7
vlasku (na nitce, na niti) ‘висеть на волоске (на нитке, на нити)’; словацк. visiet’ па vlasku ‘висеть на волоске5; нем. an einem Haar hangen ‘висеть на волосе’ и т. п. Были они известны и древним грен кам и римлянам, и не случайно поэтому специалисты по этим языкам считали соответствующее русское и европейские выражения кальками с древнегреческого (Тимошенко 1897,99—101; Шевчен-’ ко 1986, 8).
Характерно при этом, что именно данные специалисты не про водили прямой нити от Дамоклова меча к интернациональному обо* роту висеть на волоске. Не делают этого и некоторые европейские историки поговорок. Сомнение, например, высказывает известный немецкий фольклорист проф. Лутц Рерих. В своем четырехтомном труде по истории немецких фразеологизмов он, анализируя обороты es hangt an einem Haar и es hangt an einem [seidenen] Faden и приводя их европейские параллели, пишет: «Нет необходимости возводить наши поговорки к античному повествованию о Дамокловом мече, ибо еще и сейчас у нас имеется немало народных притч о “мельничном жернове на шелковой нити”» (Rohrich 1977, 253, 355). Кроме того, как считает Рерих, на развитие переносного значения оборотов о тонком волоске или нити повлияли мифологические представления о «нити жизни» и о богинях судьбы типа мойр или парок (в русской народной традиции—языческая Мокошь), ее прядущих. Ср. фр. couper (trancher) le fil de la vie a quelquun (‘перерезать нить жизни кому-л.’) или англ, to cut the thread of a person’s life с тем же буквальным и переносным значениями.
По-видимому, действительно, прозрачная символика волоса и тонкой нити, на которую налагались мифологические представления о нити судьбы и жизни, и привели к самостоятельному, независимому от мифа о Дамокле, образованию фразеологизма висеть на волоске в народной речи многих народов. Так уже употреблялось это выражение и в древности: например, у древнегреческого писателя Лукиана (ок. 120 - ок. 190) оно контекстуально связывается с богатством (Тимошенко 1897, 99—101) — точно, как в современном русском языке (ср. de pilo pendet ‘висит на волоске’).
Наш язык, кстати, сохранил не только такие варианты оборота, как на волосу висит (XVII и XVIII вв. — ППЗ, 56,97), на нити висит, на нитке висит и на волоску висит (Палевская 1980, 36-37). Характерны и такие формы выражений о волосе, как на волоске от гибели, на волоске от смерти и их употреблявшиеся в XVIII в. варианты типа на волосу от разорения. О народном источнике подобных
112 410 висит н*B0Jt0CKE7
образов говорят и диалектизмы. Во многих русских говорах записано выражение на липочке висит (держится) ‘держится едва-едва, с трудом, чуть-чуть’ (влад., волог., яросл., новг., костром., пенз. — СНРГ17,58). Липочка здесь, видимо,—тонкое липовое волокно, лычинка, содранная с липы. Обороты такого рода нарочито конкретны, по-крестьянски материалистичны: «Пугъвица-тъ у тибя на липъчки матаццъ, чяй, пришэй уж патужъ, а то пътиряш»; «Надь верёфку покрепшъ натти, а то эть чуть на липъчки» (СРГМ 3,126). Эти выражения — на липочке мотаться и чуть на липочке [дер-жатъся] имеют и конкретную привязку к реальной «пуговичной» и «веревочной» тематике и в то же время уже развили и переносное значение — ‘едва-едва держится что-л.’. Точь-в-точь как богатство, должностное место, дружба и даже сама смерть в литературных выражениях висеть на ниточке или висеть на волоске.
Зачем стреляют в старых воробьев?
— Вы пишете повесть!
Да кто же вам поверит? И вы думали обмануть меня, старого воробья!
И. И. Гончаров. Обыкновенная история
В употреблении нашего оборота о воробье наблюдается любопытная тенденция: старый во-робей постепенно уступает место стреляному воробью. В XIX в* предпочтение отдавалось почти исключительно первому обороту,
в современной литературе начинается экспансия второго: «“Дело возможное!” — отвечает генерал холодно, явно показывая, что он
старый воробей, которого никакими компромиссами не надуешь» (М. Салтыков-Щедрин. Невинные рассказы); «Позвольте, не делайте удивленного лица, вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день... Зачем и ради кого бываю, это вы отлично знаете. Хищница милая, не смотрите на меня так, я старый воробей...» (А. Чехов. Дядя Ваня); «Стреляный воробей этот полицейский! Та
кого на мякине не проведешь, — пояснил он причину своего смеха» (А. Сабуров. У друзей одна дорога); «Запомни! — строго сказал Чупров.—У тебя две дорожки: стать честным человеком или... Слышишь меня? Или под суд? Других дорог нет! И не надейся меня одурачить. Я стреляный воробей» (В. Тендряков. Падение Ивана Чупрова); «Но Водомеров, многие годы общавшийся с самыми разнообразными людьми, был стреляный воробей, и кажущийся оптимизм Петрунчикова не мог обмануть его. К тому же не раз он слышал от других, что Петрунчиков не чист душой» (Г. Марков. Соль земли); «Я мог определенно сказать, что не так давно... здесь побывали два или три человека (диверсанты), сидели, курили, закусывали. Причем это стреляные воробьи и весьма осторожные. На месте пребывания они не оставили ни клочка бумаги, ни окурка, ни следов пищи» (В. Богомолов. В августе сорок четвертого).
Разумеется, непроходимой границы между этими выражениями нет, это, как уже говорилось,—лишь тенденция разграничения. Показательно, однако, что конкуренция этих двух вариантов возможна даже в произведениях одного писателя—если он тяготеет и к классическому стилю прошлого, и к современности. Вот несколько вы-
Ц4 ЗАЧЕМ СТРЕЛЯЮТ В СТАРЫХ ВОРОБЬЕВ?
держек из произведений К. Федина, относящегося именно к таким писателям:
«— Это не эксперт с вами закусывал?—Нет, мой личный друг. Мужчина образованный, антицерковный, знает по-древнелатински. В искусстве старый воробей, поскольку актер» (Необыкновенное лето); «”Да ведь он же поднадзорный!” — сказал ротмистр с упреком. — ‘‘Слышал. Однако полагал, что человек исправляется”. — “Исправляется? — обрезал ротмистр начальственно. — Не слышал, чтобы такие тёртые калачи, этакие стреляные воробьи исправлялись”» (Первые радости).
Причина такой тенденции в использовании поговорки о воробье в ее происхождении. Давно уже считается, что выражение возникло испытанным путем превращения пословицы в поговорку (Бабкин 1964, 28; Федоров 1964, 13; Жуков 1980, 377; Панина 1986, 17, и др.). Пословица имеет немало вариантов, но все они имеют в виду именно старого, а не стреляного воробья: Старого воробья на мякине не проведешь; Старого воробья на мякине не обманешь; Не обманешь старого воробья на мякину; хочет старого воробья на мякине обмануть; хочет старого воробья над мякинами обмануть; Старого воробья на мякине не надуешь и т. п. Некоторые из таких вариантов зафиксированы уже с XVII в.
Именно старого воробья, а ъъ стреляного, мы встречаем и в пословицах на «мякинную» тему из соседних с русским языков—белорусского, украинского и польского: Старого вераб’я на мякше не правядзеш; Старого воробця на полову не зловиш; Старого горобця на nonoei не обдуриш; Starego wrobla па plewy nie ziapiesz (nie zlowisz).
To, что у четырех славянских народов в пословицах о воробье фигурирует и мякина, свидетельствует о древности пословиц и подтверждает первичность пословицы по сравнению с поговоркой старый воробей. Связь воробья с мякиной естественна, ибо, по словам этнографа С. В. Максимова, эта птаха—«повадливый вор, вооруженный опытом и острым глазом, привыкший отличать хлебные скирды от мякинных ворохов». Воробьи обычно жмутся к людям в надежде поживиться: не случайно в Сибири до прихода туда русского земледельческого населения воробей был не известен. В народе к воробью отношение пренебрежительное и укоризненное: его именуют «проклятой птахой». С. В. Максимов объясняет и то, почему именно старый воробей стал мерилом опытности и изворотливости:
«Голодный молодой воробей на мякину, по неопытности, сядет, — пишет он, — старый пролетит мимо. Старая крыса почти никогда не попадает в мышеловку. Редкий счастливец излавливал старого ворона или
Ц5 ЗАМЕН СТ? ЕЛ Я ЮТ В СТАРЫХ ВОРОБЬЕВ?_
даже старую форель. “Старого моржа-казака не облукавишь”, — уверяют архангельские поморы, промышляющие на Новой земле. Причина чрезвычайно прозрачна...» (Максимов 1955, 321).
Действительно, старость и опытность в народном сознании устойчиво связаны. Это отражено в пословицах и поговорках разных народов. Вот лишь несколько русских: Старый ворон мимо не каркнет, Старый ворон не каркнет даром, Старый конь борозды не портит и даже Старые дураки глупее молодых. Аналогичны и украинские: Вовк старый не лгзе до ями, Старого лиса тяжко зло-выти, Старый eui борозни не зтсуе, Старый вгл з борозни не зверне. Иногда сходство подобных пословиц в самых разных языках просто поражает. Например, русской пословице Старый конь борозды не портит почти полностью соответствуют англ. An old ох makes a straight furrow, фр. Vieuxboeuf fait sillon droit, нем. Ein alter Ochs macht gerade Furchen, итал. Bue vecchio, solco diritto, исп. Buey viejo, surco derecho. Я сказал «почти полностью», поскольку вместо русского старого коня в этих языках — старый бык, а вме-сто «борозды не портит» — «делает прямую борозду». Но — кад видим, эти различия весьма незначительны, ибо старое пахотное животное везде оказывается на высоте. Как и старая рыба, котсн рая, по французской пословице (точно соответствующей русской о старом воробье и мякине), слишком стара, чтобы попасться на приманку: C’est un trop vieux poisson pour mordre a I’apparat.
Нужно заметить, что и образ старого воробья в некоторых вариантах способен отрываться от устойчивой связи с мякиной и переключаться в другие тематические сферы. Показательно, что самой старой фиксацией польской пословицы о воробье была пословица «Старого воробья в западню не поймаешь» (Starego wrobla na plewy nie zlapiesz — 1838 n). Более 150 лет известны в польском языке и такие варианты этой пословицы, как «Старый воробей узнает любые силки издалека» (Stary wrobel kazde sidlo z daleka pozna), «Старого воробья силками не поймаешь» (Starego wrobla na sidla nie utowi), «Старого воробья на овес не поймаешь» (Starego wrobla nie zlapiesz na owies), «Старого воробья на муху не поймаешь» (Starego wrobla na much$ nie ztapiesz — NKP III, T16-T1T).
Такие варианты свидетельствуют о том, что хотя поговорка о старом воробье и является результатом сжатия пословицы о воробье, которого не поймать на мякине, тем не менее ядром ее остается именно образ старого, опытного, не доверяющего никаким уловкам воробья. Не случайно и в неславянских языках его эквивалентом явля-
116 З*4** СТРЕЛЯЮТ В СТАРЫХ ВОРОБЬЕВ?
стся «старая птица»: англ, old bird ‘опытный и изощренный в уловках человек’. Кстати, А. В. Кунни это выражение возводит к пословице Old birds are not to be caught with chaff ‘Старых птиц не ловят на мякину’. Эта английская параллель еще раз подтверждает верность возведения русского старого воробья к пословице о мякине.
Русский старый воробей и английская «старая птица» входят в длинную шеренгу старых животных, известных многим языкам именно как характеристики опытных людей, которых нелегко перехитрить: рус. старый волк, укр. старый вовк, болг. стар вълк, фр. vieux loup; рус. старая лиса, фр. vieux renard, норвеж. en gammel rev; нем. alter Hase ‘старый заяц’, исп. perro viejo ‘старая собака’ и болг. от стара коза яре ‘ягненок от старой козы’ — все это осколки универсальной интернациональной фразеологической модели. Модели, которая строится на весьма близких исходных образах. Характерно и то, что в соответствующих языках ко многим из этих поговорок легко отыскиваются и пословицы, проясняющие этот образ. Достаточно привести несколько болгарских пословиц, понятных каждому русскому читателю: Стар вълк в капан не влиза; Стара лисица в капан не влиза; Стар кон се на ход не учи.
Итак, со старым воробьем все ясно.
Откуда же появился стреляный! Ведь на воробьев, как известно, никто не охотится — как на лис или волков: не случайно же у нас есть поговорка стрелять из пушек по воробьям — о сущей бессмыслице и непрактичной трате энергии.
На вопрос этот помогает ответить русская классика. Точнее— один из текстов Н. В. Гоголя: «Какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица, он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать» (Н. Гоголь. Старосветские помещики).
Действительно, во времена Гоголя вместо стреляного воробья в качестве фразеологической характеристики опытного, бывалого человека были распространены иные выражения—стреляная птица, обстрелянная птица, обстрелянный волк, стреляный волк, стреляный зверь и т. п. Такие выражения употребляются и сейчас:«— Я как-то письмецо ей подкатил... Не порть бумаги, говорит. Ноэто всегда так сначала бывает. Я в этих делах стреляная птица» (Н. Островский. Как закалялась сталь);«— Третий ушел,—сказал, точно повинился, Кулик.—Двоих профессор прищучил, а третий, который
Ц7 ЗАЧЕМ СТРЕЛЯЮТ В СТАРЫХ ВОРОБЬЕВ?
командиром у них был, ушел. Туман с реки пал, он и воспользовал* ся. Стреляная, видно, птица...» (И. Березко. Дом учителя); «А еслЙ вы с приставом говорить стесняетесь, то это дело мне поручиШ Я зверь стреляный, меня не проведешь» (А. Перегудов. В те далей кие годы).
Логика их понятна, ибо речь вдет либо о «промысловой» дичи, либо о животных, опасных для человека и потому «достойных» выстрела; Не случайно, что и опытных, побывавших в боях и испытавших об* стрелы людей также называют стреляными и обстрелянными.
На этом фоне, конечно же, стреляный воробей — алогизм. По* этому-то в XIX в. и было возможно лишь выражение старый вора? бей, тогда еще цепко привязанное к соответствующей пословице.
Любопытное свидетельство разграничения этих двух ассоциаций находим у А. С. Пушкина в рукописном тексте «Домика в Коломне», Здесь поэт противопоставляет обстрелянного волка именно молодо* му воробью:
Покамест можете принять меня За старого, обстрелянного волка Или за молодого воробья.
И здесь Пушкин, всегда внимательный к семантическим нюансам слова, «брюхом почуял» (как он любил выражаться) смысловое различие старого и стреляного волка и просто старого воробья. Воробья, в которого во времена Пушкина еще не стреляли фразеологической экспрессией. Любопытной перекличкой к этому ощущению смысловой оттеночности нашего оборота является употребление оппозиции нестреляный воробей—стреляный сокол в воспоминаниях И. Эренбурга о М. Е. Кольцове: «Однажды он [М. Е. Кольцов] мне признался: “Вы редчайшая разновидность нашей фауны—нестреляный воробей”. В общем, он был прав—стреляным я стал позднее. Конечно, никто не причислит Михаила Ефимовича к воробьям, а поскольку он однажды завел разговор о птицах, я назову его стреляным соколом. Мы расстались весной 1938 года, а в декабре стреляного сокола не стало».
Итак, можно подвести итог истории о стреляном воробье.
Родившись в недрах пословицы, оборот старый воробей постепенно оторвался от нее как самостоятельная характеристика опытного, бывалого, изворотливого человека. Затем—благодаря общему образному стержню и тождеству значения—этот оборот перекрестился, контаминировался с рядом других выражений — стреляная птица, обстрелянная птица, стреляный волк, стреляный зверь.
ЦЗ ЗАМЕН СТРЕЛЯЮТ В СТАРЫХ ВОРОВБЕЛ?
Это перекрещение было во многом облегчено тем, что в ряду этих выражений замена прилагательного стреляный на старый легко допускалась: старый волк — стреляный волк. В современном языке стреляный воробей таким образом стал лексическим вариантом первоначального старого воробья. И не просто стал, а потеснил его по употребительности благодаря особому заряду экспрессии, исходящему из алогичного образа.
Более того: не имея вначале «пословичной» основы, этот вариант в наши дни породил ту же пословицу о мякине и воробье, которая была известна прежде лишь с прилагательным старый. Мы не найдем такого варианта ни в одном из собраний наших народных пословиц. Но зато в современной печати ему даже отдается предпочтение: «Руководители Черниговского и Киевского производственных объединений мясной промышленности решили взыскать деньги, высланные Пугачеву, его же методом. Они вернули его творения наложенным платежом. Ан не тут-то было! Стреляного воробья на мякине не проведешь. Пугачев категорически отказался получать посылки. Не для того трудился!» (Н. Чергинец. Вам посылка...)
Бумеранг вернулся. Вариант о стреляном воробье снова стал частью хорошо известной пословицы, тем самым обогатив ее новым образом старой, бывалой и уже обстрелянной птицы.
За что ворона попала в суп^
Так часто человек в расчетах слеп и глуп. За счастьем, кажется, ты по пятам несешься:
4 как на деле с ним сочтешься — Попался, как ворона в суп!
И. А. Крылов. Ворона и Курица
Две басни «дедушки Крылова», связаны у нас с детских лет со вторжением наполеоновских nojfr чищ в Россию — «Волк на псар* не» и «Ворона и Курица».
Первая басня в соответствии^ эзоповской традицией не расшиф?
ровывает конкретно-историческо го «героя», на которого направленно ее сатирическое жало, хотя и каждому современнику И. А. Крылова, и любому нынешнему школьнику ясно, что Волк—это не кто иной, как «супостат» Бонапарт, с которого «сняли шкуру» куту-
зовские войска.
Во второй басне привязка к конкретным событиям 1812 г. дана сразу же. Баснописец даже начинает с союза когда, приурочивая происходящее именно к моменту оставления столицы войсками Кутузова:
Когда Смоленский Князь,
Противу дерзости искусством воружась, Вандалам новым сеть поставил И на погибель им Москву оставил, Тогда все жители, и малый и большой, Часа не тратя, собралися
И вон из стен московских поднялися, Как из улья пчелиный рой.
Ворона и Курица—две реакции московских жителей на вторжение французов, два типа людей. Один — миролюбивый и домашний обитатель Москвы, не просто горожанин, но и гражданин, которого «роевое», патриотическое чувство заставляет покинуть насиженное гнездо, растревоженное «новыми вандалами». Второй —расчетливый и корыстолюбивый обыватель, из тех, кто уверен в незыблемо-сти принципа «там родина—где хорошо» и даже в эпоху великих испытаний для отечества надеющийся «поживиться сырком, иль косточкой» у оккупантов.
Печален и позорен конец Вороны, которая
...подлинно осталась;
Но, вместо всех поживок ей, Как голодом морить Смоленский стал гостей — Она сама к ним в суп попалась.
120 м470>OFOHAстп?
Мораль басни превращает—как часто у Крылова—конкретный эпизод в обобщающую сентенцию. Конец ее — попался как ворона в суп! — стал крылатой фразой, устойчивым сравнением, характеризующим (обычно иронически) человека, который неожиданно попал в сложную и неприятную ситуацию.
Большинство русских связывает происхождение оборота о злополучной Вороне именно с басней И. А. Крылова. И это оправданно, ибо немало афоризмов и крылатых слов вошли в кровь и плоть русского литературного языка из произведений великого баснописца, В данном случае, од нако, он прямым автором этого крылатого выражения не является.
На это указывают, в первую очередь, такие испытанные источники, как «Толковый словарь» и сборник «Пословицы русского народа» В. И. Даля, в которых к сравнению попался как ворона в суп дается ремарка «с 1812 года»—как и к шутливой пословице Голодный француз и вороне рад'. В словаре В. И. Даля есть и еще одно поговорочное выражение, которое прямо связывается и с вороной, и с наполеоновским вторжением: «Не умела ворона сокола щипать, от предания, будто Платов был переодетый в неприятеля, французов, и отъезжая, сказал это» (Даль 1,244). Матвей Иванович Платов (1751-1818)—генерал от кавалерии и войсковой атаман, командовавший донским казачьим войском и совершивший в Бородинском сражении отважный рейд в тыл противника,—действительно, соколом налетел на неприятельских «ворон». В период Отечественной войны 1812 г. в народе ходило немало легенд, преданий и «анекдотов» (т. е. кратких рассказов о замечательных или забавных событиях) о подвигах русских воинов и злоключениях завоевателей. «Казачьи» сюжеты были в них особо популярны.
Весьма популярен был и анекдот о злополучной вороне, попавшей французам в суп. Он был даже опубликован в разделе «Смесь» петербургского исторического журнала «Сын Отечества» 1812 г. за октябрь месяц: «Очевидцы рассказывают, что в Москве французы ежедневно ходили на охоту—стрелять ворон и не могли нахвалиться своим soupe aux corbeaux. Теперь можно дать отставку старинной русской пословице: попал как кур во щи, а лучше говорить: попал как ворона во французский суп\»
Набор анекдотов, среди которых — и приведенный выше, сообщил в редакцию журнала автор, сокращенно подписавшийся
В недавние (1955 и 1978 гг.) издания словаря, правда, вкралась досадная хронологическая опечатка — «с 1912 г.», ио в предыдущих его изданиях, естественно, речь идет именно о начале XIX в.
121 ЗА 410 ГСЮИА ПОПАЛА В СУП?
«Ув.». Как видим, пересказывая анекдотический случай «охоты на ворон», он ссылается на очевидцев.
Анекдот этот действительно приобрел очень быструю популяр* ность, чему, конечно же, способствовал патриотический дух, объединивший разные слои населения России. Известны насмешливые лубочные картинки и рисунки того времени, где сюжет о «вороньем супе» обыгрывается в разных вариантах. В музее А. С. Пушкина (г. Пушкин), например, три картинки отражают именно этот сюжет.
На лицейском рисунке Ф. Ф. Матюшкина 1813 г. (акварель, тушь) изображен французский солдат, палящий из длинноствольного ружья в двух огромных ворон. На «охотника» лают собаки, а на заднем плане—объятая пламенем Москва.
На другой картинке (раскрашенная фототипия), автором которой является художник Иван Теребенев, на переднем плане изображены три гротескно носатых француза. Один стоит в рваных панталонах, правая нога—в опорках, левая—босая, и жадно раздирает ворону зубами. Справа на коленях—другой француз с саблей на боку: протягивая руку к своему товарищу, он проситу него кусочек вороньего «лакомства». Сидящий слева француз с аппетитом обсасывает косточку, видимо, воронью. На заднем плане — котелок, в котором варилась неудачливая птица. Картинка так и называется—«французский вороний суп». Под ней—стихи самого Ивана Теребенева:
Беда нам с великим Наполеоном!
Кормил нас в походе из костей бульоном: В Москве попировать свистел у нас зуб, Не тут-то!—Похлебаешь же хоть вороний суп!
Аналогичный сюжет изображен и на одной из картинок лубка под названием «Азбука из 8 картинок на тему войны 1812 года», хранящегося в том же музее. Композиция ее—та же, что у И. Теребенева, но стихотворение иное:
Ворона так вкусна!
Нельзя ли ножку дать, А мне из котлика хоть жижи полизать.
Связь ходячего анекдота, лубочных картинок и басни Крылова «узаконена» и одним из первых иллюстраторов произведений баснописца—А. П. Сапожниковым (1795-1855), «русский колорит» рисунков которого с похвалой отмечал В. Г. Белинский. В гравюре к басне «Ворона и Курица», в сущности, отражен тот же сюжет. На переднем плане—четыре французских солдата. Двое сидят перед треножником, на котором висит котелок. Третий, стоящий, пока
122 **470ВОРОИА П0ПАДАвстп?
зывает пальцем в котелок, четвертый, справа от треножника, держит в одной руке общипанную ворону, а в другой — охапку дров. На заднем плане — горящая Москва. Репродукция этого рисунка помещена и в одном из изданий крыловских басен 1978 г.
Взаимосвязь народного анекдотам басни «Ворона и Курица», как видим, несомненна. Может возникнуть, однако, вопрос: не является ли этот анекдот просто популярным пересказом басни Крылова? В фольклоре такое, действительно, возможно: многие литературные сюжеты передаются «из уст в уста» и приобретают свою бытовую, народную конкретику.
На этот вопрос отвечает историк русского языка Т. А. Иванова. «Возможно,—пишет она, — именно эта заметка (в «Сыне Отечества».—В. М.) побудила Крылова написать басню “Ворона и Курица”» (Иванова 1976,89).
Эго предположение легко доказать фактами, ибо в журнале «Сын Отечества» регулярно публиковались и произведения нашего баснописца. В том же номере, в котором опубликован анекдот о вороне и французах, — причем сразу же за разделом «Смесь» — помещена басня «Обоз» и патриотическое стихотворение И. А. Крылова «Куб-ре». Оно названо в честь реки Кубры близ села Слободка, где поэт часто бывал и откуда старая и больная мать друга поэта — графа Хвостова после вступления Наполеона в Москву уехала, не желая оставаться на захваченной врагами территории. Вполне возможно, что этот патриотический поступок и народный рассказ о французском «супе из ворон» стали сюжетным «толчком» басни Крылова.
Более того: сама эта басня появляется буквально в следующем номере того же «Сына Отечества». Правда, она называется не «Ворона и Курица», а проще — «Ворона», но хронологическая последовательность появления анекдота и басни в журнале говорит сама за себя. В дальнейших публикациях басня обрела и название, к которому мы привыкли и которое отражает «идеологическое противостояние» двух ее главных персонажей, и некоторые лексико-фразеологические вариации. Например, в первоначальном тексте вместо привычного «А ведь ворон ни жарят, ни варят» было «А ведь ворон, ты знаешь, не едят», а предваряющая мораль фраза звучит немного иначе:
Но вместо всех поживок ей, Как голодом морить Смоленский стал гостей, Сама к ним в суп попалась.
Эти правки—живое свидетельство неутомимой работы баснописца над языком своих произведений. Работы, максимально
123 ЗА 410 B0FQHA ПОПАЛА СУП?_
приближающей этот язык к афористичной, «поговорочной» народной речи.
Нет сомнений, что чуткий к живому слову И. А. Крылов обратил внимание на явную связь анекдотической «вороны в супе» с древней русской поговоркой о куре. т. е. петухе, попавшем во щи. Тем более, что эта связь намеренно подчеркивается и в самом анекдоте. Историки русской фразеологии прямо связывают выражение попался как ворона в суп с оборотом попал как кур вощи—обычно в связи с весьма сложной и запутанной историей последнего (Ми? хельсон 1901-1902 II, 36; Гвоздарев 1982, 57; Иванова 1976, 89-90). Лишь один из комментаторов русских пословиц и поговорок XIX в.—И. Редников, также отталкиваясь от анекдота, пытался в 1883 г. «поправить» историю выражения о куре, отдавая хронологический приоритет интересующему нас сравнению. «Правильнее было бы сказать, — пишет он, — “попал как ворона во французский суп”, потому что очевидцы 12 года рассказывают, как в Москве французы ежедневно ходили на охоту—стрелять ворон, и не могли нахвалиться своим soupe aux corbeaux» (Редников 1883,185). Более ранняя (уже с XVI—XVII вв.) фиксация поговорки о куре во щах, однако, убедительно подтверждает ее первичность.
О происхождении этой поговорки много спорят. В этом очерке нет возможности излагать все точки зрения и коррективы ее написания типа во щи, во щи, в бщип — тем более что это частично сделано в статье А. И. Молоткова, опубликованной в «Русской речи». Ее автор, как и Т. А. Иванова, предполагает, что злополучный кур попал именно в русские щи. т. е. деревенское жидкое кушанье из капусты или щавеля. Сопоставление с аналогичными поговорками в других славянских и неславянских языках и диалектах позволяет, однако, предположить, что оборот о куре ‘петухе’ первоначально звучал попасть как кур во щип. где щип — ‘ловушка в виде расщепленной деревянной планки’. Тем не менее уже давно (с XVI—XVII вв.) этот оборот переосмыслялся, ибо общеизвестное слово щи было гораздо привычнее диалектного щип. Не случайно и русские словари издавна фиксируют его именно в форме попал как кур во щи. (Об истории оборота попал как кур во щи см. в очерке «Куда же попал кур?».)
Для истории оборота о «вороньем супе» важно прежде всего то, что в некоторых восточнославянских диалектах отразилась именно «кулинарно» переосмысленная основа древнего выражения: яросл. попасть как гусь во щи; новг. попасть как гусь в кашу; кубан. попался как курица в борщ; укр. (львов.) впав в 6idy як курка в борщ,
124 ЗА 470 ВОРОНА П0ПМА»СТГ17
впав як курка в сирбавку (т. е. похлебку), впав як котя (т. е. котенок) в борщ. Ср. народную шутку, записанную в 1854 г. Ф. И. Буслаевым: Дичь во щах, а все тараканы. Все они имеют узколокальный характер, что может свидетельствовать именно о влиянии вторичной ассоциации. Более того, нельзя исключить и воздействия литературной традиции: не случайно в сибирских (красноярских и иркутских) городах Л. А. Андреева и Л. И. Ройзензон записали именно сравнение попался как ворона в суп (РАСл. Ольх., 179), а украинский собиратель И. Гурин зафиксировал на Украине разговорное попал як ворона в юшку (Гурш 1974, 155). Здесь — явное отражение истории о вороне, попавшей французам в котелок.
Сопоставление анекдота 1812 г. и басни позволяет глубже заглянуть в языковую кузницу «дедушки Крылова». В анекдоте новое сравнение о вороне прямо связывается с древней поговоркой о куре. Баснописец же оставляет эту поговорку языковым фоном, который хорошо просматривается из фабулы и переносного значения оборота, завершающего басню, — попался как ворона в суп. Но не просто фоном. Вполне вероятно, что даже сам образ Курицы, противопоставленной Вороне, навеян именно «глубинной» ассоциацией с этой поговоркой.
Один из главных моментов, поддерживающих это противопоставление, — ассоциации Курицы с домашним, родным миром, с насестом, гнездом, пользой для хозяйства. Они подкрепляются «фоновой» противопоставленностью «своих» домашних русских щей в поговорке о куре с чуждым, некрестьянским супом в выражении о вороне. Ведь слово суп, как известно, — французского происхождения (фр. soupe). Кстати, эту противопоставленность подчеркивает в своем словаре и В. И. Даль: «У нас супу, как не русской похлебке, противопоставлены щи, борщ, солянка и проч.». Она отражена и в шутливо-иронических поговорках, приводимых в его словаре: У супа ножки жиденъки; Хорош бы суп, да без круп; Этот суп только пучит пуп.
Естественно, что басенное противопоставление двух главных персонажей заставило И. А. Крылова отказаться от всех отрицательных или шутливо-насмешливых ассоциаций курицы, известных народной речи (ср. как мокрая курица, как слепая курица, как курица лапой и т. п.). Но зато отрицательный заряд, связанный в русском фольклоре с вороной, баснописцем был использован почти полностью.
Вот некоторые народные сравнения, характеризующие каркающую «вещунью» и «каргу»: прост, как ворона ‘о простом и глупо-
125 ЗА 470 ПОПАЛА > СУП?______
ватом человеке’; перм. как ворона на падапище (летит) ‘о жадной, корыстолюбивой женщине’, глядит (смотрит) как ворона в кость; кубан. заглядаться як ворона в масляк ‘о жадно, настороженно и пристально глядящем человеке’; яросл., севернорус. говорит (каркает) как ворона; кар. грает как ворона ‘о громко кричащем, резко говорящем или плачущем навзрыд человеке’, загракать как ворона ‘о громко закричавшем, заплакавшем человеке’, каркает как ворона ‘о человеке, предвещающем невзгоды, бедствия’; арх., ко-стром., перм. (остаться) один как ворона без обороны ‘об одиноком и беззащитном человеке’; пск. пустой как ворона ‘о неумном человеке’; брян. раскаркался (разинул рот) как ворона ‘о громко, сварливо раскричавшемся человеке’, ободрали як синюю ворону ‘о человеке, которого лишили всего имущества, оставили ни с чем’, напасть как на мокрую ворону ‘о неожиданном, внезапном нападении на человека, не оказывающего никакого сопротивления’.
Внимательно перечитывая эти сравнения на фоне басни, мы обнаружим в них многие черты характера крыловской Вороны—корыстолюбие и алчность, неразборчивость и всеядность, приспособленчество и недальновидную расчетливость, граничащую с отсутствием истинной, т. е. «роевой», народной мудрости. Черты, которые привели ее к трагическому, но отнюдь не вызывающему сострадания исходу во время памятной холодной и голодной зимовки французов в Москве.
Что такое гак?
До штаба отдельной бригады можно было долететь на самолете за один час, на лошадях — потратить сутки с гаком!
А. Н. Толстой. Хождение по мукам
Нет, пожалуй, более приблизительной единицы измерения, чем наш фразеологический гак. Выражение с гаком уже потому привлекает внимание любителей языка, что им можно обозначать
самые разные отрезки расстояния, времени или добавки к весу. Характерна в этом отношении реакция иностранцев на это украинское, русское и белорусское выражение. Житель Западного Берлина Хайнц Ф. Криле, например, в письме в редакцию журнала «Русский язык за рубежом» с недоумением отмечал, что гак имеет самый разный метрический диапазон. Он слышал, в частности, такую фразу: «В одном гаке от пяти до ста километров» (Ольшанский 1969).
Действительно, фразеологический гак применим практически к любому измеряемому объекту и может характеризовать добавку или излишек самой разной величины:
«С тех пор прошло двадцать лет с гаком» (С. Диковский. Бери-бери); «— Молода еще иа свидания бегать... только шестнадцать лет.—Все и будет шестнадцать! Мне уже семнадцать с гаком» (В. Чудакова. Чижик— птичка с характером);«— А между прочим, знаете ли вы, дорогой товарищ, что мы выполнили две годовые программы? Не слыхали? Так пусть будет вам известно: две годовые нормы, причем с гаком» (В. Ажаев. Про обыкновенную пилу).
Чаще всего, однако, этот оборот употребляется именно с мерами расстояния: «Противоположный берег довольно высок: пожалуй, метров двадцать с гаком» (В. Шишков. Буря); «— Вот он какой, Байкал-то наш батюшка!—Эка диковина, братцы, ширина-то! — Верст пятьдесят будет, пожалуй!—Какой тебе пятьдесят, тут все сто клади, да еще с гаком» (В. Балякин. Забайкальцы).
Конечно, на вопрос о размерах фразеологического гака может ответить история нашего выражения. Но оказывается, что этимологи могут на этот вопрос ответить с еще меньшей степенью точности, чем те, кто определяет его расплывчатую величину. Авторы «Этимологического словаря украинского языка», например, так и пишут: «не зовам ясне» (ЕСУМ1,454). Правда, слово гак. заимствованное из немецкого (Haken ‘крюк, багор’, ‘соха’ и др.), имело прежде и чисто «измери-
127 470 ТАК0Е ГАК?
тельное» значение. В словаре В. И. Даля, например, гак, помимсй прочего, и «мера земли в балтийском крае (т. е. Остзейских провиц^ циях), не равная, смотря по качеству почвы: рижский гак почти вчет-^ веро больше эзельского, прочие между ними» (Даль 1,341). Это зна-чение (оно, кстати, известно и немецкому языку), однако, не могла стать основой русского и украинского приблизительного фразеоло-’ гического «измерения», ибо никак не подчеркивает «излишности»^ «сверхмерности» и к тому же не встречается в украинском языке,; Вот почему этимологи предлагают два разных объяснения этогф оборота.
Первое основано на предположении, что у восточных славян слово гак некогда имело значение ‘коса, деревянная ручка косы’, а также ‘мера, равная длине ручке косы’. Позднее якобы это старинное слово забылось и было вытеснено словом коса (также известным в метрическом значении), а гак стал употребляться весьма расширительно, «в смысле меры расстояния гораздо больших размеров, чем обыкновенные размеры орудия» (Молчанова 1973,63).
Вторая гипотеза отталкивается от весьма специфического про-, мыслово-рыболовного термина гак, записанного И. М. Дуровым в 1929 г. на Соловках. Гак—«термин, относящийся к мерам длины и веса неопределенной величины. Некоторый излишек против нормальной величины меры или веса. Особенно большую роль играет гак среди рыбаков на промысле при определении выловленной рыбы до ее реализации» (Дуров 1929,19). На основании такого определения Г. Я. Романова делает вывод, что в основе оборота с гаком лежит гак ‘крюк, на котором взвешивалась пойманная рыба’; вес этого крюка являлся своеобразной добавкой, излишком к чистому весу рыбы. Так у значения ‘железный крюк’, которое, действительно, является первичным для заимствованного из немецкого языка слова гак, якобы и появляется значение ‘излишек, добавка’. «Получив новое значение в рыболовной терминологии,—заключает автор этой гипотезы, — слово гак начинает употребляться более широко, обозначая не только излишек веса, но и излишек при измерении расстояния, определения времени» (Романова 1975,143).
Какое же из этих предположений верно?
Пожалуй, оба следует признать весьма гипотетичными. Связь гака с косой, как мы видели, основана лишь на реконструированном для нашего слова значении. Трудно предположить, что эта связь, породившая оборот, известный украинцам, белорусам и русским, не оставила никаких следов в соответствующих языках и диалектах. Слабым
128 чт°™и°еглк7
местом является здесь и сама логика семантического развития выражения, ибо ничего излишнего, «прибавочного» в такой мере, как гак ‘коса’, нет. Если измерение земельного участка происходило именно этим эталоном, то прибавление еще одного гака внутренне неоправданно. Не говорим же мы: «Двадцать километров с километром» или «пятьдесят метров с метром»—проще назвать 21 километр или 51 метр.
Гипотеза Г. Я. Романовой в этом смысле выгладит более логичной, ибо «излишность», «прибавочного,» здесь как будто бы и получается из-за учета веса «инородного» по отношению к рыбе железного крюка. Не случайно и авторы цитированного уже «Етимолопчного словника украТнськошови», признавая этимологию фразеологического гака «не зовам ясною», тем не менее принимают именно версию Г. Я. Романовой: «очевидно, виникло вриболовецькому середовипц i опечатку означало вагу гака, на якому зважувалася зловлена риба, як додатко-ву величину до чисто! ваги риби» (ЕСУМ1,454).
Принять эту гипотезу, однако, нельзя по «документальным» и географическим соображениям. Ведь в рыбопромысловом словаре, на который ссылается Г. Я. Романова, гак не имеет значения ‘железный крюк, на котором взвешивается рыба’. Это, как мы видели, — всего лишь обозначение «некоторого излишка против нормальной величины меры или веса», причем «неопределенной величины», а отнюдь не наименование рыболовецких весов. Следовательно, это тоже не что иное, как смысловая реконструкция, а не опора на реальный языковой факт.
При решении вопроса, как кажется, очень важны два обстоятельства: к какому именно «мерному» объекту первоначально относился наш фразеологический гак и откуда (в географическом смысле) это выражение попало в литературные языки восточных славян.
На второй вопрос нам помогают ответить как классическая литература, так и диалектные данные. Очень важно здесь употребление оборота с гаком у А. И. Куприна в «Ночлеге»: «Хохлы лениво, с расстановкой отвечали, что до Нагорной “версты три, або четыре, мабудь, е, с гаком”».
Русский писатель — а он один из первых, кто в литературном русском языке употребил выражение с гаком, —делает, как видим, особый акцент на том, что расстояние до Нагорной измеряли пресловутым гаком именно украинцы, причем он весь их ответ передает на украинском просторечии. В русских говорах, действительно, это выражение активно представлено именно в тех районах, которые
ЧТО ТАКОЕ ГАК?
близки к Украине, Белоруссии или Южной России: в костромских и ярославских, донских, псковских, — хотя, конечно, благодаря широкой известности в литературном языке его можно сейчас услышать и в других зонах. Активное употребление оборота белен русами и украинцами — причем именно в народном обиходе — заставляет еще раз усомниться в возможности связи нашего гака с наименованием меры для приблизительного взвешивания рыбы, записанной (и то, как мы видим, далеко не строго терминологично!) на Соловках в конце 20-х годов XX в. Скорее всего, запись на Соловках производна от фразеологического выражения, «экстрагирована» из него, о чем и свидетельствует контекст, приведенный в словаре.
Наблюдение за употреблением оборота з гакам, з гакам, с гаком в народной речи украинцев, белорусов и русских многое дает и д ля того, чтобы представить себе первоначальную сферу применения нашего гака. Чаще всего—как и в литературном языке—здесь речь идет именно об излишнем расстоянии. В знаменитом украинском словаре Б. Д. Гринченко выражение з гаком иллюстрируется предложением, в котором фигурируют известные «землемерные» единицы того времени: «По дв! десятин й вклм аршин та трошка и з гаком» (Гршченко 1,266). Вот аналогичные примеры из русских и белорусских диалектов:
«— А сколько до Шишкина-то будет? — Десять верст с гаком. — А велик ли гак-то? — А кто его знает, никто не мерял» (костром., яросл. — СРНГ 6,102); «Прашол семь киламетраф з-гаком Дон» (СДГ 1,94); «Будит вам да Пажеревиц (название деревни) десять з гаком» (ПОС 6, 131); «От гак! Больш за версту!» (Крывщю, Цыхун, Яшкш 1, 191); «Да Добрыга ат’етуля сем вёрст за гакам» (Юрчанка 1972, 258).
Все эти факты приводят к выводу, что гак в нашем обороте не какая-то бывшая точная единица измерения, а просто крюк, который приходится давать, если нет прямого пути. Кстати, в украинском языке обороты дати гаку и зробити гак и значат ‘пройти, проехать большее расстояние, двигаясь кружным путем’. Выражений подобного типа в восточнославянских языках и диалектах немало. Например, в одном русском можно назвать дать крюка или дать кругаля, попавшие в литературный язык и точно соответствующие украинским дати гаку и зробити гак, и ряд диалектизмов: дать кругу, дать кривуля, ворон, дать околицу, дать огибня и т. п. Ясно, что делать такие объездные маневры — это и значит ехать липшие версты или километры.
130 470 ТАКОе ГАНТ ____________
Употребляются такие слова и в сочетании с предлогом с. Так, диалектное слово завёртка ‘веревочная петля или кольцо из ремня, проволоки или прутьев’ образует «метрический» оборот с за* вёрткою ‘с избытком, слишком’. Он употреблялся некогда в Поволжье для измерения приблизительной, но довольно большой глубины: «Семь с завёрткою означает с лишком семь футов глубины» (СРНГ 9,305). Подобным же образом созданы известные украино кие выражения з верхом, з наспом, з наспою, з лишком или рус. с верхом, слишком, с избытком.
Следовательно, гак в выражении с гаком никогда настоящей единицей измерения и не был. Это лишь память о тех обходах и объездах — «крюках», «кругалях» и «огибнях», — которые приходилось «давать» нашим предкам, если столбовой дороги не было. Словом, это память о преодолении нужного расстояния «с гаком».
Без какого глазу дитя?
—Меня интересует, — спросила Желтова, — в Маньчжурской армии дела обстоят также, как у нас, или лучше?
— Там хотя единоначалие есть, а у нас в Артуре — Стессель одно, Смирнов — другое, Витгефт — третье, — заметил Звонарев... — А как известно, у семи нянек дитя всегда бывает без глаза.
К. Н. Степанов. Порт-Артур
Всем известная пословица р семи няньках как будто и не требует специальной расшифровки. Все слова, ее составляющие, понятны, переносный смысл предельно ясен: когда за какое-то, дело берется сразу несколько человек, то оно выполняется обычно не лучшим образом. Авторы словарей пословиц подчеркивают, что основной акцент этой пословицы —характеристика безответ-
ственного отношения к чему-либо, что исполняется, когда люди или организации надеются друг на друга (Жуков 1966, 461-462; Фелицына, Прохоров 1988,104; Кузьмин, Шадрин 1989,264):
«— Если бы русские литераторы надумали издавать на паях журнал, — прибавил он [Некрасов], — то оправдали бы пословицу: у семи нянек всегда дитя без глазу. Я много раз рассуждал с Белинским об основании нового журнала, но осуществить нашу заветную мечту, к несчастию, невозможно без денег» (А. Я. Панаева. Воспоминания); «Про названный коричневый дом один местный администратор сострил: — Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция — совсем институт благородных девиц. Но, вероятно, по пословице, что у семи нянек дитя бывает без глаза, этот дом поражает своим унылым казарменным видом, ветхостью и полным отсутствием какого бы то ни было комфорта, как снаружи, так и внутри» (А. П. Чехов. В суде); «За зимовку скота отвечает один бригадир со своими людьми, а корма заготавливает ему другой бригадир, другие люди. И валят вину друг на дружку... — У семи нянек дитя без глазу» (В. В. Свечкии. Районные будни).
Заглянув в словарные комментарии, однако, мы увидим, что расшифровка буквального смысла пословицы не так проста, как кажется с первого взгляда. Одни комментаторы объясняют сочетание без глаза (без глазу) буквально, т. е. как ‘безглазый ребенок’, другие считают, что слово глаз здесь значит ‘присмотр, надзор’. «Без глазу (устар.) —без присмотра, без надзора»,—пишет, например, В. П. Фелицына, известный лексикограф и исследователь русских пословиц (Фелицына, Прохоров 1988,104).
^32 Ь° ИАХОГО (ЛАЗУ ДИШ?_________
Такое толкование весьма распространено в нашей лексикографической традиции. В 4-томном словаре под редакцией Д. Н. Ушакова значение ‘надзор, присмотр’ выделено даже особо—как второе значение слова глаз, хотя оно практически реконструировано на основе нескольких устойчивых выражений {тут свой глаз нужен; нужен глаз да глаз) и интересующей нас пословицы. Примерно так же поступают и составители нового Малого академического словаря, хотя и квалифицируют при этом глаз ‘надзор, присмотр’ не как самостоятельное значение, а как оттенок к значению ‘способность видеть, зрение’. Оттенок, однако, выводится именно из нашей пословицы. Именно так растолковывают сочетание без глазу и иностранному читателю. Авторитетный русско-английский Оксфордский словарь Маркуса Виллера, например, приводя к пословице о няньках английский эквивалент Тоо many cooks spoil the broth (‘Слишком много поваров портит похлебку’), дает и уже знакомую нам расшифровку: “А7. where there are seven nurses the child is without supervision” (букв, ‘там, где семеро нянек, дитя без присмотра’) (Wheeler 1985,415).
Разночтение в трактовке глубинного смысла пословицы нашло свое отражение в популярных изданиях русской паремиоло-гии. Любопытно, что в двух небольших собраниях, изданных в одно и то же время и адресованных одному и тому же— немецкому— читателю, даются разные толкования: в словаре М. Я. Цвиллинга она объясняется на основе конкретного значения слова глаз (Bei sieben Kindermadchen verliert das Kind ein Auge ‘При семи няньках ребенок теряет глаз’), в словаре Г. Л. Пермякова — на основе переносного ‘присмотр’ (Bei sieben Ammen (gleichzeitig) bleibt das Kind ohne Aufsicht ‘При семи няньках ребенок остается без присмотра’).
В «Русско-английском словаре пословиц и поговорок» С. С. Кузьмина и Н. Л. Шадрина была дана «диалектическая» трактовка нашей пословицы. «Компоненты “без глазу” или “без глаза”,— пишут авторы, — обычно значат ‘без ничьего присмотра’ (“in nobody’s саге”), или могут даже также означать ‘потерявший глаз’ (“lost one’s eye”)» (Кузьмин, Шадрин 1989, 264). Поскольку это «соломоново решение» оставляет вопрос о буквальном смысле пословицы открытым, необходима какая-то дополнительная информация, которая привела бы к объективной расшифровке.
И такая информация весьма доступна. Загляни любой составитель названных словарей в соседние славянские языки—и загадка разгадывается однозначно.
133 БЕЗ КАКОГО (ЛАЗУ ДИТЯ?
Начнем с самых близких к русскому языков—белорусского и украинского: У сям! нянек дзщя без носа; Де багато (багацько) няньок, там дитя без головы. Как видим, вместо русского глаза здесь фигурируют именно части тела, что подтверждает малопопулярную в русской лексикографии расшифровку—«безглазый», а не «беспризорный» ребенок. Еще больший набор физических недостатков у ребенка, о котором должны заботиться многие люди, обнаруживается в зеркале польских пословиц: Gdzie wiele nianiek (piastunek), tarn dziecko bez nosa ‘Где много нянек, там ребенок без носа’; Gdzie wiele nianiek, tarn dziecko bez r$ki albo nogi ‘Где много нянек, там ребенок без ноги или без руки’; Gdzie wiele nianiek, tarn dziecko bez glowy ‘Где много нянек, там ребенок без головы’.
Набор «инвалидности» может выражаться в славянских пословицах и более обобщенно: укр. Де багато няньок, там дитя калша; Ом баб — clm рад, а дитя безпупе; пол. Gdzie wiele nianiek, tarn dziecko chore (garbate, krzywe) ‘Где много нянек, там ребенок болен (горбат, крив)’, Gdzie duzo mamek, tarn dziecko kaleka (kulawe) ‘Где много нянек, там ребенок калека (хромой)’; болг. Девет бабы — хилаво дете ‘Девять нянек — болезненный ребенок’, Кое дете много баби гледат, хилаво излиза ‘Какого ребенка опекает много нянек, у того болезненный вид’, Много баби — килаво дете ‘Много нянек — больной ребенок’. Характерно, что автор Болгарско-русского словаря пословиц С. И. Влахов, приведший последние три эквивалента, дает и верный буквальный перевод русской пословицы о семи няньках на болгарский язык: При седем бавачки детето безоко — ‘У семи нянек дитя безглазое’ (Влахов 1980,237).
Такую расшифровку первоначального образа нашей пословицы подтверждают и некоторые варианты, в которых фигурирует именно ‘глаз’: укр. Де det няньки, там дитина без ока (Франко II, 460), пол. Gdzie wiele nianiek, tarn dziecko krzywe ‘Где много нянек, там ребёнок одноглаз’ (NKP1,529).
Славянские параллели не только проясняют образ нашей пословицы, но и показывают ее определенную специфику по сравнению с ними. Ведь именно в русском языке множество опекунш выражено «магическим» для нашего фольклора числом семь—другие «цифровые» варианты у нас почти не представлены. И это не случайно, поскольку многие наши пословицы и поговорки опираются на это число: Семь раз отмерь, один — отрежь; Семь бед — один ответ; Семеро одного не ждут; Семеро с ложкой, один с сошкой; Семь дел в одни руки не берут; Семь лет молчал, на восьмой вскричал; Семь
134 ЬР КАКОГО ГЛАЗУ ДИТЯ?
топоров вместе лежат, а две прялки — врозь; за семь верст киселя хлебать; на седьмом небе; семь верст не околица... У других славян, как мы видели, в пословице о няньках и ребенке магическая семерка представлена в белорусском и (хотя при ином компонентном «раскладе») в украинском. В польской речи вариант с этим числом зафиксирован лишь один раз и довольно поздно — в 1930 г.: Gdzie mamek siedem, tarn dziecko kulawe ‘Где семь нянек, там ребенок хромой’ (NKP1,529).
«Разброс» числовых показателей для аналогичных пословиц, как мы видели, весьма велик — от двух нянек в украинском до девяти в болгарском. В польских сборниках пословиц кроме двух и семи можно найти и шесть нянек. Преобладают, однако, в большинстве языков обобщенные обозначения множества—укр. богато, багацько, пол. wiele, duzo, mnogi, болг. много. Это — лишнее подтверждение обобщенно-множественного смысла числа семь в русских пословицах и поговорках.
Итак, внимательное наблюдение за вариантностью пословицы о няньках и ребенке не оставляет никаких сомнений в том, что речь здесь идет именно о ‘глазе’, а не о ‘присмотре, надзоре’. Но это еще не все. Именно варианты и параллели нашей пословицы помогают объяснить, почему в русской словарной традиции столь настойчиво глаз ассоциировали с присмотром. Ведь параллельно в народе бытовала и другая пословица—о пастухах: У семи пастухов не стадо (Михельсон 1901-19021, 423). Она имела в славянских языках также свои вариации и аналогии типа рус. У одной овечки да семь пастухов или чеш. Cim vic skotakuv, tim vStsi Skoda ‘Чем больше пастухов, тем больше убыток’. В этой пословице значение ‘присмотр, надзор’ явно акцентируется, что, видимо, и повлияло на некоторое смещение акцента и у близкой по смыслу пословицы о семи няньках. Закреплению этой вторичной ассоциации способствовало и то, что в таких известных народных выражениях, как за ним глаз да глаз нужен, хозяйский глаз и т. п., слово глаз действительно приобретает более абстрактное значение — ‘присмотр’.
Переосмысление первичного образа нашейтюсповицы, видимо, — история относительно недавняя. Ведь в начале XIX в. сочетание без глазу в ней не только воспринималось буквально, но и могло шутливо обыгрываться на основе такого буквального восприятия. Вот как это делает один из писателей того времени, А. К. Измайлов (1779-1831), в своем «Письме к издателям “Северной пчелы”»:
135 КАКОГО ГЯАЗУ ДИТЯ?
«Есть русская пословица: у семи нянек дитя без глазу. У меня, правда, не было их столько, но от добрых нянек и кормилиц... старший сын мой также без глазу, младший с пребольшим горбом, одна дочь с кривым боком, а другая без ноги».
Как видим, весь набор уже известных нам по славянским поело вицам увечий здесь представлен со всей полнотой. Что ж, видно—и вправду: во многих няньках—многая печаль...
Когда правил царь Горох?
— Выехал [предок мой] из России... «при царе Горохе», — нет, не при царе Горохе, а при Великом князе Иване Васильевиче.
— Ая так думаю, что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных...
И. С. Тургенев. Степной король Лир
Накануне нового, 1834 г. в
Москве вышла брошюра с весьма странным названием: «Подарок ученым на 1834 г. О царе Горохе. Когда царствовал Государь царь Горох, где он царствовал и как царь Горох перешел в преданиях народа до отдаленного потомства». На обложке ее красовался эпиграф: «Ergo. Мотай себе на ус».
По преданию, брошюру эту написал один из воспитанников Московского университета К. К. Лебедев, ставший впоследствии сенатором. В сатирических тонах в ней описывалось университетское заседание Ученого совета, на котором бурно обсуждалась проблема генеалогии царя Гороха. Спор ведут философы, историки и эстетики, а заседание напоминает собрания членов Пиквикс-кого клуба.
Вот лишь несколько конспективных выписок из этой брошюры, хранящейся в отделе редких книг Библиотеки РАН в Санкт-Петербурге:
«— Царь Горох ие существовал ни в фактах, ни в комментариях, ни в святцах, он — порождение грубой фантазии, хотя при этом столь же достоверен, как и Царица Чечевица.
— Царь Горох причитается к “существам духовным и вещественным”, “пантеистическим”, это Бог человека, который “почитает себя служкою всех бытий и бытодействий”.
— Наука природы — иа первом месте. Горох есть растение — и здесь нет физики. Посему Царь Горох есть описка и замещение другого факта, понягие атомистическое, которое невозможно преобразовать в динамической системе в царь-Боб или в царь-Стручок.
— Царь Горох есть фантастическое наименование народа (по положительности) или есть факир (по отрицательности)».
Один из спорящих философов приходит к агностическому заключению: «О столь таинственном, высоком предмете, как царь Горох, символ безусловной давности и шутки, совоключение всех народных своеземных и своевременных пословиц и поговорок», говорить трудно. «Но я осмеливаюсь взглянуть на это с высшей точки зрения, ориентировать идею царя Гороха, воссоздать в научном
^37 КОГДА ПРАВИЛ ЦАРЬ ГОРОХ?
мышлении постепенное развитие сего факта, говорю факта, ибо И миф есть факт, но идеальный, в мире умственном, в философии..; Там — на западе — небо, у нас — земля. Там — эфир, у нас — гороха С этой точки зрения я смотрю на царя Гороха, и сознаюсь в своем неведении, не могу опереться ни на одно нз моих сочинений» (К о б е к о Д. Ф. Подарок ученым // Русская старина. М., 1834. С; 347-448).
Брошюра о царе Горохе была едкой и остроумной шуткой, направленной в адрес некоторых заумных профессоров и ученых-схоластов того времени. Характерно, что в этой шутке вопрос о происхождении оборота при царе Горохе так и остается без ответа, нарочито затуманенный велеречивыми рассуждениями о судьбах народа, экскурсами в доисторическое прошлое и даже алгебраическими формулами.
Дискуссия ученых мужей Московского университета в канун 1834 г., как ни парадоксально, во многом предвосхитила «серьезные» споры филологов, этнографов и фольклористов о происхождении оборота о царе Горохе. В итоге мы имеем около десятка самых разных его толкований.
Одним из первых заинтересовался происхождением нашего фразеологизма известный знаток фольклора А. Н. Афанасьев, связавший царя Гороха с мифическим богатырем Покати-Горошком, который родился из горошины, проглоченной царицей. Развивая при этом свою излюбленную идею о символическом значении сказок, в Горохе он видит славянского бога грома Перуна, а тем самым — символ грома и молнии.
И. Е. Тимошенко отвергает эту гипотезу, не находя в поговорочных параллелях из других языков царского имени, аналогичного русскому Гороху. По его мнению, наш оборот поэтому является искажением распространенной греческой поговорки presbyteros Kodrou ‘древнее Кодра’, где Кодр—мифический царь Аттики. «Не переделал ли какой-нибудь грамотей имени Кодрос на Горох, передавая греческое выражение по-русски и руководствуясь при этом лишь созвучием: — Горо..у>, — задает он
риторический вопрос. При этом, как подчеркивает сам И. Е. Тимошенко, слабым местом его гипотезы является «разница в тоне: грек относился к имени своего последнего царя с полным уважением, чуть не благоговением, и употреблял свою пословицу вполне искренно; мы же произносим имя нашего мифического царя иронически, с полным недоверием ко всему, что происходит в его правление» (Тимошенко 1897, 143-144).
^33 К0ГДА пг*в>ц ЦАРЬ
Расшифровка имени в выражении о царе Горохе как Кодр — мифический царь Аттики, пожалуй, еще менее вероятна, чем мифологическая интерпретация А. А. Афанасьева. Такое искажение имени царя трудно аргументировать как теми семантическими различиями, о которых пишет сам И. Е. Тимошенко, так и фонетически. Да, собственно, и большой «перепад» зон распространения этих оборотов в двух языках также дает мало шансов для их непосредственного соединения.
Характерно поэтому, что никто из последующих исследователей генеалогии царя Гороха не принял гипотезы И. Е. Тимошенко. Трактовка же А. А. Афанасьева была принята на вооружение в разных ее аспектах.
Мифологическая связь царя Гороха с мифическим богатырем Покати-Горошком и далее — с Перуном была поддержана Т. Н. Кондратьевой, детально изучившей различные гипотезы и сделавшей попытку увязать их между собой (Кондратьева 1982, 48-55; 1983,40-41). В таком случае имя Гороха, объясненное А. А. Афанасьевым через общность его со словами грохотать и грохот (восходящим к *gorch: и далее — к *gors: *s (х; *ог > ого) может трактоваться как табу бога Перуна, подобно тому как у древних германцев горох был посвящен богу грома Тору. В соответствии с западной мифологической традицией горох можно рассматривать как трансформированный табуистический знак в мифологической народной традиции, аналогичный собственному имени. Возможности же сопряжения имени царя Гороха с личностью датского короля IX в. Горуха, признаваемые некоторыми мифологами, справедливо характеризуются Т. Н. Кондратьевой как «бездоказательные».
Мифологические ассоциации вообще достаточно далеко уводят некоторых исследователей, расшифровывающих загадку царя Гороха. Это имя связывается с заимствованием эллино-греческих божеств и обрядов через богословскую литературу в русский фольклор. По мнению таких исследователей мифологии и фольклора, как А. А. Потебня, А. А. Котляревский, О. М. Фрейденберг и Т. Н. Кондратьева, в шуточных так называемых бобовых, гороховых песнях, заговорах, сказках о царе Горохе, гороховом шуте и бедном Макаре есть эпизоды, позволяющие возвести героя нашей поговорки к итальянскому Макку—бобу, бобовому королю сатурналий, избиравшемуся народом для карнавального шествия (ср. греч. makar ‘блаженный, счастливый’ с наложением на лат. тасс 239 МИДА ПРАВИЛ ЦАРЬ ГОРОХ?____________________________
‘боб’). «Король Макк (боб) и царь Горох—очень древние персонажи мифологии, относящиеся к фаллистическому культу,—подчеркивает Т. Н. Кондратьева. — Бобы да и всякие стручковые плоды, носящие на древней Руси название гороха, были основным древним питанием до злаков... Бобы и горох были священной принадлежностью славянских алтарей и жертвоприношений. Поминальные яства древних славян состояли из бобов, гороха, сваренных в медовой сыте, употребляемых с творогом. На свадьбах, крестинах, похоронах ели гороховые каши — символ плодородия, олицетворенный в именах Макка и царя Гороха. Торжественный стол славян включал еду, приготовленную из цельных зерен. Ведь зерно сохраняет жизнь, а брошенное в землю—воссоздает ее. Оно — универсальный знак бесконечной жизни, извечный круговорот природы» (Кондратьева 1982, 51).
По этой версии, следовательно, римский языческий бог Макк— бобовый король, табу бога Сатурна, связывается одним узлом с нашим отечественным царем Горохом. Макк и его двойник—бобовый шут и дурак обычно возглавляли так называемые макарии (вариант сатурналий — празднеств Сатурна). На Руси праздники царя Гороха, как и макарии, приходились на Святки, а царь этот символизировал глупое, дурацкое «гороховое» счастье, был богом обжорства и глупости.
Историки и этнографы сообщают об отголосках праздника царя Гороха. В обрядах Богоявленья, например, они праздновались на западе России, когда заканчивались колядницы и наступал пост.
«Хозяин, вернувшись из церкви, насыпал на стол бобы или гороху, клал поверх освященный в церкви хлеб, написав везде мелом кресты, и говорил у стола: “Во время рождения Христа три царя [волхва] приезжали и сыпали около новорожденного золото, а мы за неимением золота — сыплем горох” — после чего сидящие за столом старались ловить его. Кто больше поймает — у того достаток будет больше. Затем ставилось большое блюдо или пирог с одним бобом. Кому боб достанется — тот царь Боб» (Крачковский 1834, 132, 176; см. также: Снегирев 1836-1838 I, 82).
Древность подобных мифологических переосмыслений гороха и боба не подлежит сомнению. Несомненно и то, что мифологические ассоциации так или иначе воплотились в значении и структуре оборота при царе Горохе. Проблема лишь в том, какова пропорция чисто мифологического и чисто языкового в таком воплощении.
140 И0ГДА ПРАВНЛ ЦАРЬ ПОГОХ?
Можно сразу сказать, что на семантику выражения весьма активно повлияла связь с народными сказками о царе Горохе, имеющими подчеркнуто-шутливый характер. Вот зачин одной из таких сказок: «В то давнее время, когда мир божий был наполнен лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь по имени Горох» (Афанасьев I, 263). Именно как крылатое слово из русского фольклора выражение о царе Горохе и рассматривается поэтому некоторыми лексикографами и фразео-логами (Ашукины 1987, 282; Берков 1980, 119; Фомина, Бакина 1985, 24).
Подтверждение прямой связи нашего выражения со сказками и присказками шутливого характера легко найти в русском фольклоре. Кроме зачина приведенной сказки оно употребляется и в первой фразе популярной сказки — «Война грибов», зафиксированной в сборнике А. А. Афанасьева и многим нашим детям известной в литературной обработке А. Н. Толстого:
«В старые-стародавние времена Царь Горох воевал с грибами. Гриб-боровик, над грибами полковник, — под дубочком сидючи, на все грибы глядючи, стал приказывать:
— Приходите вы, белянки, ко мне на войну!
Отказалися белянки:
— Мы — столбовые дворянки! Не пойдем на войну!
— Приходите, рыжики, ко мне на войну!
Отозвались рыжики:
— Мы — богаты мужики! Не пойдем на войну!
— Приходите вы, волнушки, ко мне на войну!
Отозвалися волнушки:
— Мы, волнушки, — старушки! Не пойдем на войну!
— Приходите вы, опенки, ко мне иа войну!
Отозвалися опенки:
— У нас ноги очень тонки! Не пойдем на войну!
— Приходите, грузди, ко мне на войну!
— Мы, грузди, — ребятушки дружны! Пойдем на войну!»
Любопытно, что в сказке, записанной А. А. Афанасьевым, упоминание о царе Горохе уже не начинает, а завершает повествование:
«Это было, как царь-горох воевал с грибами».
Собственно говоря, перестановка мест здесь не так и важна: важнее, что фразой о царе Горохе рассказчик определяет время «войны грибов»—это именно сказочные, незапамятные времена, столь давние, что слушатель может не очень и верить в истинность
141 ИСПРАВИЛ ЦАРЬ ГОРОХ?
происходящего. Важно и то, что именно царь Горох является врагом грибов, объявивших ему войну. Сказка о «войне гибов», в сущности, является в какой-то степени «перевертышем» нашего русского героического богатырского эпоса—так же как знаменитая греческая «Батрахомиомахия» («Война мышей и лягушек») когда-то была пародией на «Илиаду» Гомера. Гротеск и осмеяние здесь запрограммированы как самим сюжетом, так и героями сказки.
Сказка о войне грибов существовала в различных варианта^ и оставила след в народной фразеологии. Писатели прошлого века еще употребляли такие выражения, как при царе Горохе, как грузди с опенками воевали; давным-давно, когда опенки воевали с рыжиками и т. п.:
«— Когда ж это было?—Давно... При царе Горохе, как грузди с опенками воевали» (П. И. Мельников-Печерский. В лесах); «Где подвиги [царя Гороха], его столица, его могила—никто не знает. Жив он был давным-давно, когда опенки воевали с рыжиками, — вот только, что отвечает вам предание» (А. А- Марлинский. Поволжские разбойники). Аналогичные обороты можно найти и в разных народных говорах: при царе Горохе, когда бобы с опенками воевали; при царе Копыле, когда грибы с опенками воевали и т. п. На первый взгляд, в таких выражениях речь идет о «междоусобной войне» грибов при царе Горохе. Но мы уже видели из сказки, что гриб Боровик собирает не желающих идти на войну для борьбы, скорее всего, с самим царем Горохом. Об этом же недвусмысленно свидетельствует и народная песня, записанная В. И. Далем:
Отказалися масленки (опенки), У нас ноги больно тонки, Неподсилу нам стоять, Нель с Горохом воевать.
(Даль II, 522)
Свидетельство противоборства Гороха с грибами и другими растениями дают нам и некоторые пословицы и поговорки: олон. Не смейся, горох, — не лучше грибов: грибы поджарим, и тебя оставим; сиб. Не смейся, горох, над бобами, сам поваляешься под (вверх) ногами; Не смейся, горох, не лучше бобов: размокнешь, надуешься — лопнешь.
Аналогии шутливых войн можно было бы отыскать в фольклоре многих народов. Например, во фразеологии наших прибалтийских соседей отразились «гусиные войны» и «кошачьи войны», причем упоминание о них также связано с незапамятными, неверо
142 К0ГДА ЦАРЬ ГОКИ?
ятно давними временами: латыш, kad tie gaganu kari bija (букв, ‘когда проходили эти гусиные войны’), лит. maro kaCin karo metais (букв, ‘в годы чумы, кошачьей войны’) ‘очень давно’.
Прямая зависимость выражения о царе Горохе с различными жанрами русского фольклора, следовательно, несомненна. Она, собственно говоря, делает некоторые приводимые выше версии его происхождения неубедительными. В частности, отпадают ссылки на известные исторические (Кодрос) и мифические (Перун, По-кати-Горошек, Макк) имена, ибо «материальная», бытовая ипостась царя Гороха в шутливых сказках, песнях, присказках и пословицах видна достаточно отчетливо.
Необходим теперь лингвистический анализ, чтобы установить, по какому принципу наше выражение создано, что является основой его образа. В живой народной речи мы найдем немало оборотов со значением ‘в незапамятные времена, очень давно’. Рассмотрим лишь те из них, в которых есть имена «царей».
В первую очередь привлекают внимание варианты выражения о царе Горохе, где он либо величается по-иному, либо выступает с какими-либо своими «родственниками»: дядя — Белой Горох (XVII в. — Симони 1899, 94; Буслаев 1854, 96); при царе Горохе, при царице Морковке (Михельсон 1901-1902 I, ПО; Леонидова 1974, 102). Ср. также прост, при царе Горохе и царице Чечевице (моек., сообщено Д. А. Длуги); Сошлись отец Перец, да мать Горчица (Буслаев 1854, 141); Прошли те годы, когда богов были полны огороды, теперь чесноку и луку кланяются (ППЗ, 162); пск. при царе Горохе, когда людей было трохи ‘очень давно, неизвестно когда’ (КПОС) ит. п.
Часть подобных поговорок образована и с помощью известных имен, причем некоторые из них «намекают» на реальные ветхозаветные времена: колым. при Адамщине, при Адамовых веках (Богораз 1901,20), орл. при царе Давыду ‘очень давно’ (Арсентьев 1986II, 175). Большинство же таких «бытовых» крестьянских имен подчеркивают низкое происхождение, безродность соответствующих правителей или других лиц: орл. при царе Агёе (Арсентьев 1986 И, 175); острогожск. за царя Анохи, когда людей было трохи (Яковлев 1906, 97); ворон, при царе Митрохе, когда людей было трохи (Ройз. Хаз. Сл., 301); при дедушке Митрошке, когда денег было трошки (Даль IV, 435).
Немало шутливых поговорок этого ряда образовано с прозвищами—наименованиями бытовых предметов.
143 К0ГДА ПГА,ИЛ горох?
Фразеологизм при царе Копыле, когда грибы с опенками воевали построен по аналогии с выражением когда царь Горох с грибами воевал. Копыл — ‘короткий стоячий брусок в полозьях саней, служащий опорой для кузова; деревянная палка*. Оборот при царе Косаре известен в пермских (МФС, 108) и беломорских говора^; «Этот амбар стаял еще при царе Косаре» (ККС). Диалектное сло^ во косарь здесь значит ‘тяжелый нож, сделанный из обломка косм для расщепления лучины’, что сближает это выражение с оборотом при царе Копыле. Но при этом тут важна и ассоциация с цер-ковнославянским словом кесарь ‘царь’, по-народному переосмысленным.
К «растительным» царям можно отнести Ботута, который стал героем народной присказки «Жил царь Ботут, и вся сказка тут» (СРНГ 3,140). Здесь мы имеем, вероятно, дело с измененным диалектным названием лука-сеянца ботуна. Вариантом этой присказки является «Жил-был царь Тофута — и сказка вся тута!» В третьем ее варианте речь идет о растении, всем хорошо известном: «Жил-был царь Овес, он все сказки унес» (Даль IV, 190*571). Наконец, намек на подобного царя встречаем и в народном выражении Алыса время ‘очень давно’ (СРНГ 1,244), где алые (алис) соответствует названию сорняка Myagrum sativum, который в говорах называют и рыжиком.
Можно было бы привести еще немало русских диалектных выражений с тем же значением. Обычно их образуют имена несуществующих правителей. Нереальность может подчеркиваться прозрачностью мотивировки имени, нарочито насмешливой, как, например, бабушка Гугниха (т. е. гнусавая)—прародительница уральских казаков (СРНГ 7,199) или князь Бобыл из сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок». В народных сказках вообще один из приемов осмеяния царей—это наделение их разными обидными прозвищами. Наряду с Горохом можно встретить Лукопёра, Дорбду, Чубару, Прожору, Тресцита и т. п. Прозвище помогает «окарика-туриванию» внешнего облика таких царей. Так, у царя Дорода одна нога короче другой и потому он стоит и поворачивается только на одной ноге, а царь Постоялец — и того хуже: он «с одным боком, с одным воком, с одною ногою, с одною рукою, и половина головы, и половина бороды» (Новиков 1974,229).
Русские цари с нецарскими именами — это лишь начало славянской генеалогии царя Гороха. Кстати говоря, и в украинском, и в белорусском языках этот фразеологизм сохраняет свое «горо
144 KGfaA ЛГА,ИЛ гонш
ховое» имя. Меняется лишь предлог: укр. за царя Гороха и бел. за цардм Гарохам. В диалектах известны и разные вариации этих выражений: укр. за царя Горошка, за короля Горошка, полес. Це д1ело було ще за царя Горошки, 1ек не було хлгеба й трошки; це робиюсь за царя Горошка, ieK людей було трошки*, бел. за королём Гарохам, пры цару Гароху, пры царэ Гарошыку, пры царэ Гаросе, ср. цара Гардха пдмшць ‘быть очень старым, ветхим’. Украинские и белорусские лингвисты рассматривают такие выражения в историко-этимологическом и идеографическом ключе синонимов, обозначающих давно прошедшее время и связывают их с рус. при царе Грохе (Аксампау 1972,69-71; Лепешау 1981,54; Скрипник 1973,222).
В украинских говорах имя царя Гороха может заменяться названиями другого растения, как и в русских: за царя Хмеля, за старого Хмеля [людей було жменя]. Активны здесь и имена «подлого» происхождения: за царя Тимка [як була земля тонка] — нечто вроде нашего Тимошки, за царя Томка — то же, за царя Панька {Павлушки), за короля Сибка и т. п. Ряд этот можно продолжить: например, А. А. Ивченко в лемковских говорах записал обороты, близкие словацким и отражающие австро-венгерские «реминисценции»: за Матяш Краля, за Mapii Терези, за Ференц Йожка. Ср. лемк. за старого бога или за рижого бога (Номис 1864, 133) или бел. за дзедам шведам (Лепешау 1981, 50).
Не менее забавны фразеологические имена государей и в других славянских языках: пол. bylo to za krola Cwieczka (Gwozdika) ‘это было при короле Гвоздике’, bylo to za krola Cwieczka i brata jego GwoSdzia ‘это было при короле Гвоздике и брате его Гвозде’; mawiano za krola Leszka... ‘при короле Ореховом пруте’; za krdla Sasa ‘при короле Сйсе’, za krola Sobka ‘при короле Собке’; чеш. za krale Cvrcka ‘при короле Сверчке’, za krale Holce (Holovce) ‘при короле Голыше’, za Marie Teremtete ‘при Марии Теремтете’ (т. е. никогда не существовавшей королеве); словацк. to bolo za stareho Vida (нарочитое искажение имени святого Вита, вызванное ассоциацией с вид, видеть) и т. п.
«Родственников» царя Гороха можно встретить и за пределами славянского мира. Немецкое выражение Anno Tobak дословно означает ‘во времена царствования Табака’, французское du temps du roi Guillemot—‘во времена короля Гильемо’. Смысл немецкого и французского выражений тот же, что и смысл нашего при царе Горохе. Имя французского короля здесь значит ‘сойка’, это нечто вроде польского и чешского королей Гвоздика и Сверчка. Правда,
145 юг**ЦАРЬ rowx?
другое французское выражение этого типа — du temps du roi Dagobert ‘во времена короля Дагобера’—называет короля, который действительно правил, хотя и в истинно «гороховые» времена. Речь идет о Дагобере I (ок. 600 - 639) из династии Меровингов; который был правителем западной части франкского государств^ Нейстрии, а в 632 г. был провозглашен королем всех франков, Ясно, что для французов это времена столь же далекие, как и времена, «когда все звери говорили» (au temps ои les betes parlaint) или «когда все сморкались в рукав» (du temps qu’on se mouchait sur la manche), сопоставимые по допотопности разве что с английским правлением королевы Анны и детством ветхозаветного Адама (when Queen Anne was alive, since Adam was a boy) или немецким пожаром на Эльбе, который крестьяне некогда тушили соломой (Annoeens, als die Elbe brannte un de Bauem se mit Stroh loschten).
В каждом языке существует масса таких поговорок-шуток, где идея давности и «никогдашности» выражается так называемой «формулой невозможности». Ее давно уже изучают фольклористы и языковеды (см.: Богатырев 1962; Рязановский 1987; Taylor 1948-1949; MrSevic-Radovic 1987; МршевиЙ-РадовиЬ 1989). Такая формула строится обычно на противопоставлении несопоставимого — оксюмороне. Именно невозможность относит время, характеризуемое такими оборотами, в неизмеримо давние эпохи.
Таким образом, выражение при царе Горохе—одна из реализаций шутливой фольклорной «формулы невозможности». Царь Горох в качестве исторического лица столь же неправдоподобен, как сказочные говорящие звери, молочные реки с кисельными берегами или летающие жареные куропатки. Царь Горох — это нечто вроде рака, который свистнет на горе; лысого, который сделается кудрявым; мухи, которая породит паука.
Но случайно ли, что все-таки именно слово горох оказалось самым популярным царским именем в ряду русских, украинских и белорусских выражений, повествующих о допотопных временах? Конечно же, как все в народном творчестве, не случайно. С горохом связаны «обидные» ассоциации, отраженные во многих пословицах и поговорках: Горох да репа — обидное семя; Горох да репа животу не крепа; Горох да репа — в поле, а вдова да девка — в горе; Горох да репа в поле, а вдова и девка в людях не без обиды; Обидные семена в поле горох да репа, а в мире — вдова да девка; укр. Роди, боже, жито гоже, а без гороху проживем по троху.
Чем объяснить такие ассоциации?
146 КОГДА ПРАВИЛ ЦАРЬ ГОРОХ?
И на этот вопрос отвечают пословицы: Горох в поле да девка в доме — завидное дело: кто ни пройдет, тот щипнет; Мимо девки да мимо репки так не пройдешь; Тем завидны в поле горох да репа, что кто ни пройдет — щипнет; укр. Горох у пол1, як д1вка в дому: хто не пройде, той не вщипне; Горох у полг, що dieKa в KOMopi: хто прийде i ртне, кожний д1вку вщипне. Потому Репа да горох и сеются про воров. Не случайно слово гороховый стало синонимом чего-либо плохого, слабого: гороховая память — ‘слабая’, гороховые слова — ‘пустые’ и т. д. А назвать кого-нибудь гороховым пугалом, чучелом гороховым или шутом гороховым — прямое оскорбление. Как складывалась эта «оскорбительная» семантика, рассказано в специальном очерке этой книги (см. «Почему шут— гороховый?»). То, что она присутствует и в «обидном» имени нашего царя Гороха, несомненно. Возможно, именно гороховым пугалом и представлял себе наш остроумный предок восточнославянского царя Гороха. Выражение при царе Горохе^ видимо, не что иное, как плод народной шутки, в которой Горох является символом неправдоподобности, невозможности, а тем самым и исключительной давности происходящего.
Шутка эта продолжает жить благодаря фразеологической «консервации». Употребляя это выражение, наши писатели и публицисты так или иначе взывают к его каламбурной основе, иронически подкрашивая ею весь контекст:
«— Точно двести лет назад родился! — бормотал Петр Иваныч. — Жить бы тебе при царе Горохе» (И. А. Гончаров. Обыкновенная история); «Предусмотрительный Павел Иванович вынул из кармана маленький пружинный безменик, сделанный, наверно, при царе Горохе» (В. А. Солоухин. Владимирские проселки); «— Теперь у меня в памяти, как у Лермонтова: — Ребята, не Москва ль за нами? Умрем же под Москвой!... — Еще при царе Горохе, на заре века, в приходской школе учил, а вот ведь не забыл!» (К. М. Симонов. Живые и мертвые); «Вся Россия бренчит ведрами на огородах. Как, скажи, в бывалошные времена, при царе Горохе...» (Ф. А. Абрамов. Деревянные кони); «Молодые надели лучшие одежды. Старухи, посмеиваясь, вытащили из сундуков шитые при царе Горохе поневы, юбки, дутые из серебра тяжелые бусы. Сошлись, разгулялись, распелись» (Правда, 1979, 14 окт.).
Итак, изучение родословного древа нашего царя Гороха привело к его шуточной генеалогии. Этот царь—пародия на истинного правителя, восточнославянский король, изначально обреченный народом на осмеяние. Герой этот знаменателен уже тем, что подрывает миф о пресловутой «вере в доброго царя», часто припи
147 ПРЛВИЛ *» П>УОЖ?
сываемой нашему народу. Вера в царя-батюшку в нас искони х(Я дала рядом с безверием и осмеянием глупых правителей. И сочинйн тели сказок и пословиц это прекрасно понимали.
«Думают ли сказочники и их слушатели о действительном afa щесгвовании чудного тридесятого царства, с его жемчужными двор^ цами, кисельными берегами и пр.?—писал Н. А. Добролюбов. Считают ли действительностью войну царя Гороха с грибами, мо* гущество разного рода знахарей, колдунов, ведьм и пр., помощи доброго волшебника, защищающего невинность, и т. д.? Или же^ напротив, все это у них не проходит в глубину сердца, не овладев вает воображением и рассудком, а так себе, говорится для красы слова и пропускается мимо ушей... Подобные вопросы тысячами рождаются в голове при чтении народных сказок, и только живой ответ на них дает возможность принять народные сказания за одно из средств определения той степени развития, на которой находит-сянарод»(Добролюбов Н. А.Собр.соч.:ВЗт.Т. 1.М., 1950, С. 590).
В сказочных, фольклорных сюжетах, несомненно, присутствует и мифологическая вера, и мифологическое безверие. Порою они столь неразъятно переплетаются друг с другом, что места переплетения обнаружить почти невозможно. Порою же такая граница видна довольно отчетливо. Поговорка о царе Горохе — именно такой случай, ибо ее герой подвергается в русском фольклоре явному осмеянию.
Под какую гребенку стричь?
А даны ему такие права от советской власти?.. Мандата, небось, нету на такие дела, чтоб всех под одну гребенку стричь. Казаки — они тоже разные.
М. А. Шолохов. Тихий Дон
Выражение стричь под одну гребенку негативно характеризует уравниловку, стремление подогнать всех под один уровень, не считаясь с индивидуальными различиями: «Я приветствовал нацистов, потому что они провозгласили принцип духовной иерархии.
А теперь они стригут всех под одну гребенку» (И. Эренбург. Буря); «Я понимаю, что нельзя всех бывших [белых] офицеров стричь под одну гребенку. Настраивать бойцов против товарища Прищепы я не собирался» (К. Седых. Отчий край); «Кулака-мироеда и трудового крестьянина-середняка, тем паче бедняка, нельзя стричь под одну гребенку» (М. Кочнев. Потрясение); «Люди-то ведь разные... Я всех под одну гребенку не стригу» (Е. Мальцев. Войди в каждый дом).
Как вы заметили, все приведенные контексты—из художественной литературы XX в. Это не случайно, ибо и в собрании М. И. Михельсона, в котором обычно приводится обилие цитаций на заданную им фразеологическую тему, к обороту стричь всех под одну гребенку дано лишь толкование—«относиться к людям, обращаться
с разными лицами — одинаково, не принимая во внимание существенную разницу между ними» (Михельсон 1912,849). И хотя наше выражение фиксирует до него и В. И. Даль, видимо, оно еще не получило активного хождения в литературном языке XIX в.
Этимология его как будто ясна: сам глагол подсказывает, что речь идет о стрижке под гребенку. В некоторых употреблениях та
кое представление даже несколько оживляется подключением глаголов близкого тематического диапазона: «Любка бурно и гневно заговорила: — Нет, в литературе невозможно работать. Редакторы слишком энергично правят, утюжат, причесывают всех под одну гребенку» (М. Зощенко. Литературные анекдоты).
И тем не менее историки фразеологии по-разному понимают буквальный смысл этого оборота. Известные собиратели крылатых слов Н. С. и М. А. Ашукины конкретизируют такую стрижку до
ЗДд ПОД КАКУЮ ГРЕБЕНКУ СТРИЧЬ?
«солдатской стрижки под гребенку» (Ашукины 1955,412). Логика? вполне, надо сказать, уместная, ибо солдатская стрижка и есть под* равнивание волос под один ранжир. На такую трактовку, по-види-; мому, навела цитата из собрания М. И. Михельсона, где стричь под гребенку употреблено не только в терминологическом, «парикмахерском» значении ‘стричь коротко, не выше к голове приложенной гребенки’, но и в контексте о военном Инженерном училище: «В Инже* нерном училище... и кондуктора, отпустившего длинные волосы, и за длинную шевелюру офицера стригли “под гребенку”» (Ал. И. Савельев. Память Д. В. Григоровича. — Михельсон 1912,647).
Если бы выражение о гребенке было чисто русским, то на таком толковании можно было бы и остановиться, поскольку оно вполне согласуется с этим контекстом русского писателя, а других, как уже сказано, наши словари не отражают.
Но оно отнюдь не чисто русское. Мы находим его и в белорусском (стрыгчи ycix пад адзш грэбень), в украинском (стригти (тдстригати) ecix nid один гребтець, стригши ecix nid одну гребшку)* в болгарском (стрижа есички над един гребен). Во многих других славянских языках, правда, оно неизвестно (в чешском, словацком, сербохорватском и др.), что настораживает. Более того, внимательное изучение фиксации приведенных славянских соответствий русскому стричь под одну гребенку показывает, что все ойи появились недавно, а значит, возможно, и под влиянием русского языка. Показательно в этом отношении пол. Jednym grzebieniem wszystkich czesac ‘чесать всех одним гребнем’, зарегистрированное в литературе лишь с 1894 г. (NKPI, 756). Переносное его значение соответствует русскому, структура же, как видим, иная, а употребление весьма редкое.
В таких случаях (тем более, что в наших диалектах, как увидим, этот оборот практически неизвестен) приходится констатировать заимствование. И действительно — пути русского и других славян-ских выражений о гребенке ведут в германские языки, прежде всего в немецкий, где есть буквально соответствующее нашему— alles fiber emen Kamm scheren. Ср. швед, skara alia ofver en kam c тем же значением и той же структурой. Единственное различие, правда, — в предлоге: и fiber и ofver—не «под», а, наоборот, «над». У немцев и шведов, следовательно, стригут не «под гребенку», а — «над гребенкой». Согласитесь, что здесь есть своя логика: ножницами ведь проводят именно над ней. Аналогичный предлог можно найти и во французской идиоме tondre qn. sur lepeigne, букваль
J50 ПОД КАКУЮ ГР ДЕМКУ СТРИЧЬ?
но значащей ‘причесывать кого-либо на гребень’, а переносно— нечто совсем иное, то же, что русское вставлять палки в колеса ‘намеренно препятствовать кому-либо в исполнении замыслов’. Не случайно новаторский для своего времени русско-французский словарь Л. В. ЕЦербы и М. И. Матусевич дает к нашему обороту совсем иной французский эквивалент: niveler tout le monde ‘нивелировать всех и вся’. Семантический результат для нас, пожалуй, непривычен, тем более что французский оборот имеет и общее с русским «парикмахерское» значение—‘коротко и ровно стричь’. Но он еще раз показывает, что если и искать источник русского фразеологизма где-то за пределами славянской языковой зоны, то— в немецком, с которым наш язык связывало много в XVIII и ХЕХ вв.
Как же объясняют немецкое выражение историки германской фразеологии?
Единства взглядов и здесь, как ни странно, нет.
Регистрируя фиксацию этого оборота уже в 1579 г., в одной из сатир И. Фишарта, Л. Рёрих возводит его к практике мытья и стрижки в средневековых банях, где банщики причесывали всех своих клиентов одной гребенкой (Rohrich 1977,476). Другой известный историк немецких пословиц и поговорок—Ф. Зайлер предполагает не банногородскую, а производственно-сельскохозяйственную интерпретацию: «Выражение Alles iiber einen Kamm scheren первоначально значило причесывать грубую и тонкую шерсть одним и тем же гребнем, а затем переносно стало обозначать ‘обращаться со всеми одинаково, не делать при обращении с кем-л. различий’» (Seiler 1922,267).
Трудно, конечно, судить категорично, кто из немецких исследователей прав: для этого необходимо было бы погрузиться в диалектные вариации этого выражения, проследить его употребления в контекстах, выяснить детали стрижки овец и мытья в средневековых немецких банях. Но это уже далеко бы увело нас от истории собственно русского оборота. Ограничусь пока замечанием, что образ стрижки овец как исходной символики немецкой идиомы кажется более реальным уже по причине его древности и подчеркнутой народности образа. Об этом свидетельствует и то, что во многих немецких поговорках и пословицах речь идет именно о стрижке овец: sein Schafchen zu scheren wissen (букв, ‘уметь стричь свою овечку’) ‘уметь наживаться, нагревать руки, устраивать выгодное дельце’, er hat sein Schafchen geschoren (букв, ‘он постриг свою собственную овечку’) ‘он честно заслужил свою прибыль’, Das Schaf scheren ohne es zu schinden (букв, ‘стричь овцу, не сдирая с нее шкуры’) ‘понимать
151 ПОД КАКУЮ ГРЕБЕНКУ СТРИЧЬ?___
толк в выгодных делах, блюсти свою выгоду’; Der eine schert das Schaf, der andere das Schwein ‘Один стрижет овцу, другой — свинью’, Die Schafe weidet man, um sie zu scheren ‘Овец пасут, чтобы стричь’, Man kann das Schaf wohl scheren, aber man soli es nicht schinden ‘Овцу можно хорошо стричь, но нельзя драть с нее шку-ры’, Wenn man die Schafe schert so zittem die Lammer ‘Когда стригут овцу, дрожат ягнята’ и т. п. (Rohrich 1977,800).
Нетрудно и в нашем языке отыскать подобную паремиологи* ческую перекличку овцы и стрижки под единую гребенку. Ограни-, чусь лишь ссылкой на сравнение стричь как стадо баранов, упот-реблявшееся еще в начале века: «Им легко очки втирать, на сло-вах распинаться за крестьянский мир, а наделе стричь его как стадо баранов» (П. Боборыкин. Василий Теркин).
В любом случае немецкие параллели корректируют этимологию Н. С. и М. А. Ашукиных, ибо никакого намека на стрижку новобранцев-курсантов военных училищ не содержат. Да и сравнение со средневековым банщиком, предложенное Л. Рерихом, откровенно говоря, сильно хромает по внутренней логике. Ведь даже если в банях прежде и причесывали всех моющихся одной и той же гребенкой, все равно прически клиентов оставались различными и потому оценивать их одинаково банщики не могли. Известно, сколь подобострастно они мыли и причесывали именитых генералов и сколь брезгливо касались спин и голов бедной и незнатной публики. Иное дело—стадо овец: тут уж этих кротких носителей руна стригут под одну и ту же гребенку (а точнее — над одной и той же гребенкой) в буквальном смысле. Да и отношение к овцам в народной речи многих народов в основном отрицательное, что согласуется с негативно-иронической окраской немецкого и русского выражений.
Итак, все-таки они, скорее всего, связаны именно со стрижкой овец, а не людей.
Приняв эту версию для немецкого, мы тем самым как будто объяснили и смысл русского выражения. Одно, тем не менее, в нашем обороте остается неясным. Почему в этих двух языках предлоги не только не совпадают, но прямо противоположны друг другу по смыслу?
На этот вопрос помогает ответить уже материал народной речи русского и польского языков, куда, как мы видели, выражение о стрижке под одну гребенку проникло довольно поздно. Казалось бы—раз это позднее заимствование, то ему и не место в народных говорах. Однако в них вопреки этому ожиданию мы его находим. «Мария-то всех под одну гребёнку гребёт», — записали диалектологи в со
152 НО* КАИУЮ ГПЬЕНХУ СТРИЧЬ?
временных ивановских говорах (Ботина, Санжарова 1981,40). Всех под одну гребенку грести значит ‘не выделять никого’, т. е. именно стричь под одну гребенку. А вот запись из брянских говоров: «Кле-вир типерьскасили под гребёнку» (СБГ 4,55). Под гребенку здесь — 'полностью, целиком, ничего не оставляя на поле’. Любопытно и псковское выражение подо всю гребенку ‘об очень сильном, проливном дожде’: «Дошшь парбл пада фею гребёнку» (ПОС 3,123).
Подобные употребления этого оборота можно встретить и у наших советских писателей: «Молодежь без разбору, под гребенку вычесывают—и хромых, и кривобоких» (Б. Полевой. Мы — советские люди); «В Финляндии всех социалистов вырезал под гребенку» (А. Н. Толстой. Хождение по мукам); «Оказывается, не всегда суть только в том, чтобы все были объединены какой-либо единой школой, чтоб все были, так сказать, “под одну гребенку”» (Ю. Юрьев. Записки актера).
Если последний оборот—быть под одну гребенку—можно как-то считать «усеченным» вариантом нашего стричь под гребенку, то все остальные довольно сильно отходят от него и по значению, и по глаголам, в него входящим, чтобы оставить их без внимания.
Не правда ли, для большинства из них акцент уже сильно смещен с «уравнивания» до «абсолюта», т. е. крайне интенсивной характеристики действия, выраженного глаголом, доведения этого действия до конца. Скосить клевер под гребенку — ‘выкосить его полностью,’ дождь порет под всю гребенку — ‘льет крайне интенсивно, до предела’, вычесывают под гребенку молодежь — ‘уводят всех поголовно в фашистскую неволю’, вырезал социалистов под гребенку — ‘уничтожил их абсолютно полностью, на корню’.
Это семантическое различие, как оказывается, не что иное, как влияние чисто народных оборотов на литературное выражение причесать под гребенку. В народном обиходе есть профессиональный термин под гребенку (брян., ряз. и др.)—«о Способе покрытия соломенной крыши, при котором снопы обмолоченной соломы укладывают рядами комлями вниз, развязывают и выравнивают, подбивая и подрезая снизу при помощи специального приспособления—гребенки» (СБГ 4,55; СРНГ 7,121). Гребенкой называют и другие инструменты — щетку, скребок для чистки лошади; чесалку для льна, конопли; зубчатую железную пластинку на оглобле, служащую для крепления и натягивания тяжа; часть ткацкогостанка, которой прибивают утбк, чтобы он ложился плотней при ткании поневы, и др. В какой-то степени все эти «гребенки»—мерила плотности и полноты.
153 П0* К***10 ГРЕБЕНКУ СТРИЧЬ?
Возможность такой интерпретации народного оборота под гре* бенку подкрепляет ряд выражений, образованных именно по этой модели: брян. делать под одно гребло ‘одинаково, без различий* под один уровень’, насыпать зерно под гребло ‘вровень с краями* дополна’; кубан. гнать всех под гребло ‘всех подряд, без разбору*3 При этом у жителей Брянщины и Кубани грёбла разные: брян. греб* лд — ‘кочерга с длинной деревянной ручкой для выгребания золы из печи’, кубан. — ‘ярмо’. В донском же обороте брать (взять) под гребло ‘брать все, без разбора, целиком, полностью’ (СРНГ 7,124) отразилось еще одно его значение—‘небольшой прямолинейный брусок или пластинка, которым при мерянии сравнивают с краями меры сыпучие вещества—рожь, овес, крупу и т. п.’. Это значение для слова гребло было, видимо, все-таки основным — не случайно оно отражено и в языке XVIII в.: «Рожь в четверть гребцом сгре-бать» (СРЯ XVIII в. V, 226). Характерно, что именно оно образует и уже знакомое нам выражение под гребло или в гребло—‘вровень с краями мерки’. От такого конкретно метрологического до пере? носного значения ‘полностью, до предела’ — один шаг. Ср. обще-» известное до краев или узкодиалектное (ряз. мещер.) под одну бирку косить — ‘косить сплошь, подряд’ (Сл. Мещ., 41).
Обороты, созданные по такой же модели, можно найти и у со-, седних славянских народов. Пол. brae pod jeden strych (strychulec), соответствующее русскому стричь под одну гребенку, дословно и переводится как ‘брать под одно гребло’, ибо strych и strychulec— та же самая мера, которой в XVIII в. у нас сравнивали с краями сыпучие вещества. Ср. также pod strych mierzyc ‘насыпать с верхом, до края’, буквально означающее ‘мерить подгребло’. Аналогично и польское выражение brae wszystko pod jeden sznur (sznurek) с буквальным значением ‘брать все под один шнур’. Здесь также метричность и характеристика полноты заполнения сосуда налицо.
Словом, народные обороты под гребенку, под гребло, под бирку, бытовавшие, судя по их польской параллели, издавна в нашем поговорочном фонде, подготовили почву для быстрого усвоения нашим литературным языком пришедшего из немецкого стричь под одну гребенку. Впитав его семантику (достаточно, впрочем, близкую к собственной) и закрепив за литературным употреблением лишь один глагол — стричь, народный оборот под гребенку сохранил, однако, тот предлог, который был давно уже автоматизирован в живой речи. Так немецкое «стричь над гребенкой» и стало русским стричь под гребенку.
Греха таить или грех таить?
— Что, брат, прозяб?
— Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался невелик.
К. С. Пушкин. Капитанская дочка
Не правда ли, родительный падеж в выражении что греха таить кажется грамматически неоправданным?
Строгие ревнители правильности речи давно уже заметили это, как и многие любители русского языка. Например, читатель ежене-
дельника «Неделя» П. Ларионов придирчиво обратил внимание редакции этой газеты, что у них «встречается фраза “Что греха таить”. А ведь тут винительный падеж,—напоминает он. — Не пишем же мы: “Зачем огорода пахать”» (1968, № 4, с.2). Возникает впечатление, что редакция, поместив этот читательский упрек, раскаивается в совершенном ею грамматическом «грехе». И действительно: правильно это или неправильно?
«Упрек» П. Ларионова легко распространить, правда, на всю современную печать, ибо такое употребление—отнюдь не специфика «Недели»: «Не за горами то время, когда индустриальная сфера об
служивания целиком и полностью возьмет на свои могучие плечи весь наш быт и сделает нашу жизнь более удобной. Правда, что греха таить, пока она, эта служба, вызывает больше жалоб и нареканий, чем похвал» (Правда, 1980,12 окт.); «Столица приветливо встречает их (гостей XI Международного кинофестиваля.—В. М.) исконным русским гостеприимством, присовокупляя к нему голубое небо, цветы, зелень скверов, веселые улыбки, доброжелательные и, что греха таить, более чем заинтересованные взгляды москвичей; в них хоть и не черная зависть, но все равно зависть к тем, кто своими глазами увидит хотя бы часть огромной программы нынешнего форума кино» (Огонек, 1979, № 34, с.2).
Быть может, лишь публицисты ставят в этом выражении родительный падеж вместо «нормального» винительного?
Отнюдь. Точно так же—и только в родительном падеже!—употребляют это выражение как современные писатели, так и классики:
«Ох, дети. Вечно они что-то портят и пачкают. Хорошие дети, золотые дети, но—что греха таить! — какие-то разболтанные» (И. Грекова. Под фонарем);«— Ни дать, ни взять—Корсаков,—сказал князь Лыков... —А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из немет-
155 170(4ТАИТЬ *** ГРЕХМИГЬ?
чины на святую Русь скоморохом» (А. Пушкин. Арап Петра ВеликойЭД «— Всегда со старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудн необыкновенное, — сказала гостья. — Что греха таить... Графинюод ка мудрила с Верой, — сказал граф» (Л. Толстой. Война н мир); «Помнн| только, что я, как был, кубарем через них (собак. — В. М.)... к себе» спальню! Чуть под кровать не забился — что греха таить» (И. Туред нев. Собака).
Значит, родительный падеж здесь все-таки правилен, если его утгот*? ребляют и Пушкин, и Толстой. Правилен, но необычен с точки зреН ния современных грамматических представлений. Откуда же в на-шем обороте он взялся?
Авторы «Краткого этимологического словаря русской фразеологии» видят источник его появления в истории сочетаемости глагола таить'. «Форма греха (вместо грех) представляет форму род.пад. ед. числа, поскольку раньше глагол таить требовал дополнения не в вин.пад., а в род.пад.» (КЭФ, 1980, № 2, 69).
Это объяснение не совсем корректно, ибо в древнерусском язы-ке глагол таить все-таки требовал после себя именно винительного падежа: «Иже таить обидж, иштеть дроужъбы, иже ли не любить1 таити, разлоучаеть дроугы и своить» (Срезневский III, 916). Иное дело, что в древних текстах глагол таить гораздо чаще употреблялся не в утвердительной форме, а в отрицательной: как рекомендация, совет не скрывать, не утаивать чего-либо: «НЬсть лЪпо, братик, таити чюдесъ Божиихъ; НЪсть лЪпо и сего таити, еже врагь ддаволъ нанесе на святую Бож!ю церковь крамолу; Не таимъ въскре-сенья, (но) въ всЬхъ домехъ своихъ зовемъ: Христосъ въскрЪсе из мртвыхъ» (Срезнев-ский III, 916).
Как видим, здесь родительный падеж вполне «правилен» не только с древнерусской грамматической точки зрения, но и с современной. Мы ведь и сейчас даем советы «облегчить душу» в форме именно родительного падежа: не таи обид, не утаивай погрешений, не скрывай недопонимания...
«Понятно, — может сказать на это дотошный читатель.—При употреблении глагола таить с отрицанием форма родительного падежа, действительно, законна. Но ведь в выражении что греха таить такого отрицания нет!»
Действительно, это так. Но наше выражение—лишь вариант более старых и более употребительных, пожалуй, и в наши дни оборотов нечего греха таить и чего греха таить. Первый, собственно, и был исконным, затем стала возможна замена отрицательного местоимения нечего на чего и что. Характерно, что первая известная нам
156 ГРЕХА ТАИТЬ ИЛИ ГРЕХ ТАИТЬ?
фиксация выражения в Словаре русского языка XVIII в. отражает именно эту форму: «Ванька: Нечего греха таить, я и сам люблю такое гулянье, где бы попить да поесть» (И. Крылов. Пирог). С тех пор в нашей литературе и публицистике эта форма оборота не перестает широко употребляться. «Да, я позабыл, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, с которой живу уже лет тридцать вместе, грамоте сроду не училась; нечего и греха таить. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге», — говорит герой известной повести Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Употребляет этот оборот и герой повести М. Шолохова «Судьба человека»: «Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я—уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов». Об активности именно отрицательной формы этого оборота свидетельствуют его употребления такими писателями, как А. Чехов, М. Бубеннов, Б. Полевой, В. Беляев, В. Тевекелян, Е. Мальцев, И. Стаднюк и многие другие.
Два варианта одного выражения влияли друг на друга. Причем исходным вариантом, как показывает грамматическая логика этих сочетаний, был именно оборот с отрицанием. Ведь в форме отрицания родительный падеж—обычное явление. Так, во фразеологии известны выражения не видать света белого, ни шагу не ступить, ни зги не видать, маковой росинки в рот не брать и т. п. Или в пословицах: Шила в мешке не утаишь, Прежнего не вернешь, Плетью обуха не перешибешь, Кривого веретена не выпрямишь и т. п: Такое употребление родительного падежа до сих пор остается живой нормой русского языка.
Это употребление вытекает из одного, весьма активного, значения родительного падежа — так называемого количественноотделительного (много людей, купить сахару, начитаться книг), детально описываемого русскими грамматиками (Виноградов 1972, 144-146). Именно с количественно-отделительным значением этого падежа (а некоторые ученые даже считают, что родительный падеж в этом значении — особый падеж) связаны отрицательные формы, вошедшие и в русскую фразеологию. Одной из них была и форма греха в выражении нечего греха таить.
«Мостиком» от этого исходного варианта к «незакономерному» что греха таить стал оборот чего греха таить. Замена нечего на чего в нашем просторечии естественна и не нуждается в комментарии. Она, в силу своей просторечной окрашенности, усилила
157 ГРЕХА ТАИТЬ ИЛИ ГРЕХ ТАИТЬ?
экспрессивность выражения. Вот несколько иллюстраций, это НЙг называющих: «Каждый прибыл со своими навыками, своими метш дами работы и, чего там греха таить, нередко и со своими дурным» привычками» (Б. Полевой. Рожденные книги); «Вот уже несколыс» лет я руковожу общественным отделом кадров, созданным в шем цехе. Работа эта — хлопотная и, чего греха таить, порой яф очень-то приятная» (Ленингр. правда, 1979,6 окт.).
В современной речи возможны и другие замены исходного от* рицательного местоимения нечего: «Не стоит греха таить: не все у нас хорошо» (Баргузинск. правда, 1968,16 мая). Они, однако, не* риферийны и еще не закреплены литературной нормой.
Следовательно, оборот что греха таить—результат последовав тельной смены вариантов: нечего—чего—что. Эта смена привела к перевоплощению отрицательной конструкции в утвердительную* которое во многом стимулировалось влиянием активной для разговорной речи синтаксической модели с местоимением что: что и го* ворить, что и сказать, что и подумать, что поделать ит. п. Такие конструкции имеют, как правило, модальное значение—ими выражаются сомнение, неуверенность, нерешительность говорящего. Это значение весьма близко к той модальности, которая выражена отрицательной конструкцией нечего греха таить, — последняя лишь более категорична. Общность грамматического значения, таким образом, обусловила возможность замены оборота нечего греха таить на что греха таить. Эту «незаконную» замену в дальнейшем узаконило фразеологическое употребление последнего оборота.
Действительно, мы не говорим «зачем огорода пахать». Но зато можно сказать: «не стоит пахать огорода». А вот сказать «не стоит огорода городить» уже нельзя, потому что это выражение фразеологически закрепилось лишь в винительном падеже и в положительной, а не в отрицательной форме: «Многое надо было выяснить предварительно, такое выяснить, без чего не стоит и огород городить» (Д. Фурманов. Мятеж). И здесь — как и в случае с выражением что греха таить — фразеологизм законсервировал лишь одну из грамматических возможностей языка. А законсервировавшись, та или иная форма употребляется уже как закономерная.
С какого гуся вода?
Видно, тебе, мой батюшка, все как с гуся вода; иной бы с горя исчах, а тебя еще разнесло.
И. С Тургенев. Дворянское гнездо
В живой русской речи бытует немало пословиц, поговорок и загадок о гусе. В сущности, они являются полной и яркой характеристикой этой птицы, имевшей большое хозяйственное значение для
крестьянина. Гусь, согласно такой языковой характеристике, криклив, раздражителен и заносчив: Гусь да баба — торг, два гуся, две бабы—ярмарка; гусей дразнить ‘раздражать кого-либо без надобности’; напал как гусь на мякину; друзей, как гусей около мякины; Гусь свинье не товарищ; Летит гусь на святую Русь—о Наполеоне; И большому гусю не высидеть теленка; Одним гусем поля не вытопчешь. Известна также эта птица и своими зябкими красными лапками (Спросили бы у гуся, не зябнут ли ноги; гусиные лапки ‘покрасневшие от мороза ноги’) или гусиной кожей, которая у человека появляется от озноба или от страха. Гусь вошел в русскую и славянскую фразеологию и своей «неколлективной, очередной» манерой ходить—хождением гуськом или (народное) гусем. Гусями в русских говорах называют цыпки на ногах, а Гусиной дорогой—Млечный путь, по направлению которого гуси улетают и прилетают осенью и весной.
Наиболее точное представление о внешности гуся, пожалуй, дано в загадках. Вот несколько из них:
Красные лапки, длинная шея, Щиплет за пятки, беги без оглядки.
На одной ноге стоит, рожком воду пьет.
Белый, как снег, Надутый, как мех, Лопатами ходит, а рогами ест.
Белы хоромы, красны подпоры.
Основная черта характера русского гуся, судя по пословицам и поговоркам,—хитрость, изворотливость и—«непрошибаемость». Это особенно примечательно на фоне фразеологии других славянских и европейских языков, где гусь и гусыня являются прежде всего символами глупости. Вспомним хотя бы, что гоголевский Иван Никифорович именно потому назвал Ивана Ивановича
159 с КАМ0ГО гуся B0*A?
гусаком, что по-украински это — метафора со значением ‘дурак^ ‘глупец’. Правда, в русской литературе можно найти и другие сравй нения, где гусь является мерилом глупости: например, в расска^ Чехова «Скверная история» юноша «со страстными грузинским^ глазами» Ногтев—«малый добрый, но глупый, как гусь». О гусй| ной глупости напоминает и диалектное выражение гусиная память -4 такая же плохая, как куриная или индюшья. И все же ассоциаций гуся с глупостью в русском языке второстепенна. На первое место выступает именно хитрость и изворотливость: Гусь лапчатый! Хорош гусь! Каков гусь! Ну и гусь! — обычные для русских неодобрительные и иронические характеристики пронырливых обманщиков и проходимцев.
Закрепление в русском языке именно таких ассоциаций во мно* гом связано с историей фразеологизма как с гуся вода, употребляющегося обычно в высказываниях о людях, которым все нипочем:
«Вышел себе — ему и горя мало, с него все это так, как с гуся вода?» (Н. Гоголь. Женитьба); «Катя чаще спотыкалась, сдержанно вздыхала^ А Мишке хоть бы что, как с гуся вода, — шел бы и шел с винтовкой за плечами тысячу верст» (А. Н. Толстой. Восемнадцатый год); «У Ефросиньи было удивительное качество: для нее все беды и неприятности был» “трын-трава” и стекали с нее, как с гуся вода» (Г. Николаева. Жатва).
Это выражение принято считать осколком русского народного знахарского заговора. Так, Б. А. Ларин в «Очерках по фразеологии» (1956), описывая превращение пословиц в поговорки, приводит и оборот как с гуся вода как типичный пример такого превращения: «старая формула (этого оборота.—Я М.) была значительно конкретней и не допускала такого широкого и вольного применения: “Што с гуся вода — небыльные слова"» (Ларин 1977, 142). Еще более определенно эту идею выразил А. И. Федоров: «...старорусская пословица “как с гуся вода, небывалые слова" имела узкое применение, когда речь шла о лживой молве, клевете, навете. Ее превращение во фразеологизм как с гуся вода в результате эллипсиса придало обороту расширенный смысл: случившееся легко, быстро забывается; все нипочем» (Федоров 1973,14).
Народный знахарский приговор, на который ссылаются историки фразеологии, действительно существует. Его описывает этнограф С. В. Максимов в числе прочих заговорных формул обмывания грудных младенцев. Когда ребенка мыли в бане, обязательно приговаривали: «Вода б книзу, а сам бы ты кверху», а чтобы заговорить от злого глаза (сглаза), опрыскивали его водой, приговаривая: «С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, мое дитятко, вся худоба на
160 с КАК0Г0 гуся В0*А?
пустой лес, на большую воду». Описан этот приговор и известным русским языковедом В. И. Чернышевым, который приводит материал рукописного словаря Луканина, где сообщается, что такое заклятье бабушки-знахарки шепчут обычно над водой, кладут туда горящий уголек и окачивают ею больного ребенка.
Обряд обливания ребенка—лишь одно из ритуальных действ, связанных с суеверными представлениями о целительной, магической силе воды. Он перекликается с ритуалом обливания новокуп-ленной коровы или лошади при вводе ее во двор, известным на Украине, в Белоруссии и западных губерниях России. В народе дают разные объяснения такого обливания: в одних случаях — когда воду льют животному на лоб—это делается якобы для того, чтобы оно знало дорогу домой, в других—для исцеления. В последнем случае произносятся приговоры, напоминающие поговорку о гусе: Как с тебя вода долой, так и худоба долой или Куда вода, туда и тоска.
Следовательно, народная мифология, на первый взгляд, подкрепляет версию о том, что сравнение как с гуся вода родилось из более пространной формулы-заклинания. Такой путь развития формы устойчивого сравнения как будто объясняет и его переносный смысл: человеку, которого уже в детстве заговорили от всех болезней, все нипочем, ему все—как с гуся вода. Пословицы, приговоры, басни, действительно, довольно часто «конденсируются» в поговорки—такое отсеивание деталей в их развитии было еще в XIX в. ярко описано А. А. Потебней.
Тем не менее всегда существует и вероятность обратного развития —из поговорки, фразеологизма, образа—к более пространному контексту. Точный диагноз того или иного способа образования оборота помогает поставить лишь объективный анализ языковых фактов. Проверим, подтверждают ли они «знахарскую» историю русского сравнения.
Мы уже видели, что в качестве нашего выражения Б. А. Ларин, А. И. Федоров и В. И. Чернышев приводят две разные формулы заговора: Што с гуся вода—небылъные (небывалые) слова и С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, мое дитятко, худоба... Уже в словаре В. И. Даля можно найти и другие вариации этого заговора: С нас беда, как с гуся вода; Лейся беда, как с гуся вода! С гуся вода, а с меня молодца небылые слова. В других источниках можно найти и другие варианты этой формулы: Как с гуся вода, с меня сухота (Буслаев 1854, 105); Как с гуся вода сбежало с того-то то-то
161 с КАХ0Г0 Г¥СЯ В0ДА?
(ППЗ, 126); Чужая слеза — каксгуся вода (Михельсон 1912,1001^ ит. п.
Многообразие вариантов поговорки о гусе, кстати сказать,за* ставляет ее толкователей высказывать противоречивые точки зрения на ее конкретный «формульный» источник. Некоторые возвел дят наше сравнение даже не к заговору, а к пословице Как с гуся вода, небывалые слова (Жуков 1980,160), что делает понимание ее исходного, прямого значения весьма неясным.
Если признать, что более пространные пословицы или приговО ры являются источником устойчивого сравнения, то возникает вопрос: а какая же именно пространная формула была первичной?
На этот вопрос можно ответить лишь предположением, что исходным было именно устойчивое сравнение, а все остальные формулы — его развернутыми вариантами, которые могли стать и заговорами, и пословицами, и более детализирующими фразеологизмами. Об этом, в частности, свидетельствует замена гуся синонимом гоголь ‘уткъ семейства нырков’ (ср. фразеологизм ходить гоголем), встречающаяся в говорах как в сравнительной конструкции: Как с гоголя вода, так со скотины худоба (СРНГ 6,263; Федоров 1980, 182), так и в заговорных текстах:
«С гоголя вода, с младенца Владимира худоба» (Бахтин 1982,477); «С гоголя вода, с каменя струя, с зайца снег, с рабой божией скатитесь, свали-теся с ясных очей, с черных бровей, со всех печеней, с кровяных макбс уроки, прикосы, деины уговоры, ночныисположи...» (Дмитриева 1982,42).
Как видим, благодаря этой замене вариантность сравнения еще более расширяется.
Кстати, в XVIII в. в нашем литературном языке обороты как с гуся вода и как с гоголя вода еще конкурировали почти на равных (Палевская 1980,38):
«Трусицкий: Полно, дура, пустое-то врать, выложи себе эту нелепицу из головы: приданое у тебя, по милости моей, есть, рожицею ты вмазлива, ума и моего больше; обычай, и водой ие замутишь; добра человека бог даст, так прикроем Тебе голову да и как с гуся вода» (М. И. Веревкин. Точь-в-точь);
«Забыли то, как горевали, Ни в чем как будто не бывали; Прошло как с гоголя вода» (Н. П. Осипов. Виргилева Енейда, вывороченная на изнанку).
Во всех этих вариантах стабильным ядром является именно сравнение с гусем или гоголем. Это говорит в пользу того, что именно из этого ядра вырастали формулы-заклинания, а не наоборот. Самым
162 € ИМОГО ГУСЯ ВОДА?
же убедительным аргументом такого пути развития нашей заговорной формулы является целый рад славянских устойчивых сравнений с аналогичным значением и формой: укр. як з гуски (з гуся) вода, як би на гуску воду лл’яв (диал.); бел. як з гуа вода', пол. jak z gQsi woda sptynie, zleci; кашуб, jakbe xtos na g^s vodq. xien^l; чеш. co z husy voda, spadne z ndho, co z husy d6§f, sjede to po пёт jako voda po huse. Эти устойчивые сравнения известны в славянских языках давно—например, чешские источники фиксируют их уже с XVI в. Характерно, что у славян этот фразеологический образ постоянно конкретизируется. В современной чешской повести Яромиры Ко-ларовой «Чужие дети» (Прага, 1976), например, он развертывается так: «У Эмиля было много девушек, но ни одна из них не оставляла по себе долгого следа, легкие увлечения соскальзывали по нему, как капли воды по гусиным перьям» (дословный перевод). Этот славянский материал показывает, между прочим, что предположение И. Я. Лепешева о том, что белорусский оборот што з zyci вада—заимствование из русского языка, неверно. Этот оборот и у белорусов—исконный, пришедший из народной речи.
Известны такие сравнения и за пределами славянского мира. В европейских языках, например, их главным образным «героем» является ближайшая роственница гуся — утка: аигл. it’ll off him like water off a duck’s back ‘с него это сойдет как вода с утиной спины’, фр. c’est comme la pluie sur le dos d’un canards ‘это — как дождь на спине утки’, (glisser) comme 1’eau sur les plumes d’un canard ‘скользить как вода по перьям утки’.
Этот конкретный образ, как видим, весьма близок к переносному значению русского оборота как с гуся вода. Данное сравнение, следовательно, было исходным уже потому, что образ, лежащий в его основе, был более известен славянам, чем знахарский заговор, не получивший распространения нигде, кроме русской территории. Образ гуся, с которого вода стекает, не смачивая оперения, пропитанного жировой смазкой, естествен и предельно конкретен. Он вошел и в другие русские пословицы, поговорки и загадки: Гусь не намоется, утка не наполощется, кура не нашаркается; Как гусь, до воды жаден; Плавала, купалась, сухонькой осталась (утка); В воде купался, сухим остался. Кстати, последняя загадка стала основой фразеологизма выйти сухим из воды и тоже первоначально относилась к гусю. Этот первичный образ мог обогащаться в отдельных славянских языках, мог разрастаться в пословицы или заговорные заклинанья.
163 С КАКОГО ГУСЯ ВОДА?
Народные заклинания, между прочим, обычно и образуются основе сравнений-символов. Развертывая этот символ, знахарь и центирует то «целевое» благожелание, которое призвано помочь ег$ пациенту. Вот лишь несколько приговоров-сопоставлений такогй рода: Как вербочка растет, так и ты расти! (пожелание здоровм и роста ребенку); Как яичко гладко и круто, так и лошадушка мс£ будь кругла и сыта! (пожелание-оберег лошади в Егорьев день)^ Как хмель любят добрые люди, так бы и меня любили! (девичья присушка перед умыванием в последний четверг перед Пасхой^ Как сковородник от печки не отходит, так пусть бы и скотина oty двора не отходила! (оберег от потери скота) и т. п. (Соколова 1982, 16-17).
Входя в состав таких формул-заклинаний, народное сравнений
могло постепенно измениться как функционально, так и ассоциативно. Эти формулы, повторяясь в определенной ситуации, часто по* рождали свои особые, мифологические, а потому и национально-специфичные ассоциации. Сравнение тем самым семантически обогащается, образность и экспрессивность его усложняется.
Русское выражение как с гуся вода и является одним из такого рода оборотов с усложненной и национально окрашенной семантикой. Возникнув на основе чисто материалистического, известного многим народам наблюдения о «непромокаемости» оперения гуся или утки, оно претерпело в составе заговорной формулы семантический сдвиг. Наш фразеологический гусь—уже не просто безразличный, равнодушный, невпечатлительный и легко отряхивающий неприятные ощущения человек, но еще и пройдоха и ловкач, «продувная бестия», которую еще в детстве заговорили от всех болезней и случайностей. Это представление, несмотря на свою этимологическую вто-ричность, обогатило древнее славянское сравнение о гусе и придало ему осрбый, «русский» (а точнее—восточнославянский) фразеологический колорит.
С какого жиру люди бесятся?
О, какое мерзкое выражение!.. Им так удобно одергивать всякое желание, стремление, мечту. Гасить любую неудовлетворенность, недовольство, порыв. — С жиру бесишься — и баста!
Ю. М. Нагибин. Берендеев лес
В русском языке оборот беситься с жиру употребляется весьма активно. Он встречается как в произведениях классиков, так и у современных писателей:« Мы спины на них гнем, дохнем с голоду да с надсады, а они с жиру бесятся» (Ф. Гладков. Вольница); «Не обращайте внимания на этих людей...
просто... они с жиру бесятся!» (М. Горький. Сторож); «Порешили на том, что кошка будет немедленно доставлена на осмотр к ветеринару. Разумеется, за счет водителя. Очевидно, 15 фунтов, которые он уплатит за визит,—это наименьшая потеря с его стороны в данной ситуации... “Вот дают! Прямо с жиру бесятся!”—наверняка скажет кто-то, прочтя эти строки. Но стоит ли торопиться с выводами?» (Е. Овчаренко. Сафари в Виндзоре.—Комсом. правда, 1989,16сент.).
Контексты показывают, что это выражение характеризует исключительно человека, причем характеризует негативно, означая ‘капризничать, привередничать от сытой, обеспеченной жизни’. Слово жир большинство говорящих воспринимает в обычном значении— ‘маслянистое вещество, содержащееся в растительных и животных тканях; сало’.
Не так давно, однако, было предложено иное объяснение привычного фразеологизма. Для русского оборота с жиру беситься его высказал Н. М. Шанский. Жир, по его мнению, здесь означает ‘богатство’ (Шанский 1971,133). Составители «Краткого этимологического словаря русской фразеологии» разворачивают интерпретацию этой этимологии, приводя для др.-рус. жиръ ‘богатство, имущество’ цитату из «Слова о полку Игореве»: «Кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во днЪ Каялы, рЪчкы половецюя». Вместе с тем они добавляют, что на развитие переносного значения оборота повлияла и аналогия с собаками, которые заболевают бешенством от перекармливания (КЭФ, 1980, № 1, 68; Опыт, 127). Эта аналогия, таким образом, является вторичной.
£65 С КАКОГО ЖИРУ ЛЮДИ БЕСЯТСЯ?
То, что в др.-рус. жиръ имело значение ‘богатство, добыча’, — факт несомненный. Приведенный текст из «Слова» поэтому, действительно, нужно понимать так: «Порицают и бранят Игоря за то, что он утопил в половецкой реке Каяле богатую добычу». Следует ли из этен го, однако, с несомненностью, что именно данное значение отразилось и в обороте беситься с жиру!
Ответ на этот вопрос во многом помогает дать материал древнерусского и украинского языков.
То, что выражение беситься с жиру имеется и в украинском, и в русском языках, свидетельствует о его достаточной древности. Известно в то же время, что современное значение слова жир ‘маслянистое вещество, содержащееся в животных тканях; сало’ зафиксировано относительно поздно, лишь в начале XVII в. (СРЯ XI — XVII вв. V, 113). Значит, как будто хронологический приоритет принадлежит здесь, действительно, значению жиръ ‘богатство’.
Это тем не менее не так—уже потому, что древнерусское слово кроме данного значения имело и три других, не менее употребительных — ‘пастбище, пажить, место кормления животных’, ‘корм (обычно весьма обильный)’ и (переносное) ‘избыток, излишек, ведущий к тлению, к гибели’ (Срезневский 1,875; Словарь-справочник... 2,86). Следовательно, возможностей семантической интерпретации нашего выражения и в древнерусском языке предоставляется больше, чем предполагают авторы «Краткого этимологического словаря русской фразеологии».
Украинское слово жир до сих пор сохранило широкий диапазон значений, восходящих к древнерусским. Оно значит и ‘сало’, и ‘корм’, и—более конкретные виды корма — ‘буковый орех, желудь’. Ср. параллели в славянских языках—бел. жыр ‘корм’, болг. жир ‘сало, желудь’, с.-х. жир—то же, словен. Яг ‘буковые орехи, желуди для кормасвиней’.
Показательно, что многие украинские диалекты сохраняют те же семантические характеристики. Так, Я. Ф. Головацкий, определяя слово жиръ, подчеркивает именно «кормовую» семантику: «1) корм, который дают скотам и птицам или который дикие звери и птицы находят; 2) буковые и дубовые желуди» (Головацький 1982,252). Аналогичное значение фиксируется, например, и для бойковского жир— ‘бучина’, ‘буковые орехи’ (Онишкевич 1984, 252). И славянские параллели, и данные украинской речи, следовательно, свидетельствуют, что жир издревле мог означать не только богатство, изобилие вообще, но прежде всего изобилие конкретное—достаток корма для скотины.
166 с КАК0П> **** людм
Этот семантический экскурс позволяет усомниться в правильности этимологической версии Н. М. Шанского и предположить, что в основе выражения—«животная» метафора.
На это, между прочим, наталкивает также материал украинской народной речи, где оборота жиру казитися устойчиво связывается именно с животным — прежде всего с бешеной собакой. В словаре Б. Д. Гринченко первое значение слова казитися ‘беситься’ сопровождается иллюстрацией Собаки з жиру казяться. Это— устойчивое выражение, зафиксированное сборником М. Номиса.
Там же находим и другие варианты этого оборота, показывающие, что в народной речи оно уже в середине прошлого века употреблялось активно: то з жиру дуриоть; dypie, бо ему ся добре дос. Очень показательны для предлагаемой интерпретации пословицы, приводимые М. Номисом, где речь идет именно о сбесившейся от сытости собаке: Худий пес не сказицця—ино ситий нДе ти був, як собаки казилисъ?
Характерно, что материал русской народной речи почти буквально перекликается с украинским. В словаре В. И. Даля отражена пословица С жиру собака бесится—наряду с выражениями с жиров дурят, в жирах бесятся. Аналогичны нижегородская и красноярская пословицы Собака с жиру бесится и С жиру и собака бесится, записанные различными собирателями в разное время (ППЗ, 146,177). Показательно, что полная форма пословицы отразилась и в русском литературном языке. Так, у Л. Н. Толстого во «Власти тьмы» находим:
«С жиру-то и собаки бесятся, с жиру как не избаловаться! Я вон с жиру-то как крутил...»
В русских говорах можно найти и «усеченные» варианты пословицы о сбесившейся с жиру собаке — ср. олонецкие Кто с жиру дурит, а моя спина свербит или Баба деда изводит, а дед Жиру заводит в том же сборнике (ППЗ, 150,156), уже потерявшие, по-види-мому, связь с первоначальным образом, т. е. пословицы, аналогичные украинским то з жиру dypie, бо ему ся добре дос. Несомненно связаны с жир ‘корм, изобилие пищи’ и такие русские диалектные фразеологизмы, как арх. жирьмя жить ‘жить в полном довольстве’ или курск. в жиру закопаться ‘о большом достатке’.
В других славянских и неславянских языках—даже всамом близкородственном белорусском—пословиц и поговорок, прямо связанных с жиром ‘кормом’, нет. Можно найти лишь типологические параллели — вроде татарской пословицы «Располневшая лошадь
167 С КАИ0Г0жигуЬГСЯТСЯ?
сбрасывает с себя седло» или немецкой «Когда ослу слишком хорошо, он ступает на лед и ломает себе ногу» (Михельсон 1901-1902II, 340). Следовательно, обороты беситься с жиру и казити-сязжиру в русском и украинском языках исконны.
Как видим, традиция народного употребления оборота беситься с жиру во многом сохраняет древнюю семантическую инерцию слова жир. Речь первоначально шла об избытке кормов для домашних животных, конкретнее—для собаки, чрезмерное «жирование» которой, действительно,чревато бешенством. Так же как и в массе народных сравнений типа как сбесился, как с цепи сорвался, як скажений, первоначально характеризовавших впавшее в бешенство животное, и оборот беситься с жиру стал переносно обозначать человека, привередничающего от сытой и привольной жизни. Отрицательная оценочность этого оборота, следовательно, коренится в его исходном «собачьем» образе.
Заведенные часы?
Нерезаные собаки?
Тысячи две оленей, как заведенные, с гулким топотом кружатся на одном месте.
В. М. Песков. Край света
— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно пообещал Глеб. — Кандидатов сейчас как нерезаных собак.
В. М. Шукшин. Срезал
Устойчивые сравнения в своем подавляющем большинстве прозрачны, понятны каждому. Ведь сама сущность сравнения — намеренное подчеркивание качества какого-либо явления, лица или процесса указанием на его сходство с хорошо известным в данной среде объектом. С течением времени или с изменением сферы употребления, однако, известное может
стать неизвестным, затемненным. Таковы, например, обре ‘авары’ в древнерусской поговорке погибоша аки обре ‘о бесследно исчезнувших, пропавших людях’ из «Повести временных лет» или бзык ‘овод’ в обороте бзык нашел.
Бывает, однако, и так, что слова, входящие в состав сравнения, всем хорошо известны, а конкретный образ все-таки допускает разночтения. В таких случаях тоже требуется особый историко-этимологический комментарий. Особо показательны в этом отношении такие обороты, где образ строится не на одном, а на двух компонентах —существительном и его определении. Рассмотрим два типич
ных случая.
Некоторые лингвисты считают, что сравнение как заведенный ‘делающий что-либо без остановки, бессознательно, с механической точностью’ связано с «заводкой» конкретного—часового—механизма. «Еще во второй половине XIX в. его (этого сравнения. — В. М. ) в современном виде не существовало,—подчеркивает Н. М. Шанский. —И употреблялась несокращенная форма фразеологического единства как заведенные часы (ср. у Л. Н. Толстого: “Князь... по привычке, как заведенные часы, говорил вещи, которым он и не хотел, чтобы верили”, у В. Даля: “Василько молол без умолку, как заведенные часы” и т. д.). После сокращения оборота причастие стало изменяться по числам и родам. Рядом с одной-единственной ранее формой как заведенные (в составе выражения как заведенные часы) появились формы
ЗАВЦЕНИЫЕ ЧАСЫ? Н РЕЗАНЫЕ СОБАКМ?
как заведенная, как заведенный» (Щанмзюл 1971,170). Такое объяснение повторяется и другими фразеологами (например, В. Н. Вакуровым), излагается в сокращенном виде в «Опыте этимологического словаря русской фразеологии» Н. М. Шанского, В. И. Зимина, А. В. Филиппова. Переносят его и на белорусский и украинский материал, возводя як заведзёны и як заведений к сочетанию як заведзёны гадзииик (Лепешау 1981, 156).
Более внимательный взгляд на факты показывает, однако, что такое объяснение не совсем верно. Ведь в XIX в. причастие заведенный употреблялось гораздо реже в сочетании с существительным часы, чем с другим существительным—машина. Так его употребляют, например, И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, В. Ф. Одоевский, В. Г. Короленко:
«{Завод] приносил мне до сорока тысяч чистого барыша, без всяких хлопот. Он идет, как заведенная машина» (И. А. Гончаров. Обыкновенная история); «[Шарманщик] милостыни просить не хочет, зато он для продовольствия людского трудится, как заведенная машина» (Ф. М. Достоевский. Бедные люди); «Дом его был как заведенная машина, если бы не мешала ему немного жена его Федосья Кузьминична» (В. Ф. Одоевский. Саламандра); «Человек пошел покорно, как заведенная машина, туда, где над городом стояло зарево и, точно венец, плавало в воздухе кольцо электрических огней» (В. Г. Короленко. Без языка).
Не случайно поэтому во «Фразеологическом словаре русского языка» не зафиксированы ни как заведенный, ни как заведенные часы, но сравнение как заведенная машина не только иллюстрируется контекстами из произведений пяти авторов, но и верно истолковывается как двузначное — ‘ритмично, однообразно, беспрерывно’ и ‘механически, не раздумывая (делать что-л.)’.
Шаблонность, автоматизированность, рутинность характеризуемого сравнения действия, как мы видели, хорошо представлена особенно у И. А. Гончарова и В. Г. Короленко. Эта оценочность сохранена и «усеченным» вариантом, сейчас распространенным в просторечии, но попадающим и в литературный язык: «Нет, больше я не выдержу. Сколько мы уже бежим? Ого, пятьдесят минут. И все в таком темпе! Этот Склокин как заведенный. Да и остальные хороши—не люди, а рысаки» (В. Снегирев, Д. Шпаро. Путь на Север).
Явное количественное превосходство употреблений этого сравнения с существительным машина заставила Ф. Г. Гусейнова предположить, что именно на его основе создан просторечный усеченный вариант. Он предполагает, что в результате усечения образо-
170 ЧАСЫ? НЕРЕЗАНЫЕ СОВАКИ?
валась форма как заведенная, а в связи с развитием абстракта ©-характеризующего значения, связанного с именами со значением лица, появилась и родовая оппозиция—как заведенный. Надо добавить, что в XIX в. были контекстуальные условия даже для употребления этого сравнения в среднем роде, ибо был его вариант — идти заведенным колесом: «Хозяйство шло заведенным колесом под наблюдением Ивлияи других начальников» (А. И. Эртель. Гарденины).
Итак, как будто бы прототип сокращенного сравнения не как заведенные часы, но — как заведенная машина. Однако одна частотность употребления второго оборота сама по себе еще не является абсолютным доказательством: ведь и В. И. Даль и Л. Н. Толстой все-таки употребляли сравнение с часовым механизмом в то же время, что и другие писатели—с машиной вообще. Более того, существует ведь и активно употребляется ныне сравнение как часы, которое также могло сыграть свою роль в активизации «часового» оборота и сделать его одним из источников сравнения как заведенный. Кто же из толкователей этого фразеологизма прав?
Спор, пожалуй, может решить лишь обращение к другим языкам. И он решается в пользу первичности представления именно о заведенной машине, а не часах. В славянских языках это сравнение регулярно сопрягается с заведенным механизмом или просто с машиной. Так, в болгарском языке обороты говоря като навита машина и говоря като навита пружина (букв, ‘говорить как заведенная машина или пружина’) характеризуют болтающего попусту и механически, не вдумываясь в содержание, человека. Ср. также с.-х. говорити као навщен (букв, ‘говорить как заведенный’) и чеш. ddlat си jako stroj (maSina) (букв, ‘делать что-либо, как машина’). Столь же красноречивы параллели из других европейских языков: фр. comme une machine, англ, like a machine и нем. wie aufgezogen reden (букв, ‘говорить как заведенный’) являются точными эквивалентами русского как заведенный и при этом никак с часами не связаны.
Следовательно, наше сравнение как заведенный образовалось не в результате усечения оборота как заведенные часы, но из более общего —как заведенная машина. «Часовой» же оборот—лишь одна из частных конкретизаций «машинного», так же как и упоминавшееся заведенным колесом А. И. Эртеля.
Несомненно, конечно, что связь с часами для причастия заведенный в нашем сравнении не осталась бесследной. В некоторых употреблениях «заведенность» характеризует не столько рутинность,
17^ ЗАВЕДЕННЫЕ ЧАСЫ? НЕРЕЗАНЫЕ СОЬАКМ?
однообразность и механистичность, что свойственно всем иноязычным параллелям, сколько бесперебойность и «часовую» ритмичность. В этом, быть может,—некоторая семантическая специфика развития интернационального сравнения на русской почве. Любопытно и то, что в живой русской речи при всем видимом равноправии этих двух сравнений «часовое» все-таки оказывается и более положительным: заведенная машина всегда характеризует кого-то, кто, подобно автомату, бездумно выполняет заданную кем-то программу, в то время как заведенные часы могут приближаться и к характеристике человека, пунктуально, надежно и четко исполняющего свои трудовые обязанности. К. Н. Прокошева, например, записала в одной из деревень Пермской области такую фразу: «Она худо робит, не топит печки, то и стужа в школе. Когда я топила — как заведенные часы ходила, все печки в порядке были». Положительность оценки здесь налицо, ибо говорящая характеризует свою собственную деятельность. Как видим, «хорошее отношение» к часам стилистически перекрашивает даже те обороты, которые заведомо должны были быть отрицательными.
Второй случай—история сравнения как (что) собак нерезаных ‘о множестве народа’. Выражение это просторечное, с явно подчеркнутой иронично-пренебрежительной оценочностью обозначаемого им множества. Это не просто много людей, а много — малозначительных (с точки зрения говорящего, разумеется) лиц: «Эко-он, важная птица! В Петербурге исправников этих как собак нерезаных» (А. П. Чехов. Капитанский мундир);«— Сочинитель?—переспросил он. — Который?—А вон этот, что нос-то набалдашником и один глаз на вас косит. Здесь этих сочинителев, что собак нерезаных» (Н. А. Лейкин. Наши забавники); «Они тебе не компания. Ты им хозяин, они твои слуги, так и знай. Они дешево стоят, и их везде как собак нерезаных» (М. Горький. Фома Гордеев); «— Почему сошел с ума, — возразил Таратура. — Сейчас президентов как нерезаных собак» (П. Багряк. Месть).
Практически во всех этих контекстах ощущается пренебрежение, большое неуважение к тем, кого этим сравнением характеризуют. Очень редко, даже, пожалуй, ошибочно употребляют его в отношении каких-либо объектов: «Обойти бы его стороной, да не выйдет, весь локатор в светлячках: айсбергов справа, как собак нерезаных» (В. Санин. Трудно отпускает Антарктида. — Знамя, 1977, № 5, с. 16). Редкость и ошибочность такого употребления понятна: ведь оборот как собак нерезаных прозрачен по образности, которая и соотносит
172 ЗА>ЦЕННЫ* ЧМЫ? HEFE3AHUE СОЬАКН?
его с одушевленными существительными, а не предметами, как, скажем, в синонимичных сравнениях типа как песку морского или как звезд на небе.
Понятность образа, впрочем, оспаривается лингвистами. Причем если образ собаки не вызывает споров, то по поводу понимания слова нерезаный есть особое мнение.
Фразеологи объясняют значение причастия в этом обороте весьма специально. «Нерезаный — не кастрированный,—пишет В. М. Огольцев;—исходный образ: множество некастрированных собак вокруг самки» (Огольцев 1984,133). Здесь, собственно говоря, повторяется толкование М. И. Михельсона, который в своем собрании фразеологизмов расшифровывает наш оборот словами «так много, как собак-самцов около самки» и приводит народное слово нерез ‘свиной самец, кабан (не боров)’ (Михельсон 1901-19021,402).
Можно ли принять столь нетривиальное объяснение?
Рассмотрим, прежде чем ответить на этот вопрос, языковые факты. Перед нами—иной тип развития сравнительного оборота, чем в случае с выражением как заведенный. Здесь, в отличие от последнего, и существительное, и определяющее его прилагательное остались на прежних местах. Что, однако, первичнее: форма с определением или форма без определения—как собак, которая также употребляется в русском языке в качестве пренебрежительно-оценочной характеристики множества людей?
В. М. Огольцев отвечает на этот вопрос в пользу выражейия как собак нерезаных, считая сочетание как собак «неполным вариантом этого сравнительного оборота» (Огольцев 1971,73).
При таком подходе смущает присутствие других вариантов нашего сравнения, которые, кстати сказать, явно не укладываются в расшифровку причастия нерезаный как ‘кастрированный’: как собак небитых, как собак недобитых, как собак невеишнных. Последний оборот употреблялся и в литературном языке прошлого века: «Дапри десятке миллионов ей стоит свистнуть, так мужей с левой стороны набежит как собак невешанных» (А. А. Соколов. Тайна). Аналогичные факты можно найти и в других славянских языках. В сербохорватском языке, например, есть сравнение има кога као кусих (куса-тих) паса, стилистически точно соответствующее нашему. Прилагательное куси или кусати здесь значит ‘бесхвостый, куцехвостый’. Недобитый, небитый, невешанный и, наконец, «бесхвостый» — все это признаки уличных собак: бездомности, бесполезности, пригодности разве что к уничтожению. Нерезаный ‘кастрированный’
173 ЗАВЕДЕННЫЕ ЧАСЫ? НЕЮ АННЕ СОБАКИ?_
вступает в противоречие с этой характеристикой, да и с простой логикой сравнения. В самом деле: кому придет в голову кастрировать бездомных собак? А если и найдутся такие охотники, то вряд ли множество будет исчисляться именно по этому признаку.
Важно, что активная вариантность определения к слову собака заставляет по-иному посмотреть на соотношение сравнительных оборотов с определением и без него. Вряд ли, скажем, сербохорватское выражение могло развиться из русского оборота о нерезаных собаках. Видимо, и русские сравнения с невешанными, небитыми и недобитыми собаками—лишь варианты оборота без определения: как собак.
На его большую древность и широкий диапазон распространения указывают факты разных славянских языков. Так, в чешском, словацком и польском языках нет определительных оборотов, но есть краткий: je koho jako psu, ako psov, jak ps6w. Есть подобная форма сравнения, между прочим, и в русском литературном языке—причем встречается уже давно, о чем свидетельствует язык классиков:
«Устинья Наумовна:...У тебя ведь, чаи, знакомых-то по городу, что собак» (А. Н. Островский. Свои люди—сочтемся);
«Дом — полная чаша, прислуги, как собак, а жены нет, управлять некому» (А. Чехов. Женское счастье); «Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел» (Н. В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем).
Все эти факты показывают, что вариант как собак нерезаных вторичен. Это—развертывание более известного и древнего сравнения как собак. Различные определения появляются позже и—это обычно для сравнительных оборотов—лишь усиливают уже заданную всей конструкцией экспрессивность, оттеняют ее.
Ясно и то, что толковать причастие нерезаный как ‘кастрированный’ здесь нельзя, ибо это вступает в противоречие с целым рядом других определений. Нерезаный — это примерно то же, что и неве-шанный или недобитый, т. е. относится к глаголу резать в значении ‘убивать чем-то острым’. Эго подтверждает, между прочим, и другое популярное русское сравнение—кричать (визжать, орать) как резаный, где речь идет явно не о кастрированной собаке, а о животном, которого закалывают.
Несколько слов можно сказать и о правописании нашего выражения. В Большом академическом словаре, в собрании М. И. Михельсона и других более старых источниках оно приводится с дву
174 ЗАВЕДЕННЫЕ ЧАСЫ? НЕГОДНЫЕ СОБАКИ?
мя и: как собак нерезанных. Во «Фразеологическом словаре русского языка» под редакцией А. И. Молоткова, «Русско-литовском фразеологическом словаре», словаре В. М. Огольцева и Малом академическом словаре — в форме как собак нерезаных. При этом в последнем словаре причастие резанный от резать кодифицируется с двумя //, а резаный в значении ‘подвергшийся резке, разрезанный на куски’ — с одним. Несмотря на это противоречие, видимо, следует принять уже сложившееся в последнее время написание с одним н. Во-первых, в составе сравнительного оборота причастие нерезаный уже приобрело устойчивое качественное значение, т. е. стало почти прилагательным. Во-вторых, существование сравнения кричит как резаный* кодифицированного именно в таком написании, требует и здесь унификации.
Как видим, история сравнительных оборотов как заведенный и как собак нерезаных различна. В первом случае развитие шло от большей единицы к меньшей. Во втором—от меньшей к большей. Но в этой истории есть и одно общее: авторы «популярных» версий о происхождении этих двух оборотов с излишним доверием приняли историко-этимологическую интерпретацию своего предшественника М. И. Михельсона, собрание которого, несмотря на обилие богатого и яркого материала по русскому образному слову, Б. А. Ларин справедливо назвал в свое время «сборником средневековых анекдотов». Для опровержения исторической анекдотичности и нахождения исторической истины необходимо прежде всего сопоставление русского материала с близкородственным славянским.
Где строят воздушные замки?
Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки.
Н. Г. Чернышевский. Эстетические отношения искусства к действительности
Выражение о строительстве воз* душных замков широко употребляется в нашем языке. Оно характеризует людей, придумывающих заведомо невыполнимые, несбыточные, нереальные планы: «Бывало, Иван Ерофеич строит воздушные замки: вот и так-то буду
жить и этак-то» (А. Островский. Записки замоскворецкого жителя); «У вас профессия такая возвышенная, вы, артисты, воздушные замки
строите, а мы... Нам план гони» (Н. Евдокимов. У памяти свои законы).
Нередко это выражение употребляется и без глагола. Тогда оборот воздушные замки превращается в иронический символ бесплодных и несбыточных мечтаний, фантазий: «Я выбрал себе турецкую софу, лег на нее и отдал себя во власть фантазии и воздушных замков» (А. Чехов. Драма на охоте); «Андрей составил уже два-три плана в своем воображении. Но все это было смутно, неопределенно и
скорее похоже на воздушные замки, чем на настоящие проекты» (С. Степняк-Кравчинский. Андрей Кожухов).
Стремление к символизации фразеологизма проявляется и в активных попытках грамматической конверсии, т. е. в превращении глагола строить в существительные построение, строительство и т. п.: «Мартов прекрасно знает, что именно с этим ответом и борется Ленин, называя его “окостеневшим шаблоном”, “построением воздушных замков”» (В. Ленин. О социальной структуре власти); «Многое из того, что предлагают читатели, действительно хорошо. Однако прав был старый философ, который сказал: поручим строительство воздушных замков поэтам: им это не стоит денег... “Клуб директоров” не намерен заниматься строительством воздушных замков, но не хочет быть и очень заземленным. В конце концов все ставшее ныне вполне реальным вышло из поэзии и мечты. Из, казалось бы, несбыточной мечты...» (А. Рубинов. Трудно быть директором. — Лит. газета, 1975, № И, с. 12).
Показателем активной употребительности выражения строить воздушные замки служит и его постоянное обыгрывание, оживле
176 ГДЕ СТРОЯТ ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ?
ние его прозрачного, как воздух, образа. «Только воздушные замки строят без недоделок»—читаем в «Литературной газете» 1975 г. «Стройте воздушные замки только в безвоздушном пространстве!» — вторит в той же «Литературке» 1975 г. Феликс Кривин (Полезные советы). А в разговорной речи можно услышать и такое перевоплощение образа, как рисовать хрустальные дворцы (Хатунце-ва 1974, 125). Как видим, здесь разговорная речь идет по той же логике ассоциативных замен, что и у Н. Г. Чернышевского, продолжившего тему «замка» словами дом и избушка.
Самым изощренным обыгрыванием образа этого выражения является, пожалуй, его ассоциативная «перестройка» у Б. Слуцкого. В стихотворении «Биография» он не только трансформирует структуру выражения, превращая его в строить замки из чистого воздуха, но и дважды сталкивает их прямое и переносное значения (Некрасова, Бакина 1982,254): с одной стороны, ясно просвечивается его исходный образ, с другой — оба значения наслаиваются на специально профессиональное, «лётчикское», взаимодействуя с термином воздушная яма и ассоциируясь со смертельным риском:
Двадцать восемь годов без отдыха строил замки из чистого воздуха и воздушные ямы копал: или пан или пропал. Вдруг врачебный осмотр. В авиации, Как авария, что ли, почти, так внезапная демобилизация. Уходи.
Такие языковые эксперименты обычно возможны тогда, когда фразеологизм понятен без комментариев. Понятность образа, однако, далеко не всегда означает абсолютную прозрачность истории и этимологии фразеологизма.
Спорят историки и по поводу конкретных источников проникновения оборота о воздушных замках в русском языке. Никто, правда, не сомневается, что это у нас оборот заимствованный, но вот—откуда, вопрос спорный. Прочтем популярную версию на этот фразеологический сюжет:
«СТРОИТЬ ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ. Мечтать о несбыточном.
Вероятно, калька. На русской почве закрепилось первоначально воздушные замки — фразеологизация названия водевиля Н. И. Хмельницкого “Воздушные замки” (1818 г.), которое было заимствовано им у И. Й. Дмитриева. Последний так назвал свою сказку о бесплодном Альнаскаре. Сочетание воздушные замки восходит к фр. bAtir
177 ГС* СТГ0ЯТ воздуцжыс ЗАМКИ?
(construir, faire) des chateaux en Espagne — букв, “строить замки Испании” Франц, выражение восходит к XI веку. Оно возникла после похода Генриха Бургундского в 1095 году в Испанию, где on вместе с королем Кастилии Альфонсом VI сражался против маврог и победил их, за что был щедро вознагражден Альфонсом: получив руку его дочери и обширные владения, в которых стал возводит^ великолепные замки. Соотечественники завидовали ему и ни о чем другом не помышляли, как строить замки в Испании. Но так как Ж Испании у них не было владений, то им оставалось строить замки» воображении. Эти фантастические планы и несбыточные мечты * стали называться “воздушными замками”» (Опыт, 141).
Версия о французском заимствовании повторяется и другими лингвистами. Связывая наше выражение с тем же французским faire des chateaux en Espagne, Л. H. Семенова, однако, не называет конкретных исторических лиц, а ограничивается более общим замечанием, что оно «связано со средневековым героическим эпосом “Chanson de Geste”, герои которого получили в ленное владение еще незавоеванные замки в Испании, а отсюда русские “воз-' душные замки”, т. е. “нереальные, несбыточные надежды, мечты”» (Семенова 1973,137). Несколько иная интерпретация русского оборота и у Н. С. Ашукина и М. Г. Ашукиной и С. Г. Зай-мовского: они, признавая в качестве источника русского оборота французское выражение о замках в Испании, ссылаются одновременно и на то, что последнее имеет более древний первоисточник — средневекового богослова Августина (354-430), который в одной из своих проповедей говорил о «строительстве в воздухе, без фундамента».
Понятно, что интерпретаторы русского выражения во многом отталкиваются от французских источников. В них действительно можно найти версию и о связи выражения с походом Генриха Бургундского в 1095 г. в Испанию, и о влиянии старофранцузского героического эпоса на распространение этого оборота (Назарян 1968, 67-68). Есть, однако, и иные объяснения, которые кажутся более правдоподобными хотя бы потому, что учитывают большую вариантность французского выражения, не дающую возможности привязать его только к Испании. Уже с XIII в. бытовали также обороты faire des chateaux en Asie ‘строить замки в Азии’ и faire des chateaux en Albanie ‘строить замки в Албании’, смысл которых в том, что в тех краях, которые французам не принадлежат, строить что-либо можно лишь в собственном воображении. Вариант с замками в Испании, выросший из такого же образа, стал более употребительным и вытеснил остальные благодаря тому, что именно Испания в
178 СТГ0ЯТ ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ?
Средние века стала для французов символом различных авантюр и военных походов. Завоевания Генриха Бургундского, разумеется, сыграли немалую роль в формировании таких представлений (Rat 1957, 90-91).
Если принять версию о французском влиянии на русский оборот, то остается непонятным, почему же у нас не сохранилось никакой реминисценции об Испании, а неизменным остается определение воздушные. Быть может, в истории русского языка произошло постепенное вытеснение вторым словом первого?
Заглянем в литературу XVIII в., где, как мы видели, немало заимствований и из французского, и из немецкого языков. Там мы действительно найдем самые разные вариации этого выражения—башни на воздухе строить, строить замки на воздухе, строить (сооружать) воздушные хоромы, строить палаты на воздухе, городить воздушные палаты и т. д.: «Прекрасная жена его вздохнет украдкою о том, что ее замужество построило ей замки на воздухе и что... сладость известна ей по одному воображению» (И. Крылов. Ночи); «Паша: Бриллианты ли вам нравятся, я прикажу осыпать тебя ими с ног до головы. Говори, моя сударка. Муктала в сторону: Какие палаты строит он для нас на воздухе» (Павлов. Три сундука, или...); «Резня: Что ж бы например, о чем рассуждал паша. Муктала: Городит воздушные палаты и делает в своей голове план» (там же); «Иной, соорудив воздушные хоромы, Мечтой питается, без правила живет» (М. Херасков. Ненавистник).
В этот период строить воздушные замки имеет уже и свой антоним разрушать воздушный замок:
Но время, опыт разрушают Воздушный замок юных лет; Красы волшебства исчезают... Теперь иной я вижу свет.
(Н. М. Карамзин.
Послание к Дмитриеву)
Характерно и употребление этого оборота в форме воздушные замки, с усечением глагола: «Мысли твои о вечном возвышении и падении разума человеческого кажутся мне... воздушным замком: я не вижу их основания» (Н. Карамзин. Милодор к Филарету); «П о -стана хохочет: Все ваши воздушные замки я оберну вверх дном, ха, ха, ха, ха» (Я. Княжнин. Жеиих трех невест).
Как видим, ни один из этих вариантов не содержит даже и намека на Испанию. Если русское выражение было бы действительно
^79 ГДЕ СТРОЯТ ВОЗДУШНЫЕ ЗАМШ?
калькой с французского, то хоть в одном из вариантов — по зако^ нам калькирования—упоминание об Испании всплыло бы. J
Следует поэтому предположить, что, вероятнее всего, заимствс^
вание шло не из французского, а из немецкого языка, где этот об$й рот полностью соответствует русскому — Schlosser in die Luf$
bauen. Правда, и во французском языке есть аналогичное выраже^ ние — batir des chateaux en i’air, но оно, однако, не достигло там
такой широты употребления, как в немецком, и было рано вытесн нено уже известным нам «испанским» вариантом. О немецком ио точнике вскользь говорит С. В. Максимов, перечисляя обороты, которые «с немецкого переведены» (Максимов 1955,31). Подчерк кивают немецкое происхождение и авторы проекта «Словаря русского языка XVIII века»: выражение башни на воздухе строить они сопоставляют с немецким. В самом словаре, правда, этот обо-рот помимо немецкого сопоставляется и с устаревшим фр. batir des chateaux en I’air (букв, ‘строить замки в воздухе’). Из нем. Luftschlosser bauen производит бел. паветраныя зама будаваць и И. Я. Лепешев, который, правда, замечает при этом, что фразео*
логизм, испытав влияние немецкого, сложился все-таки путем кон* таминации двух выражений: будаутцтва у паветры (букв, ‘строительство в воздухе’) + будаваць зама у 1спанП (‘строить замки в Испании’) или будаваць картачныя зама (‘строить карточные замки’). Идея контаминации, как мы видели уже на русском материале XVIII в., неверна уже потому, что ни один вариант не дает упоминаний ни об Испании, ни о карточных замках. Да и «карточных замков», собственно, нет и ни в одном языке—есть лишь «карточные домики», которые имеют свою особую историю.
Структура русского выражения строить воздушные замки и его варианты, таким образом, показывают, что заимствовано оно было не из французского, а из немецкого языка. И, вероятно, — в XVIII в. Аналогичного происхождения, видимо, и такие же обороты в других славянских языках — например, болг. строя (градя, издигам) въздушни кули (за'мъци, дворци), словацк. stavat’ [si] vzduSne (veteme) zamky, чеш. stavet vzduSne (v6tme) zamky. Соб
ственно говоря, выражение это давно уже стало интернационализмом, поскольку встречается во многих европейских языках: англ, castles in the air, дат. at bygge slotte i luften, нидерланд. Kasteelen in de lucht bouwen, ит. fare castelli in aria, исп. construir (formar, fundar, hacer) castillos en el aire.
230 me СТРОЯТ ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКМТ
Понятно, что в испанском языке — как, впрочем, и в других европейских—нет выражения о замках в Испании. Французскому обороту в средние века, правда, соответствовал латинский вариант — Castra in Hispania ‘замки Испании’, имевший уже известную нам историю (Nelson 1951). Это—лишь один из европейских вариантов древнего выражения, употреблявшегося уже у античных писателей: in аёг piscari (Плавт) и др. (Тимошенко 1897,147— 148). Именно из этого источника оборот и попал в интернациональный обиход, в том числе и в немецкий язык.
В заключение можно уточнить и еще один момент истории нашего выражения. Мы видели, что некоторые его историки переоценивают влияние комедии Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки» на активность усвоения оборота нашим литературным языком. Переоценивают хотя бы уже потому, что пьеса написана в 1818 г., а оборот уже в XVIII в. не только употреблялся самыми разными писателями, но и «оброс» многими вариантами. Что ж — популярность этого выражения на Руси вполне понятна: нигде, пожалуй, не найти стольких специалистов по «замкостроительству» на возду-сях, как у нас.
—1 ' ... - Nl
Какой зги не видно?
И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчерчивая на полях, И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать ни зги.
Б. Пастернак. Быть знаменитым некрасиво
Выражение ни зги не видно (и$ видать) ‘абсолютно ничего нф видно, очень темно’ — одна из мых больших этимологических за* гадок русской фразеологии и лексики. Естественно поэтому, что эта загадка уже давно привлекла вни* мание историков русского языка#, Со времен А. С. Шишкова, задумавшегося над смыслом этой чисто русской идиомы и поставив-*
шем вопрос о ее происхождении, исследователи собрали на нее довольно большое «досье». Вопрос»
однако, так до сих пор остается без определенного ответа.
Не мог обойти и этот — как и многие другие — вопрос своим вниманием и петербургский этимолог проф. Ю. В. Откупщиков. Со свойственной ему осторожностью и здравым скепсисом он, однако, воздержался от собственного ответа, предоставив дискуссионную трибуну одному из завзятых любителей российской
словесности, увлеченному этимологическими изысканиями, — инженеру по специальности и филологу по призванию Г. И. Маг-неру. 26 февраля 1975 г. на этимологическом семинаре Ю. В. Откупщикова Г. И. Магнер сделал доклад о выражении ни зги не видно, историей которого он усиленно занимался многие годы. Обстоятельно изложив известные ему этимологические толкования слова зга в этом выражении, он выдвинул свою собственную гипотезу, где это слово расшифровывается на основе значения ‘хлыст’ (т. е. то, чем стегают коня). Эта гипотеза обсуждалась членами семинара долго и горячо. Когда этимологические страсти были уже раскалены до предела, а золотой середины или хотя бы диалектического компромисса между спорящими уже стало не видно, как и пресловутой фразеологической зги, все участники семинара захотели выслушать решение третейского судьи — руководителя семинара. В процессе дискуссии Юрий Владимирович в основном молчал, время от времени лишь подбрасывая остросюжетные реплики-вопросы дискутерам. Теперь же он подвел итог.
КАК0* зг* НЕ ЦАЖ??
«Г. И.Магнер очень метко подметил уязвимые места в интерпретации своих предшественников,—сказал он. — Нои его оригинальная гипотеза так же не может быть признана окончательной и единственно верной. Из-за этого, однако, ни докладчику, ни его оппонентам не следует расстраиваться: в этимологии такое бывает. Более того: даже — должно быть, иначе мы, языковеды, присвоили бы себе право на непогрешимость, которое противоречит духу науки. Нужно продолжать накапливать конкретные факты и искать убедительные аргументы, чтобы выбрать самую вероятную гипотезу».
Признаюсь, что меня, как и других участников этой дискуссии, столь «уклончивый» ответ Юрия Владимировича от оценки разночтений оборота ни зги не видно несколько разочаровал. Многие из нас уже настолько поверили в алгебрически беспощадную логику его историко-этимологического метода, основанного на формальной и семантической моделируемости языковых единиц, что были убеждены в том, что, подведя итоги дискуссии, наш Учитель все-таки сам расшифрует загадочную русскую згу. Но теперь, четверть века спустя после обсуждения доклада Г. И. Магнера (к сожалению, до сих пор не опубликованного), такой ответ кажется и единственно оправданным, и единственно возможным. Как бы ни хотелось после многих поисков (филологических или жизненных) признать верным и «правильным» один-единственный вариант, абсолютной гарантии его истинности, увы, все-таки не существует. Во всяком случае — до тех пор, пока этот вариант не будет во всей полноте сопоставлен с другими возможными истолкованиями, ненадежность которых станет так или иначе очевидной.
Как же на современном этапе русской исторической фразеологии выглядят истолкования идиомы ни зги не видно? ' и
Пожалуй, из множества этимологических расшифровок наиболее традиционным и популярным является объяснение зги от др.-рус. сътьга ‘тропа; дорога, путь’, в котором после падения редуцированных ъ и ь выпал звук т, а звук с перед г озвончился в з. Сущ. зга, сътьга (общеслав. *stbga) вышли из употребления и остались лишь в составе оборота ни зги. В литературном языке сохранилось однокоренное с ними существительное стезя (книжн.), а в народной речи— слова стега и стёжка ‘небольшая дорога’, ‘тропинка’. Буквальный смысл выражения при такой интерпретации — ‘так темно, что не видно даже дороги, тропы’. Этого истолкования придерживается,
183 зг*НЕвндно?
пожалуй, большинство историков языка и «примкнувших к ниМй популяризаторов (Преображенский 1,246; Соболевский—см. 3^ ленин 1903, 5; Абакумов 1936, 60; Альперин 1956, 17; Ковалем кая 1968, 19-20; Фасмер II, 88-89; Вартаньян 1973, 166; Кобякоя 1977,11-12; КЭФ, 1979, № 5, 89; Бахарев 1981, 56; Бухарева 198Я 11; Шанский 1985,68; Опыт, 94; Черных 19931, 320). Возникнов^ ние оборота некоторые ученые (например: Бухарева 1985,11) носят к XVII в.: «А старець Германъ дряхль добре и слепъ, не дон дитъ ни зги» (1636 г. — СРЯ XI-XVII вв.).
Эту традиционную версию пытаются подкрепить и паремиоло^ гическим материалом. Исследователи отмечают наличие этого обо* рота в составе пословиц — например: Слепой слепца водит, а оба зги не видят (XVIII в.) и Для того слепой плачет, что зги не видит; Известный немецкий фразеолог Р. Эккерт увидел в таких пареми? ях ключ к разгадке этимологии выражения ни зги. По его мнении^ они свидетельствуют о корректности традиционной интерпрета^ ции зги как ‘дорога; тропа’.
Действительно, слово зга и оборот ни зги не видеть уже с XVIJ в. фиксируются именно в составе русских пословиц, что свидетельствует об их древности и устойчивости в русском фольклоре. Материал такого рода можно расширить. Так, в паремиологическом своде, созданном участниками фразеологического семинара СПбГУ, отмечены следующие пословицы и их варианты:
Для того слеп плачет, что зги не видит (ППЗ, 25, XVIII в.; Снегирев 1848,92; ДП 19871,106);
Для того слепой плачет, что ни зги не видит (ДП 1987 1, 140); О том слепой и плачет, что ни зги не видит (Даль IV, 228);
О чем слеп плачет, что зги не видит (ППЗ, 60, 105, XXVII-XVIII вв.);
Слепец слепца водит — оба ни зги не видят (Даль IV, 229);
Слепец слепцу глаза не колет, а оба зги не видят (Снегирев 1848,375);
Слепой слепого водит, оба зги не видят (ДП 1987 I, 334); Слепой слепцу глаз колет, а сам зги не видит (Разумов 1957); Тяжело ждать, как ни зги не видать (Даль 1, 202);
Любовь ни зги не видит (ППЗ, 173) и др.
Столь богатый материал свидетельствует, что наше выражение пришло в литературный язык из самых недр народной речи. И действительно, его издавна регистрируют в различных диалектных
184 КАИ0|> згн НЕ виднот
зонах, например, в пермских, рязанских и других говорах (Даль IV, 581; СРНГ 9,226). Ср. и такие его варианты, как перм., ряз. зги нет ‘очень темно’ (СРНГ 11,226), зге не видать ‘то же’ (Пск. обл., Холмск, р-н — КПОС); зги не слыхать (не помнить) ‘абсолютно, совсем не слышно’ (русские говоры Мордовии — СРГМ 2, 104); ворон, ни згйбочки ‘то же, что ни зги" (Ройз.Хаз.Сл., 229); арх. ни званьица не видно ‘абсолютно ничего’(СРНГ 11,210) и т.п.
Подтверждают ли эти пословичные и поговорочные материалы традиционную версию?
Во многом, надо признаться,—подтверждают. Во-первых, для ее принятия нет никаких фонетических и словообразовательных противопоказаний, ибо переход *stbga в зга вполне закономерен. Укладываются в эту версию и ареальные факты, особенно восточнославянская структурно-семантическая «перекличка»зги и стеги'. рус. диал. стеги не видать — бел. сьцег1 ня eidna — укр. Bin такий, що й стежки не бачить ‘о пьяном или глупом человеке’. Убедительными кажутся и данные древнерусских памятников письменности, которые приводит Р. Эккерт: ни стезя тут видя (1624 г.), и Очима молу стезю съ нуждею ощущая (ок. 1560 г.). Не противоречит, а, скорее, подтверждает это толкование и изосемантическая модель, которая представляет абсолютное отрицание лексемами со значением ‘дорога, путь; тропа’: среднеобск. ни путя ‘нисколько, совсем’, ряз. ни следйнки (следы) нет (нетуУт видно дороги, наезженной колеи (обычно о дороге, занесенной снегом)’. Ср. сиб. страны не видать ‘ничего не видать’(СФС, вороного коня в поле tie видно ‘очень темно’ ит. п.
Однако традиционное толкование далеко не всем историкам русского языка кажется безупречным. Семантическую алогичность в нем, например, усматривали А. А. Потебня и Ф. П. Буслаев (на что, в частности, обратил внимание в своем докладе Г. И. Маг-нер). Этот скепсис в какой-то мере подтверждается и некоторыми языковыми фактами, не способствующими принятию традиционного сопряжения зги со спгегой. Любопытно в этом отношении иза-писанное В. И. Далем диалектное выражение промотаться дозги ‘полностью промотаться’, где дозги — ‘всё, дотла, до нитки, до пылинки’. Ведь если бы здесь зга имело рефлективное значение, связанное со стега, то подобное семантическое развитие было бы вряд ли возможно, ибо «промотаться до дороги» выглядит явным алогизмом.
Реакцией на традиционное, как известно, всегда является «анти-традиционное». И недостатка в таких версиях выражение ни зги не 1^5 МАКОВ ЗГИ HI ВИДНО?_________________________________
видно, действительно, не испытывает. Немало языковедов пытались высказать по его поводу оригинальные, но, к сожалению, никакими конкретными фактами не под тверждаемые этимологические расшифровки. К таковым, например, относится попытка Ф. Миклошича связать слово зга в этом выражении с грузинским zga ‘дорога’; установление его предполагаемого родства с корнем guz- (ср. бел. гужъ ‘Oestus’—Зеленин 1903,5-9) или признание в качестве первичного значения д ля него ‘темень’ (ср. на дворе зга згою, зафиксированного словарем В. И. Даля). Последнее толкование, между прочим, поддержал даже известный собиратель русской идиоматики М. И. Михельсон, утверждавший, что зга в нашем выражении—это «темнота (ничего—для глаз), капля, искра» (Михельсон 19941,692). Как видим, здесь делается попытка «совмещения несовместимого»: значение ‘темнота’ соединяется с его антиподом ‘искра’, причем в одном ряду с другим символом всего незначительного—‘капля’.
Как бы критически ни относиться к подобным толкованиям, и они имеют определенный резон. Так, в частности, представление о зге как ‘капле’ находит аналогию (пусть и достаточно приблизительную) с диал. не видеть ни крошки (Даль II, 663), входящим в состав более развёрнутых паремий, например, смол. Бельмы на ложки, ня видють ни крошки (Добровольский 1894, 62). Алогичное сопряжение зги с ‘теменью’ тоже в какой-то степени можно обосновать. В русских диалектах имеется вариант оборота, основой которого является лексема мзга ‘туман’, ‘сырая, промозглая повода’, ‘мелкий дождь’, которая этимологически, видимо, связана с диал. морозга ‘сырая погода’ (Петлева 1973, 53): петерб., костр., яросл. мзгй не видно ‘ничего не видно’ (СРНГ 18, 152). В |972 г., находясь в диалектологической экспедиции на Белое море, я записал контекст, не оставляющий сомнений в полной семантической тождественности этого варианта с литературным ни зги не видно: «Позавчерй был пожйр, дак с той стараны была ни мзгй не ви* дать. Мзга—эта воздуха округа, что видим пёрет глазами. Эта мзга иазыв£)ецца, В мбре не видна мзгй, здёлался туман». Ср; также у В. И. Даля лога* ‘гниль, цвиль, тля’, мозга, мазга, мазка ‘кровь’, промзгнуть, сомжать и др.
Однако при первой же проверке конкретными языковыми фактами подобные аналогии все-таки не выдерживают испытания. Первичность значения ‘темень’ у слова зга, например, опровергается такими фактами достаточно убедительно (см. статью Бодрова в «Филологических записках», 1983, вып. V-VI, с. 9).
186 КАКОЙ Н£ ВИДН07
Таким образом, вышеприведенные опровержения традиционной интерпретации нашего оборота на этом фоне кажутся не настолько обоснованными, чтобы от нее отказываться. Вместе с тем некоторые «конкурентные» гипотезы не дают возможности принять ее как единственно возможную.
Одним из весьма серьезных контраргуметов против нее, как уже говорилось, является семантический критерий. Если зга—‘стезя, стежка’, то выражение темно, зги не видать почти тавтологично и не отличается обычной для поговорок выразительностью и неожиданностью сопоставлений (гиперболичностью). Было бы странно поэтому, если бы столь бледное по образу выражение сохранялось народной речью и после утраты своего этимологическогазначения. Отсюда —попытка сближения слова зга с обл. (ряз.) згинка ‘искорка’, ‘крошка’ (см.: Преображенский 1,246 — это слово приведено в неверной форме сгика) и обл. пазгать, образованным с помощью префикса паск глагола згатъ. Слово зга связывается с одним из значений глагола пазгать — ‘сильно, ярко гореть, пылать’.
Кроме этого значения глагол пазгать имеет еще три других: ‘расти скоро, вдруг, не по летам’ (откуда пазгала — ‘верзила, рослый парень’); ‘драть, сдирать’; ‘сечь, наказывать’. В последнем значении он близок к глаголам стегать и стебать ‘хлестать, сечь в наказание’, имеющими также значения ‘шить (главным образом в прошивку)’ и (ворон.) ‘быстро говорить’. Ввиду близости значений глаголы стегать и стебать можно признать тождественными (ср. аналогичный фонетический переход г в б в слове шугай и архаичном шубай). В родстве с этими глаголами и глагол пазгать, претерпевший следующие фонетические трансформации: по-стегать, па-стьгать, па-згать. Многочисленные значения глаголов сте-гать, стебать ътпазгать имеют одну общую черту: они всегда обозначают быстро и ритмично повторяющееся действие.
В значении слова пазгать ‘пылать, сильно гореть’ эта быстрая, ритмическая смена может относиться или к языкам пламени, или к искрам и целым снопам искр, которые одна за другой быстро вылетают из сильного пламени. Слово зга и могло первоначально обозначать какой-то из этих проблесков света, искру (ср. згинка ‘искорка’, ‘крошка’).
В выражении ни зги не видно существительное зга может также обозначать искру, но с несколько иным оттенком, близким к тому, какой имеет выражение искры из глаз посыпались. Искры мелькают у человека в глазах, когда он крепко зажмуривается. На самом
187 клиоа уи не
деле это даже не искры, а белые точки. Такие точки — ‘искорки’ — видят некоторые слепые. Другие слепые не видят и этих точек, ио корок. Не видно их и в непроглядной тьме, в черном мраке осенних ночей, когда темнота предстает в виде плотного густого тумана; который словно парализует зрение и застилает глаза. Если выражение ни зги не видно первоначально означало полнейшую темноту или слепоту, то тогда оно не тавтологичное, бледное выражение (как это было бы при расшифровке зги как “стезя”), а яркий образ* полный глубокого психологического смысла. К такому выводу (в некоторых моментах опираясь на материал Д. К. Зеленина) приходят авторы одной из книг по культуре русской речи 3. Н. Люстро-ва, Л. И. Скворцов и В. Я. Дерягин. В какой-то мере это этимолог гическое толкование предвосхищает Р. И. Будагов. Он связывает выражение со словом зга в значениях ‘мгла’ и ‘искра’. Не видно ни зги в этом случае может буквально означать ‘так темно, что не видно даже самой темноты, ничего не видно’ или ‘так темно, что не видно даже искры’.
Первое из этих двух значений —г ‘мгла’, как мы видели, реализовалось в диал. ни мзгй не видно, Ojy&aKQ узость его ареала и тавтологичность семантики все-таки не позволяет принять его за исходное. Скорее всего, это формальная и семантическая его адаптация к более древнему и широко распространенному ни зги не видно. Значение ‘искра’ при этом — весьма сильный конкурент семантике ‘дорога, путь; тропа’. Сильный уже и потому, что слепому, действительно, видеть свет или хотя бы искорку «света Божьего» —столь же невозможно, сколь и видеть стегу, стезю, по которой он идет со своим лишенным зрения спутником. Тем самым «па-ремиологический аргумент» проф. Р. Эккерта в какой-то мере обретает свою актуальность и для «искровой» интерпретации.
Подтверждают ли и ее конкретные языковые факты?
Если не подтверждают, то, как кажется, и не могут отвергнуть ее полностью. В сущности, даже «паремиологический аргумент», который как будто полностью соответствует интерпретации зги как ‘дорога, тропа’, не противоречит «искровой» версии. Характерна в этом отношении постоянная «перекличка» слова слепой со словом свет и его синонимами: Слепые... и свету не видим (Даль IV, 228); Он слеп, только лунь видит (лунь — ‘тусклый свет, блеск, белизна’—Даль И, 273; ср. новг., перм. ‘тусклый свет, отблеск’, перм., урал., пск. ‘луна; лунный свет’—СРНГ17,197) и т.п. Такие примеры находят аналогию и с теми употреблениями слова зга, которые могут быть рас-
188 ЗП1Н1 внднот
шифрованы именно на основе семантики ‘свет’, ‘искра’ и т.п.: не взвидеть ни зги; ряз. не видать зги божьей, зги божьей не видать; смол. Чтоб мне божьей зры не видать* ( зра — из згра, искра — СРНГ 11,346). Кроме того, в русских диалектах (например, в рязанских) слова згйнка, згйночка фиксируются именно в значении ‘искра’, ‘искорка’ (СРНГ 11, 227). Ср. лит. zaiga ‘мерцание, сияние’, связанное с zvaigznu ‘мерцающая звезда’ и т.п. Фонетически, возможно, связь зга и ‘искра’ находит подтверждение в близости к ряду слов, образованных от корня * zbg-/ * zeg-, которому этимологи уже уделяли внимание, типа рус. диал. жига ‘огонь’, пск. ‘горячо’ («Лёша, экъ'хгя, ни абарйсь» — КПОС), диал. жйгочка ‘огонёк’, жижа ‘огонь’. Ср. пск. дать жйгу кому ‘ударить кого-л,; задать жару кому-л.’ (КПОС), пск. жгёный ‘жжёный’, згага и изгага ‘изжога’, згага ‘надоедливый человек’, зазга ‘забота’, заз&пь ‘зажечь’ (КПОС), смол, зажга ‘подстрекатель’, зажгатъ ‘зажечь’ и др. Некоторые из них, например изгага, имеют широкие параллели в славянских языках и диалектах (укр. згага, болг. згага, словен. zgiga и другие производные праслав. *iz-gaga, связанные с *gego > ♦zego — ЕСУМ II, 252-253). Важно учесть также примеры, где близкие (возможно) по происхождению слова развивают фразеологические связи, сходные с оборотом ни зги: диал. ни жужла ‘ничего’, ни жугли нет ‘ни души’ и т.п. Ср. пол. do zgna ‘полностью’; zla skra namacal go po skrach и словацк. zeh ‘поджог’ и т. п.
В пользу «искровой» расшифровки слова зга в нашем выражении свидетельствует и ряд оборотов, где темнота, «невидимость» символизируются именно световыми образами: нет ни огонечка ‘всё темно’ (Даль II, 644), «Не видели... ни приютной кровли, ни огня» (Мережковский), укр. не видно Hi ceima, hi неба ‘абсолютно ничего не видно’, пск. ни видак&никакова ‘никакой видимости’ (КПОС) и т. п. Этот образ постоянно сопровождает оборот ни зги в литературно-художественном, особенно в поэтическом употреблении.
Известны и другие этимологические расшифровки выражения ни зги, также не лишенные своей внутренней логики. Одной из популярных и ярких по «национально-русскому» колориту является объяснение его в связи с рус. диал. зга ‘кольцо на дуге конской упряжи’. Логика такого предположения вполне понятна: при плохой видимости, в темноте и при непогоде ямщик не мог разглядеть даже такой зги. Правда, в этой логике, при ближайшем рассмотрении, оказывается один изъян: во время поездки кольца на дуге ямщику не видно и в ясную погоду, да и нет необходимости его рассматри-
189 мкой 3™НЕ >ндиот
ваты Сторонники этого толкования (с фонетической стороны безупречного), однако, находят объяснение и этому. Поскольку распрягать и запрягать коня приходилось в любое, даже самое плохое время (темную ночь, ненастье), то и возникала необходимость увидеть эту згу — ‘кольцо на дуге’ (Татар 1983, 91-98; 1992, 98-99; Варбот 1984, 140; Аляхнович 1996, 111).
Мы уже видели, к какому выводу пришел в своем докладе на этимологическом семинаре Ю. В. Откупщикова Г. И. Магнер. Его гипотеза была также вполне убедительна не только с точки зрения здравой логики, но и по тем этимологическим параметрам, которые для убедительных интерпретаций требует проф. Ю. В. Откупщиков в своих трудах: фонетическая, словообразовательная, синтаксическая и семантическая изоморфность. Признавая для слова зга исходной форму стега, докладчик, отвергнув другие (известные ему) версии, задал вопрос: «А не имело ли слово стега какого-либо другого значения?»
Его собственным ответом на этот вопрос стало возведение слова стега во фразеологизме к глаголу стегать ‘погонять коня хлыстом’. Тем самым первоначальное значение этой лексемы—‘хлыст’ (т.е. та, чем стегают лошадей)’, ср. сохраненное народной речью слово стежок именно в этом значении. По мнению Г. И. Магнера, слово стега в реконструированном им значении забылось потому, что было вытеснено его омонимом стёбка. Однако следы его сохранили другие индоевропейские языки: лат. stiga, stiba ‘хворостина’ и steigt ‘спешить, торопить’, staigytis ‘спешить’, stiebrs ‘ствол, стебель’; литовск. stiebas ‘ствол, стебель’, staibiai ‘столбики, стеблины’; фр. tige ‘стебель’ и т.п.
Во фразеологическом преломлении эту семантическую логику Магнер подтверждал такими языковыми «перекличками», как с.-х. ни прет се пред оком не виды (букв, ‘не видит перед глазом и собственного пальца’) и чеш. ani zbla (nevidSt) (букв, ‘не ввдеть ни стебля’) и др. И действительно, для последнего примера современные слависты признают такую внутреннюю форму вполне убедительной. «Идиома ani zbla (nevidSt) является в современном чешском языке абсолютно немотивированной,—пишет Л. И. Степанова. — Этимологи возвд!цят компонент zbla к steblo ‘стебель’ (stbla > zdbla > zbla). В словаре (имеется в виду средневековый сборник чешских паремий Я. Благослава. — В. М.) зафиксирован промежуточный этап фонетической эволюции этого слова: nSkdo se sblem zakule (букв, “кто-то может и стеблем заколоться”), подтверждающий правиль
КАКОЙ ЗШ НЕ ВИДНО?
ность этимологии ФЕ ani zbla (nevidet)» (Степанова 1994,91). В славянских языках можно найти и другие примеры, косвенно подтверждающие такое толкование. Так, с.-х. Gdje пета mladica, пета ni stabla в какой-то мере расширяет ареальные границы чешского оборота (ср. также пол. zdzblo (zdzieblo) ‘стебель’ и другие славянские параллели этого слова), а рус. диал. (смол.) Ни дари, да стяблбм вочы ни кали и и кормить, и стяблом вочы колить (Добровольский 1894,24) и чеш. диал. (морав.) tma, Ze do ni muze postavit hul (букв, ‘такая тьма, что в нее можно палку поставить’), tma, Ze by tam ani hulky nevstrdil (букв, ‘такая тьма, что туда и палки не всунешь*) (Zaoralek 1963, 130) ассоциативно связывают «стеблепалочный» образ с такими выражениями, характеризующими абсолютную темноту, как хоть глаз выколи (коли), имеющими глубокие корни в народной речи (ср. горьк. ткни в глаз не видать ‘совсем не видно’). Правда, при такой ассоциативной расширенности теряется предельная конкретика реконструированного Магнером д ля слова зга значения ‘ветка, прут, какими погоняли лошадей’.
Итак, перед нами — целая палитра ярких, логичных и в целом лингвистически приемлемых расшифровок первичного образа идиомы ни зги не видно. Какую же из них выбрать как наиболее достоверную?
Методом от противного, как мы видели, можно было уже при рассмотрении основных гипотез отсеять некоторые периферийные, например, связывающие выражение с диал. мзга ‘туман’, ‘сырая, промозглая погода’, ‘мелкий дождь’. При строгом семантическом пересмотре окажется, пожалуй, отсеянной и версия, трактующая зга как ‘кольцо на дуге конской упряжи’. Во-первых, узкое распространение этого слова в народно-терминологическом значений в диалектах (в значении ‘кольцо у дуги, через которое продевают повод ббрати’ оно зафиксировано лишь в псковских и вологодских говорах — СРНГ 11,226) противоречит его общеизвестности в составе фразеологизма. Во-вторых (что особенно усиливает сомнения в истинности данной гипотезы), оно никак не увязывается с древнейшими, как мы видели, употреблениями оборота ни зги не видно в русских пословицах, где ни зги не видят... слепые. Предполагать, что слепые могли быть ямщиками,—явный алогизм, к тому же контекст пословиц ясно свидетельствует, что речь в них идет не о поездке на лошадях, а о медленном и осторожном пешем передвижении: Слепец слепца водит — оба ни зги не видят; Слепой слепого водит, оба зги не видят; Слепой слепца водит, а оба зги не видят и т.п.
КЛКОЛ ЗГИ НЕ ВИДНО?
Паремиологическая логика опровергает, как кажется, и весь* ма остроумную версию Г. И. Маги ера, прозвучавшую на памяти ном семинаре в 1975 г. Ведь если зга — ‘ветка, прут, какими пого-няли лошадей’, то пословица о слепых также теряет свой смысл, Тем более что, как мы видели, эта пословица издревле имела И такие варианты, как Слепой слепцу глаз колет, а сам зги не видит; Слепец слепцу глаза не колет, а оба зги не видят и т.п., которые ясно свидетельствуют об ином образном содержании зги: д&же если и предположить, что здесь слепцы колят друг другу глаза именно згой—стегой, то этот прут явно не предназначается для подстегивания лошадей. Другое дело, если зга в данном случае — ‘ветка’, ‘палочка’, ‘стебель’, которые в темноте невозможно разглядеть, как и *stbblo в чешском обороте (nevidet) ani zbla. В таком случае две приведенные пословицы (и их другие варианты) имеют какой-то смысл: быть может, слепец не видит той ветки, которой колет в глаза другому слепцу? При всей яркости образа такая расшифровка оборота кажется все-таки несколько искусственной, особенно — на фоне основного варианта нашей пословицы: Слепой слепого водит, оба зги не видят. Зга ‘стебель’, ‘ветка’ никак не объясняет этот вариант.
Наиболее правдоподобными, следовательно, остается признать толкования идиомы ни зги не видно на основе двух значений загадочного слова зга — ‘дорога; тропа’ и ‘искра; огонек’. Какое же из них следует избрать в качестве «единственно верного»?
Лингвистический метод анализа и приведенные собственно языковые факты, пожалуй, такого выбора сделать не позволяют. Можно лишь попытаться апеллировать к чисто филологической интуиций, которая, конечно же, во многом подпитывается субъективными, индивидуально-языковыми ассоциациями. Как и носители языка; писатели и поэты употребляют наше выражение по-разному. У многих оно полностью отвлечено от внутренней его формы и служит прямой, хотя и весьма экспрессивной характеристикой абсолютной темноты, что отражается во многих контекстах, зарегистрированных словарями:
«Ночь была теплая, темная, такая, что ни зги не видать» (Гончаров. Фрегат Паллада); «Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги» (Рылеев. Иван Сусанин); «А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе» (Чехов. Степь); «Казалось, все было в порядке, как следует, то есть снег валил еще сильнее, крупнее и гуще, на расстоянии двадцати шагов не было видно ни зги» (Ф. Достоевский. Двойник); «Ночь — ни зги, ветер, метель, улицы занесло по самые заборы» (Авдеев. Поря-
192 к**0**зг*НЕ >адно7
док жизни); «На всем громадном и диком пространстве Куликова поля не было видно ни зги» (В. Катаев. Белеет парус одинокий); «Далеко на Чукотке снега... Безмолвные, они многое скажут пытливому человеку... А когда подует южак, за серой пряжей—ни зги, разве тускло сверкнет бледно-желтое солнце» (А.Пряшников. Кауль и Малыш); «На лестнице было черным-темно — ни зги» (В. Панова. Володя); «Летим, швыряет нас в потемках, ни. зги, а я ее лицо вижу» (Г. Горыш. Запонь).
Не случайно поэтому в большинстве словарей дается обобщенная дефиниция этого «окостеневшего» по внутренней форме оборота. Так, недавно вышедший учебный русско-французский фразеологический словарь А. А. Молоткова и М.-Л. Жост определяет нашу идиому так: «Absolument rien (не видно, не видать); goutte; que couic (pop.) Abituellement a cause du mauvais temps (forte chute de neige, pluie, brouillard) ou de I’obscurite» — «Абсолютно ничего (не видно, не видать); goutte; que couic (народа.). Обычно из-за плохой погоды (сильного снегопада, дождя, тумана) или темноты» (Молотков, Жосг2001,134).
Но немало и таких художников слова, которых загадка фразеологической зги волнует не меньше этимологов. Анализ именно таких употреблениях слова зга представила слушателям фразеологического семинара нашего филологического факультета 11 февраля 1997 г. Л. В. Зубова (см.: Зубова 1999; 2000, 128-129). Оказалось, что всего лишь один из множества приведенных текстов укладывается однозначно в прокрустово ложе традиционной расшифровки зги как ‘дороги; тропы’:
А жизнь это, братие, узкая зга. — И се ты глядишь на улыбку врага, меж тем, как уж кровью червонишь снега. В снега оседая, в снега.
(Лосев)
Некоторые из этих контекстов семантически довольно диффузии, ио тем не менее, дают мало оснований для традиционной интерпретации, более тяготея к «искровой», нежели к «дорожной» семантике:
Ни зги в глазах. Шарахаются бабы, но поздно! Кот, на шею сев, как дьявол бьется, озверев, рвет тело, жилы отворяет, когтями кости вырывает... О, Боже, Боже, как нелеп? Сбесился он или ослеп\
(Заболоцкий)
193 К**0** ЗГИ НЕ ИИДМРТ
«Искровая» же семантика в поэтических контекстах, цитируемых Л .В. Зубовой, эксплицируется весьма часто и довольно определенно:
То ль не зга, Толь нежгонъ, То ль не молодец-^иь/ То ль незарь, То ль не взлом, То ль не жар-костёр—да в дом! (Цветаева)
Подобного рода семантические трансформации выражения ни зги не видно можно встретить и у других писателей и поэтов (ср,: Дубинский 1973, 18-19). Они симптоматичны и для постижения его внутреннего (resp. этимологического) смысла. Пожалуй, именно тяготение «поэтической» логики к расшифровке фразеологической зги как ‘искра’, ‘огонек’ и склоняет чашу этимологических весов в сторону соответствующей гипотезы. Склоняет, но окончательно не перевешивает ее: зга ‘тропа; дорога’ и зга ‘ветка; прут’, как мы видели, в какой-то мере также сохраняют свою лингвистическую весомость. Тем более, что по наблюдениям Л. В. Зубовой в поэтических текстах «чаще всего слово зга наполняется значением ‘смерть’ с признаками и мрака, и света, что соответствует как общекультурным символам, так и рассказам людей после реанимации» (Зубова 1999, 219).
Языковые факты, как видим, приводят к констатации некоторой неопределенности окончательного историко-этимологического диагноза старой русской идиомы. Такой диагноз, четверть века назад сдержанно поставленный Ю. В. Откупщиковым на семинаре, может, конечно, и сейчас разочаровать любителей простых и однозначных решений. Его объективность, однако, целительна, поскольку за однозначными решениями нередко кроется псевдонаучная самоуверенность, в то время как признание их неоднозначными стимулирует дальнейшие разыскания.
Ни в зуб: ногой или пальцем?
Человек он темный, законов ни в зуб,..
Ф.М. Достоевский. Дневник 1876 г., февраль
В русском литературном языке обороты ни в зуб толкнуть и ни в зуб ногой появились, судя по известным фиксациям, не ранее XVIII в. В контекстном материа
ле вообще доминируют авторы второй половины XIX и XX в.: «Надзиратель придет, хозяин домовый что-нибудь спросит, так ведь ни в зуб толкнуть — все я! Ничего не смыслит...» (И. А. Гончаров. Обломов); «Не понимают, что железные пути сами родят перевязочный материал! Я к Гинцбургу—не понимает! Наголо уже высчитываю: яйца, говорю, курятный двор, грибы, сушеная малина... не понимает! Я — к Розенталю — в зуб толкнуть не смыслит!» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Современные идеалисты); «[Кречинс-кий:] Помилуйте, Петр Константинович! да что вы его спрашиваете? Ведь он только по полям с собаками ездит; ведь он по хозяйству ни в зуб толкнуть» (А. В. Сухово-Кобылин. Свадьба Кречин-ского); «Совета просить не будет, знает, что в торговле отец ни в зуб ногой» (И. Калашников. Разрыв-трава).
Значение ‘абсолютно не разбираться, совершенно ничего не знать, не понимать, не смыслить в чем-л.’ и иронически-презритель-ная стилистическая окраска обусловили некую семантическую и функциональную специализацию этих выражений. Многие писатели относят их к ничего не смыслящим ученикам или студентам: «— Опять вы не выучили! — говорит Зиберов, вставая. — В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы ни в зуб толкнуть! Когда же, наконец, вы начнете учить уроки!» (А. П. Чехов. Репетитор); «Потому родной сын на латынь да на греческий [налегает], а что нужно по торговому делу—ни в зуб» (А. Н. Эртель. Гардени-ны); «Таковы все мудрецы от Фалеса до Транделенбурга, которых ты теперь изучаешь и, конечно, ни в зуб не понимаешь» (Н. Г. Га-рин-Михайловский. Студенты); «Приходил учитель, вызывал ученика — тот ни в зуб толкнуть» (Н. Н. Златовратский. Золотые сердца); «Жаль только, что я по-немецки ни в зуб ногой», — подумал он» (Н. А. Островский. Как закалялась сталь); «Стал он дня через 195 НИ В ЗУБ» НОГОЙ МЛН ПАЛЬЦЕМ?
два спрашивать про содержание книги, а я — ни в зуб ногой» (М. А. Шолохов. Поднятая целина). j
Как кажется, именно такая «профессиональная ориентация» побудила В. В. Виноградова увидеть истоки этого выражения В школьном арго. Возможно, на эту мысль его навело употреблений оборота в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского: «Ученики, как говорится в бурсе, ни в зуб толкнуть». Объясняя выражение как арготическое, Виноградов Также предположил, что оно представ^ ляет собой усечение более пространного сочетания ни в зуб толк* путь не смыслит, которое употреблялось еще в XIX в. (см. цитату из М. Е. Салтыкова-Щедрина). По этой гипотезе современное ни в зуб—результат «сжатия» первоначального выражения.
Б. А. Ларин принял как убедительную лингвистическую часть интерпретации В. В. Виноградова, но усомнился в том, что источником оборота было школьное арго. Он исходил из иной профессиональной «приуроченности»: по его мнению, оборот относится ко времени крепостничества. При этом им весьма решительно раскрывается семантическая перспектива структурных изменений оборота. «Если принять во внимание еще и вариант: ни в зуб ногой, —• подчеркивает один из основателей отечественной исторической фразеологии, — то едва ли можно сомневаться, что этот оборот речи крепостной эпохи означал первоначально: ‘При надобности даже дать зуботычину для поощрения не умеет!’ Затем: ‘Ни к чему не годен’, ‘не умеет’. В конце концов ‘ни в зуб ногой’ стало синонимичным выражению ниаза» (Ларин 1956,210—211; 1977,136—137). ‘Не умеющий рукоприкладствовать крепостник—помещик’ н>‘не умеющий чего-л. и не разбирающийся в деле человек’—таково, по Ларину, развитие значений этого оборота.
Четкая и ясная логика такого историко-этимологического объяснения и научный авторитет В. В. Виноградова и Б. А. Ларина стали причиной того, что на долгие годы оно принимается многими фразеологами как аксиома (Федоров 1964, 33; ФСРЯ 1968, 176; Мокиенко 1975а, 29-30; Вакуров 1979, 92; Байрамова 1991,112 и др; подробную библиографию см.: Бирих, Мокиенко, Степанова 1994,125). Причем чаще всего в его ларинском варианте, что дало справедливые основания для мягких сетований И. Г. Добродо-мова на то, что приоритет в расшифровке оборота ни в зуб толкнуть не совсем заслуженно отдается Б. А. Ларину. Сам Б. А. Ларин, однако, весьма определенно подчеркнул приоритет В. В. Виноградова и его заслуги в разработке общих проблем диахрони-
196 НН В ЗУБ; Н0Г0* ИЛВ НАДЬ ЦЕНТ
ческого анализа фразеологии: «Важным отличием метода акад. Виноградова во фразеологии необходимо признать его разыскания исторического характера. Для ряда фразеологических сочетаний он нашел старшие, более ранние формы в источниках XVIII в., что позволило ему проследить изменения в их составе и структуре на протяжении двух столетий. Когда-то полное речение: ни в зуб толкнуть не смыслит! постепенно сократилось: Ни в зуб толкнуть! и даже: Ни в зуб! Эти наблюдения над изменениями фразеологического материала, требующие исторических исследований, вплотную подвели акад. Виноградова к перестройке описательной фразеологии в историческую. Но он не сделал этого шага» (Ларин 1956,210; 1977,135—136). Как видим, для Ларина этимология оборота ни в зуб является в какой-то мере пробным камнем общего диахронического анализа фразеологии. Отказ от арготической паспортизации выражения — это своего рода и отказ от «описа-тельности» метода Виноградова.
Нужно сказать, что не все советские фразеологи однозначно приняли корректировку Б. А. Ларина. Любопытно, что именно в зоне потенциального «бурсацкого» влияния ищут, вслед за В. В. Виноградовым, социолингвистические корни нашего выражения специалисты по украинской и белорусской фразеологии: Л. Я. Скрипник констатирует, например, что укр. id (aid) в зуб [ногою] пришло из ученического арго, а И. Я. Лепешев — что бел. ш в зуб нагой — из школьного русского арго.
Есть и попытки, приняв первоначальную социолингвистическую «паспортизацию» словосочетания ни в зуб [толкнуть] ‘совершенно ничего не знать, не понимать’ как жаргонного, школьного (с учетом его фиксации в бурсацком обиходе и отражением в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского), иначе посмотреть на чисто лингвистический механизм его создания. В. Н. Сергеев считает вариант ни в зуб ногой более поздним образованием, которое возникло в результате сближения двух фразеологических сочетаний ни в зуб [толкнуть] + ни ногой. Оборот ни ногой употребляется в значении ‘не бывать где-л., не ходить куда-л’. Дальнейшее развитие этого значения у фразеологизма пи ногой куда, где (например, не бывать на занятиях, не заниматься и, следовательно, ничего не знать) дало повод к сближению с фразеологизмом ни в зуб и привело к формированию современного значения.
Признают шкальное арго первоначальной языковой сферой появления нашего оборота и авторы чрезвычайно оригинального (или, скорее, анекдотического) историко-этимологического объяснения
197 нн в ЗУБ{ ного*нли
Н> М. Шанский, В. И. Зимин и А. В. Филиппов. Выражение это, бытующее с XIX в., — «собственно русское», подчеркивают они (совершенно игнорируя материал белорусского, украинского, польского и других языков и диалектов), и связывают его с... забавой детей — «подносить большой палец ноги ко рту и подтрунивать над теми, кто не мог этого сделать» (КЭФ, 1979, № 5, 89; Опыт, 93; Зимин, Спирин 1996,245).
Характерно, что от дискуссий по поводу этимологии этого выражения не мог удержаться и один из самых темпераментных фра* зеологов Л. И. Ройзензон. В письме автору этих строк от 7 ноября 1973 г. он отреагировал на заметку о происхождении оборота ни# зуб, в которой делалась попытка найти дополнительные аргументы в пользу ларинской интерпретации с присущей ему эмоциональностью:
«В Ларина я тоже очень верю (я его тоже очень уважал и высоко ставлю — изумительный лингвист!!!), но все же ошибаются все (абсолютно все — даже строжайшие из строжайших!), это мною проверено тысячу раз... Во-первых, это могла быть недоношенная этимология (и тоже бывает: мелькнет идея, а человек через некоторое время принимает ее за этимологию. Теперь: толкают обычно в русском языке в шею (вытолкали его в шею!) и в грудь. Заметьте: именно в эти части тела! Почему? Это уже вопрос, и очень интересный по-своему (либо это общечеловеческое, либо разные народы по-разному это делают)... Но факт остается фактом: в зубы мы не толкаем, а — бьем (и не в зуб, а — в зубы, хотя даем по уху, а не по ушам и бьем по губам, а не по губе — зтъ тоже проблема!)...»
Характерно, что как бы ни было приковано к фразеологизму ни в зуб [ногой] внимание таких крупных фразеологов, как В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, Л. И. Ройзензон, Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. И. Федоров и др., никто из них, выдвигая какую-либо из вышеназванных интерпретаций или присоединясь к одной из них, не обращался к материалам других языков. Видимо, все они априорно считали (как сформулировал Н. М. Шанский со своими соавторами) наш оборот «собственно русским».
Н. И. Толстой сделал важный шаг в ином направлении — в направлении выхода за «чисто русские» пределы. И, что показательно, сделал это в период, когда дискуссии о происхождении оборота, как мы видели, достигли своей кульминации. Шаг этот сделан, правда, имплицитно, в связи с иным выражением (Толстой 1973; 1995,383-404). Но тем не менее он дал принципиально иной импульс к поискам первичного образа русского фразеологизма — импуЛьс ареально-сопоставительного характера.
198 НН В3№; Н0Г0* 10111 ПАЛЬЦЕМ?
Как мы видели, фразеологи неоднозначны в диагностике: образован наш оборот имплицированием более пространного словосочетания [им] в зуб толкнуть [не умеет (не знает)] (В. ©.Виноградов, Б. А. Ларин, А. И. Федоров, Н. М. Шанский, В. И. Зимин и др.) или, наоборот, является эксплицированием, развертыванием инициального краткого словосочетания ни в зуб?
Один русский языковой материал не дает на этот вопрос определенного ответа. Уже В* И. Даль фиксирует глагольный развернутый вариант в зуб толкнуть не смыслит, который и был (вместе с упомянутым контекстом из Помяловского), видимо, «исходом» интерпретации В. В. Виноградова. Субстантивный вариант—ни в зуб ногой зафиксирован в русских словарях позже, он почти не отражен в диалектах. Мне известны лишь два варианта, записанных относительно недавно: ворон, ни в зуб ногой ‘ни к чему не пригодный’ (Ройз. Хаз. Сл., 299) и сиб./ш в рот ногой ‘совсем, ни капли не пить спиртного’ (ФС, 122). Показательна в этом отношении картина отражения разных вариантов русскими писателями (ср. приведенные выше контексты): в зуб толкнуть не смыслит— М. Е. Салтыков-Щедрин, ни в зуб толкнуть — И. А. Гончаров, А. В. Сухово-Кобылин, Н. Г. Помяловский, Н. Н. Златовратский, А. П. Чехов, ни в зуб ногой — Н. А. Островский, М. А. Шолохов, И. Калашников, ни в зуб [не понимать]—Ф. М. Достоевский, А. Н. Эртель, Н. Г. Гарин-Михайловский. В современной живой речи возможны и другие варианты — например, 3. Кёстер-Тома в 1995 г. записан шутливый оборот ни в зуб калошей ‘абсолютно ничего не знать’. Если фиксацию писателями интерпретировать хронологически, то, как видим, вариант ни в зуб ногой можно считать вторичным, поскольку он отражен лишь в произведениях советского периода. Проблема же хронологической первичности / вто-ричности вариантов ни в зуб толкнуть не смыслить (не понимать) — ни в зуб при этом остается открытой.
Обращение к другим славянским языкам ее делает более определенной. Бел. ni на зубок ‘нисколько, ничтожно мало’ имеет в речи и недеминутивный вариант—на адзш зуб ‘то же’ (АксамИау 1978, 84), который зафиксирован и в Полесье с опущением числительного. Один из белорусских фразеологических словарей верно конкретизирует его значение, связывая его с количеством съедаемой пищи, — ‘очень мало, немножко, на один глоток (еды, пищи)’, что подтверждает его употребление К. Крапивой: «...Барбос ля варот стащь таю, што яму гэтага сабачанящ на адзш зуб, а яно вьппча-
jgg ни в зуб; ногой или пт щей?
рыцца i да барбоса лезе» (ГЛЯ, 180), Явно «пищевые» ассоциации отражают и расширительные употребления оборота на зуб в составе пословиц: На голодны зуб усё смачна, и На голодны зуб i гэта хорошо. В современном употреблении оборот на зуб имеет и значе* ние ‘поесть, немного перекусить’, близкое к отмеченному. Это употребление — весьма важная для дальнейшей интерпретации деталь. Оно позволяет связать и этот белорусский оборот, и его уменьшительный вариант с интересующим нас выражением.
Действительно, именно белорусские диалекты сохранили не только некий структурный, но и семантический изоморфизм вариантов ш на зуб (зубок)—ш в зуб. Характерна, например, фиксация оборота ш у зуб ня есщ ‘ничего не есть’ в северо-западных белорусских говорах: «Hi у зуп карова ня есць» (Магуны Паст. — СБГПЗБ, 329). Близкое конкретное значение оборота сохраняется и в его употреблениях Я. Коласом: «Папапш!, пераелк — Ничачутка аш у зуб» (Напрадвесш — ФСМК, 214); «Вясна, голад, перепада — Аш солг, аш круп; I скацше корму мала I самому — аш у зуб» (Вясна, голад, перепала...); «Годзе, жонка! Ну, не лайся: Болып гарэлю аш у зуб» (Пахмелле). Такого рода семантика отражается и в произведениях современных писателей: «Дык не есць, кажа-це? — Аш у зуб...Акрамя вады, шчого у рот не бярэ!» (М. Лынь-коу. Пра смелага ваяку Мппку... — ГЛЯ, 19).
Конкретное «пищевое» значение в белорусском языке уже в начале XX в. имело и тенденцию к расширению в сторону более абстрактной семантики. Об этом свидетельствует и язык Я. Коласа: «Палез я на дуб I удз!рку засоуваю руку. Не улазщь рука ш нага аш у зуб» (Даняу). Любопытно, что в этом контексте «расширителем» нашего оборота является не только нага, но и рука, которую герой стихотворения «засовывает» в дырку. Совпадение с вариантом нг в зуб нагой случайное, во многом вызванное рифмическим созвучием и стихотворным ритмом, но тем не менее показательное.
Расширился семантически и оборот на адзш зуб. Современный фразеологический словарь белорусского языка И. Я. Лепешева фиксирует его в формах на адш зуб (гам) каму и в значении ‘кто-л. такой мизерный, незначительный, что с ним легко справиться, расправиться’. И контексты, и лексический вариант на адш гам сохраняют^ однако, достаточно прозрачные связи с «пищевой» семантикой.
Как и в руссском языке, эти связи кажутся утерянными для «интеллектуального» значения. В белорусском просторечии оборот Hi
200 нм 1 ЗУБ: ногоЯ ПАЛИ*ЕИ?
(aid) в зуб [нагой] также сочетается с глаголами «не знать», «не понимать» и означает ‘совсем ничего’:
«Аднойчы прыйшл! [у школу] два дзетою, здаровыя хлопцы, не тут кажучы, кавалеры, на губах пушок праб!ваецца, а задачю id у зуб нагой. С.Александров1ч; Я ж па нямецку id у зуб нагой. I па француз-ску слаба кумекаю. Леванов1ч; Бэкаем [па-англшску], чытаючы зболыпага, а каб перекласщ з прачытанага ni самому што якое ска-заць пачхняму — id у зуб нагой. Ваалёнак; [Селяжн:] Дзе мая грама-та, адну тую лпару усяго i ведаю, што на абаронак падобна, як яна... Вось пахвал1вся — i успомнщь не магу, а болып граматы аш у зуб. Галубок» (Лепешау I, 454).
Как видим, «школьно-студенческая» специализация тут столь же налицо, сколь и для соответствующих русских контекстов. И что характерно — почти все они, как и в русском языке, из советской литературы. Не случайно таких употреблений, как правило, не отражают диалектные словари и картотеки восточнославянских языков. Правда, под влиянием современного употребления и воздействием средств массовой информации оборот может проникнуть и в современные говоры. Так, словарь Г. Ф. Юрчанка «I кощцца i валщца» фиксирует обороты aid у зуб и aid у зуб нагою именно в «интеллектуальном» значении, а «Фразеолопчний словник схщнослобожанських i степових гов1рок Донбасу» регистрирует контаминированные выражения id в зуб ногою, id в небо пальцем; in в зуб Ногою, Hi в зуб черевиком; ni в зуб ногою, id в пень кочергою; ni в зуб ногою, id в п'ятпку пальцем—‘абсолютно ничего не понимать’.
Русские и белорусские фразеологизмы вообще весьма близки по употреблению украинским. Словари литературной фразеологии фиксируют близкие по семантике и функции контексты оборотов id (аш) в зуб [ногою] не знати, не розум!ти ‘ничего, нисколько’: «Вш математики ш в зуб не знае» (Леся Украшка); «Все те був мш план, якого ти ш в зуб не posyMieui» (I. Франко); «3 людиною бывае часто так, що, добре знаючи колишнього подо, Вона сучасносп ш в зуб не рйзум1е» (М. Рильский); «[Дудар:] Не з того кшця береш. Не розум!еш ук-рашсько! культуры. [Книш:]Я? Не розум!ю? [Дудар:] аш в зуб ногою» (I. К. Микитенко); «Я в латиш — ш в зуб ногою» (Веч. Ки!в) (ФСУМ 1,347).
Как видим, вариант id (аш) в зуб ногою и здесь характерен для новейших (в том числе и газетных) текстов. Классиками же употребляются более традиционные варианты ni в зуб не знати, id в зуб не розумипи, которые, видимо, являются и более старыми. Они
201 мм 1 ЗУВ; ного* п<ии|«ит
имеют прямую перекличку с диалектными — например, гал.-вол. aui в зуб не разумно ‘шчопсенько не розум!ю’, записанным И. Франко.
Характерно, что в украинских говорах, так же как и в белорусских, «пищевое» значение оборота и его вариантов представлено гораздо более широко, чем «интеллектуальное». Так, лишь в лем-ковских говорах, фразеология которых обстоятельно собрана и описана Н. Вархол и А. Ивченко, зафиксированы такие выражения данного типа: aid за зуб ‘совсем нет чего-л.’; ашмедэ1си зуби [ньит] 'совсем нет ничего’, ani зуби видовати [ньит з ним} ‘то же'. Любопытен и структурно и семантически близкий к этим оборотом лемковский вариант, но включающий другой соматизм, — «глаз»: (не маши) ане до вока ‘совершенно ничего (не иметь)’.
Обратим особое внимание на эту диалектную вариацию предлогов в выражениях о «зубе»: aid в зуб — ani за зуб — aid меджи зуби. Оборот ане до вока еще более расширяет эту вариационную амплитуду. Ее логическим структурным и смысловым продолжением является и уже известный нам по белорусскому ареалу оборот с предлогом на. Он, действительно, широко известен и литературному украинскому языку, и его диалектам — ср. лемк. на еден зуб ‘немного (о чем-л. съедобном)’ (Вархол, Твченко 1990); гал.-вол, того мет на еден зуб мало ‘нечего есть; нечего делать’ (Франко И, 214); диал. i на зуб ие попало (Пазяк 1990 2, 249) и т.п.
Эта «перекличка» предлогов становится еще более разнообразной в других районах Славии. Ведь ареал нашего выражения не ограничивается лишь восточнославянской языковой зоной. Его варианты уже давно, как минимум с XVIII в., широко употребляются в польском языке. Новейшие фразеологические словари фиксируют оборот ani (ni) w z$b как равноценный эквивалент рус. ни в зуб [ногой} (WSF, 486; Karolak 1998,1,409) и приводят иллюстрации к нему как из писательского употребления, так и из массовой прессы (B^ba, Dziamska, Liberek 1995, 712-713; B^ba, Liberek 2001, 1007).
Польские употребления этого оборота семантически весьма близки к его употреблениям в восточнославянских языках. Харак* терны и слова-сопроводители ani w z$b nie pomiarkowac; po mongolsku nie szlo mi ani w z$b; ani w z$b sobie nie mogg przypomniec; ni w z$b nie rozumiec. С одной стороны, они полностью совпадают с восточнославянскими («не понимать»), даже «специализируясь» в интеллектуальном значении («по-монгольски не выходило»).
202 мн 1 ЗУБ: ного*мн имьцем?
С другой стороны, это интеллектуальное значение уже более широко и общо, чем у соответствующей восточнославянской фразе-мы, — «не замечать», «не вспоминать». Главное же—в этом, расширенном, ареале уже доминирует более короткий вариант, в котором нет ни глагола «толкнуть», ни «ноги». Зато сохраняется «предложная» перекличка с другим оборотом—со§ па zqbek ‘что-л. для перекуса, немного пищи*.
В народной польской речи легко найти и такие употребления этого старого оборота, которые вновь подтверждают, что приведенные «интеллектуальные» значения восходят к конкретному, «пищевому»: na z$b polozyc ‘получить чего-л. съестного, поживиться’ (зафиксированное с 1598 г.), na z^b to nie padnie ‘ему этого мало’, na jeden z$b ‘мало, скупо’ (с 1621 г.) (NKPIII, 15), ani na z$b ‘нисколько, ничуть’ (Karfowicz 6,392). Как видим, уже в польском диалектном словаре последнее выражение ani na z$b приобрело и обобщающее значение ‘нисколько, ничуть’. В литературных же фиксациях оно уже с 1846 г., как и в современном языке, означает также ‘абсолютно ничего не помнить, не знать, не понимать’ (NKP III, 837).
Можно было бы продолжить поиски славянских параллелей русского фразеологизма ни в зуб. Таковы, например, словацк. пета со by па zub vlozil ‘нет, чего на зуб положить; крайне мало’; чеш. nemit со па zub (pod zub) ‘быть в нужде; голодать’, ani па zub si neda dolozit ‘никак не хочет поверить; и слышать не хочет’; nepadnout па zub komu ‘быть недостаточным для кого-л. (о пище, еде)’; пета со pod zuby klasti ‘он в нужде, в нищете; страдает от голода’; пета со па zub, песо па zub ‘какое-либо неопределённое количество еды, обычно хорошей, вкусной, часто—лакомства’ и т.п.; ср. (jidlo) je jednou do list ‘очень мало еды’ и т. п. Близкие примеры нетрудно найти и в южнославянских языках: болг. (диал.) ни на зъб не съм турил (букв, ‘я не положил и на зуб’) ‘крайне мало съел’; словен. rad bi dobil kaj pod zob (букв, ‘хотел бы получить что-нибудь под зуб’) ‘хотел бы чего-нибудь поесть’; dali smo ga na zob ‘мы выпили алкоголя’; с.-х. nije (пета) ni па (zo) jedan zub ‘совсем мало, чрезвычайно мало, недостаточно чего-л.’ (в контекстах—и о хлебе, и о книгах) и др.
Наконец, близкие по образу фразеологизмы можно обнаружить и в неславянских языках, например, нем. nur fur den hohlen Zahn (букв, ‘лишь для пустого зуба’) ‘абсолютно ничего (о еде?)’. Образное сходство здесь легко объяснить типологически: соматизм «зуб»
2Q3 ИИ I ЗУБ: НОГОЙ ИЛИ ПАЛЬЦЕМ?
совершенно естественно ассоциируется во многих языках именно ф пищей, а «один зуб» (да еще—в уменьшительной форме)—с Kpaifef не малым ее количеством.
Приведенный конкретный материал показывает, что первщи ным значением русского выражения ии в зуб [ногой], о происхожд^ нии которого в отечественной фразеологии разгорелась такая ост| рая и длительная дискуссия, является прозаическое «пищевое» 3H^ji чение и конкретный образ, связанный с основной физиологической функцией зубов. Ареальный «рисунок» этого оборота и его вари?, антный ряд в славянских языках позволяют, как кажется, устацое вить и основное направление его собственно языкового развития: оно шло по линии экспликации, развертывания первоначально краткого словосочетания *ni (ani) vb zobb, а не наоборот, как пред* полагало большинство исследователей, отталкивавшихся исключительно от фактов русского языка.
Впрочем, и в самом русском языке, особенно в его народных говорах, достаточно фактов, полностью изоморфных фактам дру* гих приводившихся славянских языков. Вариант на один зуб ‘крайне мало (о пище)’, например, характерен и для разговорной речи, что отражено в художественной литературе: «Хлеба этого ребятам на один зуб... Давай попробуем еще достать?» (Тевекелян. Гранит не плавится). Как мы видели, этот оборот известен практически всем славянским языкам. В русских говорах он зафиксирован давно и варьируется весьма широко, входя в состав самых разных пословиц и поговорок: нечего на зуб положить; Камня на зуб не положишь (ДП, 87); сиб. на зуб положить нечего ‘о состоянии крайней нужды, голода’ (ФСС, 144); Пришло ворожить, когда нечего на зуб положить (Буслаев 1854, 133); олон. — Бабушка, давно ль ты стала ворожить? — А как нечего стало на зуб поло-жить (ППЗ, 150).
Дают диалекты и материал о путях расширения «пищевого» значения во все более отвлеченные, переносные. Так, в русских говорах Карелии оборот на задний зуб чего характеризует не только малое количество еды, но и небольшое число дров и других предметов. Еще «дальнобойнее» семантическая динамика диалектного оборота на голы (голые) зубы. Кург. и ирк. на голы зубы жить — ‘жить в нужде, крайней бедности’ еще сохраняют, в сущности, «пищевую» семантику. Печ. и новг. съехать (явиться) на голые зубы уже имеет большую отвлеченность от нее: здесь оборот значит ‘быть незваным гостем’. Пск. делать / сделать что на голые зубы (на
204 мн 1 ЗУБ: ногой НАЛЬЦЕМ?
голый зуб) и приехать па голы зубы достигают еще большего обобщения, означая ‘абсолютно ничего не имея, без всяких средств’, и употребляются не по отношению к пище, а по отношению к деньгам: «Оддала деньги в долги и приехала на голы зубы» (Гдовский р-н); «Дарма мне никто ничавб ня дёлаит, фсягда расплачуваюсь, а денек нет, на голый зуп нада фсё зде'лать» (Локненский р-н КПОС).
Псковские говоры, в частности, до сих пор сохраняют и оборот ни в зуб в его «первозданном», пищевом значении. Причем, что немаловажно, относят его не только к человеку, но и животным и птицам, «в зубы» которых необходимо регулярно «толкать» корм. Вот несколько контекстов, записанных в поле учениками проф. Б. А. Ларина: «Сено сырое: овцы ни в зуб» [т. е. не едят, не хотят есть] (Ашевский р-н); «Я сваим курятам накрашила лебяды с мукбй, а аны ни в зуп не бярут» (Островский р-н); «Привязут сена, карбва и в зуп неберёт» (Палкинский р-н — КПОС).
Углубление в диалектный материал позволяет не только проникнуть в исходную семантику интересующего нас выражения, но и еще более определённо установить изоморфизм его разных структурных вариантов. Показательно в этом отношении пск. циг&нкев зубу поковырять н€чем ‘крайне мало: ни зерна, ни соломы (о плохом урожае)’: «Не растёт ничевб на поле, косбй не поймать, цыганке в зубу поковырять нечем» (Плюсский р-н—КПОС). Даже этот, на первый взгляд, окказиональный из-за своей «необычной» и потому яркой образности оборот находит фразеологического «собрата» в таком достаточно удаленном от Псковщины регионе Славии, как галицко-волынские говоры Украины. Его записал И. Франко в начале XX в.: буде там того на циганський зуб ‘ститько, що голодному рогов! шчим буде поживити ся’ (Франко III, 211). Этноним цыганка и прил. циганський здесь не случайны, ибо в славянской фразеологии (как и во фразеологии других европейских языков) они коннотируются с крайней бедностью, нищетой. Два символа — один материальный, другой социальный — пересекаются в русских и украинских говорах, чтобы максимально насытить экспрессией слишком «обкатанные» многократным и долгим употреблением выражения с компонентом зуб. Как видим, структуры в зуб и на зуб здесь практически идентичны, что еще раз подтверждает генетическое тождество приведенного вариантного ряда. Ср. также сиб. не было (нет) зёрнышка в глаз бросить ‘о полном отсутствии еды, пищи’ и упоминавшееся выше диалектное
205 ни 1 ЗУБ: в0™*011 пмьчЕИ7
украинское (лем.) (немати) ане до вока 'совсем ничего не иметь)’. И здесь — как и в случае с [пи] в зуб и [//и] па зуб—различие предлогов не нарушает ни семантического, ни функционального единства общей структурно-семантической модели.
Итак, первичный источник вариантной «иррадиации» славяне» кого выражения как будто бы установлен. Остается выяснить, ка* ким образом оно экплицировалось на восточнославянской почве в развернутые варианты ни в зуб толкнуть {не смыслит] и ни в зуб ногой. Следы первого варианта прямо ведут именно в «пищевую», а не в «ударно-крепостническую» семантику. В XVIII в. эти следы еще были весьма отчетливы, о чем свидетельствует фиксация (между прочим, пока самая старая и опровергающая выше приведенную хронологическую паспортизацию Н. М. Шанского и др.) оборота толкнуть в зуб не с чем *о полном отсутствии средств пропитания’: «[Ядова:] Ведь Деволюб, по моей к нему услуге, теперь стал сиг сигом, скоро и до тово дойдет, что не с чем будет в зуб толкнуть. Недавно через мои руки последние сто душ продал» (Соколов. Судейские имянины. — Палевская 1980, 334). Этот вариант в литературный язык XVIII в. также попал из народных говоров. Он и сейчас им известен и зафиксирован, например, на Смоленщине: ни у зуб таухануть. Ср. также белорусскую поговорку ani пык, Hi у зуб калапнуць, записанную в начале XX в. в Черниговской губернии М. Ц. Крайневым, где ani пык значит ‘нет табака, нечего курить, нечем затянуться’ (Прыказю I, 222, 541), которая перекликается с современной шутливой фразой дай в зубы, чтоб дым пошел (просьба дать покурить).
Вариант ни в зуб толкнуть, возникший развертыванием оборота ни в зуб, как кажется, легко объясняется именно «пищевой»; его логикой. Причем если вспомнить приводимые выше псковские иллюстрации к выражению ни в зуб [не брать}, которое информанты употребляют не только о питании человека, но и о кормлении домашних животных и птицы, то эта логика становится еще убедительнее. Ни в зуб толкнуть, возможно, первоначально относилось именно к животному (т. е. несмы елейному, не понимающему существу), что ассоциативно могло спровоцировать, либо во всяком случае поддержать синтаксические и семантические связи нашего выражения с глаголами не смыслить, не понимать и т. п. Эту ассоциацию в русском языке могло закрепить и ложное звуковое созвучие глаголов толкать и толковать.
206 НН 1 ЗУБ: И0Г°а ПАЛЬЦЕМ?
Толкнуть при такой интерпретации характеризует не «рукоприкладство» в бурсацкой или семинарско-школьной среде и не «зуботычину», которой при случае опытный помещик оделял своих крепостных. Первоначально оно в составе оборота значило, видимо, ‘вталкивать, впихивать, всовывать пищу в рот’ и могло относиться к кормлению как домашнего животного, так и человека. Исходное толкнуть в зуб ие с чем изменилось в ни в зуб толкнуть и стало постепенно утрачивать связи с исходной «пищевой» семантикой, приобретая все более отвлеченные значения, часть которых, как мы видели, сохранили некоторые диалекты.
Утрата этих связей создала и условия для следующего варианта — ни в зуб ногой. Как показал ареально-сопоставительный анализ, он является инновацией как в русском, так и в белорусском и украинском языках: употребляется лишь писателями советского времени и почти не известен диалектам. Как же образовался этот новый вариант?
Видимо, именно так, как предполагает В. Н. Сергеев, т.е. путем контаминации выражений ни в зуб и ни ногой. Аргументацию петербургского фразеолога можно подкрепить и диалектными данными —тем более, что последнее выражение широко фиксируется в народной речи (ср. пск. ногой не быто — ПОС 2,237; Всяк чужу сторону хвалит, а сам ни ногой — Танчук 1986, 37, и др.). Кроме известного литературному языку ни ногой ‘не бывать где-л., не ходить куда-л’, попавшего в некий семантико-экспрессивный «унисон» с отрицательной семантикой оборота ни в зуб, в народных говорах имеются и выражения с компонентом нога, которые имеют именно количественную семантику, правда, антонимическую. Таково, например, смол, как ногой чего ‘очень много’ (Ивашко 1976,102), видимо являющееся эллипсисом оборотов типа пск. [как] ногой пихай, ногами толочь: «А теперь гаспбт нагой пихай: и машыны, и манцыклеты; раныпы-та гаспбт мала была» (Палкин-ский р-н); «Шшук нагами талоч ф той речки» (Кр. — КПОС). Ср. яросл. делать пня ногой что ‘делать что-л. крайне небрежно’ (ЯОС 3,127) и т. п. Признавая, вслед за В. Н. Сергеевым, факт контаминации оборотов ни в зуб ногой и ни ногой, следует вместе с тем подчеркнуть еще раз, что первый оборот родился отнюдь не в сфере русского школьного арго, а является древним и широко распространенным славянским фразеологизмом.
Итак, ареальный и сопоставительный анализ (которые являются основой метода структурно-семантического моделирования фразе
207 НН 1 ЗУБ: ИОТОЙ ИЛИ ПАЛЬЦЕМ?
ологии в диахроническом аспекте) нашего оборота показывает, что высказанные В. В. Виноградовым, Б. А. Лариным и другими исследователями гипотезы о его происхождении не подтверждаются собственно языковыми фактами. Исходной моделью его образования было, видимо, словосочетание *vb (па) zobb, первоначально конкретизируемое глаголами с семантикой «взять», «положить», «всунуть», «втолкнуть» и обозначающее ‘крайне малое количество пищи, которое может поместиться на один зуб’. Затем этот исходный оборот приобретает более обобщающее значение и вступает в сочета-ние с «интеллектуальными» глаголами «понимать», «смыслить», «замечать»,и т. п. В восточнославянских (особенно в русском) языках он затем эсплицируется глаголом толкнуть, что ведет к затемнению его внутренней формы. Неясность первоначального образа создает позднее условия для контаминации его с выражением ни ногой, в результате которой рождается просторечный фразеологизм ни в зуб ногой. Об активности и дальнейшем развитии такого рода контаминаций в нашей разговорной речи свидетельствует и недавно записанный вульгаризм ни в зуб ногой, ни в жопу палкой ‘об очень тупом, крайне непонятливом человеке’ (Кузьм1ч 2000,40).
Чьи зубы на полке?
— Я вам скажу, — заметил Тросенко, как ни считай, все выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем.
Л. Н. Толстой. Рубка леса
В ыражение класть зубы на палку издавна бытует в русском языке. В стихотворном сборнике русских пословиц и присказок середины XIX века, написанном И. М. Снегиревым, например, оно уже каламбурно обыгрывается, что свидетельствует о его популярности:
Если нет в работах летних толку, Так зимой клади зубки на полку.
(НРП 2, 1859, 84)
Любопытно, что зта шутливая рекомендация чуть ли не дословно повторяется и поэтами XX в., близкими к народно-поэтической традиции:
Есть земля? И кто живет с умом, Тот не малого добьется толку, И тому — ни летом, ни зимой — Не придется зубы класть на полку.
(М. Исаковский. Там ли, здесь ли...)
Здесь, как видим, наше выражение значит ‘испытывать крайнюю нужду, сильно голодать’. Употребляется оно в том же значении многими писателями: «Муки-то нам теперь не дадут... И придется нам зубы класть на полку да с голоду сдыхать» (П. Замойс-кий. Две правды); «Бакин: Она в лице князя оскорбила наше общество, а общество платит ей за это равнодушием, дает ей понять, что оно забыло о ее существовании. Вот когда придется ей зубы на полку положить, так и выучится приличному обхождению» (А. Островский. Таланты и поклонники); «Поселянин собирает в житницу плоды своего годового труда и кладет зубы на полку» (А. Чехов. Об августе); «Без астрономии жить трудно, что и говорить, а без земли, пожалуй, зубы на полку положишь» (Ф. Панферов. Большое искусство); «Макар тут же выпрашивал [взаймы] еще либо пшена, либо овса... Уходя, мы горячо благодарили хозяев. А те, провожая нас, еще раз просили: “Уж не обманите, ради бога! Жалко людей, вот и поделились. А то ж и самим хоть зубы на полку”»
209 чьн зувы н*полкп
(Ф. Наседкин. Трудная радость); «— Я еду на кондиции, — подхватил Нежданов, — чтобы зубов не положить на полку» (И. Тургенев. Новь).
Каждый употребляющий это выражение воспринимает его, пожалуй, как оборот, построенный на шутливом образе откладываемых во время голода за ненадобностью зубов. Не случайно в одном из своих рассказов А. П. Чехов именно этот образ заостряет до предельной отточенности: «Если я умру раньше Вас, то шкаф соблаговолите выдать моим прямым наследникам, которые на его полки положат свои зубы» (цит. по: Молочко 1974,126). Этот чеховский каламбур сродни каламбуру Д. Писарева: «Далеко не всякий чиновник умеет так распорядиться со своим третным жалованьем, чтобы в начале трети не созерцать свои зубы, положенные на полку» (Д. Писарев. Реалисты).
Так объясняют этимологию оборота и некоторые лингвисты. Разбирая белорусское выражение зубы на полщу клаецк И. Я. Лепешев, например, подчеркивает, что в основе фразеологизма лежит «меткий гиперболический образ, мотивированный практичным, шутливо окрашенным рассуждением: если нечего есть, то и нет занятия зубам, а потому клади их на полку» (Лепешау 1981,62).
Среди историков и толкователей славянской фразеологии, однако, такое восприятие нашего оборота обычно считается народно-этимологическим, вторичным. Известный собиратель и комментатор русской идиоматики М. И. Михельсон предположил, что в обороте зубы на полку положить ‘голодать’ первоначально имеются в виду не человеческие зубы, а зубья приспособления для расчесывания пряжи. Логика развития переносного значения, по его мнению, такова: «Зубы (зубья) кладут на полку, когда прясть нечего, работы нет—голодать приходится» (Михельсон 1901-1902,1, 354). Вслед за ним и современные фразеологи видят в этом выражении не шутку, а отражение вполне реальной, суровой необходимости зарабатывать прядением и ткачеством средства на жизнь в былые времена. Спрашивая читателя: не идет ли речь в обороте зубы на полку положить «о наших зубах, собственных или искусственных, которым за ненадобностью поговорка отводит место на полке?», — популяризатор языкознания Э. Р. Вартаньян так отвечает на свой вопрос: «Совсем нет. Вспомните, что зубы, или зубья, имеют также пила, грабли, вилы, гребенка—кстати сказать, необходимая принадлежность каждой пряхи. Есть работа—кусок хлеба обеспечен, нет—клади зубы на полку и голодай» (Вартаньян 1980,45).
210 чы> ЗУБЫ и* П0Я|СЕТ
Примерно в том же ключе раскрывает внутренний смысл русского оборота и родственных ему украинского класти зуби на полную и белорусского зубы на полщу класщ В. И. Коваль в своей кандидатской диссертации. Отвергая версию И. Я. Лепешева о шутливом образовании этогавыражения, он даже пытается уточнить, о каких конкретно зубьях здесь идет речь, приводя русское диалектное слово зубьё ‘часть ткацкого станка, деталь берда, состоящая из деревянных тонких пластинок, укрепленных двумя поперечными планками’. При этом В. И. Коваль привязывает предполагаемую мотивировку к конкретному сезону. «Можно предположить, — пишет он, — что зубы (зубья, зубьё), служившие для пряжи осенью и зимой, становились ненужными весной, когда заканчивался запас сырья. Это время совпадало с нелегким временем года, когда запасы продуктов были в основном израсходованы» (Коваль 1982, 120-121). Такое предположение, по его мнению, можно подкрепить и языковыми данными—прежде всего лексическими вариантами оборота в русских говорах: зубы на спичку повесить ‘голодать, испытывать нужду’, где спичка — ‘заостренная палочка, тычинка’, зубы на гвоздь ‘голодать, испытывать нужду’ и зубы на полку сложить ‘нечего есть’. «Попытка осмысления внутренней формы этих фразеологических единиц, — подчер-ки-вает В. И. Коваль, — приводит к мысли о том, что в данном случае речь идет скорее о каких-то отдельных предметах, а не об органе во рту, с помощью которого откусывают и разжевывают пищу» (Коваль 1982,120). Таким образом, оборот класть зубы на полку якобы образовался синтаксико-фразеологическим способом в результате метонимического (на основе смежности явлений) переосмысления свободного словосочетания, в котором исходный «производственный» образ утратил сейчас свою актуальность.
Какая же из двух этимологий может быть признана верной?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще раз внимательно изучить все языковые факты, которыми аргументируется гипотеза М. И. Михельсона и его последователей.
Во-первых, бросается в глаза, что «производственная» трактовка опирается на несколько обобщенное значение слова зубы, зубья. Не случайно В. И. Коваль не находит для этих слов самостоятельного значения ‘чесалка пряжи’, на которое ссылается М. И. Михельсон, а Э. А. Вартаньян вынужден апеллировать К зубьям на пиле, граблях и гребенке, а не к конкретному наименованию
211 ЧЬИ ЗУБЫ НА ЛОЛКЕ?
инструмента пряхи. В. И. Коваль, правда, находит в русских диалектах слово зубьё, которое как будто приближает к искомому фразеологическому образу. Однако часть ткацкого станка — это все же не отдельная чесалка для пряжи. Причем известно, что эта часть не снимается весной, когда сезонное, зимнее прядение прекращалось, и на полку его откладывать поэтому было отдельно бессмысленно: если прекращается работа на ткацком станке, то, естественно;, убирается или передвигается в удобное место сразу весь станок, а не отдельные его части.
Во-вторых, «производственная» версия не выдерживает критики и с точки зрения лингвогеографии. Показательно, что слово зубьё, на которое можно как будто опереться при ее аргументации, —узкий диалектизм: оно зафиксировано лишь в вятских говорах русского языка (СРНГ 12,18), в то время как оборот класть зубы на полицу широко распространен, как мы видели, во всех восточнославянских языках. Не случайно слово зубьё не фиксируют ни украинские, ни белорусский словари, а укр. зуб хотя и обозначает различные «части снаряда», но отнюдь не прядильного, а —зубцы колеса, валька для катания белья, зуб бороны, рала и т. п. (Гршченко II, 187). Трудно поверить, чтобы слово, образ которого является основой выражения, было распространено лишь в одном из русских говоров, в то время как само выражение выходило далеко за его пределы.
Более того, с точки зрения широты распространения оборот о зубах на полке можно смело назвать общеславянским, поскольку он известен также и южнославянским, и западнославянским языкам: с.-х. ставити (мепгнути) зубе на полицу (букв, ‘положить зубы на полку’) ‘голодать, быть в большой нужде, бедствовать’, пол. bieda, chod z^by na policy poloz (букв, ‘такая нужда, что хоть зубы на полку клади’) . Можно найти ареальное продолжение нашего оборота и в соседних балтийских языках. Например, в составе латышской пословицы Liec rokas klepi, kar zobus vadzi (букв. ‘Клади руки на колени, вешай зубы на крюк’) нетрудно увидеть аналогию русской Коли жить без толку, клади зубы на полку (Кокаре 1978, 177). Здесь, правда, зубы кладутся не на полку, а вешаются на крюк. Но, как мы видели в диалектных вариантах оборота, приводимых В. И. Ковалем, замена полки на крюк, гвоздь или деревянную палочку-вешалку вполне возможна. Ср. также буквальное соответствие русского выражения о зубах на полке в молдавском: а-шь пуне диниций пе полицэ; а ста (а шедя) ку диниций ла стеле.
212 ЗУБЫ НА
В-третьих, именно такие лексические замены слова полка в целом ряде славянских выражений показывают, что речь здесь идет именно о человечьих зубах в шутливом переосмыслении, а не о зубьях чесалки для пряжи. Тут весьма показательно слово мисник в украинском варианте зуби на мисник покласти, который выше уже приводился. Ведь мисник — это не что иное, как полка для посуды или же—посудный шкаф, буфет, и класть именно на такую полку или в такой шкаф инструмент для чесания пряжи вряд ли логично. Да и вешать гребень на гвоздь или деревянную спичку на стене тоже неудобно: вряд ли такой гребень долго удержится всего на одном штырьке. Вместе с тем образ именно такой «вешалки» для зубов (в шутливом варианте—человеческой челюсти) широко воспроизводится в славянских языках и диалектах. Кроме вят. зубы на спичку повесить, перм. зубы на спичку свесить и ленингр.-твер. зубы на гвоздь повесить ‘голодать, испытывать нужду’ можно привести с.-х. метнути (p6jecumu) зубе о клин (букв, ‘положить, повесить зубы на гвоздь’); пол. z^by па grz^dQ zalozyt (‘он положил зубы на жердь’), chodby z^by па stole kladz (‘хоть зубы на стол положи’) и zatozyd z^by па koiek (‘положить зубы на колышек’), powie§ z^by па kolku (‘повесь зубы на колышек’). Близко по образу к этому диалектное немецкое выражение die Zahne (das Gebiss) ins Holz hangen (букв, ‘повесить зубы, челюсть на дрова’). Ср. также пол. cho6 zQby wbij w sciane (‘хоть зубы в стену вбей’) и нем. die Zahne in die Wand hauen (‘швырнуть зубы в стену’), употребляемые как фразеологические—причем шутливые—символы большого голода, нужды.
Четвертый аргумент против «производственного» толкования — упорное повторение нашего оборота с уступительным союзом хоть, На это обратил внимание И. Я. Лепешев, подчеркнувший, что форма Хоць зубы на палщу кладз1 и была первоначальной формой оборота в белорусском языке, и лишь потом он стал употребляться без союза. Это, действительно, потверждается данными народной речи. Ср. сиб. (забайк.) хоть зубы на полку ‘хоть умирай с голоду, голодай’, бел. хоть вазъмт ды зубы на палщу палаты или пол. choc z$by па policy poloz. С точки зрения языковой логики это «хоть» оправдано лишь в том случае, если речь здесь вдет о шутливом употреблении слова зубы — зубы человека, ибо «производственная» версия предполагала бы лишь простую констатацию факта — снятие зубьев чесалки пряжи «с производства» в голодное весеннее время.
213 чьи ЗУБЫ НА ПОЛКЕ?
Наконец, в пользу исконно шутливого осмысления нашей поговорки говорит и целый ряд оборотов, где зубы обыгрываются именно по каламбурному принципу. Так, укр. зуби на deopi тримае характеризует льстивого, фальшивого человека, любящего скалить зубы, xodiM зуби пополоскати значит ‘пошли выпьем по чарке водки’, едним зубом треба icmu ‘скудная, скупая пища’, I в мене зуби не на продаж ‘Я сумею воспользоваться ими’, найдут ci зуби на мт хл1б ‘на мое добро найдутся охотники, которые его проживут’, хоть дасть зуби, дасть i хл1б до губи и т. д. И в других славянских языках и диалектах также можно найти немало шутливых выражений, связанных с зубами как символом «инструмента для принятия пищи»: бел. зубоу не пагрэць ‘перекусить, но не наесться’, рус. диал. (костром.) Я бы выпил чашечку, да зубы дома забыл (в шутку о зубах — сахарных щипцах), сиб. на голодные (голые) зубы ‘на бедность’, перм. зубилками играть ‘о голоде’, пск. ходить на зубах ‘беспокойно вести себя, будучи голодным’, чеш. susit zuby, с.-х. сушити зубе (букв, ‘сушить зубы’) ‘голодать’ и т. д.
Характерно, что в нашем обороте такие шутливые представления кристаллизовались в каламбурную модель о подвешивании или откладывании чего-либо за ненадобностью, также распространенную в славянской фразеологии. Ср. рус. прост, повесить бутсы на гвоздь ‘бросить играть в футбол’, повесить перчатки на гвоздь ‘перестать заниматься боксом’, сиб. родилку спять и сушить повесить ‘перестать рожать’, кашуб. Ьгёхё (kaldun) па plot vevesec (букв, ‘брюхо вывесить на забор’) ‘начать голодать’, cnot^na hak povesic (букв, ‘повесить невинность на крюк’) ‘лишиться невинности’.
Среди таких шутливых оборотов, многие из которых не выходят за пределы того или иного славянского диалекта или говора, выражение класть зубы на полку завоевало первое место не случайно. Образснятыхиположенныхнаполкуилиповешенныхнагвоздь зубов—яркий символ голода. Именно поэтому он отстоялся в многократно повторяемое устойчивое словосочетание и прочно осел в русском литературном языке. Лукавый народный юмор, породивший его, и обеспечивает ему популярность и живучесть.
Кто такой зюзя?
— Народ ноне слабый, как за работником ни гляди — беспременно как зюзя к вечеру натянется этого винища,
П. И. Мельников-Печерский. На горах
В русском языке имеется много выражений, обозначающих разные стадии опьянения. Устойчивое сравнение п ъяи как зюзя означает, что человек достиг крайней степени опьянения. Именно в
таком состоянии был Зарецкий из «Евгения Онегина» — «трибун трактирный и буян, картежной шайки атаман», когда
.............в сраженья Раз в настоящем упоеньи Он отличился, смело в грязь С коня калмыцкого свалясь, Как зюзя пьяный, и французам Достался в плен: драгой залог!
(VI, 5)
Этот «подвиг» был единственно доступной Зарецкому позой из роли бравого гусара, которую этот обыватель-помещик играл с «настоящим упоеньем». Тем более что сам Денис Давыдов прославил такого «зюзю» в своем стихотворении «Решительный вечер гусара»:
А завтра — черт возьми — Как зюзя натянуся, Стрелою полечу На тройке ухарской. Проспавшись до Твери, В Твери опять напьюся...
Стихотворение Д. Давыдова — это, пожалуй, единственный литературный контекст, в котором не подчеркивается отрицательного отношения к состоянию «пьян как зюзя». Обычно к зюзе относятся явно осуждающе: «Этот зюзя Васильев раскис совсем» (Д. В. Григорович. Проселочные дороги); «И что главное, пивал на своем веку всячески, накачиваясь, что называется, как зюзя» (Фельетон от 11 марта 1911 г. в газете «Свет»); «— Лебедев-то наш, Николай Иванович, хорош гусь. Недавно как-то захожу в парке в шашлычную... Н-ну! Не поверите—как зюзя» (О. Горчаков. Дело в розовой папке);«— Сухмень! — презрительно сказала буфетчица, сужая мелкие, зверушечьи глазки. — Нажрался вчера как зюзя, оно и сухмень» (Ю. Гончаров. Последняя жатва).
225 1(10 ТА1СОЙ зюзя?
Еще более резкое осуждение выражают обороты напиться, нарезаться и т. д. зюзя зюзей. Усиление экспрессивности здесь вызывается повторением этого слова: «Ну уж, Спиридон Федорыч, как наш князь нарезался сегодня — зюзя зюзей! Не смеет жене носу показать; там улегся в угольной на диване — болен, дескать» (А. И. Герцен. Елена).
Кстати, «простанародное» слово зюзя впервые попало в русский словарь (Академический словарь 1847 г.) именно в составе тавтологического оборота напился зюзя зюзей.
Какова же этимологическая расшифровка этого устойчивого сравнения, попавшего в пушкинский лексикон?
Рассматривая его в стилистическом плане на примерах из Д. Давыдова и А. Пушкина, приводимых выше, сибирский фразе-олог А. И. Федоров пишет: «К сожалению, в настоящее время не представляется возможным установить этимологию этого оборота, что помогло бы определить и сферу употребления его. По примерам, приведенным выше, можно предполагать, что этот оборот был распространен в офицерской, гусарской среде в 1-й половине XIX века» (Федоров 1971, 90).
Действительно^ образ, лежащий в основе устойчивого сравнения пьян как зюзя, не столь прозрачен, как в выражении пьет как сапожник. Вопрос о его происхождении уже не раз задавался собирателями поговорок.
Первым попытался ответить на него М. И. Михельсон. Выражение как зюзя объясняется им так: «Пьян как зюзя (иноск.) — совершенно! как губка пропитанная (в грязи)» (Михельсон 1901—19021, 355).
Чтобы признать такую этимологию верной, необходимо убедиться, что слово зюзя первоначально означало именно ‘губка, впитывающая жидкость или грязь’. Как обычно при таких поисках, обратимся за аргументацией к народному языку.
В русских говорах слово зюзя, как и в литературном языке, шире всего известно в сравнительных оборотах пьян как зюзя, што зюзя, ровно зюзя.
В значении ‘мертвецки пьяный человек’ слово зюзя встречается в вятских, заонежских, каргопольских, костромских, новгородских, ростовских, рязанских, рыбинских, пермских, пошехонских, тамбовских, шуйских, тверских, терских и кубанских, щиг-ровских и ярославских говорах (по материалам картотеки «Словаря русских народных говоров» Института лингвистических исследований РАН в С.-Петербурге).
216 1(10 ТА1СОЙ зюз<|?_________
Восточнославянские параллели русского зюзя также напоминают пушкинскую характеристику Зарецкого: укр. п яний, як зюзя; бел. зюзъ ‘горький пьяница’ — седзиць не дуж, упився як зюзъ (словари Гринченко и Носовича), диал. (Витебск.)якзюзя, якзюзька.
Но все же значение ‘мертвецки пьяный’ —далеко не единственная семантическая характеристика слова зюзя в народной речи.
Вот те значения, которые, по всей видимости, и стали основой этимологической трактовки М. И. Михельсона: ‘человек, обмокший от дождя или падения в воду’, ‘замаравшийся грязью’. Эти значения известны в вытегорских, вологодских, воронежских и олонецких говорах. Такой зюзя может быть мокрым и от слез, как в терских и кубанских говорах, где это слово означает ‘плакса’.
Кроме того, зюзя —> это и ‘неопрятный, неряшливый человек’ (тамб.), ‘разиня, зевака’ (тер. и кубан.), ‘простофиля’ (рыб.), ‘смирный, безобидный человек’ (москов., череп ). Последнее значение уже, пожалуй, несамостоятельно, поскольку диалектологи подчеркивают, что это—прозвищесмирного человека. Отсюда, видимо, и фамилия Зюзин, которую легко найти в любом телефонном справочнике.
Эта гамма значений диалектного слова зюзя отражается и в немногочисленных его производных: напился как зюзечка ‘до потери сознания’ (орл.), зюзило ‘пьяница’, ‘неряха’ (пск.), зюзик ‘зевака, разиня’, ‘нерасторопный человек’ (тер.). От зюзя образован и глагол зюзить ‘пить’. «Пиво-то он зюзить любит»,—говорят в Пине-жье. Известен этот глагол и в шадринских говорах. А в пермских он имеет несколько иное фонетическое подобие—зюзлить и употребляется с приставкой вы< «Купил к празднику вина полведра, да с гостями всё вызюзлил»—такую пермскую фразу записал в 1856 г. А. Луканин. Кстати, и в русском литературном языке наш зюзя дает экспрессивный глагол назюзюкаться, характеризующий крайнюю степень опьянения: «У другого инженера никакого “горя” не приключилось. Он просто выпил. Вернее не просто, а, что называется, назюзюкался до состояния испорченного арифмометра» (Ле-нингр. правда, 1972,31 марта). Любопытно, что этот русский глагол находят даже в болгарском просторечии: наз "уз 'у кам са, наз *у-з'уквам са — ‘упиться до потери сознания, до бесчувственного состояния’.
Многообразие и активность производных корня зюз- в народной речи породило и некоторые варианты диалектных сравнений, отличных от попавшего в литературный язык: орл. как зюзя
217 1(10 ТАЮ>*зюзя?
грязный ‘об испачкавшемся, грязном человеке’, дробный как зюзя ‘о небольшом, мелкорослом человеке’, мокрый какзюзя ‘о вымокшем человеке’, напиться как зюзик, пьяный как зюзик, пьян как зюська полосатая ‘об очень пьяном человеке’ и др. Ср. пословицу, в которой сравнение именно с грязным зюзей становится образным стержнем: У богача денег, как у зюзи грязи.
Как видим, в русских говорах нет ни одного употребления слова зюзя в значении ‘губка’. И неудивительно: вряд ли в русской деревне времен М. И Михельсона губка была так распространена, чтобы с ней сравнивали пьяницу на такой большой территории.
М. И. Михельсон, прекрасный знаток многих языков, выбрал, однако, именно губку для толкования выражений пьян как зюзя, промок как зюзя не случайно. Вероятно, это объяснение было невольно подсказано ему французским выражением boire comme une eponge. Последнее дословно переводится именно ‘пить как губка’, т. е. до полного опьянения, как русский зюзя. Гипотеза М. И. Михельсона, таким образом, — это скорее перевод русского выражения на французскую образную систему, чем его объективная этимология.
Иное, более «славянское» объяснение выражению пытался дать М. Романов в своем «Словаре своеобразных слов в народном говоре Усьянско-Дмитриевской волости Северо-Двинской губернии» (1928), рукопись которого хранится в Институте лингвистических исследований РАН (С.-Петербург). «У русин древний бог пьянства превратился в христианского святого Зосиму, — пишет диалектолог. — Возможно, что имя Зосимы было близко к одному из имен этого бога (он имел их несколько: Бубилос, Рагута и др.). Тогда слово Зюзя должно быть именем этого божества».
Выходит, пьян не как «губка», а как «бог». Проверим и это предположение.
Как ни странен факт, что русинский бог пьянства превратился в христианского святого, но он, тем не менее, отмечен энциклопедией Брокгауза и Ефрона (т. 8, с. 365). Изменение же имени Зосима в Зюзю уже гораздо менее вероятно: по фонетическим законам получилось бы, скорее, Зося. Но предположим, что зюзя — все-таки фонетическое искажение имени Зосима.
Не правда ли, и в этом случае остается странным, что этот «бог» Зюзя в русских диалектах оказывается чересчур многоликим: это не только пьяница, но и неряха, разиня, простофиля и неторопливый смирный человек?
213 кто ТАКОЙ ЗЮЗЯ?
Чтобы проверить, так ли это неправдоподобно, как кажется, остается посмотреть, с кем чаще всего сравнивают мертвецки пьяного человека. В русском языке предмет сравнения явно не «божественного» происхождения; пьян как сапожник, как лошадь, как свинья, как бочка. Особенно распространены сравнения «профессиональные». Раньше говорили и пьян как извозчик, как дворник, как лакей, как портной мастер, как пожарник. Сравните целую цепь «специализированных» синонимов глагола выпить, которую приводит В. И. Даль: «сапожник настукался, портной настегался, музыкант наканифолился, немец насвистался, лакей нализался, барин налимонился, солдат употребил, купчик начокался, чиновник нахрюкался» (ДП, 793). Вероятно, это бывшие «профессиональные» сравнения.
Устойчивые сравнения типа пьян как сапожник широко распространены и в других языках: англ, drunk like a lord, as a fiddler, a piper ‘пьян как лорд, уличный скрипач, волынщик’; фр. boire comme un musicien, un chantre, un pompier, un grenadier, un templier, un moissonneur, un sonneur ‘пить как музыкант, певец, пожарный, гренадер, рыцарь-храмовник, звонарь, солевар’; нем. trinken wie ein Biirstenbinder ‘пить как щеточник’; чеш. opily jako StStkaf, stary granatnik, soukenik ‘пьян как щеточник, старый гренадер, торговец сукном’ и т. д.
Довольно активна и модель сравнения с животными. В русском языке к пьет как лошадь можно добавить и как корова, и как скотина, выражение натянулся как пиявка, записанное В. И. Далем. Ср. англ, drink like a fish, drunk as an owl ‘пить как рыба’, ‘пьян как сова’ (ср. русский глагол осоветь?) и американский вариант этого сравнения — as a boiled owl ‘как вареная сова’, чеш. pije jako hovado, jako sysel ‘пьет как скотина, как суслик’ и т. п.
Можно было бы привести и некоторые другие модели устойчивых сравнений этого типа: фр. boire comme un tonneau ‘пьет как бочка’; нем. trinken wie ein Loch и чеш. pit jako dira ‘пить как дыра’; фр. boire comme un Suisse, un Polonais ‘пить как швейцарец, как поляк’; чеш. pit jako Dan ‘пить как датчанин’. Но ни в этих, выбранных наугад из четырех различных языков, ни в других просмотренных рядах фразеологизмов со значением ‘пьянствовать’ не найдено слова, которое можно было бы трактовать как ‘бог’. Следовательно, «божественное» происхождение русского зюзи неверно и семантически. Связь с искаженным именем Зосимы, видимо, — лишь игра фонетических ассоциаций вроде абсолютно невозмож
219 1(10 ТАМ0И 3103117
ного по смыслу, но полного по форме сопряжения русского зюзи с древнееврейским зюзя ‘род домашней божницы в стене у евреев^ место, перед которым молятся’, которое можно отыскать в старинных словарях.
Разгадка оказывается, как часто бывает в истории фразеологии, гораздо проще остроумных этимологических гипотез и анекдотов.
На родине Пушкина, в Псковской области, давно известны слова зюзя, зюся, зюха, зюська, зюжка, зюшка, зюра, зюрка и т. п. «Подбери с полу и дай зюси» (Псковский р-н, д. Мелетово); «Надо зюхе нарвать хряпы (т. е. травы. — В. М. )»(д. Карамышево); «Зюзька бегает по двору» (Печорский р-н, д. Лезги); «Зюзька прямо крохотный, уж очень мал» (Середкинский р-н, д. Зоборовка)—такие фразы на Псковщине ни у кого не вызовут недоумения. Во всех них речь идет о... свинье!
Наша зюха большебрюха, Как у брата дролечка. Не в обиду будет сказан Така поговорочка,
—поют остряки из д. Крякуша Карамышевского р-на. Это—тоже сравнение. Но сравнение не человека со свиньей, как в выражении пьян как зюзя, а, наоборот, зюхи, т. е. свиньи, с дролечкой, т. е. возлюбленной брата. И основание для сравнения другое — «габариты» свиньи.
Итак, зюзя — это ‘свинья’. Псковские диалектизмы зюзя, зюся, зюха—логическая связующая нить между всеми значениями, рассмотренными выше. Пьяного, неряшливого и извалявшегося в грязи человека многие народы сравнивают именно со свиньей. Да и в русской народной речи немало оборотов, где не только свинья, но даже ее дети становятся символами пьяниц и грязнуль: грубо-прост. напиться до поросячьего визга, грязный как поросенок, сиб. напиться как поросенок шелудивый, перм. пьян как поросенок шелудивый, горьк. мокрые поросята ‘о вымокших на дожде пьяницах’. Экспрессивность, накопившаяся вследствие такого употребления этих устойчивых сравнений, привела к тому, что слово зюзя стало и более общей отрицательной характеристикой человека и получило в отдельных говорах более конкретные контекстуальные уточнения этой отрицательной семантики—‘разиня, зевака’, ‘нерасторопный человек’, ‘простофиля’ и т. п.
Кроме псковских слово зюзя в значении ‘свинья’ известно, по-видимому, и другим русским говорам. Об этом свидетельствуют
220 1(10 ТАКОЙ ЗЮЗЯ7
такие его уменьшительные формы, как зюзъга (урал.), зюзька, зюж-ка (курск., орл., твер.), зюлька мзютъка (дон.), записанные диалектологами (КСРНГ).
В том, что большинству русских говоров и особенно литературному языку гораздо более известно переносное употребление слова зюзя, а не первичное ‘свинья’, нет ничего удивительного. Это типичная для развития фразеологии деэтимологизация ядра устойчивого сочетания, вызванная его переосмыслением. Точно так же в выражениях седой как лунь, смотреть бирюком, ходить гоголем постепенно забывались исходные значения ‘ворона’, ‘волк’, ‘утка’, а слова пигалица, чечетка, старая карга не только утратили свою «птичью» характеристику, но и лишились постоянного компонента сравнения (мала как пигалица, скачет как чечетка, зла как старая карга), который, вероятно, имели вначале.
Наконец, убедительным аргументом в пользу предлагаемой трактовки выражения пьян как зюзя является этимология самого слова зюзя. М. И. Михельсон вообще не ставил этого вопроса, выдвигая чисто семантическую гипотезу. Шаткость фонетической аргументации преобразования имени Зосима в зюзя уже отмечалась.
Предположение о первичности значения ‘свинья’ дает предельно простое решение этой этимологической задачи. Зюзя, зюся, зюха, зюрька и т. п.—не что иное, как названия свиньи, образованные от междометий зю-зю, зюсь-зюсъ, зюль-зюль, зюрь-зюрь, зюк-зюк, зюрь-ка-зюръка и т. п., которыми этих животных подзывают на Псковщине и других районах России. Характерен параллелизм «междометие— название свиньи от междометного корня»:
подзывные поросят и свиней зюзька-зюзька, зюлька-зюлька-зюль-ка, зюка-зюка-зюка, зюря-зюря, зютушка-зютушка —> 'свинья ' 'поросенок*: зюзька, зюлька, зюка, зюрька, зютка, зюточка.
В картотеке «Псковского областного словаря» есть записи, где междометное и именное употребление этих слов оторвать друг от друга невозможно: «Зюк-зюк, зюка звали свиней, а топерь больше па имени: бораф так Васька, свинья так Машка» (Стругокраснен-ский р-н, д. Остров). Названия свиньи такого рода встречаются во многих языках. В кандидатской диссертации С. В. Зайцевой, например, приводятся сербохорватские диалектные (штокавские) наименования этого животного, образованные именно из звукоподражательных слов: гица, гуран, гуЬко, гуда, гудан, гуче, гурли-ца, рокче, кезме, кезмац и др. (Зайцева 1977, 114). Удивительного
221 1(70 ТАИ0> ЗРЗ*У
тут ничего нет: ведь диалекты многих языков лишь воспроизводят древнейшую модель наименования свиньи у наших индоевропейских предков. Не случайно и наше слово свинья, известное всем славянам, и нем. Schwein, и лат. sus восходят также к звукоподражательному подзыванию этого животного.
Таким образом, и семантические, и фонетические факты решают вопрос о происхождении выражений пьян как зюзя, напился зюзя зюзей в пользу диалектизмов зюся, зюзя ‘свинья1, широко известных в Пушкиногорье. Именно А. С. Пушкин одним из первых употребил это народное выражение в литературе.
Вполне возможно, что поэт хорошо знал не только переносное, но и прямое значение этого псковского слова, давая характеристику Зарецкому: не случайно ведь тот был не только пьян как зюзя, но и вывалялся в грязи, как настоящая свинья.
Кто держит камень за пазухой?
Если у кого есть камень за пазухой, просьба явиться на строительство дороги.
Полезные советы, бытовавшие на стройках (Ленингр. ун-т, 1978,15 сент.)
Выражение держать камень за пазухой, характеризующее затаенную злобу, скрытое намерение отомстить, навредить кому-либо, — одно из тех, которые издавна вызывают разночтения при интерпретации. Уже более 150 лет
назад известный собиратель русских пословиц и поговорок И. М. Снегирев в одной и той же своей книге «Русские в своих послови-
цах» по-разному объясняет его. В одном месте книги он говорит, что этот оборот—«польская пословица, у нас обрусевшая», связана с царем Иваном Васильевичем Грозным, державшим камень за пазухой на поляков, в другом—что это древняя античная поговорка, «сходная с Плавтовым речением Ferre lapidem altera manu, panem ostendere altera», замечая, правда, при этом, что она встре
чается и в польских пословицах.
Позднейшие комментаторы пытались отыскать конкретно-исторические корни нашего выражения. «Камень за пазухой остался в обращении с тех пор, — пишет С. В. Максимов, — как во время пребывания поляков в Москве, в 1610 г., последние хотя и пировали с москвичами, но, соблюдая опасливость и скрывая вражду, буквально держали за пазухой кунтушей (национальной одежды. — В. М. ), про всякий случай, булыжные камни» (Максимов 1955, 184). Об этом, по его словам, свидетельствует и польский летописец Мацеевич, и польско-украинская пословица С москалем дружи, а камень за пазухой держи. Эту версию некритично принимают и иные современные лингвисты (Ковалева 1980,109). Некоторые же историки русских пословиц прошлого века, видимо из «патриотических» соображений, перестраивают эту версию в несколько ином направлении — будто бы в 1610 г. не поляки, а, наоборот, русские, пируя с поляками, «держали на всякий случай камни за пазухой» (Ермаков 1894,29).
В своих комментариях к книге С. В. Максимова Н. С. Ашукин высказывает сомнение в его интерпретации: «Объяснение, что данное выражение возникло в Москве во время пребывания в ней
223 И™ ЯЕРЖИТ ИДНЕНЬ ц ПАЗУХОЙ?
польских интервентов, следует отвергнуть как неубедительное^ Приурочивание возникновения подобных метафорических выра^ жений к какому-либо конкретному случаю едва ли возможно» (Мак< симов 1955,409-410). И действительно, как мы уже не раз убеждав лись, чем конкретнее исторический эпизод, который выдается за источник фразеологизма, тем обычно мифологичнее и фантастич^ нее оказывается на поверку соответствующая версия.
Очень похожа на такие же псевдоисторические толкования й версия, в соответствии с которой наш оборот связан с мощением улиц в Москве. Камень в нем якобы значит ‘булыжник’. Такие камни, в соответствии с царским указом, обязаны были доставлять в Москву приезжие для мощения улиц. Это толкование не только бытует «на слуху» у любителей пословиц и поговорок, но и было признано правильным телепередачей «Что, где, когда» (июнь 1983 г.). Так ответил на этот вопрос один из телезрителей, «знатоки» же предложили другой вариант: lapillus ‘камешек’ в Древнем Риме означал камень для подачи голоса против смертной казни или за нее.
В. Н. Миротворцев, написавший специальный очерк о выражении держать камень за пазухой, приводит все эти толкования и аргументированно отвергает их. Действительно, все они носят характер народно-этимологических анекдотов и мало чем отличаются по сути от студенческого каламбура, связывающего держание камня за пазухой со строительством дороги, который вынесен здесь в эпиграф.
Отвергая «исторические» версии, В. Н. Миротворцев обращается к языковым фактам других языков и выражениям о камне, которые могут прояснить образ нашего оборота. Вслед за исследователями античных пословиц и поговорок (Тимошенко 1897,89), он обращает внимание на структурное и образное соответствие русского выражения латинскому in sinu viperam habere ‘за пазухой змею держать’, а также такие языковые параллели, как болт, държа (крив) камък в пазвата си, държа змия в пазвата си ‘держать змею за пазухой’, нем. Groll im Busen hegen gegen jmdm ‘лелеять злобу за пазухой против кого-либо’ и т. п. К таким параллелям можно добавить и другие — например, словацк. mat’ ndz za sArou na niekoho ‘иметь нож за голенищем на кого-либо’, х.-с. drzati пой u potaji ‘держать нож в укромном месте’ и др. Такие параллели свидетельствуют, что сам образ «скрытого хранения» средств нанесения ударов противнику никак не может быть отнесен к конкретным историческим эпизодам. «С учетом изложенного, — пишет В. Н. Миротвор-
224 1(70 ДЕГЖГГ КАМЕНЬ за пазухой?
цев, — смысл выражения камень (или змею, нож, злобу) за пазухой держать совершенно понятен. Ясно и то, что это выражение не является только русским, оно интернационально. Налицо смысловая универсалия, известная многим народам» (Миротворцев 1984, 149).
Как же объясняет сам автор этого критического пересмотра предшествующих толкований нашего оборота выражение о камне за пазухой?
Слово камень здесь, по его мнению,—лишь один из вариантов в цепи лексических замен камень — змея — ноле — злоба за пазухой, При таком ответе ему пришлось дополнительно мотивировать кажущуюся равнозначность заменяющих друг друга слов и специфичность употребления слова камень. Во многих языках, как кажется Миротворцеву, эта замена произошла под влиянием евангельской притчи, получившей широкую известность. Камень,нож и т. д. держат за пазухой, чтобы потом бросить его в кого-либо при наказании или осуждении. Свидетельство этому выражение бросать камни ‘обвинять, наказывать’, пришедшее из Евангелия, где есть фраза о грешнице, уличенной в прелюбодеянии книжниками и фарисеями, которым, защищая ее, Иисус говорит: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Побивание камнями—одна из публичных казней в древней Иудее. Выражения о бросании кам* нем в кого-либо распространены во многих языках: нем. einen SteS^ nach jmdm. werfen; den ersten Stein werfen auf jmdn\ англ, to cast ttte first stone at somebody и т. п. Они все евангельского происхождений и проясняют смысл русского оборота: камень держат за пазухой для того, чтобы бросить его в кого-то.
Итак, все как будто бы предельно ясно и логически оправданно;
Но именно это пресловутое «как будто» и мешает пока поставить окончательную точку в этимологии, предложенной В. Н. Ми-ротворцевым. Рассмотрим приводимые им языковые факты более внимательно. И мы увидим, пожалуй, что хотя перед нами и определенная модель о скрывании чего-либо в пазухе или другом пета* енном месте, она, тем не менее, достаточно разнородна, чтобы быть признанной фразеологической универсалией или структурно-семантической моделью.
В самом деле: так ли уж едина логика держания камня и змеи за: пазухой?
Второе выражение имеет древнюю и особую историю, весьма отличную от истории бросания камней в кого-либо. Его обычно объясняют на основе древнегреческой притчи о землепашце,
225 1(10 ДЕГЖНТ КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ?
нашедшем змею и положившем ее «для сугрева» за пазуху. Ото* гревшись, она ужалила и умертвила своего спасителя (Brewer 1971, 982). По иному варианту, этот крестьянин находит не змею, а змеиное яйцо и согревает его за пазухой, пока из него не вылупливается змея и не жалит своего спасителя (Hyamson 1970,311). Эта притча легла в основу басни Эзопа «Крестьянин и змея», где ключевой момент сюжета излагается так: «Крестьянин подобрал змею и по* ложил ее за пазуху своей одежды». Эту басню встречаем и у Фед-ра, и у Эразма, и у Петрония Арбитра, и у других баснописцев и писателей. Она стала основой древней поговорки, встречающейся, например, у Цицерона, Петрония и Федра: in sinu — viperam venenatam ас pestiferam habere Чплеть в груди (в пазухе) ядовитую и губительную (букв, чумную) змею’, viperam sub ala nutricas ‘ты питаешь змею под крылом’, colubram—sinu fovit ‘он пригревает змейку на груди’. Во многие современный языки, в том числе и русский, эта поговорка попала благодаря известной в Европе басне Лафонтена и переводу комедий Мольера, где она также употреблялась. Ее популярности способствовала и русская народная речь, где уже бытовали такие обороты, как выкормил змейку на свою шейку или запазушная змея ‘неблагодарный и коварный человек’. Образ такой змеи, видимо, интернационален, универсален в разных народных культурах.
Как видим, образ, лежащий в основе этого древнего выражения, совершенно иной, чем в нашем обороте о камне за пазухой. Объединяет их, правда, местоположение камня и змеи. Но даже это единство не столь однозначно, как кажется, если принять во внимание античные варианты поговорки, где змея может находиться и в груди, и под крылом, а слово «пазуха» практически не называется прямо. Характерна здесь и конкуренция этих понятий в славянских выражениях: например, в польском языке обороту mied cos w zanadrzu ‘иметь что-либо за пазухой’ соответствует miec cos па wqtrobie ‘иметь что-л. на печени, на нутре’, значащие помнить какую-либо обиду, ‘быть злопамятным’. Если первый зафиксирован лишь в 1957 г. как единичное употребление, то второй известен с 1655 г. и употребляется чрезвычайно активно (NKP III, 826, 629-630).
Дело, впрочем, не в конкуренции пазухи, нутра, груди или печени. Важнее, что логика выражений о змее и камне разнонаправленна: змея жалит того, кто ее пригревает за пазухой, а камень используется хранящим его для нападения или защиты. Этот се-
226 ДЕ₽ЖМТ ИАМ£МЬ ЗА ПАЗУХОЯ?
мантический «разброс» не позволяет их объединять в одну «универсальную» модель, как это делает В. Н. Миротворцев.
Не позволяет этого и более детальное рассмотрение иноязычных соответствий. Если поговорка о змее и пазухе как интернационализм известна, как мы видели, многим европейским языкам, то выражение о камне за пазухой практически не выходит даже за рамки восточнославянских языков. Его, правда, фиксируют иногда болгарские и польские словари: държа (крия) камък в пазвата си (Кошелев, Леонидова 1974, 259), chowad kamien w zanadr^if (БРПС II, 6), — но это, скорее, кальки с русского позднейшего происхождения. Не случайно для болгарского оборота «Русско-болгарский фразеологический словарь» под ред. С. И. Влахова дает помету «буквально», а польский не фиксируется монументальным четырехтомным собранием польских пословиц и поговорок под ред. акад. Ю. Кржижановского. Украинские же и белорусские выражения тримати (держати, мати, ховати) камшъ (каменю-ку) за пазухою (у пазу ci) ', трымаць камень за пазухай, видимо, достаточно позднего происхождения. Они, во-первых, практически не отражены в старых паремиологических сборниках, а во-вторых, известны лишь позднейшей художественной литературе. Показательно, что укр. держати камшъ за пазухою употребляется лишь советским писателем В. С. Кучером в романе «Трудна любое», а тримати камшъ за пазухою в словаре Г. М. Удовиченко приводится без контекста, хотя большинство фразеологизмов там имеют иллюстрации.
В других же европейских языках выражение держать камень за пазухой имеет лишь эквиваленты, весьма далекие по образу от русского языка. Так, французские слСвари дают как эквивалент идиому etre pret a un coup de Jamac ‘быть готовым к удару Жарна-ка’, английские — to nurse a grievance АлелеяТь обиду’, Ti^bbbV а grudge ‘таить зло’, немецкие — Boses im Schilde fuhren ‘вести на щит зло’ и т. п. В тех же языках, где имеются обороты со словом «пазуха», нет точных аналогов с камнем за пазухой—ср. нем. etw. in den Busen stecken ‘прятать что-л. за пазуху’, фр. mettre quch. en son sein ‘положить что-л. себе на пазуху’ — ‘скрывать, прятать что-л.’ Уже известные нам славянские параллели типа словацк. mal nozza sarou ‘иметь нож за голенищем’ или х.-с. drzati пой u potaji ‘держать нож в укромном месте’, отражая общую идею сокрытия орудия убийства, в то же время передают ее совершенно иными обра-
227 1(70 *Е₽ЖИТ КАМЕНЬ ЗА П АЗУХО Я?
зами. Говорить здесь о линейной генетической преемственности таких выражений, следовательно, невозможно.
Сопоставление русского оборота с близкими иноязычными приводит к выводу, что держать камень за пазухой — собственно русский фразеологизм относительно недавнего происхождения. В этом, кстати говоря, убеждает и обращение к той художественной и публицистической литературе, где он употребляется. В собрании М. И. Михельсона не зарегистрировано ни одного контекста-ид-люстрации к нашему выражению, а само оно дается лишь в составе пословиц: С москалем дружи, а камень за пазухой держи; Поляки с русскими пировали, а камень за пазухой держали (1611 г.) и Дружиться дружись, а нож (камень) за пазухой держи; Держи камень за пазухой ‘будь осторожен’. Во всех без исключения словарях оборот держать камень за пазухой иллюстрируется примерами из советской литературы или—в очень редких—литературы начала XX в.: «[Сохин] призвал всех... искренне и всенародно прильнуть к общему течению, а не держать камня за пазухой» (П. Д. Боборыкин. На ущербе); «Не всегда ясно, но с всегдашним постоянством поддерживал группу Беннигсена наружно почитавший фельдмаршала, но державший камень за пазухой умный, самолюбивый, иронический Ермолов» (Л. Раковский. Кутузов); «Нет, к нему не подойдешь, голой рукой не схватишь: на хитрость—хитростью, на обман — обманом. Подавить злобу и ненависть, дружески принимать врага, а за пазухой камень и в подходящий момент ударить этим камнем» (А. Перегудов. В те далекие годы); «Бояться тебе нечего, камня за пазухой у меня нет» (В. Н. Ажаев. Далеко от Москвы); «Вы идете рядом с нами только потому, что массы требуют объединения сил всех социал-демократов. А вы— против и держите камень за пазухой» (А. Д. Коптяева. На Урал-реке); «Знаю, что ты вечно будешь держать камень за пазухой» (А. Маленький. Соседи); «К нам теперь с камнем за пазухой не суйся—заклюем!» (Ю. С. Крымов. Танкер «Дербент»); «Впрочем, Марченко камня за пазухой не носит. Справедливо за плохое дело наказав человека, он же справедливо и поблагодарит при всех за дело хорошее» (Правда, 1980, 30 апр.).
Как видно из приведенных контекстов, выражение о камне за пазухой Довольно динамично. Кроме морфологических вариантов камней за пазухой у меня нет, с камнем за пазухой не суйся и т. п. оно допускает и замену глагола держать глаголом носить, и оживление прямого плана: «держать камень... и ударить этим камнем».
228 1(70 *№жнт КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ?
Благодаря таким вариантам наш оборот допускает и семантическое смещение—он «позволяет думать уже не о чувстве злобы, а о желании ощутимого, физического мщения» (Коваленко 1972,160— 161): «Стоя за столом, он уже поощрял, правда, насмешливым голосом, колхозниц: — Давайте, давайте, не носите камень за пазухой, выкладывайте на стол...» (Ф. Кравченко); «Присмотрись — и поймешь, что за этой пыльной бранью ничего не остается, ни малого камешка у пазухи» (Д. А. Фурманов. Чапаев).
В отдельных случаях варьирование нашего оборота заходит столь далеко, что лишь филологический анализ текста позволяет констатировать, что перед нами—трансформация именно его компонентного состава и образа. Так, в стихотворении А. Межирова «К весне» наш оборот изощренно переплетается с выражением (не) делать что-л. за спиной кого-л. (Некрасова, Бакина 1982, 235):
Заговорит фонарь, дрожа как студень, Светясь, как банка меда на окне, — Он не злословен и правдолюбив И умысла не держит за спиною, Как мы, едва слова употребив, Им придаем значение иное.
Экскурс в употребления нашего оборота в современной литературе еще раз подтверждает наше ощущение, что оно чисто русское: в других славянских и неславянских языках мы либо не находим его вовсе, либо не регистрируем (как для польского, болгарского, украинского и белорусского) такой активности и готовности к варьи-ровнию.
Объяснить эту специфику употребления можно, пожалуй, лишь одной причиной—недавним происхождением фразеологизма держать камень за пазухой и его исконностью для русского языка. Он рожден характерным для образования поговорок способом—усечением пословицы Дружиться дружись, а камень за пазухой держи. Мы уже видели, чгоименновеесосгавеэтотфразеологизмзафик-сирован сборником NL И. Михельсона. И, что особенно показательно, именно в форме пословицы он употреблялся писателями XVIII в.:
«Сквалыгин:А так бы постарался и дядюшку-та от себя отбоярить. Веть он крапивное семя! С таким человеком дружись, а камешек в пазухе держи» (М. А. Матинский. Опера комическая Санктпетербургской гостиной двор).
В этом контексте выражение держать камешек в пазухе, истолкованное как ‘быть готовым отомстить, ответить на пакость пако
229 1(70 *ЕГЖИТ КМЕНЬ Ц ПАЗУЖ01?
стью’ (Палевская 1980, 99), явно еще является частью народной пословицы.
Признание исконно русского происхождения оборота о камне за пазухой заставляет отвергнуть и прямую связь его с библейским оборотом бросить камень в кого-л. Собственно говоря, ее опроверг гает — как в случае с оборотом отогреть змею на пазухе—j&xs сама внутренняя логика русского и античного фразеологизмов. Ведь бросание, забрасывание камнями в древней Иудее являлось видом публичного, т. е. открытого, «гласного» (пусть даже и не всегда справедливого) наказания. А если так, то в держании камня за пазухой нет никакого смысла: если бы речь шла об обычае забрасывания камнями, то эти камни, наоборот, предварительно бы демонстрировались наказуемому и зрителям.
Логика выражения держать камень за пазухой иная. Камень приберегает обычно тот, кто сам опасается и сильного противника, и публичного осуждения своего коварства. Этим наш оборот отличается от интернационального книжного выражения бросать камень в кого-л. Отличие это, на первый взгляд, сближает его с другим древним фразеологическим интернационализмом — пригреть змею за пазухой, где акцент делается именно на коварной и злобной подготовке ко мщению. Однако мщение это направлено на самого «носителя» или «держателя» змеи в отличие от «держателя» запазушного камня, который припрятывает коварное орудие явно не для самоубийства.
Так, родившись в ассоциативно сближенной зоне двух древних выражений пригреть змею за пазухой и бросить камень в кого-л., оборот о камне за пазухой оказался самостоятельным и исконно русским как по смыслу, так и по форме. Эта самостоятельность обеспечена тем, что он в буквальном смысле «вышел из народа», т. е. образовался путем усечения народной пословицы Дружиться дружись, а камень за пазухой держи. Причем породившая его пословица со временем вышла в пассив русского литературного языка, а оборот, благодаря его употреблению современными писателями, занесен во фразеологический актив. Вполне возможно, что этому способствовала образная перекличка народной поговорки о запазушном камне с древними античными выражениями о змее и побивании грешников камнями.
Старая карга или белая ворона?
— Ты что, старая карга, грубишь! Вот ужо разделается с тобой Арсений Потапыч.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина
— Я — купец, но у меня не гривенники на месте глаз. Я, брат, в своем классе — белая ворона.
М. Горький. Жизнь Клима Самгина
Выражения старая карга и белая ворона не очень лестно характеризуют человека, но эти отрицательные характеристики удалены друг от друга: второе не имеет столь сильной негативной окраски, как первое. Объединяет их не столько отрицательная оценка — она для фразеологии обычна, — сколько общность образа:
слова карга и ворона — синонимы. Первое—древнее заимствование из тюркских языков, известное (правда, при меньшей активности употребления) и украинцам, и белорусам. Характерно, однако, что в литературном языке слово
карга встречается исключительно в переносном значении—как характеристика сварливой и зловредной старухи, «ведьмы»: «Да что ты, старая карга, с ума что ли сошла [что спать посылаешь}?.. Ах, голубчик ты мой! Ах, мымра я слепая! А ведь показалось сдуру-то, что ты хмельной приехал...» (А. Н. Островский. Свои люди — сочтемся).
О том, что основой этого переноса было именно карга ‘ворона’, напоминают некоторые русские пословицы. Как ни вертись ворона, а спереди карга и сзади карга — находим, например, у В. И. Даля. А шутливая поговорка, до сих пор употребляющаяся под Самарой, — его карга в пузыре принесла точно соответствует старой шутке—• ответу на вопрос «Как ты сюда попал?» — Ворона в пузыре занесла. Еще убедительнее свидетельство «Словаря русских народных говоров», по данным которого слово карга в этом
первичном значении записано в донских, ростовских, астраханских, воронежских, тамбовских, саратовских, тульских, костромских и других говорах. Уже сама зона активного распространения
этого слова, примыкающая к границам тюркоязычных народов, подтверждает мнение этимологов о заимствовании. Любопытно, что и в некоторых говорах исходное значение слова карга забыто, и поэтому в переносном употреблении дается его «расшифровка».
231 С1АГАЯ КЛУГА МДМ БЕЛАЯ «ОГОНА?
Так, недалеко от Перми в прошлом веке записана такая фраза: «Ах ты, ворона карга! И того ты не умел сделать-то!» Как видим, здесь карга не имеет привычного нам переносного значения ‘сварливая старуха’, а, скорее, характеризует несообразительного и неумелого человека — разиню и «ворону». В вологодских говорах каргой также называют и нерасторопного, бесхозяйственного человека. Ср. и сочетания загумённая карга и загумённая ворона — бранные выражения, относимые к лентяям и праздношатающимся.
Но вернемся к литературному обороту старая карга. Связано ли его переносное значение с тюркским источником, или же оно самостоятельно развилось на русской почве? На этот вопрос так отвечает тюрколог Д. С. Сетаров: «В тюркских языках слово karga “ворона” — суффиксальное образование от кага “черный”. Значение “злая старуха” является результатом контаминации тюркских слов karga “ворона”, karga, kargav “проклятие, ругань” и kargan, karygan с общим значением корня “старый (по возрасту)”» (Сетаров 1970,89). Такое толкование, действительно, в какой-то степени объясняет, почему у исконно русского слова ворона развились иные переносные значения, чем у заимствованного карга', ведь первое обычно означает ‘нерасторопный и неловкий человек’, ‘простофиля’.
Вместе с тем нельзя сказать, что ассоциации с преклонным возрастом и сварливостью являются чем-то необычным для «русской» вороны. Последнее свойство, например, подчеркивается в пословицах На что вороне большие разговоры, знай ворона свое воронье «кра» и С воронами — по-вороньи и каркать, Что же касается долгожительства, то с ним в русской традиции чаще всего связывают не ворону, а ворона. Невольно вспоминается калмыцкая сказка о Вброне и Орле, рассказанная Гриневу Пугачевым в «Капитанской дочке». Правда, это воспоминание — также «тюркологичес* кое», ибо сказка, как подчеркивает сам Пугачев, калмыцкая, а не русская. Но и в чисто русских пословицах вброну приписывается эпитет старый'. Старый ворон мимо не каркнет или Старый ворон не каркнет даром. Подчеркивание долголетия ворона характерно и для пословиц и поговорок других славянских народов. Так, в польском языке сравнение «старый как ворон» (stary jak kruk) широко известно и популярно.
Представления о вороне и вброне как о долгожителях сохраняются с античных времен. В поэме «Советы Хирона», приписываемой одному из древнейших греческих поэтов Гесиоду, приводится
232 СТАГАЛ ЦГГА млн Б1ЛАЯ В0Г0НА?
даже некая шкала долголетия у разных животных, в которой наши птицы занимают весьма почетное место: ворона живет десять человеческих поколений, олень — вчетверо дольше вороны, вброн — втрое дольше оленя, феникс — в десять раз дольше вброна, нимфы —в десять раз дольше феникса. Правда, мифологическое представление о долголетии вороны и вброна не совсем совпадает с научными данными: по калмыцкой сказке, например, ворон живет триста лет, а современные орнитологи считают, что его средний возраст равен 45-50 годам.
Итак, как будто бы й данные диалектов, и постоянная метафорическая «перекличка» вороны с нерасторопной старухой, и данные орнитологии говорят в пользу возведения нашей русской карги к тюркской по происхождению вороне.
При историко-этимологической расшифровке слов и выражений, однако, далеко не всегда можно ставить точку на какой-либо единственной версии. Так было и в этом случае.
Не успел я опубликовать заметку о старой карге и белой вороне в журнале «Русская речь» (Мокиенко 1980, 45-49), как получил письмо от читателя В. И. Макина, своего земляка. По его мнению, связь выражения старая карга с тюркской каргой ‘вороной’ сомнительна. И вот почему (процитирую его контраргументацию):
«Во-первых, карга — не старуха. Недаром в этом выражении, адресованном женщине преклонного возраста, соседствуют два слова: “старая карга”. Значит, может быть и “молодая карга” (правда, очень редко). По-видимому, в карге должно быть что-то такое, что свойственно только особой женщине... Во-вторых, не черный цвет вороны, не тюркское “кара” (тем более, что каргой, по свидетельству того же Даля, называют и золотого щура) следует считать исходным при образовании этого слова, так как именно “воронбй” служит у нас синонимом понятия “черный”, а не “кара”. В-третьих, карга изначально означала не ворону. Даже в словаре Даля можно насчитать полдюжины применений слова “карга” — обозначающих крюк, скрюченную форму, и поэтому следует именно этот признак — согнутую форму считать исходной, изначальной в присвоении данного названия различным объектам.
Так, карга (корга) известна издревле у кораблестроителей-поморов. Это — дерево с одним из отходящих в сторону корней, представляющее отличную конструкцию для основы корпуса корабля, причем естественный изгиб ствола в месте перехода его в корень обладает хорошей прочностью.
Карга — вообще любое кривое, скрюченное дерево.
Карга у “лесных дел мастеров” значила и скобу, крюк для крепления бревна при его транспортировке и разделывании.
Карга — выступ с торцовой части деревянного корыта, изгиб его древесины.
233 СТАГАЛ Mlt БЬЯМ ИОРОК*7
Карга — сочетание большого и указательного пальцев, стоящих тоже под углом друг к другу — при измерении различных длин.
Карга — крюк для зацепления за звено якорной цепи в стопоре крепления якорей по-походному.
Карга — сидящая ворона, силуэт которой тоже представляет собой крюк...
И наконец, старая карга — скрюченная старая женщина, сутулящаяся порой так, что спина чуть ли не выше головы... Если какие-то обстоятельства скрючат молодую женщину, то это будет — молодая карга.
Как можно сомневаться в логичности и последовательности этого ряда и притягивать тюркское слово “кара” к объяснению издревле русского слова, ведущего свое происхождение, так же как и слово “корабль”, от слов “корень”, “кора”, “коряга”, т. е. связанного с деревом — исконно русским атрибутом жизни и быта! Здесь можно говорить лишь о “молодой карге”, столь же необычной, сколь и “белая ворона”».
Не скрою — предложение читателя показалось мне весьма заманчивым. Ведь в русских (особенно севернорусских и сибирских) народных говорах слова карга и корга', действительно, могут значить и искривленное дерево, корягу* кривой сук или палку, загнутую на конце. Более того, соблазнившись этой исконно русской интерпретацией нашей старой карги, я тут же отыскал в своей картотеке серию выражений, где старого человека называют именно по аналогии с деревянной палкой или деревянными предметами (сравнение человека с деревом вообще обычно для нашего языка: ср. здоровый, т. е. такой крепкий, как дерево): волог. старая колотовка ‘бранное слово’ и колотовка ‘деревянное приспособление (обычно с разветвленным концом) для сбивания масла, теста й т. д.’, морд, старый кдмолъ ‘старый человек’ и комляк ‘обрубок нижней части дерева’, кобёл ‘старый человек’ и ‘обрубок бревна, чурбан’; арх. старая кокора ‘бранное обращение к старому человеку’ к кокора‘корень вывороченного дерева’ХСРНГ 14,95); бел. старая хряпка ‘старуха’ и храпка ‘кочерыжка’; кашуб, stari s^k‘бывалый человек, тертый калач’ (букв, ‘старый сук’) и т. п.
Одно из таких выражений— старого лесу кочерга ‘о физически крепком старом человеке’ (где кочерга — ‘деревянная палка для выгребания золы’)—даже попало в литературный язык прошлого века: «Не помрет — отдышится! Старого лесу кочерга. Скрипит, трещит, не сломится» (П. Мельников-Печерский. В лесах). Ср. и употребление слова кочерга в переносном значении и с другими определениями: «— Я те дам сундук запирать, чертова кочерга! — закричал тот» (А. К. Толстой. Князь Серебряный);«— Из ума вщжи-
234 СТАРАЯ КАРГА МЛН БЕЛАЯ ВОРОНА? _
ла, старая кочерга! — покрикивал на свою старуху Федот» (А. Левитов. Расправа). Составители Большого академического словаря определяют это просторечное слово описательно — ‘о старике, старухе’.
Несмотря на эти «древесные» ассоциации со стариками, однако языковые факты не позволили мне согласиться с моим оппонентом.
Во-первых, карга все-таки (увы!) старуха, хотя в ней, быть может, и есть «что-то такое, что свойственно только особой женщине...». Об этом говорит как наш литературный язык, так и наши народные говоры.«— Уж извините! — отворив дверь и кланяясь, сказала старуха. — Ночью-то депеши только носят. — Ну, молчи, карга! — ответила гостья» (М. Горький. Городок Окуров). Горький, как видим, употребляет слова старуха и карга как синонимы, не упуская из виду, разумеется, и «особости» последней. По сравнению с обычной старухой наши карги — старухи безобразные, злые и сварливые. О молодой карге ни один наш писатель не сообщает, да и сам В. И. Макин признает, что она лишь «может быть», да и то — «редко». Мне, во всяком случае, было бы страшно назвать самую злую молодую женщину каргой: от намека на возраст она, пожалуй, тут же превратилась бы в настоящую бабу-ягу. И это «зловещее» значение развилось из прямого «ворона», впитавшего в себя семантику постоянного эпитета старая (карга).
Во-вторых, предположение о не тюркском, а славянском происхождении слова карга не подкреплено у моего оппонента никаким этимологическим анализом. Русские же этимологические словари единодушно относят это слово именно к тюркским источникам (Фасмер И, 196; ШИШ, 188—189, и др.). В последнем словаре (как и в приведенной мною выше версии тюрколога Д. С. Сетарова) это тюркское слово и связывается с кара ‘черный’, что вполне логично, если учесть исходное значение слова карга и цвет вороны. Кстати, слово вороной в русском языке как цветообозначение употребляется достаточно поздно и весьма специализированно— для наименования конской масти (Бахилина 1975,79), что (как и словообразовательные признаки: ср. сторона — сторонний, оборона — оборонный и т. п.) свидетельствует о его вторичности по сравнению с ворона. Видимо, это семантическое смещение также развивалось (как многие слова, связанные с коневодством) под влиянием тюркского сопряжения карги с наименованием черного цвета.
235 CTAFM валя
В-третьих — об «изначальности» наименования словом карга вороны. Обильный ряд «деревянных» значений этого слова, приводимый В. И. Макиным, действительно впечатляет. Однако, как кажется, этимологи делают правильно, расслаивая эти значения на омонимы (например, в словаре М. Фасмера их три). Карга ‘железная скоба с острыми концами, забиваемая в бревно’, например, вполне может быть метафорой по сходству с вороной (ср. кошка ‘якорь5). Вообще форма крюка, скорее всего, вызвана ассоциацией с вороной, а не наоборот. Именно крюкообразность и делает эту метафору логически оправданной. В пользу тюркского происхождения большинства значений слова карга, к тому же, говорит — И весьма весомо — география. Показательно, что дальше белорусской зоны границы этого слова не заходят, что в целом совпадает с районом распространения тюркского языкового влияния (в какой-то мере и опосредованного).
Конечно, было бы заманчиво весь приводимый моим корреспондентом ряд слов связать с корнем кор-, с корягой (кроме всего прочего, помехой такому сопряжению будет и суффикс -яга, с бывшим носовым переднего ряда, который обычно не выпадает) и деревом. Однако в этом случае пришлось бы тюркское слово карга ‘ворона’, известное в турецком, крымско-татарском, казахском, киргизском, алтайском, татарском, кыпчакском, уйгурском и других языках и диалектах, считать заимствованием из русского. Ареал славянского карга (ограниченный русским), однако, упорно со-протавляется такому диагнозу.
Нельзя вместе с тем и абсолютно отрицать семантическую связь тюркского по происхождению карга с «древесными» ассоциациями. И наименования старого человека по его «кочережной» искривленности и высушенности, и чисто звуковая близость слова карга с исконно славянским коряга (от корень) наложили, возможно, свой отпечаток на метафоризацию русской карги. Именно потому, пожалуй, тюркское слово и прижилось в нашем языке, что оно благодаря такому развитию приобрело как бы двойную экспрессию, источники которой—и птичья, и древесная метафоры.
Если факт древности и «исконности» русской карги можно оспорить, как и факт долгожительства вброна и вороны, то длительность бытования некоторых пословиц и поговорок о них является бесспорной. Так, пословица Ворон ворону глаз не выклюет восходит к глубокой древноста: популярная в латыни, она широко употребительна в современных романских, германских, славянских и
236 CTAFM wrA |0FQHA?
других языках. Любопытно, что, как и обычно, в этой пословице отражено наблюдение над одной из реальных деталей «вороньего быта». Даже в самой ожесточенной схватке ворон никогда не целится в глаза другого ворона. При этом, охотясь на добычу, эта птица обычно целится именно в глаз. Это «врожденный запрет братоубийства» (по выражению лауреата Нобелевской премии К. Лоренца) характерен и для других животных, но особенно ярко он отразился в языке именно в интернациональной пословице о воронах.
Не менее древним является и выражение о белой вороне. Его традиционно возводят к античности. Считают, что у него даже был автор—римский поэт-сатирик Ювенал. В своей седьмой сатире он рассказывает, что иногда
Раб может выйти в цари, пленник дождаться триумфа. Только удачник такой редкостней белой вороны.
Некоторые лингвисты (например, Л. Е. Кругликова) высказывают сомнение о том, что источником оборота белая ворона является сатирическая строка Ювенала. И действительно, этот оборот столь широко распространен во многих языках, что вполне вероятно и самостоятельное, изначально народное рождение нашего фразеологического образа в разных языках. Сама идея «выделяе-мости» птицы-альбиноса среди других очень продуктивна в разных языках. Характерна, скажем, смоленская народная присказка о «побелевшей сороке»:
«— Мой верьх будить!
— Тады твой верьх будить, як сарока пубялеить».
Это —: запись шутливого спора мужа с женой, сделанная в конце XIX в. этнографом и бытописателем Смоленщины В. Н. Добровольским. Ясно, что эта присказка, где метафора о сороке^адьби-носе рождает парадоксальную идею абсолютной невозможности главенствования мужа над женой, никакого отношения к римскому сатирику не имеет. Точно так же самостоятельны в разных языках метафоры о птицах, насекомых или животных-альбиносах — дрозде, воробье, аисте, мухе, верблюде, буйволе, быке и т. п. Как правило, переносное значение таких оборотов близко семантике нашего выражения о белой вороне. Ср. исп. mirlo Ыапсо (букв, ‘белый дрозд’) или болт, бяла серака (букв, ‘белая сорока’), являющиеся точными эквивалентами русского белая ворона. Видимо, такие — чисто народные — обороты, образующие интернацио-
237 СТАРАЯ КАРГА НЛП БЕЛАЯ 10ГОНА?_
нальную фразеологическую модель, способствовали активизации и популярности книжного по происхождению сочетания белая ворона,
О «книжности» его в русском языке говорит прежде всего то, что оно практически неизвестно нашим диалектам, а в литературном языке зафиксировано не ранее XVIII в. Аналогична ситуация и в других европейских языках: в польском, например, оборот bialy kruk ‘белый ворон’ зафиксирован в 1650 г., причем в форме сравнения, бдизкрго к сравнению Ювенала. Значит, родословная нашей белой вороны все-таки начинается с латинского alba avis, автором которого, возможно, Ювенал и не был, но, использовав его в своей сатире, положил начало его длительному употреблению.
Это выражение стало крылатым и вошло в большинство современных литературных языков. В русском языке оно укрепилось весьма прочно и может обозначать не только человека, резко выделяющегося своимим качествами из своего окружения, но и—правда, реже — нечто необычное и из ряда вон выходящее. Вот как с помощью этого оборота Л. Успенский характеризует русскую букву «Ф»: «Одно Ф приходится на 33 тысячи букв. Это немногим проще, чем если бы его вовсе не оказалось. Что это за “белая ворона”, это Ф? Что за редкостнейший бриллиант?» (По закону буквы.) О широкой употребительности этого крылатого выражения свидетельствует и факт его обыгрывания, в котором намеренно подчеркивается прямое, а не переносное значение. На этом основана, например, одна из мини-басен Э. Дивильковского: «В химчистку пришла белая ворона. — Вы такая белая. Что вам еще надо? — Хочу быть, как все, — сказала ворона. Резюме: Ворона — ловкая птица» (Лит. газета, 1977, № 5, с. 16).
Об этом же свидетельствует и возможность варьирования стержневого слова, иногда осуществляемая писателями. Так, у Д. Н. Мамина-Сибиряка встречаем вместо белой вороны столь же, а может быть, даже еще более необычного белого воробья:«— Па-пахентоже на ярмарке,—предупредил Веревкин, когда они подъезжали к каким-то номерам. — Надо будет его разыскивать. Впрочем, их с Ломтевым все знают, как белых воробьев» (Привалове-кие миллионы). Здесь, как верно замечает А. А. Алтыбаев, в художественных целях скрещены два фразеологизма — белая ворона и стреляный воробей.
Популярность этого выражения, как уже говорилось, во мно? гом обусловлена популярностью сатир Ювенала в Древнем Риме и
238 стдрм ЦЦ*1*н|,и tEJIM вороИА?
активностью употребления оборота белая ворона в европейской литературе. Немаловажна, однако, и сама яркая экспрессивность этого выражения, построенного на внутреннем парадоксе. Белая ворона — это нечто столь же необычное и противоестественное, как белый уголь или черный хлопок. Ведь, например, в русских народных поговорках ворон является прежде всего символом черноты: черный как ворон, волосы цвета воронова крыла, грязный, как черный ворон (ирк.), вороная мастъ и т. п. Черный является постоянным эпитетом ворона в народных песнях' Здесь он—и предвестник смерти, кровожадно ожидающий кончины своей жертвы. Сравнение жаден, как ворон крови отражено в рукописных сборниках пословиц и поговорок уже с XVIII в. Все это объясняет, почему эпитет белый, вступающий в резкий диссонанс с представлениями, отложившимися в языке, создает напряжение особой силы. Это напряжение и называется фразеологической экспрессией.
Тем не менее образ «белой вороны», несмотря на намеренную парадоксальность, — не плод пустой фантазии, а также факт реального животного мира. Возможно, как мы видели, речь здесь идет о вороне-альбиносе. Не исключена, впрочем, и другая возможность — что это древнее выражение имеет в виду очень старую ворону: поседевшую от чрезмерного долгожительства. Такие вороны чрезвычайно редки, но они действительно встречаются. Средневековый швейцарский зоолог К. Геснер сообщал, например, что они были замечены в Скандинавии. «Вороны, старея, — писал он в «Истории животных»,—теряют свою черноту, поскольку начинают питаться лишь росою небесной...» Видимо, вороны, «доживающие до седин», — явление настолько редкое, что вошло в поговорку. Иное дело — черная «старая карга», которой никого не удивишь.
Так два выражения, имеющие совершенно разные судьбы и попавшие в русский язык различными путями, неожиданно сближаются в фокусе своего изначального образа. Этот образ, несколько утраченный в современном употреблении—и также утраченный по-разному, — в языковой форме выразил некоторые особенности жизни той птицы, которая стала основой оборотов старая карга и белая ворона.
Зачем вешать нос на квинту?
Закатились мы с ним в один кабачок, в другой, в биллиардную... Наконец вижу — иссякли наши фонды окончательно, и расплатиться нечем... Повесил я нос на квинту.
А. И. Куприн. С улицы
При выяснении истории фразе* ологизмов нередко возникает вопрос, каким способом они воз? никли: сокращением больших по размеру сочетаний, пословиц, ба? сен или, наоборот, путем соединения слов, путем развертывания меньших оборотов в большие. История оборота вешать нос на
квинту ‘впадать в крайнее уныние, падать духом, терять последнюю надежду’ в этом отношении весьма характерна.
М. И. Михельсон, приводя этот оборот, заключает слова на квинту в скобки. По-видимому, этот лексикографический прием,
повторяемый и современными словарями, означает, что сочетание вешать нос на квинту — вариант оборота вешать нос. Именно так — как «расширенный вариант» — его трактует Ю. Ю. Авали-ани, приводя этот оборот вскользь при типологическом анализе английских, немецких и французских сочетаний со стержневым
словом «нос».
Есть фразеологи, однако, которые считают, что развитие этого оборота шло в прямо противоположном направлении. Для Н. И. Астафьевой этот пример—одна из бесспорных иллюстраций положений А. А. Потебии о том, что поговорки образуются «сгущением» больших по объему сочетаний. Вешать нос на квинту, по ее мйению, — исходное сочетание, которое, после опущения слов на квинту, превратилось в более краткое — вешать нос. При этом значение всего фразеологизма сохранилось, поскольку компонент на квинту был «ослабленным». Самостоятельно к подобному выводу приходит и Ф. Г. Гусейнов: «Последний компонент структурной формулы (т. е. на квинту. — В. М.) утратился, — пишет он, — и утвердилась структура — повесить нос. Однако встречаются и примеры употребления фразеологизма в генетически полной форме. Это всего лишь свидетельство того, что в данном случае узуальная структурная формула исторически стала окказиональной, окказиональная же перешла в узуальную» (Гусейнов 1974,7).
240 всшдтъ нос и*квииту?
Ф. Г. Гусейнова, как видим, несколько смущает, что краткий вариант — вешать нос — более употребителен («узуален») в нашем литературном языке, чем его «окказиональный» источник с трехсловным составом. Отсюда и оговорка о переходе некогда более употребительной, по его мнению, формы вешать нос на квинту в менее употребительную, а вариантной формы вешать нос—в основную.
Итак, перед нами две прямо противоположные точки зрения: лч&ь вешать нос на квинту—источник образования фразеологизма вешать нос, либо вешать нос — исходное сочетание, давшее вариант вешать нос на квинту. Какая же версия верна?
Обратимся за ответом к фактам языка. Просмотрим прежде всего, в каких источниках употребляется оборот вешать нос на квинту и полностью ли он тождествен по значению его более краткому варианту (или источнику?). Его, по данным словарей русского литературного языка и восьмимиллионной картотеки 17-томного академического словаря, наши писатели начали употреблять лишь с XIX в. Поскольку примеров, отраженных этими источниками, немного, приведем их полностью:
«М о ш к и н: Вот скоро мы на свадьбу так отправимся, Филипп... Да что ты это нос на квинту повесил?
Шпуньдик со вздохом'. Ничего, брат, теперьполегчило» (И.Тургенев. Холостяк);
«Как бы то ни было, одного-двух неудачных представлений совсем недостаточно, чтобы вешать нос на квинту и не спать всю ночь» (А. Чехов. Письмо к О. Л. Книппер, 4 окт. 1899); «Теперь возьмите машину и отправляйтесь домой. Вам надо прийти в себя. И не вешайте носа на квинту» (Л. Шейнин. Дебют).
Характерно, что это выражение почти не записано в народных говорах. В словаре В. Даля его нет, хотя само слово квинта толкуется довольно обстоятельно, а в другом месте приводится оборот повесить нос. Лишь в 1892 г. оно записано в Воронежской губернии —нос на квинту апусьтил с примечанием «говорится также о пьяном» (Сл. Грота — Шахматова IV, 3,722).
Сопоставление интересующего нас оборота с фразеологизмом вешать нос показывает, что последний употребляется в русской литературе намного активнее и гораздо раньше, чем его более пространный «источник». Так, мы находим его у И. А. Крылова, Д. Давыдова, К. Ф. Рылеева, А. С. Пушкина и многих других писателей. Приведем лишь несколько примеров:
241 >ЕМАТЬ Ж* НА KIHHTY?
«Я, отвечал Барбос, Хвост плетью опустив и свой повеся нос, Терплю и холод, И голод» (И. Крылов. Две собаки); «Что ж ты, собака, Повесил нос? Хватай, собака, Голодный пес» (Д. Давыдов. Голодный пес); «Ну, пришибет бедою, разразится горе над головой, — поневоле заплачешь и повесишь нос» (А. Герцен. Кто виноват?); «Все чувства в Ленском помутились, И молча он повесил нос» (А. Пушкин. Евгений Онегин).
Такая активность выражения повесить нос в языке классиков —свидетельство предварительной «обкатки» его в предыдущий период. И действительно, в XVIII в. можно найти немало вариаций этого оборота (Палевская 1980,223):
«Антип один. О господин Гремухин, господин Гремухин, или какая-нибудь печаль в твоей головушке, или какой-нибудь замысел. Ничего ты не говоришь... ходишь задумавшись, повесив нос» (Екатерина II. Имяиины Вор-чалкиной);
«Притираха:Я тотчас узнаю, кто кого любит. Это тотчас видно; хочется говорить разинув рот, и ничего не пробают, сидят повеся нос, потупя глаза» (Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений. Смешное сборище);
«Друзья взглянулись, поклевались, Вздохнули и расстались.
Один носок повеся сел;
Другой вспорхнул и улетел»
(И. Дмитриев. Два голубя)
Большая активность употребления оборота вешать нос по сравнению с вешать нос на квинту, как показывают контексты, весьма заметно отражается и на их семантике, и на их стилистической окраске. Первый производит впечатление более привычного, «обкатанного», шаблонного. Для сочетания же вешать нос на квинту характерна особая семантическая «добавочность», которая и придает ему своеобразие. Оно производит эффект неожиданности, ибо слово квинта разрушает видимую логику сцепления двух первых слов. Отсюда его ббльшая, по сравнению с вешать нос, экспрессивность, особая ироничность употребления.
Как видим, факты литературного языка не отражают никаких следов той исходной «узуальности», большей активности оборота вешать нос на квинту, которую пытается оговорить Ф. Г. Гусейнов.
Может быть, зти следы сохраняются в других языках?
242 ВЕШАТЬ HOC HA КВИНТУ?
Фразеологические источники дают на этот вопрос отрицательный ответ. Русскому выражению вешать нос на квинту находим соответствия лишь в двух языках — белорусском и польском.
Белорусские вешацъ нос на квшту ‘тужить, терять надежду’ (ГЛЯ, 44) и нос повесиць на квинту ‘упасть духом, опуститься’ (Никифоровский 1910,204) отражены пока лишь двумя источниками, в то время как звесщь (апусцщь) нос можно найти почти во всех белорусских словарях. По-видимому, и здесь это выражение представляет собой вариант—Просторечный и диалектный—более краткого вешацъ (звесщь и т. п.) нос, вошедшего в литературный язык.
Еще показательнее польский материал. Первая литературная запись оборота spuscic (zwiesic) nos na kwintQ здесь довольно старая — 1756 г. (NKP II, 649). Однако менее пространный вариант — spuscic (zwiesid) nos известен польскому литературному языку намного раньше: он употребляется уже писателем Реем в 1562 г. (см. там же). Следовательно, и в польском языке оборот с «квинтой» — не что иное, как более пространный вариант исконно двучленного zwiesid nos.
Именно такое решение подсказывают и многочисленные славянские соответствия фразеологизма вешать нос: укр. eiuiamu носа (nie), словацк. zvesit’ (ovesit’) nos, болг. провесвам нос, клюмна нос, с.-х. спустити (обесити, отомболити) нос, словен. obesiti (obmolkniti) nos и т. п. Характерны в этом плане и индоевропейские параллели, где «опущенный нос» также служит символом упавшего духа, подавленного состояния и т. п.: лит. nos; nukabinti (pakabinti, nuleisti, pakarti); латыш, nolaist (nokart) degunu; нем. die Nase hangen lassen, auf die Nase fallen; фр. baisser le nez; англ, to spite one’s nose и т. п. Можно вспомнить и ряд фразеологических антонимов типа поднять нос, задирать нос и т. п., которые также имеют двучленный состав в большинстве языков.
Эти факты, как кажется, не оставляют сомнений в определении линии развития оборота вешать нос на квинту. Ясно, что Он — развертывание, усложнение более древнего и более широкого по ареалу фразеологизма вешать нос. Подобные развертывания, кстати говоря, можно найти в русском и других славянских диалектах: смол, (повесить) нос под себя ‘впасть в уныние’, сиб. повесить нос на луну ‘зазнаться’, кашуб, zvesec nos meze nogi (букв, ‘повесить нос между ног’) ‘стать тише воды, ниже травы’.
243 ВЕШАТЬ НОС НА КВИНТУ?
В каких же конкретных обстоятельствах происходило усложнение формы и семантики нашего оборота? Почему именно слово квинта стало его конкретным «усложнителем»? Какова исходная мотивировка этого усложненного сочетания?
Известный популяризатор фразеологии Э. А. Вартаньян, оперируя лишь материалом русского литературного языка, весьма однозначно отвечает на эти вопросы. Основой исторического толкования оборота вешать нос на квинту для него служит слово квинта в значении ‘первая, самая высокая по тону струна у скрипки’. «Во время игры исполнитель обычно поддерживает инструмент подбородком, — пишет он,—и нос его почти касается вот этой ближт ней к нему струны. Чем не сходство с приунывшим, опечаленный человеком?» (Вартаньян 1973,169).
Это объяснение, несмотря на кажущуюся логичность, не учитывает конкретных языковых фактов и поэтому, как увидим ниже, не может быть принято. Прежде чем ответить на вопрос об исходной мотивировке оборота вешать нос на квинту, необходимо выяснить время вхождения в русский язык слова квинта и установить, какое именно из его значений могло стать основой сочетания.
Этимологические словари русского языка, к сожалению, не фиксируют слова квинта и не определяют источник заимствования. Семнадцатитомный академический словарь, тем не менее, регистрирует его с 1804 г.—по «Новому словотолкованию Яновского» (БАС, 5,918). С этого времени слово квинта отражается всеми русскими академическими словарями. Хронологические рамки появления его в русском языке можно несколько раздан^ нуты оно, по-видимому, проникло к нам уже в конце XVIII вД Важно,, что, по данным Е. Э. Биржаковой, Л. А. Войновой и Л. Л5 Кутиной, квинта было заимствовано именно как музыкальный термин. Это.терминологическое значение сохраняется и в современном языке: слово квинта обозначает не только самую высо-. кую струну некоторых музыкальных струнных инструментов, нр и пятую ступень от данной в диатонической гамме.
Буквальное значение латинского слова квинта (quinta) — ‘пятая’ (от quintus ‘пятый’). Это значение отражается и в других, более специальных, употреблениях этого слова, которые фиксируются
Ср. его регистрацию в «Хронолого-этимологическом словнике иноязычных заимствований» (к сожалению, без приведения исходной формы и даты первой фиксации): Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века: Языковые контакты и заимствования. Л., 1972- С. 369.
244 ****"веШАГЬ нос НА квниту?
некоторыми словарями: ‘пятый способ держать себя и шпагу при фехтовании’, ‘выход пяти номеров в одном ряду клеток карты при игре в лото’, ‘пятый образец (копия) переводного векселя’ и др.
В наш фразеологизм это слово, действительно, попало в самом известном, «музыкальном» значении. Однако его фразеологическое переосмысление шло совершенно иначе, чем предполагает Э. А. Вартаньян. Жалобный звук квинты, «самой тонкой струны на некоторых мусикийных орудиях употребляемой» (Словарь Академии Российской, ч. III, 1814), как нельзя лучше символизировал подавленность человека, «повесившего нос». Эта жалобность и утомительная однообразность звучания квинты широко используется композиторами для музыкальных характеристик:
«Едва ли возможно лучше и вернее звуками передать всю гнусную и трусливую душонку этого негодяя [Матуты]. Для этого Корсаков прибегнул к хроматизму и увеличенной квинте» (Ц. Кюи. «Псковитянка»); «...В allegro каватины “Там за речкой во слободке” слишком часто и резко обозначается квинта главного тона, что очень национально, но утомительно единообразно» (М. Глинка. Записки).
Естественно, что обладающее такой символикой слово квинта, расширив оборот вешать нос, значительно обогатило его экспрессией.
Русские источники, однако, не отражают всех этапов этого обогащения. Зато в польском языке они сохранились полностью. Здесь находим не только выражения spuscil (zwiesil) nos па kwintQ ‘спустил, повесил нос на квинту’, wrocil z nosem па kwint$ ‘вернулся с носом на квинте’, spadly nosy па kwint^ ‘упали носы на квинту’ и т. п., известные уже с середины XVIII в., но и обороты, где глагол «опустить» сочетается с «квинтой» без слова «нос»: spuszcz^kwint^ ‘опускают квинтой’, spuscil z kwinty ‘он опустился с квинты’, spuidl kwintq. nizej ‘он опустился квинтой ниже’ и др. Характерно, что последние фиксируются раньше, чем оборот spuScid nos па kwinty, — с XVII в. (первая фиксация — 1660 г.). Причем многие варианты этих оборотов полностью проясняют их музыкальную мотивировку: spuScil z basu па kwintQ ‘он опустился с баса на квинту’, poczawszy basem w poly kwinty urwad ‘начав с баса, оборвать на середине квинтой’, spuScil bas па kwintQ ‘спуститься с баса на квинту’, spuscil kwintynizej ‘спуститься квинтой ниже’ и т. п.
Таким образом, переход от высокого, резкого тона к совершенно низкому, а переносно — от излишней уверенности в себе к покорности или страху — вот смысл этой музыкальной метафоры.
245 ЗАЧЕМ ИШАТЬ нос НА wMwy?
Именно так объясняет происхождение оборота па kwintQ spuscid акад. Ю. Кржижановский, посвятивший ему небольшую заметку (Krzyzanowski 1975 1,80). В ней известный историк литературы и фольклорист, к сожалению, не касается взаимоотношений оборотов па kwintQ spuscic и spuscic nos — его интересует лишь происхождение первого сочетания. Однако приведенные выше факты проясняют это взаимоотношение. Сначала, вероятно, оба эти выражения существовали независимо друг от друга. Причем сочетание вешать (опускать) нос было более древним и гораздо более известным, чем появившаяся в XVII в. музыкальная метафора: ведь первый оборот известен не только всем славянам, но и многим европейским народам.
У этих самостоятельно родившихся выражений, однако, довольно быстро нашлись точки соприкосновения. Их сближало, во-первых, тождество глагольного компонента — spuscid, а во-вторых, близость переносного значения. Это сходство и привело к их контаминации—слиянию, взаимопереплетению, смешиванию. Во фразеологии, как убедительно показал А. М. Бабкин, такие переплетения — один из мощных источников образования новых выражений. Вклинившись друг в друга, выражения «повесить нос» и «повесить на квинту» (spuScic nos, spuScid nos na kwinto) обогатились не только по форме, но и по содержанию: новый фразеологизм «повесить нос на квинту» стал более ярким, экспрессивным, индивидуальным.
Как показывают факты, образование этого нового оборота произошло именно в польском языке: ни в русском, ни в белорусском нет сочетаний «повесить на квинту», «повесить квинтой» и т. п., которые могли бы стать основой описанной контаминации. Тем не менее в этих языках заимствование из польского легко вписалось в национальную фразеологическую систему: оно было воспринято как шутливое продолжение давно известных оборотов повесить нос и звесщь нос.
Кто хозя и н Сидоровой козы?
—Я буду тебе табак тереть, фразеологизмы с именем соб-
продолжал он, — богу молиться, ственным привлекают к себе а если что, то секи меня особое внимание. И это не слу-
как Сидорову козу. чайно: ведь имя собственное
А. П. Чехов. Ванька 0быЧН0 КОНКреТНО, ИНДИВИДуаЛЬ-но, единично. А раз так, то за ним должен стоять какой-нибудь конкретный эпизод, история, действующим лицом которой может быть носитель такого имени. Истории, связанные с мифологическими, библейскими, историческими и литературными именами, вошедшими во фразеологию (сизифов труд, каинова печать, шапка Мономаха, потемкинские деревни), хорошо известны. Значит, какие-то легенды или анекдоты скрываются и за такими народными выражениями, как куда Макар телят не гонял, показать кузькину мать или драть как Сидорову козу. Какие же именно?
Отвечая на этот вопрос, нельзя не увидеть, что конкретные источники таких поговорок часто отсутствуют. «Можно было бы представить себе, что в русском фольклоре некогда бытовали произведения (скорее всего — сказки), действующими лицами которых были Макар и его телята, Сидор со своей козой, Кузька и его мать. Затем эти произведения оказались забыты и утрачены, а персонажи перекочевали в пословицы и поговорки» (Бедный Макар и др. 1968, 116-118).
Действительно, в тех случаях, когда русская фразеология отт талкивается от какого-либо обычного, будничного имени (Андро-ны едут, валять ваньку, по Сеньке и шапка и т. п.), мы, как правило, не находим конкретного «исторического» рассказа, который бы объяснял происхождение оборота. Зато в изобилии встречаются пословицы и поговорки, по-разному использующие эти «простые» имена.
Немало таких пословиц и поговорок включает в себя и имя Сидор. С одной из них — На Сидора пока ни одна беда не пришла — связывал выражение драть как Сидорову козу известный историк русской фразеологии М. И. Михельсон. Правда, он делал это
247 1(10 ХОЗЯИН СИДОРОВОЙ козы?
более чем осторожно, в форме риторического вопроса: «Нет ли тут связи с Сидоровой козой?» (Михельсон 1901-19021,405).
Осторожность М. И. Михельсона понятна: из пословицы мы узнаем, что с каким-то Сидором должны случиться неприятности, но кто он такой и при чем здесь его коза—так и остается неясным. Более того, при обращении к фольклорным источникам выясняется, что составитель поместил в сборнике эту пословицу в искаженном виде. В рукописном сборнике «Древних русских пословиц» XVIII в., опубликованном Е. Р. Романовым, например, она записана как На Сидора-попа пи одна беда не пришла, В несколько ином варианте, да еще с характерным «дополнением», подчеркивающим церковный сан Сидора, находим эту пословицу и в сборнике А. И. Богданова (1741 г.): На Сидора-попа не одна беда пришла: все церковь покрали, все в колокол... Именно о попе свидетельствует и другая пословица, известная уже в XVIII в.: У Сидора-попа не одна беда, а две: дочь пристроить да жену уберечь. Следовательно, пока вместо попа у М. И. Михельсона—либо описка, либо одно из речевых искажений этой пословицы—вариант, записанный автором.
О поповской «профессии» Сидора мы узнаем и из другой древней поговорки: И в Сидоре-попе правды пет (А. И. Богданов). В какой-то мере можно предположить, что именно о таком Сидоре-попе идет речь и в двух других поговорках, из сборников А. И. Богданова и Е. Р. Романова: Сидор пьет—черт челом бьет; Сидорова правда — киселем блины мазаны (ср. также Это Сидорова правда да Шемякин суд). Встречается имя Сидора и в Древней поговорке Феофан с толком, а Сидор с волокном (сборники П. Симо-ни, Г. Г. Шаповалова), отраженной и В варианте Феофан с толокном, а Сидор с волокном (Сборник пословиц Петровской галереи, 1961. —ППЗ, 36).
Можно было бы привести немало подобных пословиц и поговорок из более поздних записей. Так, в словаре фразеологии народных говоров Сибири (ФСС, 168) находим поговорку «о беспричинной мелкой ссоре» — Сидор да Борис об одной дрались, лишний раз иллюстрирующую незадачливый характер Сидора. Такие пословицы и поговорки приводит Т. Н. Кондратьева, глубоко изучающая русскую фразеологию с именами собственными. Этот материал (выше мы приводили лишь наиболее древние записи оборотов, в основном не привлекавшиеся Т. Н. Кондратьевой) позволяет исследователю сделать следующий вывод о про
24g КТО ХОЗЯИН СИДОРОВОЙ козы?_
исхождении фразеологизма бить как Сидорову козу: поскольку в фольклорных источниках Сидор обычно характеризует «богатого, но скупого и мелочного человека», то в этом выражении «сказалось стремление мести Сидору: если он сам недосягаем, то пусть хоть его козе достанется основательно» (Кондратьева 1961,129).
Итак, загадка Сидоровой козы как будто разгадана: выходит, она была «козлом отпущения» и расплачивалась за недрбрый характер своего хозяина. Иное дело—загадка самого жестокосердного и недосягаемого для наказаний хозяина Сидоровой козы. Разгадать ее до сих пор пытаются многие.
При раскопках в Новгороде в слое последней чертверти XIV в. обнаружили несколько берестяных грамот-посланий некоего Сидора своим приказчикам. Он пишет, что люди обязаны платить ему, Сидору, деньгами, лососями и... козьим пухом. На основе этого археолог В. Л. Янин заключает: «Ну вот, теперь мы с вами знаем, что означает выражение “драть как Сидорову козу”\ Крестьяне одной из принадлежавших нашему Сидору деревень разводили коз и все ценное, что можно было от них получить, отсылали Сидору в виде натурального оброка. Вот только рога и копыта оставляли себе. Но на этот счет существовала поговорка: “Козьи рога в мех нейдут"» (Янин 1965, 151).
Значит, хозяин знаменитой козы — конкретное историческое лицо, новгородский помещик, дравший со своих крепостных семь козьих шкур вместе с пухом?
Заманчиво, но — слишком прямолинейно. Болгарский фразео-лог профессор М. Леонидова называет версию В. Л. Янина «не лишенным остроумия предположением», отказывая ей в то же время в праве на истинность (Леонидова 1974,115).
Иную «профессиональную» принадлежность нашего Сидора устанавливает Т. Н. Кондратьева, отдавшая исследованию переносных значений русских имен собственных всю свою научную жизнь. Как ни странно, Сидором, по ее мнению, оказывается... дворник! Но не привычный для нас блюститель дворовых территорий, а дворник в старинном, древнерусском значении этого слова—слуга феодала с возложенными на него различными административными и воинскими обязанностями. Странного в этом древнем значении ничего нет, ибо такой дворник — прямой родственник дворянину, связанному с двором своего феодала: «Дворники дворянъ и дЪтей боярскихъ въ города у казны и на башнЪ у вЪстоваго колокола днюютъ и ночують»—информации такого рода были харак-
249 КТО ХОЗЯИН СИДОРОВОЙ козы?
терны, например, для начала XVII в., когда дневать и ночевать означало ‘нести круглосуточную караульную службу’. Обороты Сидорова правда и Сидорова коза, по мнению Т. Н. Кондратьевой, связаны с родословной конкретно-исторических «дворников» Сидоровых —дьяков, тиунов, стряпчих и т. д., холопов князя великого (Московского или Рязанского) XV — XVI вв., которые были истреблены Иваном Грозным во время опричнины. Эти Сидоровы жестоко обирали народ, чинили над ними суд и расправу в своих конюшнях. Затем якобы переносно и любой жестокий человек, имевший власть и обиравший народ, мог получить кличку Сидор, например уже известный нам по древним пословицам поп, на которого навалились беды.
Выходит, сравнение с Сидоровой козой — чисто русский оборот, отражающий жестокосердные нравы наших средневековых «дворников».
Не будем, однако, торопиться с выводами о «чисто русском» колорите этого выражения—ведь его отмечают и белорусские, и украинские словари: лупщь як cidapaey казу, лупцювати як Сидорову козу. Причем было бы ошибкой думать, что в этих языках выражение заимствовано из русского. Уже в 1864 г., например, известный собиратель украинских пословиц и поговорок М. Но-мис записал в разных диалектах обороты о Сидоровой козе, причем в своеобразных формах и значениях: об1драв (облупив, надув), як Сидорову козу; набився, як Сидорово? кози.
За пределами восточнославянской языковой зоны выражение драть как Сидорову козу нс встречается; Однако это еще не означает, что образ нашего выражения—чисто восточнославянский.
Некоторые лингвисты в поисках мифологических аналогий с Сидоровой козой смело преодолевают огромные языковые и хронологические пространства. По мнению В. Н. Топорова, в частности, Сидор в этом выражении—«вырожденное продолжение Гро-мовержца (ср. сидор-маръя как обозначение гермафродита, возникшего, в частности, в результате брака брата и сестры, или иван-да-марья, название цветка, в который были обращены брат и сестра, вступившие в кровосмесительные отношения, а отчасти и Иванушку и Аленушку известной русской сказки), соотносимого в конечном счете с неудачной иерогамией первой пары—Громовержца и его жены» (Топоров 1983,97-98). В своей более ранней работе В. Н. Топоров относит выражение о козе не просто к Сидору, а к «Сидору Карповичу как вырожденной трансформации образа Гро-
250 К™ Х03ЖНН СИДОРОВОЙ козы?
мовержца-оплодотворителя и как травестированному в человеке образу козла» (Топоров 1978,429-430).
При анализе выражения забить козла я подробнее остановлюсь на невозможности подменять конкретно-исторический анализ фразеологизма мифолого-типологическими ассоциациями такого рода. Сейчас же ограничусь замечанием, что если бы зловредный Сидор действительно оказался гермафродитом—«вырожденным продолжением Громовержца», то его имя вписалось бы в историю не только русского, белорусского и украинского, но и других языков. Такого мы, однако, не наблюдаем.
До сих пор, выясняя происхождение этого оборота, мы практически сосредоточивались исключительно на имени Сидор, поскольку именно оно придает всему выражению индивидуальность, национальный колорит и какую-то, хотя и не вполне ясную, «сюжетность». Нельзя, однако, не видеть, что ядром этого устойчивого сравнения является все же не имя, а название животного. Посмотрим, насколько закономерно, что в этом обороте бьют именно козу, а не другое животное.
В русских народных говорах коза нередко ассоциируется с отрицательными свойствами характера, что отразилось во многих пословицах, поговорках и устойчивых сравнениях: Захочет сена коза — будет у воза; От прыткой козы пи забор, ни запор; Коню коза не ровень; к нему на вшивой козе не подъедешь; козия спесь; загниголовая коза ‘бойкий, непослушный человек’; как коза мостится на кровле, как коза лепится, как брянская коза вверх смотрит и т. п. Не случайно козу в уфимских говорах называли шайтановой скотиной (Даль IV, 619): в такой характеристике отразились все отрицательные свойства этой «коровы бедных».
Именно за эти свойства козе и достаются жестокие побои. В славянских указках, например, нередко можно найти эпизоды, где козу безжалостно «лечат дубиной» (Новиков 1974,229). Одна из общих восточнославянских угроз связана именно с козой: Отдам туда, где козам рога правят (Даль II, 131), укр. Послав туда, де козамроги правлять (Гршченко II, 264). Подобные угрозы можно найти и у западных славян. Так, в чешском языке уже в XVI в. употреблялось выражение dam, al koza di: femen (букв, ‘так дам, что даже коза скажет «ремень»’), а в современных говорах известен шутливый оборот koziho sena па zadek pfikladat (букв, ‘прикладывать козьего сена к задней части тела’).
251 1(10 Х03ЯНН СМД°УО>ОЯ КОЭЫ?
Одним из таких выражений, известных как восточным, так и западным славянским языкам, было и устойчивое сравнение, в котором коза была объектом наказания. В польском это wyrychtowai jak diabet kozQ или диал. wyfikol jak dioboi koze (букв, ‘избил, измолотил как дьявол козу’), в словацком языке, чешских и украинских (лемковских) говорах — drat’ (skopaf) ako financ kozu, kopat jak financ kozu (букв, ‘драть, колотить как сборщик налогов козу’), перевктияк фшанс козу ‘одурачить, обмануть’.
Весьма похожа на приведенные обороты поговорка северных соседей восточных и западных славян—латышей: pert ka kaimiuu azi, dirat (mizot) kS kaimigu azi (букв, ‘бить (драть, лупить) как соседскую козу’).
Как видим, на фоне приведенных фразеологических параллелей русское выражение драть как Сидорову козу уже не кажется столь оригинальным. Все эти параллели объединяются общим исходным образом, тождественным фразеологическим (переносным) значением и аналогичной сравнительной конструкцией. Различие лишь во владельце козы либо в лице, которое эту козу избивает. Причем только в русском, украинском и белорусском языках это лицо называется именем собственным — Сидор, в других языках — именами нарицательными: сборщик налогов у славаков и чехов, дьявол — у поляков, сосед—у латышей.
Впрочем, имя владельца или карателя козы могло быть иным и в русской народной речи: на Смоленщине давно, например, записан оборот сечь (лупить) как Антонову козу, связываемый со святочной песней об Антоне и его козе, над которой издевается хозяин (Кондратьева 1983,24)1. В пермских говорах известно также сравнение лупить как козу бренскую, где бренская—видимо, брянская. Да и коза порою заменяется иным объектом битья: кар. бить как Сидорову бабу, Волгоград, драть как Сидорову кошку. Понятно, что такие вариации — это лишь вторичное перевоплощение распространенного оборота. Они, однако, показывают, что связь нашей козы с, одним только поговорочным Сидором не столь уж жестка, как представляется на первый взгляд.
Эти факты, как кажется, позволяют реконструировать возможную историю русского оборота драть как Сидорову козу. Он возник на основе более древнего и потому более известного другим языкам устойчивого сравнения драть (лупить и т. д.) как козу. Об
’Ср. сравнение, записанное на Псковщине с иным значением: «Ну, тя-перь раздует миня ат гароха, как Антонову козу» (Холмский р-н).
252 1(10 хоз*ин смД°к>в°й козы?
этом свидетельствуют как уже приведенные славянские и латышские обороты, так и то, что и в русских народных говорах (например, орловских) известно «простое» сравнение — бить (лупить) как козу. К тому же и в нашем, и в других языках немало сравнений, где избиваемое животное — не коза: рус. бить как свинью (XVIII в.), чеш. tezat koho jako сара (букв, ‘стегать кого-л. как козла’), fezat koho jako Cikan kobylu (букв, ‘стегать кого-л. как цыган кобылу’) и т. п. Да и владелец животного обычно, как видим, не называется.
Значит, вначале была просто избиваемая кем-либо коза и потому возникновение нашего оборота вряд ли связано с каким-то конкретным рассказом (историей, сказкой, басней, анекдотом и т. п.) о каком-то конкретном Сидоре, которого столь настойчиво ищут этимологи. Гораздо важнее иное — что имя Сидор ко времени появления этого фразеологизма было ярко экспрессивным, окрашенным в отрицательные тона благодаря его употреблению в других пословицах и поговорках — о Сидоре-попе, о драчливом или скупом Сидоре и т. д. Оно как нельзя более подходило для расширения уже известной поговорки о козе. Как и в латышской фразеологии, в русских пословицах коза была животным, которое соседи колотили за потраву, ссорясь из-за этого друг с другом: Если хочешь с соседом поругаться — заводи козу. Фразеологическим символом такого соседа — соседа сварливого, всегда готового подраться и поругаться—и стал Сидор, уже зарекомендовавший себя отрицательно в других пословицах.
Такое расширение, «уточнение» древнего сравнения об избиваемой козе именем собственным сделало русское выражение более ярким, экспрессивным, колоритным. Однако ко времени включения этого имени в наше сравнение слово Сидор уже, по-видимому, потеряло признаки имени собственного, перестало быть единичным. Оно превратилось в общую отрицательную характеристику сварливого и драчливого соседа—словом, стало именем нарицательным, как имена «действующих лиц» в чешской, словацкой, польской и латышкой поговорках.
Имя Сидор в нашем фразеологизме в прошлом веке последовательно писалось с прописной буквы. Современные источники (академические словари, фразеологический словарь под редакцией А. И. Молоткова) кодифицируют его написание со строчной буквы. Разумеется, это орфографическое изменение не строится на какой-нибудь версии о происхождении оборота — оно лишь отра
253 1(10 Х03ЯИИ СЦОЕОвОЙ козы?
жает факт несоотнесенности слова Сидорова с конкретным именем собственным, факт превращения этого слова в имя нарицательное. Нойс точки зрения истории фразеологизма (если предложенное толкование верно) современное написание — это в какой-то мере восстановление «орфографической справедливости»: ведь имя Сидор и не было полноценным именем собственным в момент его включения в более древний сравнительный оборот.
Нё всех читателей, видимо, убедит такая точка зрения. После опубликования заметки о Сидоровой козе (Мокиенко 1977) я получил письмо от одного из любителей этимологических экскурсов из архангельской глубинки, пенсионера А. П. Переседова: «С интересом прочел о Сидоровой козе. А вы не допускаете, что тут Сидором и не пахнет? Сидорова образовано из “се Дурова коза”, т. е. или “вот глупая коза” из се — вот (церковно-славянское) или из диалектного то да сё. Это, вроде, и значило “это Дурова (дурная, глупая) коза”. И этот фразеологический оборот значил: бить (сечь) как дурную (нашкодившую) козу. А в устной речи из “се Дурова” стало Сидорова — фонетически ведь так получается... Да и коза могла быть женщиной. Ведь в говорах коза—непослушная, упрямая, ловкая, озорная, с причудами женщина».
Можно было бы вступить в диспут с автором письма и показать фонетические и семантические трудности, разрушающие его остроумную этимологическую выдумку.- Но я привел ее не для разительного ниспровержения, а для того, чтобы показать, сколь неожиданное число этимологических ассоциаций рождает фразеологизм, если нет строгого метода анализа языковых фактов.
Пусть читатель сам решает, какая из интерпретаций Сидоровой козы убедительнее. Мои аргументы — перед ним.
За что забивают козла?
Волга — река большая. Плывет М НОГОМУ УДАЛЯЮТСЯ иност-по ней пароход. Везет * * ранцы в России. И их реак-
туристов- Одни «забивают ция нередко заставляет нас заду-
козла», другие слушают музыку, маться над привычными вещами, «Неделя» явлениями, словами. Тех, кто интересуется русским языком, часто удивляют даже не сами слова, а их необычные (необычные, разумеется, для иностранного уха) комбинации.
Вот как рассказывал, например, преподаватель-русист из Чехословакии о поразившем его обычае москвичей: «В каждом дворике — стол с лавочками, каждый вечер переполненными мужчинами. Вдруг из их кучки раздается боевой клич: “Давайте бить козла!” Пусть друг животных не беспокоится: козла не видать, мужчины продолжают спокойно сидеть — и всего лишь... начинают играть в любимую здесь игру домино» (Kucera 1966,268-269).
Для чеха представление об этой формуле любителей домино вытекает из общности основного значения глагола bit ‘бить* в чешском языке и нашего бить ‘ударять, колотить’. Отсюда и несколько ошибочное воспроизведение русского оборота — не «Давайте забьем козла!», а «Давайте бить козла!»: ведь в чешском глагол zabit означает ‘убить’, а ударное значение, которое хотел сохранить при объяснении нашего оборота Ц. Кучера, полностью утрачено.
Впрочем, и для русского внутренняя мотивировка сочетания забить козла не менее загадочна. В самом деле, если задуматься: странное приглашение к столь мирной игре, как домино. Может быть, это и в самом деле рудимент какой-нибудь словесной формулы при заклании козлов в жертву во время игры в домино? Не случайно же у составителей шутливого «Толкового фразеологического словаря “Клуба Двенадцати стульев”» выражение забивать козла определяется как ‘браконьерствовать’: это—шуточный намек на убиение козла, который вполне может восприниматься русскими.
Напрасно, однако, мы будем искать подтверждения этой «романтической» гипотезе в исторических источниках, рассказывающих о домино, этой видоизмененной древней игре в кости. Да и ни в одной из европейских стран, где играют в домино, нет термино
25 5 U 410 ЭАБИНДРТ
логического сочетания, внутренняя форма которого соответствовала бы русскому забить козла.
В терминологии игроков в кости, правда, используются названия домашних животных, например собаки. Вот отрывок из письма римского императора Августа Тиберию: «За обедом, милый Тиберий, гости у нас были все те же, да еще пришли Виниций да Силий Старший. За едой и вчера и сегодня мы играли по-стариковски: бросали кости. И у кого выпадет “собака”, тот ставил на кон по денарию за кость, а у кого выпадет “Венера”, тот забирал деньги» (Светоний 1964, 62-63).
Первоначально у римлян й других древних народов игральными костями служили фруктовые косточки, ракушки или камешки, обозначенные различным числом очков. Шестигранные кости имели либо точки по числу очков от одного до шести, либо надписи со словесным обозначением очков: в таком случае бросалась одна либо две кости. «Собакой», о которой вспоминает император, назывался худший бросок, когда выпадала единица, а «Венерой» — лучший, когда играющий набирал все шесть очков. Такое метафорическое обозначение худшего броска при игре в кости, по-види-мому, — древнее культурное наследие: ср. греч. kydn ‘неверный ход’ и др.-инд. $vaghnin ‘профессиональный игрок, который делает неверный ход’, имеющие буквальное значение ‘собака’ (Фасмер III, 703).
Отсутствие подобной системы обозначения очков для русской игры в домино, где очки обозначаются числами, ифакт^что словом козел обозначается не количество очков, а сама игра, делает предположение о метафорическом пути образования выражения забить козла весьма шатким. Необходимо искать иное объяснение.
Его5 предложил известный специалист по славянскому и балтийскому языкознанию и мифологии В. Н. Топоров. Это объяснение исходит из посылки, что слово козел в русском обороте имеет «животное» значение; именно эта посылка дает ему возможность широких мифологических межъязыковых сопоставлений и аналогий, а также рассмотрения фразеологизма о «забиении козла» в одном коннотативном ряду с оборотом козла драть ‘петь козлом’, пороть как Сидорову козу, коза лупленная и т. п.
Немотивированность оборота забивать козла в современном языковом сознании В. Н. Топоров объясняет прерывностью старой традиции и изменением социальной среды бытования этого оборо-
256 ЗА мто ЗАБМ>АЮТ
та. Обе эти причины привели к «дрейфу» оборота от одного дето-ната к другому. Известный этимолог так идентифицирует исходный социальный «локус» сочетания забить козла: первоначально игра в домино была основным развлечением пожарных, ей предшествовала игра в козла, обозначаемая именно как забивание козла, т. е. его заклание. При этом автор ссылается на устное сообщение о старом обычае держать при пожарном депо козла {пожарный козел), который приносил счастье, был связан, по суеверным представлениям, с огнем и водой. Далее в очерке приводится интересный мифологический материал о связи Громовержца с козлом, делаются отсылки на мифы и обряды, связанные с козлом и козой, — прежде всего на обряды убивания козла у ряда народов. Соответствующим образом интерпретируется и мотив «зарезания козла» в сказке о братце Иванушке и сестрице Аленушке: этот фольклорный мотив и свертывается в дальнейшем, по мнению В. Н. Топорова, во фразеологизм забить козла.
Подводя итоги широкой мифологической интерпретации русского оборота, В. Н. Топоров так определяет основные этапы эволюции образа:
«...схема основного мифа (Громовержец поражает противника, Громовержец и козел), ее ритуальное воплощение (жертвоприношение козла, преобразующее поражение противника и имеющее целью увеличение плодородия), вырожденный обычай в практике пожарных и перенесение соответствующей фразеологии на игру (карты, домино), наконец, современное бытование выражения в условиях потери следов связи с лежащим в его основе образом и выработка новых значений» (Топоров 1978, 431).
Приступая к обсуждению выдвинутой В. Н. Топоровым этимологической гипотезы, можно было бы начать с указаний на дискус-сионность некоторых экстралингвистических фактов, положенных в ее основу. Так, требует обоснования утверждение, что игра в домино была занятием преимущественно пожарных: известно, что в России, куда она попала в конце XVIII в., по-видимому из Франции, ею увлекались разные слои городского населения1. Нет указаний на какую-либо «пожарную» специфику этой игры и в других странах Европы, где она весьма популярна. Можно было бы также усомниться в правомерности излишне широких мифологических экскурсов, используемых в этом очерке.
*Ср. у А. А. Фета: Дюпон: К Прокопу в домино хожу играть подчас. Дюран: Прекрасная игра — и развивает иас. (Дюпон и Дюран.)
257 ЗА ЧТО ЗАВИВАЮТ КОЗЛА?
Сосредоточимся, однако, лишь на лингвистических фактах. Насколько они соотвествуют той интерпретации, которую предлагает В. Н. Топоров? Рассмотрим эти факты с учетом реальной полисемии слов, входящих в состав нашего оборота.
Начнем с глагольного компонента. Значение ‘убивать, закалывать’, которое с уверенностью восстанавливает Топоров для исходной мотивировки выражения забить козла, не является для русского языка столь бесспорным, как может показаться. В БАС зафиксировано лишь три значения этого глагола—‘начать ударять, стучать, колотить обо что-либо чем-либо’, ‘начать трясти, сотрясать’ и ‘начать стремительно и с силой вытекать откуда-либо’. Об этом же свидетельствуют и данные русских диалектов: из пяти различных семантических характеристик дифференциального «Словаря русских народных говоров» этому значению соответствует лишь употребление глагола забивать в бранных выражениях типа Чемирь конская тебя забей! Причем зафиксировано оио лишь в смоленских говорах, так же как и обрядовый термин забиць коляду ‘убить или зарезать к Рождеству скотину, особенно свинью’, отраженный в словаре В. И. Даля с пометой «смол.». Значение ‘убить’ для глагола забить характерно, таким образом, Для периферии русского диалектного массива, соседствующего с белорусской зоной, где глагол забить в этом значении употребляется столь же активно, как и в западнославянских языках.
Таким образом, если согласиться с интерпретацией В. Н. Топорова и при этом учесть диалектные факты, то нужно перенести «социальный локус» возникновения оборота забить козла из среды московских пожарных на территорию Смоленщины.
Еще более полисемантичен стержневой компонент нашего оборота. Пытаясь представить по возможности компактнее семантическую структуру слова козел в русских говорах, авторы «Словаря русских народных говоров» выделяют даже три омонимичные лексемы: 1) значения, связанные, по их мнению, с переосмыслением анималистической семантики (‘насекомое кузнечик’, ‘о бойком, живом человеке’, ‘игрок в лапту’, ‘перекупщик, прасол’ и т. п.); 2) «растительные» значения (‘гриб масленок’, ‘растение семейства зонтичных’); 3) значения, отражающие производственную сферу деятельности (‘козлы для пилки дров’, ‘мостки на козлах’, ‘навес для зерна’ и т. п.). В совокупности слово козел в русских говорах имеет 32 значения. Встает вопрос: так ли уж бесспорна при интерпретации оборота забить козла опофышшъ на одно из них?
258
Ареальное несоответствие семантики ‘убить, заколоть’ для глагола забить с предлагаемой В. Н. Топоровым интерпретацией показывает, что основания для сомнений остаются. С семантической стороны уязвимым местом гипотезы Топорова является переход обрядового терминологического сочетания в круг весьма поздней по происхождению «игровой» фразеологии. Действие «заклания козла» пожарными и процесс игры в домино настолько удалены друг от друга по ассоциативности, что этот семантический переход требует особой аргументации.
Нет ли, однако, в семантической структуре слова козел, зафиксированной диалектным употреблением, таких представлений, которые бы соответствовали той игровой номенклатуре, в которую вошла и игра в домино?
Языковой материал позволяет ответить на этот вопрос утвердительно. Из 12 значений, зафиксированных «Словарем русских народных говоров» для первого омонима слова козел, два вполне соответствуют «игровой» сфере: влад. и арх. ‘игральная кость при игре в бабки’ и ‘бабка-свинчатка’, вят. козлы ‘игра в бабки’. Это значение данного слова соотносится с целым рядом созвучных с ним лексем, употребляющихся в качестве бобочных терминов: козелок ‘игральная кость, бабка’; козлбк ‘надкопытная кост^ животного, употребляемая для игры; бабка’; козломасло ‘детская игра в шар’; козни ‘игральные кости, бабки’; самар. казла-мазла ‘детская игра в клюшки или дубинки’; козон, козанбк ‘бабка’; козонок ‘игральная кость, бабка’; кбзан—то же; козунбк ‘бабка-свинчатка’ и др. В некоторых говорах (например, новгородских) сочетание играть в козны имеет и переносное значение ‘праздно проводить время’, напоминающее нам городское «забивание козла».
Сочетаемость этих бабочных терминов с глаголом бить ‘сбивать, сшибать’ вполне естественна: суть игры в бабки состоит именно в выбивании, вышибании нескольких костяшек с кона, где они стоят. Ряд терминологических сочетаний типа бить бабки, бить буки, бить байдики, бить шлюхи и др. в свое время автором настоящего очерка рассматривался в связи с этимологией оборота бить баклуши (Мокиенко 1973). Структурно-синтаксически к этой модели полностью может быть отнесено и забить козла.
Любопытно, что такая сочетаемость для слов этого корня отражена и за пределами Восточной Славии, в регионе, генетически е нею сопрягаемом некоторыми славистами (например, акад. фр.
259 ЗА 410 ХОЗЛАТ
Безлаем): словенские обороты kozo biti (zbijati) и kuko biti (zbijati) обозначают детские игры, при которых играющие сбивают камнями поставленный стоймя предмет. Не правда ли, эти словенские выражения очень похожи на наше бить козла?
Предложенная интерпретация оборота забить козла позволяет непротиворечиво объяснить и наличие приставки за- в глагольном компоненте: в сфере терминологии игры в домино забить означает именно ‘начать игру’, что соответствует основному значению русского глагола — ‘начать ударять, стучать, колотить обо что-либо чем-либо’.
Сомнение может вызвать, правда, некоторое расхождение семантики в терминологическом ракурсе. Ведь тот ряд слов, который приведен выше, является в русской диалектной речи и просторечии обозначением костей для игры в бабки, а не в домино. Это сомнение, однако, также помогает рассеять обращение к конкретному языковому материалу. Для лексики данной терминологической системы весьма характерны семантические замещения. Так, слово шашки в народной речи служит обозначением как известной игры на разграфленной доске, так и игральных костей с очками. Во многих русских говорах это слово стало и наименованием именно бабочкой кости (Даль IV, 625). Показательно, что в некоторых современных говорах оно употребляется исключительно как термин игры в бабки. Аналогичным образом изменилось употребление слова сак (сачок): от термина шахматной игры (ср. шахи) оно прошло путь до бабочкой терминологии и стало в конечном итоге основой русского просторечного глагола сачковать. Примерно такая же семантическая связь характерна для устаревшего слова тавлея ‘игра в кости’ и диал. табала ‘игра в бабки’ и др. Не составляли в этом плане исключения и бабочные термины с корнем козл-, козн-: так, один из них — козандк—в вологодских говорах употреблялся не только для обозначения костяшки при игре в бабки, но и для названия бабки, использовавшейся вместо денег при игре в карты (СРНГ 14,73).
Сдвиг значения ‘костяшка для игры в бабки’ —>‘костяшка для игры в домино’ для слова козел подтверждается и словами кость, костяшка, которые тоже широко употребляются в обоих терминологических подсистемах. Слово костяшка даже широко проникло в литературный язык — прежде всего как обозначение игральной кости домино: «В дежурке конторы грузовых такси трое шоферов забивали “козла”... Они играли, зажав в согнутой ладони костяш-
26Q ЭА 410 UBHIADT K03AAY
ки, с треском выкладывая их» (Огонек, 1966, № 12); «В прокуренных комнатах отдыха бригад на узловой станции старые машинисты с треском стучали о стол костяшками домино» (Б. Полевой. Золото). В разговорной же речи сочетанию забить козла соответствуют его лексические варианты забить кости и забить костяшки.
Таким образом, лингвистический анализ выражения забить козла приводит к пересмотру гипотезы, выдвинутой В. Н. Топоровым. Слово козел, широко употребительное в русских народных говорах и просторечии в значении ‘игральная кость, бабка’, было адаптировано для игры в домино, появившейся в России относительно недавно. При этом оно сохранило сочетаемость с глаголом бить, характерную для целого ряда бабочных и городошных терминов. Но поскольку сам процесс игры был уже иной, то и семантика этого глагола получила иное направление — он стал ассоциироваться не со сбиванием, вышибанием бабок с кона, а с громким стуком костяшек домино о стол. Этим новым семантическим поворотом, по-видимому, объясняется и стабилизация одной приставочной формы глагола для этого сочетания: в сфере бабочной и городошной терминологии известны и другие приставки—например, сбивать бабки,баклуши и т. п.
Доказательством структурно-семантической и генетической общности сочетаний забить козла и бить баклуши со всеми славянскими общеязыковыми и диалектными параллелями (бел. 6i6iKi бщь, укр. байдики бити, пол. zbijad b$ki; рус. диал. бабки бить, шибал-ки бить, бинды бить’, укр. диал. гандри бити и т. п.) является и развитие его значения в сторону отрицательной оценочности. В. Н. Топоров верно отметил, что оборот забить козла постепенно перемещается из сферы игровой терминологии в сферу общенародной фразеологии, приобретая в современной речи переносное значение ‘попусту тратить свободное время’, ‘заниматься пустяками’ и т. п. Такова, как известно, и общая семантическая динамика многих славянских выражений модели типа бить баклуши или байдики бити.
В публицистике также уже запечатлены следы этого движения, как в негативной оценке самой игры как праздного времяпрепровождения, так и в приближении оборота забивать козла к фразеологизму со значением ‘бездельничать’. Причем наше выражение используется порой именно как укор пожарным, подменяющим свое основное дело «забиванием козла»:
251 ЗА ЧТО ЗАБИВАЮТ КОЗЛА?
«Пожары тушат не числом, а умением. К сожалению, об этом нередко забывают в лесничествах. Вместо того, чтобы в безопасное в пожарном отношении время заняться тренировкой, изучением возможных участков работы, лесная охрана и пожарные сторожа зачастую трудятся “по хозяйству” или развлекаются игрою в “козла”. Расценивать это следует как уклонение от служебного долга» (Р. Бобров. Лес просит защиты. — Огонек, 1979, № 29, с. 11); «— Просим скостить нам плановое задание! — Да вы в уме? — подивились в вышестоящей организации. — Под самый конец квартала! Где рань-ше-то были? — “Козла” забивали» (Н. Самохвалов. Мраморный дым. — Правда, 1987, 22 февр.).
Нельзя, разумеется, отрицать, что богатые коннотативные потенции слова козел не сыграли никакой роли в образовании фразеологизма забить козла. Именно живость ассоциаций анималистического плана, видимо, и явилась источником особой экспрессии этого сочетания, именно они, в конечном счете, могли заставить предпочесть его более нейтральному и менее яркому обороту за-бить костяшки. Но это уже влияние функциональной актуализации нашего фразеологизма, затемняющее исконные этимологические связи. Выявить последние помогло лишь обращение ко всей семантической структуре русского слова козел, зафиксированной в говорах, а также учет синтаксической модели, по которой это сочетание строится. Забиваемый козел, таким образом, оказался не чем иным, как козном—костяшкой, сбиваемой при игре в бабки.
Какой кол у двора?
— У нас с тобой, Артем, ни кола ни двора, горб да руки, как говорится, вековая пролетария.
Н. А. Островский. Как закалялась сталь
Выражение ни кола ни двора —, один из самых ярких и употребительных фразеологических символов бедности и бездомности в руоскомязыке. Его можно встретить как у классиков, так и у современных писателей и публицистов:
«Своего у Никитушки ничего не было: ни жены, ни детей, ни кола ни двора, и он сам о себе говорил, что он человек походный» (Н. Лесков. Некуда); «Какая, однако, здесь глушь! — думал землемер... — Ни кола ни двора. Не ровен час—нападут и ограбят, так и никто не узнает...» (А. Чехов. Пересолил); «Жили они [солдатка с сыном]... в нищенской лачужке и в страшной бедности — ни кола, ни двора, нн куриного пера» (Г. Успенский. Голодная смерть); «Незадолго до этого я женился. Жена моя, Римма Ивановна, тоже была из бедной крестьянской семьи, не имела, что называется, ни кола, ни двора» (И. А. Буянов. Тебе, жизнь);
«Золотуев:И вот выходит наш продавец на свободу. Садился — жена у него оставалась, интересная баба. На пятнадцать лет моложе его была. А вернулся — ни кола, ни двора. Ни одной близкой души» (А. Вампилов? Прощание в июне);
«Здесь мать родная Ангара, тут полсела—сплошные братья... Река — кума, река и сватья, коль ни кола и ни двора...» (В. Шлёнскнй. Приан-гарские поселки); «Люди в панике покидали жилище. По пояс в воде на руках несли детей, вывозили домашнюю утварь. Не имея, как говорится, ни кола, ни двора, Сумбат помогал другим, вплавь бросался на помощь, перетаскивая вещи, поддерживал стариков» (Г. Лебанидзе. Двор моего детства. — Правда, 1988, 4 сект.).
Такие контексты подсказывают буквальный, неметафорический смысл общеизвестных слов кол и двор. Почему именно их слияние привело к такому фразеологическому результату? Как они стали символами крайней бедности?
На этот вопрос языковеды не дают однозначного ответа.
Н. М. Шанский считает, что выражение ни кола ни двора — результат редукции многочленного сочетания ни кола, ни двора, ни милого живота, причем слово живот объясняется здесь конкретно-анималистически —как ‘лошадь’. Л. Г. Скрыпник в своей обобщающей монографии об украинской фразеологии также трактует
263 МАИ0< у а>оц?
оборот Hi кола Hi двора как «редуцированный вариант» несколь* ких пословиц и поговорок, в состав которых он входит: Hi кола, щ двора, niрогатого вола; Hi кола, Hi двора, пильки й ходу, що з eopim та в воду; Hi кола, Hi двора, увесь тут; Hi кола, ni двора, один арепький коток та на шигмотузок. Эта трактовка получила широкое распространение и встречается как в научных, так и в научно-популярных работах.
Гипотеза о редукции исходит из теории А. А. Потебни о последовательном «сжатии» больших единиц в меньшие при языковом развитии: басня «сгущается» в пословицу, пословица — в поговорку, поговорка — в слово. Во фразеологии, действительно, этот принцип активно «работает». Но не менее активен во фразообра-зовании и обратный принцип—«развертывания», эксплицирования более кратких единиц в большие, в частности, поговорки — в пословицу, басню.
Гипотеза Н. М. Шанского и Л. Г. Скрыпник предполагает образование одного и того же восточнославянского оборота из различных трехчленных (и более) «прототипов»» Их число можно значительно увеличить, обратившись к материалам народной речи. Так, в русских паремиологических собраниях и диалектных картотеках мбжно найти и такие варианты: ни кола, ни двора, ни пригороды; ни кола, ни двора, ни перегородки; ни кола, ни двора, ни куриного пера; ни кола, ни двора, ни ложки, ни плошки; ни кола, ни вола, ни села, ни двора, пи мила живота, ни образа — помолиться, ни хлеба — чем подавиться, пи ножа — чем зарезаться или (пск.) ни кола, ни двора, ни медного гроша.
Такие варианты похожи на экспрессивное развертывание двучленного оборота, какое встречается и у некоторых писателей. Любопытен в этом отношении отрывок из рассказа В. Острогорского «Маланья», состоящего из сплошной подборки пословиц и поговорок: «Глядь-поглядь, хоть и хороша была изба—смотришь, ноне пирогом подперта, блином покрыта; хоромишки — как горшки, стоят: ни кола путного, ни двора. Двор кольцом, ни вола, ни села, ни мала живота».
Легко найти и в современной литературе примеры «развертывания» нашего оборота. Особенно ярко такая возможность преобразования используется поэтом П. Антокольским. В стихотворении «Памяти А. Фадеева» он, «усекая» слово двор, одновременно нанизывает на оставшееся сочетание массу других символов «ничего»:
264 КАКОЙ кол у *BOfA?
Нет ни изданных книг, ни любовниц, ни славы, Ни жилья, ни угла, ни кола.
Лишь бы молодость старостью не заросла бы, Не смолчала бы, не солгала.
Как видим, поэт раздвигает рамки нашего оборота, «наращивает» его свободными сочетаниями с отрицанием. Это усиливает экспрессивность выражения, обновляет его автоматизированный повседневным употреблением Смысл. Не являются ли и более пространные варианты нашего оборота, приведенные выше, подобными преобразованиями? Преобразованиями пусть не поэтическими, но речевыми, а следовательно, в большой степени индивидуальными? Не являются ли они вторичным развертыванием двучленного оборота о коле и дворе!
Как видим, стабильным, неизменным стержнем всех этих вариантов остается лишь двучленное сочетание ни кола ни двора. Гипотеза о том, что оно — редукция, приводит к выводу, что каждый раз оно образовывалось заново из разных более пространных сло-вочетаний. Однако стабильность двучленной конструкции и вариантность многочленных свидетельствует именно об обратном развитии нашего выражения.
Такой вывод подтверждается лингвогеографически: ведь и в русском, и в украинском языках многочленные фразеологизмы имеют локальный, периферийный характер, часто производят впечатление окказионализмов. Двучленный же оборот известен на всей восточнославянской территории—в Белоруссии столь же широко распространено выражение ni кала Hi двара.
Первичность двучленного сочетания подтверждается и наличием в русском, украинском и белорусском языках массы отрицательных фразеологизмов именно двучленного типа: ни больше ни меньше; ни ложки ни плошки; ни плошки ни ложки; ни кошки пи ложки; ни скота ни живота; ни травинки ни былинки; ни кошки ни собаки; ни скрывища ни сбывища; ни дому ни лому; ни хижи ни крыши; ни угла ни притулья; ни под себя ни на себя; ни уса ни бороды; ни сохи ни бороны; ni б!льш Hi менш; Hi брат Hi сват; Hi в deepi ni в в1кна; Hi вдень Hi вноч1; ni впало ni сию; Hi грому ni myni; ni то ni се; Hi neni, Hi лави; Hi плуга id роли; Hi ножа Hi образа; Hi многа Hi мала; Hi дня Hi ночы; Hi вала Hi кала; Hi хаты ni лопаты; Hi былшкг Hi пьииюа; Hi тсьма niгрошы; Hiравы Hi щчарбы н т. п. Многие из них, как видим, имеют значение ‘ничего не иметь’.
Употребление именно такой синтаксической конструкции для выражения понятия «ничего» обусловлено как формально, так и
265
семантически. Именно два слова создают ритмическую или рифми-ческую гармонию, столь характерную для подобных оборотов. В то же время именно два слова могут служить своего рода полюсами законченности понятия «ничего». Неслучайно рамками такой двучленной конструкции объединяются обычно слова одного тематического круга.
Характерна ли тематическая однородность для слов кол и двор в нашем обороте?
Историкам фразеологии ка?кется, что такой однородности нет, если понимать слово кол в его обычном значении ‘заостренная палка’. Деревянный кол не мог быть, по их мнению, символом крайней бедности в сочетании со словом двор. Отсюда усиленные поиски другого, более близкого к «дворовому», хозяйственному, значения этого слова.
Такое толкование для слова кол находит этнограф XIX в. А. Борзенко. В 1877 г. в Рязанской губернии он записал слово кол в значении ‘полоса пахотной земли шириною в две сажени’. С. В. Максимов, автор известного собрания народных русских оборотов, целиком принимает это объяснение, подробно цитируя очерк А. Борзенко. Благодаря широкой известности и популярности книги С. В. Максимова это толкование приняли многие собиратели и исследователи русских пословиц и поговорок (Н. Ермаков, А. Субботин, И. Иллюстров, Н. М. Шанский). Приняли его и историки белорусской и украинской фразеологии. Как «историзм» значение кол ‘небольшой участок земли, надел около хаты’ трактует И. Я. Лепешев.
Известный исследователь и популяризатор украинской фразеологии Ф. П. Медведев переносит такое толкование на украинскую почву: «Своими корнями это выражение уходит в глубины диалектной, разговорной речи народа. В наше время словом кол мы называем заостренную толстую палку. С таким значением слово “км” употребляется и в современном украинском выражении “ш кола Hi двора”. Слово “deip”, с еще одним из составных компонентов этого образного выражения, естественно, не требует каких-либо комментариев. Совсем иное дело — слово — ‘кол’. Оно в нашем
фразеологизме пережило значительные изменения, переосмысли-лось. В далеком прошлом, а иногда и в русских говорах и сейчас слово “юл” имеет совершенно иное смысловое значение. “Kui” — это участок пахотной земли шириной две сажени. Следовательно, не мати кола — это значит ‘совсем не иметь пахотной земли’...»
266 в**01 |ЮЯУд>отдт
(Медведев 1977, 148). Далее следует цитата из сборника С. В. Максимова с очерком А. Борзенко и краткая оговорка, что «в последнее время некоторые ученые отрицают это традиционное толкование, особенно это относится к первому компоненту». Ф. П. Медведев имел в виду заметку автора этих строк в «Русской речи» (Мокиенко 1976), где интерпретировалась история русского выражения ни кола ни двора.
Если, однако, в русском языковом регионе еще реально отмечено значение ‘надел земли’ у слова кол, то в белорусском и украинском оно — лишь реконструкция, вызванная «обратной связью» гипотезы А. Борзенко. Ведь ни украинские, ни белорусские источники не отмечают «земельного» значения. Да и в русских диалектах они достаточно ограничены территориально — это ярославские, тамбовские, тверские, пензенские и свердловские говоры. Причем характерно, что обычно ощущается живая связь между значением ‘палка, жердь определенной длины, употребляемая для измерения земельных участков’ и ‘мера земли’. Получается, следовательно, ареальный парадокс: фразеологизм ни кола ни двора — восточнославянское (с выходом, как увидим ниже, в польскую ареальную зону и даже в литовскую) образование, а значение ‘надел земли’, к которому он возводится, —лишь локально ограниченный русский диалектизм. В истории славянской фразеологии такие случаи, как правило, исключаются, ибо в диалектах всей территории бытования оборота сохраняются какие-то семантические следы исходного образа.
Связь выражения ни кола ни двора с кол ‘полоса пахотной земли’ подвергалась сомнению уже в XIX в. «Едва ли можно на основании местного употребления слова жертвовать общеупотребительным его значением»,—справедливо писал по поводу этимологии С. В. Максимова известный знаток классической паремиологии И. Тимошенко (1897,54). Отталкиваясь именно от «общеупотребительного значения», киевский исследователь обнаружил для русского оборота ни кола ни двора древнегреческую параллель mede passalon katalipein ‘не оставить даже кола’, первоначально означавшую, по его мнению, ‘лишить крова, приюта (разорить все до последнего кола)’. Кол, как утверждает И. Тимошенко, следует понимать в этих выражениях как ‘дом’. ‘Ни дома, ни двора’ — таков, по его мнению, древний смысл нашей поговорки. Любопытно, что к такому же семантическому выводу приходит современная исследовательница М. В. Федорова, видящая в славянском
2в7 им—кмудмт
кол мансийское (sic!) заимствование: мане, кол—‘дом’. Ясно, что такое сближение — скорее игра вольных языковых ассоциаций, чем обоснованное этимологическое сопоставление.
В специальном очерке, посвященном истории оборота ui кола ni двора, Л. Г. Скрыпник выдвигает весьма прозаическую, но, как кажется, наиболее близкую к истине трактовку, основанную на двух вариантах: Коло двора нечистама й кола (слово нечистама, видимо, надо читать как нечиста ма (ср.: нечиста-ма — Номис 1864,32). В этом случае это выражение буквально означает ‘Около двора нечистая сила имеет и кол, т. е. ограду’) и А вмого двора нема Hi кола. Эти варианты, по мнению украинской исследовательницы, показывают, что кы в поговорке может значить ‘толстая палка с заостренным концом, которую вбивают в землю, сооружая ограду около усадьбы’. «Не мог бедняк, даже имея какую ни на есть халупу, собраться со средствами на колья для ограды, — пишет Л. Г. Скрыпник. — Вот и выходило, что у него — “ш кола, Hi двора”» (Скрыпник 1968, 56-57). К сожалению, одновременно с высказанным предположением исследовательница, тем не менее, признает «убедительной» и версию С. В. Максимова, оставляя тем самым вопрос о происхождении украинского фразеологизма открытым.
Итак, перед нами три возможных толкования одного выражения. Какое же из них отвечает историко-этимологическим критериям достоверности?
Мы уже видели, что узкое распространение слова кол ‘надел земли’ в русских говорах противоречит признанию этого семантического диалектизма основой исходного образа выражения ни кола ни двора. Неприемлемы и толкования И. Тимошенко и М. В. Федоровой: значения ‘дом’ для слова кол в славянских языках и диалектах не зафиксировано, и эти авторы, по сути дела, искусств венно выводят его из общего фразеологического смысла поговорки ни кола ни двора.
Таким образом, остается вернуться к общеизвестному значению слова кол ‘шест с заостренным концом’, засвидетельствованному всеми славянскими языками. Как кажется, накопилось уже достаточно надежных языковых фактов, чтобы объективно доказать осторожно высказанное предположение Л. Г. Скрыпник.
Среди приведенных уже вариантов нашей поговорки встречаются и такие, которые подкрепляют «заборное»^ а не «земельное» толкование слова кол: рус. диал. ни кола, ни двора, ни пригороды
268 к**0* у ДВ0ГА7
(ни перегородки). Характерно, что И. Франко наряду с оборотом ni кала, ni двора, зафиксированным в Залесье и характеризуемым им как «старинная характеристика бездомного человека, пролетария», приводит в своем словаре и выражение ui до кола, ni до плота ‘неподходящий, не подходит’ (Франко II, 256). Значение оборота тут иное, но зато «перекличка» кола и забора — налицо. Эта же перекличка четко прослеживается и в русских диалектных выражениях, символизирующих крайнюю бедность: ирк. ни двора ни ограды; ни двора, ни огорода; бел. ni плота hi азярода; пол. ni kolka ni snopka ‘ни колышка ни снопика’ и др. Ср. также русское народное выражение У них в семье кол да перетыка ‘о крайней бедности’, где перетыка — ‘средние колы в изгороди’. Показательно, что такие варианты попадали уже в XVIII в. в русский литературный язык. Так, в пьесе П. А. Плавилыцикова «Бобыль» (конец XVIII в.) встречается вариант ни кола, ни двора, ни огороды: «У него ни двора, ни кола, ни огороды, пашни це пашет, земли не орет... шатается где день, где ночь». Наконец, важным подтверждением «заборной» ассоциации является литов-ская параллель ne j tvor^, ne j mieta (букв, ‘ни в забор, ни в пол’) ‘сделать что-л. плохо, неудачно, неуместно’. Есть в литовском языке и оборот nei tvora, nei mietas, буквально значащий ‘ни забора, ни кола’, а переносно — то же, что русское ни кола ни двора. Как и украинское Hi до кола, Hi до плота, они показывают активность фразеологического употребления компонента со значением ‘кол’.
В диалектах можно найти и немало поговорок, в которых именно кол, жердь для ограды выступает символом нищеты и бедности. Они образованы по разным синтаксическим моделям, но связаны общностью мотивировки: моек, кол к колу ‘ни кола ни двора’, ряз. голый колом ‘ничем’, к голому колу ‘туда, где ничего нет’, три кола вбито да небом покрыто, волог. ни кола ни рямотки ‘о крайне бедном человеке’, новг. Потеряется межа, так не достанется и кола; бел. Hi одной парканшы (т. е. жерди в заборе) Hi остался ‘ничего не осталось’. В украинском языке этот символ отражен в обороте святий Микола не поставить кола. Подобные примеры можно найти и в других языках — например, болг. ня-мам побит кол (букв, ‘у меня нет и вбитого кола’) и няма кол да побиеш (‘у него нет и кола, чтобы вбить в землю’). Эти славянские параллели естественны, ибо с кола у славян прежде и начиналась любая застройка какой-либо территории, и кончалось все—
269 цко|> ш у д|0ГАТ
при пожарах и набегах врагов. Так, в «Послании дворянина К дворянину» начала XVII в. употреблена следующая фраза: «не оставили ни волосца животца и деревню сожгли до кола» (Адри-анова-Перетц 1974, 73).
Важным аргументом в пользу расшифровки кола в нашем выражении как ‘заостренной палки’ является и семантическая «со-положенность» двора и такого кола сточки зрения истории русского языка. Известно, что древнерусское слово двор имело и значение ‘ограда, забор’ (Колесов 1986, 200-201), а слово ограда в некоторых говорах (особенно сибирских) до сих пор является и обозначением двора при крестьянском доме. Такая же сбалансированность семантики характерна и для употреблений слов кол и двор в разных жанрах русского фольклора. Вот один из типичных примеров — из так называемой докучной сказки: «Жил-был царь, у царя был двор, а на дворе был кол, на колу мочало; не сказать ли с начала?» (Афанасьев III, 305).
Ясно, что в таких случаях кол во дворе—это именно заостренная палка, а не участок земли. Это значение и стало основой образа двучленного оборота ни кола ни двора. Символом крайней нищеты на Руси, следовательно, было бездворье и беззаборье.
Чей нос подтачивает комар?
Тут дело решенное. Надо только D жизни образных выражений такой план сработать, нередки случаи, когда одно из
чтобы все вышло без заминки, слов, которые в них входят, начи-чтобы комар носу не подточил, нают понимать иначе. Это меняет м. а. Шолохов, тихий дон ассоциативные связи выражения, его первоначальная мотивировка забывается или резко смещается. Обычно это может происходить в том случае, если из нескольких образных сочетаний, в которые входило то или иное выражение, в литературном языке сохраняется лишь одно. Полный отрыв сочетания от фразеологической модели, его породившей, делает его «одновариантным». Возникают довольно произвольные объяснения мотивировки выражения, отражающиеся и на его употреблении в речи.
История выражения комар носу {носа) не подточит ‘не к чему придраться’ — одна из иллюстраций такого развития фразеологии. Синтаксическая модель этого сочетания довольно обычна, но зато образный прототип, лежавший некогда в его основе, в литературном языке уже не столь определен. Возможность различного понимания слова подточить размывает исходную образность. Довольно характерно в этом отношении употребление оборота В. Маяковским в стихотворении «Служака» (1928):
Появились , молодые
превоспитанные люди — Мопров знаки золотые им увенчивают груди.
Парт-комар из МККа не подточит парню носа: к сроку вписана строка проф-и парт-и прочих взносов.
271 WtllfgWIOTAtrWIAFT
В употреблении В. Маяковским этого выражения привлекаем не совсем обычное управление: не подточит носа парню. Чаще? всего наш оборот употребляется без дополнения: «Ты при постов ронних людях чепуху-то эту [о происхождении человека] несешь... А ты умненько себя, голубчик, держи! Ты линию свою веди, да так, чтоб комар носу не мог подточить!» (М. Салтыков-Щедрин. Господа Молчалины);«— Золотая голова, — коротко отрекомендо-вал Собакин старика, когда тот отправился собирать гулявшую по деревне партию. — Конечно, пальцы в рот не клади, зато и дело знает так, что комар носу не подточит...» (Д. Мамин-Сибиряк. Золотая ночь); «Женские отрицательные типы нарисованы замечательно и удались ему до такой степени, что, как говорится, комар носа не подточит» (А. Чехов. Письмо); «— У меня, знаешь, так дело поставлено, что комар носу не подточит, — говорил он Филиппу Петровичу» (А. Фадеев. Молодая гвардия); «Получили мы заказ на деталь машины... и условие было: закалить деталь так, чтобы комар носа не подточил» (А. Чаковский. Это было в Ленинграде).
Отсутствие дополнения оправдано общим значением фразеологизма, которое грамматически равно законченному безличному предложению: «придраться не к чему», «дело чистое», «не придерешься». Но глагол подточить, допускающий в современном языке дополнения (ср. подточить карандаш [сыну]), сделал новаторское употребление В. Маяковского вполне возможным. Более того, это преобразование в какой-то мере свидетельствует о том, как интерпретировал поэт буквальный смысл оборота. Вероятно, как образ комара, «подтачивающего» чей-то нос.
Нетрудно увидеть, что основная причина такой интерпретации выражения—в нечетком понимании слова подточить. Характерно, что именно так еще в начале XX в. это слово комментировал известный лингвист и этнограф Д. К. Зеленин, пытавшийся расшифровать исходный смысл выражения при объяснении записанного им вятского глагола подтачивать'.
«О комарах: кусать. Ср. известную поговорку: комар носу не подточит. В песне...
...Мушки, блошки не кусают, не Ъдять, Комарики не подтачивают...»
(Зеленин 1903, 111)
Как видим, и опытный языковед усматривает внутренний смысл данного выражения в том, что комар «подтачивает», т. е. кусает, чей-то нос.
272 **** ** ШДТАНН1АСТ КОМ»?
С таким же пониманием можно столкнуться и в живой речи. Автор этих строк записал в 1972 г. в диалектологической экспедиции на Беломорье ряд диалектных преобразований интересующего нас оборота. Эти преобразования свидетельствуют о затемненности его внутренней формы: «Куда миня наслали к чорту ф санаторий пат Петразавотск, где комар муха не патточит»; «Ни камар, ни муха носа не патточит, как завмаппа денешки прикарманила»; «Так сказана, что и зуба не патточишь» (Беломорский р-н, д. Сумской посад).
Эти три контекста, записанные у разных носителей говора, отражают различную реакцию на не совсем ясную мотивировку выражения. В первом случае оно воспринимается почти как свободное сочетание, в котором глагол подточить имеет значение ‘кусать (о комарином укусе)’. Во втором—расширение компонентного состава с верным отражением основной фразеологической семантики оборота. В третьем же случае наблюдается замена лексического состава и эллиптирование слова комар. Причем последняя замена вызвана контаминацией нашего оборота с выражением точить зуб на кого-нибудь — отсюда и некоторое смешение фразеологического значения.
Такого рода интерпретации и искажения оборота комар носа (носу) не подточит в народной речи стали возможны благодаря своеобразному значению глагола точить, известному именно русским говорам, — ‘изъесть, изгрызть, искусать’. Характерно, что в фольклоре этот глагол довольно часто употребляется применительно к комарам. Так, в одной из песен, записанных на Архангелого-родчине, есть такие слова:
Государыня жена! Не до пиру, Комарики головушку источили
(СРНГ 12, 262)
Сочетается этот глагол и со словом нос. Здесь, правда, его значение еще более своеобразно — ‘щекотать, раздражать запахом’. Ср. в «Оде огороду» В. П. Астафьева: «Запахи моркови и укропа точат нос».
Посмотрим, верно ли такое понимание образности выражения, с которым мы сталкиваемся и в художественной, и в разговорной речи. Значение ‘кусать, покусывать’ для слова подтачивать, действительно, можно найти в народных говорах. Однако связывать именно с таким значением наш оборот нельзя. Этому противоречит целый ряд языковых фактов.
273 на НОС ПОДТАМНМП КОМА??
Прежде всего, уже давно он употребляется и в другом структурном варианте—с предлогом под: «А под Семенюту комар носу не подточит. Он изучил все тайны канцелярщины досконально» (А. Куприн. Святая ложь). Составители «Фразеологического словаря русского языка» под редакцией А. И. Молоткова, откуда взят этот контекст, считают данный вариант почти нормативным, помещая его наряду с морфологическим комар носу не подточил бы, И действительно: назвать его индивидуально-авторским нельзя, поскольку он записан в народной русской речи задолго до отражения в литературном языке. Так, у В. И. Даля он дважды зафиксирован в «Толковом словаре»: Под добрую сваху комар носу не подточит. Этот вариант показывает, что в нашем выражении речь идет именно о комарином носе, а не носе какого-то лица, которое комар «подтачивает», и что слово «подтачивать» здесь, видимо, имеет иное значение, чем ‘кусать’.
Характерно, что это выражение в народных говорах уже давно допускало варьирование компонента нос. Так, Ф. И. Буслаев еще в 1854 г. записал вариант тут и комар ноги не подточит в тамбовских говорах.
Особенно четко проясняется мотивировка оборота комар носу ие подточит, когда мы обращаемся к структурно-семантическим вариантам его исходной модели.
Аналогичный оборот с глаголом подточить, но с существительным игла, иголка широко известен в составе народных пословиц и поговорок: Люди схвастают — иглы не подточишь (или не подобьешь), мы соврем — целое бревно подсунешь!', смол. У багача иглы ни подточишь — у сё в небытах гнётца у казиный рох. Причем варианты глагола подточить у этого выражения предельно проясняют смысл этого слова: Под него иголочки не подпустишь ‘не придерешься’; Между женским да и нет не просунешь иголки', Промеж мужа и жены нитки не проденешь', Один соврет, хоть кулаками суй, другой соврет, иглы не подбить; ворон, иголочкой не подденешь ‘о добросовестно выполненной, аккуратной работе, не поддающейся критике’; иголки не подпустишь—то же. Подобное выражение можно найти в украинском языке: i гблки не тдсунеш. Ср. в иркутских говорах: Под собой не видит бревно, под чужим замечает иголку.
Аналогичную замену глагола подточить допускают в диалектах и выражения со словом комар. Чаще всего его «заменителем» является глагол поддеть, явно не имеющий ничего общего с кома
274- *** ** ВОИАГТ_______
риными укусами и «подкусываниями»: ворон., дон. комар носа (носом) не подденет, орл. комаръ носа не подденет ‘о чисто, хорошо сработанной вещи, качественной работе’, чтоб комаръ носа ие поддел (вести себя) ‘об осторожном, осмотрительном и образцовом поведении’. Ср. также бел. носам не падлезе, сопоставляемое А. С. Аксамитовым с укр. комар носа не тдточить.
Близки к этой модели и диалектные обороты: ирк. пальца пропихать некуда ‘о большой тесноте’, горьк. руки не проточить ‘о скоплении народа’, Волжск, (куйб.)руки не пропхиешь ‘о большом количестве народа’, Иванов, руки пропёхнуть негде ‘очень тесно (о большом количестве народа)’. Они находят аналогию с записанной еще в XIX в. поговоркой Давка, что руки ие проденешь или что локтем не продерёшься (ДП, 555), а также украинскими выражениями rnicuo, що й пальцем не прострихнеш, пальця шгде просу-пути и белорусским прабщъ пальца не можно (туров.).
Можно найти и более широкие образные ассоциации, породившие, в конечном Ьчете, переносное значение оборота комар носу не подточит. Это, прежде всего, масса оборотов с общим значением ‘тесно, плотно’, которые обычно выражаются представлением о невозможности протолкнуть, протиснуть что-либо из-за большой плотности: иголки некуда воткнуть, прост, спички (спичку) не просунуть, ни на волос не протиснуться, курице негде клюнуть, ново-сиб. негде клевнутъ, Иванов, уж не пройдет ‘о густой траве’ и т. п.; укр. шгде й голки впасти (встромити), бел. соломка не пралезе мЬ/с imi, лит. ne si&udo neperkiSi (neikxSi) и т. п.
Приведенные примеры дают возможность раскрыть значение глагола подточить в обороте комар носу не подточит. Здесь оно тождественно значениям ‘всунуть’, ‘с силой протолкнуть’. Образ выражения при таком объяснении понятен: первоначально здесь имелась в виду такая мастерская, точная подгонка двух бревен или досок друг к другу, что между ними нельзя было просунуть даже комариного носа или — если учесть тамбовский вариант — не менее тонкой комариной ножки.
Как же происходило затемнение этого фразеологического образа, родившегося в недрах народной речи?
Наблюдение за литературными вариантами нашего оборота показывает, что этот процесс проходил именно как постепенное сужение структурно-семантической модели, как отсев большинства ее возможных лексико-семантических вариантов, проясняющих народный образ. В просторечии и литературном языке XVIII—XIXbb.
Л 275 Ч|* Н0С nenraitlAET КОМА/?
было еще известно выражение иглы не подточишь {не заточишь, не подпустишь), попавшее в литературу из народной речи. А. И. Федоров находит его у П. А. Плавилыцикова («Бобыль»), подчеркивая, что ему не удалось его обнаружить ни в современном языке, ни у писателей XIX в. Словари и фразеологические сборники, однако, не фиксируя его в современном употреблении, довольно широко регистрируют фиксацию XIX в.—у М. Е. Салтыкова-Щедрина («Помпадуры и помпадурши», «Господа Молчалины»), Н. Макарова («Воспоминания»), И. И. Мельникова («На горах»), И. С. Тургенева («Новь»).
Более того, в литературе XIX в. можно найти и некоторые просторечные варианты этого выражения, дополняющие ряд конкретных воплощений данной фразеологической модели: не подточить булавки и пальца не подсунешь:
Если ты написал: «равнодушно Губернатора встретил народ», Исключу я три буквы: «ра — душно» Выйдет... что же? Три буквы не счет! Незаметные эти поправки Так изменят и мысли, и слог, Что потом не подточишь булавки! Да, я авторов много берег!
(Н. Некрасов. Газетная)
«Он у меня парень дельный; ему только мигни, он и понимает. А уж сделает-то что, так пальца не подсунешь» (А. Островский. Свои люди — сочтемся).
Вместе с тем уже во время проникновения этих выражений в литературный язык компонент подтачивать, видимо, не всегда понимался достаточно четко. Не случайно в уже упомянутом употреблении П. А. Плавилыцикова отражен морфологический вариант иглы не заточишь — по-видимому, результат неверного толкования его мотивировки.
Из этого вариантного многообразия в XIX в. постепенно и выкристаллизовался единственный оборот, активно употребительный и сейчас, — комар носу не подточит. Характерно, что структурно-семантическая взаимообусловленность между этим оборотом и периферийным сейчас иголки не подпустишь толкуется А. И. Федоровым уже не как лексическая вариантность, а как фразеологическая синонимия, а авторы «Фразеологического словаря русского языка» никак лексикографически эти фразеологизмы не соотносят. Былую варьируемость компонентов легко доказать диалект-
276 ЧЕ* Н0С Я°ЛТ<НМВАП' КОМЛУ?
ным материалом. Например, одна из популярных загадок о комаре подчеркивает, что у комара нос как спица, т. е. как игла: «Ни зверь, ни птица, нос как спица». Современные лексикографы, однако, правы, разделяя эти бывшие варианты как самостоятельные фразеологизмы. Это, в сущности, признание их полного исторического разрыва после утраты нескольких вариантных звеньев, связывавших исходную фразеологическую модель.
Одним из результатов такого разрыва и явилось затемнение образа выражения комар носу не подточит.
Таким образом, в конкуренции распространенных в литературном языке XIX в. оборотов иглы не подточишь — не подточишь булавки — пальца не подсунешь — комар носу не подточит победил последний оборот. И это неудивительно: ведь образность фразеологизма со словом комар обладает наибольшей яркостью и живописностью в этом ряду сочетаний. Комар издавна у многих народов был мерилом чего-либо незначительного по размерам. В псковских говорах, например, до сих пор сохранилось выражение с комариную лытку ‘очень мало’, находящее аналогию в украинских народных оборотах з комарину лидку, з комареву шжку, з KOMapie носок. На Руси издавна бытовало и народное сравнение как с комара сала ‘абсолютно ничего’: в рукописном сборнике пословиц В. Н. Татищева, относящегося примерно к 1736 г., встречаем, например, это сравнение в таком контексте — «Как в каморе сала, так в нем добра» (ППЗ, 54). Это сравнение находит отзвуки И у других славян: чеш. hadat se о komafi sadlo (букв, ‘спорить о комарином сале’) ‘спорить о пустяках’, poslat pro komafi sadlo nekoho (букв, ‘послать за комариным салом кого-либо’) ‘одурачить кого-либо’, ‘сделать кого-либо посмешищем’; пол. jak w komarze sadla ‘ничтожно мало’, kloci siq о sadlo komarowe (букв, ‘дерется из-за комариного сала’) ‘дерется из-за глупостей’.
Эта древняя народная символика, своеобразно преломившись в ряду сочетаний с глаголом подточить, сохраняется и в современном русском выражении комар носу не подточит.
По чему конь [еще] не валялся?
— А Фауст был ученый, а не аспирант. Можно сказать, академик. А у вас, Ричард, еще конь не валялся.
Все рассуждаете. Так вы и останетесь вечнозеленым деревом.
Д. Гранин. Иду на грозу
Фразеологизм конь еще не валялся уже с XIX в. бытует как в русском литературном языке, так и в живой речи. «Глухие» следы его, быть может, обнаружатся и ранее—ср. «деловую» запись 1609 г.: «Дал конскому мастеру от жеребят от валян[ь]я четыре алтын» (СРЯ XI-XVII вв. IX, 37); «И от
тех табунов чинится яровому хлебу толока и изъян немалой для того что безпрестанно лошади валяются» (СРЯ XI-XVII вв. XVIII, 2, 212); «Судити всякая конная и изгородное прясло, и коневая валища» (Пск. 1л. — Срезневский 1,225). Находим этот оборот в несколько искаженном виде в собрании старинных пословиц и поговорок Ф. П. Буслаева (1854, 97): еще и конь не валял (sic!), что также свидетельствует о его достаточной известности в русской речи XVII-XVIII вв. Как широко известное фиксирует его и В. И. Даль в своем словаре и собрании русских пословиц, приводя «миниконтекст» У нас еще и конь не валялся и снабжая его дефиницией— «дело и не начато» (Даль 1,161; ДП 2,67). Эту дефиницию—‘дело еще не начато, не сделано’, ‘до начала дела еще далеко’, собственно, повторяют все последующие лексикографы и, естественно, фра-зеографы (см., напр., Михельсон 19941,467; ФСРЯ, 205; ФСРЛЯ I, 316; Зимин, Спирин 1996,109). И действительно, такое значение хорошо выводится из контекстов, в которых оборот употребляется:
«“Авось проснулся Меркулов”,— подумал Морковников и пошел в гостиницу Ермолаева, ну у Меркулова, как говорится, и конь еще не валялся» (Мельников-Печерский. На горах); «На стройке, как говорится, еще и конь не валялся. Идет пока лишь кладка стен здания кормоцеха. Работает всего 10 человек—шефы, командированные....» (Ленингр.правда,1979, 5 сентября, с. 2).
Яркая и кажущаяся прозрачной образность и шутливо-ироническая окраска обеспечивают этому фразеологизму популярность. При всей его актуальности и активности в русском языке, однако,
278 110 "в** [ЭДИмша?
его сопоставление с другими славянскими языками обнаруживает определенную локальную ограниченность оборота. Уже в польском, который обычно весьма часто присутствует в «ареальном единении» восточнославянских фразеологических систем, этот оборот отсутствует, и лексикографы в лучшем случае предлагают его достаточно приблизительный и далекий от него по образности эквивалент —jeszcze [wszystko] w lesie (za lasem) доел, ‘буквально всё в лесу’ (WSF, 744).
Единственные структурные и образные соответствия этому обороту находим лишь в близкородственных языках—белорусском и украинском. В белорусском И. Я. Лепешев зафиксировал его в двух вариантах—конь не валяуся {не качауся) дзе и кот не валяуся {не качауся} дзе ‘где-л. ничего не сделано, не начато, не подготовлено’.
Вариант с «валяющимся котом» мог бы показаться случайным, окказиональным, если бы не его украинское соответствие. Причем, как это ни парадоксально, в украинском литературном языке отсутствует именно вариант со словом кшъ ‘конь’, но зафиксирован — со словом Kim ‘кот’ — р {ще й)] Kim не валявся ‘ничего не сделано, не подготовлено’ (Ужченко 2000,94).
Как видим, в рамках восточнославянского ареала наш оборот обнаруживает любопытную «контактность»: варианты с «конем» объединяют русский язык с белорусским, а варианты с «котом»— белорусский с украинским.
При погружении в диалектные и исторические источники эта картина, однако, несколько упрощается. Ни белорусские, ни украинские диалектные словари и паремиологические собрания XIX в. этого оборота (по нашим материалам) не фиксируют, а литературные и публицистические источники приведенных выше контекстов — позднего, послевоенного происхождения. Можно было бы предположить поэтому, что вариант с «котом»—фразеологическая инновация, но настораживает наличие его диалектных вариаций, например, вол. Kim не гужёвся или подол. Kim не женився, которое украинскими диалектологами фиксируется (сопровождаясь большим контекстом) даже как основной вариант к кип не валявся ‘ничего не сделано, не готово’ (Доленко 1975,151) и которое, как мы видели, записано и в луганских говорах, далеких от Подолья. Более того — в белорусских (гродненских) говорах это выражение со словом кот не только имеет и своеобразное структурное и образное развитие—- i кот кошку не валяу дзе и i кот кошку Не
2^2 ПО ЧЕМУ КОН» (ЕЦЕ) НЕ 0AJWJK»
валяуукаго, дзе ‘совсем не начиналось что-л.’, ‘ничего не сделано, не подготовлено’, — но и «в пандан» коту развивает вариант с названием заклятого врага кошек — собаки: i собака не валяуся у кого, дзе ‘ничего не сделано, не подготовлено’ (Даншов1ч 2000,92, 94). Следовательно, два варианта оборота еще конь не валялся, конь не валяуся (не качауся) кот не валяуся (не качауся), Kim не валявся можно признать восточнославянскими регионализмами.
Каково же происхождение этих восточнославянских оборотов?
На первый взгляд, оно лежит на поверхности, ибо образ фразеологизмов предельно прозрачен: известно, что лошади, кошки и другие животные имеют обыкновение кататься по поверхности земли, совершая своеобразную «гигиеническую» процедуру и очищая шерсть. При всей прозрачности образа его интерпретация историками фразеологии неоднозначна. «Очевидно, совете, русск.,—констатируют Н. М. Шанский, В. И. Зимин и А. В. Филиппов. — От повадки лошадей поваляться перед тем, как дать надеть на себя хомут или седло, что задерживало работу» (КЭФ, 1979, № 3, 72; Опыт, 49; Зимин, Спирин 1996,109—11). По мнению составителей академического словаря Грота-Шахматова, поговорка отражает русский крестьянский обычай давать лошади поваляться перед тем, как еезапрягать,—чтобы она меньше уставала во время работы. Различие между этими толкованиями нашего фразеологизма, как видим, невелико, хотя более старое, как кажется, гораздо концентрированнее объясняет, для чего лошадям необходимо поваляться до начала работы: это, так сказать, своеобразная «лошадиная зарядка» на весь рабочий день.
Материалистичность и прагматичность такой этимологии очевидна. Но белорусский и украинский варианты нашего выражения, можно сказать, «подрубают ее под корень». В самом деле, если лошадям нужно поваляться с утра, чтобы затем эффективнее работать, то зачем такая «зарядка» котам? Их ведь не запрягают и для крестьянских работ не используют. Значит, это утреннее валяние и коня, и кота—универсальный «зов природы», и связанный, и не связанный с хозяйственными нуждами крестьянина.
Катание по земле животных имело прежде весьма важную обрядовую символику и было опутано сетью суеверных, магических представлений. Вот примета, записанная в XIX в. В. И. Далем: «Собака перед домом катается (валяется)—гости будут» (ДП1984II, 232). Она перекликается с известной восточным славянам приметой об «умывающейся» кошке, которая тем самым якобы «намывает» гос
230 110 ЧЕМУ К0ИЬ [ЕВД НЕ ММЛОР
тей (Дмитренко 1997,37). А вот поверье, которое прямо относится именно к валяющемуся коню: «Знать, там и умереть, гдеко/л> валялся» (Даль 1,161; ДП 19841,153). Поверье загадочное, но уже никак не объяснимое с «производственной» точки зрения. Связь его с нашим выражением подсказывается уже самой структурой словосочетания. Чтобы разгадать эту загадку, следует выйти за пределы чисто лингвистических фактов и обратиться к фактам этнологическим, этнографическим. В глубокой древности, судя по славянской мифологии, славяне-язычники хоронили (сжигали) коня вместе с хозяином, и конь—транспортное животное—был связан со смертью как с путешествием на «тот свет» (В. Я. Петрухин — СМ, 229). Не случайно поэтому возникло у украинцев представление о коне как о перевоплощенном дьяволе (Дмитренко 1997,37), возможно, закреплявшее связь этого животного с «тем светом». С этой точки зрения место, где валяется конь, могло бы интерпретироваться как сакральное место, место обитания нечистой силы и потому опасное для человека.
Такую мифологическую интерпретацию в определенной мере также подтверждают некоторые восточнославянские поверья. Одно из них, известное русским и украинцам, — это поверье о том, что если ходить по тому месту, где повалялся конь, то появятся лишаи (СРС, 263; Дмитренко 1997,37), а отсюда и запрет на такое хождение. Чем же это поверье вызвано, в чем его истоки?
На этот вопрос также в определенной мере помогают ответить пословицы и поговорки о валяющемся, катающемся по земле коне. В разных вариантах они записаны довольно давно. Причем, что характерно, прежде была более известна не актуальная ныне поговорка еще конь не валялся (ср. ее приводимый выше искаженный вариант еще и конь не валял), а пословица, зафиксированная уже в XVII в. и отраженная в разных локальных вариантах многими русскими паремиологическими собраниями: Л) 4 конь валяется, туть и шерсть оставляется волог. ГдА конь валяется, туть и шерсть оставляется; Где конь катается, там и шерсть остается; Где конь поваляется, там и шерсть останется; Где конь катается, тут и шерсть останется; сезернорус. Где конь катается, там и шерсть останется; Конь где ни поваляется — везде клок шерсти останется; Где конь ложится, тут и шерсть валится. Любопытна полная «перекличка» этой пословицы с пословицами некоторых соседних тюркских народов (требующая специального изучения), ср. уйгурскую Ате/ини/ан и ердетук калиду (букв. ‘Где конь
_ 281 00 ЧЕМ*конь снио НЕ *А*л*а|?
повалялся, там клок шерсти оставит’) ‘Преступник непременно оставляет след’ (Уйгур, поел., 87). Переносный смысл этой пословицы вытекает из прямого: как повалявшаяся на лугу лошадь оставляет после себя клочья шерсти, так и совершивший что-л. человек оставляет за собой следы совершенного.
Но и здесь излишняя «материализация» содержания паремии чревата упрощением ее глубинного мифологического смысла. Чтобы понять его, надо обратиться и к символике шерсти, и к символике катания по земле.
Шерсть в народной славянской мифологии устойчиво связывается с негативными представлениями. Видеть шерсть во сне означает убыток, а иногда и болезнь. Если по нужде продавали скотину и при этом завидовали тому, кто ее купил, то чтобы скотина «не повелась» (т. е. не прижилась в новом хозяйстве), нужно было выщипать у нее клок шерсти, положить его в трубу или за печь и сказать: «Сохни, как эта шерсть!» (СРС, 510). Особую осторожность в обращении с шерстью народная мифология рекомендовала проявлять в Юрьев день (23 апреля по ст. стилю или 6 мая — по новому): «Не бери на Юрья шерсть в руки, не то волк скотину перережет» (СРС, 146); «Кто берет под Юрья шерсть в руки, у того волки овец перережут» (СРС, 510).
Запрет брать шерсть в руки именно на Юрьев день, как и многое в системе народных поверий, не случаен, поскольку он прямым образом связан с конем: этот день, как и день памяти Фрола и Лавра (18 августа) «считался “конским праздником”, на лошадях в это время запрещалось работать» (В. Я. Петрухин. — СМ, 228). Особое значение придавалось росе на Юрьев день в связи с общим культом св. Георгия у славян (СД, 496-498). Она якобы очень полезна для лошадей, которые в ней на заре катаются, — ср. восточнославянскую пословицу рус. На Юрья роса — не надо [коням] овса; бел. каню раса лепш, як ауса, укр. вол. Koneei роса — nintue eieca. Правда, другому домашнему скоту она противопоказана, поэтому знахари и знахарки, напуская порчу, приговаривали: «Будь здоров как Юрьева роса!», отчего, например, у коров пропадало молоко к слепли телята (СРС, 410). Как писал по этому поводу В.И. Даль, «ранняя утренняя роса, собранная до восхода солнца, вредна для скота, и ею пользуются злые знахари» (ДП, 880). Полезна, по народным поверья*#, Юрьева роса и человеку: она не только обладает целебными свойствами, йсцеляяя «от семи недугов», но и оберегает от сглаза. Отсюда и обычай кататься «для
_ 282 00 *****ЮЖЬ| (ИВД *** цииц>а|?
здоровья» на Юрьев дань по росистым нивам (СРС, 410). Этот обычай имел особое обрядовое значение в Украине и в Белоруссии, где в этот день во многих селах проводились обрядовые выходы в поле. Их целью были осмотры посевов и стремление уберечь будущий урожай от града и непогоды. Для этого участники обхода «кувыркались и перекатывались по зеленеющим всходам, что должно было, по поверью, способствовать урожайности хлебов» (Т. А. Агапкина. — СМ, 397). Видимо, на этой же мифологической основе возникли и диалектные обрядовые выражения — калуж. катать дьякона (дьячка) — «хватать дьякона, дьячка после молебна в Вознесенье в ржаном поле и, повалив его на землю, катать, чтобы снопы были высокие, тяжелые» и ряз. катать попа (пономаря) — «хватать попа, пономаря после молебна и, повалив их на землю, покатать, чтобы лен уродился лучше (пасхальный обычай)» (СРНГ14, 124). Возможно, разные аспекты таких действ отражают пословицы типа Маленький по земле не катается, а большой за небо не хватается или Кужлем кататься, за землю хвататься.
Акты календарной и окказиональной обрядности, в которых катание, валяние на поле людей или предметов имело «продуцирующую цель», зафиксированы в разных регионах Славии в различное время (Зеленин 1927,1 10; Терновская 1979,112-123; Обряды 1982, 70; Календарные обычаи 1977, 227; СД; 2, 447-480, и др.). Они выступали «в качестве метафор производительного акта» (Страхов 1986, 20-21; 1986а, 6; 1991, 16-17). Представление о целительной силе утренней росы было и прагматичным, «продуцирующим», и в какой-то мере эстетичным: «С росой связывались чудесные превращения из безббразного в прекрасное, древние обряды очищения. В дореволюционной Белоруссии сельские девушки катались по первой (юрьевской) росе нагими, чтобы сохранить красоту и отвести от себя злые чары русалок» (Супрун-Белевич 1987, 13). Положительная обрядовая семантика росы поэтому, естественно, имела более широкий хронологический (resp. календарный) и прагматико-обрядовый диапазон. Например, умывание ивановской росой (т.е. выпавшей в поле на Иванов день), да к тому же левой рукой, способно, по поверью, приносить выигрыш в карты (СРС, 410).
Валяние коня в юрьевской росе, следовательно, можно рассматривать как реликт обрядового действа, целью которого было очищение, придание этому важному для человека животному магической силы. Это отражено, например, в некоторых белорусских сказках: «Ну, вывяу яго на Юрьеву расу... конь лёг, пакачауся, устау,
283
страпянууся, i стала на ём залитая шарсщнка, сярэбраная» (Романов 1812 VI, 116). Аналогично и «кататьце» в трех росах жеребенка Ильи Муромца, отраженное в русских былинах. В онежской былине, записанной Гильфердингом, рассказывается о том, как богатырь катал-валял своего коня уже не в утренней, а в вечерней росе:
Выводил коня да на широкий двор, Катал-валял бурушка косматого Во той росы да во вечерняя.
(СРНГ 13, 124)
Ср. в современном пересказе:
Купи жеребенка породы простой, Какой бы он ни был ледащий. Пусть кормится вдоволь пшеном и сытбй, Да в росах валяется чаще.
А станет конем — и отправишься в путь Навстречу трудам и заботам...
(И. Ивановский.
Исцеление Ильи Муромца. -—
Нева, 1986, № 9, с. 197)
Можно привести и ряд поверий, связанных с валянием коня по земле, уже достаточно далеко отошедших от первоначальной «очистительной» функции, но, тем не менее, еще сохраняющих какие-либо реминисценции с нею. Таково, например, поверье, записанное более 100 лет назад в Херсонской губернии: «Если лошадь катается по земле и перевернется на спину, то значит — хозяин продаст ее с барышом, а если не перевернется, — то с убытком, поэтому хозяин, увидя, что его лошадь катается, приговаривает: “А ну, ну, чи вернутця гроши?”» (Ястребов 1894,9). А. Ф. Журавлев верно рассматривает это поверье в качестве одной из примет, которые указывают на прибыльность или убыточность покупки скотины. Такого рода факты свидетельствуют о большом разнообразию! мифологических ассоциаций, связанных с катанием коня по земле.
Привлечение этнолингвистических фактов дает, как кажется, возможность объяснить первоначальный образ фразеологизма еще конь не валялся не на чисто «производственной» основе, а на основе мифологизированных представлений о целительном валянии, катании коня в утренней росе. Это «действо»—своеобразный переход от ночи к дню, от темной ночи к солнечному дню, от «дьявольской» ипостаси коня к магически «очищенной». Первоначально этот оборот характеризовал не столько еще не начатое дело,
234 110 ЧЕМУ конь пш]ИЕ BAJtu°17
сколько временной период, который уже пред вещал появление света, наступление раннего «росистого» утра. Характерно, что в некоторых русских диалектах, например в говорах Мордовии, оборот конь не валялся сохранил именно такую, чисто временную, семантику — ‘очень рано, далеко до рассвета’ (СРГМ 1, 4; 3, 64). Показательно и то, что в народной речи можно найти подтверждение и мифологической, и «материалистической» стороны такой мотивировки. С одной стороны, раннее утро характеризуется здесь нередко оборотами, подчеркивающими резко увеличивающуюся «активность» дьявольской силы перед рассветом: диал. еще черти на кулачках не бились ‘очень рано’, пск. и черт на лошадях не гонял ‘ничего не сделано, дело и не начато’. С другой стороны, оно «маркируется» фразеологически появлением росы, полетом или пением птиц: бел. (туров.) шчэ iроса не спала ‘очень рано’, бел. й птах ня лятау ‘очень рано’, рус. еще и петухи не пели ‘очень рано’ и т. п. Таким образом, фразеологизм еще конь не валялся первоначально значил такое раннее время суток, когда конь (resp. дьявол, «оборотившийся» в коня) еще не прошел «очищение» росой. Забвение этой мифологической мотивировки и «прозрачно актуальная» роль коня в крестьянском хозяйстве переключили это значение в сферу не начатого кем-либо где-либо дела. Украинское и белорусское Kim не балявся, кот не валяуся—также в какой-то мере свидетельство забвения древнего восточнославянского поверия о предрассветном валянии коня в росистой траве. Они, скорее всего, образованы подменой забытого обрядового образа бытовым наблюдением за повадками другого домашнего животного — кота. Этой «подмене» способствовало как фонетическое подобие слов-компонентов фразеологизмов (кгнь—Kim, конь — кот), так и мифологическая «перекличка» двух активных анималистических символов. Яркость и шутливость этого обновленного образа стимулируют популярность выражения в современных украинском и белорусском языках.
Богу свечка или черту кочерга!
—.. .Иной думает у нас, что вышел в люди, а в самом деле он вышел в свиньи...
— Не люблю, не люблю, когда ты так дерзко говоришь! — гневно возразила t бабушка. — Ты во что сам вышел, сударь: ни богу свечка ни черту кочерга!
И. А. Гончаров. Обрыв
Выражение ни богу свечка ни черту кочерга ‘посредственный, нередко непригодный к делу человек’ широко употребляется в русском языке: «А что, ведь есть у нас и такие, которые, как говорится, ни богу свечка ни черту кочерга» (Е. Мальцев. Блики на море); «У меня там директор — тюлень, ни богу свечка ни черту
кочерга, вроде твоего начальника» (А. Рыбаков. Водители); «А я для кого и для чего живу? Для чего я вообще живу? И что из меня выйдет? Ни богу свечка ни черту кочерга, как говорил дед Макар» (П. Т. Журба. Александр Матросов); «Человечишка так себе—ни богу свечка ни черту кочерга. Жадный, любит копейку нажить, но умом слабоват» (А. Новиков-Прибой^ Цусима).
Понятность слов, как кажется на первый взгляд, делает предельно ясной «внутреннюю логику» образования этого оборота: все знают, что свечи ставятся Богу, чтобы замолить грехи, застраховать себя от всевозможных напастей в этой или «потусторонней» жизни. Черт и кочерга легко связываются в нашем сознании, вызывают ассоциации с адом, в котором черти разгребают кочергами горящие головешки. Не случайно кочергу в этом обороте как «характерный атрибут» черта трактует Н. В. Коссе к в своей содержательной статье о русских фразеологизмах с отрицанием. Такое мнение довольно распространено среди носителей современного русского языка. Вот что пишет, например, в своей докторской диссертации один из украинских фразеологов: «В сочетании с компонентом черт это (т. е. значение слова кочерга—‘клюка, однобокий железный костыль, прут, согнутый на конце для мешания и сгребания жара’. — В. М.) вызывает представление о мрачном загробном мире, в котором согласно мифологии черти поджаривают грешников, используя при этом кочерги для мешания жара» (Алефиренко 1989,315).
2^6 <0ГУ СВЕЧКА ММ ЧЕРТУ КОЧЕРГА?
Посмотрим, насколько это мнение оправдывается языковыми фактами.
Действительно, в литературе можно встретить немало рассказов о том, как ведьмы путешествуют на кочергах, клюках, кичи-гах, коковах или коковках. Но черта с кочергой ни в одном из источников мы не встретим. Он обычно изображается с другим «атрибутом» — железной рогатиной, которой и пользуется для подкладывания дров под котел с кипящими в смоле грешниками. Этот образ закреплен и пословицей: Поп с кадилом, черт с рогатиной.
Сомнение в том, действительно ли кочерга является атрибутом черта, влечет за собой и другое сомнение: действительно ли логична предполагаемая «внутренняя логика» оборота? Оно подкрепляется пословицами, где Бог и черт обычно имеют дело с кругом однородных предметов, например: Бог с рожью, а черт с костром (т. е. с сорной травой); Бог с рожью, а черт е куколью; Бог дает путь, а черт крюк. Логично ли на этом фоне, что Бог в нашем выражении получает источник света, а черт—предмет для разгребания золы?
Противоречие, замеченное нами, становится особенно очевидным при обращении к ряду фразеологизмов, образованных по той же синтаксической модели. Так, из фразеологических синонимов со значением ‘посредственная, заурядная личность’, использованных Д. Бедным в стихотворении «Макдональда учить, что мертвого лечить», все обороты оказываются внутренне однородными:
...Вы (Макдональд. — В. М.) — ни два, ни полтора, Ни «караул», ни «ура», Ни волк, ни овечка, Ни черту кочерга, ни богу свечка...
Тематическая соотнесенность компонентов фразеологизмдв аналогичной структуры в живой речи — закономерность: ни рыба ни мясо, ни то ни се, ни тпру ни ну, ни к селу ни к городу, диал. ни в сноп ни в горсть, ни ткалья ни прялья, ни дома ни на поле, ни мычит ни телится, ни в мех ни в торока и т. п.
Приведенный структурно-семантический ряд фразеологизмов, в который входит и наш оборот, наталкивает на мысль о возможности иного толкования слова кочерга, чем привычное—‘железный прут, согнутый на конце, для перемешивания топлива в печи’. В поисках этой возможности необходимо обратиться к диалектным вариантам фразеологизма ни богу свечка ни черту кочерга.
Один из них — ни богу свечка ни черту ожег встречается (хотя и очень редко) даже в художественной литературе: его
287
употребляют в своих очерках Казак Луганский (псевдоним В. И. Даля) и Н. С. Лесков в «Островитянах»: «Они дета делают... они, значит, и нужны, а мы... пусть черт сам разберет, на что мы? Ни богу свечка, ни черту ожег» (Н. Лесков. Островитяне); «Пропал ты и с головой своей! Ни богу свеча ни черту ожег» (В. Даль. Новые картины русского быта).
Этот вариант мог бы показаться случайным писательским преобразованием известного фразеологизма со словом кочерга, если бы его не записали и в диалектах — например, олонецких. Слово же ожег (ожог, ожиг, ожох, оженок И др.) записано на еще более обширной территории—от вологодских и ярославских до колымских говоров1. Основное его значение — ‘палка, заменяющая кочергу, которой мешают угли’, ‘обожженный на огне кусок дерева’. В калужских говорах записано и слово оженок ‘обожженная лучина, огарок от лучины’, которая, по суеверным представлениям, способна наводить порчу во время сваДьбы. Зная значение этого диалектизма, мы легко поймем и народные выражения типа перм. вертеться как черт на ожиге ‘о непоседливом, вертлявом человеке’ или Ставь и черту ожиг: не знаешь, куда угодишь.
В этом фразеологическом варианте весьма отчетливо отражено противопоставление двух источников света, играющих роль жертвоприношения: противопоставление Боговой свечи и чертовой обгорелой лучины. Еще более четко это противопоставление видно в третьем варианте фразеологизма ни богу свечка ни черту огарыш (ДП, 44). Ср. перм. огарок ‘недогоревший остаток лучины’ или арх. огарки ‘недожженная лучина’. Любопытно, что именно с огарком в русских деревнях совершались различные суеверные обряды, призванные отпугнуть «нечистую силу». Один из них, например, был записан еще в начале XX в. на Ангаре. Он связан с так называемой «Ивановской копной», т. е. копной из травы, накощенной в ночь с 23 на 24 июня (в Иванову ночь), сулящей, по поверьям, богатство и счастье: «Кто желает быть счастливым и богатым, пусть в “Иванову ночь”, говорится в Ангаре, накосит копну травы и сохранит до “страшных вечеров”. Рекомендуется пойти “тогды” к этой копне ночью, обойти вокруг ее “благосла-вясь” (с молитвой) и очертить круг “огарком” (от первой лучины, зажженной осенью): черти, которые с особым удовольствием избирают для своих сборищ “Ивановские копны”, взмолятся и за
Здесь и ниже использованы материалу «Картотеки словаря русских народных говоров» (С.-Петербург, словарный сектор Ин-та лннгв. исслед. РАН).
28g МГУ СВЕЧКА WW ЧЕЛУ КОЧЕГГАТ
отпуск из крайне неприятного для них положения пообещают исполнить все требования такого смельчака» (СРНК 12,56)-
Аналогичные ритуальные «действа» совершали в русских деревнях и с уже известным нам ожегом (синоним огарка). Об этом в середине XIX в. писал известный лингвист Ф. И. Буслаев. Он справедливо расширяет границы распространения этого слова (и суеверий, с ним связанных) и находит ему славянские параллели. «В южной Сибири, — пишет он, — доселе употребляется ожог в значении дубины, которой мешают дрова и угли в печи. Следовательно, ожог был не только оружием, но и древнейшим видом кочерги, которая первоначально также была не иное что, как корявая дубина, чем объясняется пословица: “старого леса кочерга". Как на кочерге обыкновенно ездили ведьмы, так и ожог почитался принадлежностью черта, потому в чешских изречениях говорится: d’abel stfevice па ozeh povSsil; cert ЬаЬё stfevice na hulce aneb ozehu podava (букв, ‘черт повесил башмаки на ожог’; ‘черт бабе башмаки на палке либо на ожеге подает’. — В, М. ). В одной русской пословице, у Снегирева, 297, говорится об ожеге, как жертве черту: “—ни черту ожег". Может быть, в преданиях об ожоге следует искать начала более мирному, в домашнем кругу утвердившемуся поверью о сожигании бадняка (дубового полена или ветки, которые, по религиозному обряду, сжигались православными сербами в сочельник.—В. М.) у сербов на праздник божитя. Переходом к бадняку служит чешская пословица: Kdo v peci byval, umi jineho tarn ozehem hledati» (Буслаев 1854, 7).
Такие поверья свидетельствуют о том, что огарок и ожег были «световыми» атрибутами дьявола. Ср. также старинную поговорку Лучинка с верою, чем не свеча?, где «деревянная свечка» оценивается лишь как второсортный заменитель восковой. При этом собиратель пословиц Н. Я. Ермаков, записавший эту поговорку, приводит и конкретно-историческое свидетельство, что в XV в. в Троицко-Сергиевской лавре во время всенощных богослужений употреблялись (наверное, как крайний случай) лучинки вместо свечей.
При обращении к славянским языкам мы убеждаемся в большой древности оборота со словом ожег. Польский фразеологизм, в состав которого оно входит, ani Bogu swieczki, ni diabhi ozoga, зафиксирован уже в 1527 г. Ср. и его варианты: ni Bogu swieczki, ni diabhi ozoga; ani Bogu swieczka, ani diabhi ozeg; и др. (NKP 1,146). Там же находим и вариант ni diabhi ozogu, соответствующий рус. ни богу свечка ни черту огарыш (пол. ogarek): ni Bogu swieczki, ni ludzim ogarka; ni Bogu Swieczki, ni diabhi ogarka.
239 МГУ СВЕЧКА ИЛИ ЧЕЛУ КОЧЕРГА?
Именно семантическая характеристика ‘предмет из дерева или другого материала, способного гореть’ объединяет другие варианты этой фразеологической единицы, известные в белорусском и украинском языках, где активно употребимы и слова, аналогичные рус. ожег и огарыш*, бел. Hi свечка Hi вожаг, ш богу свечка ni чорту галавешка, ш богу свечка ni чорту рожон; укр. ui богу свечку Hi nopmoei угарка (огарок), ni богов! св1чка Hi чортов! ожог (гожуг, ожуг), Hi богов! свгчка ni 4opmoei головешка (каганец^), ni богов! св!чка Hi лукавому ладан; полес. (укр.) не богу свеча не чорту вожала, ni богов! свгчка Hi чортов! огарок (ладан, шпичка, кочерга, рогачилно, надовбень, куриш-ка). Характерно, что, описывая последний ряд лексических замен в украинском языке, Л. Г. Скрыпник считает их «неупорядоченными с точки зрения лексической системы». Если учесть, однако, общее семантическое ядро, которое выделяется во всех этих словах, — ‘плохой, чадящий источник света’, то эти замены следует признать вполне закономерными, «упорядоченными»: шпичка—‘лучина’,рогачилно — ‘деревянный ухват’, надоывбень— ‘деревянная чурка’, куриш-ка—‘головешка’. Слова ладан и каганецъ (‘плошка, ночной светильник’) в этом плане не требуют комментария: они обозначают «курящие», неяркие источники света.
В других славянских языках фразеологизмы данного типа менее активны: чеш. i bohu svidku i £ertu oharek (букв, ‘и богу свечку и черту огарок’) н с.-х. продавати рог за свечу ‘совершать невыгодный обмен’, которое можно связать с нашими фразеологизмами лишь типологически.
Прямыми «родственниками» славянских выражений являются литовские и латышские — лит. nei dievui zvake, nei velniui Sake (farsteklis, pagaikStis, kaderga); nei dievui, nei huogui ‘ни богу ни человеку’, nei neptas, nei virtas ‘ни сырой ни вареный’ nei roges, nei ratai ‘ни сани ни телега’, nei tvora, nei mietas ‘ни забора ни кола’, латыш, neder ne dievam, ne velnam ‘ни боту ни черту’, ne dievam svece, ne cepts ne varits ‘ни богу свеча, ни сырой ни вареный’, ne zivs, ne gala ‘ни рыба, ни мясо’; ne zivs, ne gala, ne cepts, ne varits ‘ни рыба ни мясо, ни жарено, ни варено’. Любопытна и перекличка с французской идиомой donner une chandelle a Dieu et une au diable (букв, ‘дать одну свечу Богу, а другую—дьяволу’): она показывает, что общие ассоциации с «Божьей» свечой могли рождаться и у других народов и вместе с тем—что их конкретное языковое овеществление и семантика различны.
Подведем итоги ареального анализа фразеологизмов данного ряда. Этот анализ убедительно свидетельствует, что такие «вариан
290 6017 CBfHKA ММ ЧЕРТУ КОЧЕРГА?
ты», как ни богу свечка ни черту огарыш (ожег), более широки по распространению, чем ни богу свечка ни черту кочерга, известные лишь русскому, украинскому (причем, по данным М. Номиса, лишь на Звенигородчине, в Киевской губернии) и латышскому (в диалектах, где есть русские) языкам. На этом фоне фразеологический вариант с кочергой предстает как позднейшая восточнославянская замена более древнего севернославянского оборота, включающего в себя слова огарок и ожег.
Объясняя этимологию польских фразеологизмов, Юлиан Кржижановский дает этнографическую расшифровку противопоставления свечи и ожега\ ожегами, т. е. лучинами и другими примитивными деревянными светильниками, освещались избы холопов. Ес-тественно, что в противопоставлении свеча — ожег последнее получило отрицательные ассоциации.
Учитывая показанную выше закономерность, а не «неупорядоченность» лексических замен в нашем ряду, толкование Ю. Кржижановского можно перенести и на русский оборот ни богу свечка ни черту кочерга. Значение последнего слова, однако, следует понимать не так, как его толкуют современные словари. Кочерга могла стать полноценной заменой более древнего фразеологического ожега и огарка лишь в том случае, если она имела «деревянное» значение. И действительно, говоры сохраняют его: ряз. кочерга ‘дубинка с загнутым концом для игры в шары’ или ‘палка с крюком, которой играют в бук’, яросл. кочерга ‘клюка, палка клюкою’, урал. кочерга, кочерыжка ‘клюка, палка, посох’ и т. п. О том, что прежде кочерга была именно деревянной, свидетельствует и этимология этого слова, связанного с корень, коряга, кочера, кокора, кочережка и другими, образованными от корня *ker-/*kor- ‘резать’ (Шанский 1972, 208-209).
В хорошо известном фразеологизме, как видам, надежно «законсервировалось» древнейшее значение слова кочерга, забытое носителями современного русского языка. А ведь только оно проясняет внутреннюю логику этого оборота, которая строится на противопоставлении «Богова» и «чертова» источников света. Во всех славянских вариантах описанной фразеологической модели это противопоставление стало частью оппозиции «Бог»—«черт», являющейся центральной для всего фразеологического ряда. Более того, оно усиливает общую противопоставленность добра и зла, характерную для оборота ни богу свечка ни черту кочерга.
Истинным «атрибутом» черта в этом обороте является, следовательно, не железная кочерга, а чадящая головешка.
Куда вывозит кривая?
Большевиков вывезла кривая, — говорит, качая головой по поводу всех этих неожиданностей, обыватель. <...> Большевики на деле сложили руки в течение самых важных и решительных моментов предвыборной кампании в Петербурге, — и условия работали на нас.
В. И. Ленин. Значение выборов в Петербурге
В нашем языке немало выражений, имеющих в своем составе субстантивированное прилагательное, т. е. перешедшее уже в разряд существительных. В процессе своего развития они утратили определяемое существительное, что привело к забвению их первоначального смысла: отправиться на боковую, кричать во всю ивановскую, пойти на попят-
ную, нести околесную, пуститься во все тяжкие... К таким выражениям относятся и обороты с прилагательным кривой—куда кривая вывезет и на кривой не объедешь.
Что же подразумевается под кривой, которая куда-то кого-то вывозит, выносит или выводит при случайных и непредвиденных обстоятельствах—как это было в революционном 17-м году? Причудливая фортуна, счастливая звезда или извилистая дорога, олицетворяющая в нашем выражении удачу?
Заглянем в словари русского языка и в книги наших писателей. Выражения о кривой в них занимают не последнее место: кривая вывезет (вынесет) имеет значение ‘кому-л. повезет’, ‘кому-л. поможет случайность, непредвиденные обстоятельства’, а куда кривая вывезет (вынесет, выведет) — ‘так, как получится, как случится’. Вчитаемся в некоторые употребления этих оборотов:
«Но попробуем: может быть, кривая вывезет!» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Недоконченные беседы); «С которой бы стороны к нему подъехать? Мудрен ведь этот народ!.. Ну, да уж пущусь на счастье, куда кривая ни вынесет» (А. Н. Островский. Не в свои сани не садись); «— Лучше ни о чем не думать, — посоветовал борец. — Кривая меня не раз вывозила. Вывезет и теперь. На озере поговорим. Но идти надо все-таки осторожно» (К. Г. Паустовский. Бросок на юг); «— А помните, Мария Петровна, как вы мне ставили “плохо” по алгебре? — Да. За то, что ты не делал домашних заданий, надеялся, что кривая вывезет» (Ю. В. Бондарев. Простите нас!); «— Но ведь это же безобразие! Куда же мы идем? — ужаснулась Звонарева. — Посмотрим, куда кривая выведет, — вздохнул Сергей Владимирович» (А. Н. Степанов. Семья Звонаревых); «Погляжу вот, что еще будет, а то куда
292 **** ВЫВОЗИТ КГИВАЛ?
кривая ни вынесет... Хуже-то, пожалуй, вряд ли и там будет» (А. И. Левитов. Бабушка Масли ха).
Как видим, в примерах из литературы нет не только какого-либо конкретного существительного, определяемого прилагательным кривой, но и более или менее определенного намека на то, каким оно могло быть. Значит, оно было утрачено уже давно. Не случайно уже в конце XIX в. его даже и не попытался этимологически реконструировать М. И. Михельсон.
Зато оборот на кривой не объедешь ‘не перехитришь, не проведешь, не обманешь’ не остался без исторического толкования. В. И. Даль в своем «Толковом словаре» приводит его в двух полных вариантах: Его на кривых оглоблях не объедешь и На кривой лошади (или на кривых оглоблях) плута не объедешь. Еще до выхода в свет словаря В. И. Даля был зафиксирован вариант этой пословицы с кривыми оглоблями'. Суженого и на кривых оглоблях не объедешь (Буслаев 1854,142). Он перекликается также с очень давно известной пословицей о лошади: Суженого конем не объедешь (Жуков 1966, 446-447); олон. Суженого калачом не заманишь, да его же и конем не объедешь (ППЗ, 164); смол. Сваиго сужиныга пяшком ни абайду, на лошади ни объеду, птицый ни аблячу (Добровольский 1894, 8) ит. п.
Констатируя это варьирование, некоторые фразеологи предполагают, что выражение на кривой не объехать—результат эллипсиса пословицы На кривой лошади (на кривых оглоблях) плута не объедешь (Жуков, Жуков 1989,192). Такая констатация, однако, оставляет открытым вопрос об опущенном здесь существительном, как, впрочем, и о главном действующем лице самой пословицы, если принять во внимание частотность и широкое распространение слова суженый в ее составе. Конечно, и суженый может оказаться на поверку плутом, однако трактовать эти две пословицы как лексические варианты мешает различная логика пословиц о плуте и суженом.
Как видим, наличие пословиц, где «объезжание» на кривой имеет какие-то конкретные определяемые существительные, действительно, несколько приближает нас к загадке выражения, но в то же время ставит новый вопрос: какое именно слово — оглобля или лошадь — следует считать исконным в сочетании с прилагательным кривой*!
М. И. Михельсон отвечает на этот вопрос, «отталкиваясь» от существительного оглобли. Смысл выражения, по его мнению, в
293 ВЫВОЗИТ КРИВАЯ?
том, что «кривые, гнутые оглобли — удобнее» (Михельсон 1901-19021,602). Вслед за известным историком русской фразеологии, эту версию повторяют и другие. И не только повторяют, а иногда —прямо связывают с этой расшифровкой пресловутую «правильность речи»: «Правильнее было бы говорить “на кривых” (не объехать), — пишет В. 3. Овсянников, — так как в прямом смысле тут сперва говорилось о кривых, гнутых оглоблях, в которых лошади бежать легче, чем в прямых» (Овсянников 1933,159).
Посмотрим, правильно ли это «правильное» толкование. Вдумаемся в смысл оборота:
«Видят головотяпы, что вор-новотор кругом их на кривой объехал, а на попятный уж не смеют» (М. Е. Салтыков-Щедрин. История одного города); «Друг-приятель Колышкин, и тому как сказать, что плуты старого воробья на кривых объехали?» (П. И. Мельников-Печерский. В лесах);
«Р у с а к о в: А я, сват, недаром шестьдесят лет на свете живу, видел-таки людей-то: меня на кривой-то не объедешь» (А. Н. Островский. Не в свои сани не садись);
«Глафира видит, — прямо не выйдет, на кривой объезжать надо. Прикинулась веселой, будто обрадовалась» (П. П. Бажов. Золотые дайки); «Не-ет-с, он не глуп! Он даже о-очень не дурак... его довольно трудно объехать на кривой» (М. Горький. Кирилка).
Не правда ли, толкование М. И. Михельсона и В. 3. Овсянникова как-то не вяжется с употреблением оборота русскими писателями? &их контексты не укладывается представление о каком-то более удобном, а следовательно, и быстроходном способе передвижения. Скорее наоборот: здесь подразумевается нечто неполноценное, не совсем удачная уловка, слишком простой обман.
«Этого человека не так-то просто одурачить», «его на мякине не проведешь»—вот подтекст выражения. Поэтому более вероятным кажется предположение, следующее из записи В. И. Даля: исходной формой оборота было сочетание на кривой лошади не объедешь. Опираясь на В. И. Даля, к такому выводу приходит и Л. И. Ройзензон, считающий, что «субстантивированное прилагательное кривой, очевидно, возникло в обороте на кривой лошади» (Ройзензон 1977,30). И действительно, другие варианты русского фразеологизма подтверждают, что речь в нем идет именно о животном. Вот что замечает по поводу некоторых из них Е. И. Диброва (1979, 53):
«Вариантный ряд на кривой (на вороных, на саврасой, на козе) не объедешь — ‘не перехитришь, не обманешь, не проведешь’ —
294 вцвозит куиВ4>?
при синхронном анализе представляет асистемные связи лексических чередований. Восстановление исходного текста пословицы на кривой лошади (или на кривых оглоблях) плута не объедешь показывает, что субституции на (кривой) лошади — на вороных — на саврасой отражают ассоциативные родо-видовые связи слов. Появление субститута на коне объясняется синонимией; варьирование на (кривой) лошади — на козе — на свинье возникло на основе тематических связей слов — наименований животных. Личностный смысл вариантов на коне, на свинье, на козе появл яется из коннотативной зоны понятий, где конь характеризуется как благородное животное, свинья как грязное и неблагородное, а коза как упрямое существо. “Притом у него было какое-то темное предчувствие, что Дарья — его судьба, которой ни на каком коне не объедешь”. Д. Мамин-Сибиряк. Золото; “Будет ли конец вранью-то? Аль и в самом деле бабьего вранья на свинье не объедешь?” А. Мельников-Печерский. В лесах».
Этот вариантный ряд легко расширить, обратившись к сборникам и диалектным записям русских пословиц и поговорок: пск. на кривой кобыле не объедешь кого, кар. на сухой кобыле не объедешь кого — ‘не обманешь, не проведешь кого-л.’; смол. Сваиго сужи-ныга пяшком ни абайду, на лошади ни объеду, птицый ни аблячу с уже приводимыми параллелями; Женское збойство (т. е. своенравие, разбойннчанье) и на свинье не объехать; смол, як ня езди, пра судьбу сваю думай: яе канем ни абъедишь; Иванов, загнул, что на коне не объедешь, ирк. загнет, что на добром коне не объедешь — ‘о рассказывающем небылицы лгуне’; ирк. морда—на семером не объедешь ‘о человеке с полным мясистым лицом’; горьк. на вшивой козе не подъедешь к кому ‘не обманешь^ не проведешь кого-л.’.
Как видим, набор названий животных, входящих в такие пословицы и поговорки, довольно ограничен: лошадь, кобыкщконъ, свинья и коза. Характерно, что и в украинском языке находим подобный оборот: на коз1 не об Чдеш кого —- наряду с выражениями на KO3i не nid Чдеш до кого и на кош не nid Чдеш до кого — ‘не сговоришься, не добьешься согласия, уступки у кого-л.’.
Факт конкуренции лошади и козы в нашей поговорке, видимо, натолкнул некоторых этимологов на соотнесение ее с выражением на козе не подъедешь, «Оборот, вероятно, возник на базе выражения на козе не подъедешь», — констатируют Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. В. Филиппов. Последнее же объясняется этнографически — «от старинных увеселений, когда скоморохи и шуты, увесе
295 ****>ЦВ03|П
ляя помещиков и купцов, показывали им, в частности, езду на козлах. Перед очень важными и суровыми лицами скоморохи не решались выступить с подобным репертуаром» (КЭФ, 1979, № 5, 85).
Русский диалектный материал, где лошадь варьируется с такими ее синонимами, как вороная, саврасая, кобыла, конь и семеро [лошадей], однако, опровергает первичность козы или свиньи в нашем обороте. Подтверждение этому можно найти и в украинской паремиоло-гии, нацример: На чужому кош далеко fie поТдеш; На чужому кош не загдеш далеко; На чужому кош не налздишся, а чужим добром не нахвастаеш и т. п. Еще убедительнее реконструкция существительного лошадь или конь в русском выражении выглядит при обращении к фразеологии других славянских языков, особенно польского. Здесь находим пословицы, помогающие понять общий языковой контекст, в котором родились и русские обороты: Na zdrowym koniu na targ, na chromym do domu ‘На здоровом коне на рынок, на хромом домой’; Na lekowanym koniu daleko nie pojedziesz ‘На леченом коне далеко не уедешь’; Nie daj Boze, konia leczyd, bo na leczonym zle jezdzfc ‘He дай боже коня лечить, потому что на леченом плохо ездить’; Na chromym do domu jad^ ‘На хромом коне ездят домой’.
Славянские параллели помогают ответить и на другой вопрос, связанный с образом нашего выражения, а именно: как понимать в нем прилагательные кривой!
Кривая лошадь, по интерпретации Н. М. Шанского и его соавторов, —это «слепая и старая лошадь» (Опыт, 84). Кроме того, по их мнению, на семантику выражения оказал влияние и оборот кривая дорожка. Кривой в русском языке, действительно, может значить ‘слепой, кривоглазый’ (ср.: кривой на один глаз). Это, однако, не единственное значение прилагательного кривой. Оно широко распространено и в значении ‘хромой’—так употребляют его в Псковской, Смолен-ской, Калужской и Рязанской областях; ср. типичный контекст: «Ваня ранен в ногу, он был кривой» (СРНГ 15,245). В некоторых говорах, например смоленских, это слово характеризует больного, ненормального и обидчивого человека: «Кривому все криво» (там же).
Не правда ли, именно такое понимание прилагательного и соответствует славянским пословицам о хромом и леченом коне? Вот почему в нашем выражении речь, пожалуй, идет не о слепой и старой лошади, а о хромой, больной. Ср. и такие производные от слова кривой, как кривуля ‘кривой глазом, либо кривобокий, кривоно
296 **** >Ы>03ИТ KFNBA1? ____
гий человек’, кривуня, кривуха, кривуша — то же. В некоторых случаях эти значения записаны для одного и того же слова в одном и том же пункте. Так, диалектологи объясняют ласковое слово кривушечка во фразе «Поклюй, кривушечка!», отнесенной к курице, как «обращение к одноглазому или хромому существу» во владимирском говоре (СРНГ15,251). В нашем же выражении, судя по всему, это все-таки хромая лошадь.
Опущение именно слова лошадь, а не какого-нибудь другого, в нашем обороте становится особенно убедительным, когда мы обращаемся к целому ряду сочетаний, связанных с конным транспортом и бывших в свое время весьма употребительными: ехать на долгих, на почтовых, на переменных, на передаточных, на сдаточных, на перекладных, на своих, на обывательских, на перекидных, на сквозных, на простых и др. Имя существительное лошадях здесь легко восстанавливается, ибо именно оно было смысловым центром, вокруг которого сгруппировались все эти сочетания.
Варианты на кривой козе не объехать, на вшивой козе не объехать, на саврасой не объехать, на свинье не объехать и на кривых оглоблях не объехать на фоне этой активной и весьма прозрачной модели выступают как индивидуальные перевоплощения исходного образа сочетания, связанного с кривыми, т. е. хромыми, физически неполноценными, лошадьми.
Когда мне уже казалось, что загадка выражения объехать на кривой разгадана, и некоторые коллеги-филологи это признали (Ужчен-ко 2001,171), неожиданно появилась еще одна заманчивая этимологическая гипотеза. На Ш Международном конгрессе украинисгов в Харькове (1996 г.) исследовательница из Луцка М.В. Жуйкова выступила с докладом «Элементы архаичного языческого мировоззрения в некоторых славянских фразеологизмах», практически целиком построенном на интерпретации русского оборота на кривой не объедешь кого ‘кого-л. не обманешь, не не перехитришь, не проведешь’. Докладчица сделала любопытную попытку пересмотреть его этимологию, предложенную мною 20 лет назад. М. В. Жуйкова, признав сам факт эллипсиса существительного в интересующем нас обороте, нашла и другие полные его варианты, например [накрывых оглоблях и} на пегой кобыле не объедешь кого, употребленный русским писателем-этнографом С. В. Максимовым в книге «Крестная сила. Нечистая сила. Неведомая сила». При этом украинская исследовательница обратила внимание не только на реконструированное существительное —субъект действия («лошадь»), но и на его объект, т.е.
297 ИУДА ВЫВОЗИТ КРИВАЯ?
то существо, которое можно «объехать». «Всегдалиэготобьектбыл свободным и варьировался в зависимости от ситуации говорения?»— задает вопрос М. В. Жуйкова. Отвечая на этот вопрос, она отвергает предположение, что таким объектом мог быть плут из пословицы, зафиксированной В. И. Далем: На кривой лошади плута не объедешь. По ее мнению, этот объект — позднейшая вставка в первичную конструкцию, поскольку «общая семантика выражения базируется на представлении о полной невозможности осуществления указанного действия», — вставка, которая появилась после полного забвения исходной мотивации оборота.
Какова же эта исходная мотивация и первичная форма?
Исконным, древнейшим вариантом русского выражения М. В. Жуйкова считает не поговорку, а пословицу — Свое!дол! на кон! (конем) не об’!деш, которая имеется и в русском языке. Показательно, что русское выражение на кривой не объедешь кого не зафиксировано в украинском и белорусском языках, и тем не менее для реконструкции его этимона привлечение украинских паремий оказалось вполне уместным. Действительно, в свое время я не обратил специального внимания на «фаталистические» пословицы, хотя ряд русских и других славянских пословиц о «хромом» или «леченом» коне приводил. Кстати, почему-то этой, паремиологи-ческой части, моей статьи М. В. Жуйкова не учитывает, хотя она была, как мы видели, довольно важна для аргументации расшифровки фразеологизма. Но пословицы о доле, судьбе, которую невозможно объехать, действительно немаловажны для понимания глубинного смысла русской поговорки. А такие пословицы, в от-личие от «чисто русской» поговорки о кривой [лошади?}, широко представлены и в украинском фольклоре. Вот некоторые из них, извлеченныеиз паремиологическихсобраний М. Номиса и В. И. Даля (приводимые в порядке, данном М. В. Жуйковой): Правда прямо идет, не обойти ее, не объехать; Суженого не обойти, не объехать; Сужено-ряжено не объедешь в кузове; Суженого и кривыми оглоблями не объедешь; Судженого й конем не об’!деш; Дол! конем не об*!деш; Свое!недол! i конем не об’!деш; Що кому написано на роду, то й конем не об’!деш; Лиха конем не об'!хати.
Оправданно обратив внимание на «фаталистический» характер объекта таких пословиц, М. В. Жуйкова высказывает предположение, что и сам их субъект, якобы впоследствии ставший ядром русского фразеологизма, имеет мифологическое, а не реалемно-«гиппонимическое» содержание. Иными словами, по ее интерпре
298 К¥ДА вы>03МТ ири|АЯ?
тации прилагательное кривой в обороте на кривой не объехать кого первоначально характеризовало не кривую, т. е. хромую лошадь, а — «кривую силу», т.е. одну из ипостасей нечистой силы, черта.
Действительно, наименования чертей в русском и украинском языках образуются на основе эллипсиса существительного, причем иногда именное подчеркиванием «кривизны», косоглазия черта как одного из его характерных внешних признаков—ср. такие народные его эвфемизмы, как лукавый или косой. Известны (особенно в русских диалектах) и сочетания существительного сила с различными прилагательными в подобных наименованиях. Таковы приводимые М. В. Жуйковой (по материалам словаря В. И. Даля, а также с учетом данных А. Харитонова и Д. К. Зеленина) выражения: вражья сила; нечистая сила; неключимая сила; некошная сила; нелегкая сила; неладная сила; неистовая сила; темная сила; черная сила; неприятная сила; негожая сила.
Примеры такого рода можно продолжить — ср., например, яросл. греховбдная сила, которое употребляется и в переносном значении как бранное выражение; ср. также известные и литературному языку божья сила, крестная сила, силы небесные и т. п., которые обозначают иную, божественную ипостась «высшей силы». Некоторые из подобных словосочетаний, по справедливому замечанию М. В. Жуйковой, претерпевают усечение, подобное эвфемистическому эллипсису типа лукавый или косой: ср. нелегкая, неладная, некошная в сочетаниях типа Где его нелегкая носит? или диал. Некошная и горами качает, и людьми.
Исходя из этих реальных языковых данных, украинская исследовательница и реконструирует словосочетание кривая сила, которое, по ее мнению, и было первоначальным в русском обороте на кривой не объедешь кого. Этой гипотезе нельзя отказать ни в ориги-нально-сти, ни в логичности. Соответствует ли она всем лингвистическим критериям объективного историко-этимологического анализа фразеологии и паремиологии?
Некоторым из них, на первый взгляд, она соответствует достаточно определенно. Во-первых, она опирается на структурно-семантическую модель образования названий нечистой силы, которая действительно является активной в восточнославянских языках. Во-вторых, подобные наименования имеют тенденцию к эллипсису и созданию субстантивированных существительных. В-третьих, приводимый М. В. Жуйковой ряд русских и украинских пословиц о доле, суженом и т. п., которых нельзя объехать и на
299 >Ы>03МТ КРИВАЯ?
коне, как будто имплицитно подтверждает предложенную фаталистическую ассоциацию.
Однако при всей своей кажущейся убедительности, новая расшифровка старого русского выражения, тем не менее, принята быть не может. Причем, как увидим ниже, именно благодаря более внимательному «прочтению» украинских паремиологических фактов, близких к русским.
Характерно, что спустя несколько месяцев после публикации статьи М. В. Жуйковой в том же журнале «Цародознавч! Зошити» пог явился основательный очерк украинского историка и культуролога М. Глушко (1997), в котором ее гипотеза подвергается строгой критике. Автор известных работ о традиционном транспорте в Полесье находит в статье М. В. Жуйковой ряд серьезных фактических ошибок, например,—трактовку лошади как «чужого» для восточных славян домашнего животного, поскольку, по ее словам, «в лесах, в условиях бездорожья, конь как средство передвижения был практически не нужным», или утверждение, что «кривые оглобли были абсолютно не нужны как хозяйственный предмет». Этнографические данные, приводимые М. Глушко, демонстрируют некоторый субъективизм исследовательницы не только в изложении таких «материальных» фактов, но и в интерпретации фактов мифологических. «Генетические корни негативного отношения к коню у славян либо его отождествление с нечистой силой, — подчеркивает ее оппонент, — не могли таиться в степных народах или географических факторах, они—в природе самого объекта, коня» (Глушко 1997,59), мифологическое восприятие которого в подобном ключе восходит не только к славянской, но и более древней общности. А ведь вопрос, когда и что именно вызвало ассоциативную связь лошади (resp. и оглобель) со сверхъестественными силами, как справедливо подчеркивает М. Глушко, весьма важен для признания или опровержения новой гипотезы.
Украинский этнограф справедливо обратил внимание и на другой важный вопрос, который М. В. Жуйкова практически оставляет без ответа: «Почему разные варианты фразеологизма употребительны в народно-разговорной речи русских и отсутствуют у украинцев?» Он называет отсутствие оборота на кривой не объедешь в украинском языке в случае признания его «мифологической» интерпретации «нелогичным» (Глушко 1997,61). Ведь если мифологические коннотации коня с нечистой силой столь древни, то они (или хотя бы их ощутимые следы) обязательно отпечатались бы и во фразеологии украинцев, как это происходит обычно во
300 >ы>озит
многих фразеологических рядах демонологического происхождения (см. подр.: Мокиенко 1999,251-284). М. В. Жуйкова, правда, делает попытку объяснить эту странную ареальную лакуну, усматривая ее корни в... различных менталитетах украинцев и русских. У русских, по ее мнению, фразеологизм утвердился потому, что для них характерна «идея абсолютного, полного подчинения судьбе в жизненных коллизиях, а одновременно и пассивность, неумение и нежелание принимать решения и нести за них ответственность», в то время как у украинцев «фразеологизм с такой идейной нагрузкой не находил поддержки в их ментальности и потому либо вообще не возник, либо давно исчез» (Жуйкова 1996, 294). «Не больше и не меньше! — замечает по этому поводу М. Глушко, и добавляет: —Как украинец, я был бы очень рад такому общему выводу, но научная истина дороже» (Глушко 1997, 61). Действительно, от толкования М. В. Жуйковой веет лингвистическим «романтизмом» XIX в., когда за языковыми фактами с чрезмерной прямолинейностью пытались отыскать «дух народа».
Какова же все-таки возможная этимологическая истина об истоках оборота на кривых не объедешь?
Нужно сказать, что богатые и интересные материалы М. В. Жуйковой и факты, приводимые ее оппонентом, значительно облегчают приближение к ней. Реконструкция объекта действия в этом выражении исследовательницей кажется весьма значительным этапом на этом пути. Еще раз обратившись к этим и подобным пословицам, легко заметить, что они, во-первых, имеют общий ареал у восточных славян и у поляков, а во-вторых, практически не содержат эпитетов, подобных прилагательному кривой, к слову конь —> кшь: рус. Беду и конем не объедешь; Суженого ряженого конем не объедешь; южнорус. Суженого конем не объедешь и водой не обойдешь; укр. Дат конем не об'1деш; Свое!недолг i конем не об’!деш; Лиха конем не об'гхати: Суджоного й конем не об-'!деш; Лихо!долг конем не обЧдеш; Свое! doni i конем не об*!деш; Лиха i конем не обЧдеш и др. В-третьих, даже утверждение о тотальной «фатальности» первой части таких паремий противостоит факт их фиксации в украинском фольклоре со словами згаяний час, страчений час ‘потерянное время’ илиминуле ‘прошлое’: Згаяного часу i конем не доженеш; Строченого часу i конем не втймаеш; Минулого конем не здогониш. Ср. также пословицы: Час—не кшь: не тдженеш та й не зупиниш; Час — не в!л, його не залигаеш, известные и в белорусском языке.
301 **** ВЫВ03МГ
Первый факт свидетельствует о том, что пословицы о доле, беде, лихе, судьбе, суженом, напрасно потраченном времени и коне, как и полагает М. В. Жуйкова, действительно древнёе выражения объехать на кривой. Значит ли это, однако, что это выражение явилось результатом имплицирования пословиц?
Пожалуй, нет. Скорее, можно признать, что восточнославянско-польские пословицы о коне и русское выражение генетически разнонаправленны. Они могли возникнуть независимо друг от друга, чем и объясняется их столь разный лингвогеографический рисунок.
Русский оборот, как я уже говорил, развивался, отталкиваясь не от «фаталистических», а от бытовых, «народно-медицинских» ассоциаций, и из соответствующих пословиц типа рус. На леченой кобыле далеко не уедешь; На леченой кобыле недалеко уедешь; На леченой кобыле недолго ездить; На леченой кобылке (клячке) не далеко уедешь; На леченой кобыле не долго ехать; На леченой кобыле не долго ездить; На хромом коне далеко не уедешь; пол. Na lekovanym koniu daleko niepojedziesz и др. Характерны эпитеты «материализованного» типа и в украинских пословицах, близких приведенным русским и польским по структуре и — частично — по семантике: Одним конем все поле не об’&еш; Проханим конем все поле не об’-1деш; Прошеным конем все поле не об'ъдеш; Силуваним конем все поле не об’ъдеш; Сшним конем все поле не об’&еш; Солом'яним волом (конем) все поле не об’idem; Гарним конем далеко не за1деш (e’ideui); Мальованим конем далеко не вЧдеш.
Нужно заметить, что и в украинской паремиологии можно найти пословицы с подобной, хотя и не тождественной образностью, ср. зап.-укр. Кривий простого не догонишь или Кривого пса легко догнати. Показательно, что именно в этом ряду мы находим отнюдь Переконструированную, но реально зафиксированную одним из наиболее авторитетных русских паремиологов старую русскую поговорку На кривом коне не объедешь (Снегирев 1848,244). Эпитет кривой здесь, как видим, явно лишен мифологической подоплеки, ибо и леченая кобыла (клячка), и хромой или кривой конь в этих пословицах прямо связаны с их основной прагматической, «материалистической» функцией — ездой, которая замедленна во времени и пространстве вследствие их болезни. Это, между прочим, подтверждается и тем, что, несмотря на богатство семантики славянского корня *fcnn>, одним из самых стабильных его во всей Славии значений остается именно ‘хромой, одноногий’ или ‘одно-
302 ****1ы103ИТ *гмв**?
глазый, косой’ (Leeuwen-Tumovcov^ 1991; Толстая 1998,215—220), что не случайно, ибо болезнь искривляет, скрючивает человека — ср. белорусскую пословицу Хвороба кал! не уморыць, дык скрывщъ, приводимую в статье о слове кривой белорусской исследовательницей (Володина 2000).
Таким образом, языковые факты (в том числе и приводимые М. В. Жуйковой) все-таки больше свидетельствуют в пользу моей интерпретации двадцатилетней давности. Оборот на кривой не объедешь реконструируется как «на кривой (хромой, леченой) лошади (кобыле, кляче) не объедешь». Не объедешь того, кто едет на здоровом и быстром коне.
Этот «материалистический» образ, собственно, лежит и в основе тех «фаталистических» пословиц, которые ввела в аргументацию интересующего нас выражения М. В. Жуйкова. Вчитаемся в них еще раз—уже под углом вторично предложенной интерпретации русской поговорки. Эпитета кривой в них мы, как уже говорилось, не найдем. Зато возможен его антоним. Одна из вышеприведенных украинских пословиц , например, известна и в варианте Долг i найбистрйиим конем не об Чдеш. Она явно препятствует «демонологическому» толкованию коня уже потому, что во многих языках «быстрый конь»— хотя и фольклорно-поэтический, но при этом реально анималистический образ. Поиски «нечистой силы» в коне неоправданны и для других пословиц о судьбе и суженом. М. В. Жуйкова почему-то абсолютно не обратила внимания на одну существенную деталь, которая явно препятствует интерпретации коня как демонологического существа во многих из этих пословиц. Она сама приводит некоторые из них, например: рус. От судьбы не уйдешь, Суженого не обойти, не объехать, укр. Bid напасти не пропасти, eid бгди не втекши с беглым замечанием, что они относятся к вариантам, в которых «способ передвижения не называется» (Жуйкова 1996,286). Это, однако, не так: он называется, и довольно точно: это типичный для человека способ передвижения—пешком или бегом. Деталь эта чрезвычайно важна, ибо она совершенно определенно подчеркивает, что в пословицах о судьбе идея движения в пространстве, которая может выражаться и с помощью образа коня, отнюдь не осложнена демонологическими ассоциациями этого животного, как это кажется М.В.Жуйковой. Об этом убедительно свидетельствует масса славянских пословиц, где та же идея прозрачно выражается разными средствами. Назову лишь ряд украинских подобного типа: У ворота бгда на конг приходить, а
303 ****|ыв03мт
шшки уходить; Bixodumb лихо ппики, а привдить верхи; Лихо до нас б1житъ б1гам, a eid нас навкарачки л1зе\ Свого щастя i колесом не об’ъдеиг, Щастя все на швидюм кош вдитъ — ср. Щастя бггае за смишвцямщ Щастя з нещастям на одних санях вдятъ ~ ср. Щастя i иещастя на odniM кош вдятъ; Щастя i нещастя одного i тою самою idymb стежкою; Щастя та злидш одною стежкою ходятъ; Горе i волами не об'ъдешь. Ср. и яркую по интересующей нас образности смоленскую пословицу Сваиго сужиныга пяшком ни абайду, на лошади ни объеду, птицей ни аблячу, в которой к «наземному транспорту» (включая как конную тягу, так и пеший способ) добавляется воз* душная стихия.
Следовательно, такие пословицы мифологичны лишь по своему объекту, в качестве которого выступают судьба, беда или суженый. Конь же является лишь характеристикой движения, как и быстрый бег или даже бесполезные попытки уйти от своей доли пешком. Как видим, несмотря на общемифологическую потенциальную возможность связи «конь» — «нечистая сила», в данном конкретном паремиологическом случае она не облеклась в языковую плоть. Конь в этих пословицах сохранил свою «материальную», «транспортную» ипостась, которая для наших предков была не менее значима, чем ипостась мифологическая. Славянские пословицы о судьбе тем самым отразили симбиоз «естественного» и «сверхъестественного», характерный для древнего мировосприятия. Русское же выражение на кривой не объехать так и осталось в сфере своего приземленного материального образа. Не случайно, в отличие от «фаталистических» пословиц, сохранивших стилистическую высокость, оно и сейчас звучит предельно сниженно.
Как видим, подключение к анализу собственно русской паремии украинских пословично-поговорочных параллелей позволяет установить ее специфичность и структурно-семантическую локализован-ность в славянской паремиологической системе. Такой «отрицательный» результат не менее важен, чем результат положительный, обнаруживающий общие генетические истоки украинских и других славянских паремий. Украинистская «рентгеноскопия» славянских пословиц и поговорок, таким образом, — одна из актуальных «реабилитационных» (во всех смыслах) задач диахронической паремио-логии. Без нее объективный историко-этимологический анализ славянской паремиологической системы рискует оказаться весьма субъективным.
3Q4 КУДА ВЫВОЗИТ КРИВАЯ?
Вернемся теперь к оборотам кривая вывезет (вынесет) и куда кривая вывезет (вынесет, выведет). Может быть, в них все-таки речь идет и не о лошади, а о кривой дороге или оглобле?
Посмотрим внимательнее еще раз на вариантный ряд этих фразеологизмов и их контексты.
Во-первых, характерно, что слово кривая сочетается с глаголами, которые могут употребляться прежде всего с существительным лошадь, — вывезет или вынесет. Вариант же куда кривая выведет зафиксирован лишь один раз в Словаре под редакцией А. И. Молоткова, причем пример, взятый из произведений писателя А. Степанова «Семья Звонаревых», явно вторичен и позднейшего происхождения. А ведь только он мог бы быть как-то логически увязан с кривой дорогой, а не с лошадью.
Во-вторых, в диалектной речи встречаются и другие обороты, довольно прямолинейно подчеркивающие «лошадиный» образ подобных выражений. Таковы, например, фразеологизм пошла кривая ‘пошло дело кое-как’, отраженный словарями В. И. Даля и М. И. Михельсона, и восточносибирское выражение запоперёчит кривая ‘не повезет’. Характерен контекст диалектного выражения, свидетельствующий о том, что его значение соотносится (антони-мически) со значением литературного оборота кривая вывезет: «Недаром говорят здешние промышленники, что как “к фарту”, так соболя даст бог ни с чего, а уже как запоперечит кривая, так хоть ты убейся, а соболя не добудешь» (СРНГ 10, 344). Связь между этими оборотами прозрачна лишь при учете предлагаемой мотивировки: кривая лошадь может повезти, вывезти или вынести, а может и «запоперечить», заупрямиться. Кривая же оглобля или дорога «запоперечить» не могут. Ср. и такие диалектизмы, как ниж. куда крива не вынесет; во что святая не хлыснет (не вынесет) или на боге подъезжать — ‘пытаться схитрить, обмануть кого-л?.
В-третьих, контексты наших выражений подтверждают предлагаемую внутреннюю логику образа, связанного с хромыми лошадьми. Ведь поехать куда-нибудь на такой лошади — дело рискованное: она может довезти, а может и не довезти до места назначения. Вот и остается полагаться на удачу. Именно такой «добавочный оттенок» характерен для контекстов этих выражений:«— Неприятно испытывать собственную беспомощность,—вздохнул старик. — Вот сиди и жди: может, вывезет кривая. — Ничего, Кузьма Кузьмич, кривая вывезет!—Теперь уже Маня успокаивала Тополева, хотя он беспокоился не за себя» (В. Ажаев. Далеко от Москвы); «С которой
305 КУДА ВЫВОЗИТ КРИВАЯ?_______
бы стороны к нему подъехать?... Решительно не знаю... ну, да уж пущусь на счастье, куда кривая не вынесет» (А. Н. Островский. Не в свои сани не садись).
Показательно, что такая оттеночность сохраняется и при «ультрасовременном» употреблении нашего оборота в поэтической речи:
Дым и огонь — нет соответствия! На сто столетий надымив, Из мизерного происшествия Великий разрастался миф. Куда кривая бы ни вынесла, Мир все равно тебя простит.
(Е. М. Винокуров. Мифы)
«Удачливость» вывезения на кривой подчеркивается и в одном из индивидуально-авторских вариантов оборота — кривая везёт'. «— Аль не солоно хлебавши? — спросил Линученко. — Картина оказалась брехня?—Джорджоне и есть, — отозвался хмурый Би-карюк, — на толкучке профессор нашел. Кому кривая везет, тот и в навозе перлы отроет» (О. Форш. Одеты камнем). Ср. также украинское присловье Кривий кшь вивезе ‘как-нибудь да повезет’ (Бе-ленькова 1969, 53).
Наконец, внутренняя логика нашего выражения подтверждается самой крестьянской жизнью, отразившейся в старинных русских пословицах: На худой лошадке [да] в сторонку; На леченой кобыле не долго ехать; На леченой кобыле не наездишься. Больная лошадь далеко не увезет, да к тому же может и «в сторонку» повернуть.
Лингвистическая реконструкция существительного лошадь в обороте на кривой не объедешь, таким образом, помогает объяснить и исходный смысл фразеологизма куда кривая вывезет. Отправляться в дальний путь на хромой лошади — значит действовать «на авось», полагаться на случай. Отсюда и тот фаталистический подтекст, который характеризует наше русское выражение.
Куда же попал кур?
Иной хват
Всякому делу рад, А возьмется, Как кур во щи попадется.
Новые русские поговорки и присказки. И., 1853
Популяризация науки о языке— дело не простое. Ведь язык нам дан, как говорится, от рождения, а значит, каждый, кто им пользуется, имеет право считать себя его знатоком. Отсюда час-
тые споры о том, «правильно ли мы говорим?». У каждого человека, естественно, накапливается запас каких-либо прочных языковых ассоциаций, словесных сопряжений, от которых обычно и отталкиваются спорящие. При этом «правильность» нередко понимается излишне прямолинейно — как точное следование этимологии, т. е. первоначальной форме и значению слова или выражения.
На поверку, однако, «правильность» речи далеко не всегда может, более того—и не должна выводиться из научно обоснованного этимологического анализа. Язык, как и все вокруг, непрестанно развивается, и первоначальные формы и значения его единиц могут измениться до неузнаваемости. При этом измененная форма становится иногда настолько привычной, что нет нужды, обнаружив неверность того или иного этимологического толкования, корректировать его на «правильность». Привычное, устоявшееся, ставшее стандартным благодаря регулярной «обкатке» многократным повторением в речи,ы вполне может квалифицироваться как правильное. Особенно если речь идет о спорных случа
ях, которых в каждом языке немало.
Яркий народный оборот попал как кур во щи — типичное тому подтверждение. О нем спорят уже давно, непременно связывая историю злополучного кура с правописанием. Ленинградский писатель Б. Н. Тимофеев в книге «Правильно ли мы говорим?» считает такую форму оборота ошибкой на том основании, что из куров (т. е. петухов, ибо именно такое значение имеет это древнее русское слово) щей не варят. А раз так, то нынешнее восприятие этой поговорки—лишь искажение исконно «правильного» попал, как кур в ощип, т. е. «в ощипывание» его перьев. «Эту пословицу, — категорически подчеркивает писатель,—не опровергнуть ни ссыл
307 юд*же П0ПАЛ кур?
кой на словари (пословица древнее!), ни утверждением, что кому-то когда-то довелось есть щи из курицы...» (Тимофеев 1963,267).
Многие ревнители правильности русской речи доверчиво подхватили это утверждение и, популяризируя его, советуют писать не попал как кур во щи, а попал как кур в ощип (Калинин 1965, 24; Ковалевская 1968, 18—19; Вартаньян 1973, 111; Шанский 1985, 108; Фомина, Бакина 1985, 26).
Что ж, пословицу, а точнее, поговорку опровергнуть действительно нельзя. А вот категорическое утверждение Б. Н. Тимофеева о ее якобы единственно «правильном» варианте — можно. И не только потому, что щи с петушиным мясом хоть и редко, а на Руси все-таки варились, но и потому, что такому утверждению противоречит диалектика и логика русской народной речи.
Сведения о щах с куром легко почерпнуть уже из древних кулинарных руководств. Так, в «Росписи царским кушаньям» 1610 г. найдем такое блюдо, как куря во шгпяхъ. Куря, правда, не совсем петух: это, скорее, курица или цыпленок, но, пожалуй, на вкусовых качествах «штей» половые и возрастные признаки куриного рода не слишком отражаются. Многие лингвисты, писатели, этнографы убеждают нас фактами, что «куроварение» со щами прежде в России было весьма распространено (Редников 1883, 185; Раковский 1962,166; Этерлей 1969,85; Молотков 1971,86-92; Гвоздарев 1982, 57-59). Объясняется даже причина—чисто экономическая—забивания петухов, а не кур или какой-либо скотины: крестьяне летом предпочитают сохранять своих домашних животных, а если уж и режут кого-либо на мясо, то именно петухов, ибо польза хозяйству от них самая малая (Опыт, 63).
Иные сторонники расшифровки нашего оборота как попадания кура именно во щи не настаивают на типичности и распространенности этого крестьянского блюда в мясном варианте, а признают, что щи раньше обозначали преимущественно постную, вегетарианскую пищу. Это, однако, ни в коем случае не исключает возможности попадания кура во щи: просто это было для петуха не совсем обычным, что и породило иронический смысл поговорки (Ильинский 1915, 307; Иванова 1976, 87-94). О такой же интерпретации ярко пишет профессор В. В. Колесов: «Когда создавалась поговорка, еще знали, что никакого мяса “во штях” не бывает, поэтому упоминание о незадачливом куре, который исхитрился попасть во щи, имело особый смысл, как и полагается ехидной пого
308 ^Д*ЖЕ П0ПАЛ КУУ? _________
ворке. Попасть в овощную похлебку—это нужно суметь!» (Колесов 1988, 79).
Для объективного этимологического анализа фактов языка, конечно, важно: реальны ли деревенские щи с куром или существовало ли действительно слово ощип ‘ощипывание’, которого теперь нет ни в одном русском словаре, но на которое упорно ссылаются сторонники соответствующей версии. Но еще более важны при таком анализе строгие языковые закономерности, основанные, как и все закономерности, на повторяемости, аналогичности, моделируемости фактов.
И при таком подходе оказывается, что образ попавшего в «ощипывание» петуха намного более индивидуален, чем образ щей с курятиной. Эта индивидуальность особенно бросается в глаза на фоне множества русских народных оборотов подобного типа, где речь идет о безвыходном положении: попасться как мышь в мышеловку, попался как сорокопуд в цапки (т. е. ловушку), попал как сом в вершу (т. е. плетеную рыболовную снасть), попался как мышь в короб и т. д. Эта же смысловая модель характерна и для других языков, где «попасть в капкан», «попасть в сети», «попасть в яму» стали символами крайне бедственной и опасной ситуации.
Возможно, и наш оборот — также не исключение из этой продуктивной модели. Оказывается, в народной русской речи щипу или щап, обозначал прежде именно своеобразную ловушку для птицы. Она представляла собой расщепленную палочку с распоркой, наступив на которую, птица попадала в зажим или, как говорили, в щбмы. Словарь В. И. Даля, кстати, определяет значение оборота попасть в щап примерно так же, как и поговорку о куре, — «в тесноту, в щомы, в беду». Трудность такого объяснения, правда, в том, что логика попадания домашнего петуха в лесную ловушку для птиц, как критически верно подмечает В. В. Колесов, в самом деле похрамывает. Нельзя, однако, забывать, что словом кур называли прежде не только домашнего петуха, но и тетерева (ср. куропатка — того же корня), а это позволяет расшифровать нашу поговорку как ‘попал как тетерев в ловушку’
Первоначальные форма и образ оборота, следовательно, как будто найдены и обоснованы языковой логикой. Можно ли их, однако, считать единственно «правильными»?
Именно «правильного», единственно верного этимологического ответа продолжают требовать от нас читатели. После публикации своих книг и этимологических заметок я получил немало писем
309 ****Ж1 П0ПАЛ 1(7р?
с просьбой поставить точку над i в истории злополучного кура во щах. Или — в ощипе. Или — в ощипывании.
Одно из писем—от моего активного корреспондента из города Красноармейска Донецкой области Дмитрия Демьяновича До-верова:
«В русской фразеологии есть немало загадок. Одна из них выделяется, стоит особняком, привлекает внимание. Ее замечают, высказывают мнения, предположения, догадки. Но проходят годы, десятилетия, даже столетия, а загадка остается загадкой. Будто огромная глыба, которую не сдвинешь, или орешек неодолимой крепости. Так что же это за феномен такой недоступный? Речь идет о противоречивом, запутанном-перепутанном, двуликом фразеологическом обороте “Кур в ощип” — “Кур во щи”
Вижу ироническую улыбку скептика, слышу его слова: опять “кур”, сколько уж писано и говорено об этом злополучном куре, а воз и ныне там. Согласимся, воз и ныне там, и кур там. Что же мешает куру обрести свойственную ему форму, первородное содержание и подобающее место занять в русской фразеологии? Во-первых, затеряна в пыли веков, покрыта мраком этимология фразеологизма. Во-вторых, традиция, — мы привыкли к сложившемуся положению, к ходу вещей. И, как это часто случается, взгляды оказываются разными. Одни уверовали в форму “кур в ощип”, другие предпочитают “кур во щи”. В числе тех и других — писатели, публицисты, журналисты.
Итак, разнобой продолжается. Думаю, науке и читателям это небезразлично.
Что же нужно, чтобы раз и навсегда решить проблему кура, разгадать эту злополучную загадку? Нужно немногое: простая логика и объективное мышление, суждение. Практически же надо проанализировать, разобрать по косточкам три основных вопроса, найти на них ответы:
1. Значение фразеологизма—мнимое или подлинное.
2. Что такое “ощип”? Почему это слово стало компонентом формы “Кур в ощип”?
3. Как образовались и совместились две формы, далекие по смыслу одна от другой, — “Кур в ощип” и “Кур во щи”? Почему они употребляются параллельно?
Несомненно, у специалистов и у любителей слова возникнут и другие вопросы, их надо предвидеть, продумать и подготовить ответы точные и ясные. Словом, фразеологизм и его герой Кур должны
310 КУДА ЖЕ ПОПАЛ КУГ?________
быть очищены от всего наносного, предстать перед людьми в чистом виде и значении, в первозданной форме. История с куром—это интереснейшее, неповторимое явление в русской фразеологии, широкое поле для исследования, богатый материал для творческого мышления».
Спустя некоторое время я получил от Дмитрия Демьяновича еще одно письмо. В нем поэтически воспроизводится итог многолетних разысканий и размышлений о нашей поговорке:
«Как идут мои дела с “куром”? Думаю, Вам небезынтересно узнать. Осмелюсь сказать: подошли к концу. Поверьте, “эпопея” моя с куром длилась более 15-ти лет. Это немало, да еще на склоне лет. Нелегко приходилось—труд муравьиный: поиск материалов в море книг и периодики, наблюдения, сопоставления, размышления, сомнения. Были тупики, разочарования, тяжелые думы. Не раз даже бросить пытался эту затею. Но кур не отставал, по зернышку клевал мои мозги, не давал покоя. Самым трудным делом — была разгадка слова “ощип” В словарях его нет, даже в 17-томном. В Словаре В. И. Даля оно есть, но толкуется, увы, вне всякой связи с оборотом “Кур в ощип”. Слово “ощип” в данной ситуации несет специфическую функцию, присущую только этому обороту. Житейский случай, тонкие наблюдения сельского старичка помогли мне заглянуть в суть слова “ощип” и его связи с оборотом “Курв ощип”
Картина мне ясна. Перед глазами стоит величавый красавец кур. Скажу прямо: не зря отдал ему кусочек жизни, провел с ним немало времени. Что же дальше? Систематизировать материал, отделить важное от малозначительного, определить форму — и писать. Писать: легко сказать! И вот какая закавыка, какая трудность: исследовать люблю, а писанины не терплю. Пишу медленно, со скрипом, но пищу. Пока что готова (вчерне) только первая страница, посылаю 1 экземпляр на Ваш суд. Всех машинописных страниц будет примерно 15. Когда с ними справлюсь, когда отстукаю последнюю — один аллах знает. Хочется написать хорошим слогом, сжато и ясно, так, чтобы поняли и академик, и старушка-хуторянка. И главное, убедительно. Мечты, мечты...»
Д. Д. Доверов, к сожалению, пока не завершил своего многолетнего труда. На первой страничке своего очерка он лишь изложил некоторые, уже известные нам, взгляды своих предшественников. Но я все еще продолжаю ждать его версии о «величавом красавце куре». И искренне желаю ему успеха.
311 ЖЕ П0ПЦ| кур?
Признаюсь честно: одно время мне казалось, что загадка кура мною решена окончательно. Кур — это лесной тетерев, попав-ший в приготовленную для него ловушку. В спорах со своими коллегами и учениками, однако, полная уверенность в этой версии тоже поколебалась.
Колеблет (или, как говорят сейчас студенты, «заколебал») ее тот бесспорный факт, что сравнение о куре известно русскому литературному языку уже с XVII — XVIII вв. и с самого начала его отражения в письменной форме оно писалось именно так: попал как кур во щи, а не в ощип. У В. В. Капниста (1758-1823) один из героев говорит: «Я в подозрение как во щи кур попал». Этой же орфографической традиции следовали и следуют многие наши писатели и публицисты:
«Шел он, шел, да и напоролся сам на свою беду, и попал, как кур во щи; так-таки и взяли черкесы живьем руками — на ловца и зверь бежит, а он сам, сердечный, на них и набежал» (В. Даль. Где потеряешь, не знаешь); «Я не обижаюсь и... и не твое дело. Нет, это... Это даже смешно. Я попал, как кур во щи, и я же оказываюсь виноватым!» (А. Чехов. Житейская мелочь);
«Б е к л е ш о в: Коли я не возьму тебя в руки, ты попадешься как кур во щи» (Л. Толстой. Зараженное семейство);
«Вот это бдительность! Вот это я люблю! Попался, товарищ Хиж-няк? Попался как кур во щи!» (М. Шолохов. Поднятая целина); «Малыгин утешался только тем, какого дурака свалял Еграшка модник, попавший как кур во щи» (Д. Мамин-Сибиряк. Хлеб).
Есть, кроме того, все основания подозревать, что именно «ложный» образ петуха во щах, навеянный этой старой поговоркой, стал сюжетной основой известной басни И. А. Крылова о вороне, попавшей в суп французам, равно как и сатирических рисунков на тему «вороньего супа», популярных во времена наполеоновского нашествия (см. очерк «За что ворона попала в суп?»). Ведь во фран-цуз-ском языке ничего похожего на наше выражение мы не найдем.
Один из главных поводов для сомнения в «ловушечном» варианте — наличие целой серии диалектных выражений именно о петухе, попадающем в какое-либо месиво или плетиво, и о различных живых существах (от петуха до мухи и таракана), попадающих в кипяток или какую-либо похлебку.
Вот несколько оборотов первого рода: новг. запутался как петух в коноплях (в пакле); пол. wplqtal si^ jak kokosz w zgrzebie; болг. обърквам се (объркам се) като пате в решето, заплел се като петел в калчище; с.-х. заплео се као пиле у кучине. Ср. также лит. kaip vi§ta
312 куд* ЖЕ П0ПАЛ кур?
j pakulas ‘как курица в паклю (попал)’; латыш, sapinies ka vista pakulas ‘запутался как курица в пакле’; вепс, kadoi капа kapkehe ‘запутался как курица в кудели’ и фр. etre coniine un coq en pate ‘быть как петух в тесте’.
Эти обороты показывают, что и нашим куром во щах мог быть все-таки не лесной тетерев, а обычный домашний петух. Непонятно, правда, как он тогда попал в ловушку для диких птиц. Попасть в паклю, кудель или в тесто — гораздо более для него оправданно.
Вторая группа выражений дает и достаточно большую «пищевую» модель попадания кура: яросл. втрёпался как кур во щи; ирк. попасть как таракан в борщ; новг. попал как гусь в кашу; укр. впав в 6idy як курка в борщ, впав як курка у сирбавку, впав як котя в борщ, попав як ворона в юшку, ул1зти як твень в юшку, попасти як муха в окргп (т. е. кипяток), зал1з як муха в патоку (в сметану), прилип як муха до смоли и т. п. В пользу такого же толкования говорят и свободные сочетания, не получившие переосмысления, и шутливые пословицы: Таракан во щи втрёпался; Дичь во щах, а все тараканы; Волк попал в капкан, муха во щи; И гуся на свадьбу тащат, да во щи.
Для научной аргументации верности той или иной версии, как мы уже неоднократно видели, эффективной является структурносемантическая модель и обилие вариантов того или иного выражения. В случае с куром во щах она, эта модель, однако, не одна. Получается своеобразное скрещение двух моделей: «попал + птица + в ловушку = попал в беду» и «попал + птица + в жидкое и горячее блюдо = попал в беду».
Какая из них для нашего выражения исходна—трудно судить. Объединяет их, правда, сама идея ловушки, какого-то опасного пространства, куда попадает наш кур. Вот почему можно предположить, что «ловушечная» модель как более активная и универсальная все-таки предшествовала «пищевой» как более конкретной и узкой по распространению.
В любом же случае — то, что писателем Б. Тимофеевым выдавалось за единственно правильное, становится абсолютно неверным. Ни о каком «ощипывании» нашего кура речи быть не может.
Следовательно, «неправильное» давно уже — и совершенно оправданно — обрело в русском литературном языке статус правильного и продолжает жить своей собственной жизнью, как бы его ни истолковывали историки языка. Живет, несмотря на то, что некоторые авторы и редакторы, поверив в «правильность»
313 ж* попм ИУР?
толкования Б. Н. Тимофеева, поспешили скорректировать написание этого оборота. Так, в очерке М. Блок «Жила-была школа», помещенном в «Ленинградской правде» 20 апреля 1972 г., он приводился именно в новой редакции:
«Осенью 1969 года директором назначили Людмилу Ивановну Ткаченко. Вот при ией-то в составе учителей и произошли резкие изменения, большая группа не смогла сработаться с новым директором. Но, может быть, человек, как кур в ощип, попал в окружение склочников, которые покинули школу из личных, корыстных соображе* ний? О, нет. Это учителя по призванию...»
К сожалению, подобная «кодификация» коснулась и некото^ рых весьма солидных фольклорных публикаций. В последнем сводном сборнике русских народных пословиц и поговорок под редакцией В. П. Аникина, например, наш оборот выведен именно в форме Попал, как кур в ощип (РПП, 260). Выведен, хотя такой формы до появления книги ленинградского писателя о «правильном» написании поговорки не зафиксировал ни один фольклорист. Так стремление к правильности может привести к неправильности.
Такие «коррективы», однако, уже не могут изменить традиции. Не случайно все наши авторитетные словари, включая и новейший Малый академический, узаконивают именно традиционную форму — попал, как кур во щи. Она действительно отражает широко распространенное — пусть и несколько «осовремененное», но вполне «правильное»—восприятие этой древней народной поговорки.
До лампочки или до фонаря?
Встречено это (жалоба в комбинате бытового обслуживания. — В. М. ) было саркастической усмешкой: как видно, я притворяюсь наивным, если проверять всякую жалобу, у вышестоящих организаций вся работа станет, в обычное время я могу писать все что пожелаю, ей (заведующей. — В. М.) это, так сказать, до лампочки (новое выражение, этимология которого мне не вполне ясна), но в дни смотра комбинату может повредить всякая вздорная запись...
А. А. Крон. Бессонница
Писатель Александр Крон, как видим, в ремарке о выражении до лампочки подчеркивает и его новизну, и его этимологическую загадочность. Аналогичный диагноз ставят и наши лингвисты. Известный новосибирский фразеолог А. И. Федоров называет оборот до лампочки «появившимся в советский период развития русского языка» (Федоров 1969,67). О неизвестности происхождения этого фразеологизма пишет А. Н. Кожин (1970, 7В), а М. М. Копыленко и 3. Д. Попова относят его к «типу, не имеюще-
му в других падежах коннотативного смысла» (Копыленког Попова 1972,119), т. е. также констатируют его внутреннюю затемненность и грамматическую «ущербность», выраженную неспособностью склоняться по падежам.
Новизна, видимо, стала причиной весьма большой избирательности составителей словарей по отношению к этому выражению: ни в Большом академическом, ни в Малом академическом словарях его нет, а в словаре С. И. Ожегова, словаре синонимов 3. Е. Александровой, в «Словаре фразеологических синонимов» В. П. Жукова, М. И. Сидоренко, В. Т. Шклярова — есть. Такое различие, пожалуй, объясняется и определенным языковым пуризмом, характерным для нашей академической лексикографии. И не только для нее — народный артист СССР М. И. Жаров, призывая бороться за чистоту русской речи и отбрасывать «ненужную словесную шелуху», назвал такие «слова», как до лампочки и зануда, «словесным мусором». «Это те “семечки”, — писал он, — которые повисают иногда на губах говорящего, и хочется, чтобы он скорее их сбросил, так как это выглядит неэстетично» (Рус. речь, 1974, № 6, 19).
315 ДО ЛАМПОЧКИ ИЛИ ДО ФОНАРЯ?
Несмотря на столь суровое осуждение, оборот до лампочки про-* должает «повисать на губах говорящих» и пишущих. Его известность породила литературную традицию, не замечать которой уже нельзя. Верно поэтому поступили авторы «Фразеологического словаря русского языка» под редакцией А. И. Молоткова, «узаконившие» эту традицию в 1967 г. Уже тогда выражение употреблялось такими нашими популярными писателями, как Ю. Бондарев, Б. Полевой, Д. Гранин и др.:
«Может, полагаешь, я на твои косые [деньги] зарюсь? Да мне они до лампочки. Тьфу!» (Б. Полевой. На диком бреге); «— Н-да, успокоили^ называется, старика... Ему наши жалости — до лампочки» (Ю. Бонда** рев. Тишина); «’’Может быть, пошли бы со мной в кино?” Держать он себя, конечно, умел, это у него не отнимешь. Сейчас ребята моду взяли разговаривать, будто все им до лампочки, а этот не так. Скромно так предлагает, не нахально» (Р. Зернова. Городской романс); «”Мне лично на эти кассеты до лампочки”, — сказал он [Алеша]. “Что значит до лампочки? — строго сказал Лагунов. — Выбирайте выражения”» (Д. Гранин. Иду на грозу).
Контекст из Даниила Гранина — весьма характерная иллюст-рация «новизны» и грубоватой просторечное™ выражения до лам* почки. Автор даже подчеркивает «эффект новизны» смешением двух разных фразеологизмов: до лампочки кому что и наплевать кому на что (Молотков 1966, 110).
Можно привести и многие другие иллюстрации широкого употребления оборота, характеризующего безразличие и наплевательство:
«А во-вторых, они мне до лампочки, за исключением Северцева, который интересует меня как Личность» (В. Каверин. Спектакль); «И ты идешь со мной, выпиваешь. Потом мы с тобой обнимаемся, целуемся, хотя ты прекрасно знаешь, откуда у меня эта копейка. Но ты идешь со мной, потому что тебе все до лампочки, и откуда взялась копейка, на это тебе тоже наплевать...» (А. Вампилов. Утиная охота); «Я почувствовал, что в этом месте мне нужно срочно проглотить таблеточку одного лекарства. Оно обладает тем свойством, что мне сразу все становится до лампочки» (А. Житинский. Специфика искусства. — Аврора, 1978, № 6, с.78); «Попытался объяснить: один заболел, двое ушли в отпуск по учебе, да тут еще ванна... —« Мне твоя ванна до лампочки! — донеслось из телефонной трубки» (К. Иванцов. Мастер... на побегушках. — Правда, 1988, 21 апр.); «Правда, экран все равно не даст слукавить, пустые глаза ребят выдадут, что им до лампочки все увещевания взрослых» (Комсом. правда, 1986, 25 мая).
Активность такого употребления не случайна: ведь оборот до лампочки, несмотря на его стилистическую сниженность, — вы
316 Д0 ЛАМП0ЧКИ НЯН Д° ♦ОНАРЯ?
ражение-харакгеристика. Характеристика чрезвычайно актуального для действительности последних десятилетий явления: общественной апатии, небрежения и наплевательства. Явление вызвало активность этого фразеологизма в то время, которое мы называем периодом застоя. И не случайно отвергает и отбрасывает его как «словесную шелуху» именно то поколение, которое воспитано на «героике и патетике наших будней». Дело, следовательно, не только в осуждении самого слова...
Запреты на слова, однако, еще менее эффективны, чем запреты на дела. Слово живет, пока живет само явление, и отмахиваться от него — значит уподобляться страусу, прячущему голову в песок. Мы знаем, к чему приводит такая политика. Один из известных лексикографов и фразеологов М. Г. Ашукина поэтому справедливо замечает: «В наши дни все безбилетные лексические и фразеологические категории, обитающие за пределами литературного языка, практически непрерывно проникают по каналам художественной прозы, включающей, понятно, и очерк, в толстые журналы и на газетные полосы. Смысл их в контекстах становится понятным читателю. Конечно же, они сохраняют при этом все возможности справедливого, а в иных случаях и победного вторжения в литературный язык» (Ашукина 1977, 190).
Именно такое «победное вторжение» в наш литературный язык, как кажется, давно уже совершил фразеологизм до лампочки. К следующему «броску» исподволь готовятся, как ниже увидим, и близкие родственники этого фразеологизма—до фонаря, до фени, до феньки, до лампады... Можно по-разному к ним относиться, можно рекомендовать функциональное ограничение их употреблений, но категорически запрещать их и делать вид, что этих выражений нет,—значит отвергать живой язык.
Живое в языке не следует путать с абсолютно понятным. Именно поэтому на переводе оборота до лампочки настаивают иностранные русисты (Вурм 1976,116), подчеркивая важность его точной передачи «не обязательно с помощью фразеологического эквивалента». Й действительно: образ этого простого фразеологизма столь непонятен, что порождает даже у специалистов полный скепсис в возможностях его этимологической расшифровки. Однако не делать никаких попыток в этом направлении неверно, ибо происхождение слов и выражений родного языка извечно интересует говорящих на нем. И удовлетворить этот интерес — одна из древнейших задач филологии.
317 ДО ЛАМПОЧКИ ИЛИ ДО ФОМАГЛ?
Иное дело—любая гипотеза должна подкрепляться лингвисти-ческими и экстралингвистическими аргументами. Иначе, как показывает опыт многих так называемых «популярных» этимологий, поиски истоков подменяются остроумными или псевдонаучными анекдотами. Ведь из любого словосочетания легко «вырастить» какой-либо занимательный сюжет вроде остроумной фразы А. Кры-жановского из «Литературной газеты» (1977, №41, с.16): «Аладдину все до лампочки». Это—лишь языковая шутка. Но вполне может, появиться какой-либо выдумщик без чувства юмора, который захочет совершенно серьезно «притянуть» лампу Аладдина к нашему выражению. Такую выдумку, однако, опровергнет сразу же сам текст известной арабской сказки.
Более трудно такое опровержение, когда под рукой нет соответствующего текста. И тем не менее в распоряжении историка языка почти всегда находятся источники, позволяющие измерить долю вероятности предлагаемой кем-либо версии.
О выражении до лампочки до сих пор выдвинута лишь одна. Ее авторы — составители «Краткого этимологического словаря русской фразеологии» Н. М. Шанский, В. И. Зимин и А. В. Филлипов. Это выражение, по их версии, — «из жаргона преступников. В тюремных камерах лампочки делаются высоко под потолком и предохраняются так, что их нельзя разбить, поэтому заключенные ими не интересуются. До лампочки — извлечение из сочетания Мне до этого дела, как до лампочки» (КЭФ, 1979, № 3, 70).
Даже чисто умозрительное рассуждение показывает сомнительность такой расшифровки. Ведь лампочками «не интересуются» не только заключенные в камерах с высокими потолками, но и свободные жители наших малометражных блочных квартир, где лампочки легко достать рукой. Логика соединения предлога до со словом лампочка здесь остается необъясненной.
Это легко проверить и чисто лингвистическим путем. Как уже говорилось в некоторых очерках («Какие бабки мы подбиваем?», «Кто и кому забивает баки?»), в арсенале языковедов, изучающих жаргон, немало словарей блатной речи преступников. Слово лампад однако, есть лишь в «Босяцком словаре» Ваньки Беца, вышедшем в 1903 г. в Одессе. И оно не имеет никакого отношения к нашему обороту, ибо лампа «на наречии берлинских воров» значит ‘полицейский’. Значит, истоки выражения до лампочки необходимо искать не только в жаргонной, но и в других речевых сферах.
2 1g до ЛАМПОЧКИ ИЛИ ДО ФОНАРЯ?
Как мы уже неоднократно убеждались, этимология фразеологизмов часто проясняется, если мы учитываем их варианты в разных диалектах и языках. Есть ли такие варианты у нашего выражения?
Конечно, есть, и некоторые из них широко известны.
Самыми простыми и понятными являются варианты словообразовательные, употребляемые в просторечии, — до лампы и до лампады.
Наиболее распространен, пожалуй, лексический вариант выражения до лампочки — до фонаря', он еще более стилистически снижен, грубоват до вульгарного. И тем не менее и лингвисты, и писатели, и публицисты уже успели зафиксировать его. Вот несколько примеров из нашей литературы и публицистики:
«Мама борется со сном, глаза ее закрываются, она слабеет. Эх!.. Еще мйнута-две — и мои слушательницы крепко спят. Сижу, горько обиженный... Невдомек было дураку: мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой, маленькой [сестренке], ей эти мои книжки — до фонаря» (В. Шукшин. Из детства Ивана Попова); «Я вообще люблю все точное... Я, например, в истории всегда упоминаю фамилии и даты, а вот всякие там черты феодально-общинного строя или какого-нибудь еще, всякие там особенности и разные там социальные отношения — это мне все до фонаря, я сразу бросаю учебник, включаю музыку» (В. Амлинский. Нескучный сад); «Тут уж хочешь не хочешь, а штурмовать пришлось — авралы заложены в плане. По тому же принципу — “от достигнутого” А на деле — “до фонаря”» (Правда, 1980,26 янв.); «Гражданин М. не работал в институте, следовательно, его интересы институту были, как говорят, до фонаря» (В. Ткаченко. Страдания старого москвича. — Правда, 1986, 21 апр.).
Второй по употребительности вариант выражения до лампочки — до фени или до фенъки. Некоторые лингвисты уважительно пишут с прописной буквы — до Феньки (Истомина 1973, 129). В художественной и публицистической же литературе в нем обычно ставится строчная буква: «Он [Спирька Расторгуев] поразительно красив; в субботу сходит в баню, попарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху — молодой бог! Глаза ясные, умные... Черт его знает!... Природа, кажется, иногда шутит. Ну зачем ему! Он и сам говорит: “Это мне—до фени”. Ему все “до фени”. Тридцать шесть лет—ни семьи, ни хозяйства настоящего. Зиает свое—матерщинничать да к одиноким бабам по ночам ша-стать. Шастает ко всем подряд, без разбора. Ему это — тоже “до фени”. Как назло кому: любит постарше и пострашней» (В. Шукшин. Сураз); «Преподаватели Дмитровского народного
J 19 ДО ЛАМПОЧКИ ИЛИ ДО ФОНАРЯ?
университета спрашивают: кому предъявить счет за срыв загорского эксперимента? Отвечаю: счет надо предъявлять современной разновидности извечной обывательщины, которой все—“до фени”, из которой и происходят бюрократы и ретрограды всех мастей» (Комсом. правда, 1987,4 марта); «Расползающееся в атмосфере из квартир, контор и дворов громовое: “А нам до фени!!” — наступает на мастеров!...» (Лит. газета, 1980, 15 окт., с.7); «Мне лично... до феньки. Я бы поприсутствовал из любопытства, но у меня талон к зубному врачу» (М. Горчаков. Дело в розовой папке).
Из этого фразеологического варианта в просторечии даже об7 разуются производные — существительное дофёничник, т. е. тот, которому все до фени (Истомина, Кондратюк 1976,24).
Другие варианты выражения до лампочки не выходят за рамки локального просторечия. Автор этих строк лишь в Ленинграде записал такие из них: до форточки, до потолка, до жердочки, до мушки, до зонтика. Любопытно и тяготение к значению ‘безразлично’ давно известного оборота до ручки. «А мне это до ручки, пусть себе обижаются»,—сказала мне одна пожилая ленинградка в 1981 г. Какие-либо ассоциативно и структурно близкие обороты можно найти и в диалектах, но они крайне редки и «уводят» в другую сторону. Ср. орл. до огня до жаркого ты мне нужен ‘о ком-либо ненужном, приставшем к кому-либо человеке’ (Арсентьев 1986 II, 56).
Внимательное вглядывание в семантику всех этих вариантов показывает, что исходным был именно оборот до лампочки. От него — прямой путь к вариантам до лампы и до лампады, а также к лексической замене до фонаря. До форточки и до потолка—замены лампочки по «высоте», на которой она обычно висит. До зонтика, вероятно, — по предмету, округлостью напоминающему лампу или фбйарь. До жердочки и до мушки — какие-то не совсем понятные смещения образа до лампочки. До фени, пожалуй, — скрещение варианта до фонаря с вульгарным к едрёной фене или к фенъки-ной матери, которые также акцентируют «наплевательское» отношение к кому- или чему-либо.
Во всех этих вариантах, как и в их «базовом» выражении до лампочки, наиболее странным и трудно объяснимым является значение предлога до. Оно резко выделяется на фоне типичного пространственного указания на предел чего-либо (дойти до угла) или указания на расстояние или время, отделяющего одно место от другого (от Москвы до самых до окраин). Ведь лампочка никак не
320 Л° ДАМП0ЧКИ ИЛИ Д°
является обозначением пространственного или временного понятия. Не подходит употребление этого предлога в нашем выражении и для указания степени, которой достигает действие, состояние (кричать до хрипоты) или временной соотнесенности (до утра). Словом, никаким типичным для русского языка употреблением предлога до не объяснить логику оборота до лампочки.
Лингвистические поиски, как кажется, помогают все-таки разгадать эту загадку. Наше выражение — прямой продолжатель польского просторечного gadac do lampy (букв, ‘болтать к лампочке’) (Skorupka 1967-19681,374; NKP1,588). Внутренний смысл выражения вполне оправдывается таким толкованием—«ему это так же все равно, как говорить к лампочке». В переносном смысле польский оборот имеет, правда, несколько иной акцент — ‘говорить впустую кому-л. что-л.’, ‘как об стенку горох’. Согласитесь, однако, что связь с безразличием тут налицо.
В польском языке имеется целый каскад выражений такого же типа с абсолютно аналогичным значением: gadad jak do muru ‘го* воритькак к стене’, gadad jak do kamienia ‘говорить как к камню’, gadad jak do pnia ‘говорить как к пню’, gadac jak do kolka ‘говорить как к колышку’, gadac [jak] do slupa ‘говорить как к столбу’, gadad (mdwic) jak do sciany ‘говорить как к стене’, gadad do radia ‘говорить к радио’. Не правда ли, они очень близки ко всем известному русскому: ему говорить, что стенке или с ним говорить как со стенкой? В сущности, это легко «перевести» и нашим оборотом: то, что я говорю, ему до лампочки.
Польские параллели, следовательно, объясняют логику развития оборота до лампочки и его вариантов. Подтверждают зту логику и чешский и немецкий фразеологизмы mluvi s lucemou (букв, ‘он говорит с фонарем’) и zu Laterne sprechen (букв, ‘говорить с фонарем’) ‘о безучастно пьяном человеке’. Разговор с лампочкой, а точнее —«к лампочке» и здесь ассоциируется с апатичным, равнодушным отношением к окружающему. Возможно, некоторой реминисценцией именно о хмельном равнодушии являются и некоторые русские употребления оборота до лампочки’. «Он быстро захмелел и теперь ему все было “до лампочки”» (М. Пархомов. Девять баллов).
Необычность значения предлога до для русского выражения показывает, что в наш язык оно попало через западноукраинское просторечие, испытавшее сильное влияние польского языка. В украинском языке вообще предлог до часто обозначает именно ‘к’.
321 ЯАМПОЧ|<И ♦он***»7
Вот пример такого украинизма в рассказе Б. Житкова «Компас»: «Гребу смело к пароходу. Вдруг оттуда голос: — Кто едет? Ну, думаю, это береговой — флотский крикнул бы: “Кто гребет?” И отвечаю грубым голосом: — Та не до вас, до деда. — Какого деда Таь£?—уж другой голос спрашивает. А на такой барже никакого жилья не бывает, никаких дедов, и всякий гаванский человек это знает. А я гребу и кричу ворчливо: — Какого деда? До Опанаса на баржу...»
Возможно, очагом распространения этого украинизма и полонизма в русской речи послужило — как и в других случаях (ср. очерк «Кто и кому забивает баки?») — одесское просторечие, в котором предлог до часто употребляется именно так. В этом смысле одесское «А шо ты домене кажешь?» весьма близко к польскому gadad do lampy. Близко по употреблению предлога до.
Попав в литературный и жаргонно-просторечный круговорот, выражения до лампочки, до фонаря, до фени утратили связи с украинской и польской языковой основой. Предлог до обрусел и превратил эти выражения в одну из самых трудных этимологических загадок.
Кто сидит в одной лодке7.
Но в принципе Моспочтамт должен понимать, что все мы — и издатели, и распространители — сидим в одной лодке.
Ь. Садовский. Московский почтамт решил взять власть. Четвертую (Комсом. правда, 1992,5 авг.)
Выражение в одной лодке до сих пор еще помечено родимым пятном так называемого «нового мышления». Во времена перестройки оно было запущено в русские средства массовой информации как символ сопричастности каждого из нас к ответственности за все происходящее в мире. Мире, раздираемом политическими, экономическими и нацио
нальными противоречиями, которые—как казалось совсем недавно — можно преодолеть именно совместным дружным плаванием. Не случайно поэтому первые стабильные употребления оборота встречаются в речах, интервью и других публичных выступлениях «архитектора перестройки» М. С. Горбачева: «Мы отнюдь не стремимся к тому, чтобы нас “возлюбил” классовый противник. Мы
рассчитывали на то, что жизнь заставит его считаться с реалиями и осознать, что все—в одной лодке и вести себя надо так, чтобы она не перевернулась» (Известия, 1987, 5 ноября); «Давайте вместе размышлять, мы же все в одной лодке» (Правда, 1987,12 дек.).
Уже в этих употреблениях отражены две основные функционально-семантические характеристики нового для русского языка оборота: отмеченная выше политическая маркированность (т. е. связь с «новым политическим мышлением») и образная прозрачность, позволяющая постоянно апеллировать к внутренней форме. Это закрепляется и дефиницией «лодочного» неологизма — «об общности судьбы людей на Земле, несмотря на их политические, национальные и т. п. особенности» (НСЗ-80, 425). Практически все последующие употребления не выходят поэтому за рамки значения ‘в одинаковом (часто — опасном или крайне затруднительном) положении, ситуации; в равных условиях существования’. Не выходят даже тогда, когда с их помощью характеризуется жизнь
«у них» и «у нас».
Вот два семантически адекватных контекста, отделенных друг от друга как хронологически, так и локально. Первый — перестроечного периода, призыв к советским писателям принять учас
323 кто сидит в одной лодю?
тие в открытой дискуссии и обмене мнениями на основе «лодочно-го равноправия»: «Если бы я был советским писателем, я бы сказал: друзья, давайте не будем бояться споров, возражений, борьбы взглядов. Не надо шепота, давайте говорить в полный голос. Все мы делаем одно дело. Все мы—в одной лодке. Именно такая мне видится связь между октябрем 17-го года и октябрем 87-го» (Лит. газета, 1987, № 45, с. 14). Второй контекст—один из типичных для постперестроечного периода. На первый взгляд, он уже лишен перестроечной патетики, поскольку характеризует достаточно бы* товую ситуацию. Собственный корреспондент «Правды» в Париже В. Большаков накануне Рождества 1996 г. подвозит на своей машине беременную француженку. Разговор с нею и оказался стержнем его очерка «Рождество по-французски. Кому везет, а кому нет»:
«Накануне Рождества у площади Трокадеро мою машину остановила миловидная женщина с сумками в руках. Она туг же рассказала мне, что устала до смерти, пока ходила по магазинам и покупала подарки мужу и своим родителям. Потом и вовсе разоткровенничалась и сказала, что беременна и ждет тройню... За разговором незаметно проехали почти получасовую пробку, и я пожелал моей попутчице счастливого Рождества и главное — здоровья. Тройня — это все же редкость, даже в Париже. Вот в таком, наверное, общении французы как-то лучше сумели понять друг друга. И те, кто бастовал, смогли объяснить тем, кто пострадал от их забастовки, что все они — в одной лодке, и потому, если кому-то одному плохо, будет неважно и всем другим. Только так можно было объяснить долготерпение Франции, оказавшейся на месяц без общественного транспорта, без почты» (Правда, 1996, 6 янв.).
Будничность сюжетной «затравки» очерка здесь несомненна. Однако именно обращение к обороту в одной лодке переключает стилистические рычаги всего рождественского очерка. От простого бытового разговора со случайной попутчицей корреспондент переходит к возможности и желательности заключения «общественного договора» между двумя как будто бы противопоставленными группами населения Франции — забастовщиками и теми, кто от забастовок был вынужден переносить транспортные, почтовые и другие лишения. Собственно, это и есть маркированность политикой «нового мышления», которая в России в постперестроечное время как будто начала себя изживать. Не случайно выражение употреблено в парижском контексте парижским корреспондентом «Правды» В. Большаковым, который и в годы перестройки активно поддерживал курс «нового мышления».
324 1(70 сидит в одиоЯ я°дК£?
Семантическая и ассоциативная стабильность нового выражения во многом обеспечивается прозрачностью его внутренней формы. Образ спасительной лодки в стихии политических и экономических бурь столь эффективен, что разрушить его проекциями в другие ассоциативные сферы довольно сложно.
Поэтому парадоксально, что при отмеченной семантической стабильности такая опора на «лодочный» образ нередко приводит к формальному перевоплощению оборота, созданию на его основе других выражений. Наряду с фразеологизмом в одной лодке в со-временной публицистике употребляется целый ряд идиом, стержнем которых являются слова лодка или корабль: лодка чего опрокинулась (опрокинется) ‘о крахе, полной неудаче какой-л. кампании, общественного процесса’ (СП, 242), переворачивать/ перевернуть лодку ‘приводить какие-л. позитивные политические процессы, новую государственную систему и т. п. к краху’, раскачивать/раскачать лодку (корабль) ‘расшатывать какие-л. структуры власти, приводя к ослаблению государства’, ‘обострять, усложнять какую-л. конфликтную ситуацию’, упускать/упустить лодку ‘не пользоваться благоприятной возможностью, упускать случай, шанс’ и др. Хотя на всех них и лежит семантический отпечаток выражения в одной лодке, не все они являются его прямыми производными и не все их можно назвать устоявшимися самостоятельными фразеологизмами.
Пожалуй, наиболее употребительным из серии приведенных оборотов можно назвать раскачивать лодку ‘обострять, усложнять ка-кую-л. конфликтную ситуацию’, который регистрируют словари русской новой лексики. Эго выражение является своеобразным «оппо-зитом» к обороту в одной лодке, ибо характеризует процесс дестабилизации, агрессивность по отношению к тем, кто стремится к взимо-действию и единству. Вот несколько типичных контекстов, в которых этот оборот употребляется: «“Когда на следующее утро я прочитал в газетах об обстоятельствах смерти Монро, то был потрясен. Описанная версия не имела ничего общего с тем, чему я был свидетелем”, —заявил Холл. Он подчеркнул, что в течение 20 лет был вынужден молчать об этом. “Меня предупредили, что влиятельные лица не хотят „раскачивать лодку“. Мэрилин Монро покончила жизнь самоубийством — и точка”,—сказал Дж. Холл» (Комсом. правда, 1982,20 ноября); «Даже в преддверии новой президентской кампании стоящие в оппозиции демократы считают за благо “не раскачивать лодку” , опасаясь повторения “уотергейта”? как бы, мощ
325 К™СИДИТ В ОДНОЙ ЛОДКЕ?
новый скандал такого масштаба не пустил ко дну престиж американской демократии дома и за рубежом» (Огонек, 1986, № 5); «Сенатор Сэм Нанн на недавнем слушании в сенатском комитете по делам вооруженных сил сказал, что сегодня в США, очевидно, существуют два направления, сторонники которых придерживаются различных позиций и западного ответа на советские инициативы, первые, которые “не хотят упускать лодку”, указывают, что Запад должен действовать активно, выдвигая смелые новаторские предложения. Вторые, которые “не хотят раскачивать лодку” , взывают к бдительности и осторожности» (Сов. Россия, 1989,25 апр.); «И все это по капризу одного человека, упрямо отказывающегося сдать экзамен по фламандскому языку! Стоило из-за такой малости раскачивать правительственную и парламентские лодки? И ведь уже не в первый раз...» (Лит. газета, 1989,22 марта, с. 14).
Именно это выражение допускает варьирование стержневого слова лодка: «Вот чего, честно признаюсь, боюсь я больше всего: новой крови, разрастания войны... Тревожно не только за нас самих, но и за детей наших, за внуков. За судьбы Отечества. Вот почему, когда слышу призыв на новый митинг или забастовку, на любую акцию гражданского неповиновения, хочу от всей души обратиться к людям; не спешите, подумайте! Осознайте сперва, к чему это ведет или может привести... И вообще, не довольно ли раскачивать наш государственный корабль?» (Правда, 1990, 16 февр.).
Показательно, что Ю. Грибов {бывший секретарь правления Союза писателей СССР), который употребил этот фразеологический вариант в статье «Не спешите, подумайте!» в рубрике «О том, что волнует», предваряет ее «морской» метафорой: «Жизнь сейчас пошла—не соскучишься... А ведь пишут и показывают далеко не все, что происходит в нашей великой вздыбленной державе. За всем просто не успеть, события, словно морские волны, накатывают друг на друга...» Эта метафора «подкрепляется» в тексте статьи и словом крен, переведенным в «сухопутную» проекцию, т. е. характеристику идеологических и политических «отклонений» от верного (в данном случае — демократического) курса: «Все ли правильно делаем? Шаг вперед, шаг назад, крен влево, крен вправо... Не подкрепить ли нашу молодую демократию мерами, которые стабилизировали бы порядок в обществе?..».
Морская метафорика, отталкивающаяся о представлении корабля как государственного судна в бурном море актуальных по
326 СИДИТ» ЭДШ*
литических катаклизмов, вообще чрезвычайно активизировалась в перестроечной и постперестроечной печати. Вот еще два примера, где эта метафора, по сути дела, создаент самостоятельные фразеологизмы — корабль чего плывет по морю чего ‘что-л. полнокровно, активно и адекватно жизни функционирует, действует* и списать с какого корабля кого ‘решительно избавиться, отказаться от кого-л.; уволить, отправить в отставку кого-л.’: «... Чтобы корабль искусства плыл по морю жизни, мало развесить на нем флаги с гордыми лозунгами и на всех пресс-конференциях твердить про русское реалистическое искусство» (Невское время, 1995, 24 февр.); «Не устраивает их (представителей коррумпированного «нового класса».—В. М.\ разумеется, и явные намерения Б* Ельцина внести под давлением обстоятельств существенные коррективы во внутреннюю и внешнюю политику, окончательно списать с государственного корабля “революционных” демократов и опереться на истинных профессионалов, лишенных идеологических предрассудков и не ангажированных извне» (С. -Петерб. ведом., 1996, 13 янв.).
Скрещение образов корабля и лодки находим и в интервью Ч. Айтматова корреспонденту «Крымской газеты» М. Славину по случаю встречи кинематографистов мира в Ялте: «[Ч. Айтматов:] В моей жизни очень многое связано с искусством кино, немало времени отдаю я и работе на телевидении. Скажу больше: если современный кинематограф—это корабль, у которого есть свои мачты, свой руль, оснастка, то литература — это двигатель корабля... Мне уже приходилось как-то сравнивать человечество с лодкой, за бортом которой космическая бесконечность. Все мы в конечном итоге в ответе за надежность и прочность нашего земного обиталища» (Крымская газета, 2000,18 авг.).
Образ корабля, кристаллизованный в такого рода оборотах, может приобретать в некоторых контекстах практически полную автономию и восприниматься как самостоятельная метафора. Таково, например, употребление этого образа в выступлении депутата В. И. Лисицкого, заместителя генерального директора по экономике производственного объединения «Черноморский судостроительный завод» (г. Николаев) на Втором съезде народных депутатов СССР:
«Уважаемые товарищи! Сегодня наша экономика, на мой взгляд, напоминает корабль, который идет с большим креном вправо и с большим дифферентом на нос. Такой большой дифферент на нос, что
327 1(10 СИ)|||Т 1 одмоЯ л°дк{?
корма задралась, винты обнажились и вместо того, чтобы гнать корабль вперед, бессильно вращаются в воздухе. Что в таких случах делает команда? Она стремится придать кораблю нормальное состояние, то есть поставить, как говорят моряки, на ровный киль — только тогда можно будет добавить обороты и переложить руль в нужном направлении. Именно на это, по-моему, и направлены меры, предложенные правительством. Чрезвычайные меры направлены на то, чтобы сбалансировать нашу экономику хотя бы в самом первом приближении, с тем чтобы можно было и добавить обороты, и переложить руль влево... Сегодня многие руководители делают вид, что верят правительству, терпеливо ждут, когда этот корабль прошумит над ними. Вот, мол, корабль пройдет, всплывем, оглядимся по сторонам и посмотрим, куда, к какому берегу нам грести. Этот фактор имеет место, и он серьезно сдерживает перестройку» (Известия, 1989, 17дек.).
В контексте, созданном профессиональным моряком, эта метафорическая свобода — как и обилие морских терминов — вполне уместна. Но все-таки, как кажется, даже она в некоторой степени регулируется и стимулируется выражениями в одной лодке и раскачивать лодку, ставшими символом времени.
На первый взгляд, данные выражения, этим временем маркированные, и порождены им, т. е. являются языковыми «плодами перестройки». Наблюдения за лексической системой перестроечного периода (Haudressy 1992; Костомаров 1994; Дуличенко 1994; Ферм 1992; Мокиенко 1995а; Мокиенко 1998; Ryazanova-Clarke, Wade 1999), однако, показывают, что «чистых» неологизмов этот период породил немного, а основная ее «подпитка» происходила за счет трех ресурсов: возрождения и активизации «хорошо забытого» собственного старого (типа гласность, перестройка, благотворительность), детабуизации употребления в печати просторечно-разговорных, жаргонных и других некодифицированных элементов (типа кайф, до фени, блин горелый), а также заимствования (в том числе и калькирования) европеизмов или американизмов (типа гастарбайтер, рэкет, утечка мозгов, президентская команда). Именно к последним можно отнести интересующие нас выражения.
Поиски их «предтечи» в русском литературном языке мало что дают. Даже в картотеке 20-томного академического словаря в Институте лингвистических исследований (С.-Петербург) регистрируется всего несколько употреблений, причем не ранее 1987 г. Лишь одно из них — из книги, изданной в 1970 г., — дает как будто возможность предполагать, что оборот в одной лодке мог быть из
328 >сто сидит 1 °ди°й лодке?
вестей русскому языку и несколько ранее перестроечного периода. Но, во-первых, он употреблен не в «канонической» для позднейшего времени форме (у нас одна лодка), а во-вторых, его контекст допускает и предположение, что имеется в виду не переносное, а прямое значение слова лодка, что делает сочетание нефразеологическим: «- Своего директора мы знаем. У нас одна лодка, и в непогоду он всегда с нами. Репродуктор искажал голос. Кто говорит? Гремяшин заглянул в зал. Со сцены по ступенькам спускался Шу-мин» (В. Кукушкин: Хозяин).
Реально, следовательно, диагностировать два интересующие нас оборота именно как перестроечные. И действительно, факты показывают, что они—публицистические штампы, широко упот-ребимые в европейской и американской прессе: англ, to be in the same boat букв, ‘быть в одной лодке’, нем. [zusammen] in einem Boot sitzen ‘[вместе] сидеть в одной лодке’, фр. etre embarque sur le meme bateau ‘сесть в ту же лодку’ и т.д.
Показательно, что в славянских языках этот оборот появился также недавно: его не регистрируют даже многие добротные фразеологические словари, вышедшие в 1970-80-е годы XX века. Лишь один из словарей — фундаментальный «Словарь чешской фразеологии и идиоматики» (SCF 3,407) фиксирует его в двух формах: byt (bejt) s nekym (vSichni, spolu) na jednd (jednej) lodi (букв, ‘быть с кем-л. [все, вместе] на одной лодке’) ‘иметь (с кем-л. или вместе с остальными) общую участь, быть в той же ситуации (и быть вынужденным соблюдать солидарность)’; plout s nekym na jedne lodi (букв, ‘плыть с кем-л. на одной лодке’) ‘не иметь причин себя в чём-л. упрекнуть; относиться к одному коллективу’. Узуальный контекст, приводимый авторами словаря, весьма близок к цитированным выше русским «перестроечным» газетным употреблениям. Польскую параллель к этому чешскому обороту проводят авторы чешско-русского словаря крылатых слов (OrioS, Hornik 1996, 141). Ср. также пол. w jednej uodzi z kimu puywaa (букв, ‘плавать с кем-л. в одной лодке’) ‘делить с кем-л. общую судьбу, счастье и невзгоды’ (Kopalinski 2000,626).
Характерно и то, что в этом самом объемистом трехтомном славянском фразеологическом словаре приводятся полные эквиваленты из английского, немецкого и французского языков, а из русских даны лишь традиционные словосочетания иметь общую судьбу, иметь общий удел. Этот факт не только подтверждает неологичность выражения в русском и других славянских языках, но и
329 КТО * ОДНО* ЛОДКЕ?
заставляет предположить, что в языках стран бывшего так называемого социалистического лагеря оно было навеяно именно перестройкой.
Действительно, история его убедительно свидетельствует о пути заимствования с Запада на Восток.
Некоторые историки европейской фразеологии объясняют выражение как общую старую метафору из корабельного обихода. Так, один из справочников по немецкой идиоматике возводит оборот wir sitzen alle im selben Boot ‘мы разделяем общую долю’ к тем же образным истокам, что и выражение ans Ruder kommen ‘прийти к власти’, и дает им очень обобщенную фразообразовательную интерпретацию: «Поговорки со словами Ruder, Segel, Steuer usw. (“руль” , “парус” , “кормило” и т.д.) основываются на морской метафорике, которая, в свою очередь, отталкивается от различных семантических полей. Так, например, жизнь описывается как морское путешествие (ср. Lebensreise — “жизненный [морской] путь”), на котором можно “потерпеть крушение” (Schiffbruch erleiden). Древним и широко известным образом является “государственный корабль” (das Staatsschifl), который может пониматься также как коллективное жизненное плавание какого-л. социального целого (kollektive Lebensreise einer sozialen Gemeinschaft). В таком государственном корабле население является пассажирами, а “правительственная команда” (Regierungsmannschaft)—матросами (Besatzung). Она определяет курс судна, поворачивая “руль” или “кормило”. В речи моряков “руль” (das Ruder) первоначально был чем-то вроде весла с большой лопастью (Ruderblatt)» (Muller 1994, 68, 495).
В. Мидер, анализируя творческое преобразование пословиц у писателя Г. Л. Дави, не случайно приводит писательское «Wir sind alle Galeerensklaven. Wenige jedoch rudem gegen den Strom» («Мы все—галерные рабы. Но лишь немногие гребут против течения») как оппозит современного лозунгового афоризма wir sitzen alle im selben Boot (Mieder 1995,86): такая реминисценция оправдана общей «корабельной» метафорой. И для русского языка является типичным, что, в частности, в некоторых приведенных современных контекстах слова лодка и корабль сопровождаются определениями государственный, правительственный, парламентский и т.п. Однако, как показал Б. Л. Богородский в специальном исследовании о древних русских выражениях типа у кормила [правления], у руля [власти], история каждого из них, хотя и прямо зависима от такой метафорики, имеет свои собственные акценты и нюансы.
330 КТО СИДИТ В ОДНОЙ ЛОДКЕ?
В этом смысле история оборота в одной лодке достаточно индивидуальна, несмотря на общую зависимость от морской метафоры. В современных европейских языках, как это ни странно, он является... американизмом. Не случайно именно в английском языке идиома in the same boat ‘в том же самом, обычно трудном, положении или в тех же обстоятельствах’ зарегистрирована в более мобильных вариантных рядах, чем в других современных языках, — we are all in the same boat, row (sail) in the same boat with smb. и т. n.: “We’ re all in the same boat as far as low wages concerned” (WDI, 31); “If I were you I wouldn’t row in the same boat with someone as corrupt as he is” (Кунин 1984, 94).
Ставя этому выражению этимологический диагноз «американизм», нужно оговориться, что это — американизм с очень глубокими европейскими корнями. Как убедительно показал В. Мидер в специальных очерках, посвященных этому обороту (Mieder 1990; 1993,447, 547; 1995), оно восходит к латинскому in eadem es navi ‘быть в той же самой лодке; в том же судне’ и имеет, по мнению историков античных крылатых слов, конкретного автора. Им считается Марк Туллий Цицерон, в речах которого этот оборот первоначально связывался с популярной в то время метафорой политического «государственного судна» (“ship of state” ), так же как и с характеристикой солидарности на политической арене. Встречается этот оборот, впрочем, и у Аристофана (Orios, Hornik 1996, 141). Благодаря популярности сборника пословиц Эразма Роттердамского (1469-1536) «Adagia» эта поговорка переведена на многие европейские языки.
Несмотря на античное происхождение, пути проникновения латинской поговорки в современные европейские языки различны. Непосредственно из сборника Эразма Роттердамского она была заимствована рано именно английским языком и получила широкие распространение в США. В датский, немецкий или французский ойа попадает лишь после 1945 г. благодаря влиянию англо-америкайр* кого языка и культуры. Такое направление заимствования подтверждают многие лексикографические источники. В современному^ литическом и публицистическом обиходе (политические речи,и^ звания книг, афоризмы, газетные заглавия, граффити и рисунки) вЙЙ ражение wir sitzen alle in einem Boot, например, активно употре^И тельно в Германии.
Выражение в одной лодке, следовательно, и в современном РЗЧИ ском языке — американизм, активно распространившийся» печати благодаря перестройке. Такой диагноз подтверждаем»
331 КТО СИДИТ И ОДНО* ЯОДКГТ
и экскурсом в историю другого интересующего нас «лодочного» выражения — раскачивать лодку, которое можно признать калы, кой англ, to rock the boat (букв, ‘раскачивать лодку’) ‘нарушать равновесие, ставить под удар, подвергать опасности, создавать опасное положение’ А. В. Кунин в своем тезаурусе английской идиоматики специально подчеркивает, что первоначально это выражение было именно американским.
Активность проникновения и варьирования оборота раскачивать лодку в перестроечную русскую публицистику объясняется, судя по приведенным выше контекстам, и тем обстоятельстом, что он оказался своеобразным семантическим «противовесом» выражению в одной лодке и образовал вместе с ним некий фразеологический тандем. Его закрепление в языке поддерживалось и возможностью развития прозрачного образа, в нем заложенного, другими «лодочными» словосочетаниями, оперативно созданными быстрописцами-журналистами. Примером такой «поддержки» является выражение переворачивать/ перевернуть лодку ‘приводить какие-л. позитивные политические процессы, новую государственную систему и т. п. к краху’:
«У всех здоровых сил перестройки достаточно терпения и здравомыслия для того, чтобы не дать перевернуть лодку. Но пребывать в роли наблюдателей и пассивных созерцателей становится все опаснее: крен достигает критического уровня. Не стоило бы дожидаться, пока политическая демагогия обратится действием. В таком слу-чае завтрашний день страны вообще окажется неопределенным, да и в мире пошатнется стабильность...» (В. Хатунцев. Что день грядущий... Разговор начистоту. — Правда, 1990, 18 февр.).
Это новое выражение, как видим, является своеобразной «финальной формулой», подытоживающей семантическую градацию «лодочной» метафоры: все в одной лодке — надежда на спасение, раскачивание лодки — угроза этой надежде, переворачивание лодки —ее полный крах.
Адаптация европейских американизмов в одной лодке и раскачивать лодку, разумеется, как и в других случаях языкового заимствования, имела и свою русскую специфику. Семантически это отразилась в уже отмеченной «перестроечной» окрашенности, инициированной употреблениями первого оборота М. С. Горбачевым. Фразообразовательно она выражается в создании новых оборотов, в том числе и контаминированных. Таковым, например, является выражение упускать/упустить лодку ‘не пользоваться благоприятной возможностью, упускать случай, шанс’ (см. приведен-
332 1(10СМД|П 1 адно* Л0*КЕ?
ную выше цитату из газеты «Советская Россия», 1989 г.). Оборот образован скрещением выражения раскачать лодку с идиомой упустить поезд.
Близко к этому и создание новой шутливо-иронической пословицы Как вы лодку назовете, так она и поплывет, ритмически настроенной на песенную структуру и потому особенно экспрессивной: «Таким образом, в процессе выбора Имя или Название отбрасывается в поле ценностного мышления, вступая в многочисленные контексты... Чему не противоречит народная мудрость пословицы „Как вы лодку назовете, так она и поплывет**» (Независимая газета, 1993,14 дек.).
Еще более специфический и уже собственно русский случай фразообразования на основе данной метафоры — шутливый оборот пересесть в семейную лодку ‘заключить брак, стать семейным человеком’. Он, вероятно, возник на основе выражения в одной лодке с трансформацией крылатых слов В. В. Маяковского любовная лодка разбилась о быт и оживлением исходного значения,. Характерно, что этот оборот употреблен в рекламном тексте: «Ваша любимая женщина будет на всю жизнь восхищена ващим поступком и без размышления отдаст вам свое сердце, если вы пригласите ее в один из самых роскошных круизов по Дунаю на теплоходе “Днепр” Вас ждут красоты дунайских берегов, средневековая архитектура Венгрии, Австрии, Германии... Ну а если вы одиноки, у вас есть шанс пересесть с нашего теплохода в счастливую семейную лодку. Как известно, самые счастливые браки заключаются на воде! Плывем в Европу» (Комсом. правда, 1991,18 июля.).
Этот контекст — своеобразное свидетельство стилистической деградации «лодочного» выражения, еще недавно вознесенного перестройкой на должную патетическую высоту. Введенное в русскую речь средствами массовой информации периода перестройки, это выражение не только закрепилось в языковой системе, но и подверглось в ней значительной стилистической переработке. Родившись в недрах политической риторики времен Цицерона и законсервировавшись книжниками европейского средневековья, оно неожиданно возродилось и активизировалось в американской прессе, а оттуда обновленным вернулось в послевоенную Европу. Политика «нового мышления» сделала его актуальным и в России. С утратой веры в.благополучное экономическое и политическое плавание с Западом «в одной лодке» оно, однако, не только постепенно теряет свой патетический заряд, но и вырождается в шутливый рекламный ролик.
Зачем врет сивый мерин?
Свои же намерения
Означу словами: На сивом на мерине я Приеду за вами.
Вот ведь какая судьба, Удивительно злая судьба...
Н. Н. Матвеева. Письмо к любимой
Устойчивое сравнение врет как сивый мерин многим кажется необъяснимым. Писатель Борис Тимофеев, считающий, что оно требует особого исследования, резонно спрашивает в своей кни-ге «Правильно ли мы говорим?»: «Почему вранье надо связывать с понятием “сивого мерина”, а не
“черного ворона” или “зеленой лягушки”?» (Тимофеев 1963,279). Он предлагает несколько ответов на этот вопрос, которые он либо слышал от знакомых, либо отыскал в разных источниках.
По одной версии, это сравнение не имеет ничего общего с мерином —холощенным жеребцом, а связано с фамилией некоего барона Сиверса-Меринга, который якобы жил в Петербурге в начале XIX в. и прославился своей лживостью.
Другое толкование связывает поговорку с сельскохозяйственными работами. Когда при пахоте прокладывали борозду сохоц или плугом, лошадь должна была идти прямо, без отклонений в сторону. Молодые, сильные лошади пашут землю именно так, а си
вый мерин, т. е. старый, «седошерстый» кастрированный конь, часто отклоняется в сторону и портит борозду. При таком объяснении предполагается, что первоначальной формой выражения было
прет как сивый мерин, и лишь потом, по ложному созвучию,
прет превратилось во врет, а сравнение потеряло свою прежнюю логику.
Модификацией этого объяснения является этимология, предлагаемая авторами «Краткого этимологического словаря русской фразеологии» (КЭФ, 1979, № 2,55; Опыт, 32). Они верно считают сравнение врет как сивый мерин собственно русским, а исходное значение его толкуют так: «Сивая лошадь считается в народе глупой, и русские крестьяне обычно не прокладывали первую борозду на сивом мерине. В выражении первоначально, видимо, подразумевалось, что сивый мерин ошибался (“врал”) при прокладывании первой борозды и при пахоте вообще».
Наконец, по некоторым представлениям, мерин ржет абсолютно так же, как нехолощеный жеребец. Поэтому якобы сивый мерин
334 ЗЛЧЕЯ ВГП СМ1ЫЙ ИЕГММ?
и «врет», ибо это внешнее сходство издаваемых ими звуков обманчиво.
Сам Б. Н. Тимофеев сомневается в истинности первого толкования и замечает внутреннее противоречие второго: ведь известная пословица Старый конь борозды ие испортит явно не соответствует представлению о сивом мерине, отклоняющемся от борозды в сторону. Наибольшее доверие у писателя вызывает третье объяснение.
Действительно, первую этимологическую версию можно решительно отвергнуть уже потому, что наше сравнение давно известно не только в городской, но и в живой речи деревенских жителей далеко от Петербурга, где жил гипотетический барон Меринг. Кроме того, уже в собраниях пословиц XVIII в. был известен и вариант этого сравнения —врет как лошадь (лошедь)—его фиксирует, например, Сборник пословиц А. И. Богданова 1741 г. Этот вариант показывает, что сравнение бытовало в русском языке еще до появления на свет петербургского барона.
Вариант врет как лошадь также опровергает объяснение оборота врет как сивый мерин из прет как сивый мерин. Это толкование, предложенное еще В. И. Далем в весьма осторожной форме («вероятно врет вместо прет»), трудно принять и по другой причине. Переть — ‘двигаться куда-нибудь напролом, не считаясь с препятствиями и запретами’ — по значению очень далека от врать ‘говорить неправду, лгать’.
Нельзя не упомянуть еще о двух толкованиях нашего оборота, предложенных в начале XX в. М. И. Михельсоном. Первое объясняет сравнение врет как сивый мерин обычным хвастовством старых людей своими силами, которые они якобы сохранили нерастраченными, как в молодые годы. Второе основывается на факте, что старых, непригодных к другим работам лошадей часто использова* ли на мельнице. Такая лошадь покорно ходила по кругу и вертела мельничное колесо. Сам М. И. Михельсон отвергает второе толкование потому, что глагол врет не имеет в русском языке значения ‘молоть’, как утверждали сторонники такого толкования, и потому, что на подобную работу брали не одних только меринов.
Как видим, ни одно из пяти объяснений не было еще аргументированно доказано. Обратимся поэтому к языковым фактам в поисках наиболее вероятного решения.
Прежде всего, нужно выяснить, с какими еще представлениями связывают в русском языке сивого мерина. Сейчас в нем наиболее
335 i*10* BFtT CWtM* WCFMH?
употребительно именно сравнение врет как сивый мерин. Однако еще в XIX в. писатели столь же активно пользовались и оборотом глуп как сивый мерин ‘до крайности глуп’ —достаточно тут вспомнить гоголевского городничего из «Ревизора»:
«Почтмейстер (читает): “Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу. Во-первых, городничий — глуп как сивый мерин...”
Городничий: “Как сивый мерин” не может быть, вы это.сами написали» (Н. Гоголь. Ревизор);
«— Замечательно подлая [Щукина]! — возмущался Кистунов, не-рвно вздрагивая плечами. — Глупа как сивый мерин, черт бы ее взял!» (А. Чехов. Беззащитное существо).
Это выражение могло употребляться и без сравнительного союза — в значении ‘глупый человек’, ‘глупец’: «Везде мы встречаемся с несомненными сивыми меринами, которые пропагандируют несомненно полоумные фантазии и бредни» (М. Салтыков-Щедрин. Пестрые письма); «На земском собрании... все подряд сивое меринье сидит... Сивое меринье!.. Да разве у стариков не могут быть молодые мысли?» (М. Салтыков-Щедрин. Недоконченные беседы). Такое бессоюзное употребление свидетельствует о том, что сравнение глуп как сивый мерин уже давно бытует в русском языке, что оно стало обкатанной метафорой.
И действительно, первая известная фиксация этого устойчивого сравнения была сделана именно в сочетании с прилагательным глуп. Оборот глуп как сивый мерин записал в Нижегородской губернии в 50-х годах XIX в. Н. А. Добролюбов. Еще более древен лексический вариант этого сравнения — глуп как лошадь, который встречается вместе с уже упоминавшимся выражением врет как лошадь в сборнике А. И. Богданова в 1741 г. Важно, что сравнение глуп как лошадь записано — в отличие от врет как лошадь — в еще более старом (30-е годы XVIII в.) рукописном сборнике пословиц В. Н. Татищева.
О большей древности и устойчивости именно этого представления свидетельствуют как варианты типа глуп один, как пара купеческих лошадей (Михельсон 1912,153), так и славянские параллели типа с.-х. glup kao konj, словен. neumen kakor konj, укр. (лемк.) думати як стари конь ‘напряженно, натужно думать’, чеш. ирон, moudry jako kun ‘крайне глупый’ и т. п.
В русском языке, особенно в его разговорных, просторечных и диалектных разновидностях, немало переносных представлений,
336 ЗАЧ£М BFET СИВЫЙ МЕРИН?
связанных с лошадью или конем. Некоторые из них отражены и в сравнениях: работает как лошадь, здоров как лошадь, здорова как кобыла; как ленивая лошадь — что ударишь, то и уедешь; ходит что саврас без узды (XVII в.); дворянский сын, что ногайский конь (XVIII в.); ирк. здоровый как конь, упорный как конь, жрет (ест) как лошадь, вырос как конь ‘быстро вырос’, храпит как лошадь, ржет как конь ретивый} омск. ленивый как одер} пск. худой как одер и т. д.
Некоторые из таких сравнений «прорвались» и в литературный язык, хотя и остались в нем, пожалуй, на самой периферии: «Ведь это, я вам скажу, не человек-с, а все равно что упрямый мерин: и не видал, а почудилось ему, что видел — вот уже и не собьете-с» (Ф. Достоевский. Братья Карамазовы); «Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке, как на мерине,—другой бы давно убежал али издох от такой работы...» (М. Горький. В людях).
Ясно, что именно из подобных свежих и образных сравнений живой речи в литературный язык и вошли обороты врет как сивый мерин и глуп как сивый мерин.
Внутренняя логика последнего гораздо более прозрачна, чем образ первого. Ведь сивый мерин — это поседевший от долгой и тяжкой жизни холощенный жеребец, потерявший в старости и физические силы, и умственные способности. Вот как описывает Л. Н. Толстой такого—правда, не только сивого, но еще и пегого — мерина в рассказе «Холстомер»:
«Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи (молодых лошадей. — В. М. )... Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его... Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?... Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода».
Можно предполагать, что Толстой не случайно выбрал героем своего рассказа о жалкой и безропотной старости именно мерина, «холощеность» которого, подчеркнутая им в кличке животного (Холстомер — ‘холощеный мерин’), возведена им в символ опустошенности и одиночества Это ему подсказали именно ассоциации, с
’Некоторые толстоведы, правда, иначе толкуют этимологию клички Уол-стомер, считая, что она восходит к диалектному холст ‘быстро двигающийся’ и что смысл этой клички тем самым ироничен (Опульская 1961). Вряд лй, однако, это толкование можно признать убедительным: диалектные источники (словарь В. И. Даля и картотеки народных говоров) не регистрируют такого значения корня холст*.
337 ЗАЧЕИ |ГЕТСНВЫЙ ИЕГИН?
которыми сивый мерин связывается в русском языке и в фольклорной традиции. Слово мерин, заимствованное из монгольского morin, morin или калмыцкого mom ‘лошадь’ и отраженное в русских источниках с XV — XVI вв. (Одинцов 1980), не только обогатило ряд[ русской гиппологической (т. е. связанной с лошадьми) терминолО; гии, но и пополнило ряд образных сравнений, поговорок, пословиц. Во многих из них мерин оценивается пренебрежительно, как второстепенное по сравнению с лошадью или конем животное, с которым соответственно и обращаются: Хотя конь горбат да не мерину брат; Аргамак доброй к поре, а меринок к горе (XVII в.); Утро вечера мудренее, кобыла мерина удалее (яросл.); ленингр. променял сивка на воронка ‘совершил невыгодную сделку’; Мерину пригбнье (т. е. работа с крестьянином на барщине), коню ступань (т. е. шаг), иноходцу хода (т. е. быстрый шаг), а красной девице комната; Не разговаривает мерин, а везет; Люблю сивка за обычай: кряхтит, да везет; Сняв с кобылки хомут, да на мерина прут; На сивом мерине не подъедешь к нему (острогож.) ‘его так просто не обманешь’; ленивый как мерин и т. п.
В пословицах, вошедших в русский литературный язык: Укатали сивку крутые горки и Был конь, да изъездился, — подчеркивается именно немощность старого животного. Это качество отражено и в других пословицах, где сивая масть лошади и ее старость и бессилие тесно связываются: Не в том сила, что кобыла сива, а в том, что не везет (или нейдет}; Не в том сила, что лошадь сива, а в том, что воду возила; У сивого коня воловая (т. е. воловья) хода (XVII в.). Кстати, в XVIII в. синонимом сивого мерина был и бурый мерит «Б у р л е с к о: Как не знать! — это то, что ты глуп как бурой мерин. Дельфито: Дурак, вот я тебя тростью» (Дон Педро Прокудуранте. — Палевская 1980, 170). О том, что такой мерин—действительно старый и немощный, свидетельствуют записи в писцовых книгах XVI в., где попадаются сочетания вроде мерин бурой и лысой: «А купил меринъ бурой и лысой у барышника у Фили же у стрЪлца» (Ларин 1948, 97). Любопытно, что именно это прилагательное определяет новгородское сравнение врать как бурый бык (Сергеева 1976, 92,94).
Устойчивость таких ассоциаций мерина со старостью, седовласи-ем, лысоватостью отразилась, разумеется, и в литературном употреб-
3SS ***** 1ГП СМВЦЯ MEFKM?
лении. Достаточно вспомнить сочетание старый мерин из «Юбилейного» В. Маяковского—стихотворения, посвященного А. С. Пушкину:
Как это у вас говаривала Ольга?...
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
—Дескать, муж у вас дурак и старый мерин, я люблю вас, будьте обязательно моя, я сейчас же
утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я.
И здесь, как видим, старость мерина устойчиво ассоциируется с глупостью.
Итак, пренебрежительная оценка сивого мерина вытекает из переосмыслений его образа в русских пословицах и поговорках. Она совершенно оправдывает устойчивое сравнение глуп как сивый мерин, которому в русском и других языках могут соответствовать и образы других животных: глуп как осел, как баран', бел. дурны як цяля ‘глуп как теленок’, як баран, як овечка, як цецерук ‘как глухарь’; укр. дурний як баран, як в1вця; пол. glupi jak osiol ‘глуп как осел’, jak owieczka ‘как овца’, jak pies ‘как собака’, jak Ьагап ‘как баран’; чеш. hloupy jako beran ‘глуп как баран’, jako dobytek ‘как скотина’, jak osel ‘как осел’, jak ovce ‘как овца’, jako tele ‘как теленок’. Характерно, что в польском и чешском литературных языках в этом ряду особо активны именно сравнения с другим кастрированным животным — волом: пол. glupi jak wol, чеш. hloupy jako vol, hloupy jako bulik ‘глупый как молодой вол’. Это же сравнение широко распространено в немецком и в других неславянских языках.
Явная логичность «животной» ассоциации в сравнении глуп как сивый мерин противопоставлена, как мы видим, ее кажущейся нелогичности в сравнении врет как сивый мерин. Оказывается, причина этой нелогичности—в быстром семантическом развитии русского глагола врать. Ведь в прошлом веке этот глагол имел несколько иное значение—‘говорить вздор, пустословить’, ‘болтать’, а еще раньше значил вообще ‘говорить’, о чем свидетельствует
ЗЗф ЗАМЕН ВРЕТ СИВЫЙ МЕРИН?
исходный смысл слова врач — ‘знахарь, завирающий, т. е. загова* ривающий, болезнь’. Это значение отражено в памятниках древнее русской письменности, например, в посланиях Ивана Грозного^ «А он [Варлам Собакин] мужикъ очюнной, врет и самъ себЪ не в^да^ етъ что» (ок. 1578 г. — СРЯ XI — XVII вв. III, 101). Известно оно и народным говорам: например, под Лугой врать записано в зна*1 чении ‘говорить что-либо неприличное, непристойное’ (СРНГ 5, 188). В значении ‘говорить’ этот глагол встречается и в классичерг кой литературе прошлого века: «— Полно старуха, — прервал отец Герасим. — Не все то ври, что знаешь» (А. Пушкин. Капитанская дочка).
Значение ‘говорить’ у глагола врать очень древнее, что подтверждается массой индоевропейских соответствий, восходящих к корню *uer-, *vra- ‘говорить’: латыш, vards; лит. vardas ‘название’; др.-инд. vratam ‘завет, наказ, закон’; прус, wirds; лат. verbum; др.-сакс, word; др.-верх.-нем. wort ‘слово’. Видимо, первоначально этот глагол был звукоподражательным—типа ворковать, ворчать (ЭСРЯI, вып. 3,192—193). Несмотря на такие древние соответствия, сам глагол врать имеется лишь в русском языке и неизвестен даже соседним восточнославянским языкам. Тем не менее сомнения о связи этого русского глагола с корнем *vra- ‘говорить* рассеиваются этимологическим анализом (см. статью об этимологии этого слова, написанную французским славистом А. Вайаном: Revue des Etudes slaves. Т.31. P. 100-101).
Жизнь этому древнему глаголу в русском языке, видимо, продлило семантическое обогащение: в конце XVIII — начале XIX в, у него активизируется в литературном употреблении значение ‘говорить неправду, лгать’, которое вскоре совершенно вытесняет древнее ‘говорить’, ‘говорить вздор’ (Фасмер 1,361; ЭСРЯ I, вып. 3, 192-193). Сравнение же врет как лошадь, которое было прототипом оборота врет как сивый мерин, как мы видели, впервые записано именно в середине XVIII в., когда врать значило еще и просто ‘говорить вздор’. Такое толкование косвенно подтверждает и разговорный фразеологизм бред сивой кобылы ‘вздорные, глупые мысли, высказывания’. Авторы «Краткого этимологического словаря русской фразеологии», правда, объясняют слово бред в этом выражении как ‘хождение вперед и назад’. На фоне приведенных соответствий, однако, ясно, что это отглагольное существительное от бредить ‘бессвязно говорить что-либо (обычно во сне)’
340 ЗАЧЕМ ВЕЕТ СИВЫЙ МЕГМН?
Уточнение исходного значения глагола врать перекидывает мостик между сравнением глуп как сивый мерин и врет как сивый мерин. В последнем случае старый холощеный конь не обманывает, а лишь заговаривается от старости и городит всякий докучливый вздор, как и положено глупому седому мерину. Исходный образ этого сравнения, столь прозрачный вначале, несколько сместился и затемнился из-за смыслового смещения глагола. Яркость и экспрессивность его, однако, от этого лишь усилились. Именно это усиление сделало оборот врет как сивый мерин более конкурентоспособным, чем простое, понятное и потому менее выразительное глуп как сивый мерин.
Новы ли новые русские
Под Новый год всегда жаждешь чудес.
Ну, к примеру, поздравлений от Филиппа Киркорова в образе Деда Мороза или Лады Дзнс в наряде Снегурочки... Ну а слабо зазвать на пирушку какую-нибудь известную политическую персону? Злые языки говорят,что среди «новых русских» — это главная «фишка» сезона и якобы в Москве даже установилась конкретная такса на подобные услуги.
Олег и Светлана Плющенко. В трусишках думец сереньки й под елочкой скакал...
(Комсом. правда, 2001,28 дек.)
тему, вышедшими почти одновременно. Несколько страниц своего доклада «Фразеологизм в современном газетно-публицистическом тексте» уделяет этому обороту М. Алексеенко, делая экскурс в его историю, давая функционально-стилистическую и словообразовательную характеристику, отмечая его отличия от сочетаний, образованных по близким языковым моделям. Объемистая же статья
Выражение новые русские в последнее десятилетие XX в. стало одной из языковых доминант: и в прессе, и в речи так называют современных русских предпринимателей, деловых людей нового типа. Как языковая доминанта, оно, естественно, привлекает внимание многих русистов. Не случайно поэтому, что, прочитав в марте 1998 г. в Берлине доклад «Новые русские в зеркале языка», уже спустя неделю я получил возможность ознакомиться с двумя новыми публикациями на эту же
Ю. А. Сафоновой «Новые русские (заметки об одном фразеологизме)» представляет собой настоящую социолингвистическую энцик-
лопедию этого выражения с исключительно свежим, оригинальным и богатым материалом и всесторонним анализом с точки зрения происхождения и употребления, детальной разработкой дефиниции, многоплановой интерпретацией структуры и характеристикой вариантов. Собственно, в работе Ю. А. Сафоновой и дан пластический «языковой портрет» новых русских.
Г од спустя появилась основательная статья Т. В. Козловой «Новые русские: понятие и дискурс», в которой интересующая нас метафора анализируется в двух ее противоречивых по оценочное™ доминантах: релевантные признаки «новых русских»—бизнес-элиты и релевантные признаки «новых русских»—нуворишей.
Именно поэтому в предлагаемом очерке я опускаю некоторые детали, в какой-то мере перекликающиеся с публикациями М. А. Алексеенко, Ю. А. Сафоновой и Т. В. Козловой, и предлагаю чи-
342 Д|> M0>Mt nrcatMt?
тателю лишь «штрихи к портрету» новых «героев нашего нового времени». Штрихи, акцентирующие тот или иной ракурс общего портрета и воспроизводящие некоторые оригинальные его детали.
Внимание лингвистов к обороту новые русские стимулируется и тем, что он до сих пор постоянно эволюционирует и в семантическом, и в стилистическом, и в структурном отношении. Любопытно, что чем дальше шли перестроечные процессы, тем отрицательнее становилась окраска этого выражения. Сейчас оно стало уже почти синонимом постреволюционного слова буржуй и обозначает богатых, безрассудно тратящих деньги молодых русских «бизнесменов» (часто—бизнесменов именно в кавычках), которые разъезжают в «мерседесах» и имеют виллы во всем мире. Вместе с тем это выражение—и одна из самых ходовых характеристик современной ситуации в России, которая, как кажется, и по частотности, и по экспрессивной хлесткости, и по семантической полифоничнос-ти превзошла еще недавно популярные слова перестройка и гласность. И неудивительно: за этим выражением стоит целый класс населения, которому подвластны не только финансовые и предпринимательские сферы, но и правительственные и мафиозные структуры. Класс разнородный и хотя не составляющий численного большинства, но «делающий погоду» во всей нынешней атмосфере России. Язык, впрочем, весьма точно отразил социальную разнородность самого понятия, избрав для его обозначения не социологически точный термин, а семантически диффузное, экспрессивное, почти образное словосочетание новые русские. Не случайно в ряду наименований других классов, прослоек и профессиональных групп русского населения оно отличается обычно самой большой семантической неопределенностью: «В московском дворике открывается кафе, которому его хозяйка дает красивое (хотя и вполне двусмысленное) название “Клубничка”. Сюда, как в клуб, начинают наведываться люди разных профессий: фотомодель, фабричный рабочий, сантехник, новый русский, милиционер и ветеринар, богема и вор» (Известия, 1996,21 дек.).
И в живой речи, и в средствах массовой информации этот оборот имеет широкую шкалу употребления и обрастает все новыми и новыми коннотациями. Вот несколько типичных его употреблений: «Известно, что по-настоящему серьезные капиталы российских предпринимателей сейчас работают на иностранные экономики, лежат на банковских счетах^ крутятся на западных биржах и т. д. В то же время российский рынок для “новых русских” куда приА
343 новы ** Н0>ЫЕ ГУССИМЕ?
влекательнее: здесь и норма прибыли выше, здесь и личные связи,,» знание местных условий...» (О. Исправников. Теневые деньги мож* но легализовать. — Комсом. правда, 1996, 9 сект.); «На Обще* ственном российском телевидении — событие. В минувшую субботу там дебютировал новый цикл фильмов по общим названием “Жизнь замечательных людей”... Это значит, что телевидение, об^ кормив зрителя играми, песнями и плясками, почувствовало, осо> нало насущную необходимость обратиться к “золотому фонду1’ нации... И не только телевидение, предоставившее циклу “ЖЗЛ” эфирное время, это осознало, но и богатые люди, в нынешнем па* нимании “новые русские”, выделившие компании “Паганель” деньги на его производство» (Известия, 1996,5 окт.); «Новых русских выращивают в инкубаторах»—название заметки о создании На* циональной ассоциации бизнес-инкубаторов, т. е. системы форм обучения, консультирования, помощи в получении кредитов для начинающих бизнесменов (Известия, 1997,28 янв.); «Как признался Третьяк местным журналистам, он не считает себя “новым русским”, хотя является обеспеченным человеком» (Комсом. правда* 1996, 23 июля).
Концептуальная и семантико-коннотативная диффузность выражения новые русские во многом зиждется на инерции его прозрачной внутренней формы. Первоначально оно употреблялось в основном как характеристика постперестроечных российских предпринимателей, деловых людей нового типа. С самого начала оно воспринималось как обозначение с некоторым «привкусом» запад-ности, хотя при этом казалось собственно русским,
«Выражение возникло, скорее всего, в русской среде, — пишет В. Г. Костомаров, — в подчеркнуто-демонстративной форме нъю+рашен, которую сразу же “калькировали” на новые русские и одновременно перевели на латиницу New Russians. Эта псевдокалька с английского пришлась ко двору, соответствуя вкусовым ориентациям прежде всего представителей этого нового класса и подчеркивая их оценку остальными» (Костомаров 1994, 138).
Большинство современных интерпретаторов этого оборота, однако, предполагают, что оно родилось все-таки не в России, а в недрах западной прессы, считая его калькой с англ, new Russians (M^kosza-Bogdan 1994,231; Stadler 1997,45). Указывают даже на конкретного автора этого оборота—американского политолога и корреспондента «Нью-Йорк Таймс» X. Смита, который впервые употребил его в книгах очерков о России «Русские» (“The Russians”, 1976) и «Новые русские» (“The New Russians”, 1990),
344 Н0ВЫ ЛН Н0*ЫЕ ГУССИНЕ?
которые были основаны на материалах его поездок по Советскому Союзу и интервью (Кононова 1994; Быстрицкий, Шушарин 1996, 52-53; Душенко 1996, 168; 1997, 462; Сафонова 1998, 106-108).
Вполне вероятно, однако, что оно порождено не без влияния (а возможно, и по прямой «подсказке») созвучного с ним и близкого по семантике и иронической коннотативности фр. nouveaux riches ‘нувориши, новоявленные богачи-выскочки, быстро разбогатевшие на спекуляциях военного и послевоенного времени’. Не случайно один из исследователей, приписывающий авторство этого оборота X. Смиту, оговаривает, что, возможно, оно навеяно и выражением new riches ‘новые богачи’, ‘нувориши’ (Душенко 1997,462)—явной калькой с фр. nouveaux riches; ср. также современное новоруссы, имеющее близкую семантику и стилистику. Характерно, что и в средствах массовой информации оборот новые русские нередко перекликается с актуализованным ныне галицизмом нувориши (см.: Сафонова 1998,104), например: «Хит для “новых русских”: назад в об-щагу! Народ посостоятельнее переселяется в общежития. Я не оговорилась. Плата за конурки в общагах стала больше, чем за отдельную квартиру, и рабочие оттуда постепенно рассосались, а кое-кого выписали за неуплату. Вот тогда-то и ринулись в здания нувориши. Из целого этажа типа “на тридцать восемь комнаток всего одна убор* ная” получились две полновесные квартиры... Дома “новых русских”, разбросанные по местным Долинам Сказок,—непременный атрибут слухов и сплетен воронежцев... О дурновкусии нуворишей сказано много. Но история, поведанная знакомым архитектором, впечатляет...» (Е. Колядина, А. Синельников. Жилье-2000: сделай сам! — Комсом. правда, 1998,28 февр.).
Такого рода контекстов, где оборот новые русские постоянно перекликается со словом нувориш (кстати говоря, весьма активизировавшимся в современной русской прессе), немало. В частности, в статье Т. Виркунен «Бизнес-элита: смотрите, кто пришел!» (Аргументы и факты, 1996, № 5, с. 13) слово нувориш употреблено 4 раза. Более того, оно используется даже с подчеркнуто-терминологической целью — для разграничения двух групп «новых русских»: бизнес-элиты (респектабельных, высокообразованных бизнесменов) и нуворишей (бизнесменов-выскочек, склонных к авантюрному бизнесу и роскошному образу жизни).
О влиянии фр. nouveaux riches на образование оборота новые русские свидетельствуют его почти постоянные эпитеты (часто в перифрастическом виде) типа богатые люди, обеспеченные люди. Сема
345 Н0ВЫ ЛИ Н0КЫЕ ГУССИНЕ?
‘богатство’ — стабильная характеристика новых русских вообще. Показателен в этом отношении и один из прозрачных вариантов этого словосочетания—оборот новые богатые (Сафонова 1998,113). Он даже приобрел определенную устойчивость и поэтому зафиксирован как фразеологизм в словаре «Neue Wdrter und Bedeutungen. Russische Lexik der 90er Jahre» с эквивалентом Neureiche. '
Возникнув (возможно) как калька, этот оборот, однако, давно уже был готов к «пересадке» и актуализации на русской почве. Ю. А. Сафонова приводит целый ряд словосочетаний с прилагательным новый, которые предшествовали этой «пересадке». Среди них наиболее близки к прототипу «нового русского» обороты новый человек и новые люди, известные с XIX в. (Сафонова 1998» 100-102). Они (как и их лексические варианты типа новые варвары) были своеобразными «генераторами» словосочетаний близкого типа, которые постоянно возникали и имели различную степень устойчивости: «Моему другу, Владимиру Тархову, может прий* тись — ой-ой-ой, как солоно от “нового типа”» (И. С. Тургенев. Пунин и Бабурин); «И только утешали себя бывшие, что после них наступит в России потоп и что “новые варвары”, сиречь большевики» разрушив культуру, погибнут яко обри в пустыне» (И. Рябов. Москва старая и новая).
Благодаря этим сочетаниям оборот новые русские, попав в начале 90-х годов в язык средств массовой информации и в разговор* ную речь, сразу же был расцвечен всеми собственно русскими красками. Тем более что прилагательное новый в условиях «смутного» времени дало широкую палитру концептуальных и эмоционально* экспрессивных расцветок. Оно моментально зарядилось типичной для русского общественного сознания семантической оппозиционностью. Новые русские поэтому постоянно подаются в периодике в одной связке с возникшими уже на родной почве старыми русскими. Эта пара нередко выступает как бинарная оппозиция, разграничивающая новую и старую Россию, причем «новая» подчеркнуто ассоциируется именно с богатством и богатыми. Таково ее Использование, например, в беседе пенсионерки Ольги Васильевны Темновой по «телефону доверия» с журналисткой «Известий» С. Ивановой:
«— Я пенсионерка, 270 тысяч пенсия. Коренная москвичка. Муж — кандидат наук. Без зарплаты. И мы спрашиваем, на кого рассчитана эта разнузданная реклама богатства и богатых людей... — Ну, очевидно, на них и рассчитана, на богатых... На новых русских, так сказать... — Но ведь их, этих самых новых, по статистике, как вы же
346 Н0ВЫ ЛН Н0*Ые РУССКИЕ?
и сообщаете, всего десять процентов. И всё им, если судить по телерекламе, особенно — на третьем канале: креветки на серебряном пару, 60 долларов порция, черепаховый суп... Да мы и обычной говядины не можем себе позволить! — У вас претензии к телевидению? — У нас вопрос, сама не знаю, к кому: а что для нас, “старых русских”, и не только русских? Для девяносто процентов населения России, то есть для большинства? Вот, например, наша семья — научно-техническая интеллигенция и все наше окружение — такие же “технари”... Нас ведь в Москве, городе с максимальной концентрацией НИИ и КБ, — огромное множество. И все влачат жалкое, нищенское существование. А реклама создает впечатление, будто Москва — исключительно город богатых и сытых людей... Что поделаешь, кто не вписывается в рынок... — Бросьте вы! Мы бы и рады вписаться, но кто дозволяет? Хотя бы в тот же Тишинский рынок, который еще недавно выручал нас, пенсионеров? Выносили на продажу старые вещи, сами покупали, что подешевле... Сначала его закрыли — с вооруженным ОМОНом, вышвыриванием “старых русских” с облюбованных мест, затем открыли — с фонтаном, пальмами и товарами для тех, кто за ними на Тишинку на шикарных иномарках подъезжает. Такие, как я, в такой рынок не вписываются...» (Известия, 1996,17 дек.).
Оппозиция новый русский — старый русский нередко имеет и достаточно прямой характер, квалифицируя определенный тип мышления, должности, политической и другой ориентации тех или иных представителей российского общества:
«Немало столичных предприятий довели до состояния клинической смерти их собственные администраторы. И часто старый русский генеральный директор в этом смысле оказывается куда более изобретательным, чем новый русский генеральный директор (президент или председатель, если угодно» (Каждый новый директор руководил по-старому. —»Аргументы и факты, 1996, № 39, с. 3);
«Чтобы привлечь к проекту “старых русских”, мэр Архангельска буквально на днях разрешил в качестве оплаты за облигации... принимать старые квартиры. При этом ее владелец будет проживать в ней до новоселья. Плюс бюджетникам обещана 50-процент-ная скидка. Теоретически все это в совокупности должно несколько разбавить “облигационные” дома “новых русских” семьями учителей и врачей» (Комсом. правда, 1996, 10 дек.);
«Старые русские против “новых”» — название заметки Евг. Анисимова о назревающем экономическом «конфликте поколений»: «...денег для выплаты пенсий, зарплаты бюджетникам и финансирования государственных программ у правительства нет, а те, у кого они есть, — не платят налоги, зато покупают особняки, машины, бриллианты...» (Коме, правда, 1996, 26 июля);
«Новое такси для “старых русских”» — название статьи Э. Беленковой о превращении обычных старых рейсовых автобусов в маршрутные такси с большей оплатой (С.-Петерб. ведом., 1997,4 февр.).
347 NOtM ** М0>ЫЕ fycomt?
При всей «оппозиционности» понятии и выражений старый русский —новый русский они и в жизни, и в речи постоянно сопрягаются в единое целое, демонстрируя еще недавно аксиоматичное марксистское положение о диалектическом «единстве противоположностей». Ведь на поверку оказывается, что новые процессы, происходящие в России и странах СНГ, во многом инициируются старыми кадрами, которым давно было известно, что «новое — это хорошо забытое старое». Примерно так, между прочим, — «Подъезд тринадцатый. “Новые русские” — хорошо забытые “старые”?» — и называется одна из главок большого очерка С. Рыкова «Дом на набережной. Люди и тени» (Комсом. правда, 1996,12 ноября) о том, какие изменения произошли после перестройки со знаменитым кремлевским домом («воспетым» писателем Ю. Трифоновым), где сейчас бывшая партноменклатура уживается с современными новыми бизнесменами и мафиозными структурами. Единоутробное родство бывших партийных и комсомольских активистов подчеркивается и ярко обыгрывается во многих употреблениях оборота новые русские. Характерны, например, названия статей из петербургской и московской газет: «Из пионеров в “новые русские”. Доперестроечное прошлое и настоящее в коллективном сознании части жителей нашего города» (С.-Петерб. ведом., 1996, 28 сект.); «Новые русские под красным флагом» (Моск, комсомолец, 1997,6 мая).
Некоторые публикации довольно точно указывают на ту общую духовную почву, на которой произошло перерастание старого совка в нового русского: «С одной стороны—совок сердечен и добродушен, любопытен, любит учиться, потрясающе изобретателен, терпелив и вынослив. У него железная хватка и волчий нюх. В нынешние годы изнанка совка вылезла наружу. “Новые русские” — это изнанка» («Доктор, я хочу быть президентом...» Психотерапевт Владимир Леви анализирует предвыборные кампании претендентов. — Комсом. правда, 1996,31 мая). Аналогичный контекст с перекличкой слова совок и выражения новый русский приводит и Т. В. Козлова (1999,107):
«Я долго размышлял о присутствии рядом какой-то новой, циничной, развивающейся силы—мы называем ее “новые русские”... Слова “евродизайн”, “евроремонт”, “еврозаправка”.,. И в какой-то момент я родил для себя название этих новых русских — “евросовок”» (Известия, 1998, 22мая).
А поэты с публицистическим «душком», обыгрывая интересующую нас оппозицию новые русские—старые русские, даже предрекают (правда, шутливо-иронически) воссоединение тех и других уже в новой, европеизированной России:
34g НОВЫ ЛН НОВЫЕ РУССКИЕ?
Верю в нового русского, верю, что скоро «Мерседес» он подарит школе имени Божьего Рождества. Станет он старым русским, поклонником Глазунова, будет широк душою, как коломенская верста...
Верю всякому зверю, но вера не спасает всякого зверя. Девочка гибнет в пожаре. Скаут шмыгает носом. Киллер стреляет в лучшем случае папиросу. Русский не лезет нн в Старый, ни в Новый Завет. А следователь Мандельштама не любит халвы и конфет.
(Ю. Арабов. Стихи о принятии жизни. —
Лит. газета, 1996, 4 сент., с. 16)
Подобные идеи «воссоединения» могут относиться и к «новым» и «старым» других социалистических регионов, например Китая. В статье Ю. Савенкова «Ходоки из Поднебесной», например, рассказывается о китайском художнике, писателе и переводчике Гао Мане, который «видит свою миссию в том, чтобы знакомить нашу публику с китайским восприятием мира, и думает о создании Центра китайской культуры в Москве, который связал бы “старых” и “новых” китайцев, да и россиянам помог понять Восток, а значит, перестать бояться» (Известия, 1997,1 февр.)
Характерно, что интенсивность функционирования оппозиции новый — старый способствует втягиванию в ее орбиту и слов с более узким «этническим» значением, например наименований жителей городов типа питерец:
«Бог даст, все будет хорошо, главным хитом будущего политсезона, скорее всего, станет противостояние внутри нынешней администрации. И тут уж совсем не при чем “старые”и “новые”питерцы, “партия семьи” и прочие отжившие конструкции» (День, 2000, 8 авг.). Откуда же произошли новые русские и кто они, собственно, такие?
На этот вопрос пытаются ответить и политологи, и экономисты, и социологи, и журналисты, и сочинители популярных анекдотов о «новых русских». Библиографию таких исследований читатель найдет в статье Ю. А. Сафоновой. В бытовом сознании это прежде всего молодые люди 20-30 лет, модно и богато одетые, разъзжающие на мерседесах, ягуарах, роллс-ройсах, пользующиеся самыми современными и дорогими средствами информации и т л.
Центр предпринимательских исследований «Экспертиза» в 1992—1993 гг. специально исследовал вопрос «Откуда произошли новые русские?» Результаты исследований показали, что, несмотря на очень короткий период становления и развития этой социаль
349 М0ВЫ ЛМ Н0ВЫЕ РУССКИЕ?
ной прослойки (ей на указанный период было не более 8 лет), в ней можно выделить целых три волны предпринимателей, между которыми имеются существенные различия. 1-я волна начала формироваться после выхода «Закона об индивидуальной трудовой деятельности», в «романтический» период «советского» предпринимательства. Личность новых предпринимателей оказывалась вне социальной структуры, не имела социальной устойчивости и по общественному мнению они попадали в категорию темных хапуг, рвачей, жуликов и проходимцев. Представители 2-й волны (1988 -август 1991 г.) назывались «идеалистами» и во многом сохраняли доминирующие свойства представителей первой волны - «прирожденный предприниматель, начинающий свое дело с нуля». Но если раньше эту группу составляли в основном люди, которые «не могли иначе», то во 2-й волне преобладают люди, которые пытались реализовать себя в деле, особо не думая о его экономической эффективности. Главное отличие этой волны от прежней в том, что с 1989 г. в бизнес пошло «начальство», которое создавало себе плацдарм, а не сразу бросилось в бизнес, как в омут. Предприниматели 1 -й волны основывали кооперативы, 2-й—чаще совместные предприятия, коммерческие банки, биржи, становились менеджерами, банкирами, брокерами. Лишь после августа 1991 г. предпринимательство становится почетным занятием, и это создало условия для повышения его престижности и сделало движение модным и массовым. 3-я волна наряду с «прирожденным предпринимателем» и «предпринимателем-идеалистом и начальником» порождает новый тип — «массовый предприниматель» и даже «предприниматель поневоле» (это когда научные сотрудники, спасаясь от угрозы безработицы, создают свое дело). Больше половины новых предприятий возникали не под влиянием положительных, но под влиянием отрицательных стимулов.
Новые русские появились, следовательно, действительно из старых русских', как из числа бывших фарцовщиков, так и из числа младших научных сотрудников, комсомольских и партийных работников. Все они прошли некую первую стадию «ларечников» и теперь желают социальной реабилитации. Этот класс новых русских бизнесменов еще окончательно не сформировался. Он не похож ни на тип русских купцов или фабрикантов, уже изжитый историей, ни на тип западного бизнесмена, который не выставляет напоказ своего богатства, как это часто делают новые русские. Термины новые русские, новые российские предприниматели, новые
350 Н0ВЫ ЛИ РУССКИЕ?
русские бизнесмены для обозначения этого «класса» кажутся не совсем удачными, но пока другого, более удачного обозначения для них не найдено (M^kosza-Bogdan 1994,231-234).
Близкую, но уже более концентрированную и осовремененную классификацию новых русских спустя два года дает Татьяна Вир-кунен в статье «Бизнес-элита: смотрите, кто пришел!» (Аргументы и факты, 1996, № 5, с. 13). Она не только указывает на существенное различие двух их доминантных групп, но и предлагает развернутую типологию их деловых и семейных отношений, увлечений и пристрастий, материальных и моральных ценностей:
«...Не стоит всех “новых русских” трактовать как единое целое. Они делятся на две группы: бизнес-элита — это респектабельные, высокообразованные бизнесмены, которые, как правило, занимают высокие посты в окологосударственных коммерческих структурах. Живут своей работой, трудятся по 10-12 часов шесть дней в неделю, неравнодушны к политике, пытаются влиять на политические процессы в обществе, респектабельны, ведут достаточно замкнутый образ жизни, ограничивая круг общения себе подобными, серьезны и отнюдь не стремятся демонстрировать свое богатство. Представители второй группы — это нувориши, предприниматели менее образованные, ведущие демонстративно роскошный образ жизни, более склонные к авантюрному и криминальному бизнесу, который и позволил им, кстати, нажить свои “молодые деньги”».
Такую типологию можно не только подтвердить, но и детализировать массой конкретных иллюстраций из современной периодики и живой речи. Интерес к «новым русским» здесь постоянен — отсюда и появление целых «сериалов» на эту тему, типа очерков В. Войновича, длительно публиковавшихся в «Аргументах и фактах». Такой материал дает возможность воссоздать полнокровную «картину мира» новых русских, в которой находят выражение их участие в экономической и политической жизни России; способы «делания» и траты денег (например, скупка и перепродажа недвижимости, торговые операции, развлекательный и криминальный бизнес); поведение в быту (жены, дети, любовницы, секс и алкогольные увеселения, хобби); пристрастие к средствам транспорта определенного типа (иномарки: «Мерседес», «Ягуар», «Порше»); манера одеваться и развлекаться; заграничные поездки и специфика поведения за рубежом; культура и религия и т. д. Показателен один из новейших газетных контекстов, где сообщается о новой моде новых русских —«заказывать» к новогоднему столу депутатов. При этом прил. живой указывает на каламбурно-ассоциативную привязку глагола заказать к жаргонному значению ‘органи
351 мош м моше темпе?
зовать заказное убийство кого-л.; нанять киллера для убийства кого-л.’ (БСЖ, 198):
«К новогоднему столу можно заказать живого депутата. По слухам, такую услугу в предпраздничные днн начали предлагать москвичам некоторые специализированные агентства. Граждане на пред* ложение живо откликнулись. Пригласить к себе домой на Новый год депутата в среде новых русских, как говорят, нынче гораздо престижнее, чем участие в празднике даже крупной поп-звезды. Правда, новое удовольствие финансово “кусается”. Знающие люди называют сумму от 5000 до 10 000 долларов в час, в зависимости от известности депутата, численности фракции, в которую он входит, и частоты появления избранника иа думской трибуне» (Моск, комсомолец, 2001, 19—26 дек., с. 10).
Из таких материалов вырисовывается не только суетный и небезопасный образ жизни, но и уже сложившийся «моральный кодекс» усредненного нового русского. В травестийном виде образ последнего нашел обобщение в серии (тиражируемой и многочисленными печатными воспроизведениями) анекдотов о новых русских. Эти материалы отражают и необычайную активность словосочетания новые русские, делают его по праву не только концептуальной, но и языковой доминантой конца XX в. И как обычно, такая доминантность находит отражение в мощной вариативности этой языковой единицы.
Редкий из фразеологических неологизмов сейчас развивает столь широкую амплитуду формальных и семантических мутаций; как новые русские. Приведем классификацию различных способов актуализации нашего выражения, предложенную Ю. А. Сафоновой, добавляя некоторые варианты:
1) уже упоминавшееся антонимическое сталкивание с прилагательным старый',
2) актуализация при помощи других фразеологизмов {«Новые русские» — это хорошо забытые старые; старые песни о новых русских; старые сказки о новых русских; старые новые русские)',
3) свободное употребление одного из компонентов {«новыерусские» детишки, новые русские мотоциклисты, новый русский кондуктор, новые русские женщины, новая русская номенклатура, новые русские политики, новые русские криминальные, новые фондовые русские и т.п.);
4) образование прилагательного от фразеологизма {новорусские витрины, новорусский замок, новорусский язык; новейшие русские;^ самые новые русские)',
5) образования по аналогии, по модели {новые эстонцы, новые
352 новы ян H0BWt гуакип
дагестанские, Кдвые белорусские, новые крымские, новые грузины, новые вьетнамцы, новыр Китайцы, новые цыгане, новые латыши, новые казахи (казанова), новые украинцы, новые американцы, новые румыны, новые шведы, новые малайцы или новые милиционеры, новые кулаки и т. п.).
Подобное образование по аналогии (новые украинцы, новые кубинцы и др.) отмечают и М. А. Алексеенко и Т. В. Козлова, справедливо видя в них свидетельство продуктивности перифразы-прототипа. Характерно при этом, что подобные трансформы часто имеют шутливо-ироническую стилистику, свойственную и выражению в целом:
«Он-то (брат-двойняшка Пиноккио. — В?М.) и покорит сердце ветреной Мальвины. Лиса Алиса и Кот Базилио на самом деле пародия на “новых русских” — в сериале они, правда, выступают как “новые канарцы”» (Комсом. правда, 1997, 19 дек.); «Моя внучка учится в интернате, где учатся и “новые русские”девушки... Внучка подружилась с одной девушкой из Румынии, также нз “новых румын” И по ее приглашению ездила к ней в Румынию. Рассказывала потом, как они живут. Это замок, настоящий дворец, и в нем несколько комнат принадлежит этой девушке» (Комсом. правда, 2000, 8 авг.).
Оригинальные примеры к некоторым из этих типов актуализации приводит М. А. Алексеенко: употребление варианта оборота в превосходной степени (новейшие русские) «для наименования наиболее “крутых” богатых новых русских»; его стилистическое снижение путем синонимического сталкивания с метафорическим сочетанием молодые волки; развертывание его в более сложное составное наименование («новыерусские» собаки). Любопытно, что подобное «суперлативное» употребление характерно и для украинского языка: так, в газете «Украшске Слово» (1999, 14 окт.) оборот найновйиийукраТнецъ сучасноспи («новейший украинец современности») используется как «псевдоним» президента Украины Леонида Кучмы, до 1990 г. не владевшего украинским языком.
Характерно, что не только общие типы актуализации оборота новые русские, но и многие конкретные манифестации этих типов, которые могли сначала показаться окказиональными, воспроизводятся и тиражируются средствами массовой информации, приобретая некоторую относительную устойчивость. Таковы, например, новые хозяева жизни, новые женщины, новые социалисты, новые левые, новые правые, новые лишние, новые коричневые. Некоторые из них, правда, актуализировались еще до «эры новых русских»: оборот новые коричневые ‘о неофашистах, неонацистах в
353 И0ВЫ ** Н0ВЫЕ РУССКИЕ?
некоторых странах Запада’, например, фиксирует еще справочник по русской неологике за 1985 г., а новые правые ‘политические деятели крайне правого толка, выступившие на современную политическую арену в странах Запада’ — сводный словарь по неологизмам 80-х годов. Нередко удачно услышанная в речи или употребленная журналистом трансформа оборота тут же подхватывается другими и становится фактом полуиндивидуального, полукол-лективного творчества. Так, публикация заметки об открытии в Москве отелей для домашних животных под названием «“Новых русских”собак ждут московские “хилтоны”» (Комсом. правда, 1997,15 апр.), на которую обратил внимание М. А. Алексеенко, в какой-то мере «спровоцировало шутливую заметку-письмо от имени “новой русской” кошки, которая со своим хозяином и на курортах побывала, и по немецкому телевидению снялась, и даже в конкурсе решила участвовать» («Привет от “новой русской” по имени Пульхерия».— Пятница, 1998, № 11, с. 15).
Самой активной, конечно, при этом остается модель образования «этнояимических» оборотов типа новые эстонцы, новые грузины или новые шведы. Некоторые из них (новые украинцы, новые белорусы, новые американцы, новые китайцы) зафиксированы в текущей печати в нескольких употреблениях, что говорит об их воспроизводимости и популярности. К коллекции Ю. А. Сафоновой и М. А. Алексеенко можно добавить и такие конкретизации этой модели, как новые армяне, новые чехи, новые немцы, новые поляки и новые югославы: «“Новые армяне” решили пожить в садах старых мечтателей» — название заметки в «Комсомольской правде» (1998,21 февр.);
«Пожалуй, самая обаятельная и романтичная фигура в достаточно сереньком ряду “новых чехов” — заводчик Стеглик... Покупая “Польди”, Стеглик честолюбиво мечтал превратить городок Кладно, прилегающий к Праге, в своего рода чешские Нью-Васюки» (О. Дмитриева. Дети лейтенанта Швейка. Портреты «новых чехов» в интерьере салонов «Роллс-Ройса». — Комсом. правда, 1995, 9 сент.);
«Обида и разочарование звучали в словах новых немцев на встрече земляков в Мюнхене. Оказалось, что большую часть ненависти немцев из России они привезли с собой» (Б. Майнов. По второму кругу? — Аргументы и факты, 1996, № 11, с. 4);
«Премьер-министр Польши Влодзимеж Чнмошевич: “Новые поляки” предпочитают вкладывать капитал в новую Польшу... Есть ли в Польше слой “новых поляков? ” Другими словами, есть ли в стране национально ориентированный капитал?» (Лит. газета, 1996, 20 сент., с. 14);
«В небольшом селе, недалеко от города Пнрота, покончил жизнь самоубийством Зоран Шурич, бывший солдат армии Республики Сербской Краины... Парень выстрелил себе в голову, когда узнал, что его
354 НОВЫ ЛИ НОВЫЕ ГУССКНП_________
невеста переселилась к местному богатею (“новому югославу”, как сказали бы в России)» (Моск. Новости, 1997, № 18, с. 8).
При всей их «модельности» они далеко не унифицированы ни семантически, ни стилистически. Общий иронический фон, характерный и для генерирующего модель выражения новые русские, конечно, сохраняется. Однако между всеми приведенными вариантами имеются и существенные различия. Новые армяне—почти полная аналогия новых русских', не случайно она подкрепляется и антонимической перекличкой с сочетанием старые мечтатели. Таково же и употребление оборота новые чехи — не случайно оно поддерживается псевдосинонимической привязкой к знаменитым русским Ныо-Васюкам. Для новых югославов характерно не только сохранение основной семы нашего фразеологического прототипа, но и прямая «русская» паспортизация: «как сказали бы в России». Новые поляки уже несколько отходят от этой аналогии, ибо в самом контексте подчеркивается их национальная ориентированность и в целом положительная «классовая сущность». Наконец, новые немцы (правда, в данном контексте)—это уже своего рода «полная противоположность» прототипа, ибо они характеризуют отнюдь не быстро разбогатевших немецких нуворишей, а, наоборот, несколько разочарованных безработицей и другими невзгодами советских немцев-эмигрантов. Еще ярче и контрастнее—семантический рисунок речевого каламбура новые \п\русские ‘о безработных жителях бывшей ГДР’. Семантизируя такие случаи, нельзя довольствоваться общей ссылкой на прототип и указанием на моделируемость, а следует выявлять все подсказываемые контекстом «обертоны смысла» (по выражению Б. А. Ларина) этих выражений.
Подобный анализ особенно необходим, когда наше актуализированное выражение становится центром какого-либо текста, пронизывает его своим «идеологическим» стержнем. Пример такого его употребления — статья Р. Фарзутдинова о премьерном спектакле комитрагедии «Ахиллиада» театра КВН Днепровского университета в «Комсомольской правде» (1997,26 марта). В нем повествуется о смутных временах, близких к нынешним по драматичности, но весьма удаленных от них по хронологии:
«... Шел девяносто какой-то год. Огромная великая страна, всего полвека назад победившая в тяжелейшей войне, развалилась на кучу государств, нередко враждебных друг другу. Народ отрекся от своих идеалов (зачастую ложных), забыл своих героев (зачастую истинных) и занялся своими конкретными мелкими проблемами. Времена наступили даже не смутные, а просто никакие...
355 НОВЫ ЛИ НОВЫЕ РУССКИЕ?
Ах да, мы забыли сказать. Страна, о которой идет речь, называлась Древняя Греция, война — Троянская, а год был одна тысяча двести девяносто какой-то. До нашей эры...
... Древняя Греция, которой правят Нектор (супруг Педрикла) и Педрикл (супруг Нектора), готовится отпраздновать полувековой юбилей победы над Троей. Пленная провидица Кассандра-Массанд-ра предрекает возвращение погибшего героя Троянской войны Ахилла. Ей не верят, но оправившийся от смертельных стрел Париса Ахилл, прихрамывая на уязвленную пяту, возвращается. И не узнает гордых соплеменников — они погрязли в разврате, им нет дела до былых подвигов и славы предков. Ахилл решает, что для подъема духа стране нужны новые мифы и новые герои. С этой целью он предлагает “новым древним грекам” пасть смертью храбрых во славу отечества. Новые древнегреческие откупаются драхмами на строительство нового храма, а Ахилл погибает в бытовой сваре...»
Центральная позиция оборота новые русские здесь подчеркивается самим названием статьи — «Откуда в Днепропетровске завелись “новые древнегреческие”»? В тексте этот оборот разворачивается во всю свою семантическую и структурную ширь. В сущности, в одном этом употреблении представлены почти все типы актуализации сочетания новые русские, отмеченные Ю. А. Сафоновой, М. А. Алексеенко и Т. В. Козловой: антонимическое сталкивание {новый — древний), синонимическая перекличка и актуализация при помощи других словосочетаний {новые древние греки — новые мифы и новые герой), свободная экспликация одного из его компонентов {новые древнегреческие). При этом обновленное словосочетание инкрустируется в целую мозаику оборотов, типичных! для актуальной действительности России: смутные времена, отречься от своих идеалов, погрязнуть в разврате и т.п. Это заряжает новой экспрессией ставшее уже расхожим противопоставление новый русский — старый русский и придает ему особую «идеологическую» заостренность. При этом оно остается легко узнаваемым, несмотря на свою оксюморонную «древнегреческую» новизну.
Сама возможность образования таких замен — от новых американцев до новых древнегреческих — свидетельствует о том, что выражение новые русские давно уже перестало быть неологизмом и вошло в самую плоть и кровь современного русского языка. Придя в него как заимствование, оно совершило мощный отрыв от породивших его фр. nouveaux riches и англ, new Russians и, обогатившись собственно русскими коннотациями и вариациями, воспринимается в европейских и других языках как русизм интернационального масштаба.
На каком wocy зарубка?
Тот, кто часто< чаще всего сом___________
умный человек. Заруби это себе на носу.
В. П. Катаев. Белеет парус одинокий
Это хорошо известное русское лс выражение весьма единодуш-
но объясняется историками и популяризаторами русской фразеологии. «В старое время почти все население в русских деревнях было неграмотным, — пишет, на
пример, А. И. Альперин. — Для учета сданного помещику хлеба, произведенной работы и т. п. применялись так называемые бирки — деревянные палки длиной до сажени (2 метра), на которых
ножом делали зарубки. Бирки раскалывали на две части так, чтобы одна оставалась у работодателя, другая — у исполнителя. По количеству зарубок производился расчет. Отсюда выражение “зарубить наносу”, означающее: хорошенько запомнить, принять во внимание на будущее» (Альперин 1956,17). В этом же ключе толкует это выражение и Э. А. Вартаньян, подчеркивающий, что слово нос тут вовсе не означает орган обоняния, а, «как ни странно, оно значит “памятная дощечка”, “бирка для записей”» (Вартаньян 1960, 84).
Авторы «Краткого этимологического словаря русской фразеологии», определяя слово нос в этом обороте как «палочка, дощечка и т. п., на которую ставили зарубки, засечки и т. п., чтобы вести учет работы, долгов, отпущенного товара и т. п.», пытаются предельно конкретно выявить истоки этого значения. Это делается путем прямой увязки словвнос с глаголом носить: «нос—то, что носили с собой, при себе». Как видим, различие в толкованиях невелико: оно относится лишь к размерам «носа» — бирки, длийа которой у А. И. Альперина достигает двух метров и которая у других историков языка остается просто небольшой дощечкой или палочкой.
Особо интересует этимологов взаимоотношение предполагаемых омонимов нос ‘орган обоняния’ и нос ‘бирка с зарубками для памяти’. Пытаясь полностью отвергнуть ассоциацию с первым омонимом как абсурдную, Э. А. Вартаньян замечает, что такое понимание свидетельствовало бы о жестокости: «...не очень-то приятно, если тебе предлагают сделать на собственном лице зарубки» (Вартаньян 1960, 84), и, успокаивая читателей от этого «напрасного страха», переходит к изложению традиционной этимологии.
357 НА КАК0М и00^3ArytKAT __________________________
Несколько иначе, не отрицая совершенно естественной в бытовом восприятии ассоциативной связи оборота зарубить на носу с нос ‘орган обоняния’, подходит к этому взаимодействию В. И. Коваль, который подключает к своему анализу материал белорусского, украинского и болгарского языков. Признавая исходным значение ‘бирка для записей’, он подчеркивает, что постепенно это слово стало соотноситься с общеизвестным значением, что и привело к утрате исходного образа. Благодаря этому мы якобы воспринимаем его как «изображение зарубки на носу (органе обоняния)» (Коваль 1982,142-143). О таком восприятии свидетельствуют каламбурные возможности оборота, изящно реализованные А. П. Чеховым в одном из своих писем:
«Сим довожу до Вашего сведения, что моя пьеса пойдет в четверг 19 ноября, каковое число прошу Вас зарубить на носу Лилиши, с тем, чтобы Лилиша показывала Вам свой нос ежеминутно» (Письмо А. П. Чехова А. С. Киселеву 10 ноября 1887 г.).
Проверим, выдерживает ли традиционное этимологическое объяснение оборота зарубить на носу проверку языковыми и вне-языковыми фактами.
То, что бирки действительно были прежде в большом ходу, несомненно. На Руси на такие палочки или дощечки с зарубками — крестами или другими резами, реже—краской «для памяти» наносились различные знаки для счета, измерения чего-либо или для ориентира. Неграмотные обычно имели особую бирку для каждого должника и раскалывали ее пополам, отдавая одну половину тому, с кем они имели торговые или денежные дела. При расчете обе половинки бирки складывались. Такой же обычай существовал и в средневековой Европе. В Чехии, например, в XV—XVI вв. трактирщики широко пользовались особыми палками—«врубами» (vruby), на которые наносили, «вырубали» ножом отметки о количестве выпитого или съеденного посетителями. До сих пор память об этом способе расплачиваться сохранилась в чешском выражении ud61at со па svuj vlastni vrub (букв, ‘сделать что-либо на свой собственный срез, заруб’) ‘сделать что-либо на свою личную ответственность’.
Память о таком способе запоминания, собственно, сохраняется до сих пор и в России. Вот что, например, написал мне в 1983 г. один из читателей «Русской речи» москвич М. В. Панькин, отстаивая традиционное толкование оборота зарубить на носу:
«Выражение “зарубить на носу” имело прямое, а не переносное значение в дореволюционной России и в первые годы советской власти, когда подавляющая часть крестьянского населения быласо-
358 ИА КЛК0Н НОСУ ЗАРУБКА?
вершенно неграмотна. В период нэпа мне было 5-6 лет, и я точно помню, что деревенские пастухи, собирая плату за свой труд (плата натуральная — рожь, пшено, горох, чечевица и др.), ходили по домам с липовой палкой, которая называлась носом, так как пастухи носили ее с собой. Получив с крестьянина плату, пастух делал ножом зарубку на палке (по порядковому номеру дома в деревне). Крестьянин следил за тем, чтобы зарубка была сделана, и обычно говорил при этом: “Ты, Иван, заруби себе на носу-то, а то забудешь да опять придешь...”».
Разумеется, бирка была не единственным способом запомнить долг. В русских и европейских трактирах нередко такие зарубки делались топором прямо на деревянной стене, а должники «для контроля» повторяли их на стене своей избы. Еще до недавнего времени этот обычай сохранялся, о чем свидетельствует роман А. С. Серафимовича «Город в степи», где один должник отвечает на упрек о неуплате долга, что он делал топором «контрольные» зарубки и все уже уплатил. Память о таком способе учитывать долги сохранилась в обороте зарубить что-п. на стене (на стенке) ‘накрепко запомнить’, который хорошо известен как русским диалектам, так и литературному языку:
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому, Где нужно власть употребить.
(И. А. Крылов. Кот и Повар)
В русском языке XIX в. немало оборотов, отражающих систему фиксации долга с помощью бирок. Словарь В. И. Даля фиксирует, например, такие: срезать кого с бирки — «кончить с ним счет, простить долг безнадежному, несостоятельному должнику; ты у меня еще на бирке зарублен, ты у меня на бирке» (Даль 1,87). Ср. также моек, покупать на бирку ‘в долг’, влад. нанимать рабочего на бирку ‘нанимать рабочего без письменного условия’ (СРНГ 2,293). Среди этих выражений есть и обороты, аналогичные по синтаксической модели и значению фразеологизму зарубить на носу: я тебе это нарублю (насеку, нарежу) на бирку ‘я это тебе запомню, не прощу’; наруби ты это себе на бирку ‘помни, а я не прощу’ (Даль I, 87). Характерно, что еще в XVIII — XIX вв. глагол нарубить мог употребляться и в сочетании со словом нос. Только в форме ему все наруби на нос, например, фиксирует это выражение «Русско-французский словарь или этимологический лексикон русского языка» Ф. Рейфа с французским толкованием grave le lui dans la memoire comme il faut ‘врежь ему это в память как следует’. Именно так оно употреблено и у Г. Р. Державина:
359 НА КАК0М И0СУ ЗАРУБКА?
«Миловидова: Не верю, не верю, что барышни вам такой сумбур приказали. Я им на нос нарубила, кому что приказать» (Кутерьма от Кондратьев).
Ср. также современное диалектное (онеж.) нарубить на носу.
О явной перекличке выражений нарубить (насечь, нарезать) на бирку и нарубить (зарубить) на носу свидетельствует и диалектное (смол.) забиркуй себе это на носу ‘хорошо заметь, запомни что-либо’.
Итак, казалось бы, факты подтверждают традиционное этимологическое отождествление слов нос и бирка. Тем не менее есть достаточно собственно языковых данных для его опровержения.
Прежде всего настораживает отсутствие в словарных материалах русского слова нос в значении ‘бирка, дощечка или палочка с засечками или зарубками’. Его не фиксируют ни В. И. Даль, весьма внимательный к диалектным оттенкам общеязыкового русского словаря, ни И. И. Срезневский (в «Материалах для древнерусского словаря»), особо наблюдательный к профессиональному употреблению древнерусских слов. Не отмечает такого значения для слова нос и богатейшая картотека «Словаря русских народных говоров». Могло ли, возникает вопрос, исходное значение стержневого слова нашего оборота настолько исчезнуть из употребления, что не сохранилось никаких его следов даже в картотеках? Лингвистический опыт показывает, что такие случаи крайне редки.
Изучение историко-этимологической литературы, посвященной нашему обороту, показывает, как постепенно традиционная версия «обогащалась» конкретными деталями, которых вначале не приводилось. Первоисточником для всех упомянутых выше авторов служил словарь М. И. Михельсона, в котором это толкование дается весьма лаконично и не столь определенно, как это делали его последователи: «На носу зарубить иноск. крепко наказать кому (как зарубают на бирке—для памяти)». Совершенно ясно, что Михельсон не приравнивает семантически слово нос к «бирка», а, скорее, подчеркивает, что речь идет о метафоре—не случайно здесь употреблен им сравнительный союз как. Похоже, следовательно, что традиция трактовки слова нос в этом выражении как «бирка» родилась ошибочно, из-за неверного прочтения толкования Михельсона.
Далее, весьма важно для выяснения исходного образа оборота зарубить на носу, что в славянских языках есть ряд выражений, образованных по той же структурно-семантической модели, которые никак нельзя свести к представлениям о деревянной бирке с зарубками для памяти, Так, в русском языке кроме приводимых выше
36Q НА КАКОМ НОСУ ЗАРУБКА?
зарубить на носу, нарубить на бирке и зарубить на стене (стенке) широко употребляется и вариант зарубить на лбу. его фиксируют как словари литературного языка (например, «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А. И. Молоткова), так и диалектные источники (например, в воронежских говорах — Роз. Хаз. Сл., 296). В XVIII — XIX вв. в том же значении ‘накрепко запомнить’ употреблялся и оборот на коже надобно написать (ППЗ, 97). И лоб, и кожа здесь уже—конкретно «телесный» материал для записи впечатлений или фактов. Аналогично и известное выражение зарубить в памяти, где, конечно, нет никакой прямой связи с биркой'. «Помогать погрузке—похвально, мешать ей—преступно. Заруби это в своей памяти» (И. И. Ликстанов. Приключения юнги). Ср. также яросл. голова не на том месте зарублена у кого-либо lQ недостаточно умном человеке’ (ЯОС 3, 88) и сиб. зарубить науме ‘запомнить крепко-накрепко, навсегда’ (ФСС, 80).
Показательно, что приведенные варианты нельзя трактовать как случайное развитие фразеологизма зарубить на носу, поскольку в других славянских языках они употребляются даже шире, чем оборот со словом нос. Так, в белорусском языке наряду с зарубщь сабе на носе употребляется и затсываць на лбу (лбе), затсаць на лбу (лбе), назатсываць на лбу (лбе) ‘твердо помнить’, ‘накрепко запомнить’ В украинском языке также наряду с зарубати (закарбувати, т. е. нарезать. —В. М.) co6i на uoci употребляется на равных правах и зарубати (закарбувати) co6i налобн Кроме того, здесь также употребителен оборот закарбувати в пам’яти, тождественный русскому зарубить в памяти. В болгарском языке нос также фигурирует как объект, на котором нечто записывается: брънка на носа. Кроме того, здесь с этой же символикой употребляются и такие названия частей тела, как «лоб», «ухо», «палец»: запиши си (пиши си) го на челото, обица на ухото, навия си на пръста—‘запомни это накрепко, намотай себе на ус’. Есть в болгарском языке и фразеологизм запиши си едно на ум с тем же значением. Ср. также словен. па celu mu zapisano ‘у него на лбу написано’, которое, правда, имеет иное значение, но продолжает образ, положенный в основу приведенных оборотов.
В чешском, словацком, сербохорватском и верхнелужицком языках русскому зарубить на носу соответствуют обороты zapiS si to za usi, zapis si to za usi; zapisi za ucho; za wusi zapisad, буквально значащие ‘запиши это себе за уши (за ухо)’. Ср. также польские обороты wbic sobie w glowiQ (w pami$c) ‘вбить себе в голову (в память)’, wyryc w sercu (w pami^ci) ‘врезать в сердце (в память)’.
361 НА КАКОМ НОСУ ЗАРУБКА?
Образные аналогии, где представление о прочном запоминаний прямо связано с анатомическими наименованиями, можно было бы продолжить. Так, русское наматывать (мотать) на ус и его ела* вянские параллели основаны на метафоре, где ус выступает своего рода узелком для памяти. В неславянских языках, пожалуй, наиболее ярким и широкоупотребительным оборотом такого рода является нем. etwas hinter die Ohren schreiben, sich etwas hinters Ohr schreiben (букв, ‘записать что-либо за уши, за ухо’) ‘запомнить накрепко’. Упомянутые выше чешские, словацкие, сербохорватские и верхнелу-жидкие фразеологизмы, видимо, являются кальками с этого немецкого оборота. Немецкие паремиологи объясняют это выражение культурно-исторически: «В средние века якобы при всякого рода торжественных актах, празднествах и церемониях суровые отцы “врезали” в ухо своему мальчишке пощечину или попросту крепко отдирали за уши, чтобы тот запомнил об этих торжествах на всю жизнь. В качестве утешения любящий отец дарил сыну подарок» (Seiler 1922,76). Такое объяснение вполне реалистично, если учесть действительно существовавший и зафиксированный многими историками обычай памятного наказания молодежи при различных случаях — например, порку на меже (так называемый «памятный про-чухон»), который у восточных славян был своего рода предостережением против возможных в будущем распрей о границах земельных наделов у крестьян.
Итак, приведенные языковые факты показывают, что слово нос в русском выражении зарубить на носу вполне можно понимать и анатомически. В этом случае оно является типичной фразеологической метафорой, где нос переносно означает своеобразную бирку, на которую для памяти наносятся зарубки. Если предположить обратное — что значение ‘бирка’ у слова нос было исходным, а лишь забвение его вело ко вторичному переосмыслению и к замене этого слова компонентом лоб (как предполагает, например, В. И. Коваль), то болгарские, чешские, словацкие и сербохорватские параллели со стержневыми словами «лоб» и «ухо» должны были быоказаться заимствованными из русского, что трудно допустить, учитывая их древнюю фиксацию в словарях. Вот почему остается признать, что оборот зарубить на носу первоначально означал шутливо-угрожающее метафорическое пожелание накрепко запомнить то, что могло оставить заметный след на столь видной и легко уязвимой части лица. Ведь, действительно, человеку с зарубкой на носу достаточно взглянуть в зеркало, чтобы никогда не забывать того, ради чего он эту отметину получил.
Знать как облупленное яйцо?
— А ты знаешь ее! Чего ты сразу-mo руками замахал?! Ты хоть раз бывал там?
— Вязовку-то? Да я ее как облупленную знаю, вашу Вязовку!
В. М. Шукшин. Выбираю деревню на место жительства
Сравнение знать как облупленного, несмотря на его широкую известность, относительно недавно попало в наш литературный язык. Не случайно богатейшее собрание М. И. Михельсона, зарегистрировавшее в начале XX в. даже окказиональные фразеологизмы, этого оборота в себя
не включило: видимо, тогда он еще оставался за пределами литературного обихода. Зато в советское время он стал активным элементом русской фразеологической системы, конкурируя со своим синонимом знать как свои пять пальцев. Его употребляют многие писатели для характеристики детального, до мельчайших подробностей знания кого-либо или — реже — чего-либо:
«И было у него какое-нибудь прошлое — так ведь все же знают его как облупленного: отец его из мелких чиновников, и сам он никогда ни в чем не был замешан» (А. Фадеев. Молодая гвардия); «Жаль, что я вместе с вашими не пошел: может, на улице бы его встретил, — я-то ведь знаю Риго как облупленного» (В. Саянов. Небо и земля); «Майора нашего я как облупленного знаю. С полслова понимаю. Мировой старик» (В. Некрасов. В окопах Сталинграда); «Курочкину вдруг показалось, что о нем говорят: мол, знаем мы его как облупленного» (Е. Борисов. Обычный рейс); «— Бурю пережидают дома, — настаивал Комнатный. — Нашего прокурора знают как облупленного. Слухарь, законник» (В. Кукушкин. Хозяин); «Мы не телепаты, мы просто знаем друг друга как облупленных» (В. Санин. Трудно отпускает Антарктида. — Знамя, 1977, № 5, с.21); «Класс у тебя будет неполный. А в соседней школе один класс закрывают. Ну пополнят твой класс чужими. Неужели “собственные” двоечники хуже? Ты же их знаешь как облупленных и уже чему-то научил» (Ю. Забинков. Фигура умолчания. — Лит. газета, 1975, № 3, с.11); «— А вы его знаете? — Знаю, слышал. Сам-то я не из здешних мест, а здешних мы тоже знаем как облупленных» (А. Баженов. Осенью в школу).
Стилистическая тональность оборота знать как облупленного более низка, чем окраска сравнения знать как свои пять пальцев. Просторечное выражение знать как облупленного более экспрес-
363 ЗНАТЬ КАК КУПЛЕННОЕ ЯЙЦО?
сивно: это не просто знать до мельчайших деталей кого-либо, но# знать его со всеми недостатками, «со всеми потрохами».
Повышенная экспрессивность выражения обусловлена не только просторечной окраской слова облупленный, но и отсутствием того существительного, которое им некогда определялось. Мы уже встречались с такими случаями (ср. на боковую, как заведенный), и они оказывались довольно крепкими этимологическими орешками. Это и понятно: ведь к большинству прилагательных и причастий можно присоединить немало определяемых слов. Иногда их ряд весьма широк, иногда достаточно узок, но всегда возможностей для гипотетических реконструкций больше, чем наличие реального, конкретного прототипа.
Какое же именно существительное определялось словом облупленный в нашем обороте?
На этот вопрос попытался ответить Н. М. Шанский. Он возводит это сравнение к конкретным словосочетаниям как облупленное яйцо или как облупленное яичко. Наш оборот — якобы результат их усечения, эллипсиса.
Причастие облупленный, действительно, широко употребляется в сочетании со словами яйцо, яичко. Такая связь «освящена» и фольклором. Ср. хотя бы взаимодействие этих слов в народных пословицах и поговорках: облупить как яичко; Дай ему яичко, да еще и облупленное; Вот тебе яичко попово, облуплено, готово; солгать, что облупленно яичко съесть и т. п. Есть в фольклоре и выражения (чисто, ясно) как облупленное яичко; (словно) яичко облупленное ‘так ясно, готово’ (Михельсон 1912,313,1041), которые как будто приближают нас к этимологической расшифровке Н. М. Шанского.
Более детализированный взгляд на эти обороты, однако, показывает и некоторые семантические различия.
Во-первых, чистота и ясность предельно облегчают познание чего-либо, что вступает в некоторое противоречие с основной семантической доминантой сравнения знать как облупленного', познание до деталей, до «потрохов» требует как раз преодоления неясностей, трудностей, расплывчатостей. Не случайно ни одно из сравнений типа ясно как облупленное яичко (ясно как апельсин, ясно как божий день, ясно как шоколад, просто как Колумбово яйцо) не развило в нашем языке такой семантической оттеночности, как оборот типа знать как облупленного. Да и знать как свои пять пальцев никак невозможно преобразовать ъясно как пять пальцев.
Во-вторых, в выражении как облупленное яичко причастие стоит в среднем роде, что должно было как-либо отразиться на даль-
364 зн*ть КАК 0ЬЛУПЛЕНН0Е
нейшей судьбе сравнения. А именно—это сравнение должно было бы ориентироваться в основном на характеристику неодушевленных существительных. Но, как мы видели из примеров, все писатели, кроме В. Шукшина, предпочитают употреблять его применительно к человеку. Уже поэтому можно подозревать, что утраченное существительное могло относиться к классу одушевленных.
Наконец, сомнения в первичности сочетания как облупленное яичко вызывает масштаб распространения «полного» и «усеченного» вариантов в диалектах и других славянских языках. Сравнение (чисто, ясно) как облупленное яичко зафиксировано лишь в сборнике М. И. Михельсона. И это не случайно, поскольку он, по-видимому (как это иногда им делалось), несколько «скорректировал» здесь В. И. Даля, у которого соответствующие выражения звучат иначе: «Налицо — как яйцо (готово) и Все налицо как выеденное яйцо, ясно» (Даль IV, 676). Как облупленное же яичко и в народных говорах, и в литературном употреблении обозначает что-либо гладкое и чистое, а отнюдь не ясное. А облупить как яичко переносит нас вообще в иную, «преступную» сферу, ибо значит ‘начистую ограбить’: «Э-эх, купцы, купцы... сами-то крещеного человека при случае как яичко облупите» (Н. Наумов. Как аукнется, так и откликнется).
Если границы распространения оборота (ясно) как облупленное яичко не простираются за пределы сборника М. И. Михельсона, то выражение знать как облупленного известно не только всему русскому просторечию, но и многим говорам. Уже в XIX в. оно было записано, например, на Смоленщине: «Таперь каждый знаить дру-гова як аблуплинава» (Добровольский 1914, 34). Диалектологи зафиксировали его также в псковских и приволжских говорах. Характерно, что в той же зоне этот оборот имеет вариант узнавать (узнать) кого-либо облупленного (облупленным) ‘знать кого-либо очень, слишком хорошо’ (пск., смол. — СРНГ 22,112). Такое употребление заставляет еще более усомниться в исконности образа яичка, ибо здесь явно выражена направленность на человека: «Я его облупленного могу узнавать», «Я узнаю тебе и облупленным».
Наше сравнение мы встречаем и в близкородственных белорусском и украинском языках, причем именно в народном обиходе, что свидетельствует в пользу его исконности. Бел. знаем его як облупленного как «пословицу» записал И. И. Носович, а укр. знают як облупленого — Б. Д. Гринченко. Любопытно, что белорусский лексикограф относит это выражение к облупленный ‘голый, не одетый, не убранный’, а украинский — к облупленной ‘ободранный’. Понятно, что это еще не этимологическая расшифровка, а
365 ЗНАТЬ КАК ОБЛУПЛЕННОЕ ЯЙЦО?
словарные толкования, но и они дают нам некоторую семантичес? кую подсказку в поисках верного ответа. Ведь не случайно в этих толкованиях нет и намека на узко «специализированное» облуп* ленное яичко\ в белорусской и украинской народной речи нет соотч ветствующих сравнений, из которых можно было бы «вывести» наше общее знать как облупленного.
Быть может, в поисках истины нам прибегнуть к испытанному способу—взглянуть на материал других славянских и неславянс-г ких языков, чтобы выявить структурно-семантическую модель, по которой образовано и наше сравнение?
В этот раз такой анализ (по-видимому, из-за того, что сравнение имеет узкие восточнославянские границы распространения) не дает желаемого результата. Славянские языки по-разному передают идею досконального знакомства с кем-либо. В белорусском кроме известного еще по словарю И. И. Носовича ведаць як аблуплеиага находим ведаць як свае пяць пальцау ‘знать как свои пять пальцев’, ведацъ як пацеры што ‘знать как начало молитвы «Патер ностер»’ (МК, 36-37), ведаць як лисого шэлега ‘знать как испорченную полушку’ (Янкоусю 1973,25). В украинском есть близкие белорусским обороты так го знае, як злий (лихий) шелюг ‘он его знает, как испорченную полушку’ (Франко II, 207) и я его знаю як амть в пацэр1 ‘я его знаю, как «аминь» в «Патер ностер»’ (Франко II, 208), а также так го знае, як квасне ябко ‘знает его как квашеное яблоко’ (Франко II, 207) и знати як cmapi своХчоботи ‘знать, как свои старые ботинки’ (ОС, 301). Можно привести и массу других славянских сравнений на эту тему: пол. znac jak zly szel^g ‘знать как испорченную полушку’, сло-вацк. poznaf ako faloSny peniaz ‘знать как фальшивую деньгу’, чеш. znat jako zly falesny gros (peniz) ‘знать как испорченный (фальшивый) грош (деньгу)’, znat jako sve boty ‘знать как свои ботинки’, znat jako svuj kabat ‘знать как свое пальто’, zndt jako svou kapsu ‘знать как свой карман’, znat jako svuj palec ‘знать как свой большой палец’, znat jako svou dlan ‘знать как свою ладонь’ и т. п.
Разгадка, однако, находится именно в той зоне, где записаны народные сравнения о ком-то (или о чем-то?) облупленном. В белорусской народной речи известно сравнение ведаць, як облупленную казу ‘знать как облупленную козу’ (Янкоуск! 1962, 399; 1973,25). Значит, первоначально речь шла именно о... козе!
Такая расшифровка помогает прежде всего понять, почему наш оборот употребляется почти исключительно как характеристика людей. Ведь практически все сравнения с козой характеризуют именно человека: прыгает как коза, смотрит как коза, драть как Сидорову козу. Кстати, последнее сравнение (которому в этой кни-
Збб ЗНАТЬ КАК ОБЛУПЛЕННОЕ ЯЙЦО?_
ге посвящен особый очерк) широко употребляется и с глаголом лупить, от которого образованы причастие облупленный и прилагательное лупленый'. «Надо же было ему, этакому французскому поганцу, сюда заехать и этакое пакостное дело здесь учинить, чтобы мы его тут на свой фасон как Сидорову козу лупили» (Н. Лесков. Пигмей).
Уместно здесь, пожалуй, вспомнить и о «козе лупленой» из всем известной сказки. Она так и начинается: «Коза рухлена, половина бока луплена!... Слушай, послушивай!..» (Афанасьев 1,89). Рухлена — это ‘слабая, хилая, старая, негодная’, а луплена—‘ободрана’. Эта коза приобретает, по сказке, плачевную известность акцией насилия: заперлась в избе и не пускала туда бедного зайчика. Попеременно ее узнают и пытаются оттуда изгнать бирюк-волк, кочет-петух и, наконец, пчелка, ужалившая лупленую козу в бок и тем самым положившая конец агрессии.
Версия о лупленой, т. е. ободранной длительным битьем, козе как главной героине нашего оборота подтверждается и данными русских народных говоров. В Сибири во многих местах записано сравнение, полностью синонимичное литературному, — знать как ободранного’. «Вы его как ободранного знаете» (кемер., том.); «Вы его как ободранного знаете, с веточек-то» (том.), «Абызова я знаю, как ободранного, не сиберяк он» (кемер.). Ободранный в этом выражении, как верно отметили составители «Словаря русских народных говоров», значит ‘высеченный розгой’. Ср. бранное выражение коза драная (Сл. Грота — Шахматова IV, 1330) — прямую перекличку со сказочной козой лупленой.
Любопытно, что в одном из говоров движение этого сравнения к характеристике исключительно человека выразилось в превращении ободранного в обобранного'. «Знаем мы его как обобранного» (Ольхонский р-н Иркутской обл. — РАСл.Ольх., 153). Локальная ограниченность второго варианта свидетельствует о его вторично-сти. Тем более, что ассоциация ободрать ‘облупить шкуру’ или ‘содрать кору’ ‘ограбить’ характерна и для сравнений об облупле-нии Сидоровой козы: «Меньше двугривенного со строки не берите!.. Их надо обдирать, как Сидоровых коз» (П. Боборыкин. Ходок). В говорах (недалеко от Чебоксар), кстати, сравнение обдирать как Сидорову козу было также записано в значении ‘ограбить, обчистить до предела’ (Сл. Грота — Шахматова IV, 1328), что подтверждает устойчивость такой связи.
В славянских языках можно найти и некоторые косвенные подтверждения версии об облупленной козе. В сербохорватском есть выражение derati i stu (staru, svoju) kozu ‘говорить, повторять одно и то
3gу ЗНАТЬ КАК ОБЛУПЛЕННОЕ ЯЙЦО?_
же’. Буквально — ‘драть ту же самую (старую) козу’ Здесь лупка старой козы ассоциируется именно с доскональной известностью^ Близко к этому и чешское ja do nej vidim jak do hladovy (hubene) kozy или jako skrz hubenou kozu ‘я его знаю досконально, как облупленно* го’. Буквально оно значит ‘я вижу тебя насквозь как голодную (худую) козу*. Облупленности тут, правда, нет, но зато эти сравнения с голодной и худой козой (а худая—значит, в каком-то смысле и драная) полностью адекватны по смыслу русскому обороту знать как облупленного^
Наконец, последний аргумент: ныне устаревшее в русском язы| ке сравнение знают его все, что рябую собаку. Его отразил в своей словаре В. И. Даль, сопроводив при этом примечанием: «перевод* ное с немецкого». Что ж, сравнение с рябой или пестрой собакой действительно — калька с немецкого, хотя сам В. И. Даль записал и чисто русское сравнение такого же типа: его знают, как попову собаку. Историки немецкой фразеологии довольно легко объясняют метафорический смысл выражения bekannt wie ein bunter (scheckiger) Hund: поскольку собаки бывают в основном одномастными, то рябая или пестрая резко бросается в глаза, легко запоминается и становится всем известной (Rohrich 1977,446). Аналогичны по образу албанские и румынские выражения i njohur si kali baloshi и cunoscut ca un cal brea§ (букв, ‘известен как белолобый конь’) ‘очень хорошо всем известен’ (Артемьева 1989,17). (Ср. также русский диалектный оборот знать как белого воробья.)
Понятно, конечно, что албанский и румынский «белолобик», немецкая рябая собака и даже русская попова собака весьма далеки от нашей облупленной козы уже потому, что в «лошадиных» и «собачьих» сравнениях нет никаких данных об избиении. Тем не менее важно, что известность здесь связана именно с животным. Значит, такая модель «работает» не только у славян. Любопытны в этом отношении близкородственные литовский и латышский языки: в первом досконально известного человека характеризуют буквально так же, как и в русском: pazinti kaTp nulupta ‘знать как облупленного’, во втором— как в немецком: pazint ka raibu suni ‘знать как рябую собаку’. Как видим, от лупленой козы до рябой собаки не так уж и далеко...
Итак, поиски выпавшего из оборота знать как облупленного звена привели к реконструкции исходного сравнения знать как облупленную козу. Образ этот вполне логичен, если учесть, что коза — непременный объект хозяйских побоев (см. бить как Сидорову козу). Раз бит—значит, свой, домашний, «ученый», хорошо известный. Причем известный со всеми недостатками и прегрешениями, капризами и причудами. Словом, такой, которого знают как облупленного.
Зачем городят огород?
— И что же вы такого совершили? — спросил Авросимов...
— Да что ж вам сказать, — ответил Аркадий Иванович, — ежели вы моего бывшего полковника не вспомните.
Уж коли вы его не знаете, так чего мне огород-то городить?
Б. Ш. Окуджава. Глоток свободы
Каждому, кто говорит по-русски, выражение городить огород кажется весьма прозрачным: огород— участок земли с грядками для овощей, располагающийся обычно вблизи дома, городить — огораживать, обносить забором. Поэтому в большинстве современных наших словарей выражение относится к этому единственному
значению существительного.
Так, собственно говоря, поступают и некоторые лингвисты. Говоря об обычности соотнесения первичного образа оборота со словом огород в привычном для нас значении, Н. Т. Бухарева замечает: «Может быть и так, поскольку в древнерусском языке слово городити означало “огораживать” (Срезневский I, 555), а слово огородъ употреблялось в современном значении (Срезневский II, 606)» (Бухарева 1983,12). Такую возможность допускают и те толкователи русской идиоматики, которые считают, что огород городить образовано путем отсечения одной строчки от народной присказки или шутливой песни, которую пели уже в XVIII в.:
И на что было огород городить, И на что было капусту садить.
Оторвавшись от этого более пространного фольклорного контекста, выражение огород городить зажило самостоятельной жизнью (Булатов 1958, 56; Абрамец 1968, 102). Это объяснение* по* видимому, навеяно сборником М. И. Михельсона, в котором наш оборот дается именно в составе развернутой сентенции: «Зачем же было огород городить, зачем же было капусту садить “о бесполезном труде”» (Михельсон 1901-19021, 338). По приводимому контексту ясно, что эта фраза бытовала в конце XIX в. в русской разговорной речи и публицистике:
«Как могло случиться, что [Петербургская] дума, принявшая проект “городского ломбарда”, сама же его забаллотировала, как скоро дело коснулось существенного пункта, т. е. денег [сделать заем]? Зачем же было огород городить и капусту садить?» (В. О. Михневич. Вчера и сегодня. — Новости, 1895, 12 мая, № 129).
369 ЗЛЧЕМ roFoflMT огород?
Такое объяснение, как кажется, вполне соответствует логике. Ведь если огород, т. е. участок земли для выращивания овощей, невелик, то незачем его и огораживать — ущерб от потравы или кражи несравним с затратами труда на сооружение забора.
При всей логичности такого понимания оно встречает реши* тельное неприятие со стороны некоторых этимологов. «Огород — “ограда, изгородь”, городить — “строить, ставить”» — так комментируют наш оборот Д. Розенталь и Ц. Михалкевич в своем русско-польском словарике идиом (Rozental, Michalkiewicz 1974, 128). К аналогичной интерпретации приходит и Н. М. Шанский со своими соавторами (Шанский 1985,112-113; КЭФ, 1979, № 5,92; Опыт, 97).
Действительно, слово огород уже с древности имело и значение ‘ограда, изгородь’, а городити — ‘ставить изгородь’ (Срезневский 1, 555; II, 606; III, 75), причем первое слово имело и формы городъ — ограда — огородъ. Вот один из древнерусских текстов, где огород употребляется именно так: «Вышедъ изъ двора, ставь у огорода, Матфеи тако рекъ: то, господине, огородъ моей половины двора» (1532 г.). «Если обратиться к народному языку, — пишет Н. Т. Бухарева, пришедшая именно ко второму толкованию, — то огородом в нем называют изгородь, а участок земли, на котором выращивают овощи, обычно имеет конкретное название: овощник, капустник, огуречник и т. п. Вероятнее всего, что данный фразеологизм возник из буквального выражения огород городить, т. е. “делать ограду”» (Бухарева 1983, 12). Сибирская исследовательница подтверждает это как диалектными словосочетаниями типа «Из жердей городют огороды» (новосиб.), так и народными пословицами: Крепка рать воеводою, а тюрьма огородою; Правдою жить, как огород городить [что днем загородишь, в ночь разгородят}.
Какой же из этих двух версий отдать предпочтение? Какая из них лучше всего соответствует реальному «духу и букве» ее образа?
Посмотрим, нет ли подсказки уже в самом употреблении фразеологизма. Как мы не раз уже убеждались, часто именно употребление хранит следы исходного смыслового заряда.
Значение оборота огород городить — ‘затевать какое-л. заведомо ненужное дело, требующее больших хлопот’ — само по себе не подсказывает такого ответа: и огораживание овощного огорода, и строительство забора в определенных ситуациях может быть
3JQ ЗАЧЕМ ГОРОДЯТ ОГОРОД?
и заведомо бесполезным, и хлопотным. Подсказку, видимо, можно извлечь из типового окружения нашего оборота. Оно довольно своеобразно и в целом укладывается в два случая. Первый—употребление в виде вопроса (обычно риторического) со словами для чего, зачем, к чему, ради кого, чего, стоит ли из-за этого, на кой чертит, п.:
«Иной читатель, впрочем, может сказать: раз Р. сняли, то зачем и огород городить, зачем печатать всю эту историю?» (Известия, 1975, № 43); «Наверно, такое неожиданно скоропалительное решение вызвало бы у нее коварную усмешку — для чего было огород городить! — но ушла бы она успокоенной: уломала-таки старика» (В. Попов. И это называется будни); «Чего ты тут панику разводишь?.. Из-за чего же тогда огород было городить? К чему было восстание?» (М. А. Шолохов. Тихий Дон); «В фильме же Липочка оказывается молодой интересной женщиной, вполне благополучной и устроенной, не очень даже опечаленной случившимся и вполне оптимистично глядящей на свое будущее. И получается: ради чего было, так сказать, огород городить, из-за чего страдать и маяться, если все сложилось так благополучно» (Ленингр. правда, 1979, 7 авг.); «Ты смеешься, Тимофей Михалыч! На кой же мне черт, скажи на милость, огород тогда городить! Сев окончится? что же я тогда буду делать с землей?» (Н. Сухов. Казачка).
Второй тип контекстов представляет собой как бы ответ на риторические вопросы, задаваемые предложениями первого типа. Отсюда их введение в контекст с помощью слов нечего, незачем, не к чему, не стоит, не нужно, зря и т. п.:
«Сначала я совсем ничего не понял и начал читать задачу во второй раз, потом в третий... “В магазине было 8 пил, а топоров в три раза больше” Ну и написали бы просто, что топоров было 24 штуки... Нечего тут и огород городить!» (Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома); «Может не понравиться [директору], что станки уйдут куда-то со склада... А сейчас надо посмотреть помещение, чтобы зря огород не городить» (Г. Матвеев. Новый директор); «Многое надо было выяснить предварительно, такое выяснить, без чего не стоит и огород городить» (Д. А. Фурманов. Мятеж).
Отклонений от этих двух типов употребления оборота городить огород практически нет. И даже тогда, когда нет привычных для него слов вроде зачем, незачем и т. п., они как бы подразумеваются:
«Вот, думаю, проходимец. Нет чтобы в ресторан пригласить или, если денег нет, в кино хотя бы. А он такой огород городит. Ну да ладно, ты так, и я так» (Л. Измайлов. Мода такая).
Здесь само осуждение героиней ситуации предполагает, что хотя герой и «городит огород», но это было незачем, не нужно.
371 ЗАМЕМ ГОР°ДЯТ огород?
Ненужность, «незачемность», следовательно, — основная семантическая доминанта нашего оборота. Именно она, пожалуй, характерна и для процесса «горожения» огорода-изгороди, на которую часто идут не самые лучшие материалы—жерди, прутья, колья. В русском фольклоре этот мотив достаточно четко подчеркнут:
Вот я колья тешу, Огород горожу.
{Народная песня)
В нашем поле огорода Часто нагорожена.
{Частушка)
Огороду городил, Соломой перевязывал.
{Частушка)
В некоторых случаях «второсортность» материала, из которого «городят огород», выступает на первый план столь же четко и недвусмысленно, как в мотивировке выражения хоть пруд пруди, хоть гать гати или хоть мосты мости кем-, чем-л.:
Черт с тобой, что ты красивый, Я тобой не дорожу, Я такою шантрапою Азгароду горожу.
(дер. Большой Низ
Псковской обл.)
Такое, народное, представление об огороде-изгороди вполне объясняет первичный образ выражения огород городить: какое-то дело является столь пустяковым, что на него не стоит тратить даже малоценный материал и труды, не требующие особого умения.
В русском литературном языке, как мы видели, значение ‘ограда’ у существительного огород уже забыто. Оно, однако, не только было употребительно в древнерусском языке, но и сохранено многими нашими народными говорами. «Шибановцы городили лесной огород, по-здешнему осек, опоясывая поскотину и отделяя ее от хлебных полей», —пишет В. Белов в «Канунах». Для писателя-деревенщика вологодское слово осек ‘изгородь, ограда’ кажется более локальным по сравнению с другим, более распространенным синонимом — лесной огород. И действительно, материалы «Словаря русских народных говоров» показывают, что огород и огорода известны почти всем нашим диалектам в этом значении (СРНГ 22, 344-347). Показательно, что лишь на территории Владимиро-Суздальского княжества это слово обозначало некогда 4 вида изгороди: изгородь из жердей и кольев (типа частокола); изгородь из досок, по
372 ЗДНЕМ ГОРОДЯТ огород?
ставленных вертикально и плотно; изгородь из горизонтальных жердей, прикрепленных к столбам и переплетенных между этими жердями прутьев; изгородь из горизонтальных жердей, прикрепленных к кольям или столбам (Мельниченко 1974, Ш).
Не менее разнообразны и фонетические и морфологические разновидности этого слова: азгорбда, згорбда, городйна,. города, го-родйловка, загорода, изгорбда, заграда, городьба... И практически каждый такой фонетический или морфологический вариант может употребляться в тавтологическом сочетании типа огород городить: пск. городить згороду (азгороду, городину), Киров, огородом огорожено , новг. городьбу городить, сиб. загороду городить, пск. изгороду городить, заграду загородить, моек, изгорожу городить и т. п. Все такие сочетания—своеобразные профессиональные термины для обозначения примерно того же процесса — обнесения забором из жердей каких-либо участков земли.
Эта вариантность, как кажется, весьма важна для решения вопроса о первичном значении оборота. Показательно, что и в древнерусском языке, и в народных говорах большинство из этих вариантов уже не имеют той двойственности значения, которая характерна для слова огород: они в основном служат обозначениями изгороди, а не участка земли для выращивания овощей. О приоритете этого значения в народной речи свидетельствуют и народные поговорки и пословицы типа растут дети в поле, без огорода, т. е. ‘без присмотра’ (урал.); как поле без огорода ‘о шальном, бесцеремонном человеке’ (урал.); Худ мужичишко, да огородишко', городит ровно плетень к огороду — ‘болтает чушь’; Правдою (праведно) жить — что огород городить: что днем нагородишь, то ночью размечут (что днем загородишь, то в ночи разгородят).
Нельзя тем не менее сказать, что вторичное значение никак не повлияло на развитие нашего оборота. Ведь, как выше говорилось, огород уже в древнерусском языке имел и значение ‘участок для выращивания овощей’. Оно характерно и для русской деловой письменности Средневековья. «В жалованных, ободных, межевых, меновых грамотах, там, где сообщается о размежевании земель, о границах владений, слово огородъ бытует в 2-х значениях, иногда трудно поддающихся дифференциации», — верно констатирует Ю. И. Чайкина. Первое значение в таких документах — ‘то, что огорожено’, второе — ‘изгородь в поле вокруг пахотных угодий’ (Чайкина 1975, 92-93).
Симбиоз, недифференцированность этих двух значений, собственно говоря, — наследие далекого прошлого, ибо др.-рус. оград, град, градина и огород и слово сад могли взаимно заменять
373 ЗАЧЕИ ГОРОДЯТ ОГОРОД?
друг друга. Для уточнения значений употреблялись даже словосочетания ограды садовныя и ограды овощныя (Варик 1978,104-105). Семантический параллелизм ‘огороженное место’ — ‘ограда, изгородь’ — явление древнее, известное и в греческом, и в латинском, и в современных европейских (например, немецком и французском) языках. Это и понятно: сама логика охраны садов, полей, огородов и виноградников (кстати, слово виноград первоначально и означало ‘огражденное место для разведения винограда’) заставляла именовать их «огражденным местом».
Двуплановость слова огород, видимо, не только стала причиной его популярности в русском, украинском и белорусском языках, но и вела наше выражение к некоторому семантическому отрыву от модели словосочетаний-повторов, из которых оно выросло. Любопытно здесь сопоставить бел. агарод гарадзщъ ‘затевать какое-либо хлопотное дело’ и плот гарадзщъ ‘говорить бессмыслицу, выдумывать’, где плот — ‘забор’ (ср. оплот, плотина). Если первый оборот — восточнославянский (ср. укр. город городити, горожу горо-дити), то второй — чисто белорусский. Большая древность и ареальная «дальнобойность» выражения агарод гарадзщъ, видимо, заставляет исследователя белорусской фразеологии И. Я. Лепешева расшифровывать его не на основе сельскохозяйственной, а на основе «оборонной» тематики: ‘делать оборонное сооружение из земли и бревен’. Приводимые выше примеры из диалектного узуса убедительно опровергают эту версию, возвращая нас к мирному созиданию оград вокруг полей, пастбищ и овощных огородов.
Белорусское соответствие, однако, заставляет нас вспомнить и о значении глагола городитъ — ‘болтать глупости’, ‘говорить что-либо несерьезное’. Какое отношение оно имеет к обороту огород городитъ!
Пожалуй, довольно близкое. «Пустая вздорная речь сближается с плетением... — писал А. А. Потебня, — плести, пол. plesd ‘говорить вяло, нелепо, ложно’, ворон., тамб. путлятъся ‘говорить вздор’... самое городитъ ‘врать’, вероятно,—тоже плетенье, по связи огорожи и плетня» (Потебня 1914,109). Это наблюдение известного лингвиста подтверждается и народной речью, в которой наряду со словосочетанием плести плетень записано и городить плетень. Причем последнее в курских говорах имеет и профессиональное значение ‘плести плетень из хвороста’, и переносное—‘сплетничать’, ‘болтать вздор’. Аналогичен оборот городитъ бредки, записанный в рязанских и вологодских говорах со значением ‘говорить вздор’. Бредки — это прутья и кора ивы, ракиты и других деревьев, которые шли для плетения корзин, туесков, лаптей. Глаголы плести
374 ЗАЧЕМ ГОРОДЯТ ОГОРОД?
и городить, следовательно, развивались параллельно от прямого к переносному значению и породили целый рад устойчивых фразеологических словосочетаний: плести плетень, плетушку плести, плетение словес, сплетни сплетать, городить бредки, плести коклюшки. Приобретя метафорическое звучание, они начали сочетаться со словами в общем значении ‘вздор, нелепость’ (Вакуров 1983,122-126). Ряд существительных, с которыми теперь сочетается глагол городить в переносном значении, весьма открыт: городить вздор, городить ерунду, городить чушь, городить чепуху... В таких сочетаниях этот глагол уже не имеет и намека на исходное «огораживание» забором какого-либо пространства.
Народная речь, однако, заботливо сохраняет эту смысловую основу. Характерно, что в говорах наше выражение характеризует именно вздорную речь, а не излишне хлопотное дело: сиб. огород городить ‘городить вздор, нести околесицу’, ‘начинать бесполезное дело’; яросл. городить горддину ‘говорить вздор’ (ср. яросл. городить ‘ставить забор, изгородь’); орл. городушки городить ‘сплетничать’, ‘плохо делать что-л.’ Ср. также смол, мох с болотом городить, собирать мох с болотом ‘говорить много, обычно чего-л. несерьезного, наболтать глупостей’, говорит, словно плетень плетет; плети плетень — сегодня твой день; бел. (туров.) плесщ плота бес колкоу, плесщ кошэлё без дужок ‘говорить глупости, вздор’ и городзщь (плесщ) плота без колкоу ‘говорить ерунду’ и т. п.
Значение ‘городить вздор, болтать чепуху’ у глагола городить и диалектные сочетания этого глагола с существительными огород, городина, городушки и т. п. показывают, что наше выражение развивалось по обеим линиям: ‘ограждать забором участок земли’ —> ‘нагромождать нечто малоценное’ и ‘делать излишне хлопотное дело’ —> ‘болтать заведомые глупости, вздор’. В литературном языке оборот городить огород, однако, закрепился в ином, привычном для нас значении. И это закрепление, пожалуй, было связано именно с древним смысловым раздвоением существительного огород. Объединившись, эти значения и создали устойчивую ассоциацию оборота с заведомо излишней деятельностью: незачем и ограждать, огораживать и участок земли, где растут овощи, и сооружать огород-забор. Отрицательная же акцентовка выражения связана с пренебрежительно-оценочной окраской глагола городить, также выросшего в его недрах. Повтор корневой основы, столь обычный для русской народной речи, еще более усиливает экспрессию этого оборота, напоминающего всем нам, что отгораживаться от бед и напастей заборами любого типа — дело заведомо бесполезное.
Зачем валить колоду через пень?
Я у старого мужа ночевала, Гнилую пень-колоду обнимала, Я во темной темнице пролежала, Старого мужа проклинала.
Народная песня
Выражение через пень колоду (через пень-колоду) является сейчас весьма общей отрицательной характеристикой нерадивой, небрежной, недобросовестной и хаотичной деятельности. Оно со-
четается с довольно широким набором глаголов, семантической доминантой которых являются ‘работать’, ‘делать что-либо’: «Рабочие на всех предприятиях, несмотря на окрики десятников и мастеров, на угрозы штрафом, работали сегодня через пень-колоду» (В. Я. Шишков. Угрюм-река); «Какая у них [студентов] квалификация? Никакой... Вот и работают студентики через пень-колоду» (А. Безуглов. Следователь по особо важным делам); «Работник он был аховый, за что ни возьмется, все через пень-колоду, ни в чем толку» (В. Г. Распутин. Прощание с Матерой); «[Панин] оставался ко всему равнодушен, все делал нехотя, через пень колоду» (Ф. Вигдорова. Дорога в жизнь).
Приблизительно в том же смысле выражение употребляется и в конструкциях типа дело шло, работа шла, все идет: «Прежде госпитали были поставлены отлично, а теперь все дело идет через пень-
колоду: на девять заводов два заводских доктора — разве есть какая-нибудь физическая возможность что-нибудь проделать в таких условиях!» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. От Урала до Москвы); «Работа шла лениво, неохотно, через пень колоду» (С. П. Подъячев. Среди рабочих); «Поговорили... А к чему пришли? Кто виноват в том, что в Пекашине все идет через пень-колоду? А, Михаил Пряслиц» (Ф. А. Абрамов. Пряслины); «Так он и знал. Если с утра споткнется на чем-нибудь, так до вечера все пойдет через пень-колоду» (Е. Мальцев. Войди в каждый дом).
В конкретном употреблении оборот имеет тенденцию к все большему расширению сочетаемости. Учиться через пень колоду, ехать, рассказывать, высказывать, драть и т. п. — набор глаголов-«со-проводителей» является довольно большим даже в рамках литературной речи: «”У Кольки ангина опять”. — “Зачем же в школу отпустила?” — “Ну...—Таисья сама не знала, зачем отпустила. — Чего
376 ЗДМЕМ ВМИТЪ КОЛОДУ ЧЕРЕЗ ПЕНЬ?
будет пропускать. И так-то учится — через пень колоду”» (В. М. Шукшин. Алеша Бесконвойный); «Не с того конца подступились к Федорову,—размышлял Василий Михайлович. — Юноша избалован, единственный сынок. Требований к нему настоящих ни родители, ни учителя не предъявляли. Учился через пень колоду... Да, начинать надо, видимо, с родителей» (Учительская газета, 1966, № 129); «Неграмотные учителя выпускают недоучек. Те любыми правдами и неправдами поступают в вузы. Учатся через пень-колоду. Выходят безграмотными “специалистами” с дипломами. Потом своей “работой” воспитывают подобных» (А. Грачев. Двойка... учителю. — Правда, 1986,15 апр.); «[Конюх] мог часами ехать, не торопясь, лесом, полями — через пень-колоду. А перед деревней, перед людьми преображался он и преображались его лошади» (А. Яшин. Проводы солдата);«— Ладно, рассказывай все! — велела Варвара. — Только по порядку, я не люблю, когда через пень колоду» (Ю. Герман. Дело, которому ты служишь); «Я схватил шубу и шапку и велел ей передать Ламберту, что я вчера бредил, что я оклеветал женщину... Все это я высказал кое-как, через пень-колоду, торопясь, по-французски и, разумеется, страшно неясно» (Ф. М. Достоевский. Подросток); «Выдумал немец Кунц кушетку для сечения, а мы дерем через пень колоду, как в древности драли» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Недоконченные беседы).
Ретроспективный взгляд на употребление оборота довольно быстро позволяет установить, что исходным глагольным сочетанием было сочетание с валить. Его можно найти уже в литературе XVIII в.:
Что делать он ни начинает, Нигде никак не успевает, Валит колоду через пень.
(Н. П. Осипов.
Вергилева Енейда, вывороченная на изнанку)
Именно с этим глаголом употребляли его и многие наши классики: «Я работаю лениво, через пень колоду валю. Все эти дни голова болела, хандра грызла меня. Начал многое, ни к чему нет охоты» (А. С. Пушкин. Письмо Н. Н. Пушкиной 21 октября 1833 г.); «Достаточно присмотреться к прислуге любого отеля, чтобы убедиться, какую массу работы может сделать человек, не утрачивая бодрости и не валя, как говорится, через пень колоду» (М. Е. Салтыков-Щедрин. За рубежом); «Способностей своих я не неволю и старанья тоже; валю как попало через пень колоду,-— он и доволен» (Н. С. Лесков. Смех и горе); «Работайте как следует, а не так,
377 ЗАЧЕМ ВАЛИТЬ КОЛОДУ ЧЕРЕЗ ПЕНЬ?
чтобы через пень колоду валить» (П. И. Мельников-Печерский. На горах).
Как показывают такие контексты, именно сочетание валить через пень колоду стало основой большего семантического обоб* щения: не случайно в трех из них оно «наращивается» глаголами работать или сделать. Поэтому, видимо, А. М. Бабкин, выстраивая иерархию значений оборота, ставит валить через пень колоду на первое место.
Что значит буквально валить через пень колоду?
Историки русского языка отвечают на этот вопрос неоднозначно. Признавая выражение «собственно русским», Н. М. Шанский, В. И. Зимин и А. В. Филиппов кратко и просто объясняют его мотивировку: «Из речи лесорубов, заготовителей дров. Вероятно, первоначально о нерациональном переваливании бревен через пни» (Опыт, 154).
Глагол валить, как видим, при такой интерпретации прямо свя-зывается с лесоповалом.
Иное толкование предложил этнограф С. В. Максимов. Как обычно, его интерпретации представляют собой живописные зари-совки русского быта, которые интересны сами по себе, даже еслй этимология выражения и сомнительна. Именно такую зарисовку он посвятил и обороту через пень в колоду.
«Кто побывал в охранных или удаленных глухих лесах ради охоты или кто попадал в них случайно заблудившимся, тот припомнит такие трущобы, в которых не только не проставишь ноги, но d понятным страхом, ввиду явной опасности затеряться и завязнуть, поспешишь обратиться вспять на намеченную и оставшуюся назади тропинку. Вот вырванные с корнем деревья, костром навалившиеся друг на друга. Это — ветровалы. Они давно уже валяются тут без призора, так давно, что, обманчиво прикрытые корой и обломанными сучьями, представляют собой гниль стволов, превратившихся в труху, в которой вязнет по колено и с трудом вытаскивается нога. По этому лесному кладбищу без изнеможения нельзя сделать десятка шагов. В иных местах невозможно даже поставить ноги: на ветровалы навалились, переломленные пополам яростным налетом ураганов, березы и сосны. Это — буреломы. Вершины их уже начали превращаться в гниль и такую же пыльную и вязкую труху, но стволы от корней продолжают проявлять некоторые признаки жизни в редких случаях. Вообще же, заглушенные окрестным ломом и хламом, они безнадежно, как кости скелета, простирают к свету свои высохшие и обессиленные ветви. И эти непролазные трущобы, и все такие сорные и неопрятные леса, эти торчащие дуплистые пни буреломов и сваленные колоды ветровалов, дром да лом, доступны лишь всемогущей силе и непреоборимой власти на
378 ЗАЧЕМ ВАЛ1,П> КОЛОДУ ЧЕРЕЗ ПЕНЬ?
пускного огня. Для заблудившегося охотника, для потерявшегося грибовника один исход: мучительно шагать, следуя примеру умелого и привычного медведя, через дуплистый пень и попадать непременно и обязательно в трухлявую колоду. Захотел отворотить от пня — влез на колоду: другого пути нет, как и для тех, кто привык вяло и неумело вести дела, тяжело и неохотно приспособляя свою силу к работе, “валять через пень в колоду” При всем старании и напряжении у них остается, что и в лесу, тот же дром и лом, дрязг и хлам» (Максимов 1955, 340-341).
Как видим, по С. В. Максимову, валитпъ через пень в колоду — это переступать через лесные завалы, «через дуплистый пень и попадать непременно и обязательно в трухлявую колоду». Этнограф не случайно назвал свой очерк «Через пень в колоду». Это выражение с предлогом в действительно встречается как в народном, так и в литературном употреблении, правда, сейчас уже устаревшем: «Несмотря на казенное пособие, ссыльные вообще неохотно обзаводятся домами и хозяйством... Хозяйство даже и тем, которые принимаются за него, ведется через пень в колоду» (Н. В. Шег-лунов. Очерки русской жизни); «Детдом переехал в имение совсем недавно, ученье еще не наладилось, уроки шли через пень в колоду» (В. С. Шефнер. Облака над дорогой).
Предлог в действительно не укладывается в логику «лесоповального» объяснения оборота: если валить, т. е. сваливать топором тяжелое и толстое короткое бревно-колоду через пень, хоть и трудно, но возможно, то сваливание чего-либо через пень в колоду — уже некоторая натяжка: здесь нет упоминания об объекте такого действия. Тем не менее все-таки и такое объяснение имеет какой-то резон, если «додумать» объект действия—им может оказаться сваливаемое лесорубами дерево или (что, пожалуй, более вероятно) другая колода.
Не дает окончательного ответа на наш вопрос и учет того, что выражение было давно известно в форме сравнения: как через пень колоду валит (Буслаев 1854,105). О его древности свидетельствует его фиксация (что через пень колоду валить) в известном «Письмовнике» Н. Курганова 1790 г. (КДРС) и употребление писателями XIX в.: «Ванька спросонья, разумеется, исполнил все это как через пень колоду валил» (А. Ф. Писемский. Люди сороковых годов). Пожалуй, как мы увидим далее, сравнение — это лишь развертывание оборота валить через пень колоду, а не результат его усечения. В любом случае сравнительную форму легко истолковать и как «лесоповальную», и как «буреломную» версию.
379 ЗАЧЕМ ВАЛИТЬ КОЛОДУ ЧЕГО ПЕНЬ?
Проверим лингвистическую достоверность первого или второго толкования.
Материал других языков здесь довольно ограничен — аналогичное выражение находим лишь в белорусском, украинском и польском языках: валиць цераз пень колоду, через пень колоду вали* mu, Nie godzi si? klody przez pien walic. Обращает на себя внимаг ние то, что в польском языке наша поговорка имеет иную, послов вичную форму, содержит как бы рекомендацию — чего не следует делать: «Не годится колоды валить через пень». Пословица эта встречается с 1618 г. в разных вариантах: Nie wal przez pien klody ‘He вали через пень колоды’, Nie przewalaj klody przez pien ‘Нб переваливай колоды через пень’, Trudno klode przez pien walid ‘Трудно колоду через пень валить’, Trudno przez pien klode toczyi ‘Трудно через пень колоду катить’, Przez pien klody nie potoczy ‘Через пень колоды не покатить’. Все эти варианты характеризую^ бесцельную, напрасную и небрежную работу. Общий же смысй пословицы примерно равен нашей Плетью обуха не перешибешь^ Лишь в одном источнике эта пословица превращается в поговори ку, равную русской, — przez pien klode walic ‘валить через пень колоду’
Приведенный набор вариантов польской пословицы можно расширить и за счет украинских ее параллелей: аби пень через колоду# Дарма колодку через пень валити; Пня через колоду не перекинешь До готовой колоди добре дрова рубать и т. п. Такие варианты являются как будто неопровержимым доказательством «лесопо* вальной» гипотезы: речь ведь в большинстве из них идет именно о переваливании, перекатывании колоды через пень, а в крайнем случае—даже о перекидывании пня через колоду.
Выбор между двумя гипотезами, следовательно, сделан. Тем не менее не следует торопиться с окончательным этимологическим диагнозом. Известный историк славянской фразеологии Райнер Эккерт, детально занимавшийся компонентным анализом оборота через пень колоду, верно заметил в своем докладе на симпозиуме в Цюрихе, что для окончательного установления этимона фразеолог гизмов необходимо привлечение «фактов из всех форм существования (Existenzformen) их в языке» (Eckert 1987, 218). И наш оборот дает для демонстрации таких фактов весьма обильный материал.
Проф. Р. Эккерт верно обращает внимание на то, что слова пень и колода в данном обороте выступают как «бином», т. е. пар
380 ЯАЧЕИ ВАЛИТЬ кол°ду ЧЕРВ ПЕНЬ?
ное сочетание существительных, довольно характерное для русской народной речи. И прежде чем обрести вид оборота валить колоду через пень, этот бином прошел долгий путь как в древнерусском языке, так и в фольклоре. Пень и колода уже с XIII в. в различных текстах выступают как единое целое в разных по значению и структуре словосочетаниях. Вот почему можно для этого периода говорить об устойчивом терминологическом словосочетании пень и (да) колода ‘расчищенное под пашню место в лесу’: «Андрею даю Самуиловськое село, пень и колоду, и с бортью» (1350 г.); «Даю два села съ обильемъ и съ лошадьми и съ борътью... и пьнь и колода одерьнъ святому Георгью» (1270 г.); «Сосланы мы бедные за своя согрешения въ такую дальнюю украину и посажены въ пашню на пень да колоду...» (1682 г.).
В некоторых старых текстах оборот пень и колода еще практически сохраняет буквальное значение своих компонентов: «...и из-ношаше от хижа своел малъ оукрух хлеба, и полагаше ему или на пень или на колоду, ико да пришед по обычаю зверь. Епифания о погребении Исуса Христа; Покажисл, мой скот, вслкому зверю черному и шерому и рыскуну пнем да колодою» (Сборник заговоров XVII в.).
«Биномность» слов колода и пень, однако, способствует постепенному насыщению этого словосочетания экспрессивностью. В заговорных текстах, как верно подчеркивает Р. Эккерт, оно уже становится чем-то вроде символа непреодолимости. Такая ассоциативность прямо вытекает из употребления оборота пень и колода в фольклоре: по пенью по колоде орати (т. е. пахати); ни пенья, Ни колодья, ни двери белодубовы; лес — пень да колода — вот лишь некоторые словосочетания, приводимые берлинским фразеологом.
Их коллекцию можно расширить, внимательно всматриваясь в те семантические нюансы, которые нарастают с каждым новым вариантом и сочетанием: В темном лесе—пень да колода, В чистом поле — белоярова пшеница (яросл.); Колодье-пенъе вы повырубите (олон.); Ты ори, ори, ори, Крестьянский сын. По пеньям ори, по кореньям ори (волог.); Не поддержали Василья Буслаевича Ни пенья, ни колодья, ни двери белодубовы; Через дубье-колбдъе конь да перескакивает (онеж.); пень-колода ‘о тупом, непонятливом человеке’ (орл.). Характерно, что в собраниях народных пословиц XVIII в. записано наше выражение и в форме пень да колода валить (волог.). Характерна и иркутская поговорка Бедному всё пень да колода, и пск. ни в пень ни в колоду ‘никуда не годится’.
381 ЗАЧЕМ ВАЛИТЬ нол°ду МЕГЕЗ ПЕНЬ?
Такой материал показывает, что еще до образования фразеологизма через пень колоду его компоненты уже были тесно связаны «биномными» отношениями. Семантически они воспринимались как синонимы, усилительно обозначая какую-то большую помеху, непреодолимое препятствие, труднопроходимое пространство. Вот почему первоначально сочетание этого бинома с различными предлогами обозначало именно передвижение с преодолением препятствий. Следы такого семантического развития нашего оборота находим в некоторых славянских диалектах — например, в буковинском якрак через пень-колоду ‘о медлительном, неповоротливом человеке’ и гродненском скакаць цераз пень на калоду: «Я вж$ давно в хат! був, а Юрко хоть i молодший, та як той рак через пень-колоду —до заходу сонця додибав». Ср. также предложные конструкции типа смол, как на пень узъехал ‘лишился ума’, бел. чыраз пень у калоду, за колодзем не можно пройци, ни проехаць. Показательно в этом плане и то, что у И. И. Носовича наш оборот подан в более развернутой форме — цераз пень, цераз калоду валщь без уходу. К ней современные белорусисты и относят более сокращенный вариант (Лепешау 1981,28). Это без уходу — симптоматично» ибо еще раз подчеркивает прямую связь бинома пень колода с передвижением, а не с рубкой леса.
Экскурс в историю русского языка и диалектные формы позволяют объяснить маловажное, на первый взгляд, разночтение в правописании нашего оборота. Мы уже видели, что и в русской, и в бело русской орфографической традиции его можно писать и как через пень колоду, и как через пень-колоду. Последнее написание — отнюдь не случайный правописный огрех или вариация, ибо его последовательно воспроизводят многие писатели. Оно — вырубленный орфографическим топором след первоначального образа нашего выражения.
История его, следовательно, такова. Сначала в народной речи и в памятниках письменности активизировалось парное словосочетание пень и (да) колода, которое с течением времени стало употребляться переносно о непреодолимом участке пространства, затем—о трудностях, препятствиях. Соединение с предлогом через поэтому первоначально значило ‘преодолевать трудные, непроходимые места’. Включение в сочетаемость оборота глагола валить привело к переосмыслению:^ он начал пониматься как переваливание колоды через пень.
2g2 ЗАЧСИ 8АЛИТЪ КОЛОДУ 4EFE3 ПЕНЬ?
Историко-этимологический анализ, таким образом, как будто дает возможность примирить гипотезы С. В. Максимова и авторов «Опыта этимологического словаря русской фразеологии»: первый этап развития оборота шел по первому семантическому пути, второй — по второму.
Признавая это последовательное развитие мотивировки оборота, надо сделать, однако, существенное уточнение: он никоим образом не восходит ни к профессиональной речи «заблудившихся охотников» или «потерявшихся грибовников» (С. В. Максимов), ни к речи «лесорубов, заготовителей дров» (Н. М. Шанский и др.). Выражение через пень колоду — древнее напоминание об одном из забытых способов обработки пахотной земли нашими предками— о подсечно-огневом земледелии. Отнюдь не для «заготовки дров», а для расчистки новых лесных территорий под пашню им приходилось валить колоды и выкорчевывать пни. Нелегко было и заниматься таким делом, и пробираться через такое «неудобье». Тяжелый, неблагодарный и достаточно примитивный труд этот и породил выражение валить через пень колоду.
Какие прорухи у нашей старухи?
Все мы хочем быть умными, только находит порой такая вот... Как говорят, и на старуху бывает проруха. Вот она проруха и вышла.
В. Шукшин. Чередниченко и цирк
Пословица Ина старуху бывает проруха — специфична русская. Даже в близкородствен-» ных украинском, белорусском^ словацком, чешском, болгарском и других славянских языках ей со^ ответствует пословица, аналогичная нашей Конъ о четырех но* гах, да спотыкается. Образ старухи с прорухой как оправданий оплошности, совершенной человеком, от которого ее никак не ожи-даешь, следовательно, — уникален. '
Эту уникальность и связанную с нею особую экспрессию при* дают пословице два момента: непонятность, этимологическая «теш ность» слова проруха и рифмованность пары старуха — проруха* Рифмованность не случайно сохраняется и в вариантах И на ста* рушку бывает прорушка и У всякой старушки свои прорушки. Эти качества делают пословицу не просто оправданием оплошности^ но еще и оправданием лукавым, шутливым—в отличие от посло-вицы о коне, который спотыкается:
«— Кто дурак? — Да Ермолаев твой. Все его умным человек» прославили, а он... дает тысячу рублей за лес, а кому он нужен? — И на старуху бывает проруха» (М. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина); «— А когда вы пришли в виде киевского надзирателя, я сразу понял, что вы мелкий жулик. К сожалению, я ошибся. Иначе черта с два меня вы бы нашли. — Да, вы ошиблись. И на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Зайонц через месяц после свадьбы с моим другом детства» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок); «Лишь одно обстоятельство по-настоящему колебало все правдоподобное и весьма убедительное построение: целлофановые обертки они оставили на виду в пепельнице, а те, кого мы разыскивали, люди бывалые, весьма осторожные, этого, надо полагать, никогда бы не сделали. Впрочем, и на старуху бывает проруха» (В. Богомолов. В августе сорок четвертого...); «И на старушку бывает прорушка! Все мы еще молоды, все мы делаем ошибки» (В. Беляев. Старая крепость).
Из всех употреблений этой пословицы, да, впрочем, и из нее самой по себе значение слова проруха вырисовывается как будто
384 КАКИЕ ПГ0ГУ*И У НАЦИЙ СТАГУХМ?
достаточно четко — ‘ошибка, оплошность’, ‘неудача’. Именно так оно объясняется в русских словарях с 1874 г., когда произошла его первая регистрация. Для нас это слово неразрывно связано с пословицей — вряд ли кто сейчас употребит его самостоятельно. Для языка же XIX в. это было вполне возможно: «При такого рода значительной деятельности у Горохова была одна проруха: будучи человеком одиноким, он впадал иногда в загулы» (А. Писемский. Мещане).
Тенденция эта идет из живой народной речи, в которой «свобода» этого слова (как и любая свобода, конечно, относительная), его независимость от пословицы была гораздо большей. В. И. Даль наряду со значением ‘ошибка, промах, мах, недосмотр, недогляд, прогляд, зевок, оплошность, недогадливость’ приводит и такие значения слов проруха и прорух, как ‘убыток’ («Продали, да рублев пять прорухи взяли»), ‘беда’ и ‘родины’ («У соседа проруха»).
Когда в пословице или поговорке имеется слово с несколькими значениями, надо быть начеку: а вдруг иерархия значений изменилась со временем и мы, употребляя народное выражение, понимаем его уже абсолютно не так, как его понимали первоначально? Как же обстоит дело с прорухой в нашей пословице?
Из приведенных В. И. Далем значений первое, конечно же, наиболее подходит для объяснения переносного смысла пословицы. Некоторые комментаторы прямо и связывают ее с проруха ‘ошибка, оплошность’ (Фелицына, Прохоров 1988, 54).
Есть, однако, и два других мнения об исконном смысле этого слова. Единственный этимологический словарь, в котором это областное слово рассматривается, — словарь А. Г. Преображенского, где констатируется: «Проруха ошибка, неудача, собств. провал (напр. “и на старуху бывает проруха”)» (Преображенский II, 227). Значит, пословицу можно понимать как «И на старуху бывает провал»? Конечно же, автор словаря не имел в виду «провал в памяти»: поскольку этот этимологический диагноз дан в статье Рушить, то, видимо, имеется в виду конкретно-физическое «обрушивание», проваливание в какую-либо яму или канаву.
Что ж, несмотря на некоторую прихотливость такой интерпретации, ей можно найти аналогию. Ведь у синонима нашей пословицы Конь о четырех ногах; да спотыкается есть и вариант именно о «спотычке», т. е. спотыкании: Без спотычки и конь не пробежит. Причем один из таких вариантов по синтаксической структуре
2 g 5 КАМНЕ ПРОРУХИ У НАШЕЙ СТ АГ УХ И?_
очень похож на пословицу о старухе и прорухе: И на добра коня бывает спотычка. Конечно, спотычка — это не совсем провал в какую-нибудь яму или канаву. Но ассоциация все-таки весьма близкая.
Третье объяснение пословицы высказано — причем, весьма осторожно — М. И. Михельсоном. Расшифровав проруху в ней как ‘ошибку’, он в то же время приводит и значение, знакомое уже нам и по В. И. Далю: «ср. У соседа “проруха” (псковск., тверск.)—родины» (Михельсон 1912, 290). Такое толкование тоже, согласитесь, весьма оригинально и вполне вписывается в лукавую логику нашей пословицы: известны ведь старые женщины, на удивление всем вдруг благополучно разродившиеся. Такое бывает, правда, столь же редко, как и то, что пожилой и умудренный жизненным опытом человек делает неожиданную промашку. Образ яркий, неожиданный, запоминающийся.
Какой же из этих трех лейтмотивов нашей прорухи был в пословице исходным? Быть может, на этот вопрос нам помогут ответить сами употребления пословицы? Ведь нередко в контексте так или иначе проскакивает какой-нибудь намек на первичное значение оборотов, это значение может оттеняться и стилистическими их нюансами.
Надо сказать, что такого «намека» не удалось уловить в отношении к интерпретации «провального» толкования прорухи. Зато в отношении «родового» значения некоторые контексты дают ободряющие результаты. В «Словаре русских пословиц и поговорок» В. П. Жукова есть выдержка из Д. Н. Мамина-Сибиряка, явно укладывающаяся в толкование прорухи как ‘роды, родины’: «— Мудрено что-то, — качал недоверчиво головой заседатель. — Не таковский ты человек, Федя, чтобы из седла вышибла лошадь... — Бывает и на старуху проруха и на девушку бабий грех, — смеялся... попик в зеленом подряснике» (Из уральской старины).
В какой-то степени на «греховность» намекает и контекст из «Каменного пояса» Е. Федорова:«— Что ты! Что ты, хозяин! Побойся Бога. Много годов служил верой и правдой, а тут такое подумал на меня! «— Всякое бывает. Напоследок и на старуху — проруха. Подле человека всегда бес вертится».
На основе анализа таких контекстов, однако, делать какие-либо определенные выводы о смысле прорухи в пословице все-таки нельзя. Быть может, как обычно, здесь помогут варианты этого народного афоризма? Активная вариантность ведь не раз уже по-
386 КАКИЕ ПР0РУХМ У И*ШБЙ СТАРУХИ?
зволяла нам отсеять случайное и уловить основную смысловую линию развития той или иной поговорки.
Вариантов у пословицы о старухе и прорухе достаточно много. Уже в сборнике пословиц В. Н. Татищева, составленном около 1736 г., находим вариант, близкий к современному: Бывает и на старуху проруха. Известны и варианты У всякой старухи свои прорухи, У всякой старушки свои прорушки (Жуков 1966, 169) и На старуху да пришла проруха (ППЗ, 57). Такие варианты оставляют вопрос о значении слова проруха в пословице открытым.
Любопытный и не сразу понятный вариант встречается в литературе XVIII в. — Живет и на старуху проруха\
«Сбитенщик: А я не уверен, что мельник передо мною наплевать.
Мельник: То-то бают же, что живет и на старуху проруха; ну об чем я расшумелся; ха, ха, ха.
Сбитенщик: Какая дрянь! Говорится же, что на всякого мудреца довольно простоты: затеял я вздорить с мельником, ха, ха, ха!» (П. Плавильщиков. Мельник и сбитенщик соперники).
Может показаться, что это живет проруха — не что иное, как «сохранившаяся у старухи способность рожать». Такую ассоциацию, однако, позволяет рассеять другая, ныне устаревшая пословица, синонимичная нашей, — И па Машку живет промашка (ДК IV, 1293). Поскольку промашка (первоначальное значение которой было ‘промахнуться при выстреле или ударе, взмахе каким-либо оружием’) никогда не служила наименованием родов, то и живет проруха в приведенном варианте ничего общего с ними, пожалуй, не имеет. Суть тут—в особом, древнем, народном значении глагола жить, который до сих пор во многих русских говорах тождествен глаголу быть. «Живет хорошая погода», — говорили, например, когда-то под Симбирском. А на Онеге не так давно можно было услышать фразы вроде «Оногды в кооперативе живут крендели» (СРНГ 9,194). Это древнее значение, кстати, хранят и другие русские пословицы: Грех да беда на кого не живет?', Лиха беда на кого не живет?; Сон да дрема на кого не живет?; На хотенье живет терпенье.
Чтобы окончательно развеять сомнения в том, что живет проруха весьма далека от животворных родов на старости лет, можно привести и такой вариант с этим глаголом, как И на молодца оплох живет (Сл. Грота-Шахматова II, 571), который, конечно же, с
Jg J КАКИЕ ПГОГУХИ У НАШЕЙ СТ А Г УХ И?
разрешением от бремени никак связан быть не может. Да кроме того, и пословица о злополучной Машке, и пословица об оплошавшем молодце известны и в варианте с глаголом быть: И на Машку бывает промашка (Михельсон 1912, 912), На всяку Машку бывает промашка (олон.) (ППЗ, 158), И на молодца бывает оплох (Танчук 1986, 66).
После рассмотрения таких вариантов единственным «оплотом» гипотезы о прорухе как ‘родах’ остается, пожалуй, пословица Бывает и на деда грех, записанная еще в 1741 г. и имеющая то же переносное значение, что и пословица о старухе (ППЗ, 69), — собиратель, кстати говоря, и помещает ее радом с этой пословицей о деде. Как видим, несмотря на равноправность переносного значения, эта пара отражает как будто неравноправие мужчины и женщины именно в «греховной» сфере: деду — грех, а старухе — проруха. Отражает или, точнее, отражала бы, если бы проруха оказалась именно «рода*-ми». На самом деле и здесь — недоразумение, вызванное изменившимся значением слова грех. Сейчас оно воспринимается нами лишь как нарушение религиозных или нравственных предписаний, правил или предосудительный поступок. Еще в XVIII в., однако, и в народной речи, и в литературном языке грех широко употреблялся именно в том же значении, что и нынешняя проруха, — ‘оплошность’, ‘ошибка’: «Он [Сумароков] еще меньше умеет по Славенски, нежели по Рус* ки... Великий словесник! в полугаре строчке пять грехов» (СРЯ XVIII в. V, 231-232). Ясно, что в тексте письма одного из современников Сумарокова последний обвиняется не в смертных грехах, а в грамматических ошибках. Важно и то, что в XVIII в. слово грех имело и другое значение, общее с зафиксированным для народного проруха В. И. Далем, — ‘беда, напасть’.
Словом, экскурс в семантическую историю слова грех уравнял шансы старухи и деда. Бывает и на старуху проруха и Бывает и на деда грех, следовательно, — полные синонимы и в прямом, и в переносном смысле. Просто — и дед и старуха, бывает, ошибаются, несмотря на свой житейский опыт и мудрость.
Такое прочтение наших пословиц подкрепляет и целая серия их синонимов, бытовавших в первой половине XVIII в.: Бывает и на мудреца простота, Бывает и на мастера хула, Бывает и виноватой прав, Бывают и добрые люди плуты (ППЗ, 69; Танчук 1986, 25); Есть и на черта гром (гроза) (Даль IV, 597) и т. п.
Наконец, еще одним аргументом в пользу прочтения прорухи как ‘ошибки, промаха’ является целый рад пословиц, отраженных
388 КАНМЕ ПГОРУХИ У МАШЕЙ СТА Г УХИ?
сборником А. И. Богданова в первой половине XVIII в. Это практически целая модель, исключающая и значение ‘роды’, и значение ‘провал’: На ково безвременье не живет! На ково беда не живет! На ково грех не живет! На ково грех не бывает! На ково клевета не бывает! На ково ложь не бывает! На ково лень не бывает! На ково ошибка ие бывает! На ково печаль не бывает! На ково напасть не бывает!
Как видим, в пословицах этой модели перекликаются уже знакомые нам два значения слова проруха—‘ошибка, промах’ и ‘беда, напасть’. Неудивительно поэтому, что составитель сборника «замкнул» этот большой ряд именно пословицей со словом проруха-. На ково проруха не бывает!
«На ково» — это значит: и на деда, и на бабу, и на старого, и на молодого—на любого. Любому позволительно и совершить ошибку, и попасть в беду. Видимо, в таком семантическом симбиозе и ощущалось слово проруха в то время. В стихотворном сборнике пословиц.оно фигурирует еще в середине XIX в. самостоятельно, отражая именно такой симбиоз:
Не слабый дух, коль сознается Что он без помощи не обойдется; И не великий дух, Коль думает жить без прорух.
(НРП 2, 8)
Попробуй мы разделить в этом не очень уклюжем стишке проруху ‘ошибку’ и проруху ‘беду’ — и мы потеряем его основной философский смысл, ибо и без того и без другого «великий дух» просто не может существовать, закаляясь в борениях с напастями и заблуждениями.
Смысл слова проруха в нашей пословице, следовательно, ясен. Можно ли, однако, утверждать, что ни «провал», ни «роды» к ней абсолютно никакого отношения не имеют?
Пожалуй, нельзя.
Вернемся еще раз за прорухой в XVIII в. «В эдакую попался я проруху от добросердечия своего», — читаем в анонимном произведении «Поскорей, пока не проведали». Попасться в проруху — прямой синоним фразеологизма попасть впросак, о котором речь пойдет ниже. И не случайно известный специалист по фразеологии XVIII в. М. Ф. Палевская включает этот оборот именно в статью «Попасть в просак». Просак входит в очень активную и в русском, и в других языках фразеологическую модель «попасть + ло
389 КАКНЕ ПГ0ГУХМ У ЧАШЕЙ СТАРУХИ?
вушка = оказаться в трудном, безвыходном положении». Значит, и проруха — нечто вроде ловушки, а в переносном смысле — безвыходная ситуация?
Именно так.
Но именно так — в этимологическом смысле. Глагольный корень рух- (ср. рушить)—прямой родственник прилагательного рыхлый и глагола рыть. В этом смысле разруха—это не только то, что разрушено, но и то, что разрыто. А проруха—то, что прорыто, т. е. тот самый провал, провалина—яма, о которой и писал А. Г. Преображенский. В литовском языке слова rusys, rausis ‘яма’ образованы именно от глагола rausti ‘рыть’, который связан с рус. рушить и его славянскими параллелями. Да, собственно, и русская яма образована от глагола *jamati ‘вынимать’, как, впрочем, и сам глагол вынимать'. это выемка грунта, разрушение, разрытие его.
Эти этимологические экскурсы находят подтверждение и в однокоренных образованиях срух-\ ряз. обрух, например, значит ‘ров* овраг, рытвина’ (Даль II, 616; СРНГ 22, 214); смол, обрушина — ‘обвал берега реки, горы’ (СРНГ 22,214). Легко найти подобное слово и со знакомым нам переносным значением: диал. обрушка— ‘неудача, провал’ («Обрушка по торговле сталась»—Даль II, 616). Аналогично семантическое равноденствие слова рюха, известного диалектам: это и ‘яма’ (ср. рюхнуться в лужу), и ‘засада’, и в то же время — ‘беда’. Попал в рюху, попал на рюху значит то же самое, что и попал в проруху или попал в яму. Кстати, эта рюха — этимологический родич уже известного нам литовского rusys ‘яма’ (Фасмер 111,534).
Значение ‘провал’, ‘яма’, следовательно,—исходное для слова проруха. Исходное, но все-таки — «допословичное». Оно сформировалось в составе фразеологизма попал в проруху ‘оказался в трудном, безвыходном положении’. Следующий семантический шаг этого слова — к абстрактному ‘беда’, ‘неудача’ и одновременно ‘собственная оплошность’, ‘ошибка’. Ведь и в яму-проруху, и в беду-проруху обычно и попадают по собственному «оплоху».
И лексическая, и фразеологическая жизнь народного слова проруха подготовила его для вхождения в целый ряд пословиц на «оплошную» и «прорушную» тему. Но было еще одно обстоятельство, которое способствовало образованию пословицы.
Проруха хорошо рифмуется. А многие русские пословицы — особенно шутливые—подзаряжают свою экспрессию именно рифмой. Вот лишь несколько типичных: У нашего Андрюшки нет ни
390 И**"* ПРОРУХИ У КАШЕЙ СТАРУХИ?
полушки; У нашего Гришки нет отрыжки; У нашего Тита за пьянство спина бита; У нашего Филата спина горбата; У нашей Пелагеи все новые затеи; У нашей Федосьи из глаз растут волосьи; У Парашки глаза что у барашки; У Фомки не без помхй (т. е. ‘помехи’, ‘неудачи’, ‘препятствий’); Не все Потапу на лапу; Не всяк Наум наставит на ум; Не всяк Тарас подпевать горазд. Не правда ли, наши На всяку Машку бывает промашка или У всякой старушки свои прорушки полностью гармонируют с духом таких пословиц? И проруха хорошо «вписалась» в пословицу о старухе благодаря рифме.
Но — не только благодаря рифме.
Один из сильных зарядов экспрессии эта пословица получила и от вторичного, но широко известного в Псковской и Тверской губерниях слова проруха в значении ‘роды’. Известность подкрепляла и прозрачность этимологического значения. Прозрачность, разумеется, не с точки зрения современного человека, а с точки зрения говорящих того времени. В псковских и тверских говорах был известен глагол опрорушиться ‘родить, разрешиться от бремени?, в разных диалектах употребляли в этом же значении и такие слова, как разрушиться, растрястись, рассыпаться, раскутаться, опроститься. Такие глаголы были хорошей семантической подпоркой прорухи ‘роды’.
И наша пословица в народном обиходе, конечно же, понималась прежде двупланово. Отсюда и ее лукаво-шутливый тон, отсюда и некоторые реминисценции этого первичного значения в литературе. Отсюда — и ее популярность и конкурентоспособность. Ведь из всех пятнадцати (а если считать и варианты, то и тридцати) пословиц, которые конкурировали с ней в XVIII в., лишь она вошла в наш литературный язык и прочно осела в нем. И будет жить там до тех пор, пока не истощится тот мощный источник экспрессии, который питает совмещение трех разных значений слова проруха в народной речи.
В какой просак попал простак?
Бывало, он трунил забавно, Умел морочить дурака И умного дурачить славно, Иль явно, иль исподтишка, Хоть и ему иные штуки Не проходили без науки, Хоть иногда и сам в просак Он попадался, как простак.
А. С. Пушкин. Евгений Онегин
Выражение попасть впросак — чисто русское, его нет даже в близкородственных украинском и белорусском языках. И это не случайно: слово просак, законсервированное в ставшем уже наречием предложном словосочетании, — народное. Оно, по словарю В. И. Даля, и в прошлом веке имело ог-
раниченное распространение — новгородские и тверские говоры. Великий собиратель слов сжато, но точно описывает и То, что такое просак’. «Просак (от сучить!), пространство от прядильного колеса до саней, где снуется и крутится бичевка, спускается вервь; если попадешь туда концом оде
жи, волосами, то скрутит, и не выдернешься; от этого поговорка».
Народное слово довольно рано попало в наши словари: его фиксируют материалы «Слово и дело государевы» Н. Новомбер-гского 1718 г., Лексикон Вейсмана 1731 г. и академические словари с 1847 г. Довольно долго на письме оно отражалось так, как у Пушкина, — в виде словосочетания. И характерно, что словари больше регистрируют переносное значение нашего просака, чем его прямое значение — ‘прядильня, канатный станок’. Это понятно, ибо фразеологизм, благодаря писателям XVIII и XIX вв., запустившим этот оборот в литературу, оказался более популяр
ным и распространенным, чем мало кому известное наименование деревенского станка.
Непонятное привлекает. Вот почему этимологию В. И. Даля постоянно популяризируют самые разные языковеды и писатели (Ермаков 1894,43; Державин 1947, 42; Разумов 1957,218; Скворцов 19(56, 84-85; Бухарева 1983, 7, и др.). Никто, однако, не написал, пожалуй, столь этнографически точную и пластичную картину попадания в деревенский просак, как С. В. Максимов:
«Шатаясь по святой Руси, захотелось мне побывать еще там, где не был, и на этот раз — на Верхней Волге. С особенной охотой и с большой радостию добрался я до почтенного города Ржева, по
292 1 К**0** ПГ0САК ПОЛАЛ ПРОСТАК?
чтенного, главным образом, по своей древности и по разнообразной промышленной и торговой живучести...
Я заглянул на тот двор, куда ушла шумливая и веселая ватага бойцов, и увидел на нем целое плетенье из веревок, словно основу на ткацком стану. Кажется, в этом веревочном лабиринте и не разберешься, хотя и видишь, что к каждой привязано по живому человеку, а концы других повисли на крючках виселиц (т. е. столбов с перекладинами с ввинченными рогульками железными крючьями — частями просака. — В. М. ). Сколько людей, столько новых нитей, да столько же и старых, чет в чет понавешено с боков и над головами. Действительно, разобраться здесь трудно, но запутаться даже на одной веревочке — избави бог всякого лиходея, потому что это-то и есть настоящий бедовый “просак”, то есть вся эта прядильня или веревочный стан, — все пространство от прядильного колеса до саней, где спускается вервь, снуется, сучится и крутится бечевка. Все, что видит наш глаз на дворе, — и протянутое на воздухе, закрепленное на крючьях, и выпрядаемое с грудей и животов, — вся прядильная канатная снасть и веревочный стан носит старинное и столь прославленное имя “просак”. Здесь, если угодит один волос попасть в “сучево” или “просучево” на любой веревке, то заберет и все кудри русые и бороду бобровую так, что кое-что потеряешь, а на побитом месте только рубец останется на память. Кто попадает полой кафтана или рубахи, у того весь нижний стан одежды отрывает прочь, пока не остановят глупую лошадь и услужливое колесо. Ходи — не зевай! Смеясь, поталкивай плечом соседа, ради веселья и шутки, да с большой оглядкой, а то скрутит беда — не выдерешься, просидишь в просаках — не поздоровится» (Максимов 1955, 12—17). Этимология В. И. Даля и С. В. Максимова — одна из немногих фразеологических версий, которая практически никем не оспаривается. Историки языка лишь скорректировали словообразовательную основу: в отличие от Даля, просак теперь связывают не с глаголом сучить (что и самим автором словаря было поставлено под вопрос), а со словом сак (Горяев 1896,310; Фасмер 1,360; ЭСРЯ I, вып. 3,188). Явно неудачна попытка итальянского этимолога В. Пизани связать просак с глаголом просить (Фасмер I, 360). Неудачна потому, что, во-первых, в нашем языке нет самостоятельного образования от этого глагола на -ак (обычно они образуются от именной или адъективной основы: босяк, бедняк, дурак, червяк и т. п.), а во-вторых, как увидим ниже, предполагаемая им связь с глаголом просить противоречит всей логике функционирования и развития фразеологизма попасть впросак.
А эта логика — логика фразеологической модели «попасть + ловушка» = ‘оказаться в трудном, безвыходном положении’. По ней образовано бесчисленное множество фразеологизмов как в славянских, так и в неславянских языках: попасть как мышь в
2^3 В КАК0Й ПРОСАК ПОПАЛ ПРОСТАК?
мышеловку, попасть как сом в вершу, укр. попасти в ало, бел. упасти у пруглб и т. п. Важно и то, что эта общая модель может конкретизироваться в русских диалектах таким образом, что ловушкой оказывается какое-либо орудие производства: попасть в клещи, попасть вмяло, попал в мяла, попал в мялку ‘в строгие руки’, ‘в беду’, ‘под гнет’ (Даль II, 375); не бывал ты ещевмялицах (ППЗ, 99); ввести в основу (от стана) ‘в худое дело’ (Даль II, 701); сиб. попасть на притужальник (т. е. деталь кросен. — Бухарева 1983, 8); вят. попасть в колты (СРНГ 14, 197 — ср. колтбк ‘стержень’, костром, колот ‘ручное орудие для обмолота льна в виде изогнутой палки’; новг., волог., влад. колот ‘пест маслобойной ступы’) и т. п.
Многое дают для подтверждения традиционной расшифровки нашего выражения наблюдения за динамикой его. Основная тенденция его развития типична для фразеологии, содержащей в себе так называемые «некротизмы»—устаревшие или узко диалектные слова. Вначале, пока еще хотя бы номинально сохранялась связь с прдсак ‘канатный станок’, это выражение варьировалось. У Даля, например, кроме попал в просак зафиксировано и сидит в проса-ках, использованное, как мы видели, и в очерке С. В. Максимова.
Особую активность проявляло это выражение в литературном языке XVIII в. Писатели того времени активно варьировали его. Довольно широким заменам подвергался глагольный компонент —> кроме попасть употреблялись глаголы попадаться, попасться, преступаться, ввести и др.:
«Однако как люди умные, прозорливые и опытные, чтобы не попасть как-нибудь в просак и не промешулиться, почли... провозгласить по всем дворам и домам чрезвычайное собрание» (В. Березайс-кий. Анекдоты древних пошехонцев);
«Г Тоисенков: Однакож... во всех поступках и медленная решимость нужна: не так скоро в просак попадешься» (Е. Дашкова. Тоисенков);
«Венера слыша то смеялась Холодным смехом сквозь зубов... Не было должно согласиться Чтоб от того не преступиться Перед Юпитером в просак» (Н. Осипов. Виргилиева Енейда, вывороченная на изнанку);
«Дуня: Нет; я не то хочу сказать: мне досадно, что они ввели меня в такой просак, что барыня меня разбранила» (П. Батурин. Заговор).
В последнем выражении предлог от просака уже отделен местоимением такой. Точнее—не уже отделен, а еще отделен, ибо это и
294 в КАКОЙ ПГ ОСА К ПОПАЛ П Г ОСТА К?
есть свидетельство еще не завязавшихся жестких фразеологических узелков. Такого рода примерь* приводятся в книгах М. Ф. Палевской. Они свидетельствуют как о постепенном закреплении за термином просак переносного значения, так и о постепенном «сгущении» словосочетания попасть в просак в единое целое. Нужно подчеркнуть, что далеко не сразу в просак стало наречием впросак. До сих пор возможность расщепления последнего на предлог и существительное существует. И ее использовали и используют мастера слова: «Как мог попасть в такой просак опытный журналист» (В. Вересаев. Невыдуманные рассказы); «Мы попали в безысходный просак» (С. Баруздин. Собака). Такое употребление, как верно заметил И. В. Дубинский, — уже не реализация исконного, реального образа оборота, а лишь вычленение переносного значения из готового сочетания.
Тенденция к нормативному употреблению привела сейчас к тому, что впросак узаконено как наречие. Если еще в 17-томном академическом словаре даже под статьей впросак дважды этот оборот напечатан в раздельном виде и лишь один раз—как наречие, кроме того, слово просак вообще подается как отдельное—с иллюстрациями «попасть в самый печальный просак» и «попадал в порядочный просак», то второе издание Малого академического словаря дает его жестко нормативно, без вариаций: попасть впросак. И без отсылки на это наречие в томе на букву «П».
Так академическая традиция поставила точку над самостоятельностью бывшего народного термина просак. И теперь лишь самые отважные экспериментаторы слова вызволяют его время от времени из тесного фразеологического просака. Вызволяют, чтобы несколько оживить этот потерявший смысл от фразеологической неволи не-кротизм.
Чем прудят пруд?
Родственников и старух, которыми на всяких родинах хоть ripyd пруди, тут не видно,
Л. П. Чехов. Необыкновенный
Среди большого числа фразеологических синонимов со значением ‘много’ русское выражение хоть пруд пруди занимает одно из первых мест по активности употребления и по широте со-
четаемости. Если, например, фразеологизм как па Маланьину свадьбу употребляется исключительно со словами наварить, наготовить и характеризует большое количество приготовленной пищи,
а сравнение как собак нерезаных относится лишь к множеству людей, то выражение хоть пруд пруди может экспрессивно обозна-
чать и множество людей, и множество предметов:
«У богомазов таких икон — хоть пруд пруди» (П. Мельников-Пе? черский. На горах); «Работал я в свое время в Егорлыкском районе главным агрономом лесозащитной станции. Она только формировалась. Недостатков было — пруд пруди: нет того, нет другого, третьего... Вертелись, что белки в колесе» (И. Бондаренко. В сердцу отзовется); «Что она в нем нашла такого замечательного? — желчно думал Фалалеев, с ненавистью глядя на фото. — Ишь ряшку отъел. Где-то я эту наглую рожу видел. Хотя таких амбалов пруд пруди: С эспандером, наверно, по утрам гнется, супермен чертов!» (Дм. Иванов, Вл. Трифонов. Не на облаке. — Лит. газета, 1975, № 41, с. 16).
Широта сочетаемости и обобщенность значения фразеологизма хоть пруд пруди связаны с его историей, с исходным конкретным образом.
В современном русском языке слово пруд обозначает искусственный водоем в естественном или выкопанном углублении. Нередко в таких прудах вода застаивается и покрывается мелкими зелеными водорослями, водоем превращается в стоячее болото. Прудить, т. е. перегораживать плотиной, такой пруд кажется, на первый взгляд, нелогичным. Логика первоначального образа, однако, легко раскрывается, если учесть, что древнейшим значением слова пруд было именно ‘быстрый поток’, ‘стремительное течение’, ‘запруженное место’. Во многих славянских языках это значение до сих пор осталось актуальным: пол. pr^d, чеш. proud, словацк. prud значат именно ‘поток, течение’. Это и понятно, поскольку слово пруд в конечном счете восходит к глагольному корню *prqd- / *pr(?d- (ср. отпрянуть ‘отскочить’, диал. прудкий ‘быстрый’), значащему ‘прыгать, скакать’. Этот корень дал и такие производные слова, как др.-
396 ЧЕМ ПГУДЯТ пууд?___________________________________
рус. прядати ‘скакать’, ст.-сл. въспрянути ‘проснуться’ (букв, ‘вскочить’), диал. прядать ‘прыгать, скакать’, перепрянуть ‘перепрыгнуть’, перепрядки ‘чехарда’ и т. п. Сохранился он и в некоторых названиях рек, например Непрядвы (Отин 1980,114-115). Отголоски синонимичности слова пруд с обозначением именно текущих водоемов встречаются в фольклоре, например в песнях:
Как на речке на прудочку Становилась на один час...
(Хроленко 1981, 86)
В русском языке это слово семантически развивалось по линии ‘бурливый поток’ -»‘перегороженный, запруженный поток’ -»‘запруженное место’ -»‘стоячий искусственный водоем’. Как при этом в восточнославянских языках происходила специализация этого географического термина, который в белорусском и украинском имеет иные обозначения — сажалка и став, показывает в своих статьях И. С. Козырев. Эта специализация во многом связана с тем, что слово пруд постепенно отрывалось от контекстуально связанного с ним глагола прудить ‘запруживать’. В древнерусском языке это сочетание употреблялось довольно часто в прямом, терминологическом значении ‘делать запруду на реке’: «Болшимъ людемъ изъ монастырьскихъ селъ... манастырь и дворъ тынити... на неводь ходити, пруды прудить» (1392 г. — Срезневский И, 1613). Именно оно и было основой русского фразеологизма.
Перегораживание плотиной водоема с быстрым течением требовало немало всякого материала. Этот материал не отличался особой ценностью: запруду засыпали землей, укрепляли ветками, бревнами, камнями. Понятно, что прудить пруд можно было лишь тогда, когда такого материала было под рукой в избытке. Отсюда — истоки переносного значения фразеологизма. Показательно, что немало фразеологических синонимов со значением ‘очень много’ отталкиваются от подобных представлений: что песку морского, хоть отбавляй, деть некуда. В диалектах такие синонимы еще более обильны: пск. ногами толочь, ногой пихай’, смол, коп ногой ‘о чем-либо, имеющемся в большом количестве’, пск. как воды ‘о множестве людей’, хоть лопатой греби и т. п. (Ивашко 1976,101-102). Ср. диал. укр. (лемк.) детейяклому (букв, ‘как наломанных веток, хвороста’) ‘о множестве детей’. Наиболее близки, однако, по мотивировке к литературному обороту хоть пруд пруди диал. тыны тынить чем, записанное в русских говорах Карелии («Он пятаками тыны тынил») и прост, хоть мост мости ‘очень много’. Речь идет о деревянном стройматериале—в первом случае о деревенском забо-
397 ЧЕМ ПРУДЯТ ПРУД?______________
ре, во втором — о настиле через реку. Выражение хоть мост мости, подобно обороту хоть пруд пруди, в XIX в. употреблялось в русской литературе и в отношении людей, и в отношении предметов:
«Хотя у нас в те поры молодцами хоть мост мости, а Колонтай между нами был не последний» (А. А. Бестужев-Марл и некий. Наез-ды); «Слух о груздях, которых уродилось в Потаенном колке мост мостом, как выражался старый пчеляк, живший в лесу со своими пчелами, взволновал тетушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно ломать грузди» (С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука).
Диалекты сохранили и такие синонимы нашего выражения, как брян. хоть гать гати и орл. хоть плотину пруди. И то и другое употребляется как характеристика множества ягод, одежды, собравшихся людей.
В таком же прямом и переносном значениях употреблялись и другие восточнославянские фразеологизмы. Укр. хоч греблю гати чого ‘очень много чего’ буквально значит именно ‘хоть настилай плотину через реку’. Бел. хоць гаць гац1 также не требует особых комменту риев. В этом же русле и чешский оборот feku by кут zastavil (букв, ‘перегородил бы кем реку’), характеризующий большое скопление народу.
Метафора, лежащая в основе выражения хоть пруд пруди, отразилась и в переносных употреблениях глагола запруживать, тяготеющего к экспрессивно-количественной оценочности: улицы запружены народом, город запружен гостями, «невестами хоть Волгу с Окой запруди» (П. Мельников-Печерский. На горах).
История нашего фразеологизма будет неполна, если не учесть его грамматической эволюции, которая во многом обусловила развитие переносного значения. Характерно, что в XVIII — XIX вв. оно управляло обычно творительным падежом, о чем свидетельствуют «Материалы для фразеологического словаря русского языка XVIII века»:
«Как на всех жениться, на кого мило поглядываешь, так женами-то разве пруд прудить» (П. Плавильщиков. Бобыль);
«Афросинья Сысоевна: Женишки-то нынче в сапожках ходят, а девками-то пруд пруди» (М. Веревкин. Так и должно);
«Яиц с разными мешками нанесено такое множество, что ими хоть пруд пруди» (В. Березайский. Анекдоты древних пошехонцев); «Напитками лишь не ленися, Хоть пруд из них пруди» (Н. П. Осипов. Верги-лева Енейда, вывороченная на изнанку).
Постепенно такое управление становится все менее употребительным для данного выражения, хотя в литературе и XIX, и XX в. можно найти отдельные примеры такого рода:
398 ЧЕМ пгуд*т ПГУД7
«Он вообще дворян разделял на три разряда: на путных — коих “маловато”; на распутных, коих “достаточно”, и на беспутных, коими “хоть пруд пруди”» (И. Тургенев. Отрывки. Старые портреты); «Кретин Валерик, что удрал с Сахалина. Черта с два он чего-нибудь стоящего добьется в Ленинграде. Здесь т-такими Валериками пруд пруди, а там его держали за высшую интеллигенцию» (В. Панова. Проводы белых ночей); «Хоть пруд пруди людьми, с внешним-то лоском, да что пользы-то от них?» (А. Панаева. Воспоминания); «И вдруг из знакомой калитки... вышли Катюша и с нею два морячка. Нетрудно узнать. Курсанты, стажеры. Летом ими хоть пруд пруди в Севастополе» (А. Первенцев. Матросы); «Камень-дикарь у нас свой, пруд им пруди. Видал перед домами мазанки? — Они, мазанки эти, из того самого камня» (Т. Якушкин. Ветка яблони).
Творительный падеж все активнее вытесняется родительным, что обусловлено все большей абстрагированностью выражения и влиянием семантического поля ‘много чего-либо9:
«Мудрых в наше время нет — это правда, а “оглашенных” хоть пруд пруди» (М. Салтыков-Щедрин. Круглый год); «Не пойдет она за тебя, озорника. У нее хороших-то женихов... пруд пруди» (Г. Николаева. Жатва); «Факты? Фактов у Всеволода Лукьяновича, как говорится, хоть пруд пруди» (Правда, 1979, 21 окт.); «А вслед за чемоданчиком последовал и Блэк. Он прыгнул прямо на асфальт Парк-авеню к удивлению и ужасу водителей автомашин и прохожих, которых здесь в это время дня пруд пруди» (Ленингр. правда, 1975, 19 февр.); «Молодежи у нас полно, — продолжал он рассказывать, — хоть пруд пруди. Ведь завод, можно сказать, молодежный» (Б. М. Зу-бавин. От рассвета до полудня).
Грамматическая эволюция здесь органически поддержала эволюцию значения; в результате чего оборот хоть пруд пруди cy&si идиоматическим. Обобщенность и экспрессивность значения, характерные для него, свидетельствуют о том, что этот оборот окончательно утратил былую связь с «запруживанием» быстротекущего водоема. И лишь время от времени какой-нибудь писатель или публицист ныряет в эту «водоемную» глубину нашего выражения, чтобы извлечь из нее дополнительный запас нужной ему экспрессивности:
«После этого надо ли удивляться, что бракоделы чувствуют себя вольготно, развилось их столько, хоть пруд пруди. А когда к тому же в пруду мутная вода, то в ней легче легкого ловить рыбу, да и саму щуку схватить за жабры — тоже нетрудно» (Правда, 1986, 23 янв.).
Судя смутной воде, корреспондент «Правды» Г. Лебанидзе, оживляя прямое значение нашего оборота, уже воспринимает пруд не как быстротекущий, но как стоячий, даже застойный водоем. И это—еще одно свидетельство того, что выражение хоть пруд пру-ди далеко ушло от своего быстротечного истока.
Где стреляли из пушек по воробьям?
Эти господа нисколько не опасны, а только смешны.. а по воробьям из пушек не стреляют.
В. Г. Белинский. «Тоска по родине» Загоскина
Выражение стрелять из пушек по воробьям, характеризующее трату сил по пустякам, употребляется в русском языке уже давно. В словаре В. И. Даля отражено несколько вариантов этого оборота — по воробьям из пушек стрелять, Из пушки, да по воробьям! Стреляй из пушки по воробьям! Они свидетельствуют о том, что уже в XIX в. выражение активно использовалось и в живой речи. Доказывают это и сравнения, легко образующиеся на основе нашего фразеологизма:
«Все равно, что из пушки по воробью палить» (Д. Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы); «В общем-то, конечно, Яценко прав, что не дал снарядов: стрелять из стопятидесятидвухмиллиметрового орудия по отдельным наблюдателям — это все равно что из пушки по воробьям» (Г. Бакланов. Военные повести).
Образование и вариантов, и сравнений обусловлено во многом яркостью и прозрачностью образа, лежащего в основе этого оборота. Как видим, писателем Г. Баклановым этот образ даже нарочито обыгрывается, сводится к конкретной «пушечной» ситуации. Благодаря прозрачности образа наш оборот и заряжен тем особым ироническим оттенком, который обеспечивает его популярность.
Казалось бы, ясность внутренней формы делает излишними историко-этимологические комментарии выражения о пушках и воробьях. Однако попытка такого комментирования была сделана в нашей самой широкой печати. В еженедельнике «Неделя», под рубрикой «Языковая культура» была опубликована заметка корреспондента ТАСС С. Балыкова «По следам “Дикого помещика”» с подзаголовком «История поговорки». В ней делается попытка объяснить выражение стрелять из пушек по воробьям на основе конкретного исторического анекдота. Приведем его полностью, ибо он довольно живописен и содержит некоторые любопытные факты:
«Киевлянин Е. Степанов родился и много лет прожил в Псковской области. Здесь он и услышал, еще до войны, забавную историю из прошлого родного края, которая, как ему кажется, проливает свет на происхождение поговорки “стрелять из пушки по воробьям”
4QQ ГДЕ СТРЕЛЯЛИ ИЗ ПУШЕК ПО ВОРОБЬЯМ?
Близ города Новоржева жил помещик. Любил покутить, разъезжал по соседям, а когда наступала слякотная пора и дороги раскисали, скучал. И от скуки затевал стрельбу из всех видов оружия. В том числе и из... пушек. А однажды по весне собрал егерей с борзыми, приказал взять пушки и двинул ратью на Новоржев. В версте от него разбил бивак, послав к уездному начальству гонца с ультиматумом: сдайте ключи от города, не то открою огонь. И открыл-таки, еще до возвращения парламентера!
Об этом помещике Е. Степанов вспомнил, когда в газете “Псковский пахарь”, выходившей в двадцатые годы, увидел заметку без подписи: в селе Лодино беспризорно лежат восемь старинных пушек, стоявших когда-то у парадного подъезда дома помещика Бороздина, в них сорок пудов, и надо, считал автор, использовать орудия для производства сельхозтехники.
В Центральной научной библиотеке Киева нашлись сведения о Матвее Бороздине. Ему принадлежало одно из крупнейших поместий Новоржевского уезда. Кроме села Лодино с приселком» он владел семью деревнями и пятью пустошами, имел 178 душ крепостных мужского пола и свыше двух тысяч десятин земли. Такой вполне мог потехи ради обзавестись и восьмипушечной батареей.
Но краеведа ждал еще один сюрприз: в книге “Мужики и начальство” писателя-народника А. Фаресова, хорошо знавшего дореволюционную новоржевскую деревню, упоминалось о предках помещика Львова, ходившего со своими егерями брать приступом город Новоржев. Кто же “герой” легенды? На этот вопрос ответили автобиографические заметки А. Философовой — корреспондентки Тургенева и Достоевского, жены видного царского сановника, высланной царем из России за связь с революционерами. “Помещики вокруг нас были самые дикие”, — рассказывала она о своем пребывании в селе Богда-новское Новоржевского уезда. Один из них, Александр Львов, “ездил по уезду в золотой колеснице, в тигровой шкуре. Вся дворня была увешана какими-то орденами, вроде льва и солнца, а сами голые. И он голый. Раз затеял правильный штурм Новоржева. Собрал армию, выкатил пушку и осадил город. Начал даже пальбу. Хорошо, что исправник был догадливый. Он взял какие-то ржавые ключи, положил их на бархатную подушку и торжественно вышел навстречу врагу”
Выходит, помещик Бороздин ни при чем?
— Думаю, — говорит Е. Степанов, — что легенда имела два источника: причуды Матвея Бороздина, с помощью пушек нагонявшего страх на крепостных, и “военный поход” Львова. Со временем они слились в один рассказ о самодуре-помещике» (Неделя, 1989, 22 окт., с. 16).
Это историческое повествование сопровождается в «Неделе» выразительным портретом полуголого «дикого помещика», сидящего на пушке с банником и глядящего в сторону церковных луковок славного Новоржева. Воробьев, однако, художник на этом портрете не изобразил. И это, я думаю, не случайно.
401 ГДЕ СТГЕЛЯЯИ И3 ПУЦИК П0 ВОРОБЬЯМ?
Ибо поговорка стрелять из пушек по воробьям никакого отн^ шения к этой любопытной истории не имеет. В лучшем случае анек^ дот о помещике Бороздине можно лишь использовать как одну из многих возможных иллюстраций к этой поговорке. g
Вчитавшись в пред лагаемый нам новоржевский сюжет, мы лег* ко убедимся, что воробьи здесь вообще ни при чем: на них во все# истории нет даже и намека. Да и смысл этого исторического анекдота — именно в том, что самодурствующий русский барин отнюдь не безобидный чудак вроде французского Тартарена из Tat раскона, палящий по своему собственному картузу. Его пальбу пр Новоржеву отнюдь не назовешь пальбой по воробьям: не подвер* нись догадливый исправник со ржавыми ключами—еще неизвес? тно, к каким трагедиям привела бы эта пьяная пальба. Следовательно, в изложенной истории не только напрочь отсутствуют воробьи, но и ее смысл никак не соотносим со смыслом поговорки.
Надуманность такого сопоставления легко доказать и чисто лингвистическим анализом.
Во-первых, выражение стрелять из пушки по воробьям практически не зафиксировано в русских народных говорах. Не случайно В. И. Даль в своем словаре как бы «переводит» его на народный фразеологический язык: «По воробьям из пушек стрелять, кстати: за комаром, да с топором». Не случайно и то, что в самом полном по диалектному материалу «Псковском областном словаре с историческими данными» выражение о пушке и воробьях не зафиксировано, хотя ведь именно в Псковской губернии бытовала история о крепостнике Бороздине. Здесь записаны лишь выражения о воробье, весьма далекие по смыслу от интересующего нас,—например, сравнение что иа крыше воробей ‘о приунывшем, погрустневшем человеке’: «Тапёря приуныла, што на крыже варабёй».
Убеждают, во-вторых, и сопоставления с другими языками — как славянскими, так и неславянскими: бел. страляць з гармат па вера&ях\ укр. з гармати по горобцях (в горобщв) стрыяти (гати-ти); словацк. 1st’s kanonom па vrabce; с.-х. gadati vrapce iz topova; пол. wyprawic si$ z агтаЦ na wroble; нем. nach (auf) Spatzen mit Kanonen schieBen. Раз этот оборот — а все приведенные выражения соответствуют ему дословно—распространен на такой широкой территории, то вряд ли своей известностью он обязан русскому крепостнику, прославившемуся своими дебошами в одном лишь псковском уезде.
И действительно, историки фразеологии других языков о нашем «диком помещике» и не знают. Зато немецкий оборот nach (auf) Spatzen mit Kanonen schieBen связывается некоторыми из них с другой конкретной исторической личностью. Также, кстати го
402 ГДЕ СТРЕЯЯЛМ И3 ПУШЕК ПО ВОРОБЬЯМ?
воря, дворянином, но рангом намного выше и — иностранцем. Источник фразеологизма—якобы высказывание графа Андраши, причем точно датированное 1871 годом, когда граф в разговоре с Бисмарком об иезуитах сказал, что он не считает их такими уж и опасными и что он не любит «стрелять из пушек по воробьям» (Rohrich 1977, 970).
Граф Дьюла Старший Андраши (1823-1890) — лицо куда более знаменитое, чем новоржевский помещик Матвей Бороздин. Он участвовал в революции 1848-1849 гг. в Венгрии, был премьером первого конституционного правительства этой страны, а в 1871-1879 гг.—министром иностранных дел Австро-Венгрии. Естественно, что его изречения имели куда больший вес и популярность, чем выходки нашего «дикого помещика».
Значит ли это, однако, что наш оборот действительно — часть афоризма собеседника канцлера Бисмарка?
И это утверждение немецких историков фразеологии легко опровергнуть. Вы уже видели, что русское выражение стрелять из пушек по воробьям несколько раз фигурирует в словаре В. И. Даля. Первый том этого словаря вышел в 1863 г., а разговор графа Андраши с Бисмарком, как мы уже знаем, произошел в 1871 г. Приоритет русского лексикографа здесь несомненен.
Да, впрочем, и не только русского. В немецких словарях поговорка о воробьях и пушке встречается задолго до упомянутого «исторического» разговора. Одним из убедительных доказательств древности этой поговорки является и польская литература. Наряду с выражением wyprawil si$ z агтаЦпа wroble ‘отправился с пушкой на воробьев’ здесь уже с 1618 г. встречается и «средневековый» вариант wyprawil go z kusz^na wroble ‘отправил его с арбалетом на воробьев’ (NKPIII, 777). Переносное значение его то же самое, а вот вид оружия, из которого обстреливали воробьев, иной, соответствующий техническим возможностям того времени. Причем любопытно, что оборот со словом kusza ‘арбалет’ в польской литературе устойчиво воспроизводится в разных вариациях до самого конца XVIII в., фиксируется и в сборниках XIX в., когда уже появляется и вариант со словом armata ‘пушка’: Poszedl z kuszq. na wroble albo na szpaki do lasa ‘Пошел с арбалетом на воробьев или на дроздов в лес’ (1625 г.); z kuszq. па wroble ‘с арбалетом на воробьев’ (1632, 1779 г.); Armata па wroble ‘Пушка на воробьев’ (1901 г.); Na wroble nie strzela si$ z armat ‘B воробьев из пушки не стреляют’ (XIX в.); Wyprawil siq z агтаЦ na wroble ‘Отправился с пушкой на воробьев’.
Такие варианты, конечно же, полностью исключают как связь нашего выражения с анекдотом о новоржевском помещике, так и
403 ГДЕ СТРЕЛЯЛИ ИЗ ПУШЕК ПО ВОРОБЬЯМ?
связь его с графом Андраши. Следует признать, что авторства оно не имеет, а является, как и многие идиомы, плодом народной иронии.
Это можно подтвердить и массой народных оборотов, где вмес* то воробья неподходящим для случая оружием убиваются столь* незначительные и мелкие существа, как комары, мухи или зайцьп рус. за мухой не с обухом, за комаром не с топором; за каждой мухой не нагоняешься с обухом; за комаром не с кнутом; укр. imu на комара з дрючком, а на вовка з швайкою; imu на муху з обухом; чеш. brat na mouchu flintu ‘брать на муху ружье’; пол. wybrad siq 25 armatq na myszy ‘отправиться с пушкой на мышей’, Gdy idziesa; zabijac muchQ, nie zabieraj ze sobq armaty ‘Идя убивать мух, нё бери с собой пушки’, То jakby isc z агтаЦna muchy ‘Это все равно что идти с пушкой на мух’, Do zabicia muchy nie trzeba topora ciesielskiego ‘Для уничтожения мух не нужен плотницкий топор’* болг. отивам с топ на лов за зайци ‘отправляться с пушкой на заячью охоту’; англ, to swat a fly with a sledge hammer ‘прихлопывать муху кувалдой’ и т. п.
Среди таких шутливо-иронических выражений наиболее близ* ким к русскому и немецкому оборотам о воробьях является, пожа* луй, фр. tirer aux moineaux ‘стрелять по воробьям’ или bruer (jeter, tirer, user sa poudre) aux moineaux ‘жечь, бросать, выстреливать, тратить свой порох (на воробьев)’ Переносное его значение совпадает со значением русского стрелять из пушек по воробьям, несовпадение в образности—лишь из-за отсутствия «пушки». Его, кстати, употреблял уже Мольер в комедии «Школа мужей»:
Vous voyez de quel air on re$oit vos joyaux.
Croyez-moi, c’est tirer votre poudre aux moineaux. (n,vi).
Вы видите, что радостей им ваших не понять. Ведь это — что из пушек по воробьям стрелять.
Историки французского языка считают, что в этой идиоме — образ охотника, стреляющего в воробьев (Rat 1957, 323). Пожалуй, такую простую расшифровку следует признать и для русского выражения стрелять из пушек по воробьям. С той только поправкой, правда, что у французов действующим лицом является охотник, а в русском — артиллерист. Судя по старым польским параллелям, им мог также быть и арбалетчик. Осовремениваясь и переходя из языка в язык, выражение о пушке и воробьях сохраняло тот заряд иронии, который был им получен в живой народной речи. И не беда, что оно не имеет автора: главное, что этот заряд всегда находит своего адресата, свою конкретную мишень.
Какого именно рожна?
«Одну сотрудницу издательства "Наука'' волнует вопрос: "Какого тебе еще рожна?" В "Русской речи" печатались заметки "Лезть на рожон", "Рог изобилия". Так что же такое рожон? Может быть, Вас заинтересует такая тема?»
Из письма В. В. Касаркина 10 февраля 1986 г.
Интерес к значению слова рожон в вопросительном восклицании Какого тебе еще рожна? понятен. Каждый говорящий ощущает его тесную связь с известной ему экспрессивной фразеологической моделью: Какого черта? Какого беса?Какого дьявола? Какого шута?— ‘Почему, зачем, для чего, к чему?’ Но эта связь
явно предполагает у слова рожон мифологическое значение ‘черт’, чему противоречит традиционная ассоциация восклицания о рожне с другим оборотом — переть на рожон, где рожон, как известно, — заостренный кол, с которым некогда охотились на медведя. Расшифровка же «Какого кола?» кажется нелогичной и бессмысленной, ибо вступает в противоречие с упомянутой фразеологической моделью.
Любопытна попытка разрешить это противоречие в одном из диалогов героев романа И. А. Гончарова «Обрыв»:
«— Здоров, умен, имение есть... Чего еще: рожна, что ли? надо? — Что это значит, рожон? — А то, что человек не чувствует счастья, коли нет рожна... Надо его ударить бревном по голове, тогда он и узнает, что счастье было, и какое оно плохонькое ни есть, а все лучше бревна».
Здесь рожон, с одной стороны, выступает в своем конкретновещественном значении, с другой—превращается в своеобразный символ — удар судьбы, роковое испытание, без которого человек не может в полной мере ощутить своего счастья.
Надо сказать, что такое истолкование имеет свой резон не только в конкретно-символическом контексте произведения И. А. Гончарова, но и в истории взаимодействия структуры и семантики русских оборотов со словом рожон — лезть на рожон и переть на рожон (против рожна), с одной стороны, и Какого рожна? На какой рожон? и ни рожна — с другой. Употребление И. А. Гончарова опирается на один из таких оборотов — Рожна, что ли (надо, не хватает)?, который употреблялся в просторечии XIX в. и отражен писателями:
4Q5 КАКОГО ИМЕННО РОЖНА?
«От дяди отделился, имеешь теперь свой капитал, рожна, что ли, тебе еще?» (П. И. Мельннков-Печерскнй. На горах); «Господи! Да рожна, что ли, ему надобно? — невольно спрашиваете вы себя» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма о провинции).
Действительно, значение ‘заостренный кол’ как будто логично подставляется в оборот Рожна, что ли, надо?, который по общей тональности напоминает выражение беситься с жиру. При ближайшем рассмотрении, однако, легко увидеть, что такая расшифровка навеяна ассоциацией с рожном из сочетаний лезть на рожон и переть против рожна. С языковой же точки зрения обороГ Рожна, что ли, надо? — «усеченный» или, точнее, синтаксически перифразированный вариант более употребительного оборота Какого рожна? А он, как уже говорилось, «уводит» в целый ряд русских фразеологизмов, образованных по мифологической модели.
Итак, связаны ли общей смысловой нитью два рожна, вошедшие в состав русских выражений, или же решительно разобщены?
Нужно сказать, что соответствующие фразеологизмы различаются не только смыслом и структурой, но и широтой распространения, а следовательно, и хронологией образования. Обороты лезть на рожон и переть против рожна известны славянским языкам очень давно (ср. ст.-сл. противърожна прати и его точные языковые параллели в древнегреческом и латыни). Обороты же Какого рожна? На какой рожон? и ни рожна — чисто русские: их нет даже в близкородственных украинском и белорусском языках (в последнем оно является явным русизмом).
Анализ контекстуального употребления оборота Какого рожна? в языке и XIX, и XX в., и в наше время обнаруживает его полную семантическую аналогичность мифолого-фразеологическому раду оборотов типа Какого черта (беса, лешего, шута и т. п.)?
Употребляясь со словами надо, недостает, не хватает и т. п., оборот Какого рожна?, как показано во «Фразеологическом словаре русского языка» под редакцией А. И. Молоткова, имеет значение ‘Что еще нужно, хочется и т. п.’:
«”Вы-то что? Вам какого еще рожна недостает?” — сердилась мать... “Маменька! Что такое? Так только на горничных можно кричать”» (Г. Успенский. Нравы Растеряевой улицы);
«Улита Прохоровна: Вон, к вам Хрюков идет. Какого ему еще рожна нужно!» (А. Н. Островский. Шутники);
«Какого же еще рожна надо ген. Трепову?» (В. И. Ленин. Среди газет и журналов); «Чего же мне еще, какого рожна? Сыт, обут, одет — и слава
406 КАК0Г0 ИМЕНН0 УОЖНА?
богу» (С. Каронин. Снизу вверх); «И чего она хочет от меня?.. Люблю ее, как прежде. Нет, больше, чем прежде. Какого рожна ей надо?» (Ю. Крымов. Инженер).
Без таких слов-сопроводителей значение оборота еще более обобщено — ‘Чего, зачем, для чего, почему?’, что также соответствует семантическим закономерностям именно мифологической модели:
«Ну какого, спрашивается, рожна он торчал на мостике и нас с собой держал?» (А. Н. Степанов. Порт-Артур); «— Черт знает, — нахлобучивая шляпу на глаза, чтоб не палило солнце, раздраженно бросает фельдмаршал свите. — Где ж неприятель? Какого же рожна он не идет?.. Трусит?» (В. Я. Шишков. Емельяи Пугачев).
Важно, что и другие структурные варианты перекликаются именно с мифологической моделью: Для какого рожна? (ср. Для какого черта?), На какой (кой)рожон? (ср. На какой (кой) черт?), С какого рожна? (ср. С какого черта?), орл. один рожон (ср. один черт) и т. п. Такие варианты свидетельствуют о речевой стихии^ в которой возникли эти грубовато-просторечные выражения:
«Ананий Яковлев: Я, может, и хуже того на что пойду! для какого рожна беречь себя стану?..» (А. Ф. Писемский. Горькая судьбина);
«На какой рожон ты деньги копишь?» (Г. Успенский. Разоренье);
«— На верхней койке, — равнодушно ответил Семен... — обед оставлен, перекуси, скоро тебе заступать. — Мне на вахту? С какого рожна? — Бич вывалился из койки, в одном нижнем белье выскочил на палубу» (В. Кукушкин. Конец Семки Бича).
Широкие мифологические параллели имеет и выражение ни рожна (не понял, не смыслит) ‘абсолютно ничего’ —ср. ни черта, ни лешего, ни шиша, ни беса и т. п. Оно известно в орловских, московских и тульских диалектах: «Ей ни рожна не делается»; «Этой ни рожна — она одна живет» (СРНГ 21,214).
Показательно, что некоторые писатели «проявляют» это мифологическое содержание слова рожон в контекстах. Так, у Серафимовича оборот с этим словом как бы синонимизируется с выражением Какого черта нужно?, повышая тем самым экспрессивный потенциал этого оборота и всего текста:
«Полицмейстер побагровел. — Ах, рракалии!.. Да ведь вожаки арестованы? — Арестованы. — Вчера отпороли хорошо? — Да, всыпали... — Ну, так какого же им черта нужно! Чего же им еще нужно? Какого же им рожна?» (А. С. Серафимович. Не ожидал).
У С. Скитальца рожон также употребляется в своеобразной мифологической «перекличке» с ведьмой:
407 КАК0Г0 ИМЕННО РОЖНА?
«— Рожна бы вам горячего! — пожелала Павлиха, проходя мимо и унося пустые тарелки. — Ведьма! — отпарировал Толстый» (Огарки). Здесь рожон — раскаленный острый кол — своеобразный атрибут черта. Ср. бел. Hi богу свеча ni чорту ражон.
У А. П. Чехова такая мифологическая «перекличка» для фразеологизма ни рожна вызвана всем контекстом и сюжетом рассказа «Беседа пьяного с трезвым чертом», построенном на образе черта, пришедшего в гости к бывшему чиновнику интендантского правления, отставному коллежскому секретарю Лахматову. Сам «черт или дьявол», как он отрекомендовался хозяину, на вопрос последнего о роде его занятий отвечает: «Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала... В политику же, в литературу и в науку мы давно не вмешиваемся. Ни рожна мы в этом не смыслим...»
Ясно, что в этом и подобных употреблениях рожон со всей определенностью воспринимается именно как «черт».
Семантический анализ оборотов Какого рожна? На какой рожон? и ни рожна, следовательно, показывает, что они являются осколками соответствующих русских мифологических моделей. Если погрузиться в глубины русской диалектной речи, то легко увидеть, сколь разнообразна по лексическому составу каждая из этих трех моделей: Какого вихара?Какого ёлса?Каких тебе желвей надо? Какого паралика?Какое колотье?Какого праха?— не что иное, как диалектные синонимы общелитературного Какого черта? Не менеё многочислен ряд подобных образований с местоимением кой: Кова еретика? Кои жблви! Кои ждлви, кои у соей! Кой кляп? Кой кур! Кой нож, кой усов? Коя облива! Кой прах! Кой родимец! и др.
В чем причина столь «избыточного» употребления мифологических обозначений в соответствующих оборотах?
Оказывается, это языковые следы давно искорененных языческих пережитков и суеверий, в соответствии с которыми черти довольно точно распределялись по функциям, месту обитания и внешнему виду (Толстой 1974; 1976; Черепанова 1983; Мокиенко 1986). Такие выражения — рудимент того дифференцированного поклонения различным лесным, домовым, водяным и прочим духам, обращение к которым для суеверных жителей деревни имело вполне конкретный смысл и прагматическую направленность.
Вопрос «Какого черта тебе нужно?» буквально предполагал, что по соответствующей «табели о рангах» необходимо обратиться к нужному бесу. Так, к домовому обращались с просьбами охра-
408 КАК0Г0 ИМЕИН0 РОЖНА?
нять дом и его обитателей от болезней и других напастей. Поскольку считалось, что предметом его особых забот является скотина, то старались способствовать такому «попечительству», а рассерженного домового умилостивливали, оставляя пищу, наливая под верею (столб ворот) «святую воду», куря ладан и т. д. Лешего — «лесного хозяина» — задабривали, чтобы он не сбил путника с дороги и не занес куда-нибудь «к черту на кулички». Баенника — банного домового — упрашивали, чтобы он дал «легкого пару» и не мешал доброму мытью... За каждым из подобных наименований чертей стоит специализированный мифологический образ, лишь позднее подвергшийся фразеологическому обобщению.
Слово рожон в наших выражениях — не исключение. Его конкретное значение уже забылось. Однако «доискаться» до него помогает этимологический анализ. Он позволяет два разных значения — ‘заостренный кол’ и ‘черт’ — связать общим семантическим знаменателем, ибо слово рожон, по-видимому, образовано от корня рог- с помощью суффикса -ьпъ: *rog-bnb. При этом общеславянское слово в значении ‘заостренный кол’, ‘вертел для поджаривания мяса’, известное в формах *rozen и *rozon (Kreja 1971), первоначально расшифровывалось как ‘палка, похожая на острый рог’ (ср. рус.рогатина ‘суковатый кол’, бел.рогач ‘кол, рожон’ и т. п.). Русский же диалектизм рожон ‘черт’ отталкивался от иной связи с рогом — ‘имеющий рога, рогатое существо’
Известно из мифологий, что рога—один из характерных признаков «нечистого существа». Не случайно его античные аналоги— греческий Пани римский Сатир—имели именно «козлоподобный» вид. В уже упомянутом шутливом рассказе А. П. Чехова, кстати, дан выразительный «типовой образ» этого врага рода человеческого. Причем на его рогах писатель делает даже особый юмористический акцент, не преминув, естественно, столкнуть прямое и переносно-фразеологическое значения слова рожки '.
«Вы знаете, что такое черт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными, выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки... Прическа а 1а Капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой... Вместо пальцев — когти, вместо ног — лошадиные копыта» (А. Чехов. Беседа пьяного с трезвым чертом).
«Рогатость» поэтому не случайно стала основой нескольких народных русских наименований черта — рогатик, хвостатый рогатик или Просто рогатый. Они известны и другим славянам —
КАКОГО ИМЕННО ГОЖНА?
ср. чеш. U vsech rohatyvh! (букв. ‘У всех рогатых!’) ‘Ко всем Hept тям!’ Ту же мотивировку имеет сербохорватское название черт* рогоза, буквально значащее именно ‘рогатый’ и образованное 4 помощью суффикса -ънь, весьма похожего на аналогичный суфй! фикс, образовавший русское рожон, В народной речи у сербов есть и слово рдгоша в том же мифологическом значении. Подоб*' ный способ наименования нечистой силы «по рогам и копытам^ известен и другим народам, как убедительно показал Ю. В. Откуда щиков; даже латышское и литовское обозначение ведьмы Ragana, в конечном счете, расшифровывается именно как ‘рога* тая’, восходя к мифологическим представлениям, подобным сладе вянским. Для русского слова рожон мифологическая ассоциаций могла подкрепляться и наличием в некоторых говорах (особенно новгородских) производного от враг ‘черт, нечистый дух’/—врОА жон ‘черт’, образованного от вражина в том же значении и фовд^ тически очень похожего на рожон. Н
Исходным значением слова рожон в обороте Какого рожна^ следовательно, было мифологическое — ‘рогатый черт’. Широка* употребительность фразеологизмов лезть на рожон и переть про* тив рожна, однако, вела к сближению этих древних омонимо»! Тем более, что в народной речи в мифологическую модель могли попадать и существительные, обозначающие заостренную палку или даже нож: например, На кой кляп? На кой нож?или Кой кляпЪ Кой нож, кой усов! Какое колотье?— ‘Зачем, на кой черт?’, ‘Какого черта, чего еще’ (СРНГ 14, 83) основаны на мифологических! наименованиях подобного рода. Это — тоже эвфемистические обо* значения черта. Они, однако, так и не вышли за пределы узколоб кального распространения и не получили такой известности.
И это вполне понятно. Большинство русских диалектных фра* зеологизмов, связанных с обозначением мифологических персонажей, устаревали параллельно с забвением соответствующих суе* верных представлений. Оборот же со словом рожон в этом отношении оказался счастливым исключением, ибо благодаря омонимии с рожон ‘заостренный кол’ он подвергся «материалистическому» переосмыслению и зарядился тем самым новой образностью., Широкая известность слова рожон, его яркая экспрессивность и двуплановость обеспечили долгожительство и популярность соответствующих выражений не только в живой речи, но и в русском литературном языке.
Почему рубль длинный?
— Шел бы ты домой жить, хвост-то ломать нечего. Думаешь, угоняешься за длинным рублем!
И. А. Шолохов. ТихийДои
Выражение о длинном рубле употребляется как осуждение большого и добытого легким трудом заработка. Длинный рубль поэтому часто ассоциируется с легкой жизнью: «Есть люди, кото-
рые приехали в поисках приключений, за “длинным рублем” или легкой жизнью» (А. Грачев. Первая просека).
Длина рубля обычно прямо соизмерима с дальностью расстояний, которые приходится преодолевать охотникам за такими заработками. Не случайно поэтому наиболее привычная форма выражений о длинном рубле—с различными глаголами движения, соединенными
с пространственным предлогом за — ехать, приехать, гнаться, гоняться, отправляться, охотиться, путешествовать и т. п.:
«Мне рассказали историю одного парня, который приехал сюда за “длинным рублем”. Жажда наживы и скопидомства властвовали над всеми его чувствами» (В. Немцов. Волнения, радости, надежды); «А через полгода он [В. Кисабиев] самовольно оставил работу, уехал, как говорится, за длинным рублем» (Правда, 1979, 25 сент.); «Заверяя популярной песней, что они “едут за туманом, за мечтами и за запахом тайги”, эти люди [герои кинокомедии «Кот в мешке»] отправляются в колхоз “Борец” за длинным рублем» (Ленннгр. правда, 1979, 22 сент.); «Я никогда не гнался за длинным рублем и меньше всего рассуждал о заработке» (И. Никитин. Созидатели).
В диалектной речй можно встретить и сочетание блинного рубля с другим предлогом: в новосибирских говорах, например, записан оборот ходить на длинные рубли ‘зарабатывать’ В речи и в литературе употребительны и сочетания типа охотники за длинным рублем, любители длинного рубля, падок на длинный рубль и т. п., в которых длинный рубль постепенно отрывается от своего пространственного окружения и становится просто символом хапужничесгва, легкой и быстрой наживы:
«В забое нужны люди твердого характера, труженики, а не охотники за длинным рублем» (В. Игишев. Шахтеры); «Если бы Акопян не придерживал прыти Силантия, то верхний этаж наверняка бы заселили одними... дебоширами, любителями длинного рубля» (Г. Свир-
411 П0ЧЕМУ РУЬЛЬ ДЛИННЫЙ?
ский. Ленинский проспект); «Тут моя секретарша перед тобой вс$ вертелась, так учти, по дружбе говорю: падка на длинный рубль» (В. К. Очеретин. Саламандра). ।
Разумеется, ассоциация длинного рубля с длинной дорогой появилась позднее. Первичным было представление о длине само4 го рубля.
Какого же именно: бумажного или металлического?
На первый взгляд, логичнее здесь представление именно о руб^ левой ассигнации, ибо металлический рубль, в отличие от неё| кругл. История и этимология слова рубль, однако, показывает* что длинный рубль появился задолго до того, как металлическй| деньги на Руси стали частично заменяться бумажными: «Рубль н$ что иное был как кусок серебра длиною вершка полтора, толщи£ ною в перст, имеющий на себе клейма. Из сего ясно открываете^ что название рубль произошло от глагола рублю, — писал извест^ ный историк-мыслитель XVIII в. И. Н. Болтин в своих комменту риях к изданию и переводу древнейшего памятника нашей пись* менности—«Русской правды» (XIII в.) в 1792 г. — И так от глаго-ла расколоть, сиречь на две половины вдоль разделить, произощ-ло слово полтина, то есть половина» (цит. по: Тиндо 1988,89-90). Это толкование повторяют многие этимологи, забывая сделать ссылку на источник (Сидорова 1982,78).
Современному читателю не совсем ясна, пожалуй, связь полтины с глаголом расколоть, предполагаемая И. Н. Болтиным. Она устанавливается, однако, не «на уровне» корней, а на уровне зна^ чений, ибо слово полтина образовано от древнего глагола *tbnQti^ *tQti ‘резать, рубить’. Любопытно в этом отношении сочетание пол-тина рубля, зафиксированное в «Домострое», где, в сущности, отглагольные существительные образуют своеобразный этимологический «дубликат»: «отрубок отрубка» от серебряного слитка. Не случайно В. И. Даль в своем словаре соединяет, подобно своему предшественнику, полтину с рублем, характеризуя старинное значение последнего как ‘отрубок серебра известной ценности’ й предполагая, что исходной точкой отсчета при этом была древняя гривна, которая «рубилась начетверо или на четыре рубля;рубль и тинъ одно и то же, откуда и полтина, полрубля» (Даль IV, 107)л Видимо, число частей, на которые «разбился» рубль, было разным в Древней Руси и во времена В. Даля.
Гривна в Древней Руси была одной из основных денежных и весовых единиц. Это был серебряный слиток весом в 48 золотников (1 золотник—4,266 г) в виде длинного прутка, отливавшегося
412 П0ЧЕМУ Г¥БЛЬ длинный?
в земляной форме. Первоначальное значение этого слова—‘дорогое ожерелье, украшение вокруг шеи’ (ср. грива ‘шея’ и известное всем загривок ‘затылок’), хотя как денежная единица гривна была известна уже в XI в. Со второй половины XIII в. на Руси появляется половинный «отрубок» денежной гривны — рубль, вытеснивший в XV в. ее окончательно. Вес монет постоянно уменьшался (ср.: у Даля рубль — это уже четверть, а не половина гривны), а соответственно уменьшалась и длина серебряного рубля.
Не все этимологи, правда, единогласно поддерживают прямолинейную связь рубля с рубкой старинной гривны, хотя, казалось бы, уже находка А. И. Мусина-Пушкина 1770-х годов — первый древний «рубль» в виде отрубка от серебряного прутка — подтверждала ее истинность. Сомнения высказывают и историки.
При традиционном объяснении «остается не ясным, почему наши предки поступали столь неразумно и неосмотрительно: не отливали каждый рубль сразу, без последующей рубки? — пишет один из исследователей нашей проблемы И. Тиндо. — Ведь помимо трудности расплавления большого количества металла в одном тигле и разрубания неоднородного прутка на куски строго определенного, “стандартного” веса были трудности и другого рода: полученная в итоге “монета” с обрубленными концами была не защищенной от “порчи” —дальнейшего обрубания злоумышленниками!» (Тиндо 1988, 89). Эти умозрительные сомнения подкреплялись и новыми нумизматическими находками 20-х годов XIX в., показавшими, что наряду со слитками, подобными первому мусин-пуш-кинскому рублю, встречаются и вдвое большие, а по письменным памятникам можно обнаружить и равенство слитка-гривны рублю на протяжении, по крайней мере, середины XIII—середины XV в. А если так, то отрубок гривны, принятый А. И. Мусиным-Пушкиным за первый «рубль», можно считать полтиной, т. е., собственно, отрубком рубля, а не гривны. Отсюда и утверждения, подобные замечанию А. Г. Преображенского: «Но рубли не рубили, а отливали. Ср. в Псков, “на кого еси лилъ рубли”» (Преображенский II, 220). Известны и сопряжения некоторыми этимологами рубля с араб, rubh ‘четверть’, заимствованным из Индии, где рупия (др.-инд. гйруат ‘название крупной серебряной монеты’) буквально значит ‘снабженное изображением, печатью’ и восходит к др.-инд. гйруат ‘серебро с изображением, чеканное серебро’ (Цыганенко 1970,404).
Новая этимологическая интерпретация, тем не менее, связывает рубль с рубить, но в ином значении: не ‘разрубать слиток на
413 ПОМЕМУ гуьль длинный?
части’, а ‘отливать серебряную гривну определенного, «рублевое го» веса’. При таком объяснении рубить соотносится с рубеж ‘край, грань; зарубка, насечка’ (Тиндо 1988, 89-90). Важно, что эта этимология опирается на семантические параллели из разньЦ языков, где слова со значением ‘деньги’ (включая и рус. деньги (ft др.-рус. тамга ‘клеймо, печать, подать, пошлина’) первоначально связаны с понятиями знака, отметки, черты, клейма. Таковы мецкие марки, итальянские караты и др.
Таким образом, рубль первоначально — это серебряный cjihjf ток, отлитый до определенного «рубежа», отметины. Он, как МЫ видели по археологическим находкам, имел не вид круглой мон$ ты, привычной для нас ныне, но вид прута различной длины. Имей но такой длинный рубль и имели в виду первоначально те, кто кар* да-то впервые употребил соответствующие выражения. Возмож*’ но, правда, что в них отразились лишь исторические реминисцфЭД ции о древнерусских продолговатых серебряных рублях: не слу? чайно эти выражения употребляются иронически. Такие реминиф ценции уходят в далекое прошлое, ибо регулярно в виде серебру ных монет рубли начали чеканиться с 1704 г., во времена правде* ния Петра I, причем на основе рубля была создана первая в мир® десятичная монетная система (СЭС 1981,1156). Да и во времен^ близкие к допетровским, наш рубль уже весьма далеко отощел одг «отрубленного», т. е. отлитого до определенной разметки серебря* ного слитка.
Какое-то время, правда, язык продолжал кое-как поддерживать исходные представления о первых рублях. В XIX в., например^ употреблялось выражение ломать рубль ‘объявлять себя несостоя* тельным и расплачиваться несколькими копейками за рубль, погашая долг кредиторам’ (ср. также ломаный грош в выражении ломаного гроша на стоит). Длинный рубль, по сути дела, — антоним некогда известного ломаного рубля. Но и эта ассоциативная «поддержка» сейчас утрачена. Длинный рубль поэтому не только осмысливается нами по-современному, т. е. «по-бумажному», но и способен превращаться в иную — даже конвертируемую валюту. В книге Б. Ю. Нормана, например, упоминается о длинных долларах: «Они почуяли: тут пахнет длинным долларом». Это — цитата из современного рассказа С. Вишневского. Цитата, несмотря на «валютную» замену, подчеркивающая основное ироническое значение русского оборота о длинном рубле.
Почему сокол гол?
— Вот я, Илья Тимофеевич, товарищ тебе по годам, а то и старше, гол как сокол, нет у меня ни жены, ни саду, ни детей.
Л. Н. Толстой. Казаки
Сокол издревле был на Руси птицей чрезвычайно популярной.
В народной поэзии это символ мужества, удальства, зоркости и быстроты, верной дружбы и товарищества. Ясным соколом, соколиком невесты называли своих же
нихов, юноши — преданных друзей, родители—любимых сыновей. Во время Великой Отечественной войны соколами называли отважных летчиков. Такая символика во многом восходит ко временам соколиной охоты—одного из любимых княжеских и царских развлечений в Древней Руси. Не случайно образы сокола и картины соколиной охоты постоянно переосмысляются поэтически в древнерусской литературе.
В «Слове о полку Игореве», например, сокол — постоянный эпитет и князя Игоря, и других князей: Игорь бежит из плена «соколом под мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и обеду, и ужину», а князья Роман и Мстислав так же высоко заносятся в своей «буести», как сокол, который, «хотя птиц в буйстве одолети», парит в воздухе, готовясь к нападению на намеченную жертву. В Ипатьевской летописи с соколом сравниваются русские воины: «Приехавшимъ же соколомь стрклцемь, и не стерпевъшимъ же людемь, избиша t и роздрашася» (под 1231 г.). В Лаврентьевской летописи это сравнение приобретает еще большую выразительность, ибо в нем соколу противопоставляется голица, что также характерно для фольклора (ср. также Был бы сокол, а вороны налетят; Плох сокол, что на воронье место сел и т. п.): «Бонакъ же раздЪлисА на 3 полкы, и сбита Оугры акы в мачь, ко се соколъ сбиваЪть галицЬ» (под 1097 г.).
Кроме того, что сокола постоянно приравнивали именно к родовитым, отнюдь не бедным князьям и ратникам, он и сам по себе высоко ценился как охотничья птица. В эпоху Средневековья хорошо обученные соколы широко использовались как ценные дары или выкуп. После поражения в битве с турками у Никополя, например, французский король Карл VI послал Баятезу в качестве выкупа за своих маршалов де ля Тремуля и де Бокико, взятых в
415 ПОЧЕМУ сокол гол?
плен, несколько охотничьих соколов, а герцог Бургундский до* бился освобождения своего плененного сына всего за 12 соколов^ В качестве ценных даров использовали соколов и русские цари. Так, в 1663 г. Алексей Михайлович отправил английскому королю с послом Прозоровским кроме дорогих соболей и горностаев «и птиц кречетов, соколов и ястребов, болии 20000 рублей» (О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Гри-горья Котошихина. 1666-1667). Такие царские соколы специалй но выращивались и обучались в подмосковном заповедном сосно$ вом бору, где проводились соколиные охоты, — Сокольниках, ня* звание которого сохранилось до сих пор за одним из районов на* шей столицы.
Ни в древнеписьменной, ни в фольклорной символике сокола нет» следовательно, никаких намеков на то, что эта птица может ассоциироваться с бедностью или нищетой, т. е. с теми представлениями* которые отражает известное сравнение гол как сокол. Тем не менее? народная и литературная традиция настойчиво хранит и это сравнй^ ние, и связанную с ним ассоциацию с крайней нищетой. Сравнений записано в самых разных районах России и входит во многие поело* вицы и поговорки: Гол как сокол, а остёр как бритва (Даль II, 706)3 Поселыцик — гол как сокол: ни дома, ни лома ‘о ссыльных поселен^ цах’ (ФСС, 148); Тяжбу завел — стал гол как сокол (ДП, 173) и др? Не случайна поэтому и его широкая употребляемость в нашем лите^ ратурном языке уже с XVIII в.:
«Подавалов: Однако я начинаю думать, что мне нельзя составить, щастия этой любезной девицы: я гол как сокол» (В. Лей», шин. Явная переписка);
«М а т в е й : Да ты мне сам не сто раз говаривал, что ты и сам быж гол как сокол, что тебя покойна барыня всем наделила, как ты вздумал жениться» (П. Плавильщиков. Бобыль);
«П р и к а з ч и к: Да они уж так голы, как вот точно соколы» (И. Кры-лов.Кофейница);
«Андрей: Соловья баснями не кормят, и который господин чист, как сокол, у того не весело слугам бывает» (В. Лукин. Награжденное постоянство).
И классики XIX в., и современные писатели активно поддерживают эту традицию, сохраняя оборот гол как сокол в неизменной, отчеканенной еще живой речью форме:
«Троекуров часто говаривал Дубровскому: “Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром, что он гол как сокол”» (А. Пушкин. Дубровский); «Эта
416 почему сокол гол?
маленькая катастрофа произошла уже вечером; вдруг открылось, что князь гол как сокол и еще на нее же рассчитывал, чтобы занять у нее денег под вексель и проиграть на рулетке» (Ф. Достоевский. Игрок); «Кому теперь приласкать меня? Кто мне доброе слово молвит? Ведь я кругом сирота. Гол как сокол» (И. Тургенев. Петушков); «Савка был гол как сокол и жил хуже всякого бобыля» (А. Чехов. Агафья); «После продажи имущества остался я гол как сокол, но зато вновь поступил в университет, теперь уже Петербургский, обвенчался с Наденькой и увез ее с собой...» (С. Сартаков. А ты гори, звезда); «Что в нем проку, в твоем солдате?... Гол как сокол» (С. Маршак. Горя бояться — счастья не видать); «Налоги тяжелые стали, барин, а к ним добавь штрафы, так что у мужика остается? До последнего гроша карман вывернешь, до последнего зерна сусек выметешь... Спину гнешь на купчишек, а из долгов все не выберешься. Вот и гол как сокол...» (А. Шмаков. Петербургский изгнанник).
Нетрудно увидеть, что практически во всех этих употреблениях сохраняется народный колорит устойчивого сравнения. Везде это символ крайнего обнищания.
Эта символика вступает в резкое противоречие со всеми другими— как мы видели, подчеркнуто положительными — ассоциациями сокола в русской истории, фольклоре, языке. Буквальный смысл сравнения гол как сокол никак не вытекает из всего того, что мы знаем об этой молодцеватой и отважной птице. Связь сокола с нищетой кажется абсолютно неоправданной. Один из современных популяризаторов русской фразеологии Э. А. Вартаньян справедливо подчеркивает поэтому: «Странно, что Покрытая перьями птица изображается как образ наготы» (Вартаньян 1960,61). Именно эта «странность» и заставляет уже давно историков языка искать иного, более правдоподобного объяснения исходного смысла нашего сравнения.
Наиболее известное и широко популяризуемое в пособиях по русскому языку толкование основывается на омониме сокол. Он, согласно такой версии, обозначает отнюдь не птицу, а старинное стенобитное орудие из чугуна и железа, длинное и широкое, как толстое бревно. Подвешивая его на железных цепях и раскачивая, этим соколом прошибали прочные крепостные ворота и каменные стены. Поверхность такого металлического тарана была гладкой, «Голой».
Словом сокол {сокол) называли и некоторые рабочие инструменты, также имевшие гладкую поверхность: большие ручные железные ломы, трамбовочные бабы или песты для растирания зерна в ступе. Именно к значению ‘железный лом’ возводит исходную мотивировку сравнения гол как сокол М. И. Михельсон.
4J7 ПОЧЕМУ СОКОЛ гоя?
Э. А. Вартаньян подвергает традиционное толкование, основанное на значении ‘стенобитное орудие’, сомнению. «Не правильнее ли нашу поговорку произносить «гол как сукол?”»—пишет он и объясняет далее, что сукол в крестьянском обиходе обозначает пары тесно сближенных кольев, поддерживающих изгородь, пле-тень или частокол. «Осенью, когда полевые ограды разрушаются, на полях остаются торчать только “голые суколы”; их груст* ный, сиротливый вид и впрямь мог легко сделать их образом печальной наготы, послужить для создания поговорки—характеристики человека крайне бедного, не имеющего “ни кола, ни двора”», — заключает автор этой оригинальной этимологии (Варта? ньян 1960, 61).
Кроме того, следует обратить внимание читателей и на то, что видимая нелогичность «голого» сокола-птицы также не является абсолютно обоснованной. В этом легко убедиться, заглянув в 0]> нитологическую литературу, в которой описывается жизнь этой хищной птицы.
Разумеется, по пернатости сокола никак нельзя назвать «го* лым». Зато гнездится он несколько своеобразно — чаще всего на обнаженных отвесных скалах, не слишком трудясь над своим жилищем. Кое-как соорудив плоское, весьма неуютное гнездо, соколиная пара помещает его таким образом, чтобы в любой момент с него можно было взлететь. Нередко соколы вообще не вьют гнезд, а откладывают яйца прямо на скале иди на земле, а бывает, что используют и старые, брошенные «за ненадобностью» гнезда других птиц. Как видим, если учесть эту «особенность быта» соколов, то и сравнение бедняка, не имеющего «ни кола ни двора», с соколом легко оправдать без обращения к омониму сокол или к диалектизму сукол. Тем более, что и русская пословица, записанная еще в 1741 г., как будто подтверждает возможность такого толкования: Гнездо соколье — дворянское подворье: кругом увито, а в нем пусто (ППЗ, 75).
В истории фразеологии часты случаи, когда этимологические версии, сами по себе весьма логичные, оказываются ненадежными при их проверке чисто языковыми фактами. Давайте поэтому посмотрим, какая из трех приведенных версий способна сохранить надежность и после «испытания фактами». Особенно важна здесь проверка «на моделируемость», т. е. соотнесение оборота гол как сокол с рядом русских и инославянских диалектных фразеологизмов, имеющих такое же значение и структуру.
41g ПОЧЕМУ сокол гол?
В русских народных говорах встречается два рифмованных сравнения, подобных рассматриваемому: гол как (осиновый) кол и гол что мосол. Известны и нерифмованные сравнения со значением ‘крайне беден, нищ’: гол как бубен (т. е. барабан), какпрут, как перст, как сосёнка, каклутошка (т. е. ободранная липка), яко грек (промотавшийся). Мотивировка каждого из них предельно ясна: и кол, и прут, и ободранная липка-лутошка или сосенка, древесный ствол которой быстро очищается от веток, легко вызывают представления о наготе и—переносно — об абсолютной бедности. Точно так же палец, скудно покрытый волосами, и туго натянутая и очищенная от шерстинок барабанная кожа являются ярким символом «обнаженности» и нищеты.
Перекличка славянских сравнений подобного типа с русскими весьма показательна. Белорусскому голяк сакол соответствует гол як кол, гол як б1зун и як 61ч (т. е. ‘как кнут, как плетка’); голы як стой (‘как кол’) и голы, якмащ нарадзига. В украинском сравнение гол як сокол известно лишь как периферийное (Номис 1864, 32), но зато распространены такие обороты, как голийяк бубон (‘барабан’), як (руда) миша (‘мышь’), як долоня (‘ладонь’), реже—як б1зун, як бич, як пляшка (‘бутылка’), як пень, якм1ч (‘меч’), як метка (‘кисточка’) и голый як турецький святий. В польском, чешском и словацком языках сравнения, связанные с прилагательными goty, holy ‘гол’, образованы по тем же ассоциативным типам: «как липа», «как палец», «как мышь», «как кнут», «как ладонь», «как турецкий святой».
Большое сходство мотивировок обнаруживают и южнославянские языки. Во-первых, в болгарском языке мы находим прямое соответствие русскому обороту — гол като сокол, а в сербохорватском —записанную еще Вуком Караджичем поговорку ако je и го, али je соко ‘он хоть и гол, но зато—сокол’, которая может быть одним из вариантов такого сравнения. Во-вторых, многие болгарские и сербохорватские сравнения укладываются в уже известные нам семантические модели: болт, гол като пръет ‘гол как палец’, като прът, като пръчка и като тояга ‘как прут’, ‘как палка’, като дурка ‘как деревянная палка в прялке’, като тупан и като тъпан ‘как барабан’; с.-х. го као липа, као прст, као шипка ‘как прут’.
Важно, что южнославянские языки дают целую серию устойчивых сравнений «военного» происхождения: болг. гол като [арнаутски] пищов ‘гол как [старинный] пистолет’, като пушка ‘как ружье’, като фишек ‘как гильза’; с.-х. го као пиштозь ‘гол как
419 П0ЧЕМУ сомол гоя?
пистолет’. Любопытно, что некоторые из этих сравнений, например гол като пушка, находят свои аналогии в румынском и ново-греческом языках.
Попробуем суммировать этот разнообразный, но далеко не разнородный в семантическом плане материал. Как он соотносится с тремя возможными версиями о происхождении сравнения гол как сокол!
С точки зрения внутренней мотивированности, соблазнительно было бы принять гипотезу Э. А. Вартаньяна о том, что сокол здесь—искаженное сукол. Мотивировка «как кол», «как прут», «как палка», как мы видели, широко представлена в различных славянских языках и диалектах. Тем не менее от этой гипотезы приходится отказаться прежде всего потому, что само слово сукол нигде не зафиксировано в той форме, в какой ее приводит Э. А. Вартаньян. Прав* да, в смоленских говорах (по данным КСРНГ) было записано слово сукдла, значение которого не совсем ясно, хотя, возможно, и близко к приводимому толкованию. Трудно также предположить, чтобы ио каженный русский диалектизм давал и в восточнославянских, и в южнославянских языках лишь сравнение в форме как сокол—веж на столь широком ареале исконная форма должна была проявиться и вне устойчивого сочетания, и в его составе.
Приходится отказаться и от мотивировки буквальной, т. е. связанной с птицей: на фоне типовой мотивированности других славянских сравнений она выглядит индивидуально-поэтическим исключением.
Проведенный лингвистический анализ, следовательно, возвращает нас к традиционному объяснению истории русского устойчив вого сравнения гол как сокол. Показательно, что именно в тех ела* вянских языках, где оно известно, мы и находим образы, близкие к сокол ‘орудие с гладкой металлической поверхностью’: ведь такую же поверхность имеют и болгарские пищов и пушка, и сербохорватский пиштол>, и даже болгарский фишек ‘гильза’.
Может, конечно, возникнуть сомнение — правомерно ли ставить в один ряд столь различные виды оружия, как старинный стенобитный таран, ружье, пистолет и тем более —- гильза? Рассеять сомнение помогает история слов, обозначающих эти виды оружия.
Во-первых, старинная пушка по форме и материалу весьма напоминала таран. Это была, по определению В. И. Даля, «чугунная, железная, медная, стальная облая (т. е. круглая) колода, просверленная вдоль для заряда». Не случайно в начале прошлого
420 П0ЧЕМУ сокол гол?
века было в ходу шутливое толкование артиллерийского орудия: «пушка — это дырка, обитая медью». Характерно в этом плане одно из распространенных в прошлом веке значений слова сокол — «чугунный, четырехгранный кусок пудов в 6 весом, с одной стороны с ушком, а по оси куска круглая дыра; за ушко сокол привешивается на веревки, а в дыру вставляется рычаг. Им заколачивают железные клинья при закреплении колес на валу» (КСРНГ).
Это сходство тем более закономерно, что в Средневековье соколом (пол. sokol) называли пушку, стрелявшую шестифунтовыми ядрами. Название «сокол» здесь — буквальный перевод французского военного термина faucon, обозначающего именно такие ору-дия-фоконы. Однофунтовая же пушка называлась фальконетом, что в переводе с итальянского (falconetto) значит ‘соколик’. Характерно, что в старопольском языке и этот термин употреблялся в дословном переводе — sokolek. В России фальконет весом около 250 кг был впервые отлит уже в 1547 г. Сокол в значении ‘артиллерийское орудие’ впервые отмечается в русских памятниках XVII в.: «Пищаль соколъ вЪсу в немъ семь контариевъ (контарь равен приблизительно 40 кг), ядро железное или свинцатое в^сомь два фунта» (Устав ратных дел, т. 2, 1621 г. — КСРЯ XI - XVII вв.).
Во-вторых, не случайна и замена наименований пушки, ружья и пистолета в славянском ряду названных оборотов. В старину и по форме, и по назначению эти виды огнестрельного оружия были довольно близки, что вело и к их терминологическому смешению. Так, слово пушка не только в болгарском и сербохорватском, но и в чешском ц словацком языках обозначает не артиллерийское орудие, но ружье или винтовку. В древнерусском языке пушькой также называли не только большое метательное орудие, но и ручной метательный снаряд—самострел или арбалет. В «Хожении за три моря» Афанасия Никитина 1466-1472 гг.», например, встречаем такое описание: «Оболочать их [слонов] в доспех булатный, да на них учинены городкы, да в городке по 12 человек в доспесех, да все с пушками да стрелами». Точно так же в старину слово пищаль обозначало не только большую пушку, но и различные виды ручного огнестрельного оружия, а в обиходе — даже охотничье ружье. Более того, пищаль — через посредство чеш. pistala — это прямая родственница пистолета, что еще более сближает ряд южнославянских сравнений, которые можно связать с выражением гол как сокол. Впрочем, подобное прямое родство можно найти и в рам-
421 почену с0*071 голт
ках современного русского языка: пушкой в просторечии и жарго-не называют револьвер, особенно же револьвер системы «наган».
Как видим, «военная» мотивировка нашего сравнения вполне доказуема как с языковой, так и с реально-исторической точки зрения. Но в традиционное объяснение при этом следует внести одну существенную семантическую коррективу: под соколом в этом обороте имеется в виду не старинный таран, а средневековая шестифунтовая пушка, имеющая гладкую металлическую поверхности
Как видим, сравнение гол как сокол в своих истоках не имеет ничего общего с реальным соколом-птицей. Но было бы ошибкой недооценивать влияние всей богатой фольклорной орнитологической символики на развитие, а главное — на активную употреби* тельность этого оборота. Только тем, что представление о молодцеватом, отважном и потому в какой-то мере беспечном соколе очень популярно в русском фольклоре и живой речи, и можно объяснить популярность сравнения гол как сокол. Первичное представление о старинной пушке—соколе было накрепко забыто. Но само сравнение переосмыслено и обогащено ассоциацией с героем соколиных охот, сказок, песен и пословиц. Рифма и фольклорный образный фон обеспечили сохранность этого древнего восточно- и южнославянского фразеологического историзма.
Э. А. Вартаньян, приступая к историко-этимологическому толкованию сравнения гол как сокол, пишет: «Вот постоянное сочетание слов, за объяснением которого не нужно ходить в чужие края, но которое, тем не менее, не так-то просто и бесспорно» (Вартаньян 1960, 61). Выясняя происхождение этого оборота, однако, легко убедиться, что без «хождения в чужие края» в этом «непростом» случае обойтись нельзя. Именно обращение к материалу и историческим реалиям других языков и стран и помогает здесь найти вероятное решение и отсеять спорные гипотезы.
На четыре стороны или на четыре ветра?
Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, — сказал он, ударяя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь».
А. С. Пушкин. Капитанская дочка
ничего не может быть шире, ч
Это пушкинское, точнее, пугачевское «Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь» —яркое воплощение в языке народных представлений о воле-волюшке, вольной воле. Воля у нас всегда была сопряжена с неизмеримо широкими пространствами, с чистым полем. И и эти фразеологические «четыре
стороны», куда отправляются герои русских сказок или персонажи нашей литературы.
Толкование оборота на все четыре стороны в наших словарях делает обычно акцент именно на волю вольную — ‘куда угодно, куда только захочется’. Представление же о пространственности достаточно отражено и во внутренней его форме, где слово сторона весьма прозрачно, и — в глаголах-сопроводителях. Их набор достаточно велик, но тематика четко очерчена пространственностью, поскольку это в массе своей глаголы движения:
«Хозяин остро вглядывался в нее и усмехался:“Ну, ежели тебе не по нраву здесь, можешь идти на все четыре стороны”» (Ф. Гладков. Вольница); «Я вышел на улицу с твердым намерением идти на все четыре стороны [куда глаза глядят]» (М. Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала);
«П е р ч и х и н: Оперился птенец — лети на все четыре стороны... никакой ему муштровки от отца с матерью нет...» (М. Горький. Мещане).
«Волевое» начало, заложенное в значении этого оборота, не может, естественно, не отразиться и на глаголах, с которыми он взаимодействует. Оно проявляется в предпочтительности повелительного наклонения или сочетаний таких глаголов с модальными конструкциями (ступай, иди, лети; можешь идти, с намерением идти и т. п.), а также в выборе глаголов, где повелительность или модальность выражены и лексически, а не только грамматически. Таков глагол убираться, сама экспрессивность которого требует предпочтения именно повелительной формы: «Его
423 НА СТОГОНЫ ИЛИ ИА ЧЕТЫРЕ ВЕТРА?
[Азицуса] покормили в последний раз обедом и велели убираться [из бурсы] на все четыре стороны» (Н. Помяловский. Очерки бурсы); «Иди сдай оружие начхозу, — сказал он... — и можешь убираться на все четыре стороны» (А. Фадеев. Разгром); «Даю вам час времени! Получайте расчет и убирайтесь на все четыре сторо-< ны» (А. Степанов. Семья Звонаревых).
В некоторых случаях глаголы иди, ступай, убирайся могут либо опускаться, либо заменяться словечком марш в значении повелительной формы глагола, что придает особую выразительность упот^ реблению оборота на все четыре стороны. «А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре сто* роны — марш!» (М. Горький. Коновалов).
Наиболее тесно с представлением о воле, свободе связан глагол отпускать, который уже полностью выходит за рамки чисто пространственных слов. Он, собственно, и является «волевырази-телем», поскольку обычно предполагает устойчивое словосочетание отпускать на волю. Воля в таких случаях как бы замещен^ выражением на все четыре стороны. «Он требовал своего посоха, молил, чтобы отдали ему его свободу, чтобы отпустили его на все четыре стороны» (Ф. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели); «Убивать мы вас [пленных] не собираемся... Пока будем разоружать остальных, вам придется здесь посидеть. Ну а потом, кто пожелает в наш отряд, — милости просим. Остальных отпустим на все четыре стороны» (К. Седых. Даурия); «Ковпак обрадовался не меньше меня. На радостях он даже приказал отпустить австрияка на все четыре стороны» (В. Вершигора. Люди с чистой совестью).
Образ нашего выражения легко вписывается в такие контексты и кажется Прозрачным: во все стороны, в любую из сторон, куда захочется. Однако историки русской фразеологии объясняют его не «пространственно-реалистически», а «сюрреалистически», связывая его с языческой магией. Признавая его исконно русским, Н. М. Шанский, В. И. Зимин и А. В. Филиппов пишут: «От древнейших магических охранительных обрядов. Оберегаясь от опасности, кланялись на четыре стороны, четырем ветрам» (КЭФ, 1979, № 5, 84).
Такое объяснение, как видим, предполагает две опорные точки исходного образа: поклонение такой стихии, как ветер, и магическое оберегание от грозящих человеку опасностей. Пространственная же ассоциация, столь ярко отраженная в современных употреблениях оборота, равно как и его «волевая» направленность, при
424 НА ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ МЛН ИА ЧЕТЫРЕ ВЕТРА?
такой интерпретации полностью отсутствует. Мостик между охранительным обрядом и движением куда глаза глядят перекинуть очень трудно.
Но не будем с ходу отмахиваться от столь оригинального объяснения. Не будем уже и потому, что связь ветра и стороны, направления в народном сознании, действительно, существует. Она отражена даже в славянских наименованиях двух важнейших сторон света: юг и север первоначально были именно наименованиями южного и северного ветров, а лишь потом приобрели известное нам общегеографическое значение. Четыре стороны (собственно: четыре стороны света, известные древним) именуются, следовательно, по двум основным ориентирам: восток и запад—по восходу и заходу солнца, а юг и север — по направлениям соответствующих ветров.
Характерно поэтому, что в русских сказках четыре ветра выступают как четыре брата. В одной из них, «Смирный мужик и драчливая жена», бедный мельник, смоловший рожь, возвращался домой, и вдруг налетевший ветер сдунул с чашки горсточку муки. Побитый за такое нерадение своей женой, он идет искать Ветер, чтобы взять у него денежную компенсацию за рассеянную муку. Навстречу ему попадается старушка, которой он поведал свою грустную историй).«— Поди за мною,—сказала ему старуха,—я мать Ветрова, но у меня их четыре сына: первый — Ветер Восточный, второй—Полуденный, третий — Западный, а четвертый — Полуночный. Так скажи же мне теперь, который Ветер раздул муку?» (Афанасьев III, 342-343). Виновником оказался Полуденный, т. е. южный ветер, давший ему взамен муки волшебную коробочку, в которой «все есть вволю»: деньги, хлеб, кушанья, питье, —словом, «что только вздумаешь». Коробочку потом подменили вороватые мужики, и нашему мельнику пришлось силой и смекалкой вновь добывать ее, чтобы угодить своей драчливой жене.
И в этой сказке можно найти какие-то следы поклонения Ветру как стихии: «Мужик, поклонясь Ветру и поблагодарив его за коробочку, пошел домой». В этой фразе, однако, нет ни намека на магический охранительный обряд, ни поклонения сразу всем четырем братьям Ветрам. Зато и здесь отражена прозрачная пространственная ориентация по ветрам как сторонам света.
Не случайно в нашем фольклоре пепел, пыль, прах разносится на четыре стороны именно ветром. Достаточно вспомнить здесь лермонтовскую песню о купце Калашникове:
425 НА ЧГГЫРЕ СТОРОНЫ МЛН НА ЧЕТЫРЕ ВЕТРА?
Мои очи слезные коршун выклюет, Мои кости сирые дождик вымоет, И без похорон горемычный прах На четыре стороны развеется.
Еще более ярким свидетельством пространственной «переклички» ветров и сторон света является устаревший ныне синоним нашего оборота — на все четыре ветра (идти, убираться, прогонять, отпускать): «Ф е д о р: Ну, куда барину уйти? Расплюев: Как куда? Да на все четыре ветра» (А. Сухово-Кобылин. Свадьба Кречине-кого); «Войско Донское царскому величеству подлежит, и я, ата* ман, со всей старшиною ему подлежим по его указу. А кто хошь — на четыре ветра ступай, хоть с нечистым деритесь» (С. Злобин. Степан Разин).
На все четыре стороны и на все четыре ветра, следовательно, некогда были фразеологическими конкурентами. Можно ли говорить о том, что второе, «ветровое», было основой первого, пространственного?
История русского языка, пожалуй, свидетельствует лишь об их давнем параллелизме и даже—давней предпочтительности первого оборота перед вторым. В материалах по фразеологии XVIII в., собранных М. Ф. Палевской (1980, 326), например, выражения о четырех ветрах нет, а о четырех сторонах представлено во всем семантическом спектре, характерном и для современного языка: «Угар: Не много с тебя возьму, поцелуев с полдесяток, так и Бог с тобой, поди себе на все четыре стороны» (М. Веревкин. Так и должно); «Княгиня моя такая добринькая, что рассудила меня не любить и я на все четыре стороны дал ей чистое благословение» (Н. Эмин. Роза); «Добросердов, написав отпускные, отдает: Щастливый путь, теперь уж вы мне не принадлежите, вот вам воля на все четыре стороны, куда изволите» (М. Прокудин-Горский. Судьба деревенская).
Это последнее употребление — «вот вам воля на все четыре стороны» — очень хорошо подтверждает ту семантическую акцен-товку на свободном пространстве, которую и сейчас мы ощущаем, употребляя наш оборот.
Об исконности выражения на все четыре стороны свидетельствуют также диалектные источники и данные древнерусского языка. В воронежских диалектах записан оборот Чистая тебе дорожка на четыре стороны (Ройз. Хаз. Сл., 303), аналогичный известному приветствию Скатертью дорожка ‘счастливого пути’. Древ-
426 МА ЧПЫ₽Е СТОРОНЫ МЛН НА ЧЕТЫРЕ ВЕТРА?
нерусское же выражение вс%ми четырьми коньци земли находим уже в XI в., в одном из сочинений Илариона: «Не в худе бо и не-вЪдомЪ земли владычьствоваша, нъ въ РусьскЪ, яже вЪдома и слышима есть всЬми четырьми коньци земли». Как верно замечает В. В. Колесов, Иларион еще не различает ни «области», ни «страны» в переносных значениях этих слов, которые позднее совпали со значением слова земля. Из контекста явствует, что в XI в. оборот вс%ми четырьми коньци земли не имел прямого отношения к магическим охранительным обрядам и поклонам на все четыре стороны. Предположение авторов «Краткого этимологического словаря русской фразеологии», следовательно, не подтверждается конкретным языковым материалом.
Не подтверждается оно еще и потому, что выражения на все четыре стороны и на все четыре ветра, несмотря на их структурно-семантическую близость, различны по происхождению. Первое известно лишь восточнославянским языкам, причем с лексической заменой слова сторона на слово бок\ бел. на усе чатыры [стораны], на усе чатыры бакг, укр. на eci чотири сторони, на eci чотири боки Из других славянских языков оно встречается в хорватско-сербском: na sve cetiri strane [svijeta]. Здесь важно дополнение svijeta, подтверждающее пространственную ориентацию оборота именно на стороны света, а не на ветры.
Выражение же о четырех ветрах имеет большую языковую «дальнобойность», чем на все четыре стороны. Оно известно как славянским, так и неславянским языкам: укр. на eci чотири eimpu, на eci eimpu, idu на десять eimpie, тгнав ся на иопири eimpu, розкнав на штири eimpu; пол. is<5 zabierac si$ na cztery wiatry ‘идти, убираться на четыре ветра’; нем. in alle vier Winde zerstreuen (букв, ‘разбросать на все четыре ветра’) ‘рассеять на все четыре стороны, по всему свету’, in alle Winde zerstreut sein (букв, ‘быть рассеяным по всем ветрам’) ‘разъехаться кто куда’, aus alien vier Winden (букв, ‘из всех четырех ветров’) ‘отовсюду, со всех сторон’.
Любопытны комментарии источников, включающих в себя выражения о четырех ветрах. И. Франко подчеркивает разные моменты: то, что «четыре ветра»—древнейший символ всех возможных направлений, всего кругозора; что эти выражения характеризуют пустое поле, безлюдное, ненаселенное место, где ветры гуляют свободно; что число ветров может в этих выражениях колебаться — например, 1ди на десять eimpie! отражает 10 различных сторон и направлений ветров. Польские и немецкие авторы ПОДЧерКИ-
427 Н* ЧЕТЫРЕ стогоны нлн на четыре ветра?
вают заимствованный характер соответствующих выражений: они признают его библеизмом (NKPIII, 653; Rohrich 1977,1152). Действительно, в Книге пророка Захарии (2,6) это выражение встречается: «Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по четырем ветрам небесным Я рассеял вас, говорит Господь».
Смысл библейского выражения рассеять по четырем ветрам небесным во многом совпадает с известными нам на четыре ветра; на четыре стороны, укр. и бел. на усе чатыры баю, на eci чотири бою. Однако бесспорно и их различие. Во-первых, в библейской фразе ветер понимается почти буквально, как рассеивающая что-либо или кого-либо стихия, а в наших оборотах акцент полностью смещен на направление движения. Во-вторых, глагол рассеять цепко прикреплен к «ветровому» значению, он отражает активную направленность действия на объект. В наших же выражениях, как мы видели по многочисленным контекстам, глаголы характеризуют движущийся субъект, его самостоятельное, «вольное» перемещение в пространстве. Кроме того, русские стороны и укра-инские или белорусские бою и баю никак не укладываются в логику библейской фразы.
Вот почему, оставляя открытым вопрос о происхождении оборота на все четыре ветра (он мог быть совмещением исконного выражения о четырех ветрах и библейской фразы), можно признать исконно русский (resp. восточнославянский) статус оборота на все четыре стороны. Это выражение фольклорное, на что указывают его многочисленные употребления в сказках, где родители, провожая сына «на все четыре стороны», благословляют и наставляют его. О народном колорите свидетельствуют и стилистика употребления оборота, и его числовая символика.
В народном сознании четыре—«полное число»: это и стан колес, и стан подков у лошади, и стан животного. Само слово стан в народной речи имеет и обобщающее значение ‘туловище, тело в совокупности его членов’, и ‘полное число, т. е. четыре’. Символика полноты, завершенности отражается во многих материальных и духовных понятиях: четыре угла дома, четыре стены в избе, четыре страны света, четыре стихии древних, четыре евангелиста и т. п. Отсюда такие пословицы, как Без четырех углов изба не рубится, Четыре стены на четыре стороны, Конь о четырех ногах, да спотыкается, Четыре страны света на четырех морях положены.
Разумеется, символика полноты и совершенства характерна не только для русского или славянского восприятия числа 4. Оно, как
428 НА ЧЕТЫГЕ СТОЮНЫ НЛН НА ЧЕТЫРЕ ВЕТРА?
считают мифологи, уже в праисторические времена символизировало нечто осязаемое, доступное органам чувств, целостное. Благодаря символике креста (известной отнюдь не одному христианству) это число закрепило ассоциации с полнотой, целостностью, самодостаточностью. «Крещеньем» меридиана с параллелью земля делится на четыре части. Многие народы делят мир на четыре части света, месяцы — на четыре лунные фазы, год — на четыре сезона, материю — на четыре стихии, психические свойства человека — на четыре темперамента. Эта символика пронизывает, естественно, и многие религии. Например, в христианстве можно найти длинную вереницу этого символизма: четыре ангела уничтожения стоят на четырех углах земли, откуда дуют четыре ветра; четыре реки, истекающие из рая и наводняющие и ограничивающие существующий мир; небесный Иерусалим, располагающийся на четырех углах; и т. п. (Chevalier, Gheerbrant 1987, 87-89).
Вот одно из самых ярких по концентрации такой символики место Библии — Книга пророка Иезекиля, написанная около 593 г. до н.э.:
«И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, — таков был вид их: облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их — ноги прямые... И руки человеческие были под крыльями их, иа четырехсторонах их.,. И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их... Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались. А ободья их — высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз» (Иезекиль I, 5).
Ужасающее зрелище, не правда ли?
Толкователи Библии усматривают в нем символ подвижности и вездесущести бога Яхве, который не привязан лишь к иерусалимскому храму Божию, но присутствует всюду, где находятся в изгнании верующие в него.
Четыре и здесь — абсолютная «полносторонность», всеохват-ность, вездесущность. Как и наши народные «все четыре стороны». Неслучайно и эти ветхозаветные «четырехколесные» животные «шли на четыре свои стороны» не оборачиваясь.
Текст из Библии показывает, что «четыре свои стороны» Иезекиля и «все четыре стороны» русских сказок связаны единой символической цепочкой. Цепочкой мифологического универсализма.
429 ИА ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ ИЛИ НА ЧЕТЫРЕ ВЕТРА?
Наше выражение отражает хотя и бытовое, но вполне естествен* ненаучное миросозерцание русского народа, делящего, как и другие народы, все окружающее его «световое» пространство на четыре —все четыре!—стороны. При этом некогда доминирующим был ориентир восток—запад, т. е. направление восхода и захода солнца, а привычная сейчас ориентация север — юг была вторичной: не случайно сами слова ориентация, ориентир ит. п. восходят к лат. oriens (род. п. orientis) ‘восток’.
Подобные «пространственные расчетверения» характерны и для фольклора других народов — например, французское выражение aller par quatre chemins ‘идти по четырем дорогам’ возникло на основе древнего обычая франков при освобождении раба ставить его на перекрестке, ведущем на четыре стороны света, и провожать его словами: «Пусть будет свободен и идет, куда желает» (Михельсон 1901-1902 I, 591).
В обобщенном значении четыре стороны—это весь открытый мир, божий свет, вольная ширь, к которой русский народ искони испытывает особое чувство. Оно-то и запечатлелось в выражении на все четыре стороны.
В каком мы тупике?
— Да когда она мне нравится?.. — Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик.
Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.
М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени
Слово тупик вызывает в нашем сознании прежде всего железнодорожную ассоциацию—станционный или иной путь, сообщающийся с другими путями только одним концом. Второе значение этого слова—‘улица» не имеющая сквозного прохода или проезда’ —
хотя и древнее первого, но во многом уже уступает ему по употребляемости. Конкуренция этих двух значений слова тупик отразилась на историко-этимологической расшифровке целого ряда выражений, в которые оно входит: зай
ти в тупик, стать в тупик, ставить в тупик, загнать в тупик, попасть в тупик, выйти из тупика, вывести из тупика и т. п.
Одни лингвисты относят эти выражения именно к железнодорожному значению, считая его источником речь железнодорожников (Ашукины 1955, 394; Арсирий 1967, 12). Другие ищут их образные истоки в старом значении ‘глухой переулок’ (Максимов 1955,22; Дымский, Дмитриева 1964,90-92). Эта версия особенно живописна у этнографа С. В. Максимова:
«Городские жители хорошо знают, что “тупиками” называются такие закоулки, которые, подобно мешкам, имея вход, не дают свободного выхода. Эти непроходимые и непроезжие улицы называются также “глухими переулками” Наши города, зачастую расположившиеся у подножия гор и в распределении жилищ очутившиеся в зависимости от направления косогоров и речных берегов, в особенности обилуют такого вида улицами; наиболее же прославилась ими холмистая Москва. Не селились люди как прямее, а строились как ладнее. В старинных городах, когда, вопреки новым узаконениям, дома ставились даже в таком порядке, как вздумалось и как пришлось по зависимости от соседей, к тупикам этим оказалась как бы намеренная и упрямая наклонность. Много возни и хлопот они причинили тем, кто пускался переделывать и перестраивать этот неудобный порядок. Не избегнул тупиков даже и такой втиснутый в струну аккуратный немец, как регулированный три раза Петербург, в своих глухих переулках...» (Максимов 1955, 22-23).
Иного типа тупик, хотя и близкий к городскому глухому переулку, видит в основе этого выражения А. А. Потебня. По его мне-
431 в кдком иы ТУПМКЕ?
нию, оно связано с обозначением в деревенском обиходе угла на улице, образованного двумя плетеными заборами—плетнями.
Можно найти и более специальные значения слова тупик, В сибирской народной речи, например, В. И. Даль записал его как обозначение плетневой загородки раструбом, куда загоняют сохатого.
Переносные значения выражений зайти в тупик, попасть в тупик, оказаться в тупике и т. д., в принципе, позволяют соотнести слово тупик с любым из трех названных значений. Такая возможность поэтому заставляет фразеологов искать этимологического компромисса. Ю. А. Гвоздарев, например, оставляет вопрос об исходном значении оборота поставить в тупик открытым, а авторы «Опыта этимологического словаря русской фразеологии» объединяют обе версии:« Тупик—закоулок без выхода, а также железнодорожный путь, имеющий только один выход» (Опыт, 113).
Какое же значение было исходным в наших выражениях? Быть может, современное употребление их может подсказать первичный образ?
Вчитаемся внимательнее в контексты этих оборотов. Самым употребительным, пожалуй, является зайти /заходить в тупик. Оно развило два значения. Первое — ‘оказаться в большом затруднении, попасть в безвыходную ситуацию’, второе—‘оказаться безрезультативным, кончиться ничем (о переговорах, заседаниях, консультациях и т. п.)’: «Правительство зашло в тупик и чем дальше, тем более запутывается в собственных тенетах» (А. Левандов-ский. Дантон); «Нужна была крымская кампания, чтобы все поняли —так больше жить нельзя. Россия с ее... крещеной собственностью зашла в тупик» (А. Новиков-Прибой. Цусима); «Совсем никаких следов не оставил преступник, нет никаких улик, чтобы заподозрить кого-то. Следствие заходит в тупик...» (Ленингр. правда, 1979, 15 сент.).
Весьма часто употребляется и выражение стать/становиться в тупик ‘прийти в крайнее недоумение, замешательство, затруднительное положение’:«— А о чем же веселом и игривом думать?— спрашивала Нелли. Доктор немедленно становился в тупик» (Ф. Достоевский. Униженные и оскорбленные); «Стоит только заговорить с ним [обывателем] о чем-либо несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик» (А. Чехов. Ионыч); «Федя опять стал в тупик, не зная, то ли ему радоваться, что его зачислили в соавторы, то ли обидеться, что Саргылана не сочла нужным даже узнать его мнение» (Ф. Таурин. На Лена-реке).
432 * МКОМ МЫ ТУПМКС?
Как видим, контексты практически ничего не подсказывают. Аналогичны и употребления оборотов ставить / поставить (загнать) в тупик кого-либо, завести в тупик кого-либо, попадать / попасть в тупик, выйти из тупика, вывести из тупика. Глаголы, правда, дают иам понять, что действия, ими выражаемые, осуществляются в каком-то месте. Но относится оно к железнодорожному пути или глухому проулку — вывести из этих контекстов трудно. По сути, слово тупик здесь уже само по себе приобрело переносное значение ‘безвыходное положение’. Так, собственно говоря, оно и употребляется нами—потому и возможны такие вновь и вновь образующиеся сочетания, как тупиковая проблема или «Таежный тупик» — название очерка В. Пескова о заточившей себя в сибирской тайге семье старообрядцев Лыковых. Вот одно из типичных, хотя и далеко оторвавшихся от первичного значения употребления слова тупик в очерке Г. Резанова и Т. Хорошиловой «Тупик?» о фильме Киры Муратовой «Астенический синдром»: «Это печальный фильм, — негромко сказала она [К. Муратова]. — В нем отражен трагический личный тупик. Конечно, он одет в наши одежды. Одежды нашего общества. Нашего времени. Он касается для меня проблем, которые я не могу назвать проблемами, потому что они неразрешимые...» (Комсом. правда, 1989,10 дек.).
Личный тупик — это крайне безысходная ситуация, в которой оказалась личность. Отсутствие глаголов придает слову тупик в этом контексте особую абстрактность, а эпитет личный—полную оторванность от двух конкретных значений. Такое употребление — результат тех семантических превращений, которые прошло слово тупик в составе глагольных словосочетаний.
Раз в современном употреблении не осталось никаких явных намеков на конкретный исходный образ наших оборотов, то необходимо углубиться в историю языка. И экскурс в литературу XVIII в. убедительно опровергает железнодорожный «извод» выражений о тупике. Ведь они активно употреблялись, как оказывается, уже тогда, когда железнодорожных тупиков не было и в помине. Причем упо-треблялись весьма активно, с не меньшим набором глаголов, чем сейчас, — встать, зайти, заехать, прийти, привести: «Что делать? Иной на моем месте встал в тупик» (И. Крылов. Покаяние сочинителя...); «В о с т р я к о в про себя: Я не знаю, что делать, зашел в такой тупик» (В. Левшин. Слуга двух господ); «П о -лист: Нам очень кстати то, что этот глуп старик. Уж наша было знать заехала в тупик. За недостатком бы блистательного света
433 * МЫ ТУПИКЕ?
Узнали б все, что мы фальшивая монета» (Я. Княжнин. Хвастун); «Они и слышать сего не хотели, как необъезженные кони совсем под лад не давались, а теперь, когда пришло в тупик, что некуда ступить, то все до последней души рады, хоть босиком промяться до обозрения красот московских» (В. Березанский. Анекдоты древних пошехонцев); «Ты насказал мне такие права, которые и всякого юриспрудента приведут в тупик» (И. Крылов. Почта духов).
Опровергает железнодорожную версию и то, что наши выражения еще в XIX в. употреблялись не только со словом тупик, но и со словосочетанием «уличного» значения — тупой переулок. Материал такого рода приводится Ю. А. Гвоздаревым, по мнению которого здесь как бы восстанавливается «более старая форма»:
«И ему [Левину] неприятно было, когда процесс рассуждения заводил его в тупой переулок» (Л. Толстой. Анна Каренина); «Лев Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искусство вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулок, из которого нет выхода» (А. Чехов. Письмо А. И. Эртелю от 17 апреля 1897 г.).
В просторечии было известно и выражение заходить в тупой угол, которое находит аналогии в украинских оборотах зайти в глухш (слтии) кут (букв, ‘зайти в глухой угол’). Быть может, это и есть тот самый угол на деревенской улице, образованный двумя плетнями, который видел в основе образности оборота встать в тупик А. А. Потебня?
Языковые факты помогают отсеять и эту, «узкодеревенскую», а тем самым и чисто национальную, версию. Ведь в разных языках —как в славянских, так и неславянских—подобные выражения тоже есть. И в их основе — образ именно глухого, тупого переулка, улочки, не имеющей выхода. Таковы, например, чеш. dostat se do slepe ulicky (букв, ‘попасть в слепую улочку’), болг. попадна в задъиена улица, стигна до задънена улица (‘попасть в заделанную стеной улицу’), с.-х. dovesti / dovoditi u corsokak (‘завести в переулок’); нем. in eine Sackgasse geraten (‘попасть в тупик’); фр. aboutir a une impasse (‘приходить к тупику’), etre dans une impasse (‘быть в тупике’).
Как видим, во всех этих выражениях фигурирует именно переулок, тупик, «слепая улочка». Переносное же их значение полностью эквивалентно значению русских оборотов. Важно и то, что во многих языках они зафиксированы в переносном значении уже довольно давно. Отмечая, например, что немецкий оборот in eine
434 * ШКОМ МЫ ТУПИКЕ?
Sackgasse geraten значит ‘не находить никакого выхода’ уже у Гёте, Л. Рерих поясняет его мотивировку: «потому, что конец переулка закрыт» (Rohrich 1977, 786).
Итак, анализ показывает, что правы были те лингвисты, которые, начиная с В. И. Даля, связывали выражения стать в тупик, зайти в тупик, попасть в тупик и т. д. именно с глухим переулком.
Конечно, правы, хотя, как мы видели, они склонны были переоценивать чисто русское происхождение таких оборотов, на самом деле являющихся широко известными интернационализмами. О заимствовании из других языков в русский говорить трудно, ибо выражение известно и нашим диалектам: в новосибирских говорах, например, стала в тупик — говорят о лошади, которая внезапно остановилась и заупрямилась. Но и о ярко выраженной национальной специфичности говорить невозможно, ибо и образ, и структура выражений универсальны.
Но вот что любопытно. Родившись на почве универсального образа глухого переулка, улочки без выхода, выражения о тупике претерпели «техническую революцию» именно в нашем языке. Это случилось потому, что слово тупик вошло в железнодорожную терминологию, в то время как и чешская «слепая улочка», и болгарская «заделанная стеной улочка», и немецкий переулок (Sackgasse буквально значит ‘улочка-мешок’) остались чисто «уличными», не связанными с железной дорогой. И поэтому ассоциация —конечно же, вторичная, но весьма ощутимая! — с железнодорожным тупиком невольно всплывает в сознании говорящих по-русски. И не только в сознании — она прорывается и в реальное речевое употребление: «Вошедший подошел, налил ему холодного боржоми и начал: — Тенгиз Вахтангович, прибыло еще 50 вагонов. Полностью забит заводской железнодорожный тупик, и мы сами оказались в... тупике. Некуда подавать вагоны для отгрузки готовой продукции» (Г. Лебанидзе. Бутылочная Одиссея. — Правда, 1986, 17 марта).
Это в... тупике с многоточием сигнализирует некоторую заминку перед возвращением говорящего к исходному образу выражения оказаться в тупике. Заминку, дающую возможность слушателю подготовиться к стилистическому эффекту, который всегда возникает при скрещении прямого и переносного значений слова. В нашем случае прямое значение оказалось «псевдопрямым», осовремененным.
Хлопочки: хлбпки или хлопоты?
— Чем вы не невеста князю? Вы очень благоразумная дама, следственно, будете любить его, держать его в хлопочках.
Ф. М. Достоевский. Дядюшкин сон
Что означает эта загадочная фраза — держать в хлдпоч-ках, употребленная Ф. М. Достоевским? Из контекста, пожалуй, можно догадаться, что это — антоним к выражению держать в ежовых рукавицах, т. е. ‘обращаться очень ласково, бережно, любовно’. Но слово хлопочки в составе сочетания продолжает оставаться загадкой.
Разгадать ее попытался проф. В. В. Колесов. Увлекательно истол
ковывая историю поговорки хлопот полон рот, в которой хлопоты первоначально, по его мнению, значили ‘беспорядочный шум, издаваемый множеством говорящих’ и имели иное фонетическое обличье 1клбпот1, он касается и нашего выражения: «Клопот—это шум голосов. Но он связан с какой-то озабоченностью, волнением. Это ясно из
другого фразеологизма, теперь утраченного, но хорошо известного еще в XIX веке: держать в хлопочках, т. е. оберегать от всего, главным образом от всяких неприятностей и сомнений» (Колесов 1982,71).
Исходный смысл оборота держать в хлопочках при таком объяснении, следовательно,—‘держать в шуме голосов’, ‘держать в заботах, волнениях’. Так ли уж это «ясно» из нашего фразеологизма?
Пожалуй, не только не ясно, но — наоборот—такое истолкование слова хлопочки резко диссонирует с фразеологическим значением оборота. Трудно себе представить, чтобы любящий человек для оберегания объекта своей любви от забот и волнений специально создавал их в виде «шума голосов». Если еще раз вчитаться в строки Ф. М. Достоевского, то мы легко увидим, что хлопоты
никак не подставляются в них вместо непонятных нам хлопочек.
Но в языке XIX века достаточно легко найти слово, которое свободно подставляется в этот оборот. Наряду с держать в хлопочках в то время употреблялось и выражение держать в хлопках, воспитывать в хлопках или расти в хлопках, которое значило ‘растить, воспитывать, пестовать кого-либо, усиленно оберегая от трудностей и забот’, ‘нянчиться с кем-либо’:
436 ХЛОПОЧКИ: ХЛОПКИ ИЛИ ХЛОПОТЫ?
«Леса, поля и воля вольная — все это мне было так ново, выросшему в хлопках, за каменными стенами» (А. Герцен. Былое и думы); «Рекомендую: двоюродный брат моей жены... Славный юноша, но, бедняжка, почти не видывал мужского общества: маменька воспитала в хлопках» (Н. Чернышевский. Повесть в повести).
Не правда ли, общая семантическая и стилистическая тональность этих выражений очень близка русским оборотам воспитывать как тепличное растение, держать под стеклянным колпаком или пылинки сдувать с кого-либо? Во всех этих фразеологических синонимах, однако, абсолютно отсутствует идея создания каких-либо специальных трудностей и хлопот (вроде шума) тому, кого балуют, нежат, тщательно опекают. Наоборот, их образы подчеркивают как раз обратную идею — «держания» опекаемого как можно дальше от волнений и забот нашего бренного мира.
Этимологический анализ слова хлопки, от которого и образованы хлопочки, показывает, что никакой связи (кроме случайно ассоциативной, чисто фонетической) с хлопотами у него нет. Это слово — множественное число от хорошо известного нам хлопок. Правда, в нашем выражении оно имеет не привычное для нас значение ‘волокна семян хлопчатника, из которых вырабатывают пряжу, целлюлозу и т. п.’, а — ‘очески, пакля, охлопья’, ‘клочки чего-либо пушистого, мягкого’. Именно это, более старое исконно русское, народное значение отмечает и В. И. Даль не только для слова хлопки, но и для однокорневых с ним охлопок, охлопья, хлопок, хлопёнь, хлопешок. Это, по его формулировке, «клок пеньки, льну, хлопка либо кудели и пр.». В современных говорах, кстати, такое значение еще кое-где сохраняется: в кубанских говорах, например, записано слово хлопочки ‘отходы после вычесывания волокна из конопли’, а в донских—хлоп ‘костра, отходы’.
Значение это предельно ясно высвечивает исходный образ оборота держать в хлопочках. Первоначально он значил ‘окутывать кого-либо мягкими, пушистыми клочками кудели’, ‘обволакивать кого-либо мягким волокном, чтобы уберечь от столкновений, ушибов, ударов’. На такое толкование, кстати, есть намеки и в употреблениях этого оборота писателями:
«А р и н а: На то ль я тебя выходила да выняньчила, на своих руках выносила, как птичку какую в хлопочках берегла!» (А. Островский. Бедность не порок).
Действительно, наше выражение вызывает прямые ассоциации с беззащитным птенчиком, окутываемым клочками чего-либо мягкого и нежного. Эти ассоциации подкрепляются и языком XVIII в.,
437 ХЛОПОЧКИ: ХЛОПКИ МЛН ХЛОПОТЫ?
где было известно странное, на первый взгляд, выражение — не хлопья за щеками у кого-либо ‘кто-л. способен за себя постоять’: «М а р ф а: А при этом бы нашел случай, пожаловаться на проклятого графа Ветрова. Король наш очень милостив, а у Ванюши не хлопья за щеками» (В. Левшин. Король на охоте, опера комическая в трех действиях).
Если иметь в виду, что хлопья здесь отнюдь не снежные и не овсяные, а те же, что в обороте держать в хлопочках, то первоначальный образ этого оборота понятен. Хлопья за щеками бывают у беззащитного, неоперившегося, вынужденного сидеть в увитом чем-либо мягким гнездышке птенца. Не случайно на таком же образе построено и из-вестное всем выражение желторотый птенец, иронически характеризующее молодых, неумелых и неопытных, «неоперивших-ся» юношей.
Выражение о держании кого-либо в хлопочках имеет и современный разговорный вариант держать кого-либо в ватке, и устаревший народный — держать в охлопочках ‘беречь, холить’, записанное в свое время В. И. Далем. Имеет оно и широкие «интернациональные связи»: англ, mollycoddle (keep)smb. in cotton ‘держать кого-л. в хлопке’, mollycoddle (wrap) smb. in cottonwool ‘нежить, заворачивать кого-л. в вату’; нем. jmdn. in Watte packen (wickeln) ‘заворачивать, пеленать кого-л. в вату’; фр. elever dans du coton / dans une boite a coton ‘растить кого-л. в хлопке, в коробочке хлопчатника’, итал. tenere nel cotone ‘держать кого-л. в хлопке’ являются, по сути дела, полными эквивалентами нашего устаревшего оборота держать в хлопочках.
Распространены подобные выражения и у славян. В чешском и кашубском языках, например, они имеют большое число вариантов: чеш. chovat (mit) koho v bavlnce ‘держать кого-л. в хлопке’, chovat (mit) koho [jako] v pefince ‘держать кого-л. [как] в перинке’, chovat (mit) koho jako ve vate (ve vatidce) ‘держать кого-л. [как]ват-ке’, obkladat koho bavnkou ‘обкладывать кого-л. ваткой’; кашуб, wrosc v p’ernax ‘вырасти в перинах’, v p’elexe kogos ov’ijac ‘в перинку кого-л. заворачивать’, spac v nasepax (букв, ‘спать в наволочках’) ‘жить припеваючи’ и т. п.
Такие варианты свидетельствуют о народной основе образности этих оборотов, об их ассоциативной универсальности и в то же время, вероятно, и об их едином источнике. И о том, что между интернациональными фразеологическими хлопочками и нашими отечественными хлопотами-клопотами ничего общего в действительности нет.
Под шефе или под шафе?
К счастью, Питер стал протестовать против возврата лифчика: замахал руками, давая понять, что ничего такого и не думал, показал жестами, что, дескать, это он сам вчера был «под шафе». Здесь он щелкнул себя по шее — в России-то он давно, жесты пьяные изучил уже, — щелкнул, но от волнения промахнулся и попал в кадык, отчего нелепо закашлялся.
В. Высоцкий. Роман о девочках
Выражение под шофе (шефе) ‘в состоянии легкого опьянения, навеселе’ обычно воспринимается как сугубо разговорное. Однако оно имеет длительную традицию литературного употребления. По активности использования этого фразеологизма ни один писатель, пожалуй, не может конкурировать с А. П. Чеховым. Начиная с первого обыгрывания этого оборота в 1882 г. в рассказе «Ярмарка», где он еще дается в кавычках и обозначен так на-
зываемым тяжелым ударением, писатель свыше десяти раз употребляет его в письмах, рассказах, повестях. Сниженно-шутливая стилистическая окраска под шофе (шефе) была, видимо, для Чехова основным стимулом широкого включения оборота в произведения:
«А публика почтенная глазеет и заливается. Ей простительно, впрочем: лучшего не видала, да и позубоскалить хочется. К плохим пряникам, свободному времени, легкому “под шефе” недостает только смеха. Дайте толчок, и произойдет смех» (Ярмарка); «Любезнейший сын мой, 1884 год. Находясь в здравом рассудке и при полной памяти, несколько впрочем “под шефе”... завещаю тебе следующее...» (Завещание старого 1883 года); «Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь был, под шефе... Она приходит под окно и начинает ругаться... Я, спьяна, возьми да и пусти в иее сапогом...» (Шведская спичка);
«М е с я ц : Еще одно слово, ваше сиятельство... На случай затмения вы воздержались бы от этой штуки... (Указывает на пивные бутылки). Неровен час, будете под шефе, и как бы конфуза не вышло» (Перед затмением); «Грешно беспокоить... такого занятого человека, как Вы. Брат не сообразил этого, прося Пальмина написать Вам, — оба они были под шефе» (Письмо Н. А. Лейкину).
Для усиления юмористического эффекта писатель иногда смело разрушает каркас фразеологизма: «После обеда я подошел к Зине и... заговорил о... женской свободе. С женской свободы под влиянием “шефе” переехал я на паспортную систему...» (Дочь коммерции советника).
439 ПОД ШЕФЕ МЛН ПОД ШАФЕ?
А. П. Чехов, вообще смело вводивший в свои рассказы живую речь, не был единственным писателем-классиком, употребившим и узаконившим в литературе экспрессивный оборот под шофе. В «Пошехонских рассказах» М. Е. Салтыкова-Щедрина, вышедших лишь на год позже чеховского рассказа «Ярмарка», это выражение введено в текст без кавычек и в ином, чем у Чехова, написании: «Только находился промеж нас один мужчина. Притворился он, будто лыка не вяжет, а сам даже под-шефе настоящим образом не был».
Традиция литературного употребления оборота под шофе (шефе) не прерывается и в последующее время: «Третьего дня я вот отпросилась у хозяина гулять, пришла к нему, а у него Дунька пьяная сидит. И он тоже под шофе» (М. Горький. Однажды осенью); «Многие были под шафе» (С. Беляев. Семинарские очерки); «[Соколов], основательно будучи “под шефе”, обрадовался Грымзе» (Крокодил, 1926, № 11); «Июнь среди дороги Разлегся подшофе Сатиром козлоногим, Босой и в галифе» (А. Вознесенский. Лень).
Как видно из примеров, в написании интересующего нас выражения наблюдается большой разнобой. Он отразился и в словарных источниках. В различных словарях можно встретить подшофе, под шафе, подшофе, под шофе, подшефе, под шефе. Характерно, что в 17-томном академическом словаре русского языка при попытке кодифицировать написание этого оборота как быть под-шофе в иллюстрациях приводятся два других написания. Здесь, видимо, составители словаря шли за еще не сложившейся орфографической традицией и за соответствующими изданиями конкретных писателей:
«Со временем барский запой сделался постоянным, так что каждый день утром, аккуратно в десять часов, Иван Федорович... был уже немножко подшефе, а в одиннадцать совершенно пьян» (В. А. Соллогуб. Тарантас); «Незнакомый с ним и не подумает, что у него вся левая нога искусственная. Подшефе, бывало, даже вальс танцевал» (А. Г. Латкин. На Сибирских золотых приисках); «А муж уже был, что называется, подшафе» (А. С. Елеонская. Папаша-крестиый).
Такой разнобой, пожалуй, объясняется непонятностью этого загадочного шефе, шафе или шофе. Известно, что на кодификацию того или иного написания в русском литературном языке во многом влияла и продолжает влиять именно этимология, а здесь она отнюдь не прозрачна. И хотя не всегда за ней — последнее орфографическое слово, тем не менее в трудных случаях с нею обычно считаются. Значит, в нашем случае этимологический поиск вдвойне оправдан.
44Q ПОД ШЕФЕ ИЛИ ПОД ШАФЕ?
Каково же происхождение этого оборота?
На этот вопрос еще в XIX в. пытался ответить друг А. С. Пушкина писатель П. А. Вяземский. В его «Старой записной книжке», изданной в 1929 г. в Ленинграде, есть воспоминание о некоем Раевском, командире конногвардейского полка (не родственнике героя 1812 г.); он «был в некотором отношении лингвист, по крайней мере обогатил гвардейский язык многими новыми словами и выражениями, которые долго были в ходу и в общем употреблении, например: пропустить за галстук, немного подшефе (chauffe), фрам-буаз (framboise—малиновый) и пр. Все это по словотолкованию его значило, что человек выпил, подгулял».
На эту запись князя П. А. Вяземского обратил мое внимание в своем письме проф. Ю. М. Лотман после опубликования в 1978 г. моей заметки о выражении под шофе в «Русской речи». По мнению известного литературоведа, Раевский и был автором выражения, которое в этом случае «вышло из гвардейского языка».
В дворянской среде того времени, действительно, были в моде шутливые переделки французских и немецких слов и оборотов, дословное их воспроизведение на русский язык или скрещивание «французского с нижегородским». Достаточно вспомнить хрестоматийное «Пуркуа ву туше?» из пушкинского «Дубровского» или фразу Фамусова «Любезнейший! Ты не в своей тарелке» из грибоедовской комедии. Нередко такие обороты и фразы приписывают конкретным писателям или реальным лицам, якобы впервые их употребившим. Лингвистический анализ, однако, часто показывает, что в таких случаях речь идет не об авторстве, а лишь о первой более или менее известной фиксации того или иного слова или фразы, родившихся в живой речи и ставших популярными благодаря популярности того, кто их произнес или написал.Так, Грибоедов, например, вложил шутливую полуфранцузскую фразу о тарелке (ср. n’etre pas dans son assiette) именно в уста полуобразованного московского барина. Фразу, которая уже во времена А. С. Грибоедова стала крылатой шуткой, ибо французское assiette кроме «тарелки» имеет и много других, более подходящих к «самочувствию» значений.
Так, пожалуй, обстояло дело и с выражениями, употребленными командиром конногвардейского полка Раевским. П. А. Вяземский, как мы видели, приписывает ему наряду с интересующими нас под шофе и оборот пропустить за галстук. Характерно, что он весьма легко просвечивается именно франко-русским языковым спектром. Французский оборот en jeter (en mettre) un coup derriere la cravate
441 под ШЕФЕ под ШАФЕТ
‘бросить (положить) глоток за галстук’, s’en jeter un (verre) derriere la cravate ‘бросить стаканчик за галстук’ — весьма прозрачный образец, по которому создано «выражение Раевского». Правда, при калькировании французские глаголы заменены русскими, семантически более тяготеющими к серии русских фразеологизмов данного понятийного поля. Опять, следовательно, своеобразный «фразеологический гибрид».
О том, что такая «гибридизация» шла не от какого-либо конкретного автора, а по литературным и просторечным каналам, свидетельствуют немецкие обороты einen (eins) hinter die Binde gieBen ‘налить разок за галстук’ и er hat zu viel hinter die Binde gegossen ‘он залил слишком много за галстук’. Они появились в немецком просторечии примерно в то же время, что и русские обороты, — около 1850 г. (Rohrich 1977,128), что, видимо, является аргументом в пользу их заимствования из французского. В последнем языке эти выражения и больше варьируются, и кроме ‘выпить алкоголя’ значат также ‘обжираться, перенасыщаться’ (Rat 1957, 136). Подозревать же Раев-ского и во влиянии на немецкий язык оснований нет.
То же, пожалуй, можно констатировать и в отношении оборота под шофе. Прямую связь с фр. chauffe, собственно говоря, подчеркивает и В. И. Даль в своем словаре, где слово подшафе ‘подгулявши, навеселе’ помещает под знаком вопроса, указывая на его возможное образование от французского причастия echaufe (буквально ‘подогретый’, а переносно — ‘слегка выпивший’).
Глаголы chauffer и echauffer ‘согревать, нагревать’ и сейчас во французской разговорной речи имеют метафорическое значение ‘быть навеселе, находиться под парами’. Видимо, причастие chauffe (шофэ) ‘нагретый, подогретый алкоголем’ и легло в основу русского выражения. Показательно, что и в одной из повестей Фирсова,опубликованной в «Историческом вестнике» 1914 г., выражение под шафе и глагол подогреваться соединены одной повествовательной нитью: «Ему [Благосветлову] самому под шафе было как-то игривее и веселее, когда тут же... приятель подогревался». При этом редакция журнала сопровождает глагол подогревался примечанием: «выпивши».
Разговорный характер под шофе свидетельствует о том, что, скорее всего, выражение пришло в русский язык не литературным путем, а через речь каких-либо «французиков из Бордо» — гувернеров и гувернанток русских недорослей-дворян. Отсюда оно попало в конногвардейский язык, где того или иного «популяризато-
442 "одШЕфЕ п°дШАфС?
ра» таких «французско-нижегородских» оборотов вроде командира Раевского и принимали за их автора.
Орфографический разнобой—явное свидетельство проникновения оборота в литературный язык именно из живой речи. Этим и можно объяснить факт, что первые словари фиксируют его в форме под шафе (подшафё): здесь налицо типичное для русской речи «аканье», не делающее исключения даже для заимствований. Форма под шефе также по-своему отражает именно речевую стихию. Судя по написанному в 1845 г. «Тарантасу» В. А. Соллогуба, воспоминаниям П. Вяземского и фиксации В. Даля, оборот под шофе попал в русскую речь в первой половине XIX в.
Итак, источник появления под шофе установлен. Однако было бы неверным утверждать, что этот фразеологизм — чисто французское заимствование. Глагол chauffer, действительно, лег в основу русского выражения. Но мы ни в одном французском словаре не найдем фразеологизма, образ и синтаксическая структура которого точно соответствовали бы русскому обороту. Иными словами, причастие chauffe не может, соединяясь с предлогом sous ‘под’, образовать фразеологизм. Оно во французском языке не вступает в устойчивые связи с другими словами для создания выражений со значением ‘навеселе, в состоянии легкого опьянения’. Характерно, что и оборот, образованный от однокорневого прилагательного chaud ‘теплый, горячий, жаркий’, имеет совершенно иной словесный состав: etre chaud du vin (букв, ‘быть тепленьким от вина’) ‘выпить лишнее’.
Для того чтобы французское причастие chauffe превратилось в русский оборот под шофе, оно должно было пройти довольно долгий путь языковой акклиматизации в русской среде. Оно попало в русло продуктивной фразеологической модели с предлогом под, который нередко употребляется при обозначении состояния, в котором кто-л. находится. Ведущими фразеологизмами этой модели являются под хмельком и под мухой, давно вошедшие в русский литературный язык. Если значение первого ясно без комментариев (‘под влиянием хмеля’), то второе уводит своими корнями в древние мифологические ассоциации, связывающие опьянение, психическое возбуждение и сумасшествие с попаданием мух, кузнечиков, червей и прочего «дьявольского отродья» в голову, нос, ухо (Виноградов 1968; см. также в настоящей книге очерк «Какой у кого бзик?»). Эта структурно-семантическая модель вбирала в себя и массу аналогичных разговорных оборотов — таких как под газом, под градусом (реже — «на французский манер»: под газэ, под
443 лод ШЕФЕ или лод ШАФЕ?
града), под кайфом, под парами. Эти варианты — своеобразная модернизация некогда широко употреблявшихся в литературе, живой речи и диалектах и теперь забытых русских выражений с тем же значением и структурой — таких, например, как под куражом, под шумом или под шумком. О том, что эта фразеологическая модель выросла на почве русской народной речи, свидетельствуют такие диалектизмы, записанные В. И. Далем в разных областях России, как под ёлкой (ср.: «Идти под ёлку, в кабак. Елка (кабак) чище метлы дом подметет»), под замахом, под турахом или под турахом («турах —- хмель, состояние пьяного, опьяневшего, или того, кто навесели. Он маленько под турахом»).
В ряде славянских языков, прежде всего восточно- и западнославянских, также имеются фразеологизмы, созданные по той же модели: бел: пад мухай, пад градусам, пад хмялъком, пад хмелем; укр. nid градусом, nid мухою, nid чаркою; пол. pod gazem, pod much^, pod dobr^ dat^; чеш. pod parou, pod vodou, pod zelenym, pod vichem; словацк. pod forgom и др.
Многие из таких выражений имеют свою сложную и увлекательную историю. Их знаменательные слова разными потоками вливались в русло объединяющей их фразеологической модели с предлогом под. Какого бы происхождения, однако, ни оказывались эти слова, сама модель — языковой каркас этих оборотов — оставалась исконно славянской. В этом русле оказалось и французское слово chauffe, ставшее ядром яркого, самобытного и до сих пор не утратившего свежести русского выражения под шофе.
История его, пожалуй, и отвечает на наш орфографический вопрос. По этимологическому принципу лучше всего признать правильной форму под шофе, ибо она согласуется с французским источником. Любопытно, что в словарях наметилась четкая линия к ликвидации прежнего орфографического разнобоя. В Малом академическом словаре (2-е издание) и в «Словаре трудностей русского языка» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой этот оборот отражен как подшофе. В «Словаре фразеологических синонимов русского языка» он кодифицируется как под шофе. Как видим, единственное разночтение отражает лишь динамику движения фразеологизма к семантически монолитному наречию. Проблема же правильного написания корневой морфемы как будто решена окончательно.
Хочется верить, что «узакониванию»этой формы в нашем правописании помогла и заметка об этимологии оборота под шофе, написанная автором этих строк более двадцати лет назад.
Почему шут — гороховый?
Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как назвало его Перонская...
Л. Н. Толстой. Война и мир
Историю выражения шут гороховый заставили меня написать читатели. Осенью 1975 г. редакция журнала «Русская речь» прислала мне письмо Д. Д.
Доверова из города Красноармейск Донецкой области. Он писал: «В разговорной и литературной речи бытует выражение шут горо-
ховый в значении: пустой, глупый человек. Шут — это понятно. Но что значит — гороховый! Почему именно гороховый! Почему, например, не фасолевый, не чечевичный и т. п.?»
Ответив на этот вопрос в том же году в специальной заметке для «Русской речи», я получил и другие письма. Макарий Семенович Медведев из Архангельской области, например, предложил более четко разделить три выражения на «гороховую» тему: шут гороховый, пугало гороховое и чучело гороховое. «Разница между пугалом и чучелом в том, — писал он, — что первое отпугивает вне
шностью, второе содержанием; первое — несуразное, второе — страшное». Т. А. Калабухова из Ленинграда привела и известный ей просторечный вариант этих оборотов — пень гороховый и попросила объяснить его внутреннюю логику.
Столь заинтересованная реакция и заставляет меня вновь обратиться к достаточно прозрачному, на первый взгляд, выражению.
Прилагательное гороховый, действительно, является сейчас единственным устойчивым определением слова шут. Так было, однако, не всегда. В словарях XIX в. и в диалектных источниках можно найти и другие, ныне полностью вышедшие из употребления словосочетания: балаганный шут, площадной шут, шут полосатый, шут выворотной, шут подновинский, балакирев шут и т. д. Их употребляли, между прочим, и наши классики:
Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей.
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту, Я по ушам узнал его как раз.
(А. Пушкин. Ex ungue leonem);
44£ ПОЧЕМУ ШУТ — ГОРОХОВЫЙ?
«Лидия: Виктор — что это значит?
Яропегов: Я думаю — ликвидация малограмотности,..
Анна: Балаганный шут» (М. Горький. Сомов и другие).
Такие определения подчеркивают эксцентричность, необычность поведения или пестроту, нарочитую небрежность и экстравагантность одежды шута: балаганный — ведущий себя как в балагане, площадной—как потешающий всех на площади скоморох, полосатый — сшитый из разных кусков материи, выворотной— вывороченный наизнанку, одетый шиворот-навыворот; под-иовииский — «подновленный», заплатанный (ср. подндвный кафтан или сарафан «между новым и старым» (Даль III, 190). Возможно, и определение балакирев также отражает подобную характеристику: ср. балаки ‘куски холста, пришитые к внутренним сторонам (гачам) шаровар, в местах, где они трутся при ездеверхом’ (СРНГ 2, 70). Слово гороховый, вышедшее победителем в конкуренции определений шута, на первый взгляд, резко отличается от них.
Это впечатление, однако, оказывается неверным при более полном анализе, позволяющем конкретизировать значение слова гороховый. В самом деле—вариантами нашего сочетания являются обороты чучело гороховое и пугало гороховое, значение которых прозрачно: пугало для птиц, выставленное на гороховом поле. О том, что слово гороховый в них надо понимать именно так, свидетельствует, например, народное сравнение торчит меж людей, как пугало в горохе (Даль III, 535). Так расшифровывают эти выражения и историки русской фразеологии (Тимошенко 1897,138; Михельсон 1901-1902, II, 544, и др.). Мой корреспондент М. С. Медведев, правда, сомневается в такой расшифровке из-за того, что, по его словам, «пугало ставили там, где посеяна репа и особенно —лен и конопля. Реже — в зерновых, а еще реже—в горохах».
Межу тех полей, где ставятся пугала, однако, можно значительно расширить. «Родственниками» нашего горохового пугала, действительно, могут быть и пугала репные и конопляные. Например, литовским и словацким эквивалентами нашего выражения являются именно пугала из конопли: is kanopiu nevaromas, straSiak do konopia. Но и в словацком, и в чешском языках можно найти и другой набор пугал: straSiak do maku, strasiak do maku ‘маковое пугало’, strasak do zeli, strasiak do kapusty ‘капустное пугало’ И гороховое пугало занимает в этом ряду вполне место. Автору этих строк самому приходилось видеть пугал на гороховых полях Псковщины. О них сообщают и наши писатели — например, И. А.
446 Л0ЧЕМУ ШУТ — ГОРОХОВЫЙ?
Арамилев, который в своем «Пожаре в лесу» пишет: «На горох, бобы и гречиху слетаются сотни птиц. Бабушка ставит в бороздах пугала и трещотки на длинных жердях». Еще более красноречиво о том же свидетельствует поэтическая зарисовка такого пугала в стихотворении Николая Рубцова «Подорожники»:
Огороды русские Под холмом седым. А дороги узкие, Тихие, как дым. Солнышко осоковое Брызжет серебром. Чучело гороховое Машет рукавом... До свиданья, пугало, Огородный бог! Душу убаюкала Пыль твоих дорог.
Из таких реальных представлений родились и сравнение торчит меж людей, как пугало в горохе, и синоним шута горохового — просторечное шут с гороху, употребленное в черновике А. Н. Островского (ВФ XIV, 114), и кашуб, dobri do postavena v groch (букв, ‘хорош для того, чтобы его в горох поставить’) ‘о некрасивом человеке’. Подтверждает реальность пугала в горохе и наличие пары пудзша гарохавая и пудзша гародная в белорусском языке, где они—равноценные выражения, а гороховый выступает как замена огородного.
Нелишне здесь, кстати, сделать экскурс в историю переносных значений и нашего слова пугало, и его «соплеменников» в других языках и диалектах. Переносное значение первого зафиксировано словарями уже в XIX в., причем сначала на первый план выступали внешние признаки—‘о безобразном человеке’, а затем и абстрактно-оценочные— ‘о ком-, чем-л., вселяющем страх, пугающем’, стали возможны и такие свободные сочетания, как народное пугало или старое пугало революции (Дубяго 1978, 7). В живой народной речи разных языков чаще всего луголо характеризует именно внешность — неаккуратно, небрежно и бедно одетого человека, человека с некрасивой внешностью, отпугивающего своим видом: яросл. одетый как полдхало ‘о человеке, надевшем одежду не по фигуре, не по росту’, платье как полохало ‘об излишне широкой, нескладной одежде’; перм. как огородное полохало ‘о неопрятном, некрасивом человеке’, воронье пугало — то же, как интелегбсоломенное ‘о человеке, не умеющем выполнять самую простую крестьянскую работу’;
447 Л0ЧЕИУ ШУТ — ГОРОХОВЫЙ?
полес. лекаха ‘о неряшливо одетом человеке’; болг. бостанско пла-шило ‘страшилище’; чеш. chodi (vypada) jako straSak do zeli (букв, ‘ходит, выглядит как капустное пугало’) ‘о некрасивом и неряшливо одетом человеке’, chodi jako hadrovy panak, chodi jako polnf stra-sak—то же; нем. Vogelscheuche (букв, ‘пугало для птиц’) ‘человек с отталкивающей наружностью’ и т. п.
Пугало обычно делается из деревянной крестовины, на которую надевают драную одежду. Не случайно эта характеристика часто отражается и в переносном употреблении наших выражений:
«Он примеривал картуз... таким ухарским манером, что... старуха просто плюнула, проговорив: О шут тебя возьми! Пугало воронье!» (Гл.Успенский. Старьевщик); «Только у нас у одних в Белоглинском заводе остались сарафаны. Ходим, как чучелы гороховые» (Д. Мамин-Сибиряк. Дикое счастье); «Вот, например, навстречу движется чучело гороховое в продранном цилиндре, клетчатом пледе на плечах, в пенсне — вид прямо монмартрский, а вдруг шпик?» (В. Аксенов. Любовь к электричеству); «Сделай милость, позови ко мне деревенского портного. Он сошьет тебе и мне русскую одежду. Ты шутом гороховым ходишь» (Ю. Тынянов. Кюхля).
Как видим, в определении гороховый отражается примерно такая же характеристика, как и в других, ныне утраченных, определениях слова шут. Нарочито небрежно одетый шут и облеченное в ненужную рвань гороховое пугало ставятся этим общим определением на одну линию, получают общее значение ‘смешно, нелепо и безвкусно одетый человек’. Шут гороховый, таким образом, — это первоначально примерно то же, что пугало на гороховом поле.
Такое объяснение вполне логично. Оно в принципе раскрывает употребительность прилагательного гороховый,ане какого-либо иного «растительного» определения в этих сочетаниях. Необходимость стеречь гороховые поля и отпугивать многочисленных любителей полакомиться горохом отражена во многих русских, украинских и других пословицах и поговорках: Горох да репа — обидное семя; Репа да горох сеются про воров; Завидны в поле горох да репа; кто ни пройдет — щипнет; Репу да горох не сей подле дорог; Горох людська примана; Не йди в горох, бо там зал1зна баба сидишь; Свш не cent, а у горох не л1зь и т. п.
Эти пословицы и поговорки не случайны: именно горох был наиболее распространенной бобовой культурой в России, именно егочаще всего приходилось защищать гороховыми пугалами.
Тем не менее история оборота шут гороховый, как кажется, несколько сложнее, чем история сочетаний пугало и чучело горохо-
448 П0ЧЕМУ ШУТ ~ ГОРОХОВЫЙ?
вое. Об этом говорит даже их более внимательный стилистический анализ. В самом деле: хотя толковые словари и «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А. И. Молоткова объединяют все эти три выражения и характеризуют их семантически одинаково, различия между ними нельзя не заметить. Мы уже видели, что значение ‘смешно, нелепо и безвкусно одетый человек’ свойственно и пугалу, и чучелу, и шуту гороховому. Но два других значения, какпоказывают контексты, приводимые словарями, весьма четко разграничивают употребления этих оборотов. Для чучела и пугала горохового характерно общее бранное значение, сохраняющее весьма тесную связь с мотивировкой сочетания:
«Играют (в винт] страстно, увлеченно, совершенно поглощены своим занятием. И за весь вечер ни одного толкового слова, ни одной мысли. Ах ты, думаю, черт возьми, зачем же я сюда явился, чучело гороховое?» (Ю. Герман. Дело, которому ты служишь); «— Эй ты, пугало гороховое! — обратился он к чиновнику» (Ф. Достоевский. Идиот).
Для оборота же шут гороховый это бранное значение более конкретно. Не случайно и В. И. Даль, и М. И. Михельсон в своих словарях подчеркивают, что он значит ‘чудак’, ‘шутник, забавный весельчак по призванию или ремеслу’. И многочисленные контексты подтверждают актуальность такого толкования:
«Он такую глупость сморозит, что тут же его в шуты произведут, и пойдет он ходить всю жизнь с надписью: “шут гороховый”» (М. Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала); «Морочить полоумного Не хитрая статья. Да быть шутом гороховым, Признаться, не хотелося» (Н. Некрасов. Кому иа Руси жить хорошо); «Я всегда знал, что он умен, его чудаковатость была маской, а шутом гороховым, каким его считали некоторые, он никогда не был» (Л. Пантелеев. В осажденном городе); «Ах, шут гороховый! Откуда его вывезли, из каких таких земель?» (А. Островский. Лес); «Митька! Да что с тобой, шут ты гороховый? — спрашивали его сверстники» (М. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши);
«Васенька: Ты напрасно сердишься. Я не предлагаю тебе ничего дурного. Даже наоборот...
Сарафанов: Помолчи-ка, шут гороховый...» (А. Вампилов. Старший сын);
«Разве это рыцарь?! Шут гороховый!» (Ахто Леви. Записки серого волка).
Не случайно именно оборот шут гороховый и только он из указанного ряда способен образовывать глагольный фразеологизм разыгрывать шута горохового ‘паясничать, дурачиться’:
449 Л0ЧЕИУ МУТ — ГОРОХОВЫЙ?
«Россказни хмельного старика нисколько не интересовали Гаврилу Ермолаева, и ему даже делалось обидно, зачем он разыгрывает шута горохового» (Д. Мамин-Сибиряк. На чужой стороне); «Эт-то что за балаган! Опять ты [Моисей], болван, шута горохового разыгрываешь? Я тебя первого выпорю» (Ф. Гладков. Лихая година).
Понятно, почему в последних значениях не могут употребляться сочетания пугало гороховое или чучело гороховое; безжизненная крестовина, одетая в человечьи отрепья, никак не вяжется с паясничающим человеком, «забавным весельчаком по призванию или ремеслу». Значит, хотя шут гороховый и очень близок по значению к гороховому чучелу и пугалу, но все же эти обороты не тождественны. Первый, по-видимому, был дальнейшим развитием, своеобразным обновлением образа горохового пугала, двуплановость которого строго логична. О том, что шут — позднейшее вкрапление в этот ряд, свидетельствует и более широкоераспространение именно оборотов с «пугалом»: таково, например, бел. пудзиш га-рохавае или чеш. stra§&k do геЩбукв. ‘пугало капустное’) с тем же переносным значением. Слово шут, заменив пугало, внесло в этот образ те семантические изменения, которые отмечены выше. Оно обогатило этот образ, сделало его более экспрессивным.
Со своей стороны, и слово шут, которое приобрело в русском языке отрицательные ассоциации (ср. фразеологизмы корчить из себя шута, разыгрывать шута и т. п.), обогатилось в результате слияния с прилагательным гороховый. Оно стало более отрицательным уже и потому, что слово гороховый — символ чего-то малоценного, слабого, плохого: гороховые слова — ‘пустые’, гороховая память — ‘плохая’ и т. д. Но в основе этого семантического обогащения лежало прежде всего смешение шута с гороховым пугалом. Шут гороховый — это не просто скоморох, потешающий публику, а именно примитивный кривляка, неловкий и несуразный, как пугало в огороде.
Почему же все-таки именно шут заменил пугало в наших оборотах, а не, скажем, дурак или Ванька (ср. валять дурака, ваньку; разыгрывать дурака}! Эта замена, пожалуй, была отнюдь не случайной. В русском фольклоре олицетворенный горох нередко выступает в шутовской роли, кривляясь, бахвалясь и высмеивая другие растения. Отсюда, например, такие пословицы: Не смейся, горох, не лучше бобов! Не смейся, горох, над нами {над бобами}; будешь и ты под ногами; Не смейся (не хвалися}, горох, не лучше бобов: размокнешь, надуешься, лопнешь; Не смейся, Горох, над
450 П0Ч£МУ ШУТ ~ ГОРОХОВЫЙ?
бобами, сам поваляешься под ногами. Да и знаменитый царь Горох, воюющий в сказках с поганками (см. очерк «Когда правил царь Горох?» ), — не кто иной, как царь-шут, порожденный веселой народной фантазией.
Отрицательные ассоциации, связанные с горохом, характерны не только для русского фольклора. В Польше и на Украине, например, существует народный обычай: невеста, не желающая выходить замуж за своего поклонника, дарит ему гороховый венок. Ведь и в Польше горох считается «обидным семенем» — не случайно здесь бытует поговорка jak groch przy drodze ‘как горох при дороге’, аналогичная русской.
Одной из важных причин, обеспечивших замену пугала горохового на шута горохового, была причина мифологическая. Во-первых, чучела с изображением человека или животного в древности имели магическое значение: они призваны были отпугивать всех злоумышленников от охраняемого человека или объекта. В этом смысле и наш шут — нечто вроде языческого божества, домового или лешего — защитника огородных овощей (Тимошенко 1897, 140). Во-вторых, мифологическая логика преобразовала огородное пугало в одного из любимых персонажей народных шутовских празднеств во время Святок. Это был ряженый, окутанный гороховой соломой и напоминавший женщину с растрепанными волосами. Такого вида чучело возили, между прочим, и на «проводах масленицы». Аналогичные обычаи были и у других славян. В Чехии, например, на Святках ряженые также ходят по домам, и в их числе—медведь, обмотанный именно гороховой соломой (Уразов 1956,64-63). «Гороховый медведь» был одним из самых популярных персонажей в группе святочных ряженых также и у украинцев, поляков, немцев. «Можно предположить, — пишет поэтому этнограф А. В. Курочкин, — что данный карнавальный персонаж имеет прямое отношение к таким шутливым выражениям в русском языке, как “чучело гороховое”, “шут гороховый”» (Курочкин 1982, 150). Популярность этого персонажа была основана, разумеется, отнюдь не на актерском мастерстве парня, окутанного гороховой соломой. Она объясняется тем, что горох был связан с древними аграрными и эротическими культами наших предков: он был символом плодоносящего начала. Его появление в любом виде накануне Нового года имело магический смысл—обеспечить бурный рост урожая и деторождаемость будущего года.
Несомненно, мифологическая символика во многом повлияла на развитие переносного значения оборота шут гороховый. Объяснять его исключительно мифологическими представлениями,
451 Л0ЧЕМ* ШУТ — ГОРОХОВЫЙ?
однако, неверно, ибо тогда останутся необъясненными те значения, которые объединяют его с гороховым и вороньим чучелом и пугалом. Выражение шут гороховый, следовательно, создано органическим соединением конкретного насмешливого образа огородного пугала, охраняющего горох, и мифологического в своей основе святочного «шута горохового» — ряженого.
Конечно, можно было бы назвать и более частные причины замены пугала шутом в наших оборотах. Так, ей могло в какой-то мере способствовать и то, что в русских говорах имеются синонимы слова пугало, фонетически близкие слову шут; шугай, шугала (Даль, IV). Основной же причиной такой замены, однако, была именно та совокупность отрицательных ассоциаций, с которыми горох связывался в фольклоре. Эти отрицательные ассоциации, конкретизиро-вавшись в русле типичных для слова шут определений — полосатый, выворотной, подновинский и т. п., и привели к замене горохового пугала на горохового шута. Шутовская роль Гороха в русском фольклоре, его популярность в пословицах и поговорках, обряды, в которых фигурировал «гороховый медведь», и привели к тому, что прилагательное гороховый, а не чечевичный или фасолевый, стало единственным устойчивым определением шута в литературном языке.
В других языках символами шутовства могли оказаться и иные растения. В средневековой Фландрии, например, таким шутом мог быть «родственник» гороха — боб. Шестого января в этой стране отмечали обычно праздник трех волхвов. В этот день пекли пироги, в тесто которых замешивали боб. Тот, кто получал его в своем куске пирога, становился «бобовым королем»: выбирал себе королеву, назначал музыкантов и шута, руководил пиршеством. Все беспрекословно повиновались этому королю и оказывали ему королевские почести. В одной из картин фландрского художника Якоба Иорданса (1593-1678), находящейся в Эрмитаже, таким королем изображен седобородый старец с помутневшим от вина взглядом, который под общее ликование окружающих поднимает бокал, призывая своих «подданных» к веселью. Это король-шут, король на час, которому потому и приятно подчиняться, что его власть недолговечна, как кусок пирога, съеденный им. Конечно, этот средневековый «бобовый шут» весьма далек от нашего шута горохового. Однако он хорошо показывает не только возможность существования в других языках «фасолевых», «чечевичных» или «бобовых» шутов, но и их тесную зависимость от конкретных национальных традиций и обычаев. Именно такой зависимостью обусловлена история русского выражения шут гороховый.
На ять или на авось?
Революция обидела ижицу. Она изгнала ее не только из азбуки, но и из жизни. Упразднив ее подругу — «ять», мы все же оставили для нее некоторое место в нашем быту. У нас больше не прописывают ижицу, но многое мы делаем на-ять. Обходясь без ятя в правописании, мы расколошматили на-ять белые армии, мы строим на-ять наше хозяйство, мы делаем на-ять нашу военную политику. Про всякое наше достижение мы говорим: «Сделано на-ять».
(Комсом. правда, 1926, № бв)
Цитата из «Комсомольской правды» 1926 г. свидетельствует о том, сколь употребительным было выражение на ять в послереволюционные годы. Оно, по сути деля, превратилось в наречие с широким спектром положительной оценки. Оно сделалось своеобразным фразеологическим антонимом привычного русского выражения на авось. Создается впечатление, что оно и было создано как «революционный» антипод пресловутого Авося, отразив тем самым всеобщий протест против бесхозяйственности, расхлябанности и разрухи. «Это на
речие теперь в большом ходу среди всех слоев городского и фабрично-заводского населения, — писал в своей книге «Язык революционной эпохи» известный лингвист А. М. Селищев.—Так го-
ворят и рабочие, и школьники, и некоторые профессора. Употребляется оно и в письменном виде» (Селищев 1928,78). Проф. А. М. Селищев проводит примеры употребления этого наречного оборота из печати 20-х годов — в их числе и контекст из «Комсомольс
кой правды», вынесенный в эпиграф этого очерка.
Действительно, на этом выражении лежит яркая печать 20-х годов. И хотя его активность продолжалась и до 40-х годов, тем не
менее кульминация моды на него относится именно к двадцатым годам, когда вера в возможность и эффективность революционных преобразований нашего общества была неколебимой, а русский Авось дал изрядную идеологическую трещину.
Характерно, что активность употребления оборота на ять привела к его многозначности и грамматической раздвоенности: он мог характеризовать как отличные по качеству предметы, людей, наделенных положительными свойствами, так и качественность совершаемых действий, выполняемых мероприятий и т. п.
453 ИА ЯТЬ ИЛИ НА АВОСЬ?
Качественней характеристика предметов имела при этом достаточно широкий диапазон — например, «на ять» оценивались и паровозы, и кухни:
«— Паровоз на ять, — отвечал Гаврилов. — Не уступит американскому» (Бахметьев. Железная трава); «— На пароходе, надеюсь, — икра, стерлядь и тому подобное? — Кухня на ять» (А. Н. Толстой. Необычайные приключения на волжском пароходе).
Такая характеристика имплицитно предполагает глагол сделать, сделан, который действительно очень часто сочетается с нашим выражением. Во многих случаях в контекстах используются его различные конкретные «заместители» — работать, повести работу, провести что-либо, поставить работу и т.п:
«Раз тебе ребята доверили слово, то ты обязан сделать это на ять» (Н. Островский. Как закалялась сталь); «Работа агитационная была проделана на ять, — она словно дверь распахнула к той гигантской работе, что за годы гражданской войны развернули иваново-воз-несенцы» (Д. Фурманов. Чапаев); «Наша надежда, что летом работу кружка поставим на-ять» (Молодой ленинец, 1925, № ИЗ); «А то бы ясно, повели работу на-ять» (Молодой ленинец, 1925, № 105); «Социал-демократические фальсификаторы германского рабочего движения работали на-ять» (Правда, 1925, № 199).
«Гулин: Для меня эти маневры — большой экзамен. Надо провести их на ять» (Б. Ромашов. Бойцы).
«Я ответил, что видеть эвакуацию Одессы было вовсе не такое уж счастье. — Но ведь эвакуация-то прошла на ять! По крайней мере, судя по вашей статейке. Или наврали?» (К. Симонов. Иноземцев и Рындин). Употреблялось это выражение и с глаголом знать*. «Гришин, начальник изыскательной партии, знал эти места на ять» (М. Шагинян. Гидроцентраль).
Особой избирательностью и некоторой оторванностью от качественной характеристики чего-либо сделанного, исполненного является употребление оборота на ять в отношении человека. Это всегда общеположительная оценка женщины, прежде всего — ее внешних данных: «— Клавдия Смирнова — “девчонка на-ять”: стройная, чуть-чуть напудренная» (Молодой ленинец, 1925, № 102); «Вы посмотрите на себя в зеркало. Вы красивая, умная, как говорится, интеллектуально развитая. Вообще женщина на ять» (М. Булгаков. Дни Турбиных); «Я свою Настю не променяю ни на одну королеву. Что насчет красоты, что насчет любви, что насчет хозяйства — кругом баба на ять» (А. Новиков-Прибой. Цусима); «Анна Николаевна у меня человек боевой, жинка на ять!» (М. Кольцов. Рассказы).
454 НЛ пь и*АВ0СЬ?
Какое же из этих употреблений ближе всего к первичному? Как соотносятся они с исходным смыслом выражения на ять!
А. М. Селищев колебался в диагностике социальной сферы первоначального употребления этого оборота. Наблюдения за речью революционной эпохи часто приводили его к констатации, что мощной струей пополнения экспрессивных средств нашего языка в это время являлся воровской жаргон. «Не знаю, такого ли происхождения или школьно-учительского обихода наречие на -яты\ — писал он (Селищев 1928, 78). Действительно, само употребление названия изгнанной революционным декретом из русского правописания буквы Сделает отнесение оборота к жаргону преступников маловероятным. Чаша весов даже умозрительно склоняется в пользу «школьно-учительского обихода».
Доказательства этому приводит известный русский лексикограф, эмигрировавший после революции в Чехословакию, проф. Л. В. Копецкий. В своей статье «Из жизни социальных групп» (1929) он описывал школьный жаргон русских эмигрантов-подростков в городке Тшебов (Чехия).
«По количеству первое место в тшебовском жаргоне занимают слова для обозначения чистой эмоции восторга, типа обычного “отлично”, но именно типа, так как почти с каждым из слов этого типа связан индивидуализирующий его оттенок, — писал он. — Таковы: на ять, на пи, на дзец, на ю пи, смачно, сочно, чики, чекичю, шик~мок, цимис, фартово. Для некоторых из них использованы наиболее трудные и ненавистные вещи школьной жизни, как i старого правописания (естественно, что теперь на ять лишено внутренней формы, когда введена новая орфография, так что на ять — просто термин, этикетка), кие — математических формул. Большинство же из них — наследие прошлого...»
Цитируя это место из статьи Л. В. Копецкого, акад. В. В. Виноградов, посвятивший обороту на ять специальный очерк, замечает: «Выражение нанять выделено из более сложного фразеологического целого, в пределах которого оно и получило переносный смысл» (Виноградов 1968,8). «Более сложное фразеологическое целое» — это и есть та структурно-семантическая модель, из которой выделился наш оборот.
Можно, собственно, говорить даже о двух моделях—семантической и структурной.
В семантическом отношении важно, как складывалось переносное значение на основе «буквенной» символики. Обороты с названиями букв, как известно, издавна пополняют фонд нашей
455 нд мли НА АВ0СЬ?
фразеологии: от а до я, ни бэ ни мэ, на аза в глаза, выделывать мыслете, ставить точки над и, не миновать глаголя, стоять фертом, старый юс, прописать ижицу... Такие буквы становятся своего рода «строительным материалом», превращаясь из знаковых элементов в самостоятельные фразеологические знаки (Eismann 1987). Нередко именно в составе фразеологии старые буквенные наименования или названия исчезнувших из обихода букв продолжают еще свое существование.
Многие из них сохраняют прямые ассоциации с обучением грамоте и трудностями, с этим связанными. Вот лишь ряд старинных пословиц о первой букве русского алфавита: Аз, буки, веди страшат что медведи; Аз да буки — и вся наука; Аз да буки избавит ли от муки; Аз, да всему горазд; Аз, да увяз, да не выдрахся; Аз не вяз: и содрав лыко, не сплести лаптей; За аз да за буки, так и указку в руки; Сперва аз да буки, а там и науки; Я — последнее слово в азбуке, да аз — первое; Не суйся ижица наперед аза; Сам ни аза в глаза, а людей ижицей тычет; Что было муки, докуки, а ни аза, ни буки. Эти пословицы отражают и своеобразную иерархию букв по степени трудности их освоения: здесь аз, в частности, противопо-ставлен ижице, практически последней (ввиду раннего и полного исчезновения буквы «омега») букве старославянского и древнерусского алфавитов. Аз как обозначение ясного и четкого звука «а» считался самым легким по степени усвоения, ижица, т. е. буква у, которая произносилась точно так же, как буква «иже», — «и», но встречалась крайне редко, в заимствованных словах, — самой трудной. Не случайно выражение прописать ижицу значит у нас ‘сурово наказать’. С одной стороны, это выражение — метафора, ибо форма ижицы напоминала двухвостую плетку, которой стегали провинившихся учеников. С другой — это ясное напоминание о тех муках, которые испытывали школьники минувших веков, зазубривая правила разграничения слов, в которых одинаково звучало «и», а писалось то и, то «ижица».
Буква i в этом отношении представляла те же трудности, ибо обозначаемый ею звук уже давно совпадал со звуком, обозначаемым буквой е. Нам теперь и не понять, почему в прошлом веке одинаково звучащие слова без и 6ic писались по-разному, как и%л и ель. Различие такого написания обусловлено глубинными историческими причинами: i обозначал звук дифтонгического происхождения, вроде долгого «е» или дифтонга «ие», в отличие от крат-
456 нд Я1Ъ или НА Авоа?
кого «е». Но уже с X - XI вв., когда такое произношение еще, быть может, было актуальным, различие этого уже стерлось, а буква t «дотянула» до самой Октябрьской революции. Чтобы правильно писать, необходимо было вдаваться в этимологические экскурсы, обращаться к другим славянским языкам, знать историческую грамматику русского и старославянского языков. Так, хорошей проверкой оказывалось сопоставление слов с £или е с соответствующими украинскими и польскими: без—без—bez; 6ic — 6ic—bies; л£с— jiic — las.
Если звук, выражаемый русской буквой е, в украинском и польском, как видим, остается тем же, то звук, обозначаемый «ятем», дает в украинском i, а в польском — либо смягчающее предшествующую согласную е, либо смягчающее предшествующую согласную a (las произносится как «ляс»).
Понятно, что такие экскурсы были не по зубам ученикам, твердившим азы русской грамоты. Поэтому учителя в помощь им составляли специальные «Таблицы слов с буквой “ять”», а гимназисты даже сочиняли мнемонические стишки, чтобы их запомнить:
Бледной тЬнью бедный 6tc ПролртЪл с бЪсЪды в л!с. РЪзво по л-fecy он бЪгал, Р1дькой с хрЬном пообедал, И за бЪлый тот об!д Дал обЪт наделать б!д!
Но и «мнемотехника» не помогала, ибо всегда оставались случаи, которые не укладывались ни в таблицы, ни в стишки. Даже такой образцовый ученик, каким был писатель Лев Васильевич Успенский, посвятивший «ятю» несколько страниц в своей книге «По закону буквы», в свое время получил «неуд», написав Вена через е, а не — как полагалось — через t. Причем, как справедливо пишет один из основоположников нашей популярной лингвистики, логики в таком написании не было никакой: ведь Венеция при этом, как он твердо знал, писалась именно с е. На разнобой написания исконно славянских слов, следовательно, накладывался еще больший разнобой с написанием через «ять» иностранных слов. И ученикам за «ять» прописывали старую добрую ижицу...
Абсурдностью сохранения t в русском правописании возмущались не только пострадавшие ученики. Против него давно уже выступали передовые отечественные языковеды.
В своей шутливой пьесе «Суд российских письмен, перед Разумом и Обычаем от Грамматики представленных» М. В. Ломоносов
457 НА ять m НА АВ0€ЬТ
обыгрывает правописание слов с буквой in с буквой е и предсказывает изгнание «ятя» из русского правописания. Правда, в его время Д жалуясь на то, что ее выгоняет буква е «из мЪста, владения и наследия», полна решимости бороться. «Однако я не уступлю, — говорит она. — Е не доволен своим селением и веселием, меня гонит из утешения; Е пускай будет доволен женою, а до девиц дела нет». Как видим, и в пьесе М. В. Ломоносова использован уже известный нам из ученического обихода мнемонический прием: Micmo, владение, наследие, девица оказываются в этой «буквенной» распре сферой влияния е, а селение, веселие, жена—сферой управления е.
Чем шире распространялась грамотность в народе, тем непрактичнее казалось сохранение отживших букв и написаний в нашем языке. Еще известный грамматист XVIII в. А. А. Барсов (1730— 1791) со всей решимостью предложил уничтожить такие «лишние буквы», как «ять», «фиту», «ижицу», «ер», из русского правописания. Один из ярчайших лингвистов XX в., основатель современной фонологии, проф. И. А. Бодуэн де Куртенэ писал в 1909 г.: «С исторической точки зрения употребление этих двух букв перепутано, вместо древнего и обоснованного i пишут е и наоборот. Поэтому можно сказать, что различение этих букв, причиняющее столько горя изучающим русскую грамоту, держится единственно преданием, но никакими другими соображениями не может быть оправдано» (ДКIV, 1518). Такой же диагноз ставят и русские писатели. «Если б от меня зависело, я упразднил бы и ять, и фиту (дурацкая буква), и ижицу, и i, — пишет, например, А. А. Чехов в письме М. Т. Чехову 18 января 1887 г. — Эти буквы мешают только школьному делу».
Но, несмотря на протесты ученых и писателей, косная традиция продолжала внедряться в умы школьников. И причины этого внедрения — не только в естественном отставании нормы письма от нормы произношения. Удерживать традицию требовали и правила церковного произношения, где буквы i и е строго различались: i произносили как дифтонг, а е — как простое «е». Эта традиция, восходящая к Киевской Руси, усиленно насаждалась в семинариях и на уроках Закона Божия в школах. В одной Псалтири (книги псалмов с толкованиями «отцов церкви», по которой в Древней Руси учили грамоту) XVI в. подчеркивается: «Сие бо вельми зазорно и укорно еже ять вместо ести глаголати, такоже и есть вместо яти» (Ларин 1975, 244).
45g НА ЯТЬ ИЛИ НА АВОСЬ?
Именно поэтому для устранения «ятя» и других орфографических излишеств понадобилась революция. Правительственным декретом 1919 г. эти буквы и были упразднены.
Парадокс, однако, заключается в том, что революционные преобразования, покончившие с «ятем», одновременно породили, а точнее—чрезвычайно активизировали употребление в нашем языке выражения на ять. Так отброшенное было вновь найдено и переосмысленно.
Это и понятно: правила «на ять» считались своего рода мерилом орфографических знаний. Именно поэтому знать что-либо «на ять» — это усвоить предмет накрепко, «назубок».
Кстати, слова накрепко, на память, назубок — части той же синтаксической модели, по которой создано и выражение на ять. Сюда можно добавить и ее «буквенные» воплощения, упомянутые Л. В. Копецким: на пи, на дзец, на ю пи. К ним относится и оборот на зеке ‘отлично, превосходно’, также зарегистрированный в 20-е годы (Селищев 1928,76, 78), и его «жестовый» синоним, активно употребляемый и сейчас, — на большой палец. Ср. также на все сто, на сто процентов, на пять с плюсом.
Смысловая и структурная модели, следовательно, сформировали наше выражение и обеспечили его широкую употребительность. Но была и еще одна деталь, существенная для его формирования и стилистической акцентовки. В. В. Виноградов верно подчеркнул, что ее шутливый оттенок во многом обусловлен тем, что она употреблялась в школьном жаргоне в составе иронической поговорки Выгон на ять — голубей гонять (1968, 8-9). Она — характеристика судьбы выгнанного за неуспеваемость ученика. Поговорка зафиксирована А. В. Кольцовым в сборнике 1911 г., но употребляется несколько ранее в «Мелочах архиерейской жизни» Н. С. Лескова, где саркастически живописуется дух канцелярии губернского помещика:
«...Когда с упразднением “выволочки” и “изуития” вошел в обычай более сообразный с мягкостью века “выгон на ять — голубей гонять”, то чины не обманулись, и это мероприятие ими прямо отнесено к самой тяжкой категории, т. е. к “взъефантулке”».
По мнению Виноградова, именно в этой мелкочиновничьей среде и сложилось выражение на ять, именно здесь оно приобрело ироническое значение ‘как нельзя лучше’. Затем оно «было отвлечено» от этой поговорки, связанной с грозным для мелкого чиновника представлением об увольнении со службы и о лишении должности и заработка.
459 ИА ЯТЬ ИЛИ НА АВОСЬ?
Можно согласиться с В. В. Виноградовым, что ироничность, шутливость выражения паять—в какой-то мере «наследие» поговорки Выгон на ять — голубей гонять. Связывать с ней ее семантическое развитие в сторону исключительно положительной оценки качества действия, лица и предмета, однако, вряд ли правомерно. Ведь буквальная расшифровка поговорки связана с конкретной ситуацией, весьма удаленной от трех основных значений, характерных для оборота на ять: «Изгнание из школы за незнание правил “ятя” ведет к праздности».
Выражение на ять образовано не из этой поговорки (которая является, пожалуй, лишь одним из его развертываний), а от глагольного сочетания знать что-либо на ять, возникшего в стенах гимназии. Это подтверждают факты и русского, и белорусского языков. Именно от этого сочетания логично тянутся все семантические нити и к оценке сделанного или исполненного что-либо на ять, и к характеристикам людей и предметов. Не всегда, конечно, эта связь прямолинейна, но зато всегда уловима.
Вот, к примеру, довольно прихотливое сочетание —ягодиночка на ять. Оно записано в Томской области в 1964 г. диалектологами. Употребляется оно в частушке, восхваляющей любимого:
Юра, Юра, Я не дура, Не пойду с тобой гулять. У меня залёта Шура — ягодиночка на ять.
(СРНГ 10, 202)
«Залёта Шура» или «ягодиночка на ять» здесь не кто иной, как бравый ухажор девушки, поющей частушку. Мы видели, что обычно выражение паять положительно характеризует женщину, а не мужчину. Но в томской частушке отразился, видимо, один из многих результатов «революционного преобразования» нашей деревни —стирание грани между полами. Разве что это ласковое «ягодиночка», которое в русском фольклоре также привязано исключительно к молодым и красивым девушкам, все еще продолжает связывать частушечное на ять с женщина на ять, жинка на ять и баба паять периода революционных преобразований 20-х годов.
Знать на ять—делать что-либо, имея знание на ять,—делать что-либо на ять — предмет, сделанный на ять,—человек, обладающий «ятевыми» качествами,—вот основная линия развития значений нашего оборота.
460 ИЛ >Tt> ИЛМ ***д>ось?
Революция упразднила пресловутый «ять». И наши современники, пытаясь воскресить память о прошлом, иногда совершают с «ятем» столь тяжкие погрешения, что и двухвостая «ижица» учителям прошлого показалась бы недостаточной. «Нет ничего зазорного, — пишет читательница «Службы быта» С. Русанова, — если рядом с названием парикмахерской “ Арбатъ” (непременно через “ять!”) при входе будут “пушкинские” фонари, а пальто у вас примет гардеробщик в ливрее с галунами» (Служба быта, 1975, № 6). Читательница фантазирует, редактор «Службы быта» одобряет, наборщики набирают. А потом уже наш Арбат и реконструируется по таким вот стилизациям «пушкинского» времени: с фонарями, ливреями, галунами... Но — «через ять». Непременно — через ять! — которое на поверку оказывается не чем иным, как «ером», нашим твердым знаком.
Тут, как говорится, добавить нечего. Разве что — вспомнить с читателем «Литературки» И. Гисиным Сашу Черного:
Страница третья, Пятая, шестая... На сто шестнадцатой — собака через «ять»!
Арбатъ «через ять», пожалуй, самое хлесткое свидетельство нашей поверхностной грамотности и верхоглядного, «уря-патрио-тического» отношения к прошлому. Призывы к такому оживлению памяти о русском прошлом — это, по сути, то же наше злопамятное Авось, с которого начиналась эта книга.
Оживляя наше прошлое, гордясь им, недостаточно лишь твердить зады да зубрить азы и буки. Нужно познавать его со всеми хитро-сплетениями нашей истории и культуры, со всеми «фитами», «ижицами» и «ятями». Лишь знания и дела «на ять» спасут нас от авантюрного и гибельного Авося.
Литература (исследования и источники)
Абакумов 1936 — Абакумов И. Устойчивые сочетания слова // Рус. яз. в школе. 1936. № 1. С. 58-64.
Абрамец 1968 — Абрамец И. В. О процессе редукции пословиц// Материалы XXV научной конференции профессорско-преподавательского состава СамГУ: Секция фразеологии. Самарканд, 1968. С. 99-105.
Авалиани 1972 — Авалиани Ю. Ю. Семантическая структура слов-компонентов и семантическая структура фразеологических единиц (на материале индоевропейских языков)// Бюллетень по фразеологии. № 1. Самарканд, 1972. С. 4-12.
Адрианова-Перетц 1974 — Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974. 171 с.
Аксамиту 1972 — Аксам1тау А. С. Бел. за царом Гарохам, рус. при царе Горохе// Беларуская Л1игв1стыка. 1972. № 2. С. 69-71.
Аксамиту 1978 — Аксам1тау А. С. Беларуская фразеалопя. Мжск, 1978. 223 с.
Аксамитов 1972 — Аксамитов А. С. Материалы для диалектного словаря белорусской фразеологии в говорах Западной Брянщины// ВФ VI: Восточнославянская фразеология и фразеография. 1972. С. 307-324.
Алексеенко 1998 — Алексеенко М. А. Фразеологизм в современном газетио-публицистическом тексте // Text als Gegenstand der Forschung und der Lehre: Beitrage der Internationalen Fachtagung 27-28. Juni 1997 in Rostok / Hrsg. Ursula Kantorczyk. Rostok, 1998. S. 7-21.
Алефиренко 1989 — Алефиренко H. В. Фраземообразующее взаимодействие языковых уровней (на материале украинского и русского языков): Дис. ... докт. филол. наук. Полтава, 1989. С. 502.
Альперин 1956 — Альперин А. И. Почему мы так говорим. Барнаул, 1956. 42 с.
Аляхиович 1996 — Аляхнович М. Овчинка стоит выделки, или откуда пошел фразеологизм: [Рец. на кн.: Бирик А., Мокиенко В., Степанова Л. История и этимология русских фразеологизмов: (Библиогр. указ.). 1825-1994]. / Hsgb. von A. Bierich // Russistik. 1996. N 1. 2. С. 108-113.
Андреева 1978 — Андреева Ф, Т. О диалектной фразеологии села Суворы Камышловского района Свердловской области// Лексика и фразеология говоров Урала и Зауралья. Свердловск, 1978. С. 42-54.
АОС 1-8 — Архангельский областной словарь. Вып.1-8 / Под ред. О. Г. Гецовой. М., 1980-1993.
Арсентьев 1986 I—II — Арсентьев Д. 3. Фразеология одного орловского говора в системном аспекте (на материале говора дер.Каменка Знаменского р-на Орловской обл.): Дис. канд. филол. наук. Орел, 1986. Т. 1. 217 с.; т.2. Приложение. 224 с.
Арсирий 1967 — Арсирий А. Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка. М., 1967. 288 с.
462 ЛМТЕГлтА
Артемьева 1989 — Артемьева Л. А. Сравнительное изучение фразеоло-гии как проблема балканистики (на материале албанского языка в сопоставлении с румынским): Автореф. канд. дис. Л., 1989. 21 с.
Архангельский 1854 — Архангельский А. Село Давшино Ярославской губернии Пошехонского уезда (пословицы и поговорки)// Этнографический сборник. Вып.2. СПб., 1854. С. 61—75.
Астафьева 1971 — Астафьева Н. И. К вопросу о структурно-семантических изменениях фразеологических единиц// Вопросы семантики фразеологических единиц (на материале русского языка). Ч. 1: Тезисы докл. и сообщ. Новгород, 1971. С. 175-185.
Афанасьев 1-3 — Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян иа природу. Т. 1-3. М., 1865-1869.
Афанасьев 1-Ш — Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Т. 1-3. М., 1957.
Ашукина 1977 — Ашукина М. Г. Навстречу новому академическому словарю// Современная русская лексикография. 1976. Л., 1977. С. 187-193.
Ашукины 1955 — Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. М., 1955.
Ашукины 1966 — Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. 3-е изд. М., 1966. 824 с.
Ашукины 1987 — Ашукин Н. С., А ш у к и и а М. Г. Крылатые слова: Крылатые слова, литературные цитаты, образные выражения. 4-е изд. М., 1987. 527 с.
Бабич 1975 — Бабич Н. Д. О фразеологическом словаре буковинских говоров//ВФ VIII. С. 5-13.
Бабкин 1964 — Бабкин А. М. Лексикографическая разработка русской фразеологии. М.; Л., 1964. 76 с.
Бабкин 1970 — Бабкин А. М. Русская фразеология, ее развитие и источники. Л., 1970. 263 с.
Байрамова 1991 — Байрамова Л.К. Учебный тематический русско-татарский фразеологический словарь. Казань, 1991.
БАС 1-17 — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1-17. Л., 1948-1965.
Бахарев 1981 — Бахарев А. И. Архаические отрицания в русском языке XIX-XX вв. // Рус. речь. 1981. № 5. С. 55-57.
Бахилина 1975 — Бахилииа Н. Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975. 288 с.
Бахтин 1982 — Сказки, песни, частушки, присловья Ленинградской области, записанные Владимиром Бахтиным. Л., 1982. 528 с.
Бедный Макар и др. 1968 — Бедный Макар и др. [без автора]// Рус. речь. 1968. № 2. С. 116-118.
Беленькова 1969 — Бслснькова Н. Мудркть народна: Росшськ! прислпв’я та приказки. 3 укра'шськими вщповщниками/ Упоряд. Н. Беленкова. Кшв, 1969. 149 с.; 2-е изд. 1975. 156 с.
Берков 1980 — Берков В. П. Русско-норвежский словарь крылатых слов. М., 1980. 176 с.
463 ЛИТЕРАТУРА
Бирих, Мокиенко, Степанова 1994 — Бирих А. К., Мокиенко В. М.; Степанова Л. С. История и этимология русских фразеологизмов: (Библиогр. указатель — 1825—1994) / Hsgb. von Alexander Bierich, (Specimina Philologiae Slavicae. Supplementband 36). Miinchen, 1994. 373 S.
Бирюков 1960 — Бирюков В. П. Крылатые слова на Урале/ Собрал и сост. В. ГЕ Бирюков. Свердловск, 1960. 117 с.
Богатырев 1962 — Богатырев П. Г. Формула невозможного в славянском фольклоре// Славянский филологический сборник. Уфа, 1962. С. 347-363.
Богораз 1901 — Богораз В. Г. Областной словарь колымского русского наречия// Сб. ОРЯС. Т. 68. № 4. СПб., 1901. 163 с.
Богородский 1958 — Богородский Б. Л. У кормила правления: (Из истории метафорического словосочетания) // Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та. 1958. Т. 170. С. 283-301.
Богородский 1988 т—Профессор Борис Леонидович Богородский: Библиогр. указатель по славянскому и общему языкознанию/ Сост.: А. М. Бушуй, Т. А. Бушуй, А. К. Бирих и др; Отв. ред. А. М. Бушуй, В. М. Мокиенко. Самарканд, 1988. 56 с.
Боровой 1960, 1974 — Боровой Л. Я. Путь слова. М., 1960. 607 с.; 2-е изд. М., 1974. 960 с.
Ботииа, Саижарова 1981 — Ботина Л. Г., Санжарова В. П. Диалектная фразеология села Нижний Ландех Пестяковского района Ивановской области (материалы к фразеологическому словарю)// Вопросы фразеологии русского языка. Самарканд, 1981. С. 39-49.
Брокгауз и Ефрон — Энциклопедический словарь. Т. 1-41. СПб.: Изд-во Брокгауз и Ефрон, 1890—1907.
БРПС I—II — Большой русско-польский словарь. Т. 1-2. Москва; Варшава, 1986-1987.
БСЖ — Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона: 25 000 слов и 7000 устойчивых сочетаний. СПб., 2000. 720 с.
Будагов 1965 — Будагов Р. А. Введение в науку о языке: [Учеб, пособие для филол. фак-тов ун-тов и пед. ин-тов]. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1965.
Булатов 1958 — Булатов М. А. Крылатые слова. М., 1958. 192 с.
Буслаев 1854 — Буслаев Ф. П. Русские пословицы и поговорки// Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. Кн.2. М., 1858. С. 1-176.
Бухарева 1983 — Бухарева Н. Т. Фразеологические единицы, содержащие в своем составе архаические элементы // Историческая лексика русского языка. Новосибирск, 1983. С. 3-14.
Бухарева 1985 — Бухарева Н.Т. Архаизмы и историзмы в современном русском языке // Русская лексика в историческом и синхронном освещении. Новосибирск, 1985. С. 5—16.
Былины 1986 — Былины. М., 1986.
Быстрицкий, Шушарин 1996 — Быстрицкий А., Шушарин Д. Насколько русские новы? // Итоги. 1996. Na 6. С. 52-53.
Вакуров 1979 — Вакуров В. Н. Как заведенный// Рабоче-крестьянский корреспондент (Москва). 1979. № 4. С. 83.
4€4 ЛИТЕРАТУГА_____________________
Вакуров 1979 — Вакуров В. Н. Нив зуб ногой; С гулькин иос // Рабоче-крестьяиский корреспондент. 1979. № 7. 92-93.
Вакуров 1983 — Вакуров В. Н. О плетении и городьбе, а также плетеии-цах, вязеницах, плетушках и коклюшках// Рус. речь. 1983. № 1. С. 122-126.
Варбот 1984 — В а р б о т Ж. Ж. Ни зги не видно // Наука и жизнь. 1984. № 5. С. 140.
Варик 1978 — Варик Л. О. Сад// Рус. речь. 1978. № 5. С. 103-107.
Вартаньян 1960, 1973 — Вартаньян Э. А. Из жизни слов. М., 1960; 2-е изд. М., 1973. 288 с.
Вартаньян 1975 — Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. М., 1975. 190 с.
Вартаньян 1980 — Вартаньян Э. А. Эти мудреные слова...: Рассказы. М., 1980. 63 с.
Вархол, Хвченко 1990 — Вархол Н., I в ч е н к о А. Фразеолопчиий словник roeipoK Схщио! Словаччини. /С предисл. В. М.Мокиенко. Bratislava; PrjaSiv, 1990.
Виноградов 1934 — Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. М., 1934.
Виноградов 1949 — Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. Лейден, 1949.
Виноградов 1968 — Виноградов В. В. О серии выражений муху зашибить, муху задавить и под.// Рус. речь. 1968. № 1. С. 82-90.
Виноградов 1971 — Виноградов В. В. Историко-этимологические заметки. V// Этимология 1968. М., 1971. С. 164-167.
Виноградов 1972 — Виноградов В. В. Русский язык. М., 1972.
Виноградов 1994 — Виноградов В. В. История слов / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М. 1994. 1138 с.
Влахов 1980 — Влахов, Сергей. Руски пословици. София, 1980. 311 с.
Володина 2000 — Володина Т. В. Концепт кривизны в семантическом поле болезни // От слова к тексту: Матер. Междунар. науч. конф. Ч. 1. Минск, 2000. С. 89-92.
Вурм 1976 — В у р м А. Ф. Сходства и различия русской и чешской фразеологии// Рус. речь. 1976. № 4. С. 113-116.
ВФ I-XV — Вопросы фразеологии: Труды Самаркандского государственного университета имени Алишера Навои. Нов. сер. Bwn.I-XV. Самарканд, 1968-1980.
Гвоздарев 1977 — Гвоздарев Ю. А. Основы русского фразообразова-ния. Ростов-н/Д, 1977. 184 с.
Гвоздарев 1982 — Гвоздарев Ю. А. Пусть связь речений далека... Ростов-и/Д, 1982. 208 с.
Гвоздарев 1988 — Г воздарев Ю. А. Рассказы о русской фразеологии. М., 1988. 192 с.
Гин 1988 — Г и н Я. И. Заметки о русском провербиальном пространстве// Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора: Тезисы и предварит. материалы к симпоз. Ч. 1. М., 1988. С. 141-143.
465 ЛМШАТУГА_________________________
Глушко 1995 — Глушко М. Основы! типи тяглових засоб!в колесного транспорту пол!щук!в XVI-XVIII стоят // Зап. Науков. товариства iM. Шев-ченка. Льв1в, 1995. Т. 230. С. 107-121.
Глушко 1996 — Глушко М. Традицию запряги тварин i тяглов! засоби колюного транспорту пол1щук1в // Древляни: 36. ст. i мат. з icropii та куль-тури ПолГського краю. Львев, 1996. С. 109-119.
Глушко 1997 — Глушко, Михайло. “Норовистому конев! i майдан "пений”: (3 даскусшних проблем про об’екти деяких схтднослов’нських зворопв) // Народознавч! Зошити. 1997. № 1. С. 57-62.
ГЛЯ — Гаураш Н. В. Лепешау I. Я., Я н к о у с к i Ф. М. Фразеалапчны слоужк для сярэдияй школы/ Пад рэд. Ф. М. Янкоускага. Mihck, 1973. 352 с.
Головацький 1982 — Дзендзел1вський Й. О., Ганудель, Зузана. Словник украшсько! мови Я. Ф. Головацького // Icropix культури — пер-шоджерела: Наук. зб. Музею укр. культури у Свиднику. № 10. Пряшев, 1982. С. 311-612.
Горбачевич 1964 — Горбачевич К. С. Об историко-этимологических справках в фразеологическом словаре// Проблемы фразеологии. М.; Л., 1964. С. 205-212.
Горяев 1896 — Горяев Н. В. Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896. 451 с. + LII с.
Григас 1987 — Гр ига с К. Литовские пословицы. Вильнюс, 1987.
Гршченко I—IV — Гр!нченко Б.Д. Словарь украшсько! мови. Т. 1-4. Кш , 1907-1909.
Грищенко 1975 — Грищенко П. П. Материалы для диалектного фразеологического словаря украинского Полесья (село Лучанки Овручского района Житомирской области) // ВФ VIII. С. 162-178.
Гурж 1974 — Г у р i н, 1ван. Образне слово: Поспйю народш пор!вняння. Кшв, 1974. 238 с.
Гусейнов 1974 — Гусейнов Ф. Г. Изменения в структуре фразеологических единиц// Учен. зап. Азербайдж. пед. ин-та рус. языка и литературы им.М. Ф. Ахундова. Сер.ХП. № 3. Баку, 1974. С. 3-8.
Гусейнов 1977 — Гусейнов Ф. Г. Русская фразеология. Баку, 1977. 119 с.
Даюлов!ч 2000 — Д а н i л о в i ч М. А. Слоушк дыялектнай фразеалогп Гродзеншчыны. Гродна, 2000. С. 267.
Даль I—IV — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. М., 1955.
Демський 1982 — Демський М. Г. Точитн баляси, забивати баки...// Культура слова. 1982. № 22. С. 58-60.
Державин 1947 — Державин Н. С. История Болгарии. Т. 3: Болгарский народ под турецким владычеством. М.; Л., 1947. 127 с.
Дерягин 1974 — Дерягин В. Я. Названия рукавиц в русском языке// Диалектная лексика 1973. Л., 1974. С. 27-50.
Дзендзелшський 1969 — Дзендзел!вський Й, О. Украшсько-захщно-слов’янсью лексичн! паралел!. Кшв, 1969. 210 с.
ЛИТЕРАТУРА
Диброва 1979 — Диброва Е. И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке. Ростов-н/Д, 1979. 192 с.
Дикарев 1891 — Дикарев М. А. Воронежский этнографический сборник. Воронеж, 1891.
ДК I-IV — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. 3-е изд., испр. и значит, доп. / Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ, Т. 1-4. М., 1903-1909.
Дмитренко 1997 — Дмитренко М. К. Народи! noeip’ я. Киш, 1997. 67 с.
Дмитриева 1982 — Дмитриева С. И. Слово и обряд в мезенских заговорах// Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 36-48.
Добровольский 1894 — Добровольс кий В. Н. Смоленский этнографический сборник: Пословицы. Ч. 3. СПб., 1894. 168 с.
Добровольский 1914 — Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. 1022 с.
Добродомов 1993 — ДобродомовИ. Г. К изучению семинарско-школьнического вклада во фразеологию восточнославянских языков // Язык и культура: Вторая междунар. конф.: Докл. Киев, 1993. С. 112-118.
Добродомов 1995 — Добродомов И. Г. Историческая фразеология в наследии В. В. Виноградова // Междунар. юбилейная сессия, посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Виктора Владимировича Виноградова: Тез. докл. М., 1995. С. 77-78.
Доленко 1975 — Долеико М. Т. Материалы для словаря диалектных фразеологизмов Подолья// ВФ VIII. С. 131-161.
ДП — Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1957. 992 с.
ДП 1984 I—II — Даль В.И. Пословицы русского народа. 3-е изд.: В 2 т. Т. 1. 382 с.; т. 2. 399 с. М., 1984.
ДП 1987 I-II — Даль В. И. Пословицы русского народа. Т. 1-2. М., 1987.
ДС — Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)/ Под ред. И. А. Оссовецкого. М., 1969. 612 с.
Дубинский 1973 — Дубинский И. В. Уточнение фразеологического компонента как стилистический прием// Вопросы стилистики, Вып.6. Саратов, 1973. С. 3-22.
Дубяго 1978 — Дубяго А. И. Развитие новых отвлеченных значений у слов конкретно-предметной и общей абстрактной семантики в 40-60-е гг. XIX в.// Региональная и общенародная лексика. Ярославль, 1978. С. 3-10.
Дуличенко 1994 — Дуличенко А.Д. Русский язык конца XX столетия / Hrsg. von W.Lehfeldt. Munchen, 1994. 319 S.
Дуров 1929 — Дуров И. M. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Приморья/ Под ред. и с доп. Н. Виноградова. Соловки, 1929. 180 с.
Душенко 1996 — Душенко, Константин. Русские политические цитаты от Ленина до Ельцина: Что, как и когда было сказано. М., 1996.
Душенко 1997 — Душеико К. В. Словарь современных цитат: 4300 ходячих цитат и выражений XX века, их источники, авторы, датировка. М., 1997.
ЛИТЕГАТУГА
Дымский, Дмитриева 1964 — Дымскнй А. С., Дмитриева А. М. О сочетании «в тупик» в современном русском литературном языке// Рус. язык в школе. 1964. № 3. С. 90-93.
Ермаков 1894 — Ермаков Н. Я. Пословицы русского народа. СПб., 1894. 42 с.
ЕСУМ I—III — Етимолопчний словник украшско! мови. Т. 1-3. Кшв, 1983-1989.
Жуйкова 1996 — Жуйкова, Маргарита. Елементи архаТчного погансько-го свпюгляду в деяких слов’нських фразеолопзмах // Народознавч! Зоши-ти. 1996. № 5. С. 283-294.
Жуков 1966 — Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок/ Сост. В. П. Жуков. М., 1966. 536 с.
Жуков 1980 — Жуков В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для учащихся. М., 1980. 383 с.
Жуков, Жуков 1989 — Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. 2-е изд. М., 1989. 383 с.
Жуков, Сидоренко, Шкляров 1987 — Жуков В. П., С и д о р е н к о М. И., Шкляров В. Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка. М., 1987. 441 с.
Журавлев 1982 — Журавлев А. Ф. Восточнославянская обрядовая скотоводческая лексика и фразеология в этиолиигвистическом аспекте: Автореф. канд. дис. М., 1982. 24 с.
Займовский 1930 — Займовский С. Г. Крылатое слово: Справочник цитаты и афоризма. М.; Л., 1930. 493 с.
Зайцева 1977 — Зайцева С. В. Названия домашних животных в штокав-ских говорах сербохорватского языка: Автореф. каид. дис. Л., 1977. 187 с.
Захаров 1973 — Захаров Б. Ф. Диалектная фразеология говора села Саитовка Починковского района Горьковской области: Автореф. канд. дис. Горький, 1973. 21 с.
Зеленин 1903 — Зелении Д. К. Дополнительные и критические замечания о вятской лексике: (Приложение к Отчету о диалектологической поездке в Вятскую губернию)// Сб. ОРЯС. 1903. Т. 76. № 2. С. 15-189.
Зеленин 1927 — Зеленин Д. К. Схщньо-слов’янсью хл^боробсью обряди качания й перекидаиня по земл! // Етнограф. вюн. Кшв. 1927. Кн. 5. С. 1-10.
Зимин, Спирин 1996 — Зимин В. И., С п и р и и А. С. Пословицы и поговорки русского народа. М., 1996. 544 с.
Зубова 1999 — Зубова Л. В. Зга: поиски значения поэтами XX века. // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 213-220.
Зубова 2000 — Зубова Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000. С. 431.
Иванова 1976 — Иванова Т. А. К истории поговорки “попал, как кур во щи” // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. 6. М., 1976. С. 87-94.
Ивашко 1976 — Ивашко Л. А. Квантитативные фразеологические единицы в псковских говорах// Проблемы русской фразеологии. Тула, 1976. С. 100-109.
468 *ИТЕРАТУГА
Ивашко 1981 — Ивашко Л. А. Очерки русской диалектной фразеологии. Л., 1981. 111 с.
Ивченко 1987 — Ивченко А. А. Вилами по воде писано// Рус. речь. 1987. № 3. С. 143-145.
Твченко 1996 — I в ч е н к о А. А. Украшська народна фразеолопя: ареали, етимолопя, Харьк1в, 1996. 160 с.
Ильинский 1915 — Ильинский Г. А. Славянские этимологии// Рус. филол. вести. (Варшава). 1915. № 2. С. 281-308.
Истомина 1973 — Истомина В. В. Пути образования различных типов фразеологической омонимии// Проблемы русского фразеообразования. Тула, 1973. С. 125-135.
Истомина, Кондратюк 1976 — Истомина В. В., Кондратюк Т. М. К проблеме словообразования на базе фразеологических единиц// Проблемы русской фразеологии. Тула, 1976. С. 14-26.
Календарные обычаи 1977 — Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Весенние праздники. М., 1977.
Калинин 1965 — Калинин А. Нужно ли “улучшать” поговорки// Работница. 1965. № 6. С. 24.
КДРС — Картотека Древнерусского словаря. Москва, Ин-т русского языка АН СССР.
ККС — Картотека Словаря русских говоров Карелии. С.-Петербург, ун-т, кафедра русского языка.
Кобяков 1977 — Кобяков Д. Слова и люди. Барнаул. 1977.
Ковалева 1980 — Ковалева Л. В. Проблема функциональной и экспрессивной соотнесенности фразеологических единиц русского языка// Проблемы русской фразеологии. Тула, 1980. С. 106-110.
Ковалевская 1968 — Ковалевская Е. Г. История слов. Л., 1968. 144 с.
Коваленко 1972 — Коваленко Т. И. О понятии вариантности в лексике и фразеологии// ВФ V, ч.2. С. 159-163.
Коваль 1982 — Коваль В. И. Образование фразеологических единиц и фраземообразовательный анализ: Дис. канд. филол. наук. 1982. 187 с.
Коваль 1998 — Коваль В. И. Восточнославянская этнофразеология: деривация, семантика, происхождение. Гомель, 1998.
Кожин 1970 — Кожин А. Н. Термины-слова и термины-“фразеологизмы” // ВФ III. С. 69-80.
Козлова 1999 — Козлова Т. В. “Новые русские”*: понятие и дискурс // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 97-107.
Козловский I-IV — Козловский, Владимир. Собрание русских воровских словарей в четырех томах. Т. 1-4. Нью-Йорк, 1983.
Козырев 1971 — КозыревИ. С. Хоть пруд пруди// Рус. речь. 1971. № 2. С. 129-132.
Козырев 1974 — Козырев И. С. Из истории формирования словарных составов восточнославянских языков// Лингвистический сборник. Вып. 2, ч. II. М., 1974. С. 124-133.
Кокаре 1978 — КокареЭ. Я. Интернациональное и национальное в латышских пословицах и поговорках. Рига, 1978. 294 с.
469 Л*ГЕГАТ¥ГА
Колесов 1982 — Колесов В. В. История русского языка в рассказах. М., .1982. 191 с.
Колесов 1986 — Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 313 с.
Колесов 1988 — Колесов В. В. Культура речи — культура поведения. Л., 1988. 271 с.
Кондратьева 1961 — Кондратьева Т. Н. Переход собственных имен в нарицательные в фразеологизмах, пословицах и поговорках русского народа XIX — начала XX в.// Учен. зап. Казан, ун-та. Т. 119, кн.5. Казань, 1961. С. 123-135.
Кондратьева 1977 — Кондратьева Т. Н. Сидорова правда и Сидорова коза (из истории фразеологизмов с собственными именами)// Очерки грамматики и лексикологии русского языка. Казань, 1977. С. 94-100.
Кондратьева 1982 — Кондратьева Т. Н. История фразеологизмов с именами собственными// Фразеология и синтаксис. Казань, 1982. С. 46-90.
Кондратьева 1983 — Кондратьева Т. Н. Метаморфозы собственного имени. Казань, 1983. ПО с,
Кононова 1994 — Кононова Л. Эти “новые русские” // Культура. 1994. 8 окт.
Копецкий 1929 — Копецкий Л. В. Из жизни социальных групп // Slavia 1929. Se§.2. S.220-221.
Копыленко, Попова 1972 — Копыленко М. М., Попова 3. Д. Очерки по общей фразеологии. Воронеж, 1972. 124 с.
Коссек 1971 — К о с с е к Н. В. Фразеологизмы, включающие в свой состав отрицание// Вопросы семантики фразеологических единиц (на материале русского языка). Ч. 1. Новгород, 1971. С. 51-57.
Костомаров 1994 — Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1994. 247 с.
Кошелев, Леонидова 1974 — Кошелев А. К., Леонидова М. А. Болгарско-русский фразеологический словарь. Москва; София, 1974. 635 с.
КПОС — Картотека ПОС. С.-ПеТербург. гос. уи-т, Межкафедральиый словарный кабинет им. проф. Б. А. Ларина.
Крачковский 1834 — Крачковский Ю. Ф. Быт западнорусского селянина. М., 1834.
Крывщю, Цыхун, Яшин 1-5 — К р ы в i ц к i А. А., Ц ы х у н Г. А., Я ш к i н I. Я. Typaycxi слоушк. Т. 1-5. Мшск, 1982-1987.
КСРНГ — Картотека Словаря русских народных говоров. С.-Петербург, словарный сектор Ин-та лингвистич. исслед. РАН.
КСРЯ XI-XVII вв. — Картотека Словаря русского языка XI-XVII вв. Москва, Ин-т рус. языка РАН.
Кузьмин, Шадрин 1989 — Кузьмин С. С., Шадрин Н. Л. Русско-английский словарь пословиц и поговорок. М., 1989. 353 с.
Кузьм1ч 2000 — К у з ь ц i ч В. Жгучий глагол. Словарь народной фразеологии. М., 2000. С. 285.
ЛИТЕРАТУРА
Куиии 1974 — Кунин А. В. К вопросу о немотивироваиности значения фразеологических сращений// Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. VI. М., 1974. С. 40-47.
Куиин 1984 — К у и и н А. В. Англо-русский фразеологический словарь. 4-е изд. М., 1984. 942 с.
Куркина 1974 — К у р к и и а Л. В. Славянские этимологии. II// Этимология. 1972. М., 1974. С. 60-80.
Курочкин 1982 — Курочкин А. В. Растительная символика календарной обрядности украинцев// Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 138-163.
КЭФ — Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Краткий этимологический словарь русской фразеологии// Рус. яз. в школе. 1979. № 1. С. 44-51; № 2. С. 52-59; № 3. С. 67-77; № 4. С. 76-86; № 5. С. 84-94; № 6. С. 57-69; 1980. № 1. С. 68-77; № 2. С. 63-71.
КЭФ-Доп. 1981 — Шанский Н. М., Зимин В. И., Ф и л и п п о в А. В. Краткий этимологический словарь русской фразеологии (Дополнение) // Рус. язык в школе. 1981. № 4. С. 61-72.
Ларин 1948 — Ларин Б. А. Парижский словарь московитов 1586 г. Рига, 1948. 211 с.
Ларин 1956 — Ларин Б.А. Очерки по фразеологии И Учен. зап. Лениигр. ун-та. 1956. № 198. Сер. филол. иаук. Вып. 24. С. 200-225.
Ларин 1975 — Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X—середина XVIII в.). М., 1975. 235 с.
Ларин 1977 — Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание: Избр. работы. М., 1977. 224 с.
Ларин 1987 — Профессор Борис Александрович Ларин: Библиографический указатель по славянскому и общему языкознанию: (К 95-летию со дня рождения)/ Сост.: А. М. Бушуй, Т. А. Бушуй, А. И. Корнев, И. С. Лутовинова; Отв. ред.: А. М. Бушуй, В. М. Мокиенко. Самарканд, 1987. 115 с.
Леонидова 1974 — Леонидова М. А. Место собственного имени в лексической и фразеологической системе языка (на материале русского и болгарского языков)// Годишник на Софийския университет. Т. 27, ч.1. София, 1974. 132 с.
Леп. I—II — Лепешау I. Я. Фразеалапчны слоушк беларускай мовы. Т. 1 (А-Л). Mihck., 1993. 590 с.; т. 2 (М-Я). 607 с.
Лепешау 1981 — Лепешау I. Я. Этымалапчны слоушк фразеалапзмау. Мшск, 1981. 160 с.
Лисенко 1974 — Лисенко П. С. Словник полюьких говорив. Ки1в, 1974. 260 с.
Люстрова, Скворцов, Дерягин 1987 — Люстрова 3. Н., Скворцов Л. И., Деря ги н В. Я. О культуре русской речи. М., 1987.
Ляцкий 1897 — Ляцкий Е. А. Несколько замечаний к вопросу о пословицах и поговорках// Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Академии иаук. Т. 2, кн.З. СПб., 1897. С. 746-782.
Максимов 1955 — Максимов С. В. Крылатые слова. М., 1955. 447 с.
Марков 1907 —-Марков Д. А. Слова, записанные в Ветлужском уезде// Изв. О-ва археол., ист. и этногр. Т. 23, вып.2. СПб., 1907. С. 132-135.
471 ДИТЕРАТ¥РА
MAC I-IV — Словарь русского языка в четырех томах. Т. 1-4. М., 1981-1984.
Медведев 1977 — Медведев Ф. П. Украшська фразеолопя: Чому ми так говоримо. Харыав, 1977. 232 с.
Мелерович 1978 — МелеровнчА. М. К проблеме семантического анализа фразеологических единиц в языке и речи (на материале фразеологии современного русского литературного языка)// Проблемы русской фразеологии: Республиканский сб. Тула, 1978. С. 31-40.
Мельниченко 1974 — Мельниченко Г. Г. Некоторые лексические группы в современных говорах на территории Владимиро-Суздальского княжества XII — начала XIII в.: (Территория распространения, семантика и словообразование). Ярославль, 1974. 271 с.
Менац I—II — Р у с с к о-хорватский или сербский фразеологический словарь / Ред. Антица Менац. Т. 1-2. Загреб, 1979-1980.
Миротворцев 1984 — Миротворцев В. Н. Камень за пазухой// Рус. речь. 1984. № 4. С. 147-150.
Мифологические рассказы — Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири/ Под ред. Р. П. Матвеева. Новосибирск, 1987. 401 с.
Михельсон 1901-1902 I—II — Михельсон М, И. Русская мысль и речь. Свое и чужое: Опыт русской фразеологии. Т. 1. СПб., 1901. 778 с.; т. 2. СПб., 1902. 580 + 250 с.
Михельсон 1912 — Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое: Опыт русской фразеологии. СПб., 1912. 1046 с.
Михельсон 1994 I—II — Михельсон М. И. Русская мысль и речь: Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: Сб. образных слов и иносказаний / Предисл. и коммент. В. М. Мокиенко. Т. 1. М., 1994. 778 с.; т.2. 580 + 250 с.
МК — Мяцельская Е. С., К а м а р о у с к i Я. М. Словшк беларуская народнай фразеалогн. Мшск, 1972. С. 320.
Мокиенко 1973 — Мокиенко В. М. Историческая фразеология: этнография или лингвистика?// Вопр. языкозн. 1973. № 2. С. 21-34.
Мокиенко 1973 а: М о к и е н к о В. М. Из истории фразеологизмов // Рус. яз. в нац. школе. 1973. № 5. С. 70-74.
Мокиенко 1975 — Мокиенко В. М. К вопросу о диалектных источниках просторечия (сачок, сачковать)// Севернорусские говоры. Вып.2. Л., 1975. С. 137-143.
Мокиенко 1975 а: Мокиенко В. М. В глубь поговорки. М., 1975.
Мокиенко 1976 — Мокиенко В. М. Ни кола, ни двора// Рус. речь. 1976. № 2. С. 134-137.
Мокиенко 1977 — Мокиенко В. М. Драть как Сидорову козу// Рус. речь. 1977. № 1. С. 93-99.
Мокиенко 1978 — Мокиенко В. М. Куда кривая вывезет// Рус. речь. 1978. № 2. С. 123-126.
Мокиенко 1978а — Мокиенко В. М. Под шефе (шофе)// Рус. речь. 1978. № 4. С. 147-149.
Мокиенко 1980, 1989 — Мокиенко В. М. Славянская фразеология. М., 1980. 207 с.; 2-е изд. М., 1989. 287 с.
472 AMTEFATYFA
Мокиенко 1980а — МокиеикоВ. М. Старая карга и белая ворона// Рус. речь. 1980. № 2. С. 45-49.
Мокиеико 1986 — Мокиенко В. М. Образы русской речи. Л., 1986. 278 с.
Мокиенко 1989а — Мокиенко В. М. В глубь поговорки. 2-е изд. К., 1989. С. 221.
Мокиенко 1990 — Мокиенко В. М. Загадки русской фразеологии. М., 1990.
Мокиеико 1990а — Мокиенко В. М. 1сторико-етимолопчний анал!з фразеологп (баки забивати та бачити)// Мовознавство. 1990. № 6. С. 3-11.
Мокиенко 1993 — Материалы к этимологическому словарю русской фразеологии / Этимологии проф. В. М. Мокиенко; Отв. ред.: А. М. Бушуй, Е. Н. Николаева, Л. И. Степанова. С. -Петербург; Самарканд, 1993. 98 с.
Мокиенко 1995 — Мокиенко В. М. Словарь русской бранной лексики: Матизмы, обсценизмы, эвфемизмы. А А — ЯЯ. Берлин, 1995. 151 с.
Мокиеико 1995а — Мокиенко В. М. Актуальные процессы в восточнославянских языках // Aktuelle Entwicklungsprobleme slawischer Sprachen. Greifswald, 1995. C. 91-107.
Мокиеико 1998 — Мокиенко В. M. Доминанты языковой смуты постсоветского периода // Russistik. 1998. N 1/2. S. 37-56.
Молотков 1966 — МолотковА. И. Некоторые особенности употребления фразеологизмов в современном русском языке// Нормы современного русского литературного словоупотребления. М.; Л., 1966. С. 92-100.
Молотков 1971 — МолотковА. И. Еще раз “кур во щи” // Рус. речь. 1971. № 1. С. 86-92.
Молотков 1977 — МолотковА. И. Оновы фразеологии русского языка. Л., 1977. С. 283
Молотков, Жост 2001— Молотков А. И., Ж о с т М. Л. Учебный русско-французский фразеологический словарь. М., 2001. С. 330.
Молочко 1974 — Молочко Г. А. Лексика и фразеология русского языка. Минск, 1974. 127 с.
Молчанова 1973 — Молчанова Л. А. Народная метрология (к истории народных мер длины). Минск, 1973.
МРФС — Молдавск о-русский фразеологический словарь/ Сост. В. П. Соловьев, В. А. Соловьева. Кишинев, 1976. 223 с.
МФС — Прокошева К. Н. Материалы для фразеологического словаря говоров северного Прикамья. Пермь, 1972. 114 с.
Мяцельская, Камаро^сю 1972 <— Мяцельская Е. С., Камароуск] Я. М. Слоушк беларускай иародиай фразеологп. Мшск, 1972. 320 с.
Нагаев 1967 — Нагаев А. А. К этимологии слова губа // Вопросы языкознания. Самарканд, 1967. С. 128-133.
Назарян 1968 — Назарян А. Г. Почему так говорят по-фраицузски. М., 1968. 349 с.
Насов1Ч 1983 — Н а с о в i ч I. I. Слоушк беларускай мовы. Мшск, 1983. 756 с. + 22 с.
Некрасова, Бакина 1982 — Некрасова Е. А., Бакина М. А. Языковые процессы в современной русской поэзии. М., 1982. 312 с.
473 Я*ТСР*ТУРА
Никифоровский 1910 — Никифоровский Н. А. Полупословицы и полупоговорки, употребляемые в Витебской Белоруссии// Зап. Северо-Западного отд-иия имп. Рус. геогр. о-ва. Кн.1. СПб., 1910. 204 с.
Новиков 1974 — Новиков Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974. 254 с.
Номю 1864 — Н о м i с М. Украшсью приказки, присл!в’я i таке шше. СПб., 1864. 304 с. + XVII.
Норман 1987 — Норман Б. Ю. Язык: знакомый незнакомец. Минск, 1987. 222 с.
Носович 1874 — Носович И. И. Сборник белорусских пословиц, составленный И. И. Носовичем// Сб. ОРЯС. Т. 12, № 2. СПб., 1874.
НРЛ-80 — Новое в русской лексике: Словарные материалы-80/ Под ред. Н. 3. Котеловой. М., 1984.
НРЛ-81 — Новое в русской лексике: Словарные материалы-81/ Под ред. Н. 3. Котеловой. М., 1986. 288 с.
НРЛ-85 — Новое в русской лексике: Словарные материалы-1985 / Н. 3. Котелова, В. Н. Плотицын, М. Н. Судоплатова, С. И. Алаторцева; Под ред. Н. 3. Котеловой и Ю. Ф. Денисенко. СПб., 1996.
НРП 1-2 — Новые русские поговорки и присказки/ Сост. И. М. Снегирев. Кн.1-2. М., 1852-1853.
НС-82 — Новое в русской лексике: Словарные материалы-82. М., 1986.
НСЗ-80 — Новые слова и значения: Словарь-справочиик по материалам прессы и литературы 80-х годов / Т. Н. Буцева, Ю. Ф. Денисенко, Е. П. Холодова и др.; Под ред. Е. А. Левашова. СПб., 1997.
НСЗ-84 — Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов/ Под ред. Н. 3. Котеловой. М., 1984. 806 с.
Обряды 1982 — Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982.
Овсянников 1933 — Литературная речь: Толковый словарь современной общелитературной фразеологии/ Сост. В. 3. Овсянников. М., 1933. 362 с.
Огольцев 1971 — Огольцев В. М. О фразеологизации устойчивых сравнений// Вопросы семантики фразеологических единиц. Ч. 1. Новгород, 1971. С. 66-79.
Огольцев 1984 — Огольцев В. М. Устойчивые сравнения русского языка: Иллюстрир. словарь для говорящих иа англ, языке. М., 1984. 173 с.
Одинцов 1980 — Одиицов В. В. Гиппологическая лексика русского языка. М., 1980.
Ожегов 1990 — Ожегов С. И. Словарь русского языка. 22-е изд., стереотип./ Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1990. 925 с.
Ольшанский 1969 — Ольшанский И. Г. С гаком// Рус. язык за рубежом. 1969. № 2. С. 127.
Онишкевич 1984 — Онишкевич М. Й. Словник бойковських говорок. Ч. I. Кшв, 1984. 495 с.; ч.П. 515 с.
Опульская 1961 — Опульская Л. Д. Творческая история повести “Холстомер” //Лит. наследство. 1961. Т. 69. Кн.1.
Опыт — Опыт этимологического словаря русской фразеологии/ Сост.: Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. М., 1987. 239 с.
474 *ИТЕРАТУГА
Орел 1972 — Орел М. В. Диалектная фразеология среднеобских старожильческих говоров (материалы для словаря) // Вопр. фразеол. Вып. 6. Самарканд, 1972. С. 205-260.
ОС — О л i й и и к I. С., Сидоренко М. М. Украшсько-росшський i росшсько-укражський фразеолопчний словник. 2-е вид. КиГв, 1978. 447 с.
Острогорский 1883 — Острогорский В. Маланья: Подбор русских пословиц и поговорок. СПб., 1883. 16 с.
Отии 1980 — О т и н Е. С. Топонимия поля Куликова// Рус. речь. 1980. № 5. С. 113-115.
Отин 1983 — О т и н Е. С. А восе, авось и авоськать// Рус.речь. 1983. № 4. С. 121-122.
Откупщиков 1967 — Откупщиков Ю. В Из истории индоевропейского словоообразования. Л., 1967.
Откупщиков 1973 — Откупщиков Ю. В. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. М., 1973.
Откупщиков 1977 — Откупщиков Ю. В. О происхождении лит., лтш. Ragana ‘ведьма’// Baltistica. 1977. N 1 (XIII). С. 271-275.
Пазяк 1989 — Приел! в’я та приказки. Природа, господарська д!яльшсть людиии/ Упорядиик М. М. Пазяк. КиТв, 1989. 479 с.
Пазяк 1990-1991 2-3 — Приел! в’я та приказки / Упор. М.М.Пазяк. Т. 2. Кшв, 1990; т. 3. 1991.
Палевская 1972 — Палевская М. Ф. Основные модели фразеологических единиц со структурой словосочетания в русском языке XVIII в. Кишинев, 1972. 306 с.
Палевская 1980 — Палевская М. Ф. Материалы для фразеологического словаря русского языка XVIII века. Кишинев, 1980. 366 с.
Панин 1983 — Панин Л. Г. Лексика праславяиского происхождения в русских говорах Новосибирской области// Язык как исторический источник. Новосибирск, 1983. С. 107-120.
Панина 1986 — Панина Л. С. Образование фразеологических единиц на базе русских пословиц в русском языке: Автореф. канд. дис. Ростов н/Д, 1986. 23 с.
Панкратова 1974 — Панкратова Н. П. О древнерусской тайнописи// Рус.речь. 1974. № 4. С. 121-129.
Пермяков 1985 — Пермяков Г. Л. 300 общеупотребительных русских пословиц и поговорок (для говорящих на немецком языке). М., 1985. 160 с.
Петлева 1973 — Петлева И. П. Праславянский слой лексики сербскохорватского языка. 2 // Этимология 1971. М., 1973. С. 20-57.
Петлева 1974 — Петлева И. П. Этимологические заметки по славянской лексике. 2// Общеславянский лингвистический атлас: Матер, и исслед. 1972. М., 1974. С. 208-211.
Попов 1976 — Попов Р. Н. Фразеологизмы соремениого русского языка с архаичными значениями и формами слов. М., 1976. 200 с.
ПОС 1-12 — Псковский областной словарь с историческими данными. Т. 1-12. Л., 1967-1996.
Потебня 1894 — П о т е б и я А. А. Из лекций по теории словесности: Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.
475 ЛИТЕРАТ¥рА
Потебия 1914 — П о те б и я А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. 2-е изд. Харьков, 1914.
Потебня 1976 — Потебня А. А. Из лекций по теории словесности// Эстетика и поэтика. М., 1976. С: 464-561.
ППЗ — Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVII-XX веков/ Изд. подготовили М. Я. Мельц, В. В. Митрофанова, Г. Г. Шаповалова. М.; Л., 1961. 289 с.
Преображенский I-II — Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-2. М.; Л., 1959.
Про кошева 1973 — Прокошева К. Н. Архаизмы в составе фразеологических единиц (на материале говоров Северного Прикамья)// Вопросы фразеологии и лексики русского языка. Пермь, 1973. С. 121-131.
Прыказю I-II — Прыказк! i прымаую. Кн.1. Мшск, 1976. 559 с.; кн.П. 616 с.
Разумов 1957 — Разумов А. А. Мудрое слово: Русские пословицы и поговорки. М., 1957. 240 с.
Раковский 1962 — Раковский М. Чувство языка// Звезда. 1962. № 2. С. 162-167.
РАСл.Ольх. — Ройзеизон Л. И., Андреева* Л. А. Словарь русской диалектной фразеологии южной части Ольхонского района Иркутской области// В. Ф. Bbin.VI. Самарканд, 1972. С. 114-204.
РБС I-II — Русско-белорусский словарь. Т. 1-2. Минск, 1982.
РБФС — Русско-болгарский фразеологический словарь / Сост. К. Андрейчина, С. Влахов, С. Димитрова, К. Запрянова; Под ред. С. Влахова. Москва; София, 1980. 582 с.
Редников 1883 — Редников И. Сборник замечательных изречений, цитат, поговорок и т. п. различных времен и народов с историческим и сравнительным объяснением. Вятка, 1883. 229 с. + XV с.
Рейсер 1961 — Р е й с е р С. А. “Русский бог” // Изв. АН СССР. Отд-иие лит. и языка. 1961. Т. 20. Вып.1.
Рейф 1-2 — Русско-фраицузский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или Этимологический лексикон русского языка. Т. 1-2. СПб., 1835-1836.
РКФС — Русско-китайский фразеологический словарь. Пекин, 1984. 722 с.
РЛФС — Русско-литовский фразеологический словарь / Сост. В. Сташайтене, Й. Паулаускас. Вильнюс, 1985. 444 с.
Розенталь, Теленкова 1987 — Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 6-е изд. М., 1987. 414 с.
Ройз. Бал. Сл. — Ройзеизои Л. И., Балясников А. В. Словарь диалектной фразеологии деревни Коты Оекского района Иркутский области// ВФ. ВыпЛТ 1972. С. 325-341.
Ройз. Хаз. Сл. — РойзензонЛ. И., Хазова Л. Н. Материалы к диалектному фразеологическому словарю народных говоров Нижиеде-вицкого района Воронежской области // ВФ. Bbin.VI. 1972. С. 290-306.
476 ЛИТ{ГАТУ₽А
Ройзензои 1962 — Ройзензои Л. И. Русские фразеологизмы и субстан-тивизироваиные прилагательные// Труды Самарканд, ун-та. 1962. Нов. серия. Вып. 118. С. 15-30.
Ройзензои 1977 — Ройзензои Л. И. Русская фразеология. Самарканд, 1977. 121 с,
Ройзензои, Щигарева, Ннколова 1976 — Ройзензои Л. И., Щн гарева Б. К., Н и к о л о в а О. И. Материалы к словарю диалектной фразеологии Невельского района Псковской области (А-3)// ВФ. Вып.Х. 1976. С. 123-151.
Романов VI — Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 6: Сказки. Могилев, 1901.
Романов 1912 1-3 — Романов Е. Р. Рукописный сборник “Древних русских пословиц”, опубликованный Е. Р. Романовым// Зап. Сев.-Зап. отд-иия Рус. геогр. о-ва. Кн.1. Вильна, 1910; ки. 3. 1912.
Романова 1972 — Романова Г. Я. Старинные меры длины // Рус. речь. 1972. № 6. С. 111-114.
Романова 1975 — Романова Г. Я. Наименование мер длины в русском языке. М., 1975. 176 с.
РПетр. 1880 — Рукописный сборник пословиц, поговорок и присказок Петровского времени// Памятники древией письменности. Вып. IV, отд. 2. СПб., 1880. С. 76-224.
РПП — Русские пословицы и поговорки/ Под. ред. В. П. Аникина. М., 1988. 432 с.
Рыбникова — Рыбникова М. А. Русские пословицы и поговорки. М., 1961.
Рязановский 1987 — Рязановский Л. М. Темпоральная фразеология немецкого языка: Автореф. канд. дис. Л., 1987. 16 с.
Саркисян 1989 — Саркисян А. Г. О новом типе фразеологического словаря// Рус. язык в армян, школе. 1989. № 1. С. 58-63.
Сафонова 1998 — Сафонова Ю. А. Новые русские: (Заметки об одном новом фразеологизме) // Russistik. 1998. N 1-2. S. 99-118.
Сахаров 1841 — Сахаров И. Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. Т. 1, кн.2. СПб., 1841.
СБГ 1-5 — Словарь брянских говоров. Вып. 1-5. Л., 1976-1988.
СБГПЗБ — С л о у н i к беларусктх гаворак Па^нючна-Заходняй Беларуст i яе паграшчча: В 5 т. Т. 2. Мшск, 1980.
СВГ I-VII — Словарь вологодских говоров. Т. 1-7. Вологда, 1983-1993.
Светоний — Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964.
СД — Славянские древности: Этиолингв. сл./ Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. А-Г. М., 1995. С. 584; т. 2. Д-К (Крошки). М., 1999. С. 697.
СДГ 1-Ш — Словарь русских донских говоров. Т. 1-3. Ростов на-/Д., 1976.
Селищев 1928 — Селищев А. М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (1917- 1926). 2-е изд. М., 1928. 248 с.
477 ЛИТЕРАТУРА
Семенова 1973 — Семенова Л. Н. К вопросу о фразеологическом калькировании в русском языке (фразеологические галлицизмы)// Проблемы русского фразообразования. Тула, 1973. С. 136-141.
Сергеев 1971 — Сергеев В. Н. Нив зуб ногой // Рус. речь. 1971. № 6. С. 121-122.
Сергеева 1976 — Сергеева Л. Н. О компаративных фразеологических единицах диалектного характера: Проблемы русского фразообразования. Тула, 1976. С. 91-100.
Сетаров 1970 — СетаровД. С. Тюркизмы в русских названиях птиц// Сов. тюркология. 1970. № 2. С. 86-94.
Сидорова 1982 — Сидорова Н. Н. “Болтин первый сказал...” // Рус. речь. 1982. № 3. С. 76-80.
Симони 1899 — Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / Собрал и приготовил к печати Павел Симоии. СПб., 1899. I-XIX + 216 с.
Скворцов 1966 — Скворцов Л. И. Без обиняков. Попасть впросак. Очертя голову// Рус. язык, в нац. школе. 1966. № 2. С. 84-85.
Скворцов 1970 — Скворцов Л. И. Задоринка или задиринка? // Наука и жизнь. 1970. № 7. С. 115-116.
СКГ — Словарь кубанских говоров: Рукопись хранится в Кубан. ун-те, кафедра русского языка.
Скрипник 1968 — Скрипник Л. Г. 1з тасмниць фразеологн // Мовознавство. 1968. № 1. С. 56-57.
Скрипник 1973 — Скрипник Л. Г. Фразеолопя украшськоТ мови. КиТ 1973. 280 с.
Сл. Акчим — Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь). Вып.1 / Главный ред. Ф. Л. Ски-това. Пермь, 1984. 399 с.
Сл. Грота-Шахматова 1-3, II—IX — Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук. Вып. 1-3. СПб., 1891-1899. Т. II-IX. СПб., Л., 1897-1929.
Сл. Мещ. — Ванюшечкин В. Т. Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры. А-Н. Воронеж, 1983. 274 с.
Словарь Академии Российской — Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Ч. 1, А-Д. СПб., 1806; ч. 2, Д-К. СПб., 1809; ч. 3, К-Н. СПб., 1814; ч. 4, О-П, СПб, 1822; ч. 5, П-С. СПб, 1822; ч. 6, С - до конца. СПб., 1822.
Словарь-справочиик... 1-5 — Словарь-справочник “Слова о полку Игореве”. Вып.1-5. Л., 1965-1978.
СМ — Славянская мифология: Энцикл. сл. М., 1995.
Снегирев 1831-1834 I -IV — Снегирев И. М. Русские в своих пословицах. Т. 1-4. М., 1831-1834.
Снегирев 1836-1838 I -IV — Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Т. 1-4. М., 1836-1838.
Снегирев 1848 — Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, изданные И. М. Снегиревым с предисловием и дополнениями. М., 1848.
ЛИТЕРАТУРА
Снегирев 1854 — Снегирев И. М. Дополнения к собранию русских народных пословиц и притчей // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. Ки. 2. М., 1854. С. 177-204.
Соколова 1974 — Соколова М. А. Как же возникли наречия иа -мя, -ма (кишмя, стоймя)?// Очерки по лексикологии. Л., 1974. С. 15-19.
Соколова 1979 — Соколова В, К. Весенне-летиие календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979. 286 с.
Соколова 1982 — Соколова В. К. Заклинания и приговоры в календарных обрядах//Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 11-25.
Солодуб 1979 — Солодуб Ю. П. Изосемантические модели фразеологизмов качественной оценки лица// Филол. науки. М., 1979. № 4. С. 51-57.
СП — Словарь перестройки / Сост. В. И. Максимов и др. СПб., 1992. 256 с.
Спирин 1985 — Спирин А.С. Русские пословицы: Сб. русских народных пословиц и поговорок, присловиц, молвушек, приговорок, присказок, крылатых выражений литературного происхождения. Ростов-н/Д, 1985.
СРГК 1-П — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. /Гл. ред. А. С. Герд. Вып. 1. СПб., 1994; вып. 2. 1995.
СРГМ 1-5 — Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. Т. 1-5. Саранск, 1978-1993.
СРГНоб. — Словар ь русских говоров Новосибирской области/ Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1979. 695 с.
СРГП 1-П — Словарь русских говоров Прибайкалья. Т. 1-2. Иркутск, 1979-1982.
Срезневский I—III — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1-3. СПб., 1893-1912.
СРНГ 1-28 — Словарь русских народных говоров. Вып. 1-28. Л., 1965-1994.
СРС — Словарь русских суеверий, заклинаний, примет и поверий. / Сост. Е. А. Грушко, Ю. М. Медведев. Нижний Новгород, 1995.
СРЯ XI-XVII вв. I-XIX — Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 1-19. М., 1975-1994.
СРЯ XVIII в, I-VIII — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1-8. Л. (СПб.), 1984-1995.
СРЯ XVIII в. Проект — Словарь русского языка XVIII века: Проект/ Отв. ред. Ю. С. Сорокин. Л., 1977, 164 с.
ССГ I-VII — Словарь смоленских говоров. Вып. 1-7. Смоленск, 1974-1996.
Степанова 1994 — Степанова Л. И. Из истории чешской фразеологии // Идеографический и историко-этимологический анализ славянской фразеологии. Псков, 1994. С. 91-92.
Страхов 1986 — Страхов А. Б. Терминология и семантика славянского бытового и обрядового печенья: Канд. дис. М., 1986.
Страхов 1986а — Страхов А. Б. Терминология и семантика славянского бытового и обрядового печенья: Автореф. канд. дис. М., 1986.
479 ЛИТЕРАТ¥РА
Страхов 1991 — Страхов А. Б. Культ хлбба у восточных славян. Опыт этнолингвистического исследования. (Slawistische Beitrage. Bd 275). Munchen: Verlag Otto Sagner, 1991, 1991. 244 S.
Суетенко 1972 — Суетенко В. H. Развитие семантики у слов губа н гриб в брянских говорах (из истории слов)// Вопросы истории и диалектологии русского языка. Вып.5. Челябинск, 1972. С. 32-39.
СУМ I-III — Словник украТнско! мови. Т. 1-3. Кшв, 1970-1972.
Супрун-Белевич 1987 — Супрун-Белевич Л. Р. Метеорологическая лексика в славянских языках: Автореф. канд. дис. Минск, 1987.
СФС — Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири. / Сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров. Новосибирск, 1972.
Сцяшков1ч 1972 — Сцяшков1ч Т. Ф. Матэр1алы да слоушка Гродзенскай вобласцк Mi иск, 1972. 619 с.
СЭС 1981 — Советский энциклопедический словарь. М., 1981. 1600 с.
Танчук 1986 — Т а и ч у к, Владимир. Сборник пословиц русского языка. Нью-Йорк, 1986. 192 с.
Татар 1983 — Татар Б. К вопросу о происхождении ФЕ “ни зги не видно” U Russica: In memoriam Emili Baleczki. ELTE. Budapest, 1983. P. 91-96.
Татар 1992 — Татар, Бела. Фразеология современного русского языка. Будапешт, 1992.
Терновская 1984 — Терновская О. А. Ведовство у славян. II. Бзык (мухи в голове)// Славянское и балканское языкознание: Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 118-130.
Терновская 1979 — Терновская О. А. К статье Д. К. Зеленина “Схщно-слов’янсю хл1боробськ! обряди качания й перекидання по земл! // Проблемы славянской этнографии: К столетию со дня рождения чл.-корр. АН ССР Д. К. Зеленина Л., 1979. С. 112-123.
Тимофеев 1963 — Тимофеев Б. Н. Правильно лн мы говорим? 2-е изд. Л., 1963. 331 с.
Тимошенко 1897 — Тимошенко Е. И. Литературные первоисточники и прототипы трехсот русских пословиц н поговорок. Киев, 1897. 172 с.
Тиндо 1988 — Т и н д о И. Рубль, гривенник...// Рус. язык в школе. 1988. № 1. С. 88-90.
Толстая 1998 — Толстая С. М. Культурная семантика слова ♦ kriv // Слово и культура: Памяти Никиты Ильича Толстого. Т. 2. М., 1998. С. 215-229.
Толстой 1973 — Толстой Н. И. О реконструкции праславянской фразеологии // Славянское языкознание: VII Междунар. съезд славистов. Варшава, авг. 1973 г.: Докл. сов. делегации. М., 1973. С. 272-293.
Толстой 1974 — Толстой Н. И. Из заметок по славянской демонологии.
1. Откуда дьяволы разные? // Материалы Всесоюз. симпоз. по вторичным моделирующим системам. I (5). Тарту, 1974. С. 27-32.
Толстой 1976 — Толстой Н. И. Из заметок по славянской демонологии. 2. Каков облик дьявольский? // Народная гравюра и фольклор в России XVJI-XIX вв. М., 1976. С. 288-319.
Топорков 1984 — Топорков А. Л. Етнолингвистнчкн аспекти при изучаването на славяннте: ВъТрешна реконструкция на фразеологизма нося вода в решето// Български фолклор. 1984. Кн.1. С. 81-89.
42Q ЛИШАТУУА________________________
Топоров 1978 — Топоров В. Н. Русск. заби(ва)ть козла// Studia linguistica А. V. Isatschenko. Lisse, 1978. S.425-434.
Топоров 1983 — Топоров В. Н. Несколько соображений о происхождении древнегреческой драмы (к вопросу об индоевропейских истоках)// Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 95-119.
ТСРЯ I-IV — Толковый словарь русского языка/ Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1-4. Л., 1934—1940.
Тур. сл. 1-5 — Т у р а у с к i слоушк: У 5 т. / Складальиш А. А. Крывщю, Г. А. Цыхун, I. Я. Яшюн, П. А. М1хайлау, Т. М. Трухан. Т. 1-2. Мшск, 1982; т. 3. 1984; т. 4. 1985; т. 5. 1987.
Удовиченко 1984 I—II — Удовиченко Г. М. Фразеолопчннй словник украшсько! мови. Т. 1-2. Ки!в, 1984.
Ужченко 1997 — Ужченко В. Д. Фразеолопчннй словник схщнослобожанськнх i степових roeipoK Донбасу. 2-е внд. Луганськ, 1997.
Ужченко 1999 — Ужченко В. Д. Образи рщно! мови. Луганськ, 1999. С. 216.
Ужченко 2000 — Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеолопчннй словник схщнослобожанськнх i степових roeipoK Донбасу. Вид. 3-е доповиене и перероблене. Луганськ, 2000. С. 198.
Ужченко 2001 — Ужченко В. И алгеброй и гармонией: (Рец.-размышле-ние на кн.: Мокиенко В.М. От Авося до Ятя: Почему так говорят?) // BicH. Луган. держ. пед. уи. Фшол. науки. 2001. № 2. С. 169-173.
Уйгур, поел. — Уйгурские пословицы и поговорки. Алма-Ата, 1974.
Уразов 1956 — Уразов И. А. Почему мы так говорим. М., 1956. 47 с.
Уразов 1962 — Уразов И. Почему мы так говорим? Сер.2. М., 1962. 64 с.
Успенский 1973 — Успенский Л. В. Под знаком буквы. М., 1973. С. 240.
Успенский 1982 — Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. 245 с.
Фасмер I-IV — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка/ Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. 1-4. М., 1964-1973; 2-е изд. 1986-1987.
Федоров 1964 — Федоров А. И. Лекции по русской фразеологии, прочитанные студентам НГУ. Новосибирск, 1964. 42 с.
Федоров 1969 — Федоров А. И. Развитие русской фразеологии во 2-й половине 18 — начале 19 в.// Актуальные проблемы лексикологии: Тезисы докл. Вып.П, ч.П. Новосибирск, 1969. С. 65-67.
Федоров 1971 — Федоров А. И. Язык художественной литературы как источник изучения стилистических качеств фразеологизмов// Актуальные проблемы лексикологии. Томск, 1971. С. 88-92.
Федоров 1973 — Федоров А. И. Развитие русской фразеологии в конце XVIII — начале XIX в. Новосибирск, 1973. 172 с.
Федоров 1980 — Федоров А. И. Сибирская диалектная фразеология. Новосибирск, 1980. 192 с.
Федорова 1976 — Федорова М. В. Славяне, мордва н аиты (к вопросу о языковых связях). Воронеж, 1976.
48 ЛИТЕРАТУРА
Фелицыиа, Прохоров 1979, 1988 — Фелицыиа В. П., Прохоров Ю. Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения: Лингвострано-иедческий словарь. М., 1979. 238 с.; 2-е изд. М., 1988. 281 с.
Ферм 1992 — Ферм Л. Заимствованная и иноязычная лексика в языке газеты // Slovo. 1992. N 41. S. 83-109.
Фомина, Бакина 1985 — Фомина Н. Д., Бакина М. А. Фразеология современного русского языка. М., 1985. 64 с.
Фонштейи 1983 — Фонштейн В. М. Письма — это сама жизнь...: О дружеских письмах П. А. Вяземского// Рус. речь. 1983. № 1. С. 25^31.
Франко ЫП — Г а л i ц ь к о-русью народ» приповщки/ Забрав Франко I. Т. 1-3. Льв1в, 1901-1905.
ФРБ 1-П —Н ичева К., Спасова-Мнхайлова С., Чолакова Кр. Фразеологичен речник на българскня език. Т. 1. София., 1974; т. 2. 1975.
ФС — Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири. / Сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров. Новосибирск, 1972.
ФСМК — ФразеалаНчны слоушк мовы творау Я.Коласа: Зв. 6000 cnojni. арт. / Пад. рэд. А.С.Аксам1тава. Мшск, 1993.
ФСРГС — Ф разе©логический словарь русски^ говоров. Сибири/ Под ред. А. И. Федорова.. Новосибирск, 1983. 232 с.
ФСРЛЯ 1-П — Фразеологический словарь литературного языка конца XVH-XX в. / Под ред. А. И. Федорова. Т. 1-2. Новосибирск, 1991.
ФСРЯ — Фразеологический словарь русского языка/ Под ред. А. И. Молоткова. М.» 1967. 543 с.
ФСРЯ 1968 — Фразеологический словарь русского языка. / Под ред. А.И. Молоткова. М., 1968.
ФСС — Словарь фразеологизмов н иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири/ Сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров. Под ред. Ф. П. Филина. Новосибирск, 1972.
ФСУМ 1-П — ФразеолоНчний словник укрансько? мови. Кн. 1 (А-Нал); кн. 2 (Нал-Я). Кшв, 1993.
ХатунЦева Г974 — Хатунцева Е. Б. Наблюдения иад фразеологией в живой разговорной речи // Вопросы стилистики. Вып.8. Саратов, 1974. С. 121-131.
Хроленко 1981 — X р о л е и к о А. Т. Поэтическая фразеология русской народной лирической песни. Воронеж, 1981. 163 с.
Цвиллинг 1984 — Ц в н л л и и г М. Я. Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок. М., 1984. 214 с;
Цыганенко 1970 — Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. Киев, 1970. 599 с.
Чайкина 1975 — Чайкина Ю. И. Вопросы истории лексики Белозерья// Очерки пб лексике севернорусских говоров. Вологда, 1975. С. 3-187.
Черепанова 1973 — Черепанова О. А. Об одном непродуктивном типе наречий в реском языке// Исследования по грамматике русского языка. Вып.У. Л., 1973. С. 197-206.
^2 МПТОУМ
Черепанова 1983 — Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983. 169 с.
Черных 1993 I-II — Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка, т. 1-2. М., 1993.
Чернышев 1970 I—II — Чернышев В. Н. Избранные труды. Т. 1-2. М., 1970.
Шанский 1963 — Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. М.^ 1963. 165 с.
Шанский 1967 —Шанский Н. М. // Рус. язык в школе. 1967. № 1. С. 14.
Шанский 1971 — Шанский Н. М. В мире слов. М., 1971. 264 с.
Шанский 1972 — Шаиский Н. М. Слова с приставкой ко- и ее алломорфами в русском языке// Этимологические исследования по русскому языку. 1972. Вып.VII. С. 203-213.
Шанский 1985 — Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. 3-е изд. М., 1985. 160 с.
Шапиро 1873 — Шапиро М. М. [Рец.] Словарь белорусского наречия, составленный И. И. Косовичем / Изд. Отд-ння русского языка и словесности имп. Академии наук. СПб., 1970// Филол. записки. 1873. Вып.1. С. 2-20.
Шевченко 1986 — Шевченко Г. И. Фразеологические кальки с греческого и латинского в русском языке: Автореф. канд. дис. Минск, 1986. 21 с.’
ШИШ — Шанский Н. М., Иванов В. В., Ш а и с к а я Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. 2-е изд. М., 1971. 542 с.
Шкляров 1975 — llT кляров В. Т. Пословицы как источник пополнения русской фразеологии// Проблемы лексики и фразеологии. Л., 1975. С. 68-79.
Шоцкая 1971 — Шоцкая Л. И. Трансформация фразеологизмов в прозе 30-40-х годов XIX века// Вопросы семантики фразеологических единиц (на материале русского языка). Ч. 1. Новгород^ 1971. С. 342-349.
Шустов 1971 — Шустов А. Н. Из жизни одной метафоры: Эскиз к будущему “Словарю метафор” // Рус. речь. 1971. № 3. С. 18-28.
Щерба, Матусевич 1983 — Щерба Л. В„ Матусевич М. И. Русско-французский словарь. 11-е нзд., стереотип. М., 1983. 840 с.
Эккерт 1990 — Эккерт К. Русская фразеология в немецкоязычной аудитории // Zeitschrift fur Slawistik. 1990. N 35. S. 312-325.
ЭСБМ I—III — ЭтымалаНчны слоушк беларускай мовы. Т. 1-3. Мшск, 1978-1985.
ЭСРЯ I-II — Этимологический словарь русского языка / Под ред. Н. М. Шанского. Т. 1-2. Вып.1-8. М-, 1963-1982.
Этерлей 1969 — Этерлей Е. Н. Напеня кружку кислых щей // Рус. речь. 1969. № 5. С. 85.
Юрчаика 1972 — Юрчаика Г. Ф. I кощцца i валщца. Мшск, 1972. 288 с.
Юрчанка 1974 — Юрчанка Г. Ф. I сячэ i пал!ць. Мшск, 1974. 294 с.
Юрчаика 1977 — Ю р ч а н к а Г. Ф. Слова за слова; Мшск, 1977. 270 с.
Юрченко 1984 —Юрченко О. С. Формування фразеологичного фонду украшско! лгеературши мови. Кшсць XVIII—початок XIX ет^ХарЫав^1984. 209 с.
S83 *мпмтурА
Яковлев 1905-1906 — Яковлев Г. Пословицы, поговорки, крылатые слова, приметы и поверья, собранные в слободе Сагунах Острогожского уезда// Живая старина. 1905. Вып. 1-2. С. 89-104; вып.2-4. 1906. С. 166-184.
Янин 1965—Я нин В. Л. Я послал тебе бересту... М., 1965.
Янкоуск! 1962 Я и к о у с к i Ф. М. Беларусктя приказы, прымауы, фразеалапзмы. 2-е выд. Мшск, 1962. 556 с.
Янко усы 1970 — Я и к о у с к i Ф. М. Роднае слова. Мшск, 1972. 447 с.
Яикоусы 1972 — Я н к о у ск i Ф. М, Роднае слова. 2-е выд. Мшск, 1972. 447 с.
Янкоусю 1973 — Я н к о J с к i Ф. М* Беларусыя иародныя параунаннк Каротю слоушк. Мшск, 1973. 239 с.
ЯОС 1-8 — Ярославский областной словарь. Т. 1-8. Ярославль, 1981-1989.
Ястребов 1894 — Ястребов В. Н. Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии. Одесса, 1894.
Дате 1964 — The types of the folktale: A classification and bibliography/ Antti Aarne’s Verzeichnis der Marchcntypen translated and enlarged by S. Thompson. Sec. rev. Helsinki, 1964. 372 p.
B$ba, Dziamska, Liberek 1995 —B^b a S., D z i a m s k a G., L i b e r e k J. Podr^czny siownik frazeologiczny jfzyka polskiego. Warszawa, 1995. S. 775.
B$ba, Libctck 2001 — B ^b a S., L i b er e k J. Siownik frazeologiczny wsp&czesnej polszczyzny. Warszawa, 2001. S. 1096.
Brewer 1971 — Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable. London, 1971. P. 894.
Bruckner 1970 — Bruckner, Alexander. Siownik etymologiczny jqzyka polskiego. Warszawa, 1970. 806 s.
Chevalier, Gheerbrant 1987 — Chevalier J., Gheerbrant A. Rjednik simbola: Mitovi, sni, obiCaji, geste, oblici, boje, brojevi. 2-e izd. Zagreb, 1987. 870 s.
Celakovsky 1949 — CelakbvskJ F. L. Mudroslovi harodu slovansk£ho ve pfislovich. Praha, 1949. 922 s.
Cervenka, Blahoslav 1970 — Cervenka, MatSj, Blahoslav, Jan. Cesk& pfislovf. Praha, 1970. 106 s.
Eckert 1987 — Eckert, Rainer. Zur historischen Phraseologie (an russischem Material) // Aktuelle Probleme der Phraseologie. Symposium 27-29.9.1984 in Zurich (ZOricher Germanistische Studien, Bd 9). Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris, 1987. S.203-224.
Eckert 1991 — E с k ё r t, Rainer. Studien zur historischen Phraseologie der slawischen Sprachen unter Berucksichtigung des Baltischen // SlafristisChe Beitrage. Bd 281. Miinchen, 1991. 262 S.
Eismann 1987 — E i s m a n n, Wolfgang. Zeichenbausteine als Zeichen: Das Alphabet in der Phraseologie // Aktuelle Probleme der Phraseologiex Bern, 1987. S.225-257.
Fedetowski 1935 — Federowski M.Lud Biatoruski na Rust Litewskiej. T. IV. Warszawa, 1935.
ЛИТЕРАТУРА
Gluski 1971 — G1 u s к i, Jerzy. Proverbs: A Comparative Book of English, French, German, Italian, Spanish and Russian Proverbs with a Latin Appendix. Amsterdam/London; New York, 1971. 273 p.
Haudressy 1992 — Haudressy, Dola. Les mutations de. la langue nisse: Cefc mots qui disent 1’actualite. Paris, 1992. 269 p.
Hyamson 1970 — HyamsonA. M. A Dictionary of English Phrases. Detroit, 1970.
Ivdenko 1993 — Ivdenko, Anatolij A. Russisch убить бобра // Zeitschrift fur Slawistik. 1993. Bd 38, № 3. S.391-3$3.
Kartowicz — Karlowicz J. Stownik gwar polskich. T. 1-6. Krakdw, 1900-1911.
Karolak 1998 — Karolak S. Siownik frazeologiczny rosyjsko-polski. T. 1-2. Warszawa, 1998. S. 1610.
Kiss 1968 — Kiss L. Varg&nya ‘SteinpilzV/ Magyar Nyelv. Budapest, 1968. P.456.
Kopalihski 2000 — Kopalidski, Wladysiaw. Siownik mit6w i tradycji kuhury. 4 wyd. Warszawa, 2000. 1360 s.
Kopedny 1973 — К о pein f Fr. EtimologickJ' slovnik slovanskycb jazykfi. Sv.l. Praha, 1973. 344 s.
Kreja 1971 — К г e j a, Boguslaw. Sk<d siq wzi^lo rozno? // J^zyk polski. 1971. N 1. S.30-36.
Krzyzanowski 1975 1-3 — Krzyzanovski J. M^drej glowie do$d dwie slowie. 2-ie wyd. Warszawa, 1975. T.l-3. BZIK-2. 75-76.
Kudera 1966 — Kufier a. Ctirad. N£$ dlovdk v$ Syazu// Ruskyjazyk. 1966-1967; N 6. S.268-269.
Leeuwen-Tumovcovi 1991 —L eeuwen-Turno vco v A J. J. van. KRUMM und DREHEN im Kulturparadigma der ORDNUNG// Znakolog. 1991. N 3. S. 131-166.
M^kosza-Bogdan 1994 — M$kosza-Bogdan J. Развитие коммерческой терминологии русского и польского языков: 80-90-е годы XX века. Warszawa, 1994.
MateSid 1982 — М a t е § i 6, Josip. Frazeolo§ki ijednik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1982. 808 s.
Mieder 1990 — M i e d c r, Wolfgang. “Wir sitzen alle in einem Boot”: Herkunft, Geschichte und Verwendung einer neueren deutschen Redensart // Muttersprache. 1990. N 100. S. 18-37.
Mieder 1993 — Mieder, Wolfgang. International proverb Scholarship: An Annot. Bibliogr. Suppl. IL New York; London,; 1993. 927 p.
Mieder 1995 — M i e d e r, Wolfgang.Sprichwortliches und Geflugeltes: Sprachstudien von Martin Luther bis Karl Marx. Bochum, 1995. 197 S.
MikloSich 1886 — Miklo Sic h, Franz. Etymologisches Worterbuch der slawischen Sprachen. Wien, 1886.
MrSevid-Radovid 1987 — MrSevid-Radovid D. FrazeoloSke jedinice sa znadenjem “nikad” u srpskohrvatskom jeziku// Z problem6w frazeologii polskiej i slqwianskiej, IV. Warszawa, 1987. S,83-98.
МршевиЬ-РадовиЬ 1989 — МршевиЬ-РадовиЬ, Драгана. Од Кулина бана и добрщех дана// Осамсто година по в еле босанског баиа Кулина/ Ред. Невенка ГошиЬ др. CapajeBo, 1989. С. 123-135.
4Я5
M Uller 1994 — Muller, Klaus. Lexikon der Redensarten I Herausg., zusam. und erlaut. von K. Muller. Munchen, 1994. 781 S.
Nelson 1951 — Nelson, AxeL ‘Chateaux en Espagne’ dans le latin m<eval// Eranos. 1951. V.49. P.159-169.
NKP MV,— N о w a ksiqga przystow i wyraieh przysl owiowych polskich / Pod red. J. Krzyzanowskiego. T.l-4. Warszawa, 1969-1978.
NWB 1998 — N e u e Worter und Bedeutungen: Russische Lexik der 90er Jahre. / Zusam. von E.Kanowa, W.Egert, V. Mpkienko. Berlin, 1998.
OrloS, Hornik 1996 — О r 1 о $, Teresa Zofia, Homik, Joanna. Czesko-polski slownik skrzydlatych sidw. Krakow, 1996. 377 s.
Pachalery 1897 — PachaleryA. Dictionnaire phrasdologique de la langue fran^aise. Odessa, 1897. 176 p.
Peil 1986 — P e i 1, Dietmar. “Im selben Boot”: Variationen uber ein metaphorisches Argument. // Archiv fur Kulturgeschichte, 68. 1986. N 2. S. 269-293.
Rat 1957 — R a t M. Dictionnaire des locutions fran^aises. Paris, 1957. 448 p.
RH 2000 — Russland heute: Lexik im Sprachgebrauch. Neue Worter und Bedeutungen. Русская лексика на перекрёстке веков. Bd 3 / Zusam. von E.Kanowa, W.Egert, V. Mokienko. Berlin, 2000. 73 S.
Rozental, Michalkiewicz 1974 — W у b 6 r idiomdw i zwrot6w rosyjskich. Warszawa, 1974. 299 s.
Rohrich 1977 — R d h r i c h, Lutz. Lexikon der sprichwdrtlichen Redensarten. Bd. 1-4. Freiburg; Basel; Wien, 1977. 1256 S.
Ryazanova-Clarke, Wade 1999 — Ryazanova-Clarke, Larissa, Wade, Terence. The Russian Language Today. London; New York, 1999. 369 p.
SCF 1-3 — S 1 о v n i k Ceskd frazeologie a idiomatiky: Vyrazy slovesnd I Red. Fr. CermAk, J.Hronek, J.Machad. Praha, 1994.
Seiler 1922 — Seiler F. Deutsche Sprichworterkunde. Munchen,. 1922. 449 s.
Skorupka 1967-1968 I-II — Skorupka, Stanislaw. Slownik frazeologiczny jezyka polskiego. T.l-2. Warszawa, 1967-1968.
Slawski 1-5 — Stawski, Franciszek. Slownik etymologiczny j$zyka polskiego. T. 1-5 (A-izywy). Krakdw, 1952-1982.
SSKJ — S I о v a r slovenskega knjifnega jezika. Knj. 1-5. Ljubljana, 1987-1991.
Stadler 1997 — Stadler, Wolfgang. Macht, Sprache, Gewalt.: Rechtspopulistische Sprache am Beispiel V.V.Zirinovskijs vor dem Hintergrund der Wandlungen politischer Sprache in Russland. Innsbruck, 1997.
Stypula 1974 — S t у p u I a, Ryszard. Slownik przysldw rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Warszawa, 1974. 558 s.
Taylor 1948-1949 — Taylor, Archer. Locutions for ‘Never’// Romance Philology. 1948-1949. N 2. P.103-134.
Trzaski 1939 1-2 — T r z a s k i E. i M. Slownik jqzyka polskiego. T.l-2. Warszawa, 1939.
Vahros 1966 — Vahrosl. Zur Geschichte und Folklore der grofirussischen Sauna// Folklore Fellows Communications. Vol.82, N 197. Helsinki, 1966. 365 S.
486 J"rTPgWA
WDI — The Wordsworth Dictionary of Idioms I Ed. by E.M.Kirkpatrick and C.M.Schwarz. Ware, 1993. 432 p.
Wheeler 1985 — Wheeler, Marcus. The Oxford Russian-English Dictionary/ General ed. В. O. Unbegaun. 2nd ed. Oxford, 1984'0983};
WSF — W i e 1 к i siownik frazeologiczny polsko-rosyjski, rosyjsko- polski. Red. Naukowy Ju. Lukszyn, zast. red. naukowego W. Zmarzer. Warszawa, 1998. S. 1102.
Zaordlek 1963 — ZaorAlek J. Lidovi rdeni. 2-e vyd. Praha, 1963. 779 s.
Zaturecky 1965 — Z £ t u г e с к у, Adolf Peter. Slovenske prislovia, porekadlA a uslovia. Bratislava, 1965. 394 s.
Zurek 1977 — 2 u r e k, Andrzej. Z dziejdw polskiej frazeologii// J^zyk polski. 1977. N 1. S.40-42.
Сокращения
(названия языков и говоров)
англ. — английский араб. — арабский арх. — архангельский забайк. — забайкальский зап. — западный зап.-укр. — западноукраннский
бел. — белорусский беломор. — беломорский болг. — болгарский брян. — брянский Иванов. — ивановский ирк. — иркутский исп. — испанский ит. — итальянский
венг. — венгерский вепс. — вепсский верхнедон. — говорыиВерхнего Дона верхнелуж. — верхнелужицкий Витебск. — витебский.. влад. — владимирский Волгоград. — волгоградский ВОЛЖСК. — волжский вол. — волынский волог. — вологодский ворон. — воронежский вят. — вятский казан. — казанский калин. — калининский кал уж. — калужский кар. — карельский (рус. диалекты Карелии) кашуб. — кашубский кемер. — кемеровский киров. — кировский колым. — колымский костром. — костромской кубан. — кубанский куйб. — куйбышевский курск. — курский
гал.-вол. — галицко-волынский голланд. — голландский горьк. — горьковский греч. — греческий лат. — латинский латв. — рус. говоры в Латвии латыш. — латышский лемк. — лемковский ленннгр. — ленинградский
дат. — датский диал. — диалектный дон. — донской др.-инд. — древнеиндийский др.-рус. — древнерусский др.-сакс. — древнесаксонский лит. — литовский львов. — львовский мане. — мансийский мещер. — мещерский морав. — моравский
СОКРАЩЕНИЯ
морд. — рус. говоры Мордовии МОСК. — московский
нем. — немецкий
нидерланд. — нидерландский ниж. — нижегородский новг. — новгородский новосиб. — новосибирский норв. — норвежский
общеслав. — общеславянский олон. — олонецкий ОМСК. — омский
оиеж. — онежский орл.— орловский острогож. — острогожский
z г
пенз. — пензенский перм. — пермский петерб. — петербургский пол. — польский
полес. — полесский
португал. — португальский праслав. — праславянский прибайк. — прибайкальский прост. — просторечный прус. — прусский пск. — псковский
рус. — русский рыб. — рыбинский ряз. — рязанский
самар. — самарский
свердл. — свердловский себ. — себежскнй
севернорус. — севернорусский
сиб. — сибирский симб. -**• симбирский словацк. — словацкий, словеи. — словенский смол. — смоленский ср.-обск. — среднеобскйй ср.-урал. — среднеуральский ст.-сл. — старославянский с.-х. — сербский и хорватский
(см. также х.-с.)
тамб. — тамбовский твер. — тверской тер. — терский том. — томский
тул. — тульский туров. т—» туровский
укр. — украинский урал. — уральский
фр. — французский
харьк. — харьковский х.-с. — хорватский и сербский (см. также с.-х.)
челяб. — челябинский череп. — череповецкий чеш. — чешский
швед. — шведский
южнорус. — южнорусский
яросл. — ярославский
Указатель фразеологических единиц и слов, употребляемых в литературном русском языке
А___________________.._________
а во се (восе) 10 а-во-се 11
Авосевы города не горожены, Авоськниы детки не рожены 14 а вось 11 авось 11-17
Авось 13-17, 453, 461
Авось бог 16
Авось в лес уйдет 13
Авось — велико слово 12
Авось да живет — до добра не доведет 12
Авось да живет, ие к добру доведет 12
Авось да небось — плохая подмога, хоть брось 12
Авось — дурак, с головою выдаст 12
Авось живы будем — авось помрем 12
Авось задатка не дает 13
Авось н рыбака толкает под бока 13
Авось не бог, а полбога есть 12
Авось, небось да как-нибудь — первые супостаты наши 12
Авось небосю родной брат 12
Авось обманет — в лес уйдет 13
Авось — плут, обманет 12
Авось попадет что заец в тенято 13
Авось с небосем водились, да оба в яму ввалились 12
Авось что заец: в тенетах вязнет 13 Авоська 13-16 авоська 13
Авоська веревку вьет, небоська петлю закидывает 13
Авоська — вор, обманет 13
Авоська дал 14
Авоська уйдет, а небоську одного покинет 13
Авосьники — бедокуры 14
Авосьннки — постники 14
Авосю верь ие вовсе 12
Авосю не вовсе верь 12
Авося жданки съели 12
Аз, буки, веди страшат что медведи 456
Аз да буки — и вся наука 456
Аз да буки избавит ли от муки 456
Аз, да всему горазд 456
Аз, да увяз, да не выдрахся 456
Аз не вяз: и содрав лыко, не сплести лаптей 456
Андроны едут 247
Арбать 461
Ариаднина нить 4 а то 11 Ахиллесова пята 4
Б____________________________
баба на ять 460 бабки 18-25
УКАЗАТЕЛЬ
бабки подбить (подсчитать) 20 бабки сшибать 21, 22 бакать 28, 29 баки 24-30
баки бить 28
баки вколачивать 24
баки вкручивать 24
баки забивать / забить 24-30 Баки мие не заколачивай 24 б ал аки ре в шут 445, 446 балаганный шут 445, 446 баня 3, 31-43
Баня — вторая мать 40 башни на воздухе строить 180 бежать напропалую 73 без глаза (без глазу) Л 32-136 Без четырех углов нзба не рубится 428
белая ворона 5, 231, 235-239 белый воробей 239 беситься с жиру 165-168 бзик 44-51
бзик (бзык) иашел (напал) 44-51, 169
бзык 44-51, 169 бзык заиграл 44 бирка 357, 362 бить (сечь) как Сидорову козу 247-
254 бить / подбить бабки 18-23 бить бабки 259 бить баклуши 259, 261 бить как свинью 253 бить как Сидорову козу 366 бить козла 260 благословить рогатиной 37 благотворительность 328 блажь нашла на кого-#. 47. блин горелый 328 блнииая 67
блюдечко 52-54
бобр 62-65 бобы 57-61 бобы разводить 57 Бог Авось 16 Бог дал 14
Боже, поможи, а ты на боку не лежи 72
божья сила 299 боковая 66-73 боковая комната 71 боковая лавка 71, 75 боковая сторона русской печн 71 бояться как черт креста 93 бояться как черт ладана 93
бояться как черт святой (крещеной) воды 93
бред 340
бред сивой кобылы 340
бредить 340 бровь 74-77 бросать камни 225 бросить камень в кого-л. 230 Будешь баню помнить до новых
веников 35
Бывает и виноватой прав 388
Бывает и на деда грех 388
Бывает и на мастера хула 388
Бывает и на мудреца простота 388
Бывает и на старуху проруха 387, 388
Бывают и добрые люди плуты 388 Был бы сокол, а вороны налетят
415
Был конь, да изъездился 338 быть под одну гребенку 153 быть под шофе 440
в.____________________________
в одной лодке 323*333, 530, 332-
334
ДО1 шцтщ
в просак 392-395 валить колоду через пень 381 валить через пень колоду (через пень в колоду) 379, 381, 383 валять ваньку 247, 450 валять дурака 450 варежка 78-85 варежку разинуть 82 велосипед 86-90 вешать нос 240-246
вешать / повесить нос на квинту 240-246
вилами на (по) воде писано (написано) 3, 8, 91-95
вилы 91-95 виноград 375 висеть на волоске 109-113
висеть на волоске как дамоклов меч 111
висеть / повиснуть на ниточке 111, 113
висеть над кем-л. как дамоклов меч 111
вколачивать баки 24 вкопанный 96-105 вкруговую 73 вкручивать баки 24 вода 106-108, 159-164
Во^ху в ступе толочь — вода и будет 106, 107
воздушные замки 176-181 волосок 109-113
волосы цвета воронова крыла 239 воробей 114-119
Ворон ворону глаз не выклюет 236 ворона 120-126, 231-239 вороиая масть 239 воронье пугало 452 воронье чучело 452 воспитывать как тепличное растение 438
воспитываться в хлопках 436
впросак 395
врассыпную 73
врать 335
врач 302, 340
врет как лошадь 335, 338
врет как сивый мерин 334-341
все в одной лодке 332
всех под одну гребёнку грести 153 вставлять палки в колеса 151
встать в тупик 432-433
Вывезет и авоська, да не знать
куда 13
вывести из тупика 431, 433
выворотной (шут) 445, 452
Выгон на ять — голубей гонять 459, 460
выделывать мыслете 456
выйти из тупика 431, 433
выйти сухим из коды 163
вылупить глаза 30
вылупиться 30
вымыть голову 36
выпалить в глаза кому-л. что-л. 77 выпить 219
вытопить баню 37
гадать на бобах 57 галнца 415
гак 127-131
гастарбайтер 328 глаз 30, 74-77, 135-136 гласность 328, 343 глуп как баран 339 глуп как лошадь 336 глуп как сивый мерин 336-341 глуп один, как лара купеческих лошадей 336
глуп как осел 339
492 ¥ttA3ATD|b
гол как сокол 416-422
Голодный француз н вороне рад 121 голубая каемочка 52 гонять лодыря 31 горничная 66 горничная девушка 66 городить 369 городить вздор 375 городить воздушные палаты 179 городить ерунду 375 городить огород 370-384 городить чепуху 375 городить чушь 375 горох 137-148 Горох в поле да девка в доме — завидное дело: кто ни пройдет, тот щипнет 147
Горох да репа — в поле, а вдова да девка — в горе 146
Горох да репа влоле, а вдова да девка в людях не без обиды 146
Горох да репа животу не крепа 146 Горох да репа — обидное семя 146, 448 гороховая память 147 гороховое пугало 147, 452 гороховое чучело 452 гороховые слова 147, 450 гороховый 147, 448-452 гороховый шут 445 государственный 330 гребенка 149-154 грех 155-158, 387 грнва 413 гривна 412, 413 грохот 139 грохотать 139 грязный как поросенок 220 губа 83 губка 218
гусак 159 гусей дразнить 159 гусем (ходить) 159 гуси 159 гусиная кожа 159 гусиная память 160 гусиные лапки 159 гусь 159-164 Гусь да баба — торг, два гуся, две бабы — ярмарка 159
Гусь лапчатый! 160
Гусь свинье ие товарищ 159 гуськом 159
Д----------------------------
давным-давно, когда опенки воевали с рыжиками 142 дай в зубы, чтобы дым пошел 206 Дамоклов меч 111, 112 дать баию 37, 39 дать жару 39 дать кругаля 130 дать крюка 130 дать пару 34, 35 дать порки 38 дать раза 38 дать туза 38 двор 263-270 дворянский сын, что ногайский конь 337-338 деньги 414 держать в ежовых рукавицах 436 держать в хлопочках 436-438 держать в хлопках 436 держать камень за пазухой 223-230 держать камешек в пазухе 231 держать кого-л. в ватке 438 держать под стеклянным колпаком 437
Держись за авось; пока не сорвалось 12
деть некуда 397 дешевле грибов 60 дешевле пареной репы 60 длинный доллар 414 длинный рубль 411, 414 Для какбго рожна? 406 Для какого черта? 406 дневать и ночевать 250 до жердочки 320 до зонтика 320 до лампады 319, 320 до лампочки кому что 315—322 до лампы 320 до мушки 320 до потолка 320 до ручки 320
До того доживем, что авось еще наживем 12-13 до фени 319, 328, 322 до Феньки 328 до фенысн 319, 328 до фонаря 319, 322, 328 до форточки 322 Добрая пословица не в бровь, а в глаз 77 домовой 408
Драть 38
драть (лупить) как Сидорову козу 247-254, 366
Дружиться дружись, а нож (камень) за пазухой держи 229-230 друзей как гусей около мякины 159 дурь нашла на кого-л. 47
Е______________________________
его знают, как попову собаку 368 еловым веником парить 35 Если хочешь с соседом поругаться
—* завод» козу <253 Есть и на черта гром (гроза) 388
ехать (приехать, гнаться* гоняться, отправляться, охотиться, путешествовать и т. п.) за длинным рублем 411
ехать на долгих 297 ехать на обывательских 297 ехать на передаточных 297 ехать на перекидных 297 ехать на перекладных 297 ехать на переменных 297 ехать на почтовых 297 ехать на простых 297 ехать на своих 297 ехать иа сдаточных 297 ехать на сквозных 297 еще и петухи не пели 285 еще конь не валялся 281^ 284
Ж___________________________
жаден, как ворон крови 239 Ждем-пождем, авось н мы свое
найдём 12
желторотый птенец 438 женщина (девчонка) на ять 460 живет и на старуху проруха 387 Живи — нн о чем ие тужи! А все проживешь, авось еще наживешь 12
жизнь 110
жизнь висит на волоске 111 жизнь висит на ниточке 110 жизнь его висела на волоске 110 жинка на ять 460 жир 165-168
3___________________________
за семь верст киселя хлебать 135 За аз да за буки, так и указку в руки 456
494 УКАЗАПМЬ
за ним глаз да глаз нужен 135 За спесивым кумом ие находишься с блюдом 56 забивать / забить баки 24-30 забивать / забить козла 255-262 забить 260 забить кости 261 забить костяшки 261, 262 заведенная машина 172 заведенные часы 172 заведенный 171 заведенное колесо 171 Завидны в поле горох да репа: кто ни пройдет — щипнет 448 завести в тупик 433 Завтра —вор авоська, обманет, в лес уйдет 13 загнать в тупик 431, 433 загривок 413 задавать / задать баню 3, 31-42 задать пару 34, 39 задать головомойку 37, 39, 34 задать духу 38 задать жару 37, 38-41 задать пару 34, 35 задать перцу 38 задать трепака 38 задать чёсу 38 задирать нос 243 заехать в тупик 431 заживо захоронить 97 зайти в тупик 431-435 закрыть варежку 78 замазывать глаза 30 з&мок 176-181 зануда 317 запруживать 398 зарубить в памяти 361 зарубить на лбу 362 зарубить на носу 5, 357-362
зарубить что-л. на стене (на стенке) 359, 362
заткнуть варежку 80 заходить в тупик 432 заходить в тупой угол 434 Захочет сена коза — будет у воза 251
Зачем же было огород городить, зачем же было капусту садить 369 зашибать / зашибить грош 23 зашибать деньгу (деньги) 22, 23 зашибать / зашибить копейку 23 зашибить 23 зга 182-194
здоров как лошадь 337 здорова как кобыла 337 здоровый 234
зла как старая карга 221 злоба 225
злой как собака 101
змея 225
знать как белого воробья 368 знать как облупленного 364-368 знать как облупленную козу 368 знать как свои пять пальцев 364 знать что-л. на ять 460
знают его все, что рябую собаку 368
зуб 195-208 зубы 209-214 зубы на полку положить 209 зюзя 215-222
и_____________________________
И большому гусю не высидеть теленка 159
И на Машку бывает промашка 388
И на старуху бывает проруха 384 И на старушку бывает прорушка 384
495 УКШТШ
иван-да-марья 250 ивановская роса 282 иглы не заточить 276 иглы не подточишь (не заточишь, не подпустишь) 276-277 иголки не подпустишь 276 идти заведенным колесом 171 идти на попятную 67 Из пушкц, да по воробьям! 400 изобрести велосипед 86-90 изобрести нож хлеб резать 90 изобретать колесо 89 иметь общий удел 329 иметь общую судьбу 329 индюшья память 160 искры из глаз посыпались 187
к___________________________
к едреной фене 320 к фенькиной матери 320 каемка 52 каинова печать 247 как (что) собак нерезанных (нерезаных) 174, 175
как бобов На тарелке 61 как в воду глядел 92 как в землю врос 104 как вкопанная 97 как вкопанный 4, 96-105 Как вы лодку назовете, так она н поплывет 333 как грязи 20 как заведенная 170-173 как заведенная машина 171, 172 как заведенные часы 170, 172 как заведенный 170- 172i 174, 175, 364
как звезд на небе 173 как курица лапой 125 как ленивая лошадь — что
ударишь, то и уедешь 337 как мркрая курица 125 как на Маланьину свадьбу (наварить, наготовить) 396 как облупленное яичко / яйцо 364, 365
как песку морского 173 как с гуся вода 160-164 Как с гуся вода, небывалые слова160, 162
как с цепи сорвался 168 как сбесился 168 как слепая курица 125 как собак 174 как собак небитых 174 как собак невешанных 174 как собак недобитых 174 _ как собак нерезаных 397 как часы 171 какая его муха укусила 49 Каков гусь! 160 Какого беса? 405, 406 Какого дьявола? 405, 406 Какого лешего? 406 какого рожна 5, 406 Какого [тебе еще] рожна? 405-410 Какого черта? 405-406 Какого черта нужно? 405 Какого шута? 405, 406 камень 223-230 камней за пазухой у меня нет 228 карга 231-239 каркает как ворона 126 квинта 240-246 кладовая 66, 67 кладовая комната 66, 67 кладовка 67 класть / положить зубы на полку 209-214
коза 247-254 коза лупленая (лупленная) 256, 368 496 УКАЗАТЕЛЬ
козел 256-262
козла драть 256 кол 263-270 Колн жить без толку, клади зубы на
полку 213
колода 381 комар 271-277
комар носу (носа) не подточит 3, 271-277
комар носу не подточил бы 274 конь 278-285
конь еще не валялся 278, 286
конь не валялся 285
Конь о четырех ногах, да спотыкается 385, 428
корабль плывет по морю чего 327
корень 239, 291
корчить из себя шута 451
коряга 236, 291
костяшка 260
кость 260
кочерга 286-291
кошка 236
Крепка рать воеводою, а тюрьма огородою 370
крестная сила 299 кривая 292-306 кривая вывезет (вынесет) 292-306 кривая дорожка 296
кривая лошадь 296
Кривого веретена не выпрямишь 157
кривой на один глаз 296
кричать (визжать, орать) как резаный 174
кричать во всю ивановскую 292 Кто авосьничает, тот и постничает
14
Кто делает на авось, у того все хоть брось 16
Кто много лежит, у того н бок болит 72
куда кривая вывезет (вынесет, выведет) 292-306
куда Макар телят не гонял 247 кур 124, 307-314 куриная память 160 куропатка 309
л______________________________
лавка 71 лавочка 71 лампа 318 лампа Аладдина 318 лампочка 315-322 лежанка 70, 72 лежать на боку 72 лежать на печи 72 Лежи иа боку, да гляди на Оку (на реку) 72
Лежи на печи, авось что-нибудь вылежишь 12
лезть на рожон 405, 406, 410 лесной огород 372
Летит гусь на святую Русь 159 леший 409 личный тупик 433 лодка 323-333 лодка чего опрокинулась 323 ломаного гроша не стоит 414 ломаный грош 414 ломаный рубль 414 ломать рубль 414 лупить 367 лупленый 367 Лучинка с верою, чем ие свеча?
289
любители длинного рубля 411 любовная лодка разбилась о быт 333
497 УКАЗАТИЬ
м_____________________________
маковой росянки в рот не брать 157 мала как пигалица 221
мерин 334-341
Мимо девки да мимо репки так не пройдешь 147
молодые волки 353
морочить голову 27
мотать на ус 362
мутная вода 399
мухи в голове 49
н_____________________________
на авось 9-17, 453
На авось врага не одолеешь 16
На авось города брать, да как-нибудь век скоротать 16
На авось и кобыла в дровни лягает 16
На авось казак на конь садится, на авось его я конь бьет 16
На авось мужик н хлеб сеет 16
На авось не надейся 14, 16
на беду 15
на блюдечке 52
На Бога не надейся 14
на боковую 67-73, 364
на большой палец 459
на волоске от гибели 112
на волоске от смерти 112
на волоску висит 112
на волосу висит 112
на волосу от разорения 112
на все сто 459
на все четыре ветра (идти, убираться, прогонять, отпускать) 426-430
на все четыре стороны (ступай, иди, лети, убирайся и т. п.) 423-430
на вшивой козе не объехать 297 на дзец 459
На какой (кой) рожон? 405-410
На какой (кой) черт? 406
на карачках 84 на козе не подъедешь 295 на кривой козе не объехать 297 на кривой лошади ие объедешь 294 На кривой лошади плута не объедешь 298, 293
На кривом коне не объедешь 306 на кривой не объедешь (не объехать) кого 297-306 на кривых оглоблях не объехать 297
на мировую 73
на него бзик нашел (напал) 45 на нити висит 112
на нитке висит 112
на память 459
на пегой кобыле не объедешь кого 297
на пи 459
на попятную 73 на пять с плюсом 459 иа роду написано у кого-л. 94 на саврасой не объехать 297 на свинье не объехать 297 иа седьмом небе 135
На Сидора пока (попа) нн одна беда не пришла 247, 248 на славу 15
На старуху бывает проруха 4
На старуху да пришла, проруха 387 на сто процентов 460 на счастливый случай 15 на счастье 15 ла тарелочке с голубой каемочкой .56 на удачу 15
490 ГКАЗАТИЬ
на ура 15
На что вороне большие разговоры, знай ворона свое воронье “кра” 232 на ю пн 459 на ять, на-ять 454-461 набить баки 28 наверняка 15 надавать пинков 39 надежда на авось 10 назло 15 назубок 459 назюзюкаться 217 накрепко 459 наматывать на ус 362 намылить голову 34, 36, 38 намылить на сухую руку 36 наобум 15 напал как гусь на мякину 159 напиться зюзя зюзей 216 напиться до поросячьего визга 220‘ наплевать кому на что 316 напропалую 15, 73 нарезаться зюзя зюзей 216 народное пугало 447 нарубить 360 натянулся как пиявка 219 наугад 15 наудалую 73 наудачу 15 нахрапок 15 Наш Фофан в землю вкопан 97 нашармака 15 не в бровь, а в глаз 74-77 не в бровь, а прямо в глаз 75-77 не видать света белого 157 не видно ни зги 188
Не во всякой туче гром; а и гром да не грянет; а и грянет, да ие по нас; а и по нас — авось не убьет! 12
ие миновать глаголя 456
Не обманешь старого воробья на мякину 118
не подточишь булавки 276
не разевай рта до ушей 81
не разиня рот ходи 81
Не смейся, горох, над бобами, сам поваляешься под ногами 142, 450
Не смейся, горох, над нами (над бобами): будешь и ты под ногами 450
Не смейся, горох, не лучше бобов! 450
Не смейся, горох, не лучше бобов: размокнешь, надуешься — лопнешь 142
Не смейся, горох, — не Лучше грибов: грибы поджарим, и тебя оставим 142
Не смейся (ие хвалнся), горох, ие лучше бобов: размокнешь, надуешься, лопнешь 450
Не суйся нжица наперед аза 456
Не убнть бобра — не видать добра 62, 63
Не умела ворона сокола щипать 121
не хлопья за щеками у кого-л, 438 нерезаный 173
нести околесную 292 нестреляный воробей 118 нечего греха таить 156-158 нн аза в глаза 456
ни беса 407
ни богу свечка ни черту кочерга 3,
286-291
ни богу свечка ни черту ожег 287
ии в зуб 195-208, 205, 206, 209
ни в Зуб калошей 199
ни в зуб ногой 195-208
УКАЗАТЕЛЬ
ни в зуб толкнуть 195-208
ии в зуб толкнуть не смыслит 195-208
ни бэ ни мэ 456
ни зги. не видно ( не видать, не видеть) 157, 182-194
ии к селу ни к городу 287
ии кола ии двора 265-270
ни кола, ии двора, ни милого живота 263
ии лешего 407
ии мычит ни телится 287
ни иа волос ие протиснуться 275
ии ногой 197
ии рожна 407
ии рыба ии мясо 287
ии то ии се 287
ни тпру ии иу 287
ии черта 407
ни шагу ие ступить 157
ии шиша 407
новейшие русские 352
новые богатые 346
новые варвары 346
новые женщины 353
новые коричневые 353
новые левые 353
новые лишние 353
новые правые 354
новые русские 342-356
“новые русские” собаки 353
новые социалисты 353
новые хозяева жизни 353
нож 225
иос 240-246, 273-277, 357-362
носить воду в решете 108
Ну и гусь! 160
нужен глаз да глаз 133
о_____________________________
Обидные семена в поле горох да
репа, а в мире — вдова да девка 146
облупить как яичко 365 облупленный 363-368 ободрать 367 обстреляиая птица 117, 118 обстреляный волк 117, 118 огарок 291 оглобли 293 огород 369-375 огород городить 369, 374 ограда 270 одни черт 407 Одним гусем поля ие вытопчешь
159
оказаться в тупике 432, 435 окорок 84 оплот 374
опускать иос £46 ориентация 430 ориентир 430 осоветь 219
оставаться ии с чем 57
оставаться при пиковом интересе 57
оставлять / оставить (оставаться) с носом 58
оставлять / оставить иа бобах 57-61 остаться в одной рубашке 59 остаться без штанов 59 остаться иа бобах 59-60 остаться на одном хлебе 59 остаться на пище святого Аитония 59
остаться на хлебе и воде 59 от а до я 3, 456
От авося добра не жди 12 от альфы до омеги 3 откладывать в долгий ящик 31 открывать варежку 78-85 открыть Америку 90 открыть варежку 78-85
50& УКАЗАТЕЛЬ
открыть рот 85 отогреть змею на пазухе 230 отправляться / отправиться на
боковую 71, 72, 292 отпускать на волю425 отречься от своих идеалов 357 От судьбы ие уйдешь 305 Оттого казак и гладок, что поел, да — и на бок 72
охотники за длинным рублем 412 очертя голову 93 ощип 310 ощипывание 311
п____________________________
падок на длинный рубль 412 пальца ие подсунешь 276, 277 парикмахерская 66 парикмахерская мастерская 66 парламентский 330 пельменная 67 пень 377-384 пень гороховый 446 переворачивать / перевернуть лодку 332, 333
пересесть в семейную лодку 333 перестройка 328, 343 переть на рожон (против рожна)
405, 406, 410 печь 72 пигалица 221 писать на воде 91, 93 Пить до дна — не видать добра! 65 пищаль 422 плести 375 плетение словес 375
Плетью обуха ие перешибешь 157, 380
плотина 376
Плох сокол, что на воронье место сел 416
площадной (шут) 447
по воробьям из пушек стрелять 400 по Сеиьке и шапка 249 повесить бутсы иа гвоздь 215 повесить нос 240, 241, 242, 246 повесить нос на квииту 4 повесить перчатки иа гвоздь 215 погрязнуть в разврате 356 под газэ 443 под газом 443 под градэ 444 под градусом 443 под гребенку 149-154 под кайфом 444 под куражом 444 под мухой 443 под парами 444 под хмельком 443 под шумком 444 под шумом 444 под шофе (шефе, шафе) 439-444 подавать на блюдечке 53 подбивать / подбить бабки 19-23 подбить баланс 23 подбить итог 23 подбить счета 23 подводить / подвести бабки 20-22 поддать пендаля 39 поднести иа блюде 54-56 поднести (подавать, получать, принести) на блюдечке 53-56
поднести иа блюдечке с голубой каемочкой 52-56
поднести на тарелочке 56 подиовинский (шут) 445, 452 поднять нос 243
подогреваться 442
подсчитать бабки 20 подточить 272-277 подшафе 440, 442
5Q1 УКАЗАТи|Ь
подшефе 440
подшофе 440, 444
пожарный козел 257
Поживи в рабах, авось будешь и в господах 12
пойти иа мировую 67
пойти на попятную 292
показать кузькину мать 247
ползет как черепаха 101
положить зубы на полку 8, 60
полосатый (шут) 445, 452
полтина 412
получать иа блюдечке 53
Поляки с русскими пировали, а
камень за пазухой держали 228
понадеяться (положиться) на
русский авось 17
попадать в тупик 433
попал в яму 390
Поп с кадилом, черт с рогатиной 287
Попал как ворона во французский суп! 121
попал как кур во щи (во щип, в ощип) 5, 124, 126, 308-314
попался как ворона в суп 121-126
попарить сухим веником 36
попасть впросак (в просак) 389, 392-395
попасть в тупик 431-435, 433
попасть как кур в ощип 124
попал как кур во щи 5
попасть как кур во щип 126
пороть 38
пороть как Сидорову козу 256
пороху не выдумает 90
поставить в тупик 434
построение воздушных замков 176
потемкинские деревни 247
Правдою жить, как огород городить
[что днём загородишь, в ночь разгородят) 370 правительственный 330 праздновать труса 31 Прежнего ие вернешь 157 президентская команда 328 прет как сивый мерин 334 при царе Горохе 4, 138-148 при царе Горохе и царице
Чечевице 143
при царе Горохе, как грузди с опенками воевали 142, 144 при царе Горохе, при царице Морковке 143
При царе Копыле, когда грибы с опенками воевали 142, 144 привести в тупик 434 пригреть змею за пазухой 230 прийти в тупик 433 принести на блюдечке 53 причесать под гребенку 153 провести иа бобах 94 промок как зюзя 218 прописать ижицу 456 пропустить за галстук 441 проруха 384-391 просак 392-395 просто как Колумбово яйцо 364 проще пареной репы 60 пруд 396-399 прудить 396, 397 прыгает как коза 366 пугало 449, 450 пугало гороховое 445, 446, 450 пуститься во все тяжкие 292 пушка 400-404 пылиики сдувать с кого-л 437 пьет как корова 219 пьет как лошадь 219 пьет как сапожник 219
пьет как скотина 219 пьян как зюзя 215-222 пьян как бочка 219 пьян как дворник 219 пьян как извозчик 219 пьян как лакей 219 пьян как лошадь 219 пьян как пожарник 219 пьян как портной мастер 219 пьян как сапожник 219 пьян как свинья 219 пялить глаза 30 пялиться 30
р_____________________________
работает как лошадь 337 раздавать тумаки 39 разевать рот 81 разиня 81
разиня рот ходить 81 разить 38 разинуть варежку 81 разинуть рот 81 разруха 390 разрушать воздушный замок 179 разыгрывать дурака 450 разыгрывать шура 450 разыгрывать шута горохового 449 раскачивать / раскачать лодку (корабль) 325, 332
расколоть 412
рассеять по четырем ветрам небесным 428
расти в хлопках 436
Репа да горох и сеются про воров 147, 448
Репу да горох не сей подле дорог 448
рисовать хрустальные дверцы 177 рог 409
рогатина 409
рожки 409
Рожна, что ли (надо, ие хватает)? 406
рожон 405-410
ротозей 81
рубеж 414
рубить 413 рубль 411-414 рупия 413
Русак на авось и взрос 16
Русак на трех сваях крепок: авось, небось да как-нибудь 16
русский авось 17
Русский бог — авось, небось да как-нибудь 14
рушить. 385
рыть 390
рыхлый 390
рэкет 328
С авоськи ии письма, ии записи 13 с бзиком (в голове) 44-51 с верхом 131
С воронами — по-вороньи и каркать 232
с гаком 127-131
с жиру беситься 165
с избытком 131
С какого рожна? 407
С какого черта? 407
с камнем за пазухой не суйся 228
С легким паром! 40 с лишком 131 с мухами в иосу 49 с тараканами в иосу 49 сад 373
Сам ии аза в глаза, а людей ижицей тычет 456
ЯИЗАПЦ
сачок 260 сачковать 260 сбивать бабки (баклуши) 261 свеча 291
сделать баию 37 седой как Луиь 221 Семеро одного ие ждут 134 семеро по лавкам 71 Семеро с ложкой, один с сошкой 134
семь 134
Семь бед — одни ответ 134 семь верст не околица 135 Семь дел в одни руки ие берут 134 Семь лет молчал, на восьмой вскричал 134
Семь раз отмерь, один отрежь 134
Семь топоров вместе лежат, а две прялки — врозь 134 сесть иа бобах 58 сесть иа бобы 58 сивый мерин 334, 341 сидеть иа бобах 58 сидеть с бобами 58 Сидор 248-254
Сидорова коза 247-254
Сидорова правда 250 сизифов труд 247 силы небесные 299 скажет иа блюдечке 54 сказать прямо в глаза кому-л. что-л 77-
Скатертью дорожка 426 скачет как чечетка 221 Слово не стрела, а пуще стрелы 77 Слово не стрела, а разит 77 смерть его висела на волоске ПО смотреть бирюком 221 смотрит как коза 366
смутные времена 356 сокол 415-422 соколик 415 сои 71
Сперва аз да буки, а там и науки 456
списать с какого корабля кого 327 спички (спичку) ие просунуть 275 Спросили бы у гуся, не зябнут ли иоги 159
ставить в тупик 433
ставить точки над и 456 становиться в тупик 432 старая карга 231, 233-239 старая лиса 117
Старого воробья на мякине ие надуешь 115
Старого воробья на мякиие ие обманешь 115
Старого воробья нА мякиие ие проведешь 115
старого лесу кочерга 234
старое пугало революции 447
Старые дураки глупее молодых 116
старые мечтатели 355
старые русские 346, 348
старый волк 117, 118
старый воробей 114-119
Старый ворон не каркнет даром 116, 232
Старый ворон мимо ие каркнет 116, 232
Старый конь борозды не испортит 335
Старый конь борозды не портит 116 старый мерин 338 старый юс 456 стать в тупик 431, 433 стих нашёл 47 стоит как кол 104
504 УКАЗАТЕЛЬ
стоит как колода 104
стоит как пень 104
стоит как столб 105
столбняк нашёл на кого-л. 47
столовая 67, 70
столовая комната 66, 68
столовка 68
сторона 423-430
стоять (стать, останавливаться, замереть, застыть) как вкопанный 99, 105
стоять как столб 105
стоять фертом 456
Стреляй из пушки по воробьям! 400
стреляная птица 117, 118
стреляный волк 117, 118
стреляный воробей 114-119, 238
стреляный зверь 117, 118
стреляный сокол 118
стрелять из пушки (пушек) по воробьям 8, 117, 400-404
стричь всех под одну гребенку 149
стричь как стадо баранов 152
стричь под гребенку 150
стричь под одну гребенку 149-154
строительство воздушных замков 179
строить воздушные замки 179-181
строить замки из чистого воздуха 177
строить замки иа воздухе 179
строить палаты иа воздухе 179
ступа 106-108
Судьба — индейка, жизнь — копейка 13
Судьба — ие авоська 13
суженый 293
сшибать бабки 23
т_____________________________
тавлея 260 таежный тупик 433 Такую баню задали, что небо с овчинку показалось 35
Такую баню задали, что чертям тощно стало 35
тамга 414
таращить глаза 30 таращиться 30 Тем завидны в поле горох да репа, что кто ни пройдет — щипнет 147 темно, зги ие видать 187
Терять воду — толчи воду в... 107 толкнуть в зуб ие с чем 206 толочь воду 106 толочь воду в ступе 106-108 толочь песок 106 толчение воды в ступе 106 Тот же блин, да иа блюде 56 точить зуб на кого-н. 273 тузить 38 тупик 431-435 тупиковая проблема 433 тупой переулок 434 тут свой глаз нужен 133 Тянули, тянули авоська с иебоськой, да животы надорвали 13
У_______________________________
У всякой старухи Свои прорухи 387 У всякой старушки свои прорушкй 384, 387, 391
у кормила [правления] 330
у нас одна лодка 329
у него бзик 48
505 УМА>АТИЬ _______________________
У одной овечки да семь пастухов 135
у руля [власти] 330
У семи нянек дитя без глазу 3
У семи пастухов не стадо 135
У супа ножки жиденьки 125
Убил бобра, а не иашел добра 63 убить бобра 62-65
Убить бобра — не видать добра 62-65
Убить бобра — немного добра 63 Ударить в бобра, ие видать добра
63
Укатали снвку крутые горки 338 упускать / упустить лодку 325, 332 упустить поезд 332 устроить (сделать, вытопить) баню
37-40
устроить головомойку 36
устроить кому-л. кровавую баню 34
утечка мозгов 328
учиться (ехать, рассказывать, драть) через пеиь колоду 376 ф______________________________
фальконет 421
X______________________________
хитрый как лиса 101
хлопки 437
хлопок 437
хлопот полой рот 436
хлопоты 436, 437
хлопочки 436-438
ходит что саврас без узды 337
ходить гоголем 162, 221
хозяйский глаз 135
Хорош гусь! 160
Хорош бы суп, да без круп 125
хоть мост мости 398 хоть отбавляй 398 хоть пруд пруди 396-399 хочет старого воробья иа мякине обмануть 115
хочет старого воробья над мякинами обмануть 115 ц------------------------------
царь Горох 138-150, 451
ч____________________________
чебуречная 67
чего греха таить 156-158 через пень колоду (пень-колоду) 376-383
черный как Ьорои 239 четыре 428, 429
Четыре стены на четыре стороны 428
четыре стороны 425, 430
Четыре страны света иа четырех морях положены 428 чечетка 221 чисто как облупленное яичко 364
Что было муки, докуки, а ни аза, ни буки 456
что греха таить 5, 155-158 что песку морского 397 Чуть не в глаз, а в самую бровь 76 чучело гороховое 147, 445, 446, 450
ш_____________________________
шапка Мономаха 247
шафе 440
шефе 440
Шила в мешке не утаишь 157 шофе 440-444
506 УКАЗАтаь______________________
шут 445-452
шут выворотной 445
шут гороховый 149, 445-452
шут подновинский 445
шут полосатый 445
щ---------------------------
щомы 309
щап 309
щи 124
щип 309
Это Сидорова правда да Шемякин суд 248
Этот суп только пучит пуп 125
ю_______________________
Юрьева роса 282
я________________________
Я — последнее слово в азбуке, да аз — Первое 456 яблоко раздора 4 язык (хорошо) подвешен 109 ясно как апельсин 364 ясно как божий день 364 ясно как облупленное яичко 364, 365 ясно как пять пальцев 364 ясно как шоколад 364 ясный сокол 415 ять 453-461
| Содержание
К читателю............................................3
Русский Авось: бог или случай?.......................v9
Какие бабки мы подбиваем? 18
Какие баки нам забивают?.............................24
Кто кому задавал баню?...............................31
Какой у кого бзик?...................................44
Что подносят на блюдечке с голубой каемочкой?........52
На каких бобах нас оставляют?........................57
За что убили бобра?...........v................... <62
На боковую: на какую? .............................. 66
В бровь или в глаз? 7 4
Как открыть варежку?................«....= 7 8
Кто изобрел велосипед?.................................8 6
Какими вилами пишут по воде?.......................... 91
Кто стоит как вкопанный?................<........... 96
Зачем толкут воду?..................................106
Что висит на волоске?...............................109
Зачем стреляют в старых воробьев?...................114
За что ворона попала в суп?.........................120
Что такое гак?......................................127
Без какого глазу дитя?..............................132
Когда правил царь Горох?...................... «... 137
Под какую гребенку стричь?..<..................... 149
Греха таить или грех таить?.................. ..... 155
С какого гуся вода?.................................159
Скакого жиру люди бесятся?..........................16 5
Заведенные часы? Нерезаные собаки?............... 1.69
Где строят воздушные замки?.........................176
508 С0*ЕГЖЛНИЕ
Какой зги не видно?..........................................182
Ни в зуб: ногой или пальцем?.................................195
Чьи зубы на полке?...........................................209
Кто такой зюзя?..............................................215
Кто держит камень за пазухой?................................223
Старая карга или белая ворона?....................• ........231
Зачем вешать нос на квинту? .............;.........г........240
Кто хозяин Сидоровой козы?...................................247
За что забивают козла?.......................................255
Какой кол у двора?...........................................263
Чей нос подтачивает комар?...................................271
По чему конь [еще] не валялся?...............................278
Богу свечка или черту кочерга?...............................286
Куда вывозит кривая?.........................................292
Куда же попал кур?...........................................307
До лампочки или до фонаря?...................................315
Кто сидит в одной лодке? .......................................................... 323
Зачем врет сивый мерин?......................................334
Новы ли новые русские?......................................342
На каком носу зарубка?.......................................357
Знать как облупленное яйцо?..................................363
Зачем городят огород?........................................369
Зачем валить колоду через пень?..............................376
Какие прорухи у нашей старухи?...............................384
В какой просак попал простак?................................392
Чем прудят пруд?.............................................396
Где стреляли из пушек по воробьям?...........................400
Какого именно рожна?.........................................405
Почему рубль длинный?........................................411
Почему сокол гол?................................. ;........415
На четыре стороны или на четыре ветра?.......................423
В каком мы тупике?......................................... 431
5Q9 СОДЕРЖАНИЕ_____________________
Хлопочки'. хлопки или хлопоты?........................436
Под шефе или под шафе??...............................439
Почему шут — гороховый?...............................445
На ять или на авось?................<.................453
Литература (исследования и источники).................462
Сокращения (названия языков и говоров)................488
Указатель фразеологических единиц и слов..............490
t)
Справочное издание
МОКИЕНКО Валерий Михайлович
ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ?
ОТ АВОСЯ ДО ятя
Историко-этимологический справочник по русской фразеологии
Ведущий редактор С. М. Снарская Ред актор И. А. Богданова Художественный редактор Д. М. Плаксин Технический редактор Н. Н. Дмитриева Корректор Н. Н. Жукова
Вёрстка М. Н. Баженова
Набор Г. В. Ромащенко
Технологическая подготовка А. П. Голованов
ИД № 00950 от 09.02.2000.
Подписано в печать 17.02.04. Бумага газетная.
Формат 84Х108‘/32. Гарнитура «Times New Roman Суг».
Усп. печ. л. 27,3. Уч.-изд. л. 30,74.
Тираж 7000 экз. Заказ № 1805.
ЗАО «Норинт». 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 3.
Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.
Мокиенко В. М.
М74 Почему так говорят? От Авося до Ятя: Историко-этимо-
логический справочник по русской фразеологии. — СПб.: Норинт, 2004. —512 с.
ISBN 5-7711-0152-4
Книга содержит 63 историко-этимологических очерка о самых спорных и загадочных по происхождению русских образных выражениях (открыть варежку, забить козла, знать как облупленного и др.). В каждом очерке рассматривается целая серия фразеологизмов: литературных, просторечных, диалектных; русских и иноязычного происхождения, - всего свыше 1000 единиц.
Справочник будет интересен ие только филологам, но и всем тем, кто интересуется историей русского языка, культурой речи и этнографией русского народа.
УДК 801.318(031)=82
ББК81.2Р-4








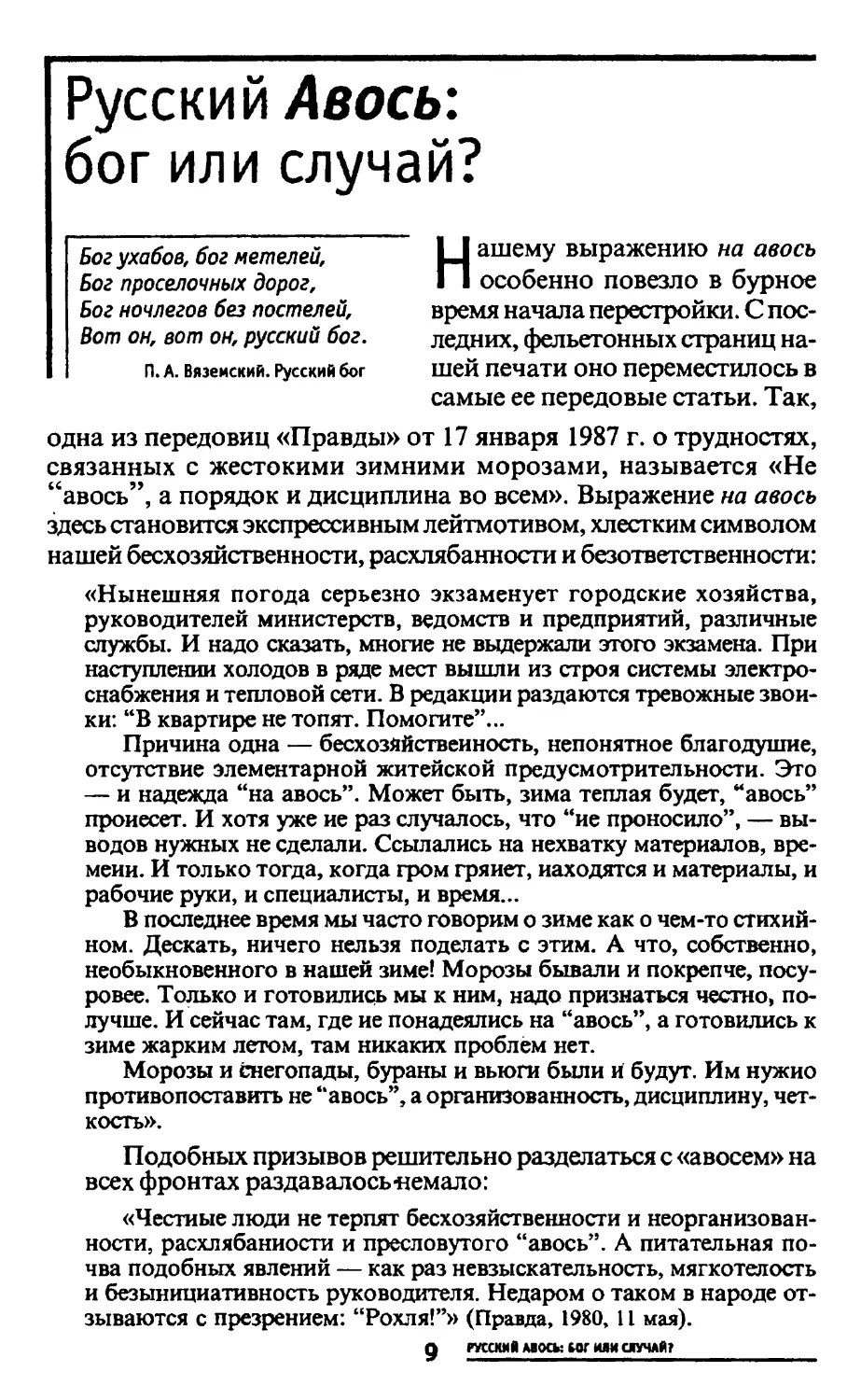








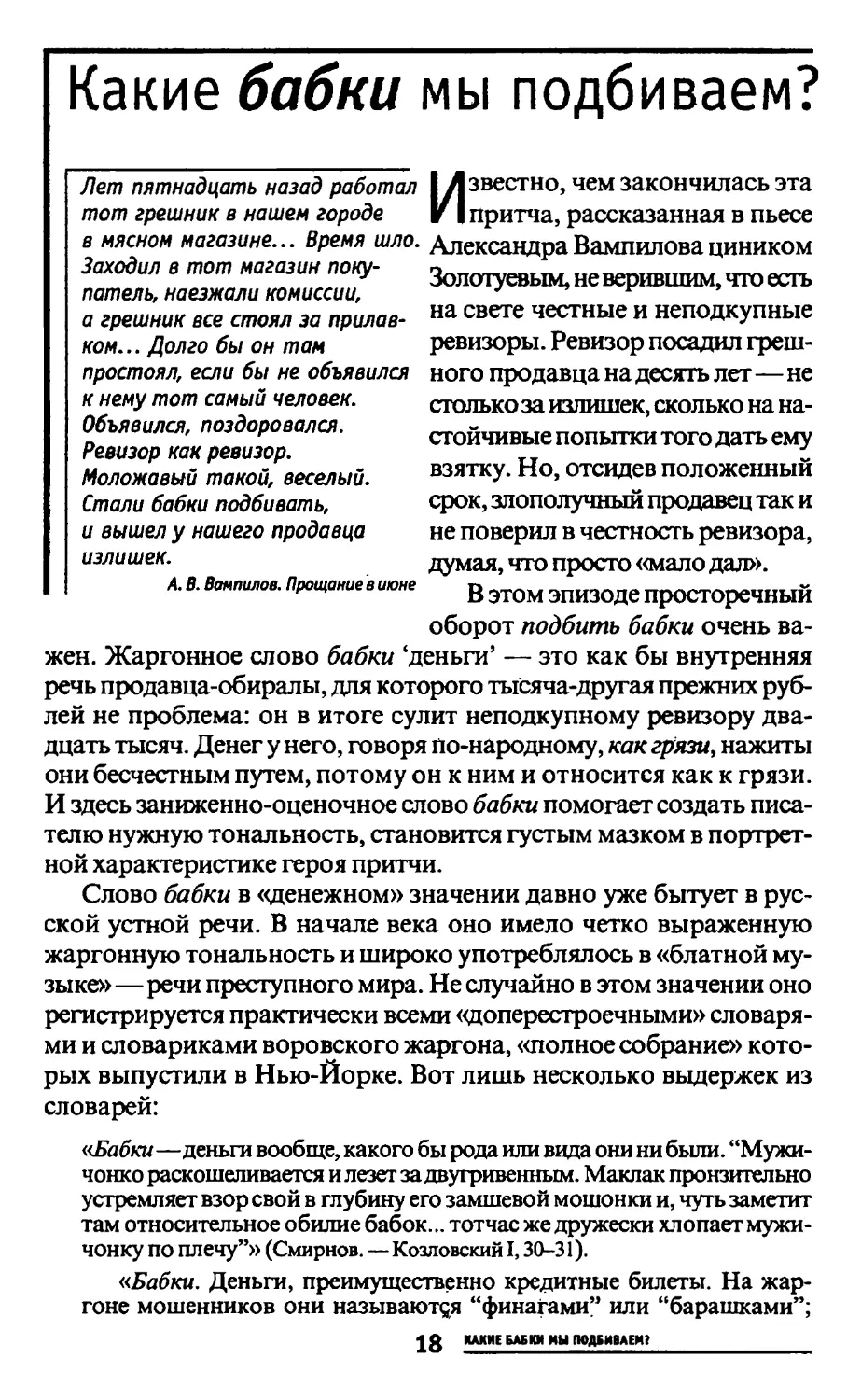












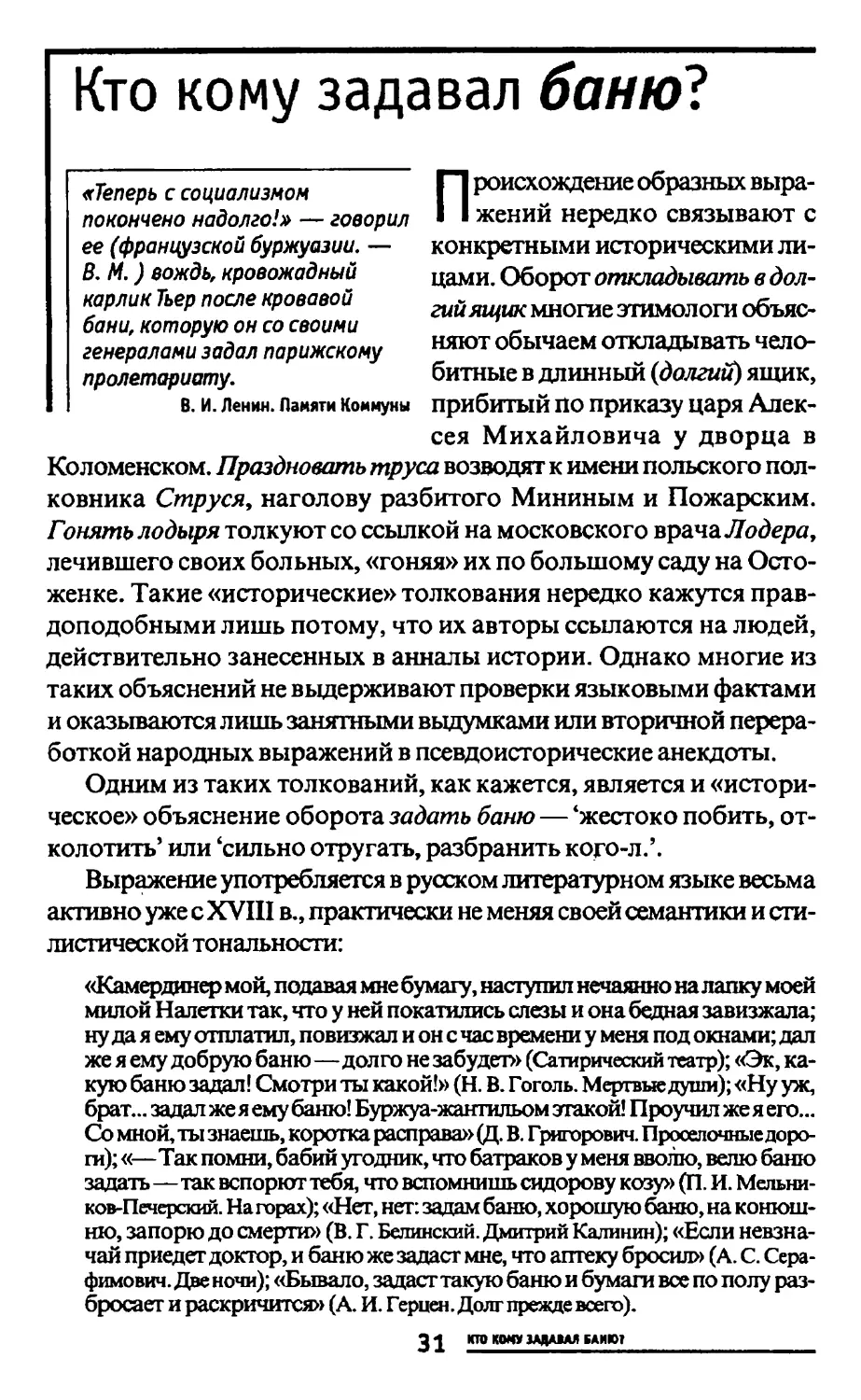












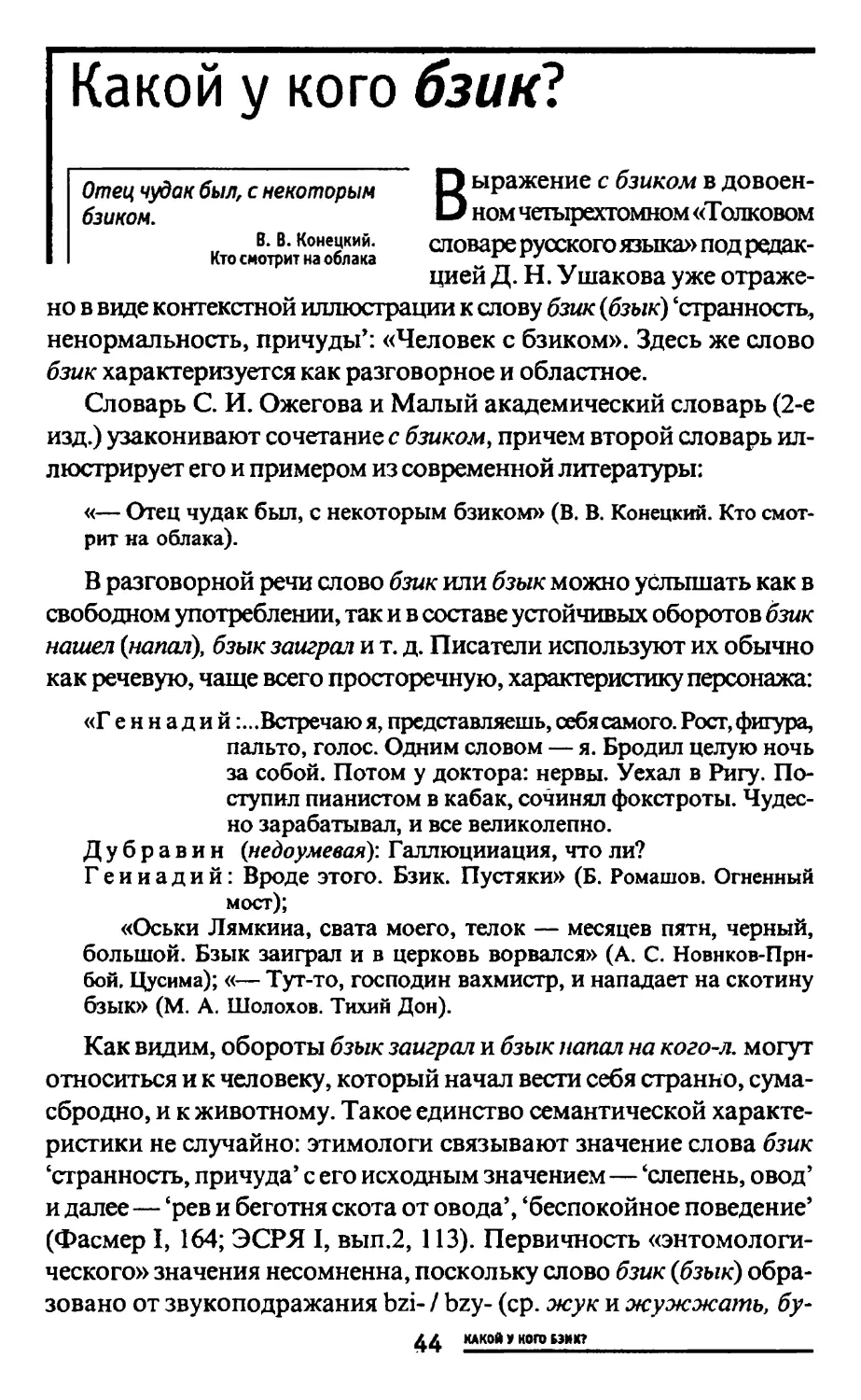







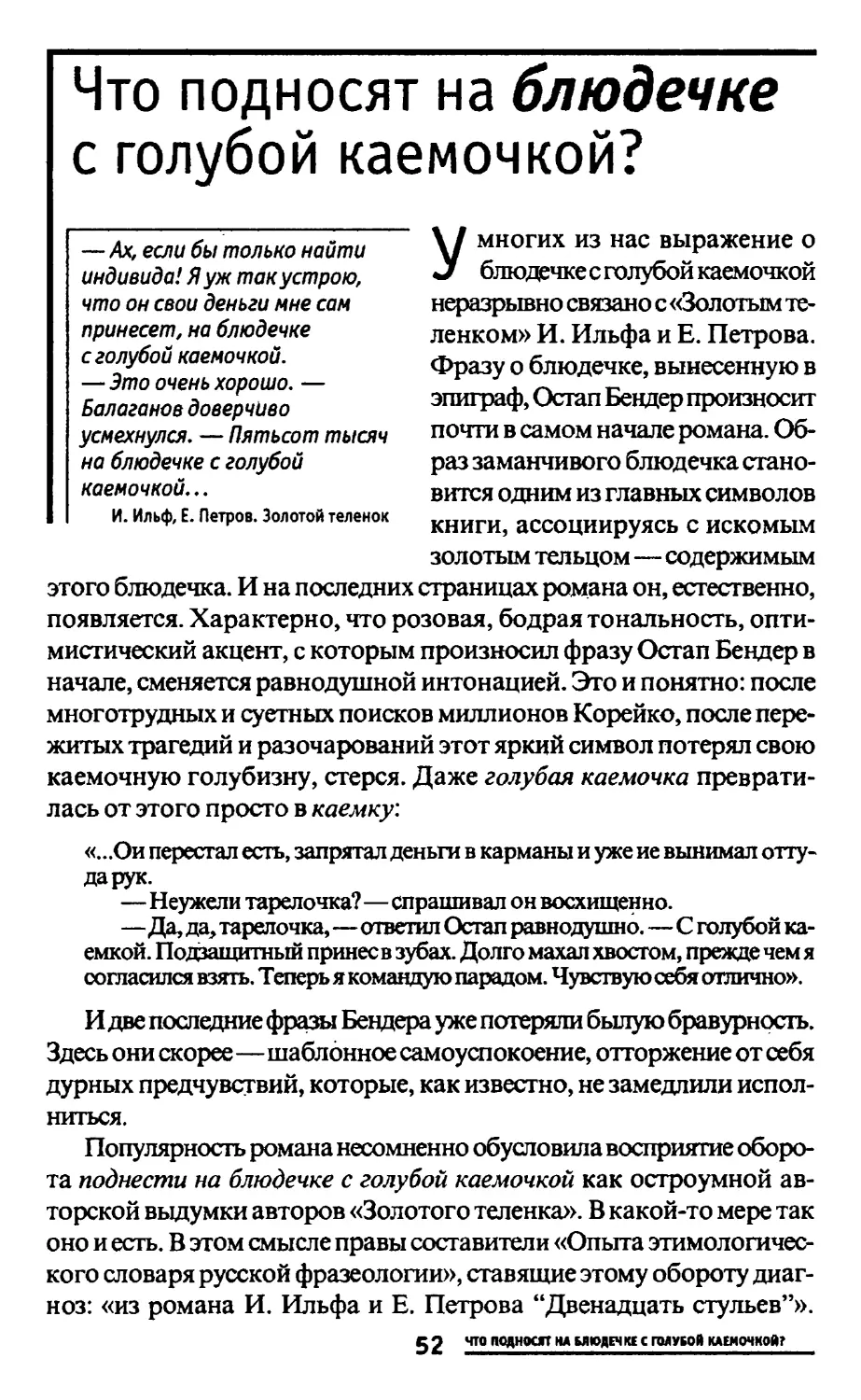




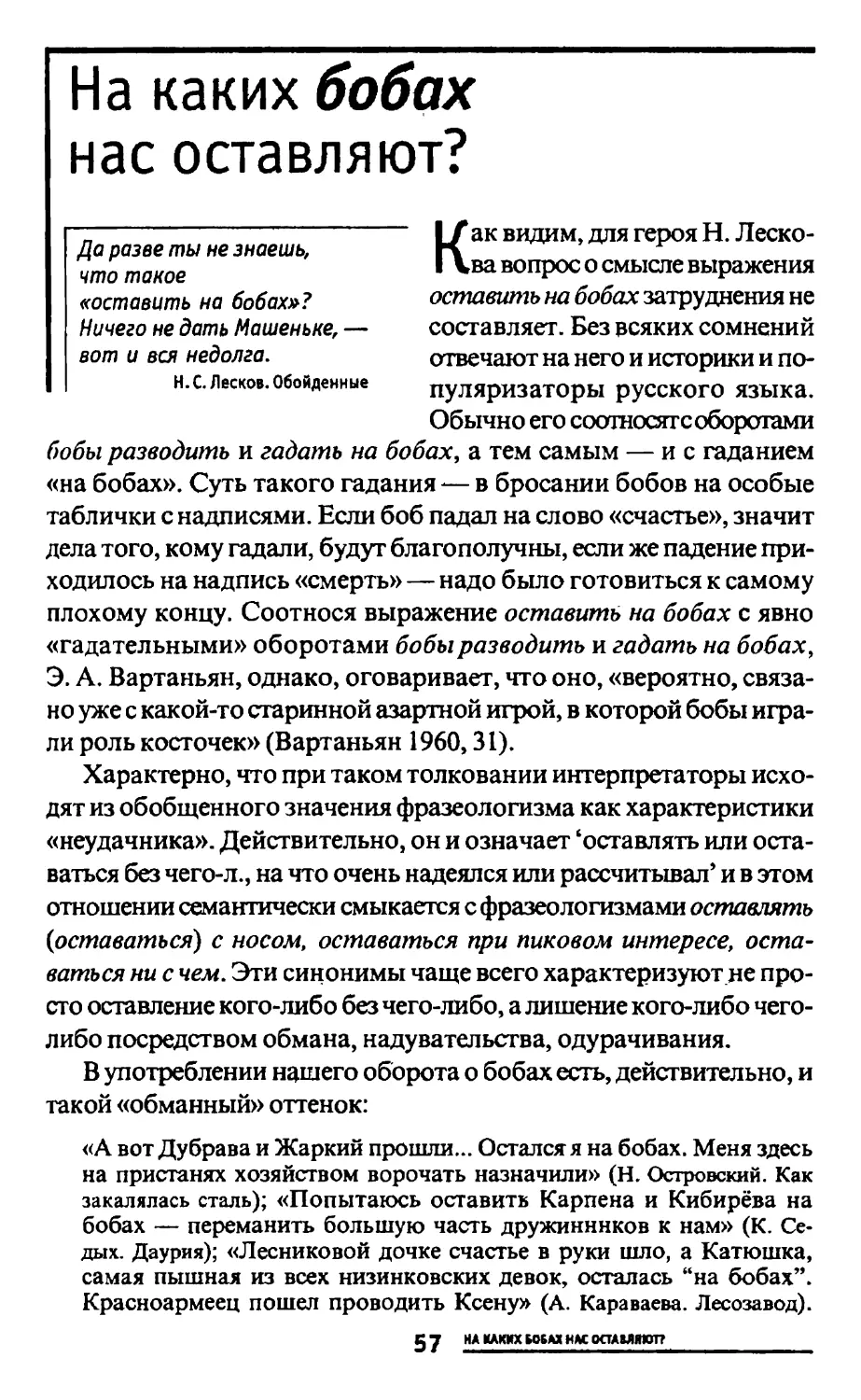




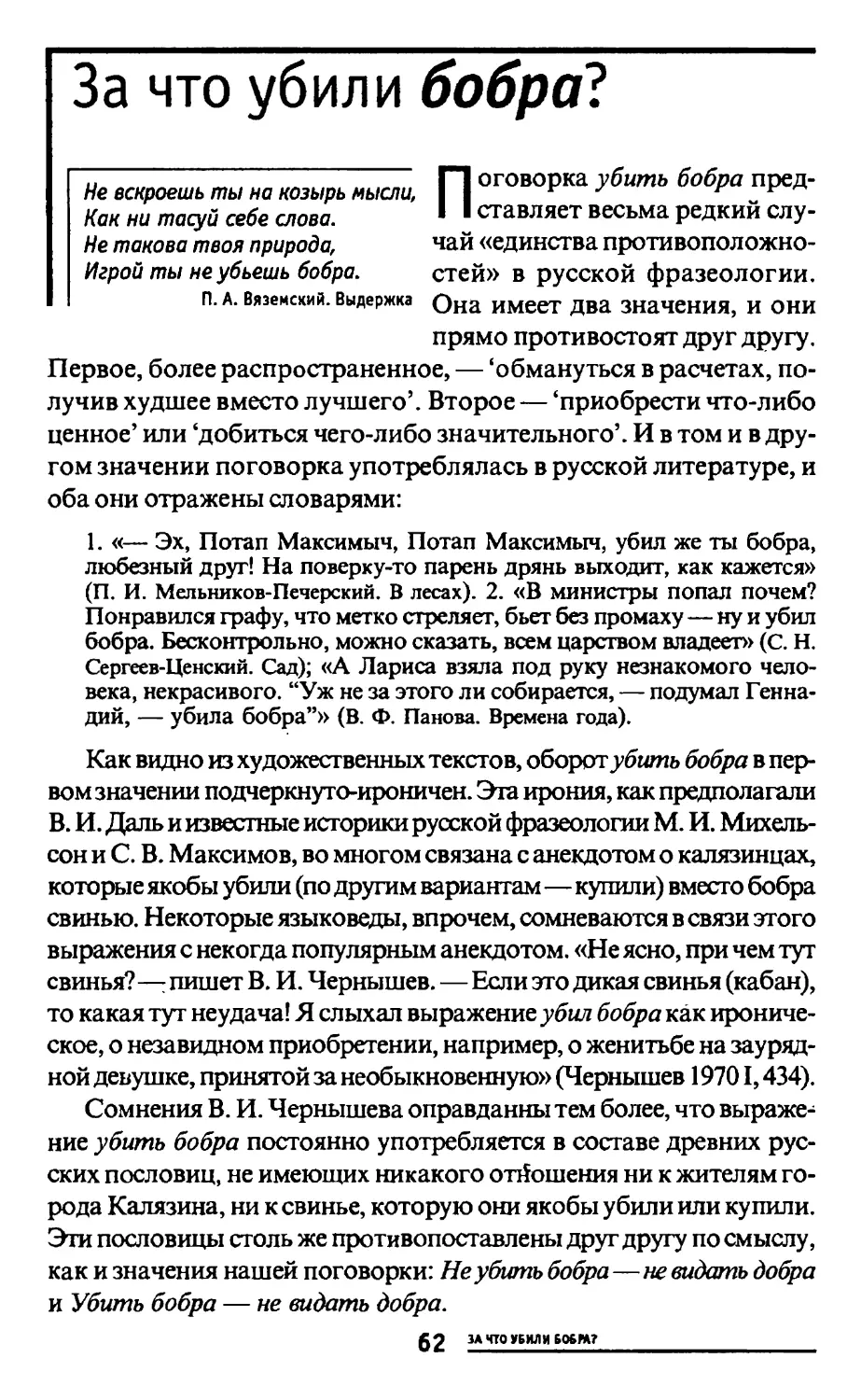



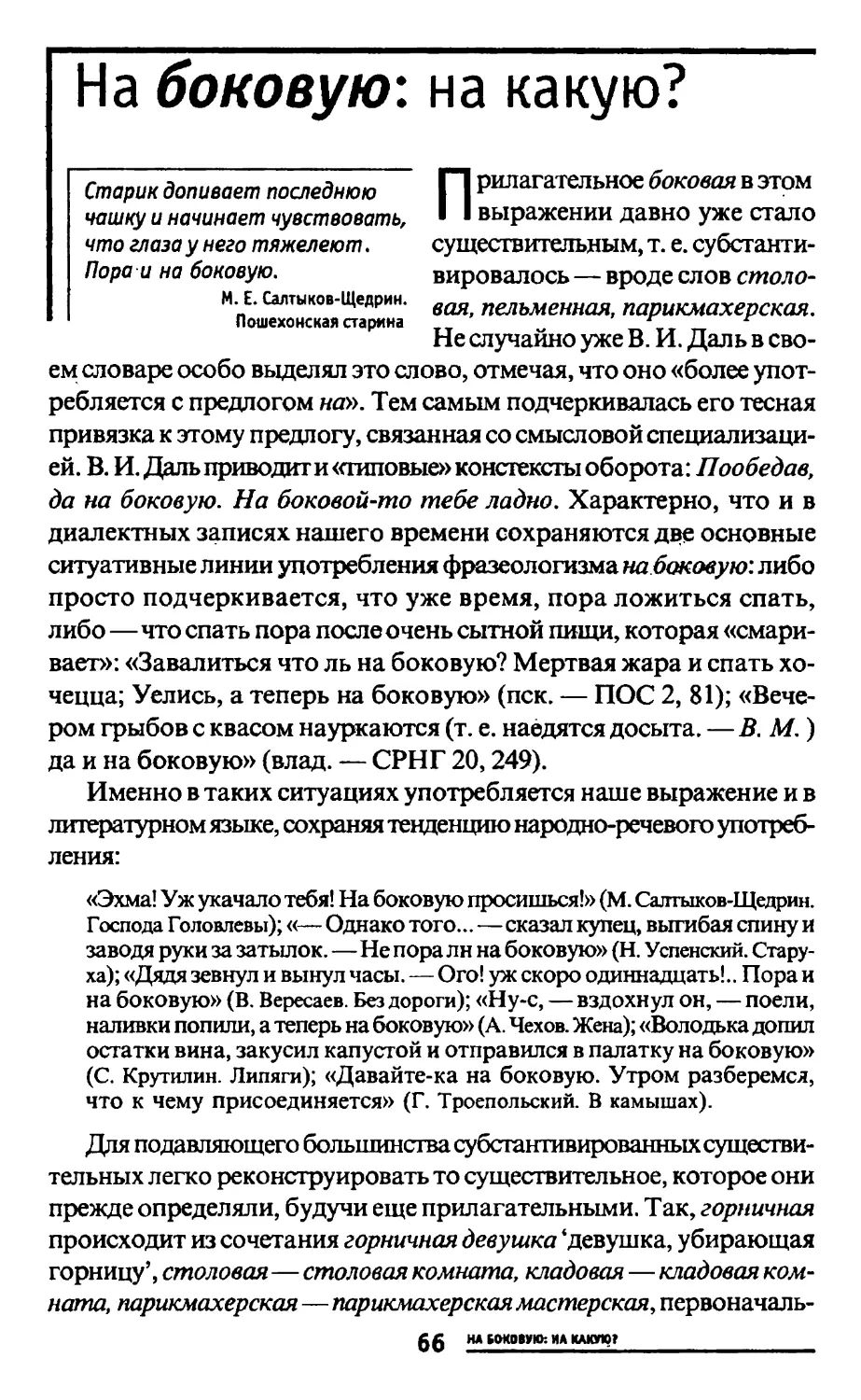







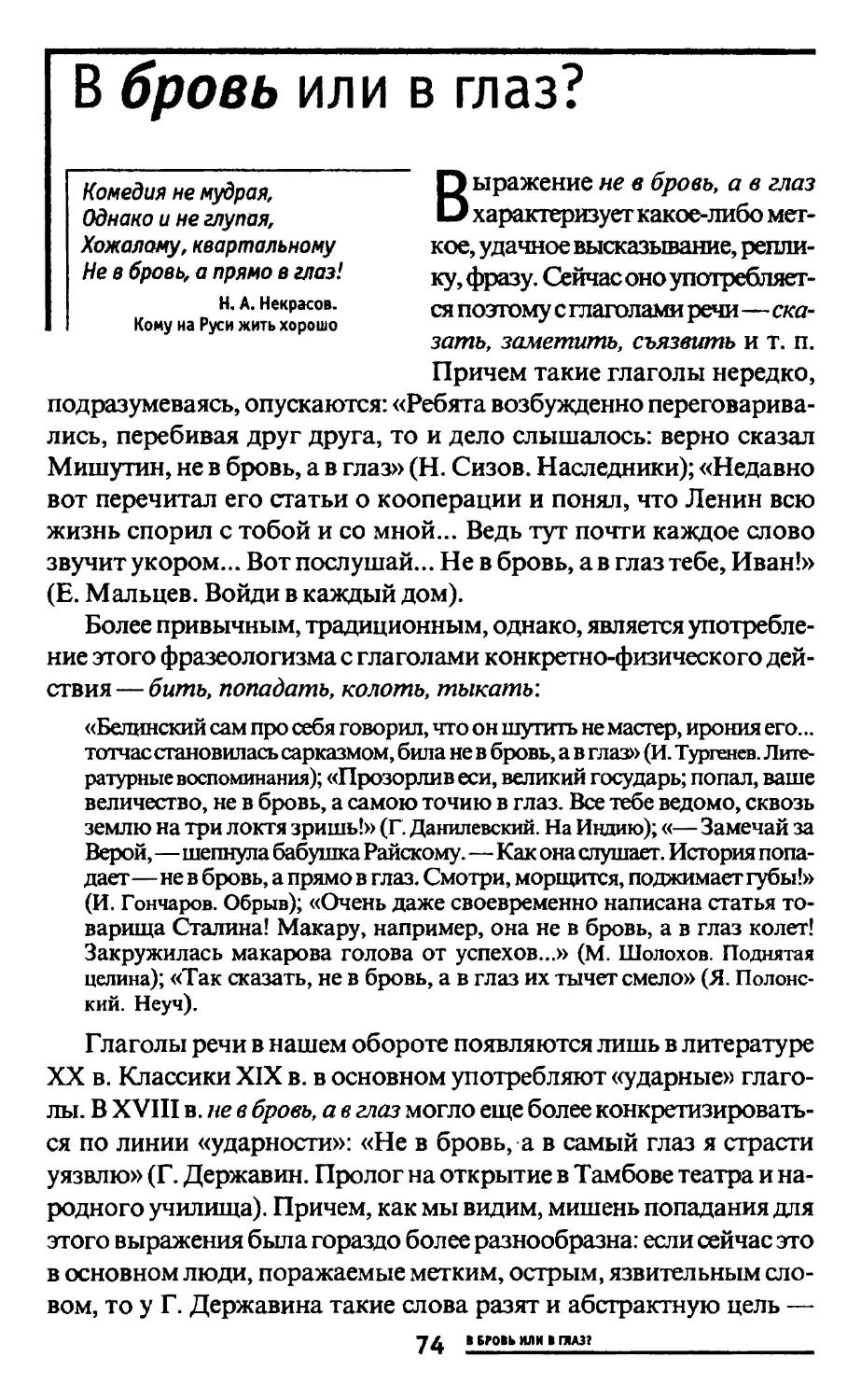



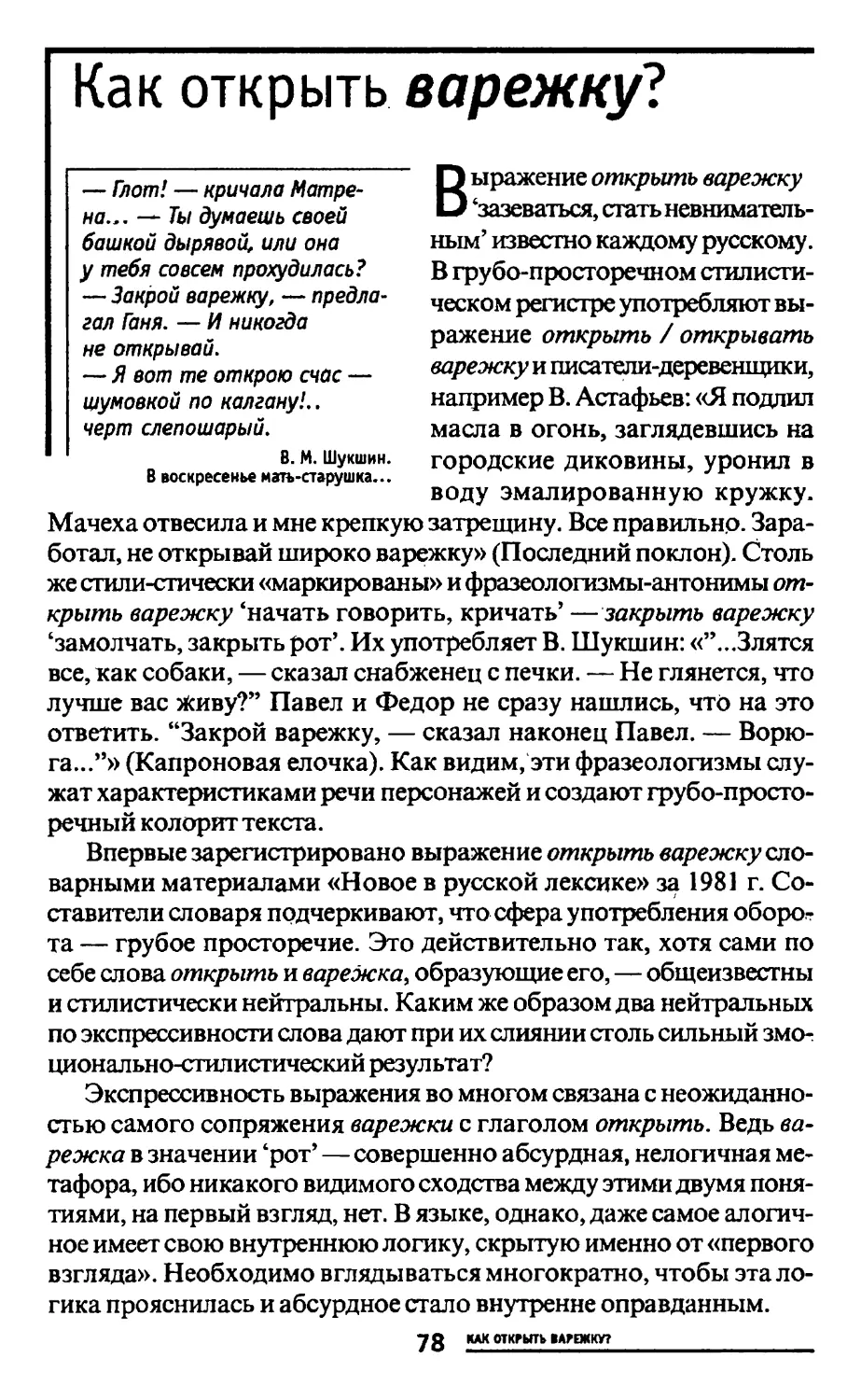







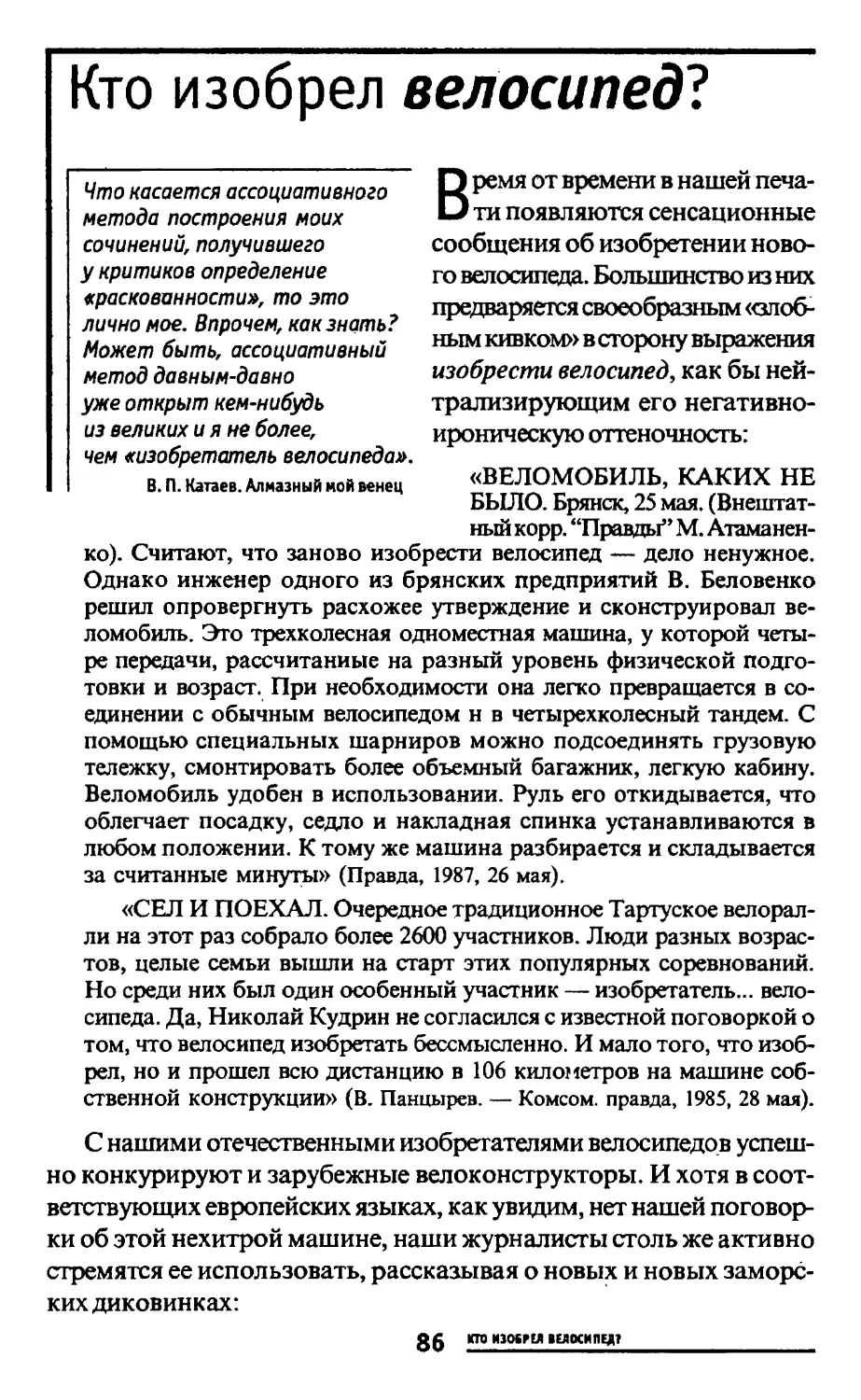




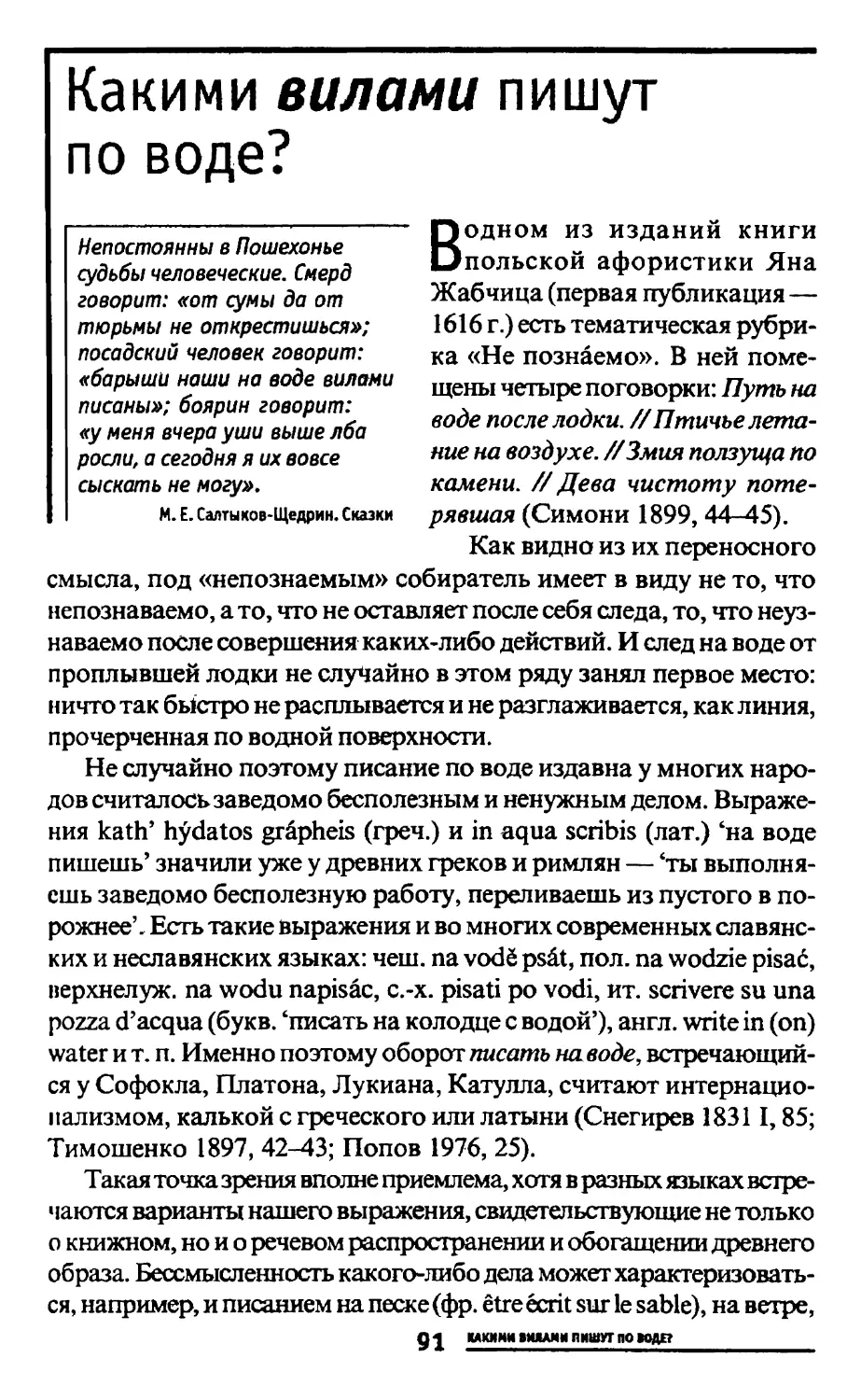




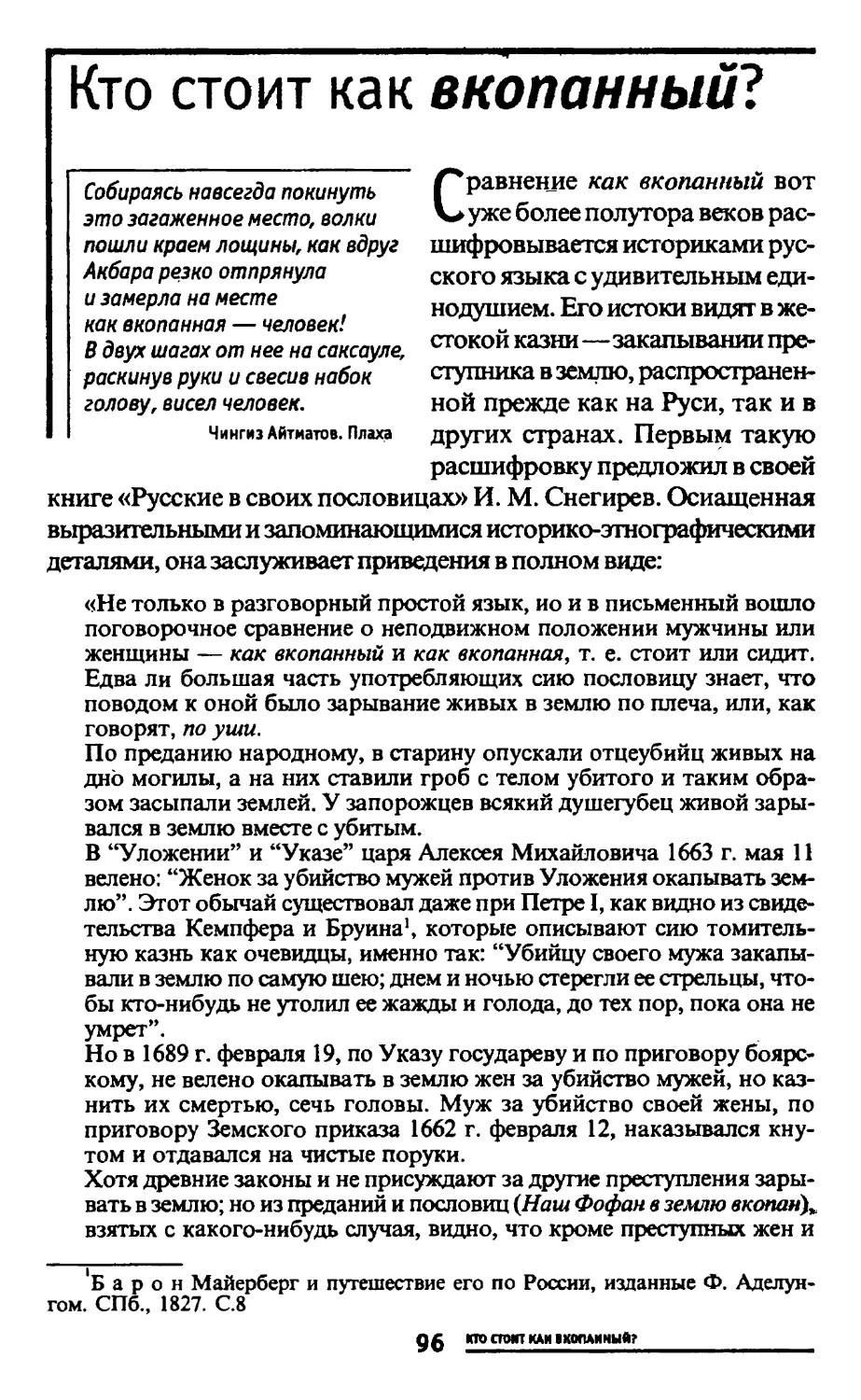









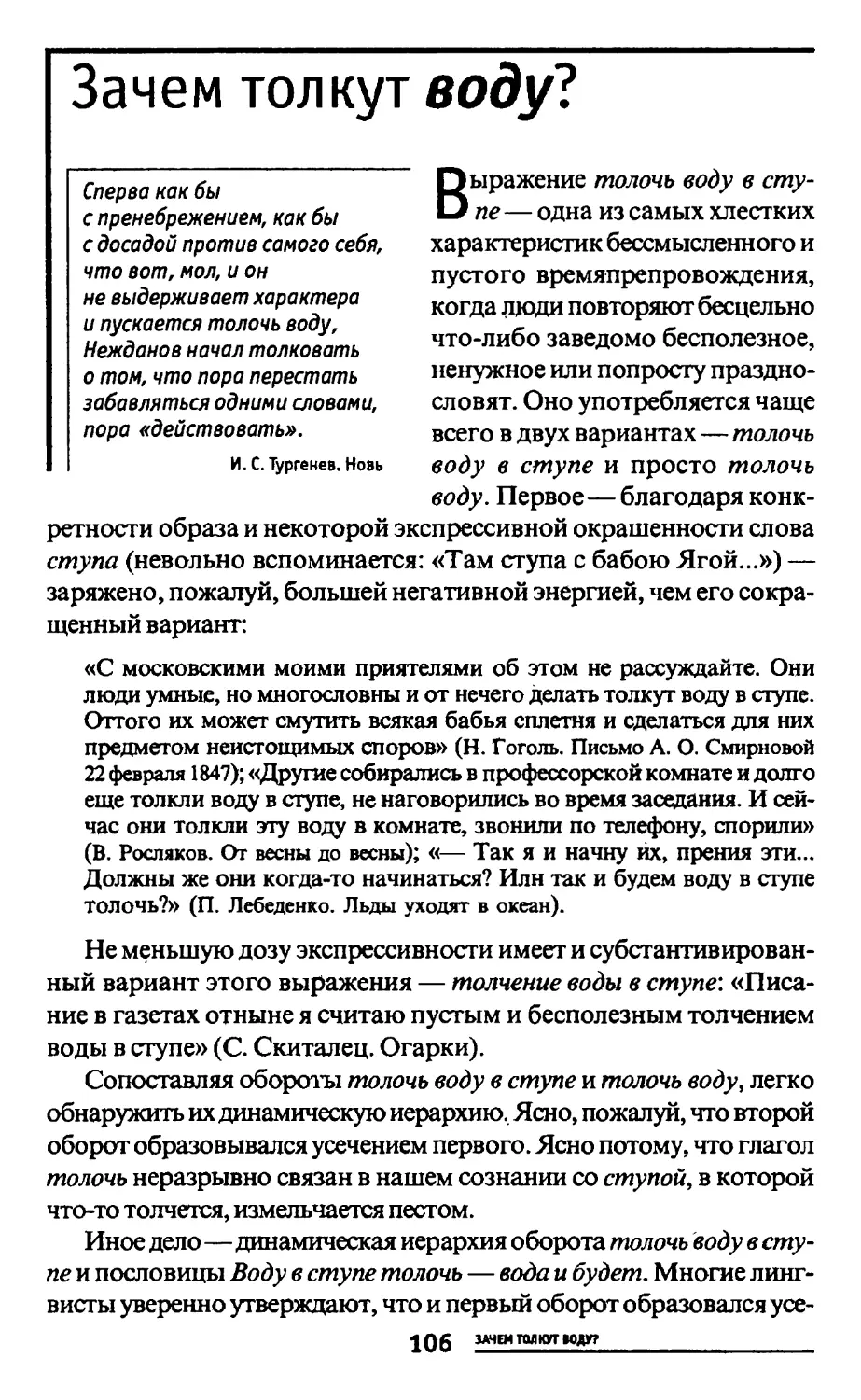


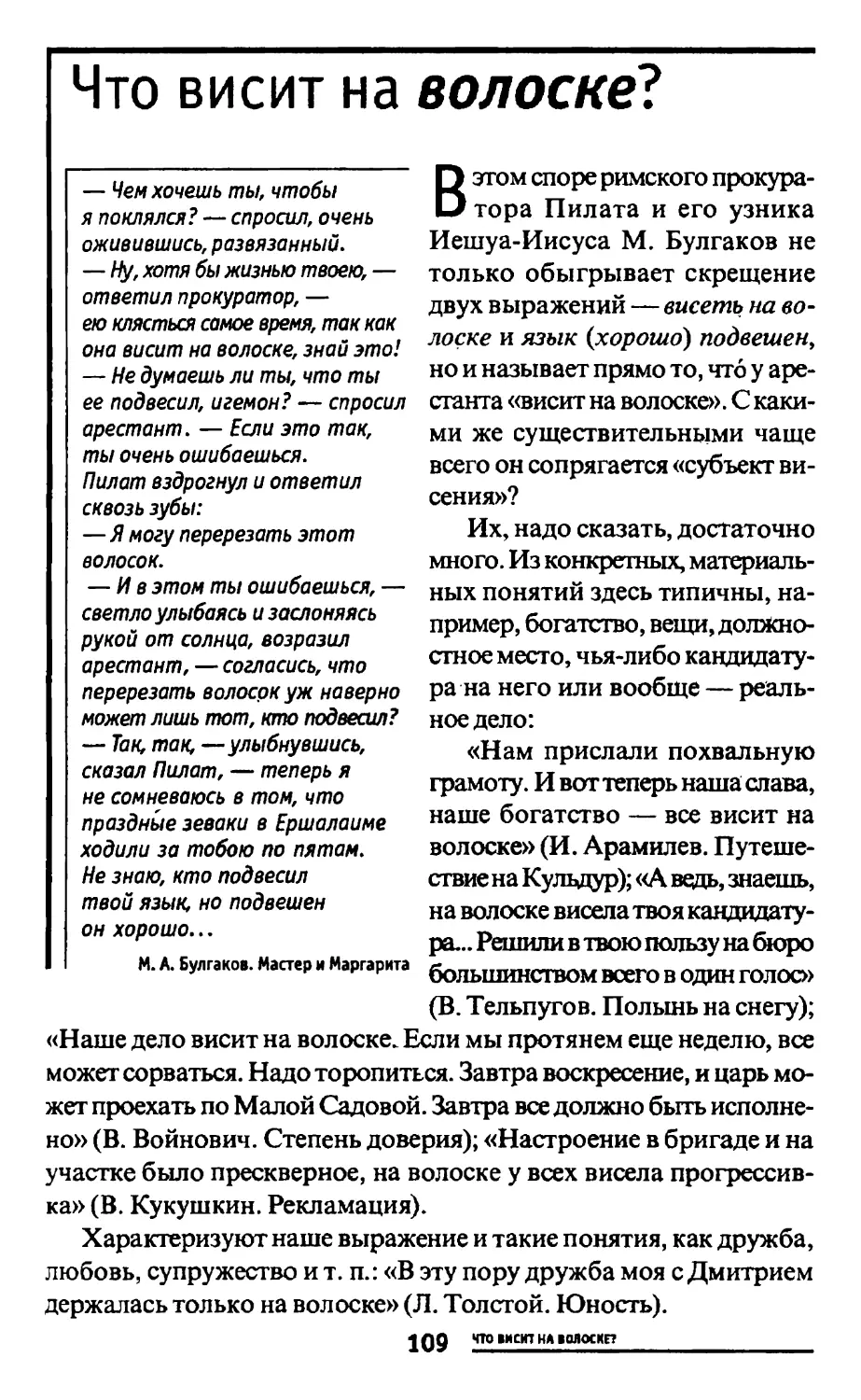




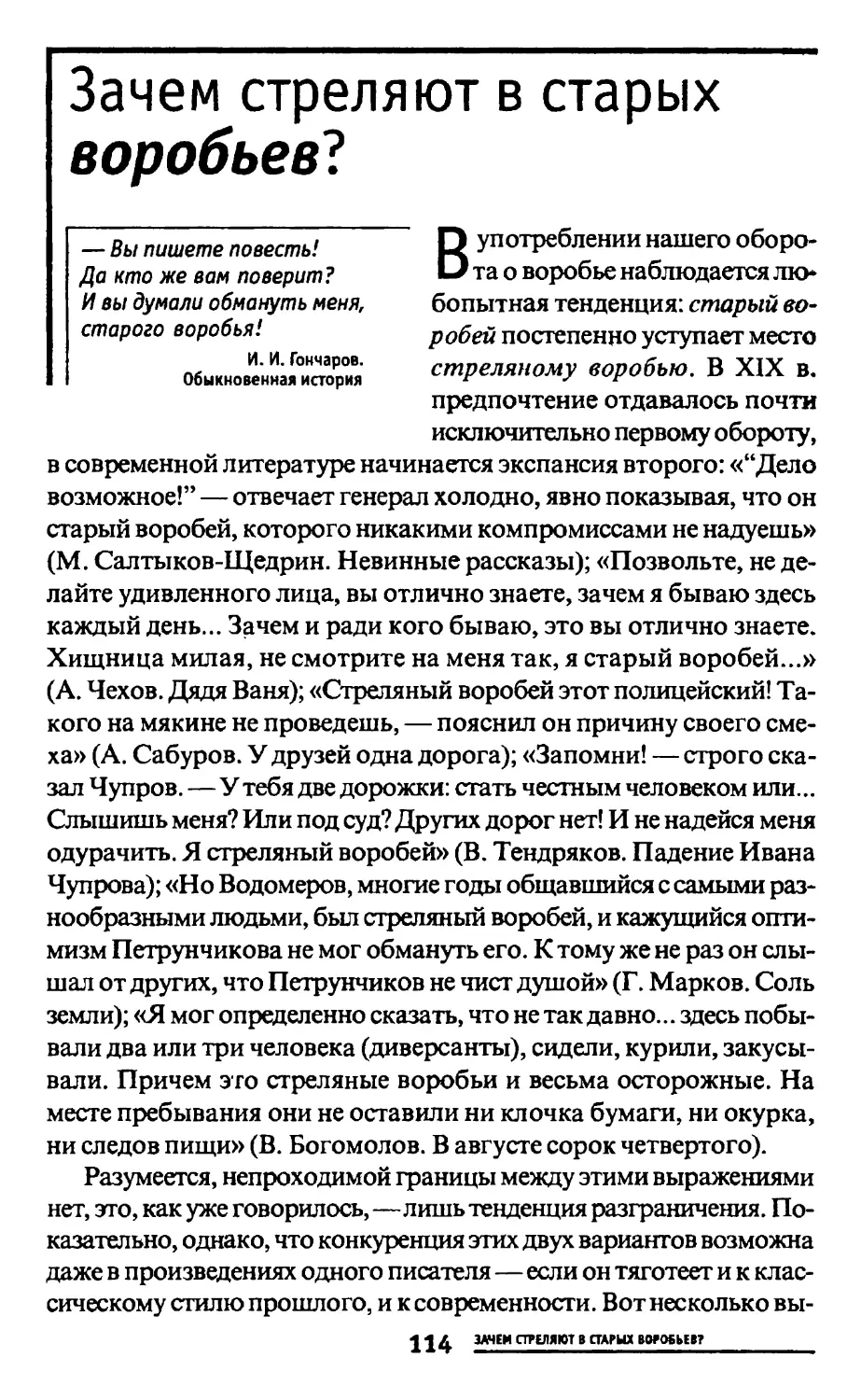





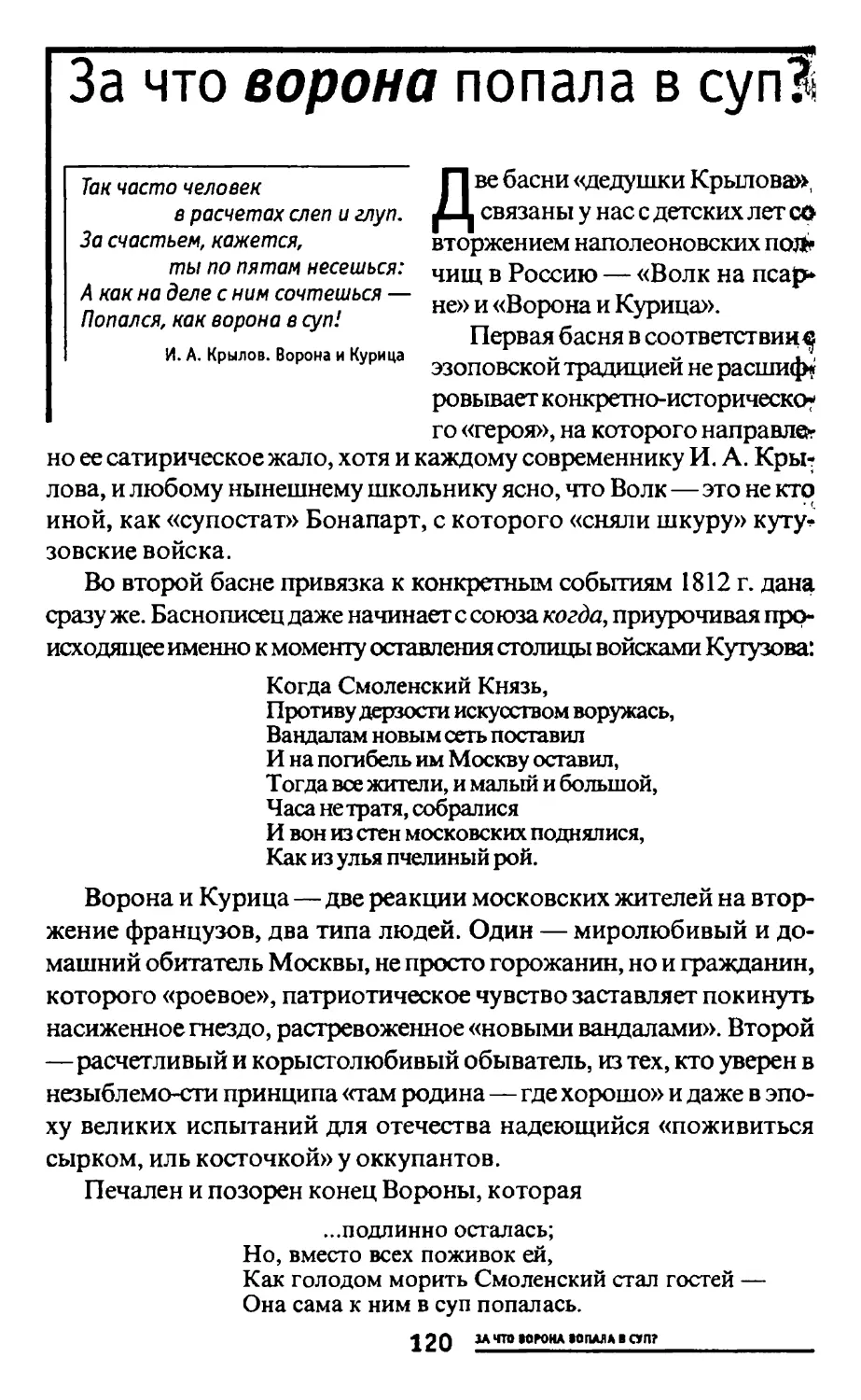






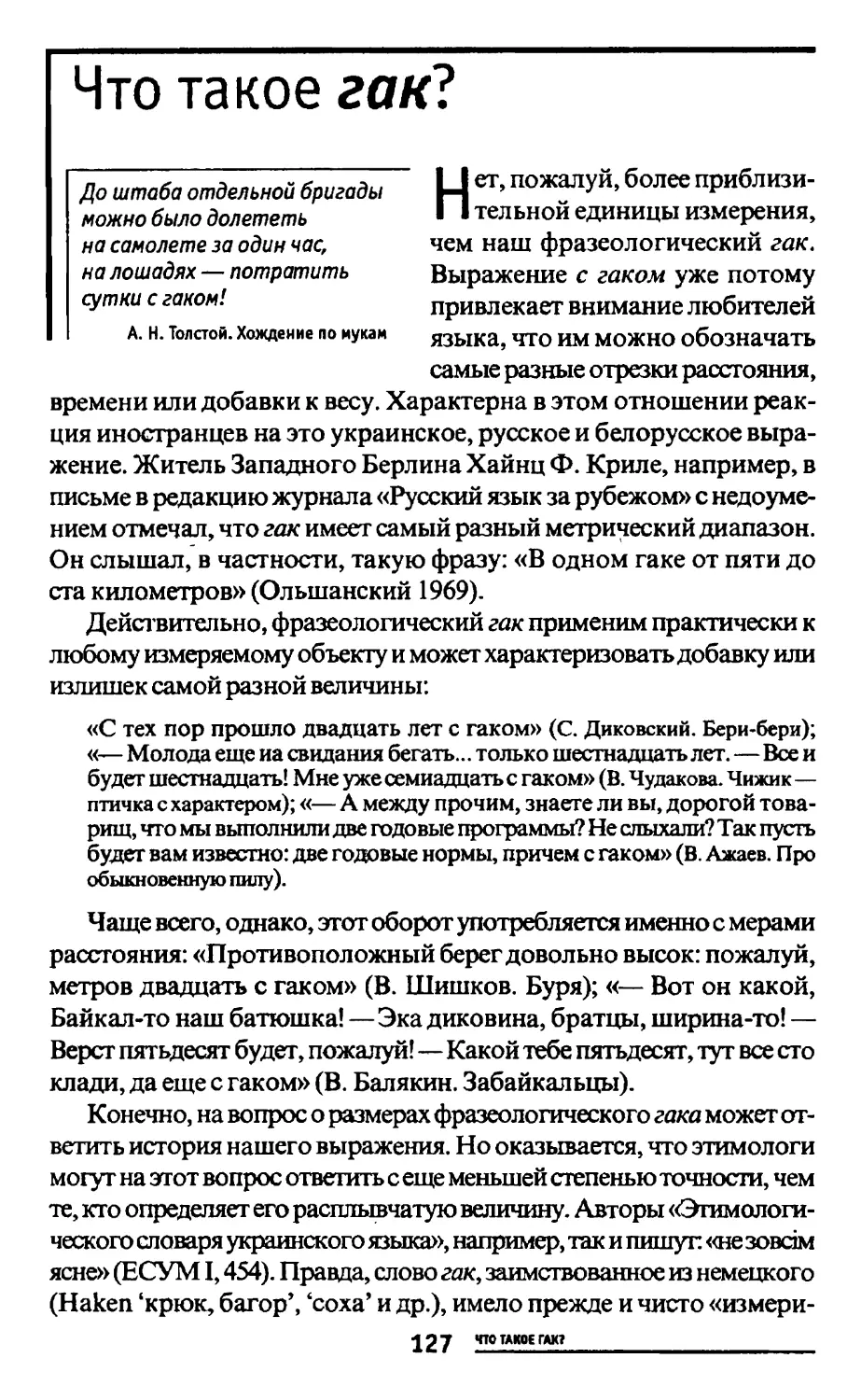




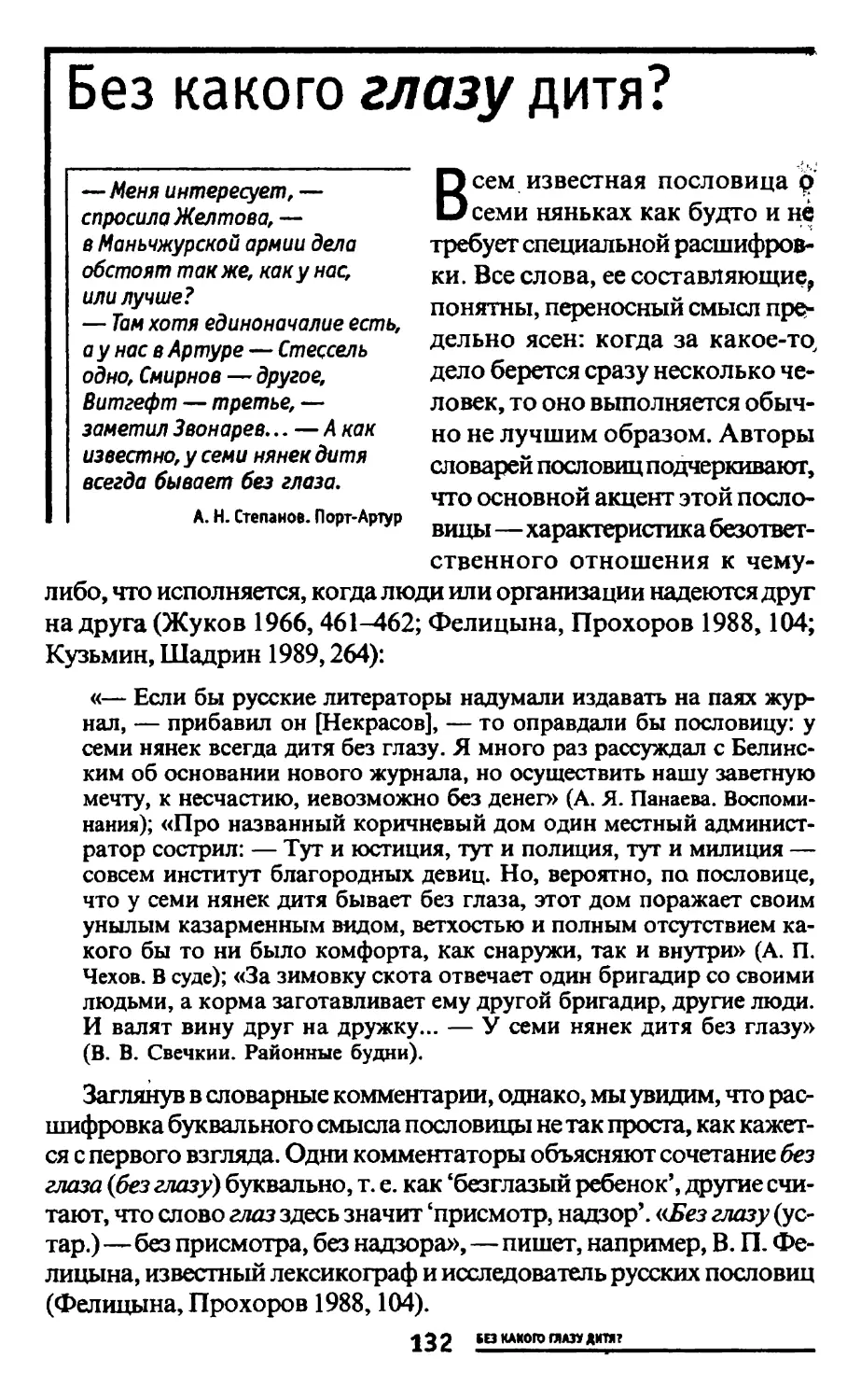




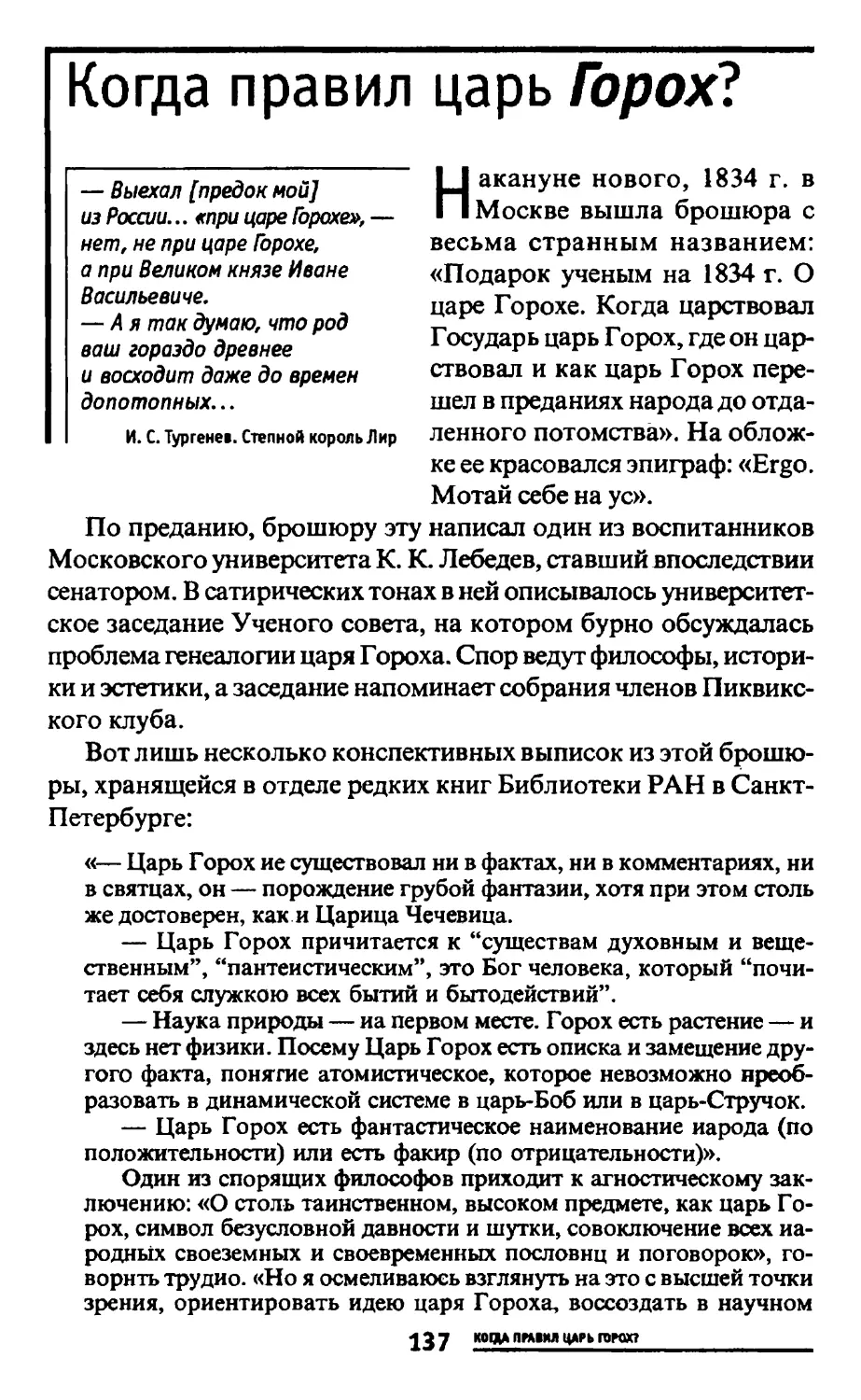











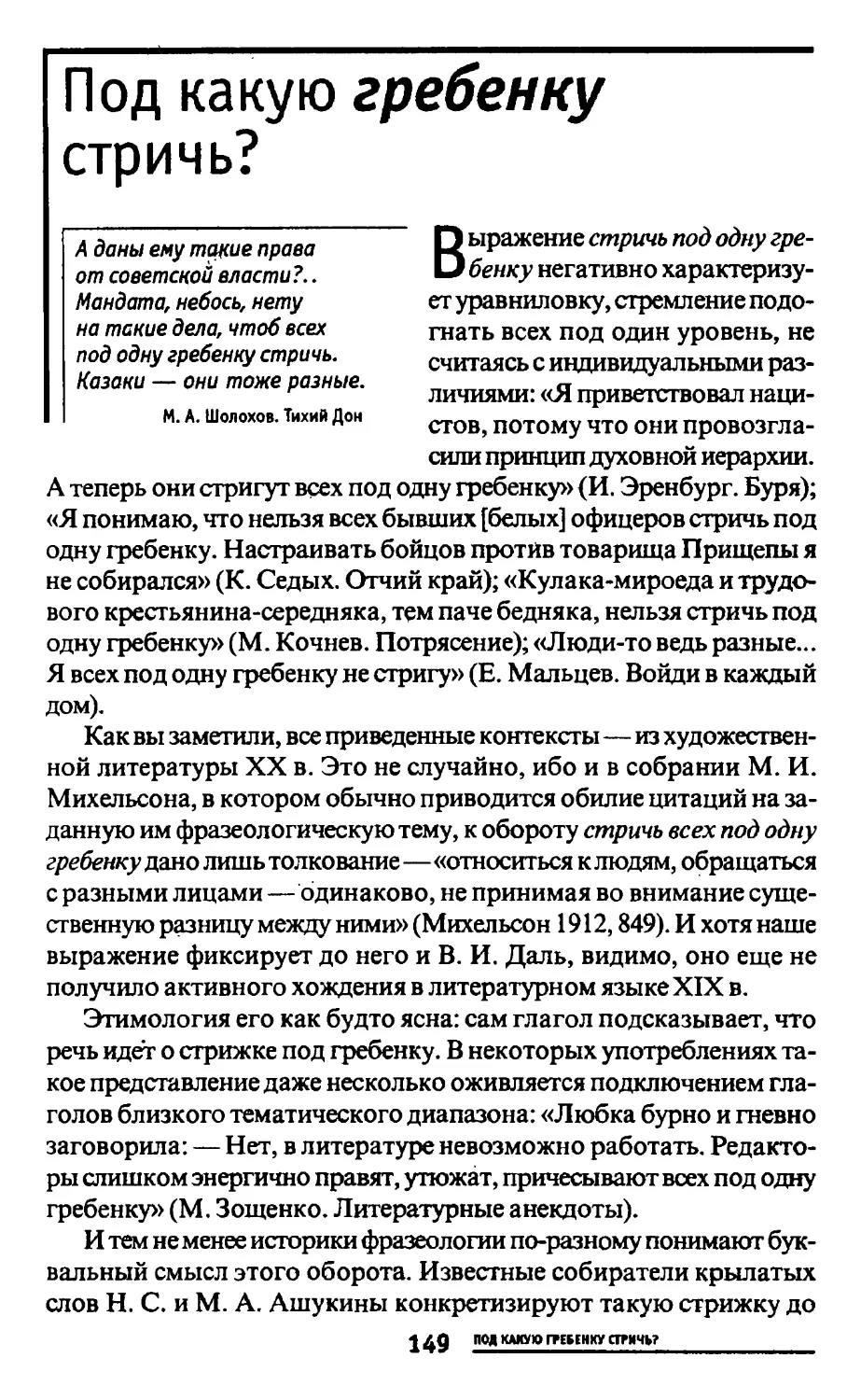





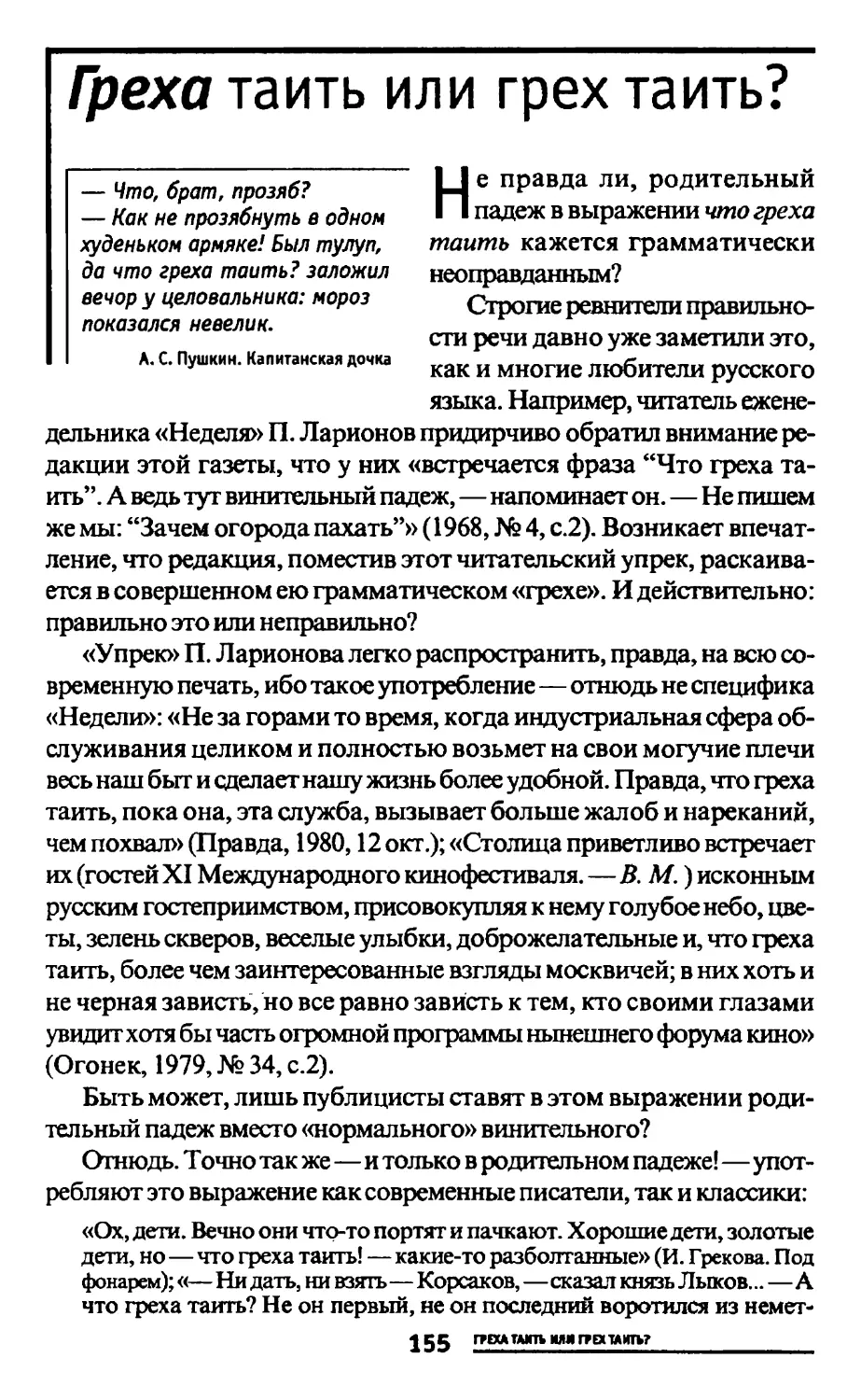



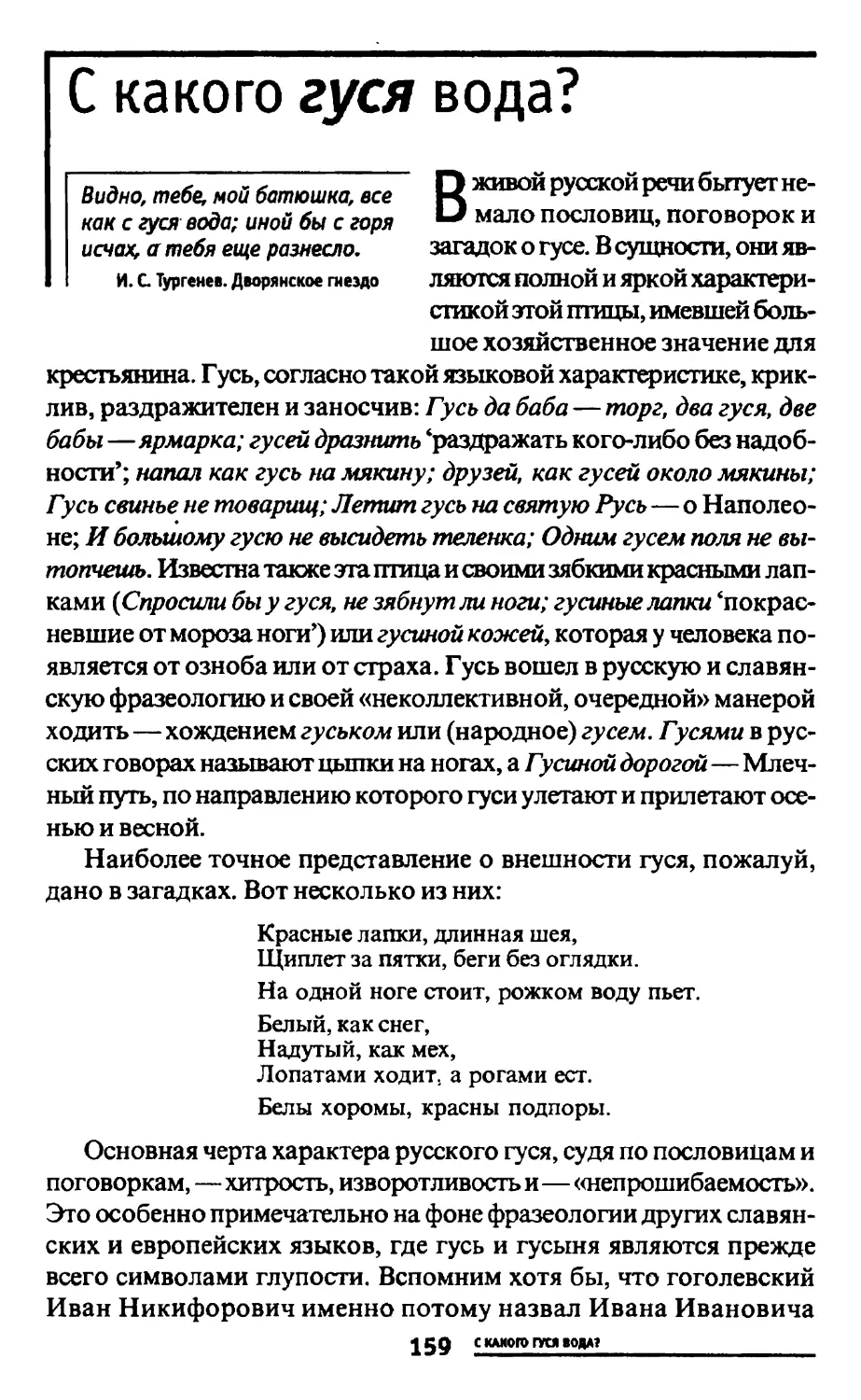





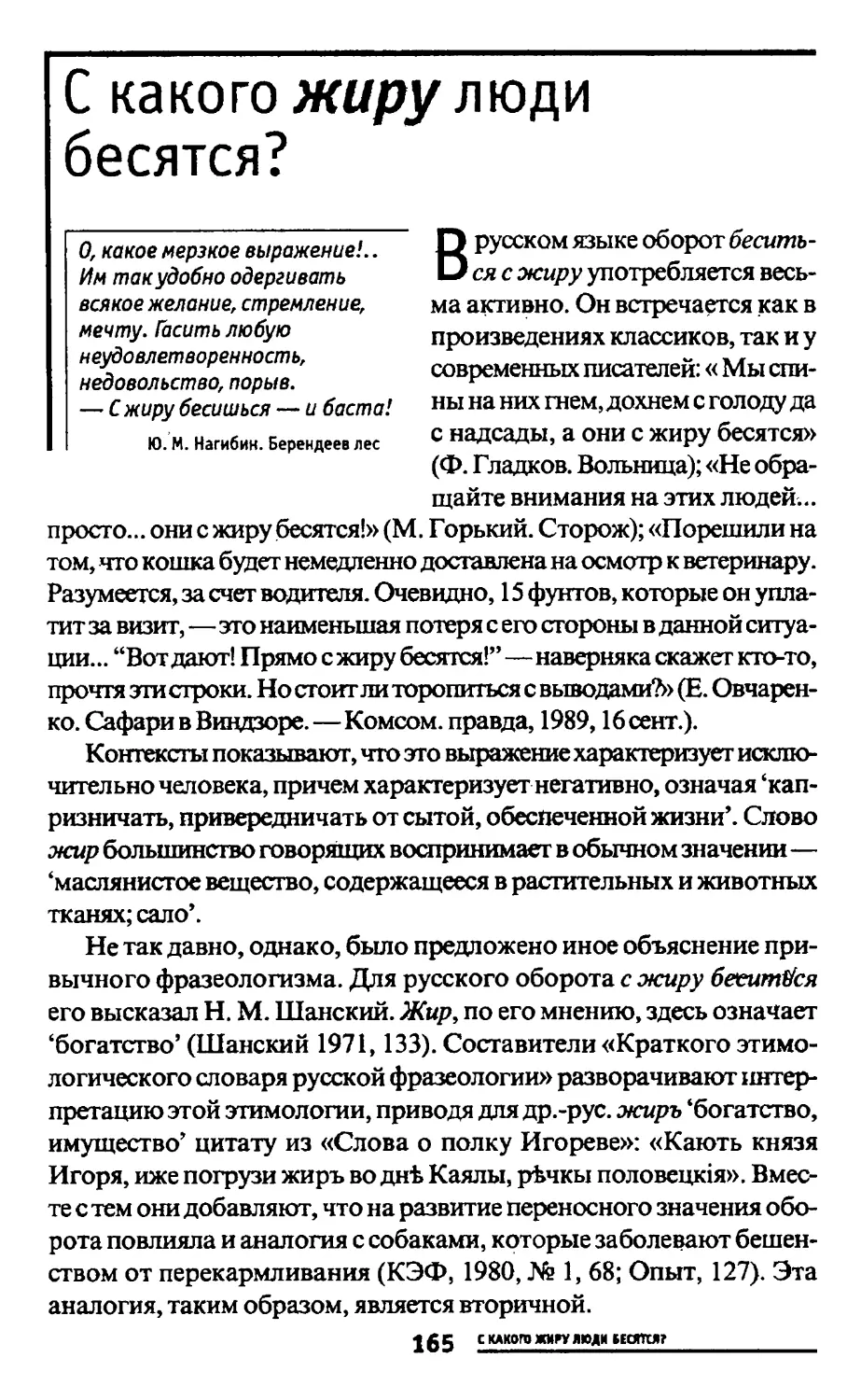



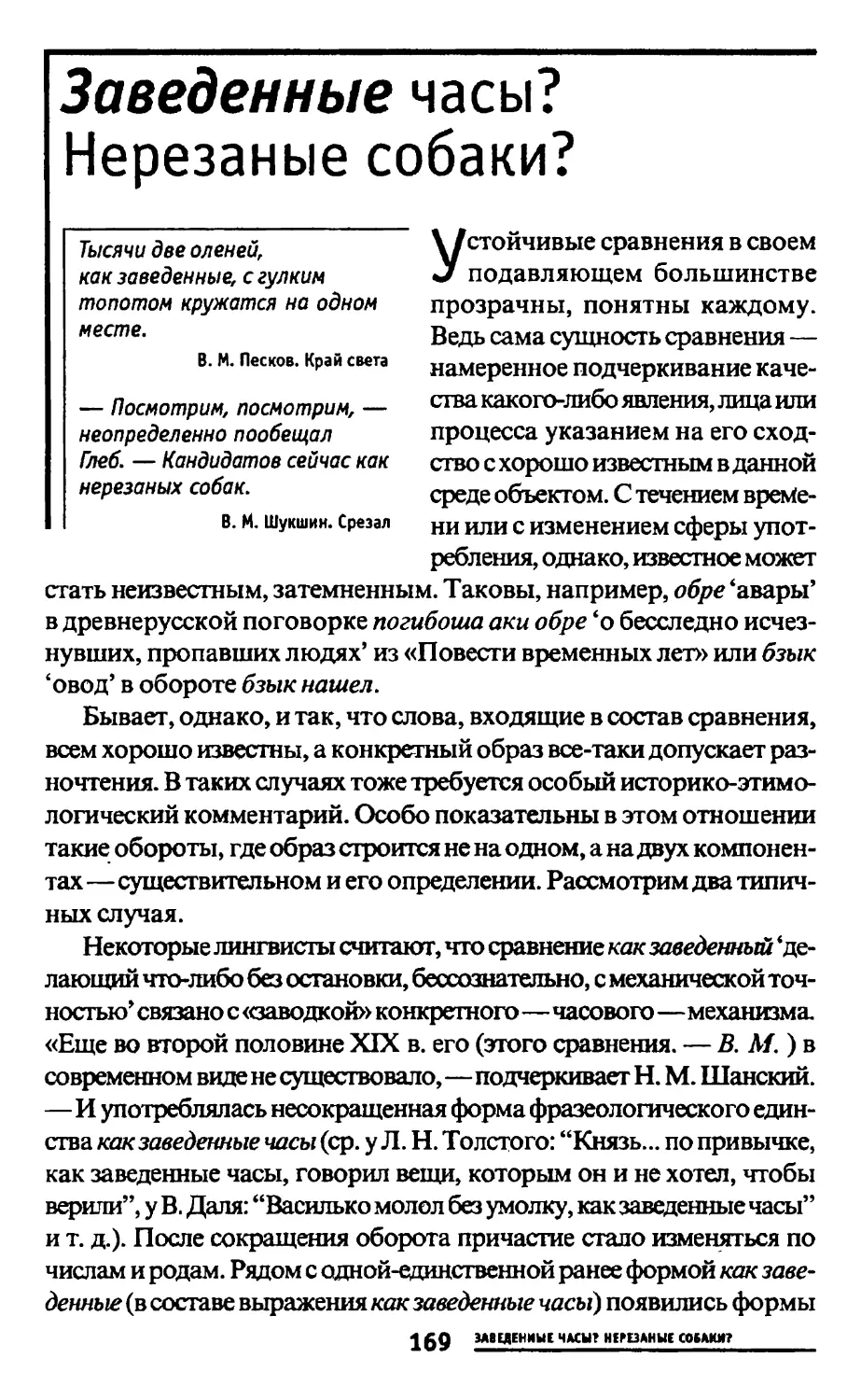






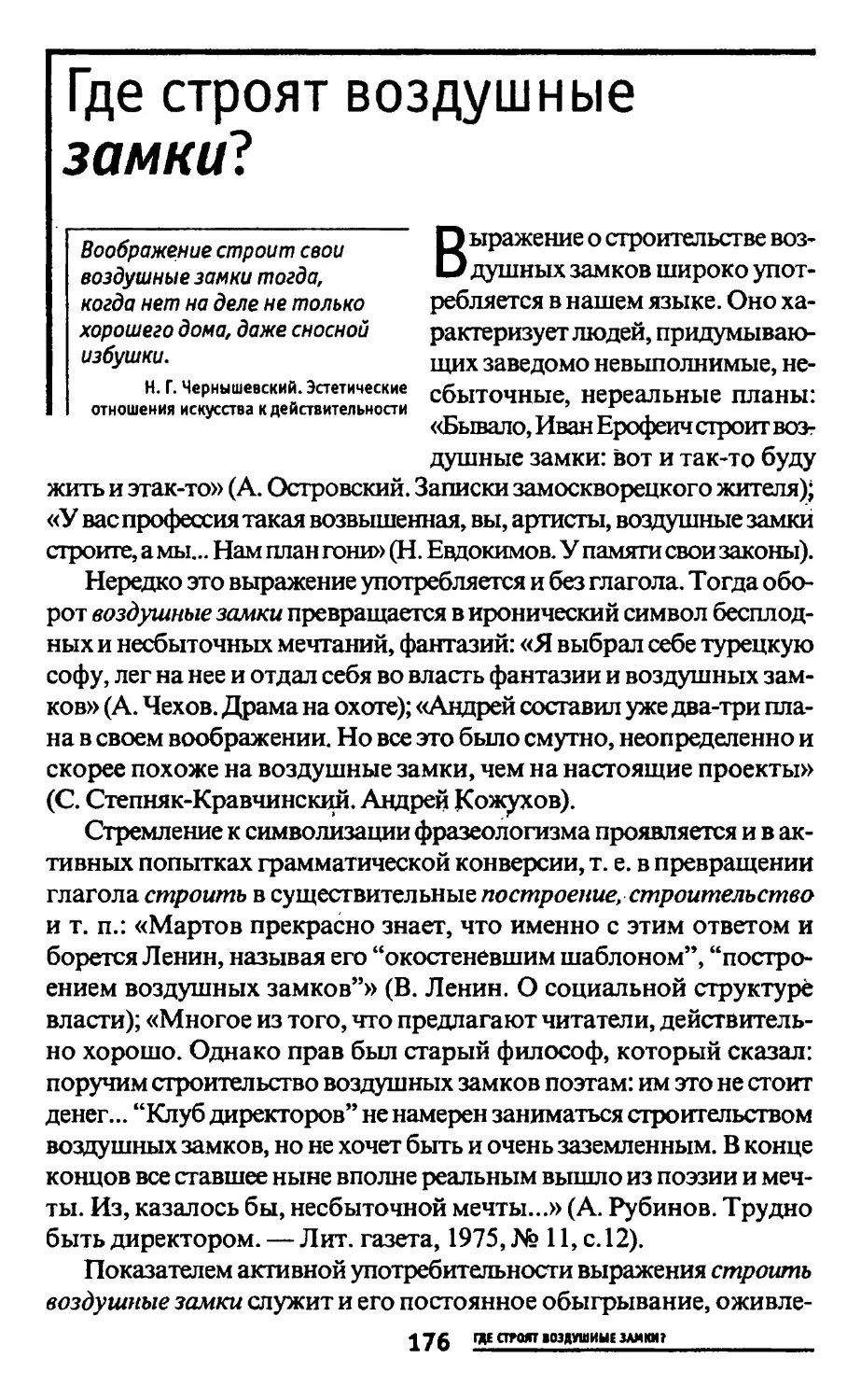





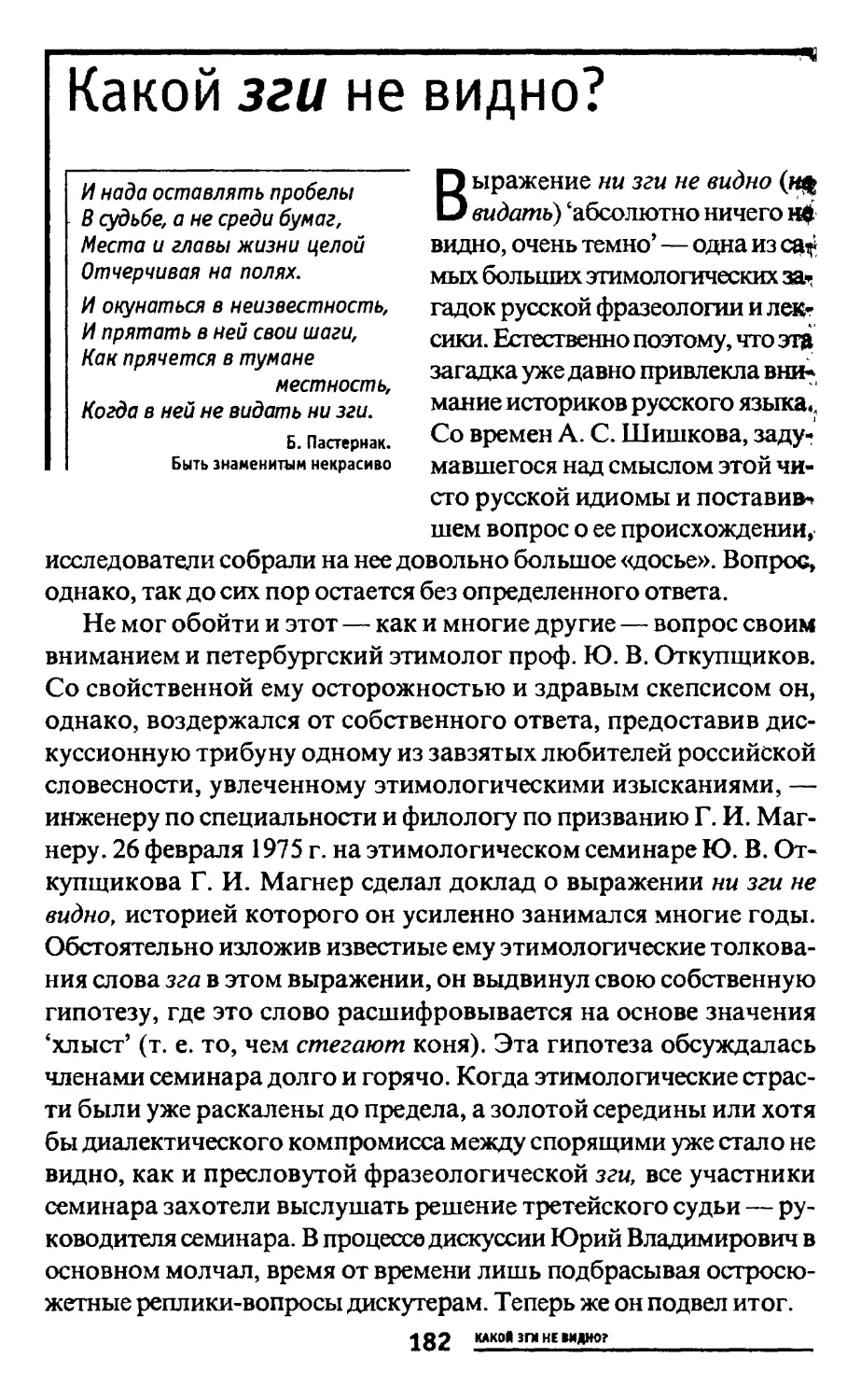












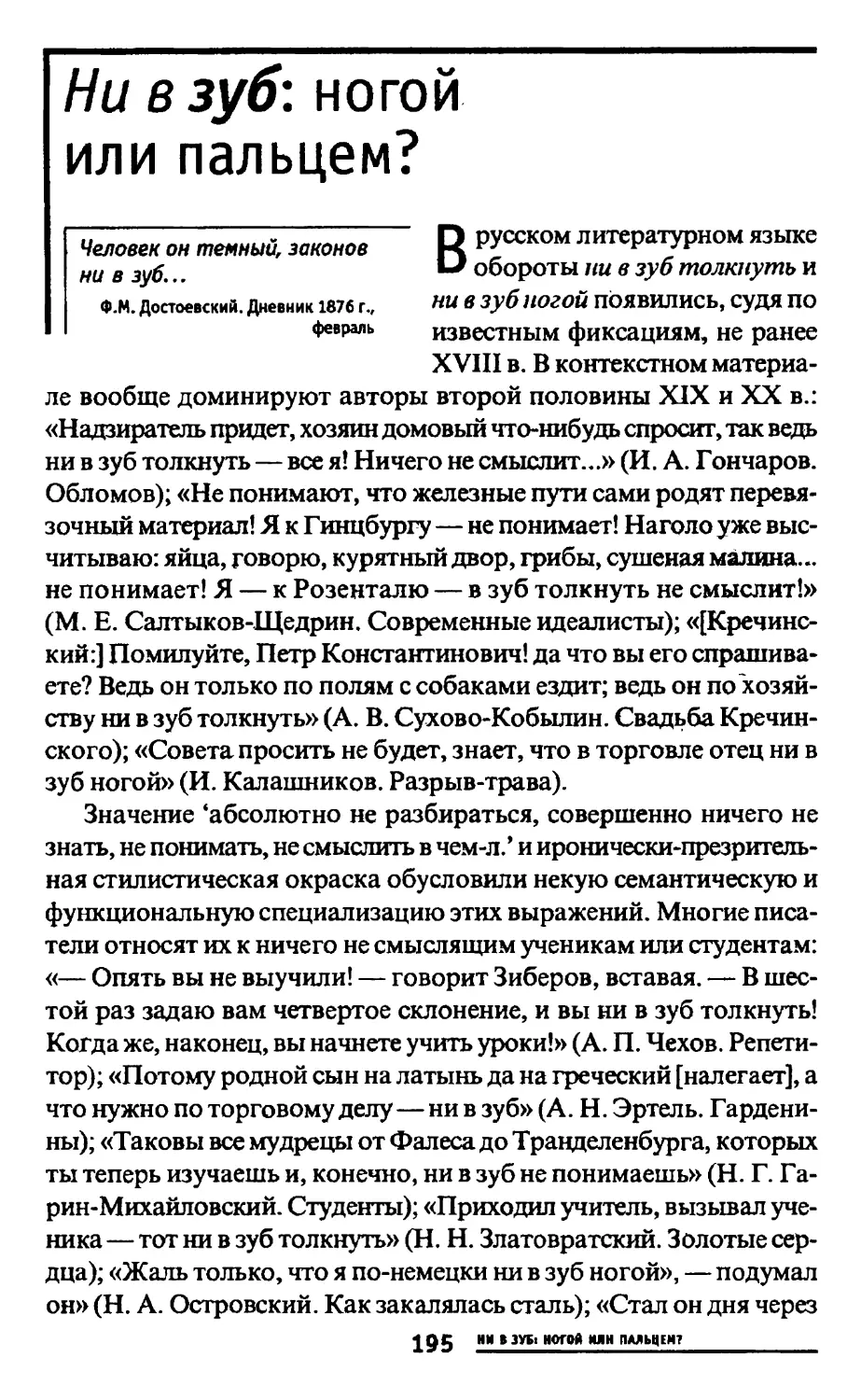













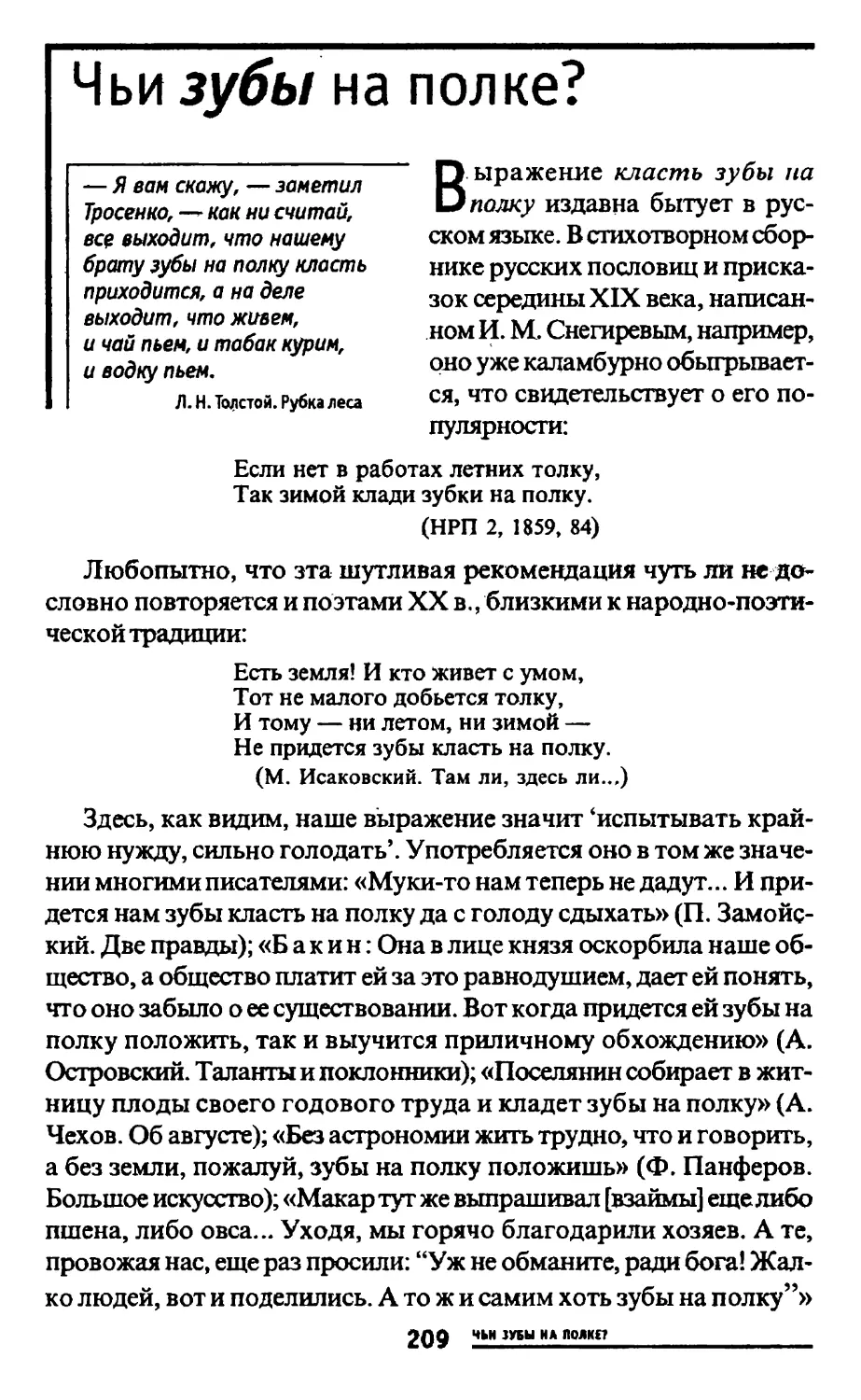





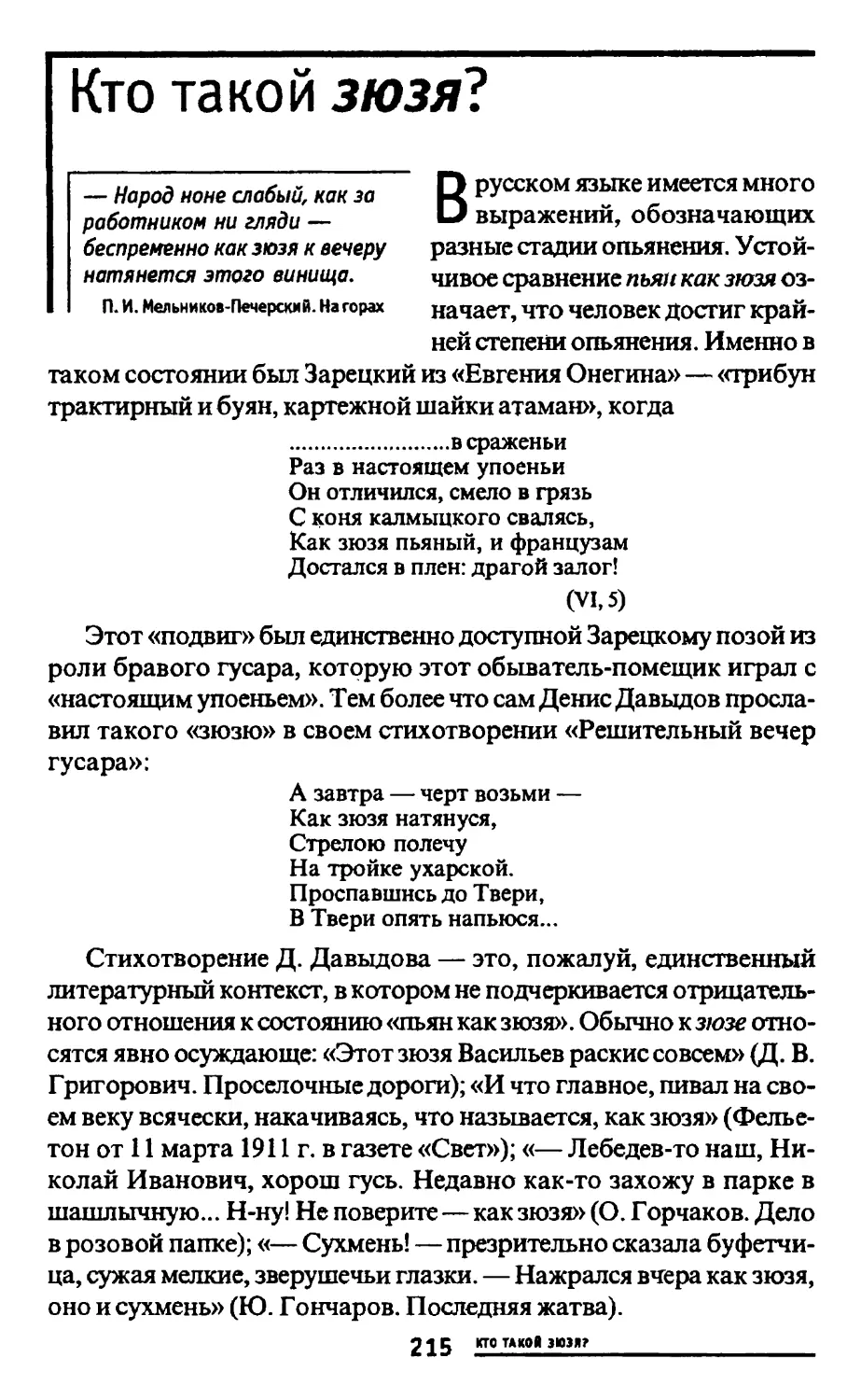







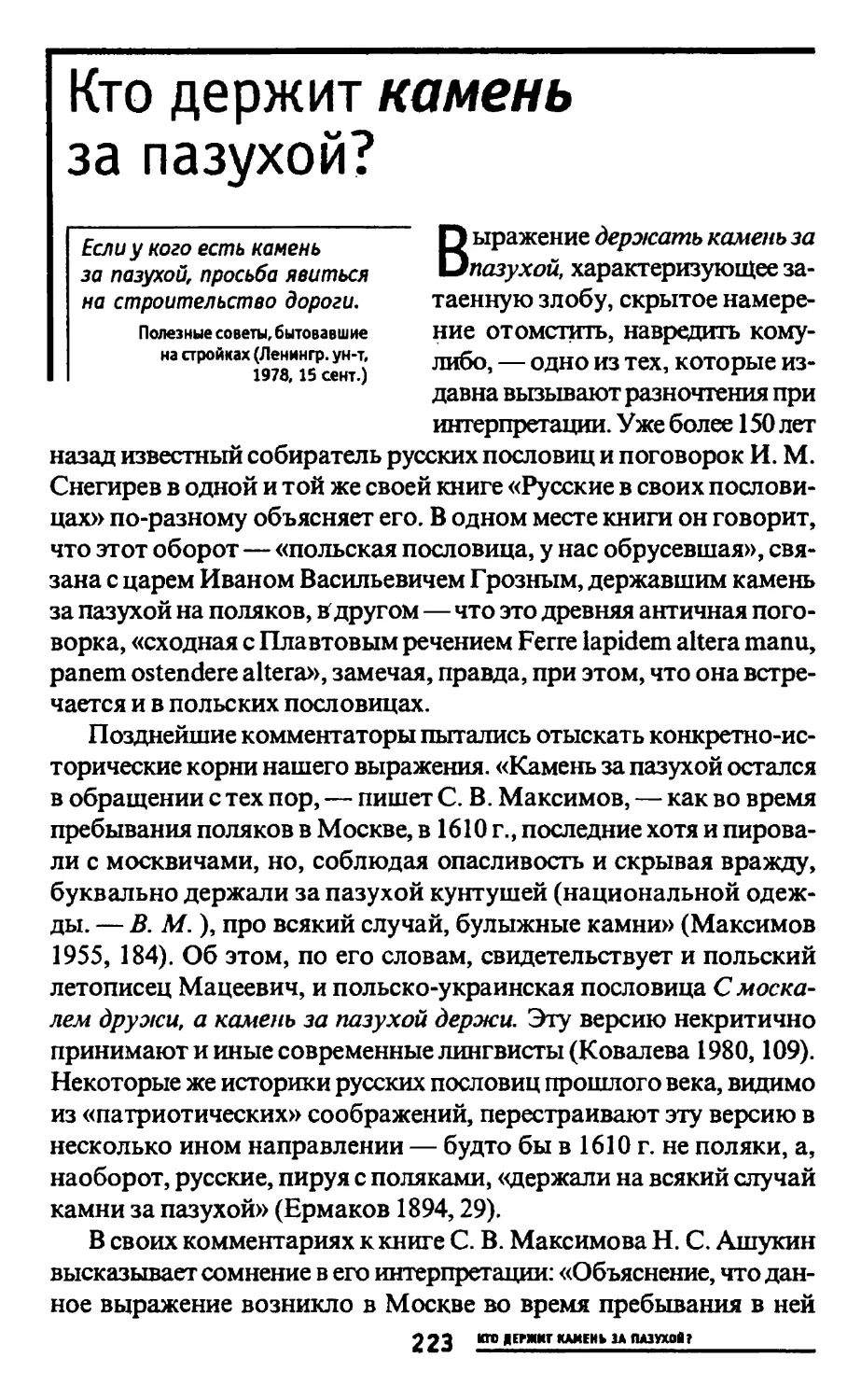







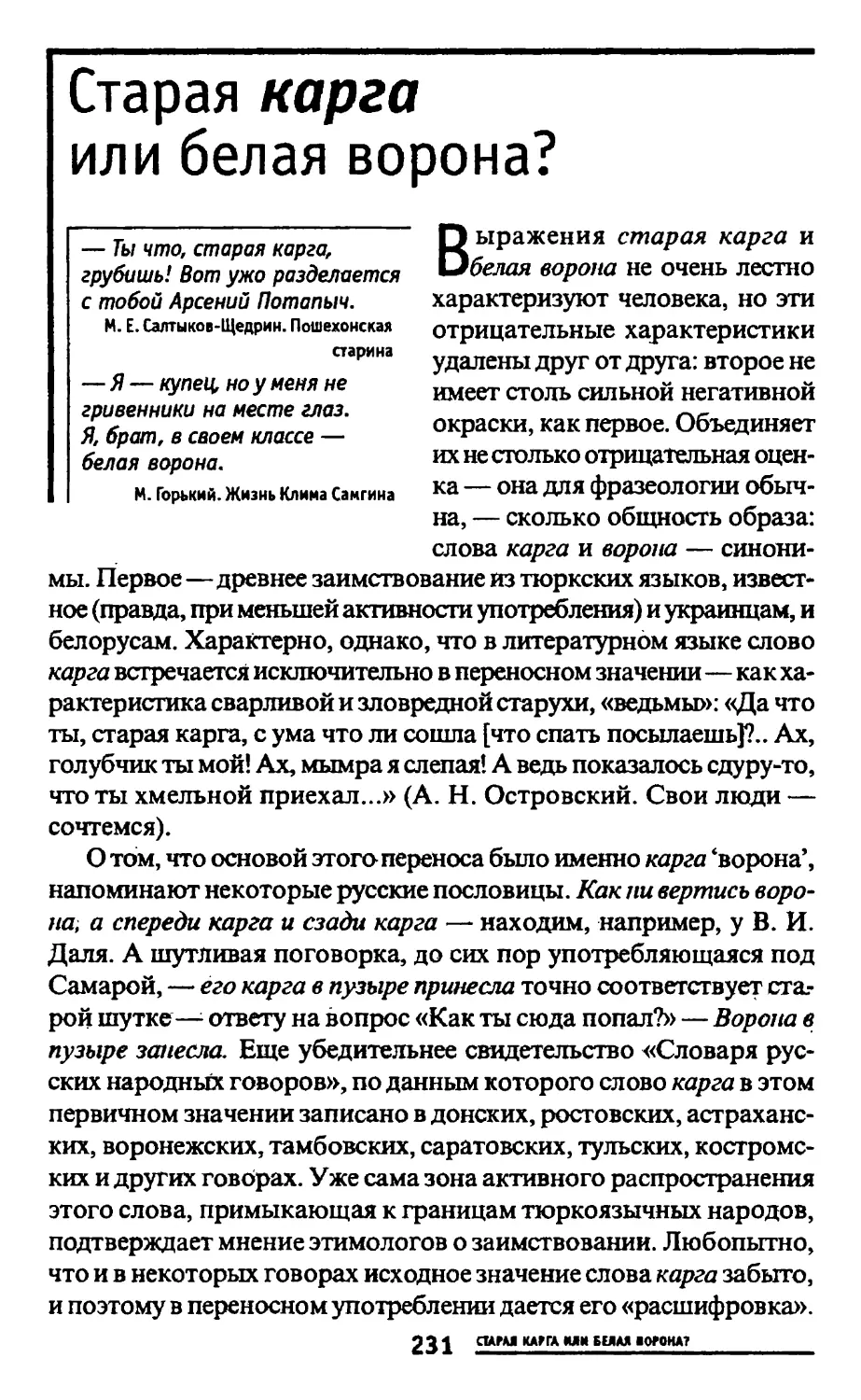








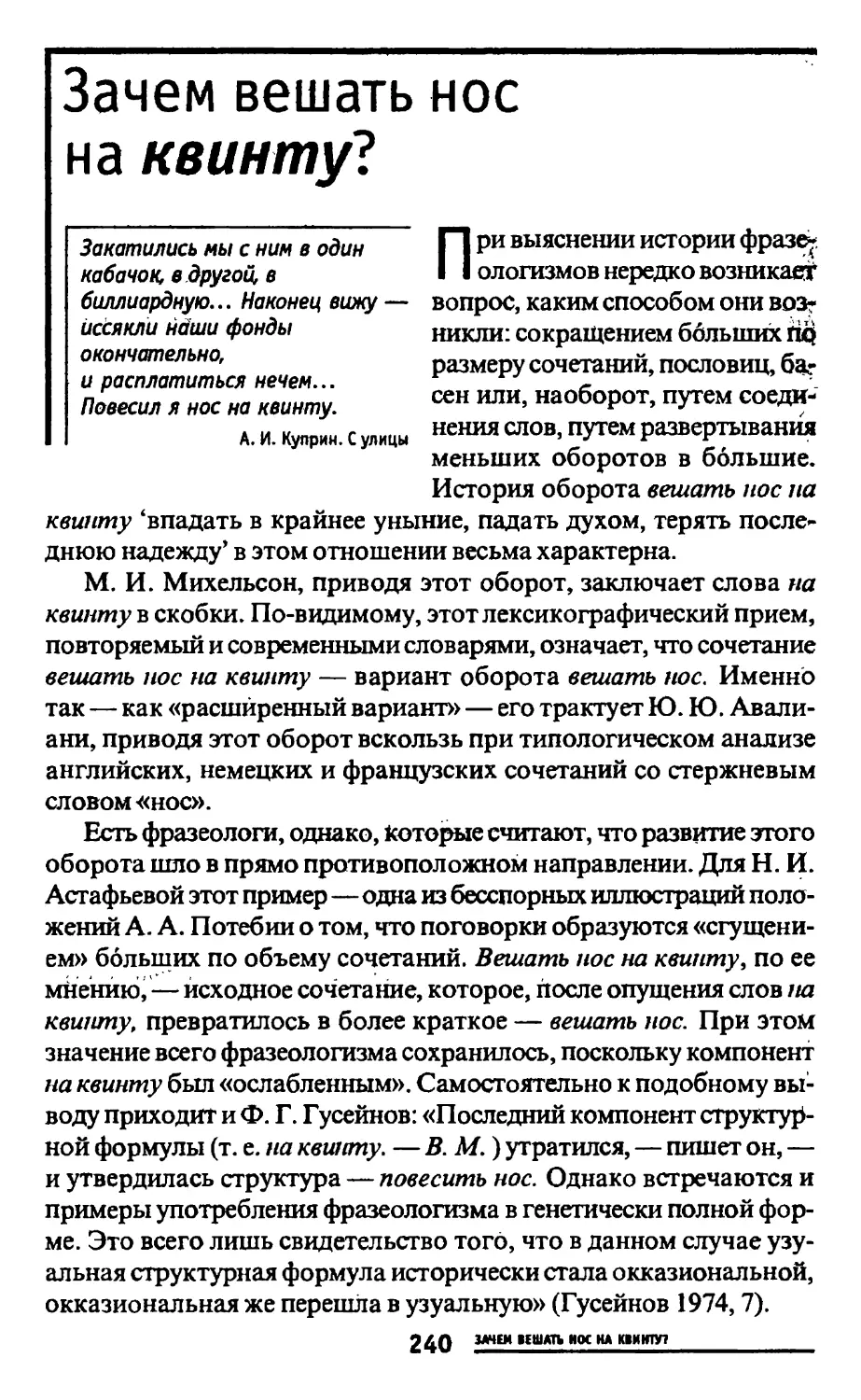






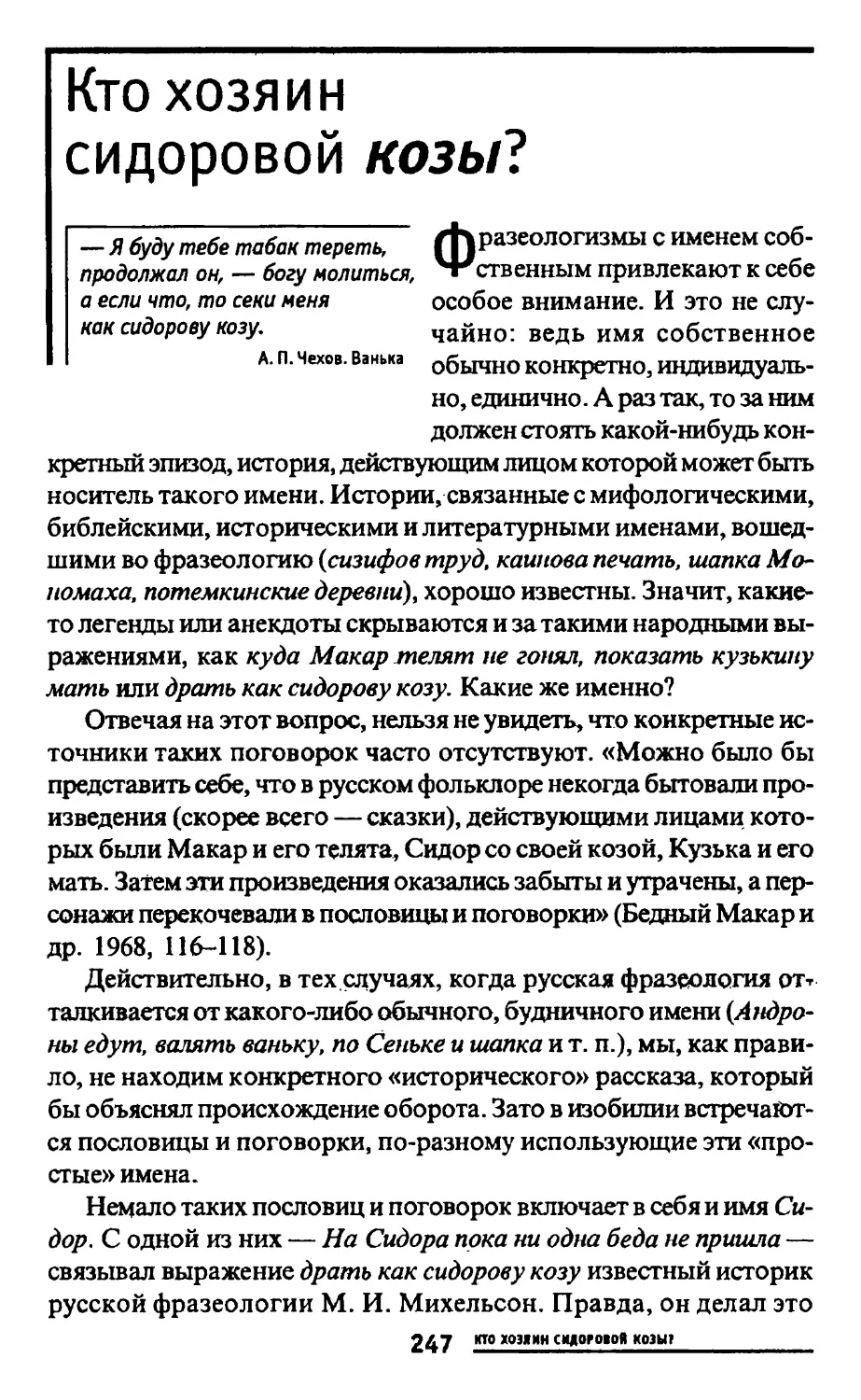







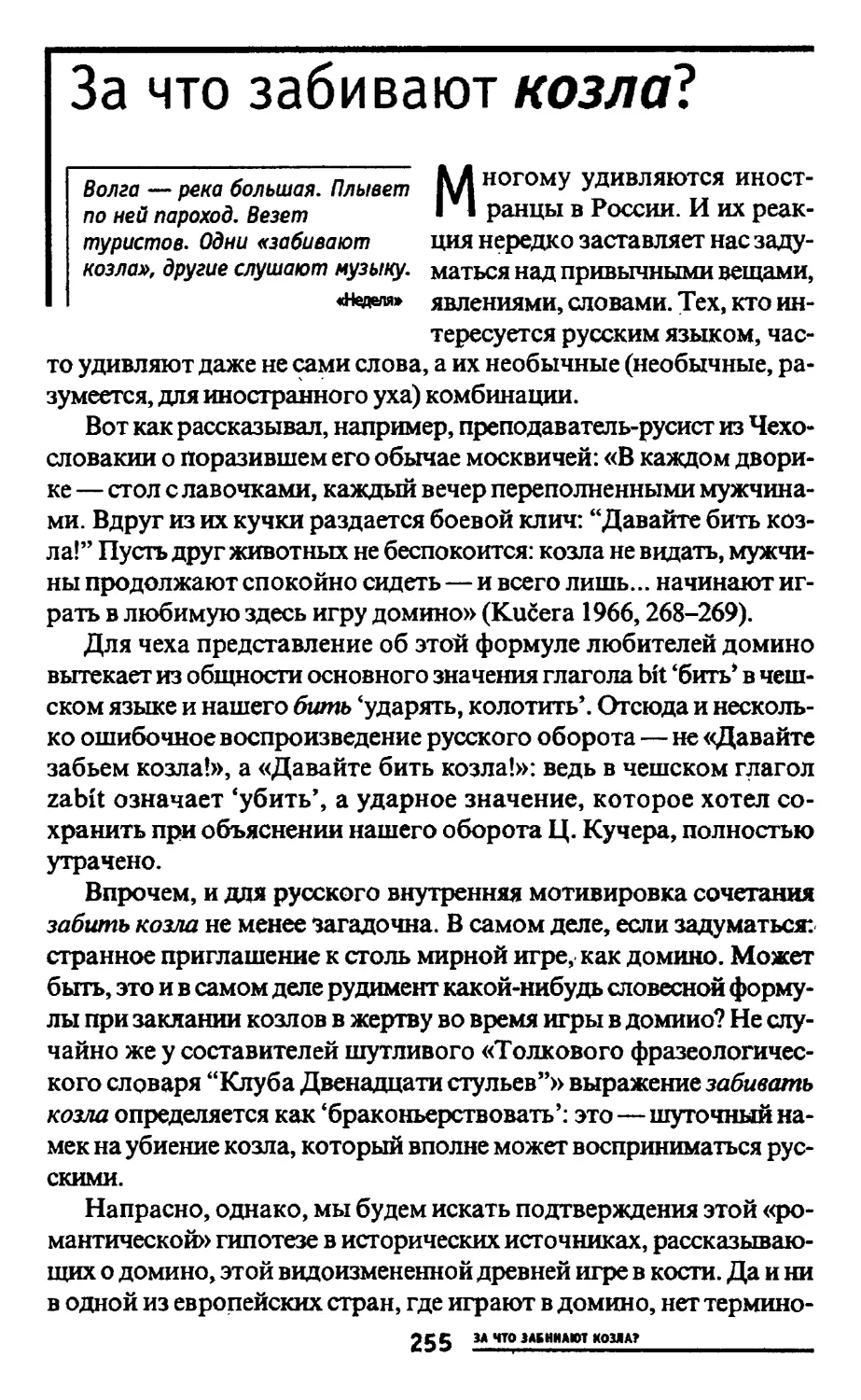







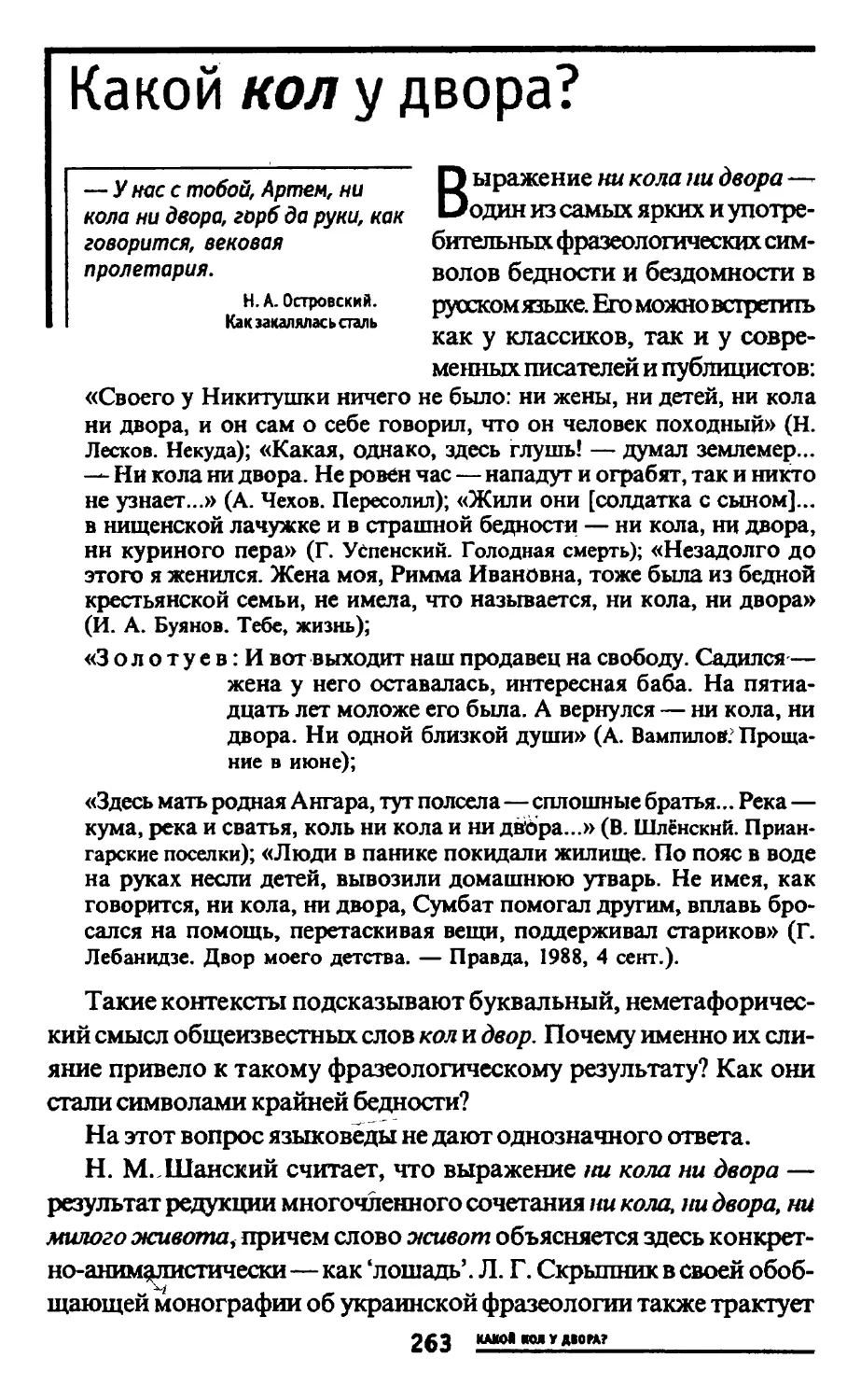







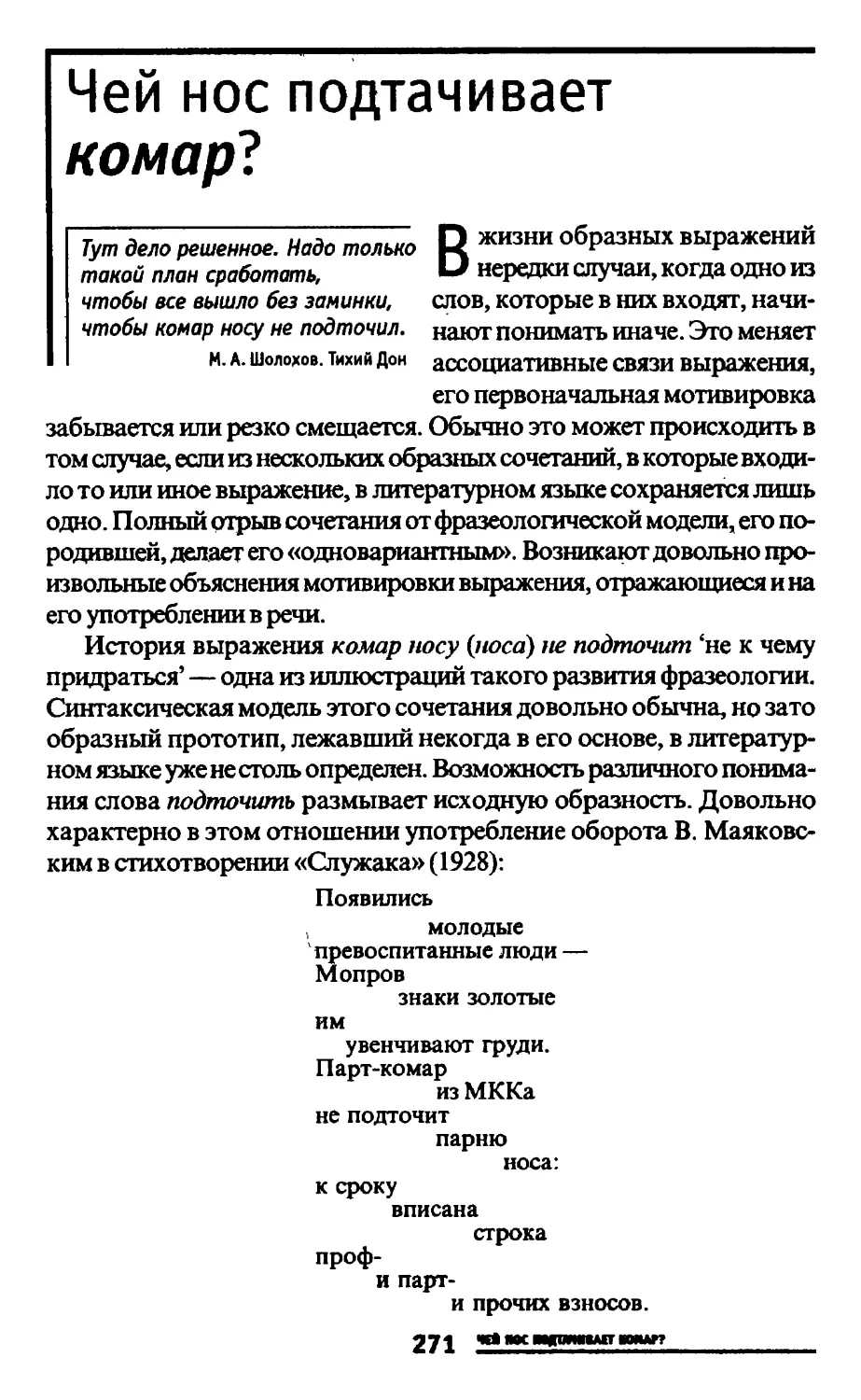






![По чему конь [еще] не валялся?](https://djvu.online/jpg/7/3/l/73lADXqKzbj67/278.webp)