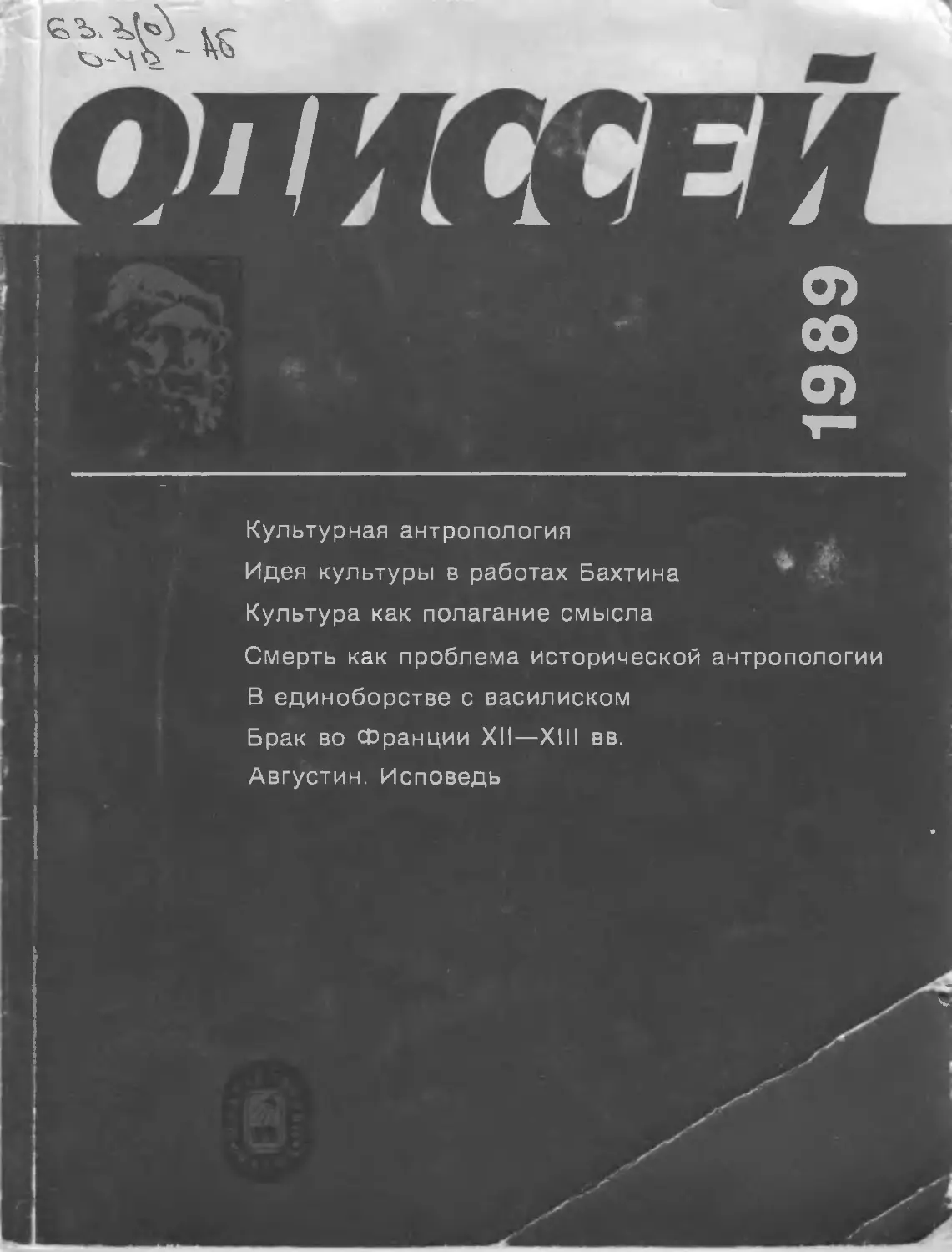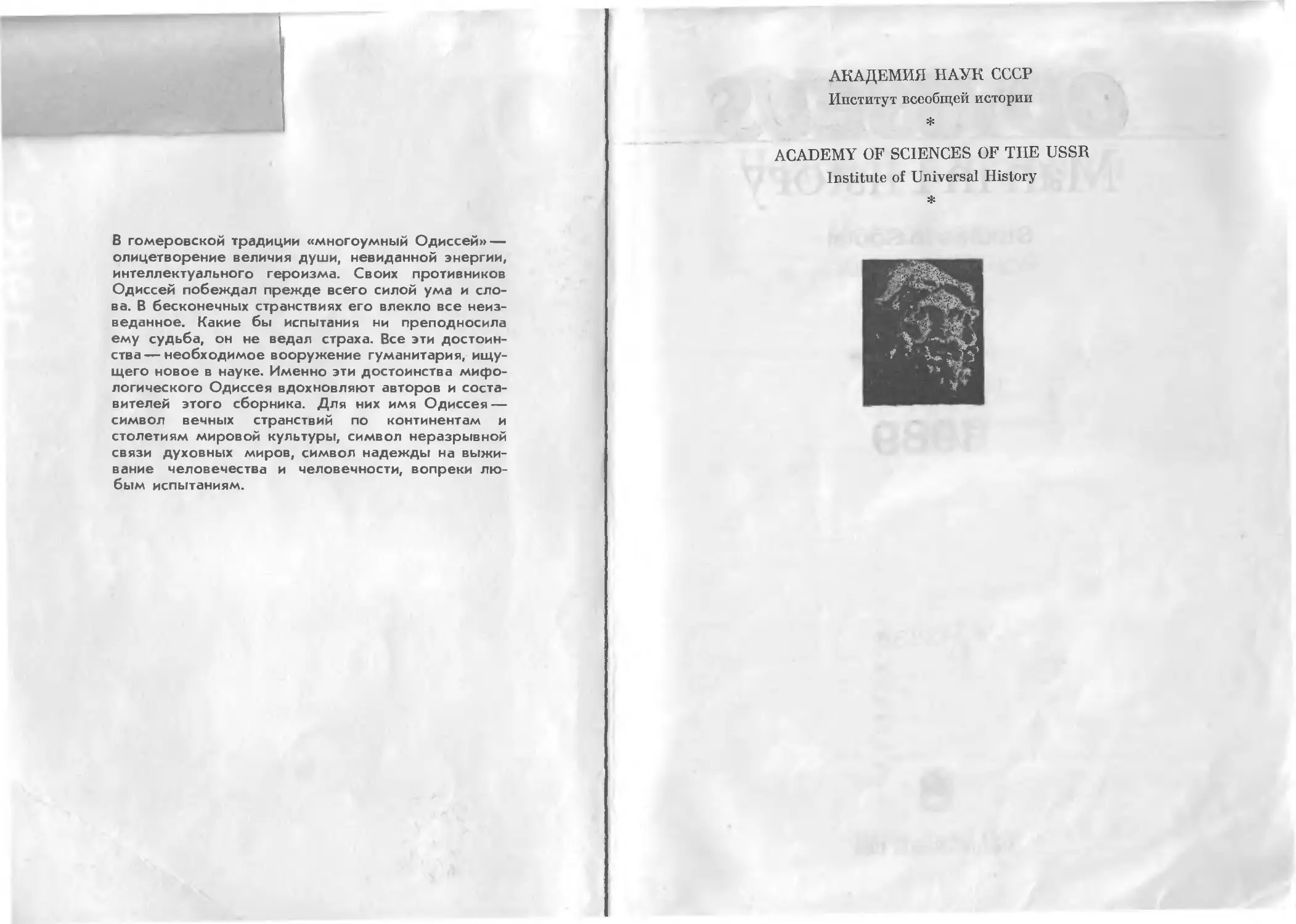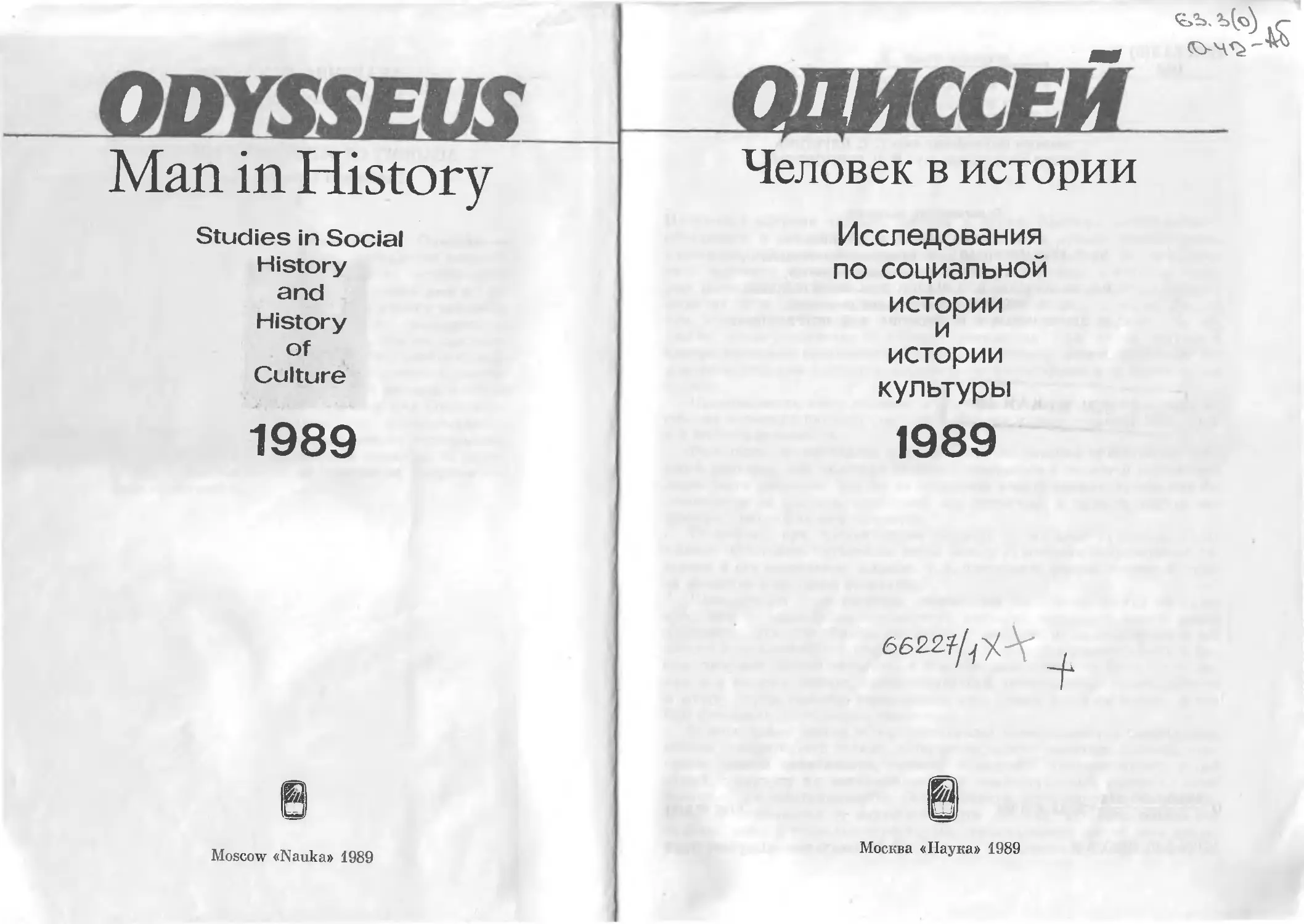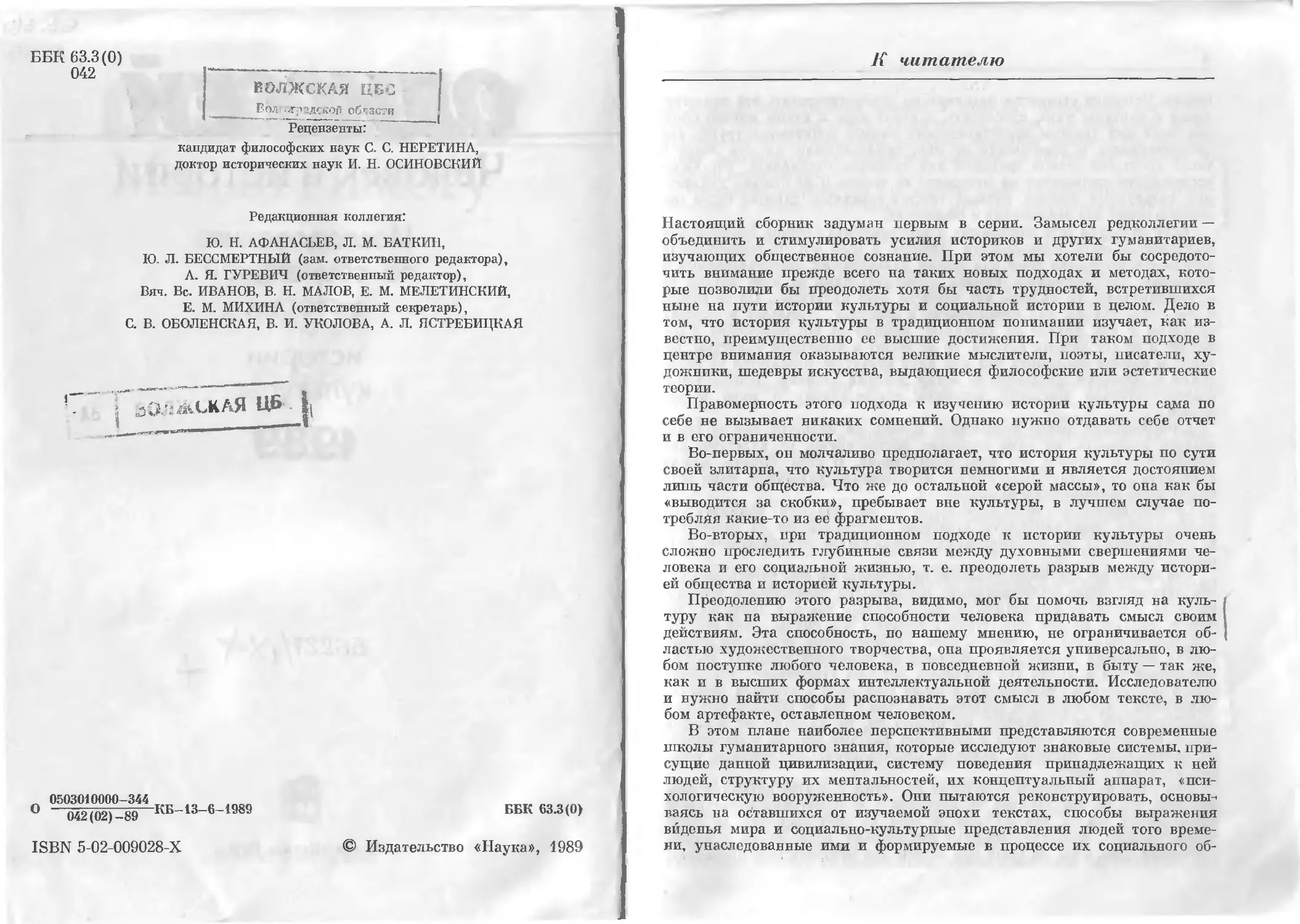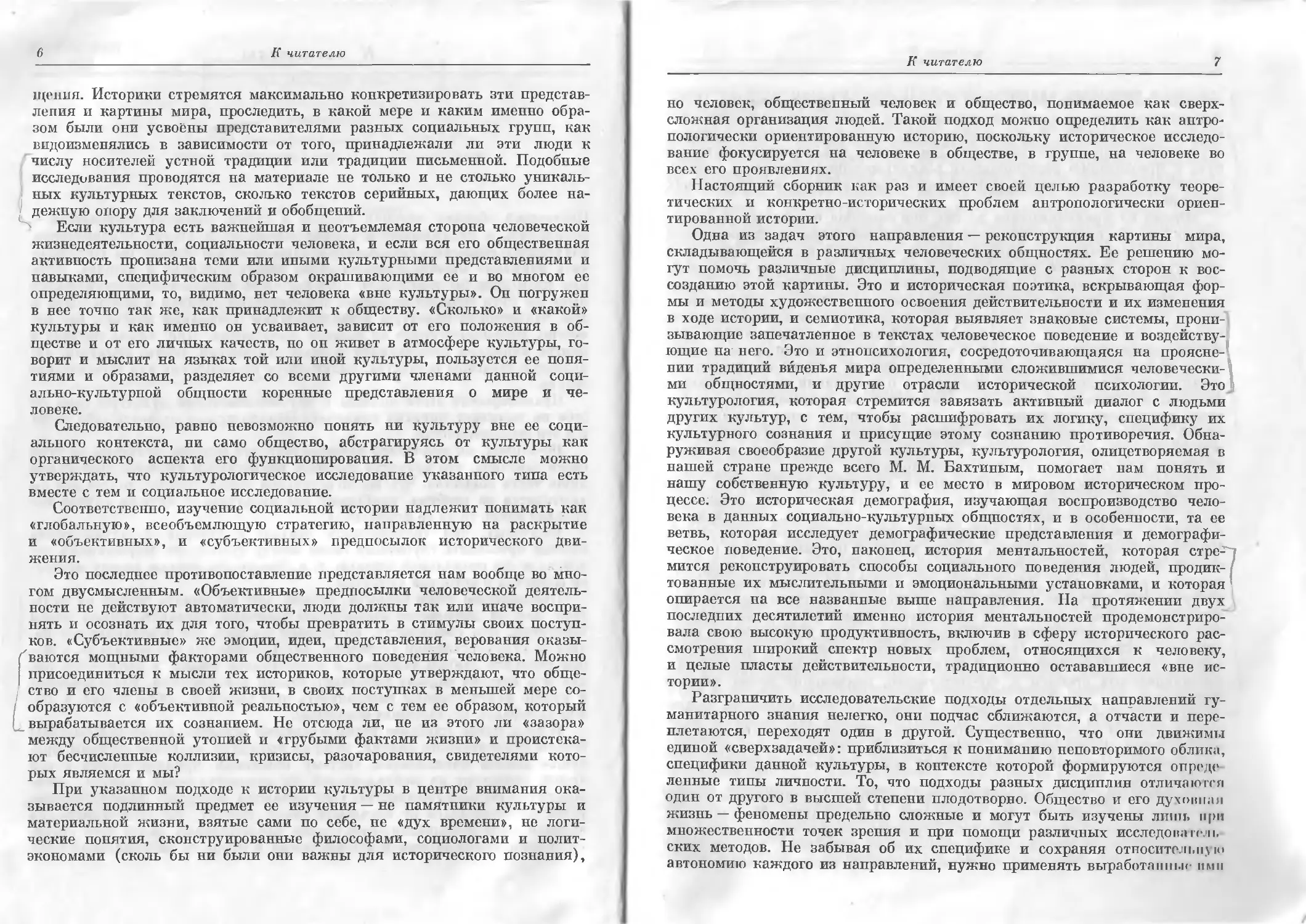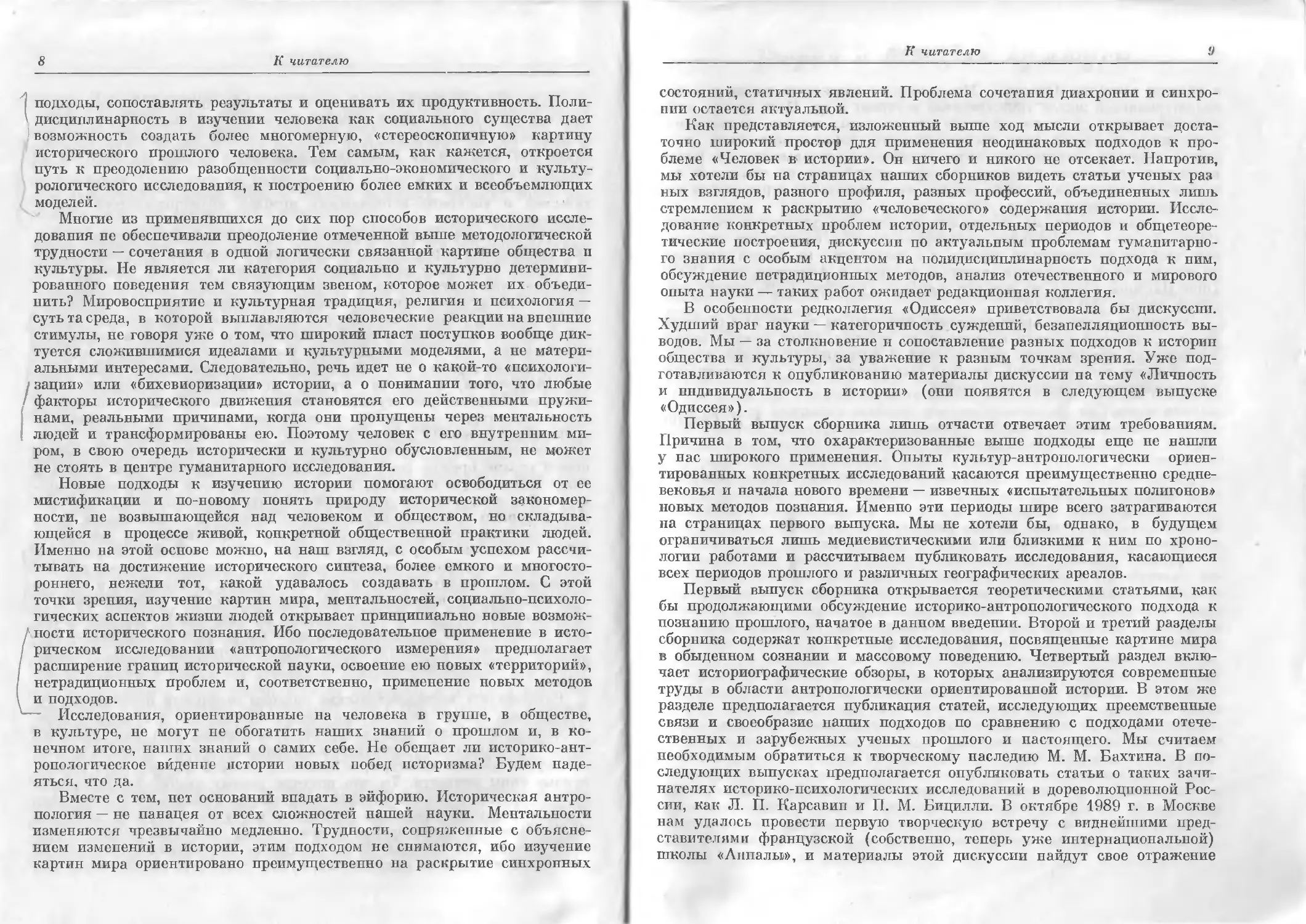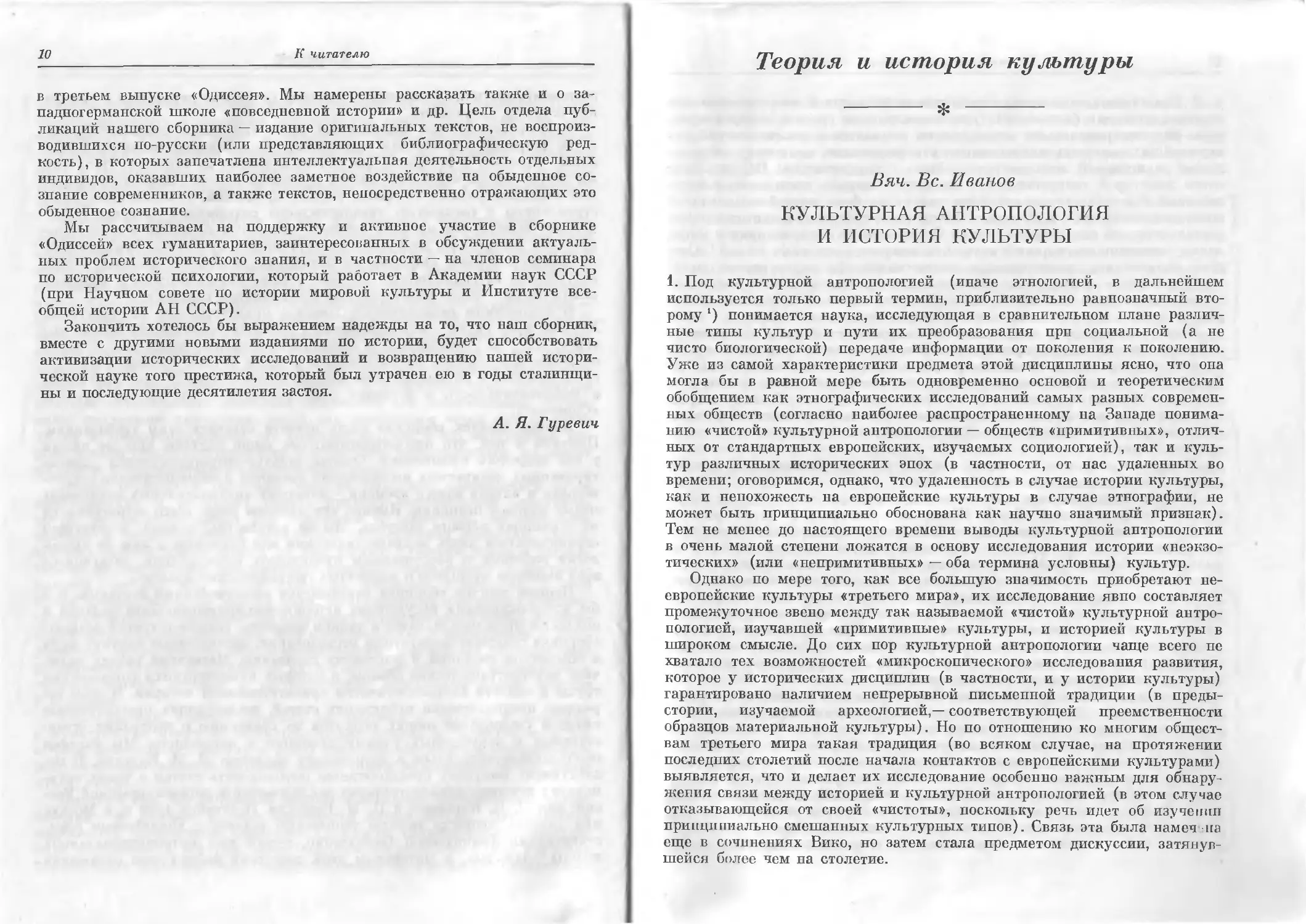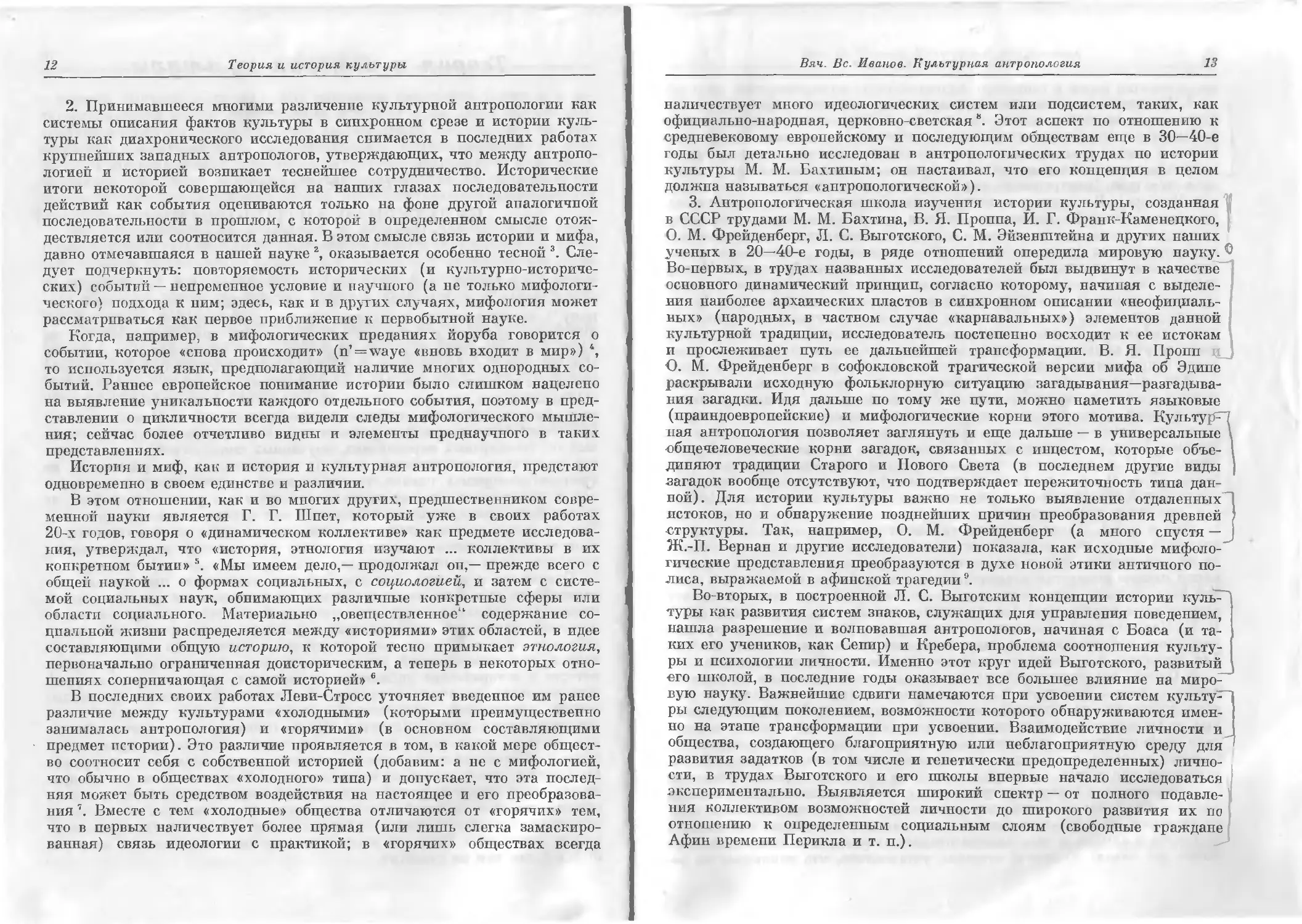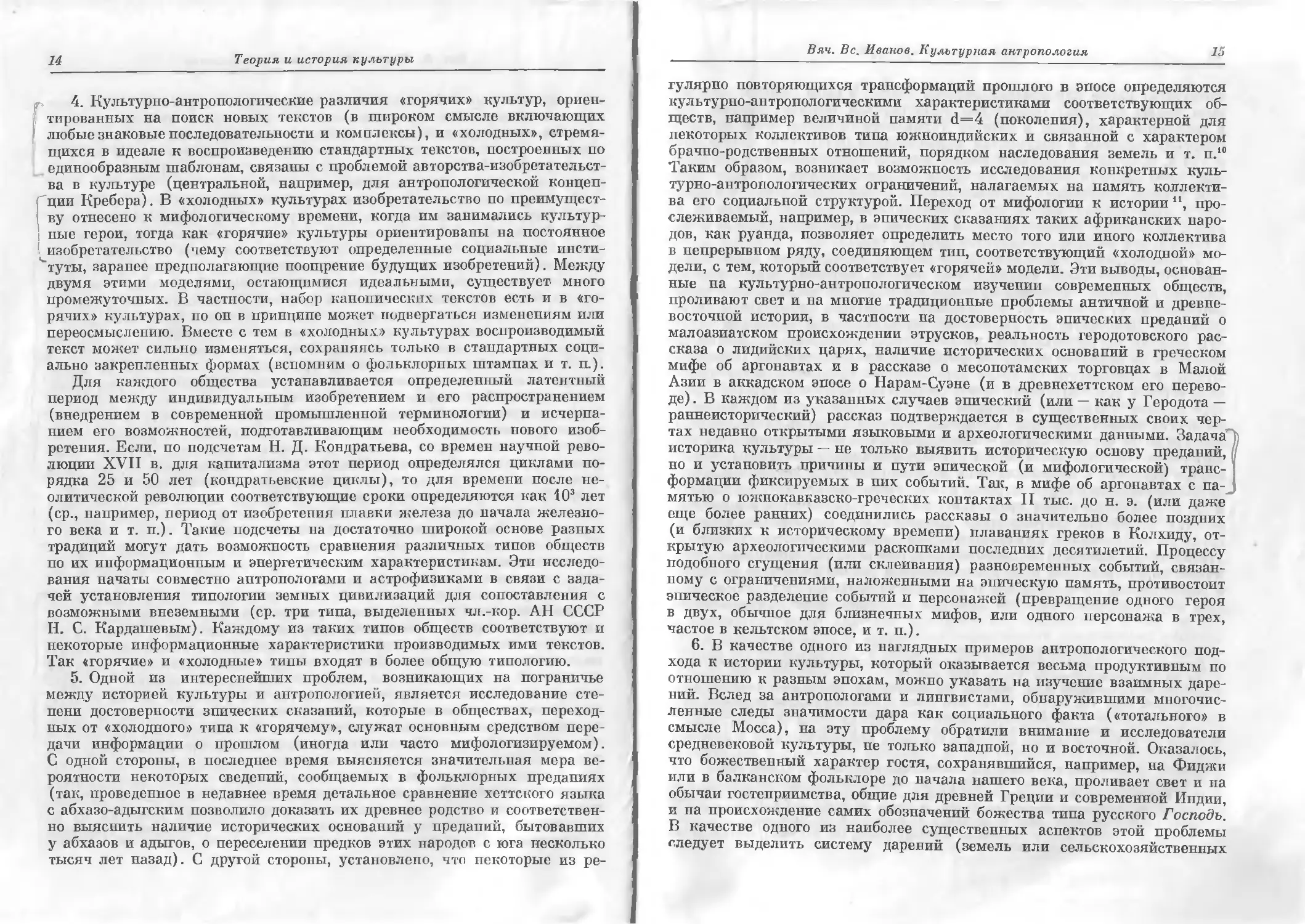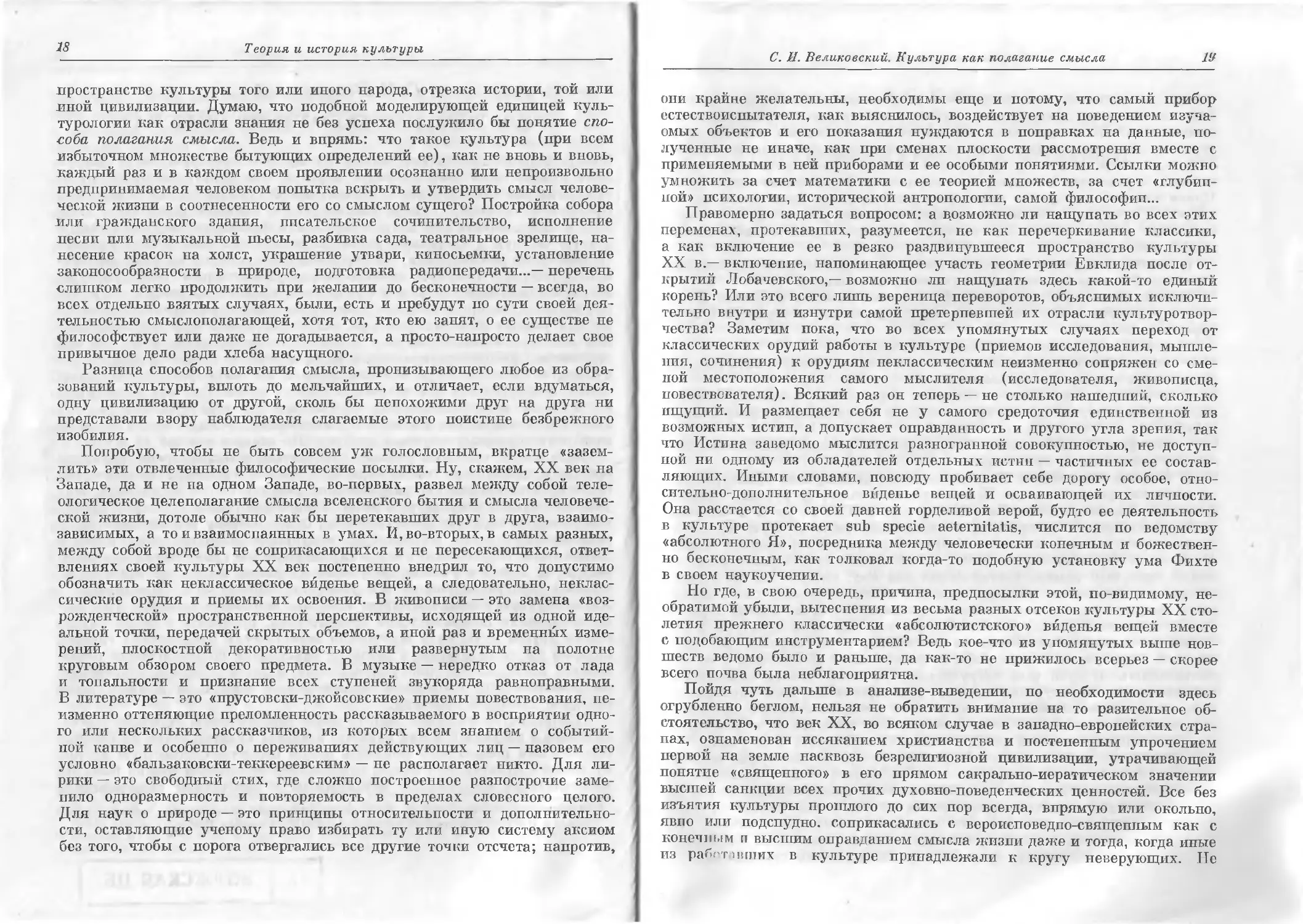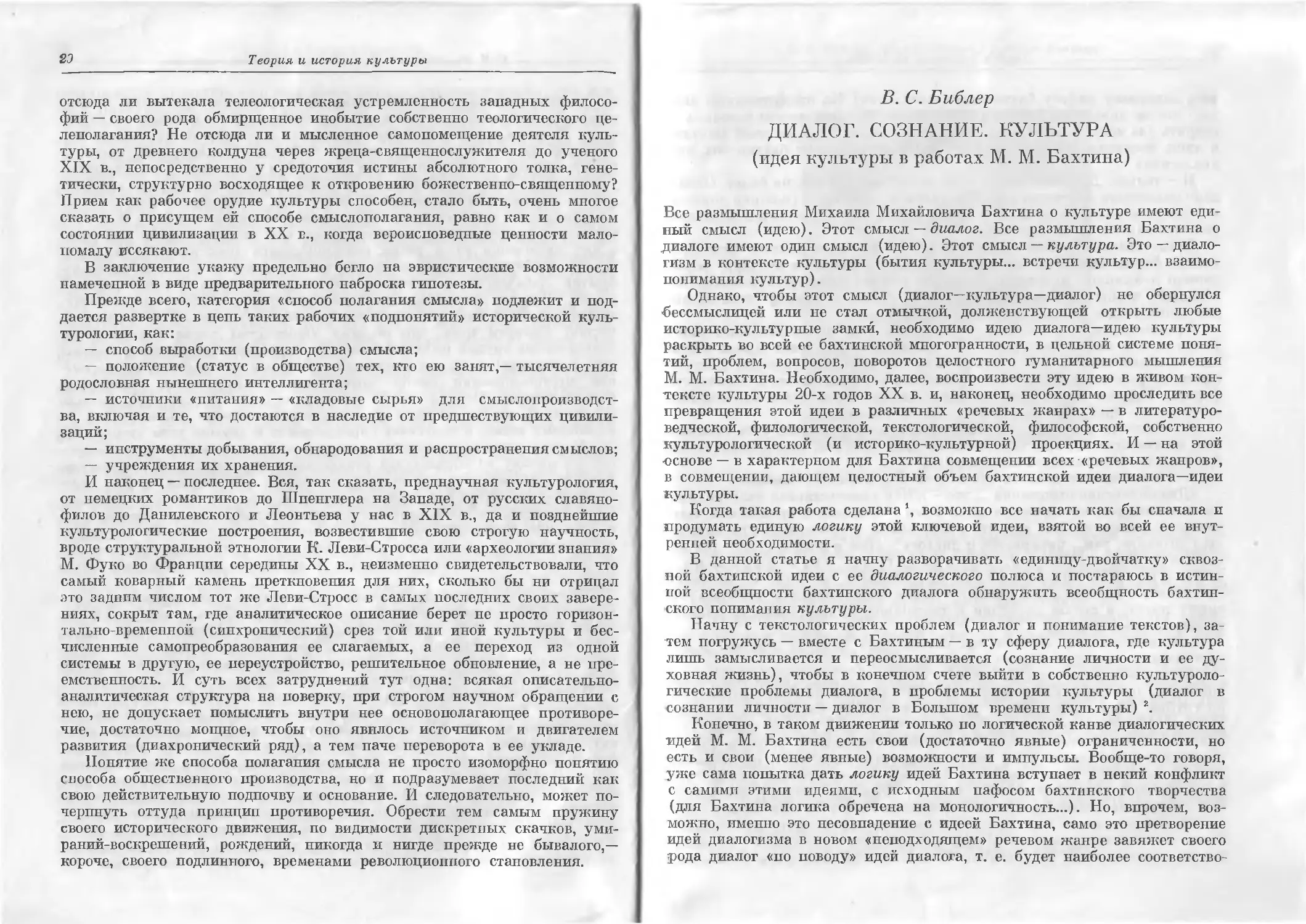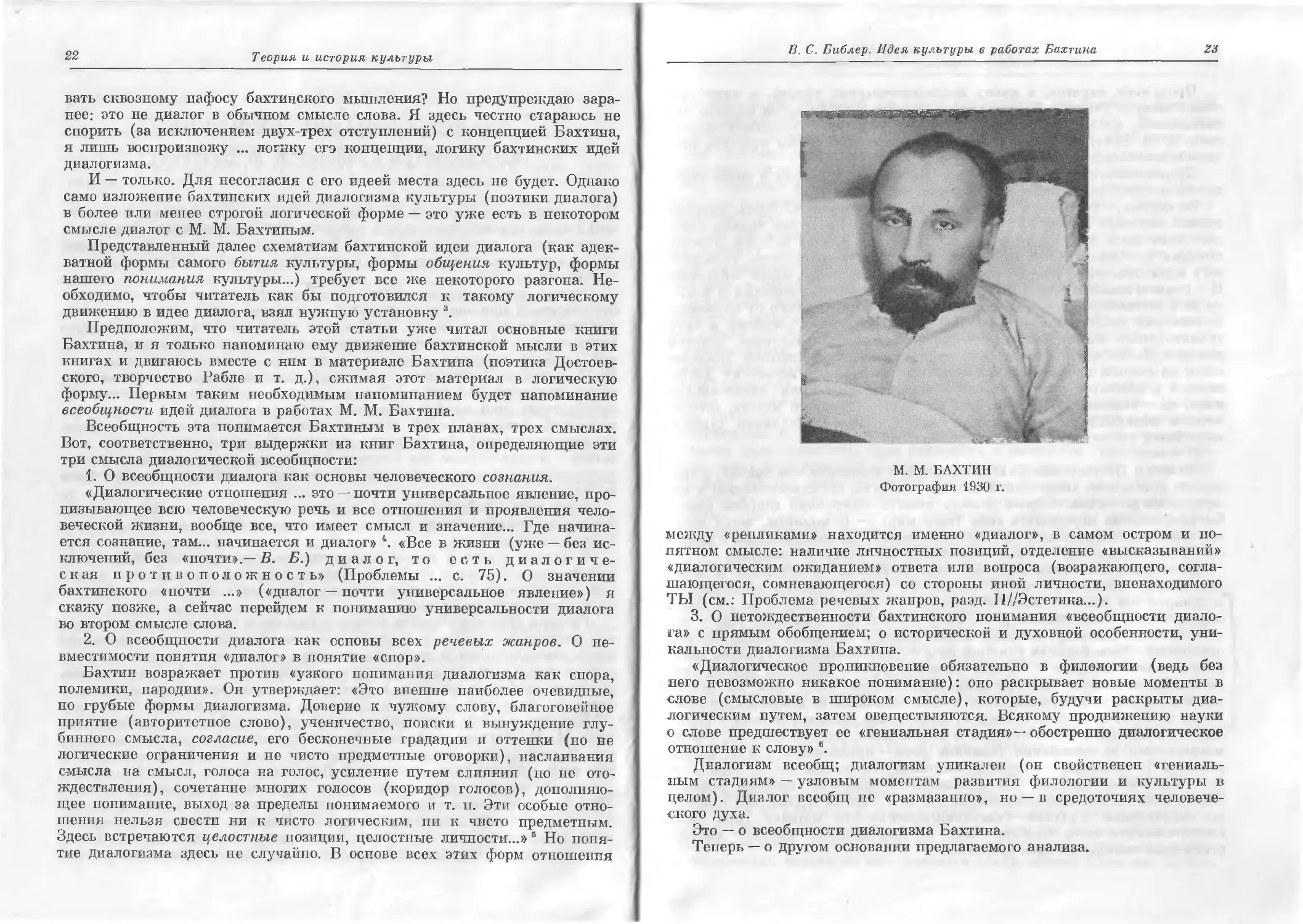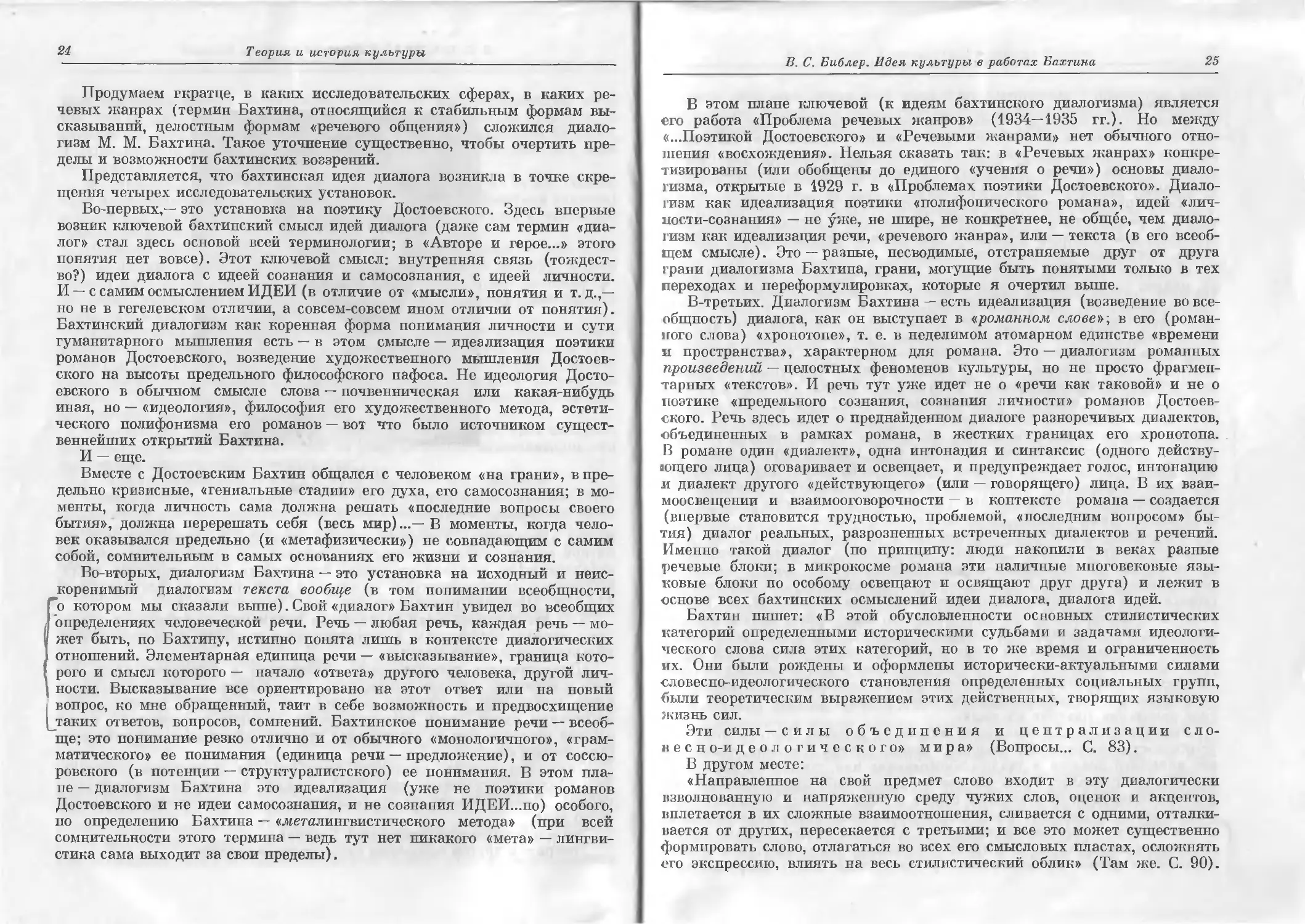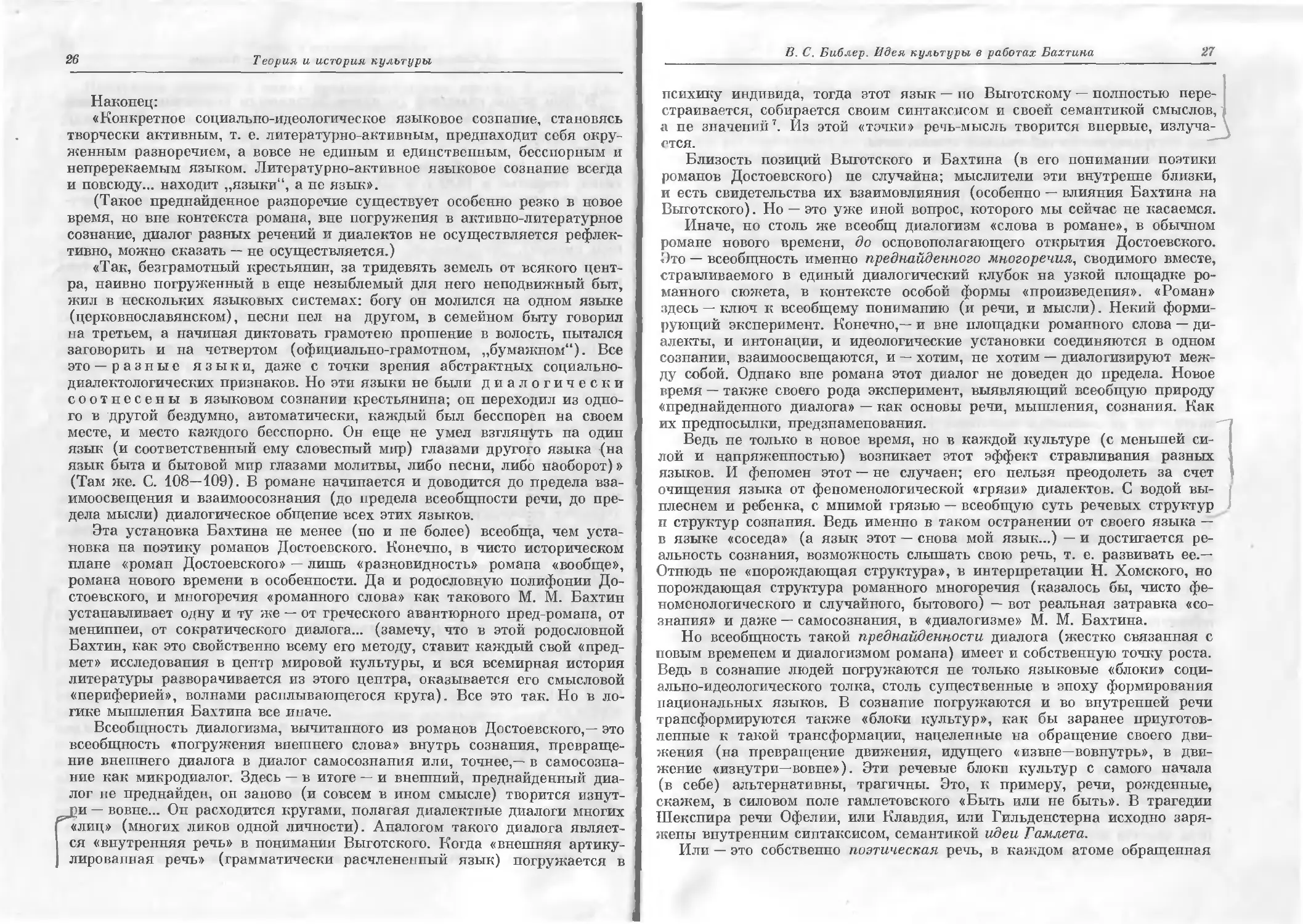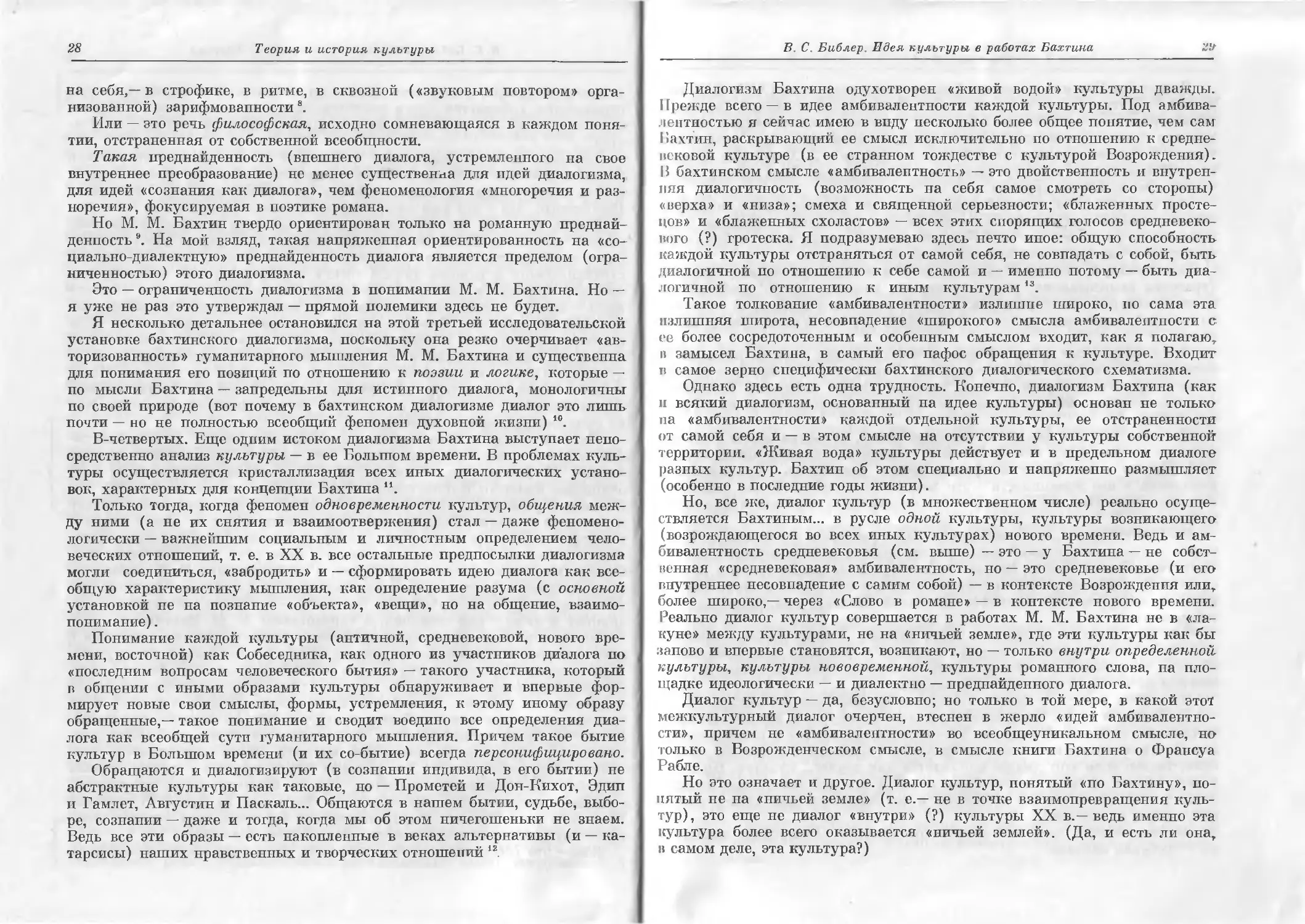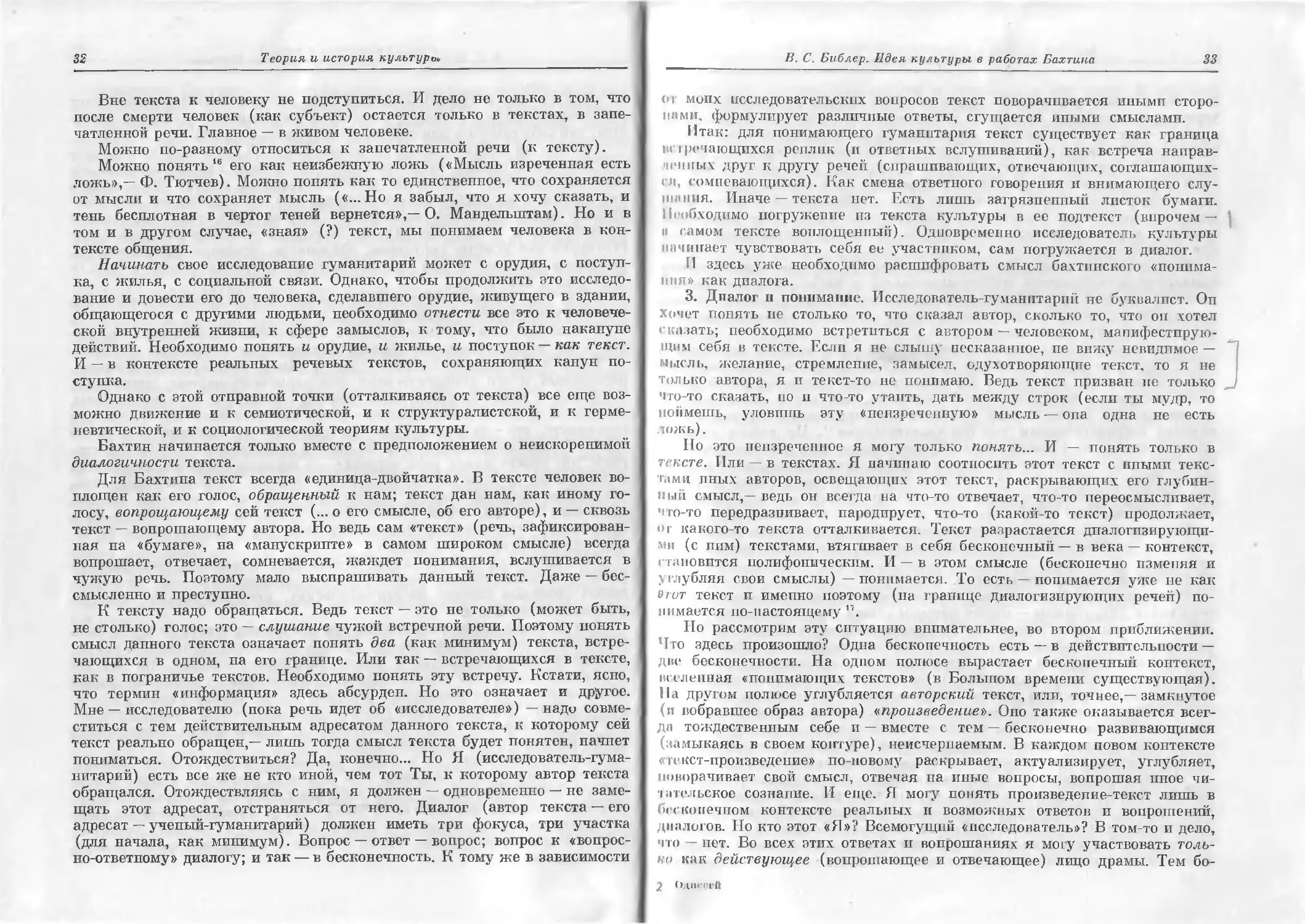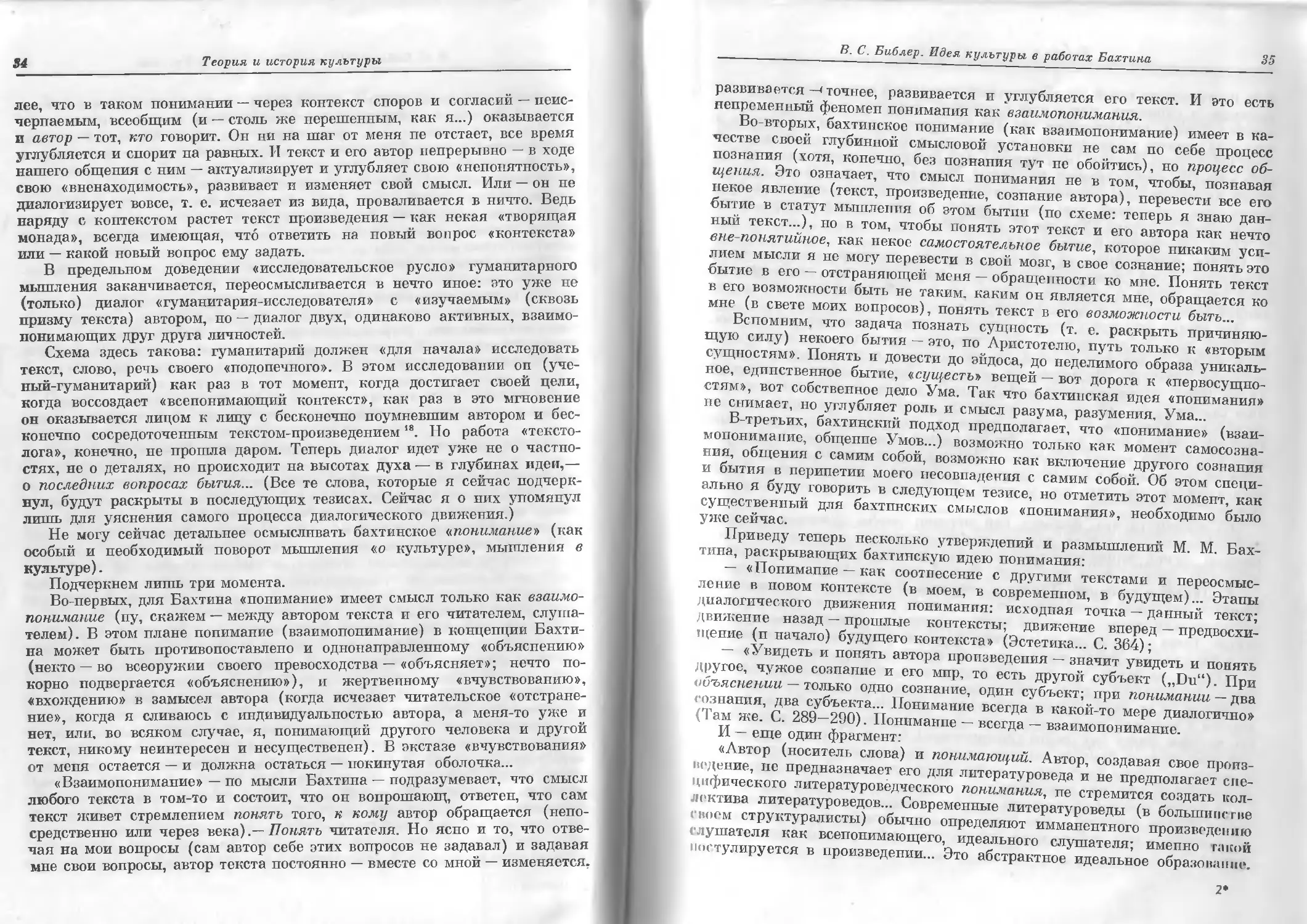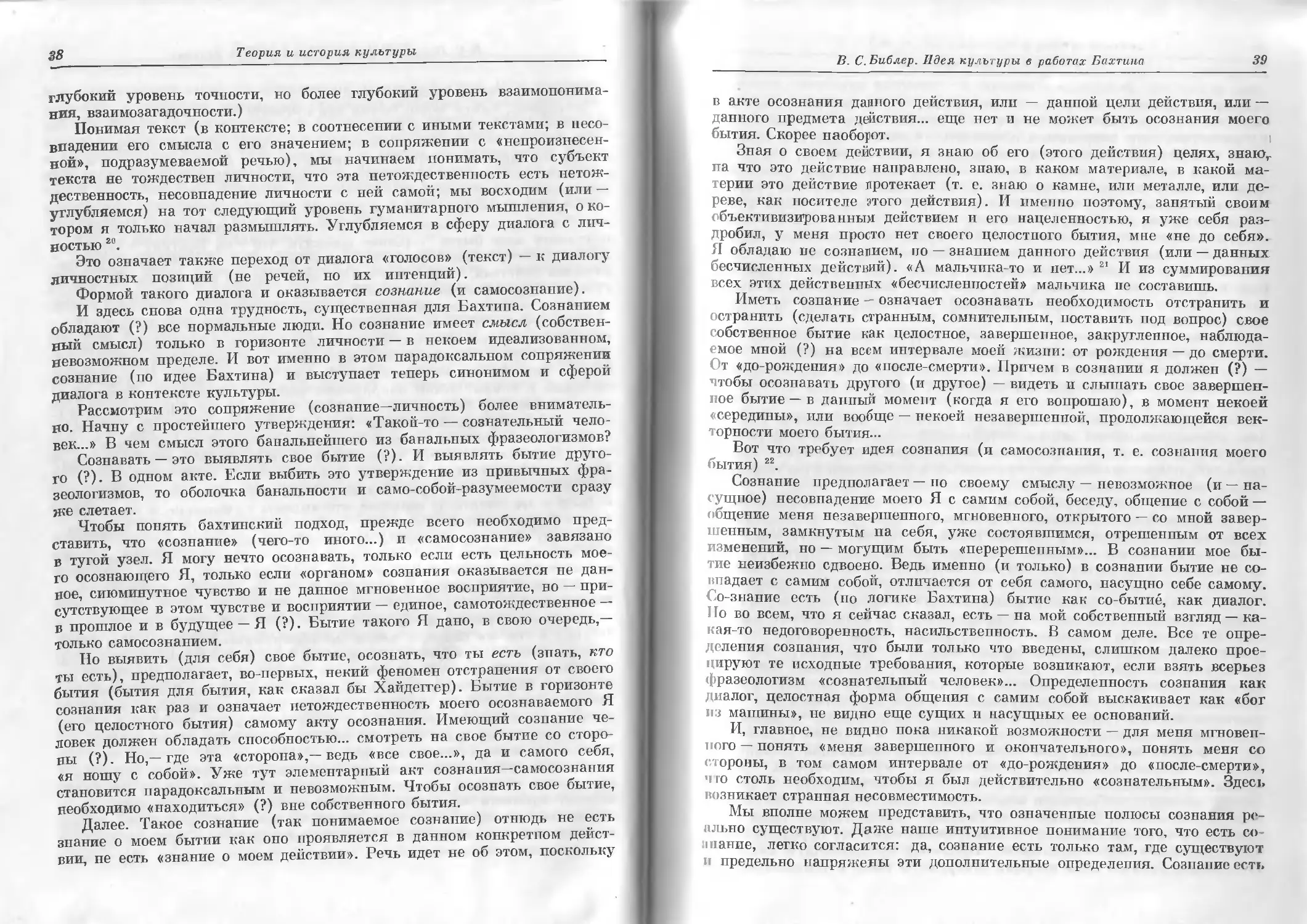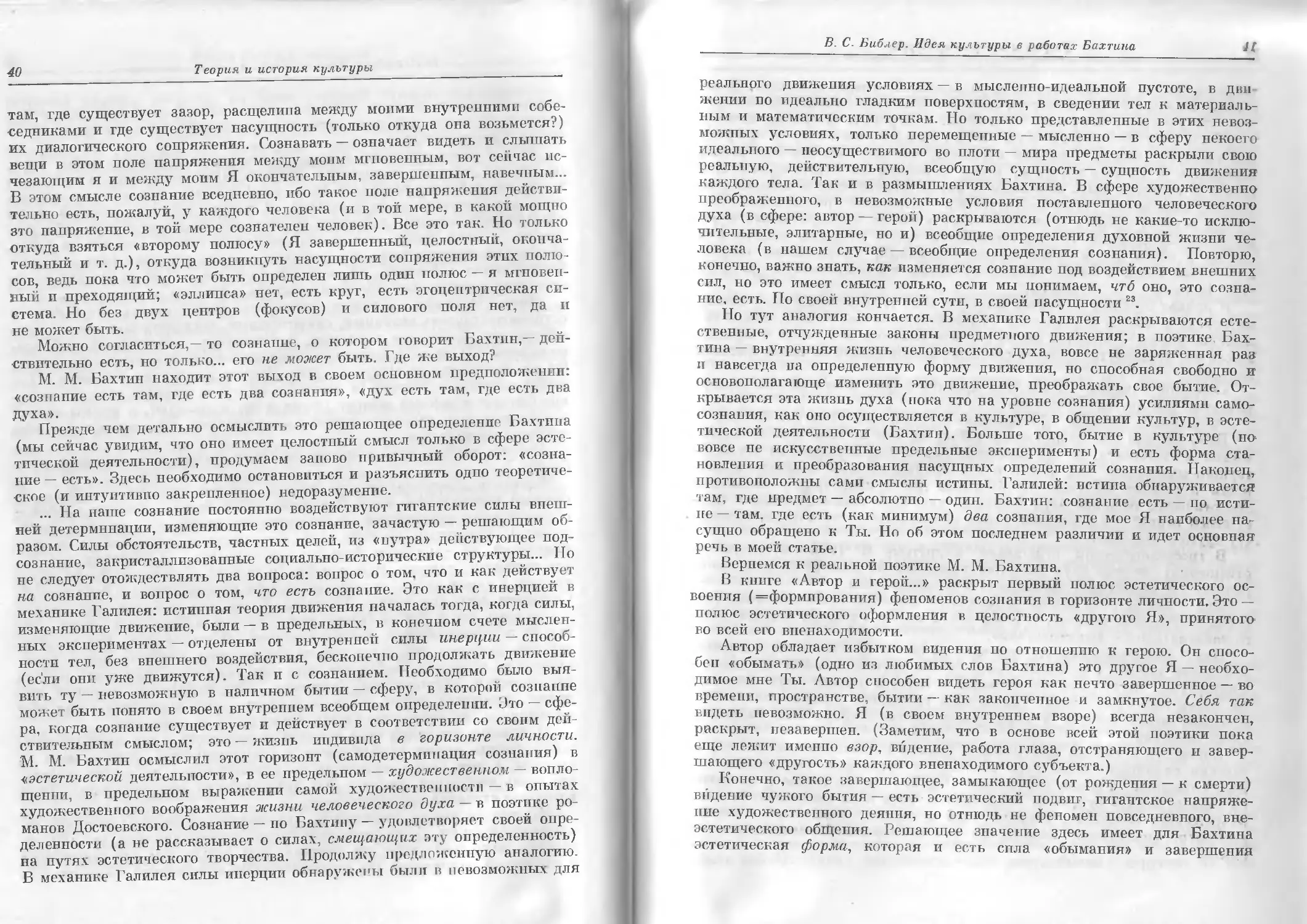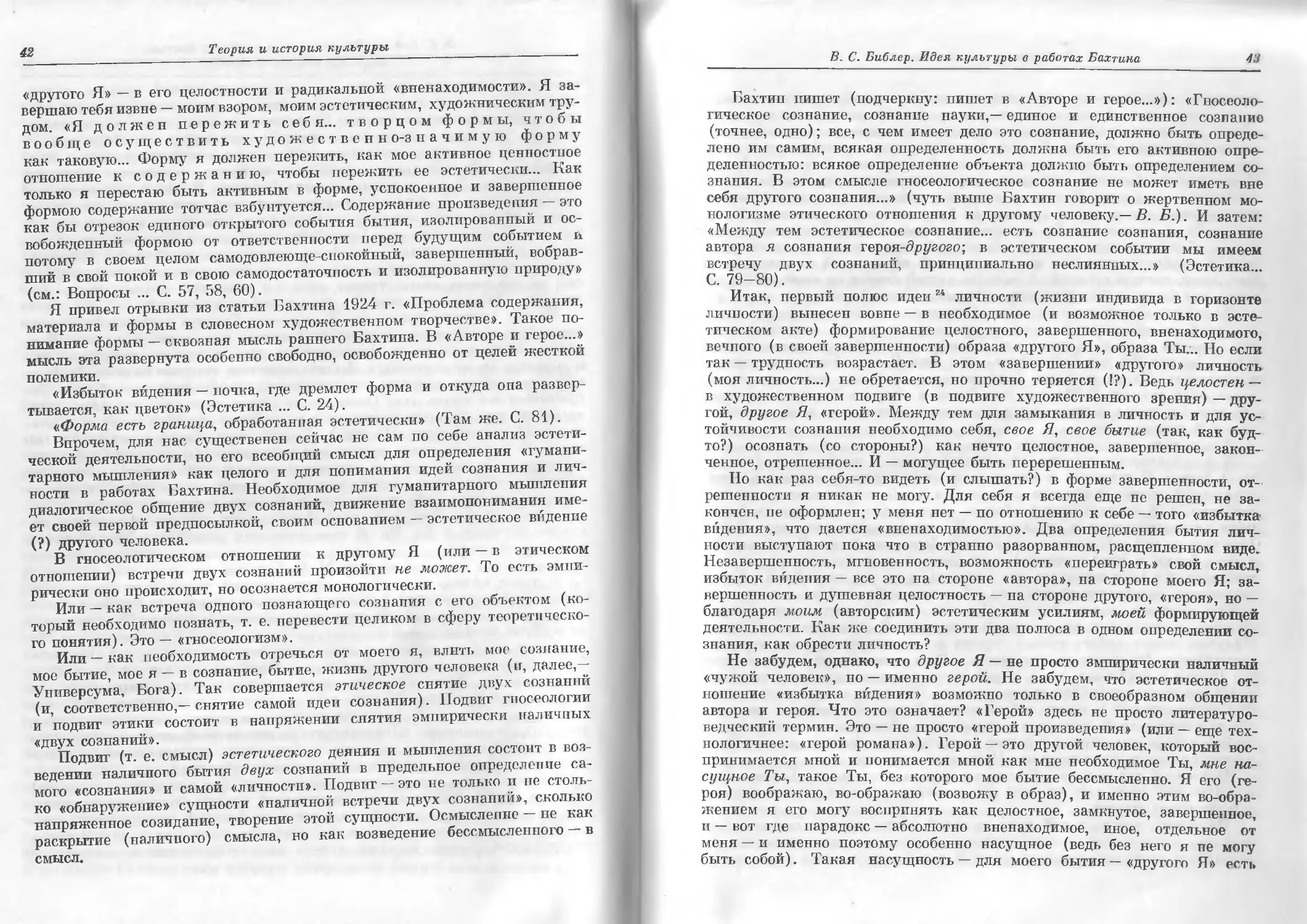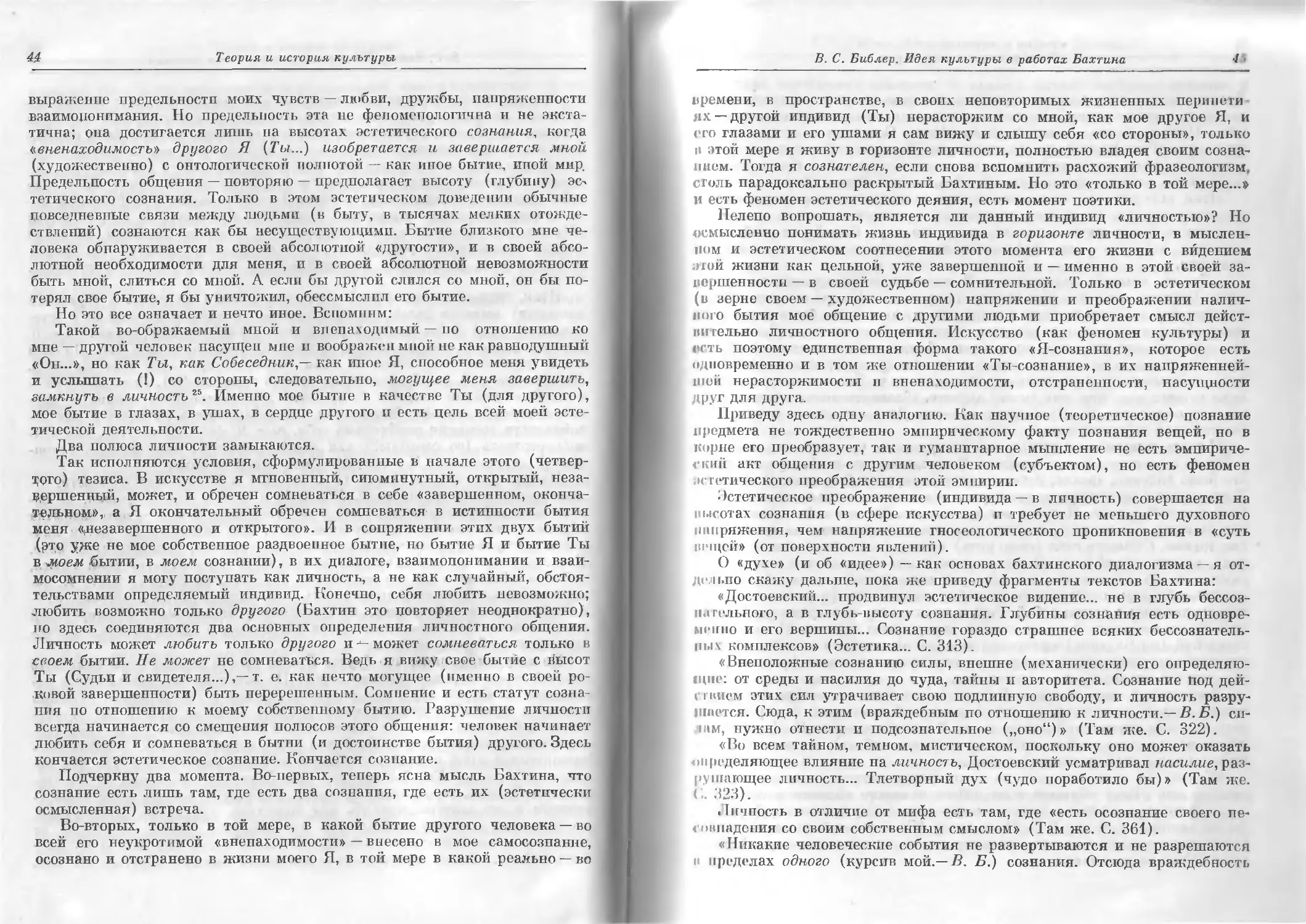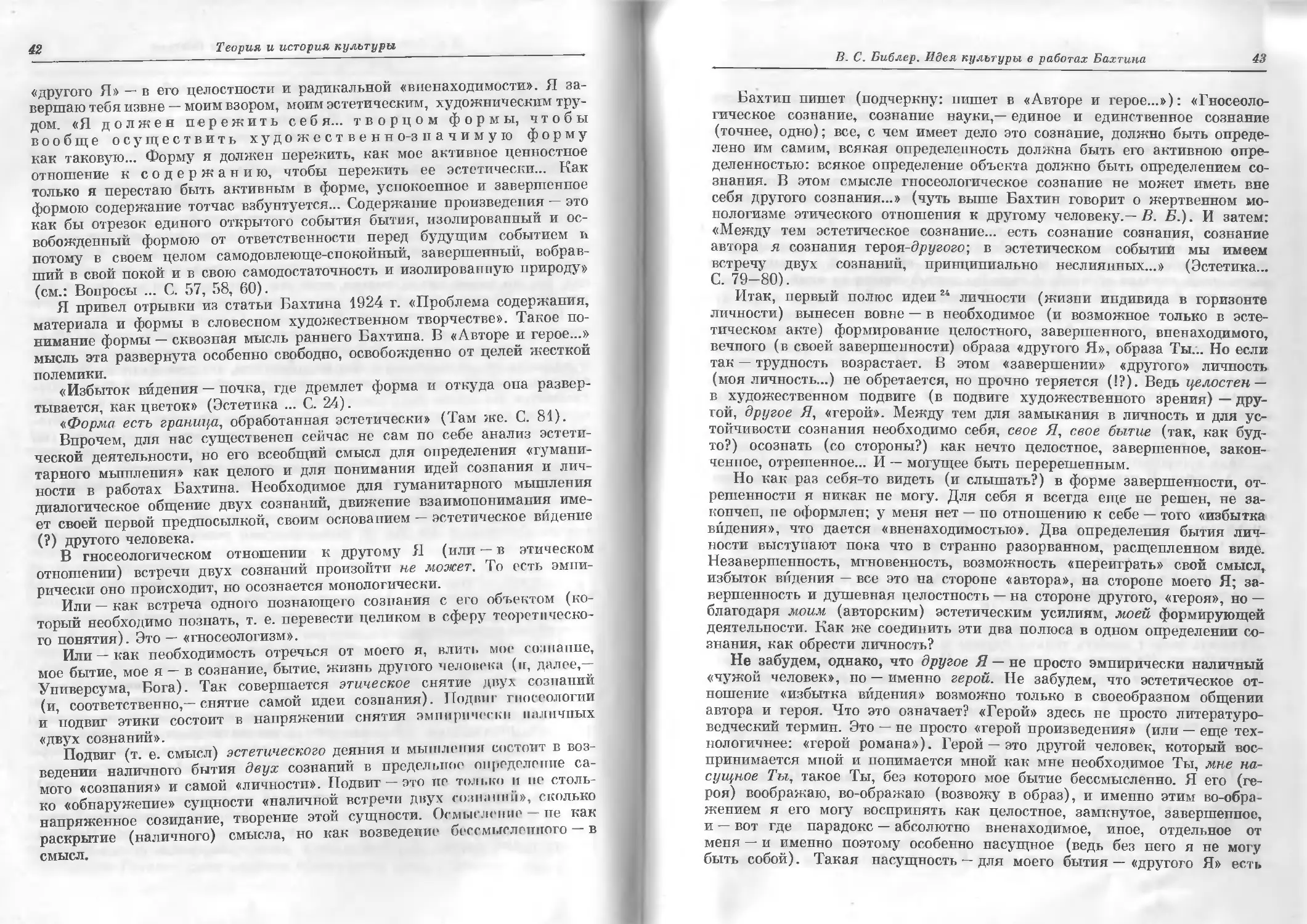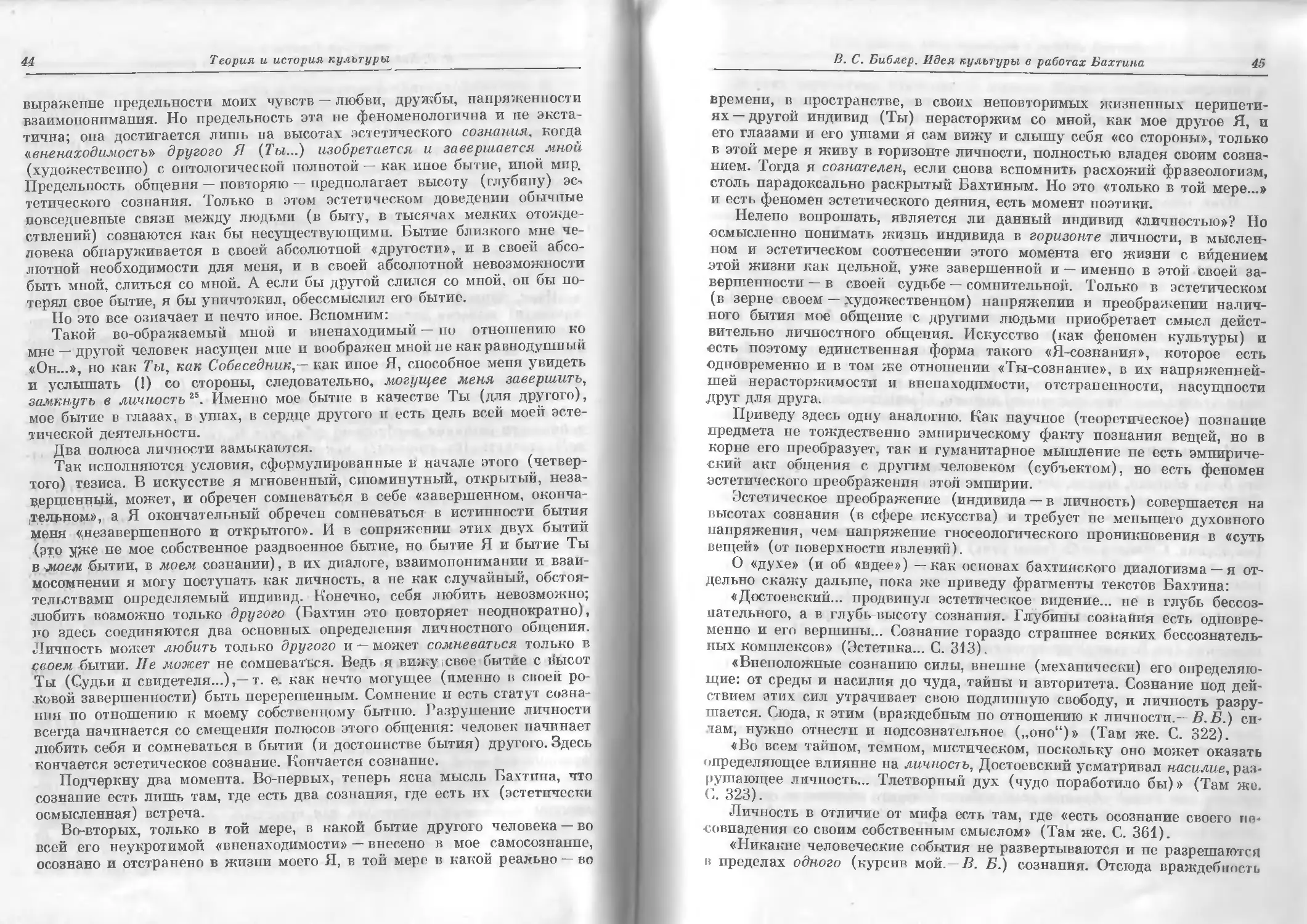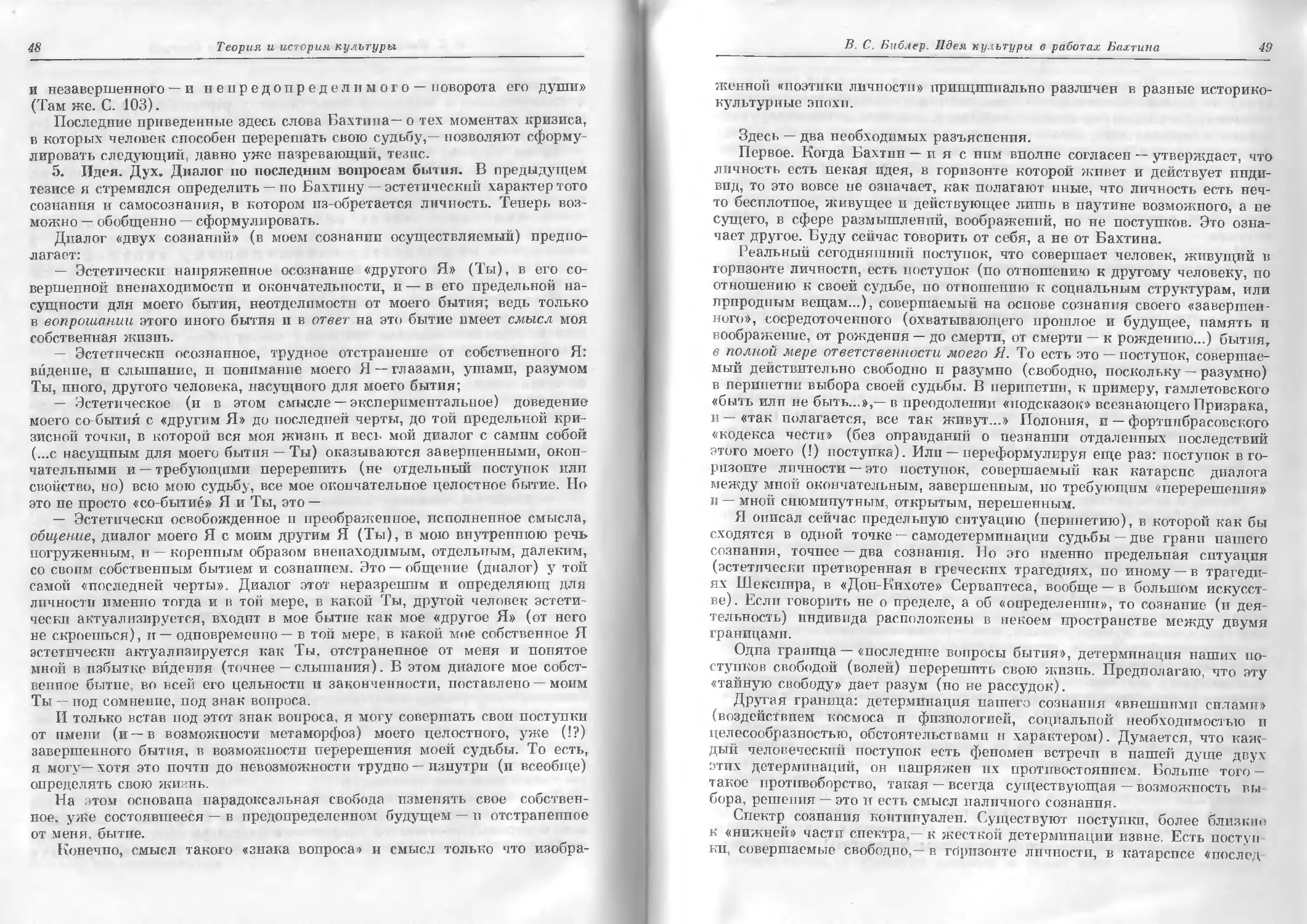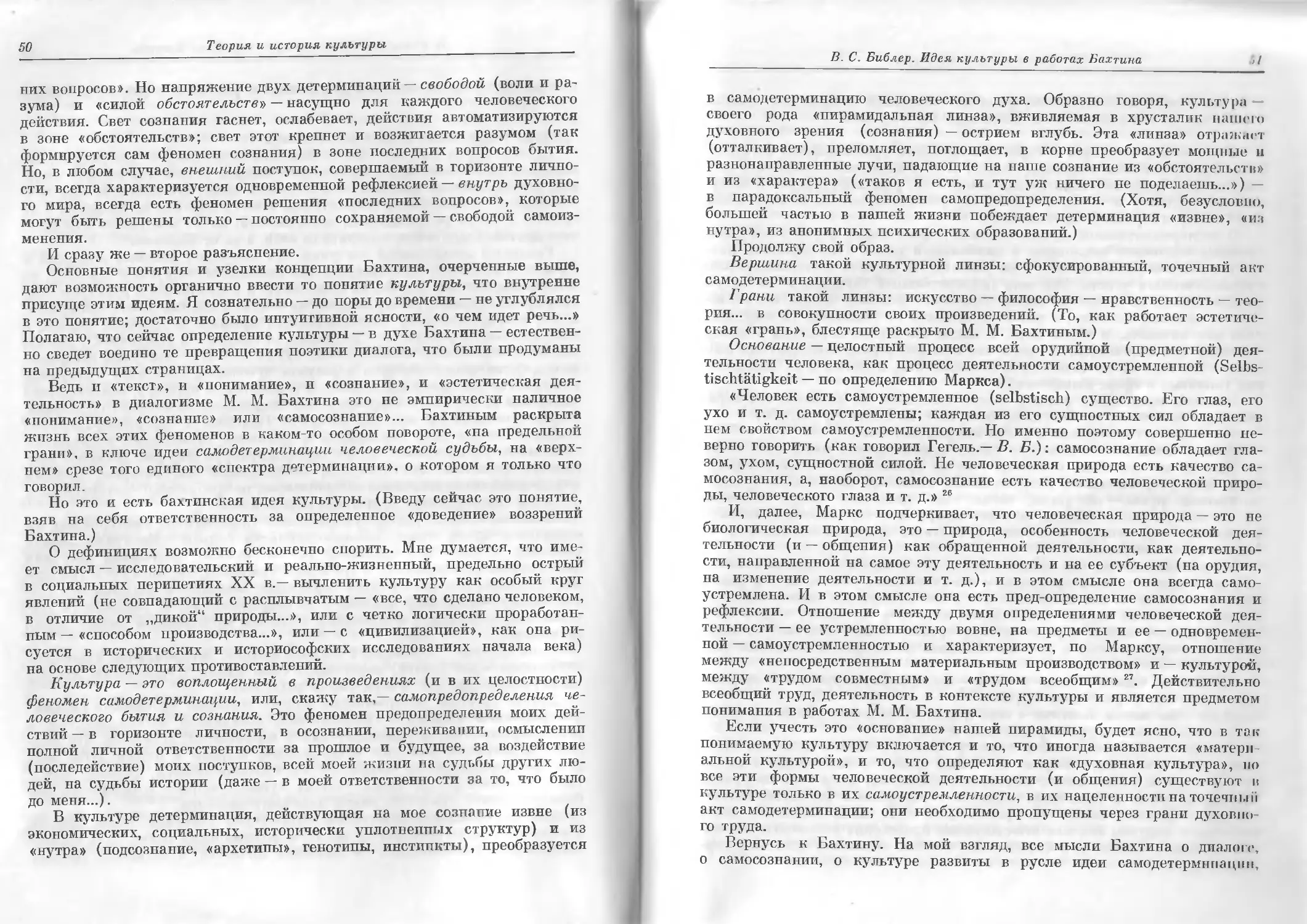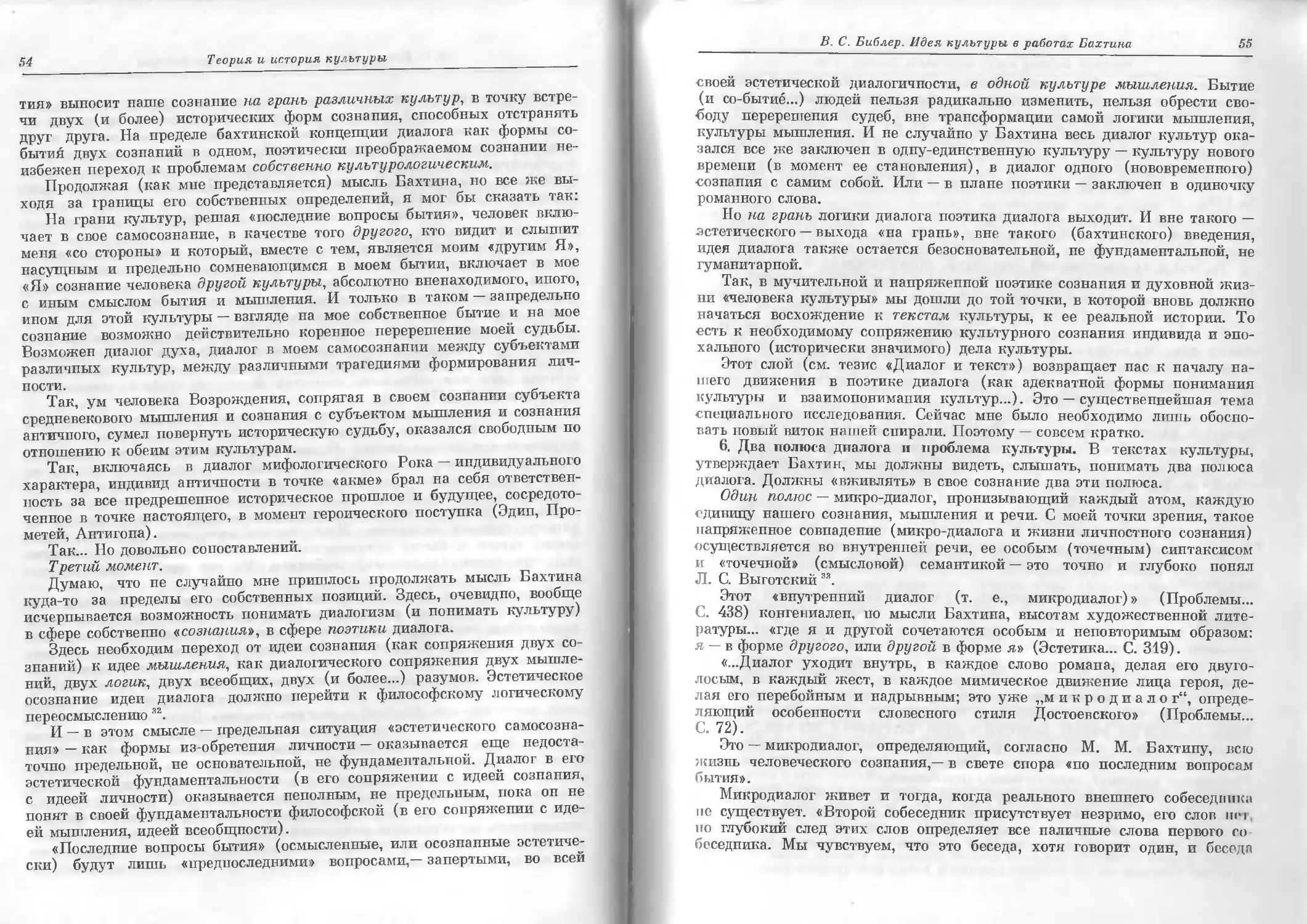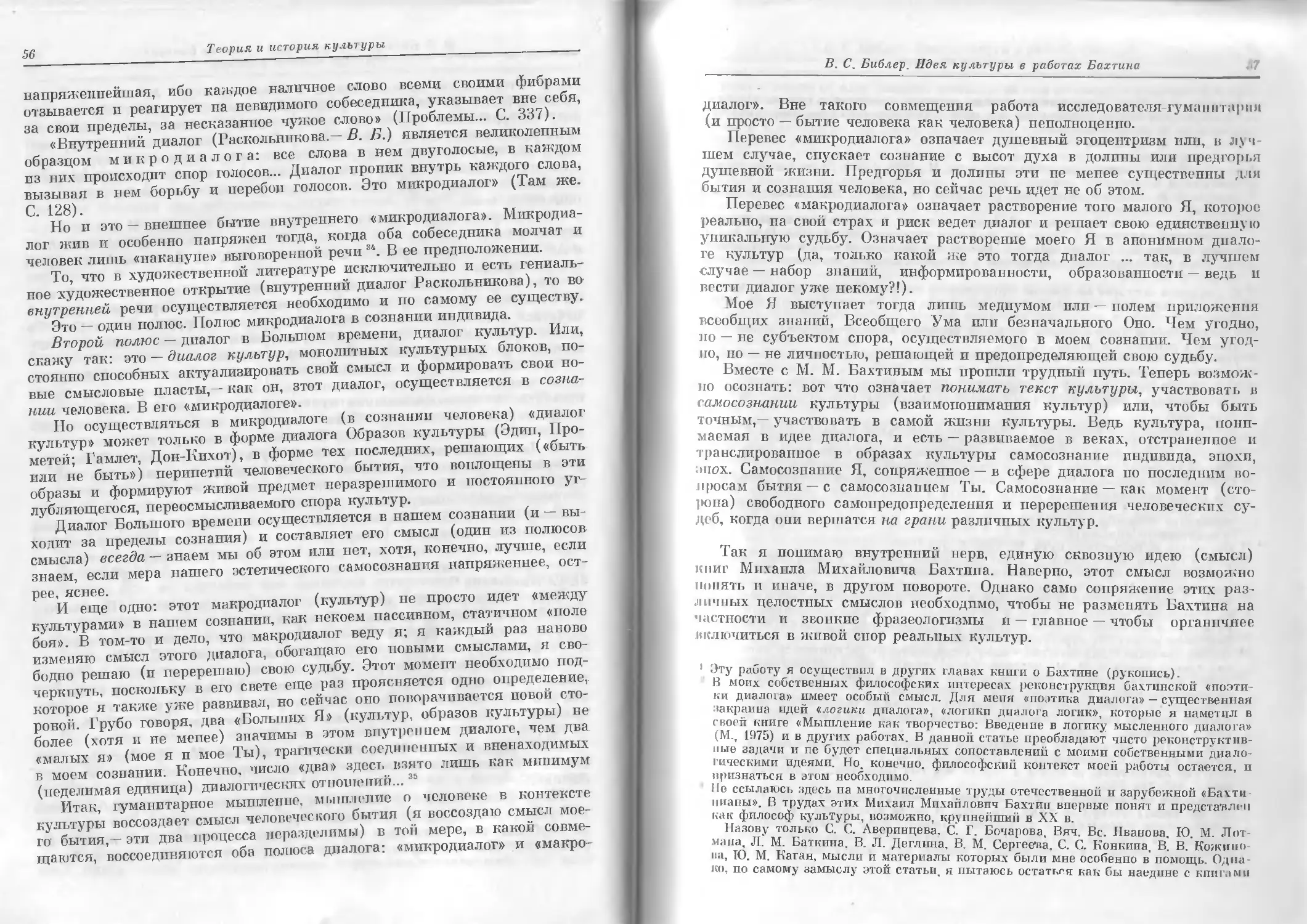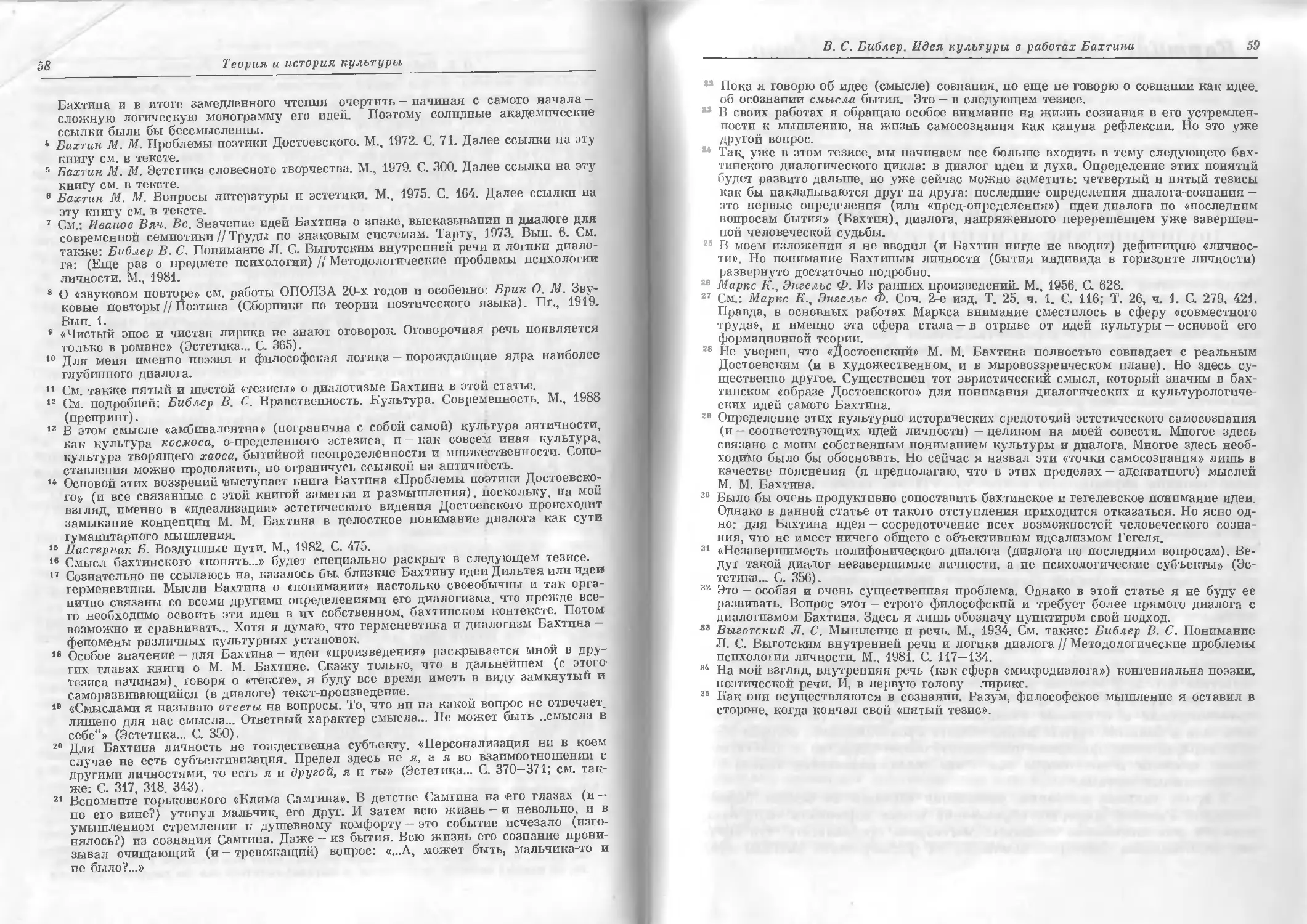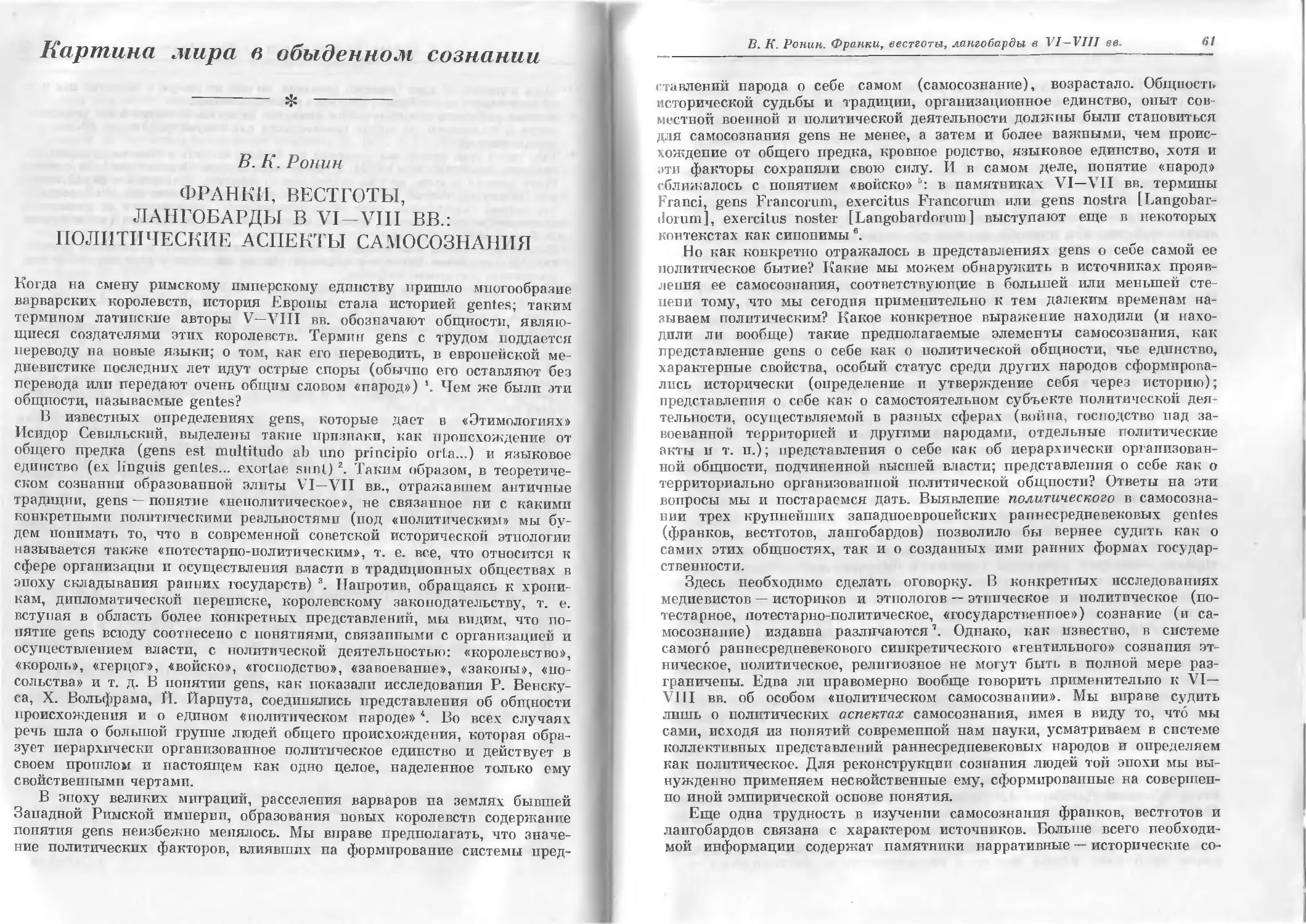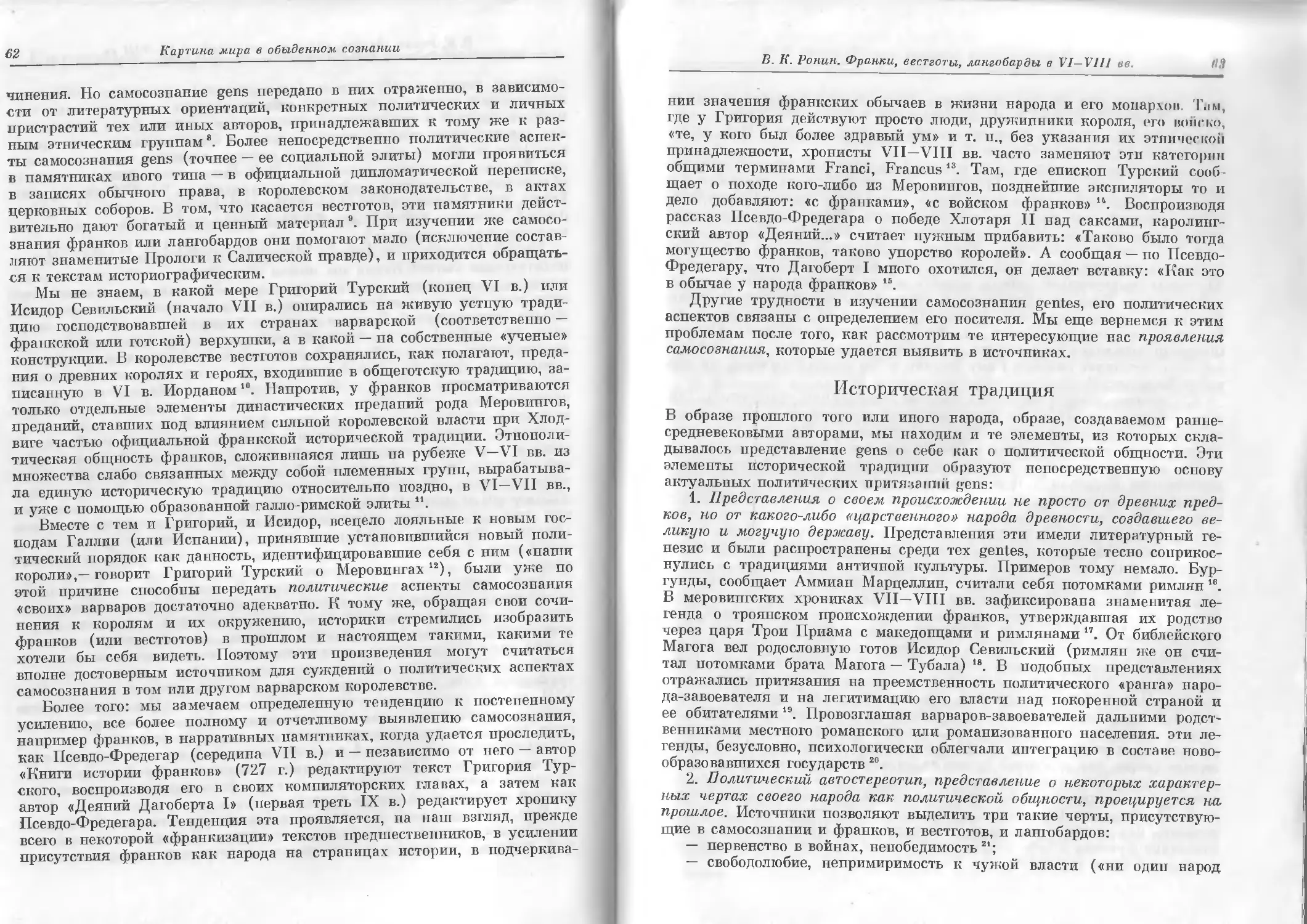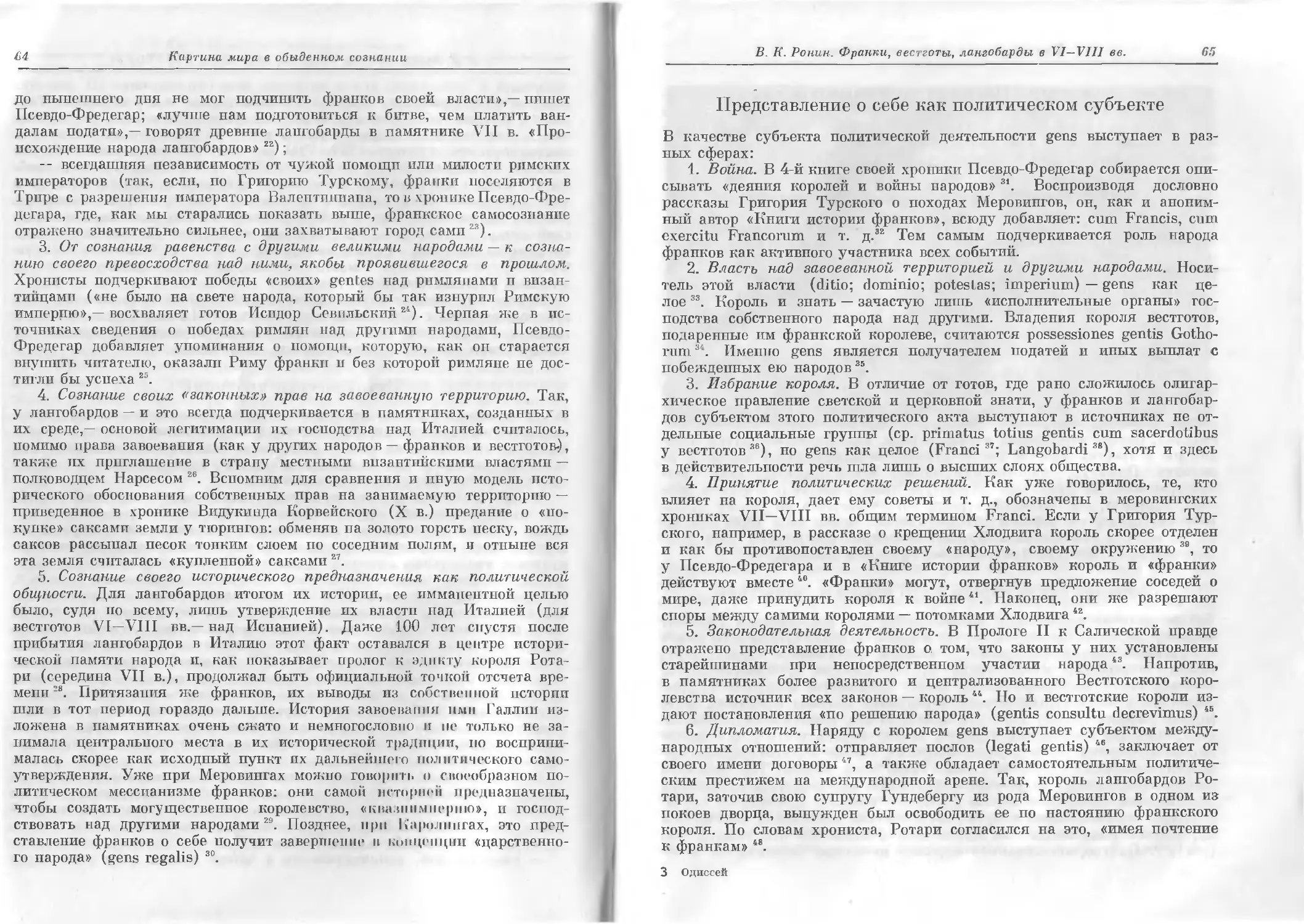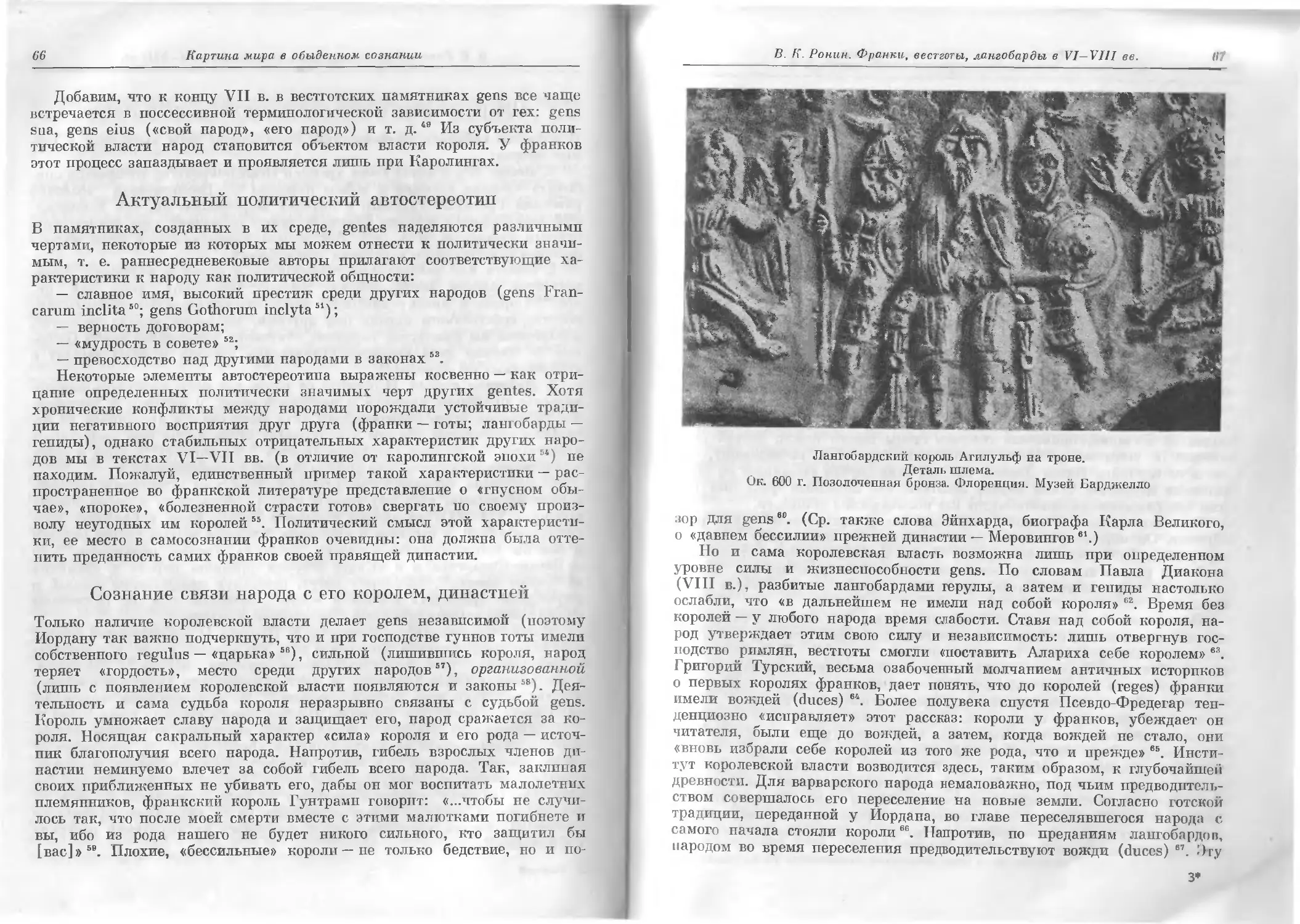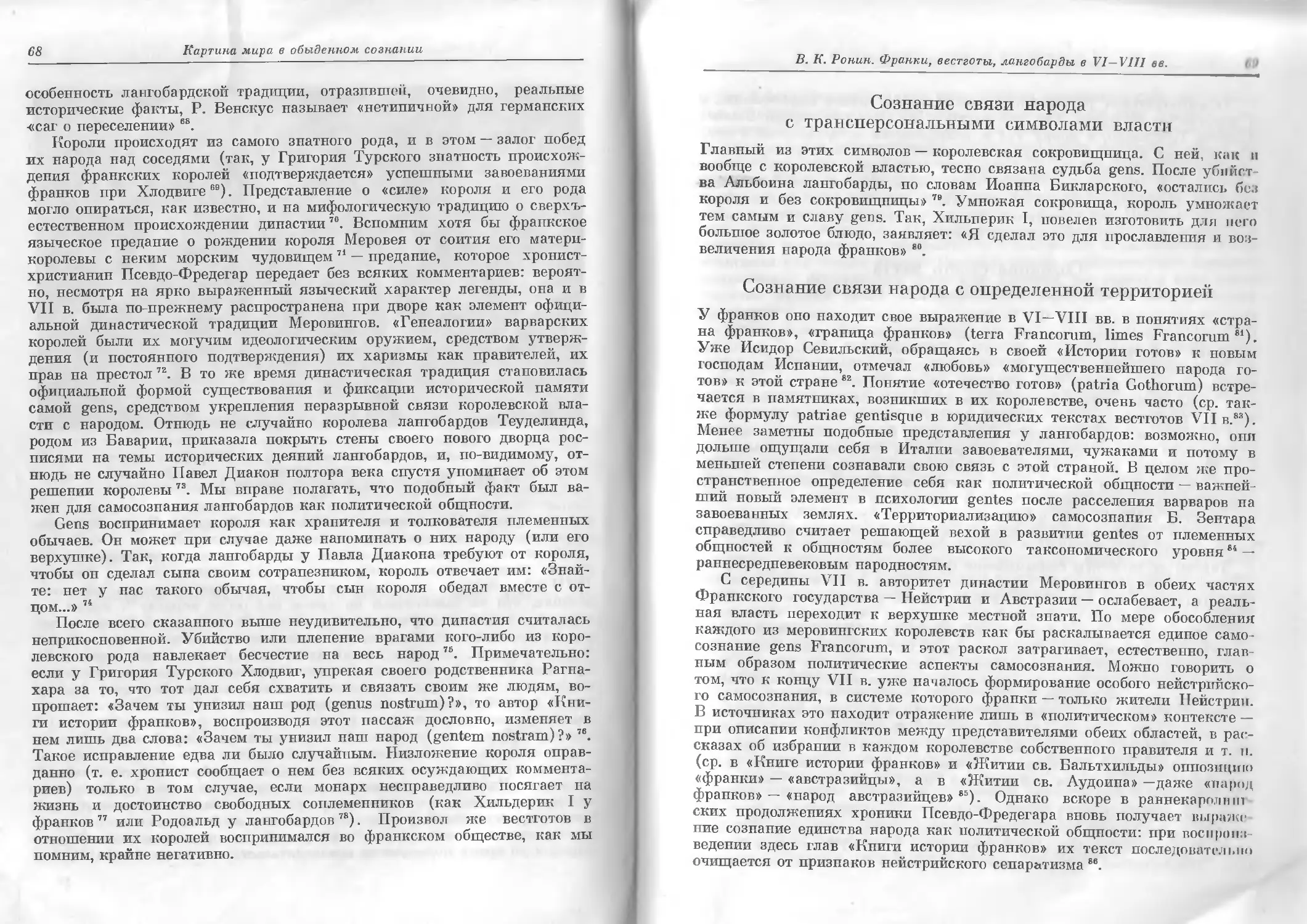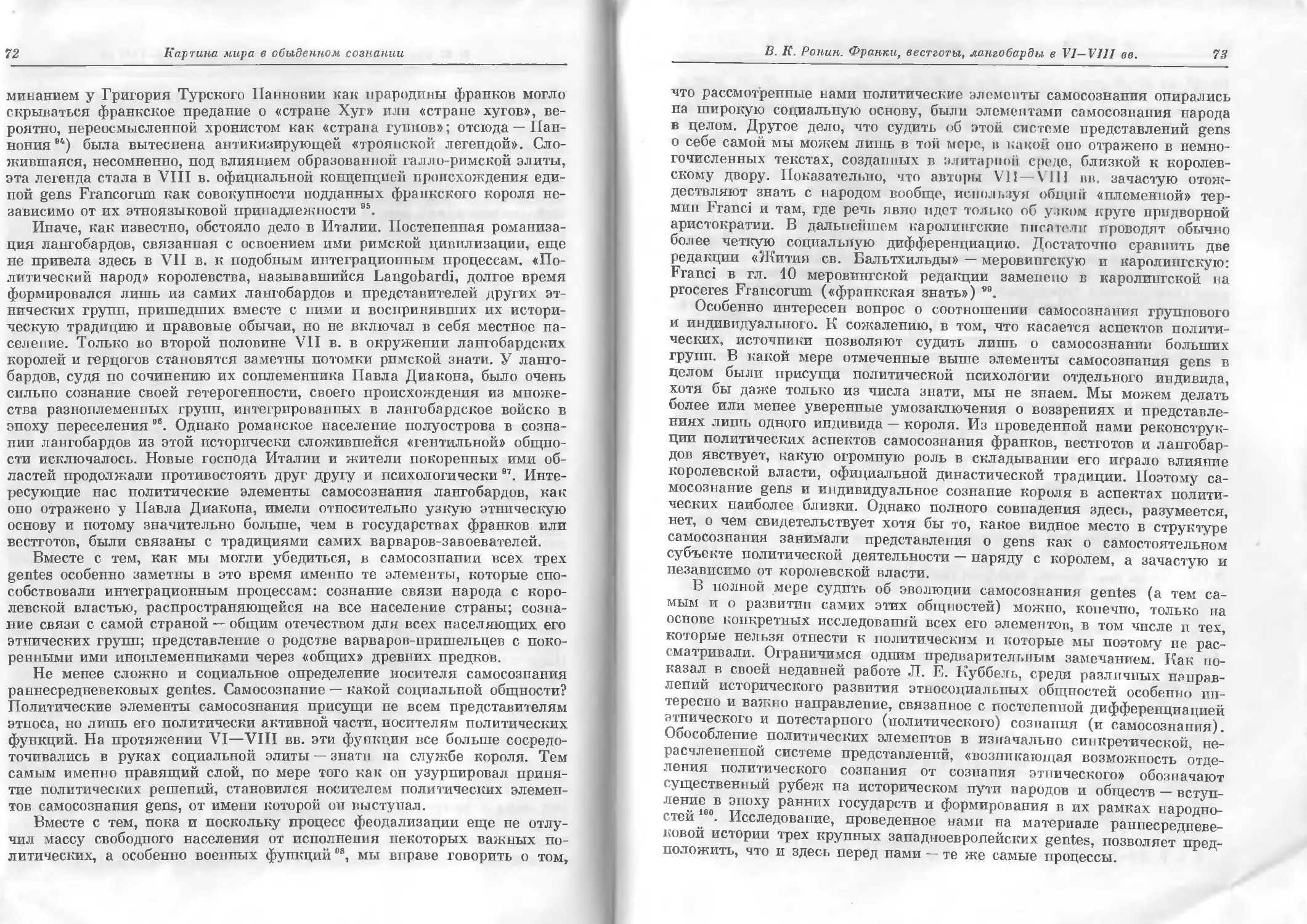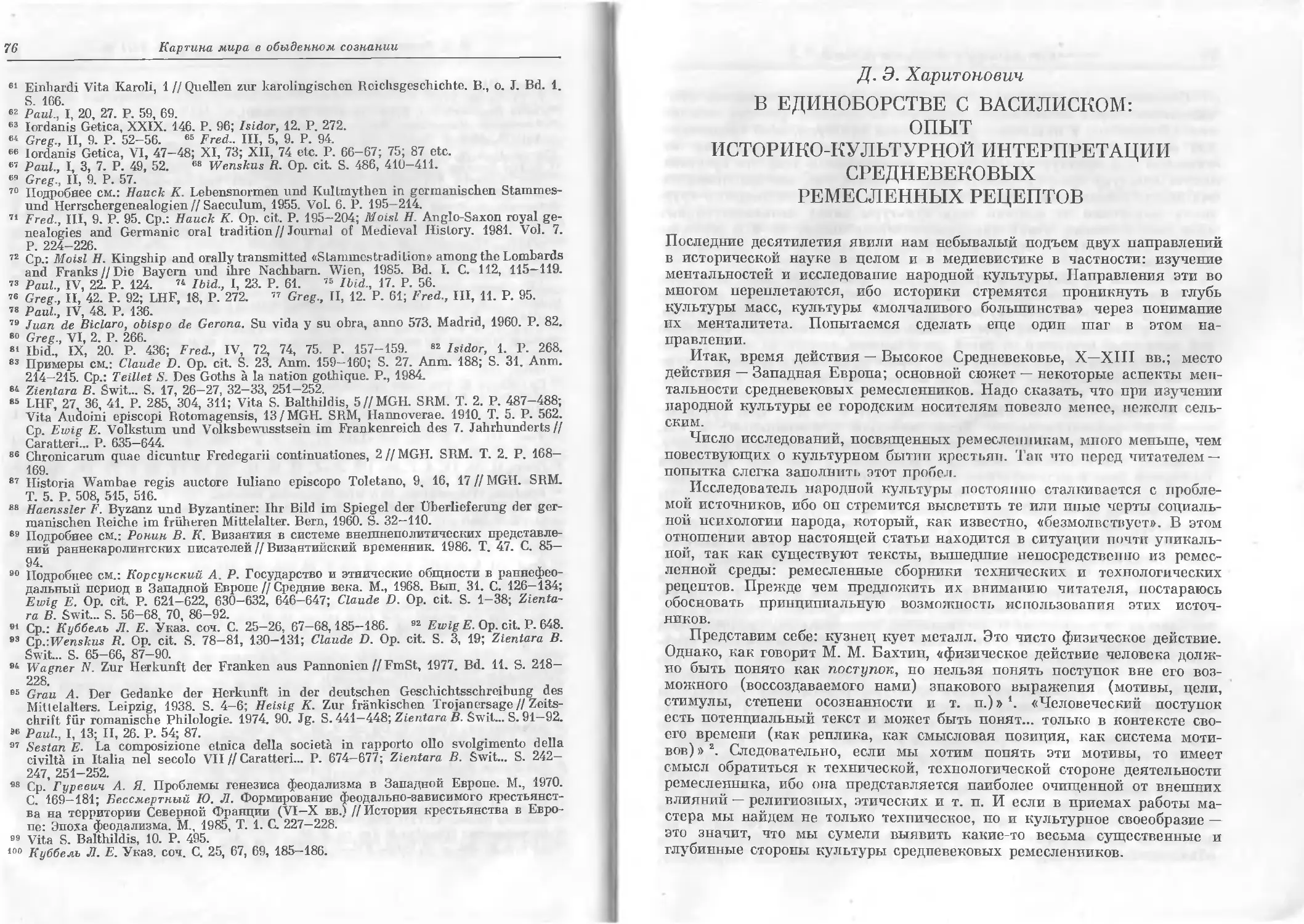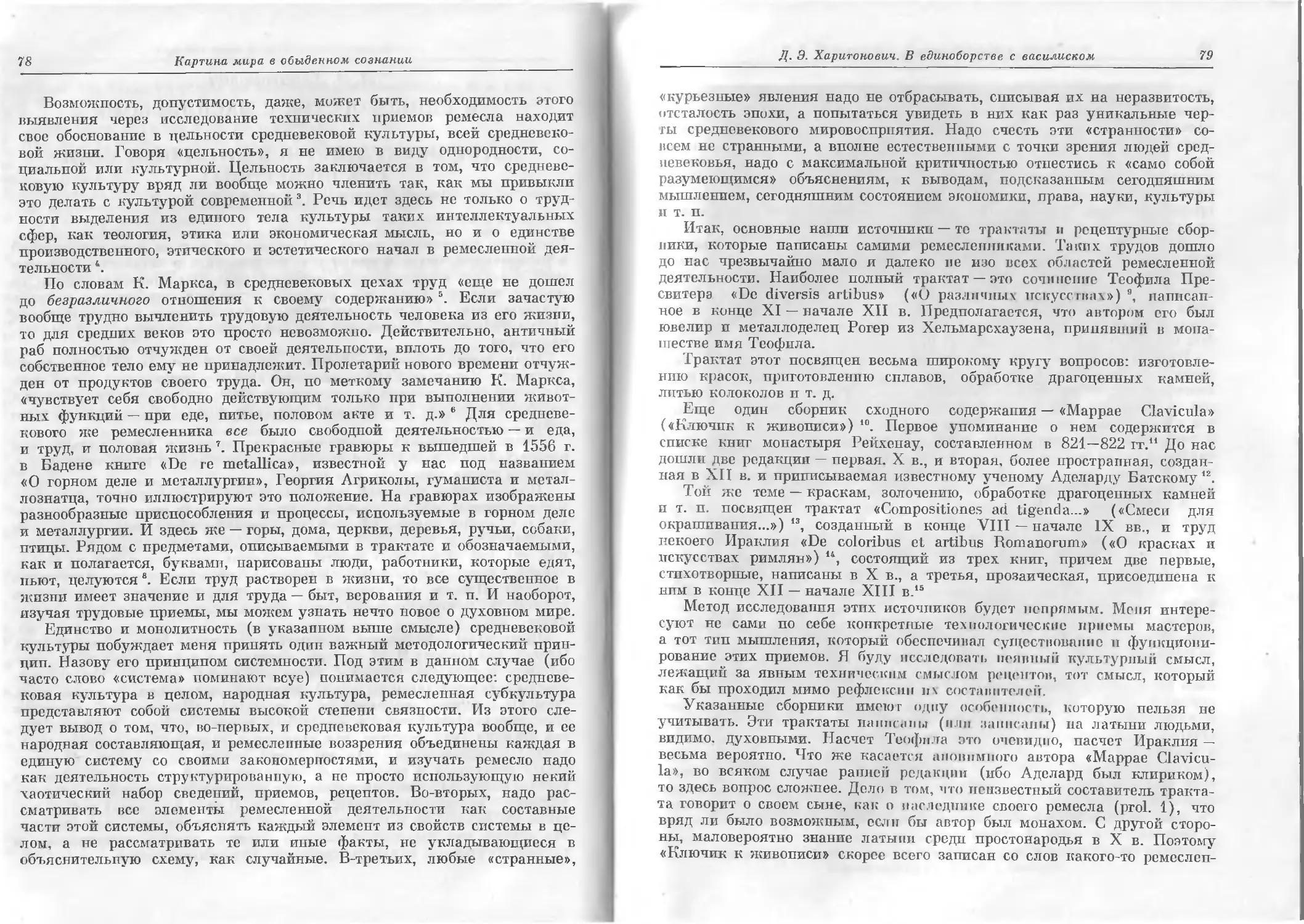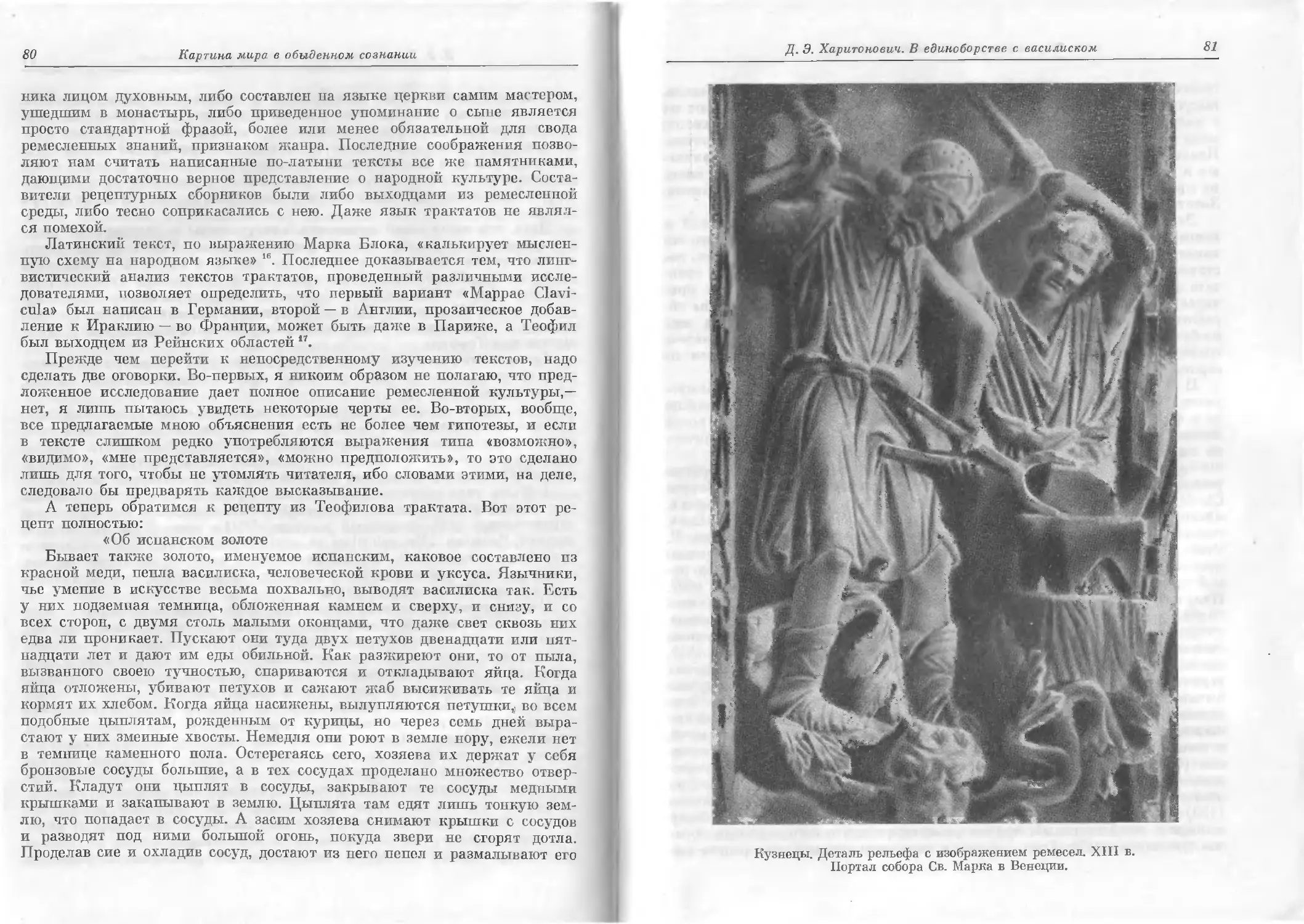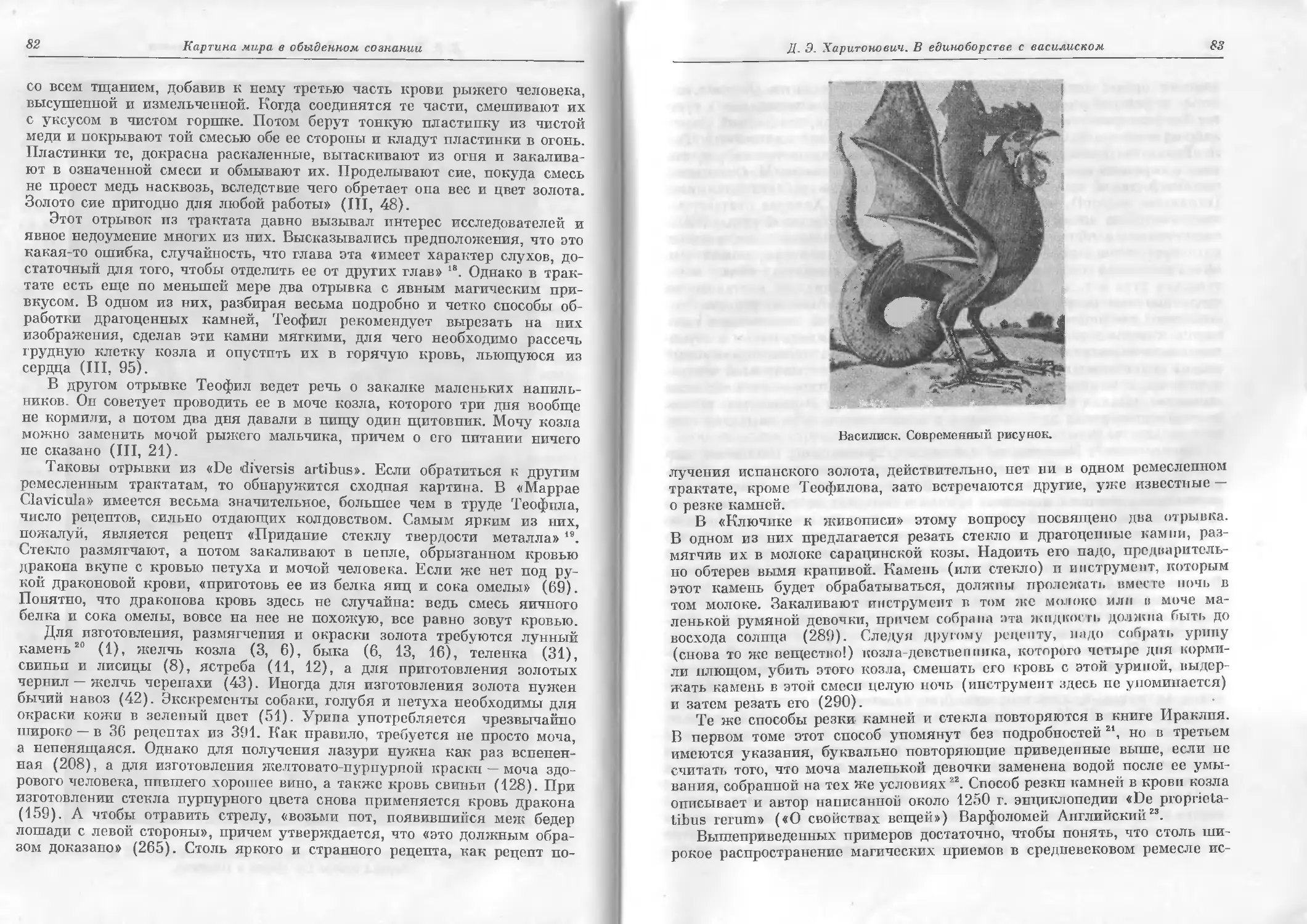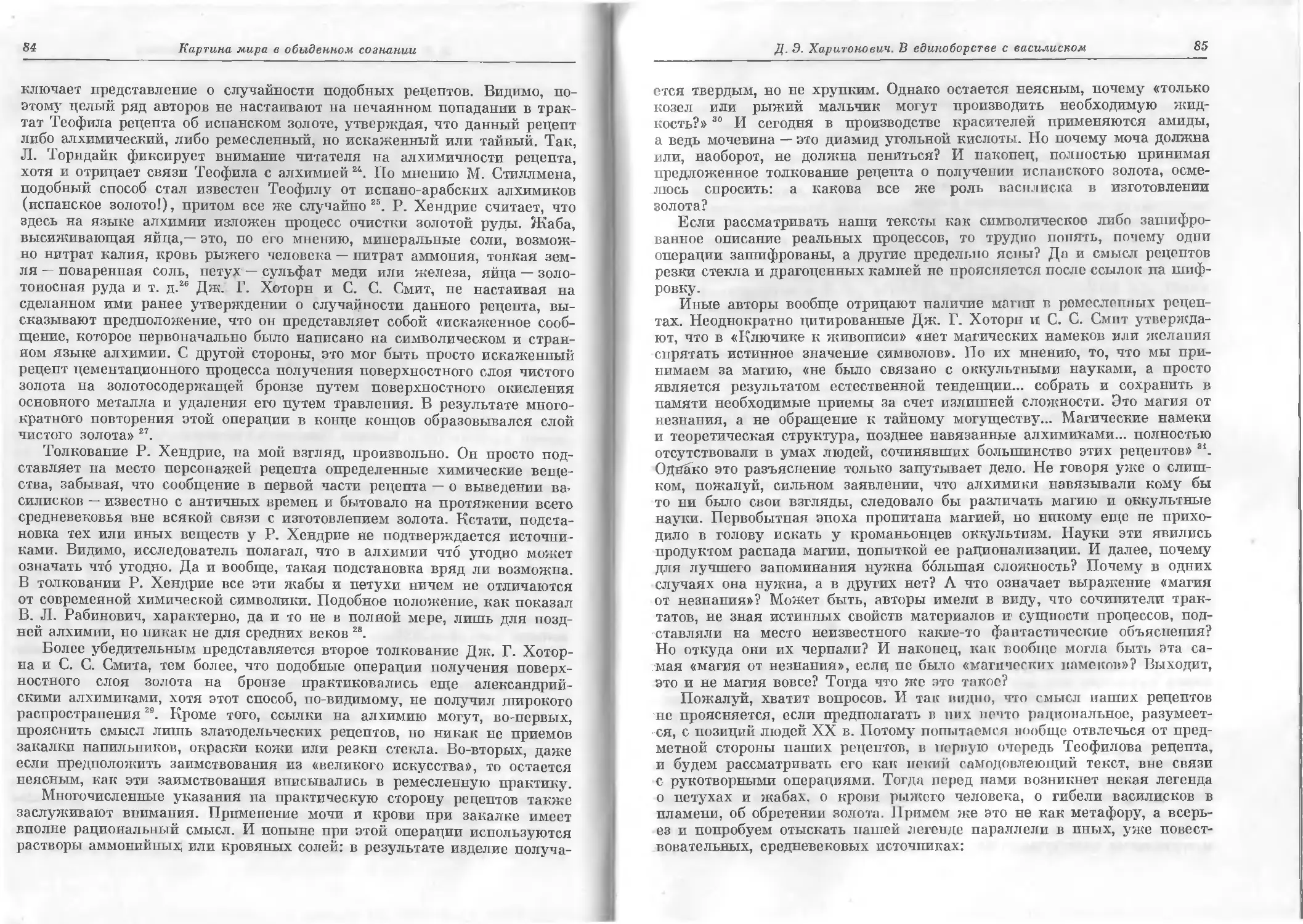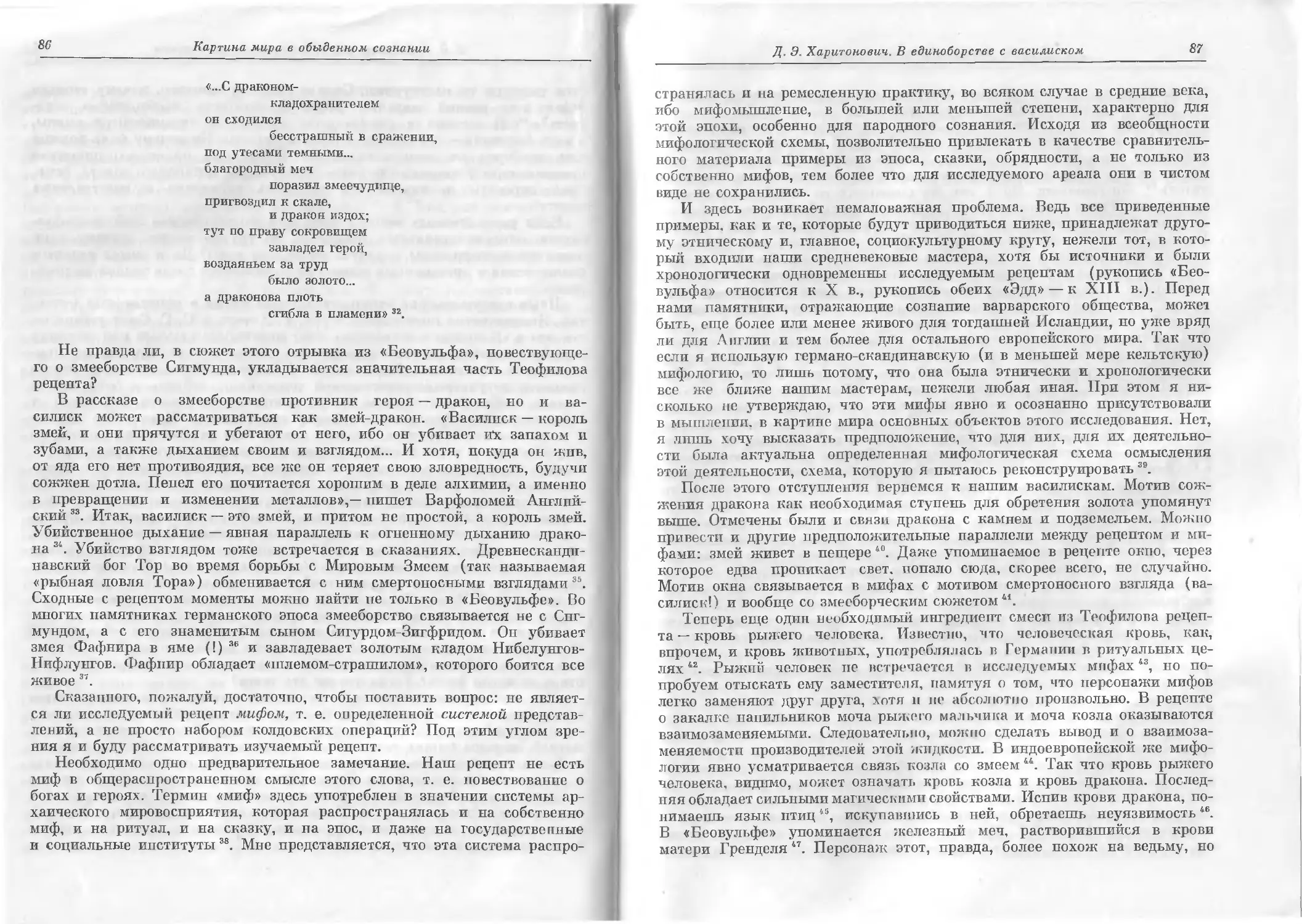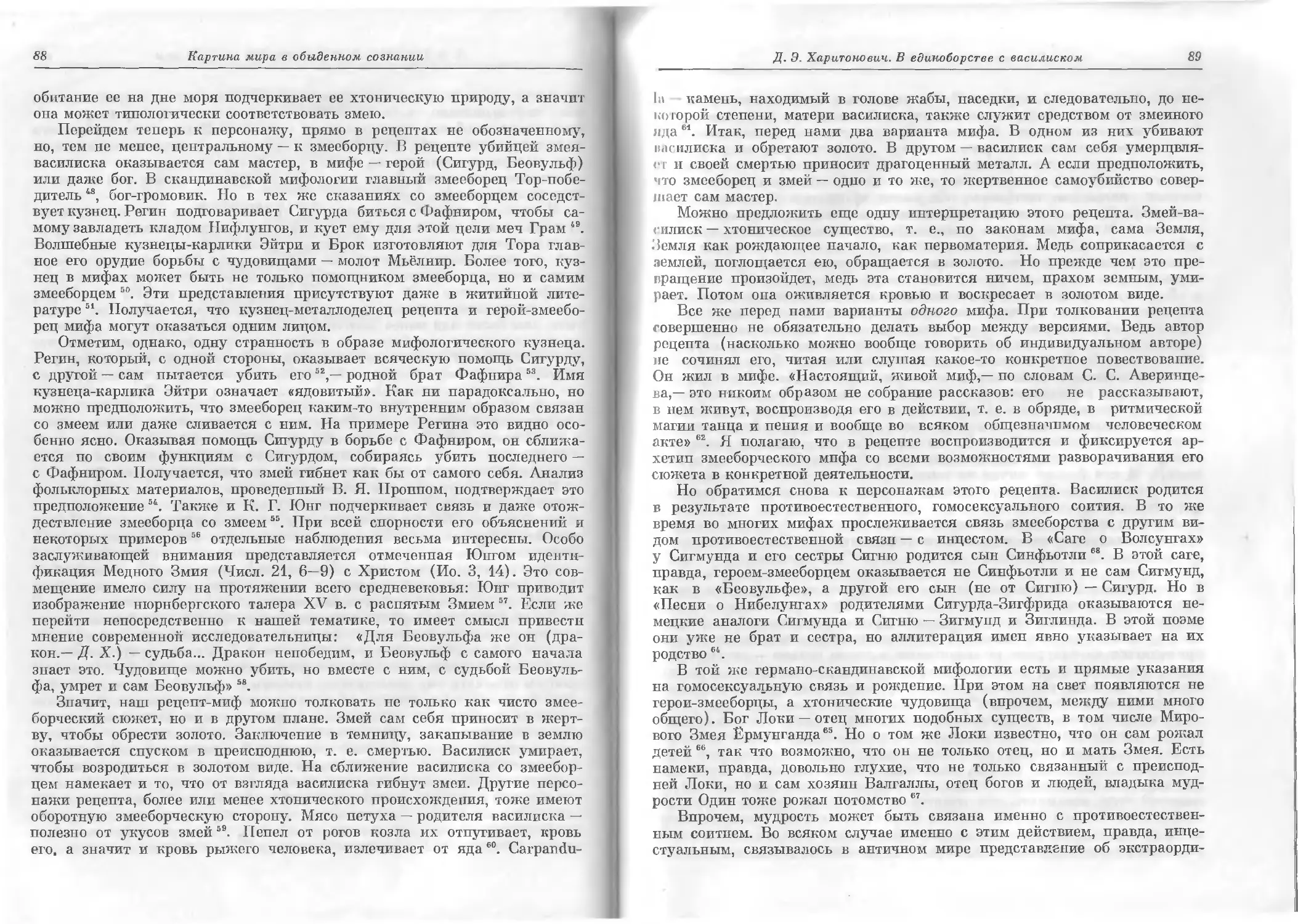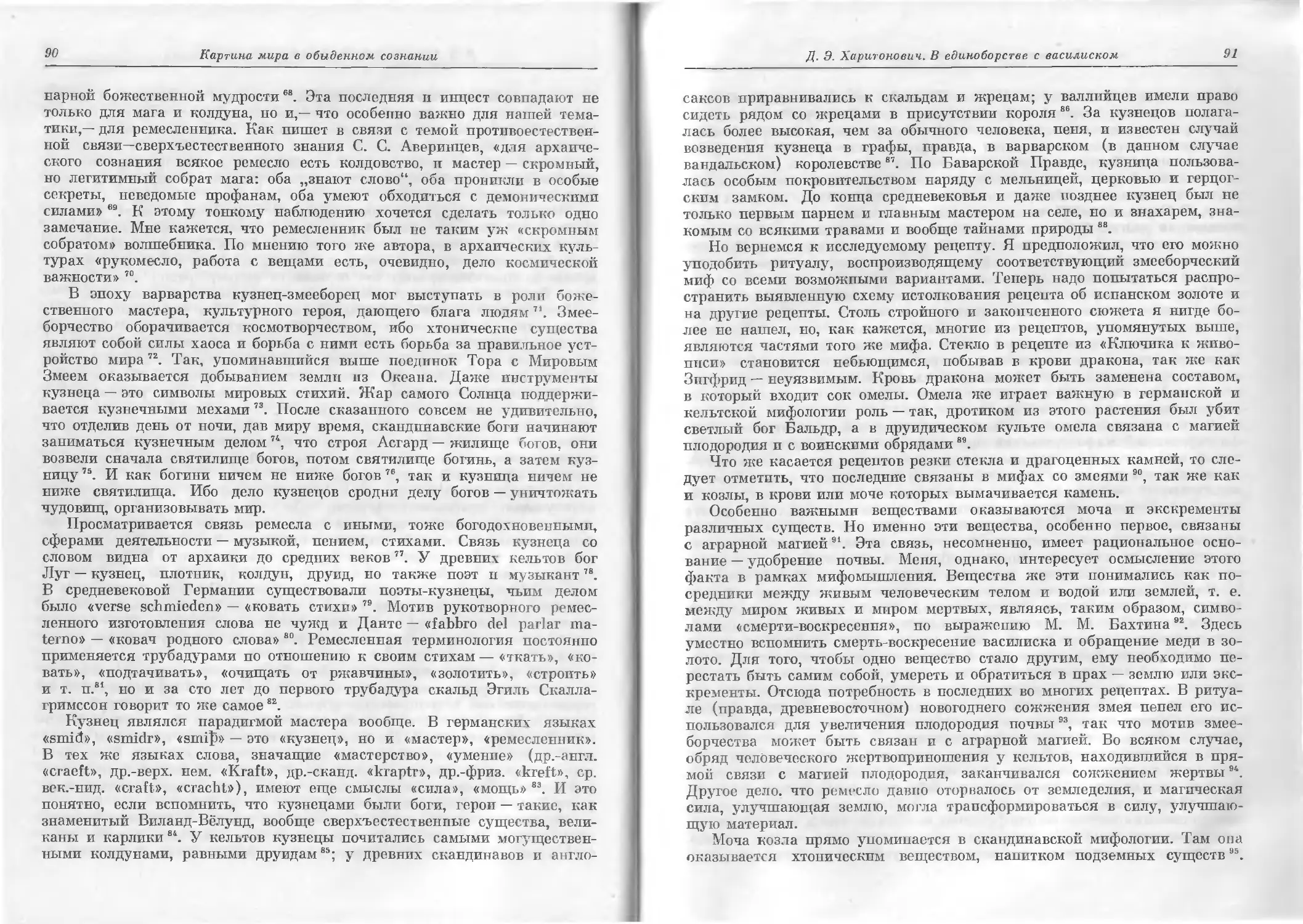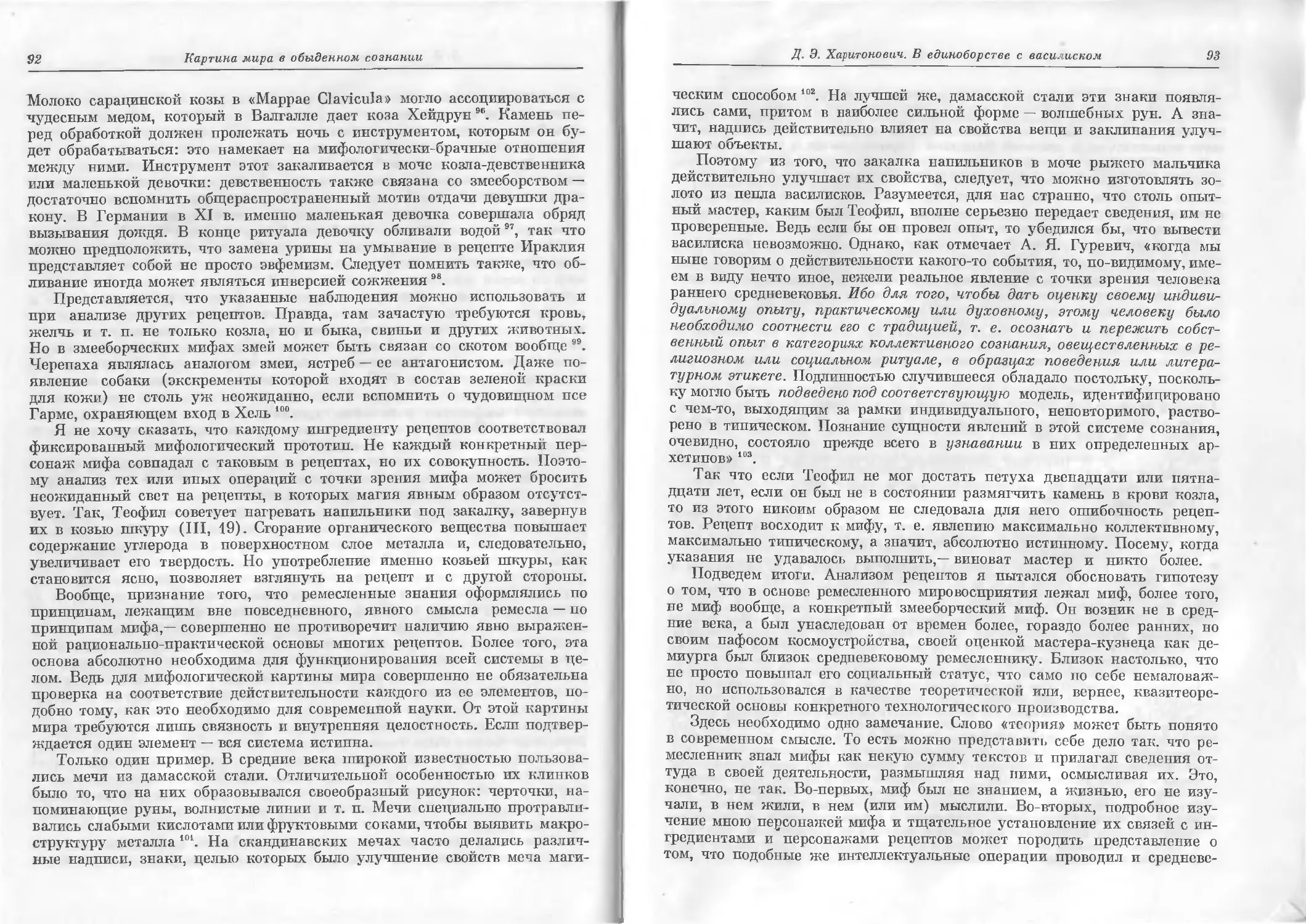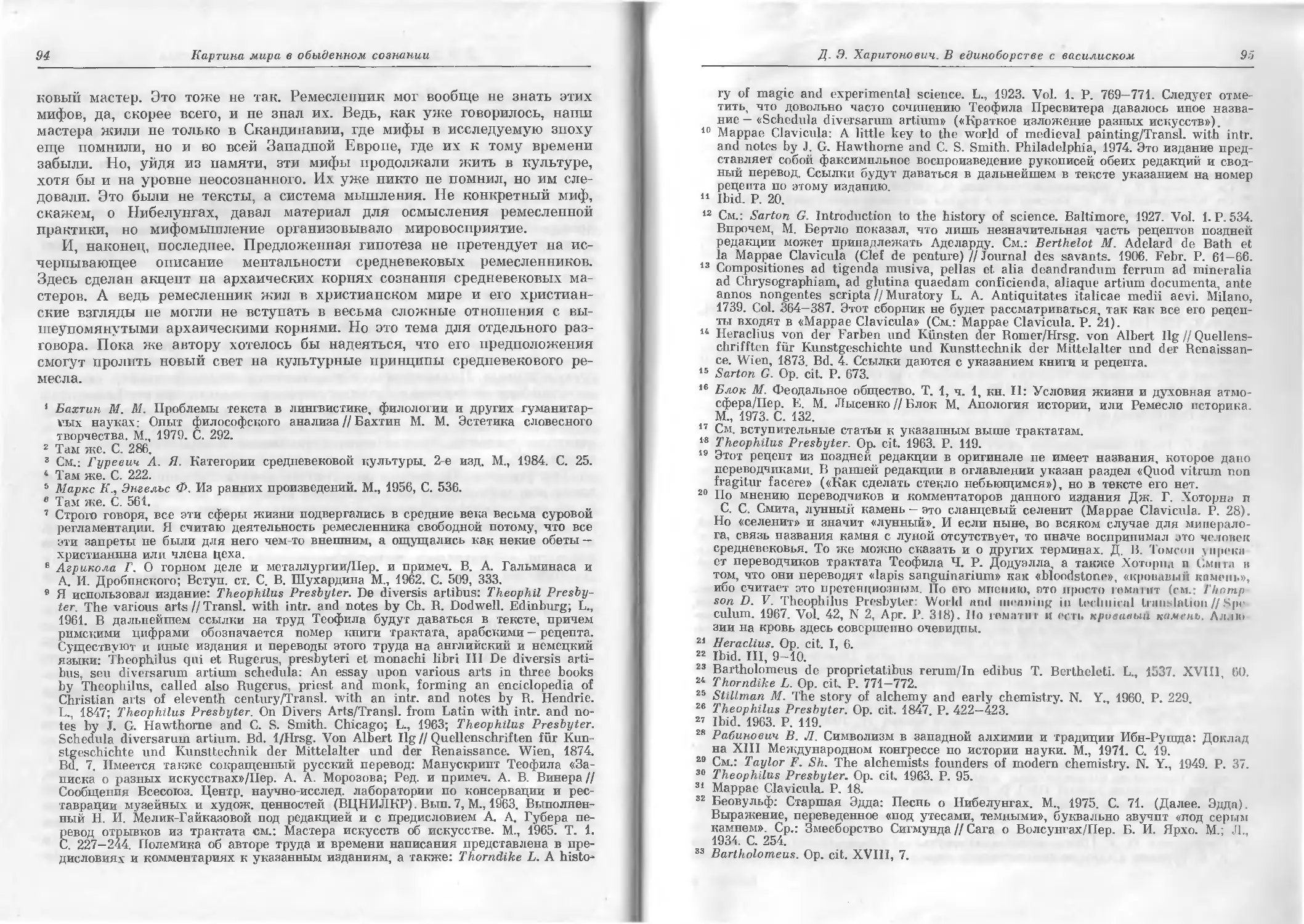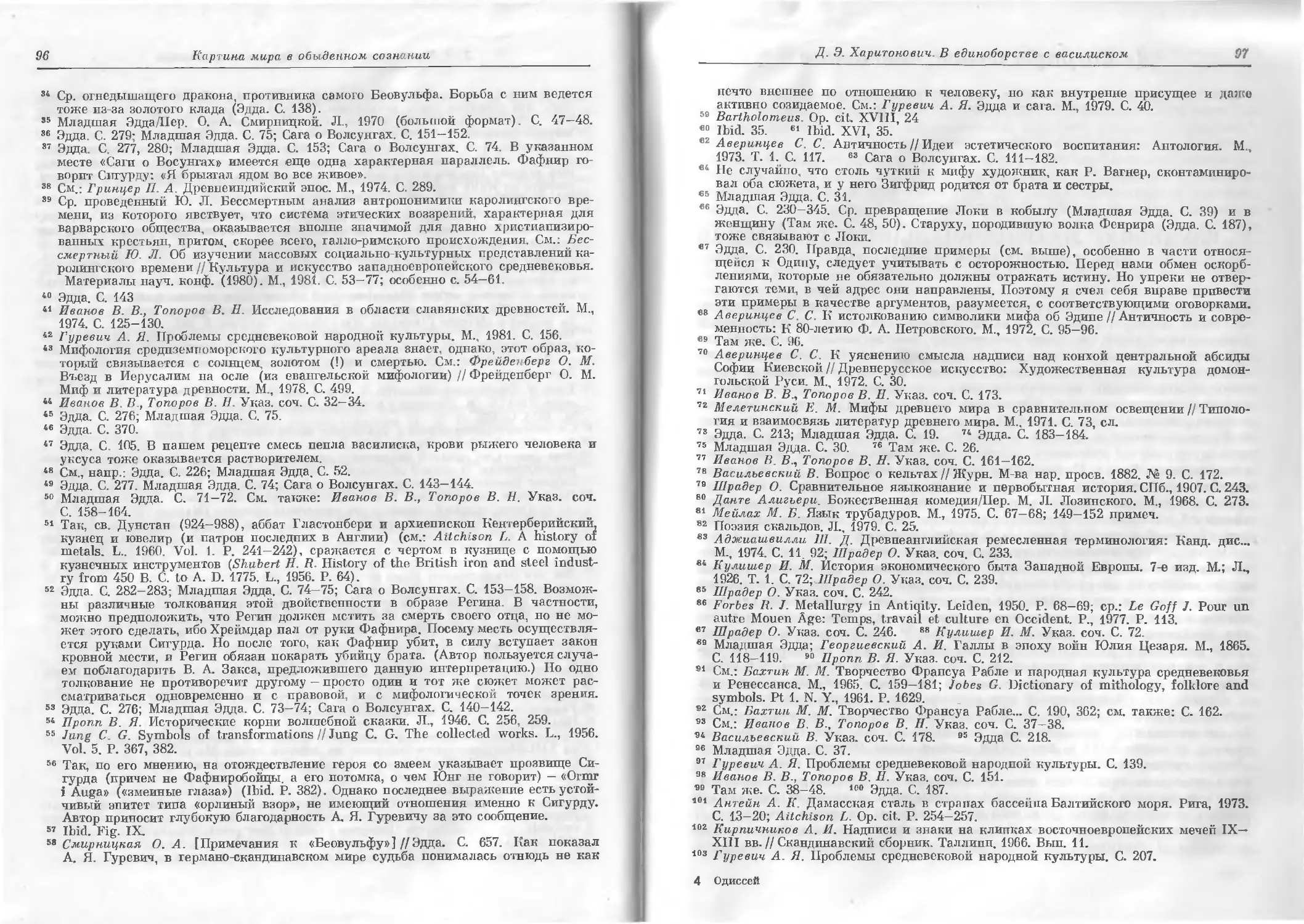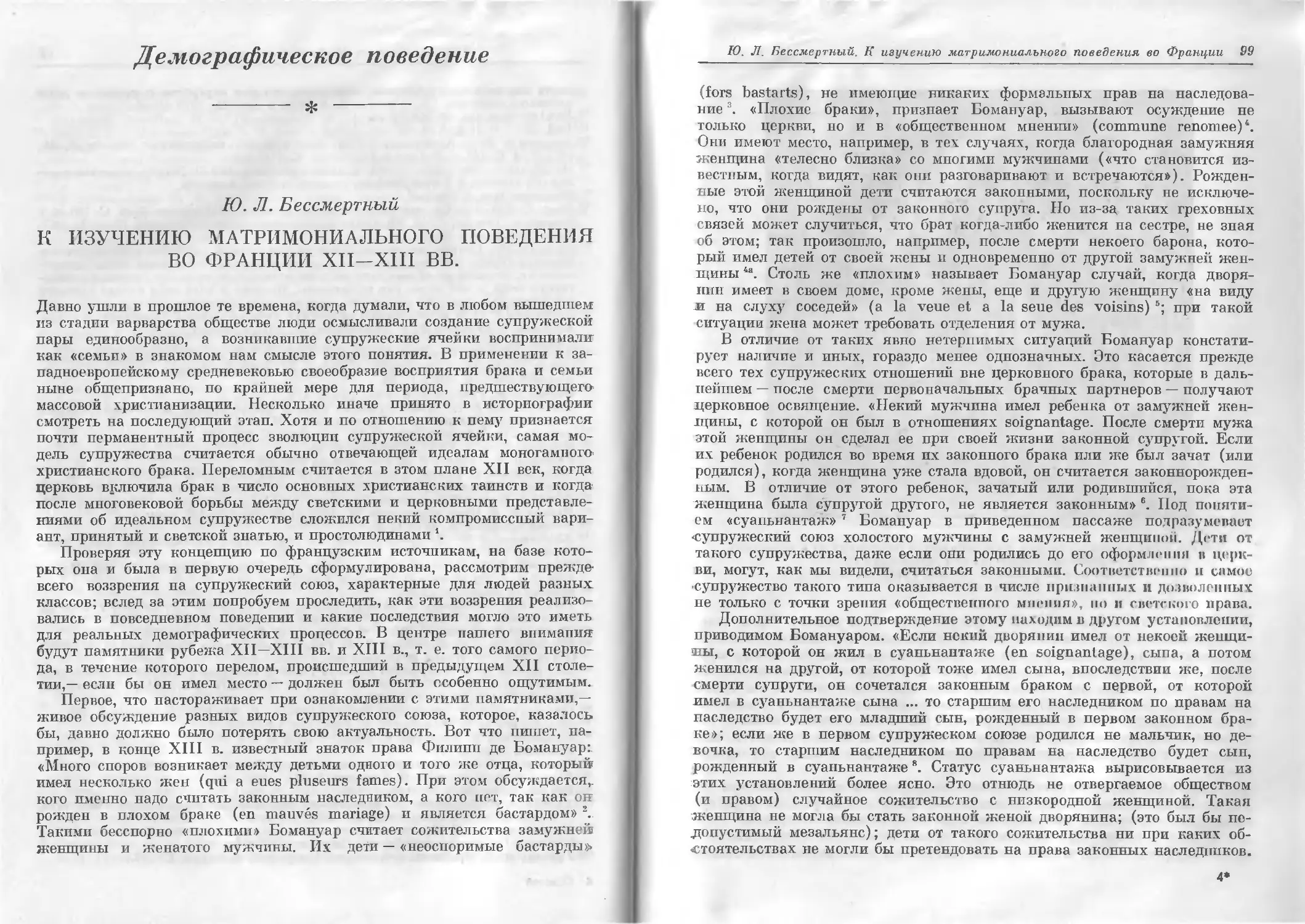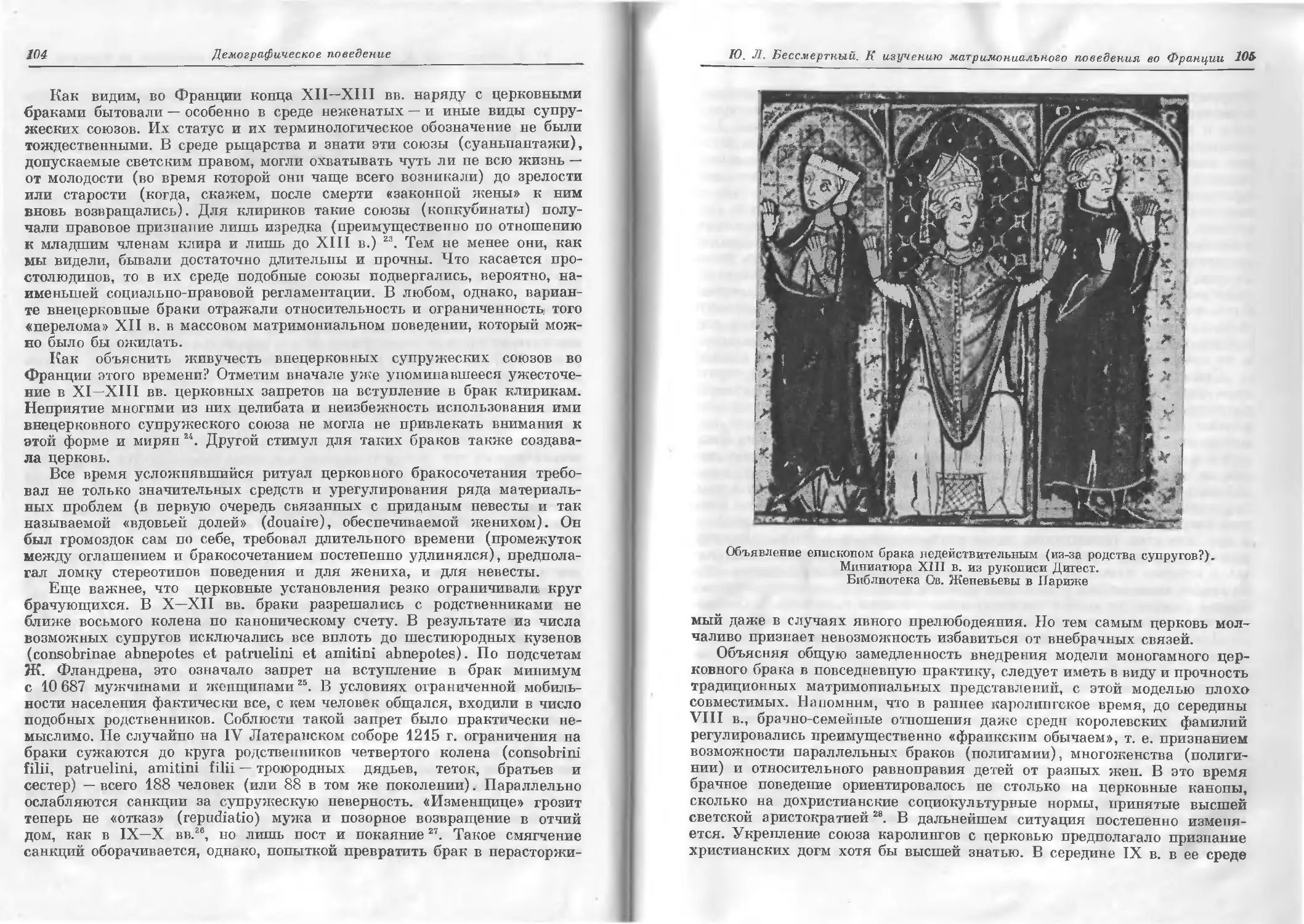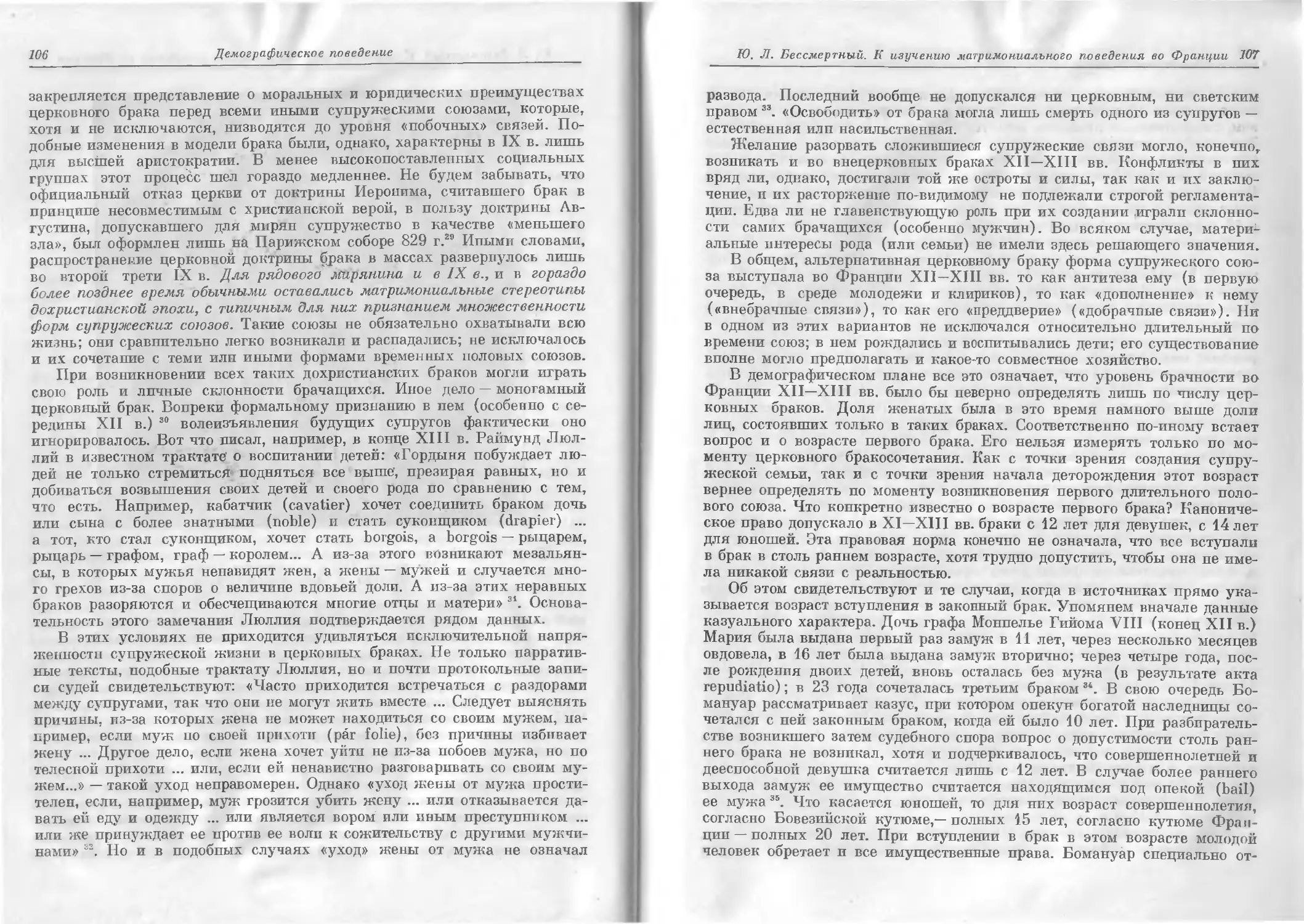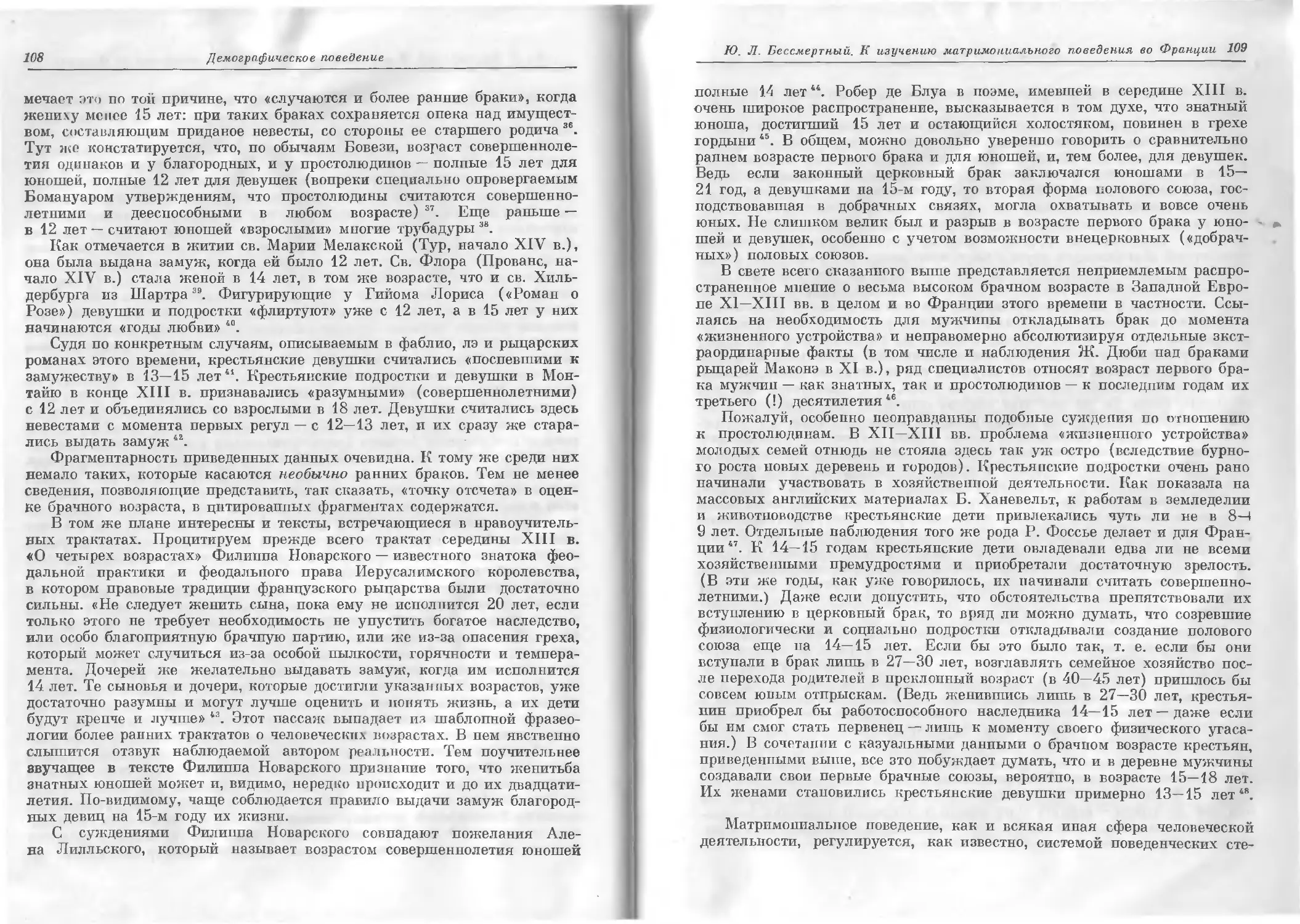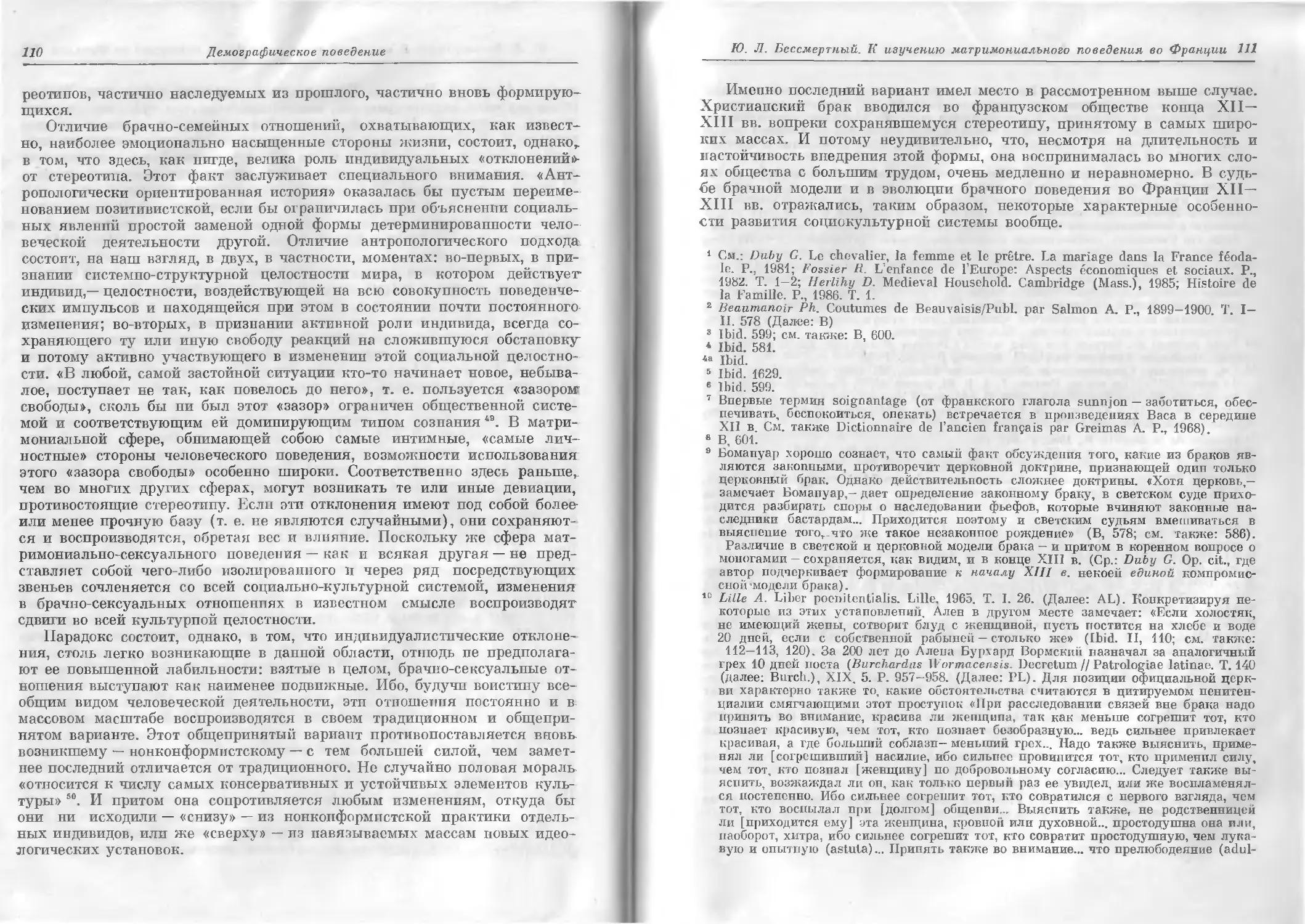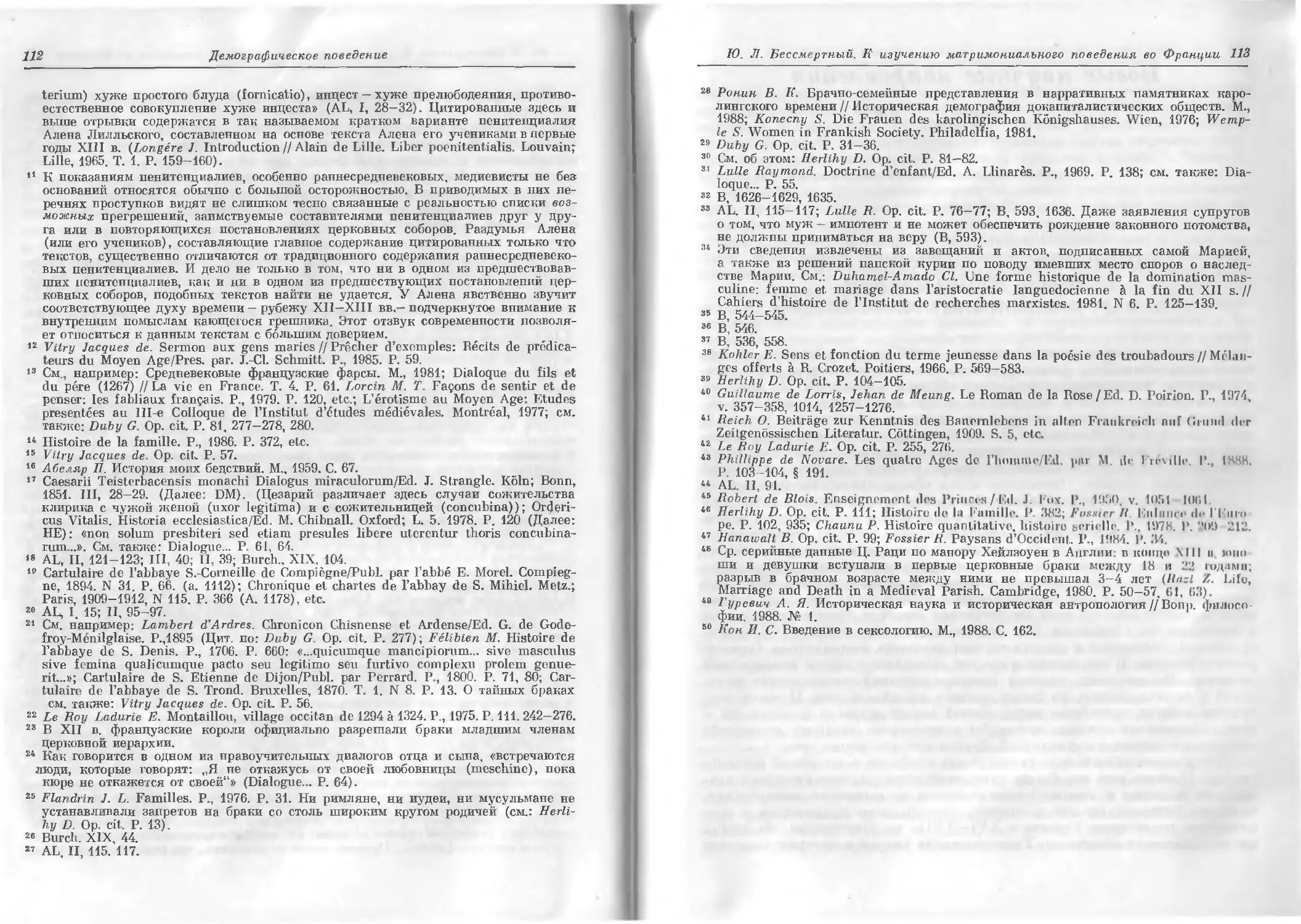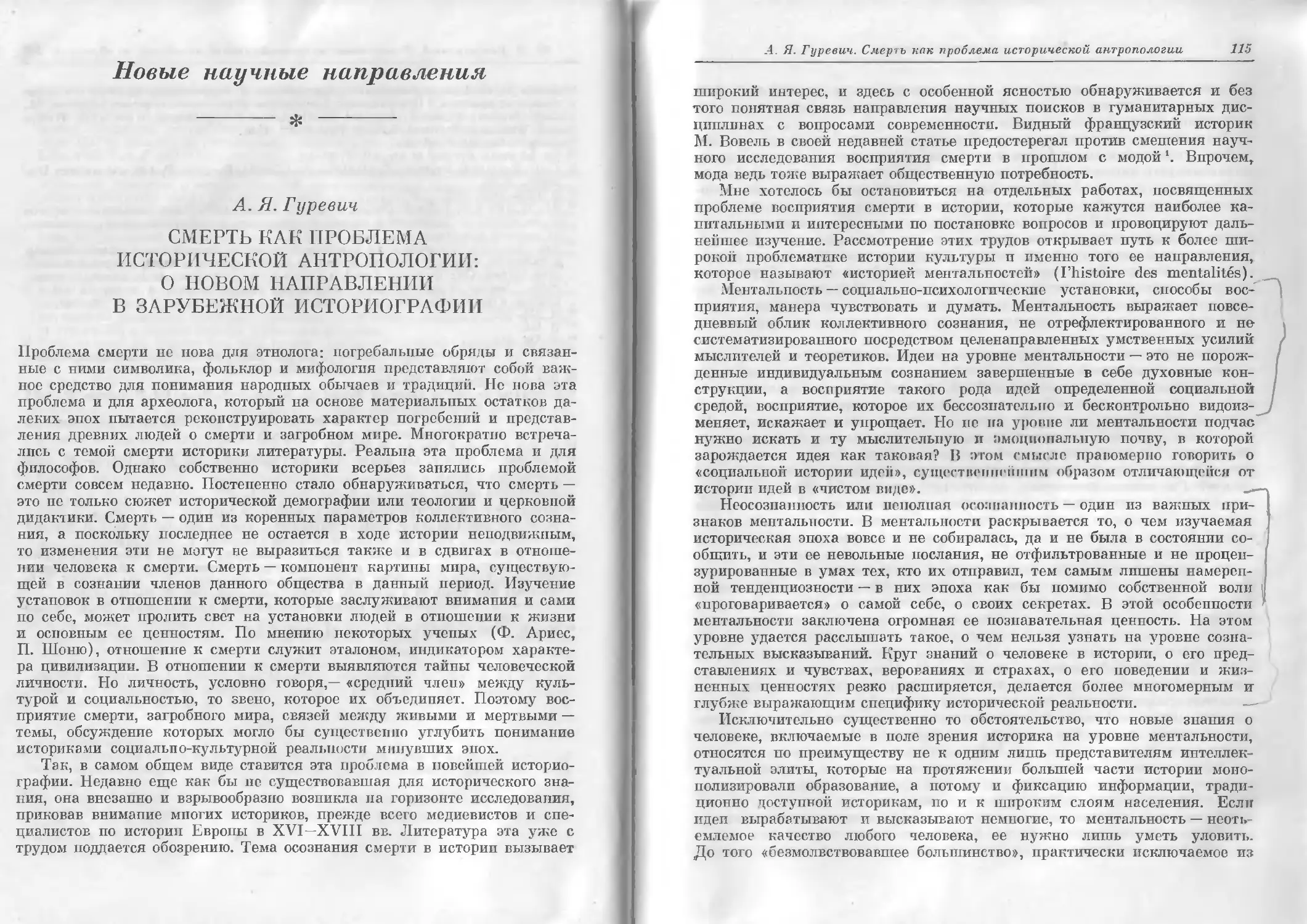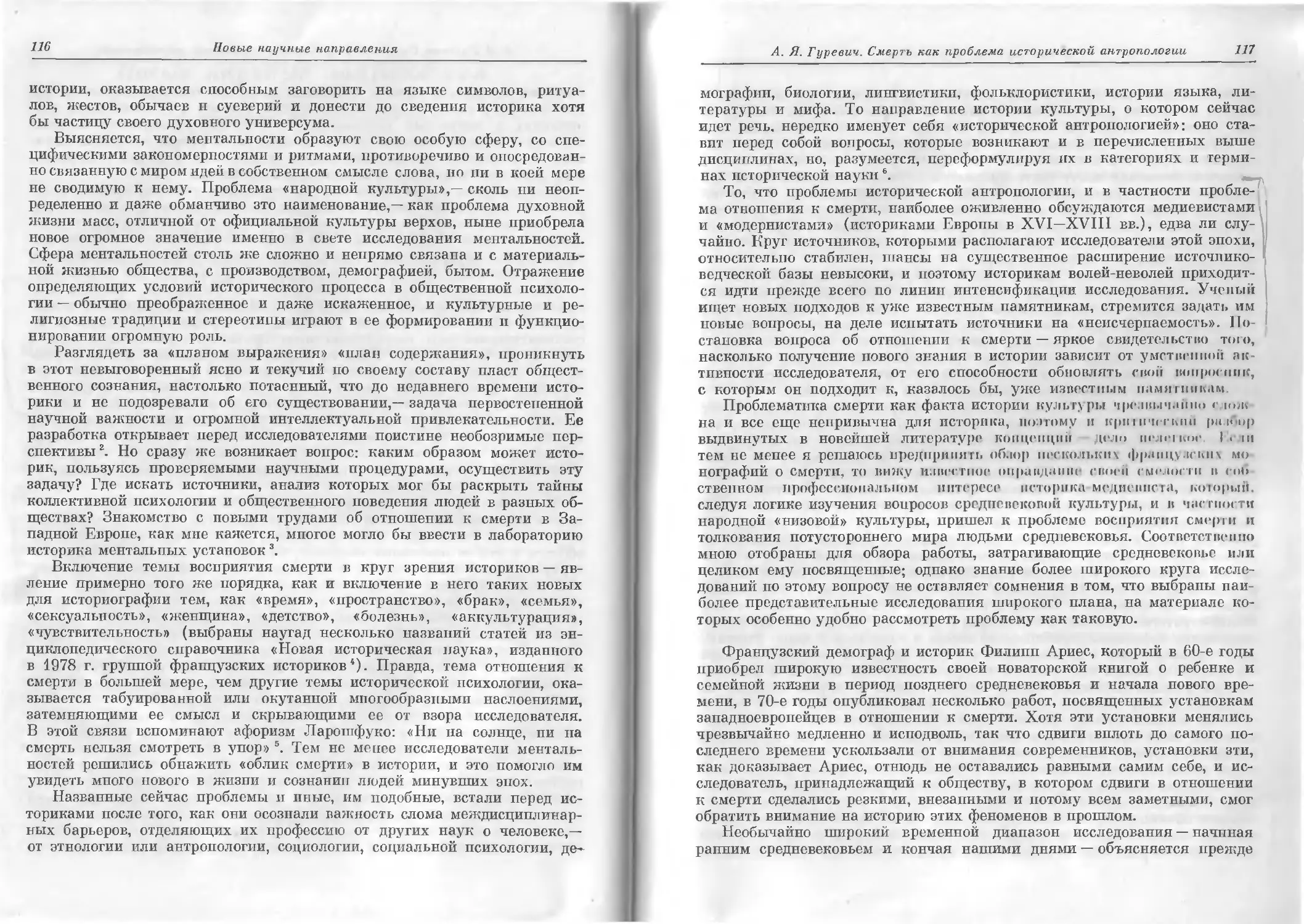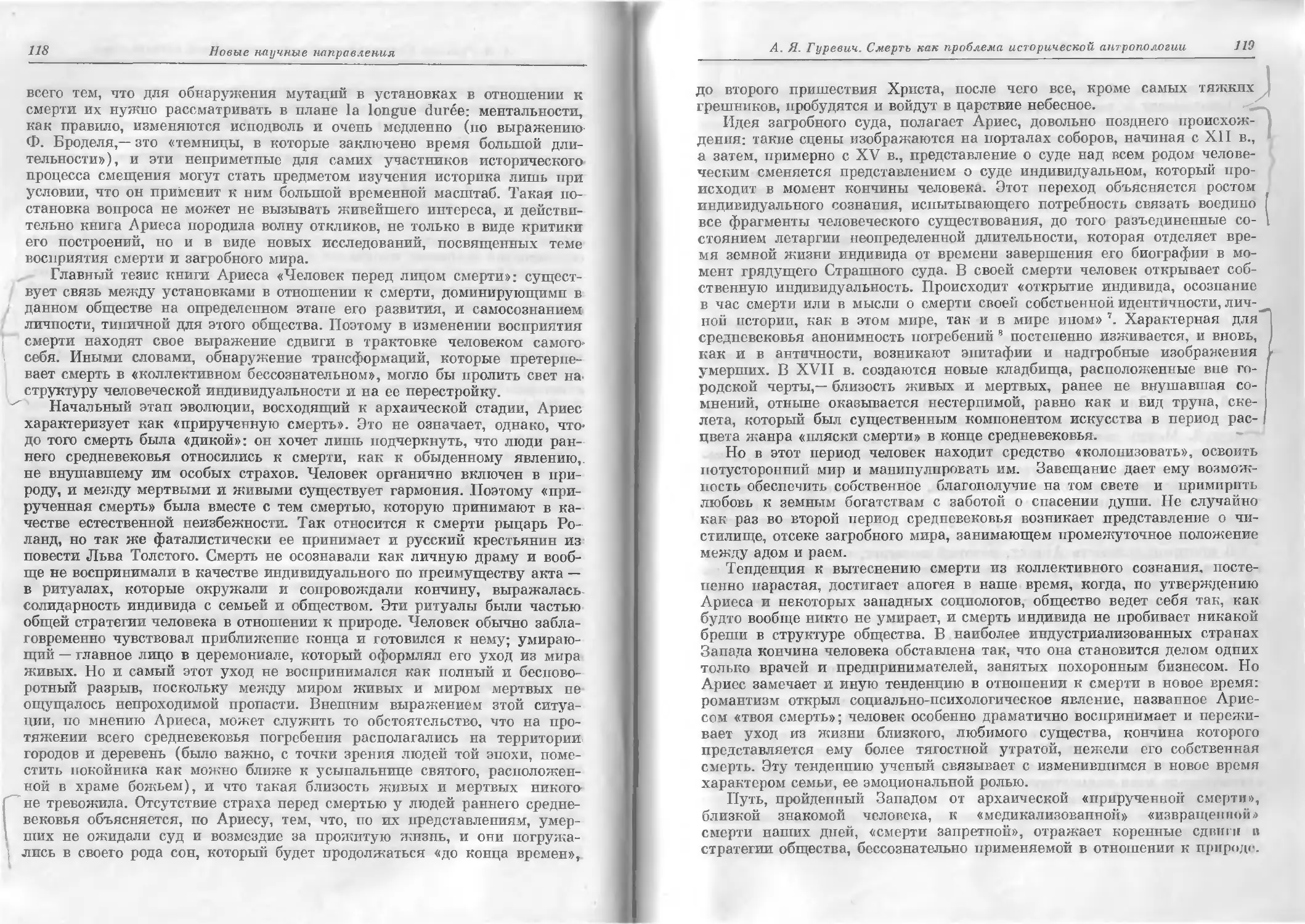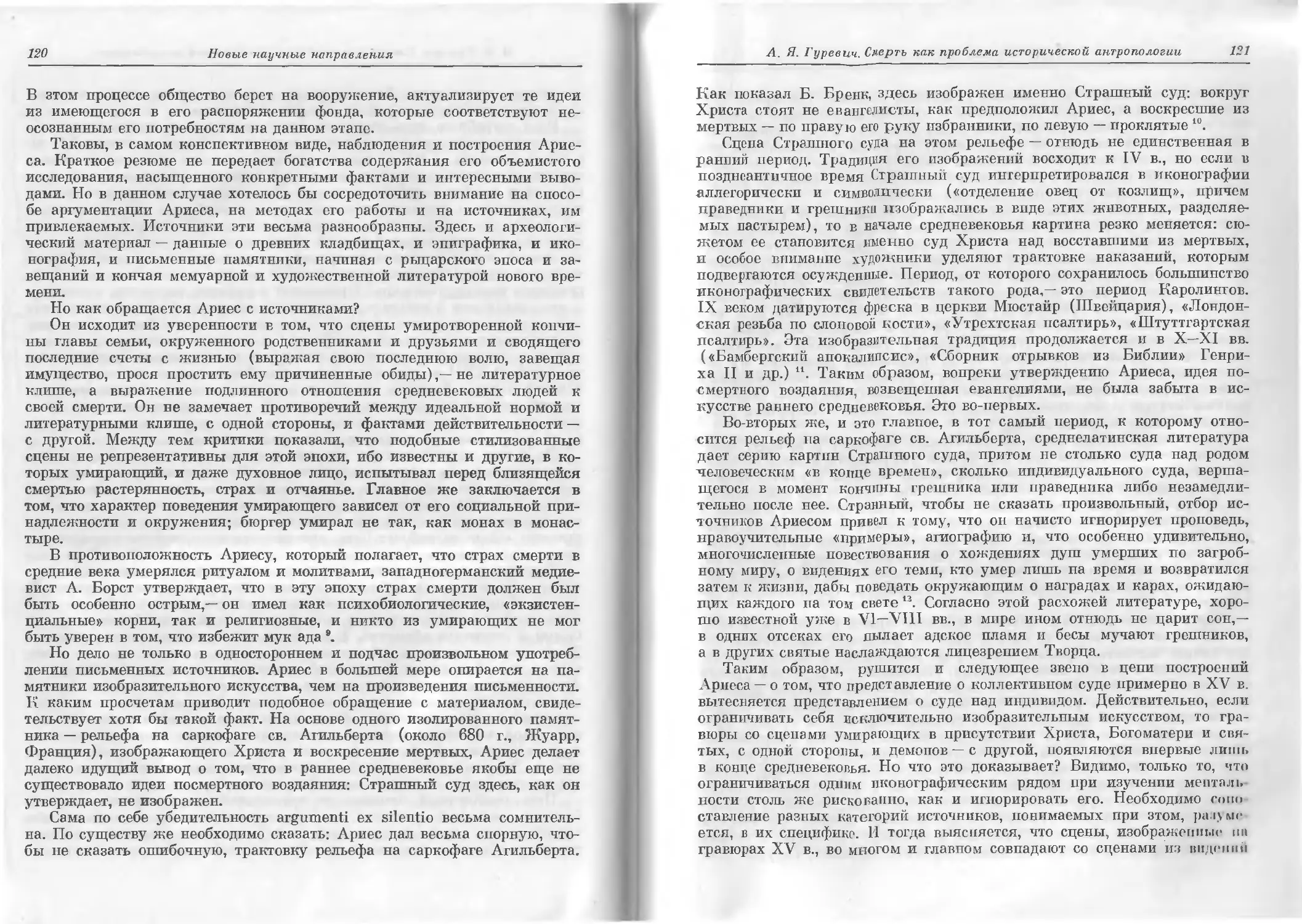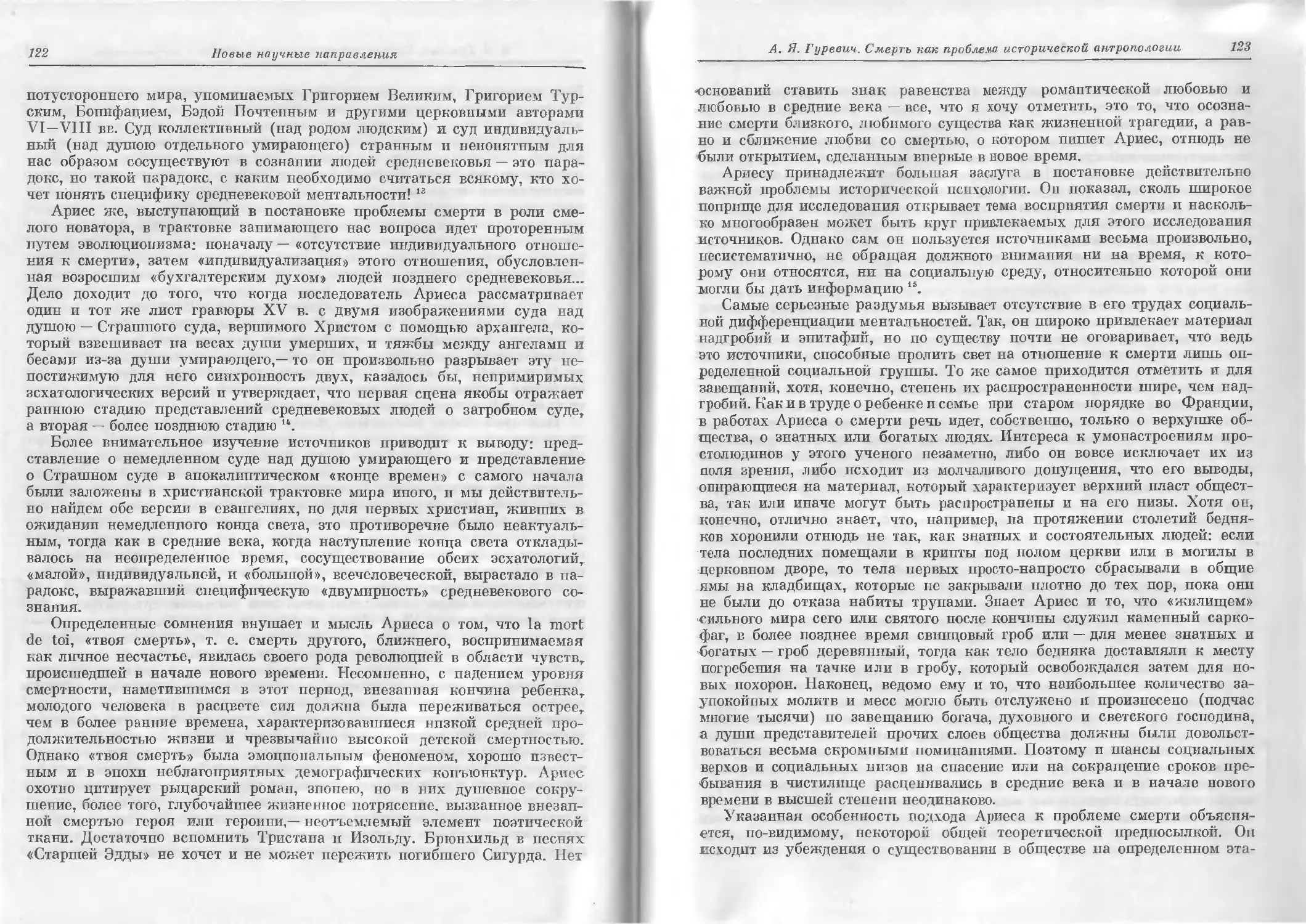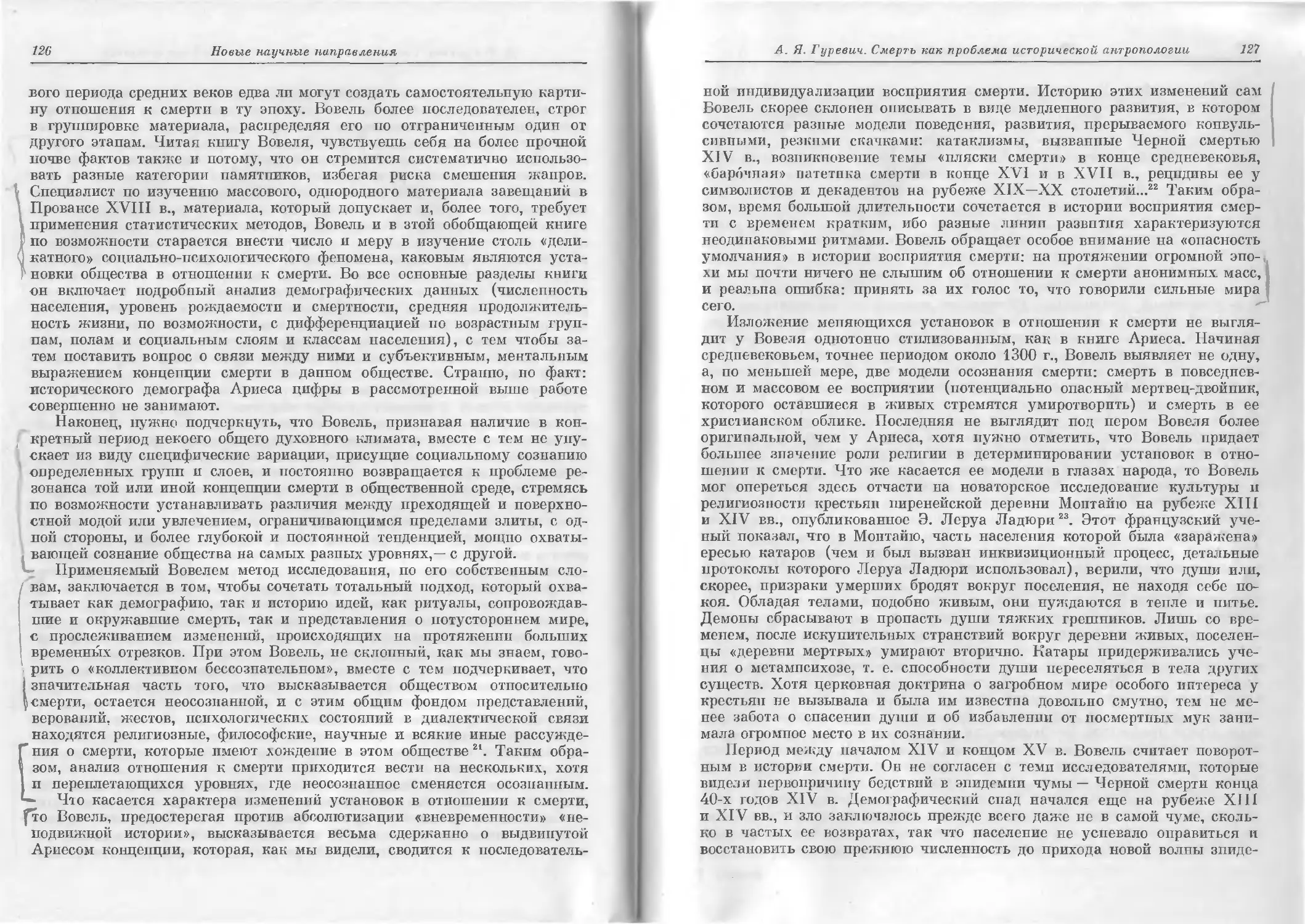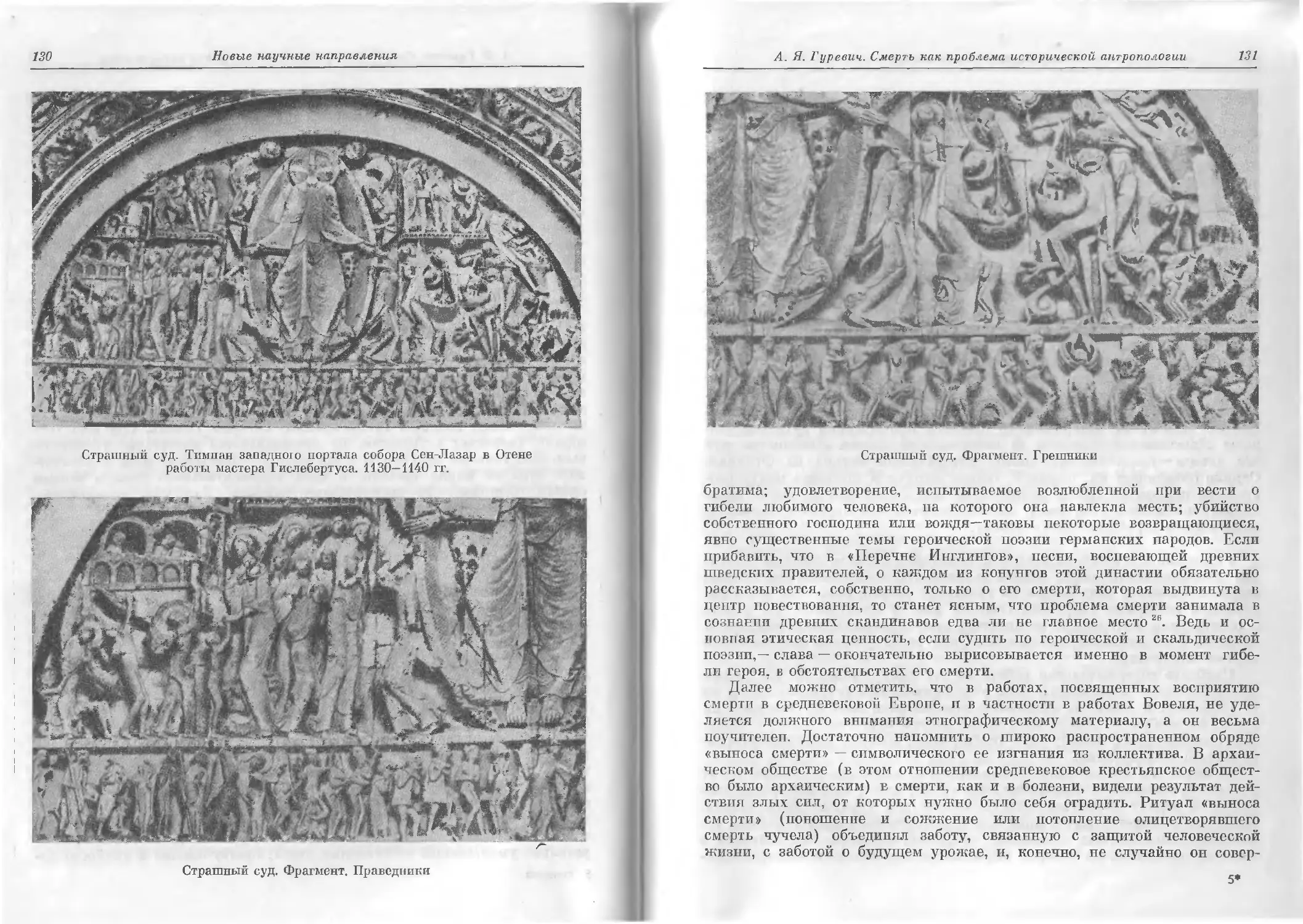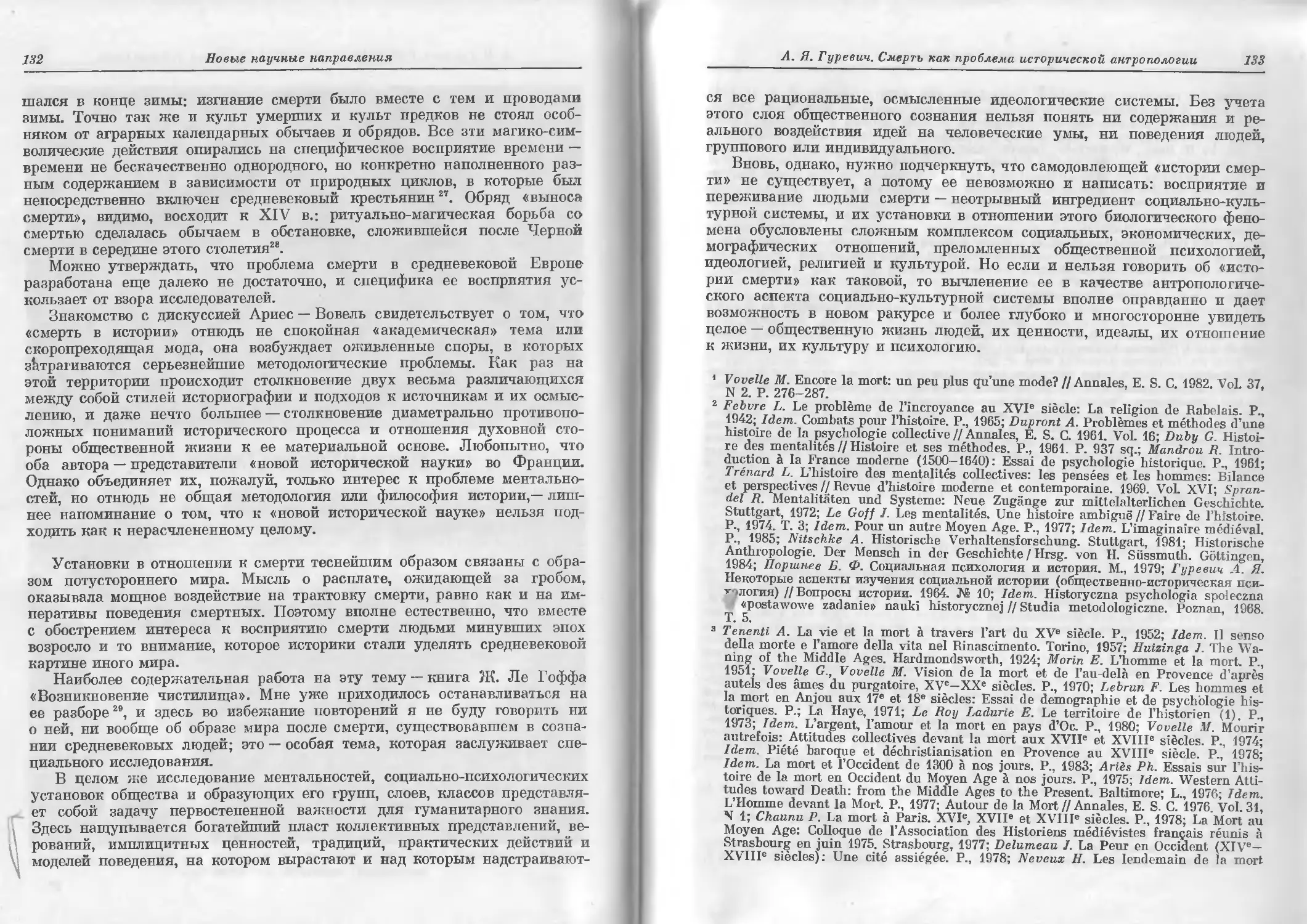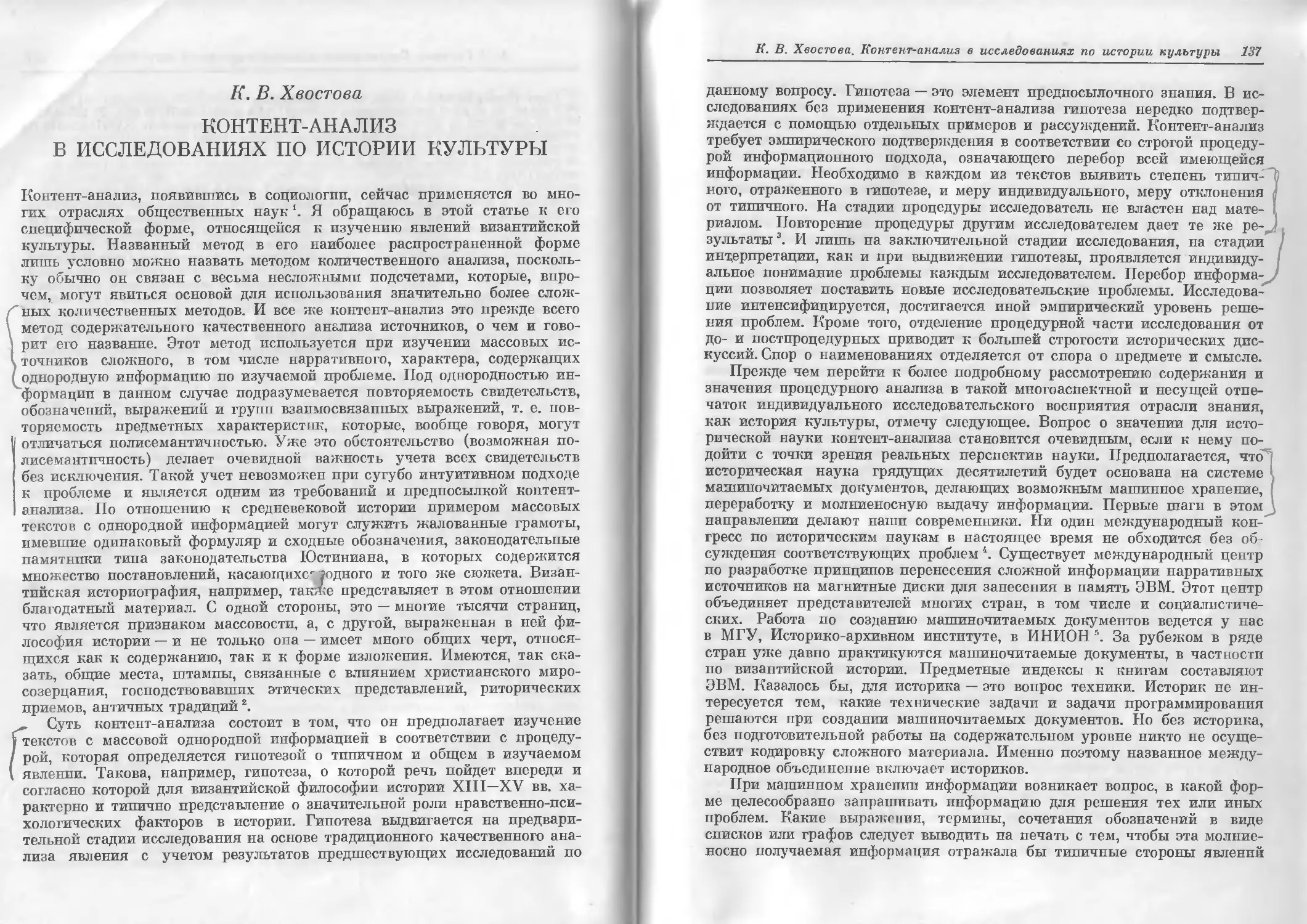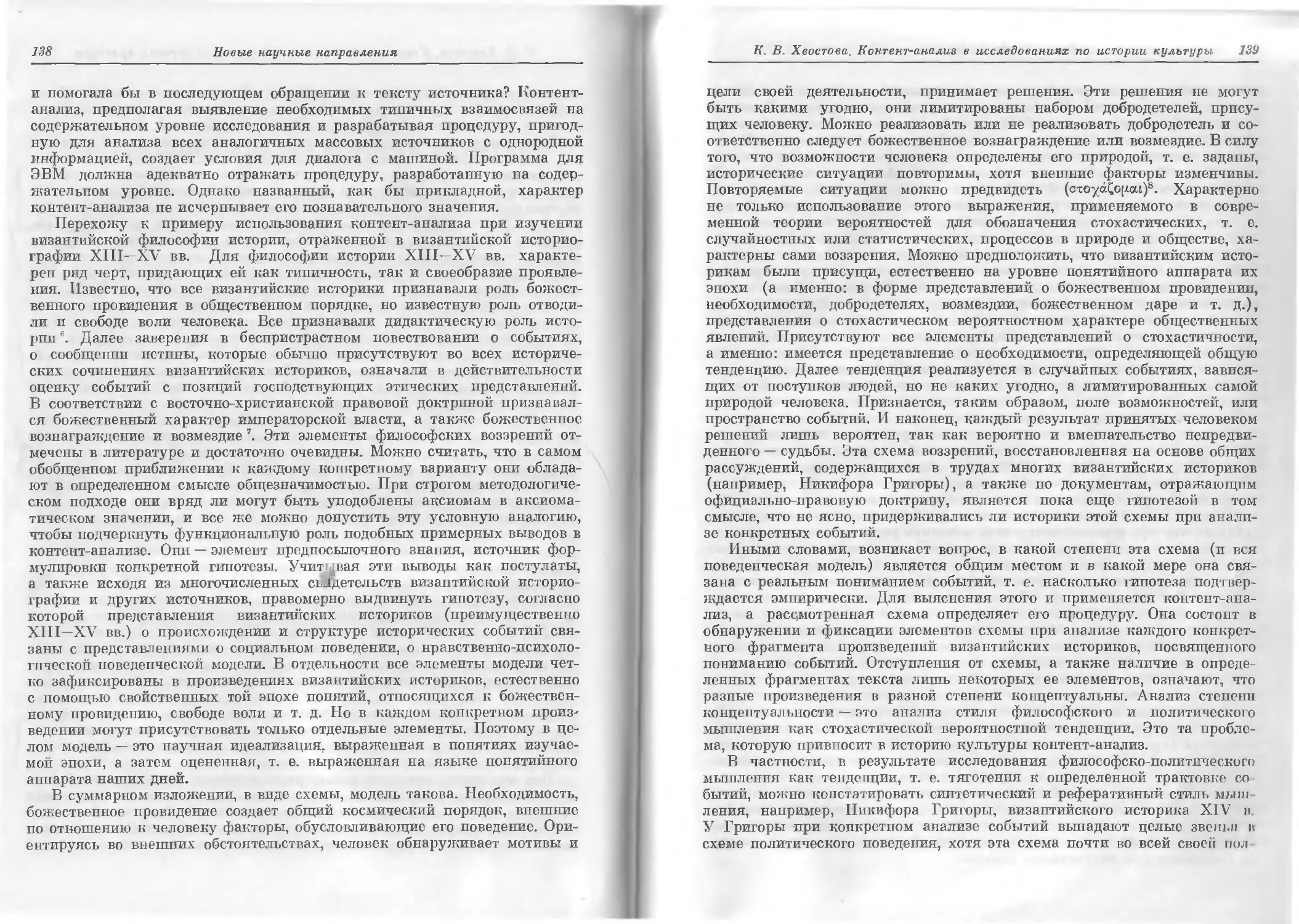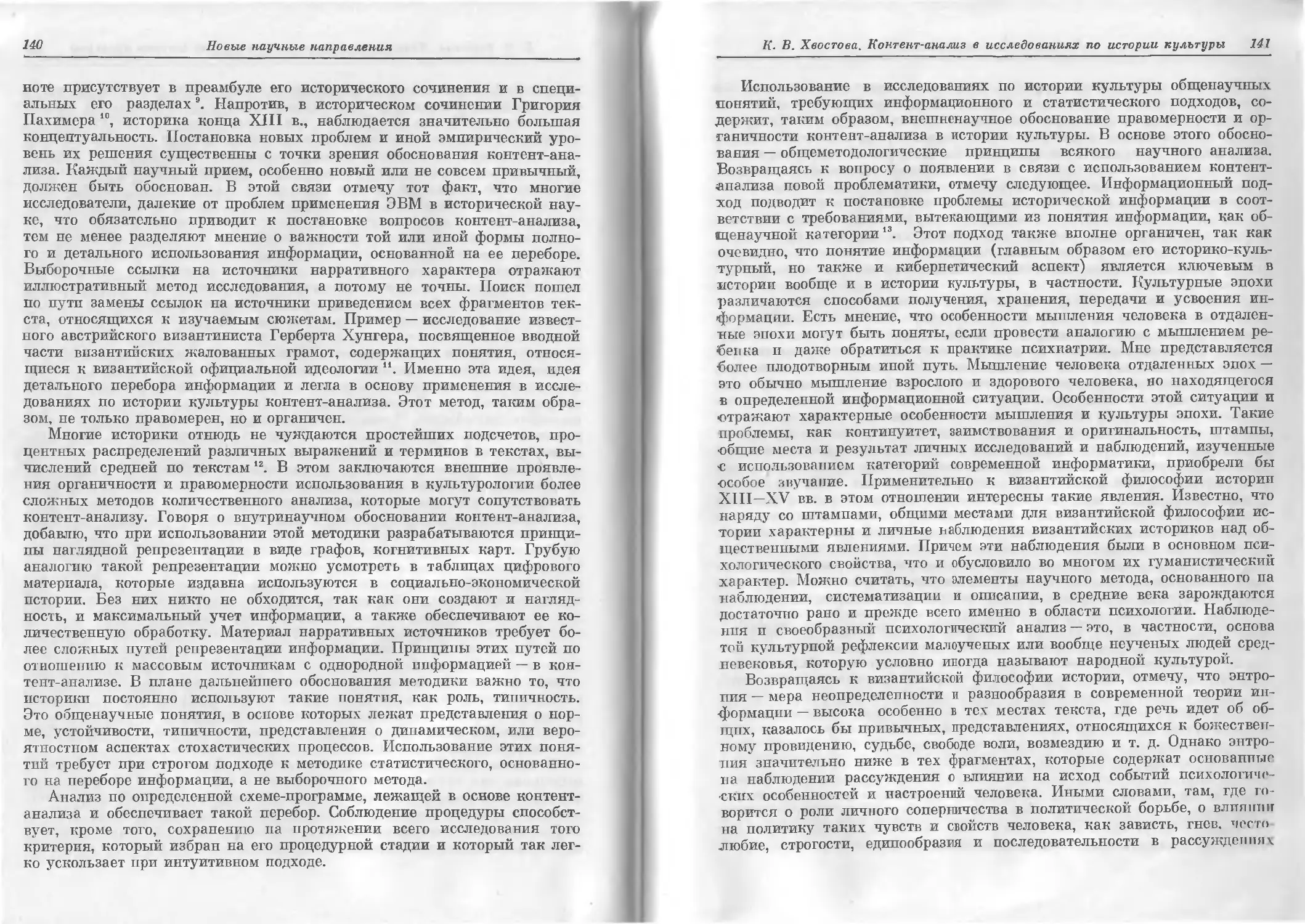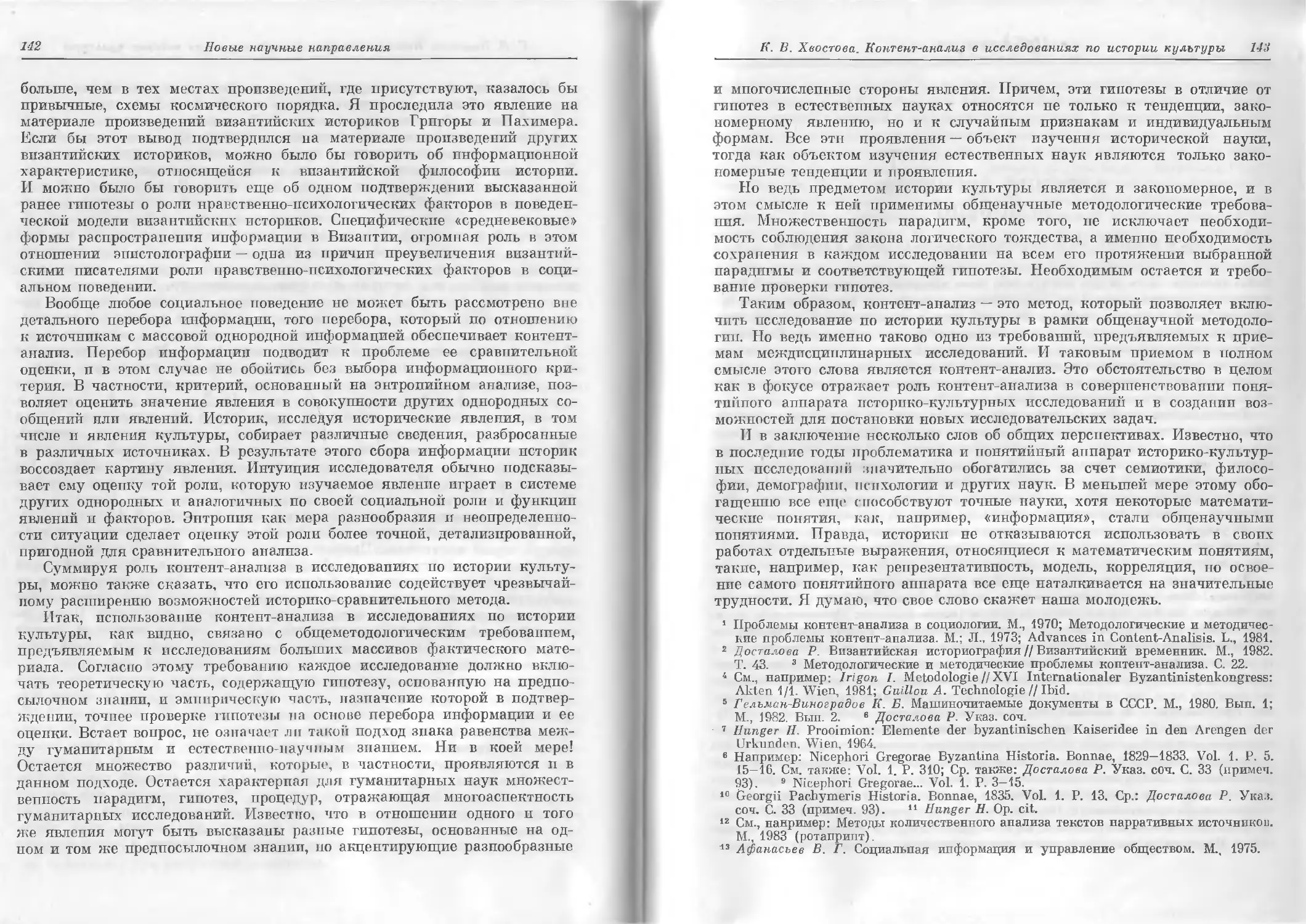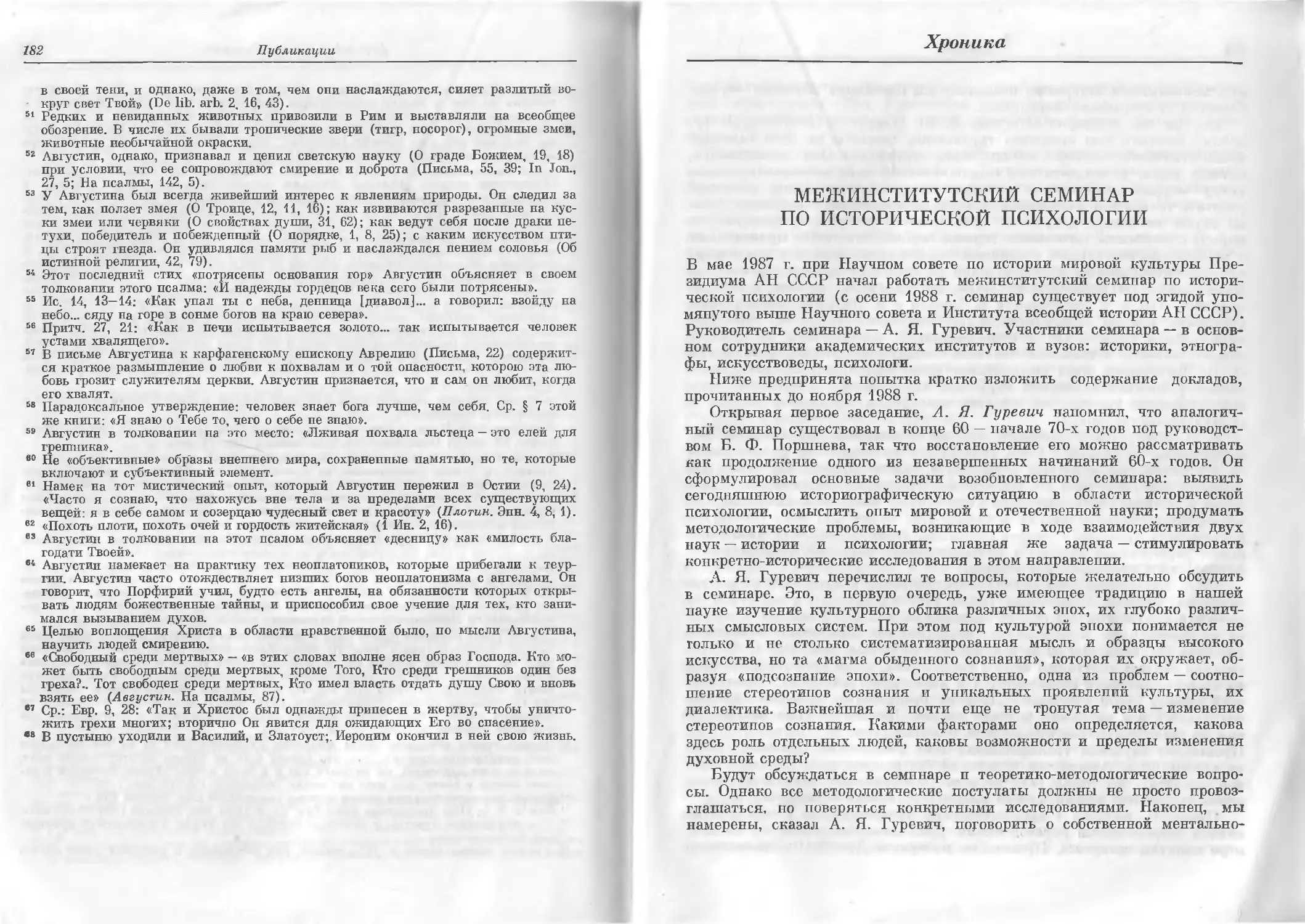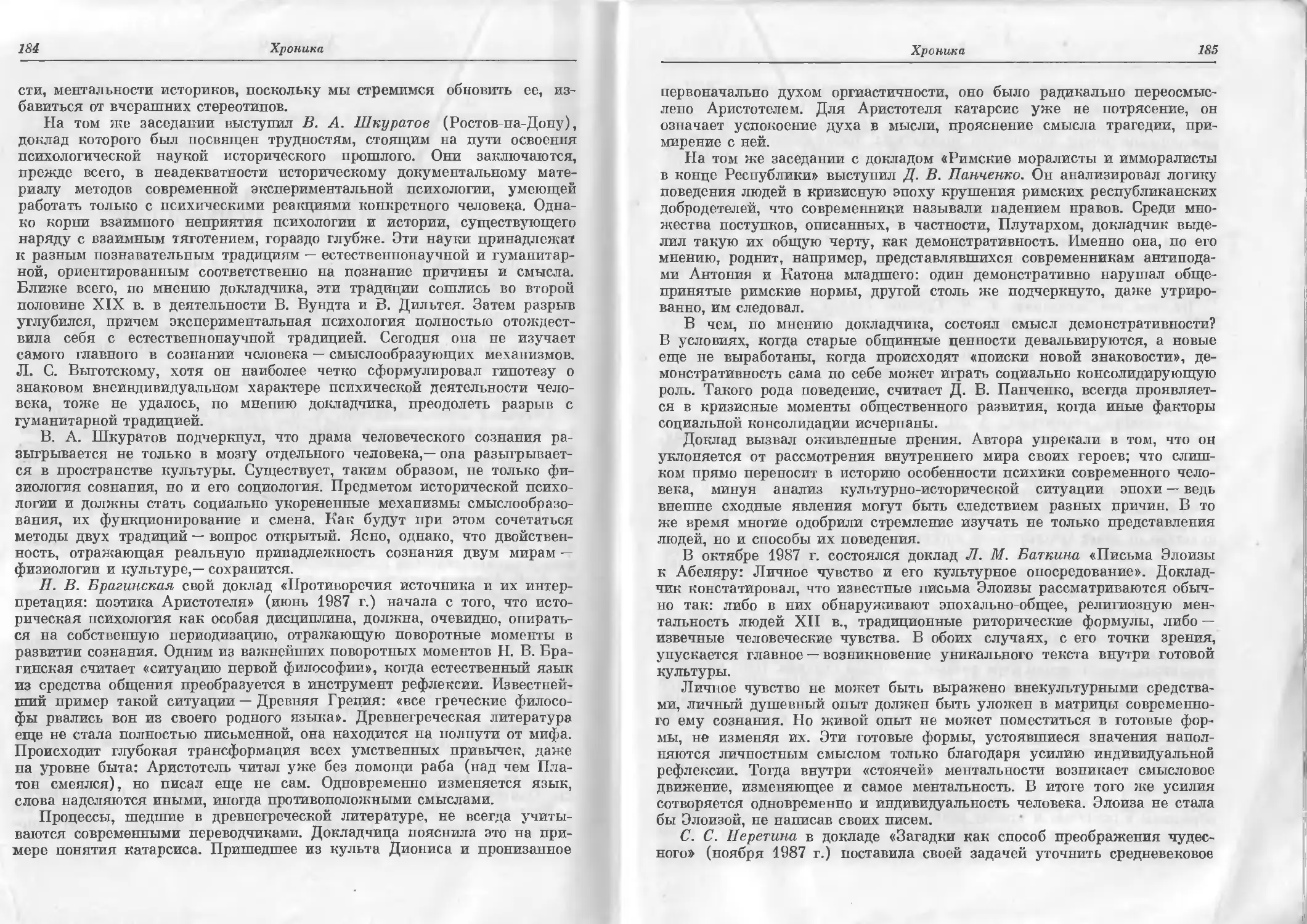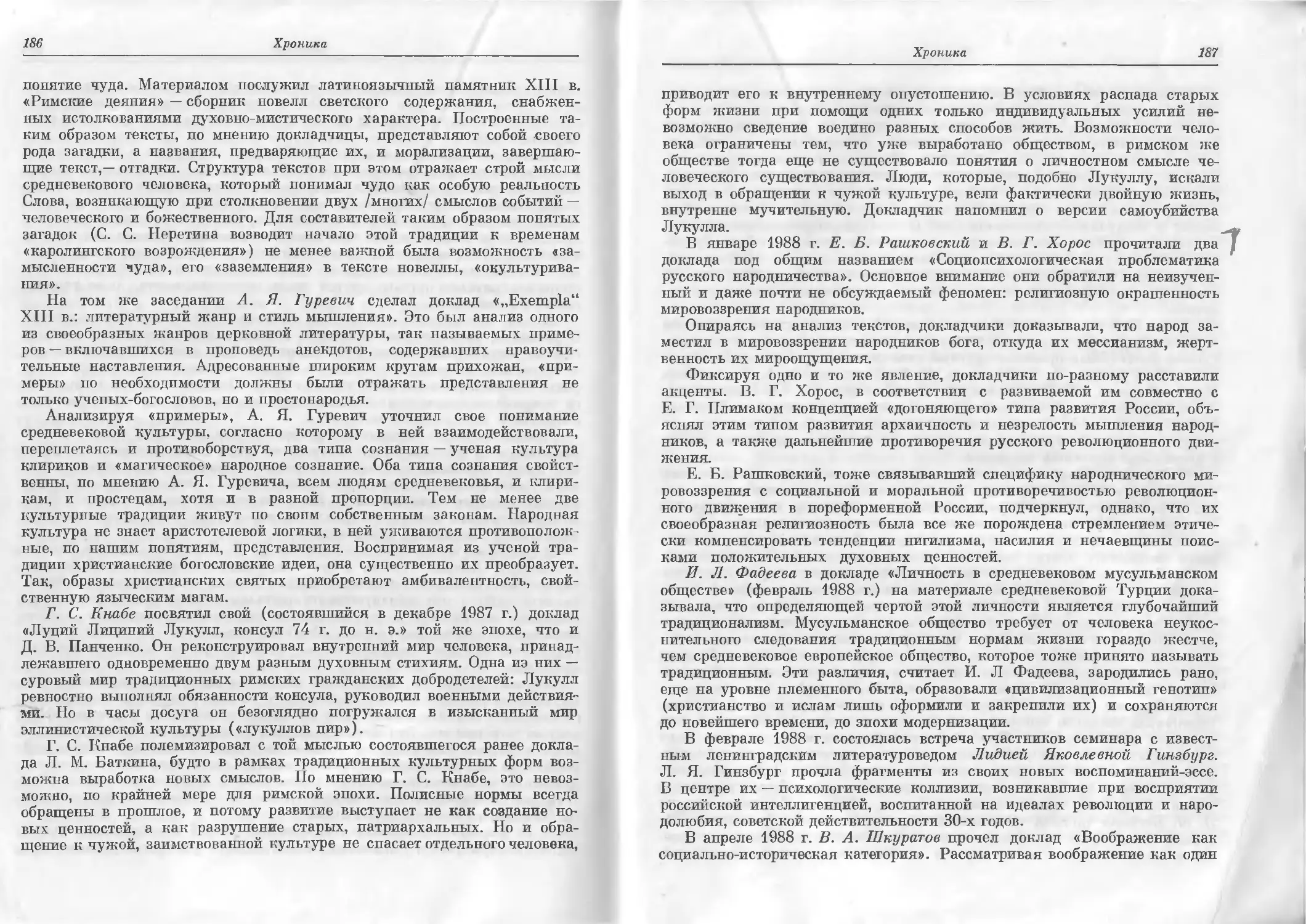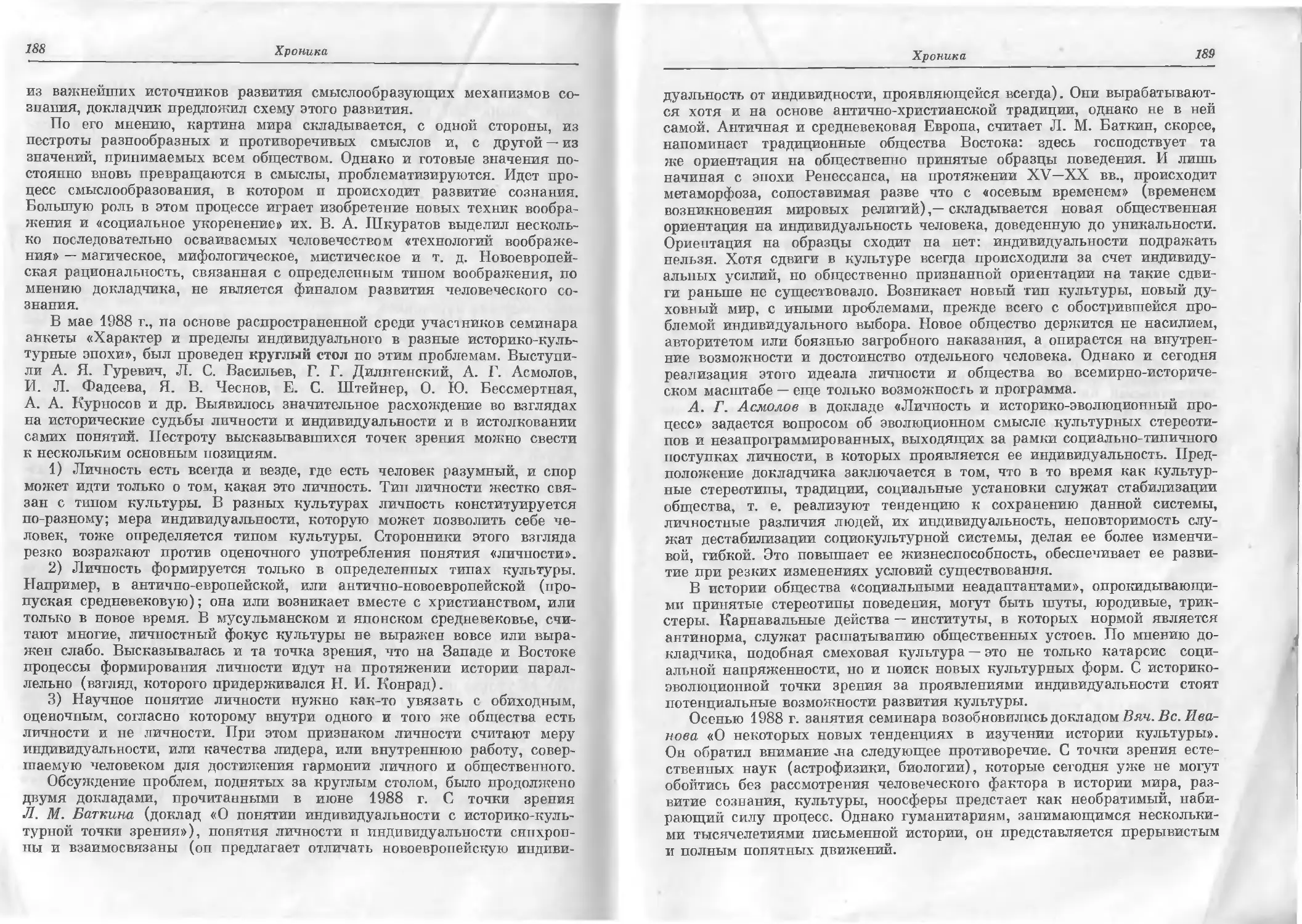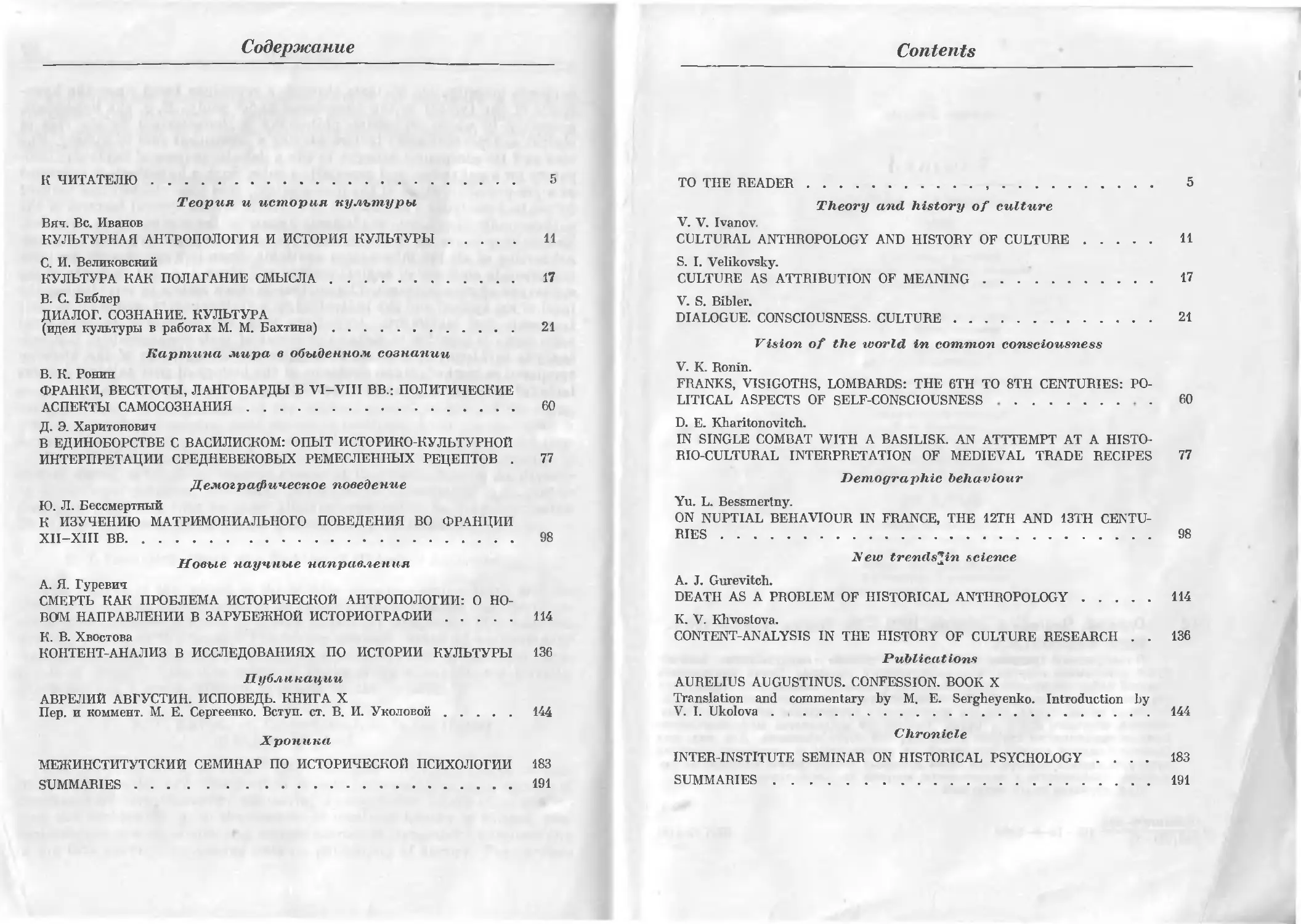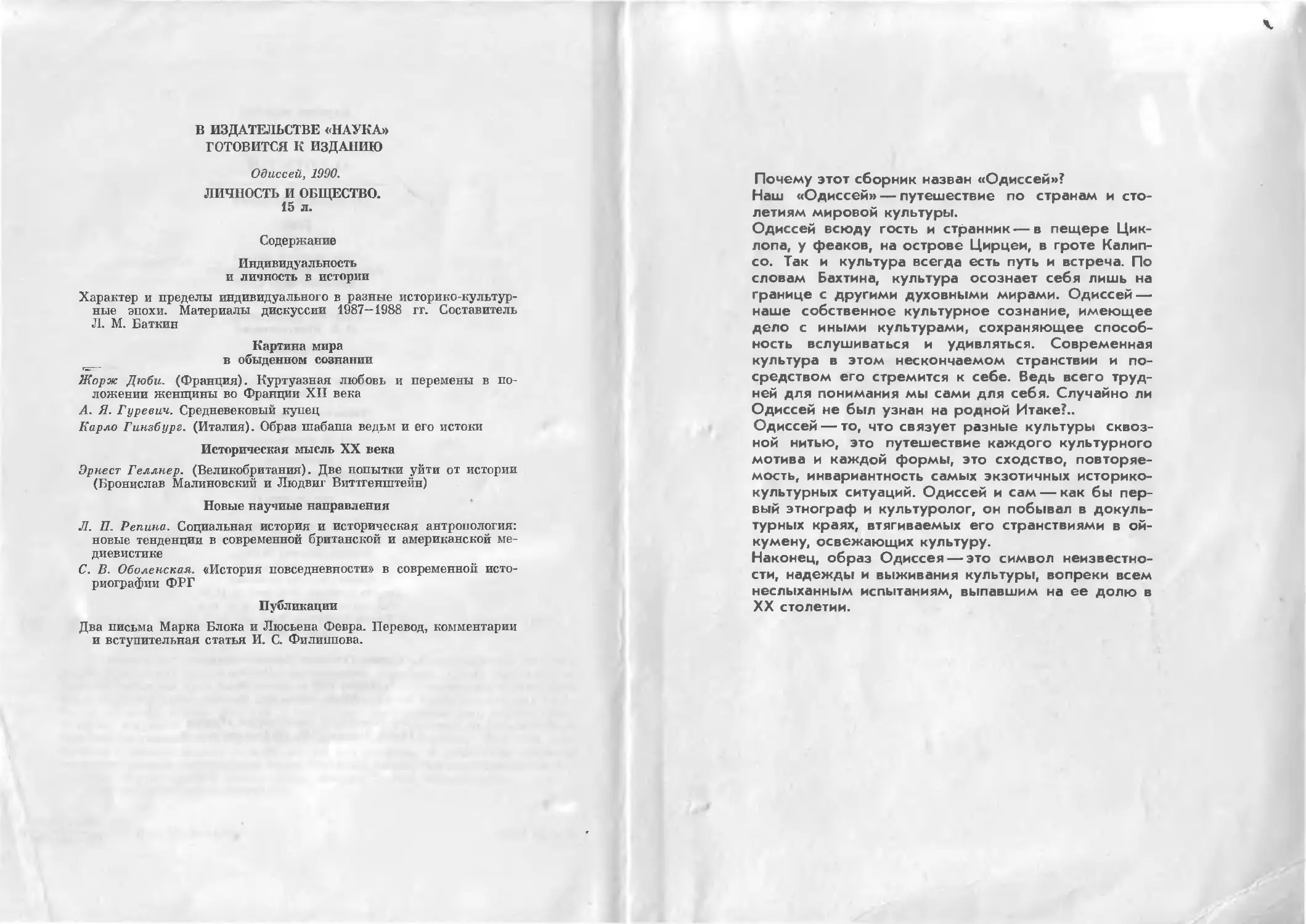Автор: Гуревич А.Я.
Теги: всемирная история история культуры одиссей социальная история древнегреческая литература общественное сознание историческое знание
ISBN: 5-02-009028-Х
Год: 1989
Текст
1989
Культурная антропология
Идея культуры в работах Бахтина Культура как полагание смысла Смерть как проблема исторической антропологии В единоборстве с василиском Брак во Франции XII—XIII вв.
Августин. Исповедь
В гомеровской традиции «многоумный Одиссей» — олицетворение величия души, невиданной энергии, интеллектуального героизма. Своих противников Одиссей побеждал прежде всего силой ума и слова. В бесконечных странствиях его влекло все неизведанное. Какие бы испытания ни преподносила ему судьба, он не ведал страха. Все эти достоинства— необходимое вооружение гуманитария, ищущего новое в науке. Именно эти достоинства мифологического Одиссея вдохновляют авторов и составителей этого сборника. Для них имя Одиссея — символ вечных странствий по континентам и столетиям мировой культуры, символ неразрывной связи духовных миров, символ надежды на выживание человечества и человечности, вопреки любым испытаниям.
АКАДЕМИЯ НАУК СССР Институт всеобщей истории
*
ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR Institute of Universal History
*
Studies in Social History and
History
Culture
1989
Moscow «Nauka» 1989
Человек в истории
Исследования по социальной истории и истории культуры
1989
6622?ДХ-У
'/// m
Москва «Наука» 1989
ББК 63.3(0) 042
ВОЛЖСКАЯ ЦБ-3 Еол .гГ;’2ДгКОЙ обчЗСТИ ( Рецензенты:
кандидат философских наук С. С. НЕРЕТИНА, доктор исторических наук И. Н. ОСИНОВСКИЙ
Редакционная коллегия:
Ю. Н. АФАНАСЬЕВ, Л. М. БАТКИН,
Ю. Л. БЕССМЕРТНЫЙ (зам. ответственного редактора),
А. Я. ГУРЕВИЧ (ответственный редактор),
Вяч. Вс. ИВАНОВ, В. Н. МАЛОВ, Е. М. МЕЛЕТИНСКИЙ,
Е. М. МИХИНА (ответственный секретарь),
С. В. ОБОЛЕНСКАЯ, В. И. УКОЛОВА, А. Л. ЯСТРЕБИЦКАЯ
X . ^СКАЯ ЦБ
о
0503010000-344 042 (02)-89
КБ—13—6-1989
ISBN 5-02-009028-Х
ББК 63.3(0)
© Издательство «Наука», 1989
К читателю
Настоящий сборник задуман первым в серии. Замысел редколлегии — объединить и стимулировать усилия историков и других гуманитариев, изучающих общественное сознание. При этом мы хотели бы сосредоточить внимание прежде всего на таких новых подходах и методах, которые позволили бы преодолеть хотя бы часть трудностей, встретившихся ныне на пути истории культуры и социальной истории в целом. Дело в том, что история культуры в традиционном понимании изучает, как известно, преимущественно ее высшие достижения. При таком подходе в центре внимания оказываются великие мыслители, поэты, писатели, художники, шедевры искусства, выдающиеся философские или эстетические теории.
Правомерность этого подхода к изучению истории культуры сама по себе не вызывает никаких сомнений. Однако нужно отдавать себе отчет и в его ограниченности.
Во-первых, он молчаливо предполагает, что история культуры по сути своей элитарна, что культура творится немногими и является достоянием лишь части общества. Что же до остальной «серой массы», то она как бы «выводится за скобки», пребывает вне культуры, в лучшем случае потребляя какие-то из ее фрагментов.
Во-вторых, при традиционном подходе к истории культуры очень сложно проследить глубинные связи между духовными свершениями человека и его социальной жизнью, т. е. преодолеть разрыв между историей общества и историей культуры.
Преодолению этого разрыва, видимо, мог бы помочь взгляд на культуру как на выражение способности человека придавать смысл своим действиям. Эта способность, по нашему мнению, не ограничивается областью художественного творчества, она проявляется универсально, в любом поступке любого человека, в повседневной жизни, в быту — так же, как и в высших формах интеллектуальной деятельности. Исследователю и нужно найти способы распознавать этот смысл в любом тексте, в любом артефакте, оставленном человеком.
В этом плане наиболее перспективными представляются современные школы гуманитарного знания, которые исследуют знаковые системы, присущие данной цивилизации, систему поведения принадлежащих к ней людей, структуру их ментальностей, их концептуальный аппарат, «психологическую вооруженность». Они пытаются реконструировать, основываясь на оставшихся от изучаемой эпохи текстах, способы выражения виденья мира и социально-культурные представления людей того времени, унаследованные ими и формируемые в процессе их социального об
6
К читателю
щения. Историки стремятся максимально конкретизировать зти представления и картины мира, проследить, в какой мере и каким именно образом были они усвоены представителями разных социальных групп, как видоизменялись в зависимости от того, принадлежали ли эти люди к числу носителей устной традиции или традиции письменной. Подобные исследования проводятся на материале не только и не столько уникальных культурных текстов, сколько текстов серийных, дающих более надежную опору для заключений и обобщений.
> Если культура есть важнейшая и неотъемлемая сторона человеческой жизнедеятельности, социальности человека, и если вся его общественная активность пронизана теми или иными культурными представлениями и навыками, специфическим образом окрашивающими ее и во многом ее определяющими, то, видимо, нет человека «вне культуры». Он погружен в нее точно так же, как принадлежит к обществу. «Сколько» и «какой» культуры и как именно он усваивает, зависит от его положения в обществе и от его личных качеств, но он живет в атмосфере культуры, говорит и мыслит на языках той или иной культуры, пользуется ее понятиями и образами, разделяет со всеми другими членами данной социально-культурной общности коренные представления о мире и человеке.
Следовательно, равно невозможно понять ни культуру вне ее социального контекста, ни само общество, абстрагируясь от культуры как органического аспекта его функционирования. В этом смысле можно утверждать, что культурологическое исследование указанного типа есть вместе с тем и социальное исследование.
Соответственно, изучение социальной истории надлежит понимать как «глобальную», всеобъемлющую стратегию, направленную на раскрытие и «объективных», и «субъективных» предпосылок исторического Движения.
Это последнее противопоставление представляется нам вообще во многом двусмысленным. «Объективные» предпосылки человеческой деятельности не действуют автоматически, люди должны так или иначе воспринять и осознать их для того, чтобы превратить в стимулы своих поступков. «Субъективные» же эмоции, идеи, представления, верования оказываются мощными факторами общественного поведения человека. Можно присоединиться к мысли тех историков, которые утверждают, что общество и его члены в своей жизни, в своих поступках в меньшей мере сообразуются с «объективной реальностью», чем с тем ее образом, который вырабатывается их сознанием. Не отсюда ли, не из этого ли «зазора» между общественной утопией и «грубыми фактами жизни» и проистекают бесчисленные коллизии, кризисы, разочарования, свидетелями которых являемся и мы?
При указанном подходе к истории культуры в центре внимания оказывается подлинный предмет ее изучения — не памятники культуры и материальной жизни, взятые сами по себе, не «дух времени», не логические понятия, сконструированные философами, социологами и политэкономами (сколь бы ни были они важны для исторического познания),
К читателю
7
но человек, общественный человек и общество, понимаемое как сверхсложная организация людей. Такой подход можно определить как антропологически ориентированную историю, поскольку историческое исследование фокусируется на человеке в обществе, в группе, на человеке во всех его проявлениях.
Настоящий сборник как раз и имеет своей целью разработку теоретических и конкретно-исторических проблем антропологически ориентированной истории.
Одна из задач этого направления — реконструкция картины мира, складывающейся в различных человеческих общностях. Ее решению могут помочь различные дисциплины, подводящие с разных сторон к воссозданию этой картины. Это и историческая поэтика, вскрывающая формы и методы художественного освоения действительности и их изменения в ходе истории, и семиотика, которая выявляет знаковые системы, пронизывающие запечатленное в текстах человеческое поведение и воздействующие на него. Это и этнопсихология, сосредоточивающаяся на прояснении традиций виденья мира определенными сложившимися человеческими общностями, и другие отрасли исторической психологии. Это культурология, которая стремится завязать активный диалог с людьми других культур, с тем, чтобы расшифровать их логику, специфику их культурного сознания и присущие этому сознанию противоречия. Обнаруживая своеобразие другой культуры, культурология, олицетворяемая в нашей стране прежде всего М. М. Бахтиным, помогает нам понять и нашу собственную культуру, и ее место в мировом историческом процессе. Это историческая демография, изучающая воспроизводство человека в данных социально-культурных общностях, и в особенности, та ее ветвь, которая исследует демографические представления и демографическое поведение. Это, наконец, история ментальностей, которая стремится реконструировать способы социального поведения людей, продиктованные их мыслительными и эмоциональными установками, и которая опирается на все названные выше направления. На протяжении двух последних десятилетий именно история ментальностей продемонстрировала свою высокую продуктивность, включив в сферу исторического рассмотрения широкий спектр новых проблем, относящихся к человеку, и целые пласты действительности, традиционно остававшиеся «вне истории».
Разграничить исследовательские подходы отдельных направлений гуманитарного знания нелегко, они подчас сближаются, а отчасти и переплетаются, переходят один в другой. Существенно, что они движимы единой «сверхзадачей»: приблизиться к пониманию неповторимого облика, специфики данной культуры, в контексте которой формируются опреде ленные типы личности. То, что подходы разных дисциплин отличаю гея один от другого в высшей степени плодотворно. Общество и его духовная жизнь — феномены предельно сложные и могут быть изучены лишь при множественности точек зрения и при помощи различных исследователь ских методов. Не забывая об их специфике и сохраняя относительную автономию каждого из направлений, нужно применять выработанные имя
8
К читателю
подходы, сопоставлять результаты и оценивать их продуктивность. Поли-дисциплинарность в изучении человека как социального существа дает возможность создать более многомерную, «стереоскопичную» картину исторического прошлого человека. Тем самым, как кажется, откроется путь к преодолению разобщенности социально-экономического и культурологического исследования, к построению более емких и всеобъемлющих моделей.
Многие из применявшихся до сих пор способов исторического исследования не обеспечивали преодоление отмеченной выше методологической трудности — сочетания в одной логически связанной картине общества п культуры. Не является ли категория социально и культурно детерминированного поведения тем связующим звеном, которое может их объединить? Мировосприятие и культурная традиция, религия и психология — суть та среда, в которой выплавляются человеческие реакции на внешние стимулы, не говоря уже о том, что широкий пласт поступков вообще диктуется сложившимися идеалами и культурными моделями, а не материальными интересами. Следовательно, речь идет не о какой-то «психологи-I зации» или «бихевиоризации» истории, а о понимании того, что любые факторы исторического движения становятся его действенными пружинами, реальными причинами, когда они пропущены через ментальность людей и трансформированы ею. Поэтому человек с его внутренним миром, в свою очередь исторически и культурно обусловленным, не может не стоять в центре гуманитарного исследования.
Новые подходы к изучению истории помогают освободиться от ее мистификации и по-новому понять природу исторической закономерности, не возвышающейся над человеком и обществом, но складывающейся в процессе живой, конкретной общественной практики людей. Именно на этой основе можно, на наш взгляд, с особым успехом рассчитывать на достижение исторического синтеза, более емкого и многостороннего, нежели тот, какой удавалось создавать в прошлом. С этой точки зрения, изучение картин мира, ментальностей, социально-психологических аспектов жизни людей открывает принципиально новые возможности исторического познания. Ибо последовательное применение в историческом исследовании «антропологического измерения» предполагает расширение границ исторической науки, освоение ею новых «территорий», нетрадиционных проблем и, соответственно, применение новых методов и подходов.
— Исследования, ориентированные на человека в группе, в обществе, в культуре, не могут не обогатить наших знаний о прошлом и, в конечном итоге, наших знаний о самих себе. Не обещает ли историко-антропологическое видение истории новых побед историзма? Будем надеяться, что да.
Вместе с тем, нет оснований впадать в эйфорию. Историческая антропология — не панацея от всех сложностей нашей науки. Ментальности изменяются чрезвычайно медленно. Трудности, сопряженные с объяснением изменений в истории, этим подходом не снимаются, ибо изучение картин мира ориентировано преимущественно на раскрытие синхронных
К читателю
•J
состояний, статичных явлений. Проблема сочетания диахронии и синхронии остается актуальной.
Как представляется, изложенный выше ход мысли открывает достаточно широкий простор для применения неодинаковых подходов к проблеме «Человек в истории». Он ничего и никого не отсекает. Напротив, мы хотели бы па страницах наших сборников видеть статьи ученых раз ных взглядов, разного профиля, разных профессий, объединенных лишь стремлением к раскрытию «человеческого» содержания истории. Исследование конкретных проблем истории, отдельных периодов и общетеоретические построения, дискуссии по актуальным проблемам гуманитарного знания с особым акцентом на полидисциплинарность подхода к ним, обсуждение нетрадиционных методов, анализ отечественного и мирового опыта науки — таких работ ожидает редакционная коллегия.
В особенности редколлегия «Одиссея» приветствовала бы дискуссии. Худший враг науки — категоричность суждений, безапелляционность выводов. Мы — за столкновение и сопоставление разных подходов к истории общества и культуры, за уважение к разным точкам зрения. Уже подготавливаются к опубликованию материалы дискуссии на тему «Личность и индивидуальность в истории» (они появятся в следующем выпуске «Одиссея»).
Первый выпуск сборника лишь отчасти отвечает этим требованиям. Причина в том, что охарактеризованные выше подходы еще не нашли у нас широкого применения. Опыты культур-антропологически ориентированных конкретных исследований касаются преимущественно средневековья и начала нового времени — извечных «испытательных полигонов?) новых методов познания. Именно эти периоды шире всего затрагиваются па страницах первого выпуска. Мы не хотели бы, однако, в будущем ограничиваться лишь медиевистическими или близкими к ним по хронологии работами и рассчитываем публиковать исследования, касающиеся всех периодов прошлого и различных географических ареалов.
Первый выпуск сборника открывается теоретическими статьями, как бы продолжающими обсуждение историко-антропологического подхода к познанию прошлого, начатое в данном введении. Второй и третий разделы сборника содержат конкретные исследования, посвященные картине мира в обыденном сознании и массовому поведению. Четвертый раздел включает историографические обзоры, в которых анализируются современные труды в области антропологически ориентированной истории. В этом же разделе предполагается публикация статей, исследующих преемственные связи и своеобразие наших подходов по сравнению с подходами отечественных и зарубежных ученых прошлого и настоящего. Мы считаем необходимым обратиться к творческому наследию М. М. Бахтина. В последующих выпусках предполагается опубликовать статьи о таких зачинателях историко-психологических исследований в дореволюционной России, как Л. П. Карсавип и П. М. Бицилли. В октябре 1989 г. в Москве нам удалось провести первую творческую встречу с виднейшими представителями французской (собственно, теперь уже интернациональной) школы «Анналы», и материалы этой дискуссии найдут свое отражение
10
К читателю
в третьем выпуске «Одиссея». Мы намерены рассказать также и о западногерманской школе «повседневной истории» и др. Цель отдела публикаций нашего сборника — издание оригинальных текстов, не воспроизводившихся по-русски (или представляющих библиографическую редкость), в которых запечатлена интеллектуальная деятельность отдельных индивидов, оказавших наиболее заметное воздействие на обыденное сознание современников, а также текстов, непосредственно отражающих это обыденное сознание.
Мы рассчитываем на поддержку и активное участие в сборнике «Одиссей» всех гуманитариев, заинтересованных в обсуждении актуальных проблем исторического знания, и в частности — на членов семинара по исторической психологии, который работает в Академии наук СССР (при Научном совете по истории мировой культуры и Институте всеобщей истории АН СССР).
Закончить хотелось бы выражением надежды на то, что наш сборник, вместе с другими новыми изданиями по истории, будет способствовать активизации исторических исследований и возвращению нашей исторической науке того престижа, который был утрачен ею в годы сталинщины и последующие десятилетия застоя.
А. Я. Гуревич
Теория и история культуры
❖
Вяч. Вс. Иванов
КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
1. Под культурной антропологией (иначе этнологией, в дальнейшем используется только первый термин, приблизительно равнозначный второму *) понимается наука, исследующая в сравнительном плане различные типы культур и пути их преобразования прп социальной (а пе чисто биологической) передаче информации от поколения к поколению. Уже из самой характеристики предмета этой дисциплины ясно, что она могла бы в равной мере быть одновременно основой и теоретическим обобщением как этнографических исследований самых разных современных обществ (согласно наиболее распространенному на Западе пониманию «чистой» культурной антропологии — обществ «примитивных», отличных от стандартных европейских, изучаемых социологией), так и культур различных исторических эпох (в частности, от нас удаленных во времени; оговоримся, однако, что удаленность в случае истории культуры, как и непохожесть на европейские культуры в случае этнографии, не может быть принципиально обоснована как научно значимый признак). Тем не менее до настоящего времени выводы культурной антропологии в очень малой степени ложатся в основу исследования истории «неэкзотических» (или «непримитивных» — оба термина условны) культур.
Однако по мере того, как все большую значимость приобретают неевропейские культуры «третьего мира», их исследование явно составляет промежуточное звено между так называемой «чистой» культурной антропологией, изучавшей «примитивные» культуры, и историей культуры в широком смысле. До сих пор культурной антропологии чаще всего не хватало тех возможностей «микроскопического» исследования развития, которое у исторических дисциплин (в частности, и у истории культуры) гарантировано наличием непрерывной письменной традиции (в предыстории, изучаемой археологией,— соответствующей преемственности образцов материальной культуры). Но по отношению ко многим обществам третьего мира такая традиция (во всяком случае, на протяжении последних столетий после начала контактов с европейскими культурами) выявляется, что и делает их исследование особенно важным для обнаружения связи между историей и культурной антропологией (в этом случае отказывающейся от своей «чистоты», поскольку речь идет об изучении принципиально смешанных культурных типов). Связь эта была намеч на еще в сочинениях Вико, но затем стала предметом дискуссии, затянувшейся более чем на столетие.
12
Теория и история культуры
2. Принимавшееся многими различение культурной антропологии как системы описания фактов культуры в синхронном срезе и истории культуры как диахронического исследования снимается в последних работах крупнейших западных антропологов, утверждающих, что между антропологией и историей возникает теснейшее сотрудничество. Исторические итоги некоторой совершающейся на наших глазах последовательности действий как события оцениваются только на фоне другой аналогичной последовательности в прошлом, с которой в определенном смысле отождествляется или соотносится данная. В этом смысле связь истории и мифа, давно отмечавшаяся в нашей науке 2, оказывается особенно тесной 3. Следует подчеркнуть: повторяемость исторических (и культурно-исторических) событий — непременное условие и научного (а не только мифологического) подхода к ним; здесь, как и в других случаях, мифология может рассматрпваться как первое приближение к первобытной науке.
Когда, например, в мифологических преданиях йоруба говорится о событии, которое «снова происходит» (n’=waye «вновь входит в мир») 4, то используется язык, предполагающий наличие многих однородных событий. Раннее европейское понимание истории было слишком нацелено на выявление уникальности каждого отдельного события, поэтому в представлении о цикличности всегда видели следы мифологического мышления; сейчас более отчетливо видны и элементы преднаучного в таких представлениях.
История и миф, как и история и культурная антропология, предстают одновременно в своем единстве и различии.
В этом отношении, как и во многих других, предшественником современной науки является Г. Г. Шпет, который уже в своих работах 20-х годов, говоря о «динамическом коллективе» как предмете исследования, утверждал, что «история, этнология изучают ... коллективы в их конкретном бытии» 5. «Мы имеем дело,— продолжал оп,— прежде всего с общей наукой ... о формах социальных, с социологией, и затем с системой социальных наук, обнимающих различные конкретные сферы или области социального. Материально „овеществленное11 содержание социальной жизни распределяется между «историями» этих областей, в идее составляющими общую историю, к которой тесно примыкает этнология, первоначально ограниченная доисторическим, а теперь в некоторых отношениях соперничающая с самой историей» 6.
В последних своих работах Леви-Стросс уточняет введенное им ранее различие между культурами «холодными» (которыми преимущественно занималась антропология) и «горячими» (в основном составляющими предмет истории). Это различие проявляется в том, в какой мере общество соотносит себя с собственной историей (добавим: а не с мифологией, что обычно в обществах «холодного» типа) и допускает, что эта последняя может быть средством воздействия на настоящее и его преобразования 7. Вместе с тем «холодные» общества отличаются от «горячих» тем, что в первых наличествует более прямая (или лишь слегка замаскированная) связь идеологии с практикой; в «горячих» обществах всегда
Вяч. Вс. Иванов. Культурная антропология
13
наличествует много идеологических систем или подсистем, таких, как официально-народная, церковно-светская “. Этот аспект по отношению к средневековому европейскому и последующим обществам еще в 30—40-е годы был детально исследован в антропологических трудах по истории культуры М. М. Бахтиным; он настаивал, что его концепция в целом должна называться «антропологической»).
3. Антропологическая школа изучения истории культуры, созданная в СССР трудами М. М. Бахтина, В. Я. Проппа, И. Г. Франк-Каменецкого, О. М. Фрейденберг, Л. С. Выготского, С. М. Эйзенштейна и других наших ученых в 20—40-е годы, в ряде отношений опередила мировую науку. ® Во-первых, в трудах названных исследователей был выдвинут в качестве основного динамический принцип, согласно которому, начиная с выделения наиболее архаических пластов в синхронном описании «неофициальных» (народных, в частном случае «карнавальных») элементов данной культурной традиции, исследователь постепенно восходит к ее истокам и прослеживает путь ее дальнейшей трансформации. В. Я. Пропп О. М. Фрейденберг в софокловской трагической версии мифа об Эдипе раскрывали исходную фольклорную ситуацию загадывания—разгадывания загадки. Идя дальше по тому же пути, можно наметить языковые (праиндоевропейские) и мифологические корни этого мотива. Культуру ная антропология позволяет заглянуть и еще дальше — в универсальные •общечеловеческие корни загадок, связанных с инцестом, которые объединяют традиции Старого и Нового Света (в последнем другие виды загадок вообще отсутствуют, что подтверждает пережиточность типа данной). Для истории культуры важно не только выявление отдаленных -потоков, но и обнаружение позднейших причин преобразования древней структуры. Так, например, О. М. Фрейденберг (а много спустя — Ж.-П. Вернан и другие исследователи) показала, как исходные мифологические представления преобразуются в духе новой этики античного полиса, выражаемой в афинской трагедииэ.
Во-вторых, в построенной Л. С. Выготским концепции истории культуры как развития систем знаков, служащих для управления поведением, нашла разрешение и волновавшая антропологов, начиная с Боаса (и таких его учеников, как Сепир) и Кребера, проблема соотношения культуры и психологии личности. Именно этот круг идей Выготского, развитый его школой, в последние годы оказывает все большее влияние на мировую науку. Важнейшие сдвиги намечаются при усвоении систем культу^-1 ры следующим поколением, возможности которого обнаруживаются именно на этапе трансформации при усвоении. Взаимодействие личности и общества, создающего благоприятную или неблагоприятную среду для развития задатков (в том числе и генетически предопределенных) личности, в трудах Выготского и его школы впервые начало исследоваться экспериментально. Выявляется широкий спектр — от полного подавления коллективом возможностей личности до широкого развития их по отношению к определенным социальным слоям (свободные граждане Афин времени Перикла и т. п.).
14
Теория и история культуры
Культурно-антропологические различия «горячих» культур, ориентированных на поиск новых текстов (в широком смысле включающих любые знаковые последовательности и комплексы), и «холодных», стремящихся в идеале к воспроизведению стандартных текстов, построенных по единообразным шаблонам, связаны с проблемой авторства-изобретательст-ва в культуре (центральной, например, для антропологической концеп-' ции Кребера). В «холодных» культурах изобретательство по преимуществу отнесено к мифологическому времени, когда им занимались культурные герои, тогда как «горячие» культуры ориентированы па постоянное изобретательство (чему соответствуют определенные социальные институты, заранее предполагающие поощрение будущих изобретений). Между двумя этими моделями, остающимися идеальными, существует много промежуточных. В частности, набор канонических текстов есть и в «горячих» культурах, по он в принципе может подвергаться изменениям или переосмыслению. Вместе с тем в «холодных» культурах воспроизводимый текст может сильно изменяться, сохраняясь только в стандартных социально закрепленных формах (вспомним о фольклорных штампах и т. п.).
Для каждого общества устанавливается определенный латентный период между индивидуальным изобретением и его распространением (внедрением в современной промышленной терминологии) и исчерпанием его возможностей, подготавливающим необходимость нового изобретения. Если, по подсчетам Н. Д. Кондратьева, со времен научной революции XVII в. для капитализма этот период определялся циклами порядка 25 и 50 лет (кондратьевские циклы), то для времени после неолитической революции соответствующие сроки определяются как 103 лет (ср., например, период от изобретения плавки железа до начала железного века и т. и.). Такие подсчеты на достаточно широкой основе разных традиций могут дать возможность сравнения различных типов обществ по их информационным и энергетическим характеристикам. Эти исследования начаты совместно антропологами и астрофизиками в связи с задачей установления типологии земных цивилизаций для сопоставления с возможными внеземными (ср. три типа, выделенных чл.-кор. АН СССР Н. С. Кардашевым). Каждому из таких типов обществ соответствуют и некоторые информационные характеристики производимых ими текстов. Так «горячие» и «холодные» типы входят в более общую типологию.
5. Одной из интереснейших проблем, возникающих на пограничье между историей культуры и антропологией, является исследование степени достоверности эпических сказаний, которые в обществах, переходных от «холодного» типа к «горячему», служат основным средством передачи информации о прошлом (иногда или часто мифологизируемом). С одной стороны, в последнее время выясняется значительная мера вероятности некоторых сведений, сообщаемых в фольклорных преданиях (так, проведенное в недавнее время детальное сравнение хеттского языка с абхазо-адыгским позволило доказать их древнее родство и соответственно выяснить наличие исторических оснований у преданий, бытовавших у абхазов и адыгов, о переселении предков этих народов с юга несколько тысяч лет назад). С другой стороны, установлено, что некоторые из ре
Вяч. Вс. Иванов. Культурная антропология
15
гулярно повторяющихся трансформаций прошлого в эпосе определяются культурно-антропологическими характеристиками соответствующих обществ, например величиной памяти d=4 (поколения), характерной для некоторых коллективов типа южноиндийских и связанной с характером брачно-родственных отношений, порядком наследования земель и т. п.'с Таким образом, возникает возможность исследования конкретных культурно-антропологических ограничений, налагаемых на память коллектива его социальной структурой. Переход от мифологии к истории прослеживаемый, например, в эпических сказаниях таких африканских народов, как руанда, позволяет определить место того или иного коллектива в непрерывном ряду, соединяющем тип, соответствующий «холодной» модели, с тем, который соответствует «горячей» модели. Эти выводы, основанные на культурно-антропологическом изучении современных обществ, проливают свет и на многие традиционные проблемы античной и древневосточной истории, в частности па достоверность эпических преданий о малоазиатском происхождении этрусков, реальность геродотовского рассказа о лидийских царях, наличие исторических оснований в греческом мифе об аргонавтах и в рассказе о месопотамских торговцах в Малой Азии в аккадском эпосе о Нарам-Суэне (и в древнехеттском его переводе) . В каждом из указанных случаев эпический (или — как у Геродота — рапнеисторический) рассказ подтверждается в существенных своих чертах недавно открытыми языковыми и археологическими данными. Задача историка культуры — не только выявить историческую основу преданий, по и установить причины и пути эпической (и мифологической) трансформации фиксируемых в них событий. Так, в мифе об аргонавтах с памятью о южнокавказско-греческих контактах II тыс. до н. э. (или даже еще более ранних) соединились рассказы о значительно более поздних (и близких к историческому времени) плаваниях греков в Колхиду, открытую археологическими раскопками последних десятилетий. Процессу подобного сгущения (или склеивания) разновременных событий, связанному с ограничениями, наложенными на эпическую память, противостоит эпическое разделение событий и персонажей (превращение одного героя в двух, обычное для близнечных мифов, или одного персонажа в трех, частое в кельтском эпосе, и т. п.).
6. В качестве одного из наглядных примеров антропологического подхода к истории культуры, который оказывается весьма продуктивным по отношению к разным эпохам, можно указать на изучение взаимных дарений. Вслед за антропологами и лингвистами, обнаружившими многочисленные следы значимости дара как социального факта («тотального» в смысле Мосса), на эту проблему обратили внимание и исследователи средневековой культуры, не только западной, но и восточной. Оказалось, что божественный характер гостя, сохранявшийся, например, па Фиджи или в балканском фольклоре до начала нашего века, проливает свет и па обычаи гостеприимства, общие для древней Греции и современной Ипдии, и па происхождение самих обозначений божества типа русского Господь. В качестве одного из наиболее существенных аспектов этой проблемы следует выделить систему дарений (земель или сельскохозяйственных
16
Теория и история культуры
продуктов) царем или землевладельцем (часто, в свою очередь, получавшим землю от царя) буддийской монастырской общине — сангхе. Так, в восточном Туркестане в оазисах Таримского бассейна, судя по монастырским письмам и документам хозяйственной отчетности, написанным в VII в. н. э. на тохарском В языке, дарения осуществлялись либо зерном, либо другими товарами (в одном случае засвидетельствовано царское дарение «деревом»). Дарения земель, обычные для южного буддизма, в этом ареале неизвестны. «Доместикация» сангхи в каждой из стран, на которые распространяется буддизм, осуществляется по-разному, в связи с чем различен и характер дарений сангхе.
7. Леви-Стросс в своих последних работах высказывает предположение, что именно такие традиционные области, которые, как генеалогия царских династий, считались принадлежностью собственно исторического рассказа, могут особенно много получить от контакта с культурной антропологией. Действительно, выявленные этой последней принципы структур родства могут объяснить многие детали родословных. Достаточно сослаться на различие между севернобуддийскими вариантами генеалогии Будды, рождающегося от брака параллельных кузенов, и южнобуддийской версией кросс-кузенного брака, соответствующего сингальской структуре родства *1 2 3 4 5 *. Принцип эндогамии (или связанный с ним — гипергамии) во многих обществах служит средством конституирования узких социальных групп (в частном случае — каст). Доведение этого принципа до биологического абсурда наблюдается при обязательных инцестуозных браках внутри династии в монархиях типа Древнего Египта и некоторых других древнеафриканских стран, царства инков, древнесингальского государства и др. В этой связи может представить интерес и выявленное в последних работах индийских антропологов биологическое своеобразие кастовых групп по отношению к иммунологической защите от некоторых болезней (тропическая малярия) и сопряженным генетическим признакам. Здесь можно видеть реальное поле для совместной работы историков культуры и специалистов по физической и культурной антропологии. Обособление этих наук сменяется поиском наиболее разумных форм сотрудничества.
1 Ср.: Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983. С. 9, 75, 315, 317, 323.
2 Топоров В. 11. О космологических источниках раннеисторических описаний//Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. 6.
3 Sahlins М. Other times, other customs: the anthropology of history//American Anthropologist. 1983. Vol. 85, N 3. P. 512—544; Leach E. Roman Jakobson and social anthropology//A Tribute to Roman Jakobson, 1896—1982. B.; N. Y., 1983. P. 10-16; Levi-Strauss C. Histoire et ethnologie//Annales. 1983. 38 an., N 6. P. 1217—1321.
4 Peel J. D. Y. Making history: the past in the Ijesha present//Man. 1984. Vol. 19, N 1. P. 118.
5 Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. 1927. Вып. 1. С. 102, 103.
® Там же. С. 132, 133. 7 * Levi-Strauss С. Op. cit. Р. 1218.
8 Ibid. Р. 1235. 9 * Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978.
10 Beck В. Е. F. Peasant Society in Konku: A Study of Right and Left Subcastes in
South India. Vancouver, 1972. P. 33, 188. 11 Топоров В. H. Указ. соч.
,г Emenau М. В. Was there cross-cousins marriage among the Sakyas?//Journal of the
American Oriental Society. 1939. Vol. 54. Pt 1—4.
С. И. Беликовский
КУЛЬТУРА КАК ПОЛАГАНИЕ СМЫСЛА*
Междисциплинарные исследования по истории культуры могут дать и дают немало. Увы, они не дадут в результате культуроведения, культурологии как относительно самостоятельной отрасли знания о человеке. Простым сложением, скажем, лингвистики с историей живописи — даже если к ним добавить еще и этнографию или фольклористику, или любую другую частную и частичную науку, вычленяющую свой особый предмет (и свой угол рассмотрения) из огромной совокупности явлений, именуемой культурой,— получить сколько-нибудь удовлетворительной культурологии, к сожалению, нельзя. И трудность отнюдь не сводится к тому, что нет всезнаек, которым по плечу связать воедино далеко «разбежавшиеся» науки о разных областях культуры. Загвоздка даже и не в том несообразном положении вещей, когда у нас есть литературоведы, историки или лингвисты, добавляющие к своим работам еще и толику познаний, допустим, в смежном науковедении, по нет, за очень редкими исключениями культурологов в собственном смысле слова. Как нет и достаточно мощных исследовательских учреждений по культурологии, а есть лишь вкрапленные там и здесь «подразделения», ютящиеся едва ли не на задворках обширных научных центров. Но главное все же не в этом.
Дело в том, что сами ученые, работающие с памятниками культуры прошлого, давнего или совсем недавнего, зачастую по старинке убеждены, будто простое накопление разрозненных результатов на отдельных узких участках знания о культуре в конце концов даст, как в чудесной сказке, вожделенную сводную культурологию, будто поэтому сейчас желательно размежеваться, дабы когда-нибудь в будущем успешнее встретиться и соединиться. Недалеко же в таком случае ушли мы, гуманитарии и обществоведы, от Конта и Ренана, полузабыв их имена, но тем крепче придерживаясь прекраснодушного их упования! Между тем пережившие в XX в. научную революцию наши «соседи», естествоиспытатели, уже давно похоронили позитивистские предрассудки, предпочтя в своих науках совсем другой путь: путь построения эвристически плодоносных гипотез, которые бы теоретически, в замысле, охватывали большую часть подлежащего исследованию движущегося поля, а затем — вернее, одновременно, слитно — путь проработки эмпирического материала в свете такой исходной ключевой гипотезы.
В порядке выдвижения чего-то вроде эвристической гипотезы применительно к рисующейся нам пока что в мечтах культурологии не кажется бесполезным попробовать нащупать некую первично-сущностную клеточку всякого культуротворчества, отправляясь от которой можно было бы проследить ее бесконечные метаморфозы в необъятном разнопластном
* Выступление на симпозиуме «Междисциплинарные исследования истории культуры» в Институте всеобщей истории АН СССР 28 ноября 1984 г.
ЛСКАЯ ЦБ
18
Теория и история культуры
пространстве культуры того или иного народа, отрезка истории, той или иной цивилизации. Думаю, что подобной моделирующей единицей культурологии как отрасли знания не без успеха послужило бы понятие способа полагания смысла. Ведь и впрямь: что такое культура (при всем избыточном множестве бытующих определений ее), как не вновь и вновь, каждый раз и в каждом своем проявлении осознанно или непроизвольно предпринимаемая человеком попытка вскрыть и утвердить смысл человеческой жизни в соотнесенности его со смыслом сущего? Постройка собора или гражданского здания, писательское сочинительство, исполнение песни пли музыкальной пьесы, разбивка сада, театральное зрелище, нанесение красок на холст, украшение утвари, киносъемки, установление законосообразности в природе, подготовка радиопередачи...— перечень слишком легко продолжить при желании до бесконечности — всегда, во всех отдельно взятых случаях, были, есть и пребудут по сути своей деятельностью смыслополагающей, хотя тот, кто ею занят, о ее существе не философствует или даже не догадывается, а просто-напросто делает свое привычное дело ради хлеба насущного.
Разница способов полагания смысла, пронизывающего любое из образований культуры, вплоть до мельчайших, и отличает, если вдуматься, одну цивилизацию от другой, сколь бы непохожими друг на друга ни представали взору наблюдателя слагаемые этого поистине безбрежного изобилия.
Попробую, чтобы не быть совсем уж голословным, вкратце «заземлить» эти отвлеченные философические посылки. Ну, скажем, XX век на Западе, да и не па одном Западе, во-первых, развел между собой телеологическое целеполагание смысла вселенского бытия и смысла человеческой жизни, дотоле обычно как бы перетекавших друг в друга, взаимозависимых, а то и взаимоспаянных в умах. И, во-вторых, в самых разных, между собой вроде бы не соприкасающихся и не пересекающихся, ответвлениях своей культуры XX век постепенно внедрил то, что допустимо обозначить как неклассическое виденье вещей, а следовательно, неклассические орудия и приемы их освоения. В живописи — это замена «возрожденческой» пространственной перспективы, исходящей из одной идеальной точки, передачей скрытых объемов, а иной раз и временных измерений, плоскостной декоративностью или развернутым на полотне круговым обзором своего предмета. В музыке — нередко отказ от лада и тональности и признание всех ступеней звукоряда равноправными. В литературе — это «прустовски-джойсовские» приемы повествования, неизменно оттеняющие преломленность рассказываемого в восприятии одного или нескольких рассказчиков, из которых всем знанием о событийной канве и особенно о переживаниях действующих лиц — назовем его условно «бальзаковски-теккереевским» — не располагает никто. Для лирики — это свободный стих, где сложно построенное разнострочие заменило одноразмерность и повторяемость в пределах словесного целого. Для наук о природе — это принципы относительности и дополнительности, оставляющие ученому право избирать ту или иную систему аксиом без того, чтобы с порога отвергались все другие точки отсчета; напротив,
С. И. Беликовский. Культура как полагание смысла 1'J
они крайне желательны, необходимы еще и потому, что самый прибор естествоиспытателя, как выяснилось, воздействует па поведением изучаемых объектов и его показания нуждаются в поправках на данные, полученные не иначе, как при сменах плоскости рассмотрения вместе с применяемыми в ней приборами и ее особыми понятиями. Ссылки можно умножить за счет математики с ее теорией множеств, за счет «глубинной» психологии, исторической антропологии, самой философии...
Правомерно задаться вопросом: а возможно ли нащупать во всех этих переменах, протекавших, разумеется, не как перечеркивание классики, а как включение ее в резко раздвинувшееся пространство культуры XX в,— включение, напоминающее участь геометрии Евклида после открытий Лобачевского,— возможно ли нащупать здесь какой-то единый корень? Или это всего лишь вереница переворотов, объяснимых исключительно внутри и изнутри самой претерпевшей их отрасли культуротвор-чества? Заметим пока, что во всех упомянутых случаях переход от классических орудий работы в культуре (приемов исследования, мышления, сочинения) к орудиям неклассическим неизменно сопряжен со сменой местоположения самого мыслителя (исследователя, живописца, повествователя). Всякий раз он теперь — не столько нашедший, сколько ищущий. И размещает себя не у самого средоточия единственной из возможных истин, а допускает оправданность и другого угла зрения, так что Истина заведомо мыслится разногранной совокупностью, не доступной ни одному из обладателей отдельных истин — частичных ее составляющих. Иными словами, повсюду пробивает себе дорогу особое, относительно-дополнительное виденье вещей и осваивающей их личности. Она расстается со своей давней горделивой верой, будто ее деятельность в культуре протекает sub specie aeternitatis, числится по ведомству «абсолютного Я», посредника между человечески конечным и божественно бесконечным, как толковал когда-то подобную установку ума Фихте в своем паукоучении.
Но где, в свою очередь, причина, предпосылки этой, по-видимому, необратимой убыли, вытеснения из весьма разных отсеков культуры XX столетия прежнего классически «абсолютистского» виденья вещей вместе с подобающим инструментарием? Ведь кое-что из упомянутых выше новшеств ведомо было и раньше, да как-то не прижилось всерьез — скорее всего почва была неблагоприятна.
Пойдя чуть дальше в анализе-выведении, по необходимости здесь огрубление беглом, нельзя не обратить внимание на то разительное обстоятельство, что век XX, во всяком случае в западно-европейских странах, ознаменован иссяканием христианства и постепенным упрочением первой на земле насквозь безрелигиозной цивилизации, утрачивающей понятие «священного» в его прямом сакрально-иератическом значении высшей санкции всех прочих духовно-поведенческих ценностей. Все без изъятия культуры прошлого до сих пор всегда, впрямую или окольно, явно или подспудно, соприкасались с вероисповедпо-свящеппым как с конечным п высшим оправданием смысла жизни даже и тогда, когда иные из раГит >11П1их в культуре принадлежали к кругу неверующих. Не
2Э
Теория и история культуры
отсюда ли вытекала телеологическая устремленность западных философий — своего рода обмирщенное инобытие собственно теологического целеполагания? Не отсюда ли и мысленное самопомещение деятеля культуры, от древнего колдуна через жреца-священнослужителя до ученого XIX в., непосредственно у средоточия истины абсолютного толка, генетически, структурно восходящее к откровению божественно-священному? Прием как рабочее орудие культуры способен, стало быть, очень многое сказать о присущем ей способе смыслополагания, равно как и о самом состоянии цивилизации в XX в., когда вероисповедные ценности мало-помалу иссякают.
В заключение укажу предельно бегло на эвристические возможности намеченной в виде предварительного наброска гипотезы.
Прежде всего, категория «способ полагания смысла» подлежит и поддается развертке в цепь таких рабочих «подпонятий» исторической культурологии, как:
— способ выработки (производства) смысла;
— положение (статус в обществе) тех, кто ею занят,— тысячелетняя родословная нынешнего интеллигента;
— источники «питания» — «кладовые сырья» для смыслопроизводст-ва, включая и те, что достаются в наследие от предшествующих цивилизаций;
— инструменты добывания, обнародования и распространения смыслов;
— учреждения их хранения.
И наконец — последнее. Вся, так сказать, преднаучная культурология, от немецких романтиков до Шпенглера на Западе, от русских славянофилов до Данилевского и Леонтьева у нас в XIX в., да и позднейшие культурологические построения, возвестившие свою строгую научность, вроде структуральной этнологии К. Леви-Стросса или «археологии знания» М. Фуко во Франции середины XX в., неизменно свидетельствовали, что самый коварный камень преткновения для них, сколько бы ни отрицал это задним числом тот же Леви-Стросс в самых последних своих заверениях, сокрыт там, где аналитическое описание берет не просто горизонтально-временной (синхронический) срез той или иной культуры и бесчисленные самопреобразования ее слагаемых, а ее переход из одной системы в другую, ее переустройство, решительное обновление, а не преемственность. И суть всех затруднений тут одна: всякая описательноаналитическая структура на поверку, при строгом научном обращении с нею, не допускает помыслить внутри нее основополагающее противоречие, достаточно мощное, чтобы оно явилось источником и двигателем развития (диахронический ряд), а тем паче переворота в ее укладе.
Понятие же способа полагания смысла не просто изоморфно понятию способа общественного производства, но и подразумевает последний как свою действительную подпочву и основание. И следовательно, может почерпнуть оттуда принцип противоречия. Обрести тем самым пружину своего исторического движения, по видимости дискретных скачков, умираний-воскрешений, рождений, никогда и нигде прежде не бывалого,— короче, своего подлинного, временами революционного становления.
В. С. Библер
ДИАЛОГ. СОЗНАНИЕ. КУЛЬТУРА (идея культуры в работах М. М. Бахтина)
Все размышления Михаила Михайловича Бахтина о культуре имеют единый смысл (идею). Этот смысл — диалог. Все размышления Бахтина о .диалоге имеют один смысл (идею). Этот смысл — культура. Это — диалогизм в контексте культуры (бытия культуры... встречи культур... взаимопонимания культур).
Однако, чтобы этот смысл (диалог—культура—диалог) не обернулся бессмыслицей или не стал отмычкой, долженствующей открыть любые историко-культурные замки, необходимо идею диалога—идею культуры раскрыть во всей ее бахтинской многогранности, в цельной системе понятий, проблем, вопросов, поворотов целостного гуманитарного мышления М. М. Бахтина. Необходимо, далее, воспроизвести эту идею в живом контексте культуры 20-х годов XX в. и, наконец, необходимо проследить все превращения этой идеи в различных «речевых жанрах» — в литературоведческой, филологической, текстологической, философской, собственно культурологической (и историко-культурной) проекциях. И — на этой основе — в характерном для Бахтина совмещении всех «речевых жанров», в совмещении, дающем целостный объем бахтинской идеи диалога—идеи культуры.
Когда такая работа сделана *, возможно все начать как бы сначала и продумать единую логику этой ключевой идеи, взятой во всей ее внутренней необходимости.
В данной статье я начну разворачивать «единицу-двойчатку» сквозной бахтинской идеи с ее диалогического полюса и постараюсь в истинной всеобщности бахтинского диалога обнаружить всеобщность бахтинского понимания культуры.
Начну с текстологических проблем (диалог п понимание текстов), затем погружусь — вместе с Бахтиным — в ту сферу диалога, где культура лишь замысливается и переосмысливается (сознание личности и ее духовная жизнь), чтобы в конечном счете выйти в собственно культурологические проблемы диалога, в проблемы истории культуры (диалог в сознании личности — диалог в Большом времени культуры) 2.
Конечно, в таком движении только по логической канве диалогических идей М. М. Бахтина есть свои (достаточно явные) ограниченности, но есть и свои (менее явные) возможности и импульсы. Вообще-то говоря, уже сама попытка дать логику идей Бахтина вступает в некий конфликт с самими этими идеями, с исходным пафосом бахтинского творчества (для Бахтина логика обречена на монологичность...). Но, впрочем, возможно, именно это несовпадение с идеей Бахтина, само это претворение идей диалогизма в новом «неподходящем» речевом жанре завяжет своего рода диалог «по поводу» идей диалога, т. е. будет наиболее соответство
22
Теория и история культуры
вать сквозному пафосу бахтинского мышления? Но предупреждаю заранее: это не диалог в обычном смысле слова. Я здесь честно стараюсь не спорить (за исключением двух-трех отступлений) с концепцией Бахтина, я лишь воспроизвожу ... логику его концепции, логику бахтинских идей диалогизма.
И — только. Для несогласия с его идеей места здесь не будет. Однако само изложение бахтинских идей диалогизма культуры (поэтики диалога) в более или менее строгой логической форме — это уже есть в некотором смысле диалог с М. М. Бахтиным.
Представленный далее схематизм бахтинской идеи диалога (как адекватной формы самого бытия культуры, формы общения культур, формы нашего понимания культуры...) требует все же некоторого разгона. Необходимо, чтобы читатель как бы подготовился к такому логическому движению в идее диалога, взял нужную установку 3.
Предположим, что читатель этой статьи уже читал основные книги Бахтина, и я только напоминаю ему движение бахтинской мысли в этих книгах и двигаюсь вместе с ним в материале Бахтина (поэтика Достоевского, творчество Рабле и т. д.), сжимая этот материал в логическую форму... Первым таким необходимым напоминанием будет напоминание всеобщности идей диалога в работах М. М. Бахтина.
Всеобщность эта понимается Бахтиным в трех планах, трех смыслах. Вот, соответственно, три выдержки из книг Бахтина, определяющие эти три смысла диалогической всеобщности:
1. О всеобщности диалога как основы человеческого сознания.
«Диалогические отношения ... это — почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение... Где начинается сознание, там... начинается и диалог» 4. «Все в жизни (уже — без исключений, без «почти»,—Б. Б.) диалог, то есть диалогическая противоположность» (Проблемы ... с. 75). О значении бахтинского «почти ...» («диалог — почти универсальное явление») я скажу позже, а сейчас перейдем к пониманию универсальности диалога во втором смысле слова.
2. О всеобщности диалога как основы всех речевых жанров. О не-вместимости понятия «диалог» в понятие «спор».
Бахтин возражает против «узкого понимания диалогизма как спора, полемики, пародии». Он утверждает: «Это внешне наиболее очевидные, но грубые формы диалогизма. Доверие к чужому слову, благоговейное приятие (авторитетное слово), ученичество, поиски и вынуждение глубинного смысла, согласие, его бесконечные градации и оттенки (но не логические ограничения и не чисто предметные оговорки), наслаивания смысла на смысл, голоса на голос, усиление путем слияния (но не отождествления), сочетание многих голосов (коридор голосов), дополняющее понимание, выход за пределы понимаемого и т. п. Эти особые отношения нельзя свести ни к чисто логическим, ни к чисто предметным. Здесь встречаются целостные позиции, целостные личности...»5 Но понятие диалогизма здесь не случайно. В основе всех этих форм отношения
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
23
М. М. БАХТИН Фотография 1930 г.
между «репликами» находится именно «диалог», в самом остром и попятном смысле: наличие личностных позиций, отделение «высказываний» «диалогическим ожиданием» ответа или вопроса (возражающего, соглашающегося, сомневающегося) со стороны иной личности, вненаходимого ТЫ (см.: Проблема речевых жанров, разд. 11//Эстетика...).
3. О нетождественности бахтинского понимания «всеобщности диалога» с прямым обобщением; о исторической и духовной особенности, уникальности диалогизма Бахтина.
«Диалогическое проникновение обязательно в филологии (ведь без него невозможно никакое понимание): оно раскрывает новые моменты в слове (смысловые в широком смысле), которые, будучи раскрыты диалогическим путем, затем овеществляются. Всякому продвижению науки о слове предшествует ее «гениальная стадия»— обостренно диалогическое отношение к слову» 6.
Диалогизм всеобщ; диалогизм уникален (он свойственен «гениальным стадиям» — узловым моментам развития филологии и культуры в целом). Диалог всеобщ не «размазанно», но — в средоточиях человеческого духа.
Это — о всеобщности диалогизма Бахтина.
Теперь — о другом основании предлагаемого анализа.
21
Теория и история культуры
Продумаем вкратце, в каких исследовательских сферах, в каких речевых жанрах (термин Бахтина, относящийся к стабильным формам высказываний, целостным формам «речевого общения») сложился диалогизм М. М. Бахтина. Такое уточнение существенно, чтобы очертить пределы и возможности бахтинских воззрений.
Представляется, что бахтинская идея диалога возникла в точке скрещения четырех исследовательских установок.
Во-первых,— это установка на поэтику Достоевского. Здесь впервые возник ключевой бахтинский смысл идей диалога (даже сам термин «диалог» стал здесь основой всей терминологии; в «Авторе и герое...» этого понятия нет вовсе). Этот ключевой смысл; внутренняя связь (тождество?) идеи диалога с идеей сознания и самосознания, с идеей личности. И — с самим осмыслением ИДЕИ (в отличие от «мысли», понятия и т. д.,— но не в гегелевском отличии, а совсем-совсем ином отличии от понятия). Бахтинский диалогизм как коренная форма понимания личности и сути гуманитарного мышления есть — в этом смысле — идеализация поэтики романов Достоевского, возведение художественного мышления Достоевского на высоты предельного философского пафоса. Не идеология Достоевского в обычном смысле слова — почвенническая или какая-нибудь иная, но — «идеология», философия его художественного метода, эстетического полифонизма его романов — вот что было источником существеннейших открытий Бахтина.
И — еще.
Вместе с Достоевским Бахтин общался с человеком «на грани», в предельно кризисные, «гениальные стадии» его духа, его самосознания; в моменты, когда личность сама должна решать «последние вопросы своего бытия», должна перерешать себя (весь мир)...— В моменты, когда человек оказывался предельно (и «метафизически») не совпадающим с самим собой, сомнительным в самых основаниях его жизни и сознания.
Во-вторых, диалогизм Бахтина — это установка на исходный и неискоренимый диалогизм текста вообще (в том понимании всеобщности, о котором мы сказали выше). Свой «диалог» Бахтин увидел во всеобщих I определениях человеческой речи. Речь — любая речь, каждая речь — может быть, по Бахтину, истинно понята лишь в контексте диалогических отношений. Элементарная единица речи — «высказывание», граница которого и смысл которого — начало «ответа» другого человека, другой личности. Высказывание все ориентировано на этот ответ или на новый I вопрос, ко мне обращенный, таит в себе возможность и предвосхищение |^таких ответов, вопросов, сомнений. Бахтинское понимание речи — всеобще; это понимание резко отлично и от обычного «монологичного», «грамматического» ее понимания (единица речи — предложение), и от соссю-ровского (в потенции — структуралистского) ее понимания. В этом плане — диалогизм Бахтина это идеализация (уже не поэтики романов Достоевского и не идеи самосознания, и не сознания ИДЕИ...но) особого, по определению Бахтина — «металингвистического метода» (при всей сомнительности этого термина — ведь тут нет никакого «мета» — лингвистика сама выходит за свои пределы).
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
25
В этом плане ключевой (к идеям бахтинского диалогизма) является его работа «Проблема речевых жанров» (1934—1935 гг.). Но между «...Поэтикой Достоевского» и «Речевыми жанрами» нет обычного отношения «восхождения». Нельзя сказать так: в «Речевых жанрах» конкретизированы (или обобщены до единого «учения о речи») основы диалогизма, открытые в 1929 г. в «Проблемах поэтики Достоевского». Диалогизм как идеализация поэтики «полифонического романа», идей «личности-сознания» — не уже, не шире, не конкретнее, не общее, чем диалогизм как идеализация речи, «речевого жанра», или — текста (в его всеобщем смысле). Это — разные, несводимые, отстраняемые друг от друга грани диалогизма Бахтина, грани, могущие быть понятыми только в тех переходах и переформулировках, которые я очертил выше.
В-третьих. Диалогизм Бахтина — есть идеализация (возведение во всеобщность) диалога, как он выступает в «романном слове»; в его (романного слова) «хронотопе», т. е. в неделимом атомарном единстве «времени и пространства», характерном для романа. Это — диалогизм романных произведений — целостных феноменов культуры, но не просто фрагментарных «текстов». И речь тут уже идет не о «речи как таковой» и не о поэтике «предельного сознания, сознания личности» романов Достоевского. Речь здесь идет о преднайденном диалоге разноречивых диалектов, объединенных в рамках романа, в жестких границах его хронотопа. В романе один «диалект», одна интонация и синтаксис (одного действующего лица) оговаривает и освещает, и предупреждает голос, интонацию и диалект другого «действующего» (или — говорящего) лица. В их взаи-моосвещении и взаимооговорочности — в контексте романа — создается (впервые становится трудностью, проблемой, «последним вопросом» бытия) диалог реальных, разрозненных встреченных диалектов и речений. Именно такой диалог (по принципу: люди накопили в веках разные речевые блоки; в микрокосме романа эти наличные многовековые языковые блоки по особому освещают и освящают друг друга) и лежит в основе всех бахтинских осмыслений идеи диалога, диалога идей.
Бахтин пышет: «В этой обусловленности основных стилистических категорий определенными историческими судьбами и задачами идеологического слова сила этих категорий, но в то же время и ограниченность их. Они были рождены и оформлены исторически-актуальными силами словесно-идеологического становления определенных социальных групп, были теоретическим выражением этих действенных, творящих языковую жизнь сил.
Эти силы — силы объединения и централизации словесно-идеологического» мира» (Вопросы... С. 83).
В другом месте:
«Направленное на свой предмет слово входит в эту диалогически взволнованную и напряженную среду чужих слов, оценок и акцентов, вплетается в их сложные взаимоотношения, сливается с одними, отталкивается от других, пересекается с третьими; и все это может существенно формировать слово, отлагаться во всех его смысловых пластах, осложнять его экспрессию, влиять на весь стилистический облик» (Там же. С. 90).
26
Теория и история культуры
Наконец:
«Конкретное социально-идеологическое языковое сознание, становясь творчески активным, т. е. литературно-активным, преднаходит себя окруженным разноречием, а вовсе не единым и единственным, бесспорным и непререкаемым языком. Литературно-активное языковое сознание всегда и повсюду... находит „языки11, а не язык».
(Такое преднайденное разноречие существует особенно резко в новое время, но вне контекста романа, вне погружения в активно-литературное сознание, диалог разных речений и диалектов не осуществляется рефлективно, можно сказать — не осуществляется.)
«Так, безграмотный крестьянин, за тридевять земель от всякого центра, наивно погруженный в еще незыблемый для него неподвижный быт, жил в нескольких языковых системах: богу он молился на одном языке (церковнославянском), песни пел на другом, в семейном быту говорил на третьем, а начиная диктовать грамотею прошение в волость, пытался заговорить и на четвертом (официально-грамотном, „бумажном"). Все это — разные языки, даже с точки зрения абстрактных социальнодиалектологических признаков. Но эти языки не были диалогически соотнесены в языковом сознании крестьянина; он переходил из одного в другой бездумно, автоматически, каждый был бесспорен на своем месте, и место каждого бесспорно. Он еще не умел взглянуть на один язык (и соответственный ему словесный мир) глазами другого языка (на язык быта и бытовой мир глазами молитвы, либо песни, либо наоборот)» (Там же. С. 108—109). В романе начинается и доводится до предела вза-имоосвещения и взаимоосознания (до предела всеобщности речи, до предела мысли) диалогическое общение всех этих языков.
Эта установка Бахтина не менее (но и не более) всеобща, чем установка на поэтику романов Достоевского. Конечно, в чисто историческом плане «роман Достоевского» — лишь «разновидность» романа «вообще», романа нового времени в особенности. Да и родословную полифонии Достоевского, и многоречия «романного слова» как такового М. М. Бахтин устанавливает одну и ту же — от греческого авантюрного пред-романа, от мениппеи, от сократического диалога... (замечу, что в этой родословной Бахтин, как это свойственно всему его методу, ставит каждый свой «предмет» исследования в центр мировой культуры, и вся всемирная история литературы разворачивается из этого центра, оказывается его смысловой «периферией», волнами расплывающегося круга). Все это так. Но в логике мышления Бахтина все иначе.
Всеобщность диалогизма, вычитанного из романов Достоевского,— это всеобщность «погружения внешнего слова» внутрь сознания, превращение внешнего диалога в диалог самосознания или, точнее,— в самосознание как микродиалог. Здесь — в итоге — и внешний, преднайденный диалог пе преднайден, он заново (и совсем в ином смысле) творится изнутри — вовне... Он расходится кругами, полагая диалектные диалоги многих «лиц» (многих ликов одной личности). Аналогом такого диалога является «внутренняя речь» в понимании Выготского. Когда «внешняя артикулированная речь» (грамматически расчлененный язык) погружается в
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
27
психику индивида, тогда этот язык — по Выготскому — полностью перестраивается, собирается своим синтаксисом и своей семантикой смыслов, а пе значении7. Из этой «точки» речь-мысль творится впервые, излучается.
Близость позиций Выготского и Бахтина (в его понимании поэтики романов Достоевского) пе случайна; мыслители эти внутренне близки, и есть свидетельства их взаимовлияния (особенно — влияния Бахтина на Выготского). Но — это уже иной вопрос, которого мы сейчас не касаемся.
Иначе, но столь же всеобщ диалогизм «слова в романе», в обычном романе нового времени, до основополагающего открытия Достоевского. Это — всеобщность именно преднайденного многоречия, сводимого вместе, стравливаемого в единый диалогический клубок на узкой площадке романного сюжета, в контексте особой формы «произведения». «Роман» здесь — ключ к всеобщему пониманию (и речи, и мысли). Некий формирующий эксперимент. Конечно,— и вне площадки романного слова — диалекты, и интонации, и идеологические установки соединяются в одном сознании, взаимоосвещаются, и — хотим, не хотим — диалогизируют между собой. Однако вне романа этот диалог не доведен до предела. Новое время — также своего рода эксперимент, выявляющий всеобщую природу «преднайденного диалога» — как основы речи, мышления, сознания. Как их предпосылки, предзнаменования.
Ведь не только в новое время, но в каждой культуре (с меньшей силой и напряженностью) возникает этот эффект стравливания разных языков. И феномен этот — не случаен; его нельзя преодолеть за счет очищения языка от феноменологической «грязи» диалектов. С водой выплеснем и ребенка, с мнимой грязью — всеобщую суть речевых структур п структур сознания. Ведь именно в таком остранении от своего языка — в языке «соседа» (а язык этот — снова мой язык...) — и достигается реальность сознания, возможность слышать свою речь, т. е. развивать ее.— Отнюдь не «порождающая структура», в интерпретации Н. Хомского, но порождающая структура романного многоречия (казалось бы, чисто феноменологического и случайного, бытового) — вот реальная затравка «сознания» и даже — самосознания, в «диалогизме» М. М. Бахтина.
Но всеобщность такой преднайденности диалога (жестко связанная с новым временем и диалогизмом романа) имеет и собственную точку роста. Ведь в сознание людей погружаются не только языковые «блоки» социально-идеологического толка, столь существенные в эпоху формирования национальных языков. В сознание погружаются и во внутренней речи трансформируются также «блоки культур», как бы заранее приуготовленные к такой трансформации, нацеленные на обращение своего движения (на превращение движения, идущего «извне—вовнутрь», в движение «изнутри—вовне»). Эти речевые блоки культур с самого начала (в себе) альтернативны, трагичны. Это, к примеру, речи, рожденные, скажем, в силовом поле гамлетовского «Быть или не быть». В трагедии Шекспира речи Офелии, или Клавдия, или Гильденстерна исходно заряжены внутренним синтаксисом, семантикой идеи Гамлета.
Или — это собственно поэтическая речь, в каждом атоме обращенная
28
Теория и история культуры
на себя,—в строфике, в ритме, в сквозной («звуковым повтором» организованной) зарифмовапности8.
Или — это речь философская, исходно сомневающаяся в каждом понятии, отстраненная от собственной всеобщности.
Такая преднайденность (внешнего диалога, устремленного на свое внутреннее преобразование) не менее существенна для идей диалогизма, для идей «сознания как диалога», чем феноменология «многоречия и разноречия», фокусируемая в поэтике романа.
Но М. М. Бахтин твердо ориентирован только на романную преднай-денпость9. На мой взляд, такая напряженная ориентированность на «социально-диалектную» преднайденность диалога является пределом (ограниченностью) этого диалогизма.
Это — ограниченность диалогизма в понимании М. М. Бахтина. Но — я уже не раз это утверждал — прямой полемики здесь не будет.
Я несколько детальнее остановился на этой третьей исследовательской установке бахтинского диалогизма, поскольку она резко очерчивает «ав-торизованность» гуманитарного мышления М. М. Бахтина и существенна для понимания его позиций по отношению к поэзии и логике, которые — по мысли Бахтина — запредельны для истинного диалога, монологичны по своей природе (вот почему в бахтинском диалогизме диалог это лишь почти — но не полностью всеобщий феномен духовной жизни) 10.
В-четвертых. Еще одним истоком диалогизма Бахтина выступает непосредственно анализ культуры — в ее Большом времени. В проблемах культуры осуществляется кристаллизация всех иных диалогических установок, характерных для концепции Бахтина “.
Только тогда, когда феномен одновременности культур, общения между ними (а не их снятия и взаимоотвержения) стал — даже феноменологически — важнейшим социальным и личностным определением человеческих отношений, т. е. в XX в. все остальные предпосылки диалогизма могли соединиться, «забродить» и — сформировать идею диалога как всеобщую характеристику мышления, как определение разума (с основной установкой не на познание «объекта», «вещи», но на общение, взаимопонимание) .
Понимание каждой культуры (античной, средневековой, нового времени, восточной) как Собеседника, как одного из участников диалога по «последним вопросам человеческого бытия» — такого участника, который в общении с иными образами культуры обнаруживает и впервые формирует новые свои смыслы, формы, устремления, к этому иному образу обращенные,— такое понимание и сводит воедино все определения диалога как всеобщей сути гуманитарного мышления. Причем такое бытие культур в Большом времени (и их co-бытие) всегда персонифицировано.
Обращаются и диалогизируют (в сознании индивида, в его бытии) не абстрактные культуры как таковые, но — Прометей и Дон-Кихот, Эдип и Гамлет, Августин и Паскаль... Общаются в нашем бытии, судьбе, выборе, сознании — даже и тогда, когда мы об этом ничегошеньки не знаем. Ведь все эти образы — есть накопленные в веках альтернативы (и — катарсисы) наших нравственных и творческих отношений 12.
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
Диалогизм Бахтина одухотворен «живой водой» культуры дважды. Прежде всего — в идее амбивалентности каждой культуры. Под амбивалентностью я сейчас имею в виду несколько более общее понятие, чем сам Вахтин, раскрывающий ее смысл исключительно по отношению к средневековой культуре (в ее странном тождестве с культурой Возрождения). В бахтинском смысле «амбивалентность» — это двойственность и внутренняя диалогичность (возможность на себя самое смотреть со стороны) «верха» и «низа»; смеха и священной серьезности; «блаженных простецов» и «блаженных схоластов» — всех этих спорящих голосов средневекового (?) гротеска. Я подразумеваю здесь нечто иное: общую способность каждой культуры отстраняться от самой себя, не совпадать с собой, быть диалогичной по отношению к себе самой и — именно потому — быть диалогичной по отношению к иным культурам13.
Такое толкование «амбивалентности» излишне широко, по сама эта излишняя широта, несовпадение «широкого» смысла амбивалентности с ее более сосредоточенным и особенным смыслом входит, как я полагаю, в замысел Бахтина, в самый его пафос обращения к культуре. Входит в самое зерно специфически бахтинского диалогического схематизма.
Однако здесь есть одна трудность. Конечно, диалогизм Бахтина (как и всякий диалогизм, основанный на идее культуры) основан не только па «амбивалентности» каждой отдельной культуры, ее отстраненности от самой себя и — в этом смысле на отсутствии у культуры собственной территории. «Живая вода» культуры действует и в предельном диалоге разных культур. Бахтин об этом специально и напряженно размышляет (особенно в последние годы жизни).
Но, все же, диалог культур (в множественном числе) реально осуществляется Бахтиным... в русле одной культуры, культуры возникающего (возрождающегося во всех иных культурах) нового времени. Ведь и амбивалентность средневековья (см. выше) — это — у Бахтина — не собственная «средневековая» амбивалентность, но — это средневековье (и его внутреннее несовпадение с самим собой) — в контексте Возрождения или, более широко,— через «Слово в романе» — в контексте нового времени. Реально диалог культур совершается в работах М. М. Бахтина не в «лакуне» между культурами, не на «ничьей земле», где эти культуры как бы заново и впервые становятся, возникают, но — только внутри определенной культуры, культуры нововременной, культуры романного слова, па площадке идеологически — и диалектно — преднайденного диалога.
Диалог культур — да, безусловно; но только в той мере, в какой этот межкультурный диалог очерчен, втеснен в жерло «идей амбивалентности», причем не «амбивалентности» во всеобщеуникальном смысле, но только в Возрожденческом смысле, в смысле книги Бахтина о Франсуа Рабле.
Но это означает и другое. Диалог культур, понятый «по Бахтину», понятый не на «ничьей земле» (т. е.— не в точке взаимопревращения культур), это еще не диалог «внутри» (?) культуры XX в.—ведь именно эта культура более всего оказывается «ничьей землей». (Да, и есть ли она, в самом деле, эта культура?)
30
Теория и история культуры
Диалогизм Бахтина — это всеобщность нововременного (XVI—XIX вв.) диалога культур. Сразу же дополню мое утверждение. Конечно, Бахтин — характернейший мыслитель XX в., и, конечно, нововременной диалог культур (новое время как диалог культур) возможно было разглядеть только в первые десятилетия XX в., но — все же — XIX век еще довлел, я всеобщий диалог культур (открытие XX в.) мог быть понят лишь сквозь призму нового времени.
Эти размышления, по необходимости, очень конспективные, насущны для понимания диалогизма Бахтина (и для понимания пределов этого диалогизма); и я все же надеюсь, что сжатый заряд этих соображений сработает в уме читателей книг Михаила Михайловича.
Вот, пожалуй, основные мыслительные и исследовательские установки (трагедия самосознания; речь как диалог; романное слово; амбивалентность культуры), на скрещении которых рождается целостный контекст бахтинской концепции диалога, бахтинской версии гуманитарного мышления.
Все последующее будет сформулировано в форме тезисов, лишь логически конкретизированных утверждений. Такая тезисная форма позволит резче выделить основной костяк, узловую линию воззрений Бахтина14 (и — позволит не «писать заново» ни «Поэтику Достоевского», ни «Франсуа Рабле...»).
По идее Бахтина, диалог может быть понят, культура может быть осмыслена в таких — все они необходимы — поворотах гуманитарной мысли:
1. Диалог и всеобщность гуманитарного мышления. Гуманитарное тутытплепие в его всеобщности — это мышление о человеке как «квинтэссенции» мира. Или, по Бахтину — это мышление о человеке в контексте культуры.
Из Пастернака: «„Квинтэссенция"... История этого слова такова. К четырем „основным стихиям" воды, земли, воздуха и огня итальянские гуманисты добавили новую, пятую — человека. Слово quinta essentia (пятая сущность) стало на время синонимом понятья «человек» в значении основного, алхимического элемента вселенной. Позднее оно получило другой смысл» 16.
Так вот, Бахтин исходит из того, что эту (человеческую) квинтэссенцию нельзя раскрыть (понять) познанием человека как безгласного объекта, но только — общением с иным человеком, диалогом с ним. И — общением нашей культуры с иной культурой.
Но в этом исходном тезисе многое необходимо еще осмыслить.
2. Диалог и текст. Погружение в диалог культур и в диалог сознаний начинается с текста. (Сразу же уточню, что пригодится в последующем: для Бахтина вхождение в диалог сознаний (индивидов) достигает сферы духа, только если этот диалог понимается как диалог... культур. Но и обратно: диалог культур может быть понят в его действительном смысле лишь тогда, когда мы его понимаем и осуществляем как диалог сознаний, диалог личностей.)
Понятие текста здесь — в отправном моменте бахтинского диалогизма — особенно значимо.
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина -It
«Дух (и свой и чужой) не может быть дан как вещь (прямой объект естественных наук), а только в знаковом выражении, реализации в текстах, для себя самого и для другого» («Эстетика...» С. 284).
«Можно ли найти к нему (к человеку,— В. Б.) и к его жизни... какой-либо иной подход, кроме как через созданные или создаваемые им знаковые тексты... Физическое действие человека должно быть понято как поступок, но нельзя понять поступка вне его возможного (воссоздаваемого нами) знакового выражения (мотивы, цели, стимулы, степени осознанности и т. п.). Мы как бы заставляем человека говорить (конструируем его важные показания, объяснения, исповедь, признания, до-развиваем возможную или действительную внутреннюю речь и т. п.)» (Там же. С. 292-293).
«Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки» (Там же. С. 285).
В этом исходном понимании текста как всеобщей формы общения людей и их взаимопонимания обращу внимание на следующие моменты.
Текст в понимании Бахтина — это довольно своеобразный феномен,, несводимый к его семиотическому или герменевтическому пониманию. Текст дан в каком-то смещенном тройном освещении. С одной стороны, это «текст в узком смысле слова — речь, запечатленная на бумаге или пергаменте, это — реальная речь, отстраненная от человека и ставшая чем-то буквально „плоским", на плоскости воплощенным^. С другой стороны, это просто живая речь человека — в процессе общения, но понятая и доведенная до идеи текста, понятая по аналогии с отстраненным, запечатленным, плоским текстом, отделяющим человека от человека, воспринимаемым и тогда, когда человек ушел (умер, исчез, остался где-то в прошлом...). Это — улыбка Чеширского кота. Это — представленность человеческого бытия вне его самого.
Но бахтинский «текст» имеет и еще одно измерение, односторонне развитое в семиотических теориях. Это — понимание по схеме — «текст» — любых знаковых систем: иконографических, непосредственно вещных, деятельностных и т. д.
Для Бахтина эти три измерения, три понимания текста не могут быть «обобщены», они вступают между собой в отношение общения, в напряженное взаимопревращение и вновь — противопоставление. Но все же понимание текста как запечатленной, отстраненной от индивида формы общения имеет в размышлениях Бахтина особое, опосредующее, срединное значение. Именно в этом своем измерении текст и может быть попят — в дальнейшем,— как произведение, т. е. как форма самосознания культуры и как форма общения культур.
Бахтин подчеркивает — в своем понимании текста — такой момент: если мы хотим понять человека, то с ним надо общаться, а текст и есть плоть общения. Вне текста наши действия сливаются с вещами, в которых или которыми мы действуем, поступаем, от материала которых зависит плоть нашего поступка (от камня, от дерева, от земли). Тогда мы получим нечто усредненное: что-то от свойств камня, кое-что от намерения человека.
32
Теория и история культура,,
Вне текста к человеку не подступиться. И дело не только в том, что после смерти человек (как субъект) остается только в текстах, в запечатленной речи. Главное — в живом человеке.
Можно по-разному относиться к запечатленной речи (к тексту).
Можно понять 16 его как неизбежную ложь («Мысль изреченная есть ложь»,— Ф. Тютчев). Можно понять как то единственное, что сохраняется от мысли и что сохраняет мысль («...Но я забыл, что я хочу сказать, и тень бесплотная в чертог теней вернется»,— О. Мандельштам). Но и в том и в другом случае, «зная» (?) текст, мы понимаем человека в контексте общения.
Начинать свое исследование гуманитарий может с орудия, с поступка, с жилья, с социальной связи. Однако, чтобы продолжить это исследование и довести его до человека, сделавшего орудие, живущего в здании, общающегося с другими людьми, необходимо отнести все это к человеческой внутренней жизни, к сфере замыслов, к тому, что было накануне действий. Необходимо попять и орудие, и жилье, и поступок — как текст. И — в контексте реальных речевых текстов, сохраняющих канун поступка.
Однако с этой отправной точки (отталкиваясь от текста) все еще возможно движение и к семиотической, и к структуралистской, и к герменевтической, и к социологической теориям культуры.
Бахтин начинается только вместе с предположением о неискоренимой диалогичности текста.
Для Бахтина текст всегда «единица-двойчатка». В тексте человек воплощен как его голос, обращенный к нам; текст дан нам, как иному голосу, еопрощающему сей текст (... о его смысле, об его авторе), и — сквозь текст — вопрошающему автора. Но ведь сам «текст» (речь, зафиксированная на «бумаге», на «манускрипте» в самом широком смысле) всегда вопрошает, отвечает, сомневается, жаждет понимания, вслушивается в чужую речь. Поэтому мало выспрашивать данный текст. Даже — бессмысленно и преступно.
К тексту надо обращаться. Ведь текст — это не только (может быть, не столько) голос; это — слушание чужой встречной речи. Поэтому понять смысл данного текста означает понять два (как минимум) текста, встречающихся в одном, на его границе. Или так — встречающихся в тексте, как в пограничье текстов. Необходимо понять эту встречу. Кстати, ясно, что термин «информация» здесь абсурден. Но это означает и другое. Мне — исследователю (пока речь идет об «исследователе») — надо совместиться с тем действительным адресатом данного текста, к которому сей текст реально обращен,— лишь тогда смысл текста будет понятен, начнет пониматься. Отождествиться? Да, конечно... Но Я (исследователь-гуманитарий) есть все же не кто иной, чем тот Ты, к которому автор текста обращался. Отождествляясь с ним, я должен — одновременно — не замещать этот адресат, отстраняться от него. Диалог (автор текста — его адресат — ученый-гуманитарий) должен иметь три фокуса, три участка (для начала, как минимум). Вопрос — ответ — вопрос; вопрос к «вопросно-ответному» диалогу; и так — в бесконечность. К тому же в зависимости
В. С. Библер. Идея культуры е работах Бахтина
33
о г моих исследовательских вопросов текст поворачивается иными сторонами, формулирует различные ответы, сгущается иными смыслами.
Итак: для понимающего гуманитария текст существует как граница ворочающихся реплик (и ответных вслушиваний), как встреча направлен ны\ друг к другу речей (спрашивающих, отвечающих, соглашающихся, сомневающихся). Как смена ответного говорения и внимающего слушания. Иначе — текста иет. Есть лишь загрязненный листок бумаги. Необходимо погружение из текста культуры в ее подтекст (впрочем — и самом тексте воплощенный). Одновременно исследователь культуры начинает чувствовать себя ее участником, сам погружается в диалог.
К здесь уже необходимо расшифровать смысл бахтинского «попима-ппя» как диалога.
3. Диалог и понимание. Исследователь-гуманитарий не буквалист. Он Хочет понять пе столько то, что сказал автор, сколько то, что он хотел сказать; необходимо встретиться с автором — человеком, манифестирующим себя в тексте. Если я не слышу несказанное, пе впжу невидимое — мысль, желание, стремление, замысел, одухотворяющие текст, то я не только автора, я и текст-то не понимаю. Ведь текст призван пе только что-то сказать, по и что-то утаить, дать между строк (если ты мудр, то поймешь, уловишь эту «неизреченную» мысль — опа одна не есть ложь).
Но это неизреченное я могу только понять... И — понять только в тексте. Или — в текстах. Я начинаю соотносить этот текст с ппыми текстами иных авторов, освещающих этот текст, раскрывающих его глубинный смысл,— ведь он всегда на что-то отвечает, что-то переосмысливает, ч то-то передразнивает, пародирует, что-то (какой-то текст) продолжает, о г какого-то текста отталкивается. Текст разрастается дпалогпзирующи-мн (с ппм) текстами, втягивает в себя бесконечный — в века — контекст, становится полифоническим. И — в этом смысле (бесконечно изменяя и \ глубляя свои смыслы) — понимается. То есть — понимается уже не как о ют текст и имепно поэтому (на границе диалогизируюхцпх речей) понимается по-настоящему ”.
По рассмотрим эту ситуацию внимательнее, во втором приближении. Что здесь произошло? Одна бесконечность есть — в действительности — дне бесконечности. На одпом полюсе вырастает бесконечный контекст, вселенная «понимающих текстов» (в Большом времени существующая). На другом полюсе углубляется авторский текст, или, точнее,—замкнутое (и вобравшее образ автора) «.произведение». Оно также оказывается всегда тождественным себе и — вместе с тем — бесконечно развивающимся (замыкаясь в своем контуре), неисчерпаемым. В каждом новом контексте «гекст-произведение» по-новому раскрывает, актуализирует, углубляет, поворачивает свой смысл, отвечая на иные вопросы, вопрошая иное читательское сознание. И еще. Я могу понять произведепие-текст лишь в бесконечном контексте реальных и возможных ответов и вопрошений, диалогов. Но кто этот «Я»? Всемогущий «исследователь»? В том-то и дело, что — нет. Во всех этих ответах и вопрошаниях я могу участвовать только как действующее (вопрошающее и отвечающее) лицо драмы. Тем бо
2 Идппт!
34
Теория и история культуры
лее, что в таком понимании — через контекст споров и согласий — неисчерпаемым, всеобщим (и — столь же нерешенным, как я...) оказывается и автор — тот, кто говорит. Он ни на шаг от меня пе отстает, все время углубляется и спорит на равных. И текст и его автор непрерывно — в ходе нашего общения с ним — актуализирует и углубляет свою «непонятность», свою «вненаходимость», развивает и изменяет свой смысл. Или — он не диалогизирует вовсе, т. е. исчезает из вида, проваливается в ничто. Ведь наряду с контекстом растет текст произведения — как некая «творящая монада», всегда имеющая, что ответить на новый вопрос «контекста» или — какой новый вопрос ему задать.
В предельном доведении «исследовательское русло» гуманитарного мышления заканчивается, переосмысливается в нечто иное: это уже не (только) диалог «гуманитария-исследователя» с «изучаемым» (сквозь призму текста) автором, но — диалог двух, одинаково активных, взаимо-понимающих друг друга личностей.
Схема здесь такова: гуманитарий должен «для начала» исследовать текст, слово, речь своего «подопечного». В этом исследовании оп (ученый-гуманитарий) как раз в тот момент, когда достигает своей цели, когда воссоздает «всепонимающий контекст», как раз в это мгновение он оказывается лицом к лицу с бесконечно поумневшим автором и бесконечно сосредоточенным текстом-произведением18. Но работа «текстолога», конечно, не прошла даром. Теперь диалог идет уже не о частностях, пе о деталях, но происходит на высотах духа — в глубинах идеи,— о последних вопросах бытия... (Все те слова, которые я сейчас подчеркнул, будут раскрыты в последующих тезисах. Сейчас я о них упомянул лишь для уяснения самого процесса диалогического движения.)
Не могу сейчас детальнее осмысливать бахтинское «понимание» (как особый и необходимый поворот мышления «о культуре», мышления в культуре).
Подчеркнем лишь три момента.
Во-первых, для Бахтина «понимание» имеет смысл только как взаимопонимание (пу, скажем — между автором текста и его читателем, слушателем). В этом плане понимание (взаимопонимание) в концепции Бахтина может быть противопоставлено и однонаправленному «объяснению» (некто — во всеоружии своего превосходства — «объясняет»; нечто покорно подвергается «объяснению»), и жертвенному «вчувствованию», «вхождению» в замысел автора (когда исчезает читательское «отстранение», когда я сливаюсь с индивидуальностью автора, а меня-то уже и нет, или, во всяком случае, я, понимающий другого человека и другой текст, никому неинтересен и несущественен). В экстазе «вчувствования» от меня остается — и должна остаться — покинутая оболочка...
«Взаимопонимание» — по мысли Бахтина — подразумевает, что смысл любого текста в том-то и состоит, что он вопрошающ, ответен, что сам текст живет стремлением понять того, к кому автор обращается (непосредственно или через века).— Понять читателя. Но ясно и то, что отвечая па мои вопросы (сам автор себе этих вопросов не задавал) и задавая мне свои вопросы, автор текста постоянно — вместе со мной — изменяется.
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
35
развивается —< точнее, развивается и углубляется его текст. И это есть непременный феномен понимания как взаимопонимания.
Во-вторых, бахтинское понимание (как взаимопонимание) имеет в качестве своей глубинной смысловой установки не сам по себе процесс познания (хотя, конечно, без познания тут не обойтись), но процесс общения. Это означает, что смысл понимания не в том, чтобы, познавая некое явление (текст, произведение, сознание автора), перевести все его бытие в статут мышления об этом бытпи (по схеме: теперь я знаю данный текст...), но в том, чтобы понять этот текст и его автора как нечто вне-понятийное, как некое самостоятельное бытие, которое никаким усилием мысли я не могу перевести в свой мозг, в свое сознание; понять это бытие в его — отстраняющей меня — обращенности ко мне. Понять текст в его возможности быть не таким, каким оп является мне, обращается ко мне (в свете моих вопросов), понять текст в его возможности быть...
Вспомним, что задача познать сущность (т. е. раскрыть причиняющую силу) некоего бытия — это, по Аристотелю, путь только к «вторым сущностям». Понять и довести до эпдоса, до неделимого образа уникальное, единственное бытпе, «существ» вещей — вот дорога к «первосущно-стям», вот собственное дело Ума. Так что бахтинская идея «понимания» не снимает, но углубляет роль и смысл разума, разумения. Ума...
В-третьих, бахтинский подход предполагает, что «понимание» (взаимопонимание, общенпе Умов...) возможно только как момент самосознания, общения с самим собой, возможно как включение другого сознания и бытия в перипетии моего несовпадения с самим собой. Об этом специально я буду говорить в следующем тезисе, но отметить этот момент, как существенный для бахтинских смыслов «понимания», необходимо было уже сейчас.
Приведу теперь несколько утверждений и размышлений М. М. Бахтина, раскрывающих бахтинскую идею понимания:
— «Понимание — как соотнесение с другими текстами и переосмысление в новом коптексте (в моем, в современном, в будущем)... Этапы диалогического движения понимания: исходная точка — данный текст; движение назад — прошлые контексты; движение вперед — предвосхищение (и начало) будущего контекста» (Эстетика... С. 364);
— «Увидеть и понять автора произведения — значит увидеть и понять другое, чужое сознание и его мир, то есть другой субъект (,,Du“). При объяснении — только одно сознание, один субъект; при понимании — два сознания, два субъекта... Понимание всегда в какой-то мере диалогично» (Там же. С. 289—290). Понимание — всегда — взаимопонимание.
И — еще один фрагмент:
«Автор (носитель слова) и понимающий. Автор, создавая свое произведение, пе предназначает его для литературоведа и не предполагает специфического литературоведческого понимания, пе стремится создать коллектива литературоведов... Современные литературоведы (в большинстве своем структуралисты) обычно определяют имманентного произведению слушателя как всепонимающего, идеального слушателя; именно такой постулируется в произведении... Это абстрактное идеальное образование.
2»
36 Теория и история культуры
Ему противостоит такой же абстрактный идеальный автор. При таком понимании, в сущности, идеальный слушатель является зеркальным отражением автора, дублирующим его. Он не может внести ничего нового в идеально понятое произведение и в пдеально полный замысел автора... он и не может быть другим (или чужим) для автора, не может иметь никакого избытка, определяемого другостыо. Между автором и таким слушателем не может быть никакого взаимодействия, никаких активных драматических отношений, ведь это не голоса, а равные себе и друг другу абстрактные понятия» (Там же. С. 367—368).
Пока — достаточно о понимании.
Сейчас необходимо — па время — оставить позиции «исследователя культуры», пусть даже — «понимающего исследователя», необходимо — пока что — забыть о «тексте». Однако мы не навсегда расстаемся с позицией филолога, с пониманием текстов культуры.
Этп узелки еще пригодятся в реконструкции бахтинского диалогизма. Но пока сказано достаточно, чтобы временно покинуть «исследовательское русло» и перейти к определению диалога в имманентном бытии субъекта культуры. Исследователь культуры может понимать культуру (а не сферу цивилизованной информации), только погружаясь в ситуацию самосознания, но пе психологически данного самосознания, а в самосознание человека культуры — человека, способного быть в культуре. Поэтому сейчас я буду, казалось бы (по только «казалось бы»...), говорить не о бахтинской теории культуры и формах ее понимания, по (!) о бахтинских определениях индивидуального сознания и самосознания. В действительности мы ни на момент не покинем культурологической сферы.
Во всяком случае, филолог илп историк, чтобы думать и говорить действительно о культуре, должен сам переместиться — своим сознанием, мыслью, самой вопросительностыо своего духовного бытия — в контекст культуры, должен жить культурой. Вот об этом и пойдет далее речь.
4. Диалог и сознание. Диалог и личность. В тезисе втором диалог понимался как нечто неизбежное (к сожалению?) в гуманитарных штудиях, поскольку иначе, чем через текст, человека не разглядишь, не услышишь. Текст — всегда па грани текстов, он неизлечимо диалогичен. Вот если бы удалось обойти текст и помпмо текста войти в человека, тогда...
Теперь мы знаем, что, как раз тогда,— т. е., если бы текст стал абсолютно прозрачным,— тогда «предметом» нашего рассмотрения стала бы «вещь», а не человек. Гуманитарное мышление пе от плохой жизни обращается к человеку через текст, текстом, читая текст, слушая речь. В тексте человек живет вне своего (физического) бытия; в тексте человек видит себя глазами другого, слышит ушами другого: ведь текст существует и создается, чтобы быть услышанным — в насущности бытия другого, обращенного ко мне, мне внимающего.
В тезисе третьем становилось все более ясным, что именно такое мое бытие (бытие в тексте) — мое бытие вне меня, мое бытие, на меня самого обращенное,— есть собственное определение субъекта (но еще не личности) .
В. С. Библер. 11дея культуры в работах Бахтина
37
Понимая текст, я понимаю, что:
во-первых, смысл моего бытия как субъекта — есть обращенность, ад-ресованность к другому, к Ты.
Во-вторых, что смысл моего бытия — внимать другому, воспринимать в себя его «другость» (его бытие вне меня, т. е. его бытие как Ты —мне насущного, по никогда мне не тождественного, пмеппо в этой петождест-венпости мне насущного).
В-третьих, понимая текст, я понимаю, что только в речевом инобытии мое Я вообще имеет смысл, т. е. отвечает своим бытием на чей-то вопрос, вопрошает иное бытие |9. (Стоит добавить, что — по Бахтину — такой вопросно-ответный смысл имеет все бытие человека — все его поступки, физические действия, творческие акты,— весь человек «насквозь». Но можно сказать и иначе: лишь понятое как речь, в контексте вопроса-ответа-во-проса все человеческое бытне есть бытие субъекта.)
В-четвертых. Текст мне проговорился, что именно в своем вопрошающем и отвечающем (осмысленном) бытии я осуществляю себя как некто (!) нерешенный, открытый, неисчерпаемый, свободный. Вопрошая своим бытием иное бытие, отвечая своим бытием на иное бытие, Я упрямо пе совпадаю с самим собой, напряженно изменяю, претворяю, перерешаю свой собственный смысл и смысл бытия,— ни йоты пе меняя в своем физическом, материальном составе (см.: Эстетика... С. 367). Но, значит,— сохраняю возможность «перерешать» свое духовное бытие (смысл бытия). Впрочем,—кто этот неуловимый Я, способный все «переиграть»? Пока ограничусь здесь знаком вопроса.
Па этом перегоне гуманитарного мышления постоянное бахтпнское «...быть — это общаться» означает, что мыслпть «о человеке...» невозможно (тогда будешь мыслить о вещи); возможно мыслпть лишь к человеку... Б другому человеку обращаясь (и — к себе обращаясь).
«Знать» человека (это —как будто — цель гуманитарного мышления?) означает быть с пим в дпалоге, т. е. «не знать» его, но понимать и — пе понимать (поскольку ответное бытие имеет уже другой смысл, чем безответное).
Все это нам рассказывает текст...
Но — с той же силой, с какой мы обнаруживаем в тексте (на грани текстов) некий парафраз идеи личности — идею субъекта, с той же силой мы должны понять все сказанное выше как обнаружение того, что текст есть лишь метафорический парафраз той внутренней диалогичности, что присуща личности, лишь — слабый и уплощающий суть гуманитарного общения «переносный смысл». Зная текст, я ничего не знаю о личности.', или, скажу так,— я знаю о пей «ппчто» (знаю, что «о личности»... «знать» (!) вообще ничего нельзя).
По это — уже нечто. Зная текст, я «знаю» личность как субъекта — обращения, общения, дпалога... И я еще не зпаю (и «знать» это невозможно) субъекта как личность. Взаимопонимание с субъектом как с личпостью, обращение к субъекту как к личности (а значит — п свое самосознание как личности) — есть следующий, более глубокий, уровень гуманитарного мышления, более глубокий уровень диалога. (Не — более
38
Теория и история культуры
глубокий уровень точности, но более глубокий уровень взаимопонимания, взаимозагадочности.)
Понимая текст (в контексте; в соотнесении с иными текстами; в несовпадении его смысла с его значением; в сопряжении с «непроизнесенной», подразумеваемой речью), мы начинаем понимать, что субъект текста не тождествен личности, что эта петождественпость есть нетож-дественность, несовпадение личности с ней самой; мы восходим (или — углубляемся) на тот следующий уровень гуманитарного мышления, о котором я только начал размышлять. Углубляемся в сферу диалога с личностью 20.
Это означает также переход от диалога «голосов» (текст) — к диалогу личностных позиций (не речей, но их интенций).
Формой такого диалога и оказывается сознание (и самосознание).
И здесь снова одна трудность, существенная для Бахтина. Сознанием обладают (?) все нормальные люди. Но сознание имеет смысл (собственный смысл) только в горизонте личности — в некоем идеализованном, невозможном пределе. И вот именно в этом парадоксальном сопряжении сознание (по идее Бахтина) и выступает теперь синонимом и сферой диалога в контексте культуры.
Рассмотрим это сопряжение (сознание—личность) более внимательно. Начну с простейшего утверждения: «Такой-то — сознательный человек...» В чем смысл этого банальнейшего из банальных фразеологизмов?
Сознавать — это выявлять свое бытие (?). И выявлять бытие другого (?). В одном акте. Если выбить это утверждение из привычных фразеологизмов, то оболочка банальности и само-собой-разумеемости сразу же слетает.
Чтобы понять бахтинский подход, прежде всего необходимо представить, что «сознание» (чего-то иного...) и «самосознание» завязано в тугой узел. Я могу нечто осознавать, только если есть цельность моего осознающего Я, только если «органом» сознания оказывается не данное, сиюминутное чувство и пе данное мгновенное восприятие, но — присутствующее в этом чувстве и восприятии — единое, самотождественное — в прошлое и в будущее — Я (?). Бытие такого Я дано, в свою очередь,— только самосознанием.
Но выявить (для себя) свое бытие, осознать, что ты есть (зпать, кто ты есть), предполагает, во-первых, некий феномен отстранения от своего бытия (бытия для бытия, как сказал бы Хайдеггер). Бытие в горизонте сознания как раз и означает петождественность моего осознаваемого Я (его целостного бытия) самому акту осознания. Имеющий сознание человек должен обладать способностью... смотреть на свое бытие со стороны (?). Но,—где эта «сторона»,—ведь «все свое...», да и самого себя, «я ношу с собой». Уже тут элементарный акт сознания—самосознания становится парадоксальным и невозможным. Чтобы осознать свое бытие, необходимо «находиться» (?) вне собственного бытия.
Далее. Такое сознание (так понимаемое сознание) отнюдь не есть знание о моем бытии как оно проявляется в данном конкретпом действии, не есть «знание о моем действии». Речь идет не об этом, поскольку
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
39
в акте осознания данного действия, или — данной цели действия, или — данного предмета действия... еще нет и не может быть осознания моего бытия. Скорее наоборот.
Зная о своем действии, я знаю об его (этого действия) целях, знаюг па что это действие направлено, зпаю, в каком материале, в какой материи это действие протекает (т. е. знаю о камне, или металле, или дереве, как носителе этого действия). И именно поэтому, занятый своим объективизированным действием и его нацеленностью, я уже себя раздробил, у меня просто нет своего целостного бытия, мне «не до себя». Я обладаю пе сознанием, ио — знанием данного действия (или — данных бесчисленных действий). «А мальчика-то и пет...» 21 И из суммирования всех этих действенных «бесчисленпостей» мальчика пе составишь.
Иметь созпание— означает осознавать необходимость отстранить и остранить (сделать странным, сомнительным, поставить под вопрос) свое собственное бытие как целостное, завершенное, закругленное, наблюдаемое мной (?) на всем интервале моей жизни: от рождения — до смерти. От «до-рождения» до «после-смерти». Причем в сознании я должен (?) — чтобы осознавать другого (и другое) — видеть и слышать свое завершенное бытие — в данный момепт (когда я его вопрошаю), в момент некоей «середины», или вообще — некоей незавершенной, продолжающейся век-торности моего бытия...
Вот что требует идея сознания (и самосознания, т. е. сознания моего бытия) 22.
Сознание предполагает — по своему смыслу — невозможное (и — насущное) несовпадение моего Я с самим собой, беседу, общение с собой — общение меня незавершенного, мгновенного, открытого — со мной завершенным, замкнутым па себя, уже состоявшимся, отрешенным от всех изменений, но — могущим быть «перерешенным»... В сознании мое бытие неизбежно сдвоено. Ведь именно (и только) в сознании бытие не совпадает с самим собой, отличается от себя самого, насущно себе самому. Co-знание есть (по логике Бахтина) бытие как co-бытиё, как диалог. Ио во всем, что я сейчас сказал, есть — на мой собственный взгляд—какая-то недоговоренность, насильственность. В самом деле. Все те определения сознания, что были только что введены, слишком далеко проецируют те исходные требования, которые возникают, если взять всерьез фразеологизм «сознательный человек»... Определенность сознания как диалог, целостная форма общения с самим собой выскакивает как «бог из машины», не видно еще сущих и насущных ее оснований.
И, главное, не видно пока никакой возможности — для меня мгновенного — понять «меня завершенного и окончательного», понять меня со стороны, в том самом интервале от «до-рождения» до «после-смерти», чго столь необходим, чтобы я был действительно «сознательным». Здесь возникает странная несовместимость.
Мы вполне можем представить, что означенные полюсы сознания реально существуют. Даже наше интуитивное понимание того, что есть сознание, легко согласится: да, сознание есть только там, где существуют п предельно напряжены эти дополнительные определения. Сознание есть
40
Теория и история культуры
там, где существует зазор, расщелина между моими внутренними собеседниками и где существует насущность (только откуда она возьмется?) их диалогического сопряжения. Сознавать — означает видеть и слышать вещи в этом поле напряжения между моим мгновенным, вот сейчас исчезающим я и между моим Я окончательным, завершенным, навечпым... В этом смысле сознание вседневно, ибо такое поле напряжения действительно есть, пожалуй, у каждого человека (и в топ мере, в какой мощно зто напряжение, в той мере сознателен человек). Все это так. Но только откуда взяться «второму полюсу» (Я завершенный, целостный, окончательный и т. д.), откуда возникнуть насущности сопряжения этих полюсов, ведь пока что может быть определен лишь один полюс — я мгновенный и преходящий; «эллипса» нет, есть круг, есть эгоцентрическая система. Но без двух центров (фокусов) и силового поля нет, да и не может быть.
Можно согласиться,— то сознание, о котором говорит Бахтин,— действительно есть, но только... его не может быть. Где же выход?
М. М. Бахтин находит этот выход в своем основном предположении: «сознание есть там, где есть два сознания», «дух есть там, где есть два Духа».
Прежде чем детально осмыслить это решающее определение Бахтина (мы сейчас увидим, что оно имеет целостный смысл только в сфере эстетической деятельности), продумаем заново привычный оборот: «сознание — есть». Здесь необходимо остановиться и разъяснить одно теоретическое (и интуитивно закрепленное) недоразумение.
... На наше сознание постоянно воздействуют гигантские силы внешней детерминации, изменяющие это сознание, зачастую — решающим образом. Силы обстоятельств, частных целей, из «путра» действующее подсознание, закристаллизованные социально-исторические структуры... Но не следует отождествлять два вопроса: вопрос о том, что и как действует на сознание, и вопрос о том, что есть сознание. Это как с инерцией в механике Галилея: истинная теория движения началась тогда, когда силы, изменяющие движение, были — в предельных, в конечном счете мысленных экспериментах — отделены от внутренней силы инерции — способности тел, без внешнего воздействия, бесконечно продолжать движение (ес'лп они уже движутся). Так и с сознанием. Необходимо было выявить ту — невозможную в наличном бытии — сферу, в которой сознание может быть понято в своем внутреннем всеобщем определении. Это — сфера, когда созпапие существует и действует в соответствии со своим действительным смыслом; это — жизнь индивида в горизонте личности. М. М. Бахтин осмыслил этот горизонт (самодетерминация сознания) в «эстетической деятельности», в ее предельном — художественном — воплощении, в предельном выражении самой художественности — в опытах художественного воображения жизни человеческого духа — в поэтике романов Достоевского. Сознание — по Бахтину — удовлетворяет своей определенности (а не рассказывает о силах, смещающих эту определенность) на путях эстетического творчества. Продолжу предложенную аналогию. Б механике Галилея силы инерции обнаружены были в невозможных для
В. С. Библер. Идея культуры е работах Бахтина
ц
реального движения условиях — в мыслепно-идеальной пустоте, в дни жении по идеально гладким поверхностям, в сведении тел к материальным и математическим точкам. Но только представленные в этих невозможных условиях, только перемещенные — мысленно — в сферу некоего идеального — неосуществимого во плоти — мира предметы раскрыли свою реальную, действительную, всеобщую сущность — сущность движения каждого тела. Так и в размышлениях Бахтина. В сфере художественно преображенного, в невозможные условия поставленного человеческого духа (в сфере: автор — герой) раскрываются (отнюдь не какие-то исключительные, элитарные, ио и) всеобщие определения духовной жизни человека (в нашем случае — всеобщие определения сознания). Повторю, конечно, важно знать, как изменяется сознание под воздействием внешних сил, но это имеет смысл только, если мы понимаем, что оно, это сознание, есть. По своей внутренней сути, в своей насущности 23.
Но тут аналогия кончается. В механике Галилея раскрываются естественные, отчужденные законы предметного движения; в поэтике Бахтина — внутренняя жизнь человеческого духа, вовсе не заряженная раз и навсегда на определенную форму движения, но способная свободно и основополагающе изменить это движение, преображать свое бытие. Открывается эта жизнь духа (пока что иа уровне сознания) усилиями самосознания, как оно осуществляется в культуре, в общении культур, в эстетической деятельности (Бахтин). Больше того, бытие в культуре (но‘ вовсе не искусственные предельные эксперименты) и есть форма становления и преобразования насущных определений сознания. Наконец, противоположны сами смыслы истины. Галилей: истина обнаруживается там, где предмет — абсолютно — один. Бахтин: сознание есть — по истине — там. где есть (как минимум) два сознания, где мое Я наиболее насущно обращено к Ты. Но об этом последнем различии и идет основная речь в моей статье.
Вернемся к реальной поэтике М. М. Бахтина.
В книге «Автор и герой...» раскрыт первый полюс эстетического освоения (=формпрования) феноменов сознания в горизонте личности. Это— полюс эстетического оформления в целостность «другого Я», принятого во всей его впенаходимости.
Автор обладает избытком видения по отношению к герою. Он способен «обымать» (одно из любимых слов Бахтина) это другое Я — необходимое мне Ты. Автор способен видеть героя как нечто завершенное — во времени, пространстве, бытии — как законченное и замкнутое. Себя так видеть невозможно. Я (в своем внутреннем взоре) всегда незакончен, раскрыт, незавершен. (Заметим, что в основе всей этой поэтики пока еще лежит именно взор, видение, работа глаза, отстраняющего и завершающего «другость» каждого вненаходимого субъекта.)
Конечно, такое завершающее, замыкающее (от рождения — к смерти) видение чужого бытия — есть эстетический подвиг, гигантское напряжение художественного деяния, но отнюдь не феномен повседневного, вне-эстетического общения. Решающее значение здесь имеет для Бахтина эстетическая форма, которая и есть спла «обымания» и завершения
42
Теория и история культуры
«другого Я» — в его целостности и радикальной «вненаходимости». Я завершаю тебя извне — моим взором, моим эстетическим, художническим трудом. «Я должен пережить себя... творцом формы, чтобы вообще осуществить художественно-значимую форму как таковую... Форму я должен пережить, как мое активное ценностное отношение к содержанию, чтобы пережить ее эстетически... Как только я перестаю быть активным в форме, успокоенное и завершенное формою содержание тотчас взбунтуется... Содержание произведения — это как бы отрезок единого открытого события бытия, изолированный и освобожденный формою от ответственности перед будущим событием и потому в своем целом самодовлеюще-спокойный, завершенный, вобравший в свой покой и в свою самодостаточность и изолированную природу» (см.: Вопросы ... С. 57, 58, 60).
Я привел отрывки из статьи Бахтина 1924 г. «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве». Такое понимание формы — сквозная мысль раннего Бахтина. В «Авторе и герое...» мысль эта развернута особенно свободно, освобождение от целей жесткой полемики.
«Избыток видения — почка, где дремлет форма и откуда она развертывается, как цветок» (Эстетика ... С. 24).
«Форма есть граница, обработанная эстетически» (Там же. С. 81).
Впрочем, для нас существенен сейчас не сам по себе анализ эстетической деятельности, но его всеобщий смысл для определения «гуманитарного мышления» как целого и для понимания идей сознания и личности в работах Бахтина. Необходимое для гуманитарного мышления диалогическое общение двух сознаний, движение взаимопонимания имеет своей первой предпосылкой, своим основанием — эстетическое впденпе (?) другого человека.
В гносеологическом отношении к другому Я (или — в этическом отношении) встречи двух сознаний произойти не может. То есть эмпирически оно происходит, но осознается монологически.
Или — как встреча одного познающего сознания с его объектом (который необходимо познать, т. е. перевести целиком в сферу теоретического понятия). Это — «гносеологизм».
Или — как необходимость отречься от моего я, влить мое сознание, мое бытие, мое я — в сознание, бытие, жизнь другого человека (и, далее,— Универсума, Бога). Так совершается этическое снятие двух сознаний (и, соответственно,—снятие самой идеи сознания). Подвиг гносеологии и подвиг этики состоит в напряжении снятия эмпирически наличных «двух сознаний».
Подвиг (т. е. смысл) эстетического деяния и мышления состоит в возведении наличного бытия двух сознаний в предельное определение самого «сознания» и самой «личности». Подвиг — это не только и пе столько «обнаружение» сущности «наличной встречи двух сознаний», сколько напряженное созидание, творение этой сущности. Осмысление — не как раскрытие (наличного) смысла, но как возведение бессмысленного — в смысл.
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
43
Бахтин пишет (подчеркну: пишет в «Авторе и герое...»): «Гносеологическое сознание, сознание науки,— единое и единственное сознание (точнее, одно); все, с чем имеет дело это сознание, должно быть определено им самим, всякая определенность должна быть его активною определенностью: всякое определение объекта должно быть определением сознания. В этом смысле гносеологическое сознание не может иметь вне себя другого сознания...» (чуть выше Бахтин говорит о жертвенном мо-нологизме этического отношения к другому человеку,—В. Б.). И затем: «Между тем эстетическое сознание... есть сознание сознания, сознание автора я сознания героя-другого; в эстетическом событии мы имеем встречу двух сознаний, принципиально неслиянных...» (Эстетика... С. 79-80).
Итак, первый полюс идеи 24 личности (жизни индивида в горизонте личности) вынесен вовне — в необходимое (и возможное только в эстетическом акте) формирование целостного, завершенного, вненаходимого, вечного (в своей завершенности) образа «другого Я», образа Ты... Но если так — трудность возрастает. В этом «завершении» «другого» личность (моя личность...) не обретается, но прочно теряется (!?). Ведь целостен — в художественном подвиге (в подвиге художественного зрения) — другой, другое Я, «герой». Между7 тем для замыкания в личность и для устойчивости сознания необходимо себя, свое Я, свое бытие (так, как будто?) осознать (со стороны?) как нечто целостное, завершенное, законченное, отрешенное... И — могущее быть перерешенным.
Но как раз себя-то видеть (и слышать?) в форме завершенности, отрешенности я никак не могу. Для себя я всегда еще не решен, не закончен, пе оформлен; у меня нет — по отношению к себе — того «избытка видения», что дается «вненаходимостью». Два определения бытия личности выступают пока что в странно разорванном, расщепленном виде. Незавершенность, мгновенность, возможность «переиграть» свой смысл, избыток видения — все это на стороне «автора», на стороне моего Я; завершенность и душевная целостность — на стороне другого, «героя», но — благодаря моим (авторским) эстетическим усилиям, моей формирующей деятельности. Как же соединить эти два полюса в одном определении сознания, как обрести личность?
Не забудем, однако, что другое Я — не просто эмпирически наличный «чужой человек», но — именно герой. Не забудем, что эстетическое отношение «избытка видения» возможно только в своеобразном общении автора и героя. Что это означает? «Герой» здесь не просто литературоведческий термин. Это — не просто «герой произведения» (или — еще технологичнее: «герой романа»). Герой —это другой человек, который воспринимается мной и понимается мной как мне необходимое Ты, мне насущное Ты, такое Ты, без которого мое бытие бессмысленно. Я его (героя) воображаю, во-ображаю (возвожу в образ), и именно этим во-обра-жением я его могу воспринять как целостное, замкнутое, завершенное, и — вот где парадокс — абсолютно вненаходимое, иное, отдельное от меня — и именно поэтому особенно насущное (ведь без него я пе могу быть собой). Такая насущность — для моего бытия — «другого Я» есть
44
Теория и история культуры
выражение предельности моих чувств — любви, дружбы, напряженности взаимопонимания. Но предельность эта не фепоменологпчна и не экстатична; опа достигается лишь на высотах эстетического сознания, когда «вненаходимостъ» другого Я (Ты...) изобретается и завершается мной (художественно) с онтологической полнотой — как иное бытие, иной мир. Предельность общения — повторяю — предполагает высоту (глубину) эш тетического сознания. Только в этом эстетическом доведении обычные повседневные связи между людьми (в быту, в тысячах мелких отождествлений) сознаются как бы несуществующими. Бытие близкого мне человека обнаруживается в своей абсолютной «другости», и в своей абсолютной необходимости для меня, и в своей абсолютной невозможности быть мной, слиться со мной. А если бы другой слился со мной, он бы потерял свое бытие, я бы уничтожил, обессмыслил его бытие.
Но это все означает и нечто иное. Вспомним:
Такой во-ображаемый мной и впепаходимый — по отношению ко мне — другой человек насущен мне п воображен мной пе как равнодушный «Он...», но как Ты, как Собеседник,— как иное Я, способное меня увидеть и услышать (1) со стороны, следовательно, могущее меня завершить, замкнуть в личность25. Именно мое бытие в качестве Ты (для другого), мое бытие в глазах, в ушах, в сердце другого и есть цель всей моей эстетической деятельности.
Два полюса личности замыкаются.
Так исполняются условия, сформулированные в начале этого (четвертого) тезиса. В искусстве я мгновенный* сиюминутный, открытый, незавершенный, может, и обречен сомневаться в себе «завершенном, оконча-ельном»,, а Я окончательный обречен сомневаться- в истинности бытия меня ^незавершенного и открытого». И в сопряжении этих двух бытии (рто уже не мое собственное раздвоенное бытие, но бытие Я и бытие Ты в моем бытии, в моем сознании), в их диалоге, взаимопонимании и взаи-мосомнении я могу поступать как личность, а не как случайный, обстоятельствами определяемый индивид. Конечно, себя любить невозможно; любить возможно только другого (Бахтин это повторяет неоднократно), но здесь соединяются два основных определения личностного общения. Личность может любить только другого и-'-может сомневаться только в своем бытии. Не может не сомневаться. Ведь. я вижу. свое бытие с йысот Ты (Судьи и свидетеля...),— !, е. как нечто могущее (именно в своей ро-.ковой завершенности) быть перерешенным. Сомнение и есть статут сознания по отношению к моему собственному бытию. Разрушение личности всегда начинается со смещения полюсов этого общения: человек начинает любить себя и сомневаться в бытии (и достоинстве бытия) другого. Здесь кончается эстетическое сознание. Кончается сознание.
Подчеркну два момента. Во-первых, теперь ясна мысль Бахтина, что сознание есть лишь там, где есть два сознания, где есть их (эстетически осмысленная) встреча.
Во-вторых, только в той мере, в какой бытие другого человека — во всей его неукротимой «вненаходпмости» — внесено в мое самосознание, осознано и отстранено в жизни моего Я, в той мере в какой реально — во
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
4
времени, в пространстве, в своих неповторимых жизненных перинеги як — другой индивид (Ты) нерасторжим со мной, как мое другое Я, и его глазами и его ушами я сам вижу и слышу себя «со стороны», только в этой мере я живу в горизонте личности, полностью владея своим сознанием. Тогда я сознателен, если снова вспомнить расхожий фразеологизм, столь парадоксально раскрытый Бахтиным. Но это «только в той мере...» и есть феномен эстетического деяния, есть момент поэтики.
Нелепо вопрошать, является ли данный индивид «личностью»? Но осмысленно понимать жизнь индивида в горизонте личности, в мысленном и эстетическом соотнесении этого момента его жизни с видением згой жизни как цельной, уже завершенной и — именно в этой своей завершенности — в своей судьбе — сомнительной. Только в эстетическом (в зерне своем — художественном) напряжении и преображении наличного бытия мое общение с другими людьми приобретает смысл действительно личностного общения. Искусство (как феномен культуры) и есть поэтому единственная форма такого «Я-сознания», которое есть одновременно и в том же отношении «Ты-сознание», в их напряженнейшей нерасторжимости п вненаходимости, отстраненности, насущности друг для друга.
Приведу здесь одну аналогию. Как научное (теоретическое) познание предмета не тождественно эмпирическому факту познания вещей, но в корне его преобразует, так и гуманитарное мышление не есть эмпирический акт общения с другим человеком (субъектом), но есть феномен эстетического преображения этой эмпирии.
Эстетическое преображение (индивида —в личность) совершается на высотах сознания (в сфере искусства) и требует не меньшего духовного и в и ряжения, чем напряжение гносеологического проникновения в «суть пещей» (от поверхности явлений).
О «духе» (и об «идее») — как основах бахтинского диалогизма — я отдельно скажу дальше, пока же приведу фрагменты текстов Бахтина:
«Достоевский... продвинул эстетическое видение... не в глубь бессознательного, а в глубь-высоту сознания. Глубины сознания есть одновременно и его вершины... Сознание гораздо страшнее всяких бессознательных комплексов» (Эстетика... С. 313)
«Внеположные сознанию силы, внешне (механически) его определяющие: от среды и насилия до чуда, тайны и авторитета. Сознание Под действием этих сил утрачивает свою подлинную свободу, и личность разру-пгиется. Сюда, к этим (враждебным по отношению к личности,— В. Б.) сити, нужно отнести и подсознательное („оно")» (Там же. С. 322).
«Во всем тайном, темном, мистическом, поскольку оно может оказать определяющее влияние на личность, Достоевский усматривал насилие, разрушающее личность... Тлетворный дух (чудо поработило бы)» (Там же. С. 323).
.1ичпость в отличие от мифа есть там, где «есть осознание своего несовпадения со своим собственным смыслом» (Там же. С. 361).
«Никакие человеческие события не развертываются и не разрешаются и пределах одного (курсив мой,—В. Б.) сознания. Отсюда враждебность
42
Теория и история культуры
«другого Я» — в его целостности и радикальной «впенаходимости». Я завершаю тебя извне — моим взором, моим эстетическим, художническим трудом. «Я должен пережить себя... творцом формы, чтобы вообще осуществить художественн о-з пачимую форму как таковую... Форму я должен пережить, как мое активное ценностное отношение к содержанию, чтобы пережить ее эстетически... Как только я перестаю быть активным в форме, успокоенное и завершенное формою содержание тотчас взбунтуется... Содержание произведения — это как бы отрезок единого открытого события бытия, изолированный и освобожденный формою от ответственности перед будущим событием и потому в своем целом самодовлеюще-спокойный, завершенный, вобравший в свой покой и в свою самодостаточность и изолированную природу» (см.: Вопросы ... С. 57, 58, 60).
Я привел отрывки из статьи Бахтина 1924 г. «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве». Такое понимание формы — сквозная мысль раннего Бахтина. Б «Авторе и герое...» мысль эта развернута особенно свободно, освобождение от целей жесткой полемики.
«Избыток видения — почка, где дремлет форма и откуда она развертывается, как цветок» (Эстетика ... С. 24).
«Форма есть граница, обработанная эстетически» (Там же. С. 81).
Впрочем, для нас существенен сейчас не сам по себе анализ эстетической деятельности, но его всеобщий смысл для определения «гуманитарного мышления» как целого и для понимания идей сознания и личности в работах Бахтина. Необходимое для гуманитарного мышления диалогическое общение двух сознаний, движение взаимопонимания имеет своей первой предпосылкой, своим основанием — эстетическое видение (?) другого человека.
В гносеологическом отношении к другому Я (или — в этическом отношении) встречи двух сознаний произойти не может. То есть эмпирически оно происходит, но осознается монологически.
Или —как встреча одного познающего сознания с его объектом (который необходимо познать, т. е. перевести целиком в сферу теоретического понятия). Это — «гносеологизм».
Или — как необходимость отречься от моего я, влить мое сознание, мое бытие, мое я — в сознание, бытие, жизнь другого человека (и, далее,— Универсума, Бога). Так совершается этическое снятие двух сознаний (и, соответственно,—снятие самой идеи сознания). Подвиг гносеологии и подвиг этики состоит в напряжении снятия эмпирически наличных «двух сознаний».
Подвиг (т. е. смысл) эстетического деяния и мышления состоит в возведении наличного бытия двух сознаний в предельное определение самого «сознания» и самой «личности». Подвиг — это пе только и не столько «обнаружение» сущности «наличной встречи двух сознаний», сколько напряженное созидание, творение этой сущности. Осмысление — пе как раскрытие (наличного) смысла, но как возведение бессмысленного — в смысл.
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
43
Бахтин пишет (подчеркну: пишет в «Авторе и герое...»): «Гносеологическое сознание, сознание науки,— единое и единственное сознание (точнее, одно); все, с чем имеет дело это сознание, должно быть определено им самим, всякая определенность должна быть его активною определенностью: всякое определение объекта должно быть определением сознания. В этом смысле гносеологическое сознание не может иметь вне себя другого сознания...» (чуть выше Бахтин говорит о жертвенном мо-нологизме этического отношения к другому человеку.—В. Б.). И затем: «Между тем эстетическое сознание... есть сознание сознания, сознание автора я сознания тероя-другого; в эстетическом событий мы имеем встречу7 двух сознаний, принципиально неслиянных...» (Эстетика... С. 79-80).
Итак, первый полюс идеи24 личности (жизни индивида в горизонте личности) вынесен вовне — в необходимое (и возможное только в эстетическом акте) формирование целостного, завершенного, вненаходимого, вечпого (в своей завершенности) образа «другого Я», образа Ты... Но если так — трудность возрастает. В этом «завершении» «другого» личность (моя личность...) пе обретается, но прочно теряется (!?). Ведь целостен — в художественном подвиге (в подвиге художественного зрения) — другой, другое fl, «герой». Между7 тем для замыкания в личность и для устойчивости сознания необходимо себя, свое Я, свое бытие (так, как будто?) осознать (со стороны?) как нечто целостное, завершенное, законченное, отрешенное... И — могущее быть перерешенным.
Но как раз себя-то видеть (и слышать?) в форме завершенности, отрешенности я никак не могу. Для себя я всегда еще не решен, не закончен, не оформлен; у меня нет — по отношению к себе — того «избытка видения», что дается «вненаходимостью». Два определения бытия личности выступают пока что в странно разорванном, расщепленном виде. Незавершенность, мгновенность, возможность «переиграть» свой смысл, избыток видения — все это на стороне «автора», на стороне моего Я; завершенность и душевная целостность — на стороне друтого, «героя», но — благодаря моим (авторским) эстетическим усилиям, моей формирующей деятельности. Как же соединить эти два полюса в одном определении сознания, как обрести личность?
Не забудем, однако, что другое Я — не просто эмпирически наличный «чужой человек», но — именно герой. Не забудем, что эстетическое отношение «избытка видения» возможно только в своеобразном общении автора и героя. Что это означает? «Герой» здесь не просто литературоведческий термин. Это — не просто «герой произведения» (или — еще технологичнее: «герой романа»). Герой — это другой человек, который воспринимается мпой и понимается мной как мне необходимое Ты, мне насущное Ты, такое Ты, беэ которого мое бытие бессмысленно. Я его (героя) воображаю, во-ображаю (возвожу в образ), и именно этим во-обра-жением я его могу воспринять как целостное, замкнутое, завершеппое, и — вот где парадокс — абсолютно вненаходимое, иное, отдельное от меня — и именно поэтому особенно насущное (ведь без него я не могу быть собой). Такая насу7щность — для моего бытия — «друтого Я» есть
44
Теория и история культуры
выражение предельности моих чувств — любви, дружбы, напряженности взаимопонимания. Но предельность эта не феноменологична и пе экстатична; она достигается лишь па высотах эстетического сознания, когда «вненаходимость» другого Я {Ты...) изобретается и завершается мной (художественно) с онтологической полнотой — как иное бытие, иной мпр. Предельность общения — повторяю — предполагает высоту (глубину) эстетического сознания. Только в этом эстетическом доведении обычные повседневные связи между людьми (в быту, в тысячах мелких отождествлений) сознаются как бы несуществующими. Бытие близкого мне человека обнаруживается в своей абсолютной «другости», и в своей абсолютной необходимости для меня, и в своей абсолютной невозможности быть мной, слиться со мной. А если бы другой слился со мной, он бы потерял свое бытие, я бы уничтожил, обессмыслил его бытие.
Но это все означает и нечто иное. Вспомним:
Такой во-ображаемый мной и впенаходимый — по отношению ко мне — другой человек насущен мне и воображен мной не как равнодушный «Он...», по как Ты, как Собеседник,— как иное Я, способное меня увидеть и услышать (!) со стороны, следовательно, могущее меня завершить, замкнуть в личность 25. Именно мое бытие в качестве Ты (для другого), мое бытие в глазах, в ушах, в сердце другого и есть цель всей моей эстетической деятельности.
Два полюса личности замыкаются.
Так исполняются условия, сформулированные в начале этого (четвертого) тезиса. В искусстве я мгновенный, сиюминутный, открытый, неза-церщенный, может, и обречен сомневаться в себе «завершенном, окончательном», а Я окончательный обречен сомневаться в истинности бытия меня «незавершенного и открытого». И в сопряжении этих двух бытии (рто уще не мое собственное раздвоенное бытие, но бытие Я и бытие Ты в -моем бытии, в моем сознании), в их диалоге, взаимопонимании и взаи-мосомнении я могу поступать как личность, а не как случайный, обстоятельствами определяемый индивид. Конечно, себя любить невозможно; любить возможно только другого (Бахтин это повторяет неоднократно), по здесь соединяются два основных определения личностного общения. Личность может любить только другого и — может сомневаться только в своем бытии. Не может не сомневаться. Ведь я вижу,свое бытие с Высот Ты (Судьи и свидетеля...),— !, е, как нечто могущее (именно в своей роковой завершенности) быть перерешенным. Сомнение и есть статут сознания по отношению к моему собственному бытию. Разрушение личности всегда начинается со смещения полюсов этого общения: человек начинает любить себя и сомневаться в бытии (и достоинстве бытия) другого. Здесь кончается эстетическое сознание. Кончается сознание.
Подчеркну два момента. Во-первых, теперь ясна мысль Бахтина, что сознание есть лишь там, где есть два сознания, где есть их (эстетически осмысленная) встреча.
Во-вторых, только в той мере, в какой бытие другого человека — во всей его неукротимой «вненаходимости» — внесено в мое самосознание, осознано и отстранено в жизни моего Я, в той мере в какой реально — во
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
45
времени, в пространстве, в своих неповторимых жизненных перипетиях — другой индивид (Ты) нерасторжим со мной, как мое другое Я, и его глазами и его ушами я сам вижу и слышу себя «со стороны», только в этой мере я живу в горизонте личности, полностью владея своим сознанием. Тогда я сознателен, если снова вспомнить расхожий фразеологизм, столь парадоксально раскрытый Бахтиным. Но это «только в той мере...» и есть феномен эстетического деяния, есть момент поэтики.
Нелепо вопрошать, является ли данный индивид «личностью»? Но осмысленно понимать жизнь индивида в горизонте личности, в мысленном и эстетическом соотнесении этого момента его жизни с видением этой жизни как цельной, уже завершенной и — именно в этой своей завершенности — в своей судьбе — сомнительной. Только в эстетическом (в зерне своем — художественном) напряжении и преображении наличного бытия мое общение с другими людьми приобретает смысл действительно личностного общения. Искусство (как феномен культуры) и есть поэтому единственная форма такого «Я-сознания», которое есть одновременно и в том же отношении «Ты-сознанпе», в их напряженнейшей нерасторжимости и внепаходпмости, отстраненности, насущности .друг для друга.
Приведу здесь одну аналогию. Как научное (теоретическое) познание предмета не тождественно эмпирическому факту познания вещей, но в корне его преобразует, так и гуманитарное мышление не есть эмпирический акт общения с другим человеком (субъектом), но есть феномен эстетического преображения этой эмпирии.
Эстетическое преображение (индивида — в личность) совершается на высотах сознания (в сфере искусства) и требует не меньшего духовного напряжения, чем напряжение гносеологического проникновения в «суть вещей» (от поверхности явлений).
О «духе» (и об «идее») — как основах бахтинского диалогизма —я отдельно скажу дальше, пока же приведу фрагменты текстов Бахтина:
«Достоевский... продвинул эстетическое видение... не в глубь бессознательного, а в глубь-высоту сознания. Глубины сознания есть одновременно и его вершины... Сознание гораздо страшнее всяких бессознательных комплексов» (Эстетика... С. 313).
«Внеположные сознанию силы, внешне (механически) его определяющие: от среды и насилия до чуда, тайны и авторитета. Сознание под действием этих сил утрачивает свою подлинную свободу, и личность разрушается. Сюда, к этим (враждебным по отношению к личности.—В.Б.) ситам, нужно отнести и подсознательное (,,оно“)» (Там же. С. 322).
«Во всем тайном, темном, мистическом, поскольку оно может оказать определяющее влияние на личность, Достоевский усматривал насилие, разрушающее личность... Тлетворный дух (чудо поработило бы)» (Там же. С. 323).
Личность в отличие от мифа есть там, где «есть осознание своего несовпадения со своим собственным смыслом» (Там же. С. 361).
«Никакие человеческие события не развертываются и не разрешаются в пределах одного (курсив мой.—В. В.) сознания. Отсюда враждебность
46
Теория и история культуры
Достоевского к таким мировоззрениям, которые видят последнюю цель в слиянии, в растворении сознаний в одном сознании, в снятии индивидуации... Одно сознание — contradictio in adjecto. Сознание по существу множественно. Pluralia tantuin. Не принимает Достоевский и таких мировоззрений, которые признают право за высшим сознанием брать на себя решения за низшие, превращать их в безгласные вещи» (Там же. С. 313).
Итак, еще раз —не «подсознание», пе «сверхсознание» не «тайна», не мистика слияния, но только до предела (до идеи диалога) доведенное раздельное бытие двух сознаний; сознание двух бытии; их co-бытиё в сознании человека — есть действительная феноменология человеческой личности.
...Теперь немного задержимся. В логическом развертывании диалогизма Бахтина мы давно уже вышли за пределы «Автора и героя...». Ведь не случайно все определения «сознания» и «личности» были даны в соотнесении с художественным мировоззрением Достоевского. Дело в том, что если «вненаходимость» героя (первый полюс идеи личности) обоснована Бахтиным в ранних его работах (в «Авторе п герое...» с особой силой), то замыкание двух полюсов личности, идея Ты, как вживленного в меня чужого сознания, как «моего другого, абсолютно вненаходимого Я»,— все это осмыслено в «Проблемах поэтики Достоевского»,— тогда, когда Бахтин стал действительно Бахтиным.
И здесь изменился и смысл того «творческого чувства», что положено в основу эстетической деятельности. Я упоминал, что в «Авторе и герое...» это было видение, зрение. Эстетическим демиургом был глаз. В «Поэтике Достоевского» эстетическим демиургом оказывается слух и, соответственно (наконец-то!),—речь. И сразу все сместилось. Видеть себя я могу лишь, как Нарцисс,— в зеркале, маргинально — по отношению к основной миссии зрения. Слышать себя (свою речь) я могу (я должен) всегда по сути дела, по сути самой речи. Я говорю кому-то, я обращаюсь к нему, я устремлен к его пониманию, но одновременно — неизбежно п обреченно — слышу себя сам, отстраняюсь от себя, оказываюсь (в речи-слышании) несовпадающим с самим собой. Речь и слух —есть «материя» идей сознания и самосознания. Это есть стихия внутреннего диалога. И только Достоевский (по Бахтину) превратил эту стихию в смысл п пафос художественного мировоззрения, которое гораздо существеннее и фундаментальнее, чем его «политическая» идеология.
Достоевский — так полагает Бахтин —смог понять п вообразить диалог чужих людей, сведенных на одной романной площадке, в «хронотопе» романа,—как внутренний диалог моего Я с моим «другим Я» (другим индивидом), не как с двойником (тогда личность гибнет), но как с Собеседником и как с вненаходимым героем...
«Герой» (а если говорить не в литературоведческих понятиях,—насущное мне «Ты») обращен всем избытком своего видения и слышания в мое авторское сознание или —к моему авторскому сознанию, формируя бытие «автора» («моего Я»). Но и автор (Я) с его избытком видения и слышания перенесен внутрь сознания героя, оказывается формой (ипостасью) его самосознания.
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
47
В этих перипетиях сомнение «в смысле бытия» особенно страшно и фундаментально, а изменение моего бытия, перерешение судьбы есть изменение не «частностей», но всего смысла жизни, есть незавершенность и открытость завершенного и окончательного, законченного бытия.
Таким образом, все парадоксы сознания раскрываются Достоевским (... раскрываются Бахтиным) как парадоксы самосознания. Самосознания, эстетически (см. выше),— а не чисто психологически и не чисто эмпирически — переформулированного.
«В человеке всегда есть что-то, что только он сам может открыть в свободном акте самосознания и слова, что не поддается овнешняющему заочному определению... нечто, внутренне незавершенное в человеке» (Проблемы... С. 98—99).
«Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить форму тождества А=А... Подлинная жизнь личности совершается в точке этого несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы, всего, что он есть как вещное бытие...» (Там же. С. 100).
«Достоевский... перенес автора и рассказчика со всею совокупностью их точек зрения... в кругозор самого героя» (Там же. С. 81). Тем самым он совершил «... коперниковский переворот, сделав моментом самоопределения героя то, что было твердым и завершающим авторским определением» (Там же. С. 82).
«Достоевский искал такого героя, который был бы сознающим по преимуществу, такого, вся жизнь которого была бы сосредоточена в чистой функции осознания себя и мира» (Там же. С. 84).
Но такое самосознание наиболее бескомпромиссно по отношению к монологизму, гносеологизму, солипсизму и т. д. и т. п. Ведь только в горизонте такого диалогического сознания, как художественном феномене, может существовать личность.
«В его (Достоевского.—В. Б.) мире... доминантой образа человека является самосознание...» (Там же. С. 124).
«Реальный „другой" может войти в мир „человека из подполья" лишь как тот „другой", с которым он уже ведет свою безысходную внутреннюю полемику» (Там же. С. 436).
В пределе эстетического самосознания избытком вйдепия или — точнее — слышания (по отношению к себе самому) обладает каждый человек, могущий увидеть и услышать себя завершенным и могущий (поэтому) перерешать свою целостную судьбу в этой самой точке завершенности («акме» античности; исповедь средних веков; романное отстранение нового времени). Это —индивид, могущий целиком (онтологи чески?) изменять свою жизнь —и в ее необратимом прошлом и в ее уже состоявшемся будущем. То есть — могущий быть действительно свободным ( = жить в горизонте личности).
Такое эстетически предельное общение индивида с самим собой (в той самой мере, в какой это одновременно общение с Другим, с Собеседником, с миром...) постигается Достоевским благодаря тому, что он «всегда изображает человека на пороге последнего решения, в момент кризиса
48
Теория и история культуры
и незавершенного — и н е пр е д он р е д е л и м о г о — поворота его души» (Там же. С. 103).
Последние приведенные здесь слова Бахтина— о тех моментах кризиса, в которых человек способен перерешать свою судьбу,— позволяют сформу лировать следующий, давно уже назревающий, тезис.
5. Идея. Дух, Диалог по последним вопросам бытия. В предыдущем тезисе я стремился определить — по Бахтину — эстетический характер того сознания и самосознания, в котором из-обретается личность. Теперь возможно — обобщенно — сформулировать.
Диалог «двух сознаний» (в моем сознании осуществляемый) предполагает:
— Эстетически напряженное осознание «другого Я» (Ты), в его совершенной вненаходимости и окончательности, и — в его предельной насущности для моего бытия, неотделимости от моего бытия; ведь только в вопрошании этого иного бытия и в ответ на это бытие имеет смысл моя собственная жизнь.
— Эстетически осознанное, трудное отстранение от собственного Я: видение, п слышание, и понимание моего Я — глазами, ушами, разумом Ты, иного, другого человека, насущного для моего бытия;
— Эстетическое (и в этом смысле — экспериментальное) доведение моего со бытия с «другим Я» до последней черты, до той предельной кризисной точки, в которой вся моя жпзпь и весь мой диалог с самим собой (...с насущным для моего бытия — Ты) оказываются завершенными, окон нательными и — требующими перерешить (не отдельный поступок пли свойство, но) всю мою судьбу, все мое окончательное целостное бытие. Но это не просто «со бытие» Я и Ты, это —
— Эстетически освобожденное п преображенное, пополненное смысла, общение, диалог моего Я с моим другим Я (Ты), в мою внутреннюю речь погруженным, п — коренным образом внепаходпмым, отдельным, далеким, со своим собственным бытием и сознанием. Это — общение (диалог) у той самой «последней черты». Диалог этот неразрешим и определяют для личности именно тогда и в топ мере, в какой Ты, другой человек эстетически актуализируется, входпт в мое бытие как мое «другое Я» (от него не скроешься), и — одновременно — в той мере, в какой мое собственное Я эстетически актуализируется как Ты. отстраненное от меня и понятое мной в избытке видения (точнее — слышания). Б этом диалоге мое собственное бытпе, во всей его цельности и законченности, поставлено — моим Ты — под сомнение, под знак вопроса.
И только встав под этот знак вопроса, я могу совершать свои поступки от имени (и —в возможности метаморфоз) моего целостного, уже (!?) завершенного бытия, в возможности перерешения моей судьбы. То есть, я могу— хотя это почтп до невозможности трудно — изнутри (и всеобще) определять свою жизнь.
На этом основана парадоксальная свобода изменять свое собственное. уже состоявшееся — в предопределенном будущем — п отстраненное от меня, бытпе.
Конечно, смысл такого «знака вопроса» и смысл только что изобра
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
49
женной «поэтики лпчностп» принципиально различен в разные историко-культурные эпохи.
Здесь — два необходимых разъяснения.
Первое. Когда Бахтин — и я с ним вполне согласен — утверждает, что личность есть некая идея, в горизонте которой живет и действует индивид, то это вовсе не означает, как полагают иные, что личность есть нечто бесплотное, живущее и действующее лишь в паутине возможного, а не сущего, в сфере размышлений, воображений, но не поступков. Это означает другое. Буду сейчас говорить от себя, а не от Бахтина.
Реальный сегодняшний поступок, что совершает человек, живущий в горизонте личности, есть поступок (по отношению к другому человеку, по отношению к своей судьбе, по отношению к социальным структурам, или природным вещам...), совершаемый на основе сознания своего «завершенного», сосредоточенного (охватывающего прошлое и будущее, память и воображение, от рождения —до смерти, от смерти — к рождению...) бытия, в полной мере ответственности моего Я. То есть это — поступок, совершаемый действительно свободно и разумно (свободно, поскольку — разумно) в перипетии выбора своей судьбы. В перипетии, к примеру, гамлетовского «быть или пе быть...»,—в преодолении «подсказок» всезнающего Призрака, и — «так полагается, все так живут...» Полония, и — фортипбрасовского «кодекса чести» (без оправданий о незнании отдаленных последствий этого моего (!) поступка). Или — переформулируя еще раз: поступок в горизонте личности — это поступок, совершаемый как катарсис диалога между мной окончательным, завершенным, но требующим «перерешения» и — мной сиюминутным, открытым, нерешенным.
Я оппсал сейчас предельную ситуацию (перипетию), в которой как бы сходятся в одной точке — самодетермпнацпи судьбы — две грани нашего сознания, точнее — два сознания. Но эго именно предельная ситуация (эстетически претворенная в греческих трагедиях, по иному —в трагедиях Шекспира, в «Дон-Кихоте» Сервантеса, вообще — в большом искусстве). Если говорить не о пределе, а об «определении», то сознание (и деятельность) индивида расположены в некоем пространстве между двумя границами.
Одна граница — «последние вопросы бытия», детерминация наших поступков свободой (волей) перерешить свою жизнь. Предполагаю, что эту «тайную свободу» дает разум (но не рассудок).
Другая граница: детерминация нашего сознания «впешнпмп силами» (воздействием космоса п фп.зпологией, социальной необходимостью и целесообразностью, обстоятельствами и характером). Думается, что каж дый человеческий поступок есть феномен встречи в нашей душе двух этих детерминаций, он напряжен их противостоянием. Больше того — такое противоборство, такая — всегда существующая — возможность вы бора, решения — это и есть смысл наличного сознания.
Спектр сознания континуален. Существуют поступки, более близкие к «нижней» части спектра,—к жесткой детерминации извне. Есть поступ кп, совершаемые свободно,— в горизонте лпчностп, в катарспсе «послед
50
Теория и история культуры
них вопросов». Но напряжение двух детерминаций — свободой (воли и разума) и «силой обстоятельств» — насущно для каждого человеческого действия. Свет созпапия гаснет, ослабевает, действия автоматизируются в зоне «обстоятельств»; свет этот крепнет и возжигается разумом (так формируется сам феномен сознания) в зоне последних вопросов бытия. Но, в любом случае, внешний поступок, совершаемый в горизонте личности, всегда характеризуется одновременной рефлексией — внутрь духовного мира, всегда есть феномен решения «последних вопросов», которые могут быть решены только — постоянно сохраняемой — свободой самоиз-менения.
И сразу же — второе разъяснение.
Основные понятия и узелки концепции Бахтина, очерченные выше, дают возможность органично ввести то понятие культуры, что внутренне присуще этим идеям. Я сознательно — до поры до времени — не углублялся в это понятие; достаточно было интуитивной ясности, «о чем идет речь...» Полагаю, что сейчас определение культуры — в духе Бахтина — естественно сведет воедино те превращения поэтики диалога, что были продуманы на предыдущих страницах.
Ведь и «текст», и «понимание», п «сознание», и «эстетическая деятельность» в диалогизме М. М. Бахтина это не эмпирически наличное «понимание», «сознание» или «самосознание»... Бахтиным раскрыта жизнь всех этих феноменов в каком-то особом повороте, «на предельной грани», в ключе идеи самодетерминации человеческой судьбы, на «верхнем» срезе того единого «спектра детерминации», о котором я только что говорил.
Но это и есть бахтинская идея культуры. (Введу сейчас это понятие, взяв на себя ответственность за определенное «доведение» воззрений Бахтина.)
О дефинициях возможно бесконечно спорить. Мне думается, что имеет смысл — исследовательский и реально-жизненный, предельно острый в социальных перипетиях XX в,— вычленить культуру как особый круг явлений (не совпадающий с расплывчатым — «все, что сделано человеком, в отличие от „дикой“ природы...», или с четко логически проработанным — «способом производства...», или —с «цивилизацией», как она рисуется в исторических и историософских исследованиях начала века) на основе следующих противоставлений.
Культура — это воплощенный в произведениях (и в их целостности) феномен самодетерминации, или, скажу7 так,— самопредопределения человеческого бытия и сознания. Это феномен предопределения моих действий — в горизонте личности, в осознании, переживании, осмыслении полной личной ответственности за прошлое и будущее, за воздействие (последействие) моих постушков, всей моей жизни па судьбы друтгих людей, на судьбы истории (даже — в моей ответственности за то, что было до меня...).
В культуре детерминация, действующая на мое созпапие извне (из экономических, социальных, исторически уплотненных структур) и из «нутра» (подсознание, «архетипы», генотипы, инстипкты), преобразуется
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина </
в самодетерминацию человеческого духа. Образно говоря, культура — своего рода «пирамидальная линза», вживляемая в хрусталик нашего духовного зрения (сознания) — острием вглубь. Эта «линза» отражает (отталкивает), преломляет, поглощает, в корне преобразует мощные и разнонаправленные лучи, падающие на паше сознание из «обстоятельств» и из «характера» («таков я есть, и тут уж ничего не поделаешь...») в парадоксальный феномен самопредопределения. (Хотя, безусловно, большей частью в пашей жизни побеждает детерминация «извне», «из нутра», из анонимных психических образований.)
Продолжу свой образ.
Вершина такой культурной линзы: сфокусированный, точечный акт самодетерминации.
Грани такой линзы: искусство — философия — нравственность — теория... в совокупности своих произведений. (То, как работает эстетическая «грань», блестяще раскрыто М. М. Бахтиным.)
Основание — целостный процесс всей орудийной (предметной) деятельности человека, как процесс деятельности самоустремленной (Selbs-tischtatigkeit — по определению Маркса).
«Человек есть самоустремленное (selbstisch) существо. Его глаз, его ухо и т. д. самоустремлены; каждая из его сущностных сил обладает в нем свойством самоустремленности. Но именно поэтому совершенно неверно говорить (как говорил Гегель.— В. Б.): самосознание обладает глазом, ухом, сущностной силой. Не человеческая природа есть качество самосознания, а, наоборот, самосознание есть качество человеческой природы, человеческого глаза и т. д.» 26
И, далее, Маркс подчеркивает, что человеческая природа — это не биологическая природа, это — природа, особенность человеческой деятельности (и — общения) как обращенной деятельности, как деятельности, направленной на самое эту деятельность и на ее субъект (на орудия, на изменение деятельности и т. д.), и в этом смысле она всегда само-устремлена. И в этом смысле она есть пред-определение самосознания и рефлексии. Отношение между7 двумя определениями человеческой деятельности — ее устремленностью вовне, па предметы и ее — одновременной — самоустремленностью и характеризует, по Марксу, отношение между «непосредственным материальным производством» и — культурой, между «трудом совместным» и «трудом всеобщим» 27. Действительно всеобщий труд, деятельность в контексте культуры и является предметом понимания в работах М. М. Бахтина.
Если учесть это «основание» нашей пирамиды, будет ясно, что в так понимаемую культуру включается и то, что иногда называется «матери альной культурой», и то, что определяют как «духовная культура», по все эти формы человеческой деятельности (и общения) существуют в культуре только в их самоустремленности, в их нацеленности на точечный акт самодетерминации; они необходимо пропущены через грани духовного труда.
Вернусь к Бахтину. На мой взгляд, все мысли Бахтина о диалоге, о самосознании, о культуре развиты в русле идеи само детерминации.
52
Теория и история культуры
в понимании возможностей перерешения человеком собственной судьбы. Но еще не все узелки этого диалогизма мы очертили.
Итак, жизнь индивида в горизонте личности ориентирована эстетическим преображением наличного бытия, т. е. я совершаю поступки в осознании моей незаконченной жизни как жизни, уже исполненной и завершенной (судьба!) и — могущей быть перерешенной, заново из-обретаемой (см.: Автор и герой... //Проблемы...).
В экспериментальной, художественно рефлективной форме такое эстетическое осознание воплощено с наибольшей силой (так полагает Бахтин) в поэтике Достоевского 2S, но реально это не есть достояние только художественного текста. Это есть действительный глубинный (зачастую не доведенный до конца, но всегда заданный) феномен жизни, бытия, сознания каждого человека, в той мере, в какой он реализует (и осознает) себя как личность, и в той мере, в какой его жизнь обращена к иному человеку как к личности. В какой она есть это обращение. Другими словами.— это есть сфера сознания и самосознания, понятых в их всеобщности (понятых в сфере мышления?).
Высшей, предельной формой такого осознания (и возможности перерешения) человеком своей судьбы выступает, по Бахтину,— ИДЕЯ.
Но — идея в своей диалогической напряженности.
Диалог лишь тогда составляет смысл гуманитарного мышления, когда он идет не по пустякам, и вообще — не по проблемам и вопросам, могущим быть разрешенными, устраненными, святыми, введенными в монологическое русло,— но тогда, когда само целостное бытие человека (в его историческом смысле, начале, завершенности, основательности...) поставлено под вопрос, вовлечено в контекст вопросно-ответных, т. е. смысловых отношений.
Когда выясняется, что смысл бытия — не в каком-то «высшем смысле», пе в каком-то всеразрешающем окончательном ответе, но — в самом бытии, понятом в его цельности ( = в его предельной диалогичности). Понятом в момент «акме» (античность, античная эстетика), в идее «жития», в момент смерти (средневековье, средневековая эстетика), в парадоксе творческого акта, в фундаментальном философском сомнении (новое время) 29.
Понимать смысл бытия в этом — культуроформирующем — средоточии и означает формировать ИДЕЮ.
Идея — по мысли Бахтина — есть форма предельного диалога о смысле бытия, диалога па грани различных культур.
Теперь — о субъекте такого диалога (диалога идей в сознании человека). Мы уже подчеркнули, что такой диалог осуществляется не на уровне эмоций, пароксизмов, мистических слияний, даже — не на уровне душевных тревог и душевных «вздохов облегчения»... Он осуществляется, пишет Бахтин, только на уровне духа, т. е. силой осознания моего co-бытия с «другим Я», как это осознание происходит в моменты последних решений. Только дух (предельная степень сознания) способен формировать пдеп.
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
:>з
«Достоевский... открыл личность и саморазвивающуюся логику этой 1ИЧН0СТИ, занимающей позицию и принимающей решения по самым последним вопросам мироздания. При этом промежуточные звенья, в том числе и ближайшие, обыденные, житейские звенья, не пропускаются, а осмысливаются в свете последних вопросов как этапы или символы последнего решения» (Эстетика... С. 311). Продумаем теперь общее движение IIДЕИ 30 (в контексте предыдущего и этого тезиса), как формы и предела гуманитарного мышления, мышления «о культуре...», «в культуре».
Первый момент. В исходном определении, в ее изначальном (еще не осознанном) «наличном бытии», идея есть форма диалогического сопря жения двух сознаний (как минимум). Вненаходимых по отношению друг к другу. Вненаходимых внутри одного сознания. Уже в этом смысле «идея» вне-психологична, над психологична.
«Идея интериндивидуальна и иптерсубъективна; сфера ее бытия — ле индивидуальное сознание, а диалогическое общение между сознаниями. Идея — это живое событие, разыгрываемое в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний. Идея... по природе диалогична» (Проблемы... С. 147).
«Человеческая мысль становится идеей только в условиях живого контакта с чужой мыслью, воплощенной в чужом голосе, то есть в чужом, выраженном в слове сознании. В точке этого контакта голосов — сознаний и рождается и живет идея» (Там же. С. 147).
Там, где остается одно сознание, один субъект сознания,— там идеи уже быть не может. Опа столь же всеобща, сколь индивидуальна, неотделима от бытия уникального индивидуума, обращенного к другому индивиду, другому сознанию. Идея, прежде всего, есть реальная, живая форма такого co-бытия человеческих сознаний. И — форма неудовлетворенности таким (наличным) co-бытием. Но это лишь первая ступень жизпи идеи.
Второй момент. Наличное бытие идеи может стать постижимым, идея обретает смысл только в контексте эстетического самосознания личности, по иа самых высших уровнях эстетического преображения, эстетического общения с другим и с самим собой. То есть в процессе окончательного преодоления последних следов психологизма31. Здесь необходимо художественное освоение мира идей, собственно духовного (а не только «душевного») мира человека. (Особой силы проникновения в мир идей п <уха достигает — по Бахтину — поэтика романов Достоевского.) В сфере духа идея углубляется и развивается как диалог по «последним вопросам бытия». В таком диалоге голосов—сознаний—идей открывается высший предел сознательности (это — собственная сфера гуманитарного мышления), возникает живое, трагическое, напряженное, под вопрос поставлен ион тождество бытия человеческого духа и наличных форм его осилил нпя. Возникает — это феномен «последней черты», кризисных точек — возможность сознательного изменения моего бытия, во всей его целостности п завершенности, преодолевая все силы внешней детерминации
Ситуация предельной черты и перерешения «последних вопросов бы
54
Теория и история культуры
тия» выносит наше сознание на грань различных культур, в точку встречи двух (и более) исторических форм сознания, способных отстранять друг друга. На пределе бахтинской концепции диалога как формы события двух сознаний в одном, поэтически преображаемом сознании неизбежен переход к проблемам собственно культурологическим.
Продолжая (как мне представляется) мысль Бахтина, но все же выходя за границы его собственных определений, я мог бы сказать так:
На грани культур, решая «последние вопросы бытия», человек включает в свое самосознание, в качестве того другого, кто видит и слышит меня «со стороны» и который, вместе с тем, является моим «другим Я», насущным и предельно сомневающимся в моем бытии, включает в мое «Я» сознание человека другой культуры, абсолютно вненаходимого, иного, с иным смыслом бытия и мышления. И только в таком — запредельно ином для этой культуры — взгляде на мое собственное бытие и на мое сознание возможно действительно коренное перерешение моей судьбы. Возможен диалог духа, диалог в моем самосознании между субъектами различных культур, между различными трагедиями формирования личности.
Так, ум человека Возрождения, сопрягая в своем сознании субъекта средневекового мышления и сознания с субъектом мышления и сознания античного, сумел повернуть историческую судьбу, оказался свободным по отношению к обеим этим культурам.
Так, включаясь в диалог мифологического Рока — индивидуального характера, индивид античности в точке «акме» брал на себя ответственность за все предрешенное историческое прошлое и будущее, сосредоточенное в точке настоящего, в момент героического поступка (Эдип, Прометей, Антигона).
Так... Но довольно сопоставлений.
Третий момент.
Думаю, что не случайно мне пришлось продолжать мысль Бахтина куда-то за пределы его собственных позиций. Здесь, очевидно, вообще исчерпывается возможность понимать диалогизм (и понимать культуру) в сфере собственно «сознания», в сфере поэтики диалога.
Здесь необходим переход от идеи сознания (как сопряжения двух сознаний) к идее мышления, как диалогического сопряжения двух мышлений, двух логик, двух всеобщих, двух (и более...) разумов. Эстетическое осознание идеи диалога должно перейти к философскому логическому переосмыслению зг.
И — в этом смысле — предельная ситуация «эстетического самосознания» — как формы из-обретения личности — оказывается еще недостаточно предельной, не основательной, пе фундаментальной. Диалог в его эстетической фундаментальности (в его сопряжении с идеей сознания, с идеей личности) оказывается неполным, не предельным, пока он не понят в своей фундаментальности философской (в его сопряжении с идеей мышления, идеей всеобщности).
«Последние вопросы бытия» (осмысленные, или осознанные эстетически) будут лишь «предпоследними» вопросами,— запертыми, во всей
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
55
своей эстетической диалогичности, в одной культуре мышления. Бытие (и co-бытиё...) людей нельзя радикально изменить, нельзя обрести свободу перерешения судеб, вне трансформации самой логики мышления, культуры мышления. И не случайно у Бахтина весь диалог культур оказался все же заключен в одну-единственную культуру — культуру нового времени (в момент ее становления), в диалог одного (нововременного) сознания с самим собой. Или — в плане поэтики — заключен в одиночку романного слова.
Но на грань логики диалога поэтика диалога выходит. И вне такого — эстетического — выхода «на грань», вне такого (бахтинского) введения, идея диалога также остается безосновательной, не фундаментальной, не гуманитарной.
Так, в мучительной и напряженной поэтике сознания и духовной жизни «человека культуры» мы дошли до той точки, в которой вновь должно начаться восхождение к текстам культуры, к ее реальной истории. То есть к необходимому сопряжению культурного сознания индивида и эпохального (исторически значимого) дела культуры.
Этот слой (см. тезис «Диалог и текст») возвращает пас к началу нашего движения в поэтике диалога (как адекватной формы понимания культуры и взаимопонимания культур...). Это — существеннейшая тема специального исследования. Сейчас мне было необходимо лишь обосновать новый виток нашей спирали. Поэтому — совсем кратко.
6. Два полюса диалога и проблема культуры. В текстах культуры, утверждает Бахтин, мы должны видеть, слышать, понимать два полюса диалога. Должны «вживлять» в свое сознание два эти полюса.
Один полюс — микро-диалог, пронизывающий каждый атом, каждую единицу нашего сознания, мышления и речи. С моей точки зрения, такое напряженное совпадение (микро-диалога и жизни личностного сознания) осуществляется во внутренней речи, ее особым (точечным) синтаксисом и «точечной» (смысловой) семантикой — это точно и глубоко понял Л. С. Выготский33.
Этот «внутренний диалог (т. е., микродиалог)» (Проблемы... С. 438) конгениален, по мысли Бахтина, высотам художественной литературы... «где я и другой сочетаются особым и неповторимым образом: я — в форме другого, или другой в форме я» (Эстетика... С. 319).
«...Диалог уходит внутрь, в каждое слово романа, делая его двуголосым, в каждый жест, в каждое мимическое движение лица героя, делая его перебойным и надрывным; это уже „м икр о ди а л о г“, определяющий особенности словесного стиля Достоевского» (Проблемы... С. 72).
Это — микродиалог, определяющий, согласно М. М. Бахтину, всю жизнь человеческого сознания,— в свете спора «по последним вопросам бытия».
Микро диалог живет п тогда, когда реального внешнего собеседника не существует. «Второй собеседник присутствует незримо, его слов iiei по глубокий след этих слов определяет все наличные слова первого со беседпика. Мы чувствуем, что это беседа, хотя говорит один, и беседа
56
Теория и история культуры
напряженнейшая, ибо каждое наличное слово всеми своими фибрами отзывается и реагирует на невидимого собеседника, указывает впе себя, за свои пределы, за несказанное чужое слово» (Проблемы... С. 337).
«Внутренний диалог (Раскольникова.— В. Б.) является великолепным образцом м и к р о д и а л о г а: все слова в нем двуголосые, в каждом из них происходит спор голосов... Диалог проник внутрь каждого слова, вызывая в нем борьбу и перебои голосов. Это микродиалог» (Там же. С. 128).
Но и это — внешнее бытие внутреннего «микродиалога». Микродиа-лог жив и особенно напряжен тогда, когда оба собеседника молчат и человек лишь «накануне» выговоренной речи 34. В ее предположении.
То, что в художественной литературе исключительно и есть гениальное художественное открытие (внутренний диалог Раскольникова), то во внутренней речи осуществляется необходимо и по самому ее существу.
Это — один полюс. Полюс микродиалога в сознании индивида.
Второй полюс — диалог в Большом времени, диалог культур. Или, скажу так: это — диалог культур, монолитных культурных блоков, постоянно способных актуализировать свой смысл и формировать свои новые смысловые пласты,— как он, этот диалог, осуществляется в сознании человека. В его «микродиалоге».
Но осуществляться в микродиалоге (в сознании человека) «диалог культур» может только в форме диалога Образов культуры (Эдип, Прометей; Гамлет, Дон-Кихот), в форме тех последних, решающих («быть или не быть») перипетпй человеческого бытия, что воплощены в эти образы и формируют живой предмет неразрешимого и постоянного углубляющегося, переосмысливаемого спора культур.
Диалог Большого времени осуществляется в нашем сознании (и — выхолит за пределы сознания) и составляет его смысл (один из полюсов смысла) всегда — знаем мы об этом пли нет, хотя, конечно, лучше, если знаем, если мера нашего эстетического самосознания напряженнее, острее, яснее.
И еще одно: этот макродиалог (культур) не просто идет «между культурами» в пашем сознании, как некоем пассивном, статичном «поле боя». В том-то и дело, что макродиалог веду я; я каждый раз наново изменяю смысл этого диалога, обогащаю его новыми смыслами, я свободно решаю (п перерешаю) свою судьбу. Этот момент необходимо подчеркнуть, поскольку в его свете еще раз проясняется одно определение,, которое я также уже развивал, по сейчас оно поворачивается повой стороной. Грубо говоря, два «Больших Я» (культур, образов культуры) не более (хотя и не мепее) значимы в этом внутреннем диалоге, чем два «малых я» (мое я и мое Ты), трагически соединенных и вненаходимых в моем сознании. Конечно, число «два» здесь взято лишь как минимум (неделимая единица) диалогических отношений...35
Итак, гуманитарное мышление, мышление о человеке в контексте культуры воссоздает смысл человеческого бытия (я воссоздаю смысл моего бытия,— эти два процесса неразделимы) в тон мере, в какой совмещаются, воссоединяются оба полюса диалога; «микродиалог» и «макро-
В. С. Библер. Идея культуры в работах Бахтина
'7
диалог». Вне такого совмещения работа исследователя-гуманитария (и просто — бытие человека как человека) неполноценно.
Перевес «микродиалога» означает душевный эгоцентризм или, в лу ч-шем случае, спускает сознание с высот духа в долины или предгорья душевной жизни. Предгорья и долины эти пе менее существенны для бытия и сознания человека, но сейчас речь идет не об этом.
Перевес «макродиалога» означает растворение того малого Я, которое реально, на свой страх и риск ведет диалог и решает свою единственную уникальную судьбу. Означает растворение моего Я в анонимном диалоге культур (да, только какой же это тогда диалог ... так, в лучшем случае — набор знаний, информированности, образованности — ведь и вести диалог уже некому?!).
Мое Я выступает тогда лишь медиумом пли — полем приложения всеобщих знаний, Всеобщего Ума или безначального Оно. Чем угодно, по — не субъектом спора, осуществляемого в моем сознании. Чем угодно, но — не личностью, решающей и предопределяющей свою судьбу.
Вместе с М. М. Бахтиным мы прошли трудный путь. Теперь возможно осознать: вот что означает понимать текст культуры, участвовать в самосознании культуры (взаимопонимания культур) или, чтобы быть точным,— участвовать в самой жизни культуры. Ведь культура, понимаемая в идее диалога, и есть — развиваемое в веках, отстраненное и транслированное в образах культуры самосознание пндпвпда, эпохи, эпох. Самосознание Я, сопряженное — в сфере диалога по последним вопросам бытия — с самосознанием Ты. Самосознание — как момент (сторона) свободного самопредопределенпя и перерешения человеческих судеб, когда они вершатся на грани различных культур.
Так я понимаю внутренний нерв, единую сквозную идею (смысл) книг Михаила Михайловича Бахтина. Наверно, этот смысл возможно попять и иначе, в другом повороте. Однако само сопряжение этих различных целостных смыслов необходимо, чтобы не разменять Бахтина на частности и зсонкпе фразеологизмы и — главное — чтобы органичнее включиться в живой спор реальных культур.
1 Эту работу я осуществил в других главах книги о Бахтине (рукопись).
В моих собственных философских интересах реконструкция бахтинской «поэтики диалога» имеет особый смысл. Для меня «поэтика диалога» — существенная закраина идей «логики диалога», «логики диалога логик», которые я наметил в своей книге «Мышление как творчество: Введение в логику мысленного диалога» (М., 1975) и в других работах. В данной статье преобладают чпсто реконструктивные задачи и пе будет специальных сопоставлений с моими собственными диалогическими идеями. Но, конечно, философский контекст моей работы остается, и признаться в этом необходимо.
Не ссылаюсь здесь па многочисленные труды отечественной и зарубежной «Бахти пианы». В трудах этих Михаил Михайлович Бахтин впервые понят и представлен как философ культуры, возможно, крупнейший в XX в.
Назову только С. С. Аверинцева. С. Г. Бочарова, Вяч. Вс. Иванова, Ю. М. Лотмана, Л. М. Баткина. В. Л. Деглииа, В. М. Сергеева, С. С. Конкина. В. В. Кожинова, 10. М. Каган, мысли и материалы которых были мне особенно в помощь. Одна ко, по самому замыслу- этой статьи, я пытаюсь остаться как бы наедине с книгами
58
Теория и история культуры
Бахтина и в итоге замедленного чтения очертить — начиная с самого начала — сложную логическую монограмму его идей. Поэтому солидные академические ссылки были бы бессмысленны.
4 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 71. Далее ссылки на эту книгу см. в тексте.
5 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 300. Далее ссылки на эту книгу см. в тексте.
6 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М._ 1975. С. 164. Далее ссылки на эту книгу см. в тексте.
’ См.: Иванов Вяч. Вс. Значение идей Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики//Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. 6. См. также: Библер В. С. Понимание Л. С. Выготским внутренней речи и логпки диалога: (Еще раз о предмете психологии) // Методологические проблемы ггспхологии личности. М., 1981.
8 О «звуковом повторе» см. работы ОПОЯЗА 20-х годов и особенно: Брик О. М. Звуковые повторы//Поэтика (Сборники по теории поэтического языка). Пг., 1919. Вып. 1.
9 «Чистый эпос и чистая лирика не знают оговорок. Оговорочная речь появляется только в романе» (Эстетика... С. 365).
10 Для меня именно поэзия и философская логика — порождающие ядра наиболее глубипного диалога.
11 См. также пятый и шестой «тезисы» о диалогизме Бахтина в этой статье.
12 См. подробней: Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность. М., 1988 (препринт).
13 В этом смысле «амбивалентна» (погранична с собой самой) культура античности, как культура космоса, о пределенного эстезиса, и — как совсем иная культура, культура творящего хаоса, бытийной неопределенности и множественности. Сопоставления можно продолжить, но ограничусь ссылкой на этичность.
14 Основой этих воззрений 'выступает книга Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (и все связанные с этой книгой заметки и размыгплеггия), поскольку, на мой взгляд, именно в «идеализации» эстетического видения Достоевского происходит замыкание концепции М. М. Бахтина в целостное понимание диалога как сути гуманитарного мышления.
15 Пастернак В. Воздушные пути. М., 1982. С. 475.
16 Смысл бахтинского «понять...» будет специально раскрыт в следующем тезисе.
17 Сознательно не ссылаюсь на, казалось бы, близкие Бахтину идеи Дильтея или идеи герменевтики. Мысли Бахтина о «понимании» настолько своеобычны и так органично связаны со всеми другими определениями его диалогизма, что прежде всего необходимо освоить эти идеи в их собственном, бахтинском контексте. Потом; возможно и сравнивать... Хотя я думаю, что герменевтика и диалогизм Бахтина — фепомены различных культурных установок.
18 Особое значение — для Бахтина — идеи «произведения» раскрывается мной в других главах книги о М. М. Бахтине. Скажу только, что в дальнейшем (с этого1 тезиса начиная), говоря о «тексте», я буду все время иметь в виду замкнутый и саморазвивающипся (в диалоге) текст-произведение.
19 «Смыслами я называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла... Ответный характер смысла... Не может быть ..смысла в себе11» (Эстетика... С. 350).
20 Для Бахтина личность не тождественна субъекту. «Персонализация ни в коем случае не есть субъективизация. Предел здесь не я, а я во взаимоотношении с другими личностями, то есть я и другой, я и гы» (Эстетика... С. 370—371; см. также: С. 317, 318, 343).
21 Вспомните горьковского «Клима Самгина». В детстве Самгина па его глазах (и — по его вине?) утонул мальчик, его друг. И затем всю жизнь — и невольно, и в умышленном стремлении к душевному комфорту — это событие исчезало (изгонялось?) из сознания Самгина. Даже — из бытия. Всю жизнь его сознание пронизывал очищающий (и — тревожащий) вопрос: «...А, может быть, мальчика-то и не было?...»
В. С. Библер. Идея культуры е работах Бахтина 50
* Пока я говорю об идее (смысле) сознания, но еще не говорю о сознании как идее, об осознании смысла бытия. Это — в следующем тезисе.
*’ 13 своих работах я обращаю особое внимание на жизнь сознания в его устремлен пости к мышлению, на жизнь самосознания как кануна рефлексии. Но это уже другой вопрос.
Так, уже в этом тезисе, мы начинаем все больше входить в тему следующего бахтинского диалогического цикла: в диалог идеи и духа. Определение этих понятий будет развито дальше, но уже сейчас можно заметить: четвертый и пятый тезисы как бы накладываются друг на друга: последние определения диалога-сознания — это первые определения (пли «пред-определения») идеи-диалога по «последним вопросам бытия» (Бахтин), диалога, напряженного перерешением уже завершенной человеческой судьбы.
28 В моем изложении я не вводил (и Бахтин нигде не вводит) дефиницию «личности». Но понимание Бахтиным личности (бытия индивида в горизонте личности) развернуто достаточно подробно.
28 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 628.
27 См.; Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. ч. 1. С. 116; Т. 26, ч. 1. С. 279, 421. Правда, в основных работах Маркса внимание сместилось в сферу «совместного труда», и именно эта сфера стала — в отрыве от идей культуры — основой его формационной теории.
28 Не уверен, что «Достоевский» М. М. Бахтина полностью совпадает с реальным Достоевским (и в художественном, и в мировоззренческом плане). Но здесь существенно другое. Существенен тот эвристический смысл, который значим в бахтинском «образе Достоевского» для понимания диалогических и культурологических идей самого Бахтина.
26 Определение этих культурно-исторических средоточий эстетического самосознания (и — соответствующих идей личности) — целиком на моей совести. Многое здесь связано с моим собственным пониманием культуры и диалога. Многое здесь необходимо было бы обосновать. Но сейчас я назвал эти «точки самосознания» лишь в качестве пояснения (я предполагаю, что в этих пределах — адекватного) мыслей М. М. Бахтина.
30 Было бы очень продуктивно сопоставить бахтинское и гегелевское понимание идеи. Однако в данной статье от такого отступления приходится отказаться. Но ясно одно: для Бахтина идея — сосредоточение всех возможностей человеческого сознания, что не имеет ничего общего с объективным идеализмом Гегеля.
31 «Незавершимость полифонического диалога (диалога по последним вопросам). Ведут такой диалог незавсршимые личности, а не психологические субъекты» (Эстетика... С. 356).
32 Это — особая и очень существенная проблема. Однако в этой статье я не буду ее развивать. Вопрос этот — строго философский и требует более прямого диалога с диалогизмом Бахтина. Здесь я лишь обозначу пунктиром свой подход.
33 Выготский Л. С. Мышление и речь. М., 1934. См. также: Библер В. С. Понимание Л. С. Выготским внутренней речи и логика диалога // Методологические проблемы психологии личности. М., 1981. С. 117—134.
34 На мой взгляд, внутренняя речь (как сфера «микродиалога») конгениальна поэзии, поэтической речи. И, в первую голову — лирике.
35 Как они осуществляются в сознании. Разум, философское мышление я оставил в стороне, когда кончал свой «пятый тезис».
Картина мира в обыденном сознании
❖
В. К. Ронин
ФРАНКИ, ВЕСТГОТЫ, ЛАНГОБАРДЫ В VI-VIII ВВ.: ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОСОЗНАНИЯ
Когда на смену римскому имперскому единству пришло многообразие варварских королевств, история Европы стала историей gentes; таким термином латинские авторы V—VIII вв. обозначают общности, являющиеся создателями этих королевств. Термин gens с трудом поддается переводу на новые языки; о том, как его переводить, в европейской медиевистике последних лет идут острые споры (обычно его оставляют без перевода или передают очень общим словом «парод») *. Чем же были эти общности, называемые gentes?
В известных определениях gens, которые дает в «Этимологиях» Исидор Севильский, выделены такие признаки, как происхождение от общего предка (gens est multitude ab uno principle orla...) и языковое единство (ex linguis gentes... exortae sunt)2. Таким образом, в теоретическом сознании образованной элиты VI—VII вв., отражавшем античные традиции, gens — понятие «неполитическое», не связанное ни с какими конкретными политическими реальностями (под «политическим» мы будем понимать то, что в современной советской исторической этнологии называется также «потестарпо-политпческим», т. е. все, что относится к сфере организации и осуществления власти в традиционных обществах в эпоху складывания ранних государств) 3. Напротив, обращаясь к хроникам, дипломатической переписке, королевскому законодательству, т. е. вступая в область более конкретных представлений, мы видим, что понятие gens всюду соотнесено с понятиями, связанными с организацией и осуществлением власти, с политической деятельностью: «королевство», «король», «герцог», «войско», «господство», «завоевание», «законы», «посольства» и т. д. В понятии gens, как показали исследования Р. Венску-са, X. Вольфрама, Й. Йарнута, соединялись представления об общности происхождения и о едином «политическом пароде» 4. Во всех случаях речь шла о большой группе людей общего происхождения, которая образует иерархически организованное политическое единство и действует в своем прошлом и настоящем как одно целое, наделенное только ему свойственными чертами.
В эпоху великих миграций, расселения варваров на землях бывшей Западной Римской империи, образования новых королевств содержание понятия gens неизбежно менялось. Мы вправе предполагать, что значение политических факторов, влиявших на формирование системы пред
В. В. Ронин. Франки, вестготы, лангобарды в V1—VIIJ вв.
61
ставлений парода о себе самом (самосознание), возрастало. Общность исторической судьбы и традиции, организационное единство, опыт совместной военной и политической деятельности должны были становиться для самосознания gens не менее, а затем и более важными, чем происхождение от общего предка, кровное родство, языковое единство, хотя и эти факторы сохраняли свою силу. И в самом деле, понятие «народ» сближалось с понятием «войско» 5: в памятниках VI—VII вв. термины Franci, gens Francorum, exercitus Francorum или gens nostra [Langobar-dorum], exercitus noster [Langobardorum] выступают еще в некоторых контекстах как синонимы в.
Но как конкретно отражалось в представлениях gens о себе самой ее политическое бытие? Какие мы можем обнаружить в источниках проявления ее самосознания, соответствующие в большей или меньшей степени тому, что мы сегодня применительно к тем далеким временам называем политическим? Какое конкретное выражение находили (и находили ли вообще) такие предполагаемые элементы самосознания, как представление gens о себе как о политической общности, чье единство, характерные свойства, особый статус среди других пародов сформировались исторически (определение и утверждение себя через историю); представления о себе как о самостоятельном субъекте политической деятельности, осуществляемой в разных сферах (война, господство над завоеванной территорией и другими народами, отдельные политические акты и т. н.), представления о себе как об иерархически организованной общности, подчиненной высшей власти; представления о себе как о территориально организованной политической общности? Ответы на эти вопросы мы и постараемся дать. Выявление политического в самосознании трех крупнейших западноевропейских рапнесредпевековых gentes (франков, вестготов, лангобардов) позволило бы вернее судить как о самих этих общностях, так и о созданных ими ранних формах государственности.
Здесь необходимо сделать оговорку. В копкретпых исследованиях медиевистов — историков и этиологов — этническое и политическое (по-тестарное, потестарпо-политическое, «государственное») сознание (и самосознание) издавна различаются ’. Однако, как известно, в системе самого ранпесредневекового синкретического «гептильного» сознания этническое, политическое, религиозное не могут быть в полной мере разграничены. Едва ли правомерно вообще говорить применительно к VI— VIII вв. об особом «политическом самосознапии». Мы вправе судить лишь о политических аспектах самосознания, имея в виду то, что мы сами, исходя из понятий современной нам науки, усматриваем в системе коллективных представлений раннесредпевековых народов и определяем как политическое. Для реконструкции сознания людей той эпохи мы вынужденно применяем несвойственные ему, сформированные на совершенно иной эмпирической основе понятия.
Еще одна трудность в изучении самосознания франков, вестготов и лангобардов связана с характером источников. Больше всего необходимой информации содержат памятники нарративные — исторические со-
£2 Картина мира в обыденном сознании
чипепия. Но самосознание gens передано в них отраженно, в зависимости от литературных ориентаций, конкретных политических и личных пристрастий тех или иных авторов, принадлежавших к тому же к разным этническим группам8. Более непосредственно политические аспекты самосознания gens (точнее — ее социальной элиты) могли проявиться в памятниках иного типа — в официальной дипломатической переписке, в записях обычного права, в королевском законодательстве, в актах церковных соборов. В том, что касается вестготов, эти памятники действительно дают богатый и ценный материал9. При изучении же самосознания франков или лангобардов они помогают мало (исключение составляют знаменитые Прологи к Салической правде), и приходится обращаться к текстам историографическим.
Мы не знаем, в какой мере Григорий Турский (конец VI в.) или Исидор Севильский (начало VII в.) опирались на живую устную традицию господствовавшей в их странах варварской (соответственно — франкской или готской) верхушки, а в какой — на собственные «ученые» конструкции. В королевстве вестготов сохранялись, как полагают, предания о древних королях и героях, входившие в общеготскую традицию, записанную в VI в. Иорданом Напротив, у франков просматриваются только отдельные элементы династических преданий рода Меровингов, преданий, ставших под влиянием сильной королевской власти при Хлод-виге частью официальной франкской исторической традиции. Этнополитическая общность франков, сложившаяся лишь па рубеже V—VI вв. из множества слабо связанных между собой племенных групп, вырабатывала единую историческую традицию относительно поздно, в VI—VII вв., и уже с помощью образованной галло-римской элиты ”.
Вместе с тем и Григорий, и Исидор, всецело лояльные к новым господам Галлии (или Испании), принявшие установившийся новый политический порядок как данность, идентифицировавшие себя с ним («наши короли»,—говорит Григорий Турский о Меровингах1г), были уже по этой причине способны передать политические аспекты самосознания «своих» варваров достаточно адекватно. К тому же, обращая свои сочинения к королям и их окружению, историки стремились изобразить франков (или вестготов) в прошлом и настоящем такими, какими те хотели бы себя видеть. Поэтому эти произведения могут считаться вполне достоверным источником для суждений о политических аспектах самосознания в том или другом варварском королевстве.
Более того: мы замечаем определенную тенденцию к постепенному усилению, все более полному и отчетливому выявлению самосознания, например франков, в нарративных памятниках, когда удается проследить, как Псевдо-Фредегар (середипа VII в.) и — независимо от пего — автор «Книги истории франков» (727 г.) редактируют текст Григория Турского, воспроизводя его в своих компиляторских главах, а затем как автор «Деяний Дагоберта I» (первая треть IX в.) редактирует хронику Псевдо-Фредегара. Тенденция эта проявляется, па наш взгляд, прежде всего в некоторой «франкизации» текстов предшественников, в усилении присутствия франков как народа на страницах истории, в подчеркива-
В. К. Ронин. Франки, вестготы, лангобарды в VI—VIII ев.
ИЯ
пии значения франкских обычаев в жизни народа и его монархии Тпм, где у Григория действуют просто люди, дружинники короля, его войско, «те, у кого был более здравый ум» и т. п., без указания их этнической принадлежности, хронисты VII—VIII вв. часто заменяют этп категории общими терминами Franci, Francos*®. Там, где епископ Турский сооб щает о походе кого-либо из Меровипгов, позднейшие экспиляторы то и дело добавляют: «с франками», «с войском франков» Воспроизводя рассказ Псевдо-Фредегара о победе Хлотаря II над саксами, каролингский автор «Деяний...» считает нужным прибавить: «Таково было тогда могущество франков, таково упорство королей». А сообщая — по Псевдо-Фредегару, что Дагоберт I много охотился, он делает вставку: «Как это в обычае у народа франков»
Другие трудности в изучении самосознания gentes, его политических аспектов связаны с определением его носителя. Мы еще вернемся к этим проблемам после того, как рассмотрим те интересующие нас проявления самосознания, которые удается выявить в источниках.
Историческая традиция
В образе прошлого того или иного парода, образе, создаваемом ранпе-средневековыми авторами, мы находим и те элементы, из которых складывалось представление gens о себе как о политической общности. Эти элементы исторической традиции образуют непосредственную основу актуальных политических притязаний gens:
1. Представления о своем происхождении не просто от древних предков, но от какого-либо «царственного» народа древности, создавшего великую и могучую державу. Представления эти имели литературный генезис и были распространены среди тех gentes, которые тесно соприкоснулись с традициями античной культуры. Примеров тому немало. Бур-гунды, сообщает Аммиан Марцеллин, считали себя потомками римлян 1е. В меровипгских хрониках VII—VIII вв. зафиксирована знаменитая легенда о троянском происхождении франков, утверждавшая их родство через царя Трои 11риама с македонцами и римлянами ”. От библейского Магога вел родословную готов Исидор Севильский (римлян же он считал потомками брата Магога — Тубала) 1е. В подобных представлениях отражались притязания на преемственность политического «ранга» народа-завоевателя и на легитимацию его власти над покоренной страной и ее обитателями1Э. Провозглашая варваров-завоевателей дальними родственниками местного романского или романизованного населения, эти легенды, безусловно, психологически облегчали интеграцию в составе ново-образовавшихся государств 20.
2. Политический автостереотип, представление о некоторых характерных чертах своего народа как политической общности, проецируется на. прошлое. Источники позволяют выделить три такие черты, присутствующие в самосознании и франков, и вестготов, и лангобардов:
— первенство в войнах, непобедимость21;
— свободолюбие, непримиримость к чужой власти («ни один народ
£4
Картина мира в обыденном сознании
до нынешнего дня не мог подчинить франков своей власти»,— пишет Псевдо-Фредегар; «лучше нам подготовпться к битве, чем платить вандалам податп»,— говорят древние лангобарды в памятнике VII в. «Происхождение народа лангобардов» 22);
— всегдашняя независимость от чужой помощи или милости римских императоров (так, если, по Григорию Турскому, франки поселяются в Трире с разрешения императора Валентппнапа, то в хронике Псевдо-Фре-дегара, где, как мы старались показать выше, франкское самосознание отражено значительно сильнее, они захватывают город самп 23).
3. От сознания равенства с другими великими народами — к сознанию своего превосходства над ними, якобы проявившегося в прошлом. Хронисты подчеркивают победы «своих» gentes над римлянами п византийцами («не было на свете народа, который бы так изнурил Римскую империю»,—восхваляет готов Исидор Севпльскип 24). Черпая же в источниках сведения о победах римлян над другими народами, Псевдо-Фредегар добавляет упоминания о помощи, которую, как он старается внушить читателю, оказали Риму франки п без которой римляне не достигли бы успеха 25.
4. Сознание своих «законных» прав на завоеванную территорию. Так, у лангобардов — и это всегда подчеркивается в памятниках, созданных в их среде,— основой легитимации их господства над Италией считалось, помимо права завоевания (как у других народов — франков и вестготов-), также их приглашение в страну местными византийскими властями — полководцем Нарсесом 26. Вспомним для сравнения и иную модель исторического обоснования собственных прав на занимаемую территорию — приведенное в хронике Видукинда Корвейского (X в.) предание о «покупке» саксами земли у тюрингов: обменяв па золото горсть песку, вождь саксов рассыпал песок топким слоем по соседним полям, и отныне вся эта земля считалась «купленной» саксами 27.
5. Сознание своего исторического предназначения как политической общности. Для лангобардов итогом их истории, ее имманентной целью было, судя по всему, лишь утверждение их власти над Италией (для вестготов VI—VIII вв,—над Испанией). Даже 100 лет спустя после прибытия лангобардов в Италию этот факт оставался в центре исторической памяти народа и, как показывает пролог к эдикту короля Рота-ри (середина VII в.), продолжал быть официальной точкой отсчета времени2S. Притязания же франков, их выводы из собственной псторпи шли в тот период гораздо дальше. История завоевания ими Таллин изложена в памятниках очень сжато и немногословно и не только не занимала центрального места в их исторической традиции, по воспринималась скорее как исходный пункт их дальнейшего политического самоутверждения. Уже при Меровингах можно говорить о своеобразном политическом мессианизме франков: они самой историей предназначены, чтобы создать могущественное королевство, «квазннмнерню», и господствовать над другими народами29. Позднее, при Каролингах, это представление франков о себе получит завершение в концепции «царственного парода» (gens regalis) 30.
В. К. Ронин. Франки, вестготы, лангобарды в VI— VIII ев.
С>Г>
Представление о себе как политическом субъекте
В качестве субъекта политической деятельности gens выступает в разных сферах:
1. Война. В 4-й книге своей хроники Псевдо-Фредегар собирается описывать «деяния королей и войны народов» 31. Воспроизводя дословно рассказы Григория Турского о походах Меровингов, он, как и анонимный автор «Книги истории франков», всюду добавляет: cum Francis, cum exercitu Francorum и т. д.32 Тем самым подчеркивается роль народа франков как активного участника всех событий.
2. Власть над завоеванной территорией и другими народами. Носитель этой власти (ditto; dominio; potestas; imperium) — gens как целое 33. Король и знать — зачастую лишь «исполнительные органы» господства собственного народа над другими. Владения короля вестготов, подаренные им франкской королеве, считаются possessiones gentis Gotho-rum34. Именно gens является получателем податей и иных выплат с побежденных ею народов36.
3. Избрание короля. В отличие от готов, где рано сложилось олигархическое правление светской и церковной знати, у франков и лангобардов субъектом этого политического акта выступают в источниках не отдельные социальные группы (ср. primatus totius gentis cum sacerdotibus у вестготов36), но gens как целое (Franci37; Langobardi33), хотя и здесь в действительности речь шла лишь о высших слоях общества.
4. Принятие политических решений. Как уже говорилось, те, кто влияет на короля, дает ему советы и т. д., обозначены в меровингских хрониках VII—VIII вв. общим термином Franci. Если у Григория Турского, например, в рассказе о крещении Хлодвига король скорее отделен и как бы противопоставлен своему «народу», своему окружению39, то у Псевдо-Фредегара и в «Книге истории франков» король и «франки» действуют вместе40. «Франки» могут, отвергнув предложение соседей о мире, даже принудить короля к войне41. Наконец, они же разрешают споры между самими королями — потомками Хлодвига42.
5. Законодательная деятельность. В Прологе II к Салической правде отражено представление франков о, том, что законы у них установлены старейшинами при непосредственном участии народа43. Напротив, в памятниках более развитого и централизованного Вестготского королевства источник всех законов — король 44. Но и вестготские короли издают постановления «по решению народа» (gentis consultu decrevimus) 45.
6. Дипломатия. Наряду с королем gens выступает субъектом международных отношений: отправляет послов (legati gentis) 46, заключает от своего имени договоры47, а также обладает самостоятельным политическим престижем на международной арене. Так, король лангобардов Ро-тари, заточив свою супругу Гундебергу из рода Меровингов в одном из покоев дворца, вынужден был освободить ее по настоянию франкского короля. По словам хрониста, Ротари согласился на это, «имея почтение к франкам» 43.
3 Одиссей
66
Картина мира в обыденном сознании
Добавим, что к концу VII в. в вестготских памятниках gens все чаще встречается в поссессивной терминологической зависимости от rex: gens sua, gens eius («свой народ», «его народ») и т. д.48 Из субъекта политической власти народ становится объектом власти короля. У франков этот процесс запаздывает и проявляется лишь при Каролингах.
Актуальный политический автостереотип
В памятниках, созданных в их среде, gentes наделяются различными чертами, некоторые из которых мы можем отнести к политически значимым, т. е. раппесредпевековые авторы прилагают соответствующие характеристики к пароду как политической общности:
— славное имя, высокий престиж среди других народов (gens Francarum inclita50; gens Gothorum inclyta51);
— верность договорам;
— «мудрость в совете» 52;
— превосходство над другими народами в законах53.
Некоторые элементы автостереотипа выражены косвенно — как отрицание определенных политически значимые черт других gentes. Хотя хронические конфликты между народами порождали устойчивые традиции негативного восприятия друг друга (франки — готы; лангобарды — гепиды), однако стабильных отрицательных характеристик других народов мы в текстах VI—VII вв. (в отличие от каролингской эпохи54) пе находим. Пожалуй, единственный пример такой характеристики — распространенное во франкской литературе представление о «гнусном обычае», «пороке», «болезненной страсти готов» свергать по своему произволу неугодных им королей Политический смысл этой характеристики, ее место в самосознании франков очевидны: она должна была оттенить преданность самих франков своей правящей династии.
Сознание связи народа с его королем, династией
Только наличие королевской власти делает gens независимой (поэтому Иордану так важно подчеркнуть, что и при господстве гуннов готы имели собственного regulus — «царька» 56), сильной (лишившись короля, народ теряет «гордость», место среди других народов57), организованной (лишь с появлением королевской власти появляются и законы58). Деятельность и сама судьба короля неразрывно связаны с судьбой gens. Король умножает славу народа и защищает его, парод сражается за короля. Носящая сакральный характер «сила» короля и его рода — источник благополучия всего народа. Напротив, гибель взрослых членов династии неминуемо влечет за собой гибель всего народа. Так, заклиная своих приближенных не убивать его, дабы он мог воспитать малолетних племянников, франкский король Гунтрамн говорит: «...чтобы не случилось так, что после моей смерти вместе с этими малютками погибнете и вы, ибо из рода нашего не будет никого сильного, кто защитил бы [вас]»59. Плохие, «бессильные» короли — не только бедствие, но и но-
В. К. Ронин. Франки, вестготы, лангобарды в VI— VIII ее.
«/
Лангобардский король Агилульф на троне. Деталь шлема.
Ок. 600 г. Позолоченная бронза. Флоренция. Музей Еарджелло
зор для gens60. (Ср. также слова Эйнхарда, биографа Карла Великого, о «давпем бессилии» прежней династии — Меровинговel.)
Но и сама королевская власть возможна лишь при определенном уровне силы и жизнеспособности gens. По словам Павла Диакона (VIII в.), разбитые лангобардами герулы, а затем и гепиды настолько ослабли, что «в дальнейшем не имели над собой короля» ®2. Время без королей — у любого народа время слабости. Ставя над собой короля, народ утверждает этим свою силу и независимость: лишь отвергнув господство римлян, вестготы смогли «поставить Алариха себе королем» ®3. Григорий Турский, весьма озабоченный молчанием античных историков о первых королях франков, дает понять, что до королей (reges) франки имели вождей (duces) ®4. Более полувека спустя Псевдо-Фредегар тенденциозно «исправляет» этот рассказ: короли у франков, убеждает он читателя, были еще до вождей, а затем, когда вождей не стало, они «вновь избрали себе королей из того же рода, что и прежде» ®6. Институт королевской власти возводится здесь, таким образом, к глубочайшей древности. Для варварского парода немаловажно, под чьим предводительством совершалось его переселение на новые земли. Согласно готской традиции, переданной у Иордана, во главе переселявшегося народа с самого начала стояли короли66. Напротив, по преданиям лангобардов, народом во время переселения предводительствуют вожди (duces) ®7. Згу
3*
68 Картина мира в обыденном сознании
особенность лангобардской традиции, отразившей, очевидно, реальные исторические факты, Р. Венскус называет «нетипичной» для германских -«саг о переселении» 68.
Короли происходят из самого знатного рода, и в этом — залог побед их народа над соседями (так, у Григория Турского знатность происхождения франкских королей «подтверждается» успешными завоеваниями франков при Хлодвиге69). Представление о «силе» короля и его рода могло опираться, как известно, и на мифологическую традицию о сверхъестественном происхождении династии ’°. Вспомним хотя бы франкское языческое предание о рождении короля Меровея от соития его матери-королевы с неким морским чудовищем71 — предание, которое хронист-христиапин Псевдо-Фредегар передает без всяких комментариев: вероятно, несмотря на ярко выраженный языческий характер легенды, она и в VII в. была по-прежнему распространена при дворе как элемент официальной династической традиции Меровингов. «Генеалогии» варварских королей были их могучим идеологическим оружием, средством утверждения (и постоянного подтверждения) их харизмы как правителей, их прав на престол72. В то же время династическая традиция становилась официальной формой существования и фиксации исторической памяти самой gens, средством укрепления неразрывной связи королевской власти с пародом. Отнюдь не случайно королева лангобардов Теуделинда, родом из Баварии, приказала покрыть стены своего нового дворца росписями на темы исторических деяний лангобардов, и, по-видимому, отнюдь не случайно Павел Диакон полтора века спустя упоминает об этом решении королевы73. Мы вправе полагать, что подобный факт был важен для самосознания лангобардов как политической общности.
Gens воспринимает короля как хранителя и толкователя племенных обычаев. Он может при случае даже напоминать о них народу (или его верхушке). Так, когда лангобарды у Павла Диакона требуют от короля, чтобы он сделал сына своим сотрапезником, король отвечает им: «Знайте: нет у нас такого обычая, чтобы сын короля обедал вместе с отцом...» 74
После всего сказанного выше неудивительно, что династия считалась неприкосновенной. Убийство или пленение врагами кого-либо из королевского рода навлекает бесчестие на весь народ76. Примечательно: если у Григория Турского Хлодвиг, упрекая своего родственника Рагна-хара за то, что тот дал себя схватить и связать своим же людям, вопрошает: «Зачем ты упизил наш род (genus nostrum)?», то автор «Книги истории франков», воспроизводя этот пассаж дословно, изменяет в нем лишь два слова: «Зачем ты унизил наш народ (gentem nostram)?» 76. Такое исправление едва ли было случайным. Низложение короля оправданно (т. е. хронист сообщает о нем без всяких осуждающих комментариев) только в том случае, если монарх несправедливо посягает на жизнь и достоинство свободных соплеменников (как Хильдерик I у франков77 или Родоальд у лангобардов78). Произвол же вестготов в отношении их королей воспринимался во франкском обществе, как мы помним, крайне негативно.
В. К. Ронин. Франки, вестготы, лангобарды в VI—VIII вв.
Сознание связи народа с трансперсональными символами власти
Главный из этих символов — королевская сокровищница. С ней, как п вообще с королевской властью, тесно связана судьба gens. После убийства Альбоина лангобарды, по словам Иоанна Бикларского, «остались без короля и без сокровищницы» 7в. Умножая сокровища, король умножает тем самым и славу gens. Так, Хильперик I, повелев изготовить для пего большое золотое блюдо, заявляет: «Я сделал это для прославления и возвеличения народа франков» 80.
Сознание связи народа с определенной территорией
У франков оно находит свое выражение в VI—VIII вв. в понятиях «страна франков», «граница франков» (terra Francorum, limes Francorum81). Уже Исидор Севильский, обращаясь в своей «Истории готов» к новым господам Испании, отмечал «любовь» «могущественнейшего народа готов» к этой стране 8г. Понятие «отечество готов» (patria Gothorum) встречается в памятниках, возникших в их королевстве, очень часто (ср. также формулу patriae gentisque в юридических текстах вестготов VII в.83). Менее заметны подобные представления у лангобардов: возможно, они дольше ощущали себя в Италии завоевателями, чужаками и потому в меньшей степени сознавали свою связь с этой страной. В целом же пространственное определение себя как политической общности — важнейший новый элемент в психологии gentes после расселения варваров на завоеванных землях. «Территориализацию» самосознания Б. Зентара справедливо считает решающей вехой в развитии gentes от племенных общностей к общностям более высокого таксономического уровня84 — раннесредневековым народностям.
С середины VII в. авторитет династии Меровингов в обеих частях Франкского государства — Нейстрии и Австразии — ослабевает, а реальная власть переходит к верхушке местной знати. По мере обособления каждого из меровингских королевств как бы раскалывается единое самосознание gens Francorum, и этот раскол затрагивает, естественно, главным образом политические аспекты самосознания. Можно говорить о том, что к концу VII в. уже началось формирование особого нейстрийско-го самосознания, в системе которого франки — только жители Нейстрии. В источниках это находит отражение лишь в «политическом» контексте — при описапии конфликтов между представителями обеих областей, в рассказах об избрании в каждом королевстве собственного правителя и т. и. (ср. в «Книге истории франков» и «Житии св. Бальтхильды» оппозицию «фрапки» — «австразийцы», а в «Житии св. Аудоина» —даже «парод франков» — «народ австразийцев» 85). Однако вскоре в раннекаролиш ских продолжениях хроники Псевдо-Фредегара вновь получает вираже пие сознание единства народа как политической общности: при воспроизведении здесь глав «Книги истории франков» их текст последовательно очищается от признаков нейстрийского сепаратизма 86.
70
Картина мира в обыденном сознании
Территориальная разобщенность раскалывает единое самосознание и в королевстве вестготов. Так, как явствует из «Истории короля Вамбы» Юлиана Толедского, к концу VII в. складывается представление о двух обособленных и политически даже противостоящих общностях па региональной основе — «испанцах» и «галлах» (этнически смешанное население готской Септимании). При этом терминологическая оппозиция Hispani — Galli принимает вид Gothi — Galli. Подобно тому, как в нейст-рийских памятниках «франки» — только псйстрийцы, понятие «готы» распространяется лишь па жителей собственно Испании е7.
Сознание своего места в римско-византийской иерархии народов
Как убедительно показал Ф. Хэнсслер, варварские gentes VI—VIII вв. психологически определяли себя во многом через свое отношение к наследнику императорского Рима — Константинополю 86. Одной из основ их самосознания было признание той иерархии государств и народов, на вершине которой стояла Византийская империя. Признание политического и культурного превосходства Византии было в Западной Европе этого времени повсеместным. Но столь же распространены были и разнообразные проявления антивизантийских тенденций, бывших не чем иным, как стремлением новых regna к самоутверждению. Этот элемент самосознания европейских gentes раннего средневековья хорошо пзучен, напомним лишь, как с ростом политических притязаний Франкского королевства там менялось и отношение к Римской империи на востоке: от «сыновнего» чувства в VI—VII вв. к чувству «младшего брата» в VIII в., затем к сознанию полного равенства и, наконец, в IX в.— превосходства Франкской державы8В.
Таковы те элементы самосознания франков, вестготов и лангобардов, в которых мы усматриваем отражение реальных политических условий существования этих народов и их притязаний, насколько позволяют судить о том имеющиеся в наптем распоряжении источники. Носителями этого самосознания выступают в памятниках VI—VIII вв. общности, неизменно называемые gens Francorum, gens Gothorum, gens Langobardo-rum. Но точное этническое определение этих общностей в тот или иной период представляет немалые трудности. Самосознание — какого именно этносоциального коллектива?
Уже в VI в. ранняя франкская знать формировалась как этнически смешанная группа, включавшая в себя и собственно франков, и галло-римлян, и бургундов, и саксов. Очевидно, с конца VI в. галло-римляне несли военную службу наравне с франками, так что этнические различия, хотя и продолжали осознаваться, переставали быть политически значимыми.
Из разобщенных в VI в. gentes начал складываться на территориальной, региональной основе единый «политический парод» Франкского королевства, именуемый в источниках VII—VIII вв. gens Francorum. Аналогичный процесс «дегентилизации» — слияния этнических
В. К. Ронин. Франки, вестготы, лангобарды в VI— \ 111 вв групп и формирования единой gens, которая включила в себя все свобод ное население страны, подвластное королю, начался еще раньше и и> сударстве вестготов90. Хотя ни там, пи здесь интеграционные процессы до самого конца существования обоих королевств полностью так и не завершились, примерно с последней трети VII в. мы можем исходш ь и i того, что Franci и Gothi латинских памятников — это уже, как правило, не франки и готы в узком, этническом значении терминов, но совокупный «политический парод» того и другого государства. Перед нами — хорошо знакомое этнологам явление: этноним превращается в политоним (название политической общности) 91, с тем чтобы в дальнейшем стать этнонимом уже нового народа. Поэтому, говоря о политических аспектах самосознания франков или готов того времени, мы имеем в виду самосознание именно таких складывающихся «вторичных» падэтнических общностей.
Таково было объективное положение дел. Но, как справедливо подчеркивал Э. Эвиг, сознание людей рапнего средневековья и далее оставалось «гентильным»: оно по-прежнему знало «франков», «готов» и т. д.92 Для современника это были те же старые gentes, но сегодняшний историк вправе говорить о постепенном формировании уже новой gens, которая унаследовала вместе с именем господствующей этнической группы (франков, готов) также некоторые элементы ее самосознания, прежде всего историческую традицию и политический автостереотип. Говорить подробнее о судьбах самосознания галло- и испано-рпмлян мы здесь не можем. Вспомним лишь, что даже для Григория Турского, так гордившегося своим происхождением из провинциальной сенаторской знати, история Таллин есть лишь предыстория утверждения там франкского господства, создания нового государства, которое епископ-хронист считал своим. Романское население Галлии и Испании (разумеется, мы в состоянии судить о психологических ориентациях только его социальной элиты, отразившихся в известных, нам текстах) стало воспринимать традиции варваров-завоевателей, их представления как свои собственные — как если бы предки самих этих галло- и испано-римлян переселялись во главе с варварскими королями на новые земли или отличались с давних пор особой воинской доблестью и непримиримостью к чужой власти. Подобное явление пзвестпо в исторической этнологии как «псевдологиче-ская идентификация» 93, составляющая важную психологическую предпосылку формирования повой этносоциальной общности.
Однако этп традиции и представления, воспринятые местным населением от господствующей этнической группы варваров, не только были обогащены, преобразованы влияниями численно преобладавшей галло-или испано-римской среды с ее богатым наследием античной культуры, но и оказались теперь элементами качественно пной социально-психологической структуры. Именно в этом новом качестве они и предстают перед нами в памятниках VII—VIII вв. Яркий пример такого синтеза и сфере самосознания — гепезпс уже упоминавшейся легенды о троянском происхождении франков. Собственная «гентильная» традиция франков об их происхождении с правобережья Рейна (как показал И. Вагнер, за уно-
12
Картина мира в обыденном сознании
минанием у Григория Турского Паннонии как прародины франков могло скрываться франкское предание о «стране Хуг» пли «стране хугов», вероятно, переосмысленной хронистом как «страна гуннов»; отсюда — Пап-нопия94) была вытеснена антикизируюгцей «троянской легендой». Сложившаяся, несомненно, под влиянием образованной галло-римской элиты, эта легенда стала в VIII в. официальной концепцией происхождения единой gens Francorum как совокупности подданных франкского короля независимо от их этноязыковой принадлежности 95.
Иначе, как известно, обстояло дело в Италии. Постепенная романизация лангобардов, связанная с освоением ими римской цивилизации, еще не привела здесь в VII в. к подобным интеграционным процессам. «Политический народ» королевства, называвшийся Langobardi, долгое время формировался лишь из самих лангобардов и представителей других этнических групп, пришедших вместе с ними и воспринявших их историческую традицию и правовые обычаи, но не включал в себя местное население. Только во второй половине VII в. в окружении лангобардских королей и герцогов становятся заметны потомки рпмской знати. У лангобардов, судя по сочинению их соплеменника Павла Диакона, было очень сильно сознание своей гетерогенности, своего происхождения из множества разноплеменных групп, интегрированных в лангобардское войско в эпоху переселения 9в. Однако романское население полуострова в сознании лангобардов из этой исторически сложившейся «гектильной» общности исключалось. Новые господа Италии и жители покоренных ими областей продолжали противостоять друг другу и психологически 97. Интересующие нас политические элементы самосознания лангобардов, как оно отражено у Павла Диакона, имели относительно узкую этническую основу и потому значительно больше, чем в государствах франков или вестготов, были связаны с традициями самих варваров-завоевателей.
Вместе с тем, как мы могли убедиться, в самосознании всех трех gentes особенно заметны в это время именно те элементы, которые способствовали интеграционным процессам: сознание связи народа с королевской властью, распространяющейся на все население страны; сознание связи с самой страной — общим отечеством для всех населяющих его этнических групп; представление о родстве варваров-пришельцев с покоренными ими иноплеменниками через «общих» древних предков.
Не менее сложно и социальное определение носителя самосознания раннесредневековых gentes. Самосознание — какой социальной общности? Политические элементы самосознания присущи пе всем представителям этноса, но лишь его политически активной части, носителям политических функций. На протяжении VI—VIII вв. эти функции все больше сосредоточивались в руках социальной элиты — зпатн па службе короля. Тем самым именно правящий слой, по мере того как оп узурпировал принятие политических решепий, становился носителем политических элементов самосознания gens, от имени которой оп выступал.
Вместе с тем, пока и поскольку процесс феодализации еще не отлучил массу свободного населения от пополнения некоторых важных политических, а особенно военных функций °8, мы вправе говорить о том,
В. К. Ронин. Франки, вестготы, лангобарды в VI—VIII вв.
73
что рассмотренные нами политические элементы самосознания опирались на широкую социальную основу, были элементами самосознания народа в целом. Другое дело, что судить об этой системе представлений gens о себе самой мы можем лишь в той мерс, в какой оно отражено в немногочисленных текстах, созданных в элитарной среде, близкой к королевскому двору. Показательно, что авторы VII — \111 вв. зачастую отождествляют знать с народом вообще, используя общий «племенной» термин Franci и там, где речь явно идет только об узком круге придворной аристократии. В дальнейшем каролингские писатели проводят обычно более четкую социальную дифференциацию. Достаточно сравнить две редакции «Жития св. Бальтхильды» — меровипгскую и каролингскую: Franci в гл. 10 меровипгской редакции заменено в каролингской па proceres Francoruni («франкская знать») ".
Особенно интересен вопрос о соотношении самосознания группового и индивидуального. К сожалению, в том, что касается аспектов политических, источники позволяют судить лишь о самосознании больших групп. В какой мере отмеченные выше элементы самосознания gens в целом были присущи политической психологии отдельного индивида, хотя бы даже только из числа знати, мы не зпаем. Мы можем делать более пли менее уверенные умозаключения о воззрениях и представлениях лишь одного индивида — короля. Из проведенной нами реконструкции политических аспектов самосознания франков, вестготов и лангобардов явствует, какую огромную роль в складывании его играло влияние королевской власти, официальной династической традиции. Поэтому самосознание gens и индивидуальное сознание короля в аспектах политических наиболее близки. Однако полного совпадения здесь, разумеется, нет, о чем свидетельствует хотя бы то, какое видное место в структуре самосознания занимали представления о gens как о самостоятельном субъекте политической деятельности — наряду с королем, а зачастую и независимо от королевской власти.
В полной мере судпть об эволюции самосознания gentes (а тем самым и о развитии самих этих общностей) можно, конечно, только на основе конкретных исследований всех его элементов, в том числе и тех, которые нельзя отнести к политическим и которые мы поэтому не рассматривали. Ограничимся одним предварительным замечанием. Как показал в своей недавней работе Л. Е. Куббель, среди различных направлений исторического развития этносоциальных общностей особенно интересно и важно направление, связанное с постепенной дифференциацией этнического и потестарного (политического) сознания (и самосознания). Обособление политических элементов в изначально синкретической, не-расчлененной системе представлений, «возникающая возможность отделения политического сознания от сознания этнического» обозначают существенный рубеж на историческом пути народов и обществ — вступление в эпоху ранних государств и формирования в их рамках народностей 10°. Исследование, проведенное нами на материале ранпесредневе-ковой истории трех крупных западноевропейских gentes, позволяет предположить, что и здесь перед нами — те же самые процессы.
74
Картина мира в обыденном сознании
В еще синкретическом «гептильном» самосознании франков, вестготов и лангобардов в VI—VIII вв. становятся все более заметны и диффе-ренцированны их представления о себе как об общностях политических, характеризуемых определенными отношениями в сфере власти. Политические условия существования этих народов находят, как мы могли убедиться, конкретное и разнообразное отражение в системе их представлений о себе. Появляются новые элементы самосознания, целиком связанные именно с политическими реальностями (сознание связи с завоеванной территорией, в пределах которой проживает этнически смешанное население; сознание своего места в имперской иерархии народов и т. п.). Некоторые старые, традиционные элементы самосознания оказываются теперь политически значимыми, приобретают новое политическое «наполнение» (представление об общем происхождении соплеменников превращается в представление об «общих» предках разных этнических групп, обитающих в государстве). Все это свидетельствует, на наш взгляд, как раз о том, что процесс дифференциации сознания (и самосознания) уже шел в то время, а сами раннесредневековые gentes вступили в эпоху образования государств и народностей.
1 О проблеме перевода термина gens см.: Jarnut J. Aspekte friihmittelalterlicher Ethno-genese in historischer Sicht//Entstehung von Sprachen und Volkern. Tubingen, 1985. S. 83 84; Pohl W. Strategic und Sprache: Zu den Ethnogenesen des Friihmit-telalters//Ibid. S. 93.
2 Isidori episcopi Hispalensis Etymologiarum sive Originum libri XX. Oxonii. 1911. IX 2. 1; 14.
2 Ср.: Куббелъ Л. E. Очерки потестарно-политической этнографии. M., 1988. С. 23— 24, 67.
4 Подробнее см.: R’e/zs/cus R. Stammesbildung und Verfassung: Das Werden der friih-mittelalterlichen gentes. Koln; Graz, 1961. S. 46-47; Wolfram H. Die Goten als Gegen-stand einer hislorischen Ethnographic // Tradition als historische Kraft. B., 1982. S. 57—58; Jarnut J. Op. cit. S. 83—89.
5 Ibid. S. 87.
8 Chronicarurn quae dicuntur Fredegarii libri IV, III, 22 // Monumenta Germaniae histories. Scriptores rerum Merovingicarum. (Далее: MGH. SRM). Hannoverae, 1888. T. 2. P. 102. 103. (Далее: Fred.); Edictum Rothari, 386//Leges Langobardorum. Wit-zenhausen, 1962.
7 Ср., например: Muller K. Der Beginn eines Volks- und Staatsbewusstseins im Norden. Munchen, 1967; Куббелъ Л. E. Указ. соч. С. 25, 67, 186.
8 Подробнее см.: Rouche М. Francs et Gallo-Romains chez Cregoire de Tours//Gregorio di Tours. Todi, 1977. P. 141—169; Staubach N. Germanisches Konigtum und lateinis-che Literatur vom funften bis zum siebten Jahrhundert//Fruhmittelalterische Stu-dien. 1983. Bd. 17. S. 38-54. (Далее FmSt).
8 Cp.: Claude D. Gentile und territoriale Staatsideen im Westgolenreich//FmSt. 1972. Bd. 6. S. 20-32.
10 Cm.: Menendez Pldal R. Los Godos у el origen de la epopeya espanola//I Goti in Occidente. Spoleto, 1956. P. 285; D’Abadal у de Vinyals R. A propos du legs visigothi-que en Espagne//Caratteri del secolo VII in Occidente. Spoleto, 1958. P. 577—582.
11 Wenskus R. Op. cit. S. 533—535; Zientara B. Swit narodow europejskich: Powstawanie swiadomosci narodowej na obszarze Europy pokarolinskiej. W-wa, 1985. S. 72, 74, 87, 91.
12 Gregorii episcopi Turonensis Historiarum libri X, IX, 24//MGH. SRM. 2 a ed. Hanno-verae, 1951. T. I. P. 444. (Далее: Greg.).
13 Fred., Ill, 16, 21, 51. P. 99, 101 107; Liber Historiae Francorum, 10//MGH. SRM. T. 2. P. 252-253. (Далее: LHF).’Cp.: Greg., II, 27, 31; IV, 14. P. 72, 76-77; 146.
В. К. Ронин. Франки, вестготы, лангобарды в VI— VIII вв.
75
14 Fred., Ill, 22. Р. 102, 103; LHF, 17, 27. Р. 270, 286. Ср.: Greg., II, 32, 37; IV, 10. Р. 78-79, 88; 141.
15 Gesta Dagoberti I, 1, 2 // MGH. SRM. T. 2. P. 401.
,B Ammianus Marcellinus. Romische Gcscliichte XXVIII, 5/Hrsg. von W. Seyfarth. 2. Aufl. B., 1978. 4. Toil. S. 132.
17 Fred., II, 4, 8; III, 2. P. 45-47; 93; LIIF, 1-2. P. 241-243.
18 Isidori episcopi Hispalensis Historia Gothornm, 1, 66 // Monuments Germaniae histories. Auctores Antiquissimi. (Далее: MGH. ЛЛ). Hsnnoverse, 1894. T. 11. P. 268, 293—294. (Дзлее: Isidor)-, Isidori... Etyinologiarum... IX, 2, 27, 89.
19 Cp.; Claude D. Op. cit. S. 16; Ruslernig A. Einleiliing//Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts. Darmstadt, 1982. S. 5.
20 Cp.: Zienlara B. Ln conscience nstionsle en Europe occidenlale su Moyen Age//Acta Polonise Historica, 1982. T. 46. P. 8.
21 Isidor, 2. P. 268; Pauli Historia Langobardorum, I, 17, 20; V, 6//MGH. Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI—XI. Hannoverae, 1878. P. 56, 59, 146— 147. (Далее: Paul.).
22 Fred., II, 6. P. 46; Origo gentis Langobardorum, 1 //MGH. Scriplores rerum Langobardicarum... P. 2.
23 Greg., II, 9. P. 54; Fred., Ill, 4. P. 94. 24 Isidor, 2. P. 268. Cp.: 15, 67. P. 273, 294.
25 Fred., II, 40, 53. P. 65, 74. 26 Origo gentis..., 5. P. 4; Paul. II, 5. P 75
27 Widukindi monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri III, I, 4 6. Be-rolini, 1935. 28 Edictum Rothari (prol.).
29 Cp.: Hauck K. Von einer spatantiken Randkultur zum karolingischen Europa//FmSt. 1967. Bd. 1. S. 20-22.
30 Hibemici exulis carmina, II, 85 // MGH. Poetae latini aevi Carolini. Berolini. 1881. T. 1. P. 398. 31 Fred., IV, prol. P. 123.
32 Fred., Ill, 22. P. 102, 103; LHF, 17, 27. P. 270, 286. Cp.: Greg., II, 32. 37; IV, 10. P. 78-79, 88; 141.
33 Greg., II. 35; IV, 4. P. 84; 137; Fred., II, 56; III, 32, 83; IV, 33. P. 77; 104, 116; 134; Paul., Ill, 6. P. 95.
34 Epistolae Wisigothicae, 13//MGH. Epislolae. Berolini, 1892. T. 3 P. 681.
36 Fred., IV, 45. P. 143; LHF, 10 В. P. 253; Epistolae Wisigothicae, 12. P. 678; Paul., II, 32. P. 90.
36 Concilium Toletanum IV, 75//Concilios visigoticos у hispano-romanos. Barcelona, 1963. P. 218.
37 Fred., Ill, 5, 9; LHF. 4, 35, 41 etc. P. 94, 244, 304, 311 etc.
38 Paul.. II, 31; III. 16 35. P. 91; 100-101, 114.
39 Greg., II. 31. P. 76-77.
40 Fred., Ill, 21. P. 101; LHF, 15. P. 263 264.
41 Fred., Ill, 51. P. 107. 42 Ibid. IV, 40, 53. P. 140, 147.
43 Lex Salica, prologue II, 1—211 MGH. Leges. Hannoverae. 1962. Sectio I. T. 4 Ps 1, P. 2-3.
44 Подробнее см.: Корсунский A. P. Готская Испания. M., 1969. С. 281-283.
45 Concilium Toletanum IV, 75. Р. 221.
46 Greg., VI, 45. Р. 317—318; Fred., II, 58. Р. 83; Epistolae Wisigothicae, 13 Р. 681.
47 Fred., II, 58. Р. 82; LHF, 13. Р. 259; Paul., Ill, 34. P. 112.
48 Fred., IV, 71. P. 156.
49 Примеры см.; Claude D. Op. cit. S. 27. Anm. 188.
59 Lex Salica, prologue I, 1 // MGH. Leges Hannoverae. 1969. Sectio I. T. 4. Ps 2-P. 2. 51 Concilium Toletanum III. P. 110.
52 Lex Salica. Prologus I, 1. P. 2. 53 Ibid. Prologue II, 1. P. 2.
54 Ср.: Ронин В. К. Франки и другие народы в каролингской литературе // Западноевропейская средневековая словесность. М., 1985. С. 49.
55 Greg., Ill, 30. Р. 126; Fred.. Ill, 42; IV, 82. Р. 105; 163.
56 lordanis Getica, XLVIII, 248//MGH. AA. Hannoverae. 1882. T. 5. Ps 1. P. 122.
57 Примеры см.: Wenskus R. Op. cit. S. 68.
58 LHF, 4. P. 344. 59 Greg., VII, 8. P. 331. 60 Fred., Ill, 12. P. 97.
76
Картина мира в обыденном сознании
61 Einliardi Vita Karoli, 1 // Quellen zut karolingischen Rcichsgeschichte. B., o. J. Bd. 1. S 166.
62 Pnnl T 90 97 P 4Q RQ
63 lordanis Getica, XXIX. 146. P. 96; Isidor, 12. P. 272.
64 Greg., II, 9. P. 52-56. 65 Fred.. Ill, 5, 9. P. 94.
66 lordanis Getica, VI, 47-48; XI, 73; XII, 74 etc. P. 66-67; 75; 87 etc.
67 Paul., I, 3, 7. P. 49, 52. 68 Wenskus R. Op. cit. S. 486, 410-411.
69 Greg., II, 9. P. 57.
70 Подробнее см.: Hauck К. Lebensnormen und Kullmythen in germanischen Stammes-und Herrschergenealogien // Sacculum, 1955. Vol. 6. P. 195—214.
71 Fred., Ill, 9. P. 95. Cp.: Hauck K. Op. cit. P. 195—204; Moisl H. Anglo-Saxon royal genealogies and Germanic oral tradition//Journal of Medieval History. 1981. Vol. 7. P. 224-226.
72 Cp.: Moisl H. Kingship and orally transmitted «Stanimestradition» among the Lombards and Franks//Die Bayern und ihre Nachbarn. Wien, 1985. Bd. I. C. 112, 115—119.
73 Paul., IV, 22. P. 124. 74 Ibid., 1, 23. P. 61. 75 Ibid., 17. P. 56.
76 Greg., II, 42. P. 92; LHF, 18, P. 272. 77 Greg., II, 12. P. 61; Fred., Ill, И. P. 95.
78 Paul., IV, 48. P. 136.
79 Juan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida у su obra, anno 573. Madrid, 1960. P. 82.
80 Greg., VI, 2. P. 266.
81 Ibid., IX, 20 P. 436; Fred., IV, 72, 74, 75. P. 157-159. 82 Isidor, 1. P. 268.
83 Примеры см.: Claude D. Op. cit. S. 23. Anm. 159-160; S. 27. Anm. 188; S. 31. Anm. 214—215. Cp.: Teillet S. Des Goths a la nation gothique. P., 1984.
84 Zientara B. Swit... S. 17, 26-27, 32-33, 251-252.
85 LHF, 27, 36, 41. P. 285, 304, 311; Vita S. Balthildis, 5//MGH. SRM. T. 2. P. 487-488; Vita Audoini episcopi Rotomagensis, 13/MGH. SRM, Hannoverae. 1910. T. 5. P. 562. Cp. Ewig E. Volkstum und Volksbewusstsein im Frankenreich des 7. Jahrhunderts // Caratleri... P. 635—644.
86 Chronicarum quae dicuntur Frcdegarii continuationes, 2//MGH. SRM. T. 2. P. 168— 169.
87 Historia Wambae regis auctore luliano episcopo Toletano, 9, 16, 17 // MGH. SRM. T. 5. P. 508, 515, 516.
88 Haenssler F. Byzanz und Byzantiner: Ihr Bild im Spiegel der Uberlieferung der germanischen Reiche im fruheren Mittelalter. Bern, 1960. S. 32—110.
89 Подробнее см.; Ронин В. К. Византия в системе внешнеполитических представлений раннекаролипгских писателей//Византийский временник. 1986. Т. 47. С. 85— 94.
90 Подробнее см.: Корсунский А. Р. Государство и этнические общности в раннефеодальный период в Западной Европе//Средние века. М., 1968. Вып. 31. С. 126—134; Ewig Е. Op. cit. Р. 621-622, 630-632, 646-647; Claude D. Op. cit. S. 1-38; Zientara В. Swit... S. 56-68, 70, 86-92.
81 Ср.: Куббелъ Л. E. Указ. соч. С. 25-26, 67-68,185-186. 92 Ewig E. Op. cit. P. 648.
83 Cp.'.Wenskus R. Op. cit. S. 78—81, 130—131; Claude D. Op. cit. S. 3, 19; Zientara B. Swit... S. 65-66, 87—90.
84 Wagner N Zur Herkunft der Franken aus Pannonien // FmSt, 1977. Bd. 11. S. 218— 228.
85 Grau A. Der Gedanke der Herkunft in der deutschen Geschichtsschreibung des Mitlelalters. Leipzig, 1938. S. 4-6; Heisig K. Zur frankischen Trojanersage//Zeits-chrift fiir romanische Philologie. 1974. 90. Jg. S. 441—448; Zientara B. Swit... S. 91—92.
96 Paul., I, 13; II, 26. P. 54; 87.
97 Sestan E. La composizione etnica della societa in rapporto olio svolgimento della civilta in Italia nel secolo VII//Caratteri... P. 674-677; Zientara B. Swit... S. 242— 247, 251-252.
88 Ср. Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. С. 169-181; Бессмертный Ю. Л. Формирование феодально-зависимого крестьянства на территории Северной Франции (VI—X вв.) //История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. М, 1985, Т. 1. С. 227—228.
99 Vita S. Balthildis, 10. Р. 495.
100 Куббелъ Л. Е. Указ. соч. С. 25, 67, 69, 185-186.
Д. Э. Харитонович
В ЕДИНОБОРСТВЕ С ВАСИЛИСКОМ:
ОПЫТ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ
РЕМЕСЛЕННЫХ РЕЦЕПТОВ
Последние десятилетия явили нам небывалый подъем двух направлений в исторической науке в целом и в медиевистике в частности: изучение ментальностей и исследование народной культуры. Направления эти во многом переплетаются, ибо историки стремятся проникнуть в глубь культуры масс, культуры «молчаливого большинства» через понимание их менталитета. Попытаемся сделать еще один шаг в этом направлении.
Итак, время действия — Высокое Средневековье, X—XIII вв.; место действия — Западная Европа; основной сюжет — некоторые аспекты ментальности средневековых ремесленников. Надо сказать, что при изучении народной культуры ее городским носителям повезло мепое, нежели сельским
Число исследований, посвященных ремесленникам, много мепыпе, чем повествующих о культурном бытии крестьян. 'Гак что пород читателем — попытка слегка заполнить этот пробел.
Исследователь народной культуры постоянно сталкивается с проблемой источников, ибо он стремится высветить те или иные черты социальной психологии народа, который, как известно, «безмолвствует». В этом отношении автор настоящей статьи находится в ситуации почти уникальной, так как существуют тексты, вышедшие непосредственно из ремесленной среды: ремесленные сборники технических и технологических рецептов. Прежде чем предложить их вниманию читателя, постараюсь обосновать принципиальную возможность использования этих источников.
Представим себе: кузнец кует металл. Это чисто физическое действие. Однако, как говорит М. М. Бахтин, «физическое действие человека должно быть понято как поступок, но нельзя понять поступок вне его возможного (воссоздаваемого нами) знакового выражения (мотивы, цели, стимулы, степени осознанности и т. п.)» *. «Человеческий поступок есть потенциальный текст и может быть понят... только в контексте своего времени (как реплика, как смысловая позиция, как система мотивов) » 2. Следовательно, если мы хотим попять эти мотивы, то имеет смысл обратиться к технической, технологической стороне деятельности ремесленника, ибо опа представляется наиболее очищенной от внешних влияний — религиозных, этических и т. п. И если в приемах работы мастера мы найдем не только техническое, но и культурное своеобразие — это значит, что мы сумели выявить какие-то весьма существенные и глубинные стороны культуры средневековых ремесленников.
78
Картина мира в обыденном сознании
Возможность, допустимость, даже, может быть, необходимость этого выявления через исследование технических приемов ремесла находит свое обоснование в цельности средневековой культуры, всей средневековой жизни. Говоря «цельность», я не имею в виду однородности, социальной или культурной. Цельность заключается в том, что средневековую культуру вряд ли вообще можно членить так, как мы привыкли это делать с культурой современной3. Речь идет здесь не только о трудности выделения из единого тела культуры таких интеллектуальных сфер, как теология, этика или экономическая мысль, но и о единстве производственного, этического и эстетического начал в ремесленной деятельности 4.
По словам К. Маркса, в средневековых цехах труд «еще не дошел до безразличного отношения к своему содержанию» s. Если зачастую вообще трудно вычленить трудовую деятельность человека из его жизни, то для средних веков это просто невозможно. Действительно, античный раб полностью отчужден от своей деятельности, вплоть до того, что его собственное тело ему не принадлежит. Пролетарий нового времени отчужден от продуктов своего труда. Он, по меткому замечанию К. Маркса, «чувствует себя свободно действующим только при выполнении животных функций — при еде, питье, половом акте и т. д.» 6 Для средневекового же ремесленника все было свободной деятельностью — и еда, и труд, и половая жизнь 7. Прекрасные гравюры к вышедшей в 1556 г. в Бадене книге «De re metallica», известной у нас под названием «О горном деле и металлургии», Георгия Агриколы, гуманиста и метал-лознатца, точно иллюстрируют это положение. На гравюрах изображены разнообразные приспособления и процессы, используемые в горном деле и металлургии. И здесь же — горы, дома, церкви, деревья, ручьи, собаки, птицы. Рядом с предметами, описываемыми в трактате и обозначаемыми, как и полагается, буквами, нарисованы люди, работники, которые едят, пьют, целуются 8. Если труд растворен в жизни, то все существенное в жизни имеет значение и для труда — быт, верования и т. п. И наоборот, изучая трудовые приемы, мы можем узнать нечто новое о духовном мире.
Единство и монолитность (в указанном выше смысле) средневековой культуры побуждает меня принять один важный методологический принцип. Назову его принципом системности. Под этим в данном случае (ибо часто слово «система» поминают всуе) понимается следующее: средневековая культура в целом, народная культура, ремесленная субкультура представляют собой системы высокой степени связности. Из этого следует вывод о том, что, во-первых, и средневековая культура вообще, и ее народная составляющая, и ремесленные воззрения объединены каждая в единую систему со своими закономерностями, и изучать ремесло надо как деятельность структурированную, а не просто использующую некий хаотический набор сведений, приемов, рецептов. Во-вторых, надо рассматривать все элементы ремесленной деятельности как составные части этой системы, объяснять каждый элемент из свойств системы в целом, а не рассматривать те или иные факты, не укладывающиеся в объяснительную схему, как случайные. В-третьих, любые «странные»,
Д. Э. Харитонович. В единоборстве с василиском
79
«курьезные» явления надо не отбрасывать, списывая их на неразвитость, отсталость эпохи, а попытаться увидеть в них как раз уникальные черты средневекового мировосприятия. Надо счесть эти «странности» совсем не странными, а вполне естественными с точки зрения людей средневековья, надо с максимальной критичностью отнестись к «само собой разумеющимся» объяснениям, к выводам, подсказанным сегодняшним мышлением, сегодняшним состоянием экономики, права, науки, культуры и т. п.
Итак, основные наши источники — то трактаты и рецептурные сборники, которые написаны самими ремесленниками. Таких трудов дошло до нас чрезвычайно мало и далеко пе изо всех областей ремесленной деятельности. Наиболее полный трактат — это сочи пение Теофила Пресвитера «De diversis artibus» («О различных искусствах») 9, паппсап-ное в конце XI — начале XII в. Предполагается, что автором его был ювелир и металлоделец Рогер из Хельмарсхаузеиа, принявший в монашестве имя Теофила.
Трактат этот посвящен весьма широкому кругу вопросов: изготовлению красок, приготовлению сплавов, обработке драгоценных камней, литью колоколов н т. д.
Еще один сборник сходного содержания — «Маррае Clavicula» («Ключик к живописи») ‘°. Первое упоминание о нем содержится в списке книг монастыря Рейхенау, составленном в 821—822 гг.11 До нас дошли две редакции — первая. X в., и вторая, более пространная, созданная в XII в. и приписываемая известному ученому Аделарду Батскому 12.
Той же теме — краскам, золочению, обработке драгоценных камней и т. п. посвящен трактат «Compositiones ad tigend а...» («Смеси для окрашивания...») 13, созданный в конце VIII — начале IX вв., и труд некоего Ираклия «De coloribus et artibus Romanorum» («О красках и искусствах римлян») “, состоящий из трех книг, причем две первые, стихотворные, написаны в X в., а третья, прозаическая, присоединена к ним в конце XII — начале XIII в.*5
Метод исследования этпх источников будет непрямым. Меля интересуют не сами по себе конкретные технологические приемы мастеров, а тот тип мышления, который обеспечивал существование и функционирование этих приемов. Я буду исследовать неявный культурный смысл, лежащий за явным техническим смыслом рецептов, тот смысл, который как бы проходил мимо рефлексии их составителей.
Указанные сборники имеют одну особенность, которую нельзя пе учитывать. Эти трактаты панпсниы (или записаны) на латыни людьми, видимо, духовными. Насчет Теофила ото очевидно, насчет Ираклия — весьма вероятно. Что же касается анонимного автора «Маррае Clavicula», во всяком случае рапной редакции (ибо Аделард был клириком), то здесь вопрос сложнее. Дело в том, что неизвестный составитель трактата говорит о своем сыне, как о наследнике своего ремесла (prol. 1), что вряд ли было возможным, если бы автор был монахом. С другой стороны, маловероятно знание латыни средн простонародья в X в. Поэтому «Ключик к живописи» скорее всего записан со слов какого-то ремеслеп-
80
Картина мира в обыденном сознании
ника лицом духовным, либо составлен на языке церкви самим мастером, ушедшим в монастырь, либо приведенное упоминание о сыне является просто стандартной фразой, более или менее обязательной для свода ремесленных знаний, признаком жанра. Последние соображения позволяют нам считать написанные по-латыни тексты все же памятниками, дающими достаточно верное представление о народной культуре. Составители рецептурных сборников были либо выходцами из ремесленной среды, либо тесно соприкасались с нею. Даже язык трактатов не являлся помехой.
Латинский текст, по выражению Марка Блока, «калькирует мысленную схему на народном языке» 1В. Последнее доказывается тем, что лингвистический анализ текстов трактатов, проведенный различными исследователями, позволяет определить, что первый вариант «Маррае Clavi-cula» был написан в Германии, второй — в Англии, прозаическое добавление к Ираклию — во Франции, может быть даже в Париже, а Теофил был выходцем из Рейнских областей 17.
Прежде чем перейти к непосредственному изучению текстов, надо сделать две оговорки. Во-первых, я никоим образом не полагаю, что предложенное исследование дает полное описание ремесленной культуры,— нет, я лишь пытаюсь увидеть некоторые черты ее. Во-вторых, вообще, все предлагаемые мною объяснения есть не более чем гипотезы, и если в тексте слишком редко употребляются выражения типа «возможно», «видимо», «мне представляется», «можно предположить», то это сделано лишь для того, чтобы не утомлять читателя, ибо словами этими, на деле, следовало бы предварять каждое высказывание.
А теперь обратимся к рецепту из Теофилова трактата. Вот этот рецепт полностью:
«Об испанском золоте
Бывает также золото, именуемое испанским, каковое составлено пз красной меди, пепла василиска, человеческой крови и уксуса. Язычники, чье умепие в искусстве весьма похвально, выводят василиска так. Есть у них подземная темница, обложенная камнем и сверху, и снизу, и со всех сторон, с двумя столь малыми оконцами, что даже свет сквозь них едва ли проникает. Пускают они туда двух петухов двенадцати или пятнадцати лет и дают им еды обильной. Как разжиреют они, то от пыла, вызванного своею тучностью, спариваются и откладывают яйца. Когда яйца отложены, убивают петухов и сажают жаб высиживать те яйца и кормят их хлебом. Когда яйца насижены, вылупляются петушки,, во всем подобные цыплятам, рожденным от курицы, но через семь дней вырастают у них змеиные хвосты. Немедля опи роют в земле нору, ежели нет в темнице каменного пола. Остерегаясь сего, хозяева их держат у себя бронзовые сосуды большие, а в тех сосудах проделано множество отверстий. Кладут они цыплят в сосуды, закрывают те сосуды медными крышками и закапывают в землю. Цыплята там едят лишь тонкую землю, что попадает в сосуды. А засим хозяева снимают крышки с сосудов и разводят под ними большой огонь, покуда звери не сгорят дотла. Проделав сие и охладив сосуд, достают из него пепел и размалывают его
Д. Э. Харитонович. В единоборстве с василиском
81
Кузнецы. Деталь рельефа с изображением ремесел. XIII в. Портал собора Св. Марка в Венеции.
82
Картина мира в обыденном сознании
со всем тщанием, добавив к нему третью часть крови рыжего человека, высушенной и измельченной. Когда соединятся те части, смешивают их с уксусом в чистом горшке. Потом берут тонкую пластинку из чистой меди и покрывают той смесью обе ее стороны и кладут пластинки в огонь. Пластинки те, докрасна раскаленные, вытаскивают из огня и закаливают в означенной смеси и обмывают их. Проделывают сие, покуда смесь не проест медь насквозь, вследствие чего обретает она вес и цвет золота. Золото сие пригодно для любой работы» (III, 48).
Этот отрывок пз трактата давно вызывал интерес исследователей и явное недоумение многих из них. Высказывались предположения, что это какая-то ошибка, случайность, что глава эта «имеет характер слухов, достаточный для того, чтобы отделить ее от других глав» 18. Однако в трактате есть еще по меньшей мере два отрывка с явным магическим привкусом. В одном из них, разбирая весьма подробно и четко способы обработки драгоценных камней, Теофил рекомендует вырезать на них изображения, сделав эти камни мягкими, для чего необходимо рассечь грудную клетку козла и опустить их в горячую кровь, льющуюся из сердца (III, 95).
В другом отрывке Теофил ведет речь о закалке маленьких напильников Он советует проводить ее в моче козла, которого три дня вообще не кормили, а потом два дня давали в пищу один щитовпик. Мочу козла можно заменить мочой рыжего мальчика, причем о его питании ничего не сказано (III, 21).
Таковы отрывки из «De diversis artibus». Если обратиться к другим ремесленным трактатам, то обнаружится сходная картина. В «Маррае Clavicula» имеется весьма значительное, большее чем в труде Теофила, число рецептов, сильно отдающих колдовством. Самым ярким из них, пожалуй, является рецепт «Придание стеклу твердости металла» *9. Стекло размягчают, а потом закаливают в пепле, обрызганном кровью дракона вкупе с кровью петуха и мочой человека. Если же нет под рукой драконовой крови, «приготовь ее из белка яиц и сока омелы» (69). Понятно, что драконова кровь здесь не случайна: ведь смесь яичного белка и сока омелы, вовсе на нее не похожую, все равно зовут кровью.
Для изготовления, размягчения и окраски золота требуются лунный камень20 (1), желчь козла (3, 6), быка (6, 13, 16), теленка (31), свиньи и лисицы (8), ястреба (11, 12), а для приготовления золотых чернил — желчь черепахи (43). Иногда для изготовления золота нужен бычий навоз (42). Экскременты собаки, голубя и петуха необходимы для окраски кожи в зеленый цвет (51). Урипа употребляется чрезвычайно широко — в 36 рецептах из 391. Как правило, требуется не просто моча, а непенящаяся. Однако для получения лазури нужна как раз вспененная (208), а для изготовления желтовато-пурпурной краскп — моча здорового человека, ппвшего хорошее вино, а также кровь свиньи (128). При изготовлении стекла пурпурного цвета снова применяется кровь дракона (159). А чтобы отравить стрелу, «возьми пот, появившийся меж бедер лошади с левой стороны», причем утверждается, что «это должным образом доказано» (265). Столь яркого и странного рецепта, как рецепт по-
Д. Э. Харитонович. В единоборстве с василиском
83
Василиск, Современный рисунок.
лучения испанского золота, действительно, нет ни в одном ремесленном трактате, кроме Теофилова, зато встречаются другие, уже известные — о резке камней.
В «Ключике к живописи» этому вопросу посвящено два отрывка. В одном из них предлагается резать стекло и драгоценные камин, размягчив их в молоке сарацинской козы. Надоить его падо, предварительно обтерев вымя крапивой. Камень (или стекло) п инструмент, которым этот камень будет обрабатываться, должны пролежать вместе ночь в том молоке. Закаливают инструмент в том же молоке или в моче маленькой румяной девочки, причем собрана эта жидкость должна быть до восхода солнца (289). Следуя другому рецепту, надо собрать урину (снова то же вещество!) козла-девствепнмка, которого четыре дня кормили плющом, убить этого козла, смешать его кровь с этой уриной, выдержать камень в этой смеси целую ночь (инструмент здесь не упоминается) и затем резать его (290).
Те же способы резки камней и стекла повторяются в книге Ираклпя. В первом томе этот способ упомянут без подробностей2‘, но в третьем имеются указания, буквально повторяющие приведенные выше, если не считать того, что моча маленькой девочки заменена водой после ее умывания, собранной на тех же условиях22. Способ резки камней в крови козла описывает и автор написанной около 1250 г. энциклопедии «De proprieta-tibus rerum» («О свойствах вещей») Варфоломей Английский23.
Вышеприведенных примеров достаточно, чтобы понять, что столь широкое распространение магических приемов в средневековом ремесле ис
84
Картина мира в обыденном сознании
ключает представление о случайности подобных рецептов. Видимо, поэтому целый ряд авторов не настаивают на нечаянном попадании в трактат Теофила рецепта об испанском золоте, утверждая, что данный рецепт либо алхимический, либо ремесленный, но искаженный или тайный. Так, Л. Торндайк фиксирует внимание читателя на алхимичности рецепта, хотя и отрицает связи Теофила с алхимией24. По мнению М. Стиллмена, подобный способ стал известен Теофилу от испано-арабских алхимиков (испанское золото!), притом все же случайно25. Р. Хендрие считает, что здесь на языке алхимии изложен процесс очистки золотой руды. Жаба, высиживающая яйца,— это, по его мнению, минеральные соли, возможно нитрат калия, кровь рыжего человека — нитрат аммония, тонкая земля — поваренная соль, петух — сульфат меди или железа, яйца — золотоносная руда и т. д.26 Дж. Г. Хоторн и С. С. Смит, не настаивая на сделанном ими ранее утверждении о случайности данного рецепта, высказывают предположение, что он представляет собой «искаженное сообщение, которое первоначально было написано на символическом и странном языке алхимии. С другой стороны, это мог быть просто искаженный рецепт цементационного процесса получения поверхностного слоя чистого золота на золотосодержащей бронзе путем поверхностного окисления основного металла и удаления его путем травления. В результате многократного повторения этой операции в конце концов образовывался слой чистого золота» 27.
Толкование Р. Хендрие, на мой взгляд, произвольно. Он просто подставляет на место персонажей рецепта определенные химические вещества, забывая, что сообщение в первой части рецепта — о выведении ва> силисков — известно с античных времен и бытовало на протяжении всего средневековья вне всякой связи с изготовлением золота. Кстати, подстановка тех или иных веществ у Р. Хендрие не подтверждается источниками. Видимо, исследователь полагал, что в алхимии что угодно может означать что угодно. Да и вообще, такая подстановка вряд ли возможна. В толковании Р. Хендрие все эти жабы и петухи ничем не отличаются от современной химической символики. Подобное положение, как показал В. Л. Рабинович, характерно, да и то не в полной мере, лишь для поздней алхимии, но никак не для средних веков 2S.
Более убедительным представляется второе толкование Дж. Г. Хоторна и С. С. Смита, тем более, что подобные операции получения поверхностного слоя золота на бронзе практиковались еще александрийскими алхимиками, хотя этот способ, по-видимому, не получил широкого распространения2Э. Кроме того, ссылки на алхимию могут, во-первых, прояснить смысл лишь златодельческих рецептов, но никак не приемов закалки напильников, окраски кожи или резки стекла. Во-вторых, даже если предположить заимствования из «великого искусства», то остается неясным, как эти заимствования вписывались в ремесленную практику.
Многочисленные указания на практическую сторону рецептов также заслуживают внимания. Применение мочи и крови при закалке имеет вполне рациональный смысл. И попыне при этой операции используются растворы аммонийных или кровяных солей: в результате изделие получа-
Д. Э. Харитонович. В единоборстве с василиском
85
стся твердым, но не хрупким. Однако остается неясным, почему «только козел или рыжий мальчик могут производить необходимую жидкость?» 30 И сегодня в производстве красителей применяются амиды, а ведь мочевина — это диамид угольной кислоты. По почему моча должна или, наоборот, не должна пениться? И наконец, полностью принимая предложенное толкование рецепта о получении испанского золота, осмелюсь спросить: а какова все же роль василиска в изготовлении золота?
Если рассматривать наши тексты как символическое либо зашифрованное описание реальных процессов, то трудно попять, почему одпи операции зашифрованы, а другие предельно ясны? Да и смысл рецептов резки стекла и драгоценных камней пе проясняется после ссылок па шифровку.
Иные авторы вообще отрицают наличие магпп в ремесленных рецептах. Неоднократно цитированные Дж. Г. Хоторн и С. С. Смит утверждают, что в «Ключике к живописи» «нет магических намеков или желания спрятать истинное значение символов». По их мнению, то, что мы принимаем за магию, «не было связано с оккультными науками, а просто является результатом естественной тенденции... собрать и сохранить в памяти необходимые приемы за счет излишней сложности. Это магия от незнания, а не обращение к тайному могуществу... Магические намеки и теоретическая структура, позднее навязанные алхимиками... полностью отсутствовали в умах людей, сочинявших большинство этих рецептов» **. Однако это разъяснение только запутывает дело. Не говоря уже о слишком, пожалуй, сильном заявлении, что алхимики навязывали кому бы то ни было свои взгляды, следовало бы различать магию и оккультные науки. Первобытная эпоха пропитана магией, но никому еще пе приходило в голову искать у кроманьонцев оккультизм. Науки эти явились продуктом распада магии, попыткой ее рационализации. И далее, почему для лучшего запоминания нужна большая сложность? Почему в одних случаях она нужна, а в других нет? А что означает выражение «магия от незнания»? Может быть, авторы имели в виду, что сочинители трактатов, не зная истинных свойств материалов и сущности процессов, подставляли па место неизвестного какие-то фантастические объяснения? Но откуда они их черпали? И наконец, как вообще могла быть эта самая «магия от незнания», еслц пе было «магических намеков»? Выходит, это и не магия вовсе? Тогда что же это такое?
Пожалуй, хватит вопросов. И так видно, что смысл наших рецептов не проясняется, если предполагать в них нечто рациональное, разумеется, с позиций людей XX в. Потому попытаемся вообще отвлечься от предметной стороны наших рецептов, в первую очередь Теофилова рецепта, и будем рассматривать его как некий самодовлеющий текст, вне связи с рукотворными операциями. Тогда перед нами возникнет некая легенда о петухах и жабах, о крови рыжего человека, о гибели василисков в пламени, об обретении золота. Примем же это не как метафору, а всерьез и попробуем отыскать пашой легенде параллели в иных, уже повествовательных, средневековых источниках:
86
Картина мира в обыденном сознании
«...С драконом-
кладохранителем
он сходился
бесстрашный в сражении, под утесами темными...
благородный меч
поразил змеечудшце, пригвоздил к скале,
и дракон издох;
тут по праву сокровищем завладел герой, воздаяньем за труд
было золото...
а драконова плоть
сгибла в пламени» 32.
Не правда ли, в сюжет этого отрывка из «Беовульфа», повествующего о змееборстве Сигмунда, укладывается значительная часть Теофилова рецепта?
В рассказе о змееборстве противник героя — дракон, но и василиск может рассматриваться как змей-дракон. «Василиск — король змей, и они прячутся и убегают от него, ибо он убивает и*х запахом и зубами, а также дыханием своим и взглядом... И хотя, покуда он жив, от яда его нет противоядия, все же он теряет свою зловредность, будучи сожжен дотла. Пепел его почитается хорошим в деле алхимии, а именно в превращении и изменении металлов»,— пишет Варфоломей Английский 33. Итак, василиск — это змей, и притом не простой, а король змей. Убийственное дыхание — явная параллель к огненному дыханию дракона34. Убийство взглядом тоже встречается в сказаниях. Древнескандинавский бог Тор во время борьбы с Мировым Змеем (так называемая «рыбная ловля Тора») обменивается с ним смертоносными взглядами35. Сходные с рецептом моменты можно пайти пе только в «Беовульфе». Во многих памятниках германского эпоса змееборство связывается не с Спг-мундом, а с его знаменитым сыном Сигурдом-Зигфридом. Он убивает змея Фафнира в яме (!) 36 и завладевает золотым кладом Нибелунгов-Нифлунгов. Фафпир обладает «шлемом-страшилом», которого боится все живое ”.
Сказанного, пожалуй, достаточно, чтобы поставить вопрос: не является ли исследуемый рецепт мифом, т. е. определенной системой представлений, а не просто набором колдовских операций? Под этим углом зрения я и буду рассматривать изучаемый рецепт.
Необходимо одно предварительное замечание. Наш рецепт не есть миф в общераспространенном смысле этого слова, т. е. повествование о богах и героях. Термин «миф» здесь употреблен в значении системы архаического мировосприятия, которая распространялась и на собственно миф, и на ритуал, и на сказку, и на эпос, и даже на государственные и социальные институты38. Мне представляется, что эта система распро
Д. Э. Харитонович. В единоборстве с василиском
87
странялась и на ремесленную практику, во всяком случае в средние века, ибо мифомышление, в большей или меньшей степени, характерно для этой эпохи, особенно для народного сознания. Исходя из всеобщности мифологической схемы, позволительно привлекать в качестве сравнительного материала примеры из эпоса, сказки, обрядности, а не только из собственно мифов, тем более что для исследуемого ареала они в чистом виде не сохранились.
И здесь возникает немаловажная проблема. Ведь все приведенные примеры, как и те, которые будут приводиться ниже, принадлежат другому этническому и, главное, социокультурному кругу, нежели тот, в который входили паши средневековые мастера, хотя бы источники и были хронологически одновременны исследуемым рецептам (рукопись «Бео-вульфа» относится к X в., рукопись обеих «Эдд» — к XIII в.). Перед нами памятники, отражающие сознание варварского общества, может быть, еще более или менее живого для тогдашней Исландии, но уже вряд ли для Англии и тем более для остального европейского мира. Так что если я использую германо-скандинавскую (и в меньшей мере кельтскую) мифологию, то лишь потому", что она была этнически и хронологически все же ближе нашим мастерам, нежели любая иная. При этом я нисколько пе утверждаю, что эти мифы явно и осознанно присутствовали в мышлении, в картине мира основных объектов этого исследования. Нет, я лишь хочу7 высказать предположение, что для них, для их деятельности была актуальна определенная мифологическая схема осмысления этой деятельности, схема, которую я пытаюсь реконструировать39.
После этого отступления вернемся к нашим василискам. Мотив сожжения дракона как необходимая ступень для обретения золота упомянут выше. Отмечены были и связи дракона с камнем и подземельем. Можно привести и другие предположительные параллели между рецептом и мифами: змей живет в пещере 40. Даже ушоминаемое в рецепте окно, через которое едва проникает свет, попало сюда, скорее всего, не случайно. Мотив окна связывается в мифах с мотивом смертоносного взгляда (василиск!) и вообще со змееборческим сюжетом41.
Теперь еще один необходимый ингредиент смеси из Теофилова рецепта — кровь рыжего человека. Известно, что человеческая кровь, как, впрочем, и кровь животных, употреблялась в Германии в ритуальных целях 4Z. Рыжий человек пе встречается в исследуемых мифах43, но попробуем отыскать ему заместителя, памятуя о том, что персонажи мифов легко заменяют друг друга, хотя и пе абсолютно произвольно. В рецепте о закалке напильников моча рыжего мальчика и моча козла оказываются взаимозаменяемыми. Следовательно, можно сделать вывод и о взаимозаменяемости производителей этой жидкости. В индоевропейской же мифологии явно усматривается связь козла со змеем44. Так что кровь рыжего человека, видпмо, может означать кровь козла и кровь дракона. Последняя обладает сильными магическими свойствами. Испив крови дракона, понимаешь язык птиц43, искупавшись в ней, обретаешь неуязвимость46. В «Беовульфе» упоминается железный меч, растворившийся в крови матери Гренделя 47. Персонаж этот, правда, более похож на ведьму, но
88
Картина мира в обыденном сознании
обитание ее на дне моря подчеркивает ее хтоническую природу, а значит она может типологически соответствовать змею.
Перейдем теперь к персонажу, прямо в рецептах не обозначенному, но, тем не менее, центральному — к змееборцу. В рецепте убийцей змея-василиска оказывается сам мастер, в мифе — герой (Сигурд, Беовульф) или даже бог. В скандинавской мифологии главный змееборец Тор-победитель 48, бог-громовик. Но в тех же сказаниях со змееборцем соседствует кузнец. Регин подговаривает Сигурда биться с Фафниром, чтобы самому завладеть кладом Нифлунгов, и кует ему для этой цели меч Грам ‘°. Волшебные кузнецы-карлики Эйтри и Брок изготовляют для Тора главное его орудие борьбы с чудовищами — молот Мьёлнир. Более того, кузнец в мифах может быть не только помощником змееборца, но и самим змееборцемso. Эти представления присутствуют даже в житийной литературе Si. Получается, что кузнец-металлоделец рецепта и герой-змееборец мифа могут оказаться одним лицом.
Отметим, однако, одну странность в образе мифологического кузнеца. Регин, который, с одной стороны, оказывает всяческую помощь Сигурду, с другой — сам пытается убить егоS2,— родной брат Фафнира53. Имя кузнеца-карлика Эйтри означает «ядовитый». Как ни парадоксально, но можно предположить, что змееборец каким-то внутренним образом связан со змеем или даже сливается с ним. На примере Регина это видно особенно ясно. Оказывая помощь Сигурду в борьбе с Фафниром, он сближается по своим функциям с Сигурдом, собираясь убить последнего — с Фафниром. Получается, что змей гибнет как бы от самого себя. Анализ фольклорных материалов, проведенный В. Я. Проппом, подтверждает это предположение S4. Также и К. Г. Юнг подчеркивает связь и даже отождествление змееборца со змеем5S. При всей спорности его объяснений и некоторых примеров56 отдельные наблюдения весьма интересны. Особо заслуживающей внимания представляется отмеченная Юпгом идентификация Медного Змия (Числ. 21, 6—9) с Христом (Ио. 3, 14). Это совмещение имело силу на протяжении всего средневековья: Юнг приводит изображение нюрнбергского талера XV в. с распятым Змием S7. Если же перейти непосредственно к нашей тематике, то имеет смысл привести мнение современной исследовательницы: «Для Беовульфа же он (дракон.— Д. X.) — судьба... Дракон непобедим, и Беовульф с самого начала знает это. Чудовище можно убить, но вместе с ним, с судьбой Беовульфа, умрет и сам Беовульф» 58.
Значит, наш рецепт-миф можно толковать не только как чисто змееборческий сюжет, но и в другом плане. Змей сам себя приносит в жертву, чтобы обрести золото. Заключение в темницу, закапывание в землю оказывается спуском в преисподнюю, т. е. смертью. Василиск умирает, чтобы возродиться в золотом виде. На сближение василиска со змееборцем намекает и то, что от взгляда василиска гибнут змеи. Другие персонажи рецепта, более или менее хтонического происхождения, тоже имеют оборотную змееборческую сторону. Мясо петуха — родителя василиска — полезно от укусов змей s°. Пепел от рогов козла их отпугивает, кровь его, а значит и кровь рыжего человека, излечивает от яда 60. Carpandu-
Д. Э. Харитонович. В единоборстве с василиском
89
In камень, находимый в голове жабы, наседки, и следовательно, до некоторой степени, матери василиска, также служит средством от змеиного ядам. Итак, перед нами два варианта мифа. В одном из них убивают василиска и обретают золото. В другом — василиск сам себя умерщвляет и своей смертью приносит драгоценный металл. А если предположить, что змееборец и змей — одно и то же, то жертвенное самоубийство совершает сам мастер.
Можно предложить еще одну интерпретацию этого рецепта. Змей-ва-илиск — хтоническое существо, т. е., по законам мифа, сама Земля, Земля как рождающее начало, как первоматерия. Медь соприкасается с землей, поглощается ею, обращается в золото. Но прежде чем это превращение произойдет, медь эта становится ничем, прахом земным, умирает. Потом опа оживляется кровью и воскресает в золотом виде.
Все же перед пами варианты одного мифа. При толковании рецепта совершенно не обязательно делать выбор между версиями. Ведь автор рецепта (насколько можно вообще говорить об индивидуальном авторе) пе сочинял его, читая или слушая какое-то конкретное повествование. Он жил в мифе. «Настоящий, живой миф,— по словам С. С. Аверинцева,— это никоим образом не собрание рассказов: его не рассказывают, в нем живут, воспроизводя его в действии, т. е. в обряде, в ритмической магии танца и пения и вообще во всяком общезначимом человеческом акте» 62. Я полагаю, что в рецепте воспроизводится и фиксируется архетип змееборческого мпфа со всеми возможностями разворачивания его сюжета в конкретной деятельности.
Но обратимся снова к персонажам этого рецепта. Василиск родится в результате противоестественного, гомосексуального соития. В то же время во многих мифах прослеживается связь змееборства с другим видом противоестественной связи — с инцестом. В «Саге о Волсунгах» у Сигмунда и его сестры Сигню родится сын Синфьотли 68. В этой саге, правда, героем-змееборцем оказывается не Синфьотли и не сам Сигмунд, как в «Беовульфе», а другой его сын (не от Сигню) — Сигурд. Но в «Песни о Нибелунгах» родителями Сигурда-Зигфрида оказываются немецкие аналоги Сигмунда и Сигню — Зигмупд и Зиглинда. В этой поэме они уже не брат и сестра, но аллитерация имен явно указывает на их родство 64.
В той же германо-скандинавской мифологии есть и прямые указания на гомосексуальную связь и рождение. Нри этом на свет появляются не герои-змееборцы, а хтонические чудовища (впрочем, между ними много общего). Бог Локи —отец многих подобных существ, в том числе Мирового Змея Ёрмунганда65. Но о том же Локи известно, что он сам рожал детей 66, так что возможно, что он не только отец, но и мать Змея. Есть намеки, правда, довольно глухие, что не только связанный с преисподней Локи, но и сам хозяин Валгаллы, отец богов и людей, владыка мудрости Один тоже рожал потомство 67.
Впрочем, мудрость может быть связана именно с противоестественным соитием. Во всяком случае именно с этим действием, правда, инце-стуальным, связывалось в античном мире представление об экстраорди-
90
Картина мира в обыденном сознании
парной божественной мудрости68. Эта последняя и инцест совпадают не только для мага и колдуна, но и,— что особенно важно для нашей тематики,— для ремесленника. Как пишет в связи с темой противоестественной связи—сверхъестественного знания С. С. Аверинцев, «для архаического сознания всякое ремесло есть колдовство, и мастер — скромный, но легитимный собрат мага: оба „знают слово", оба проникли в особые секреты, неведомые профанам, оба умеют обходиться с демоническими силами» ®9. К этому тонкому наблюдению хочется сделать только одно замечание. Мне кажется, что ремесленник был не таким уж «скромным собратом» волшебника. По мнению того же автора, в архаических культурах «рукомесло, работа с вещами есть, очевидно, дело космической важности» 70.
В эпоху варварства кузнец-змееборец мог выступать в роли божественного мастера, культурного героя, дающего блага людям ”. Змее-борчество оборачивается космотворчеством, ибо хтоническпе существа являют собой силы хаоса и борьба с ними есть борьба за правильное устройство мира72. Так, упоминавшийся выше поединок Тора с Мировым Змеем оказывается добыванием земли из Океана. Даже инструменты кузнеца — это символы мировых стихий. Жар самого Солнца поддерживается кузнечными мехами73. После сказанного совсем не удивительно, что отделив день от ночи, дав миру время, скандинавские боги начинают заниматься кузнечным делом74, что строя Асгард — жилище богов, они возвели сначала святилище богов, потом святилище богинь, а затем кузницу 75. И как богини ничем не ниже богов 76, так и кузница ничем не ниже святилища. Ибо дело кузнецов сродни делу богов — уничтожать чудовищ, организовывать мир.
Просматривается связь ремесла с иными, тоже богодохновеннымп, сферами деятельности — музыкой, пением, стихами. Связь кузнеца со словом видна от архаики до средних веков77. У древних кельтов бог Луг — кузнец, плотник, колдун, друид, но также поэт и музыкант78. В средневековой Германии существовали поэты-кузнецы, чьим делом было «verse schmieden» — «ковать стихи» 79. Мотив рукотворного ремесленного изготовления слова не чужд и Данте — «fabbro del parlar ma-terno» — «ковач родного слова» 80. Ремесленная терминология постоянно применяется трубадурами по отношению к своим стихам — «ткать», «ковать», «подтачивать», «очищать от ржавчины», «золотить», «строить» и т. и.81, но и за сто лет до первого трубадура скальд Эгиль Скалла-гримссон говорит то же самое82.
Кузнец являлся парадигмой мастера вообще. В германских языках «smid», «smidr», «smijj» — это «кузнец», но и «мастер», «ремесленник». В тех же языках слова, значащие «мастерство», «умение» (др.-англ. «craeft», др.-верх. нем. «Kraft», др.-сканд. «kraptr», др.-фриз. <kreft», ср. век.-нид. «craft», «cracht»), имеют еще смыслы «сила», «мощь»83. И это понятно, если вспомнить, что кузнецами были боги, герои — такие, как знаменитый Виланд-Вёлунд, вообще сверхъестественные существа, великаны и карлики 84. У кельтов кузнецы почитались самыми могущественными колдунами, равными друидам85; у древних скандинавов и англо-
Д. Э. Харитонович. В единоборстве с василиском
91
саксов приравнивались к скальдам и жрецам; у валлийцев имели право сидеть рядом со жрецами в присутствии короля8в. За Кузнецов полагалась более высокая, чем за обычного человека, пеня, и известен случай возведения кузнеца в графы, правда, в варварском (в данном случае вандальском) королевстве87. По Баварской Правде, кузница пользовалась особым покровительством наряду с мельницей, церковью и герцогским замком. До конца средневековья и даже позднее кузнец был не только первым парнем и главным мастером на селе, но и знахарем, знакомым со всякими травами и вообще тайнами природы 88.
Но вернемся к исследуемому рецепту. Я предположил, что его можно уподобить ритуалу, воспроизводящему соответствующий змееборческий миф со всеми возможными вариантами. Теперь надо попытаться распространить выявленную схему истолкования рецепта об испанском золоте и на другие рецепты. Столь стройного и закопченного сюжета я нигде более не нашел, но, как кажется, многие из рецептов, упомянутых выше, являются частями того же мифа. Стекло в рецепте из «Ключика к живописи» становится небьющимся, побывав в крови дракона, так же как Зигфрид — неуязвимым. Кровь дракона может быть заменена составом, в который входит сок омелы. Омела же играет важную в германской и кельтской мифологии роль — так, дротиком из этого растения был убит светлый бог Бальдр, а в друидическом культе омела связана с магией плодородия и с воинскими обрядами89.
Что же касается рецептов резки стекла и драгоценных камней, то следует отметить, что последние связаны в мифах со змеями 90, так же как и козлы, в крови или моче которых вымачивается камень.
Особенно важными веществами оказываются моча и экскременты различных существ. Но именно эти вещества, особенно первое, связаны с аграрной магией Эта связь, несомненно, имеет рациональное основание — удобрение почвы. Меня, однако, интересует осмысление этого факта в рамках мифомышления. Вещества же эти понимались как посредники между живым человеческим телом и водой или землей, т. е. между миром живых и миром мертвых, являясь, таким образом, символами «смерти-воскресеипя», по выражению М. М. Бахтинаэг. Здесь уместно вспомнить смерть-воскресение василиска и обращение меди в золото. Для того, чтобы одно вещество стало другим, ему необходимо перестать быть самим собой, умереть и обратиться в прах — землю или экскременты. Отсюда потребность в последних во многих рецептах. В ритуале (правда, древневосточном) новогоднего сожжения змея пепел его использовался для увеличения плодородия почвы93, так что мотив змее-борчества может быть связан и с аграрной магией. Во всяком случае, обряд человеческого жертвоприношения у кельтов, находившийся в прямой связи с магией плодородия, заканчивался сожжением жертвы94. Другое дело, что ремесло давно оторвалось от земледелия, и магическая сила, улучшающая землю, могла трансформироваться в силу, улучшающую материал.
Моча козла прямо упоминается в скандинавской мифологии. Там опа оказывается хтоническпм веществом, напитком подземных существ95.
92
Картина мира в обыденном сознании
Молоко сарацинской козы в «Маррае Glavicula» могло ассоциироваться с чудесным медом, который в Валгалле дает коза Хейдрун96. Камень перед обработкой должен пролежать ночь с инструментом, которым он будет обрабатываться: это намекает на мифологически-брачные отношения между ними. Инструмент этот закаливается в моче козла-девственника или маленькой девочки: девственность также связана со змееборством — достаточно вспомнить общераспространенный мотив отдачи девушки дракону. В Германии в XI в. именно маленькая девочка совершала обряд вызывания дождя. В конце ритуала девочку обливали водой97, так что можно предположить, что замена урины на умывание в рецепте Ираклия представляет собой не просто эвфемизм. Следует помнить также, что обливание иногда может являться инверсией сожжения 98.
Представляется, что указанные наблюдения можно использовать и при анализе других рецептов. Правда, там зачастую требуются кровь, желчь и т. п. не только козла, но и быка, свиньи и других животных. Но в змееборческих мифах змей может быть связан со скотом вообще ". Черепаха являлась аналогом змеи, ястреб — ее антагонистом. Даже появление собаки (экскременты которой входят в состав зеленой краски для кожи) не столь уж неожиданно, если вспомнить о чудовищном псе Гарме, охраняющем вход в Хель *°°.
Я не хочу сказать, что каждому ингредиенту рецептов соответствовал фиксированный мифологический прототип. Не каждый конкретный персонаж мифа совпадал с таковым в рецептах, но их совокупность. Поэтому анализ тех или иных операций с точки зрения мифа может бросить неожиданный свет на рецепты, в которых магия явным образом отсутствует. Так, Теофил советует нагревать напильники под закалку, завернув их в козью шкуру (III, 19). Сгорание органического вещества повышает содержание углерода в поверхностном слое металла и, следовательно, увеличивает его твердость. Но употребление именно козьей шкуры, как становится ясно, позволяет взглянуть на рецепт и с другой стороны.
Вообще, признание того, что ремесленные знания оформлялись по принципам, лежащим вне повседневного, явного смысла ремесла — по принципам мифа,— совершенно не противоречит наличию явно выраженной рационально-практической основы многих рецептов. Более того, эта основа абсолютно необходима для функционирования всей системы в целом. Ведь для мифологической картины мира совершенно не обязательна проверка на соответствие действительности каждого из ее элементов, подобно тому, как это необходимо для современной науки. От этой картины мира требуются лишь связность и внутренняя целостность. Еслп подтверждается один элемент — вся система истинна.
Только один пример. В средние века широкой известностью пользовались мечи из дамасской стали. Отличительной особенностью их клинков было то, что на них образовывался своеобразный рисунок: черточки, напоминающие руны, волнистые линии и т. п. Мечи специально протравливались слабыми кислотами или фруктовыми соками, чтобы выявить макроструктуру металла 101. На скандинавских мечах часто делались различные надписи, знаки, целью которых было улучшение свойств меча маги
Д. 9. Харитонович. В единоборстве с василиском
93
ческим способом 102. На лучшей же, дамасской стали эти знаки появлялись сами, притом в наиболее сильной форме — волшебных руп. А значит, надпись действительно влияет на свойства вещи и заклинания улучшают объекты.
Поэтому из того, что закалка напильников в моче рыжего мальчика действительно улучшает их свойства, следует, что можно изготовлять золото из пепла василисков. Разумеется, для нас странно, что столь опытный мастер, каким был Теофил, вполне серьезно передает сведения, им не проверенные. Ведь если бы он провел опыт, то убедился бы, что вывести василиска невозможно. Однако, как отмечает А. Я. Гуревич, «когда мы ныне говорим о действительности какого-то события, то, по-видимому, имеем в виду нечто иное, нежели реальное явление с точки зрения человека раннего средневековья. Ибо для того, чтобы дать оценку своему индивидуальному опыту, практическому или духовному, этому человеку было необходимо соотнести его с традицией, т. е. осознать и пережить собственный опыт в категориях коллективного сознания, овеществленных в религиозном или социальном ритуале, в образцах поведения или литературном этикете. Подлинностью случившееся обладало постольку, поскольку могло быть подведено под соответствующую модель, идентифицировано с чем-то, выходящим за рамки индивидуального, неповторимого, растворено в типическом. Познание сущности явлений в этой системе сознания, очевидно, состояло прежде всего в узнавании в них определенных архетипов» 103.
Так что если Теофил не мог достать петуха двенадцати или пятнадцати лет, если он был не в состоянии размягчить камень в крови козла, то из этого никоим образом не следовала для него ошибочность рецептов. Рецепт восходит к мифу, т. е. явлению максимально коллективному, максимально типическому, а значит, абсолютно истинному. Посему, когда указания не удавалось выполнить,— виноват мастер и никто более.
Подведем итоги. Анализом рецептов я пытался обосновать гипотезу о том, что в основе ремесленного мировосприятия лежал миф, более того, пе миф вообще, а конкретный змееборческий миф. Он возник не в средние века, а был унаследован от времен более, гораздо более ранних, но своим пафосом космоустройства, своей оценкой мастера-кузнеца как демиурга был близок средневековому ремесленпику. Близок настолько, что не просто повышал его социальный статус, что само по себе немаловажно, но использовался в качестве теоретической или, вернее, квазитеоре-тической основы конкретного технологического производства.
Здесь необходимо одно замечание. Слово «теория» может быть понято в современном смысле. То есть можно представить себе дело так. что ремесленник знал мифы как некую сумму текстов и прилагал сведения оттуда в своей деятельности, размышляя над пими, осмысливая их. Это, конечно, не так. Во-первых, миф был не знанием, а жизнью, его не изучали, в нем жили, в нем (или им) мыслили. Во-вторых, подробное изучение мною персонажей мифа и тщательное установление их связей с ингредиентами и персонажами рецептов может породить представление о том, что подобные же интеллектуальные операции проводил и средневе-
94
Картина мира в обыденном сознании
новый мастер. Это тоже не так. Ремесленник мог вообще не знать этих мифов, да, скорее всего, и не знал их. Ведь, как уже говорилось, наши мастера жили не только в Скандинавии, где мифы в исследуемую эпоху еще помнили, но и во всей Западной Европе, где их к тому времени забыли. Но, уйдя из памяти, эти мифы продолжали жить в культуре, хотя бы и на уровне неосознанного. Их уже никто не помнил, но им следовали. Это были не тексты, а система мышления. Не конкретный миф, скажем, о Нибелунгах, давал материал для осмысления ремесленной практики, но мифомышление организовывало мировосприятие.
И, наконец, последнее. Предложенная гипотеза не претендует на исчерпывающее описание ментальности средневековых ремесленников. Здесь сделан акцент на архаических корнях сознания средневековых мастеров. А ведь ремесленник жил в христианском мире и его христианские взгляды пе могли не вступать в весьма сложные отношения с вышеупомянутыми архаическими корнями. Но это тема для отдельного разговора. Пока же автору хотелось бы надеяться, что его предположения смогут пролить новый свег на культурные принципы средпевекового ремесла.
* Бахтин М. М. Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках: Опыт философского анализа//Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 292.
2 Там же. С. 286.
3 См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд. М., 1984. С. 25. 4 Там же. С. 222.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, С. 536. ® Там же. С. 561.
7 Строго говоря, все эти сферы жизни подвергались в средние века весьма суровой регламентации. Я считаю деятельность ремесленника свободной потому, что все эти запреты пе были для него чем-то внешним, а ощущались как некие обеты — христианина или члена цеха.
6 Агрикола Г. О горном деле и металлургии/Пер. и примеч. В. А. Гальминаса и А. И. Дробпнского; Вступ. ст. С. В. Шухардина М., 1962. С. 509, 333.
9 Я использовал издание: Theophilus Presbyter. De diversis artibus: Theophil Presbyter. The various arts // Transl. with intr. and notes by Ch. R. Dodwell. Edinburg; L., 1961. В дальнейшем ссылки на труд Теофила будут даваться в тексте, причем римскими цифрами обозначается помер книги трактата, арабскими — рецепта. Существуют и иные издания и переводы этого труда на английский и немецкий языки: Theophilus qui et Rugerus, presbyteri et monachi libri Ш De diversis artibus, seu diversarum artium schedule: An essay upon various arts in three books by Theophilus, called also Rugerus, priest and monk, forming an enciclopedia of Christian arts of eleventh century/Transl. with an intr. and notes by R. Hendrie. L., 1847; Theophilus Presbyter. On Divers Arts/Transl. from Latin with intr. and notes by J. G. Hawthorne and C. S. Smith. Chicago; L., 1963; Theophilus Presbyter. Schedule diversarum artium. Bd. 1/Hrsg. Von Albert Ilg // Quellenschriften fur Kun-stgeschichte und Kunsttechnik der Mittelalter und der Renaissance. Wien, 1874. Bd. 7. Имеется также сокращенный русский перевод: Манускрипт Теофила «Записка о разных искусствах»/Пер. А. А. Морозова; Ред. и примеч. А. В. Винера// Сообщения Всесоюз. Центр, научно-исслед. лаборатории по консервации и реставрации музейных и худож. ценностей (ВЦНИЛКР). Вып. 7, М., 1963. Выполненный Н. И. Мелик-Гайказовой под редакцией и с предисловием А. А. Губера перевод отрывков из трактата см.: Мастера искусств об искусстве. М., 1965. Т. 1. С. 227—244 Полемика об авторе труда и времени написания представлена в предисловиях и комментариях к указанным изданиям, а также: Thorndike L. A histo
Д. Э. Харитонович. В единоборстве с василиском
95
ry of magic and experimental science. L., 1923. Vol. 1. P. 769—771. Следует отметить, что довольно часто сочинению Теофила Пресвитера давалось иное название — «Schedule diversarum artium» («Краткое изложение разных искусств»)
10 Маррае Clavicula: A little key to the world of medieval painting/Transl. with intr. and notes by J. G. Hawthorne and C. S. Smith. Philadelphia, 1974. Это издание представляет собой факсимильное воспроизведение рукописей обеих редакций и сводный перевод. Ссылки будут даваться в дальнейшем в тексте указанием на номер рецепта по этому изданию.
11 Ibid. Р. 20.
12 См.: Sarton G. Introduction to the history of science. Baltimore, 1927. Vol. 1. P. 534. Впрочем, M. Бертло показал, что лишь незначительная часть рецептов поздней редакции может принадлежать Аделарду. См.: Berthelot М. Adelard de Bath et la Маррае Clavicula (Clef de penture) // Journal des savants. 1906. Febr. P. 61—66.
13 Compositiones ad tigenda musiva, pellas et alia deandrandum ferrum ad mineralia ad Chrysographiam, ad glutina quaedam conficienda, aliaque artium documenta, ante annos nongentes scripta // Muratory L. A. Antiquitates italicae medii aevi. Milano, 1739. Col. 364—387. Этот сборник не будет рассматриваться, так как все его рецепты входят в «Маррае Clavicula» (См.: Маррае Clavicula. Р. 21).
14 Heraclius von der Farben und Kiinsten der Romer/Hrsg. von Albert Ilg // Quellens-chrifften fur Kunstgeschichte und Kunsttechnik der Mittelalter und der Renaissance. Wien, 1873. Bd. 4 Ссылки даются с указанием книги и рецепта.
15 Sarton G. Op. cit. Р. 673.
16 Блок М. Феодальное общество. Т. 1, ч. 1, кн. II: Условия жизни и духовная атмо-сфера/Пер. Е. М. Лысенко // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 132.
17 См. вступительные статьи к указанным выше трактатам.
18 Theophilus Presbyter. Op. cit. 1963. P. 119.
19 Этот рецепт из поздней редакции в оригинале не имеет названия, которое дано переводчиками. В ранней редакции в оглавлении указан раздел «Quod vitrum non fragitur facere» («Как сделать стекло небьющимся»), но в тексте его нет.
20 По мнению переводчиков и комментаторов данного издания Дж. Г. Хоторна п С. С. Смита, лунный камень — это сланцевый селенит (Маррае Clavicula. Р. 28).
Но «селенит» и значит «лунный». И если ныне, во всяком случае для минералога, связь названия камня с луной отсутствует, то иначе воспринимал это человек средневековья. То же можно сказать и о других терминах. Д. В. Томсон упреки ет переводчиков трактата Теофила Ч. Р. Додуэлла, а также Хоторн,i п Смита и том, что они переводят «lapis sanguinarium» как «bloodstone», «кровавый камень», ибо считает это претенциозным. По его мнению, ото просто гематит (см : Thomp son D. V. Theophilus Presbyter: World and iiieaning in technical translation//Sp< culum. 1967. Vol. 42, N 2, Apr. P. 318). По гоматиг и есть кровавый камень. Ал.no зии на кровь здесь совершенно очевидны.
21 Heraclius. Op. cit. I, 6.
22 Ibid. HI, 9-10.
23 Bartholomeus de proprietatibus rerum/In edibus T. Bertheleti. L., 1537. XVIII, 60. 24 Thorndike L. Op. cit. P. 771-772.
25 Stillman M. The story of alchemy and early chemistry. N. Y., 1960. P. 229.
26 Theophilus Presbyter. Op. cit. 1847. P. 422—423.
27 Ibid. 1963. P. 119.
28 Рабинович В. Л. Символизм в западной алхимии и традиции Ибн-Рушда: Доклад на XIII Международном конгрессе по истории науки. М., 1971. С. 19.
29 См.: Taylor F. Sh. The alchemists founders of modern chemistry. N. Y., 1949. P. 37. 30 Theophilus Presbyter. Op. cit. 1963. P. 95.
31 Маррае Clavicula. P. 18.
32 Беовульф: Старшая Эдда: Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 71. (Далее. Эдда). Выражение, переведенное «под утесами, темными», буквально звучит «под серым камнем». Ср.: Змееборство Сигмунда Ц Сага о Волсунгах/Пер. Б. И. Ярхо. М.; Л., 1934. С. 254.
33 Bartholomeus. Op. cit. XVIII, 7.
96
Картина мира в обыденном сознании
34 Ср. огнедышащего дракона, противника самого Беовульфа. Борьба с ним ведется тоже из-за золотого клада (Эдда. С. 138)
35 Младшая Эдда/Пер. О. А. Смирницкой. Л., 1970 (большой формат) С. 47—48.
36 Эдда. С. 279- Младшая Эдда. С. 75; Сага о Волсунгах. С. 151—152.
37 Эдда. С. 277, 280; Младшая Эдда. С. 153; Сага о Волсунгах. С. 74. В указанном месте «Саги о Восунгах» имеется еще одна характерная параллель. Фафнир говорит Сигурду. «Я брызгал ядом во все живое».
33 См,; Гринцер И. А. Древнеиндийский эпос. М., 1974. С. 289.
39 Ср. проведенный Ю. Л. Бессмертным анализ антропонимики каролингского времени, из которого явствует, что система этических воззрений, характерная для варварского общества, оказывается вполне значимой для давно христианизированных крестьян, притом, скорее всего, галло-римского происхождения. См.: Бессмертный Ю. Л. Об изучении массовых социально-культурных представлений каролингского времени // Культура и искусство западноевропейского средневековья.
Материалы науч. конф. (1980). М., 1981. С. 53—77; особенно с. 54—61.
40 Эдда. С. 143
41 Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974. С. 125-130.
42 Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. С. 156.
43 Мифология средиземноморского культурного ареала знает, однако, этот образ, который связывается с солнцем, золотом (!) и смертью. См.: Фрейденберг О. М. Въезд в Иерусалим на осле (из евангельской мифологии) // Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 499.
44 Иванов В. В , Топоров В. Н Указ. соч. С. 32—34.
45 Эдда. С. 276; Младшая Эдда С. 75.
46 Эдда. С. 370
47 Эдда. С. 105. В пашем рецепте смесь пепла василиска, крови рыжего человека и уксуса тоже оказывается растворителем.
48 См., напр.: Эдда. С. 226; Младшая Эдда. С. 52.
49 Эдда. С. 277. Младшая Эдда. С. 74; Сага о Волсунгах. С. 143—144.
50 Младшая Эдда. С. 71—72. См. также: Иванов В. В, Топоров В. Я. Указ. соч. С. 158-164.
51 Так, св. Дунстан (924-988), аббат Гластонбери и архиепископ Кентерберийский, кузнец и ювелир (и патрон последних в Англии) (см.: Aitchison L. A history of metals. L.. 1960. Vol. 1. P. 241-242), сражается с чертом в кузнице с помощью кузнечных инструментов (Shubert Н. R. History of the British iron and steel industry from 450 В. C. to A. D. 1775. L., 1956. P. 64).
52 Эдда. C. 282—283; Младшая Эдда. С. 74—75; Сага о Волсунгах. С. 153—158. Возможны различные толкования этой двойственности в образе Регина. В частности, можно предположить, что Регин должен мстить за смерть своего отца, но не может этого сделать, ибо Хреймдар пал от руки Фафнира. Посему месть осуществляется руками Сигурда. Но после того, как Фафнир убит, в силу вступает закон кровной мести, и Регин обязан покарать убийцу брата. (Автор пользуется случаем поблагодарить В. А. Закса, предложившего данную интерпретацию.) Но одно толкование не противоречит другому — просто один и тот же сюжет может рассматриваться одновременно и с правовой, и с мифологической точек зрения.
33 Эдда. С. 276; Младшая Эдда. С. 73—74; Сага о Волсунгах. С. 140—142.
54 Пропп В Я Исторические корни волшебной сказки. Л, 1946. С. 256 259.
55 Jung С. G. Symbols of transformations//Jung C. G, The collected works. L., 1956. Vol. 5. P. 367, 382.
56 Так, по его мнению, на отождествление героя со змеем указывает прозвище Сигурда (причем не Фафниробойцы. а его потомка, о чем Юнг не говорит) — «Огшг i Auga» («змеиные глаза») (Ibid. Р. 382). Однако последнее выражение есть устойчивый эпитет типа «орлиный взор», не имеющий отношения именно к Сигурду. Автор приносит глубокую благодарность А. Я. Гуревичу за это сообщение.
57 Ibid. Fig IX.
58 Смирницкая О. А. [Примечания к «Беовульфу»] //Эдда. С. 657. Как показал А. Я. Гуревич, в германо-скандинавском мире судьба понималась отнюдь не как
Д. Э. Харитонович. В единоборстве с василиском
07
нечто внешнее по отношению к человеку, но как внутренне присущее и даже активно созидаемое. См.: Гуревич А. Я. Эдда и сага. М., 1979. С. 41).
59 Bartholomeus. Op. cit. XVIH, 24
®° Ibid. 35. 61 Ibid. XVI, 35.
®2 Аверинцев С. С. Античность//Идеи эстетического воспитания- Антология. М., 1973. Т. 1. С. 117. 63 Сага о Волсунгах. С. 111—182.
®4 Не случайно, что столь чуткий к мифу художник, как Р. Вагнер, сконтаминиро-вал оба сюжета, и у него Зигфрид родится от брата и сестры.
®5 Младшая Эдда. С. 31.
®е Эдда. С. 230-345. Ср. превращение Локи в кобылу (Младшая Эдда. С. 39) и в женщину (Там же. С. 48, 50). Старуху, породившую волка Фенрира (Эдда. С. 187), тоже связывают с Локи.
®7 Эдда. С. 230. Правда, последние примеры (см. выше), особенно в части относящейся к Одину, следует учитывать с осторожностью. Перед нами обмен оскорблениями, которые не обязательно должны отражать истину. Но упреки не отвергаются теми, в чей адрес они направлены. Поэтому я счел себя вправе привести эти примеры в качестве аргументов, разумеется, с соответствующими оговорками.
68 Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе//Античность и современность: К 80-летию Ф. А. Петровского. М., 1972. С. 95—96.
®э Там же. С. 96.
70 Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной абсиды Софии Киевской // Древнерусское искусство: Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 30.
71 Иванов В. В., Топоров В. Н. Указ. соч. С. 173.
72 Мелетинский Е. М. Мифы древнего мира в сравнительном освещении // Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. М.. 1971. С. 73, сл.
73 Эдда. С. 213; Младшая Эдда. С. 19. 74 Эдда. С. 183—184.
75 Младшая Эдда С. 30. 76 Там же. С. 26.
77 Иванов В В., Топоров В. Н. Указ. соч. С. 161—162.
78 Васильевский В Вопрос о кельтах//Журн. М ва нар. проев. 1882. № 9. С. 172.
79 Шрадер О. Сравнительное языкознание и первобытная история. СПб., 1907. С. 243.
80 Данте Алигьери. Божественная комедия/Пер. М. Л. Лозинского. М., 1968. С. 273.
81 Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975. С. 67—68; 149—152 примеч.
82 Поэзия скальдов. Л., 1979. С. 25.
83 Аджиашвилли Ш. Д. Древнеанглийская ремесленная терминология: Канд, дис... М., 1974. С. 11. 92; Шрадер О. Указ. соч. С. 233.
84 Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. 7-е изд. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 72; Шрадер О. Указ. соч. С. 239.
85 Шрадер О. Указ. соч. С. 242.
86 Forbes В. J Metallurgy in Antiqity. Leiden, 1950. P. 68-69; cp.: Le Goff J. Pour un autre Mouen Age: Temps, travail et culture en Occident. P., 1977. P. 113.
®7 Шрадер О. Указ. соч. С. 246. 88 Кулишер И. М. Указ. соч. С 72
89 Младшая Эдда; Георгиевский А. И. Галлы в эпоху войн Юлия Цезаря. М., 1865. С. 118—119. 90 Пропп В. Я. Указ. соч. С. 212.
91 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 159—181; Jobes G. Dictionary of mithology, folklore and symbols. Pt 1. N. Y., 1961. P. 1629.
92 См.: Бахтин M. M. Творчество Франсуа Рабле... С. 190, 362; см. также: С. 162.
93 См.: Иванов В. В., Топоров В. И. Указ. соч. С. 37—38.
94 Васильевский В. Указ. соч. С. 178. 95 Эдда С. 218.
96 Младшая Эдда. С. 37.
97 Гуревич А. Я Проблемы средневековой народной культуры. С. 139.
98 Иванов В. В., Топоров В. Н. Указ. соч. С. 151.
99 Там же. С. 38-48. 109 Эдда. С. 187.
101 Антейн А. К Дамасская сталь в странах бассейна Балтийского моря. Рига, 1973. С. 13—20; Aitchison L. Op. cit. Р. 254—257.
102 Кирпичников А. И. Надписи и знаки на клипках восточноевропейских мечей IX— XIII вв.//Скандинавский сборник. Таллинн, 1966. Вып. 11.
103 Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. С. 207.
4 Одиссей
Демографическое поведение
*
Ю. Л. Бессмертный
К ИЗУЧЕНИЮ МАТРИМОНИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ ХП-ХШ ВВ.
Давно ушли в прошлое те времена, когда думали, что в любом вышедшем из стадии варварства обществе люди осмысливали создание супружеской пары единообразно, а возникавшие супружеские ячейки воспринимали как «семьи» в знакомом нам смысле этого понятия. В применении к западноевропейскому средневековью своеобразие восприятия брака и семьи ныне общепризнано, по крайней мере для периода, предшествующего массовой христианизации. Несколько иначе принято в историографии смотреть на последующий этап. Хотя и по отношению к нему признается почти перманентный процесс эволюции супружеской ячейки, самая модель супружества считается обычно отвечающей идеалам моногамного христианского брака. Переломным считается в этом плане XII век, когда церковь включила брак в число основных христианских таинств и когда после многовековой борьбы между светскими и церковными представлениями об идеальном супружестве сложился некий компромиссный вариант, принятый и светской знатью, и простолюдинами ’.
Проверяя эту концепцию по французским источникам, на базе которых она и была в первую очередь сформулирована, рассмотрим прежде-всего воззрения на супружеский союз, характерные для людей разных классов; вслед за этим попробуем проследить, как эти воззрения реализовались в повседневном поведении и какие последствия могло это иметь для реальных демографических процессов. В центре нашего внимания будут памятники рубежа XII—XIII вв. и XIII в., т. е. того самого периода, в течение которого перелом, происшедший в предыдущем XII столетии,— если бы он имел место — должен был быть особенно ощутимым.
Первое, что настораживает при ознакомлении с этими памятниками,— живое обсуждение разных видов супружеского союза, которое, казалось бы, давно должно было потерять свою актуальность. Вот что пишет, например, в конце XIII в. известный знаток права Филипп де Бомаиуар: «Много споров возникает между детьми одного и того же отца, который имел несколько жен (qni a eues pluseurs fames). При этом обсуждается,, кого именно надо считать законным наследником, а кого пет, так как он рожден в плохом браке (en mauves manage) и является бастардом» 2. Такими бесспорно «плохими» Бомануар считает сожительства замужней женщины и женатого мужчины. Их дети — «неоспоримые бастарды»
Ю. Л. Бессмертный. К изучению матримониального поведения во Франции 99
(fors bastarts), не имеющие никаких формальных прав на наследование 3. «Плохие браки», признает Бомануар, вызывают осуждение не только церкви, но и в «общественном мнении» (commune renomee)4. Они имеют место, например, в тех случаях, когда благородная замужняя женщина «телесно близка» со многими мужчинами («что становится известным, когда видят, как о пи разговаривают и встречаются»). Рожденные этой женщиной дети считаются законными, поскольку не исключено, что они рождены от законного супруга. Но из-за таких греховных связей может случиться, что брат когда-либо женится на сестре, не зная об этом; так произошло, например, после смерти некоего барона, который имел детей от своей жены и одновременно от другой замужней женщины 4а. Столь же «плохим» называет Бомануар случай, когда дворянин имеет в своем доме, кроме жены, еще и другую женщину «на виду и на слуху соседей» (a la veue et a la sene des voisins) 5; при такой ситуации жена может требовать отделения от мужа.
В отличие от таких явно нетерпимых ситуаций Бомануар констатирует наличие и иных, гораздо менее однозначных. Это касается прежде всего тех супружеских отношений вне церковного брака, которые в дальнейшем — после смерти первоначальных брачных партнеров — получают церковное освящение. «Некий мужчина имел ребенка от замужней женщины, с которой он был в отношениях soignantage. После смерти мужа этой женщины он сделал ее при своей жизни законной супругой. Если их ребенок родился во время их законного брака или же был зачат (или родился), когда женщина уже стала вдовой, он считается законнорожденным. В отличие от этого ребенок, зачатый или родившийся, пока эта женщина была супругой другого, не является законным» 6. Под понятием «суапьнантаж» 7 Бомануар в приведенном пассаже подразумевает -супружеский союз холостого мужчины с замужней женщиной. Дети от такого супружества, даже если они родились до его оформления в церкви, могут, как мы видели, считаться законными. Соответственно и самое •супружество такого типа оказывается в числе признанных и дозволенных не только с точки зрения «общественного мнения», по и светского права.
Дополнительное подтверждение этому находим в другом установлении, приводимом Бомануаром. «Если некий дворянин имел от некоей женщины, с которой он жил в суаньнантаже (en soignantage), сына, а потом женился на другой, от которой тоже имел сына, впоследствии же, после смерти супруги, он сочетался законным браком с первой, от которой имел в суаньнантаже сына ... то старшим его наследником по правам на наследство будет его младший сын, рожденный в первом законном браке»; если же в первом супружеском союзе родился не мальчик, но девочка, то старшим наследником по правам на наследство будет сын, рожденный в суаньнантаже8. Статус суаньнантаже вырисовывается из этих установлений более ясно. Это отнюдь не отвергаемое обществом (и правом) случайное сожительство с низкородной женщиной. Такая женщина не могла бы стать законной женой дворянина; (это был бы недопустимый мезальянс); дети от такого сожительства ни при каких обстоятельствах не могли бы претендовать на права законных наследников.
4*
100
Демографическое поведение
Уличив жену в прелюбодеянии, муж добивается помещения ее в монастырь, а сам освобождается от супружеских уз.
Мпниатюра из рукописи Декрета Грациана. XII в.
Библиотека Дижона
В отличие от этого суаньнантаж — супружеский союз равных. Он не имеет церковного оформления и не идет в сравнение с церковным браком ни по правам, которые приобретают супруги и их дети, ни по своему престижу. Тем не менее в светском праве и — шире — в светской модели мира — суаньнантаж не отвергается. Он существует как бы на грани принятого и допустимого. В реальной жизненной практике он явным образом конкурирует с церковным браком s. Массовое матримониальное поведение в рыцарской среде еще и в конце XIII в. не сообразуется, как видим, с идеей решительного перелома в XII в. в пользу церковного брака.
К объяснению самого этого факта мы вернемся ниже. Пока что же познакомимся с тем, как относилась к сосуществованию разных форм супружеских отношений официальная церковь. Особенно конкретные суждения по этому вопросу содержатся в руководствах для исповедников — пенитенциалиях. Вот что говорится, например, в пенитенциалии Алена
Ю. Л. Бессмертный. К изучению матримониального поведения во Франции 101
Процедура бракосочетания в отсутствие священника. Миниатюра из рукописи XIVb. Библиотека Дижона
Лилльского (начало XIII в.). При расследовании не освященных церковным браком случаев сожительства мужчин и женщин следует «принять во внимание, являлась ли женщина супругой кого-либо или нет ... Если женщина — незамужняя или если тот, кто ее познает,— холост, то это меньший грех. Если женат — больший грех. Если же женатый познает замужнюю, то это тяжелейший грех. Если же холостяк познает незамужнюю, учесть, лишил ли он ее девственности. Если же он познал недев-ственницу, учесть сколько раз он ее познал, ибо это увеличивает грех»...10.
Сходство, а кое в чем и совпадение оценок впецерковного супружеского союза у светского знатока права и ортодоксального теолога очевидно. Оба резко осуждают сожительство женатого мужчины и замужней женщины и противопоставляют ему союз, в котором хотя бы один из партнеров холост, т. е. отношения, именуемые в светском праве терми
102
Демографическое поведение
ном «суаньнантаж». Разумеется, в суждениях светского судьи и теолога есть принципиальные различия. Если первый допускает возможность существования разных типов супружества и разных по статусу жен, то второй знает только церковный брак; все, что впе его,— прелюбодеяние, блуд, незаконная связь “. Однако это различие не ставит под сомнение реальность обоих вариантов супружеского союза.
Оба они встречаются во всех возрастных классах, хотя и в разной мере. Внецерковный брак явным образом более актуален для более юных, не вступивших пока в «законное» супружество. Помимо уже приводившихся свидетельств в пользу этого отметим характерное отношение к внецерковному сожительству со стороны молодежи. Не только юноши, но и девушки не считали его «пятном» на репутации. «Ныне можно найти много матерей,— говорил в своей проповеди „К женатым11 Жак де Витри (начало XIII в.),—которые учат своих дочерей сладострастным песням, распеваемым хором... Когда же такая мать видит, что ее дочь сидит между двумя молодыми парнями, один из которых положил ей руку на грудь, а другой пожимает ей ладонь или обнимает за талию, она ликует, говоря, смотрите, каким вниманием пользуется моя дочь, как любят ее молодые люди, как восхищаются они ее красотой ... Когда же месяцев через шесть у дочери вырастает живот ... такая мать говорит: „Счастливы бесплодные, которые не беременеют'1...» 12
Нравоучительный «пример», рассказанный Жаком де Витри,— не банальная риторика. Ситуации, в которых юноши и девушки вступают до церковного брака в половые союзы, обнаруживаются в очень многих «диалогах», хрониках, фаблио, соти, лэ, фарсах и т. п.13 Их фиксируют и документы юридической практики. Так, неоформленные церковью добрачные связи рыцарей, как и родившиеся от таких союзов бастарды, упоминаются в ряде французских картуляриев XI—XIII вв.14
Еще обширнее свидетельства о внецерковных супружеских союзах, создававшихся клириками. Не будучи, как правило, церковно оформленными, эти союзы нередко отличались и прочностью, и длительностью. Тот же Жак де Витри упоминает священника, который, будучи поставлен епископом перед выбором, сохранить либо приход, либо сожительницу, предпочел покинуть приход 15. В известной истории Абеляра и Элоизы благочестивая и ученейшая Элоиза, уже имевшая от Абеляра сына, настойчиво отказывалась от оформления существовавшего союза церковным браком. «Хотя наименование супруги (uxor),— писала она Абеляру,— представляется более священным и достойным (sanctius ас vali-dius), мне всегда было приятнее называться твоей подругой (arnica), или, если ты не оскорбишься,— твоей сожительницей (concubina) или любовницей (scorta)» 16. Сопротивляться церковному браку Элоизу заставляли и справедливые опасения, что оп отразится на карьере Абеляра, магистра богословской школы. В конечном счете Абеляр и Элоиза сочетались, как известно, церковным браком тайно.
О внебрачных союзах клириков говорится и в других нравоучительных произведениях XI—XIII вв.17 Обширнейший материал по этому вопросу содержится в пенитенциалиях: в них упоминается о «блуде» свя-
Ю. Л. Бессмертный. К изучению матримониального поведения во Франции 103
щенппков или епископов со своими прихожанками, а также с монахинями, отмечается недопустимость исповедовать женщин, «познанных» исповедником, констатируются попытки клириков всех рангов «вытравить» плод у своих сожительниц 18. Обычность существования в реальной практике конкубин и незаконнорожденных детей у клириков видна также по частно-правовым актам 1S.
Внецерковные половые союзы обнаруживаются и в среде простолюдинов. По словам Алена Лилльского, грех сладострастия (как, очевидно, и вытекающие из него «внебрачные» связи) более простителен богатому и знатному, чем простолюдину и бедняку. Ведь богатые и знатные, куда чаще, чем бедняки, измученные за день тяжким трудом и обессиленные им, впадают в искушение. Поэтому, полагает Ален, поддавшийся похоти бедняк должен наказываться строже, чем богач (подобно тому, как живущий в достатке должен строже караться за кражу, чем неимущий) 20. Это косвенное свидетельство внебрачных отношений среди простолюдинов находит прямые подтверждения и в нарративном, и в актовом материале. Так, мы узнаем о беременных крестьянках, не имеющих «законных» супругов и о «назначении» им таковых сеньором. В грамотах упоминаются крестьянские дети, рожденные от «законных» (legitinn) или же от тайных (furtivi) брачных союзов 21. Еще выразительнее собственно крестьянские свидетельства. Как известно, жители пиренейской деревни Монтайю, обвиненные в конце XIII в. в катарской ереси, на протяжении многих лет давали показания местному епископу. Их матримониальное поведение само по себе не грозило им обвинением в ереси: катары как известно вовсе отрицали брак, и потому факт супружества снимал с крестьян подозрения в ереси. Естественно, что откровенные рассказы жителей Монтайю о выборе брачной партии, о деталях жизни в браке, как и о случаях внебрачного сожительства меньше всего можно заподозрить в искажениях с целью снять с себя обвинение в ереси. Тем поучительнее упоминания во многих показаниях о более или менее длительных неофициальных супружеских союзах крестьян и крестьянок. Особенно характерны опи для пастухов, составлявших представительную группу среди населения этой деревни, запятой отгонным животноводством. Не владея постоянным домохозяйством, эти пастухи почти все имели сожительниц, сопровождавших их на горные пастбища. Среди крестьянских девушек также не все выходили замуж. Некоторые из них, особенно n:i более бедных семей, поступали в услужение в богатые дома, где они довольно быстро становились конкубинами главы семьи или других взрослых мужчин. Что касается местного катарского кюре, то, несмотря на претензию принадлежать к числу так называемых «совершенных» катаров (parfaits), он завел фактически целый гарем наложниц. Самое, однако, интересное в этих неофициальных браках в Монтайю в том, что бывшие конкубины, как правило, вступали позднее в «законный» брак, причем не было случая, чтобы такому официальному замужеству препятствовал конкубинский статус женщины или же прижитые в конкубинате дети. Естественно, что в Монтайю было довольно много бастардов, воспитывавшихся совместно с другими детьми 22.
104
Демографическое поведение
Как видим, во Франции конца XII—XIII вв. наряду с церковными браками бытовали — особенно в среде неженатых — и иные виды супружеских союзов. Их статус и их терминологическое обозначение не были тождественными. В среде рыцарства и знати эти союзы (суаньнантажи), допускаемые светским правом, могли охватывать чуть ли пе всю жизнь — от молодости (во время которой они чаще всего возникали) до зрелости или старости (когда, скажем, после смерти «законной жены» к ним вновь возвращались). Для клириков такие союзы (копкубинаты) получали правовое признание лишь изредка (преимущественно по отношению к младшим членам клира и лишь до XIII в.) 23. Тем не менее они, как мы видели, бывали достаточно длительны и прочны. Что касается простолюдинов, то в их среде подобные союзы подвергались, вероятно, наименьшей социально-правовой регламентации. В любом, однако, варианте внецерковпые браки отражали относительность и ограниченность, того «перелома» XII в. в массовом матримониальном поведении, который можно было бы ожидать.
Как объяснить живучесть внецерковных супружеских союзов во Франции этого времени? Отметим вначале уже упомипавшееся ужесточение в XI—XIII вв. церковных запретов на вступление в брак клирикам. Неприятие многими из них целибата и неизбежность использования ими внецерковного супружеского союза не могла не привлекать внимания к этой форме и мирян “. Другой стимул для таких браков также создавала церковь.
Все время усложнявшийся ритуал церковного бракосочетания требовал не только значительных средств и урегулирования ряда материальных проблем (в первую очередь связанных с приданым невесты и так называемой «вдовьей долей» (douaire), обеспечиваемой женихом). Он был громоздок сам по себе, требовал длительного времени (промежуток между оглашением и бракосочетанием постепенно удлинялся), предполагал ломку стереотипов поведения и для жениха, и для невесты.
Еще важнее, что церковные установления резко ограничивали круг брачующихся. В X—XII вв. браки разрешались с родственниками не ближе восьмого колена по каноническому счету. В результате из числа возможных супругов исключались все вплоть до шестиюродных кузенов (consobrinae abnepotes et patruelini et amitini abnepotes). По подсчетам Ж. Фландрена, это означало запрет на вступление в брак минимум с 10 687 мужчинами и женщинами “. В условиях ограниченной мобильности населения фактически все, с кем человек общался, входили в число подобных родственников. Соблюсти такой запрет было практически немыслимо. Не случайно на IV Латеранском соборе 1215 г. ограничения на браки сужаются до круга родственников четвертого колена (consobrini filii, patruelini, amitini filii — троюродных дядьев, теток, братьев и сестер) — всего 188 человек (или 88 в том же поколении). Параллельно ослабляются санкции за супружескую неверность. «Изменщице» грозит теперь не «отказ» (repudiatio) мужа и позорное возвращение в отчий дом, как в IX—X вв.26, но лишь пост и покаяние27. Такое смягчение санкций оборачивается, однако, попыткой превратить брак в нерасторжи-
Ю. Л. Бессмертный. К изучению матримониального поведения во Франции Ю&
Объявление епископом брака недействительным (иа-за родства супругов?). Миниатюра XIII в. из рукописи Дигест.
Библиотека Св. Женевьевы в Париже
мый даже в случаях явного прелюбодеяния. Но тем самым церковь молчаливо признает невозможность избавиться от внебрачных связей.
Объясняя общую замедленность внедрения модели моногамного церковного брака в повседневную практику, следует иметь в виду и прочность традиционных матримониальных представлений, с этой моделью плохо совместимых. Напомним, что в раннее каролингское время, до середины VIII в., брачно-семейиые отношения даже средн королевских фамилий регулировались преимущественно «франкским обычаем», т. е. признанием возможности параллельных браков (полигамии), многоженства (полигинии) и относительного равноправия детей от разных жен. В это время брачное поведение ориентировалось не столько на церковные каноны, сколько на дохристианские социокультурные нормы, принятые высшей светской аристократией28. В дальнейшем ситуация постепенно изменяется. Укрепление союза каролингов с церковью предполагало признание христианских догм хотя бы высшей знатью. В середине IX в. в ее среде
106
Демографическое поведение
закрепляется представление о моральных и юридических преимуществах церковного брака перед всеми иными супружескими союзами, которые, хотя и не исключаются, низводятся до уровня «побочных» связей. Подобные изменения в модели брака были, однако, характерны в IX в. лишь для высшей аристократии. В менее высокопоставленных социальных группах этот процесс шел гораздо медленнее. Не будем забывать, что официальный отказ церкви от доктрины Иеронима, считавшего брак в принципе несовместимым с христианской верой, в пользу доктрины Августина, допускавшего для мирян супружество в качестве «меньшего зла», был оформлен лишь на Парижском соборе 829 г.29 Иными словами, распространение церковной доктрины брака в массах развернулось лишь во второй трети IX в. Для рядового мирянина и в IX в., и в гораздо более позднее время обычными оставались матримониальные стереотипы дохристианской эпохи, с типичным для них признанием множественности форм супружеских союзов. Такие союзы не обязательно охватывали всю жизнь; они сравнительно легко возникали и распадались; не исключалось и их сочетание с теми илп иными формами временных половых союзов.
При возникновении всех таких дохристианских браков могли играть свою роль и лпчные склонности брачащихся. Иное дело — моногамный церковный брак. Вопреки формальному признанию в нем (особенно с середины XII в.) 30 волеизъявления будущих супругов фактически оно игнорировалось. Вот что писал, например, в конце XIII в. Раймунд Люл-лий в известном трактате' о воспитании детей: «Гордыня побуждает людей не только стремиться подняться все выше', презирая равных, но и добиваться возвышения своих детей и своего рода по сравнению с тем, что есть. Например, кабатчик (cavatier) хочет соединить браком дочь или сына с более знатными (noble) и стать суконщиком (drapier) ... а тот, кто стал суконщиком, хочет стать borgois, a borgois — рыцарем, рыцарь — графом, граф — королем... А из-за этого возникают мезальянсы, в которых мужья ненавидят жен, а жены — мужей и случается много грехов из-за споров о величине вдовьей доли. А из-за этих неравных браков разоряются и обесчещиваются многие отцы и матери» 31. Основательность этого замечания Люллия подтверждается рядом данных.
В этих условиях не приходится удивляться исключительной напряженности супружеской жизни в церковных браках. Не только нарративные тексты, подобные трактату Люллия, но и почти протокольные записи судей свидетельствуют: «Часто приходится встречаться с раздорами между супругами, так что они не могут жить вместе ... Следует выяснять причины, из-за которых жена не может находиться со своим мужем, например, если муж по своей прихоти (par folie), без причины избивает жену ... Другое дело, если жена хочет уйти не из-за мобоев мужа, но по телесной прихоти ... или, если ей ненавистно разговаривать со своим мужем...» — такой уход неправомерен. Однако «уход жены от мужа простителен, если, например, муж грозится убить жену ... или отказывается давать ей еду и одежду ... или является вором или иным преступником ... или же принуждает ее против ее воли к сожительству с другими мужчинами» 32. Но и в подобных случаях «уход» жены от мужа не означал
Ю. Л. Бессмертный. К изучению матримониального поведения во Франции 107
развода. Последний вообще не допускался ни церковным, ни светским правом 33. «Освободить» от брака могла лишь смерть одного из супругов — естественная или насильственная.
Желание разорвать сложившиеся супружеские связи могло, конечно, возникать и во внецерковных браках XII—XIII вв. Конфликты в них вряд ли, однако, достигали той же остроты и силы, так как и их заключение, и их расторжение по-видимому не подлежали строгой регламентации. Едва ли не главенствующую роль при их создании играли склонности самих брачащихся (особенно мужчин). Во всяком случае, материальные интересы рода (или семьи) не имели здесь решающего значения.
В общем, альтернативная церковному браку форма супружеского союза выступала во Франции XII—XIII вв. то как антитеза ему (в первую очередь, в среде молодежи и клириков), то как «дополнение» к нему («внебрачные связи»), то как его «преддверие» («добрачные связи»). Ни в одном из этих вариантов не исключался относительно длительный по времени союз; в нем рождались и воспитывались дети; его существование вполне могло предполагать и какое-то совместное хозяйство.
В демографическом плане все это означает, что уровень брачности во Франции XII—XIII вв. было бы неверно определять лишь по числу церковных браков. Доля женатых была в это время намного выше доли лиц, состоявших только в таких браках. Соответственно по-иному встает вопрос и о возрасте первого брака. Его нельзя измерять только по моменту церковного бракосочетания. Как с точки зрения создания супружеской семьи, так и с точки зрения начала деторождения этот возраст вернее определять по моменту возникновения первого длительного полового союза. Что конкретно известно о возрасте первого брака? Каноническое право допускало в XI—XIII вв. браки с 12 лет для девушек, с 14 лет для юношей. Эта правовая норма конечно не означала, что все вступали в брак в столь раннем возрасте, хотя трудно допустить, чтобы она не имела никакой связи с реальностью.
Об этом свидетельствуют и те случаи, когда в источниках прямо указывается возраст вступления в законный брак. Упомянем вначале данные казуального характера. Дочь графа Монпелье Гийома VIII (конец XII в.) Мария была выдана первый раз замуж в 11 лет, через несколько месяцев овдовела, в 16 лет была выдана замуж вторично; через четыре года, после рождения двоих детей, вновь осталась без мужа (в результате акта repudiatio); в 23 года сочеталась третьим браком 34. В свою очередь Бо-мануар рассматривает казус, при котором опекун богатой наследницы сочетался с ней законным браком, когда ей было 10 лет. При разбирательстве возникшего затем судебного спора вопрос о допустимости столь раннего брака не возникал, хотя и подчеркивалось, что совершеннолетней и дееспособной девушка считается лишь с 12 лет. В случае более раннего выхода замуж ее имущество считается находящимся под опекой (bail) ее мужа35. Что касается юношей, то для них возраст совершеннолетия, согласно Бовезийской кутюме,—полных 15 лет, согласно кутюме Франции — полных 20 лет. При вступлении в брак в этом возрасте молодой человек обретает и все имущественные права. Бомануар специально от-
108
Демографическое поведение
мечаот это по той причине, что «случаются и более ранние браки», когда жениху менее 15 лет: при таких браках сохраняется опека над имуществом, составляющим приданое невесты, со стороны ее старшего родича 36. Тут же констатируется, что, по обычаям Бовези, возраст совершеннолетия одинаков и у благородных, и у простолюдинов — полные 15 лет для юношей, полные 12 лет для девушек (вопреки специально опровергаемым Бомануаром утверждениям, что простолюдины считаются совершеннолетними и дееспособными в любом возрасте) 37. Еще раньше — в 12 лет — считают юношей «взрослыми» многие трубадуры 3“.
Как отмечается в житии св. Марии Мелакской (Тур, начало XIV в.), она была выдана замуж, когда ей было 12 лет. Св. Флора (Прованс, начало XIV в.) стала женой в 14 лет, в том же возрасте, что и св. Хиль-дербурга из Шартра39. Фигурирующие у Гийома Лориса («Роман о Розе») девушки и подростки «флиртуют» уже с 12 лет, а в 15 лет у них начинаются «годы любви» 40.
Судя по конкретным случаям, описываемым в фаблио, лэ и рыцарских романах этого времени, крестьянские девушки считались «поспевшими к замужеству» в 13—15 лет “. Крестьянские подростки и девушки в Мон-тайю в конце XIII в. признавались «разумными» (совершеннолетними) с 12 лет и объединялись со взрослыми в 18 лет. Девушки считались здесь невестами с момента первых регул — с 12—13 лет, и их сразу же старались выдать замуж 4г.
Фрагментарность приведенных данных очевидна. К тому же среди них немало таких, которые касаются необычно ранних браков. Тем не менее сведения, позволяющие представить, так сказать, «точку отсчета» в оценке брачного возраста, в цитированных фрагментах содержатся.
В том же плане интересны и тексты, встречающиеся в нравоучительных трактатах. Процитируем прежде всего трактат середины XIII в. «О четырех возрастах» Филиппа Поварского — известного знатока феодальной практики и феодального права Иерусалимского королевства, в котором правовые традиции французского рыцарства были достаточно сильны. «Не следует женить сына, пока ему не исполнится 20 лет, если только этого не требует необходимость не упустить богатое наследство, или особо благоприятную брачную партию, или же из-за опасения греха, который может случиться из-за особой пылкости, горячности и темперамента. Дочерей же желательно выдавать замуж, когда им исполнится 14 лет. Те сыновья и дочери, которые достигли указанных возрастов, уже достаточно разумны и могут лучше оценить и попять жизнь, а их дети будут крепче и лучше» 43. Этот пассаж выпадает из шаблонной фразеологии более ранних трактатов о человеческих возрастах. В нем явственно слышится отзвук наблюдаемой автором реальности. Тем поучительнее ввучащее в тексте Филиппа Поварского признание того, что женитьба знатных юношей может и, видимо, нередко происходит и до их двадцатилетия. По-видимому, чаще соблюдается правило выдачи замуж благородных девиц на 15-м году их жизни.
С суждениями Филиппа Поварского совпадают пожелания Алена Лилльского, который называет возрастом совершеннолетия юношей
Ю. Л. Бессмертный. К изучению матримониального поведения во Франции 109
полные 14 лет44. Робер де Блуа в поэме, имевшей в середине XIII в. очень широкое распространение, высказывается в том духе, что знатный юноша, достигший 15 лет и остающийся холостяком, повинен в грехе гордыни45. В общем, можно довольно уверенно говорить о сравнительно раннем возрасте первого брака и для юношей, и, тем более, для девушек. Ведь если законный церковный брак заключался юношами в 15— 21 год, а девушками па 15-м году, то вторая форма полового союза, господствовавшая в добрачных связях, могла охватывать и вовсе очень юных. Не слишком велик был и разрыв в возрасте первого брака у юно- - » шей и девушек, особенно с учетом возможности внецерковных («добрачных») половых союзов.
В свете всего сказанного выше представляется неприемлемым распространенное мнение о весьма высоком брачном возрасте в Западной Европе XI—XIII вв. в целом и во Франции этого времени в частности. Ссылаясь на необходимость для мужчины откладывать брак до момента «жизненного устройства» и неправомерно абсолютизируя отдельные экстраординарные факты (в том числе и наблюдения Ж. Дюби над браками рыцарей Макона в XI в.), ряд специалистов относят возраст первого брака мужчин — как знатных, так и простолюдинов — к последним годам их третьего (!) десятилетия46.
Пожалуй, особенно неоправданны подобные суждения по отношению к простолюдинам. В XII—XIII вв. проблема «жизненного устройства» молодых семей отнюдь не стояла здесь так уж остро (вследствие бурного роста новых деревень и городов). Крестьянские подростки очень рано начинали участвовать в хозяйственной деятельности. Как показала на массовых английских материалах Б. Ханевельт, к работам в земледелии и животноводстве крестьянские дети привлекались чуть ли не в 8—1 9 лет. Отдельные наблюдения того же рода Р. Фоссье делает и для Франции47. К 14—15 годам крестьянские дети овладевали едва ли не всеми хозяйственными премудростями и приобретали достаточную зрелость. (В эти же годы, как уже говорилось, их начинали считать совершеннолетними.) Даже если допустить, что обстоятельства препятствовали их вступлению в церковный брак, то вряд ли можно думать, что созревшие физиологически и социально подростки откладывали создание полового союза еще па 14—15 лет. Если бы это было так, т. е. если бы они вступали в брак лишь в 27—30 лет, возглавлять семейное хозяйство после перехода родителей в преклонный возраст (в 40—45 лет) пришлось бы совсем юным отпрыскам. (Ведь женившись лишь в 27—30 лет, крестьянин приобрел бы работоспособного наследника 14—15 лет — даже если бы им смог стать первенец — лишь к моменту своего физического угасания.) В сочетании с казуальными данными о брачном возрасте крестьян, приведенными выше, все это побуждает думать, что и в деревне мужчины создавали свои первые брачные союзы, вероятно, в возрасте 15—18 лет. Их женами становились крестьянские девушки примерно 13—15 лет48.
Матримониальное поведение, как и всякая иная сфера человеческой деятельности, регулируется, как известно, системой поведенческих сте
110
Демографическое поведение
реотипов, частично наследуемых из прошлого, частично вновь формирующихся.
Отличие брачно-семейных отношений, охватывающих, как известно, наиболее эмоционально насыщенные стороны жизни, состоит, однако,, в том, что здесь, как нигде, велика роль индивидуальных «отклоненийft-от стереотипа. Этот факт заслуживает специального внимания. «Антропологически ориентированная история» оказалась бы пустым переименованием позитивистской, если бы ограничилась при объяснении социальных явлений простой заменой одной формы детерминированности человеческой деятельности другой. Отличие антропологического подхода состоит, на наш взгляд, в двух, в частности, моментах: во-первых, в признании системно-структурной целостности мира, в котором действует-индивид,— целостности, воздействующей на всю совокупность поведенческих импульсов и находящейся при этом в состоянии почти постоянного изменения; во-вторых, в признании активной роли индивида, всегда сохраняющего ту или иную свободу реакций на сложившуюся обстановку и потому активно участвующего в изменении этой социальной целостности. «В любой, самой застойной ситуации кто-то начинает новое, небывалое, поступает не так, как повелось до него», т. е. пользуется «зазором; свободы», сколь бы ни был этот «зазор» ограничен общественной системой и соответствующим ей доминирующим типом сознания 4°. В матримониальной сфере, обнимающей собою самые интимные, «самые личностные» стороны человеческого поведения, возможности использования этого «зазора свободы» особенно широки. Соответственно здесь раньше,, чем во многих других сферах, могут возникать те или иные девиации, противостоящие стереотипу. Еслп эти отклонения имеют под собой более-или менее прочную базу (т. е. не являются случайными), они сохраняются и воспроизводятся, обретая вес и влияние. Поскольку же сфера матримониально-сексуального поведения — как и всякая другая — не представляет собой чего-либо изолированного и через ряд посредствующих звеньев сочленяется со всей социально-культурной системой, изменения в брачно-сексуальных отношенпях в известном смысле воспроизводят сдвиги во всей культурпой целостности.
Парадокс состоит, однако, в том, что индивидуалистические отклонения, столь легко возникающие в данной области, отнюдь пе предполагают ее повышенной лабильности: взятые в целом, брачно-сексуальные отношения выступают как наименее подвижные. Ибо, будучи воистину всеобщим видом человеческой деятельности, этп отношения постоянно и в массовом масштабе воспроизводятся в своем традиционном и общепринятом варианте. Этот общепринятый вариант противопоставляется вновь возникшему — нонконформистскому — с тем большей силой, чем заметнее последний отличается от традиционного. Не случайно половая мораль «относится к числу самых консервативных и устойчивых элементов культуры» 50. И притом она сопротивляется любым изменениям, откуда бы они ни исходили — «снизу» — из нонконформистской практики отдельных индивидов, или же «сверху» — из навязываемых массам новых идеологических установок.
Ю. Л. Бессмертный. К изучению матримониального поведения во Франции 111
Именно последний вариант имел место в рассмотренном выше случае. Христианский брак вводился во французском обществе конца XII— XIII вв. вопреки сохранявшемуся стереотипу, принятому в самых широких массах. И потому неудивительно, что, несмотря на длительность и настойчивость внедрения этой формы, она воспринималась во многих слоях общества с большим трудом, очень медленно и неравномерно. В судьбе брачной модели и в эволюции брачного поведения во Франции XII— XIII вв. отражались, таким образом, некоторые характерные особенности развития социокультурной системы вообще.
1 См.: Duby G. Lc chevalier, la femme et le pretre. La mariage dans la France feoda-le. P., 1981; Fossier B. L'enfance de I’Europe: Aspects economiques et sociaux. P., 1982. T. 1—2; Herlihy D. Medieval Household. Cambridge (Mass.), 1985; Histoire de la Famille. P., 1986. T. 1.
2 Beaumanoir Ph. Coutumes de Beauvaisis/Publ. par Salmon A. P., 1899-1900. T. I— II. 578 (Далее: В)
3 Ibid. 599; см. также: В, 600.
* Ibid. 581.
4а Ibid.
5 Ibid. 1629.
6 Ibid. 599.
7 Впервые термин soignantage (от франкского глагола sunnjon — заботиться, обеспечивать, беспокоиться, опекать) встречается в произведениях Васа в середине XII в. См. также Dictionnaire de I’ancien fra nf a is par Greimas A. P., 1968)
8 B, 601.
9 Бомануар хорошо сознает, что самый факт обсуждения того, какие из браков являются законными, противоречит церковной доктрине, признающей один только церковный брак. Однако действительность сложнее доктрины. «Хотя церковь,— замечает Бомапуар,- дает определение законному браку, в светском суде приходится разбирать споры о наследовании фьефов, которые вчиняют законные наследники бастардам... Приходится поэтому и светским судьям вмешиваться в выяснение того,..что же такое незаконное рождение» (В, 578; см. также: 586).
Различие в светской и церковной модели брака — и притом в коренном вопросе о моногамии — сохраняется, как видим, и в конце XIII в. (Ср.: Duby G. Op. cit., где автор подчеркивает формирование к началу XIII в. некоей единой компромиссной "модели брака).
10 Lille A. Liber poenitentialis. Lille, 1965. Т. I. 26. (Далее: AL). Конкретизируя некоторые из этих установлений. Ален в другом месте замечает: «Если холостяк, не имеющий жены, сотворит блуд с женщиной, пусть постится на хлебе и воде 20 дней, если с собственной рабыней — столько же» (Ibid. II, 110; см. также: 112—113, 120). За 200 лет до Алена Бурчард Вормский назначал за аналогичный грех 10 дней поста (Burchardas IFormacertsis. Decretum // Patrologiae latinae. T. 140 (далее: Burch.), XIX, 5. P. 957—958. (Далее: PL). Для позиции официальной церкви характерно также то, какие обстоятельства считаются в цитируемом пенитен-циалии смягчающими этот проступок «При расследовании связей вне брака надо принять во внимание, красива ли жепщипа, так как меньше согрешит тот, кто познает красивую, чем тот, кто познает безобразную... ведь сильнее привлекает красивая, а где больший соблазн— меньший грех... Надо также выяснить, применял ли [согрешивший] насилие, ибо сильнее провинится тот, кто применил силу, чем тот, кто познал [женщину] по добровольному согласию... Следует также выяснить, возжаждал ли он, как только первый раз ее увидел, или же воспламенялся постепенно. Ибо сильнее согрешит тот, кто совратился с первого взгляда, чем тот, кто воспылал при [долгом] общении... Выяснить также, не родственницей ли [приходится ему] эта женщина, кровной или духовной... простодушна она или, наоборот, хитра, ибо сильнее согрешит тот, кто совратит простодушную, чем лукавую и опытную (astuta)... Принять также во внимание... что прелюбодеяние (adul-
112
Демографическое поведение
terium) хуже простого блуда (fomicatio), инцест — хуже прелюбодеяния, противоестественное совокупление хуже инцеста» (AL, I, 28—32). Цитированные здесь и выше отрывки содержатся в так называемом кратком варианте пенитенциалия Алена Лилльского, составленном на основе текста Алена его учениками в первые годы XIII в. (Longere J. Introduction//Alain de Lille. Liber poenitentialis. Louvain; Lille, 1965. T. 1. P. 159-160).
11 К показаниям пенитенциалиев, особенно раннесредневековых, медиевисты не бе» оснований относятся обычно с большой осторожностью. В приводимых в них перечнях проступков видят не слишком тесно связанные с реальностью списки возможных прегрешений, заимствуемые составителями пенитенциалиев друг у друга или в повторяющихся постановлениях церковных соборов. Раздумья Алена (или его учеников), составляющие главное содержание цитированных только что текстов, существенно отличаются от традиционного содержания раннесредневековых пенитенциалиев. И дело не только в том, что ни в одном из предшествовавших пенитенциалиев, как и ни в одном из предшествующих постановлений церковных соборов, подобных текстов найти не удается. У Алена явственно звучит соответствующее духу времени — рубежу XII—XIII вв,—подчеркнутое внимание к внутренним помыслам кающегося грешника. Этот отзвук современности позволяет относиться к данным текстам с большим доверием.
12 Vitry Jacques de. Sermon aux gens maries // Precher d’exemples: Recits de predica-teurs du Moyen Age/Pres. par. J.-Cl. Schmitt. P., 1985. P. 59.
13 См., например: Средневековые французские фарсы. М., 1981; Dialogue du fils et du pere (1267) // La vie en France. T. 4. P. 61. Lorcin M. T. Fafons de sentir et de penser: les fabliaux franQais. P., 1979. P. 120, etc.; L’erotisme au Moyen Age: Etudes presentees au Ш-e Colloque de 1’Institut d’etudes medievales. Montreal, 1977; см. также: Duby G. Op. cit. P. 81, 277—278, 280.
14 Histoire de la famille. P., 1986. P. 372, etc.
15 Vitry Jacques de. Op. cit. P. 57.
16 Абеляр Л. История моих бедствий. М., 1959. С. 67.
17 Caesarii Teisterbacensis monachi Dialogue miraculorum/Ed. J. Strangle. Koln; Bonn, 1851. Ill, 28—29. (Далее: DM). (Цезарий различает здесь случаи сожительства клирика с чужой женой (uxor legitima) и с сожительницей (concubina)); Orderi-cus Vitalis. Historia ecclesiastica/Ed. M. Chibnail. Oxford; L. 5. 1978. P. 120 (Далее: HE): «non solum presbiteri sed etiam presules libere uterentur thoris concubina-rum...». См. также: Dialogue... P. 61, 64.
,s AL, II, 121-123; III, 40; II, 39; Burch., XIX, 104.
10 Cartulaire de 1’abbaye S.-Corneille de Compi egne/Publ. par ГаЪЬё E. Morel. Compieg-ne, 1894. N 31. P. 66. (a. 1112); Chronique et chartes de 1’abbay de S. Mihiel. Metz.; Paris, 1909-1912, N 115. P. 366 (A. 1178), etc.
20 AL, I, 15; II, 95-97.
21 См. например: Lambert d’Ardres. Chronicon Chisnense et Ardense/Ed. G. de Gode-froy-Menilglaise. P.,1895 (Цит. no: Duby G. Op. cit. P. 277); Fc'libien M. Histoire de 1’abbaye de S. Denis. P., 1706. P. 660: «...quicumque mancipiorum... sive masculus sive femina qualicumque pacto seu legitimo sen furtivo complexu prolem genue-rit...»; Cartulaire de S. Etienne de Dijon/Publ. par Perrard. P., 1800. P. 71, 80; Cartulaire de 1’abbaye de S. Trond. Bruxelles, 1870. T. 1. N 8. P. 13. О тайных браках
см. также: Vitry Jacques de. Op. cit. P. 56.
22 Le Roy Ladurie E. Montaillou, village occitan de 1294 a 1324. P., 1975. P. 111. 242—276.
23 В XII в. французские короли официально разрешали браки младшим членам церковной иерархии.
24 Как говорится в одном из нравоучительных диалогов отца и сына, «встречаются люди, которые говорят: „Я не откажусь от своей любовницы (meschine), пока кюре не откажется от своей"» (Dialogue... Р. 64).
25 Flandrin J. L. Families. Р., 1976. Р. 31. Ни римляне, ни иудеи, ни мусульмане не устанавливали запретов на браки со столь широким кругом родичей (см.: Herli-hy D. Op. cit. Р. 13).
26 Burch. XIX, 44.
27 AL, II, 115. 117.
Ю. Л. Бессмертный. К изучению матримониального поведения во Франции 113
28 Ронин В. К. Брачно-семейные представления в нарративных памятниках каролингского времени // Историческая демография докапиталистических обществ. М., 1988; Копеспу S. Die Frauen des karolingischen Konigshauses. Wien, 1976; Wemp-le S. Women in Frankish Society. Philadelfia, 1981.
29 Duby G. Op. cit. P. 31-36.
30 См. об этом: Herlihy D. Op. cit. P. 81—82.
31 Lulle Raymond. Doctrine d enfant/Ed. A. Llinares. P., 1969. P. 138; см. также: Dialogue... P. 55.
32 B, 1626-1629, 1635.
33 AL. II, 115—117; Lulle R. Op. cit. P. 76—77; B, 593, 1636. Даже заявления супругов о том, что муж — импотент и не может обеспечить рождение законного потомства, не должны приниматься на веру (В, 593).
34 Эти сведения извлечены из завещаний и актов, подписанных самой Марией, а также из решений папской курии по поводу имевших место споров о наследстве Марии. См.; Duhamel-Amado Cl. Une forme historique de la domination masculine: femme et manage dans 1’aristocratie languedocienne a la fin du XII s. // Cahiers d’histoire de 1’Institut de recherches marxistes. 1981 N 6. P. 125—139
35 B, 544-545.
36 B, 546.
37 B, 536, 558.
38 Kohler E. Sens et fonction du terme jeunesse dans la poesie des troubadours//Melanges offerts a B. Crozet. Poitiers, 1966. P. 569-583.
39 Herlihy D. Op. cit. P. 104—105.
40 Guillaume de Lorris, Jehan de Meung. Le Roman de la Rose/Ed. D. Poirion. P., 1974 v. 357-358, 1014, 1257-1276.
41 Re ch O. Beitrage zur Kenntnis des Banemlebens in alien Frankreicli aiif Grund der Zeitgenossischen Literatur. Cottingen, 1909. S. 5, etc.
42 Le Roy Ladurte E. Op. cit. P. 255, 276.
43 Phillippe de Novare. Les quatre Ages de I'lioiione/Ed. pur M. de FreOlle. I’., 1888. P. 103-104, § 191.
44 A II, 91.
45 Robert de Blois. Enseignement des Princes / Ed. J. Fox. P., 1950, v. 1051 10(51.
46 Herlihy D. Op. cit. P. Ill; Histoire de la Fainille. P. 382; Fussier R. ICn I и n<-<< de I'Fnro ре. P. 102, 935; Chaunu P. Histoire quantitative, histoire serielle. I’., 1978. P. '.‘09 212.
47 Hanawalt B. Op. cit. P. 99; Fossier R. Paysans d’Occident. I*., 1984. P. 34.
48 Ср. серийные данные Ц. Раци по манору Хейлзоуен в Англии: в конце XIII и юно ши и девушки вступали в первые церковные браки между 18 и 22 годами; разрыв в брачном возрасте между ними не превышал 3—4 лет (Rnzl Z. Life, Marriage and Death in a Medieval Parish. Cambridge, 1980. P. 50—57, 61, 63).
49 Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология//Вопр. философии. 1988. № 1.
50 Кон И. С. Введение в сексологию. М., 1988. С. 162.
Новые научные направления
*
А. Я. Гуревич
СМЕРТЬ КАК ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ: О НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Проблема смерти не нова для этнолога: погребальные обряды и связанные с ними символика, фольклор и мифология представляют собой важное средство для понимания народных обычаев и традиций. Нс нова эта проблема и для археолога, который на основе материальных остатков далеких эпох пытается реконструировать характер погребений и представления древних людей о смерти и загробном мире. Многократно встречались с темой смерти историки литературы. Реальна эта проблема и для философов. Однако собственно историки всерьез занялись проблемой смерти совсем недавно. Постепенно стало обнаруживаться, что смерть — это не только сюжет исторической демографии или теологии и церковной дидактики. Смерть — один из коренных параметров коллективного сознания, а поскольку последнее не остается в ходе истории неподвижным, то изменения эти не могут не выразиться также и в сдвигах в отношении человека к смерти. Смерть — компонент картины мира, существующей в сознании членов данного общества в данный период. Изучение установок в отношении к смерти, которые заслуживают внимания и сами по себе, может пролить свет на установки людей в отношении к жизни и основным ее ценностям. По мнению некоторых ученых (Ф. Ариес, П. Шоню), отношение к смерти служит эталоном, индикатором характера цивилизации. В отношении к смерти выявляются тайны человеческой личности. Но личность, условно говоря,— «средний член» между культурой и социальностью, то звено, которое их объединяет. Поэтому восприятие смерти, загробного мира, связей между живыми и мертвыми — темы, обсуждение которых могло бы существенно углубить понимание историками социально-культурной реальности минувших эпох.
Так, в самом общем виде ставится эта проблема в новейшей историографии. Недавно еще как бы нс существовавшая для исторического знания, она внезапно и взрывообразпо возникла па горизонте исследования, приковав внимание многих историков, прежде всего медиевистов и специалистов по истории Европы в XVI—XVIII вв. Литература эта уже с трудом поддается обозрению. Тема осознания смерти в истории вызывает
--1. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии
115
широкий интерес, и здесь с особенной ясностью обнаруживается и без того понятная связь направления научных поисков в гуманитарных дисциплинах с вопросами современности. Видный французский историк М. Вовель в своей недавней статье предостерегал против смешения научного исследования восприятия смерти в прошлом с модой *. Впрочем, мода ведь тоже выражает общественную потребность.
Мне хотелось бы остановиться на отдельных работах, посвященных проблеме восприятия смерти в истории, которые кажутся наиболее капитальными и интересными по постановке вопросов и провоцируют дальнейшее изучение. Рассмотрение этих трудов открывает путь к более широкой проблематике истории культуры и именно того ее направления, которое называют «историей ментальностей» (I’histoire des mentalites).
Ментальность — социально-психологические установки, способы восприятия, манера чувствовать и думать. Ментальность выражает повседневный облик коллективного сознания, не отрефлектированного и не систематизированного посредством целенаправленных умственных усилий мыслителей и теоретиков. Идеи на уровне ментальности — это не порожденные индивидуальным сознанием завершенные в себе духовные конструкции, а восприятие такого рода идей определенной социальной средой, восприятие, которое их бессознательно и бесконтрольно видоизменяет, искажает и упрощает. Но по па уровне ли ментальности подчас' нужно искать и ту мыслительную и эмоциональную почву, в которой зарождается идея как таковая? В этом смысле правомерно говорить о «социальной истории идей», существеннейшим образом отличающейся от истории идей в «чистом виде». —
Неосознанность или неполная осознанность — один из важных признаков мептальпости. В ментальности раскрывается то, о чем изучаемая историческая эпоха вовсе и не собиралась, да и не была в состоянии сообщить, и эти ее невольные послания, не отфильтрованные и не процеп-зурированные в умах тех, кто их отправил, тем самым лишены намеренной тенденциозности — в них эпоха как бы помимо собственной воли «проговаривается» о самой себе, о своих секретах. В этой особенности ментальности заключена огромная ее познавательная ценность. На этом уровне удается расслышать такое, о чем нельзя узнать на уровне сознательных высказываний. Круг знаний о человеке в истории, о его представлениях и чувствах, верованиях и страхах, о его поведении и жизненных ценностях резко расширяется, делается более многомерным и глубже выражающим специфику исторической реальности.
Исключительно существенно то обстоятельство, что новые знания о человеке, включаемые в поле зрения историка на уровне ментальности, относятся по преимуществу не к одним лишь представителям интеллектуальной элиты, которые на протяжении большей части истории монополизировали образование, а потому и фиксацию информации, традиционно доступной историкам, по и к широким слоям населения. Если идеи вырабатывают и высказывают немногие, то ментальность — неоть-емлемое качество любого человека, ее нужно лишь уметь уловить. До того «безмолвствовавшее большинство», практически исключаемое из
116
Новые научные направления
истории, оказывается способным заговорить на языке символов, ритуалов, жестов, обычаев и суеверий и донести до сведения историка хотя бы частицу своего духовного универсума.
Выясняется, что ментальности образуют свою особую сферу, со специфическими закономерностями и ритмами, противоречиво и опосредованно связанную с миром идей в собственном смысле слова, ио пи в коей мере не сводимую к нему. Проблема «народной культуры»,— сколь ни неопределенно и даже обманчиво зто наименование,— как проблема духовной жизни масс, отличной от официальной культуры верхов, ныне приобрела новое огромное значение именно в свете исследования ментальностей. Сфера ментальностей столь же сложно и непрямо связана и с материальной жизнью общества, с производством, демографией, бытом. Отражение определяющих условий исторического процесса в общественной психологии — обычно преображенное и даже искаженное, и культурные и религиозные традиции и стереотипы играют в ее формировании и функционировании огромную роль.
Разглядеть за «планом выражения» «план содержания», проникнуть в этот невыговоренный ясно и текучий по своему составу пласт общественного сознания, настолько потаенный, что до недавнего времени историки и не подозревали об его существовании,— задача первостепенной научной важности и огромной интеллектуальной привлекательности. Ее разработка открывает перед исследователями поистине необозримые перспективы 2. Но сразу же возникает вопрос: каким образом может историк, пользуясь проверяемыми научными процедурами, осуществить эту задачу? Где искать источники, анализ которых мог бы раскрыть тайны коллективной психологии и общественного поведения людей в разных обществах? Знакомство с новыми трудами об отношении к смерти в Западной Европе, как мне кажется, многое могло бы ввести в лабораторию историка ментальных установок3.
Включение темы восприятия смерти в круг зрения историков — явление примерно того же порядка, как и включение в него таких новых для историографии тем, как «время», «пространство», «брак», «семья», «сексуальность», «женщина», «детство», «болезнь», «аккультурация», «чувствительность» (выбраны наугад несколько названий статей из энциклопедического справочника «Новая историческая наука», изданного в 1978 г. группой французских историков4). Правда, тема отношения к смерти в большей мере, чем другие темы исторической психологии, оказывается табуированной или окутанной многообразными наслоениями, затемняющими ее смысл и скрывающими ее от взора исследователя. В этой связи вспоминают афоризм Ларошфуко: «Ни на солнце, пи па смерть нельзя смотреть в упор» 5. Тем не мопсе исследователи ментальностей решились обнажить «облик смерти» в истории, и это помогло им увидеть много нового в жизни и сознании людей минувших эпох.
Названные сейчас проблемы и иные, им подобные, встали перед историками после того, как они осознали важность слома междисциплинарных барьеров, отделяющих их профессию от других наук о человеке,— от этнологии или антропологии, социологии, социальной психологии, де
А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии
117
мографии, биологии, лингвистики, фольклористики, истории языка, литературы и мифа. То направление истории культуры, о котором сейчас идет речь, нередко именует себя «исторической антропологией»: оно ставит перед собой вопросы, которые возникают и в перечисленных выше дисциплинах, но, разумеется, переформулируя их в категориях и терминах исторической науки6.
То, что проблемы исторической антропологии, и в частности проблема отношения к смерти, наиболее оживленно обсуждаются медиевистами и «модернистами» (историками Европы в XVI—XVIII вв.), едва ли случайно. Круг источников, которыми располагают исследователи этой эпохи, относительно стабилен, шансы на существенное расширение источниковедческой базы невысоки, и поэтому историкам волей-неволей приходится идти прежде всего но линии интенсификации исследования. Ученый ищет новых подходов к уже известным памятникам, стремится задать им новые вопросы, на деле испытать источники на «неисчерпаемость». Постановка вопроса об отношении к смерти — яркое свидетельство того, насколько получение нового знания в истории зависит от умственной активности исследователя, от его способности обновлять свой вопросник, с которым он подходит к, казалось бы, уже известным нами гпикам.
Проблематика смерти как факта истории культуры чрезвычайно <• юж на и все еще непривычна для историка, поэтому п icpi....н екий рв в'юр
выдвинутых в новейшей литературе концепций (ело пеленюе I . in тем не мепее я решаюсь предпрлпяп. обзор нескольких французевну мо нографий о смерти, то вижу известное оправданно своей смелости в соб ствепном профессионалыюм интересе историка меднеппста, который, следуя логике изучения вопросов средневековой культуры, и в частности народной «низовой» культуры, пришел к проблеме восприятия смерти и толкования потустороннего мира людьми средневековья. Соответственно мною отобраны для обзора работы, затрагивающие средневековье или целиком ему посвященные; однако знание более широкого круга исследований по этому вопросу не оставляет сомнения в том, что выбраны наиболее представительные исследования широкого плана, на материале которых особенно удобно рассмотреть проблему как таковую.
Французский демограф и историк Филипп Ариес, который в 60-е годы приобрел широкую известность своей новаторской книгой о ребенке и семейной жизни в период позднего средневековья и начала нового времени, в 70-е годы опубликовал несколько работ, посвященных установкам западноевропейцев в отношении к смерти. Хотя эти установки менялись чрезвычайно медленно и исподволь, так что сдвиги вплоть до самого последнего времени ускользали от внимания современников, установки зти, как доказывает Ариес, отнюдь не оставались равными самим себе, и исследователь, принадлежащий к обществу, в котором сдвиги в отношении к смерти сделались резкими, внезапными и потому всем заметными, смог обратить внимание на историю этих феноменов в прошлом.
Необычайно широкий временной диапазон исследования — начиная ранним средневековьем и кончая нашими днями — объясняется прежде
118
Новые научные направления
всего тем, что для обнаружения мутаций в установках в отношении к смерти их нужно рассматривать в плане la longue duree: ментальности, как правило, изменяются исподволь и очень медленно (по выражению-Ф. Броделя,— зто «темницы, в которые заключено время большой длительности»), и эти неприметные для самих участников исторического процесса смещения могут стать предметом изучения историка лишь при условии, что он применит к ним большой временной масштаб. Такая постановка вопроса не может не вызывать живейшего интереса, и действительно книга Ариеса породила волну откликов, не только в виде критики его построений, но и в виде новых исследований, посвященных теме восприятия смерти и загробного мира.
Главный тезис книги Ариеса «Человек перед лицом смерти»: существует связь между установками в отношении к смерти, доминирующими в данном обществе на определенном этапе его развития, и самосознанием личности, типичной для этого общества. Поэтому в изменении восприятия смерти находят свое выражение сдвиги в трактовке человеком самого-себя. Иными словами, обнаружение трансформаций, которые претерпевает смерть в «коллективном бессознательном», могло бы пролить свет на-структуру человеческой индивидуальности и на ее перестройку.
Начальный этап эволюции, восходящий к архаической стадии, Ариес характеризует как «прирученную смерть». Это не означает, однако, что> до того смерть была «дикой»: он хочет лишь подчеркнуть, что люди раннего средневековья относились к смерти, как к обыденному явлению,, не внушавшему им особых страхов. Человек органично включен в природу, и между мертвыми и живыми существует гармония. Поэтому «прирученная смерть» была вместе с тем смертью, которую принимают в качестве естественной неизбежности. Так относится к смерти рыцарь Роланд, но так же фаталистически ее принимает и русский крестьянин из повести Льва Толстого. Смерть не осознавали как личную драму и вообще не воспринимали в качестве индивидуального по преимуществу акта — в ритуалах, которые окружали и сопровождали кончину, выражалась, солидарность индивида с семьей и обществом. Эти ритуалы были частью общей стратегии человека в отношении к природе. Человек обычно заблаговременно чувствовал приближение конца и готовился к нему; умирающий — главное лицо в церемониале, который оформлял его уход из мира живых. Но и самый этот уход не воспринимался как полный и бесповоротный разрыв, поскольку между миром живых и миром мертвых не ощущалось непроходимой пропасти. Внешним выражением зтой ситуации, по мнению Ариеса, может служить то обстоятельство, что на протяжении всего средневековья погребения располагались на территории городов и деревень (было важно, с точки зрения людей той эпохи, поместить покойника как можно ближе к усыпальнице святого, расположенной в храме божьем), и что такая близость живых и мертвых никого не тревожила. Отсутствие страха перед смертью у людей раннего средневековья объясняется, по Ариесу, тем, что, по их представлениям, умерших не ожидали суд и возмездие за прожитую жизнь, и они погружались в своего рода сон, который будет продолжаться «до конца времен»,
А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии J19
до второго пришествия Христа, после чего все, кроме самых тяжких грешников, пробудятся и войдут в царствие небесное.
Идея загробного суда, полагает Ариес, довольно позднего происхождения: такие сцены изображаются на порталах соборов, начиная с XII в., а затем, примерно с XV в., представление о суде над всем родом человеческим сменяется представлением о суде индивидуальном, который происходит в момент кончины человека. Этот переход объясняется ростом индивидуального сознания, испытывающего потребность связать воедино I все фрагменты человеческого существования, до того разъединенные со- l стоянием летаргии неопределенной длительности, которая отделяет время земной жизни индивида от времени завершения его биографии в момент грядущего Страшного суда. В своей смерти человек открывает собственную индивидуальность. Происходит «открытие индивида, осознание в час смерти или в мысли о смерти своей собственной идентичности, личной истории, как в этом мире, так и в мире ином» ’. Характерная для средневековья анонимность погребений 8 постепенно изживается, и вновь, как и в античности, возникают эпитафии и надгробные изображения Р умерших. В XVII в. создаются новые кладбища, расположенные вне городской черты,— близость живых и мертвых, ранее не внушавшая сомнений, отныне оказывается нестерпимой, равно как и вид трупа, скелета, который был существенным компонентом искусства в период расцвета жанра «пляски смерти» в конце средневековья.
Но в этот период человек находит средство «колонизовать», освоить потусторонний мир и манипулировать им. Завещание дает ему возможность обеспечить собственное благополучие на том свете и примирить любовь к земным богатствам с заботой о спасении души. Не случайно как раз во второй период средневековья возникает представление о чистилище, отсеке загробного мира, занимающем промежуточное положение между адом и раем.
Тенденция к вытеснению смерти из коллективного сознания, постепенно нарастая, достигает апогея в наше время, когда, по утверждению Ариеса и некоторых западных социологов, общество ведет себя так, как будто вообще никто не умирает, и смерть индивида не пробивает никакой бреши в структуре общества. В наиболее индустриализованных странах Запада кончина человека обставлена так, что она становится делом одних только врачей и предпринимателей, занятых похоронным бизнесом. Но Ариес замечает и иную тенденцию в отношении к смерти в новое время: романтизм открыл социально-психологическое явление, названное Арие-сом «твоя смерть»; человек особенно драматично воспринимает и переживает уход из жизни близкого, любимого существа, кончина которого представляется ему более тягостной утратой, нежели его собственная смерть. Эту тенденцию ученый связывает с изменившимся в новое время характером семьи, ее эмоциональной ролью.
Путь, пройденный Западом от архаической «прирученной смерти», близкой знакомой человека, к «медикализованной» «извращенной» смерти наших дней, «смерти запретной», отражает коренные сдвиги в стратегии общества, бессознательно применяемой в отношении к природе.
120
Новые научные направления
В зтом процессе общество берет на вооружение, актуализирует те идеи из имеющегося в его распоряжении фонда, которые соответствуют неосознанным его потребностям на данном этапе.
Таковы, в самом конспективном виде, наблюдения и построения Арие-са. Краткое резюме не передает богатства содержания его объемистого исследования, насыщенного конкретными фактами и интересными выводами. Но в данном случае хотелось бы сосредоточить внимание на способе аргументации Ариеса, на методах его работы и на источниках, им привлекаемых. Источники эти весьма разнообразны. Здесь и археологический материал — данные о древних кладбищах, и эпиграфика, и иконография, и письменные памятники, начиная с рыцарского эпоса и завещаний и кончая мемуарной и художественной литературой нового времени.
Но как обращается Ариес с источниками?
Он исходит из уверенности в том, что сцены умиротворенной кончины главы семьи, окруженного родственниками и друзьями и сводящего последние счеты с жизнью (выражая свою последнюю волю, завещая имущество, прося простить ему причиненные обиды),— не литературное клише, а выражение подлинного отношения средневековых людей к своей смерти. Он не замечает противоречий между идеальной нормой и литературными клише, с одной стороны, и фактами действительности — с другой. Между тем критики показали, что подобные стилизованные сцены не репрезентативны для этой эпохи, ибо известны и другие, в которых умирающий, и даже духовное лицо, испытывал перед близящейся смертью растерянность, страх и отчаянье. Главное же заключается в том, что характер поведения умирающего зависел от его социальной принадлежности и окружения; бюргер умирал не так, как монах в монастыре.
В противоположность Ариесу, который полагает, что страх смерти в средние века умерялся ритуалом и молитвами, западногерманский медиевист А. Борст утверждает, что в эту эпоху страх смерти должен был быть особенно острым,— он имел как психобиологические, «экзистенциальные» корни, так и религиозные, и никто из умирающих не мог быть уверен в том, что избежит мук ада ®.
Но дело не только в одностороннем и подчас произвольном употреблении письменных источников. Ариес в большей мере опирается на памятники изобразительного искусства, чем на произведения письменности. К каким просчетам приводит подобное обращение с материалом, свидетельствует хотя бы такой факт. На основе одного изолированного памятника — рельефа на саркофаге св. Агильберта (около 680 г., Жуарр, Франция), изображающего Христа и воскресение мертвых, Ариес делает далеко идущий вывод о том, что в раннее средневековье якобы еще не существовало идеи посмертного воздаяния: Страшный суд здесь, как он утверждает, не изображен.
Сама по себе убедительность argumenti ex silentio весьма сомнительна. По существу же необходимо сказать: Ариес дал весьма спорную, чтобы не сказать ошибочную, трактовку рельефа на саркофаге Агильберта.
А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии
121
Как показал Б. Брейк, здесь изображен именно Страшный суд: вокруг Христа стоят не евангелисты, как предположил Ариес, а воскресшие из мертвых — по правую его руку избранники, по левую — проклятые 10.
Сцена Страшного суда на этом рельефе — отнюдь не единственная в ранний период. Традиция его изображений восходит к IV в., но если в позднеантпчное время Страшный суд интерпретировался в иконографии аллегорически и символически («отделение овец от козлищ», причем праведники и грешники изображались в виде этих животных, разделяемых пастырем), то в начале средневековья картина резко меняется: сюжетом ее становится именно суд Христа над восставшими из мертвых, и особое внимание художники уделяют трактовке наказаний, которым подвергаются осужденные. Период, от которого сохранилось большинство иконографических свидетельств такого рода,— это период Каролингов. IX веком датируются фреска в церкви Мюстайр (Швейцария), «Лондонская резьба по слоновой кости», «Утрехтская псалтирь», «Штуттгартская псалтирь». Эта изобразительная традиция продолжается и в X—XI вв. («Бамбергский апокалипсис», «Сборник отрывков из Библии» Генриха II и др.) “. Таким образом, вопреки утверждению Ариеса, идея посмертного воздаяния, возвещенная евангелиями, не была забыта в искусстве раннего средневековья. Это во-первых.
Во-вторых же, и это главное, в тот самый период, к которому относится рельеф на саркофаге св. Агильберта, среднелатинская литература дает серию картин Страшного суда, притом не столько суда над родом человеческим «в копце времен», сколько индивидуального суда, вершащегося в момент кончины грешника или праведника либо незамедлительно после нее. Странный, чтобы не сказать произвольный, отбор источников Ариесом привел к тому, что он начисто игнорирует проповедь, нравоучительные «примеры», агиографию и, что особенно удивительно, многочисленные повествования о хождениях душ умерших по загробному миру, о видениях его темп, кто умер лишь па время и возвратился затем к жизни, дабы поведать окружающим о наградах и карах, ожидающих каждого па том свете 13. Согласно этой расхожей литературе, хорошо известной уже в VI—VIII вв., в мире ином отнюдь не царит сон,— в одних отсеках его пылает адское пламя и бесы мучают грешников, а в других святые наслаждаются лицезрением Творца.
Таким образом, рушится и следующее звепо в цепи построений Ариеса —о том, что представление о коллективном суде примерно в XV в. вытесняется представлением о суде над индивидом. Действительно, если ограничивать себя исключительно изобразительным искусством, то гравюры со сцепами умирающих в присутствии Христа, Богоматери и святых, с одной стороны, и демонов — с другой, появляются впервые лишь в конце средневековья. Но что это доказывает? Видимо, только то, что ограничиваться одним иконографическим рядом при изучении мента ль пости столь же рискованно, как и игнорировать его. Необходимо сопо ставление разных категорий источников, понимаемых при зтом, разу м<* ется, в их специфике. 11 тогда выясняется, что сцены, изображенные пи гравюрах XV в., во многом и главном совпадают со сценами из видении
122
Новые научные направления
потустороннего мира, упоминаемых Григорием Великим, Григорием Турским, Бонифацием, Бэдой Почтенным и другими церковными авторами VI—VIII вв. Суд коллективный (над родом людским) и суд индивидуальный (над душою отдельного умирающего) странным и непопятным для нас образом сосуществуют в сознании людей средневековья — это парадокс, но такой парадокс, с каким необходимо считаться всякому, кто хочет понять специфику средневековой ментальности! 12
Ариес же, выступающий в постановке проблемы смерти в роли смелого новатора, в трактовке занимающего нас вопроса идет проторенным путем эволюционизма: поначалу — «отсутствие индивидуального отношения к смерти», затем «индивидуализация» этого отношения, обусловленная возросшим «бухгалтерским духом» людей позднего средневековья... Дело доходит до того, что когда последователь Ариеса рассматривает один и тот же лист гравюры XV в. с двумя изображениями суда над душою — Страшного суда, вершимого Христом с помощью архангела, который взвешивает па весах души умерших, и тяжбы между ангеламп и бесами из-за души умирающего,— то он произвольно разрывает эту непостижимую для него синхронность двух, казалось бы, непримиримых эсхатологических версий и утверждает, что первая сцена якобы отражает раннюю стадию представлений средневековых людей о загробном суде, а вторая — более позднюю стадию 14.
Более внимательное изучение источников приводит к выводу: представление о немедленном суде над душою умирающего и представление о Страшном суде в апокалиптическом «конце времен» с самого начала были заложены в христианской трактовке мира иного, и мы действительно найдем обе версии в евангелиях, но для первых христиан, живших в ожидании немедленного конца света, это противоречие было неактуальным, тогда как в средние века, когда наступление конца света откладывалось на неопределенное время, сосуществование обеих эсхатологий, «малой», индивидуальной, и «большой», всечеловеческой, вырастало в парадокс, выражавший специфическую «двумирность» средневекового сознания.
Определенные сомнения внушает и мысль Ариеса о том, что la mort de toi, «твоя смерть», т. е. смерть другого, ближнего, воспринимаемая как лпчное несчастье, явилась своего рода революцией в области чувств, происшедшей в начале нового времени. Несомненно, с падением уровня смертности, наметившимся в этот период, внезапная кончина ребенка, молодого человека в расцвете сил должна была переживаться острее, чем в более ранние времена, характеризовавшиеся нпзкой средней продолжительностью жизни и чрезвычайно высокой детской смертностью. Однако «твоя смерть» была эмоциональным феноменом, хорошо известным и в эпохи неблагоприятных демографических конъюнктур. Ариес охотно цитирует рыцарский роман, эпопею, но в них душевное сокрушение, более того, глубочайшее жизненное потрясение, вызванное внезапной смертью героя илп героини,— неотъемлемый элемент поэтической ткани. Достаточно вспомнить Тристана и Изольду. Брюнхильд в песнях «Старшей Эдды» не хочет и не может пережить погибшего Сигурда. Нет
А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии
123
оснований ставить знак равенства между романтической любовью и любовью в средние века — все, что я хочу отметить, это то, что осознание смерти близкого, любимого существа как жизненной трагедии, а равно и сближение любви со смертью, о котором пишет Ариес, отнюдь не были открытием, сделанным впервые в новое время.
Ариесу принадлежит большая заслуга в постановке действительно важной проблемы исторической психологии. Оп показал, сколь широкое поприще для исследования открывает тема восприятия смерти и насколько многообразен может быть круг привлекаемых для этого исследования источников. Однако сам он пользуется источниками весьма произвольно, несистематично, не обращая должного внимания ни на время, к которому они относятся, ни на социальную среду, относительно которой они могли бы дать информацию 15.
Самые серьезные раздумья вызывает отсутствие в его трудах социальной дифференциации ментальностей. Так, он широко привлекает материал надгробий и эпитафий, но по существу почти не оговаривает, что ведь это источники, способные пролить свет на отношение к смерти лишь определенной социальной группы. То же самое приходится отметить и для завещаний, хотя, конечно, степень их распространенности шире, чем надгробий. Как и в труде о ребенке и семье при старом порядке во Франции, в работах Ариеса о смерти речь идет, собственно, только о верхушке общества, о знатных или богатых людях. Интереса к умонастроениям простолюдинов у этого ученого незаметно, либо он вовсе исключает их из поля зрения, либо исходит из молчаливого допущения, что его выводы, опирающиеся на материал, который характеризует верхний пласт общества, так или иначе могут быть распространены и на его низы. Хотя он, конечно, отлично знает, что, например, па протяжении столетий бедняков хоронили отнюдь не так, как знатных и состоятельных людей: если тела последних помещали в крипты под полом церкви или в могилы в церковном дворе, то тела первых просто-напросто сбрасывали в общие ямы на кладбищах, которые не закрывали плотно до тех пор, пока они не были до отказа набиты трупами. Знает Ариес и то, что «жилищем» сильного мира сего или святого после кончины служил каменный саркофаг, в более позднее время свинцовый гроб или — для менее знатных и богатых — гроб деревянный, тогда как тело бедняка доставляли к месту погребения на тачке или в гробу, который освобождался затем для новых похорон. Наконец, ведомо ему и то, что наибольшее количество заупокойных молитв и месс могло быть отслужено и произнесено (подчас многие тысячи) по завещанию богача, духовного и светского господина, а души представителей прочих слоев общества должны былп довольствоваться весьма скромными поминаниями. Поэтому и шансы социальных верхов и социальных низов па спасение или на сокращение сроков пребывания в чистилище расценивались в средние века и в начале нового времени в высшей степени неодинаково.
Указанная особенность подхода Ариеса к проблеме смерти объясняется, по-видимому, некоторой общей теоретической предпосылкой. Оп исходит из убеждения о существовании в обществе на определенном эта
124
Новые научные направления
пе его жизни единой ментальности. Более того, он считает правомерным рассматривать ментальное автономно, вне связи с социальным. Но тем самым Ариес обособляет такой предмет исследования, право па существование которого еще нужно обосновать. Как справедливо заметил его западногерманский критик, Ариес пишет историю того, что по определению истории не имеет 1Р. Такой подход противопоставляет Ариеса ряду других современных французских (и не только французских) историков, которые, напротив, настаивают на плодотворности изучения явлений социально-психологического порядка в корреляции, взаимодействии с социальными отношениями.
К работам представителей этого направления нам и нужно теперь обратиться.
Проблема смерти на конкретном материале изучается ныне многими специалистами, и обозреть эти работы нелегко. Но по широте охвата исторического времени и пространства с книгой Ариеса может состязаться, пожалуй, только работа Мишеля Вовеля «Смерть и Запад с 1300 г. до наших дней». Книга эта представляет собой завершение целой серии его исследований, в которых наряду с отдельными наблюдениями и построениями содержится немало соображений теоретического и методологического плана. Новая книга создана, несомненно, в качестве своего рода «противовеса» капитальному труду Ариеса, и хотя прямой критики по адресу этого автора в работе Вовеля не так много, в действительности полемика ведется на протяжении всего огромного (760 стр.) исследования,— полемика, распространяющаяся и на решение конкретных вопросов, и на отбор, и на характер использования источников, и на общеметодологические проблемы. Иначе и не могло быть. Вовель — марксист. Если Ариес, которого, конечно, никто не заподозрит в подобной философской принадлежности, находит возможным по существу изолировать отношение людей к смерти от их социальной системы (и, возможно, именно поэтому, в силу невнимания к диалектике социального и культурного, довольно механически и прямолинейно связывает возникновение в конце средних веков установок на индивидуальное спасение с ростом «бухгалтерского духа» у городской буржуазии...), то Вовель утверждает, что образ смерти в определенный момент истории в конечном итоге включается во всеобъемлющую целостность способа производства, который Маркс охарактеризовал как «общее освещение», как «специфический эфир», определяющий вес и значимость всех заключенных в нем форм. В образе смерти находит свое отражение общество, но это отражение искаженное, двусмысленное. Речь может идти только о сложно опосредо-Гванных, косвенных детерминациях, и нужно остерегаться утверждений, устанавливающих механическую зависимость ментальности от материаль-I ной жизни общества. Развитие установок общества пред лицом смерти I необходимо рассматривать во всех диалектически сложных связях с эко-|номическим, социальным, демографическим, духовным, идеологическим аспектами жизни, во взаимодействии базисных и надстроечных явле-“ 17 НИИ .
А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии
125
В новой книге Вовеля критика концепции Ариеса растворена в исследовательском тексте, по в его статье «Существует ли коллективное бессознательное?» 18 возражения Вовеля представлены в недвусмысленной и концентрированной форме. Вовель отвергает используемое Арие-сом понятие «коллективного бессознательного», располагающегося на границе биологического и культурного, и указывает па заложенные в нем теоретические и методические опасности. Под пером Ариеса это понятие мистифицирует реальную проблему. Во-первых, с его помощью Ариес постоянно экстраполирует ментальные установки элиты на всю толщу общества, игнорируя народную культуру и религиозность и особенности восприятия смерти необразованными и понимания ими потустороппего мира. Во-вторых, использование понятия «коллективного бессознательного» приводит Ариеса к «двоякому редуцированию» истории. С одной стороны, он отвлекается от идеологии, ясно выражеппых взглядов и установок тех или иных слоев общества; так, в частности, он не рассматривает протестантизма и «барочного» («посттридептского», контрреформациоп-ного) католицизма с их соответствующими трактовками смерти и отношений живых с тем светом. Снята проблема выработки и распространения культурных моделей и характера их восприятия (включая и противодействие) в низших пластах общества. С другой стороны, придерживаясь понятия «коллективного бессознательного» как автономной, движимой внутренне присущим ей динамизмом силы, Ариес отказывается видеть связи ментальности с социально-экономическими и демографическими структурами.
Для Вовеля неотрефлектированность значительного слоя коллективного сознания не связана пи с какой мистикой и пе может быть понята из самой себя. Между материальными условиями жизни общества, пишет он, и восприятием жизпи разными его группами и классами, ее отражением в их фантазии, верованиях, представлениях происходит сложная и полная противоречий «игра». При этом еще нужно не упускать из виду, что ритмы эволюции базисных форм и движения ментальностей не со-" впадают, а подчас и совершенно различны. Поэтому путь «от подвала к чердаку» (название одной из книг Вовеля) 19 проследить в высшей степени нелегко, и Вовель замечает: история ментальностей «не терпит посредственности и механистического редукционизма». Долгое время, пишет он, между марксистами и немарксистами существовало «неписанное джентльменское соглашение»: первые ограничивали себя преимущественно социально-экономической историей и историей классовой борьбы, отдавая вторым проблемы коллективного сознания и ментальных установок. Ныне историк-марксист должен иметь смелость сказать, что история ментальностей со всеми ее специфическими трудностями также есть его поле деятельности 20.
Сравнение трудов Вовеля и Ариеса неизбежно и поучительно. Оно сразу же оттеняет импрессионистичпость наблюдений Ариеса, который свободно цитирует одно за другим показания источников, относящихся к разным временам и местам. По сути дела книгой Ариеса охвачен тот же период, что и книгой Вовеля, ибо разрозненные свидетельства из пер
126
Новые научные направления
вого периода средних веков едва ли могут создать самостоятельную картину отношения к смерти в ту эпоху. Вовель более последователен, строг в группировке материала, распределяя его по отграниченным один от другого этапам. Читая книгу Вовеля, чувствуешь себя на более прочной почве фактов также и потому, что он стремится систематично использовать разные категории памятников, избегая риска смешения жанров. Специалист по изучению массового, однородного материала завещаний в Провансе XVIII в., материала, который допускает и, более того, требует применения статистических методов, Вовель и в этой обобщающей книге по возможности старается внести число и меру в изучение столь «деликатного» социально-психологического феномена, каковым являются установки общества в отношении к смерти. Во все основные разделы книги он включает подробный анализ демографических данных (численность населения, уровень рождаемости и смертности, средняя продолжительность жизни, по возможности, с дифференциацией по возрастным группам, полам и социальным слоям и классам населения), с тем чтобы затем поставить вопрос о связи между ними и субъективным, ментальным выражением концепции смерти в данном обществе. Странно, но факт: исторического демографа Ариеса цифры в рассмотренной выше работе совершенно не занимают.
Наконец, нужно подчеркнуть, что Вовель, признавая наличие в конкретный период некоего общего духовного климата, вместе с тем не упускает из виду специфические вариации, присущие социальному сознанию определенных групп и слоев, и постоянно возвращается к проблеме резонанса той или иной концепции смерти в общественной среде, стремясь по возможности устанавливать различия между преходящей и поверхностной модой или увлечением, ограничивающимся пределами элиты, с одной стороны, и более глубокой и постоянной тенденцией, мощно охваты-Свающей сознание общества на самых разных уровнях,— с другой.
Применяемый Вовелем метод исследования, по его собственным сло-/' вам, заключается в том, чтобы сочетать тотальный подход, который охватывает как демографию, так и историю идей, как ритуалы, сопровождавшие и окружавшие смерть, так и представления о потустороннем мире, с прослеживанием изменений, происходящих на протяжении больших временных отрезков. При этом Вовель, не склонный, как мы знаем, говорить о «коллективном бессознательном», вместе с тем подчеркивает, что 1 значительная часть того, что высказывается обществом относительно смерти, остается неосознанной, и с этим общим фондом представлений, верований, жестов, психологических состояний в диалектической связи находятся религиозные, философские, научные и всякие иные рассужде-[ния о смерти, которые имеют хождение в этом обществе 2‘. Таким образом, анализ отношения к смерти приходится вести на нескольких, хотя и переплетающихся уровнях, где неосознанное сменяется осознанным. - Что касается характера изменений установок в отношении к смерти, (то Вовель, предостерегая против абсолютизации «вневременности» «неподвижной истории», высказывается весьма сдержанно о выдвинутой Ариесом концепции, которая, как мы видели, сводится к последователь
А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии
121
ной индивидуализации восприятия смерти. Историю этих изменений сам Вовель скорее склонен описывать в виде медленного развития, в котором сочетаются разные модели поведения, развития, прерываемого конвульсивными, резкими скачками: катаклизмы, вызванные Черной смертью XIV в., возникновение темы «пляски смертп» в конце средневековья, «барбчпая» патетика смерти в конце XVI и в XVII в., рецпдивы ее у символистов и декадентов на рубеже XIX—XX столетий...22 Таким образом, время большой длительности сочетается в истории восприятия смерти с временем кратким, ибо разные линип развития характеризуются неодинаковыми ритмами. Вовель обращает особое внимание на «опасность умолчания» в истории восприятия смертп: на протяжении огромной эпохи мы почти ничего не слышим об отношении к смерти анонимных масс, и реальна ошибка: принять за их голос то, что говорили сильные мира сего.
Изложение меняющихся установок в отношении к смерти не выглядит у Вовеля однотонно стилизованным, как в книге Ариеса. Начиная средневековьем, точнее периодом около 1300 г., Вовель выявляет не одну, а, по меньшей мере, две модели осознания смерти: смерть в повседневном и массовом ее восприятии (потенциально опасный мертвец-двойпик, которого оставшиеся в живых стремятся умиротворить) и смерть в ее христианском облике. Последняя не выглядит под пером Вовеля более оригинальной, чем у Ариеса, хотя нужно отметить, что Вовель придает большее значение роли религии в детерминировании установок в отношении к смерти. Что же касается ее модели в глазах народа, то Вовель мог опереться здесь отчасти на новаторское исследование культуры п религиозности крестьян пиренейской деревни Монтайю на рубеже XIII и XIV вв., опубликованное Э. Леруа Ладюри23. Этот французский ученый показал, что в Монтайю, часть населения которой была «заражена» ересью катаров (чем и был вызван инквизиционный процесс, детальные протоколы которого Леруа Ладюри использовал), верили, что души или, скорее, призраки умерших бродят вокруг поселения, не находя себе покоя. Обладая телами, подобно живым, они нуждаются в тепле и питье. Демоны сбрасывают в пропасть души тяжких грешников. Лишь со временем, после искупительных странствий вокруг деревни живых, поселенцы «деревни мертвых» умирают вторично. Катары придерживались учения о метампсихозе, т. е. способности души переселяться в тела других существ. Хотя церковная доктрина о загробном мире особого интереса у крестьян не вызывала и была им известна довольно смутно, тем не менее забота о спасении души и об избавлении от посмертных мук занимала огромное место в их сознании.
Период между началом XIV и концом XV в. Вовель считает поворотным в истории смерти. Он не согласен с темп исследователями, которые видели первопричину бедствий в эпидемии чумы — Черной смерти конца 40-х годов XIV в. Демографический спад начался еще на рубеже XIII и XIV вв., и зло заключалось прежде всего даже не в самой чуме, сколько в частых ее возвратах, так что население не успевало оправиться и восстановить свою прежнюю численность до прихода новой волны зпиде-
128
Новые научные направления
мии. Демография Европы определялась традиционной схемой цикла «климат—неурожай—чума—неурожай», из которой население не могло вырваться вплоть до XVIII в. В «столетия редкого человека» была исключительно высока смертность новорожденных, немпогие дети успевали стать взрослыми, а сорокалетние уже считались стариками. Средняя продолжительность жизни была низка. Конкретнее: смертность достигала ежегодно 30—40 случаев на тысячу, средняя продолжительность жизпи составляла 20—30 лет, лишь половина каждого поколения достигала двадцатилетнего возраста. (Для сравнения напомним, что ныне в промышленно развитых странах ежегодная смертность не превышает 10 на тысячу, средняя продолжительность жизни 70 лет и более, а детская смертность резко упала.)
То, что смерть была суровой повседневностью, объясняет изменения в коллективной психологии. Обострение страхов и апокалиптических ожиданий находило самые разные и несходные выражения: от распространения массовых самобичеваний и еврейских погромов (инаковерцев винили в отравлениях) до истерических плясок, с помощью которых хотели одолеть страх смерти; от роста численности изображений Страшного суда и казней мучеников до лихорадочной поспешности, с какой пользовались радостями жизни, пока пе обрезана ее нить; от своеобразного культа мертвого тела, в частности в облике надгробий, изображавших разлагающийся труп или скелет, и до сцен триумфа смерти и знаменитых плясок смерти, уравнивающей сословия и состояния 24.
Одновременно с этими пароксизмами наблюдается и иное отношение к смерти, связанное с углублением религиозности и очеловеченьем смерти Христа. Упования верующих на спасение связывались с Богородицей и святыми заступниками — посредниками между грешпиком и Богом и чудесными целителями болезней. Что касается образа потустороннего мира, то при наличии большого числа описаний ада и мук, уготованных в нем грешникам, изображения рая редки и бледны. Чистилище же в иконографии этого периода почти вовсе пе встречается: свидетельство, ио мнению Вовеля, того, что оно еще не стало популярным. В отношении между земной жизнью и потусторонним миром позднее средневековье вносит счет и расчет: ритуалы, индульгенции, мессы, число которых достигает сотен и тысяч, считаются нужными для того, чтобы сократить сроки пребывания душ умерших в чистилище и открыть пред ними врата рая. Проповедь нищенствующих монахов имеет педагогическую направленность: верующий должен подготовить душу к смерти. Этим же озабочены и религиозные братства, в которые объединяются люди одной профессии. Необходимости приуготовления к копчине посвящены литературные произведения жанра ars moriendi, в которых текст сопровождается картинами состязания ангелов и бесов в присутствии Христа, Богоматери и святых, собравшихся у одра умирающего. Но сцепы рая и ада изображаются и на театральных подмостках, занимая видное место в мистериях. Индивидуализация смерти может быть прослежена по появившимся в этот период завещаниям и по изменившемуся характеру надгробий, которые изображают супружескую пару.
А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии
129
В мои намерения не входит рассматривать концепцию Вовеля на всем протяжении его обширной и содержательной книги. Уже пз краткого экспозе первых ее разделов, посвященных позднему средневековью, явствует, насколько многопланово изложение материала. Автор стремится наметить несколько линий исследования, выражающих разные аспекты и уровни восприятия смерти, и объединить их в картину, которую он отнюдь не склонен упрощать и делать однотонной, но в контексте которой выявляет взаимодействие этих уровней. Главное же, установки в отношении к смерти, сосуществующие на данной стадии развития общества, не выступают в его построении самодовлеющими. Они отражают, нередко далеко не непосредственно, реальную демографическую ситуацию, которая в свою очередь определяется социальной природой этого общества.
Книга Вовеля представляет собой грандиозную попытку обобщить уже накопленные наукой данные, в том числе и его собственные выводы, и дополнить их новыми наблюдениями, попытку, которую в целом нужно признать удачной. Эта оценка не может помешать выразить сомнения и возражения по некоторым вопросам. Первое возражение в основном совпадает с тем, что уже было сказано о книге его предшественника: тезис об индивидуализации восприятия и переживания смерти на протяжении позднего средневековья, который Вовель, при всех оговорках, разделяет с Ариесом, не представляется достаточно убедительным. Ибо главные аргументы в его пользу — переход от идеи коллективного суда «в конце времен» к идее индивидуального суда в момент смерти грешника — по выдерживают критики. Как уже упоминалось, обе идеи одинаково стары, стары, как само христианство.
Другое замечание медиевиста, которое я позволю себе сделать, вызвано досадным пробелом в книге Вовеля. Он большое внимание — и с полным основанием — уделяет народным архаическим представлениям о смерти, в частности вере в так называемых «двойников», мертвецов, возвращающихся из могилы; живые продолжают поддерживать с ними контакты, приносить им дары, советоваться с ними. Христианизация этих «дублей» шла медленно и едва ли когда-либо была полной. Но Вовель, как, впрочем, и другие современные авторы, которые пишут о восприятии смерти в средние века, обходит молчанием богатейший скандинавский материал25. В сагах, песнях «Эдды», скальдической поэзии, в северных сказках и преданиях сохранились яркие рассказы о «живых покойниках», не менее интересны и археологические сведения, но, к сожалению, в традиции историографии — игнорировать это богатство источников. Здесь не место рассматривать вопрос по существу, но поскольку речь идет о социально-психологических установках в отношении к смерти, то трудно не отметить чрезвычайную, почти беспрецедентную склонность героической поэзии северных народов к изображению мрачнейших сцен умерщвления героев, и в том числе — убийств, совершенных в пределах круга родства, который, казалось бы, исключал взаимные посягательства на жизнь его участников. Гибель мужа от руки жены, предварительно умертвившей собственных детей; братоубийство и убийство по-
5 Одиссей
130
Новые научные направления
Страшный суд. Тимпан западного портала собора Сен-Лазар в Отене работы мастера Гислебертуса. 1130—1140 гг.
Страшный суд. Фрагмент. Праведники
А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии
131
Страшный суд. Фрагмент. Грешники
братима; удовлетворение, испытываемое возлюбленной при вести о гибели любимого человека, па которого опа навлекла месть; убийство собственного господина или вождя—таковы некоторые возвращающиеся, явно существенные темы героической поэзии германских пародов. Если прибавить, что в «Перечне Инглингов», песни, воспевающей древних шведских правителей, о каждом из конунгов этой династии обязательно рассказывается, собственно, только о его смерти, которая выдвинута в центр повествования, то станет ясным, что проблема смерти занимала в сознании древних скандинавов едва ли не главное место26. Ведь и основная этическая ценность, если судить по героической и скальдической поэзии,— слава — окончательно вырисовывается именно в момент гибели героя, в обстоятельствах его смерти.
Далее можно отметить, что в работах, посвященных восприятию смерти в средневековой Европе, п в частности в работах Вовеля, не уделяется должного внимания этнографическому материалу, а он весьма поучптелеп. Достаточно напомнить о широко распространенном обряде «выноса смерти» — символического ее изгнания из коллектива. В архаическом обществе (в этом отношении средневековое крестьянское общество было архаическим) в смерти, как и в болезни, видели результат действия злых сил, от которых нужно было себя оградить. Ритуал «выноса смерти» (поношение и сожжение или потопление олицетворявшего смерть чучела) объединял заботу, связанную с защитой человеческой жизни, с заботой о будущем урожае, и, конечно, не случайно он совер-
5*
132
Новые научные направления
шалея в конце зимы: изгнание смерти было вместе с тем и проводами зимы. Точно так же и культ умерших и культ предков не стоял особняком от аграрных календарных обычаев и обрядов. Все зти магико-сим-волические действия опирались на специфическое восприятие времени — времени не бескачественно однородного, но конкретно наполненного разным содержанием в зависимости от природных циклов, в которые был непосредственно включен средневековый крестьянин27. Обряд «выноса смерти», видимо, восходит к XIV в.; ритуально-магическая борьба со смертью сделалась обычаем в обстановке, сложившейся после Черной смерти в середине этого столетия28.
Можно утверждать, что проблема смерти в средневековой Европе разработана еще далеко не достаточно, и специфика ее восприятия ускользает от взора исследователей.
Знакомство с дискуссией Ариес — Вовель свидетельствует о том, что «смерть в истории» отнюдь не спокойная «академическая» тема или скоропреходящая мода, она возбуждает оживленные споры, в которых затрагиваются серьезнейшие методологические проблемы. Как раз на этой территории происходит столкновение двух весьма различающихся между собой стилей историографии и подходов к источникам и их осмыслению, и даже нечто большее — столкновение диаметрально противоположных пониманий исторического процесса и отношения духовной стороны общественной жизни к ее материальной основе. Любопытно, что оба автора — представители «новой исторической науки» во Франции. Однако объединяет их, пожалуй, только интерес к проблеме ментальностей, но отнюдь не общая методология или философия истории,— лишнее напоминание о том, что к «новой исторической науке» нельзя подходить как к нерасчлененному целому.
Установки в отношении к смерти теснейшим образом связаны с образом потустороннего мира. Мысль о расплате, ожидающей за гробом, оказывала мощное воздействие на трактовку смерти, равно как и на императивы поведения смертных. Поэтому вполне естественно, что вместе с обострением интереса к восприятию смерти людьми минувших эпох возросло и то внимание, которое историки стали уделять средневековой картине иного мира.
Наиболее содержательная работа на эту тему — книга Ж. Ле Гоффа «Возникновение чистилища». Мне уже приходилось останавливаться на ее разборе2В, и здесь во избежание повторений я не буду говорить ни о ней, ни вообще об образе мира после смерти, существовавшем в сознании средневековых людей; это — особая тема, которая заслуживает специального исследования.
В целом же исследование ментальностей, социально-психологических установок общества и образующих его групп, слоев, классов представляет собой задачу первостепенной важности для гуманитарного знания. Здесь нащупывается богатейший пласт коллективных представлений, верований, имплицитных ценностей, традиций, практических действий и моделей поведения, на котором вырастают и над которым надстраивают
А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии
133
ся все рациональные, осмысленные идеологические системы. Без учета этого слоя общественного сознания нельзя понять ни содержания и реального воздействия идей на человеческие умы, ни поведения людей, группового или индивидуального.
Вновь, однако, нужно подчеркнуть, что самодовлеющей «истории смерти» не существует, а потому ее невозможно и написать: восприятие и переживание людьми смерти — неотрывный ингредиент социально-культурной системы, и их установки в отношении этого биологического феномена обусловлены сложным комплексом социальных, экономических, демографических отношений, преломленных общественной психологией, идеологией, религией и культурой. Но если и нельзя говорить об «истории смерти» как таковой, то вычленение ее в качестве антропологического аспекта социально-культурной системы вполне оправданно и дает возможность в новом ракурсе и более глубоко и многосторонне увидеть целое — общественную жизнь людей, их ценности, идеалы, их отношение к жизни, их культуру и психологию.
' Vovelle М. Encore la mort: un pen plus qu’une mode? //Annales, E. S. C. 1982. Vol. 37, N 2. P. 276-287.
2 Febvre L. Le probleme de 1’incroyance au XVIе siecle: La religion de Rabelais. P., 1942; Idem Combats pour l’histoire. P., 1965; Dupront A. Problemes et methodes d’une histoire de la psychologie collective//Annales, E. S. C. 1961. Vol. 16; Duby G. Histoire des mentalites // Histoire et ses methodes. P., 1961. P. 937 sq.; Mandrou R. Introduction a la France moderne (1500—1640): Essai de psychologie historique. P., 1961; Trenard L. L’histoire des mentalites collectives: les pensees et les homines: Bilance et perspectives//Revue d’histoire moderne et contemporaine. 1969. VoL XVI; Spran-del R. Mentalitaten und Systeme: Neue Zugange zur mittelalterlichen Geschichte. Stuttgart, 1972; Le Goff J. Les mentalites. Une histoire ambigue // Faire de l’histoire. P., 1974. T. 3; Idem. Pour un autre Moyen Age. P., 1977; Idem. L’imaginaire medieval. P., 1985; Nitschke A. Historische Verhaltensforschung. Stuttgart, 1981; Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte / Hrsg. von H. Siissmuth. Gottingen, 1984; Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1979; Гуревич А. Я. Некоторые аспекты изучения социальной истории (общественно-историческая пенталогия) //Вопросы истории. 1964. № 10; Idem. Historyczna psychologia spoleczna
«postawowe zadanie» nauki historyeznej//Studia metodologiczne. Poznan, 1968. T. 5.
3 Tenenti A. La vie et la mort a travers 1’art du XVе siecle. P., 1952; Idem. I] senso della inorte e 1’amore della vita nel Rinascimento. Torino, 1957; Huizinga 1. The Waning of the Middle Ages. Hardmondsworth, 1924; Morin E. L’homme et la mort. P., 1951; Vovelle G., Vovelle M. Vision de la mort et de 1’au-dela en Provence d’apres autels des ames du purgatoire, XVе—XXе siecles. P., 1970; Lebrun F. Les hommes et la mort en Anjou aux 17е et 18е siecles: Essai de demographie et de psychologie his-toriques. P.; La Haye, 1971; Le Roy Ladurie E. Le territoire de 1’historien (1). P., 1973; Idem. L’argent, 1’amour et la mort en pays d’Oc. P., 1980; Vovelle M. Mourir autrefois: Attitudes collectives devant la mort aux XVIIе et XVIIIе siecles. P., 1974; Idem. Piete baroque et dechristianisation en Provence au XVIIIе siecle. P., 1978; Idem. La mort et 1’Occident de 1300 a nos jours. P., 1983; Aries Ph. Essais sur 1’his-toire de la mort en Occident du Moyen Age a nos jours. P., 1975; Idem. Western Attitudes toward Death: from the Middle Ages to the Present. Baltimore; L., 1976; Idem. L’Homme devant la Mort. P., 1977; Autour de la Mort // Annales, E. S. C. 1976. Vol. 31, N 1; Chaunu P. La mort a Paris. XVIе, XVIIе et XVIIIе siecles. P., 1978; La Mort au Moyen Age: Colloque de 1’Association des Historiens medievistes franpais reunis a Strasbourg en juin 1975. Strasbourg, 1977; Delumeau J. La Рент en Occident (XIVе— XVIIIе siecles): Une cite assiegee. P., 1978; Neveux H. Les lendemain de la mort
134 Новые научные направления
dans les croyances occidentales (vers 1250 — vers 1300)//Annales, E. S. C. 1979. Vol. 34, N 2;‘Le sentiment de la mort an moyen age/Sous la dir. de C. Sutto. Quebec, 1979; Le Goff J. La naissance du Purgatoire. P., 1981; Mirrors of Mortality: Studies in the Social History of Death/Ed. by J. Whaley. L., 1981; Death in the Middle Ages / Ed. by H. Braet, W. Verbeke. Leuven, 1983; Gurevic A Au Moyen Age: conscience individuelle et image de 1’au-dela //Annales, E. S. C. 1982. Vol. 37, N 2; Gurjewitsch A. Die Darstellung von Personlichkeit und Zeit in der mittolal terlichen Kunst (in Verbindung mit der Auffassung vom Tode und der jenseitigen Welt) //Architektur des Mittelalters. Funktion und Gestalt. Weimar, 1983; Гуревич А. Западноевропейские видения потустороннего мира и «реализм» средних веков // Труды по знаковым системам. Тарту, 1977. Выл. 7; Он же. Проблемы средневековой народной культуры. М._ 1981; Новикова О. А. К вопросу о восприятии смерти в средние века и Возрождение (на материале испанской поэзии) // Культура средних веков и нового времени. М.. 1987. С. 51-59.
4 La nouvelle histoire. Р., 1978.
5 Франсуа де Ларошфуко. Мемуары. Максимы. М., 1971. С. 152.
6 Подробнее см.: Gurevich А. 1. Medieval culture and mentality according to the new French historiography//Archives europeennes de sociologie. 1983. Vol. XXIV, N 1. P. 169 f.; Гуревич А. Я. Этнология и история в современной французской медиевистике // Советская этнография. 1984. № 5. С. 36—48.
7 Aries Ph. L’Homme devant la Mort. P. 287.
8 Анонимность погребения истолковывается Ариесом как доказательство безразличия к индивидуальности. Но этому тезису, имеющему под собой известные основания, противоречит то, что с самого начала средневековья в монастырях составлялись «некрологи» и «поминальные книги», содержащие тысячи имен умерших и жпвых, и эти имена сохранялись и при копировании списков: за спасение души лпца, внесенного в подобный список, молились монахи. Сохранение имени может быть истолковано как внимание к индивиду. Видимо, понимание личности было неодносложным и довольно противоречивым. См.: Oexle О. G. Die Gegenwart der Toten//Death in the Middle Ages. P. 56, n. 200. Cp.: Schmid K.. Wollasch J. Die Ge-meinscbaft der Lebenden und Verstorbenen in Zeugnissen des Mittelalters//Friihmit-telalterliche Studien. Munster, 1967. Bd. 9.
9 Borst A. Zwei mittelalterliche Sterbefalle//Merciir. 1980. Bd. 34. S. 1081—1098.
10 Brenk В Tradition und Neuerung in der christlichen Kunst des ersten Jahrtausends: Studien zur Geschichte des Weltgerichtsbildes. Wien, 1966. S. 43 f.
11 Ibid. S. 107 f.
12 Dinzelbacher P. Vision und Visionsliteratur im Miltelalter. Stuttgart 1981.
13 Подробнее см.: Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной .культуры. Гл. 4; Gurjewitsch A. Die Darstellung von Personlichkeit und Zeit... S. 102 f.; Gurevic A. Au Moyen Age... P. 272. Представление об индивидуальном суде над душою в момент смерти время от времени возникало и в патристической литературе. Однако эта идея была чрезвычайно неясной для раннехристианских писателей (см.: Nte-dika J. L’evolution de la doctrine du purgatoire chez Saint Augustin. P., 1966). Души после смерти испытывают муки или радость в ожидании судного дня, писал Тертуллиан; видимо, предполагалось, что приговор уже вынесен. Точно так же Августин утверждал, что в то время как тела умерших покоятся в могилах, души праведников пребывают в лоне Авраамовом, а души неправедных мучаются apud inferos. Однако суд невозможен без воплощения. После воскресения радости божьих избранников возрастут, а муки неправедных усилится, ибо они будут мучиться совместно со своими телами (August. Comm, in Ev. Joh. 19, 17; 49, 10; Tert. Apol. 48; Brenk B. Op. cit. S. 35). Прямо о суде над душой индивида сразу же после его смерти в этих текстах нигде не говорится.
** Chartier R. Les arts de mourir, 1450—1600//Annales E., S., C., 1976. Vol. 31, N 1. P. 55.
15 McManners J. Death and the French historians//Mirrors of Mortality. P. 116 ff.
18 Zeitschrift file historische Forschung. 1979. Bd. 6. H. 2. S. 213—215.
17 Vovelle M. La mort et FOccident. P. 23, 24; Idem. Les attitudes devant la mort: problemes de methode, approches et lectures differentes // Annales. 1976. Vol. 31, N 1;
А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии
135
Idem. Encore la mort...; Idem. Mourir autrefois...
18 Vovelle M. У a-t-il un inconscient collectif?//La pensee. 1979. N 205. P. 125—136.
19 Vovelle M. De la cave au grenier. Un itineraire en Provence an XVIIIе siecle: De 1’histoire sociale a 1’histoire des mentalites. Quebec, 1980.
20 Vovelle M. Y a-t-il un inconscient collectif? P. 136.
21 Vovelle M. La mort et 1’Occident... P. 10, 22.
22 Ibid. P. 12, 25.
23 Le Roy Ladurie E. Montaillou, village occitan de 1294 a 1324. P., 1975.
24 Мнение о прямой связи между эпидемиями XIV в. и изменением ментальных установок общества в отношении к смерти, которого придерживаются некоторые ученые, встречает серьезные возражения. Эта корреляция оказывается гораздо более сложной и отнюдь пе механической (см., в частности: Chiffoleau J. Се qui fait changer la mort dans la region d’Avignon a la fin du Moyen Age//Death in the Middle Ages. P. 122 f.). Ж. Шиффоло отмечает «одержимость» составителей завещаний XIV—XV вв. мыслью об искуплении грехов в загробном мире посредством максимального увеличения числа заупокойных месс. См.: Chiffoleau 1. La compta-bilite de 1’au-dela. Les hommes, la mort et la religion dans la region d’Avignon a la fin du Moyen Age (vers 1320 — vers 1480). Rome, 1980; Idem. Sur I’usage obsessionnel de la messe pour les morls a la fin du Moyen age // Fairc croire: Modalitcs de la diffusion et de la reception des messages religieux du XIIе au XVе siecle. Rome, 1981. P. 235-256.
25 Понятие «живой труп», в связи с анализом народных дохристианских представлений о смерти, отвергает западногерманский медиевист О. Г. Ёксль. Он утверждает, что это якобы «ученое понятие», не соответствующее никакой исторической реальности (Oexle О. G. Die Gegenwart der Toten. P. 58—60). Но игнорируемые им древнескандинавские источники пе оставляют в отношении веры в существование «живых покойников» ни малейших сомнений. См.: Петрухин В. Я. К характеристике представлений о загробном мире у скандинавов эпохи викингов (IX-XI вв.) // Советская этнография. 1975. Хе 1; Ellis Н. R. The Road to Hell: A Study of the Conception of the Dead in Old Norse Literature. N. Y., 1943.
26 См.: Гуревич А. Я. История и сага. M., 1972; Он же. «Эдда» и сага. М., 1979.
27 См.; Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: весенние праздники. М., 1977. С. 94-95, 98, 141, 148, 193. 206-208, 228-230, 239, 342; ср.: Исторические корни и развитие обычаев. М., 1983. С. 49, 76, 166.
28 Sieber Fr. Deutse.h-westslawische Beziehungen in Friihlingsbrauchen: Todsaustragen und Umgang mit dem «Sommer». B., 1968.
29 Гуревич А. Я. О соотношении народной и ученой традиций в средневековой культуре: (Заметки на полях книги Жака Ле Гоффа) // Французский ежегодник, 1982. С. 209-224.
К. В. Хвостова
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
Контент-анализ, появившись в социологии, сейчас применяется во многих отраслях общественных наук ". Я обращаюсь в этой статье к его специфической форме, относящейся к изучению явлений византийской культуры. Названный метод в его наиболее распространенной форме лишь условно можно назвать методом количественного анализа, поскольку обычно он связан с весьма несложными подсчетами, которые, впрочем, могут явиться основой для использования значительно более сложных количественных методов. И все же контент-анализ это прежде всего метод содержательного качественного анализа источников, о чем и говорит его название. Этот метод используется при изучении массовых источников сложного, в том числе нарративного, характера, содержащих однородную информацию по изучаемой проблеме. Под однородностью информации в данном случае подразумевается повторяемость свидетельств, обозначений, выражений и групп взаимосвязанных выражений, т. е. повторяемость предметных характеристпк, которые, вообще говоря, могут отличаться полисемантичпостью. Уже это обстоятельство (возможная по-лисемантпчность) делает очевидной важность учета всех свидетельств без исключения. Такой учет невозможен при сугубо интуитивном подходе к проблеме и является одним из требований и предпосылкой контент-анализа. По отношению к средневековой истории примером массовых текстов с однородной информацией могут служить жалованные грамоты, имевшие одинаковый формуляр и сходные обозначения, законодательные памятники типа законодательства Юстиниана, в которых содержится множество постановлений, касающихся родного и того же сюжета. Византийская историография, например, также представляет в этом отношении благодатный материал. С одной стороны, это — многие тысячи страниц, что является признаком массовости, а, с другой, выраженная в ней философия истории — и не только она — имеет много общих черт, относящихся как к содержанию, так и к форме изложения. Имеются, так сказать, общие места, штампы, связанные с влиянием христианского миросозерцания, господствовавших этических представлений, риторических приемов, античных традиций2.
„ Суть контент-анализа состоит в том, что он предполагает изучение текстов с массовой однородной информацией в соответствии с процедурой, которая определяется гипотезой о типичном и общем в изучаемом явлении. Такова, например, гипотеза, о которой речь пойдет впереди и согласно которой для византийской философии истории XIII—XV вв. характерно и типично представление о значительной роли нравственно-психологических факторов в истории. Гипотеза выдвигается на предварительной стадии исследования на основе традиционного качественного анализа явления с учетом результатов предшествующих исследований по
К. В. Хвостова. Контент-анализ в исследованиях по истории культуры 137
данному вопросу. Гипотеза — это элемент предпосылочного знания. В исследованиях без применения контент-анализа гипотеза нередко подтверждается с помощью отдельных примеров и рассуждений. Контент-анализ требует эмпирического подтверждения в соответствии со строгой процедурой информационного подхода, означающего перебор всей имеющейся информации. Необходимо в каждом из текстов выявить степень типич- *^ кого, отраженного в гипотезе, и меру индивидуального, меру отклонения j от типичного. На стадии процедуры исследователь не властен над материалом. Повторение процедуры другим исследователем дает те же результаты 3. И лишь на заключительной стадии исследования, на стадии интерпретации, как и при выдвижении гипотезы, проявляется индивидуальное понимание проблемы каждым исследователем. Перебор информации позволяет поставить новые исследовательские проблемы. Исследование интенсифицируется, достигается иной эмпирический уровень решения проблем. Кроме того, отделение процедурной части исследования от до- и постпроцедурных приводит к большей строгости исторических дискуссий. Спор о наименованиях отделяется от спора о предмете и смысле.
Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению содержания и значения процедурного анализа в такой многоаспектной и несущей отпечаток индивидуального исследовательского восприятия отрасли знания, как история культуры, отмечу следующее. Вопрос о значении для исторической науки контент-анализа становится очевидным, если к нему подойти с точки зрения реальных перспектив науки. Предполагается, что историческая наука грядущих десятилетий будет основана на системе машиночитаемых документов, делающих возможным машинное хранение, переработку и молниеносную выдачу информации. Первые шаги в этом направлении делают нашп современники. Ни один международный конгресс по историческим наукам в настоящее время не обходится без обсуждения соответствующих проблем 4. Существует международный центр по разработке принципов перенесения сложной информации нарративных источников на магнитные диски для занесения в память ЭВМ. Этот центр объединяет представителей многих стран, в том числе и социалистических. Работа по созданию машиночитаемых документов ведется у нас в МГУ, Историко-архивном институте, в ИНИОН 5. За рубежом в ряде стран уже давно практикуются машиночитаемые документы, в частности по византийской истории. Предметные индексы к книгам составляют ЭВМ. Казалось бы, для историка — это вопрос техники. Историк не интересуется тем, какие технические задачи и задачи программирования решаются при создании машиночитаемых документов. Но без историка, без подготовительной работы на содержательном уровне никто не осуществит кодировку сложного материала. Именно поэтому названное международное объединение включает историков.
При машинпом храпепип информации возникает вопрос, в какой форме целесообразно запрашивать информацию для решения тех или иных проблем. Какие выражения, термины, сочетания обозначений в виде списков или графов следует выводить на печать с тем, чтобы эта молниеносно получаемая информация отражала бы типичные стороны явлений
138
Новые научные направления
и помогала бы в последующем обращении к тексту источника? Контент-анализ, предполагая выявление необходимых типичных взаимосвязей на содержательном уровне исследования и разрабатывая процедуру, пригодную для анализа всех аналогичных массовых источников с однородной информацией, создает условия для диалога с машиной. Программа для ЭВМ должна адекватно отражать процедуру, разработанную па содержательном уровне. Однако названный, как бы прикладной, характер контент-анализа пе исчерпывает его познавательного значения.
Перехожу к примеру использования контент-анализа при изучении византийской философии истории, отраженной в византийской историографии XIII—XV вв. Для философии истории XIII—XV вв. характерен ряд черт, придающих ей как типичность, так и своеобразие проявления. Известно, что все византийские историки признавали роль божественного провидения в общественном порядке, но известную роль отводили п свободе воли человека. Все признавали дидактическую роль истории 6. Далее заверения в беспристрастном повествовании о событиях, о сообщении истины, которые обычно присутствуют во всех исторических сочинениях византийских историков, означали в действительности оценку событий с позиций господствующих этических представлений. В соответствии с восточно-христианской правовой доктриной признавался божественный характер императорской власти, а также божественное вознаграждение и возмездие 7. Эти элементы философских воззрений отмечены в литературе и достаточно очевидны. Можно считать, что в самом обобщенном приближении к каждому конкретному варианту они обладают в определенном смысле общезначимостью. При строгом методологическом подходе они вряд ли могут быть уподоблены аксиомам в аксиоматическом значении, и все же можно допустить эту условную аналогию, чтобы подчеркнуть функциональную роль подобных примерных выводов в контент-анализе. Опи — элемент предпосылочного знания, источник формулировки конкретной гипотезы. Учитывая эти выводы как постулаты, а также исходя из многочисленных сьДдетельств византийской историографии и других источников, правомерно выдвинуть гипотезу, согласно которой представления византийских историков (преимущественно XIII—XV вв.) о происхождении и структуре исторических событий связаны с представлениями о социальном поведении, о нравственно-психоло-гпческой поведенческой модели. В отдельности все элементы модели четко зафиксированы в произведениях византийских историков, естественно с помощью свойственных той эпохе понятий, относящихся к божественному провидению, свободе воли и т. д. Но в каждом конкретном произведении могут присутствовать только отдельные элементы. Поэтому в целом модель — это научная идеализация, выраженная в понятиях изучаемой эпохи, а затем оцененная, т. е. выраженная на языке понятийного аппарата наших дней.
В суммарном изложении, в виде схемы, модель такова. Необходимость, божественное провидение создает общий космический порядок, внешние по отношению к человеку факторы, обусловливающие его поведение. Ориентируясь во внешних обстоятельствах, человек обнаруживает мотивы и
К. В. Хвостова. Контент-анализ в исследованиях по истории культуры 13!)
цели своей деятельности, принимает решения. Эти решения не могут быть какими угодно, они лимитированы набором добродетелей, присущих человеку. Можно реализовать или не реализовать добродетель и соответственно следует божественное вознаграждение или возмездие. В силу того, что возможности человека определены его природой, т. е. заданы, исторические ситуации повторимы, хотя внешние факторы изменчивы. Повторяемые ситуации можно предвидеть (cw/aCcpat)8. Характерно не только использование этого выражения, применяемого в современной теории вероятностей для обозначения стохастических, т. е. случайностных или статистических, процессов в природе и обществе, характерны сами воззрения. Можно предположить, что византийским историкам были присущи, естественно на уровне понятийного аппарата их эпохи (а именно: в форме представлений о божественном провидении, необходимости, добродетелях, возмездии, божественном даре и т. д.), представления о стохастическом вероятностном характере общественных явлений. Присутствуют все элементы представлений о стохастичности, а именно: имеется представление о необходимости, определяющей общую тенденцию. Далее тенденция реализуется в случайных событиях, зависящих от поступков людей, но не каких угодно, а лимитированных самой природой человека. Признается, таким образом, поле возможностей, или пространство событий. И наконец, каждый результат принятых человеком решений лишь вероятен, так как вероятно и вмешательство непредвиденного — судьбы. Эта схема воззрений, восстановленная на основе общих рассуждений, содержащихся в трудах многих византийских историков (например, Никифора Григоры), а также по документам, отражающим официально-правовую доктрину, является пока еще гипотезой в том смысле, что не ясно, придерживались ли историки этой схемы при анализе конкретных событий.
Иными словами, возникает вопрос, в какой степени эта схема (и вся поведенческая модель) является общим местом и в какой мере она связана с реальным пониманием событий, т. е. насколько гипотеза подтверждается эмпирически. Для выяснения этого и применяется контент-анализ, а рассмотренная схема определяет его процедуру. Она состоит в обнаружении и фиксации элементов схемы при анализе каждого конкретного фрагмента произведений византийских историков, посвященного пониманию событий. Отступления от схемы, а также наличие в определенных фрагментах текста лишь некоторых ее элементов, означают, что разные произведения в разной степени концептуальны. Анализ степени концептуальности — это анализ стиля философского и политического мышления как стохастической вероятностной тенденции. Это та проблема, которую привносит в историю культуры контент-анализ.
В частности, в результате исследования философско-политического мышления как тенденции, т. е. тяготения к определенной трактовке со бытий, можно констатировать синтетический и реферативный стиль мыш ления, например, Никифора Григоры, византийского историка XIV в. У Григоры при конкретном анализе событий выпадают целые звепьп в схеме политического поведения, хотя эта схема почти во всей своей пол
140
Новые научные направления
ноте присутствует в преамбуле его исторического сочинения и в специальных его разделах9. Напротив, в историческом сочинении Григория Пахимера 10, историка конца XIII в., наблюдается значительно большая концептуальность. Постановка новых проблем и иной эмпирический уровень их решения существенны с точки зрения обоснования контент-ана-лиза. Каждый научный прием, особенно новый или не совсем привычный, должен быть обоснован. В этой связи отмечу тот факт, что многие исследователи, далекие от проблем применения ЭВМ в исторической науке, что обязательно приводит к постановке вопросов контент-анализа, тем не менее разделяют мнение о важности той или иной формы полного и детального использования информации, основанной на ее переборе. Выборочные ссылки на источники нарративного характера отражают иллюстративный метод исследования, а потому не точны. Поиск пошел по путп замены ссылок на источники приведением всех фрагментов текста, относящихся к изучаемым сюжетам. Пример — исследование известного австрийского византиниста Герберта Хунгера, посвященное вводной части византийских жалованных грамот, содержащих понятия, относящиеся к византийской официальной идеологии “. Именно эта идея, идея детального перебора информации и легла в основу применения в исследованиях по истории культуры контент-анализа. Этот метод, таким образом, не только правомерен, но и органичен.
Многие историки отнюдь не чуждаются простейших подсчетов, процентных распределений различных выражений и терминов в текстах, вычислений средней по текстам 12. В этом заключаются внешние проявления органичности и правомерности использования в культурологии более сложных методов количественного анализа, которые могут сопутствовать контент-апализу. Говоря о внутринаучном обосновании контент-анализа, добавлю, что при использовании этой методики разрабатываются принципы наглядной репрезентации в виде графов, когнитивных карт. Грубую аналогию такой репрезентации можно усмотреть в таблицах цифрового материала, которые издавна используются в социально-экономической пстории. Без них никто не обходится, так как они создают и наглядность, и максимальный учет информации, а также обеспечивают ее количественную обработку. Материал нарративных источников требует более сложных путей репрезентации информации. Принципы этих путей по отношению к массовым источникам с однородной информацией — в кон-тент-анализе. В плане дальнейшего обоснования методики важно то, что историки постоянно используют такие понятия, как роль, типичность. Это общенаучные понятия, в основе которых лежат представления о норме, устойчивости, типичности, представления о динамическом, или вероятностном аспектах стохастических процессов. Использование этих понятий требует при строгом подходе к методике статистического, основанного на переборе информации, а не выборочного метода.
Анализ по определенной схеме-программе, лежащей в основе контент-анализа и обеспечивает такой перебор. Соблюдение процедуры способствует, кроме того, сохранению па протяжении всего исследования того критерия, который избран на его процедурной стадии и который так легко ускользает при интуитивном подходе.
К. В. Хвостова. Контент-анализ в исследованиях по истории культуры 141
Использование в исследованиях по истории культуры общенаучных понятий, требующих информационного и статистического подходов, содержит, таким образом, внешненаучное обоснование правомерности и органичности контент-анализа в истории культуры. В основе этого обоснования — общеметодологические принципы всякого научного анализа. Возвращаясь к вопросу о появлении в связи с использованием контент-анализа повой проблематики, отмечу следующее. Информационный подход подводит к постановке проблемы исторической информации в соответствии с требованиями, вытекающими из понятия информации, как общенаучной категории13. Этот подход также вполне органичен, так как очевидно, что понятие информации (главным образом его историко-культурный, но также и кибернетический аспект) является ключевым в истории вообще и в истории культуры, в частности. Культурные эпохи различаются способами получения, хранения, передачи и усвоения информации. Есть мнение, что особенности мышления человека в отдаленные эпохи могут быть поняты, если провести аналогию с мышлением ребенка п даже обратиться к практике психиатрии. Мне представляется более плодотворным иной путь. Мышление человека отдаленных эпох — это обычно мышление взрослого и здорового человека, но находящегося в определенной информационной ситуации. Особенности этой ситуации и отражают характерные особенности мышления и культуры эпохи. Такие проблемы, как континуитет, заимствования и оригинальность, штампы, общие места и результат личных исследований и наблюдений, изученные •с использованием категорий современной информатики, приобрели бы особое звучание. Применительно к византийской философии истории XIII—XV вв. в этом отношении интересны такие явления. Известно, что наряду со штампами, общими местами для византийской философии истории характерны и личные наблюдения византийских историков над общественными явлениями. Причем эти наблюдения были в основном психологического свойства, что и обусловило во многом их 1уманистический характер. Можно считать, что элементы научного метода, основанного па наблюдении, систематизации и описании, в средние века зарождаются достаточно рано и прежде всего именно в области психологии. Наблюдения п своеобразный психологический анализ — это, в частности, основа топ культурной рефлексии малоученых или вообще неученых людей средневековья, которую условно иногда называют народной культурой.
Возвращаясь к византийской философии истории, отмечу, что энтропия — мера неопределенности и разнообразия в современной теории информации — высока особенно в тех местах текста, где речь идет об общих, казалось бы привычных, представлениях, относящихся к божественному провидению, судьбе, свободе воли, возмездию и т. д. Однако энтропия значительно ниже в тех фрагментах, которые содержат основанные на наблюдении рассуждения о влиянии на исход событий психологических особенностей и настроений человека. Иными словами, там, где говорится о роли личного соперничества в политической борьбе, о влиянии на политику таких чувств и свойств человека, как зависть, гнев, чести любие, строгости, единообразия и последовательности в рассуждениях
142
Новые научные направления
больше, чем в тех местах произведений, где присутствуют, казалось бы привычные, схемы космического порядка. Я проследила это явление на материале произведений византийских историков Грпгоры и Пахимера. Если бы этот вывод подтвердился па материале произведений других византийских историков, можно было бы говорить об информационной характеристике, относящейся к византийской философии истории. II можно было бы говорить еще об одном подтверждении высказанной ранее гипотезы о роли нравственно-психологических факторов в поведенческой модели византийских историков. Специфические «средневековые» формы распространения информации в Византии, огромная роль в этом отношении эпистолографии — одна из причин преувеличения византийскими писателями роли нравственно-психологических факторов в социальном поведении.
Вообще любое социальное поведение не может быть рассмотрено вне детального перебора информации, того перебора, который по отношению к источникам с массовой однородной информацией обеспечивает контент-анализ. Перебор информации подводит к проблеме ее сравнительной оценки, и в этом случае не обойтись без выбора информационного критерия. В частности, критерий, основанный на энтропийном анализе, позволяет оценить значение явления в совокупности других однородных сообщений или явлений. Историк, исследуя исторические явления, в том числе п явления культуры, собирает различные сведения, разбросанные в различных источниках. В результате этого сбора информации историк воссоздает картину явления. Интуиция исследователя обычно подсказывает ему оценку той роли, которую изучаемое явление играет в системе других однородных и аналогичных по своей социальной роли и функции явлении п факторов. Энтропия как мера разнообразия и неопределенности ситуации сделает оценку этой роли более точной, детализированной, пригодной для сравнительного анализа.
Суммируя роль контент-анализа в исследованиях по истории культуры, можно также сказать, что его использование содействует чрезвычайному расширению возможностей историко-сравнительного метода.
Итак, использование контент-анализа в исследованиях по истории культуры, как видно, связано с общеметодологическим требованием, предъявляемым к исследованиям больших массивов фактического материала. Согласно этому требованию каждое исследование должно включать теоретическую часть, содержащую гипотезу, основанную на предпо-сылочном знании, и эмпирическую часть, назначение которой в подтверждении, точнее проверке гипотезы па основе перебора информации и ее оценки. Встает вопрос, пе означает ли такой подход знака равенства между гуманитарным и естественно-научным знанием. Ни в коей мере! Остается множество различий, которые, в частности, проявляются п в данном подходе. Остается характерная для гуманитарных наук множественность парадигм, гипотез, процедур, отражающая многоаспектность гуманитарных исследований. Известно, что в отношении одного и того же явления могут быть высказаны разные гипотезы, основанные на одном и том же предпосылочном знании, но акцентирующие разнообразные
К. В. Хвостова. Контент-анализ в исследованиях по истории культуры 143
и многочисленные стороны явления. Причем, эти гипотезы в отличие от гипотез в естественных науках относятся пе только к тенденции, закономерному явлению, но и к случайным признакам и индивидуальным формам. Все эти проявления — объект изучения исторической науки, тогда как объектом изучения естественных наук являются только закономерные тенденции и проявления.
Но ведь предметом истории культуры является и закономерное, и в этом смысле к ней применимы общенаучные методологические требования. Множественность парадигм, кроме того, пе исключает необходимость соблюдения закона логического тождества, а имеппо необходимость сохранения в каждом исследовании на всем его протяжении выбранной парадигмы и соответствующей гипотезы. Необходимым остается и требование проверки гипотез.
Таким образом, контент-апализ — это метод, который позволяет включить исследование по истории культуры в рамки общенаучной методологии. Но ведь именно таково одно из требований, предъявляемых к приемам междисциплинарных исследований. И таковым приемом в полном смысле этого слова является контент-анализ. Это обстоятельство в целом как в фокусе отражает роль контеит-апализа в совершенствовании понятийного аппарата историко-культурных исследований и в создании возможностей для постановки новых исследовательских задач.
И в заключение несколько слов об общих перспективах. Известно, что в последние годы проблематика и понятийный аппарат историко культурных исследований значительно обогатились за счет семиотики, философии, демографии, психологии и других наук. В меньшей мере этому обогащению все еще способствуют точные пауки, хотя некоторые математические понятия, как, например, «информация», стали общенаучными понятиями. Правда, историки не отказываются использовать в своих работах отдельные выражения, относящиеся к математическим понятиям, такие, например, как репрезентативность, модель, корреляция, по освоение самого понятийного аппарата все еще наталкивается на значительные трудности. Я думаю, что свое слово скажет наша молодежь.
1 Проблемы контент-анализа в социологии. М., 1970; Методологические и методические проблемы контент-анализа. М.; Л., 1973; Advances in Content-Analisis. L., 1981.
2 Досталоеа P. Византийская историография//Византийский временник. М., 1982. Т. 43. 3 Методологические и методические проблемы контент-анализа. С. 22.
4 См., например: Irigon I. Metodologie//XVI Internationaler Byzantinistenkongress: Akten 1/1. Wien, 1981; Guillou A. Technologic // Ibid.
5 Гельман-Виноградов К. Б. Машиночитаемые документы в СССР. М., 1980. Вып. 1; М., 1982. Вып. 2. 6 Досталоеа Р. Указ. соч.
7 Hunger II. Prooimion: Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden. Wien, 1964.
6 Например: Nicephori Gregorae Byzantina Historia. Bonnae, 1829—1833. Vol. 1. P. 5. 15—16. См. также: Vol. 1. P. 310; Ср. также: Досталоеа P. Указ. сОч. С. 33 (примеч. 93). 9 Nicephori Gregorae... Vol. 1. P. 3—15.
10 Georgii Pachymeris Historia. Bonnae, 1835. Vol. 1. P. 13. Ср.: Досталоеа P. Указ, соч. С. 33 (примеч. 93). ** Hunger Н. Op. cit.
12 См., нанример: Методы количественного анализа текстов нарративных источников. М., 1983 (ротапринт).
13 Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом. М., 1975.
182
Публикации
в своей тени, и однако, даже в том, чем они наслаждаются, сияет разлитый вокруг свет Твой» (De lib. arb. 2, 16, 43).
51 Редких и невиданных животных привозили в Рим и выставляли на всеобщее обозрение. В числе их бывали тропические звери (тигр, носорог), огромные змеи, животные необычайной окраски.
52 Августин, однако, признавал и ценил светскую науку (О граде Божием, 19, 18) при условии, что ее сопровождают смирение и доброта (Письма, 55, 39; In Jon., 27, 5; На псалмы, 142, 5).
53 У Августина был всегда живейший интерес к явлениям природы. Он следил за тем, как ползет змея (О Троице, 12, 11, 16); как извиваются разрезанные на куски змеи или червяки (О свойствах души, 31, 62); как ведут себя после драки петухи, победитель и побежденный (О порядке, 1, 8, 25); с каким искусством птицы строят гнезда. Он удивлялся памяти рыб и наслаждался пением соловья (Об истинной религии, 42, 79).
54 Этот последний стих «потрясены основания гор» Августин объясняет в своем толковании этого псалма: «И надежды гордецов века сего были потрясены».
55 Ис. 14, 13—14: «Как упал ты с неба, денница [диавол]... а говорил: взойду на небо... сяду на горе в сонме богов на краю севера».
56 Притч. 27, 21: «Как в печи испытывается золото... так испытывается человек устами хвалящего».
57 В письме Августина к карфагенскому епископу Аврелию (Письма, 22) содержится краткое размышление о любви к похвалам и о той опасности, которою эта любовь грозит служителям церкви. Августин признается, что и сам он любит, когда его хвалят.
58 Парадоксальное утверждение: человек знает бога лучше, чем себя. Ср. § 7 этой же книги: «Я знаю о Тебе то, чего о себе не знаю».
59 Августин в толковании на это место: «Лживая похвала льстеца — это елей для грешника».
80 Не «объективные» образы внешнего мира, сохраненные памятью, но те, которые включают и субъективный элемент.
81 Намек на тот мистический опыт, который Августин пережил в Остии (9, 24). «Часто я сознаю, что нахожусь вне тела и за пределами всех существующих вещей: я в себе самом и созерцаю чудесный свет и красоту» (Плотин. Энн. 4, 8, 1).
82 «Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2, 16).
83 Августип в толковании на этот псалом объясняет «десницу» как «милость благодати Твоей».
84 Августин намекает на практику тех неоплатоников, которые прибегали к теургии. Августип часто отождествляет низших богов неоплатонизма с ангелами. Он говорит, что Порфирий учил, будто есть ангелы, на обязанности которых открывать людям божественные тайны, и приспособил свое учение для тех, кто занимался вызыванием духов.
65 Целью воплощения Христа в области нравственной было, по мысли Августина, научить людей смирению.
88 «Свободный среди мертвых» — «в этих словах вполне ясен образ Господа. Кто может быть свободным среди мертвых, кроме Того, Кто среди грешников один без греха?.. Тот свободен среди мертвых, Кто имел власть отдать душу Свою и вновь взять ее» (Августин. На псалмы, 87).
87 Ср.: Евр. 9, 28: «Так и Христос был однажды принесен в жертву, чтобы уничтожить грехи многих; вторично Он явится для ожидающих Его во спасение».
•8 В пустыню уходили и Василий, и Златоуст;. Иероним окончил в ней свою жизнь.
Хроника
МЕЖИНСТИТУТСКИЙ СЕМИНАР ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
В мае 1987 г. при Научном совете по истории мировой культуры Президиума АН СССР начал работать межинститутский семипар по исторической психологии (с осени 1988 г. семинар существует под эгидой упомянутого выше Научного совета и Института всеобщей истории АН СССР). Руководитель семинара — А. Я. Гуревич. Участники семинара — в основном сотрудники академических институтов и вузов: историки, этнографы, искусствоведы, психологи.
Ниже предпринята попытка кратко изложить содержание докладов, прочитанных до ноября 1988 г.
Открывая первое заседание, А. Я. Гуревич напомнил, что аналогичный семинар существовал в конце 60 — начале 70-х годов под руководством Б. Ф. Поршнева, так что восстановление его можно рассматривать как продолжение одного из незавершенных начинаний 60-х годов. Он сформулировал основные задачи возобновленного семипара: выявить сегодняшнюю историографическую ситуацию в области исторической психологии, осмыслить опыт мировой и отечественной науки; продумать методологические проблемы, возникающие в ходе взаимодействия двух наук — истории и психологии; главная же задача — стимулировать конкретно-исторические исследования в этом направлении.
А. Я. Гуревич перечислил те вопросы, которые желательно обсудить в семинаре. Это, в первую очередь, уже имеющее традицию в нашей пауке изучение культурного облика различных эпох, их глубоко различных смысловых систем. При этом под культурой эпохи понимается не только и не столько систематизированная мысль и образцы высокого искусства, но та «магма обыденного сознания», которая их окружает, образуя «подсознание эпохи». Соответственно, одна из проблем — соотношение стереотипов сознания и уникальных проявлений культуры, их диалектика. Важнейшая и почти еще не тронутая тема — изменение стереотипов сознания. Какими факторами оно определяется, какова здесь роль отдельных людей, каковы возможности и пределы изменения духовной среды?
Будут обсуждаться в семинаре и теоретико-методологические вопросы. Однако все методологические постулаты должны не просто провозглашаться, но поверяться конкретными исследованиями. Наконец, мы намерены, сказал А. Я. Гуревич, поговорить о собственной ментально
184
Хроника
сти, ментальности историков, поскольку мы стремимся обновить ее, избавиться от вчерашних стереотипов.
На том же заседании выступил В. А. Шкуратов (Ростов-на-Дону), доклад которого был посвящен трудностям, стоящим на пути освоения психологической наукой исторического прошлого. Они заключаются, прежде всего, в неадекватности историческому документальному материалу методов современной экспериментальной психологии, умеющей работать только с психическими реакциями конкретного человека. Однако корни взаимного неприятия психологии и истории, существующего наряду с взаимным тяготением, гораздо глубже. Эти науки принадлежат к разным познавательным традициям — естественнонаучной и гуманитарной, ориентированным соответственно на познание причины и смысла. Ближе всего, по мнению докладчика, эти традиции сошлись во второй половине XIX в. в деятельности В. Вундта и В. Дильтея. Затем разрыв углубился, причем экспериментальная психология полностью отождествила себя с естественнонаучной традицией. Сегодня она не изучает самого главного в сознании человека — смыслообразующих механизмов. Л. С. Выготскому, хотя он наиболее четко сформулировал гипотезу о знаковом внеиндивидуальном характере психической деятельности человека, тоже не удалось, по мнению докладчика, преодолеть разрыв с гуманитарной традицией.
В. А. Шкуратов подчеркнул, что драма человеческого сознания разыгрывается не только в мозгу отдельного человека,— она разыгрывается в пространстве культуры. Существует, таким образом, не только физиология сознания, но и его социология. Предметом исторической психологии и должны стать социально укорененные механизмы смыслообразо-вания, их функционирование и смена. Как будут при этом сочетаться методы двух традиций — вопрос открытый. Ясно, однако, что двойственность, отражающая реальную принадлежность сознания двум мирам — физиологии и культуре,— сохранится.
Н. В. Брагинская свой доклад «Противоречия источника и их интерпретация: поэтика Аристотеля» (июнь 1987 г.) начала с того, что историческая психология как особая дисциплина, должна, очевидно, опираться на собственную периодизацию, отражающую поворотные моменты в развитии сознания. Одним из важнейших поворотных моментов Н. В. Брагинская считает «ситуацию первой философии», когда естественный язык из средства общения преобразуется в инструмент рефлексии. Известнейший пример такой ситуации — Древняя Греция: «все греческие философы рвались вон из своего родного языка». Древнегреческая литература еще не стала полностью письменной, она находится на полпути от мифа. Происходит глубокая трансформация всех умственных привычек, даже на уровне быта: Аристотель читал уже без помощи раба (над чем Платон смеялся), но писал еще не сам. Одновременно изменяется язык, слова наделяются иными, иногда противоположными смыслами.
Процессы, шедшие в древнегреческой литературе, не всегда учитываются современными переводчиками. Докладчица пояснила это на примере понятия катарсиса. Пришедшее из культа Диониса и пронизанное
Хроника
185
первоначально духом оргиастичности, оно было радикально переосмыслено Аристотелем. Для Аристотеля катарсис уже не потрясение, он означает успокоение духа в мысли, прояснение смысла трагедии, примирение с ней.
На том же заседании с докладом «Римские моралисты и имморалисты в конце Республики» выступил Д. В. Панченко. Он анализировал логику поведения людей в кризисную эпоху крушения римских республиканских добродетелей, что современники называли падением нравов. Среди множества поступков, описанных, в частности, Плутархом, докладчик выделил такую их общую черту, как демонстративность. Именно она, по его мнению, роднит, например, представлявшихся современникам антиподами Антония и Катона младшего: один демонстративно нарушал общепринятые римские нормы, другой столь же подчеркнуто, даже утрированно, им следовал.
В чем, по мнению докладчика, состоял смысл демонстративности? В условиях, когда старые общинные ценности девальвируются, а новые еще не выработаны, когда происходят «поиски новой знаковости», демонстративность сама по себе может играть социально консолидирующую роль. Такого рода поведение, считает Д. В. Панченко, всегда проявляется в кризисные моменты общественного развития, когда иные факторы социальной консолидации исчерпаны.
Доклад вызвал оживленные прения. Автора упрекали в том, что он уклоняется от рассмотрения внутреннего мира своих героев; что слишком прямо переносит в историю особенности психики современного человека, минуя анализ культурно-исторической ситуации эпохи — ведь внешне сходные явления могут быть следствием разных причин. В то же время многие одобрили стремление изучать не только представления людей, но и способы их поведения.
В октябре 1987 г. состоялся доклад Л. М. Баткина «Письма Элоизы к Абеляру: Личное чувство и его культурное опосредование». Докладчик констатировал, что известные письма Элоизы рассматриваются обычно так: либо в них обнаруживают эпохально-общее, религиозную ментальность людей XII в., традиционные риторические формулы, либо — извечные человеческие чувства. В обоих случаях, с его точки зрения, упускается главное — возникновение уникального текста внутри готовой культуры.
Личное чувство не может быть выражено внекультурными средствами, личный душевный опыт должен быть уложен в матрицы современного ему сознания. Но живой опыт не может поместиться в готовые формы, не изменяя их. Эти готовые формы, устоявшиеся значения наполняются личностным смыслом только благодаря усилию индивидуальной рефлексии. Тогда внутри «стоячей» ментальности возникает смысловое движение, изменяющее и самое ментальность. В итоге того же усилия сотворяется одновременно и индивидуальность человека. Элоиза не стала бы Элоизой, не написав своих писем.
С. С. Неретина в докладе «Загадки как способ преображения чудесного» (ноября 1987 г.) поставила своей задачей уточнить средневековое
186
Хроника
понятие чуда. Материалом послужил латиноязычный памятник XIII в. «Римские деяния» — сборник новелл светского содержания, снабженных истолкованиями духовно-мистического характера. Построенные таким образом тексты, по мнению докладчицы, представляют собой своего рода загадки, а названия, предваряющие их, и морализации, завершающие текст,— отгадки. Структура текстов при этом отражает строй мысли средневекового человека, который понимал чудо как особую реальность Слова, возникающую при столкновении двух /многих/ смыслов событий — человеческого и божественного. Для составителей таким образом понятых загадок (С. С. Неретина возводит начало этой традиции к временам «каролингского возрождения») не менее важной была возможность «за-мысленности чуда», его «заземления» в тексте новеллы, «окультуривания».
На том же заседании А. Я. Гуревич сделал доклад «,,Ехешр1а“ XIII в.: литературный жанр и стиль мышления». Это был анализ одного из своеобразных жанров церковной литературы, так называемых примеров — включавшихся в проповедь анекдотов, содержавших нравоучительные наставления. Адресованные широким кругам прихожан, «примеры» по необходимости должны были отражать представления не только учепых-богословов, но и простонародья.
Анализируя «примеры», А. Я. Гуревич уточнил свое понимание средневековой культуры, согласно которому в ней взаимодействовали, переплетаясь и противоборствуя, два типа сознания — ученая культура клириков и «магическое» народное сознание. Оба типа сознания свойственны, по мнению А. Я. Гуревича, всем людям средневековья, и клирикам, и простецам, хотя и в разной пропорции. Тем не менее две культурные традиции живут по своим собственным законам. Народная культура не знает аристотелевой логики, в ней уживаются противоположные, по нашим понятиям, представления. Воспринимая из ученой традиции христианские богословские идеи, она существенно их преобразует. Так, образы христианских святых приобретают амбивалентность, свойственную языческим магам.
Г. С. Кнабе посвятил свой (состоявшийся в декабре 1987 г.) доклад «Луций Лициний Лукулл, консул 74 г. до н. э.» той же эпохе, что и Д. В. Панченко. Он реконструировал внутренний мир человека, принадлежавшего одновременно двум разным духовным стихиям. Одна иэ них — суровый мир традиционных римских гражданских добродетелей: Лукулл ревностно выполнял обязанности консула, руководил военными действиями. Но в часы досуга он безоглядно погружался в изысканный мир эллинистической культуры («лукуллов пир»),
Г. С. Кпабе полемизировал с той мыслью состоявшегося ранее доклада Л. М. Баткина, будто в рамках традиционных культурных форм возможна выработка новых смыслов. По мнению Г. С. Кнабе, это невозможно, по крайней мере для римской эпохи. Полисные нормы всегда обращены в прошлое, и потому развитие выступает не как создание новых ценностей, а как разрушение старых, патриархальных. Но и обращение к чужой, заимствованной культуре не спасает отдельного человека,
Хроника
187
приводит его к внутреннему опустошению. В условиях распада старых форм жизни при помощи одних только индивидуальных усилий невозможно сведение воедино разных способов жить. Возможности человека ограничены тем, что уже выработано обществом, в римском же обществе тогда еще не существовало понятия о личностном смысле человеческого существования. Люди, которые, подобно Лукуллу, искали выход в обращении к чужой культуре, вели фактически двойную жизнь, внутренне мучительную. Докладчик напомнил о версии самоубийства Лукулла.
В январе 1988 г. Е. Б. Рашковский и В. Г. Хорос прочитали два доклада под общим названием «Социопсихологическая проблематика русского народничества». Основное внимание они обратили на неизученный и даже почти не обсуждаемый феномен: религиозную окрашенность мировоззрения народников.
Опираясь на анализ текстов, докладчики доказывали, что народ заместил в мировоззрении народников бога, откуда их мессианизм, жертвенность их мироощущения.
Фиксируя одно и то же явление, докладчики по-разному расставили акценты. В. Г. Хорос, в соответствии с развиваемой им совместно с Е. Г. Плимаком концепцией «догоняющего» типа развития России, объяснял этим типом развития архаичность и незрелость мышления народников, а также дальнейшие противоречия русского революционного движения.
Е. Б. Рашковский, тоже связывавший специфику народнического мировоззрения с социальной и моральной противоречивостью революционного движения в пореформенной России, подчеркнул, однако, что их своеобразная религиозность была все же порождена стремлением этически компенсировать тенденции нигилизма, насилия и нечаевщины поисками положительных духовных ценностей.
И. Л. Фадеева в докладе «Личность в средневековом мусульманском обществе» (февраль 1988 г.) на материале средневековой Турции доказывала, что определяющей чертой этой личности является глубочайший традиционализм. Мусульманское общество требует от человека неукоснительного следования традиционным нормам жизни гораздо жестче, чем средневековое европейское общество, которое тоже принято называть традиционным. Эти различия, считает И. Л Фадеева, зародились рано, еще на уровне племенного быта, образовали «цивилизационный генотип» (христианство и ислам лишь оформили и закрепили их) и сохраняются до новейшего времени, до эпохи модернизации.
В феврале 1988 г. состоялась встреча участников семинара с известным ленинградским литературоведом Лидией Яковлевной Гинзбург. Л. Я. Гинзбург прочла фрагменты из своих новых воспоминаний-эссе. В центре их — психологические коллизии, возникавшие при восприятии российской интеллигенцией, воспитанной на идеалах революции и наро-долюбия, советской действительности 30-х годов.
В апреле 1988 г. В. А. Шкуратов прочел доклад «Воображение как социально-историческая категория». Рассматривая воображение как один
188
Хроника
из важнейших источников развития смыслообразующих механизмов сознания, докладчик предложил схему этого развития.
По его мнению, картина мира складывается, с одной стороны, из пестроты разнообразных и противоречивых смыслов и, с другой — из значений, принимаемых всем обществом. Однако и готовые значения постоянно вновь превращаются в смыслы, проблематизируются. Идет процесс смыслообразования, в котором п происходит развитие сознания. Большую роль в этом процессе играет изобретение новых техник воображения и «социальное укоренение» их. В. А. Шкуратов выделил несколько последовательно осваиваемых человечеством «технологий воображения» — магическое, мифологическое, мистическое и т. д. Новоевропейская рациональность, связанная с определенным типом воображения, по мнению докладчика, не является финалом развития человеческого сознания.
В мае 1988 г., па основе распространенной среди участников семинара анкеты «Характер и пределы индивидуального в разные историко-культурные эпохи», был проведен круглый стол по этим проблемам. Выступили А. Я. Гуревич, Л. С. Васильев, Г. Г. Дилигенский, А. Г. Асмолов, И. Л. Фадеева, Я. В. Чеснов, Е. С. Штейнер, О. Ю. Бессмертная, А. А. Курносов и др. Выявилось значительное расхождение во взглядах на исторические судьбы личности и индивидуальности и в истолковании самих понятий. Пестроту высказывавшихся точек зрения можно свести к нескольким основным позициям.
1) Личность есть всегда и везде, где есть человек разумный, и спор может идти только о том, какая это личность. Тип личности жестко связан с типом культуры. В разных культурах личность конституируется по-разному; мера индивидуальности, которую может позволить себе человек, тоже определяется типом культуры. Сторонники этого взгляда резко возражают против оценочного употребления понятия «личности».
2) Личность формируется только в определенных типах культуры. Например, в антично-европейской, или антично-новоевропейской (пропуская средневековую); она или возникает вместе с христианством, или только в новое время. В мусульманском и японском средневековье, считают многие, личностный фокус культуры не выражен вовсе или выражен слабо. Высказывалась и та точка зрения, что на Западе и Востоке процессы формирования личности идут на протяжении истории параллельно (взгляд, которого придерживался Н. И. Конрад).
3) Научное понятие личности нужно как-то увязать с обиходным, оценочным, согласно которому внутри одного и того же общества есть личности и не личности. При этом признаком личности считают меру индивидуальности, или качества лидера, или внутреннюю работу, совершаемую человеком для достижения гармонии личного и общественного.
Обсуждение проблем, поднятых за круглым столом, было продолжено двумя докладами, прочитанными в июне 1988 г. С точки зрения Л. М. Баткина (доклад «О понятии индивидуальности с историко-культурной точки зрения»), понятия личности и индивидуальности синхронны и взаимосвязаны (оп предлагает отличать новоевропейскую ипдиви-
Хроника
189
дуальность от индивидности, проявляющейся всегда). Они вырабатываются хотя и на основе антично-христианской традиции, однако не в ней самой. Античная и средневековая Европа, считает Л. М. Баткин, скорее, напоминает традиционные общества Востока: здесь господствует та же ориентация на общественно принятые образцы поведения. И лишь начиная с эпохи Ренессанса, на протяжении XV—XX вв., происходит метаморфоза, сопоставимая разве что с «осевым временем» (временем возникновения мировых религий),— складывается новая общественная ориентация на индивидуальность человека, доведенную до уникальности. Ориентация на образцы сходит на нет: индивидуальности подражать нельзя. Хотя сдвиги в культуре всегда происходили за счет индивидуальных усилий, но общественно признанной ориентации на такие сдвиги раньше не существовало. Возникает новый тип культуры, новый духовный мир, с иными проблемами, прежде всего с обострившейся проблемой индивидуального выбора. Новое общество держится не насилием, авторитетом или боязнью загробного наказания, а опирается на внутренние возможности и достоинство отдельного человека. Однако и сегодня реализация этого идеала личности и общества во всемирно-историческом масштабе — еще только возможность и программа.
А. Г. Асмолов в докладе «Личность и историко-эволюционный процесс» задается вопросом об эволюционном смысле культурных стереотипов и незапрограммированных, выходящих за рамки социально-типичного поступках личности, в которых проявляется ее индивидуальность. Предположение докладчика заключается в том, что в то время как культурные стереотипы, традиции, социальные установки служат стабилизации общества, т. е. реализуют тенденцию к сохранению данной системы, личностные различия людей, их индивидуальность, неповторимость служат дестабилизации социокультурной системы, делая ее более изменчивой, гибкой. Это повышает ее жизнеспособность, обеспечивает ее развитие при резких изменениях условий существования.
В истории общества «социальными неадаптантами», опрокидывающими принятые стереотипы поведения, могут быть шуты, юродивые, трикстеры. Карнавальные действа — институты, в которых нормой является антинорма, служат расшатыванию общественных устоев. По мнению докладчика, подобная смеховая культура — это не только катарсис социальной напряженности, но и поиск новых культурных форм. С историко-эволюционной точки зрения за проявлениями индивидуальности стоят потенциальные возможности развития культуры.
Осенью 1988 г. занятия семинара возобновились докладом Вяч. Вс. Иванова «О некоторых новых тенденциях в изучении истории культуры». Он обратил внимание ла следующее противоречие. С точки зрения естественных наук (астрофизики, биологии), которые сегодня уже не могут обойтись без рассмотрения человеческого фактора в истории мира, развитие сознания, культуры, ноосферы предстает как необратимый, набирающий силу процесс. Однако гуманитариям, занимающимся несколькими тысячелетиями письменной истории, он представляется прерывистым и полным попятных движений.
190
Хроника
Причины этого докладчик видит в том, что в культуре постоянно всплывают архетипы, архаические структуры сознания. Культура древнейших периодов, выполняя функцию подавления животного начала в человеке, формировалась прежде всего как система запретов. Этому служили ритуализация и сакрализация всей жизни. Однако инерционность культуры приводит к тому, что, выполнив в основном эту функцию, запреты остаются в культурном коде. Будучи средством изживания архаики, культура сама несет в себе множество архаических черт. Это во многом и создает абсурдность нашей повседневности. Хотя в масштабах истории человечества несколько десятилетий абсурда — ничто.
Доклад И. С. Клочкова «Становление письменной культуры Месопотамии» (октябрь 1988 г.) был посвящен соотношению мифологического сознания и письменной культуры, возникшей в Древнем Вавилоне. Ее своеобразие, по мнению докладчика, состоит в том, что письменность здесь возникла из сугубо хозяйственных нужд (подсчет корзин с зерном). Это придало зарождающейся письменности «отчетно-бухгалтерский» характер и наложило ту же печать на ранние вавилонские тексты и мышление горожанина в целом. Такой узкий, прикладной характер месопотамская письменность сохраняла на протяжении нескольких тысячелетий. Только затем начинается освоение ею фольклорных текстов (гимнов, молитв, заговоров), до эпоса же дело доходит не ранее II тысячелетия до н. э. Однако и тогда, отчасти благодаря своему «перечислительному» характеру, месопотамская письменность все же не позволила мышлению вырваться за пределы мифологизма, в сферу рефлексии, как это произошло в Древней Греции.
Е. М. Михина
Summaries
191
SUMMARIES
A. J. Gurevitch. To the Reader
Studying mentalities, the notions and ideas of people in this or that epoch, of this or that socio-cultural community is an important task of present-day historical science. Only the knowledge of the principal features of mentality makes it possible to comprehend the behaviour of man or group in society. The category of behaviour comes now to the foreground of investigation. To comprehend the mentality and behaviour of the people of the past epochs, the methods of cognition and research traditionally used by historical science have become insufficient. Complex inter-disciplinary studies have acquired particular importance. The Editorial Board of the «Odysseus» series sees it as their principal goal to unite on its pages specialists in various spheres of the Humanities, to present their discussions and dialogues, and publish their concrete and theoretical works as well.
V. V. Ivanov. Cultural Anthropology and History of Culture
The logic of the development of present-day science necessarily requires cooperation of the two formerly separate disciplines. While cultural anthropology describing the so called primitive societies, usually presents culture as a system, history of culture studying basically the ancient civilizations of the Orient and those of West-European culture, i. e. societies of unbroken writing tradition, is in possession of means and methods of «microscopic» investigations of the process. The difference of methods here is dictated by the very difference of the societies under study, as C. Levi-Strauss calls them, cultures «cold» and «hot». «Hot» cultures possessing historical consciousness, are oriented so as to seek new texts, w’hile the «cold» ones, as myth-oriented, seek to reproduce a sum of standard texts.
Despite the difference of the studied objects, exchange of methods might be very useful. There are no societies that could be quite «pure». One can find traces of history in a myth, a certain dynamism in a «cold» culture, seen in its unrealized inner resources; while the culture of a «hot» society reveals a certain recurrence resulting in the stability of its image. Besides, there are cultures turning from «cold» to «hot» before our own eyes, they are societies of the «third world».
Exchange and mutual enrichment of methods is now a noted tendency of present-day culturological studies abroad. The same tendency was characteristic of the works of the scholars of the «anthropological school» studying history of culture in the USSR, in the 1920s and '30s, such as M. M. Bakhtin, V. J. Propp, I. G. Frank-Kamenetsky, О. M. Freidenberg, L. S. Vygotsky, S. M. Eizenstein et al.
Содержание
К ЧИТАТЕЛЮ.................................................. 5
Теория и история культуры
Вяч. Вс. Иванов КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ................. 11
С. И. Беликовский КУЛЬТУРА КАК ПОЛАГАНИЕ СМЫСЛА.............................. 17
В. С. Библер
ДИАЛОГ. СОЗНАНИЕ. КУЛЬТУРА (идея культуры в работах М. М. Бахтина).................... 21
Картина мира в обыденном сознании
В. К. Ронин
ФРАНКИ, ВЕСТГОТЫ, ЛАНГОБАРДЫ В VI-VIII ВВ.: ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОСОЗНАНИЯ....................................... 60
Д. Э. Харитонович
В ЕДИНОБОРСТВЕ С ВАСИЛИСКОМ: ОПЫТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ РЕМЕСЛЕННЫХ РЕЦЕПТОВ . 77
Демографическое поведение
Ю. Л. Бессмертный
К ИЗУЧЕНИЮ МАТРИМОНИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ ХП-ХШ ВВ................................................... 98
Новые научные направления
А. Я. Гуревич
СМЕРТЬ КАК ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ: О НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ.................114
К. В. Хвостова
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 136
Публикации
АВРЕЛИЙ АВГУСТИН. ИСПОВЕДЬ. КНИГА X
Пер. и коммент. М. Е. Сергеенко. Вступ. ст. В. И. Уколовой.144
Хроника
МЕЖИНСТИТУТСКИЙ СЕМИНАР ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 183
SUMMARIES..................................................191
Contents
TO THE READER............................................... 5
Theory and history of culture
V. V. Ivanov. CULTURAL ANTHROPOLOGY AND HISTORY OF CULTURE................. 11
S. I. Velikovsky. CULTURE AS ATTRIBUTION OF MEANING............................ 17
V. S. Bibler. DIALOGUE. CONSCIOUSNESS. CULTURE............................. 21
Vision of the world in common consciousness
V. K. Ronin.
FRANKS, VISIGOTHS, LOMRARDS: THE 6TH TO 8TH CENTURIES: POLITICAL ASPECTS OF SELF-CONSCIOUSNESS........................ 60
D. E. Kharitonovitch.
IN SINGLE COMBAT WITH A BASILISK. AN ATTTEMPT AT A HISTORIC-CULTURAL INTERPRETATION OF MEDIEVAL TRADE RECIPES 77
Demographic behaviour
Yu. L. Bessmertny.
ON NUPTIAL BEHAVIOUR IN FRANCE, THE 12TH AND 13TH CENTURIES ........................................................ 98
Aew trends^in science
A. J. Gurevitch. DEATH AS A PROBLEM OF HISTORICAL ANTHROPOLOGY................114
К. V. Khvostova.
CONTENT-ANALYSIS IN THE HISTORY OF CULTURE RESEARCH . . 136
Publications
AURELIUS AUGUSTINUS. CONFESSION. BOOK X
Translation and commentary by M. E. Sergheyenko. Introduction by V. I. Ukolova............................................. 144
Chronicle
INTER-INSTITUTE SEMINAR ON HISTORICAL PSYCHOLOGY .... 183
SUMMARIES....................................................191
0.42 Одиссей. Человек в истории. 1989.— М.: Наука, 1989.— 198 с.”*
ISBN 5-02-009028-Х
В гомеровской традиции «многоумный Одиссей» — олицетворение величия души, невиданной энергии, интеллектуального героизма. Своих противников Одиссей побеждал прежде всего силой ума и слова. В бесконечных странствиях его влекло все неизведанное. Какие бы испытания ни преподносила ему судьба, он не ведал страха. Все эти достоинства — необходимое вооружение гуманитария, ищущего новое в науке. Именно эти достоинства мифологического Одиссея вдохновляют авторов и составителей этого сборника. Для них имя Одиссея — символ вечных странствий по континентам и столетиям мировой культуры, символ неразрывной связи духовных миров, символ надежды на выживание человечества и человечности, вопреки любым испытаниям.
Для широкого круга читателей.
0503010000-344 „
0 042 (02)-89-- КБ-13-6-1989 ББК 63.3(0)
Научное издание
ОДИССЕЙ
Человек в истории
1989
Утверждено к печати Институтом всеобщей истории Академии наук СССР
Редактор издательства О. Б. Константинова
(Художник А. Д. Смеляков
Художественный редактор Н. Н. Михайлова
Технические редакторы Р, М. Денисова, Ю. В. Серебрякова
Корректоры Л. И. Воронина, Н. П. Гаврикова
ИБ № 39241
Сдано в набор 14.06.89 Подписано к печати 26.09.89 А-04010. Формат 70x907iB Бумага типографская № 1 Гарнитура обыкновенная Печать высокая. Усл. печ. л. 14,62 Усл. кр. отт. 16,08. Уч.-изд. л. 15,6 Тираж 20.000 экз. Тип. зак. 3377
Цена 1 руб.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва В 485 Профсоюзная ул., 90.
2-я типография издательства «Наука» 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА»
ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ
Одиссей, 1990.
ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО.
15 л.
Содержание
Индивидуальность и личность в истории
Характер и пределы индивидуального в разные историко-культурные эпохи. Материалы дискуссии 1987—1988 гг. Составитель Л. М. Баткин
Картина мира в обыденном сознании
Жорж Дюби. (Франция). Куртуазная любовь и перемены в положении женщины во Франции XII века
А. Я. Гуревич. Средневековый купец
Карло Гинзбург. (Италия). Образ шабаша ведьм и его истоки
Историческая мысль XX века
Эрнест Геллнер. (Великобритания). Две попытки уйти от истории (Бронислав Малиновский и Людвиг Виттгенштейн)
Новые научные направления
Л. П. Репина. Социальная история и историческая антропология: новые тенденции в современной британской и американской медиевистике
С. В. Оболенская. «История повседневности» в современной историографии ФРГ
Публикации
Два письма Марка Блока и Люсьена Февра. Перевод, комментарии и вступительная статья И. С. Филиппова.
Почему этот сборник назван «Одиссей»?
Наш «Одиссей» — путешествие по странам и столетиям мировой культуры.
Одиссей всюду гость и странник—в пещере Циклопа, у феаков, на острове Цирцеи, в гроте Калипсо. Так и культура всегда есть путь и встреча. По словам Бахтина, культура осознает себя лишь на границе с другими духовными мирами. Одиссей — наше собственное культурное сознание, имеющее дело с иными культурами, сохраняющее способность вслушиваться и удивляться. Современная культура в этом нескончаемом странствии и посредством его стремится к себе. Ведь всего трудней для понимания мы сами для себя. Случайно ли Одиссей не был узнан на родной Итаке?..
Одиссей — то, что связует разные культуры сквозной нитью, это путешествие каждого культурного мотива и каждой формы, это сходство, повторяемость, инвариантность самых экзотичных историко-культурных ситуаций. Одиссей и сам — как бы первый этнограф и культуролог, он побывал в докуль-турных краях, втягиваемых его странствиями в ойкумену, освежающих культуру.
Наконец, образ Одиссея — это символ неизвестности, надежды и выживания культуры, вопреки всем неслыханным испытаниям, выпавшим на ее долю в XX столетии.