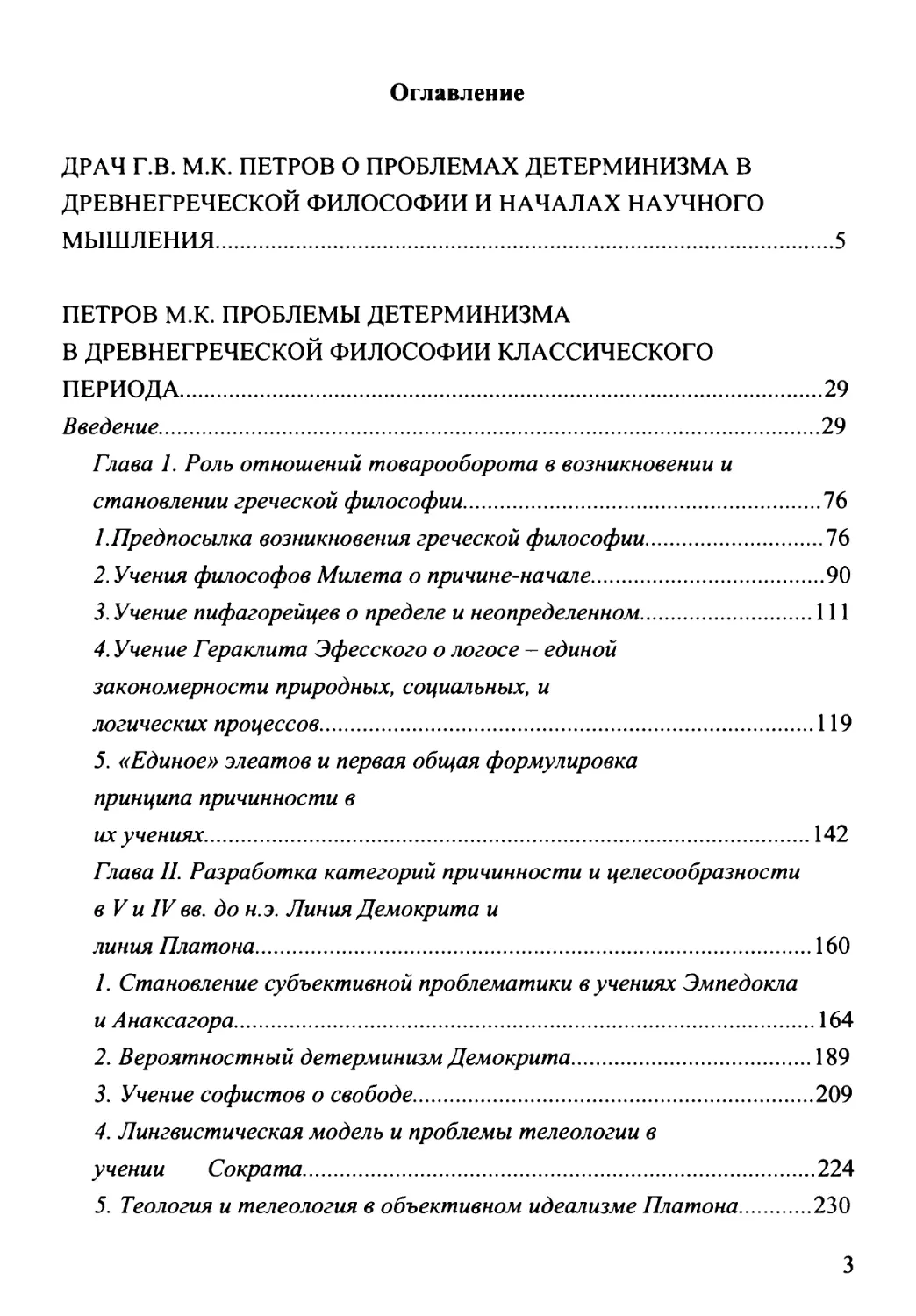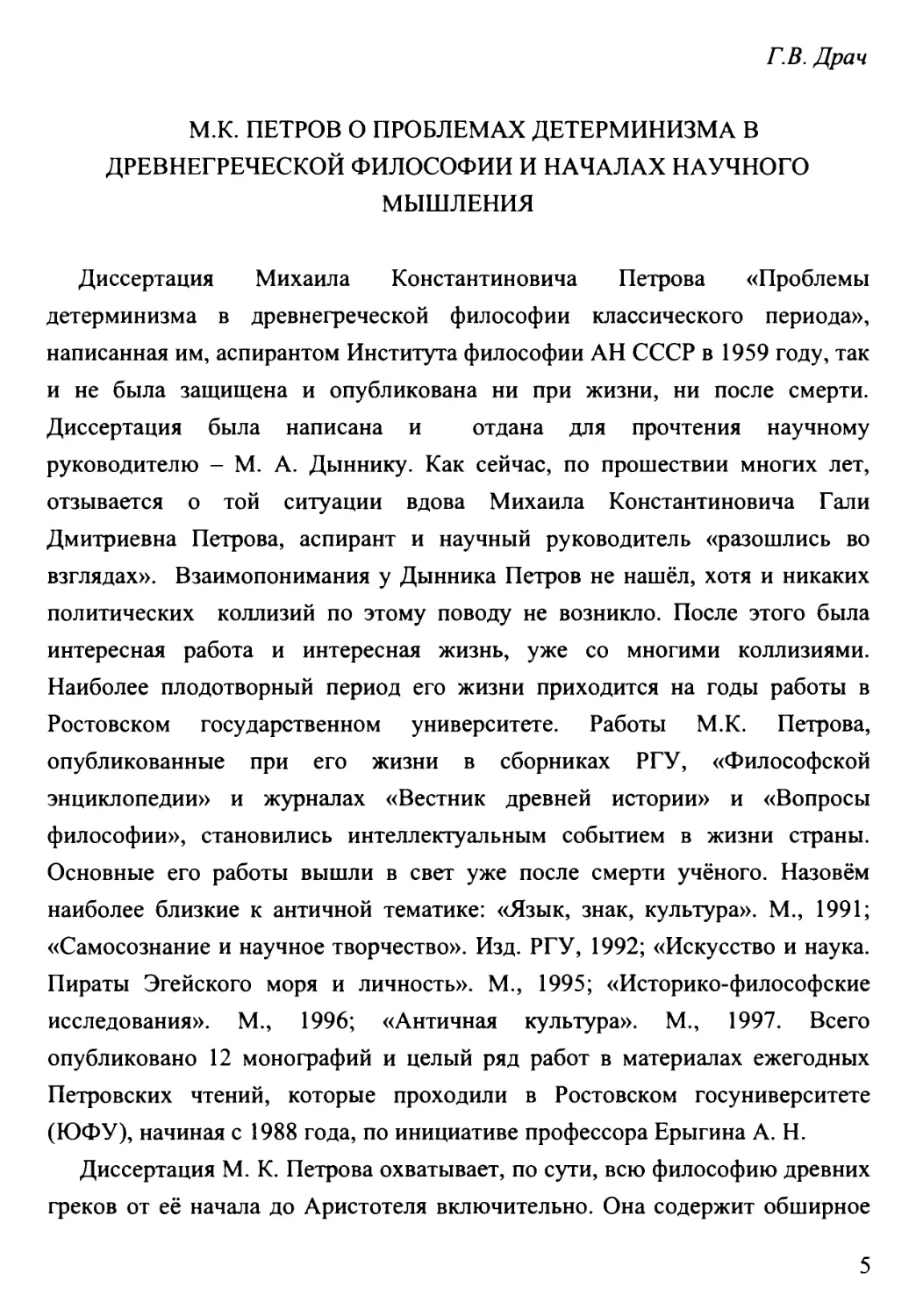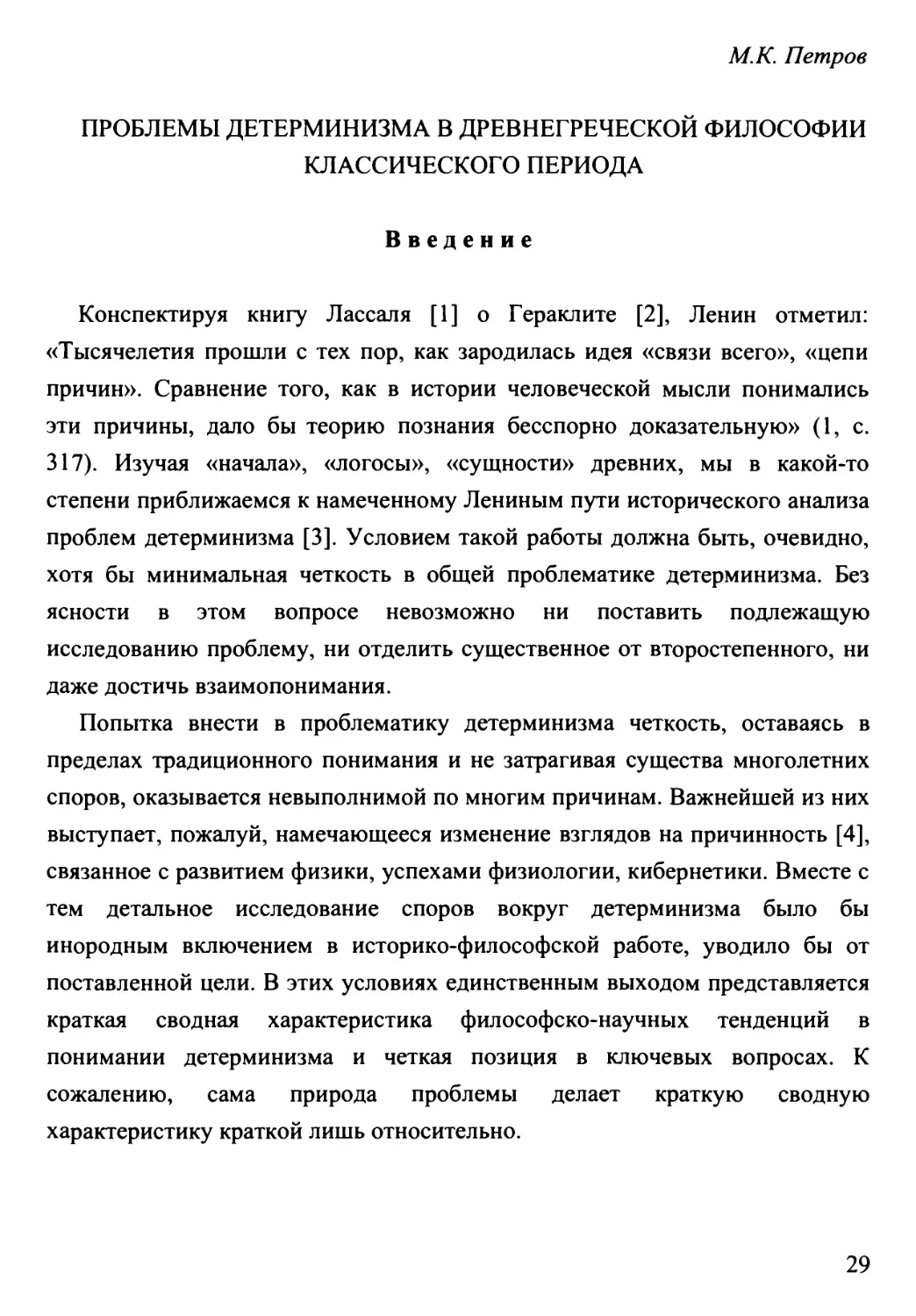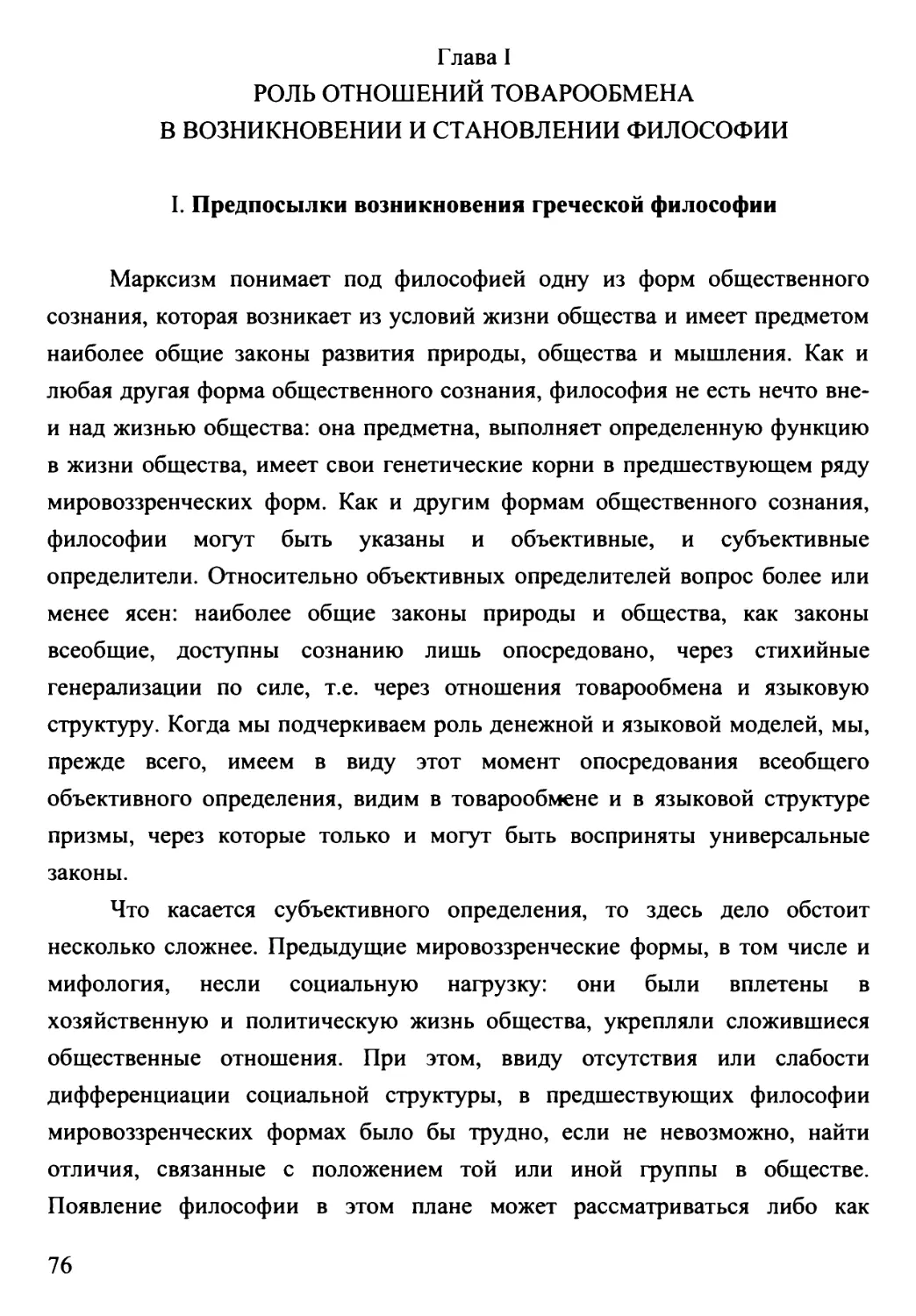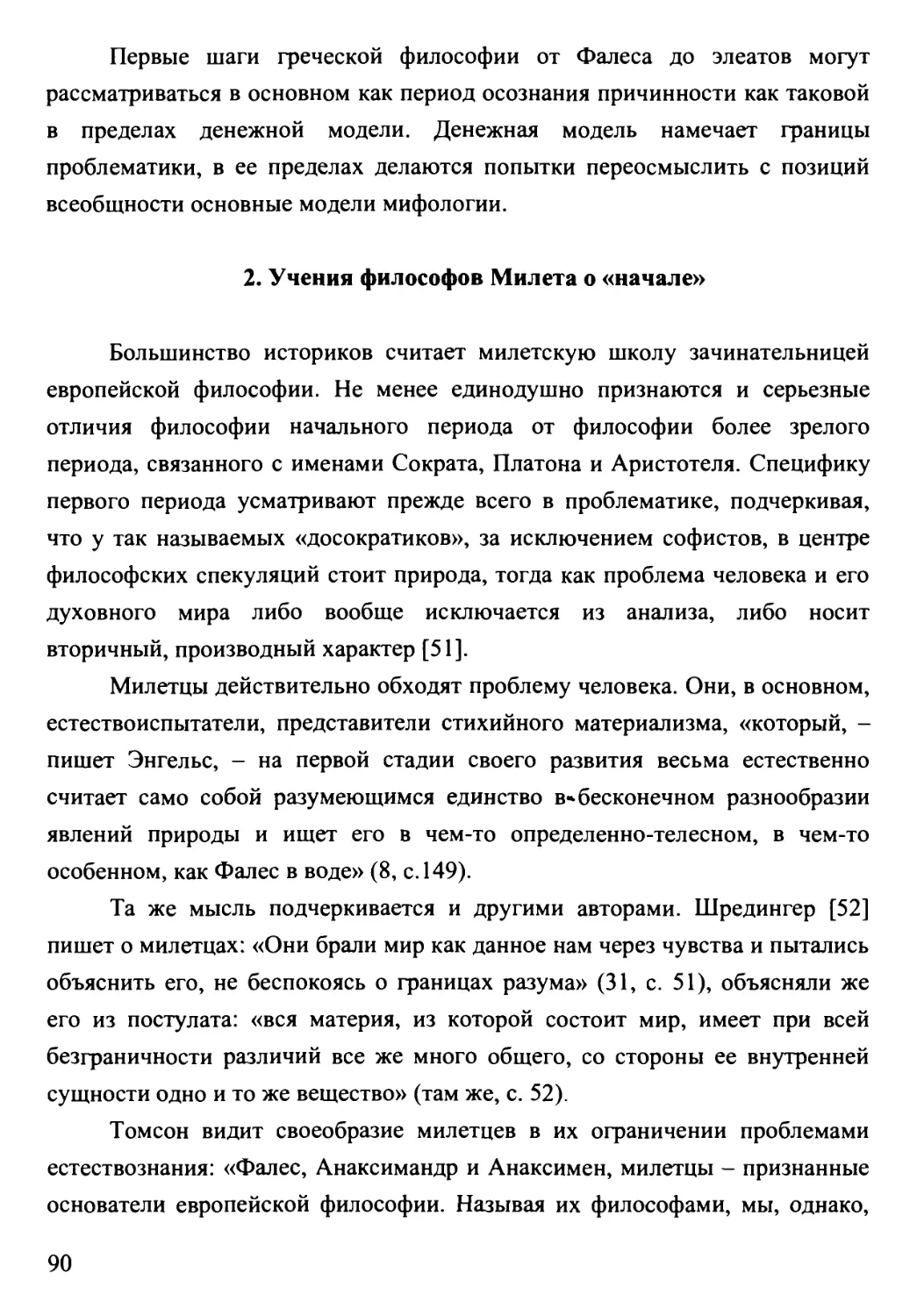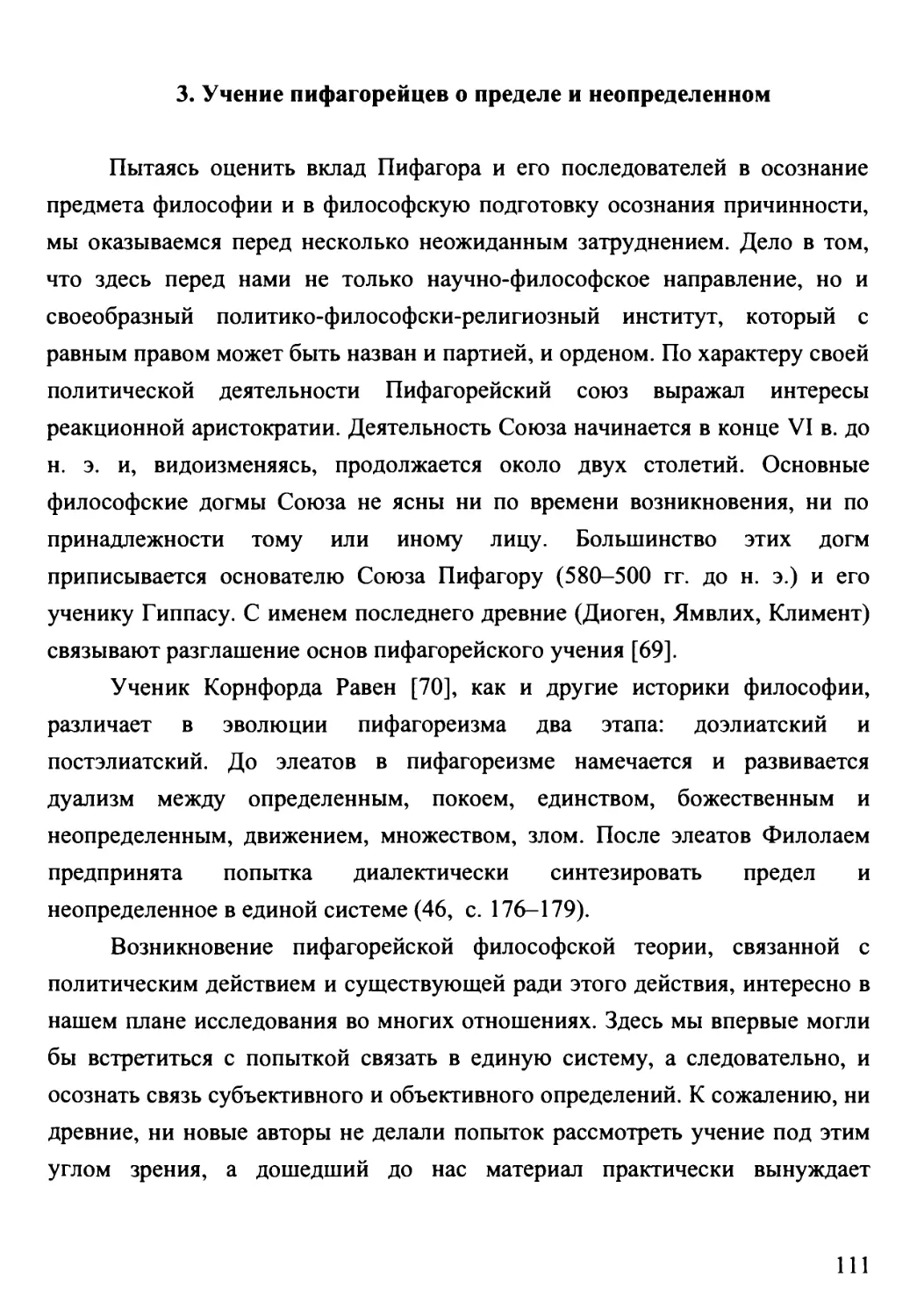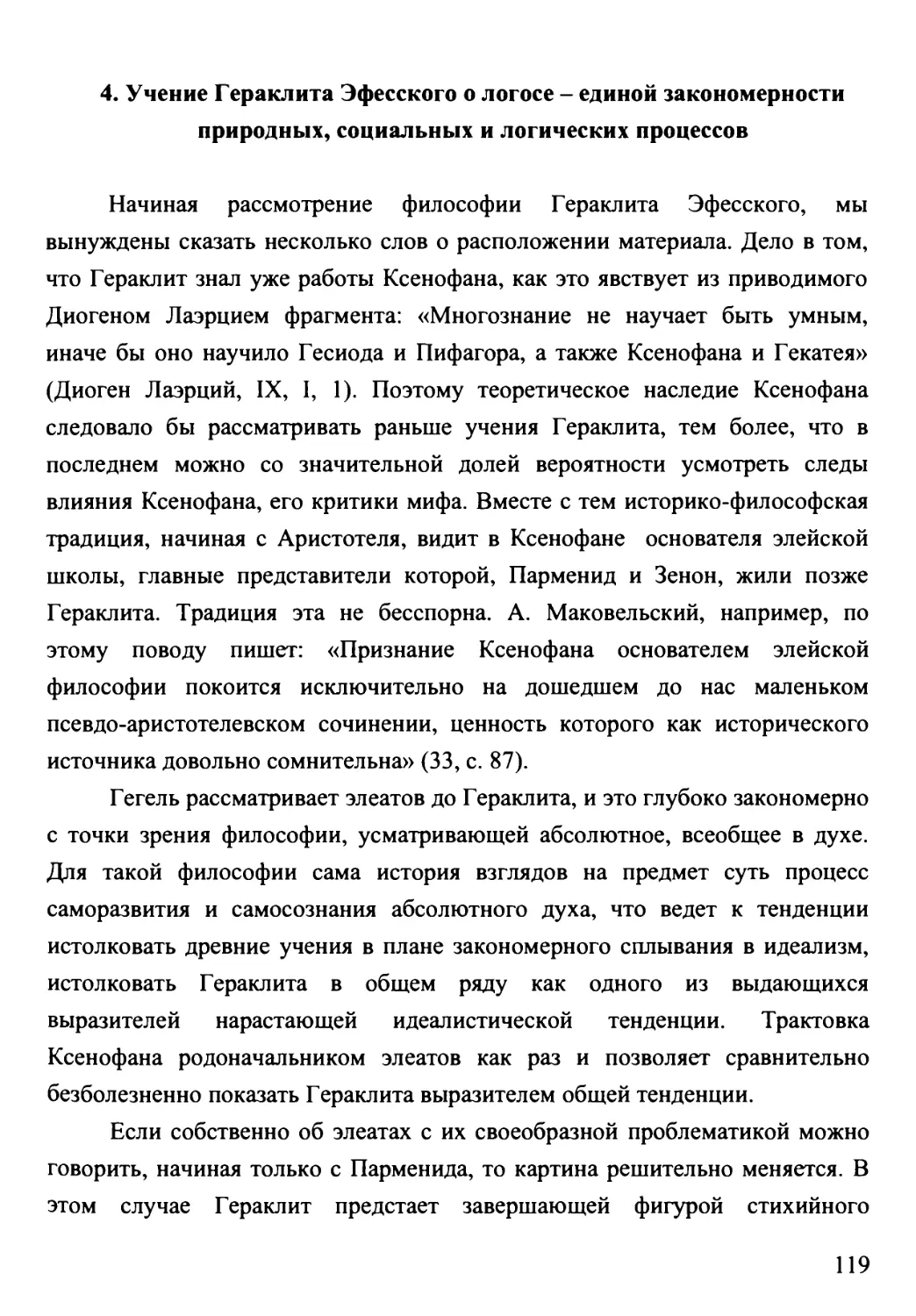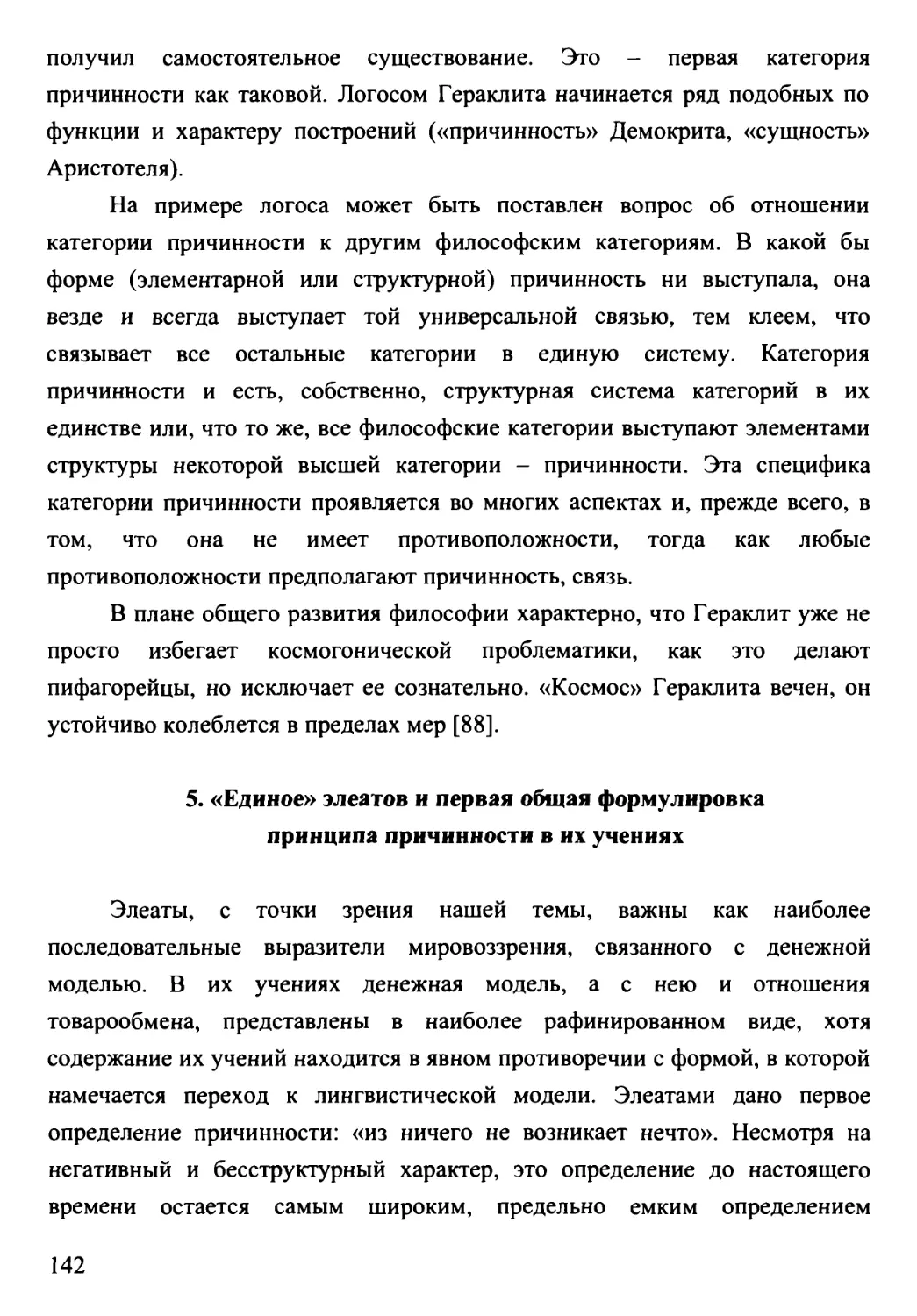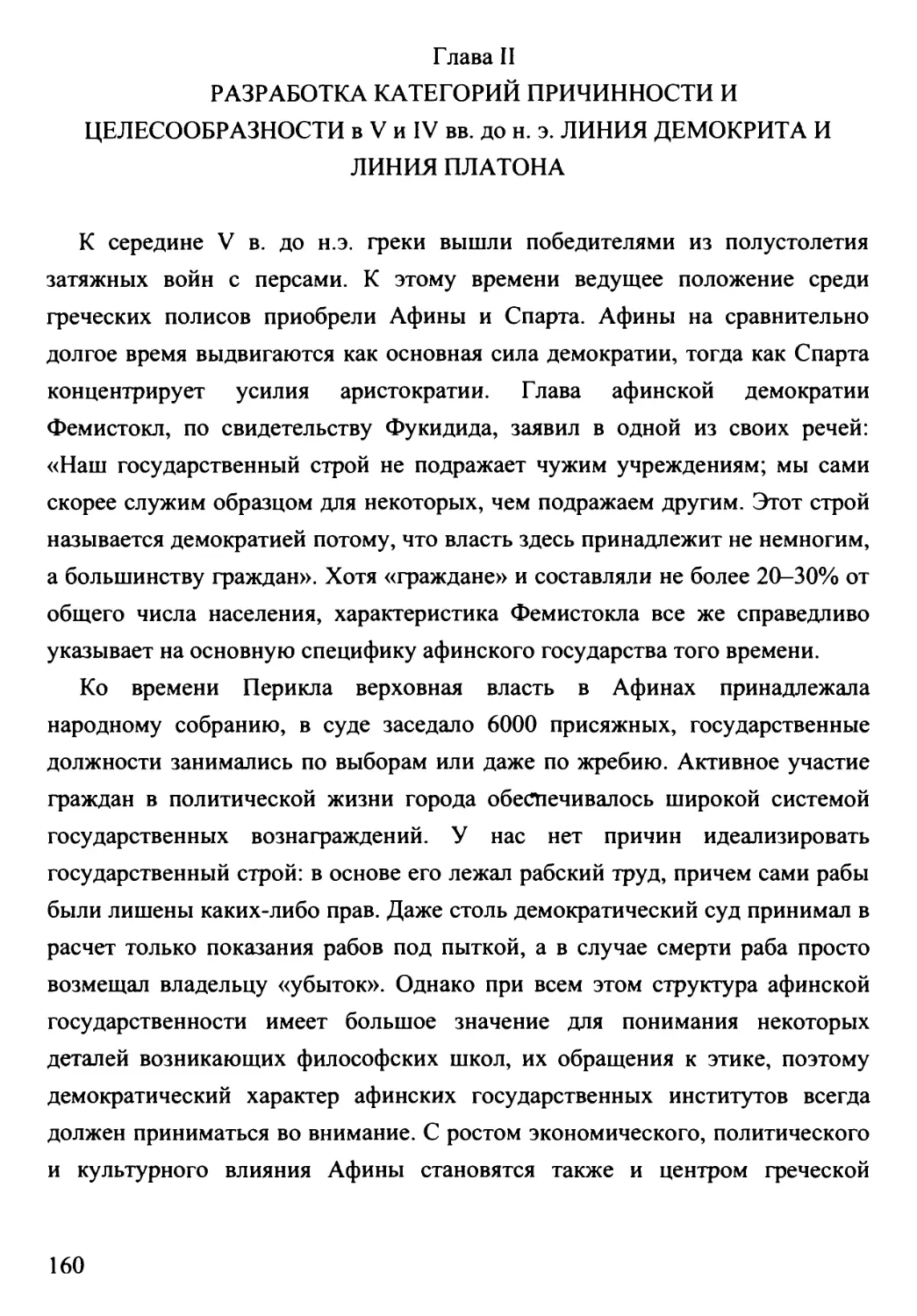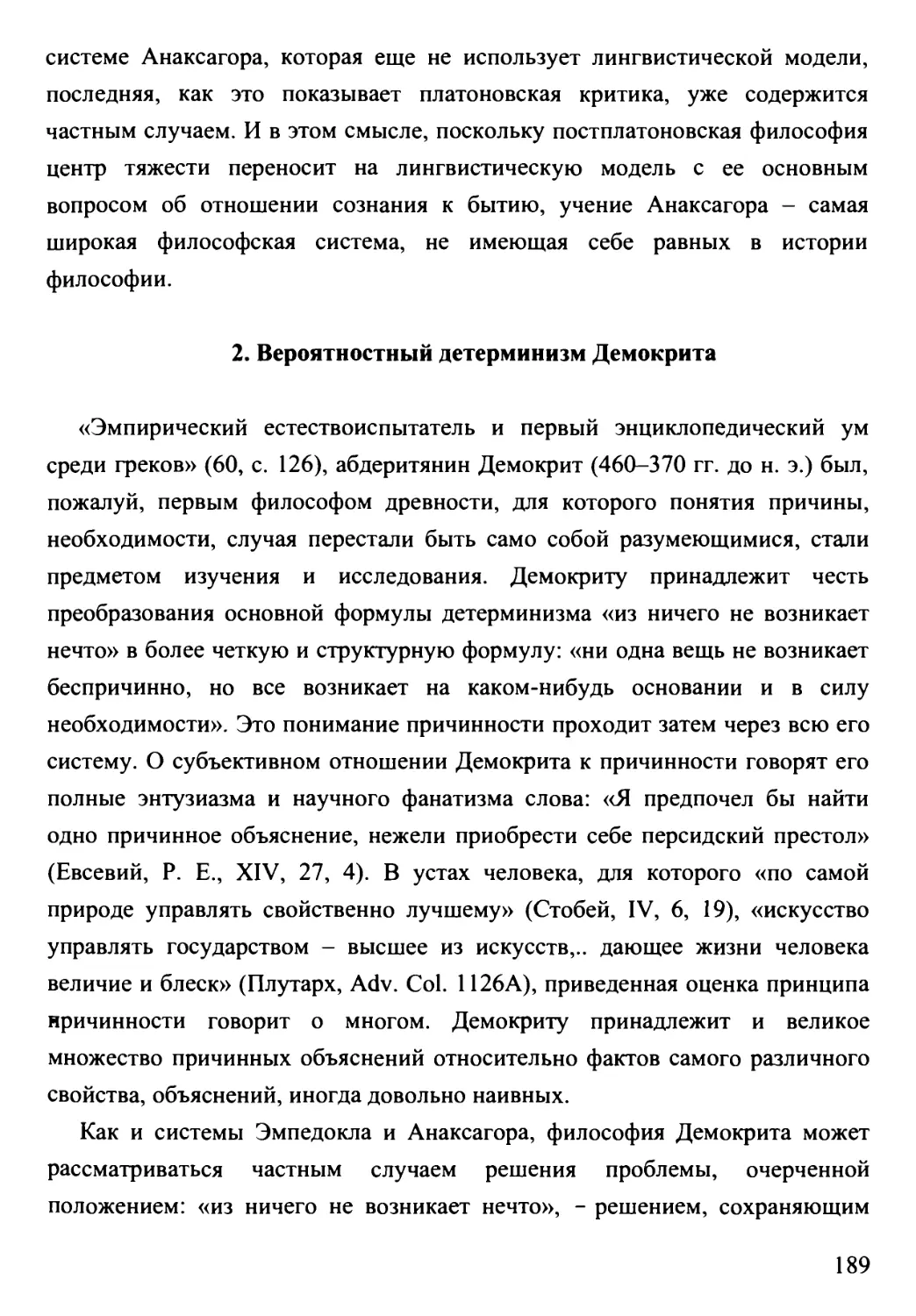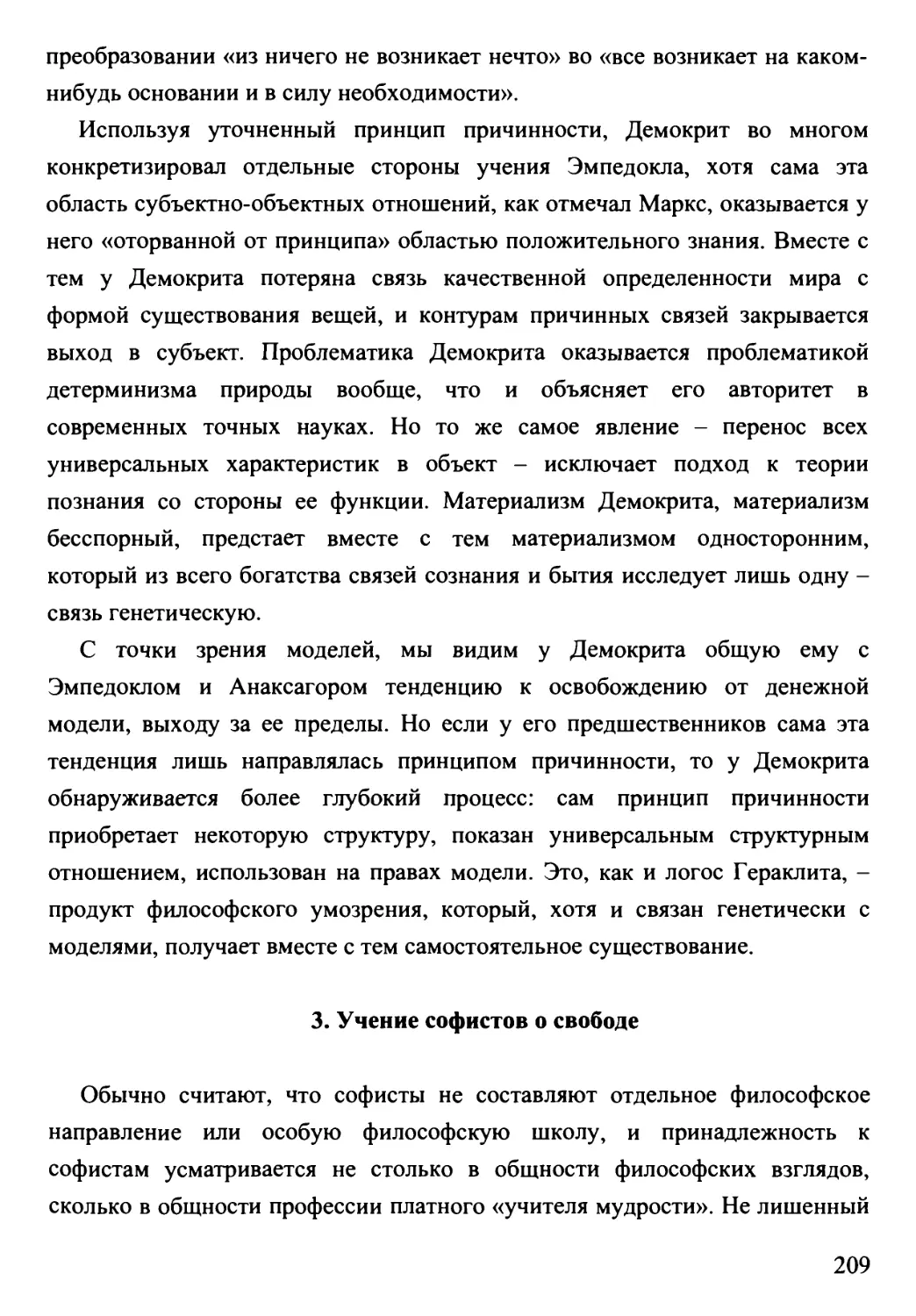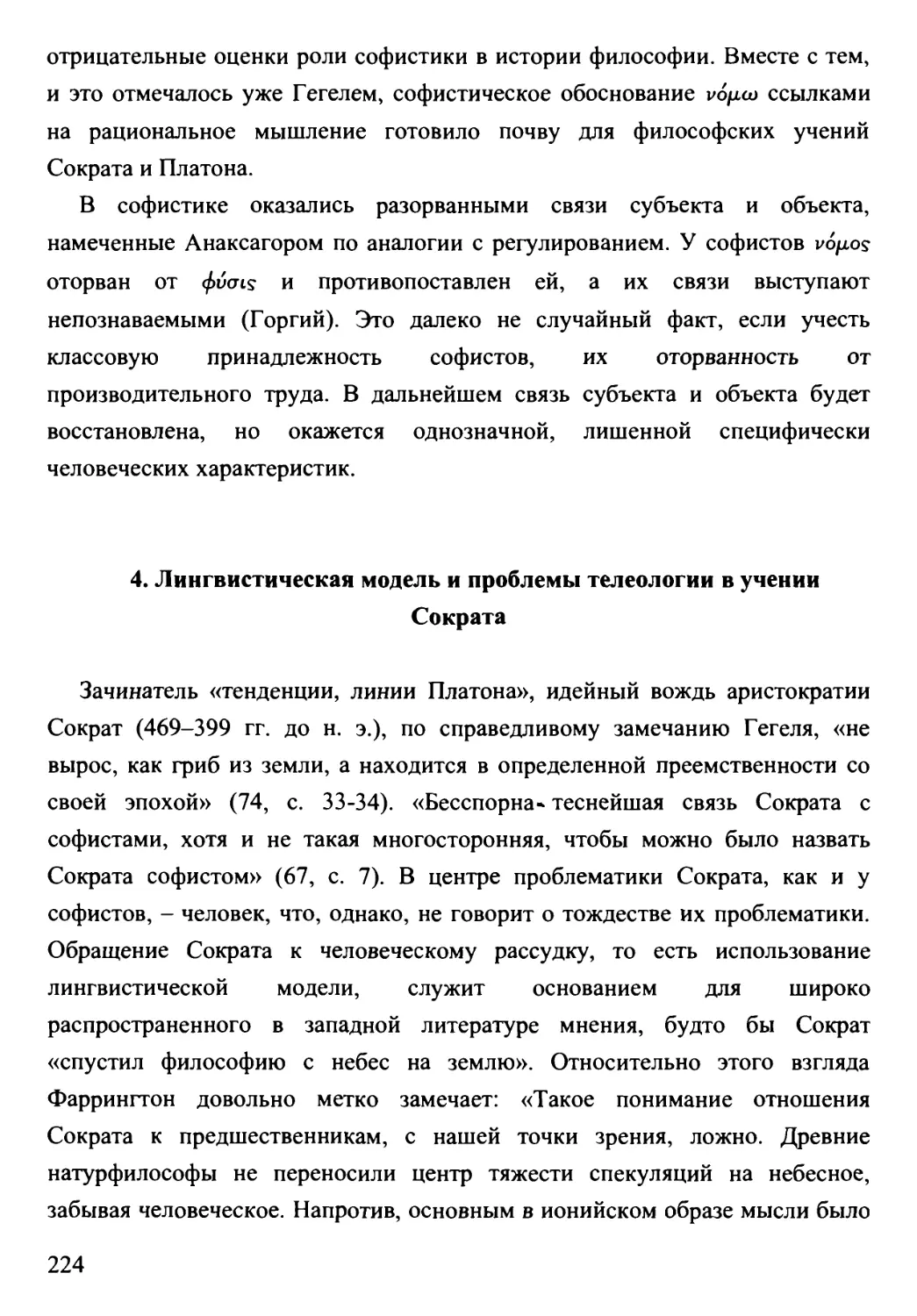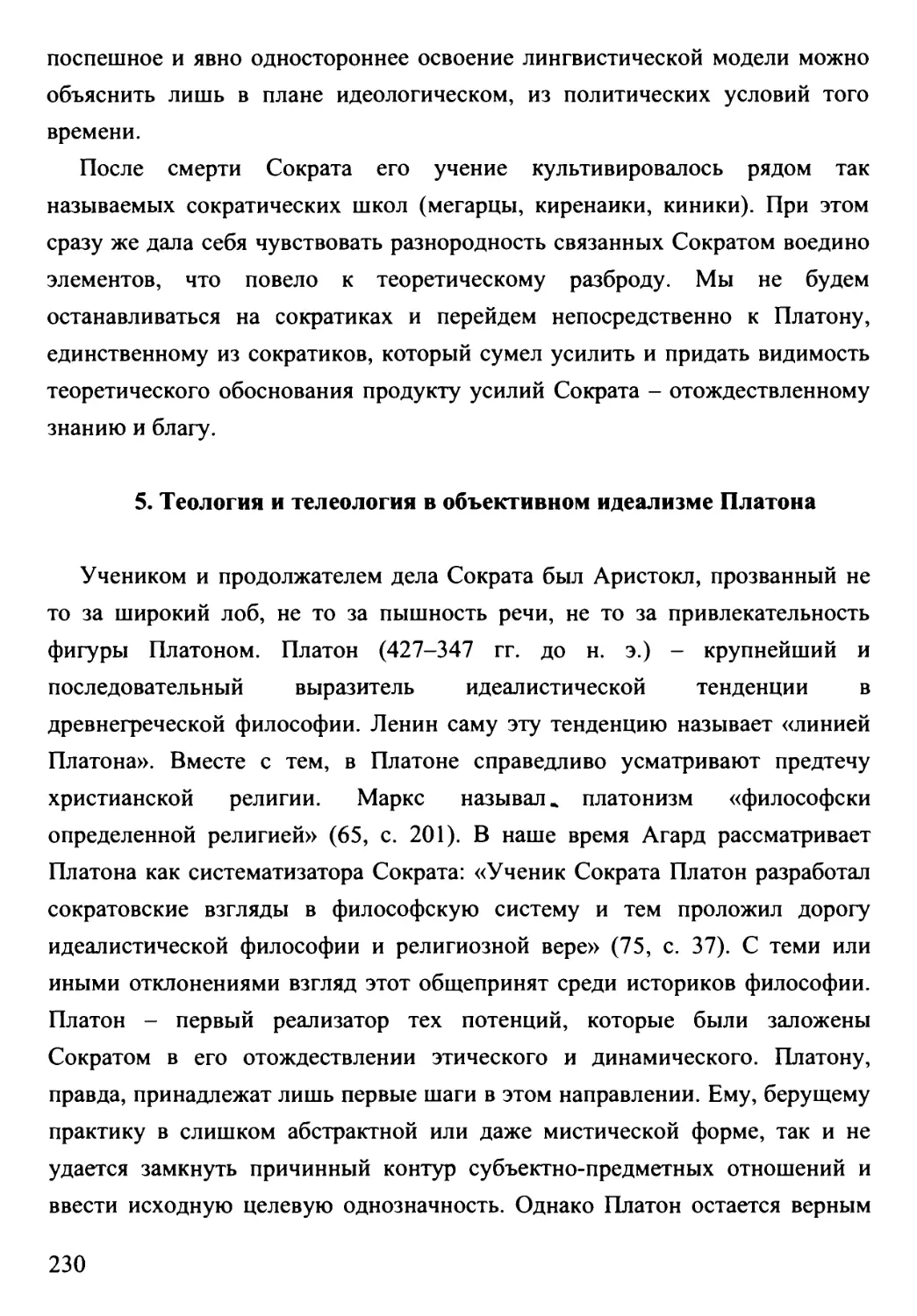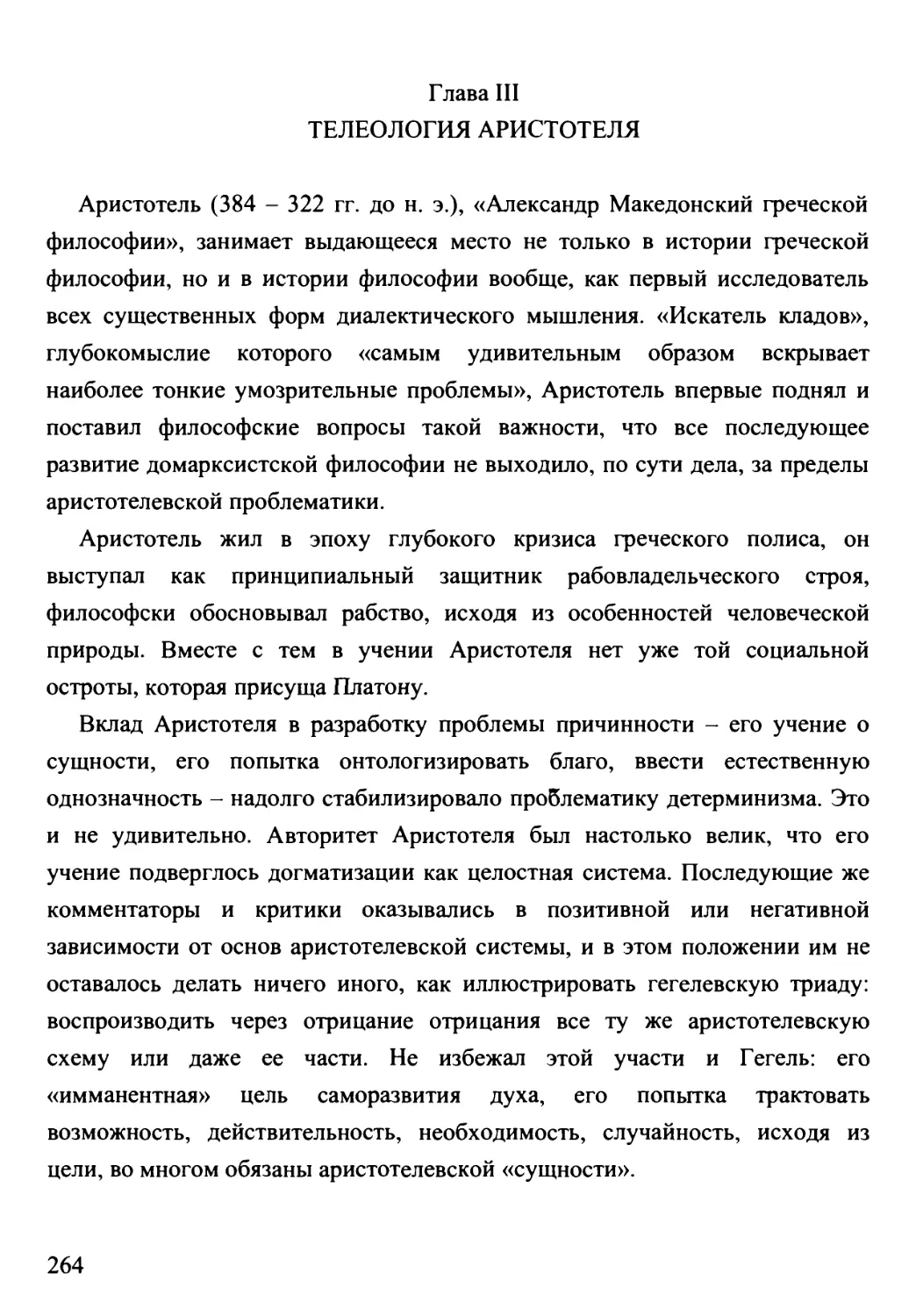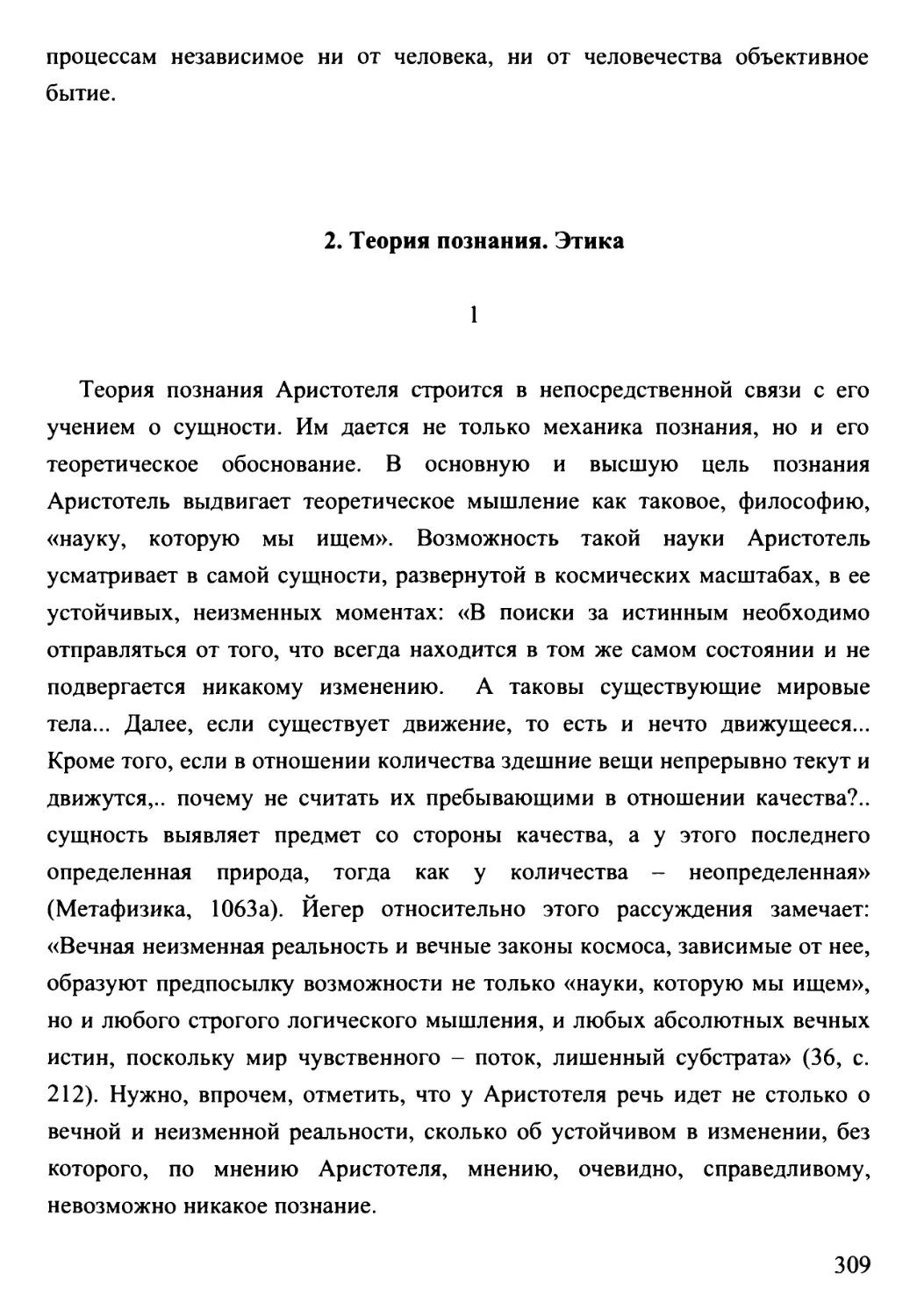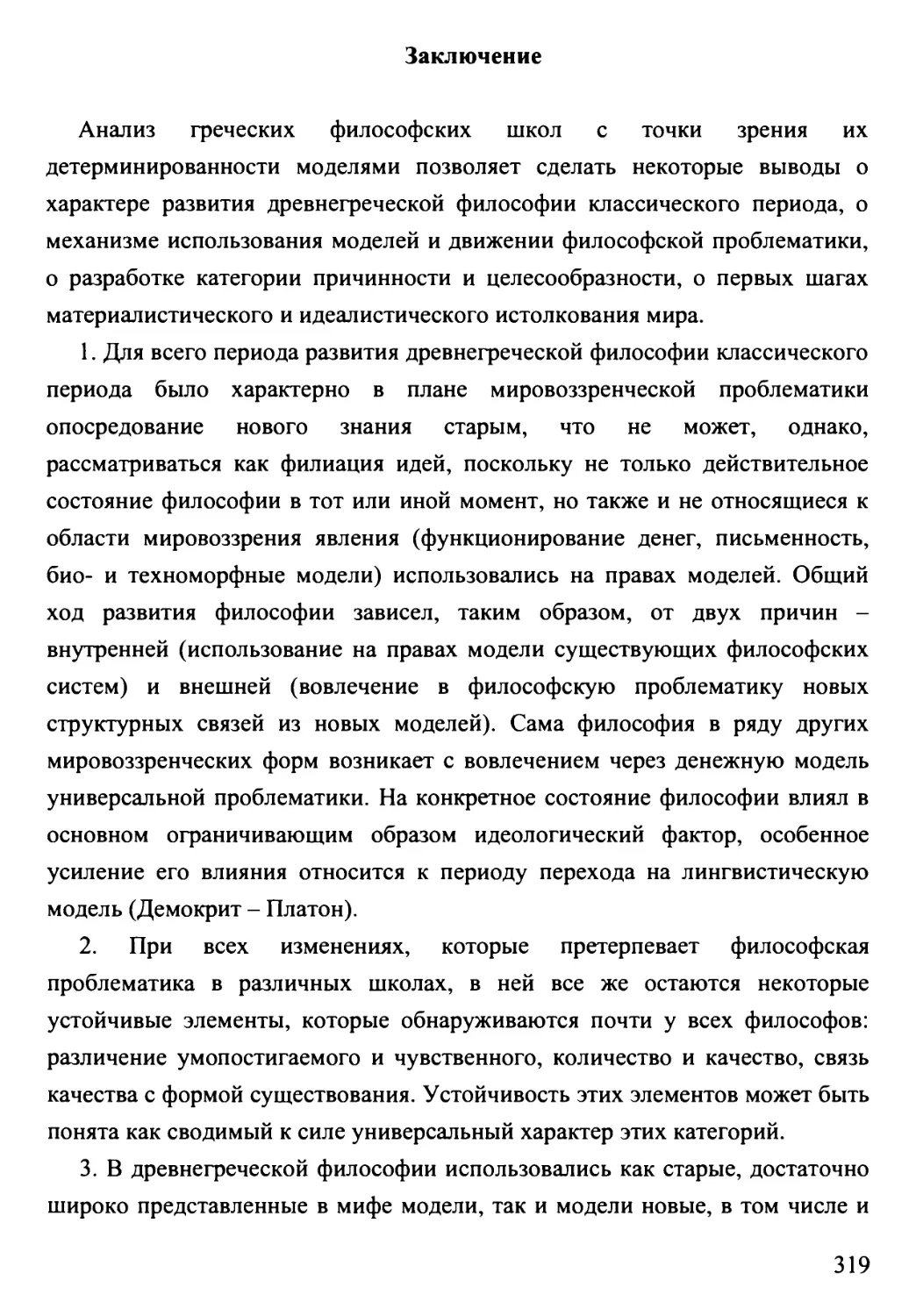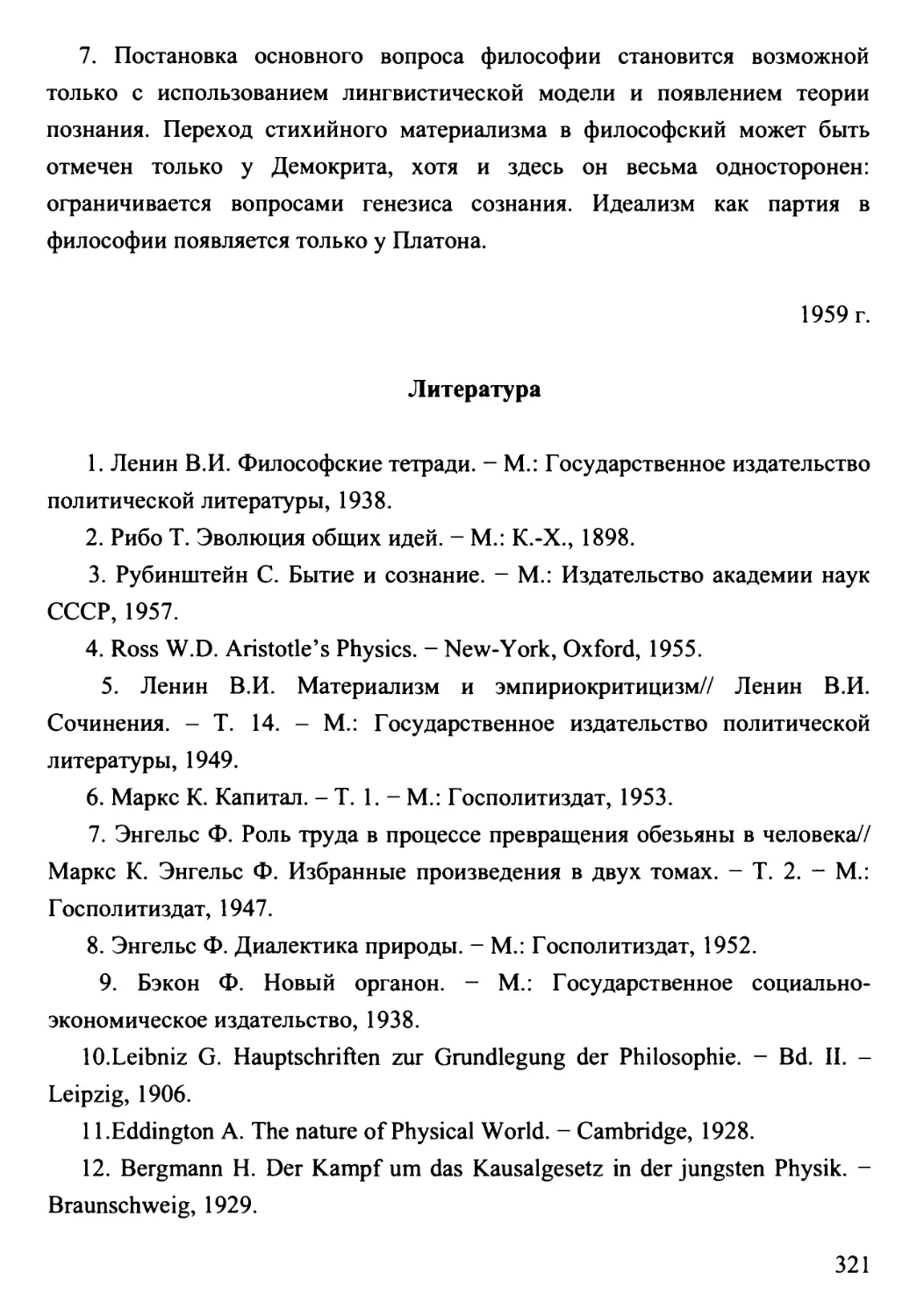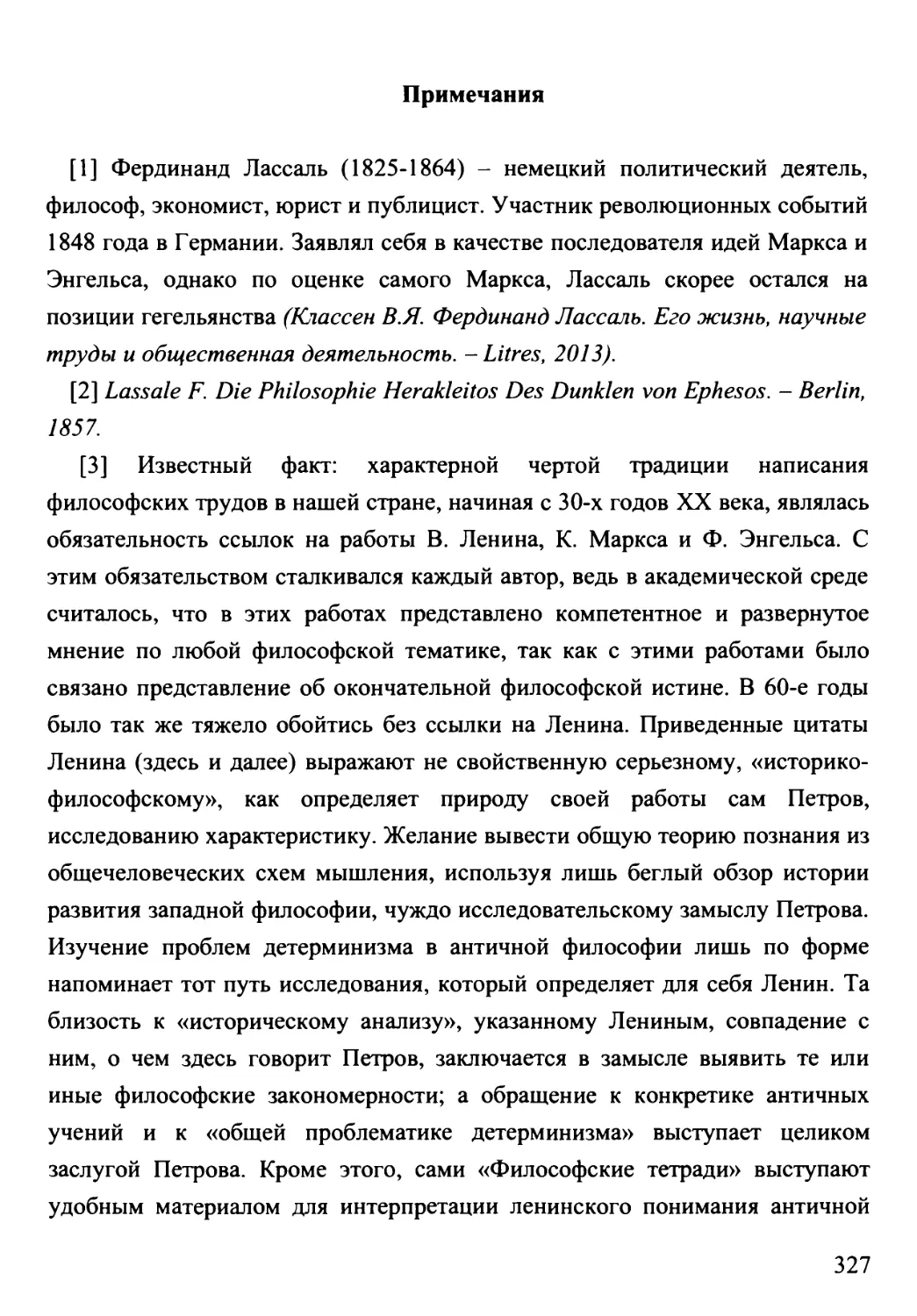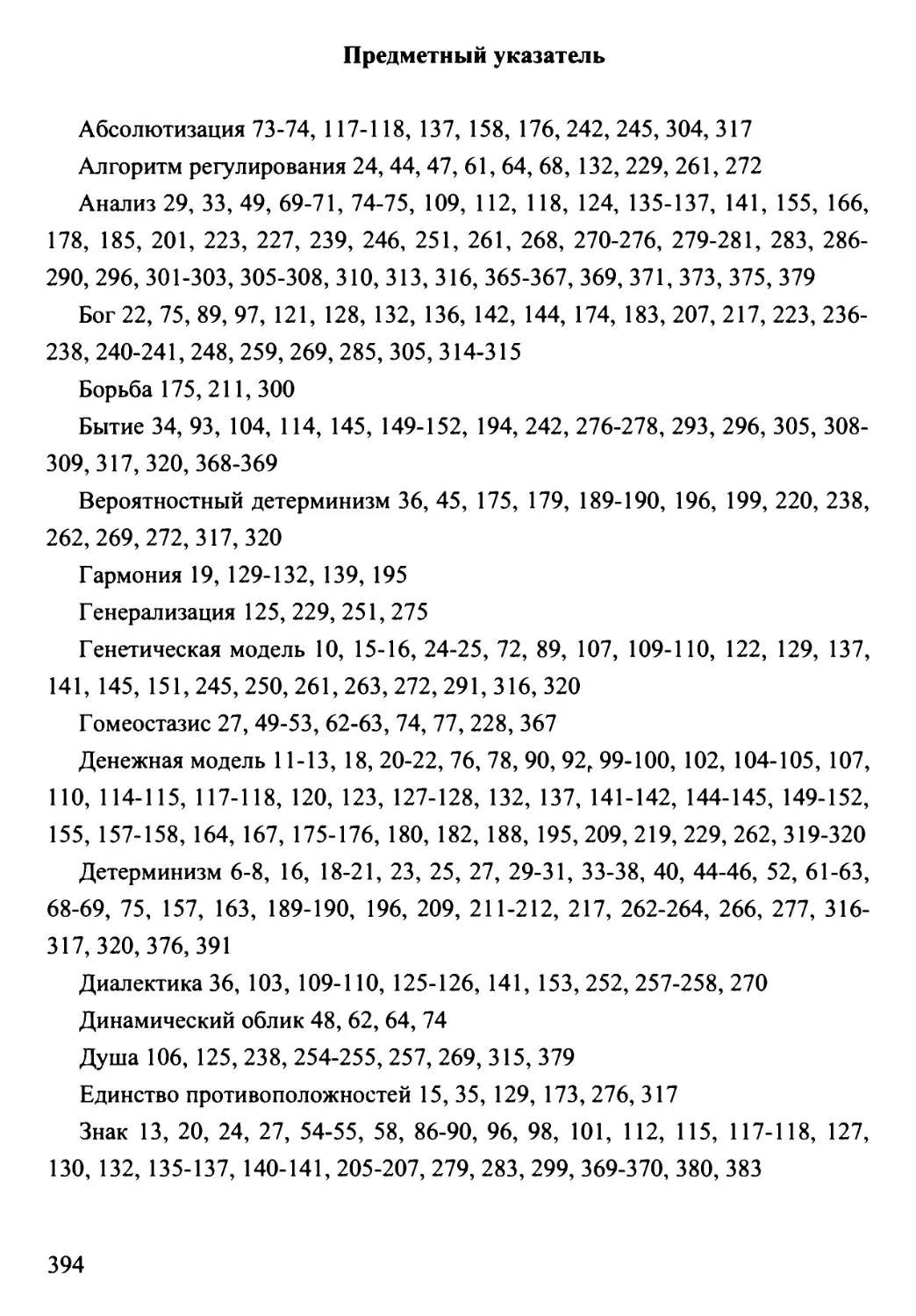Автор: Петров М.К.
Теги: философия античная философия греческая философия
ISBN: 978-5-9275-1794-7
Год: 2015
Текст
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южный федеральный университет»
М.К. ПЕТРОВ
ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕРМИНИЗМА В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
Монография
Ростов-на-Дону
2015
Петров, Μ .К.
Проблемы детерминизма в древнегреческой философии
классического периода: монография / М.К. Петров ; Южный федеральный
университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального
университета, 2015. - 398 с.
ISBN 978-5-9275-1794-7
ISBN 978-5-9275-1794-7
© Южный федеральный университет, 2015
© Петров М.К., 2015
Издаваемая работа представляет собой полный текст кандидатской
диссертации М. К. Петрова, известного учёного, историка европейской
философии и науки. Машинописный (электронный) вариант представлен к
публикации вдовой М. К. Петрова Г. Д. Петровой. При жизни автора
рукопись не публиковалась. Издание содержит вступительную статью
заслуженного деятеля науки РФ Г. В. Драча и сопроводительную статью
академика РАН В. С. Степина. В подготовке рукописи к изданию принимал
участие академик РАН В. А. Лекторский. Примечания к тексту диссертации
и предметный указатель подготовлены Тихоновым A.B. и Подгорной М.Г.
Издание предназначено студентам, аспирантам, научным работникам, всем
интересующимся историей античной философии.
Оглавление
ДРАЧ Г.В. М.К. ПЕТРОВ О ПРОБЛЕМАХ ДЕТЕРМИНИЗМА В
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И НАЧАЛАХ НАУЧНОГО
МЫШЛЕНИЯ 5
ПЕТРОВ М.К. ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕРМИНИЗМА
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ КЛАССИЧЕСКОГО
ПЕРИОДА 29
Введение 29
Глава I. Роль отношений товарооборота в возникновении и
становлении греческой философии 76
1 .Предпосылка возникновения греческой философии 76
2. Учения философов Милета о причине-начале 90
3. Учение пифагорейцев о пределе и неопределенном 111
4. Учение Гераклита Эфесского о логосе - единой
закономерности природных, социальных, и
логических процессов 119
5. «Единое» элеатов и первая общая формулировка
принципа причинности в
их учениях 142
Глава II. Разработка категорий причинности и целесообразности
в Vu IV вв. до н.э. Линия Демокрита и
линия Платона 160
/. Становление субъективной проблематики в учениях Эмпедокла
и Анаксагора 164
2. Вероятностный детерминизм Демокрита 189
3. Учение софистов о свободе 209
4. Лингвистическая модель и проблемы телеологии в
учении Сократа 224
5. Теология и телеология в объективном идеализме Платона 230
3
Глава III. Телеология Аристотеля 264
1. Учение о сущности 273
2. Теория познания. Этика 309
Заключение 319
Литература 321
ПРИМЕЧАНИЯ 327
Литература к примечаниям 360
СТЕПИН B.C. У ИСТОКОВ НОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ
М.К.ПЕТРОВА) 365
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
394
Г.В. Драч
М.К. ПЕТРОВ О ПРОБЛЕМАХ ДЕТЕРМИНИЗМА В
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И НАЧАЛАХ НАУЧНОГО
МЫШЛЕНИЯ
Диссертация Михаила Константиновича Петрова «Проблемы
детерминизма в древнегреческой философии классического периода»,
написанная им, аспирантом Института философии АН СССР в 1959 году, так
и не была защищена и опубликована ни при жизни, ни после смерти.
Диссертация была написана и отдана для прочтения научному
руководителю - М. А. Дыннику. Как сейчас, по прошествии многих лет,
отзывается о той ситуации вдова Михаила Константиновича Гали
Дмитриевна Петрова, аспирант и научный руководитель «разошлись во
взглядах». Взаимопонимания у Дынника Петров не нашёл, хотя и никаких
политических коллизий по этому поводу не возникло. После этого была
интересная работа и интересная жизнь, уже со многими коллизиями.
Наиболее плодотворный период его жизни приходится на годы работы в
Ростовском государственном университете. Работы М.К. Петрова,
опубликованные при его жизни в сборниках РГУ, «Философской
энциклопедии» и журналах «Вестник древней истории» и «Вопросы
философии», становились интеллектуальным событием в жизни страны.
Основные его работы вышли в свет уже после смерти учёного. Назовём
наиболее близкие к античной тематике: «Язык, знак, культура». М., 1991;
«Самосознание и научное творчество». Изд. РГУ, 1992; «Искусство и наука.
Пираты Эгейского моря и личность». М., 1995; «Историко-философские
исследования». М., 1996; «Античная культура». М., 1997. Всего
опубликовано 12 монографий и целый ряд работ в материалах ежегодных
Петровских чтений, которые проходили в Ростовском госуниверситете
(ЮФУ), начиная с 1988 года, по инициативе профессора Ерыгина А. Н.
Диссертация М. К. Петрова охватывает, по сути, всю философию древних
греков от её начала до Аристотеля включительно. Она содержит обширное
5
Введение и три последующие главы. В первой из них речь идёт о
предпосылках и начале древнегреческой философии. Соответственно,
происходит обращение к Гомеру, Гесиоду, милетцам, Гераклиту и элеатам.
Вторая глава посвящена плюралистам (Эмпедоклу, Анаксагору и
Демокриту) и классике в наиболее распространённом смысле этого слова -
софистам, Сократу и Платону. Наконец, третья глава посвящена
Аристотелю. Философия античных мыслителей составляет объект, но
предметом исследования выступает проблема детерминизма, чем,
собственно говоря, и объясняется её исключительная сложность и
значимость. Ведь в самой практике историко-философского исследования
Петров доказывает, что с историей древнегреческой философии сопрягается
история европейской науки. Это сейчас, после опубликования его
фундаментальных работ по истории науки, понятны идеи о культурном
регрессе и Эгейском котле, о разрыве античной культуры с традиционными
олимпийскими цивилизациями и путях экспериментальной науки Нового
времени, науке и технологическом превосходстве развитых стран.
Впрочем, науковедческим исследованиям Михаила Константиновича
предшествовали антиковедческие. На философском факультете РГУ (конец
60-х - начало 70 гг.) основные направления и темы антиковедческих штудий
во многом были заданы учебной деятельностью М. К. Петрова. Учебный
курс по истории античной философии, который он читал, превратился в
настоящую школу антиковедческой мысли. М. К. Петров внес в
преподавание курса не только дух науки и глубокое знание современных
зарубежных исследований, но и творческое видение судеб античной и
мировой культуры и цивилизации. В лекциях по истории философии им
излагалась не только история философских текстов и философского
мышления, но и история европейского мышления как такового. Начинал он с
характеристики семиотических систем предантичности и античности,
«теологов» и «фисиологов».
Замысел диссертации Петрова становится понятен в таком контексте и
требует внимательного прочтения Введения, где уже содержатся
первоначальная модель традиционных олимпийских культур и идея
6
«культурного срыва», произошедшего в бассейне Эгейского моря. Обращает
на себя внимание то, как умело вырабатывает Михаил Константинович
траекторию исследования, когда положение о «связи причин в человеческом
познании», кому бы оно не принадлежало, оказывается очень к месту. Но
главное даже не в этом. Обосновывается генезис научного мышления,
сопряжённого с историко-философским развитием. Хотя только в конце
Введения Петров лаконично останавливается на проблеме начала научного
мышления и кратко называет Корнфорда и Бернета. Но в этом суть вопроса.
Именно это обращение показывает, во имя чего была разработана
сложнейшая аргументация природного детерминизма (объекта) и
формирования субъективного отношения к природе. Именно в этом
контексте появляется мысль о двух константах человеческого отношения к
природе сквозь призму причинности: о товарообмене и языке. Здесь
следовало бы не пропустить скупого упоминания разных типов наших
знаний о детерминизме природы, тем самым и о различии типов культур.
И хотя имя Леви-Брюля ещё не названо, проблема предыстории
мышления уже поставлена. Во Введении называется и метод, посредством
которого становится возможным начинающееся осмысление причинности.
«В конкретной философской системе может и не быть непосредственного
указания на причинность как таковую. Действительно, до элеатов или, по
крайней мере, до Гераклита, мы не встречали попыток определить
причинность. Из этого, однако, не следует, что философия Анаксимандра и
Фалеса, или еще более ранние «дофилософские» мировоззренческие формы
обходятся без причинности» (с. 34). В текст введена мысль об
использовании разных моделей причинности, с чем связана и идея
опосредованности нового знания старым. Но главное, и здесь уже никакое
цитирование классиков марксизма не поможет, это протест против
использования метода «исторической интроспекции», что в наиболее яркой
форме будет заявлено гораздо позже в его знаменитой статье в «Вопросах
философии».
В диссертации же, проводя различия между понятиями «проблемы
причинности» и «проблемы детерминизма» в философии древних он пишет:
7
«В первом случае подразумевается, что мы берем на себя обязательство
извлечь из древних учений все, относящееся к попыткам выделить
причинность в чистом виде, а затем, сравнивая, сопоставляя, прослеживая
черты преемственности, выделить общую тенденцию древних в разработке
данной проблемы. При кажущейся естественности путь этот требует
некоторой суммы исходных посылок, справедливость которых, по меньшей
мере, спорна. Такой подход предполагает само собой разумеющимся: а)
древние авторы воодушевлены теми же целями, что и исследователь; б)
взгляды древних сравнимы, «стремятся» к некоторому пределу - идеальному
эталону, которым, как это молчаливо допускается, обладает исследователь;
в) взгляды древних по их приближению к эталону могут быть расположены
хронологически или тематически в последовательную цепь состояний
единого имманентного процесса развития, по отношению к которому
древний автор выступает бессознательным выразителем закономерной
тенденции (обычно тенденции сблизиться с мнением исследователя).
Сомнительность некоторых их этих посылок очевидна, и нет ничего
удивительного в том, что попытки исследовать древность под этим углом
зрения неизбежно выливались в поиски собственных «предшественников»,
вели к модернизации взглядов древних, подгонке их под изобретенный
исследователем стандарт. Таких примеров множество. Наиболее типичны из
них: Аристотель - в древности и Гегель - в Новее время» (с. 31-32).
Соответственно и цель работы состоит не в том, чтобы рассматривать
древних философов по степени их близости к современности (тем самым
элиминируется обязательный для любого марксистского исследования
вопрос об «историзме» и «партийности» философии), а в том, чтобы
«вскрыть детерминизм древних философских систем и по характеру
найденных в той или иной системе связей попытаться обнаружить основные
черты использованного философом универсального отношения,
«причинности», «модели причинных связей». Центр тяжести, таким образом,
переносится с отбора всего, относящегося к причинности, на анализ систем в
целом как систем детерминированных и поиски по результатам такого
анализа исходных и универсальных для данной системы определителей.
8
Последние - определители - и есть то, что можно было бы назвать
причинностью для данной философии» (с. 33).
Первая глава диссертации, несомненно, определяющая для всего
диссертационного иследования. В ней показано, как реализуется идея
субстрата и происходит переориентация на структуру языка, что и знаменует
начало мышления «по способу греков». В этой главе Петров обращается к
Гомеру и Гесиоду, но не реконструирует их космогонические версии. Его
интересуют отношения товарообмена и языковая структура, выступающие в
роли модели, опосредующие познание, доступные сознанию как «стихийные
генерализации». Обращение к Гомеру и Гесиоду позволяет
реконструировать социальную картину перехода от родового строя к
социальному укладу классической Греции, в которой определяющими
становятся «абстрактные отношения товарообмена». Не обходит вниманием
Петров и тот факт, что первые философы происходили из крупнейших
торговых и колонизационных центров. В этой связи и выдвигается гипотеза
о том, что ионийцы видели в «первовеществах» (воде, огне, воздухе)
«естественные деньги», на которые «обменивается все и которые
обмениваются на все». Фрагмент Гераклита: «на огонь обменивается все и
огонь на все, как на золото товары и на товары золото» (Плутарх, De Е 8, 388
Е) Петров склонен рассматривать «не просто удачным сравнением, но и
указанием на источник ионийских спекуляций» (с. 84).
Не меньшее внимание уделяется древнегреческому языку, в котором
слово подвижно, абстрагировано и начинает жить самостоятельной жизнью,
тем более в условиях появления письменности. «Ко времени появления
философии греки обладали уникальным для того времени речевым письмом.
Оно превосходило предшествующие типы по простоте и точности. Первое
достоинство - простота - впервые обеспечило широчайшую социальную
базу письменности, сделало ее общедоступной, вырвало у избранных
социальных групп монополию на письменность. Достоинство второе -
точность, исчерпывающее воспроизведение фонетической системы -
впервые позволило сделать доступным для анализа все типы языковых
связей, т.е. открыло доступ к анализу предмета философии, деталей его
9
функциональных свойств» (с. 86-87). Правда, впервые к исследованию
языка, что равнозначно, по Петрову, постановке теоретико-познавательных
проблем, философия обращается только в лице Гераклита. Соответственно,
«единство в доступной для восприятия и осознания предметной форме
обнаруживается лишь в общественной роли денег».
В этом контексте следуют важнейшие концептуальные предпочтения:
«Бесспорна негативная преемственность, связь между ионийской
философией и мифом, как и наличие в них нового элемента - понятия о
единстве, естественного «начала». Роль этого элемента в философских
системах до крайности похожа на роль денег в общественной жизни». В
каком-то смысле М. К. Петров безоговорочно принимал формулу Дж.
Бернета: «наука - мышление по способу греков». Как известно, Бернет
отрывал философию от её космогонической предыстории, греки, по его
мнению, решительно отбросили интерес к тому, «что было, когда ничего не
было» и с энтузиазмом, смелостью, почти дерзостью перешли к
конструированию рациональных моделей мира. Общее стремление греков
найти постоянство и неизменность в изменяющихся явлениях не только
природной, но и социальной жизни отражалось в поиске субстанции
(«фюсис»), что, однако, не выводило их за пределы исследования природы.
Вместе с Бернетом мы погружаемся в культурный контекст размышлений
Михаила Константиновича, который вовсе не ограничивался Бернетом.
Глубины греческого мышления он характеризовал, ссылаясь на так
называемую «генетическую модель», описанную Ф. Корнфордом, на
классические работы Г. Френкеля и так далее.
И ещё одно положение, даже вскользь брошенное замечание, по поводу
сближения переходного периода с философски-научным - «здесь гораздо
полнее представлен предмет философии: процессы опредмечивания
охватывают уже не только динамическое, как это было на этапе
пралогического мышления, но и логический механизм построения цепей
причин» (с. 88). Здесь важно введённое явочным порядком понятие
«пралогическое мышление», а за ним скрываются как раз те размышления о
необходимости не подтягивать древних к образцам современного мышления,
10
а исходить из их возможных для них схем и моделей, которые и связаны с
«опосредствованием нового старым». Кратко выглядит и обращение к
космогонической стороне предфилософии. «С точки зрения использованных
моделей этот период, как и предыдущие, в значительной степени аморфен,
не в том, конечно, смысле, что он не использует моделей - напротив,
любому самому сложному построению мифологии могут быть указаны
определенные модели, - а в том смысле, что среди использованных моделей
трудно было бы установить важные и менее важные, необходимые и
случайные» (с. 88).
При всём неодобрении любой модернизации прошлого, приступая к
исторической реконструкции ионийской философии, Петров однозначно
оценивает исторические свидетельства Аристотеля и его школы как
«единственный надёжный материал, которым мы располагаем». Петров, по
сути, разделяет «физическую» трактовку учения милетцев, но
останавливаясь на термине «космос», делает важное замечание: «Космос»
первых философов от системы к системе теряет свою творческую
составляющую, стабилизируется. У Гераклита он вечен, функционирует,
колеблясь в пределах мер. У элеатов показан остановленной, неподвижной
системой связей» (с. 92-93). При характеристике учения Фалеса Петров
отмечает: «Правда, говорить применительно к Фалесу о решительной замене
«как» на «что» нет достаточных оснований, хотя тенденция перехода от
генезиса к функции, от возникновения к состоянию, от движения к «бытию»
отмечается правильно, если исходить из эволюции милетской школы в
целом» (с. 96).
Однако неопределённость философии Фалеса связана с тем, что
невозможно раскрыть используемую им модель, так же как доказать
различения онтологического и гносеологического планов. Впрочем, у
Фалеса денежная модель используется в виде универсальности и
принадлежности вещам универсальных свойств. Анаксимандр делает
важный шаг на пути «научного типа» использования понятий, каковым
является у него «апейрон», не доступный чувственным восприятиям. И
другое: «апейрон», понятый через призму лингвистической модели,
11
показывает, что за пределами единичного существует всеобщее и
бесконечное, существует «всеобщая причинная связь». Анаксимен,
используя денежную модель, намечает пути перехода от всеобщего к
единичному через степень качества (разряжение и сгущение воздуха) и
количества. По первому пути пойдёт Гераклит, по второму Анаксагор и
атомисты. Весьма примечателен вывод, который делает М. К. Петров как
непредвзятый учёный, и который во многом предвещает его будущие
историко-философские и жизненные неприятности: «Развитие милетской
школы едва ли объяснимо по линии идеологии, хотя, конечно, в осознании
новых социальных отношений - абстрактных отношений товарообмена -
была, прежде всего, заинтересована социальная прослойка торговцев. В этих
учениях мы не находим социальной заостренности, четкой партийности» (с.
ПО).
Анализ пифагорейской философской теории Петров ограничивается её
научно-теоретической стороной, хотя и характеризует пифагорейский союз
как «своеобразный политико-философски-религиозный институт».
«Важнейшей заслугой пифагореизма является осознание онтологической
дискретности процессов и связанная с этим попытка обосновать
правомерность количественной интерпретации качества в числах - особой
системе дифференцированных знаков, подчиняющейся крайне
немногочисленным правилам-аксиомам» (с. 142). Собственно говоря, эта
сторона учения пифагорейцев и позволяет Петрову включить их в
оформляющееся научное мышление.
Более расширенным выступает анализ философии Гераклита в разделе,
носящим весьма выразительное название: «Учение Гераклита Эфесского о
логосе - единой закономерности природных, социальных и логических
процессов». Петров специально оговаривается: «В учении Гераклита нас,
прежде всего, интересует его концепция логоса как первый продукт
философского умозрения, первая категория причинности» (с. 121). И всё же
исходным в проводимом анализе выступает учение Гераклита о «космосе» -
«огне». Единство космоса не динамично, а статично («космос не создан
никем ни из богов, ни из людей»). Вот по отношению к этому космосу и
12
определяется логос. «Логос Гераклита - вне ума, и не логос
приспосабливается к уму, а ум к логосу, который един, всеобщ, присущ всем
вещам и процессам, как устойчивое в этих вещах и процессах, как
формирующее, образующее начало. Иными словами, как абсолютный
объективный определитель логос Гераклита не есть нечто вне огня, и в этом
пункте Гераклит, безусловно, связан с денежной моделью, с золотом -
эквивалентом. Но вместе с тем логос и не огонь в том понимании всеобщего
бытия, которое вкладывалось древними в «начала» Фалеса, Анаксимандра,
Анаксимена. Логос - закон перехода огня в различные состояния,
диалектический закон, присущий самому огню, а не навязанный извне» (с.
127).
Итак, огонь, как субстанциональное начало, и логос, как его
закономерность, структура. Это, по сути, центральное положение можно
понять, если учитывать предыдущее замечание Петрова, которым он и
начинал анализ: «Чтобы уточнить природу огня и логоса, как закона его
изменений, следует сразу же отметить, что духовное, «психеи», Гераклит
производит от того же огня как одну из степеней его превращений:
«Психеям смерть - стать водою, воде же смерть - стать землею; из земли же
вода рождается, а из воды - психеи» (Климент, Строматы, VI, 16).
Наблюдается у Гераклита и обращение к лингвистической модели.
Гераклиту первому среди греков принадлежит честь выделения мышления в
особую, связанную со знаком реальность, честь выхода к лингвистической
модели. В качестве основных признаков мышления выдвигается его
общность у людей и связь с логосом.
«Относительно основного тезиса Парменида - единства бытия и
мышления - следует заметить, что движение мысли в этом тожестве идет
еще в гераклитовом направлении. Логико-лингвистическая структура с ее
законами не выступает здесь на правах модели, а предстает, скорее,
предметом, который пытаются понять с помощью модели денежной.
«Логический аргумент» имеет в своем основании не определения мысли, а
определения бытия, которые постулатом тожества переносятся на мысль.
Философия Парменида и может быть понята как такое перенесение, тогда
13
как уже у его ученика Зенона движение мысли более сложно, носит
циклический характер. Зенон не просто повторяет философию Парменида, а
использует её как сложившуюся систему» (с. 209).
Гераклит находится в центре диссертационного исследования, что и
позволяет подвести некоторые итоги и сделать выводы, необходимые для
осмысления последующих глав. Философия Гераклита убедительно
вписывается Петровым в пространство формирующегося научного
мышления, она предстаёт многоаспектным и многослойным образованием.
Когда он пишет о «слове» у Гераклита, то использует наиболее простой и
распространённый перевод греческого термина \6yos. Как отмечал
известный западный исследователь Марсель Конш, логос для грека имел
прежде всего смысл «рассказа», рассказа в прозе. Этот основной смысл
вполне соответствует содержанию фрагмента В1, помещённого в начале
книги Гераклита и не содержащего какого-то особенного, специального
смысла (в этом случае фрагмент должен был бы находиться не в начале, а в
конце книги). Фрагмент содержит жалобы на слепоту и непонимание логоса
людьми ни до того, как они его услышали (это - то было бы вполне понятно),
ни услышав впервые. В такой формулировке усиливается акцент на
непонимании логоса: слышали они не или не слышали рассказ (сказание,
сказ) Гераклита, они не могут понять его содержание. Они «присутствуя,
отсутствуют».
Впрочем, Петров вовсе не отвергает учение Гераклита о порядке и
устройстве космоса и об огне как его субстанции, только в этом контексте и
возможно вести речь о логосе. И всё же общая интенция исследования
состоит в обосновании методологических проблем, преодолевающих
«лобовое столкновение» современности с древними и истолкование их с
позиций «исторической ретроспективы». По сути дела, такое «лобовое
столкновение» с досократиками состоялось уже у Аристотеля, который
упрекал их за интерес лишь к «причине материальной» и «злоупотреблении
метафорами», в то время как сам он уже пользовался понятиями и
категориями. Судя по тексту диссертации, Петров не отвергает
«физическую» трактовку раннегреческой философии, основанную на
14
свидетельствах Теофраста, ученика и последователя Аристотеля, и
сводящую её содержание к поиску материального первооснования мира, в
качестве которого рассматривались вода, огонь или воздух и т. д.
В диссертации Петрова реконструируется контекст происходящих в
истории греческой и всей европейской мысли трансформаций. Он с
пониманием говорит о попытках Ф. Корнфорда нарушить традицию
«исторической ретроспективы» и изменить русло исследований. В статье
этого же периода «Учение Гераклита о слове», недавно опубликованной в
журнале «Научная мысль Кавказа» (2013, № 3, с. 5-16), он пишет:
«Использованный Ф. Корнфордом, а затем Дж. Томсоном метод берёт за
исходное анализ исторических ограничений, накладываемых на мышление
структурой языка и действующим в данный момент ассоциативным
субстратом». Как известно, при сопоставлении античных теогонии и
космогонии Ф. Корнфорд выявил общую им так называемую генетическую
(sex) модель. Михаил Константинович, ссылаясь на Леви-Брюля и Уорфа,
характеризует пространство родового мышления, в основе которого лежали
базовые постулаты наличия у каждого явления родительской пары и
сохранения способности производить потомство (гилозоизм), что и
наблюдается в древнегреческой мифологической системе Олимпа. Другая
сторона родового мышления, не выделявшего себя ни из языка, ни из
объективного мира, состоит в отождествлении имени и предмета
(«неназванное не существует и начинает существовать будучи названо»).
Соответственно, философию Гераклита Петров связывал с его отношением к
олимпийской традиции и в первом, и во втором отношениях.
Обратимся к идее «начала», «исходного единства», которая объединяет
досократиков в их отношении к Олимпу. Идея исходного единства и
раздвоения единого - это, конечно, наследие Олимпа, но это уже его
разломы, разрывы, отдельные компоненты, утратившие прежнюю
целостность. Отсюда может следовать обращение к целому ряду фрагментов
Гераклита, но обратим внимание на то, что у него появляется новая
структурная связь: единство противоположностей. Единство
противоположностей («исходное единство») и идея цикла, выделяемые
15
Петровым, вполне обосновывают новые структурные связи, используемые
Гераклитом. Здесь он солидарен с Корнфордом, который считал, что
особенность становления рациональных взглядов на мир состоит в
«свободном истолковании космогонической проблематики мифа». В ходе
этого процесса проблематика обезличивается, теряет связь с генетическим
субстратом ассоциаций (товарообмен), становится подвижной, доступной
критике и изменению. Первые философы, в диссертации это один из
ведущих мотивов, могут рассматриваться провозвестниками
естественнонаучного подхода. Конечно, помещая в один смысловой ряд
«прекрасную упорядоченность», «космос» и «миропорядок», опирающийся
на смыслообраз огня, Петров отмечает решающую роль «исходной
аналогии». Это товарообмен, деньги, которые и Аристотель считал
«алфавитом» обмена. Но Петров, как мы видим на протяжении всей
диссертации, не соглашался с Дж. Томсоном в том, что «опосредствующее
звено-модель» должно быть только одним.
Итак, Петров обосновывает наличие в возникающей философии идеи
субстанции, основного звена в системе детерминизма, и создание на
обломках Олимпа новой (детерминистской) модели мира. Позже он так
охарактеризует смысловой континуум мышления «первых философов»:
«Возникает исходный контакт, тяж, своего рода труба, через которую вместе
с водой Фалеса и воздухом Анаксимена * в окружение втягивается
неопределенный универсальный субстрат - всеобщий материал и всеобщая
схема спекулятивного мышления». Уже у Гераклита этот материал приходит
в связь с идеей прекрасной упорядоченности, с «космосом», и его «вечно
живой» огонь становится вечной, циклически изменяющейся, структурной
схемой. По мнению Петрова, мы впервые наблюдаем радикальный разрыв с
мифологической идеей миротворения. Происходит переориентация на новый
ассоциативный субстрат и модель товарообмена играет здесь немалую роль.
Но возникает вопрос о том, как же соотносится логос, будучи словом и
речью, с порядком и структурой мироздания? За этим вопросом кроется
определяющее для всей логики исследования обращение Петрова к
лингвистической модели античных философских учений. В этом контексте
16
совершенно справедливы его слова о Гераклите: «Значительно большие
трудности Гераклит встречает при попытках переосмыслить родовой
постулат существования (имя-сдержание-действие-форма-материя) с учётом
идеи нового ассоциативного субстрата. Из этих трудностей и возникает его
лингвистическое учение». У Гераклита сохраняются «родимые пятна»
близости безлично-естественной системы вещей и олимпийской системы
имён: «Единое, единственно мудрое, не желает и желает называться именем
Зевса» (Климент. Strom., V, 116); «Имени Дике не было бы известно, если бы
она не существовала» (Климент. Strom., IV, 10)». Однако связь с Олимпом
обрывается размышлениями о природе имени, связи имени (слова) и дела, то
есть о природе всех вещей. Сам Гераклит сомневается в однозначности этой
связи: «Имя луку - жизнь, а дело его - смерть». Можно ли выразить
естественно - природный порядок, если признавать истинность имён «по
природе»? Сомневаясь, Гераклит все-таки подчеркивает неразрывность этой
связи, считает Петров. Следование традиционному способу использования
имён «по природе», отождествляющему имя и вещь, ставится под вопрос в
том случае, когда речь заходит о конкретных носителях логоса - самом
Гераклите и Биасе (лучший логос) и других людях (не понимающих логоса),
которые должны были сталкиваться с такого рода трудностями, претендуя
на авторство.
На наш взгляд, прежде всего надо остановиться на том, что перенося
акцент с «возникновения» на «существование» мира, Гераклит (да и не один
только Гераклит) создаёт социо - антропоцентрическую картину мира, иной
раз весьма детализированную. Но обращения к этической проблематике у
Петрова не последует, хотя эта сторона вопроса так или иначе затрагивается
им на протяжении всей диссертации. Для него важно подчеркнуть другое:
вместе с логосом Гераклита мы погружаемся в общность мышления. Только
в этом случае человеку оказывается доступной истина, а рассказ Гераклита
превращается из повествования в поиск истины. Но возникает вопрос: эта
истинность (общность) привносится онтологическим, этическим или
грамматическим смыслом? Можно ли здесь соглашаться с грамматическими
доводами? Представляется, что М. К. Петров переносит исследование
17
вопроса как раз в грамматическую область. «Нарушить целостность
родового постулата существования удается только Демокриту, но
предпосылки для такого разложения создает уже Гераклит. Он не то, чтобы
отсекает объективную составляющую постулата (форма-материя), но как бы
оставляет ее в тени. Во фрагментах 1, 73, 112 обнаруживается любопытный
комплекс «говорить- делать», поясняющий термин (λόγος)».
Погружаясь в центр античных дискуссий об истинности имён «по
природе» и «по установлению» мы возвращаемся к идее Петрова о
преодолении родового мышления, отождествлявшего имя и предмет.
Античная полемика об истинности имён «по природе» и «по установлению»
выступает ключевым моментом в проводимой Петровым реконструкции
философских учений античности, в которых влияние лингвистической
модели всё нарастает и завершается у Аристотеля наложением на мир
категориальной сетки, а поиск «сущности» во многом определяется
обнаружением структуры языка. Греки говорят о языке и грамматике, но это
грамматика и логика бытия. В этом и состоит значение античной полемики
об именах, знаменующей разрыв с мифологической традицией, для истории
науки. Область «разломов», «осколков» мифа, внутри которого и происходит
развитие античной философии, было областью «самосознания и научного
творчества», пользуясь словами Петрова.
Вторая глава помещает проблемы античного детерминизма в
пространство соотношения категорий причинности и целесообразности.
Автор обращается к так называемым «плюралистам» (Эмпедокл, Анаксагор,
Демокрит), составляющих как бы первый блок вопросов (софисты, Сократ,
Платон - второй). По мнению Петрова, учение Эмпедокла детализирует
общую картину мира в её динамической части, поскольку он вводит такие
важнейшие характеристики процессов, как множественность, дискретная
определенность, количественные различия, пропорции. Петров отвергает
попытку понять Эмпедокла в пределах денежной модели, но с другой
стороны, вряд ли возможно рассматривать принцип причинности и в
элеатской негативной формулировке. Лишь в отношении качеств-корней
можно предполагать, что здесь перед нами структура денежной модели,
18
причем структура, детерминирующая деятельность Вражды и Дружбы.
Введение в философию «устрояющего мирового ума (vous)» и
«гомеомерий» Анаксагора ставит множество проблем. По мнению Петрова,
перед нами здесь своеобразная попытка качественно атомистического
толкования мира, где атомами в широком смысле слова выступают
качественно неизменные, но количественно изменяющиеся в самых широких
пределах «семена» - формы существования. «Такая попытка даёт
возможность интерпретировать развитие чисто количественно, выводит
качество из картины изменений мира как постоянную и неизменную
величину, как постоянный коэффициент изменения» (с. 181).
Демокриту принадлежит честь преобразования основной формулы
детерминизма «из ничего не возникает нечто» в более четкую и структурную
формулу: «ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на
каком-нибудь основании и в силу необходимости» (с. 189). Как и системы
Эмпедокла и Анаксагора, философия Демокрита может рассматриваться
частным случаем решения проблемы, очерченной положением: «из ничего
не возникает нечто». В основе философии Демокрита, полагает Петров,
лежит отрицание актуальной бесконечной делимости первовещества. «В
атомах система Демокрита получает своеобразный строительный материал,
позволяющий, не нарушая положения «из ничего не возникает нечто»,
строиться и миру в целом, и субъектно-предметным отношениям, в
частности. У Демокрита исходный причинный постулат принимает форму:
«все возникает на каком-либо основании и в силу необходимости». Для
проявления переходов и связей допускается существование пустоты,
наделенной некоторыми геометрическими свойствами: «над», «под»,
«выше», «ниже». В этом различении видят обычно один из способов
преодоления той пропасти, которая имела место в прежних системах между
количеством и качеством.
«Мир движущихся в пустоте умопостигаемых атомов» как раз и
оказывается у Демокрита той «скрытой гармонией», которая со времен
Гераклита успела побывать и «единым» элеатов, и «корнями» Эмпедокла, и
смесью «семян» Анаксагора. Здесь, у Демокрита, скрытая гармония остается
19
связанной с денежной моделью только в трактовке качества. Не устарели и
по сей день замечания Петрова в адрес Демокрита: «отвергая случай,
Демокрит вместе с тем не озаботился точно определить «необходимость».
Она определена скорее негативно, как нечто, исключающее случай, но и
только» (с. 197-198). Не жалуя Демокрита, Петров пишет, что неясность
путей, которыми разум связан с миром атомов и пустоты, преодолевается
Демокритом весьма противоречиво. «Если Анаксагорово разделение
субъекта и предмета позволяло поставить вопрос о чувственном и
рациональном как элементах, звеньях замкнутой цепи каузальных связей, то
система Демокрита исключает такую постановку вопроса, берет чувственное
и рациональное как самостоятельные сущности, берет их со стороны
результата, а не функции. Поэтому, хотя попытка создать теорию познания,
удовлетворяющую основному причинному постулату, и представляет
значительный интерес, теория познания Демокрита гораздо менее интересна
со стороны функциональной» (с. 204).
Самое интересное и важное у Демокрита Петров видит в его учении о
языке. Усилия Демокрита концентрируются на изучении природы
лингвистического знака, где выдвигается противоположная Гераклиту
теория вео€1 (по установлению). Показывая условный и немотивированный
характер лингвистического знака, Демокрит пытается дать причинное
истолкование происхождению языка как частной проблеме происхождения
общества: «Что касается перворожденных людей, то о них говорят, что они
вели беспорядочный и звероподобный образ жизни... Так как на них
нападали звери, то они стали научаться помогать друг другу, благодаря
пользе, приносимой совместными действиями. Собираясь же вместе
вследствие страха, они мало-помалу стали познавать знаки, передаваемые
ими друг другу...». Основные положения теории Демокрита:
немотивированность лингвистического знака, очаговый характер
происхождения языка, возникновение языка в коллективе, язык - условие
совместных действий (нужда-учительница) - все они сохраняются и в
современных теориях происхождения языка. С точки зрения моделей у
Демокрита наблюдается общая с Эмпедоклом и Анаксагором тенденция к
20
освобождению от денежной модели, выходу за ее пределы. «Но если у его
предшественников сама эта тенденция лишь направлялась принципом
причинности, то у Демокрита обнаруживается более глубокий процесс: сам
принцип причинности приобретает некоторую структуру, показан
универсальным структурным отношением, использован на правах модели»
(с. 248).
Второй блок вопросов (софисты, Сократ, Платон) смещает проблематику
с природы на человека. Если в качестве основной причины смещения
названы Петровым политические события того времени, в частности, победа
демоса, то попытки обосновать как аристократическую, так и
демократическую нормы блага связываются с переходом, как и у Демокрита,
на лингвистическую модель. Но здесь наблюдаются существенные отличия:
учителя риторики - софисты были первооткрывателями учения о свободе, а
не необходимости. Этот индетерминизм рассматривается Петровым как
отрицание конкретного детерминизма Анаксагора и Демокрита. Основную
задачу софистики - научить «мыслить, говорить и делать» Петров понимает
как обеспечение человеческой свободы: снятие религиозных и естественных
ограничений, исследование человеческих возможностей, воспитание как
средство «искусственного» создания в душе человека критерия оценки
собственных поступков. Отсюда их полемика как с Демокритом, так и с
Платоном, с установлением того, что диктует выбор. В софистике
древнегреческая философия пускает первые корни в логическую структуру,
закрепляется на почве лингвистической модели.
Тогда как у софистов привлечение отдельных элементов лингвистической
структуры редко мотивировано ссылкой на структуру в целом и часто носит
произвольный характер, у Сократа и Платона, подчёркивает Петров,
лингвистическая модель выступает уже осознанным в строгости своей
структуры исходным постулатом. Сократ уже целиком на её почве делает
первые усилия для отожествления логической структуры с благом. «Вся
спекуляция Сократа стоит в этом смысле на абсолютизации того факта, что в
одном из основных элементов структуры языка, а именно в слове, налицо и
объективное, и субъективное содержание» (с. 228). Впрочем, как это было
21
замечено Петровым, Сократ, «выдвигая тезис о совпадении всеобщего, блага
и истины в едином, во всех диалогах подчеркивает трудности восхождения
к этому единству, и не столько восходит, сколько утверждает методику
такого восхождения» (с. 229). Так или иначе, но у Сократа намеченный в
учениях софистов отход от связанной с денежной моделью проблематики
принимает характер осознанного резкого ее отбрасывания, характер
самоограничения лингвистической моделью.
Относительно центрального пункта платоновской проблематики и по сей
день имеются большие расхождения. Большинство считает центральной
проблему «мира идей». Но для категории причинности, полагает Петров, так
называемый «мир идей» имеет хотя и очень важное, но все же не
первостепенное значение, выступает частной деталью более обширной
схемы, хотя с точки зрения лингвистической модели, «мир идей» мог бы
быть поставлен в центр проблематики. Можно заметить, что в своём
понимании Платона, Петров отталкивается от учения софистов, которые
боролись с Платоном, пытающимся связать выбор и само понимание блага
со сверхъестественной силой - богом. Выбор для анализа «Тимея» Петров
объясняет тем обстоятельством, что здесь в наиболее связной форме дана
основная проблематика Платона, а также тем, что этот диалог во многом
определил философию Аристотеля, да и дальнейшее развитие философии в
вопросах о том, «что такое есть вечно сущее, но не происходящее [во
времени], и что есть постоянно происходящее, но никогда не бывающее
сущим? Первое, конечно, есть то, что постигается умом путем мышления и
что существует всегда одним и тем же образом, а последнее есть то, что
сознается в форме мнения при посредстве неразумного чувства и что - то
происходит, то погибает, но на самом деле никогда не существует» (Тимей,
28 А).
Вопрос о природе причинности у Платона, считает Петров, должен быть
поставлен в двух планах: как вопрос о трансцендентном или естественном
характере причинности и как вопрос об отношении причины и цели.
«Создатель какого-либо произведения постоянно имеет перед глазами то,
что пребывает неизменным, и пользуется им как образцом». Здесь этот
22
образец выступает определителем, целью, объясняющей, куда идет
движение, а не благодаря чему оно происходит. Причинность в целом
берется Платоном из абсолютизации техноморфной модели. Платон
довольно четко ставит вопрос об акте практики, указывая на
целесообразность как на существенную черту этого процесса. Мир создан,
потому что он видим, слышим, и осязаем. Он - снимок с вечного образца,
потому что прекрасен и познаваем, а творец его добр. Подчеркивание того
обстоятельства, что образец должен быть эталоном, можно рассматривать
как указание на умопостигаемый, сущностный характер образца, ибо
неизменное относится Платоном к сущности. В этом смысле и сам мир
«идей» Платона можно понимать как склад образцов, которыми пользуются
в процессах регулирования, т.е. теми возможными формами существования
веществ, из которых складывается субъективная картина мира и которые
представлены в ценностном (потребностный облик) значении слов.
«Разводя чувственное (oparov) и рациональное (vo-qrov) в оторванные друг
от друга области, Платон вместе с тем, хотя и очень туманно, намечает их
связь в плане восхождения, «воспоминания», перехода от чувственного к
рациональному. И принципиальная неспособность чувственного дать
истинное познание должна пониматься не столько в том смысле, что
чувственность у Платона вообще лишь затемняет знание, сколько в том, что
правила обобщения чувственных данных для перехода в мир идей и затем
для познания «блага» не могут быть извлечены из самой чувственности,
привносятся в нее из мира идей, определяются, в конечном счете, благом» (с.
255). Причинность, делает вывод Петров, представлена у Платона как
необходимостью, так и разумом.
Не будем забывать, что предметом исследования у Петрова выступают не
античные учения о причинности, а античный детерминизм, то причинное
объяснение мира у древних, та рациональная картина мира, в основу которой
кладется распознание причин всего сущего. С учётом данного
обстоятельства весьма последовательными выглядят замечания Петрова о
том, что здесь мы встречаем знакомую еще по пифагореизму и учению
Гераклита абсолютизацию техноморфной модели, которая используется с
23
указанием на принцип причинности, но основное отличие абсолютизации у
Платона в том, что полем абсолютизации выступает лингвистическая
модель. Хотя он берёт эту модель не полностью. Скрытое за знаком
мышление берется Платоном, как и Сократом, в продуктах мифотворчества
(эта тема, популярная сегодня не очень развивается Петровым, по крайней
мере в этой диссертации). Структура (алгоритм регулирования), из которой
изгнана многозначность, используется Платоном лишь в качестве поля
абсолютизации, в пределах которого мы встречаем элементы техноморфной
(акт творения) и генетической (связь идей с материей) моделей.
Аристотель (третья глава) уже не может вводить в анализ фонетическую
сторону языка, поскольку в согласии с теорией 0eW - это случайная,
немотивированная сторона языка. Поэтому поиски сущности ведутся
Аристотелем, во-первых, по линии вычленения из фонетической оболочки
содержания языка, или, по его терминологии, «просто языка» (та iv rfj
φωντ}), и, во-вторых, по линии анализа этого содержания. Результаты такой
попытки Аристотеля общеизвестны: формальная логика, начала грамматики
и, наконец, сущность, как нечто локализованное по вещи. Наиболее важен,
считает, Петров, аристотелевский анализ языка в «Категориях». Во всем
многообразии отражаемых языком явлений Аристотель различает сущность,
качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание,
действие, страдание, причем сущностью {ουσία) выступает то, что обычно
является подлежащим {ύποκύμζνον) и о чем «сказывается» все остальное.
Подлежащее, как нечто относящееся к движениям души и независимое от
фонетической оболочки, есть необходимый элемент анализа, так как с
позиций déaei нельзя говорить о предметной истинности отдельных слов.
Истина относится к словам в связи, к отображению связи явлений, к
предложениям, а не к отдельным словам: «Из слов вне связи ни одно ни
истинно, ни ложно» (Категории, 4).
Отмечая огромную роль Аристотеля в разработке логики и языкознания,
Петров подчёркивает, по крайней мере, в этой диссертации, завершенное в
учении Аристотеля резкое ограничение философской проблематики,
сведение её до поданного в космических масштабах и развернутого во
24
временную бесконечность акта регулирования. «Аристотелевская телеология
на долгое время завела анализ проблем детерминизма в тупик. Она едва ли
может считаться преодоленной и в наше время». У Аристотеля, как и у
Платона, в основе абсолютизации лежит лингвистическая модель,
абсолютизируются же техноморфные, биоморфные, генетическая модели,
причем наиболее всесторонне используется процесс регулирования, на
основе которого и создается структурный продукт философского умозрения
- сущность, причинность как таковая.
Такая трактовка, по мнению Петрова, сохраняет связь с миром единичных
вещей через чувственность, хотя и вынуждена толковать связь идеального и
актуального преобразования мертвым тожеством, чем и стабилизируется
объективное определение. «В этом своем качестве устойчивого, неизменного
объективное определение теряет отличия от субъективного, предстает
жесткой структурой связи, где нельзя уже различить субъективное и
объективное, целесообразность и причинность. Аристотелевский
детерминизм природы может поэтому в равной степени рассматриваться и
телеологией, и однозначной причинностью. Первый подход подчеркивает
субъективное, второй - объективное в аристотелевском понятии сущности»
(с. 317).
Тем не менее, не раз упрекаемый Петровым за стремление «смотреть на
предшественников с колокольни собственной мысли» Аристотель вписал в
единое континуальное пространство основные проблемы философской
мысли Древней Греции, что и позволяет Петрову говорить о культурной
парадигме и эволюции теоретического мышления греков в целом. При этом
надо учитывать, что Аристотель размышляет, анализирует и комментирует,
то есть по сути первым предпринимает попытку исторической
реконструкции философских актов мышления. Конечно, Аристотель облекал
учения предшественников в несвойственную им терминологию, но,
полемизируя с ними, он не мог игнорировать их содержания. Более того,
связанный с учением о перводвигателе принцип целесообразности позволяет
сохранить интерес к построению картины мироздания, в чем Аристотель с
предшественниками не расходился. Другое дело, что, подвергая
25
критическому пересмотру концепцию «фюсис» как основы мироздания,
Аристотель опирался на переосмысление содержащихся в ней
представлений о языке и мышлении и отказывался от образов и слабых
персонификаций в пользу понятий. Петров в диссертационном исследовании
останавливается на аристотелевском учении о причинности, но его
интересует и общефилософский контекст.
Когда мы начинаем читать Аристотеля «Метафизику», то осознаём, что
это не просто построение системы онтологии, но и попытка выйти за
пределы прежнего мышления «фисиологов», которые использовали
аналогии и метафоры. Аристотель опирается на логику, а это разрушение
прежней семиотической системы, где боги Олимпа - ключ к семиотической
системе как системе хранения, трансляции и обновления знания. О
понимании М. К. Петровым Аристотеля и проблем античной философии
можно было бы говорить и далее, но сейчас вернёмся к науковедческому
посылу, который был в его творчестве не менее значим. Наука
рассматривалась им не как встроенный механизм общечеловеческого
мышления, а как особый институт европейской культуры. Истоки такого
понимания и кроются в его кандидатской диссертации, посвященной
античной философии классического периода. В последующих работах
Петров показал культурные механизмы науки и научного творчества,
возникшие в Европе на основе синтеза античности и христианства,
проходящего в особых исторических условиях, характерных для Западной
Европы (в частности, опора на «теологические леса»), а античный мир
рассматривался им как конструктивно-логическая предпосылка научного
рационализма. Греки, отмечал М. К. Петров, первыми развязали языковой
формализм и ввели универсальный принцип тождества мысли и бытия.
«Настаивая на принципе тождества мысли и бытия как на основном
структурном элементе нашего мировоззрения, мы имеем в виду
характерный, по основанию регулирования, организационный контакт
общения и поведения, слова и дела, в котором поведение оказывается
формализованным, а формализм поведенческим - однозначным,
26
непротиворечивым, целесообразно-программным, поскольку «знать» по
нашей норме значит «уметь».
Очевидно так же то, что как только мы апеллируем к современной
ситуации, обнаруживается определенный социально-культурный срез,
характеризующий сохранившееся до сих пор двуязычие культур. В свете
такого рассмотрения истории мышления древний Восток предстаёт
(диссертация Петрова даёт для этого основания) как устойчивый культурный
мир, лишенный необходимости постоянного самообновления и тем самым
разрушения гомеостазиса с природой. Восток представал завершенной
структурой, имеющей особый тип социальной и знаковой реальности,
предполагающей высокие культурные достижения и отсутствие характерных
для Запада проблем (до периода его индустриального развития) - низкого
культурного и прожиточного минимума. Современный научный мир
повернул это соотношение в обратную сторону. Не устаревает вопрос об
античном мире как об особом, выходящем из русла развития естественных
цивилизаций, варианте исторического развития, что и делает актуальной
диссертацию М. К. Петрова, написанную полвека назад.
Конечно, надо учитывать и, так сказать, особенности диссертационного
жанра: и обязательное обращение к классикам (чаще вполне уместным), и
ссылки на Дынника, в особенности по вопросам античной диалектики. Но
это уже самостоятельные вопросы. Что же нового в диссертации, если
ставить этот традиционный для всякого диссертационного исследования
вопрос? Новизна вырисовывается с каждой прочитанной страницей. Прежде
всего, это неприятие Гегеля. Это ещё не методологический бунт.
Цитирование Гегеля не сопровождается методологической полемикой, но
методологический приём, который используется Петровым
(«опосредствование нового знания старым») несовместим с принятием
методов исторической ретроспективы. Контекстуальное рассмотрение
античного детерминизма распространяется на всю область античного
мышления и античной культуры. Вот здесь и достигается поставленная цель
- рассмотрение истории философии как пространства развития научного
мышления. На этом пути достигается эффект разрыва с плоским
27
эволюционизмом и панлогизмом, выплывает проблематика культурного
переворота в древней Греции, двуязычия культур и роли науки в развитии
общества. М. К. Петров блестяще проводит «вторжение» в сферу
человеческого языка, проблемы именований в античной философии. В
результате его диссертационный анализ позволяет нам оказаться в контексте
всего греческого и европейского мышления, устремлений агональной
личности и реконструировать характеристику культуры, которая вызвала к
жизни философию и науку.
28
M. К. Петров
ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕРМИНИЗМА В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
Введение
Конспектируя книгу Лассаля [1] о Гераклите [2], Ленин отметил:
«Тысячелетия прошли с тех пор, как зародилась идея «связи всего», «цепи
причин». Сравнение того, как в истории человеческой мысли понимались
эти причины, дало бы теорию познания бесспорно доказательную» (1, с.
317). Изучая «начала», «логосы», «сущности» древних, мы в какой-то
степени приближаемся к намеченному Лениным пути исторического анализа
проблем детерминизма [3]. Условием такой работы должна быть, очевидно,
хотя бы минимальная четкость в общей проблематике детерминизма. Без
ясности в этом вопросе невозможно ни поставить подлежащую
исследованию проблему, ни отделить существенное от второстепенного, ни
даже достичь взаимопонимания.
Попытка внести в проблематику детерминизма четкость, оставаясь в
пределах традиционного понимания и не затрагивая существа многолетних
споров, оказывается невыполнимой по многим причинам. Важнейшей из них
выступает, пожалуй, намечающееся изменение взглядов на причинность [4],
связанное с развитием физики, успехами физиологии, кибернетики. Вместе с
тем детальное исследование споров вокруг детерминизма было бы
инородным включением в историко-философской работе, уводило бы от
поставленной цели. В этих условиях единственным выходом представляется
краткая сводная характеристика философско-научных тенденций в
понимании детерминизма и четкая позиция в ключевых вопросах. К
сожалению, сама природа проблемы делает краткую сводную
характеристику краткой лишь относительно.
29
I.
В конце прошлого века Т. Рибо [5] провел интересный психологический
опыт. Людям различных профессий, в том числе ученым и философам, было
предложено описать впечатления, связанные с употреблением отдельных
слов, в частности, слова «причина». По поводу этого последнего Рибо
пишет: «Если мы возьмем слово «причина», то формула «я не представляю
себе ничего» составляет 53 % всего числа полученных ответов; лица, давшие
другой ответ, видели либо печатное слово, либо конкретный образ:
падающий камень, тянущих что-нибудь лошадей...» (2, с. 188). Надобно
полагать, что за полвека многое изменилось и результаты подобного опыта
были бы сейчас иными, но попытка внести исходную четкость, по крайней
мере, не повредит.
Диалектико-материалистическое понимание причинности исходит из
признания ее одной из форм всеобщей взаимосвязи. Между причиной и
следствием как сторонами некоторого всеобщего отношения намечается
временно-динамическая или качественно-динамическая структура, что
вскрывается в положениях: «в мире нет беспричинных явлений», «причина и
следствие взаимодействуют», «причина предшествует следствию», «между
причиной и следствием существует внутренняя закономерная связь». Если
причинность рассматривается формой всеобщей, взаимосвязи, т.е. как нечто
в объекте, «онтологически», то детерминизм - категория несколько более
свободная и в обычном понимании не столько сторона всеобщей
взаимосвязи или сама эта взаимосвязь, сколько учение о закономерной
всеобщей и необходимой связи событий, явлений с точки зрения их
причинной обусловленности. Нельзя, конечно, утверждать, что такое
толкование детерминизма выдерживается строго. Напротив, часты случаи
отождествления причинности и детерминизма, подмены одного другим. С.
Рубинштейн [6], например, часто ссылается на положение «внешние
причины действуют через внутренние условия» как на «общую черту
диалектико-материалистической концепции детерминизма». Но быть
детерминированным - означает для него быть включенным во всеобщую
30
взаимосвязь явлений материального мира (3). Мы фиксируем внимание на
свободном употреблении слова «детерминизм» и его производных не для
каких-либо критических замечаний, но для уточнения собственной позиции.
Для нас детерминизм - более широкое понятие, чем причинность.
Детерминизм включает в себя не только некоторую структурную сумму
универсальных онтологических характеристик, которую можно обнаружить
в любом явлении действительности, но и стихийное или осознанное
проявление, использование этой суммы (причинности) в конкретных
явлениях. Иначе говоря, пока речь идет о причинности, конечным
результатом предполагается некоторое структурное элементарное
отношение, которое может рассматриваться универсальной константой либо
мира в целом, либо процессов, совершающихся в этом мире, и цель состоит
в том, чтобы выделить эту универсальную константу в наиболее чистом
виде. Когда же речь идет о детерминизме, цель меняется. Здесь исследуются
конкретные процессы, связи, явления, в которых причинность выступает
универсальным определителем, выступает уже как универсальное
отношение в конкретном, как выраженный во внутренней определенности,
«детерминированности системы» переход-связь конкретного и
универсального. Конечно, между причинностью и детерминизмом не
существует метафизической китайской стены, одно предполагает другое в
диалектике познания. Но при этом, все же, полезно четко различать оба
аспекта.
В свете сказанного, понятия «проблема причинности в философии
древних» и «проблема детерминизма в философии древних» содержат не
только тематические, но и до некоторой степени методологические
различия.
В первом случае подразумевается, что мы берем на себя обязательство
извлечь из древних учений все, относящееся к попыткам выделить
причинность в чистом виде, а затем, сравнивая, сопоставляя, прослеживая
черты преемственности, выделить общую тенденцию древних в разработке
данной проблемы. При кажущейся естественности путь этот требует
некоторой суммы исходных посылок, справедливость которых, по меньшей
31
мере, спорна. Такой подход предполагает само собой разумеющимся: а)
древние авторы воодушевлены теми же целями, что и исследователь; б)
взгляды древних сравнимы, «стремятся» к некоторому пределу - идеальному
эталону, которым, как это молчаливо допускается, обладает исследователь;
в) взгляды древних по их приближению к эталону могут быть расположены
хронологически или тематически в последовательную цепь состояний
единого имманентного процесса развития, по отношению к которому
древний автор выступает бессознательным выразителем закономерной
тенденции (обычно тенденции сблизиться с мнением исследователя).
Сомнительность некоторых их этих посылок очевидна, и нет ничего
удивительного в том, что попытки исследовать древность под этим углом
зрения неизбежно выливались в поиски собственных «предшественников»,
вели к модернизации взглядов древних, подгонке их под изобретенный
исследователем стандарт. Таких примеров множество. Наиболее типичны из
них: Аристотель - в древности и Гегель - в Новое время. Насколько
подобный подход к древним живуч и в наше время, можно иллюстрировать
заявлением В. Росса [7] о «причинах» Аристотеля: «Следует отметить, что из
четырех Аристотелевых причин только действующая и целевая отвечают
естественному значению причины. Мы думаем о материи и форме не как о
соотнесенных с событием, которое они вызывают, но как о статистических
элементах, которые вскрываются при анализе"4 вещей» (4, с. 73). Нетрудно
заметить, что здесь «естественное значение причины» выступает некоторым
идеальным эталоном, по отношению к которому «природное» авторство
более чем сомнительно.
Такой, с «естественными» значениями, тенденциями, закономерностями,
подход к античности рисует ее областью экзотики, иногда наивной, иногда
трогательной. Чего стоит, например, вопрос о природе мулов, по которому
считали своим долгом высказаться почти все древние авторы и который для
древних сравним разве что с вопросом о жизни на Марсе для наших
атеистов. Однако удивление и экзотическое восприятие античности - лишь
первое впечатление. Оно довольно быстро сменяется мыслью, что, пожалуй,
и древние могли бы посмеяться над некоторыми нашими жгучими
32
проблемами, что мы для древних не менее экзотичны, чем они для нас.
Именно это соображение, связанное с критической оценкой исходных
постулатов, заставляет отказаться от традиционного подхода к античности,
что и отражено в названии работы. Мы не собираемся нести в античность
«естественное», само собой разумеющееся, ту или иную схему. Могут,
конечно, возразить, что нельзя забывать важную цель историко-
философских работ - анализ и показ предпосылок диалектического
материализма в истории домарксистской философии. Но, во-первых,
сомнительна применимость для этой цели каких-либо априорных схем, а во-
вторых, нет нужды показывать то, что может быть доказано, что способно
само показать себя.
Цель работы мы видим не в том, чтобы соотнести результаты античных
усилий в разработке причинности с современным ее пониманием и,
соответственно, присвоить древним философам знания и ранги по степени
их приближения к современности. Цель работы - вскрыть детерминизм
древних философских систем и по характеру найденных в той или иной
системе связей попытаться обнаружить основные черты использованного
философом универсального отношения, «причинности», «модели
причинных связей». Центр тяжести, таким образом, переносится с отбора
всего, относящегося к причинности, на анализ систем в целом как систем
детерминированных и поиски по результатам такого анализа исходных и
универсальных для данной системы определителей. Последние -
определители - и есть то, что можно было бы назвать причинностью для
данной философии. И уже в конце работы, сравнивая эти определители
философских систем, мы попытаемся сделать некоторые общие выводы о
проблеме причинности в греческой философии классического периода.
Конечно, такой подход к анализу проблем детерминизма требует тоже
предпосылок. Во-первых, он исходит из того, что любой практической и
теоретической деятельности предшествует осознанное или неосознанное
представление об универсальной связи и взаимообусловленности и что это
представление отражается на характере деятельности, ее результатах, может
быть реконструировано из этих результатов. Иначе говоря, категория
33
причинности рассматривается не как продукт творчества той или иной
личности, а как продукт более или менее полного осознания уже
существующего, функционирующего, определяющего теоретическую и
практическую деятельность. В конкретной философской системе может и не
быть непосредственного указания на причинность как таковую.
Действительно, до элеатов или, по крайней мере, до Гераклита, мы не
встречали попыток определить причинность. Из этого, однако, не следует,
что философия Анаксимандра и Фалеса, или еще более ранние
«дофилософские» мировоззренческие формы обходятся без причинности.
Если, например, у Гесиода небо рождено землей, а у финнов выковано из
куска стали, то за этими фактами нетрудно разглядеть два различных
подхода к явлению, в которых используются свои особые модели
причинности. Эта предпосылка допускает доказательство и, собственно,
доказана трудами психологов, мифологов, лингвистов. Во-вторых,
анализируя детерминизм философских систем древних, мы исходим из
посылки, что любая форма общественного сознания, в том числе и
философия, определяется общественным бытием.
В силу второй посылки для целей нашей работы необходимы некоторые
уточнения понятий общественного бытия и отдельных его явлений под
специфическим причинным углом зрения. С другой стороны, нуждается в
пояснении и сама теория моделей, характер связи детерминированных
логических структур со своими определителями. Теорию моделей и ее
историю мы рассмотрим в конце введения.
2
Наиболее важные как для данной работы, так и для понимания существа
проблемы определения причинности обнаруживаются в работах Ленина
«Философские тетради» и «Материализм и эмпириокритицизм». «Причина и
следствие, ergo, лишь моменты всемирной зависимости, связи
(универсальной), взаимосцепления событий, лишь звенья в цепи развития
материи» (1, с. 155); «Каузальность, обычно нами понимаемая, есть лишь
34
маленькая частичка всемирной связи, но (материалистическое дополнение)
частичка не субъективной, а объективно-реальной связи» (1, с. 156);
«Человеческое понятие причины и следствия всегда несколько упрощает
объективную связь явлений природы, лишь приблизительно отражая ее,
искусственно изолируя те или иные стороны единого мирового процесса»
(5, с. 143). Это - одна группа определений, в которых говорится о
причинности как таковой и ее осознании. Вместе с тем Ленин подчеркивает
и другую сторону проблемы: «Требование посредства (связи) - вот о чем
идет речь при применении отношения причинности» (1, с. 159); «Человек в
своей практической деятельности имеет перед собой объективный мир,
зависит от него, им определяет свою деятельность» (1, с. 181). Эта группа
определений касается использования причинности в человеческой
деятельности, показывает эту деятельность объективно определенной. Со
стороны третьей, которую мы обнаруживаем и у Ленина, а также у Маркса и
Энгельса, субъективные нужды, потребности показываются полноправным
определителем человеческой деятельности. В «Капитале» Маркс
рассматривает труд как приспособление отдельных веществ природы к
человеческим потребностям, возникающим из обмена веществ (6, с. 49, 184,
193). Определяющую роль потребности подчеркивает и Энгельс: «Люди
привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы
объяснять их из своих потребностей» (7, с. 77).
Таким образом, не теряя своего единства, проблема детерминизма
расчленяется в нескольких планах. В одном плане - это причинность как
таковая, причинность - универсальное структурное отношение, момент
связи, посредства. В другом - единство объективного и субъективного
определения. В третьем - использование причинности в теоретической и
практической деятельности человека. В четвертом - искажения, упрощения
причинности в процессе осознания. Такая постановка вопроса позволяет, не
теряя из виду единство проблематики детерминизма, выделить три
связанные друг с другом и имеющие свою специфику детерминированные
области: а) всемирную универсальную связь, детерминизм природы; б)
детерминизм в пределах отношения субъект-объект, как он выражен в
35
теоретической и практической деятельности людей; в) детерминизм -
философскую категорию, или детерминизм как он осознан, представлен в
философских системах.
3
Детерминированный, «упорядоченный» характер природы не отрицается
ни философией, ни наукой. Вместе с тем само свойство определенности
может рассматриваться либо как внесенное извне некоторой обособленной
идеальной (идеализм) или материальной (механистический материализм)
силой, либо же - как неотъемлемое свойство самой материи.
Определенность, строгость такого определения могут приписываться
природе в различных степенях: однозначное определение («лапласовский
детерминизм»), многозначное определение («вероятностный детерминизм»,
«индетерминизм»). Наконец, определенность может мыслиться статической
(метафизика) или динамической (диалектика). С точки зрения
диалектического материализма, которая подтверждается данными науки, мы
имеем дело с определением - свойством самой материи, определением
далеко не однозначным, определением динамическим.
С другой стороны, хотя определенности природы и могут быть
приписаны некоторые универсальные константы и ограничения (закон
сохранения вещества, скорость света, постоянная Планка и т.д.), эта
определенность не выступает однородной структурой ни по времени (второй
закон термодинамики), ни по пространству (локализация специфических
типов определения). В пределах общей детерминированной структуры
обнаруживаются как ее интегральные составляющие более или менее
устойчивые, замкнутые области специфического определения, связанные с
другими такими областями-отношениями взаимодействия, части и целого.
Подобная замкнутая область (вещь, событие) и явления в ее пограничной
области - центральный предмет человеческих теоретических и практических
усилий проникнуть в тайны природы, поставить ее на службу человеку.
«Чтобы понять отдельные явления, - писал Энгельс, - мы должны вырвать
их из всеобщей связи и рассматривать их изолированно, а в таком случае
36
сменяющиеся движения выступают перед нами одно как причина, другое как
действие» (8, с. 184). Вместе с тем «вырвать» и «изолировать» не есть нечто
произвольное, зависящее лишь от желания и некоторого умственного
усилия. Такие изъятия и изоляции возможны лишь постольку, поскольку их
допускает детерминизм природы, становятся же реальностью они лишь в
том случае, если их необходимость диктуется потребностью, выступает
условием активного воздействия на мир.
Типичным результатом процесса изъятия, изоляции выступает отношение
«вещь-среда», где вещь - суть некоторая замкнутая специфическая область
детерминированной структуры, а среда - сведенные в некоторые постоянные
параметры и тем вырванные из всеобщей связи универсальные качественные
характеристики природного детерминизма (давление, температура,
плотность и т.п.).
Отношение «вещь-среда» достаточно полно исследовано наукой и
практикой, хотя сама методика этого исследования выглядит, на первый
взгляд, весьма односторонней. Идет ли речь о практике или научном
эксперименте, общая тенденция подхода к отношению «вещь-среда»
сводима к вопросу: что произойдет с вещью, если изменять параметры
среды? Практика ставит этот вопрос, исходя из определенности вещи,
эксперимент - из определенности параметров среды. И тот, и другой подход
пополняют наше знание как о замкнутых областях детерминированной
структуры - вещах, так и о детерминизме природы вообще.
Относительно вещи, как о вполне определенной структуре связей, и
практика, и наука согласны в нескольких моментах:
а) между определенностью вещи и значением параметров среды
существует связь: вещь, хотя и изменяется, устойчива в определенном
диапазоне изменений параметров;
б) в изменениях определенности вещи можно различить минимум два
вида: изменения, не затрагивающие основы специфических определителей
данной детерминированной структуры (целостности вещи); изменения,
которые эти определители затрагивают. Оба типа связаны с изменением
параметров среды;
37
в) изменения первого типа - переходы из одной формы существования в
другую - имеют место при строго определенных значениях параметров,
причем эти значения остаются в пределах диапазона устойчивости вещи как
целостной структуры;
г) формы существования имеют свои особые диапазоны устойчивости в
пределах основного для вещи;
д) вещь может существовать в одной и только в одной форме, остальные
- возможные формы - могут быть реализованы в порядке взаимоисключения
изменением параметров среды;
е) диапазоны устойчивости форм существования не образуют
последовательного взаимоисключающего ряда, поэтому в одних и тех же
условиях среды вещи близкой детерминированной структуры могут
существовать в различных формах.
Иначе говоря, вещь реагирует на изменения среды избирательно, диктует
условия своего изменения. Любой форме в этих условиях могут быть
указаны: а) значения параметров среды, в которых она реализуется; б)
диапазон изменений параметров среды, в которых она остается устойчивой.
И если, как говорит Маркс, «человек в своем производстве может
действовать лишь так, как действует сама природа, т.е. может изменять лишь
формы веществ» (6, с. 49), то вся человеческая производительная практика,
поскольку она имеет дело с «вырванными» и «изолированными»
детерминированными структурами (вещами), определена, в конечном счете,
отношением: форма - условия ее реализации. Суть такого определения
прекрасно схвачена афоризмом Бэкона: «Над природой не властвуют, если
ей не подчиняются» (9, с. 100) [8].
Наши сведения о детерминизме природы, как он представлен в
отношении «вещь - среда», сводимы к трем положениям:
1. Вещь, оставаясь целостной, может менять во времени формы своего
существования, что позволяет приписывать ей некоторое множество форм -
а, б, в, ... к, одна из которых, и только одна, в данный момент действительна,
а все остальные возможны.
38
2. Множеству форм существования вещи а, б, в,..к может быть указано
связанное с ним однозначно множество значений параметров среды
А, Б, В,... А", причем между элементами множеств существует отношение:
если А, то реализация а; если Б, то реализация б; если В, то реализация
в;...если К, то реализация к.
3. Любой форме множества а, б, в,..к может быть указан диапазон
устойчивого существования в среде, причем значения параметров А, Б, В,..К
определят одну из границ соответствующего диапазона.
Споры вокруг причинности в философии и в науке [9] концентрируются
на трактовке мира возможностей (вероятностей) и связанного с этим миром
«случая», а также на крайне важном и для науки, и для философии
выяснении, насколько строга и определенна связь: форма - условия ее
реализации. Центр тяжести спора перемещается время от времени то на
трактовку мира возможностей, то на отношение «форма - условия ее
реализации». Для современной науки спор лежит почти целиком в
плоскости: форма - условия ее реализации. Не претендуя на что-нибудь
большее, чем простую информацию, мы затронем некоторые моменты этого
спора, поскольку они непосредственно относятся к нашей теме.
Чтобы представить позиции сторон, предположим, что несколько
«образцов» идентичной или весьма близкой детерминированной структуры
«изолируются» средствами экспериментальной техники или технологии и
при некотором контролируемом значении параметров среды ρ образцы
переходят в новую форму существования с. Такой опыт даст одинаковые
результаты, проводит ли его ученый или рабочий, и эти результаты могут
быть представлены обычным для науки графиком. В данном случае,
поскольку значения ρ выдерживаются постоянными, график представит
собою ряд точек, располагающихся на прямой, а крайние точки обозначат
некоторый отрезок. Вокруг несовпадения (разброс) точек - данных
эксперимента и вращается спор.
Классическая физика исходила из того, что где-то в пределах отрезка
(если количество образцов было достаточно велико) лежит объективно
существующая реальная точка, по отношению к которой данные
39
эксперимента могут рассматриваться отклонениями, вызванными
недостаточной идентичностью условий опыта или детерминированных
структур образцов. Соответственно, законы природы рассматриваются ею
жесткими эталонами.
Современная физика придерживается в основном того взгляда, что,
какими бы идентичными ни были условия опыта, отрезок не удастся
превратить в точку, он так и останется отрезком некоторого характерного
для детерминизма природы значения. Соответственно, законы природы
рассматриваются «статистически», рассматриваются не как эталоны, а как
нормы, и детерминизм природы приобретает некоторый, хотя и слабо
ощутимый, люфт.
Однако практика, констатируя неизбежность разброса, находит, что,
кроме типичного воздействия на образец, полезно иметь на вооружении
вспомогательные, факультативно действующие средства воздействия, тогда
разброс, отрезок может быть сведен к любому, ранее заданному значению
(допуск). Эти, на первый взгляд незначительные, оттенки толкования
данных эксперимента имеют принципиальное значение. Если отрезок
сводим к точке и эта точка не идеализация (осреднение), а объективная
характеристика детерминизма природы, то мы вправе приписать природе
четкую детерминированную структуру, причем степень приближения наших
знаний к этой структуре целиком зависит от*нас. Дух этой классической
тенденции хорошо выразил Лейбниц: «Если бы кто-нибудь смог глубоко
проникнуть в глубь вещей и при достаточном усердии учел в своих расчетах
все обстоятельства, он стал бы пророком и видел бы в настоящем, как в
зеркале, будущее» (10, с. 129). Если же отрезок не сводим к точке и в основе
детерминизма природы имеется неустранимый люфт, основанное на данных
прошлого предсказание не может подняться выше вероятности, а наше
познание мира не может пойти дальше намеченного таким люфтом предела.
В основе новой модели причинности лежит представление о том, что
действительное состояние объекта (форма) или системы объектов и будущее
связаны хотя и определенно, но многозначно. Действительное состояние
может перейти со временем не в одно-единственное, а в одно из нескольких
40
вероятных состояний, степень вероятности которых зависит от люфта,
характера объектов, условий среды. Равноправным определителем хода
событий оказывается, наряду с необходимостью, случай, который теряет
характер непознаваемой произвольности, поскольку его проявления
ограничены специфическим для каждого объекта кругом вероятных
состояний.
При таком подходе и время приобретает структурный характер.
Прошедшее получает серьезные отличия от будущего. В будущем
необходимость и случай не связаны, и процесс их связи означает переход в
прошлое, «актуальный процесс», «настоящее». «Когда случается нечто, что
не может не иметь места, - писал Эддингтон [10], - оно всегда сводимо к
введению случайного элемента» (11, с. 64). «Настоящее время, - говорит
Бергманн, - есть та волна, на которой мир переходит из состояния
неопределенности в определенность» (12, с. 26). Поскольку в актуальном
процессе реализуется только одна из нескольких вероятностей,
высказывания о будущем носят вероятный характер.
С другой стороны, в основе человеческого производства лежит принцип
однозначной связи лапласовского толка. Практика не только постулирует
возможность предсказания, но и, как временная последовательность
повторяющихся актов воздействия на мир, попросту невозможна без
предсказания.
Противоречие между данными современной физики и данными
производства может быть понято двояко. Первое понимание - отрицание
многозначности - кладет в основу определенность акта практики, видит в
вероятностной теории лишь признак несовершенства физической теории. В
этом направлении выдвигалось множество аргументов, которые можно
свести к двум основным: а) современная наука не в состоянии изолировать
микрообъект и вынуждена иметь дело со «средними» данными множества
процессов, что скрывает однозначную определенность событий, вносит в
истолкование природы вероятностную характеристику и порождает
иллюзию многозначности; б) современная физика в связи с неустранимой
ограниченностью средств наблюдения вынуждена подменять реальный
41
объект объектом математическим, заведомо идеализированным. Если
классическая физика признавала, что «во всех лесах мира не найти двух
одинаковых листьев», то современная исходит из постулатов
«идентичности», «симметрии», «зеркальности», и теперь уже во всем
мироздании оказывается невозможным обнаружить две различные
элементарные частицы. Изгнанные из картины мира индивидуальные
различия реальных объектов возвращаются через эксперимент в теорию,
придавая ее законам статистический, вероятностный характер. Следует
отметить, что оба эти аргумента не столько опровергают вероятность,
сколько ставят ее под сомнение. В философском же отношении они лишь
повторяют аристотелевский подход к познанию природы: «Как делается
каждая вещь, такова она есть и по своей природе, и какова она по природе,
так она и делается, если ничего не будет мешать» (Физика, 199а) [11].
Второе понимание противоречия между физикой и практикой -
признание вероятности - берет за исходное определенность природы, как
она представлена в современной физической теории. При этом акт практики,
а равно и эксперимент, рассматриваются либо орудием регулирования
естественных процессов связи случая и необходимости, либо орудием
изучения этих процессов. Грубо говоря, подчиненный потребности человека
и общества производительный труд рассматривается здесь как
облагороженный и поставленный на службу челевеку «случай». Действие же
этого человеческого инструмента воздействия на природу заключается в
том, что, искусственно создавая локальные возмущения среды, труд
направленно меняет распределение вероятностей и обеспечивает переход
объекта в новую, субъективно полезную форму существования. Иными
словами, труд рассматривается орудием борьбы с многозначностью
природы, и как таковое не может отождествляться с природой по двум
причинам. Во-первых, в актах практики природа представлена лишь частной
стороной как связь одного из многих состояний объекта с условиями его
реализации. Во-вторых, акту практики предшествует организационная
деятельность по искусственному воссозданию условий перехода объекта в
новую форму, причем эта форма, хотя и определена объектом как вероятная,
42
достоинство действительного определения она получает извне. Выбор
подлежащего реализации состояния и организация соответствующих
условий оказываются вне объекта, входят составляющими в акт практики.
Эта организационная сторона практики, связанная с предвидением и
выбором возможной формы ее реализации, не может переноситься на
природу, где процессы связи случая и необходимости подчинены слепому
стечению обстоятельств, местным нарушениям однородности среды, что не
связано с потребностью и не носит повторяющегося, типичного характера.
Соответственно, в актуальных процессах изменения, в «настоящем» можно
обнаружить два типа. Первый называют обычно процессом естественным,
стихийным, «энергетическим», второй - искусственным, организованным,
кибернетическим процессом, регулированием. Для энергетических процессов
характерно возрастание энтропии, разовость. Регулирование несет
организационную надбавку, для него характерна повторяемость, и служит
оно для сохранения или даже понижения энтропии в некоторой замкнутой
системе связей - кибернетической системе, субъекте. Процессы
регулирования изучаются кибернетикой, которую можно рассматривать
теорией прикладной науки или даже теорией использования законов
природы для достижения однозначных результатов в повторяющихся
процессах. Так, например, ее и рассматривает один из теоретиков
кибернетики Эшби [12]: «По существу, кибернетика занимается изучением
причинно-следственных связей, особенно в тех случаях, когда они
представлены длинными цепями событий, где действие каждой стадии
служит в свою очередь причиной на следующей стадии» (13, с. 110). Близкие
взгляды высказывают Винер [13], де Латиль [14], Полетаев [15].
С точки зрения кибернетики, для всех процессов регулирования имеют
силу некоторые общие законы и, прежде всего, принцип однозначной
причинности [16]. Естественная многозначная связь действительного и
возможного представляется помехой, а уничтожение этой многозначности
(выбор общего направления воздействия на объект, подгонка изменяемого
объекта под некоторый стандарт) как раз и составляет суть регулирования. В
процессе регулирования различимы ориентированные на общие свойства
43
вещей постоянная основа и факультативная надбавка, позволяющая
преодолеть индивидуальные различия вещей. Постоянная основа - алгоритм
- носит идеализированный характер и представляет собой производную от
возможной формы и свойств вещей данного класса общую программу
регулирования параметров силы по времени. Регулирование развертывается
как диалектическое единство двух процессов: идеализированного и
актуального. Расхождение этих процессов (ошибка, рассогласование)
используется для введения факультативных операций, направленных к
уничтожению ошибки. Инициирующая роль ошибки - характернейшая черта
регулирования, основа обратнодействия (обратной связи). Само же
обратнодействие позволяет выдерживать идеализированную программу,
достигать близкого к однозначному результата. «Характерной чертой
обратнодействия, - пишет де Латиль, - является приведение следствия в
соответствие с заданной величиной, каким бы ни был источник отклонений»
(14, с.108).
Процесс регулирования предстает строгой структурой связей. Связи эти
носят контурный, замкнутый характер. Связи эти разнородны
(идеализированный и актуальный процессы). Связи эти имеют, наряду с
постоянными (алгоритм), и факультативные элементы, которые могут быть
или отсутствовать в единичном акте регулирования (обратная связь).
Кибернетика исходит, как и практика, из того, что в природе строгой
однозначности нет, но однозначность все же достижима. Структура
регулирования и есть, собственно, структура однозначного детерминизма.
Иными словами, лапласовский детерминизм не есть нечто изначально
находимое в природе, но лишь достигаемое с помощью процессов,
связанных в единую, гибкую систему регулирования.
Таким образом, в проблеме детерминизма природы довольно четко
различимы две стороны: а) степень соответствия существующих моделей
причинности объективной связи явлений природы; б) различие моделей по
предмету (энергетические процессы и регулирование). Более того,
представляется очевидным и источник искажения природных
(энергетических) процессов в лапласовском детерминизме - отожествление
44
акта практики и процесса природы, попытка взять за элементарное
основание сложную структуру разнородных процессов, в которой имеются и
факультативные моменты. Вместе с тем модель вероятностного
детерминизма, предложенная современной физикой, вызывает некоторые
сомнения: физика оперирует не с природным, а с математическим объектом,
тогда как сама математика в ее исходных постулатах связана через
логическую структуру с процессами регулирования, т.е. в скрытом виде
может нести факультативные элементы. Здесь круг замыкается, и здесь мы
закончим очерк детерминизма природы двумя важными для нас выводами.
1. Источник наших представлений о детерминизме природы связан с
избирательной реакцией вещей на изменения среды, или, более узко, с
отношением: форма -условия ее реализации.
2. В природе обнаруживаются два типа процессов взаимодействия:
энергетические и регулируемые. Наше знание о детерминизме природы
получено через регулирование и может нести в себе неустранимые следы
его специфики.
4
Центральная проблема детерминизма субъектно-объектных отношений
- вопрос об источнике определенности, строгой закономерности и
повторяемости связей, возникающих между субъектом и объектом. С точки
зрения детерминизма природы, субъект выступает источником типичных
возмущений среды. Это обстоятельство дает возможность видеть в
объективности и субъективности некоторые природные характеристики
вещей. Объектом может быть любая вещь, субъектом - лишь некоторые
вещи.
Объект - внешняя характеристика вещи, характеристика факультативная,
возникающая в момент ее преобразования в организованном возмущении
среды. Или, если эта характеристика берется постоянной, она может быть
рассмотрена лишь со стороны способности вступать в фатальные для вещи
связи с субъектом. Субъект - характеристика внутренняя, устойчивая во
45
времени, предполагающая необходимым условием такое качество как
способность организовывать, контролировать, воспроизводить типичные
возмущения среды для присвоения вещества природы в субъективно-
необходимой форме. С точки зрения субъективности как внутреннего и
устойчивого качества некоторых вещей природы (живых организмов,
коллективов, обществ) проблема детерминизма субъектно-объектных
отношений выступает в двух планах: а) в отношении к элементу субъектно-
объектной связи - технологии; б) в отношении к системе субъектно-
объектных связей в целом.
В первом, технологическом, плане мы имеем дело с регулированием -
совокупностью процессов, которые ориентированы на перевод вещи-объекта
в одну из возможных форм существования, и в этом смысле определены
объективно; с другой же стороны, эти процессы ориентированы не на
первую попавшуюся, а на субъективно-необходимую форму существования
вещи, и в этом смысле они определены субъективно. С объективной точки
зрения регулирование идентично любому стихийному местному
возмущению среды, изменяющему ее параметры до критических. С точки же
зрения субъекта, регулирование - закономерная структурная связь ряда
разнородных процессов: идентификации, идеального преобразования,
актуального преобразования, обратной связи.
Идентификация - процесс выделения вещей нужного класса из
многообразия вещей среды, процесс «объективизации» этих вещей:
установления с ними контакта для перевода в субъективно-полезную форму
существования. Идентификация основана на использовании чувственности,
которая исходит из световой, звуковой, вкусовой, осязательной общности
вещей данного класса. Деятельность чувственности выражается в
классификации с помощью органов чувств и выделении качеств,
соответствующих классу, что позволяет различать вещи без сколько-нибудь
существенного возмущения среды. Идентификация - акт обнаружения
отдельных представителей класса в среде, она завершается установлением
динамического контакта с вещью-объектом.
46
Идеальное преобразование - типичная, общая для всех вещей данного
класса последовательность действий субъекта, определенная во времени
алгоритмом и программой. Алгоритм, программа и соответствующее
идеальное преобразование во времени составляют постоянную основу
регулирования и возможны лишь постольку, поскольку в вещах данного
класса есть общие свойства. Идеальное преобразование рассчитано на
многократное использование и, будучи универсальным отношением в
данном типе регулирования, может рассматриваться его причинностью.
Актуальное преобразование - действительный результат действий
субъекта, действительный процесс перехода единичной вещи-объекта в
субъективно-полезную форму существования через ряд промежуточных
форм. Поскольку вещи класса имеют, наряду с общими, и индивидуальные
свойства, между актуальным и идеальным преобразованиями возможны
большие или меньшие расхождения, так называемые ошибки,
рассогласования.
Обратная связь - совокупность процессов идентификации расхождений
между актуальным и идеальным преобразованиями и динамических
процессов устранения этих расхождений. Структура обратной связи
сохраняет свойственную всему процессу регулирования двойственность,
соединяет разнородные процессы - чувственные и динамические - в единой
системе.
Регулирование в целом предстает замкнутой цепью, «контуром»
причинно-следственных отношений между разнородными процессами.
Последовательность и характер взаимодействия этих процессов определены
и объективно - через отношение «форма - условия ее реализации», и
субъективно - через возможности органов чувств.
Субъект с его возможностями регулирования накладывает некоторые
ограничения избирательного порядка на свой объект. Суть этих ограничений
состоит в том, что вещи среды могут быть объективизированы,
преобразованы субъектом только в том случае, если они имеют общие
динамические и свето-звуко-вкусо-тактильные свойства, а индивидуальные
различия вещей не превышают некоторый критический, перекрываемый
47
обратной связью уровень. Если эти условия не соблюдены, регулирование
невозможно.
Из этого субъективного ограничения объекта вытекает различие между
средой и объектом. Если способность объективизироваться, входить в
контакт с субъектом и менять форму существования в этом контакте
рассматривать как основную характеристику объекта, то лишь часть вещей
среды войдет в объект. Более того, субъективные ограничения выделяют в
объекте элемент структурности. Объект, соответственно свойствам
входящих в него вещей, оказывается различенным на типичные классы,
вещи которых имеют общие динамические и доступные органам чувств
свойства, отличающие их от вещей других классов. Ввиду очевидной
сложности термина «объект» и традиционного широкого его истолкования,
мы, применительно к классу и вещам, входящим в этот класс, будем
употреблять термин предмет, говорить о предметных классах, что имеет
солидную традицию (см., например, анализ труда в «Капитале» Маркса).
Предмет может быть определен и объективно, и субъективно.
Объективно - это совокупность общих для данного класса свойств.
Субъективно - некоторая характеризующая класс общность свойств,
динамических и доступных органам чувств, позволяющих типичным для
субъекта регулированием реализовать типичную форму. С субъективной
точки зрения в предмете могут быть выделены свойства динамические и
свойства, доступные органам чувств. Соответствующие группы свойств мы
будем называть ниже динамическим и чувственным обликами вещи-
предмета. Динамический облик, диктуя отношение «форма - условия ее
реализации», выступает основным объективным определителем
регулирования; чувственный облик - вспомогательным определителем
идентификации до акта преобразования и в процессе преобразования
(обратная связь).
Указанные две группы свойств предмета (динамический и чувственный
облики) не могут рассматриваться исчерпывающими его субъективными
характеристиками. Третья, не менее важная, - потребительный облик - будет
введена ниже.
48
Субъективное определение выглядит достаточно сложным, уже когда
речь идет об элементе связи субъекта и объекта - процессе регулирования.
Вместе с тем при таком подходе за постоянную берется потребность -
необходимость для существования субъекта данного вида регулирования. В
действительности дело обстоит гораздо сложнее: потребность не может
рассматриваться постоянной, а анализ ее возникновения и уничтожения
заставляет рассматривать систему субъективно-объективных отношений в
целом.
Наиболее важной для наших целей природной характеристикой вещей,
способных быть субъектом, выступает обмен веществ как закономерно
протекающий во времени процесс присвоения вещества извне и его
потребления. В биологии основные характеристики обмена веществ
(интенсивность присвоения вещества извне, качественная определенность
присваиваемых веществ) производны от специфической для данного
биологического вида унаследованной индивидуумом программы -
алгоритма развития.
Программный характер обмена веществ, реализующийся не только в
сохранении (гомеостазис), но и в развитии организмов (изменение
постоянных, характеризующих гомеостазис во времени), позволяет
рассматривать жизнь организма в целом, единством идеального и
актуального. При таком подходе вся деятельность организма по активному
преобразованию среды, присвоению из нее веществ может
рассматриваться обратной связью, где «ошибкой», потребностью
выступают нарушения гомеостазиса, классифицируемые по типам
регулирования, а акты регулирования, акты практики, предстают средствами
уничтожения ошибки, потребности. Верная в целом, такая трактовка,
связывающая субъективную деятельность момента со всем периодом жизни
организма, оказывается, однако, слишком громоздкой. В упрощенной
системе интерпретации, ограничивающейся исследованием небольших
периодов жизни организма и соответствующей этому периоду субъектно-
объектной деятельности, допустимо рассмотрение гомеостазиса и его
составляющих неизменными исходными определителями процесса обмена
49
веществ. В этом упрощенном случае, который часто встречается в
физиологической и кибернетической литературе, жизнь рассматривается уже
не столько процессом развития, в котором различимы идеальное и
актуальное преобразования, а динамическим состоянием равновесия
(гомеостазиса), нарушения которого порождают определенную внутренней
рецепторной системой потребность, а последняя инициирует
соответствующий способ регулирования. Несравнимость временных
масштабов жизни организма и процессов воздействия на среду делает
упрощенный подход к анализу субъективной деятельности и допустимым, и
плодотворным, если, конечно, он не абсолютизируется метафизически.
Поскольку обмен веществ существует в основном, пока речь идет о
биологии, процесс химический, гомеостазис выразим в скорости
потребления отдельных химических веществ. Соответственно, в предмете
может быть выделен, как самостоятельный предметный аспект, комплекс
общих по классу химических свойств - потребительный облик. Поскольку
деятельность организма подчинена ходу обмена веществ, потребительный
облик - весьма важная сторона предмета, ради которой, собственно, и
налаживаются акты регулирования.
Обмен веществ со стороны его химизма выразим некоторым
определенным множеством химических веществ, каждому из которых может
быть указана величина потребления за единицу времени. Сумма этих
величин будет характеризовать обмен веществ и качественно (типы
вещества), и количественно (скорости потребления вещества). Эти,
связанные с определенным веществом величины, следует рассматривать
константами гомеостазиса, обеспечивающими нормальную
жизнедеятельность организма. Конечно, эти константы лишь относительно
неизменны, за время жизни индивидуума они изменяются, но в отношении к
деятельности ограниченного периода времени они более или менее
постоянные величины. Сохранение констант гомеостазиса предполагает
приток веществ извне, связь со средой. Часть веществ извлекается из среды в
готовом виде, другая требует активных действий по переводу в доступную
для присвоения форму, независимо от организма связана в телах микромира.
50
Соответственно, между константами гомеостазиса и предметными классами
через потребительные облики вещей устанавливаются довольно четкие
отношения.
О предметных классах в целом, т.е. об объекте и о соответствующих
потребительных обликах, может быть сказано следующее.
1. В различенном на предметные классы объекте должны быть
представлены все потребные организму химические вещества, присвоение
которых требует активного воздействия на среду.
2. Поскольку ни дозировка, ни связь веществ в вещах среды не зависят
от организма, потребительные облики предметных классов выступают
комплексами потребных организму веществ и при некоторых условиях
взаимозаменяемы.
3. Поскольку объективный определитель (форма - условия ее
реализации») не допускает замены одного типа регулирования другим,
организму, при нарушении гомеостазиса, приходится выбирать среди
нескольких возможных типов регулирования, способных восстановить
равновесие. Этот выбор реализуется в потребности как эндогенном
инициаторе того или иного типа регулирования.
Сказанное выше рисует потребность довольно сложным явлением,
посредствующим звеном между идеальным (программным) процессом
жизни, актуальным процессом жизни и сложившейся системой субъектно-
объектных отношений. Возникая из нарушений гомеостазиса, потребность
конкретизирует способ его восстановления, активизируя тот или иной тип
регулирования. Роль потребности близка роли ошибки в процессах обратной
связи, пока потребность рассматривается в отношении к процессам
регулирования. В отношении же к гомеостазису и его нарушениям
потребность, по-видимому, должна рассматриваться продуктом эндогенного
процесса конкретизации требований к обмену веществ по возможным
способам удовлетворения.
Основная структура объективного определения, показанная для
животного мира, остается в силе и для общества. Пока речь идет о
технологиях, типичных процессах регулирования как элементах систем
51
субъектнообъектных связей, они, очевидно, в силу объективного
определения либо тождественны для животного мира и общества, либо
предельно близки по структуре. Во всяком случае, любой социальный акт
воздействия на среду сохраняет структуру регулирования: включает
процессы идентификации, идеальное и актуальное преобразование,
обратную связь, инициируется потребностью. Хотя системы социальных
субъектно-объектных связей человека и животных несравнимы в
количественном отношении, они близки в отношении качественном:
элементами выступают типы регулирования, определенные отношением
«форма - условия ее реализации»; социальный объект структурен, различён
на предметные классы; в предмете могут быть выделены динамический,
чувственный, потребностный облики как три основных источника
информации о вещах внешнего мира.
К обществу также применимы понятия «обмен веществ», «константы
гомеостазиса», хотя здесь эти явления уже не сводимы к химии [17].
Общество может квалифицироваться как субъект высшей сложности с
огромным числом предметных классов в объекте, сложным
рассредоточением констант гомеостазиса по предметным классам,
неоднородностью самих констант.
5
Сравнивая воздействие животных и человека на окружающий мир,
указывают обычно на коллективность, использование орудий и
целеполагающую деятельность как чисто человеческие явления. С этим
нельзя не согласиться, хотя могут быть указаны и дополнительные отличия,
важные именно для анализа проблем детерминизма: многозначное
воздействие на вещи среды, отсутствие постоянных контуров
регулирования.
Воздействие животных на мир осуществляется с помощью сигнальной
системы, элементом которой выступает врожденный или созданный на
основе врожденных условный рефлекс. Рефлекс и есть, собственно, тип
52
регулирования - сравнительно жесткая причинно-следственная структура
разнородных процессов идентификации, идеального и актуального
преобразования, обратной связи, структура производная от объективного и
субъективного определения. Зависимо от назначения (оборонительные,
половые, пищевые) различимы рефлексы, срабатывающие по объективному
мотиву (оборонительные) или по мотиву субъективному (пищевые). В
рефлексах с объективным мотивом потребность может рассматриваться
активизированной на все время жизни животного постоянной величиной,
поэтому практически инициатором такого рефлекса принято считать
внешний раздражитель (идентификацию опасной вещи), который вызывает
последовательность действий по пассивному или активному уклонению от
объективизации.
В рефлексах с субъективным мотивом активизация потребности и самого
рефлекса зависит от нарушений гомеостазиса, поэтому далеко не всегда
появление в среде вещи данного предметного класса вызывает
динамический контакт и срабатывание рефлекса. Иначе говоря, сытая собака
ведет себя не так, как голодная. Этот тривиальный факт приходится
подчеркивать, так как физиолог, естественно, избегает экспериментировать с
сытой собакой, а эксперименты с собакой голодной неизбежно выдвигают в
самодовлеющий план объективный мотив, что при несколько благородном
понимании объективности ведет к слишком расширенному толкованию
объективного определителя в ущерб субъективному. В рефлексах с
субъективным мотивом инициирующая роль принадлежит потребности, хотя
срабатывание рефлекса возможно не раньше идентификации вещи
соответствующего класса и установления с нею динамического контакта.
Разрыв во времени между появлением потребности и динамическим
контактом с вещью-предметом вызывает к жизни ряд вспомогательных
действий типа перемены среды (поиск).
Характерной чертой воздействия животных на вещи является
однозначность. Из всего богатства возможных форм существования вещи
животное, как правило, реализует одну и только одну форму. Такой
прямолинейный, избегающий многозначности подход к природе упрощает
53
регулирование, делает достаточной связь рефлекторного типа, когда,
используя чувственный облик вещи, животное развертывает одну и только
одну типичную последовательность действий. Нетрудно заметить, что при
многозначном подходе к вещам природы (человек, например, из куска
дерева способен изготовить один из сотен возможных предметов) рефлекс
попросту невозможен, так как один и тот же чувственный облик вещи связан
с множеством типов регулирования, и реализация одного из них требует
дополнительного определителя. Таким дополнительным определителем в
регулировании, осуществляемом человеком, выступает представление о
возможной форме - цель.
Переход к человеческому регулированию связан, вероятно, с весьма
редким, но не исключительным в мире животных явлением - переменой
объекта, и объясним лишь как удачная попытка наладить существование в
новых, крайне выгодных условиях. Только этим обстоятельством можно
объяснить глубокие качественные изменения в способах регулирования,
которые повели к появлению орудий, сознания, а с ними и к резкому
усилению господства человека над природой. Древнюю историю человека
принято делить на три этапа: коллектив-собиратель, коллектив-охотник,
коллектив-производитель (15, с. 15). Становление и эволюцию
коллективного регулирования можно, в общих чертах, проследить на смене
оборонительного рефлекса охотничьим и на изготовлении орудий. Наиболее
значительные новшества в этом направлении связаны с появлением и
развитием общения, с координированным характером коллективного
действия, с возникновением многозначной реакции на вещи среды.
Зачатки общения широко распространены в мире животных (брачная
сигнализация, сигналы опасности). Для этих зачаточных форм характерно
слияние знака с внешним раздражителем, факультативное его наличие в
рефлексе на правах условного раздражителя. Такой знак - условный
раздражитель - не имеет адреса, он относится к типу сигналов: «всем, кого
касается». Типичным случаем таких зачаточных форм общения выступает
сигнализация у обезьян. А. Спиркин [18], которому посчастливилось
54
экспериментировать с обезьянами [19], приходит в этом вопросе к двум
выводам:
1. Обезьяны располагают значительным арсеналом нечленораздельных
звуковых комплексов, которые, не являясь речью, выполняют важную роль в
их совместной стадной жизни, являются необходимым средством взаимной
сигнализации.
2. Каждый звуковой комплекс имеет более или менее фиксированную
материальную форму и, являясь условным сигналом, вызывает у других
членов стада более или менее однозначную реакцию (16, с. 8, 9).
Такой вид общения - выделение нескольких (в основном
оборонительных) рефлексов в типично коллективные путем введения
единого для коллектива условного сигнала - достаточен для коллектива-
собирателя и вообще во всех тех случаях, когда требуется унификация
индивидуальных действий. По этому типу строится, например, общение у
пчел (танцы пчел), где сигнал, хотя и несет в себе довольно сложную
структуру (указание направления, расстояния, количественную оценку
медосбора), вызывает унификацию, а не координацию действий некоторого
множества индивидуумов.
Положение резко меняется с переходом к охоте. Коллективная охота
требует не простого единообразия действий многих, что могло бы
обеспечиваться одним сигналом, но координации дифференцированных
действий, требует «индивидуального» подхода при достижении общей и
локализированной по единичному предмету цели. Участникам охоты
должны быть предписаны индивидуальные способы действий (типы
регулирования), а это возможно лишь при выделении одной среди многих
голов в координирующий центр, который направляет действия многих
дифференцированным сигналом и относится к остальным членам коллектива
как к собственным частям тела, орудийно. Со стороны воспринимающих
звук уже не может рассматриваться простым условным сигналом,
компонентом чувственного облика, «павловским звонком». Звук
приобретает знаковое, самостоятельное значение и отличается от исходного
в двух планах: а) наличием указания на специфику действия; б) наличием
55
адреса. Это уже не звук для всех, не сигнал для всех, а индивидуальная
команда. Направляя действия коллектива, координирующий центр (человек-
руководитель) налаживает, по сути дела, вспомогательные, не выходящие за
пределы коллектива, типы регулирования через общение. В этих типах
регулирования структура остается обычной: идентификация, идеальное и
актуальное преобразование, обратная связь, хотя здесь и нет динамического
контакта.
Индивидуальная координация действий по достижению коллективных
целей реализуется в расщеплении рефлексов на некоторое множество
связанных воедино процессов регулирования. Где-то в охотничьем периоде
появляются личные имена как устойчивые адреса общения, а вместе с ними
и вторичная дифференциация сигнала, различающая индивидуум - адрес, и
то, что ему сообщается. Вероятно, к этому периоду восходят истоки
отмечаемой исследователями специфической роли имени у некоторых
племен. Имя накладывает на человека вполне определенные обязательства в
производственной жизни племени. При вступлении в новый период жизни
индивид получает новое имя. Есть племена, у которых четко определено
количество имен, и не каждый за время своей жизни получает имя. В
обрядах посвящения часто присваивается особое тайное имя, которое
используется только на охоте или в военных походах (17, с. 30, 31, 59). Такое
необычное на современный взгляд внимание к* имени объяснимо с точки
зрения первых шагов координации действия, адресного общения [20].
Вторым крупнейшим завоеванием, с которым коллектив-охотник
переходит в коллектив-производитель, является орудие как продолжение
частей тела и как средство труда - «вещь или комплекс вещей, которые
рабочий помещает между собой и предметом труда и которые служат для
него в качестве проводника его воздействий на этот предмет» (6, с. 186). В
индивидуальной дифференциации действий членов коллектива в процессе
охоты уже лежит возможность появления орудий, ибо координирующий
центр вынужден рассматривать членов коллектива как части тела, подходить
к ним орудийно. Как именно возникло орудие - вопрос темный,
допускающий, вероятно, множество решений и по-разному решавшийся в
56
различных коллективах. Во всяком случае, в коллективе-охотнике
подготовлена почва для появления орудий, здесь уже способны подсмотреть
у природы, имитировать случайное, сделать его частью регулирования.
Орудие, как и координация действий, многосторонне влияет на появление
сознания, языка, на формирование общения.
Во-первых, орудия, как и части тела человека, могут использоваться в
различных типах регулирования. И в этом смысле они не только
отчужденная, требующая осознания, оторванная от человека «часть тела», но
и концентратор динамических составляющих разных типов регулирования,
первое реальное звено абстракции, хотя и ограниченной. Л. Нуаре [21] еще в
прошлом веке выдвинул ту мысль, что орудие носит характер общей идеи,
отличается универсальностью (18). Но мысль эта была выдвинута в эпоху
повального увлечения компаративистикой и не получила должного развития.
Когда мы говорим: орудие - первое звено абстракции, мы имеем в виду два
обстоятельства: а) орудие может быть использовано как вещный и
доступный для органов чувств представитель динамических составляющих
разных рефлексов; б) эти динамические составляющие разных рефлексов
могут осознаваться как свойства одного орудия, т.е. генерализироваться по
силе в тех пределах, в которых это допускается орудием. Последнее
обстоятельство наносит сильнейший удар рефлексу, основанному на
различении и однозначной связи различенного.
Во-вторых, орудие и человек в процессе охоты оказываются сравнимыми
величинами. В этих условиях и человек-адрес, выявленная и обозначенная
индивидуальность, - такой же концентратор динамических элементов, такое
же реальное звено абстракции, как и орудие, но звено со значительно
большими возможностями. Поскольку человек - непременный участник
любых коллективных действий, он наиболее универсальное из всех орудий.
Человек делает реальной полную генерализацию по силе за теми пределами,
которые устанавливаются орудиями, т.е. создает возможность
универсализации, генерализации по силе не только динамических элементов
различных рефлексов - все они могут быть сведены к единой человеческой
57
силе, - но и самих орудий как промежуточных ступеней генерализации,
абстракции.
В-третьих, выступая подобно человеку адресом, объектом координации,
орудие есть вместе с тем адрес особого рода в двух отношениях: а) оно -
орудие лишь в руках человека и требует вспомогательного процесса
регулирования между собой и человеком; б) этот адрес специализирован, что
закладывает основу тех различий, которые предстанут затем в структуре
языка словом в его отличии от грамматического правила.
Таким образом, уже в охотничий период развития общества исходная,
построенная на рефлексе «сигнальная система коллектива» оказывается на
грани катастрофы: появляется многозначная детализация динамических
элементов, возникают реальные звенья частной и полной генерализации по
силе, осознаются объективные и субъективные элементы рефлекса,
появляется знаковая реальность языка, вернее предъязыка, как нечто
коллективное, связанное с коллективной нормой вне отдельных голов
людей. Появляется знаковое опредмечивание (в известном смысле четвертая
составляющая предмета, имеющая мало общего с его внутренними
свойствами) - знаковый облик вещи, праслово, т.е. связанные с предметами
охоты, людьми, орудиями, более или менее дифференцированные знаки-
адреса: личные имена, названия орудий, названия зверей. В коллективе-
охотнике человек начинает осознавать себя как вещь и силу среди вещей и
сил природы.
При этом здесь еще остается пуповина, связывающая коллектив с миром
животных и сохраняющая возможность рефлексной системы устойчивых
связей в общении. Охота не есть еще производительный труд. Форма, в
которую переводится вещь-предмет, лежит здесь, так сказать, на
поверхности. Здесь еще сохраняется однозначная реакция на вещи среды и
регулирование может опираться на чувственный облик предмета. «Это, -
говорят Маркс и Энгельс, - чисто стадное сознание, и человек отличается от
барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или же, - что его
инстинкт осознан» (19, с. 21).
58
Связь с рефлексом окончательно рвется в коллективе-производителе.
У коллектива-охотника рефлекс, как основа системы общения, еще
возможен. У коллектива-производителя он уже невозможен. Где-то на грани
перехода от охоты к производству, может быть несколько позже, поскольку
сам этот переход условен, растянут на тысячелетия, возникает мышление.
Этот окончательный шаг связан в основном с изготовлением орудий.
Превращение орудий из случайно поднятого предмета в высоко
специализированный, искусственно изготовляемый инструмент ставит
человека в совершенно новые условия регулирования. Первым истинным
предметом труда, хотя он еще и выступает подчиненным целям охоты, был
камень. Многообразие орудий из камня доказывает его огромнейшую
педагогическую роль в воспитании человека. Здесь человек впервые вступил
в недоступный органам чувств мир возможности и, по мере освоения
постигаемого лишь разумом мира, начал переориентировать регулирование
с чувственного облика вещи на умопостигаемый определитель -
возможную форму, цель. Изготовление орудий выступает первым истинно
человеческим предприятием именно потому, что здесь впервые
налаживается многозначная реакция на вещь: человек выбирает среди
множества возможных форм, и, останавливаясь на одной из них, весь
процесс регулирования ориентирует на эту форму. В животном мире, с его
однозначной реакцией на вещь, эта проблема, попросту, не возникала,
чувственный облик вещи был достаточным ориентиром.
Вторым, не менее важным по последствиям источником опасности
рефлексу становится само орудие. Употребляясь во многих рефлексах, оно
позволяет не только генерализировать соответствующие динамические
элементы, но и открывать новые, устанавливать новые типы регулирования.
В орудии человек получает свою первую экспериментальную технику, и
теперь уже трудно сказать, находится ли центр тяжести человеческого
познания в изучении вещей природы или же в изучении свойств орудий как
источников направленного возмущения среды.
В регулировании при многозначной реакции на вещь определителем,
ориентиром действий выступает нечто невидимое, неслышимое. Однако это
59
обстоятельство не снимает требований системы регулирования указать
некоторую чувственную, зависимую от актуального преобразования основу,
которая позволяла бы органам чувств контролировать ход процесса,
устанавливать расхождения между актуальным и идеальным
преобразованиями, вводить динамические составляющие обратной связи.
Реальные трудности на этом пути, с которыми мы встречаемся и сегодня,
преодолевались древними самыми разнообразными способами, до сих пор
удивляющими исследователей переходного периода своей
противоречивостью, иногда и явной несообразностью. Технологические
ритуалы, танцы, строжайший педантизм в форме продукта, в этапах
технологии, сложнейшие цепи ассоциаций, не останавливающиеся перед
нарушением законов логики, - такова та переходная духовная атмосфера,
которую справедливо называют мистической, но которой совершенно
несправедливо приписывают религиозное содержание. Скорее, это
динамическая производственная атмосфера, в которой рождающееся
мышление пытается опереться на устойчивое, неизменное в среде и тем
привносит в среду элементы процессов регулирования, распределяя их
самым причудливым образом. Совершенно справедливым представляются
нам замечания Леви-Брюля о дифференциации, разделении исходно
связанного как общей тенденции переходного периода (17, с. 25, 27, 33).
Иначе говоря, идет разложение рефлексов как устойчивых типов связей и
через массу переходных форм создается новая система регулирования, где
связи возникают для нужд момента, возникают из типичных элементов по
универсальным законам.
С точки зрения результата, того, чем мы располагаем, разрушение
системы рефлексов идет по линии выделения двух областей: универсальной
и типичной. В первой (грамматические правила, законы мышления)
концентрируется все то, что было в рефлексах общего, поддавалось полной
генерализации по силе объекта. В область типичного (словарный запас,
понятия, представления) отходило специфическое, отличающее рефлексы
друг от друга, производное от специфики предметных классов. Образно
выражаясь, мышление функционирует на обломках рефлексов,
60
рассортированных и еще сортируемых на универсальные и типичные
элементы. Это рассыпанный набор книги, которая миллионы лет писалась
биологическим видом, пока, наконец, с переходом к многозначному
воздействию на мир, не оказалась столь громоздкой, что теперь уже проще
иметь при себе шрифт и всякий раз набирать нужную страницу. Чтобы
разобраться в сути происходящего, полезно поставить вопрос: о чем
говорилось в этой книге?
Явным отличием мыслительной деятельности от рефлекторной
выступает целостный на все времена жизни животного, изменяющийся как
целое характер структуры рефлекса и разовость, мгновенность мысли,
которая возникает для нужд момента и исчезает по прошествии надобности.
Поскольку структура регулирования определена объективно, а мышление
связано с регулированием, не будет большим преувеличением сказать, что
мышление всякий раз воссоздает рефлекс или нечто к нему близкое заново,
воссоздает на краткое время. Рефлекс и продукт мыслительной деятельности
сравнимы: и тот и другой - типы регулирования. В структуре регулирования,
как мы это видели, есть постоянная (алгоритм) и факультативная (обратная
связь) составляющие. Обе эти составляющие обнаруживаются и в рефлексе,
и в продукте мыслительной деятельности. Но обнаруживаются по-разному.
В рефлексе алгоритм - нерасчлененное единое целое; в продукте
мыслительной деятельности - группа типичных элементов, объединенная
универсальными связями. При этом алгоритм и в том, и в другом
оформлении остается алгоритмом, универсальным в пределах предметного
класса отношением, универсальным преобразованием, которое через
отношение «форма - условия ее реализации» субъективно, в терминах силы
и ее регулирования, интерпретирует объективный детерминизм вещей
предметного класса. Рефлекс и мышление говорят на разных языках, но
говорят об одном и том же, о детерминизме природы, как он дан объекту
через предметные классы.
Любому субъекту, будь то животное, человек или общество,
детерминизм природы дан через предметные классы, через отношение
«форма - условия ее реализации», но в алгоритме человека имеется, наряду с
61
типичной, и универсальная составляющая, применимая ко всем предметным
классам, к объему в целом. В объекте же более или менее полно
представлена природа. Как следует понимать эти универсальные
составляющие? Чему в природе они соответствуют? В той или иной форме
эти вопросы ставятся и решаются в любой философской системе, которая
кладет в основу постулат всеобщности, универсальности. Во всяком случае,
об этих универсалиях, стихийно сложившихся в процессе распада
рефлексов, можно сказать, что генетически они связаны с силой субъекта и,
опосредованно, через типы регулирования, интерпретируют в терминах
силы субъекта некоторые универсальные свойства объекта в целом,
природы, поскольку она втянута в субъектно-объектные отношения. Вопрос
о том, каковы именно эти свойства, и есть вопрос о детерминизме природы.
Античность поставила этот вопрос и дала первые на него ответы.
Подводя итоги рассмотрению детерминизма субъектно-объектных
отношений, можно сделать некоторые выводы.
1. Основными определителями детерминированной структуры связей
субъекта и объекта выступают: а) отношение «форма - условия ее
реализации» (объективный определитель) и б) константы гомеостазиса
(субъективный определитель).
2. Элементы субъектно-объектных отношений ориентированы на
общие предметному классу свойства (динамические, чувственные,
потребностные облики).
3. Тип регулирования человеком тождествен типу регулирования
животным со стороны объективной определенности, но человеческий тип
носит более гибкий комплексный характер, ориентирован не на чувственный
облик, а на возможную форму существования вещи.
4. Переход от рефлекса к мышлению связан, вероятно, с появлением
многозначной реакции на вещь и реализовался в дифференциации типичного
и универсального в особые области.
5. В универсалиях языка и мышления отражены некоторые общие
объекту свойства.
62
6
До настоящего времени мы рассматривали в основном механизм
функционирования субъектно-объектных систем, при этом системы брались
вне развития, вне изменения. Это достигалось, как это нетрудно заметить,
тем, что основные определители (отношение «форма - критические
условия», константы гомеостазиса) трактовались постоянными,
неизменными. Такой подход, который мог бы вызвать справедливые
обвинения в метафизической тенденции, диктовался самой природой
предмета, в котором скорости изменения констант гомеостазиса и, тем
более, отношений «форма - критические условия» несравнимы со
скоростями протекания процессов регулирования. Вместе с тем, вопрос о
развитии субъектно-объектных систем не может уже игнорироваться, когда
исследуется появление какого-либо нового явления в этой системе, а именно
к этому типу проблем относится и появление философии, и появление
первых попыток понять структуру детерминизма. Более узко проблема
может быть поставлена как вопрос о путях появления новых типов
регулирования и нового знания. В мире животных, если исключить
циклически возрастные изменения констант гомеостазиса, проблема,
применительно к виду, почти целиком укладывается в вопросы
приспособления-развития, т.е. здесь достаточно перевести отношение
«форма - критические условия» из постоянной в переменную величину и
рассмотреть реакцию системы. В социальном мире, где соединенными
усилиями науки и техники катализируется изменение констант гомеостазиса,
последние также не могут рассматриваться постоянными. Соответственно,
проблема распадается на два типичных случая: объективный и
субъективный. В первом случае изменяются свойства объекта и,
поскольку он дан через предметные классы, вопрос сводим к изменению
свойств предмета и соответствующему изменению регулирования. Во
втором случае меняющиеся константы гомеостазиса требуют введения в
объект нового предметного класса и соответствующего ему нового типа
регулирования.
63
Объективный тип носит эволюционный, непрерывный, преемственный
характер, тогда как субъективный тип приобретения нового знания носит
скачкообразный характер, имеет мало общего с эволюцией.
Выше было показано, что процесс регулирования как некоторая
целостная система определен в трех планах: по общему закону
регулирования (алгоритму) через отношение «форма - условия ее
реализации», по частоте через потребность и по факультативным
составляющим (обратной связи) через индивидуальные различия вещей.
Соответственно, в однотипных процессах регулирования можно выделить
постоянную и факультативную части, что позволяет записать регулирование
двойным рядом: А, Б, В, Г + а, б, в, г, а последовательность а, б, в, г
представляет действия, которые зависят от индивидуальных различий вещей
и могут иметь или не иметь место в единичном процессе регулирования.
Этот последний мог бы принять множество разновидностей типа: А, Б + б,
В, Г или а, Б, В + в, Г и т.д. Очевидно, что данный тип регулирования связан
со свойствами вещей предметного класса довольно строгим соотношением:
сумма А, Б, В, Г + а, б, в, г должна охватывать как динамический облик
предмета (общие, определяющие алгоритм свойства), так и некоторый
диапазон индивидуальных различий. Если индивидуальные различия
превышают некоторый критический уровень, скажем Т, вещь попросту
выходит из предмета, не может быть объективизирована, переведена в
субъективно-полезную форму. Связь факультативной части регулирования
а, б, в, г с предметной характеристикой индивидуальных различий Т
очевидна и играет огромную роль в биологическом приспособлении.
С одной стороны, выработать защитный рефлекс - значит выйти за
пределы Г, исключить возможность собственной объективизации. С другой
стороны, удерживать достаточно широким диапазон факультативной части
регулирования, расширять его - условие сохранения данного предметного
класса в объекте, а вместе с тем и условие существования объекта. С
изложенной точки зрения принцип естественного отбора дарвиновской
теории мог бы реализоваться в объективном стремлении превзойти Г и в
субъективном стремлении - расширить факультативную часть
64
регулирования. Оба эти стремления и есть условия сохранения вида,
определители направлений его развития. Конечно, поскольку субъект
располагает множеством типов регулирования, изменения одного типа еще
не так существенно, но совокупность изменений во всех типах и будет то,
что называют развитием-приспособлением.
Изменения вещей, входящих в предметный класс, если при этом не
изменяется или изменяется мало их потребностный облик, вызывают и
изменения типа регулирования. Такое изменение может идти в трех планах:
а) меняется распределение постоянного и факультативного: часть
факультативного переходит в постоянное; б) изменяется, пополняясь,
факультативная составляющая; в) переходит в факультативное, затем и
исчезает часть постоянного. Это изменение рефлекса во времени. Если
первоначальная его форма взята как сумма А, Б, В, г + а, б, в, г, то со
временем рефлекс может принять некоторую другую форму, скажем, А, В, Г
+ а, б, в, г, д, то есть изменится и в постоянной, и в факультативной частях.
Переход факультативных составляющих в постоянные не представляет
каких-либо затруднений: если обратной связи всякий раз приходится
вводить типичную поправку в алгоритм, рано или поздно эта поправка
станет равноправной составляющей алгоритма. Исчезновение некоторых
факультативных составляющих из рефлекса, поскольку они не находят
опоры в реальных различиях вещей, также не вызывает затруднений:
обратной связи попросту не приходится вмешиваться в течение процесса.
Переход некоторых постоянных составляющих в факультативные также
находит объяснение как периодическая нейтрализация некоторых
составляющих алгоритма через обратную связь.
Наиболее сложный вопрос - пополнение факультативной части.
Опытами павловской школы показано, как это делается: после нескольких
опытов животное включает условный раздражитель в чувственный облик
вещи, создает на базе безусловной некоторую благоприобретенную условно-
рефлекторную связь.
Этот первый тип появления нового знания характерен для животного
мира, он проявляется в преемственном, производном от объекта изменении
65
регулирования во времени. Суть этих изменений - перераспределение
постоянного и факультативного в рефлексе при постоянной готовности
организма пополнить факультативное. В этих условиях любая конкретная
структура рефлекса с данным распределением постоянного и
факультативного может рассматриваться исходной моделью будущих
состояний, конкретное лицо которых будет зависеть от изменений в
предмете, т.е. будет детерминировано объективно.
Второй, субъективный, тип появления нового знания весьма редок в
животном мире, но особенно характерен для человеческого познания.
Заключается он в следующем: если некоторая более или менее произвольная
последовательность действия, скажем, А, Б, В, Г, Д, Е, дает субъективно
полезный результат и при попытке повторить ее с некоторыми изменениями
позволяет достичь того же результата, то при многократных повторениях в
этой причинной последовательности выделится некоторое постоянное звено-
алгоритм, скажем, А, Д Е и звено факультативное - Б, В, Г, что даст новый
тип регулирования, введет в объект новый предметный класс. В отношении к
сложившемуся типу регулирования (А, Д, Е + б, в, г) первичная
последовательность - А, Б, В, Г, Д, Е может быть названа исходной моделью.
Этот тип в настоящее время широко используется не только в теоретической
деятельности, но и в технике, в процессах так называемого «научения»
кибернетических машин. Машине задается программа, она конструируется
на основе приближенных алгоритмов, оборудуется обратной связью, а ее
доводка - уточнение алгоритма, распределение постоянного и
факультативного - производится машиной самостоятельно, в процессе
многократных повторений актов регулирования.
Нетрудно заметить, что различие между объективным и субъективным
типами весьма условно. Оно велико в момент возникновения нового способа
регулирования, тогда как дальнейшее развитие вновь возникшего типа
регулирования идет по обычному, объективному пути.
Второй тип особенно важен для человека, которому всякий раз для
нужд момента приходится заново воссоздавать рефлекс, создавать алгоритм
поведения и уточнять его через обратную связь. Если ситуация типична
66
(работа у станка, игра на музыкальных инструментах, машинопись), такое
построение постепенно переходит в некоторое состояние, «навык»,
обладающее высокой долей автоматизма и близкое по четкости
распределения постоянного и факультативного к рефлексу. Однако наиболее
характерны для человека, отличают его от животного, не эти автоматизмы, а
возникающие в более или менее случайных ситуациях акты творчества:
выработки алгоритма поведения. Обычно такое творчество основывается на
опыте, на близости данной ситуации к прежней, что позволяет использовать
какой-то взятый из памяти алгоритм. Этот, взятый по аналогии ситуаций
алгоритм, и будет исходной моделью действительного акта поведения.
Весьма близкие явления можно наблюдать и в истории науки. Когда,
например, Дарвин ввел термин «борьба за существование» [22], Энгельс
совершенно справедливо заметил, что это - перенос социальных отношений
на животный мир. Но можно ли сказать, что эта первичная, весьма
несовершенная модель оказалась бесполезной для науки? Очевидно, нет: под
давлением экспериментальных данных модель видоизменилась, в ней
выделились постоянное и факультативное, она пополнилась новыми
деталями, лишилась некоторых старых: была через эксперимент приведена в
соответствие с предметом, изменилась зависимо от свойств предмета.
Крайне важная для науки роль состояла в том, что она, при всем своем
несовершенстве, позволила начать познание, связать некоторую сумму
случайных посылок с предметом и в ходе исследования превратить эту
начальную связь в объективно детерминированную. Случай с дарвиновской
теорией - частный случай появления научной гипотезы. Этот пункт можно
было бы проиллюстрировать множеством общеизвестных примеров,
достаточно напомнить, как Ньютон «понял» тяготение или Менделеев
«уловил» периодический закон. Здесь важно отметить, что исходная модель
может оказаться весьма случайной по своему происхождению и все же
удовлетворять необходимым требованиям.
Каковы же условия применимости тех или иных существующих или,
со значительной степенью произвола, составляемых последовательностей-
моделей? Из самой сути процесса регулирования вытекает, что такая
67
последовательность может стать исходной моделью только в том случае,
если она в скрытой форме содержит постоянную и факультативную
составляющие нового типа регулирования. Этот пункт крайне важен для нас
в нескольких планах, когда речь идет о человеческом познании.
В гносеологическом плане он проливает свет на условия понимания
как акта приобретения нового знания: явление может быть понято, если
соответствующий ему алгоритм регулирования в своей постоянной и
факультативной частях сводим к простым или сложным аналогиям,
составленным из наличного знания. Иначе говоря, условием приобретения
нового знания выступает его опосредование старым. Это не значит,
конечно, что новое знание сводимо к старому, не может превзойти его
пределов. Опосредование старым - лишь первый шаг познания, условие
связи с предметом. Это опосредование - своеобразное детское место нового
знания, в котором зарождается, оформляется в последовательных актах
регулирования знание о новом предмете. Новизна знания состоит не
столько в его необычности, сколько в том, что это знание связано с
объектом, определяется объектом в независимую от нас форму [23].
В плане детерминизма переформирование исходной модели и
выделение в ней постоянной составляющей (алгоритма) может
рассматриваться как процесс объективной детерминации, а сама эта
постоянная - универсальное в пределах данного типа регулирования
отношение - как причинность данной группы процессов. Это до некоторой
степени предрешает ответы на основные вопросы нашей работы. Возможна
ли универсальная формула, универсальное понятие причинности? Каковы
условия выработки такой формулы, понятия?
Если вопрос ставится о субъектно-объектных отношениях как о
совокупности наличных типов регулирования, то ответ, очевидно, будет
положительным. Любой тип регулирования есть, в конечном счете,
регулирование силы субъекта, поэтому все типы регулирования допускают
генерализацию по силе. И если в результате такой генерализации остается
некоторая инвариантная величина, «алгоритм» субъектно-объектных
отношений, а, судя по процессам развития и становления языка, такая
68
величина остается, то она и должна быть принята в качестве производной от
объекта константы - как причинность данного субъекта. Величина эта
зависит от количества типов регулирования и от свойств предметных
классов, т.е. от объекта.
Вторая сторона, непосредственно связанная с целями нашей работы,
касается условий понимания и знания такой универсальной константы.
Очевидно, и здесь необходима исходная модель, без этого невозможно
понимание. В свете сказанного вопрос о модели может быть поставлен более
конкретно: она должна быть прямо или непосредственно связана с силой
субъекта как единственным основанием универсальной генерализации. В
человеческой истории известно стихийное становление только двух явлений,
которые удовлетворяют этому условию: товарообмен и структура языка.
Первое явление детально исследовано Марксом. Показано, что в его основе
лежит абстрактный человеческий труд. Второе явление исследовано с
гораздо меньшей полнотой. Практически из этих фактов, если характерной
чертой философской постановки вопроса считать универсальность,
всеобщность, вытекает важное для нас следствие: ни философия, ни
философская категория причинности не могли появиться раньше осознания
структуры языка или структуры отношений товарообмена. Поскольку же
само такое осознание включает некоторые дополнительные условия -
наблюдаемость, доступность анализу, то появление философии возможно не
ранее возникновения письменности или же начала чеканки монеты для ее
использования на правах всеобщего эквивалента. Применительно к Греции
оба события происходят почти одновременно (VII в. до н. э.). Первые
философские учения возникают в VI в. до н. э.
Третий, также важный аспект проблемы - насколько полно исходные
модели причинности отражают действительный детерминизм субъектно-
объектных отношений. Решение этого вопроса заключается в практической
проверке исходных моделей, что позволило бы выделить в них постоянное и
факультативное. В философских течениях домарксистского типа такая
возможность исключалась [24].
69
7
Теория моделей, их роли в познании - теория не новая. Вопросы
аналогии, познания по аналогии не раз достаточно широко обсуждались и в
философии, и в логике, и в точных науках (теории изо- и гомеоморфизма). В
той или иной форме практическое использование аналогий мы встречаем в
любой историко-философской работе. Попытка понять античность всегда
выливалась в использование некоторых моделей. Наиболее типичным
случаем здесь можно считать тот метод историко-философского
исследования, в котором за исходную модель берется либо собственная
(Аристотель, Гегель), либо одна из влиятельных философских систем
(кантовская для марбургской школы). При таком подходе античные
философские системы рассматриваются либо как частная сторона исходной
модели, либо как несовершенный ее прообраз. При этом неизбежно
подчеркивание одних сторон древних учений и затушевывание других, что, в
общем, ведет к модернизации древних учений [25].
Прямую противоположность представляет метод, который ищет
исходные модели в предшествующих мировоззренческих формах. В
древности этот метод использовали отцы церкви, пытаясь показать
заимствованный или непосредственно связанный с мифологией «языческий»
характер философии греков. В новое время "этот метод, подкрепленный
глубоким лингвистическим и мифологическим анализом, реализован в
работах Рота, Гладиша [26], Виллмана [27], в какой-то степени он
характерен для работ Фаррингтона [28], Франкеля [29], Корнфорда [30].
Удовлетворительно вскрывая генетические источники деталей философских
систем по их преемственной связи с исходными моделями -
дофилософскими мировоззренческими формами, - это направление
проходит мимо специфики философии, не замечает серьезных отличий
философии от мифа.
Попытки вскрыть специфику античной философии сопровождались
поисками соответствующих моделей, которые велись в самых различных
областях. Так, кантовская идея априоризма выступает у Бернета [31]
70
некоторым специфическим национальным свойством греков, научным
характером их мышления. Из его книги ясно следует следующее: чтобы дать
точное описание науки достаточно указать, что она есть мышление о мире
греческим способом; и именно поэтому наука существует только у народов,
попавших под влияние Греции (20). Т. Гомперц [32] идею греческой
исключительности связывает со своеобразием социального уклада греков, а
философия рассматривается продуктом развития накопленных прежними
культурами знаний в новых условиях: «Для успешности и свободы
духовного прогресса эллинов неоценимым благом было как то, что его
культурные предшественники имели жреческую организацию, так и то, что у
них самих ее никогда не было» (21, с. 39). Гронинген [33], разделяя ту же
мысль о греческой исключительности, ищет исходную модель в специфике
греческого языка. Анализируя употребление таких слов, как αρχή (начало),
πρώτον (первое), αιτία (причина), он делает выводы о психологической
склонности греков к причинному объяснению: «Грек мог высказать общее
суждение только в предложении, относящем содержание суждения к его
основанию, «началу». Возможно, он этого и не осознавал: подобное
строение фразы - результат автоматизма языка. Но деталь эта не случайна.
Она показывает, как глубоко концепция укоренилась в душе» (22, с. 16).
Подобные подходы к специфике философии подчеркивают ее субъективный
характер, мало или почти совсем не уделяют внимания необходимости
философии как формы общественного сознания.
Немало усилий затрачено историками философии и на анализ
философских систем с точки зрения исходных моделей как таковых. Здесь
мы встречаем либо прослеживание изменений отдельных моделей в
различных философских системах (Корнфорд, Франкель), либо же перенос
тяжести на сами модели (Гомперц, Топич [34]), попытку разобраться в их
структуре. Последний взгляд, как сравнительно новый и в некоторых
отношениях близкий нашему, требует более детального изложения.
Г. Гомперц в статье «Проблемы и методы ранней греческой науки»
писал: «Объяснить явление - значит показать, что оно содержит некоторые
аналогии с другими явлениями, известными по повседневному опыту.
71
Явление, функционирующее в качестве объясняющей аналогии, может быть
названо мысленной моделью (thought - pattern). Мы утверждаем, что методы
объяснений применительно к древнегреческим мыслителям состоят почти
исключительно в использовании нескольких определенных мыслительных
моделей» (23, с. 164). Гомперц выделяет биологические, антропологические,
семейные, политические, теологические модели. В самой констатации этого
факта - бесспорный вклад Гомперца в изучение античности: это только
лишнее подтверждение и констатация тезиса о том, что общественное
сознание производно от общественного бытия. Но, к сожалению,
позитивистский, иногда и иррационалистский подход к проблеме модели
делает связанные с моделью философские взгляды беспредметными
построениями. Особенно резко позитивистско-иррационалистское
истолкование моделей проявляется в работах Топича.
Топич различает биологические, социоморфные и техноморфные
модели: «Вообще говоря, все, что имеется в окружающей человека среде,
может быть использовано в качестве модели, однако господствующую роль
играют те аналогии, которые заимствованы из непосредственно испытанных,
практически значимых и удовлетворяющих чувство фактов общественного
производства и процесса жизни. Это, в первую очередь, биологические
процессы зачатия, рождения, роста, старости и смерти, а также потребности
и действия - интенциональное поведение, с^его нормами, объектами и
продуктами. Можно, таким образом, говорить о биоморфных и
интенциональных моделях. Последняя группа состоит или из социальных
отношений и институтов от семьи до государства, или из художественно-
производительной деятельности и поэтому разделима на подгруппы
социоморфных и техноморфных моделей» (24, с. 3).
Использование моделей выступает у Топича не средством, не первым
шагом познания, а основой самого знания, что, естественно, пока
игнорируются и детерминированная природа самих моделей, и процессы их
объективной детерминации, ведет к философскому агностицизму:
«Осознавая внутренние трудности интенционального мировоззрения,
философия не отказывается от него, а, напротив, культивирует, используя
72
вспомогательные гипотезы. Она, как правило, не в состоянии отбросить
интерпретацию мира моральным или эстетическим порядком... не способна
признать тот жесткий факт, что явления мира не соответствуют нашим
ценностным постулатам. Этот страх перед ценностной иррациональностью
событий мира, как и некоторые другие обстоятельства, вынуждают
философов препятствовать исследованию природы интенциональных картин
мира, поскольку такое исследование необходимо ведет к признанию
несостоятельности претензий философов на истину» (24, с. 4). «Жизненность
любого мировоззрения основана, таким образом, не на его истинности, а на
психологической действительности» (24, с. 4).
Важная и верная сама по себе идея опосредования нового знания
старым, в чем, собственно, и состоит роль модели, толкуется Топичем в
несколько неожиданном плане. Если, как говорил Ленин, «софизм
идеалистической философии состоит в том, что ощущение принимается не
за связь сознания с внешним миром, а за перегородку, стену, отделяющую
сознание от внешнего мира» (5, с. 39-40), то софизм современного
«героического позитивизма», к которому причисляет себя Топич, более
многосторонен: китайская стена теперь возводится между «ценностным» и
реальным миром, а сам факт опосредования нового знания старым
выдвигается в дополнительное препятствие связи человека с природой.
«Узкий круг ситуаций непосредственно знакомого, необходимого для жизни,
проверенного прежним опытом, образует основу всего мировоззрения.
Исходя из него, мысль проникает в область далекого и неизвестного,
загадочного и необжитого. В своих методах и устремлениях эта
экстраполяция остается определенной элементарными жизненными
ситуациями» (24, с. 5). Иначе говоря, модель не связана с объектом, и
мировоззрение - суть произвольная спекуляция, причем почему-то
обязательно спекуляция о мирах далеких, «необжитых», суть которой
составляет абсолютизация той или иной модели.
Увлечение генезисом и забвение функции позволяет Топичу
расчленять функциональное единство познания и «доказывать», в общем,
очевидные вещи, что ценностное, чувственное, рациональное генетически не
73
сводимы к одному источнику. Это действительно так, оставаясь в пределах
генезиса, трудно что-либо сказать о связи трех сторон единого процесса.
Функционально же, как мы видели, все три области имеют выход к объекту
(динамический, чувственный, потребностный облики предмета), а со
стороны субъективной (гомеостазис, идентификация, действие) связаны
функционально, уточняют, дополняют, контролируют, формируют друг
друга. Все они могут рассматриваться как каналы информации об объекте, и
ни один не может быть обособлен от двух других.
Второй, совершенно уже непростительный для историка-философа
гносеологический грех Топича - смешение абсолютизации и самого понятия
абсолютного. «Универсальная связь событий, общность мира, - пишет
Топич, - проецируются через модели на мир как социальные феномены или
продукты производительного процесса. Так возникает замкнутое
интенциональное мировоззрение, которое создано по образцу и подобию
наших желаний и действий, выводимо из них» (24, с. 4). Абсолютизация,
действительно, весьма обычное явление, но только в философии. Прежде
чем абсолютизировать, нужно иметь понятие об абсолютном, всеобщем,
универсальном. История философии, собственно, и начинается с появлением
такого понятия. Его нет в мифе, оно не может быть понято из любой модели,
требует для своего осознания вполне определенных моделей. Распространяя
абсолютизацию на всю, в том числе и* дофилософскую историю
человеческой мысли, Топич ставит телегу перед лошадью, теряет критерий
различения философского и дофилософского и, естественно, сам себя
удивляет, переходя к анализу философии как таковой: «Находится ли и в
какой степени так называемая философская мысль в ее существенных чертах
под непосредственным влиянием предшествующих мифологических форм?
Вопрос этот следует оставить открытым. Было показано и будет еще
многократно показано, что философия не отбросила мифологическую
интерпретацию мира, оставила ее своей составной частью, культивирует ее.
Схожесть основного мотива часто настолько велика, что трудно провести
четкую границу и отнести конкретные явления к той или иной области» (24,
с. 95). Следует заметить, что с развиваемой Топичем точки зрения вообще
74
невозможно установить различие между мифологией и философией. Если,
например, финны полагают, что небо выковано из куска стали, а Платон
считал, что космос создан богом путем формирования всего «видимого и
слышимого» по некоторому образцу, то оба утверждения связаны с
техноморфной моделью, но только одно из них философское, поскольку в
нем использована всеобщая, абсолютная постановка вопроса. Смешение
абсолютизации и понятия абсолютного обедняет у Топича анализ моделей.
Он не пытается исследовать возможности моделей как средств осознания
абсолютного.
Первая такая попытка - связать возникновение философии с
осознанием всеобщего, универсального, абсолютного через определенную
модель - предпринята Дж. Томсоном [35]. В качестве исходной модели
Томсон рассматривает возможности товарообмена в условиях денежного
обращения, прослеживает связь между отношениями товарообмена и
абстрактной постановкой вопросов в первых философских учениях. «В
Греции и Китае, - пишет Томсон, - старые конкретные отношения и идеи
были преобразованы в новые - в абстрактные идеи и отношения, основанные
на денежном обращении. Таково было происхождение философии» (25, с.
341). Критические замечания в адрес Томсона, касающиеся, в основном,
недооценки роли лингвистической модели, мы сделаем по ходу изложения.
Теперь, в конце введения, мы можем уже более точно определить цели
данного нашего исследования. Нам предстоит вскрыть детерминизм первых
философских систем, т.е. показать их зависимость от определенных моделей,
предстоит исследовать социальные факторы, вызвавшие неполное,
одностороннее использование моделей, абсолютизацию отдельных их
сторон. А в конце работы, основываясь на анализе использованных моделей
и степени их использования, мы попытаемся установить общую тенденцию
разработки проблем причинности в греческой философии классического
периода.
75
Глава I
РОЛЬ ОТНОШЕНИЙ ТОВАРООБМЕНА
В ВОЗНИКНОВЕНИИ И СТАНОВЛЕНИИ ФИЛОСОФИИ
I. Предпосылки возникновения греческой философии
Марксизм понимает под философией одну из форм общественного
сознания, которая возникает из условий жизни общества и имеет предметом
наиболее общие законы развития природы, общества и мышления. Как и
любая другая форма общественного сознания, философия не есть нечто вне-
и над жизнью общества: она предметна, выполняет определенную функцию
в жизни общества, имеет свои генетические корни в предшествующем ряду
мировоззренческих форм. Как и другим формам общественного сознания,
философии могут быть указаны и объективные, и субъективные
определители. Относительно объективных определителей вопрос более или
менее ясен: наиболее общие законы природы и общества, как законы
всеобщие, доступны сознанию лишь опосредовано, через стихийные
генерализации по силе, т.е. через отношения товарообмена и языковую
структуру. Когда мы подчеркиваем роль денежной и языковой моделей, мы,
прежде всего, имеем в виду этот момент опосредования всеобщего
объективного определения, видим в товарообмене и в языковой структуре
призмы, через которые только и могут быть восприняты универсальные
законы.
Что касается субъективного определения, то здесь дело обстоит
несколько сложнее. Предыдущие мировоззренческие формы, в том числе и
мифология, несли социальную нагрузку: они были вплетены в
хозяйственную и политическую жизнь общества, укрепляли сложившиеся
общественные отношения. При этом, ввиду отсутствия или слабости
дифференциации социальной структуры, в предшествующих философии
мировоззренческих формах было бы трудно, если не невозможно, найти
отличия, связанные с положением той или иной группы в обществе.
Появление философии в этом плане может рассматриваться либо как
76
попытка закрепления новых отношений товарного производства -
отношений по существу своему абстрактных - в мировоззрении, и эту
сторону дела подчеркивает, например, Томсон (25), либо как становление и
обоснование групповых интересов, связанных с социальной
дифференциацией, появлением классов с их особыми константами
гомеостазиса, либо же, наконец, и с тем и с другим явлением вместе.
Если философию рассматривать только в мировоззренческом плане -
как попытку закрепить в мировоззрении новые социальные отношения, т.е. в
тех функциях, в каких, например, и мифологию, то на второй план отходят,
теряются вопросы партийности философии, ее связи с интересами
нарождающихся классов. С другой стороны, если философию рассматривать
только в идеологическом плане, только в связи с интересами классов, как
следствие столкновения этих интересов, необъяснимыми оказываются
некоторые детали развития философии и, прежде всего, само происхождение
философии - выход в философскую проблематику универсального,
всеобщего, абсолютного [36]. В качестве такого примера - самоограничения
идеологическим планом можно указать на интересную и ценную во многих
аспектах книгу греческого философа Теодориди «Эпикур» (26) [37]. Для
Теодориди «философия - политика, выраженная в понятиях и суждениях» (с.
35), а чтобы понять ту или иную философию, достаточно будто бы знать
социальное положение создателя системы: «Чтобы найти магический ключ к
любой философии от философии Будды и Фалеса до философии Ницше,
Гуссерля и Сартра, прежде всего нужно уточнить место философа в
обществе, - грубо говоря, узнать, за кого он голосует» (26, с. 218).
Соответственно, философия превращается в некоторое беспредметное
состояние души: «Каждая философия вытекает из порождаемой практикой и
общением душевной необходимости опредметить место личности в
обществе, т.е. в производственных отношениях данной эпохи. Она, как
правило, уход из жизни, насмешка над болью борьбы за жизнь или наркотик
от этой боли» (26, с. 215). Нетрудно заметить, что при таком подходе есть
партийные философии, но нет партий в философии: последние
беспредметны и, по сути дела, неотличимы ни от мифа, ни от других
77
мировоззренческих форм. Вместе с тем в истории философии могут быть
указаны и такие периоды, понять которые без учета идеологического плана
попросту невозможно (Демокрит, софисты, Платон).
Субъективное определение философских систем, социальная
необходимость философии должны рассматриваться, видимо, конкретно. На
передний край может выдвигаться то мировоззренческая, то идеологическая
сторона. Мысль о том, что партийность в философии не есть некоторый
абсолютный, неизменный определитель ее развития - мысль не новая, она
высказана достаточно ясно Марксом и Энгельсом применительно к истории
античной философии. Говоря о последних античных философах, они писали:
«Народ считал их публичными скоморохами, а римские капиталисты,
проконсулы и т.д. нанимали их в качестве придворных шутов, которые,
поругавшись за столом с рабами из-за нескольких костей и корок хлеба и
получив особое кислое вино, забавляли вельможу и его гостей занятными
словами: «атараксия», «афазия», «гедоне» и т.д.» (19, с. 122).
В свете сказанного, проблема происхождения философии
конкретизируется в трех направлениях: а) предметно-объективном
(становление денежной и лингвистической моделей), б) субъективном
(становление товарообмена, социальная дифференциация), в) генетическом
(накопленное мифом знание и приемы его интерпретации).
I
Философия появляется в конце перехода от родового строя к
социальному укладу классического рабовладельческого общества древней
Греции. Ранняя часть периода (XII - IX вв. до н.э.) наиболее полно отражена
в «Илиаде» и «Одиссее», поздняя - в поэмах Гесиода. Энгельс отмечает, что
в поэмах Гомера, которые рисуют «полный расцвет высшей ступени
варварства», мы обнаруживаем греческие племена уже объединенными «в
небольшие народности, внутри которых, однако, еще вполне сохраняют
свою самостоятельность роды, фратрии и племена, ... росли имущественные
78
различия, а с ними и аристократический элемент внутри древней
первобытной демократии... рабство военнопленных было уже
общепризнанным учреждением» (27, с. 83). В поэмах Гесиода
намечающиеся институты рабовладельческого общества находят уже более
явственное и в некотором роде критическое отражение. Здесь мы
обнаруживаем жалобы на подкупность судей, четкое отличие интересов
знатных от интересов простых свободных, вынужденных жить собственным
трудом. У Гомера и Гесиода нас, прежде всего, интересует становление
связанных с социальным строем различий в понимании общественных
интересов и тот специфический аспект, под которым идет осознание этих
интересов.
Показательным в этом отношении представляется сравнение
некоторых картин «Илиады» с гесиодовской «Басней о соловье». В
«Илиаде» много внимания уделяется распрям царей-басилевсов. Но здесь
ссоры происходят по вполне понятным с точки зрения психологии причинам
(обида Ахилла, например), распри не носят классового характера, и сами
басилевсы выступают вождями племен, действующими в интересах
племени, как бы своеобразно ни понимались эти интересы. Демократическая
струя в отношениях между нарождающейся знатью и простыми людьми в
«Илиаде» еще достаточно заметна. Так, в сцене военного совета (Илиада, II,
50-399) рядовой воин Ферсит, для описания которого автор не жалеет самых
презрительных терминов, прямо обвиняет Агамемнона в бедах ахейцев.
«Вождь и владыка народов» Агамемнон вынужден терпеть эту критику, и
только силами других басилевсов, в частности Одиссея, Ферсита удается
поставить на свое место бранью, угрозами и ударами. В «Басне о соловье»
мы не находим и следа демократизма, общности интересов. Ястреб, слушая
жалкий писк соловья, обращается к нему с такой речью:
Что ты, несчастный, пищишь? Ведь намного тебя я сильнее?
Как ты не пой, а тебя унесу я, куда мне угодно.
И пообедать могу я тобой, и пустить на свободу.
Разума тот не имеет, кто меряться хочет с сильнейшим:
Не победит он его, - к униженью лишь горе прибавит!
79
(28, c.47)
Что касается специфики осознания блага, то здесь показательно
меняющееся отношение к производительному труду. Герои «Илиады» не
видят чего-либо зазорного в простом производительном труде. Ахилл и
Патрокл сами готовят для гостей пищу, «видом подобная богине» Навсикая
вместе с рабынями стирает белье, Пенелопа прядет, а ее супруг Одиссей
ходит за плугом. Труд у Гомера - естественная человеческая деятельность,
не наказание. Гесиод, рисуя в «Трудах и днях» этапы развития человека,
уже с самого начала относится к труду как к наказанию:
Скрыли великие боги от смертных источники пищи:
Иначе каждый легко бы в течение дня наработал
Столько, что целый бы год, не трудясь, имел пропитанье.
(28, с. 41-42)
В «золотом веке» люди жили, «горя не зная, не зная трудов». В веке
славных героев: «трижды в году хлебодарная почва героям счастливым
сладостью равные меду плоды в изобилье приносит». В веке «железном», в
веке Гесиода:
Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя...
(28, с. 42)
Таким образом, в памятниках становления рабовладельческого общества
мы обнаруживаем, с одной стороны, классовую дифференциацию понятий о
добре и зле, а с другой - все нарастающий «паразитический» уклон в оценке
роли и места труда в человеческой жизни. Обе эти линии характерны для
всего периода развития философии у древних греков.
Рассматривая сдвиги в осознании блага и труда в качестве результатов
глубинных социальных изменений, мы вынуждены хотя бы указать на
характер этих изменений.
В поэмах Гомера обнаруживается полунатуральное хозяйство, в
котором на равных правах используются и рабы, и свободные члены рода. И
само рабство здесь не носит еще характера того классического рабства более
позднего времени, когда, по словам Аристотеля, раб рассматривался
80
существом, причастным разуму лишь настолько, чтобы понимать разумное.
Раб гомеровского периода испытывает к себе двойственное отношение. С
одной стороны, это человек, которого без суда и следствия можно повесить
на корабельном канате, «медью нещадною» вырвать ноздри, отсечь руки и
ноги, бросить на съедение «жадным собакам» (Одиссея, XXII, 47). Но,
вместе с тем, он и член семьи: в отношении к рабам в поэмах часто
применяется термин «oÎkoç» (домочадцы). Он может, как раб-свинопас
Эвмей в «Одиссее», «не спросясь ни царицы, ни старца Лаэрта» (Одиссея,
XIV, 8), построить дом, купить себе раба.
Рабство в то время носило до известной степени внешний характер,
рассматривалось как случайное, порожденное превратностями войны
состояние человека. И рабы, и свободные используются для одних и тех же
работ, дети рабынь иногда считаются свободными. Одиссей, к примеру, не
считает для себя зазорным рассказывать вымышленную историю о том, что
он родился от рабыни, «но в семействе почтен как законный сын был отцом
благородным» (Одиссея, XIV, 202).
Вместе с тем по поэмам трудно определить роль рабского труда в
экономике соответствующего периода. Поэмы, как и мифология в целом,
питают пристрастие к цифрам (3, 5, 7, 50, 100). По отношению к домочадцам
чаще всего применяют цифру 50, хотя то же число встречается и в других
обстоятельствах (50 сыновей у Египта, 50 дочерей у Даная и т.д.) Это делает
гадательной любую попытку определить удельный вес труда несвободных в
общественном производстве. Следует, вероятно, согласиться с мнением
Д.П. Каллистова (29) [38], что главная роль в хозяйственной деятельности в
то время принадлежала свободным.
Положение резко меняется во времена Гесиода. Хотя родина великого
поэта во многом отстала от других полисов Греции, все же и ее мы находим
уже втянутой в товарные отношения. Отец Гесиода занимался, хотя и
неудачно, морской торговлей. В наставлениях Гесиода брату Персу («Труды
и дни») показывается, что рабство в малых хозяйствах не было в то время
экономически выгодным. Гесиод рекомендует, например, обрабатывать поля
только силами семьи, сокращать рождаемость, работать с утра до ночи и т.д.
81
И все же, даже в этом случае, осознание блага и труда не принимает у
Гесиода чистую форму противопоставления блага эксплуатируемого благу
эксплуататора, оно осложнено оглядками на раба как на естественный
объект эксплуатации всех свободных. Этим и объясняется своеобразие
позиции Гесиода: труд - проклятие, только для раба он естественное
состояние.
В более развитых городах Греции, в Спарте, Афинах, социальное
расслоение в это время было глубоким. «Бедные находились в порабощении
не только сами, но также и дети их, и жены. Назывались они пелатами и
шестидольниками, потому что на таких арендных условиях обрабатывали
поля богачей... Земля была в руках немногих... если эти бедняки не отдавали
арендной платы, можно было увести в кабалу и их самих, и их детей. Да и
ссуды обеспечивались личной кабалой вплоть до времени Солона»
(Афинская полития, II, 2). Потребность в рабской силе удовлетворялась в это
время и из внешних, и из внутренних источников. Реформы Солона, четко
отделив рабов от свободных, закрыли внутренний источник пополнения
класса рабов. Со времени реформ Солона переходную эпоху можно считать
закончившейся.
В экономическом отношении это была эпоха становления
производства, основанного на рабском труде и на обмене. В политическом -
эпоха становления и четкой дифференциации классов рабов и свободных,
эпоха все усиливающейся борьбы аристократов и демоса за власть, которая
вводится в рамки государства. В отношении же мировоззренческом, в
смысле подготовки условий появления философии, это была эпоха
становления абстрактных отношений товарообмена и классовых идеологий,
прежде всего идеологии аристократии и идеологии демоса с их
противоположностью интересов при едином отношении к рабу, а через него
- и к труду как к наказанию, недостойному для свободного человека
занятию, аристократ он или представитель демоса.
82
2
Товарное производство во времена Гомера было развито весьма слабо. В
поэмах обнаруживаются только отдельные случаи обмена: пленников
меняют на быков, оружие, вино. Предметы обмена - военная добыча. Деньги
как постоянное средство обмена отсутствуют. По данным археологии, вещи
импортного происхождения на территории Греции отсутствуют до VIII в. до
н. э. Вместе с тем в «Илиаде», и особенно в «Одиссее», довольно часто
упоминаются «финикийские люди», привозящие для обмена
«пышноузорные ризы, жен сидонских работы», «славные чаши, сидонян
искусных изящное дедело» (Илиада, XXIII, 743).
Греческая торговля носила сначала спорадический характер, в ней
большую роль играли финикийские купцы. С одним из таких купцов,
мореплавателем Кадмом, греческая легенда связывает возникновение
письма. Колонизация привела к постепенному росту торговых отношений, и
к концу VII в. до н. э., когда начинается чеканка монеты, греки были
фактически монополистами на Средиземном море. Ко времени появления
философии деньги не были уже новинкой, и то обстоятельство, что первые
философы были из крупнейших торговых и колонизационных центров, из
Милета и Эфеса, едва ли может рассматриваться как случайное совпадение
[39].
Состояние первоисточников не позволяет с полной уверенностью
утверждать, что, когда ионийцы смотрели на свою воду, воздух, огонь, они
видели в этих первовеществах естественные деньги, на которые
обменивается все и которые обмениваются на все. Но некоторые
особенности ионийской философии делают правдоподобной такую гипотезу.
Бесспорна негативная преемственность, связь между ионийской философией
и мифом, как и наличие в них нового элемента - понятия о единстве, о
естественном «начале». Роль этого элемента в философских системах до
крайности похожа на роль денег в общественной жизни. Здесь, как и в
случае с деньгами, налицо конечный продукт генерализации, но скрыты и
туманны переходы от него к миру единичных вещей. Кроме того, впервые к
83
исследованию языка, к постановке теоретико-познавательных проблем,
обращается только Гераклит. Помимо же языка, единство в доступной для
восприятия и осознания предметной форме обнаруживается лишь в
общественной роли денег, причем именно такое единство, о котором говорят
милетцы, до некоторой степени и Гераклит. Поэтому известный фрагмент
Гераклита: «на огонь обменивается все и огонь на все, как на золото товары
и на товары золото» (Плутарх, De Ε 8, 388 Ε), - мы склонны рассматривать
не просто удачным сравнением, но и указанием на источник ионийских
спекуляций.
3
Греческий язык относится к числу индоевропейских языков, связанных
общностью словаря и грамматического строя. Уже в первых дошедших до
нас памятниках греческой письменности (первая половина VII в. до н.э.,
острова Санторин и Милос) [40] мы застаем греческий язык на высокой
ступени развития: язык с богатым словарем, более или менее
универсальными грамматическими правилами. Наибольший интерес
представляет для нас слово. В древнегреческом языке слово живет более или
менее самостоятельной жизнью. Оно подвижно, абстрагировано. Слово уже
поднялось на ступень гибкого средства, с помощью которого предмет
подается в том особенном, частном аспекте, который наиболее важен для
нужд момента. В этом смысле характерны приводимые Пизани (30, с. 141 -
147) [41] особенности древнего словоупотребления. Так, например, слово
βουκόλος (пастух быков) и соответствующий глагол βουκόλζιν уже у Гомера
используются применительно к лошадям: ίπποι βουκολ£οντο (лошади
паслись). Слово οίκοδομεΐν (строить дом: οΐκος - дом) встречается у древних в
сочетании οίκοδομυν τείχος (возводить стену). То же явление ослабленной
связи слов с первоначальной областью исследования обнаруживается и у
Софокла: τυφλός τά τ'ώτα τον те νουν τά τ'ομ,/ζατ' (слеп ушами, разумом и
глазами) [42], бра μολοΰσα τόνδ' όποΐ επη dpoeî (иди и посмотри, какие он
говорит слова) [43]. У Эсхила: κτύπον δέδοι,κα (увидел грохот) [44].
84
В этих и других примерах мы обнаруживаем слово как нечто,
имеющее широкую область колебаний как в значимом, так и в
функциональном плане. Если, по авторитетному мнению Леви-Брюля,
первобытное мышление не может оторвать представления от понятия,
чувственное от этического и динамического, то, по не менее авторитетному
свидетельству Аристотеля, рассматриваемая эпоха уже покончила с
недифференцированным характером элементов мышления. «Мыслить может
всякий, - пишет Аристотель, -...а ощущать не от него - для этого
необходимо наличие объекта ощущения»
(О душе, II, 5). В.И. Ленин отмечает, что здесь «Аристотель вплотную
подходит к материализму» (1, с. 292) [45].
Письмо в Греции появилось примерно в первой половине VII в. до н. э.
Легенда приписывает появление письма деятельности финикийского купца
Кадма, который высадился на острове Фера (Санторин). Позднее именно
здесь были открыты древние греческие надписи.
Греки заимствовали свое письмо с востока, а именно у финикиян [46].
Заимствование это не следует понимать как простой перенос финикийской
графической нормы на греческую почву. Греческое письмо существенно
отличается и от финикийского, и от других предшествующих типов письма,
счастливо соединяя в себе предельную простоту и предельную точность в
передаче структуры языка.
Алфавит финикийского письма (древние надписи X в. до н. э.),
алфавит которого состоял из 22 букв, и приближался к греческому
простотой, но строилось этот письмо на несколько иных принципах
(отсутствие гласных, акрофония), что в известной степени ограничивало его
возможности, требовало специальных знаний и тем сужало социальную базу
употребления письменности. Кроме того, финикийское письмо не исключало
многозначного понимания текста. Воссоздавая в письме фонетический
костяк слова, финикияне оставляли на совести читателя реконструкцию
слова в целом и, что особенно важно, его грамматическую сторону,
носителем которой выступают обычно гласные. При такой записи
закрепляется, фиксируется, становится доступным для исследования
85
значение как элемент структуры, тогда как сторона функциональная,
правила-категории, в соответствии с которыми идет использование слова,
остаются, как и в речи, ускользающим моментом. Введя в алфавит гласные,
греки впервые добились графического опредмечивания всех сторон языка, в
том числе и грамматической, изгнали многозначность в понимании текста.
Еще в менее выгодном отношении к греческому письму находятся
письмена, предшествующие финикийскому. Если верно утверждение Тацита
о египетском (по происхождению) характере финикийского письма, связь
которого с египетскими иероглифами и иератическим письмом
подтверждали Шампольон [47], Ленорман [48], Руже [49], то в египетском, в
известной мере также кипрском, хеттском, древнекритском письменах
следует видеть дальних родичей греческого. Чтобы оценить достоинство
греческой письменности, полезно привести некоторые данные по
предшественникам.
Египетское письмо проделало эволюцию от идеограммы до
фонетического алфавита из 24 букв - согласных. Иероглифическое письмо
(термин впервые применен Климентом Александрийским), которое сами
египтяне называли «m-d-г n-t-n> (божественные слова), служило в основном
религиозным целям, было достоянием жрецов, не перешло к народным
массам. Позднее, при переходе от иероглифа к слоговому и фонетическому
(по согласным) письму, последнее оказалось отягощенным традиционными
идеограммами-реликтами, и даже в пору своего наибольшего
распространения (в XII в. до н. э.) писцами использовалось около 600 знаков
- число достаточно внушительное, чтобы обеспечить монополию на
письменность узкому кругу людей.
Хеттское письмо было несколько более демократичным, чем
египетское, но едва ли уступало ему по сложности, равно как и, лишь
частично дешифрованные, критские письмена. О кипрском письме
(дешифровано в 1875 г.) известно, что оно было слоговым, более сложным и
менее точным, чем греческое.
Ко времени появления философии греки обладали уникальным для того
времени речевым письмом [50]. Оно превосходило предшествующие типы по
86
простоте и точности. Первое достоинство - простота - впервые
обеспечило широчайшую социальную базу письменности, сделало ее
общедоступной, вырвало у избранных социальных групп монополию на
письменность. Достоинство второе - точность, исчерпывающее
воспроизведение фонетической системы - впервые позволило сделать
доступным для анализа все типы языковых связей, т.е. открыло доступ к
анализу предмета философии, деталей его функциональных свойств.
4
Гомеровский предфилософский период носит переходные черты и в
подходе к предмету. С одной стороны, как и на этапе пралогическом, в нем
сохраняется двойной ряд условных знаков: языковый и связанный с ним,
производный от орудия вещный концентратор духовных ценностей. Со
стороны другой, намечается отход от вещного опредмечивания к рисунку,
рельефному изображению и, в конечном счете, к письму с одновременным
установлением ипотактической связи между «священными предметами» и
различного рода «табу».
В этом переходном периоде появляются попытки связать воедино
каузальные цепи. При всей видимой произвольности отдельных цепей
нетрудно заметить определенную локализацию этих цепей по
«инициаторам», которые, в свою очередь, связаны друг с другом
отношениями соподчинения. Более того, центральный и, казалось бы, в
высшей степени произвольный в своих действиях элемент этих цепей - Зевс
- оказывается ограниченным в своем произволе силой более высокой:
опредмеченным в Мойрах представлением о необходимой связи событий во
времени, о необходимой цепи следствий, возникающих из события,
поскольку оно имеет место.
Пределы суверенности Зевса оказываются в основном пределами
выбора из ряда возможных вещей, способностью избегать выбора опасного.
При этом Зевсу даже отказано в монополии на знание. Мойры -
хранительницы «прикладного» знания - не все сообщают Зевсу. Так, к
87
примеру, именно от своенравия Мойр страдает Прометей. Ему открыли то
исходное событие, развертывание которого в следственную цепь поведет к
гибели власти Зевса. И Зевс, не рискуя обратиться непосредственно к
Мойрам, мучает Прометея, пока, наконец, не добивается - опять-таки в
согласии с предначертаниями судьбы - открытия тайны.
Переходный период характеризуется в целом не только сдвигом
центра тяжести в процессах опредмечивания с вещного, «табуального»
значения к знаковому, но также и двумя дополнительными чертами,
сближающими его с периодом философски-научным. Во-первых, здесь
гораздо полнее представлен предмет философии: процессы опредмечивания
охватывают уже не только динамическое, как это было на этапе
пралогического мышления, но и логический механизм построения цепей
причин. Во-вторых, в переходный период появляются первые попытки, еще
очень туманные, выделить логическое в особую область, а в пределах
логического отделить знание от его использования, т.е. осознать структуру
языка как со стороны системы, так и со стороны функции. Суть этой второй
тенденции, возможно, наиболее точно укладывалась бы в понятие
отчуждения всей совокупности логических и динамических процессов в
предмет. Попутно возникла и специфическая мифологическая логико-
знаковая система второго порядка, которую на этом этапе с равным правом
можно было бы назвать предфилософской, предрелигиозной, преднаучной.
Здесь намечается первое различение предмета и взглядов на него как
следствие разделения материального и духовного труда. Здесь впервые
«сознание может вообразить себе, что оно нечто иное, чем сознание
существующей практики» (19, с. 21).
С точки зрения использованных моделей этот период, как и предыдущие,
в значительной степени аморфен, не в том, конечно, смысле, что он не
использует моделей - напротив, любому самому сложному построению
мифологии могут быть указаны определенные модели, - а в том смысле, что
среди использованных моделей трудно было бы установить важные и менее
важные, необходимые и случайные. Модели здесь можно лишь
классифицировать по типу использованных явлений на биоморфные,
88
техноморфные, социоморфные. В космогониях, например, наибольшим
влиянием пользуется биоморфная, так называемая генетическая модель. Так,
у Гесиода земля рождает звездное небо, горы, море, титанов. Вместе с тем
использование этой модели не ограничено космогонией. Любой исходный
пункт причинных связей мыслится в своем возникновении по генетической
модели (Хронос - Зевс, Зевс - Афина и т.д.). Для процессов изменения,
уничтожения миф широко использует техноморфные модели. Для
объяснения состояний, иногда и исходных пунктов причинных связей -
социоморфные (семейные сцены Зевса, например). Обычно все типы
моделей, ни одна из которых не обладает достоинством универсальности,
даны в мифе комплексно.
Логико-знаковая структура мифа не может рассматриваться ни как
религиозная, ни как научная, ни как философская. Чтобы стать
философской, мифологической логико-знаковой системе недостает
ограничений естественным и генерализаций по благу и силе. Чтобы стать
последовательно религиозной, ей не хватает догматического упора на
откровение, на бесконтрольность и непознаваемость основного звена - бога
монотеистических религий. Чтобы стать научной, ей недостает
эксперимента, преемственности, а также ограничения предмета
искусственным путем. В мифологии вообще не ставится вопрос о проверке,
а следовательно, и об истинности тех или иных результатов. И, будучи
основанной на вере, мифология противостоит науке как система
фидеистическая.
* * *
Таким образом, в VI в. до н.э. греческое общество располагало, с одной
стороны, предпосылками проявления философии, а с другой - потребностью
в теоретическом обосновании новых социальных отношений, основанных на
товарообмене, а также потребностью в обосновании политической практики.
В этих условиях и появляются первые философские учения.
89
Первые шаги греческой философии от Фалеса до элеатов могут
рассматриваться в основном как период осознания причинности как таковой
в пределах денежной модели. Денежная модель намечает границы
проблематики, в ее пределах делаются попытки переосмыслить с позиций
всеобщности основные модели мифологии.
2. Учения философов Милета о «начале»
Большинство историков считает милетскую школу зачинательницей
европейской философии. Не менее единодушно признаются и серьезные
отличия философии начального периода от философии более зрелого
периода, связанного с именами Сократа, Платона и Аристотеля. Специфику
первого периода усматривают прежде всего в проблематике, подчеркивая,
что у так называемых «досократиков», за исключением софистов, в центре
философских спекуляций стоит природа, тогда как проблема человека и его
духовного мира либо вообще исключается из анализа, либо носит
вторичный, производный характер [51].
Милетцы действительно обходят проблему человека. Они, в основном,
естествоиспытатели, представители стихийного материализма, «который, -
пишет Энгельс, - на первой стадии своего развития весьма естественно
считает само собой разумеющимся единство в» бесконечном разнообразии
явлений природы и ищет его в чем-то определенно-телесном, в чем-то
особенном, как Фалес в воде» (8, с. 149).
Та же мысль подчеркивается и другими авторами. Шредингер [52]
пишет о милетцах: «Они брали мир как данное нам через чувства и пытались
объяснить его, не беспокоясь о границах разума» (31, с. 51), объясняли же
его из постулата: «вся материя, из которой состоит мир, имеет при всей
безграничности различий все же много общего, со стороны ее внутренней
сущности одно и то же вещество» (там же, с. 52).
Томсон видит своеобразие милетцев в их ограничении проблемами
естествознания: «Фалес, Анаксимандр и Анаксимен, милетцы - признанные
основатели европейской философии. Называя их философами, мы, однако,
90
не употребляем этот термин в его обычном смысле. Они заняты в основном
тем, что мы могли бы назвать проблемами естествознания, но не законами
мышления, которые тогда еще не стали предметами исследования» (25,
с. 156).
Созерцательный, «объясняющий» характер милетских систем вытекает
не только из их классовой принадлежности, но и из характера
использованных моделей. Сама по себе созерцательность отмечается
многими, хотя толкуется по-разному. Фаррингтон, говоря о
созерцательности милетцев, уточняет: «Милетцы были наблюдателями, чьи
глаза были остры, внимание направлено, а выбор явлений в предметы
наблюдения обусловлен знакомством с определенно развитой техникой» (32,
с. 34-35). С этой лестной для милетцев характеристикой, к сожалению,
трудно согласиться. Дело здесь не только в том, что древними рассказано
множество анекдотов о самоуглубленности, рассеянности того же Фалеса.
Неприемлемость оценки Фаррингтона вытекает из самого характера
милетских философем, которые не только не могли иметь прикладного
значения, но и исключали саму возможность постановки вопроса как о
человеке, так и о прикладном использовании его знаний. Поэтому
справедлива для данного периода оценка Маковельского [53]: «Античный
материализм исходит из общего всей древности взгляда на познание, как на
самодовлеющее созерцание конечной реальности, а не как действенное
подчинение человеку сил природы» (33, с. 64).
Основная проблема милетцев, отличающая их от дофилософских
предшественников, - «единство», понятое как особенное определенное или
неопределенное вещество, связи которого с миром единичных вещей
мыслятся по аналогии со связями товарообмена.
Здесь следует добавить несколько уточнений, различить в предмете
собственно философское и инородное. По Гильберту [54], предметом
выступает единая субстанция: «Начало, αρχή [55], из которого все
космические явления берут свои истоки, есть, собственно, божественное,
божественная потенция, живая творческая субстанция, которая по самой
природе своего существа в естественном органическом бытии сам космос и
91
все единичные вещи творит и ставит из себя» (34, с. 23). Если из этого
определения выбросить все «божественное», чем, по справедливому
замечанию Корнфорда, собственно, и занимались милетцы, то он довольно
точно схватывает основу основ милетской проблематики - «творческую
субстанцию», которая из себя ставит и космос, и единичные вещи.
Могут спросить: при чем же здесь отношения товарообмена? Ведь в
товарообмене нет ничего «возникающего», что можно было бы «творить и
ставить из себя». Вещи - устойчивые качественные реальности - это товары,
которые участвуют своей универсальной, выразимой в едином эквиваленте
стороной, в процессе товарообмена, получают свою качественную
определенность вне отношений рынка. В отношениях товарообмена они
остаются неизменными. А у милетцев с их гилозоизмом перед нами,
бесспорно, творческая субстанция. Приписав милетцам связь с денежной
моделью, мы, на первый взгляд, взяли обязательство показать рынок,
пересаженный в мир мысли, то есть показать устойчивую, лишенную
изменений, предельно инертную систему связей качеств, сравнимых по
универсальному основанию, выразимых в единой количественной шкале,
единицами которой выступает монетарная система. Именно это мы и
собираемся сделать применительно к первому этапу развития философии.
Что же до творческого характера субстанции милетцев, то полезно
вспомнить самые обыденные, на наших "глазах идущие процессы
опосредования нового старым. Первый автомобиль и первый паровоз
определенно походили на телегу. Первые самолеты - на птицу, а их крылья -
на паруса. Потребовались время и объективная детерминация, чтобы отсеять
второстепенное. В наше время, например, уже не сразу увидишь в парусе
предка современного турбореактивного двигателя. Иначе говоря, либо в этой
«творческой субстанции» милетцев мы видим нечто гомогенное,
элементарное в своей структуре - тогда мы приступаем к делу с негодными
средствами, либо же здесь перед нами типичная для первых шагов
опосредования нового старым гетерогенная смесь - тогда следует различить
старое и новое в этой «творческой субстанции». История первого периода
развития философии подтверждает второе. «Космос» первых философов от
92
системы к системе теряет свою творческую составляющую,
стабилизируется. У Гераклита он вечен, функционирует, колеблясь в
пределах мер. У элеатов показан остановленной, неподвижной системой
связей.
Это раздвоение, расслоение проблематики отмечается всеми, хотя и
трактуется по-разному. Кронер [56], например, видит в этом факте
выражение человеческой тяги к «откровению», хотя внешнюю форму
процесса указывает достаточно ясно: «Греческая философская мысль была
космологической на всем ее протяжении, но первый период, от начала до
софистов, был космологическим в специфическом смысле. Он не только
имел центром концепцию космоса, но, начиная с созерцания видимого
универсума, он постепенно спускается к открытию невидимого, не порывая
с видимым универсумом. Последний остается даже у Гераклита и
Парменида первичной моделью космоса, хотя оба уже осознали невидимый
фактор в пределах этого универсума» (35, с. 73). Πρώτον феоЬос Кронера не в
утверждении наличия этого невидимого фактора («скрытой гармонии»,
например, Гераклита), а в толковании его фактором иррационально-
божественным, требующим для своего познания откровения. Философия в
поисках универсального действительно переходит от внешних явлений к
сущности. «С одной стороны, - пишет Ленин,- надо углубить познание
материи до знания (до понятия) субстанции, чтобы найти причины явлений.
С другой стороны, действительное познание причины есть углубление
познания от внешности явления к субстанции» (1, с. 155). Но философия
этого периода ищет универсальное во вполне определенных рамках - в
товарных отношениях. И находит не первую попавшуюся, а вполне
определенную субстанцию - устойчивое, неизменное, инертное «бытие» -
квинтэссенцию товарных отношений.
С нашей точки зрения, этот переход к «невидимому фактору» есть во
многом результат дифференциации мифологического и чисто философского
в постановке вопроса и результатах исследования. В этом смысле характерна
уже и общая эволюция милетцев. Начиная с традиционной мифологической
постановки вопроса: «как это стало?», который на этот раз ставится по-
93
философски универсально, милетцы постепенно переносят центр тяжести на
вопрос: «как это функционирует?». «Представленный вначале как
генетический процесс, - пишет Томсон, - мир, по мере его изучения,
становится у них постепенно регулирующимся. Это - важное изменение.
Оно показывает, что работа этих философов, революционизировавших
форму примитивного мышления, несла в себе также и новое содержание»
(25, с. 158).
Последним пунктом, подлежащим уточнению, представляется
состояние источников. Почти все дошедшие до нас свидетельства прошли
фильтр Аристотеля и его школы. Общий смысл этого фильтра Йегер [57]
правомерно усматривает в том, что «в пределах традиционной схемы»
истории философии еще со времен Аристотеля «досократики» занимают
свои позиции и получают «ранги» как первые задающие вопросы и
развивающие системы, назначение которых - быть использованными в
классической афинской философии, а именно в платонизме» (36, с. 150).
Искажающий характер аристотелевских толкований подчеркивается
многими, например, Блонским (37, с. 22) [58], Кронером (35, с. 79, 80). К
аристотелевским искажениям прибавлены в новое время дополнительные,
вытекающие из позиции того или иного исследователя. Капелле [59]
приписывает Дильсу, Целлеру и другим стремление «обнаружить в
воззрениях и спекуляциях древних воззрения и спекуляции новой
философии, особенно кантовской» (38, с. 14). Франкель подходит к делу
изучения досократиков наиболее радикально: «Задачи этой области
исследования философии частью негативны, частью позитивны. Негативная
часть - освободить те представления, которые мы приписываем древним, от
трех искажающих влияний: от затемняющей и искажающей проекции на
аристотелевскую почву; от проекции на почву наших собственных
спекуляций; от наших предрассудков о типичном мыслителе древности,
которого якобы можно считать прямолинейно четким в своем мышлении
примитивом» (39, с. 15).
При справедливости этих замечаний остается все же фактом, что
единственный надежный материал, которым мы располагаем, сохранен
94
Аристотелем и его школой. И любая реконструкция, любое дополнение,
исправление оказываются не менее спорными, чем сама аристотелевская
трактовка. Единственное, что в этих условиях может быть сделано, - это
учет взглядов самого Аристотеля, подход к материалу как к продукту
аристотелевской селекции.
1
Возникновение философии на греческой почве связывают обычно с
именем Фалеса из Милета (624 - 547 гг. до н.э.). Фалес ничего не писал, и ни
один автор ранее Аристотеля не упоминает о нем как об ученом и философе.
В доаристотелевских источниках он, как замечает Бернет (20, с. 46), скорее,
механик-изобретатель, чем философ.
Аристотель приписывает Фалесу три положения: а) земля плавает на
воде (О небе, 294а); в) вода - материальная причина всех вещей
(Метафизика, 983в); с) все полно богов, магнит живой, ибо в нем сила
двигать железо (О душе, 411а). Аристотель называет Фалеса
родоначальником философии, которая принимает «начала в виде материи»
(Метафизика, 983в). Цицерон, по свидетельству Лактанция (Inst. div. 1, III с),
а также Плутарх и Страбон считали Фалеса первым философом. В новое
время это мнение более или менее общепринято.
Фалес - первая известная нам историческая личность, в изречениях
которой проглядывает научно-теоретический, философский подход к
явлениям действительности, и мы согласны с Гегелем, что «Фалесом,
собственно, только и начинается история философии» (40, с. 154), история
греческой философии, разумеется.
На первый взгляд, основное, более или менее достоверное положение
Фалеса: «вода есть начало всего», - дает слишком мало. Более того, многими
отрицается приоритет Фалеса в постановке такого вопроса. Источник этого
положения ищут либо у предшественников - у Гомера, Гесиода, либо же вне
Греции, на Востоке. Последний взгляд был особенно распространен в
прошлом и начале нашего века (Рот, Гладиш, Виллманн, Тейхмюллер [60],
Таннери). В наше время он разделяется Фаррингтоном (32, с. 30).
95
Однако при всей своей краткости, неопределенности, возможно, даже
при заимствованном со стороны содержания характере, положение Фалеса
«вода есть начало всего» достаточно определенно отмечено печатью
принадлежности к философии; в нем мы впервые встречаем постановку
вопроса во всеобщем, универсальном плане.
Само происхождение взгляда на воду как на источник всего могло
быть самым различным. Так, Введенский [61], Бернет, Нестле [62]
объясняют выбор именно воды по Аристотелю, то есть как психологический
результат долговременных наблюдений за окружающей жизнью. Но новизна
здесь не в воде, а в тех функциях, которые аналогичны роли денег в обмене.
Анализируя взгляды древних, Аристотель замечает: «Из тех, кто первые
занялись философией, большинство считало началом всех вещей одни лишь
начала в виде материи (ev ΰλης cfôci): то, из чего состоят все вещи, из чего
первого они возникают и во что, в конечном счете, разрушаются, причем
основное существо пребывает, а по свойствам своим меняется - это они
считают элементом, и это - начало вещей» (Метафизика, 983Ь). За явной и
неизбежной, конечно, модернизацией взглядов Фалеса довольно явственно
просматривается основное философское содержание его философемы. Как
замечает Капелле: «В отличие от древних Фал ее спрашивает, не «как» это
было в начале, а «что» было в начале, т.е. спрашивает о сущности» (38, с.
20). То же отмечается многими, в частности, и Гейзенбергом [63]:
«Положение Фалеса впервые содержало идею гомогенной фундаментальной
субстанции» (41, с. 91).
Правда, говорить применительно к Фалесу о решительной замене
«как» на «что» нет достаточных оснований, хотя тенденция перехода от
генезиса к функции, от возникновения к состоянию, от движения к «бытию»
отмечается правильно, если исходить из эволюции милетской школы в
целом.
С другой стороны, Фалес решительно разрывает со сложившейся
мифологической системой опредмечивания через знак и вещь, переходит к
обычному научному типу. При этом, конечно, сами подлежащие
опредмечиванию явления остаются прежними, что дает почву Трубецкому
96
утверждать, будто бы вся философия греков есть раскрытие их религиозного
мировоззрения; или несколько иному взгляду Корнфорда, по которому
первые системы философии стремились освободить занесенные с Востока
или местные идеи от их религиозных одеяний. Но, как мы уже говорили,
связь философии, мифологии и религии по предмету не дает права
отождествлять их друг с другом, поскольку они выступают различными
способами интерпретации предмета, а не сторонами самого предмета.
Результат самого Фалеса превосходит миф в том отношении, что заключает
в себе перспективы дальнейшего развития. «У Фалеса, - пишет Джонс, - мы
замечаем совершенно иной уровень объяснений, именно тот, который делает
возможным успех естественных наук. Утверждение, что вода есть начало
всего, поддается проверке, и если исследование вскрывает, что причиной
является не вода, мы можем надеяться, что последующие исследования
обнаружат причину. Эта точка зрения нова для греческого мира. Поскольку
первым именем, связанным с этой точкой зрения, называют Фалеса, мы
видим в нем отца философии. С тем же успехом можно считать его отцом
науки» (42, с. 33).
Не менее важной философской деталью является и мысль Фалеса о
локализации свойств, процессов непосредственно по вещам внешнего мира,
как это и имеет место в отношениях товарообмена. Здесь Фалес оказывается
в резком противоречии с мифом, который выносит процессы изменения и
развития за пределы вещей, опредмечивает их в реальностях иного типа -
богах, героях. Фалес впервые и, что следует особо отметить, на очень долгое
время связывает свойства, процессы, движущие силы, изменения с вещами -
акт величайшей философской ценности, во многом определивший
дальнейшее развитие философской мысли.
Неопределенность положения Фалеса, пока не раскрыта его связь с
моделью, позволяет довольно свободно обходиться с первой философемой.
Так, Гегель видит в воде Фалеса «бога», «мысль» (40, с. 157, 161). Не говоря
уже о неправомерном и ни в коей мере не вытекающем из положения Фалеса
превращении воды в некую мысленную среду (подобное представление -
продукт модернизации, подгонки Фалеса под Гегеля, который не видит
97
иного, кроме мысли, генерализатора свойств и процессов, не знает иной,
кроме лингвистической, модели), не кажется справедливым и основное
суждение: «берется не чувственная вода в ее особенности». Против этого
говорит сам факт дальнейших усилий философской мысли греков, ибо уже у
Анаксимандра мы находим попытку снять это ограничение «особенным» как
реально существующее ограничение. Равным образом преждевременно
поднимается Гегелем вопрос о различении абсолютного и конечного в
гносеологическом плане. Положение Фалеса, его модель исключают
постановку этого вопроса в плане гносеологии, в плане противопоставления
материи и сознания. Оно допускает только онтологическую постановку
вопроса о наличии общего в вещах природы.
На наш взгляд, Фалес, отбросив средства опредмечивания мифологии,
не смог все же сделать это последовательно. И его «вода» - в равной степени
и естественная, и искусственная - знаковая чувственность. Как знак,
опредмечивающий всеобщее, «вода» - истинно философское нововведение.
В смысле естественной чувственности вода, как одно из веществ реального
мира, играет примерно ту же роль, что «чуринги», «табу» и многие другие
вещные средства опредмечивания, представляет собою дань сознанию
мифологического периода.
Это ограничение «особенным», связанное с естественно-чувственной
постановкой вопроса, важно в пределах милетской школы. Отсутствие же
различенного гносеологического плана - общее всем милетцам, да и
не только им.
Отсутствие в учении Фалеса различения онтологического и
гносеологического планов вызывает множество неправомерных
модернизаций. Особенно отличается этим Гегель. Дело в том, что у самого
Гегеля как рафинированного идеалиста существует лишь план
гносеологический, которого как раз нет у Фалеса. Попытка атаковать
проблему с негодными средствами ведет к тому, что Гегель слишком многое
приписывает Фалесу, вплоть до единства мысли и бытия. В «Диалектике
природы» Энгельс оценивает взгляды Фалеса как первоначальный
стихийный материализм, это подтверждается и дальнейшим развитием
98
философии. Оценка весьма тонко схватывает истинное положение дел. Здесь
нет еще материализма как осознанного философского направления,
философской партии - это философский материализм в возможности:
философия, начинающая с определения бытия.
Характерные черты философии Фалеса - постановка вопроса в
универсальном плане, отнесение свойств и качеств по вещам внешнего мира,
- могут быть объяснены только использованием новой, не употреблявшейся
в мифе модели. То обстоятельство, что у Фалеса нет теории познания и сам
присущий стихийному материализму упор на объективность всех качеств,
вынуждает указывать на денежную модель как на единственно возможный
источник такой постановки вопросов. Именно здесь, в отношениях
товарообмена, мы встречаем нарисованную Фалесом картину: вещи-товары
обладают универсальным свойством, позволяющим сводить их к одному
основанию. Правда, у Фалеса денежная модель использована далеко не
полно: взяты лишь идея универсальности и идея принадлежности вещам
универсальных свойств. В остальном же философия вращается в привычной
для мифа проблематике. Так, Фалес говорит о богах, но они у него уже не
есть личные существа, а лишь свойства мира. «Похоже, - замечает Джонс, -
что Фалес, говоря будто бы вещи полны богов, меньше всего делал
теологическое заявление. Напротив, как это ни парадоксально, он
решительно отвергал божественную причинность, считал, что вещи для
движения и изменения не требуют внешней божественной силы, но
движутся сами по себе естественной силой в них самих» (42, с. 34).
Гегель усматривает философский подвиг Фалеса в том, что
«требовалась большая умственная смелость для того, чтобы отвергнуть эту
полноту существования {речь идет о мифе - М.П.) природного мира и
свести ее к простой субстанции, которая, как постоянно пребывающая, не
возникает и не уничтожается, между тем как боги имеют теогонию,
многообразны и изменчивы. В положении, что этой сущностью является
вода, успокоена дикая, бесконечно пестрая гомеровская фантазия, положен
конец взаимной несвязности бесчисленного множества первоначал» (40, с.
160).
99
Этот подвиг Фалеса - введение абсолютного, притом абсолютного как
устойчивого - объясним только из свойств денежной модели. Здесь, как и в
философии Фалеса, пестрый, подвижный мир человеческих желаний и
стремлений переведен через регулирование в предметную форму,
представлен как объективное устойчивое свойство вещей-товаров, свойство,
измеримое в едином эквиваленте. И та субстанция, о которой говорит
Гегель, есть, по всей вероятности, стоимость, за которой стоит основание
всех генерализаций - абстрактный человеческий труд, сила субъекта.
2
Анаксимандр из Милета (610-546 гг. до н. э.), современник и ученик
Фалеса, впервые изложил свое учение в письменной форме: «Из тех эллинов,
которых мы знаем, он первый дерзнул дать письменное сочинение о
природе» (Фемистий, ог. XXVI, 317). Из этого и других приписываемых
Анаксимандру сочинений сохранился только один фрагмент. Из этого
фрагмента, а также из свидетельств древних, восстанавливается более
богатое структурой философское учение, чем учение Фалеса. Как и учение
Фалеса, философия Анаксимандра носит чисто объективный,
«натурфилософский» характер.
Атеистически-материалистическую тенденцию в космогонии
Анаксимандра отмечают многие. А. Введенский говорит, что «космогония
Анаксимандра есть первая попытка объяснить происхождение мира научно,
а не теологически» (43, с. 27). Корнфорд, который, по мнению Томсона (25,
с. 171), материалист в своих работах по досократикам и идеалист в работах
по постсократикам, видит в космогонии Анаксимандра нечто связанное
структурно с теогонией, но атеистическое по своей сущности: «Важность
этой космогонии не столько в том, что она содержит, сколько в том, что она
отбрасывает. Космогония отделяется от теогонии. Нет ни слова о богах или
сверхъестественных агентах» (44, с. 19). Материалистический характер
Анаксимандровых объяснений отмечает также Гегель: «Его философские
мысли не отличаются широтой и не достигают определенности... его
100
предметное начало (άπειρον)... не выглядит материально, и оно не может
быть принято за мысль; ясно, однако, из всего другого, что он понимал под
ним не что иное, как материю вообще, всеобщую материю» (40, с. 166, 167).
Энгельс относительно этого места замечает: «Гегель правильно передает это
бесконечное словами «неопределенная материя» (8, с. 194). Кронер, хотя и
уверяет, что Анаксимандр, якобы, «приблизился к концепции о высшем как
невидимом» (35, с. 82), все же вынужден признать, что «его концепция
бесконечного не имеет платоновской идеалистической окраски; она связана
с действительной жизнью людей, которые живут в космосе и зависят от
космического порядка времен» (с. 86).
Центральной проблемой философии Анаксимандра выступает
проблема άπειρον - всеобщего, опредмеченного лишь через знак,
непрерывного, все содержащего в себе начала. Что касается происхождения
термина, то весьма затруднительно указать его источник. Возможно, как это
отмечает Блонский, термин άπειρον взят Анаксимандром у орфиков (χάος
άπειρον) (37, с. 14). Однако споры вокруг первоначала Анаксимандра
касаются не столько происхождения термина, сколько его содержания.
В απζφον Анаксимандра мы прежде всего усматриваем попытку снять
ограниченность учения Фалеса как в смысле связи с «особенным» (вода), так
и в смысле двойного, характерного для мифологии, через знак и вещь
опредмечивания. Первое ведет к расширению установленных Фалесом
предметных границ абсолютного до современных пределов. Второе -
устанавливает научный тип опредмечивания «понятий невидимых и
неслышимых», в которых используется лишь знак, не имеющий доступных
органам чувств соответствий в вещном мире. Вместе с άπειρον
Анаксимандра в философию входит категория сущности как
детерминированная абсолютная структура связей, не всегда доступная для
чувственного восприятия арена невидимых и неслышимых сил,
противоположностей, отношений.
На наш взгляд, наиболее полными и близкими к современной
терминологии характеристиками άπειρον являются свидетельства Плутарха и
Августина. «Анаксимандр, друг Фалеса, - пишет Плутарх, - утверждал, что
101
в беспредельном заключается всякая причина всеобщего возникновения и
уничтожения» (Строматы, 2) [64]. Августин рассматривал Анаксимандрово
начало несколько иначе: «Анаксимандр не выводил все из одной вещи, как
Фалес из влаги, но полагал, что каждая вещь рождается из своих
собственных начал. Эти начала отдельных вещей, по его убеждению,
бесконечны, и они порождают бесчисленные миры и все, что только в
последних возникает. И эти миры, по его мнению, то разрушаются, то вновь
рождаются, причем каждый из них существует в течение возможного для
него времени. И он также в этих делах ничего не уделяет божественному
уму» (О Граде Божием, VIII, 2).
При солидном налете модернизации, Плутарх и Августин видят
беспредельное через призму лингвистической модели, эти характеристики
схватывают, как нам кажется, основное: за окружающей нас очевидной
единичностью вещей и процессов в пределах этой единичности существует
нечто всеобщее и бесконечное, связывающее, определяющее, диктующее
миру формы его существования, - существует всеобщая причинная связь.
Следует отметить, что основные как древние, так и новые толкования
άπειρον (по Бюсгену и Маковельскому, их четыре), в общем, остаются в
пределах основного, приведенного выше. Эти толкования пытаются
уточнить, наметить связи с новой или даже старой мифологической
проблематикой, конкретизировать άπειρον. Такие попытки, плодотворные в
смысле появления новых категорий, не могли достичь каких-либо
определенных результатов, поскольку ими выхватывается та или иная
сторона беспредельного, сторона обычно важная, но не охватывающая
начало в целом как недоступное конкретизации последнее понятие
онтологии.
Представители взгляда μίγμα [65], идущие от техноморфной модели,
видят в άπειρον механическую смесь вещей, теряя при этом органическое их
единство. В наиболее чистом виде этот взгляд возбуждает упреки в скрытом
желании вернуться к мифологическому способу опредмечивания.
Непосредственно с денежной моделью связан взгляд /ncraf ύ (между) -
поиски «среднего», принимаемого за первовещество, но при этом
102
обладающего вполне определенными и доступными для органов чувств
свойствами. Поиски «среднего» во многом способствовали прояснению
вопроса о противоположностях. Уже у Анаксимена вопрос о «среднем»,
теряя чувственную почву, превращается постепенно в вопрос о «первых
противоположностях».
Не менее плодотворна была попытка толковать беспредельное через
призму лингвистической модели как ϋλη [66], в аристотелевском духе.
Понятое как материя беспредельное немедленно порождает постановку
вопроса о действительном и возможном, о форме и вещи. Представители
взгляда φύσις αόριστος [67] считали беспредельное чем-то совершенно
неопределенным и, вероятно, ближе всего подходили к объемным границам
термина, хотя такой подход давал для философии сравнительно немного.
В «беспредельном» Анаксимандра более поздние философские учения
получили последнее понятие онтологии - абсолютное как таковое, попытки
изменить которое, хотя и не достигали успеха, но и не проходили бесследно,
порождая массу ценнейшего материала различений, которые стали со
временем полноправными категориями.
Второе важное отличие Анаксимандра от Фалеса в том, что у
Анаксимандра более явственно проступает онтологическая структура мира.
Симплицием сохранен единственный фрагмент из работ Анаксимандра: «А
из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются согласно
необходимости. Ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают
возмездие друг от друга в установленное время» (Phys., 24, 13). В
зависимости от разночтений рукописи (в одной из рукописей отсутствует
άλλήλοι? - друг другу, друг от друга) возможны различные толкования этого
отрывка, но любое толкование дает интересный материал вторичных
структурных различений в пределах απζιρον.
Во-первых, одной из характеристик процессов перехода в единично-
определенное усматривается диалектика, внутренне присущая
беспредельному в его элементах, как закономерное, необходимое.
Во-вторых, сознательно или бессознательно, за неимением терминов
или из требований стиля, свойства бесконечного связываются с конечными
103
понятиями этического ή δίκη (справедливость). Последнее может быть
понято как образное определение естественной необходимости в
противоположностях справедливого - нечестному: т.е. негативно, скрыто
требует, наряду с необходимостью, введения случая, а с ним и
вероятностной трактовки мира, что подмечено уже Аристотелем
(Метафизика, 1069 в). Обращение к этическому можно понять как первую
попытку различить динамическое и ценностное, хотя такое предприятие
требовало бы знакомства с субъективной проблематикой. Поэтому, по
нашему мнению, появление этических понятий во фрагменте Анаксимандра
связано с отмеченной древними любовью его к «чересчур поэтическим
выражениям». Во всяком случае, не могут считаться сколько-нибудь
серьезными попытки толковать отрывок в моральном плане (см. 45, с. 167;
37, с. 10).
В-третьих, несмотря на явную модернизацию в переводах,
использующих термин «вещь», во фрагменте усматривается намек на
неоднородность беспредельного, на наличие в нем сравнительно устойчивых
элементов, которые, с одной стороны, возникают и уничтожаются, а с
другой, если принять во внимание άλλήλοίς, - воздействуют друг на друга,
наказывают и несут наказание в установленное время, законно
взаимодействуют. Тем самым, взятое в движении, изменении, бытие
беспредельного понимается Анаксимандром потехноморфной модели.
Как и Фалес, Анаксимандр связан с денежной моделью, и его
философия может быть понята как попытка более полного использования
этой модели. Поскольку, однако, денежная модель сама по себе не дает
оснований детализировать структуру связей всеобщего и единичного, усилия
Анаксимандра направлены на вовлечение некоторых дофилософских
моделей, в частности, техноморфных. Диалектический момент учения
Анаксимандра - взаимодействие бытии, их наказание друг другом - момент
явно инородный с точки зрения денежной модели. Это инородное включение
помогает Анаксимандру осознать важную деталь денежной модели -
отношение. «Беспредельное» Анаксимандра уже гораздо менее связано с
устойчивым, качественным, оно может равно пониматься и как свойство, и
104
как отношение. В этом важное отличие Анаксимандра от Фалеса, что
проявляется в подходе к абсолютному не как к какой-то единичной
реальности, но как к единому во многом.
Конечно, здесь еще нет осознанных попыток пройти к сути денежной
модели, к абстрактному труду, но здесь намечен весьма плодотворный для
истории философии сдвиг мысли к абсолютной трактовке циклических
изменений, который более явственно проявится у пифагорейцев, у
Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита. С другой стороны, при использовании
денежной модели в пределах основной, и для внесения в нее момента
структурности техноморфных моделей, явственно намечается смещение
проблематики с вопросов происхождения на вопросы функционирования
существующего. Это направление усиливается в философии Анаксимена.
3
Последним философом милетской школы был Анаксимен, ученик и во
многом последователь Анаксимандра. Расцветом его деятельности считают
обычно середину VI в. до н. э., хотя в определении дат его рождения и
смерти очень много неопределенного. Во всяком случае, его деятельность
имела место до 494 г. до н. э., когда Милет был разрушен персами.
На первый взгляд учение Анаксимена представляется явным шагом
назад по отношению к учению Анаксимандра, поскольку, провозгласив
началом воздух, беспредельный по величине, но ограниченный в своих
качествах (Плутарх. Стром., 3), Анаксимен как бы возрождает
ограниченность учения Фалеса как в плане онтологическом - начало
связывается с «особенным», так и с точки зрения типа опредмечивания.
Однако большая популярность учения Анаксимена в древности, явная
генетическая связь с этим учением, с одной стороны, Гераклита, а с другой -
Анаксагора и атомистики в целом, - все это требует очень осторожных
оценок, требует внимательного подхода к особенностям системы
Анаксимена.
105
Анаксимен не выходит за рамки общей для милетцев модели, осознает
предмет через функцию денег. И пока речь идет об этих ограничениях, об
отсутствии гносеологической проблематики, Анаксимен действительно
менее рафинированный философ, чем Анаксимандр, ибо дальше
Анаксимандрова απεφον как конечного понятия онтологии вообще идти
некуда - этим понятием охватывается вся совокупность природных
процессов. После Анаксимандра речь могла идти только о детализации
беспредельного, поисках уточнений структуры этого беспредельного.
Вместе с тем с точки зрения денежной модели Анаксимен правомерно
возвращается к связи с «особенным». В товарных отношениях, понятых
через функцию денег, всеобщим эквивалентом выступает золото. И этот
момент связи с веществом, доступным органам чувств, оказывается
довольно устойчивым. Гераклит уже прямо проводит параллель между
таким началом и золотом.
В понятие структуры первоначала Анаксимену удается внести три
важнейших для дальнейшего развития философии дополнения: мысль о
качественной определенности, мысль о связи качества и количества, мысль
о наличии между всеобщим и единичным промежуточных звеньев -
«особенного». Это и позволяет говорить об Анаксимене как о глубоко
оригинальном и самостоятельном философе.
Гегель истолковывает учение Анаксимена весьма противоречиво: с
одной стороны, Анаксимен, по Гегелю: «Вместо неопределенной материи
Анаксимандра снова выдвигает определенную стихию... Он, должно быть,
находил, что материя необходимо должна обладать чувственным бытием»
(40, с. 169). Со стороны же другой: «Анаксимен очень хорошо показывает
природу принимаемой им первосущности на примере души и как бы
обозначает, таким образом, переход натурфилософии в философию сознания
или отказ от предметного способа понимания первосущности» (там же, с.
170). Такой разнобой оценок далеко не случаен. Если исключить
идеалистическое искажение взглядов Анаксимена (древние более или менее
определенно свидетельствуют о том, что для Анаксимена душа и воздух не
есть равноправные стихии, а первая, как и боги, и вещи, происходит из
106
воздуха), то в гегелевской оценке останется все же много справедливого.
Действительно, Анаксимен ищет определенности в беспредельном
Анаксимандра, вернее, пределов этого беспредельного, и, вводя в качестве
начала а-цр, достигает своей цели. Прав Гегель и в том, что намеченный
Анаксимандром «отказ от предметного понимания первосущности»
характерен и для Анаксимена, если под «предметным пониманием» разуметь
нечто имеющее в основе чувственность.
По Ипполиту: «Анаксимен... сказал, что начало есть беспредельный
воздух, так как он есть источник возникновения всего, что существует,
существовало и будет существовать, [в том числе] и богов, и божеств,
остальные же [вещи] [возникают по его учению] из того, что произошло из
воздуха. Вид же воздуха таков. Если он [распределен] вполне равномерно, то
он незаметен для зрения, делается же он ощутимым вследствие холода,
тепла, влажности и движения. А в движении он находится всегда. Ибо если
бы он не двигался, то он не производил бы всех тех перемен, которые он
производит» (Refutatio I, 7).
Плутарх сообщает: «Анаксимен сказал, что воздух есть начало всего и
что он бесконечен по величине, но ограничен по своим качествам. Все
[вещи] возникают сообразно некоторому сгущению его и, с другой стороны,
разрежению. Движение же вечно» (Стром., 3).
Цицерон приводит важную для понимания связи всеобщего и
особенного деталь: «Анаксимен [говорил], что воздух бесконечен, а то, что
из него возникает, конечно: возникает же [из него] земля, вода, огонь, а
затем уже из них [образуется все] остальное» (Academica, II, 37, 118).
По сравнению с Анаксимандром, новым здесь является прежде всего
введение качества как такового, качественной ограниченности. Хотя
качество здесь и появляется в одеждах древней генетической модели, оно -
дополнительный шаг в становлении проблематики, связанной с денежной
моделью: именно о качестве идет речь в отношениях товарообмена.
Второй новой деталью, которая, на наш взгляд, непосредственно
связана с введением в начало качественной определенности, является, с
одной стороны, попытка объяснить эту определенность через степень
107
качества (теплое и холодное), а с другой - уже просто в количественных
терминах (сгущение и разрежение), и тем самым объяснить механизм
перехода от всеобщего к единичным вещам. Бернет по этому поводу пишет:
«Введение в теорию сгущения и разрежения - важное нововведение. В
самом деле, это введение впервые делает милетскую космологию
завершенной, поскольку теория, объясняющая все формы единой
субстанцией, вынуждена рассматривать все различия количественными.
Чтобы сохранить единство первичной субстанции, приходится утверждать,
что все различия имеют в основе большее или меньшее присутствие этой
субстанции в данном месте» (20, с. 73-74).
Нам кажется, что в этом вопросе самому Бернету присуща некоторая
ограниченность, известные модернистские шоры, не позволяющие ему
полностью оценить нововведение Анаксимена. Дело в том, что и
комментаторы, и переводчики (особенно в этом смысле отличаются
англичане) упорно используют уже применительно к Анаксимандру термин
«вещь» и тем самым запутывают и без того неясный вопрос. В
сохранившемся фрагменте Анаксимандра о вещах, которые в свое время
получают возмездие за нечестивость (Симплиций, Phys., 24, 13), слово «ουσι»
лишь весьма условно может быть переведено тем или иным падежом от
«вещи», скорее это нечто отличенное от начала «ών» (cf ών 8è ή yevœiç Ιστι
τοις ουσι).
Анаксимен здесь идет дальше Анаксимандра именно в уточнении тех
закономерностей дискретного порядка, которые только намечены в «οντά»
Анаксимандра. Рассматривая их носителями качеств, результатом сгущения
и разрежения, Анаксимен делает новый шаг к «вещи», хотя сама
возможность применения этого термина к учению Анаксимена весьма
сомнительна. Если учесть модернизирующее влияние термина «вещь»,
который мы встречаем и у древних, и у новых комментаторов, то заслуга
Анаксимена перед философией резко возрастает. Анаксимен намечает два
пути перехода от всеобщего к единичному: через степень качества (по этому
пути пойдет позже Гераклит), и через количественную неравномерность (по
этому пути пойдут Анаксагор и атомисты). Последнее - интерпретация
108
качества количественными отношениями чего-то третьего (воздуха) и есть,
собственно, суть отношений товарообмена, осознанных через функцию
денег. Вместе с тем, такой подход к качеству намечает путь его осознания
как формы существования вещи. Именно по этому пути, подчеркивая свою
связь с Анаксименом, пойдет позднее в своем учении Анаксагор.
Понимание связи всеобщего и «особенного» - посредствующего звена
между всеобщим и единичным - довольно противоречиво. Как мы видели в
свидетельстве Цицерона и менее определенно у Ипполита, земля, вода, огонь
выступают на правах посредников. Единичное происходит не
непосредственно из воздуха, но из земли, воды и огня. С другой стороны, у
Аэция, например, воздух оказывается на тех же правах «особенного», что и
вода: «... снег же бывает, когда к влаге примешивается немного воздуха»
(Аэций, III, 4, 1) [68]. Кроме того, это выделение «особенного» никак не
вытекает из денежной модели и вводится рассуждением по модели
генетической. Эта третья особенность философии Анаксимена оказывается
инородным включением и не находит дальнейшего развития.
Анаксимен дает в своих противоположностях теплого и холодного,
разреженного и сгущенного, а также в своем противопоставлении воздуха
земле, воде и огню, первичную сеть различений предмета, которая в
известных пределах может быть использована и при анализе предмета через
посредство языка. В этих различениях то, что позднее Аристотель назовет
материей, перестает быть монолитом, той или иной однородной стихией.
Связь всеобщего и единичного может быть понята либо как присутствие
всеобщего в единичном, либо как нечто вне единичного, внешнее ему.
Первое понимание есть, по сути дела, эмбрион учений Гераклита и
Анаксагора. Второе - вводит гносеологическую проблематику.
В пределах общей милетцам денежной модели Анаксимен пытается
поставить вопросы генезиса мира единичных вещей, используя для этого
древнюю генетическую модель. В этих попытках видоизменяется сама
модель. От характерной для мифа «первичной пары», вступающей в
половую связь, остаются лишь пары универсальных противоположностей
(теплое и холодное, сгущенное и разреженное), диалектика борьбы которых
109
порождает мир единичных вещей. Соответственно, общая картина мира
приобретает все более устойчивую форму. Если у Фалеса мир мог еще
мыслиться как возникающий, то у Анаксимена миру указаны пределы
качественных различий, связь качественного с количественным,
определенного с неопределенным.
* * *
В целом милетская школа делает первые шаги в освоении денежной
модели, использует проявляющееся в товарных отношениях универсальное
свойство вещей объекта иметь полезные для субъекта качества, измеримые в
едином эквиваленте. Наряду с качественным планом трактовки
универсального, уже у Анаксимандра в философскую проблематику
вводится отношение, вводится по техноморфной модели. У Анаксимена в
его теории сгущений и разрежений оба плана оказываются в диалектической
связи через механизм генетической модели. Вместе с отмеченным уже
вкладом милетцев (выход к универсальному, объективизация мира), следует
отметить и вклад методологический - абсолютизацию, т.е. отвлечение от
древних, не обладающих достоинством универсальности моделей,
отдельных элементов структуры и трактовку этих элементов как
универсальных. Как мы уже говорили, - диалектика движения у
Анаксимандра (взаимодействие бытии) и диалектика возникновения у
Анаксимена - инородные для денежной модели включения, генетически
связанные с другими моделями. Но здесь они трактуются уже как
универсальные отношения. С этим явлением универсализации древних
моделей через опосредование их моделями заведомо универсальными мы
встретимся почти во всех учениях.
Развитие милетской школы едва ли объяснимо по линии идеологии,
хотя, конечно, в осознании новых социальных отношений - абстрактных
отношений товарообмена - была, прежде всего, заинтересована социальная
прослойка торговцев. В этих учениях мы не находим социальной
заостренности, четкой партийности.
ПО
3. Учение пифагорейцев о пределе и неопределенном
Пытаясь оценить вклад Пифагора и его последователей в осознание
предмета философии и в философскую подготовку осознания причинности,
мы оказываемся перед несколько неожиданным затруднением. Дело в том,
что здесь перед нами не только научно-философское направление, но и
своеобразный политико-философски-религиозный институт, который с
равным правом может быть назван и партией, и орденом. По характеру своей
политической деятельности Пифагорейский союз выражал интересы
реакционной аристократии. Деятельность Союза начинается в конце VI в. до
н. э. и, видоизменяясь, продолжается около двух столетий. Основные
философские догмы Союза не ясны ни по времени возникновения, ни по
принадлежности тому или иному лицу. Большинство этих догм
приписывается основателю Союза Пифагору (580-500 гг. до н. э.) и его
ученику Гиппасу. С именем последнего древние (Диоген, Ямвлих, Климент)
связывают разглашение основ пифагорейского учения [69].
Ученик Корнфорда Равен [70], как и другие историки философии,
различает в эволюции пифагореизма два этапа: доэлиатский и
постэлиатский. До элеатов в пифагореизме намечается и развивается
дуализм между определенным, покоем, единством, божественным и
неопределенным, движением, множеством, злом. После элеатов Филолаем
предпринята попытка диалектически синтезировать предел и
неопределенное в единой системе (46, с. 176-179).
Возникновение пифагорейской философской теории, связанной с
политическим действием и существующей ради этого действия, интересно в
нашем плане исследования во многих отношениях. Здесь мы впервые могли
бы встретиться с попыткой связать в единую систему, а следовательно, и
осознать связь субъективного и объективного определений. К сожалению, ни
древние, ни новые авторы не делали попыток рассмотреть учение под этим
углом зрения, а дошедший до нас материал практически вынуждает
111
отказаться от анализа прикладной части и ограничиться только частью
научно-теоретической.
Важнейшей заслугой пифагореизма является осознание
онтологической дискретности процессов и связанная с этим попытка
обосновать правомерность количественной интерпретации качества в числах
- особой системе дифференцированных знаков, подчиняющейся крайне
немногочисленным правилам-аксиомам. «Математические отношения, -
пишет Фаррингтон, - занимают теперь место физических процессов или
состояний вроде сгущения, разрежения, напряжения» (32, с. 42). Последняя,
интерпретационная сторона, дает, собственно, начало математике как
дедуктивной, основанной на немногочисленных аксиомах науке. Эта
сторона пифагореизма исследована весьма тщательно как древними, так и
новыми авторами.
Несколько менее детально исследована философская сторона дела [71].
К тому же, характерной чертой исследований в этой области выступает
решительное расхождение мнений, в основе которого лежит то, что Гегель
называет «загадочностью определения посредством числа». Самому Гегелю
эта загадочность не помешала, правда, использовать момент и уложить
ученика пифагорейцев в прокрустово ложе триад. Но здесь он только
продолжал традицию сравнительно вольного обращения с наследством
Пифагора, идущую от Платона и Аристотеля [72].
Из древних наиболее полный анализ пифагореизма мы находим у
Аристотеля. Аристотель отмечает: «У чисел они усматривали... много
сходных черт с тем, что существует и происходит, - больше, чем у огня,
земли и воды... они видели в числах свойства и отношения, присущие
гармоническим сочетаниям... элементы чисел они предположили элементами
всех вещей и всю вселенную признали гармонией и числом... Во всяком
случае, у них, по-видимому, число принимается за начало и в качестве
материи для вещей, и в качестве [выражения для] их состояний и свойств, а
элементами числа они считают чет и нечет, из коих первый является
неопределенным, а второй определенным; единое состоит у них из того и
другого, - оно является и четным и нечетным» (Метафизика, 985в-986а).
112
Аристотель также более точно высказывается о той стороне предмета
философии, которой занимаются пифагорейцы и математики в целом: «В
отношении сущего примером служит то рассмотрение, которому математик
подвергает объекты, полученные посредством отвлечения. Он производит
это рассмотрение, сплошь устранивши все чувственные свойства, тяжесть и
легкость, жесткость и противоположное ей, далее - тепло и холод и все
остальные чувственные противоположности, а сохраняет только
количественную определенность и непрерывность, у одних - в одном
направлении, у других - в двух, у третьих - в трех, а также свойства этих
объектов, поскольку последние количественно определены и непрерывно, но
не с какой-нибудь другой стороны» (Метафизика, 1061а). Относительно
этого места Ленин отмечает: «Здесь точка зрения диалектического
материализма, не случайно, не выдержано, не развито, мимолетно» (1, с.
334).
Итак, выраженная мимолетно точка зрения диалектического
материализма состоит в том, что предметом математических операций
является не сущность в целом, не предмет, но лишь количественная
определенность и непрерывность, а также свойства, поскольку последние
определены и непрерывны. Говоря короче, мы имеем здесь дело лишь с
частной стороной установленных Анаксимандром пределов, а именно - со
стороной, где качественное допускает количественную трактовку, то есть в
пределах динамического в той его части, где качественная определенность
действительных и возможных форм существования вещей, определенность
дискретная, допускает трактовку посредством количественной
определенности универсальных и непрерывных свойств - силой.
Любопытно отметить, что и Аристотель отмечает эту деталь, говоря,
будто пифагорейцы были первыми, кто начал заниматься формальной
причиной: «и относительно сути (вещи) (nepl του τι eoriv) они начали
рассуждать и давать определение, но действовали слишком упрощенно»
(Метафизика, 987а). Что речь у пифагорейцев идет именно о динамическом,
подтверждает их учение о противоположностях неопределенного и
определенного (предела), чета и нечета {άπειρον και πέρας, αρτιον και
113
περιττον). Неопределенное, нечетное понимается пифагорейцами (во всяком
случае, Филолаем) как неопределенность, ограниченная пределами. С
пониманием неопределенного как промежуточного между пределами мы
встречаемся позднее у Аристотеля (О небе, II, 293а), где πέρας (предел)
противопоставляется του μεταξύ. У Филолая понятие неопределенного как
ограниченного интервала использовано при определении куба как
состоящего из трех равных интервалов {μαθηματικον μέγεθος τριχή διασταν εν
тетраЫ) (Theolog. arithm., 74). Аристотелем величина рассматривается как
неопределенное, ограниченное пределом: «Из этих начал (предела и
беспредельного) образуется величина (εξ то τώνΙ -πέρατος και άπειρον I ilvai
μέγεθος)» (Метафизика, 990а). Крайне любопытно и еще одно свидетельство
Аристотеля (Физика, 213в), где промежуток, интервал отождествляется с
пустотой и служит как для отделения и различения предметов, так и для
разграничения природы чисел.
Вместе с тем такой подход по линии динамического объективного
определения вряд ли можно считать исходным моментом пифагореизма. Он
понятен для постэлиатского периода, но выглядит, поистине, загадочно для
времени Пифагора. Тем более что в пределах товарообмена мы находим
нечто невероятно близкое числам пифагорейцев - монетарную систему
единиц, в которых и идет интерпретация количества качеством. Связь с
силой субъекта делает правомерным перенесение числа в динамику, это
достаточно хорошо показано наукой, - однако связь первых пифагорейцев с
денежной моделью делает такой выход в динамику субъектно-объектных
отношений весьма проблематичным. Любопытно отметить, что у элеатов это
квантование количества, выраженное и в монетарной системе единиц, и в
философии пифагорейцев, идет именно в плоскости денежной модели и
сразу же стабилизирует бытие, делает его неподвижным.
Выраженный в работах Филолая подход к противоположностям не
позволяет рассматривать их текучими, тождественными, борющимися.
Намечая границы движения как целостного и конечного во времени акта,
противоположности пифагорейцев не захватывают само движение. Эта
метафизическая сторона в учении пифагорейцев справедливо отмечалась
114
Гегелем, хотя, и это также следует отметить, без выполненной
пифагорейцами операции остановки, омертвления движения вряд ли был бы
возможен диалектический подход к движению, в частности, анализ
движения Аристотелем.
Все эти стороны учения пифагорейцев о противоречии предела и
неопределенного вносят существенные коррективы в милетскую модель
структуры мира. У пифагорейцев улавливается уже не только результат тех
или иных изменений, но и сам процесс изменения как некий промежуток
(του μεταξύ) между пределами. Исходное и результат рассматриваются как
прерывы непрерывного, пределы, ограничивающие неопределенное, как
дискретные точки, в которых количественное и качественное совпадают.
Связь же пределов, исходного и результата дается как ограниченное
неопределенное, разграничивающее природу точек-чисел, если речь идет о
знаковой системе, или вещей-бытий с их количественной стороны, если речь
идет о предметном содержании.
У пифагорейцев философия впервые осознает в предмете процессы
изменения как акты, то есть, как ограниченно непрерывное. Именно
процессы-акты в их общих свойствах (начало - непрерывный процесс -
завершение) становятся той частью предмета философии (его динамической
структуры), которая привлекает особое внимание пифагорейцев. Филолай
замечает: «Мы никогда не узнали бы начала, будь оно всегда
неограниченным» (Ямвлих, ad Nie. arithm., 7, 24). У Аристотеля эта мысль
высказывается уже на правах аксиомы: «Все ограничено в трех отношениях
- конец, середина, начало» (О небе, 1, 268а). В противоречии определенного
и неопределенного, дискретного и непрерывного пифагорейцам впервые
удается выразить движение с его количественной, позволяющей
генерализацию по силе стороны.
Ту же мысль о процессе-акте как об основном предмете философских
усилий пифагорейцев нетрудно обнаружить и в пифагорейской мистике
чисел, где тройка объявляется числом всего, поскольку в ней есть начало,
середина и конец - то παν και та πάντα τοις τρισιν ώρισται τελευτή γαρ και
αρχή τον αριθμόν eyei τον του (О небе, 1, 268а).
115
3
Это новое, внесенное пифагорейцами в осознание предмета
философии, связано с абсолютизацией объективной стороны (актуального
преобразования) процесса регулирования как конечного во времени акта
перехода вещей из одной формы существования в другую. Исходная
структура денежной модели, по которой свойства мыслятся неотъемлемыми
от вещей, диктует и план абсолютизации техноморфной модели: берется
лишь объективная сторона - переход из формы в форму и исчезает сторона
субъективная - единство эндогенно-ценностного, чувственного и
динамического процессов и регулирования.
Пифагорейцы, первый представитель пифагореизма в литературе
Филолай, в частности, решительно высказываются за наличие предметов
чисел и их отношений в самих вещах, что, собственно, благодаря этому
человек и способен познавать сущее: «Вечная сущность вещей и их природа
доступны лишь божественному, а не человеческому познанию;
человеческому уму было бы невозможно познать что-либо сущее, не будь
существенного в самих вещах (των πραγμάτων) (Стобей, I, 21, 7d). Это
замечание Филолая важно в нескольких отношениях.
Во-первых, несмотря на теологический налет, Филолаем утверждаются
вещи как единственные носители предмета числа и противоположности
определенного и неопределенного.
Во-вторых, Филолай высказывает мнение, на наш взгляд справедливое,
что сущее, как недоступное чувственному восприятию, познаваемо
человеком лишь постольку, поскольку оно интерпретировано определенным
количеством, познаваемо со стороны тех свойств объекта, которые, по
словам Аристотеля, «количественно определены и непрерывны». На
признании этого факта и стоит, собственно, наука, интерпретирующая
предмет в универсальных системах единиц.
В-третьих, для пифагорейцев основные области гносеологии еще не
разделены, сознание еще не опредмечено как особая и в известных пределах
116
суверенная знаковая реальность. И если для основных партий в философии
такое раздельное опредмечивание динамического (бытия) и производного от
него логического (сознания) является необходимым предварительным
условием, то отсутствие его у пифагорейцев предопределяет неясность их
позиции в отношении к последним понятиям гносеологии.
Относительно этого третьего пункта следует заметить, что выход
пифагорейцев в область динамического создавал предпосылки для осознания
логической структуры и использовался идеалистами как доказательство
«закономерного» и «неизбежного» перехода от материализма к идеализму.
Гегель, к примеру, пишет: «Пифагорейская философия представляет собою
переход от реалистической философии к интеллектуальной. Ионийцы
говорили: сущность, первоначало есть нечто материально определенное.
Ближайшее дальнейшее воззрение должно было состоять в том, чтобы
абсолютное понималось не как природная форма, а как форма определения
мысли, и, кроме того, определения должны быть теперь положены, между
тем как начало ионийцев было совершенно неопределенным» (40, с. 185).
На наш взгляд, оценка Гегеля - лишь одно из проявлений
модернизации древних, когда к ним идут с готовой схемой. Сама постановка
вопроса не выдерживает критики: у пифагорейцев попросту негде было бы
поставить основной вопрос философии. У них еще не используется
лингвистическая модель, а в пределах модели денежной любые
универсальные свойства, определения неизбежно трактуются свойствами и
определениями объективными, поскольку абсолютизация любого
отношения, любой структурной связи может идти только в намечаемом
денежной моделью объективном плане. Это, собственно, и подтверждается
недвусмысленным заявлением Филолая: человек мог познать сущее только
через вещи.
По нашему мнению, пифагореизм прокладывал дорогу и
философскому материализму, и философскому идеализму, создавая
предпосылки для осознания логической структуры. И не в пифагореизме, а
вне его следует искать определители позиций той или иной философской
школы, когда осознание логической структуры стало фактом.
117
Пифагорейцами обнаружено и через числовую систему знаков
опредмечено наличие, наряду с непрерывным, и прерывного. Тем самым
опредмечены процессы изменения как целостные акты, начало и конец
которых, выступая пределами, прерывами непрерывности, позволяют
интерпретировать качество количеством. В косвенной форме ими обнаружен
закон перехода количества в качество (что, кстати, и использовано Гегелем
при анализе учения в духе триад), или, вернее, дискретность качественной
определенности, вызывающая прерывы количественной непрерывности.
Последнее и позволяет «измерять» качества количеством.
В терминах нашего введения пифагорейцами обнаружен факт
дискретности форм существования вещества и строгое соответствие между
формой и вызывающими ее условиями, т.е. основа основ причинности,
основа объективного определения. Относительно этого выхода к источнику
объективного определения важно отметить, что, несмотря на случайный его
характер (абсолютизация актуального преобразования), сам этот выход
вполне оправдан, ибо и отношения товарообмена, и отношения перехода
вещей из одной формы существования в другую выразимы в едином
эквиваленте - в труде, в силе субъекта. Этим и объясняется то огромное
значение, которое имеет пифагореизм для истории человеческой мысли.
Заложенные пифагорейцами начала науки о числе сводимы, в конечном
счете, к силе как основе универсальных- генерализаций. У самих
пифагорейцев нет ссылок на силу, и опосредующее звено между
отношениями товарообмена и актуальным преобразованием процессов
регулирования дано в скрытом виде, лишь угадывается за функцией числа.
Только Марксу в его приведенном к силе субъекта анализе товарных
отношений и производительного труда удалось вскрыть истинный
фундамент универсальности.
Показательным для освоения денежной модели явлением выступает у
пифагорейцев дальнейшая «стабилизация» мира. У них вообще отсутствует
космогоническая проблематика и все вопросы решаются в рамках
атомизированных процессов изменений в некоторых пределах.
118
4. Учение Гераклита Эфесского о логосе - единой закономерности
природных, социальных и логических процессов
Начиная рассмотрение философии Гераклита Эфесского, мы
вынуждены сказать несколько слов о расположении материала. Дело в том,
что Гераклит знал уже работы Ксенофана, как это явствует из приводимого
Диогеном Лаэрцием фрагмента: «Многознание не научает быть умным,
иначе бы оно научило Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея»
(Диоген Лаэрций, IX, I, 1). Поэтому теоретическое наследие Ксенофана
следовало бы рассматривать раньше учения Гераклита, тем более, что в
последнем можно со значительной долей вероятности усмотреть следы
влияния Ксенофана, его критики мифа. Вместе с тем историко-философская
традиция, начиная с Аристотеля, видит в Ксенофане основателя элейской
школы, главные представители которой, Парменид и Зенон, жили позже
Гераклита. Традиция эта не бесспорна. А. Маковельский, например, по
этому поводу пишет: «Признание Ксенофана основателем элейской
философии покоится исключительно на дошедшем до нас маленьком
псевдо-аристотелевском сочинении, ценность которого как исторического
источника довольно сомнительна» (33, с. 87).
Гегель рассматривает элеатов до Гераклита, и это глубоко закономерно
с точки зрения философии, усматривающей абсолютное, всеобщее в духе.
Для такой философии сама история взглядов на предмет суть процесс
саморазвития и самосознания абсолютного духа, что ведет к тенденции
истолковать древние учения в плане закономерного сплывания в идеализм,
истолковать Гераклита в общем ряду как одного из выдающихся
выразителей нарастающей идеалистической тенденции. Трактовка
Ксенофана родоначальником элеатов как раз и позволяет сравнительно
безболезненно показать Гераклита выразителем общей тенденции.
Если собственно об элеатах с их своеобразной проблематикой можно
говорить, начиная только с Парменида, то картина решительно меняется. В
этом случае Гераклит предстает завершающей фигурой стихийного
119
первоначального материализма, что отмечал Энгельс (47, с. 147). Его
завершающая роль проявляется, прежде всего, в том, что в его учении
оказываются осознанными все стороны предмета философии. Пифагорейцам
удалось выделить основные элементы динамического - процессы-акты - и
исследовать некоторые общие их закономерности, наметив переход к
осознанию роли динамического в логической структуре. Заслуга Гераклита в
этом плане состоит в том, что он не только закрепился в области
динамических отношений, показав процессы-акты со стороны их
внутреннего содержания как диалектическую борьбу противоположностей,
но и прошел к логической структуре, наметив в своем учении о логосе
определяющую роль динамического для логики, вынужденной использовать
единый для природы, общества и мышления противоречивый, но и
устойчивый в этом противоречии диалектический закон-логос [73].
Таким образом, в истории греческой философии Гераклит выступает
своеобразной «командной высотой»: его истолкование с позиции
материализма или идеализма решительно меняет картину общего развития
греческой философии, да и содержание этого развития. Здесь совершенно
прав М. Дынник [74], когда замечает: «Вопрос о том, кто из двух
мыслителей - Зенон или Гераклит является «первым диалектиком», имеет не
только историческое значение, но и значение принципиальное, ибо ответ на
него зависит от самого понимания диалектики»-(48, с. 180).
При этом следует отметить известную произвольность результатов
Гераклита: внесенное им в денежную модель богатство структуры, как
правило инородной, не могло в условиях того времени быть
аргументированным. Это и объясняет действенность элеатской критики.
Мы рассматриваем Гераклита до Ксенофана, хотя ниже попытаемся
показать отличия философии Ксенофана от учения Парменида. Что же до
элеатов вообще, то анализ их учений после анализа учения Гераклита
оправдан, кроме хронологии, тем обстоятельством, что у них мы находим
критику всего предшествующего периода, в частности, и учения Гераклита.
У Гераклита философская проблематика захватывает мир мысли. Кронер, в
отличие от Гегеля, признает приоритет Гераклита: «Гераклит открыл нерв
120
мысли. Он был первым философом, который осознал, что мыслящий разум
должен подчиняться норме и закону, единому для мысли и универсума.
Конечно, этот тезис уже содержался в пифагорейской доктрине, что числа
управляют универсумом, но он содержался именно в этой частной и
ограниченной форме» (35, с. 92). Ту же мысль высказывал и Гомперц:
«Великое своеобразие Гераклита заключается не в его учении о первостихии
(вообще не в философии природы), а в том, что он первый протянул нити от
жизни природы к жизни духа, нити, которые с тех пор не прерывались, и
первый добыл всеобъемлющие обобщения, исполинской дугой соединившие
эти две области человеческого познания» (21, с. 57).
В учении Гераклита нас, прежде всего, интересует его концепция
логоса как первый продукт философского умозрения, первая категория
причинности.
1
В учении о логосе Гераклит делает попытку внести определенность в
безграничное Анаксимандра, действуя уже не в плоскости отдельных
процессов-актов, как это делали пифагорейцы, но весь мир, «космос»,
рассматривая как закономерный диалектический процесс. Этот исходный
пункт учения Гераклита дошел до нас во многих фрагментах и
свидетельствах. «Этот космос, - пишет Гераклит, - один и тот же для всего
существующего, не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он был,
есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами
потухающим» (Климент, Строматы, V, 104). Анализируя основы учения
Гераклита, уже древние подчеркивали как новые моменты, «некоторый
порядок и определенное время для перемены мира согласно роковой
необходимости» (Симплиций, Phys., 23, 33).
Чтобы уточнить природу огня и логоса как закона его изменений,
следует сразу же отметить, что духовное, «психеи», Гераклит производит от
того же огня как одну из степеней его превращений: «Психеям смерть -
121
стать водою, воде же смерть - стать землею; из земли же вода рождается, а
из воды - психеи» (Климент, Строматы, VI, 16). Этот фрагмент следует не
упускать из виду, «держать в уме» при анализе свидетельств о логосе
Гераклита, ибо слишком уж велик соблазн для идеалистов видеть в логосе
духовное начало, и, начиная с древности, мы встречаемся с попытками
показать логос как нечто, имеющее природу «психей», «божественного ума»
[75].
В этом пункте серьезнейшее отличие Гераклита от элеатов. Хотя у
Гераклита нет четкой формулировки принципа причинности и его
«необходимость» не имеет даже установившегося термина, источники
закономерности Гераклит усматривает в объективном мире, его логос не
есть закон мысли. Напротив, мысль должна подчиняться этому закону,
логосу как внешнему, объективно данному. Здесь в подходах к причинности
налицо материалистическая тенденция, искать которую у элеатов было бы
напрасным трудом. Различия здесь и в другом плане. Как это явствует из
приведенных выше фрагментов, структура в универсальное вносится в
данном случае абсолютизацией генетической модели.
Гераклит подчеркивает трудности понимания логоса и следования ему:
«Хотя этот логос существует вечно, люди не понимают его - ни прежде, чем
услышат о нем, ни услышав впервые. Ведь все совершается по этому логосу,
а они уподобляются невеждам, когда приступают к таким словам и таким
делам, какие я излагаю, разделяя каждое по природе и разъясняя по
существу» (Секст эмпирик, Adv. Math., VII, 132). «Необходимо следовать
всеобщему, но, хотя логос всеобщ, большинство людей живет так, как если
бы имело собственное понимание» (Секст эмпирик, Adv. Math., VII, 133).
Здесь мы узнаем, что логос есть единый для природы и человека закон,
основа единства мнений, понимания, что основа эта не зависит от людей и
ей необходимо следовать. М. Дынник, отмечая, что «судьба Гераклитом
определяется как логос, созидающий сущее из противоположного
движения» - €к της εναντιοδρομίας [76] (48, с. 131), приходит к
справедливому выводу: «Наиболее точным терминологическим
эквивалентом «логоса» является «диалектика» как закон развития природы
122
и общества» (48, с. 155). Томсон усматривает в логосе три значения:
«Основной смысл слова «логос» у Гераклита включает три значения:
рациональное, причинность, отношение. Логос может быть определен как
правильное проявление истинного понимания универсального закона,
управляющего природой, включая богов и людей. Это не закон истории или
эволюции; напротив, он вне времени, вечен, как мир, в котором он
действует, хотя этот мир и подвержен изменениям» (25, с. 275). Это
последнее, отмечаемое Томсоном - вневременной характер логоса - очень
важная для нас деталь, позволяющая различить в единстве логических,
общественных, природных проявлений этого закона природное как
определяющее звено. Примерно о том же говорит и Хамбургер [77], когда,
сравнивая логос Гераклита и номос софистов, отмечает, что, в отличие от
номоса, логос не может быть противопоставлен природе как нечто ей
внешнее (49, с. 9).
Указание на определяющую роль природного звена в учении Гераклита о
логосе представляется необходимым потому, что обычно эта сторона
остается в тени, а с нею и материалистический характер Гераклитова логоса,
или, вернее, связь с денежной моделью. Т. Гомперц говорит, например,
очень верные вещи: «Гераклит возвел все частные законы, подмеченные им
в жизни природы и человека, к понятию единой всемирной закономерности.
От его взора не ускользнуло господство строгого, всеобъемлющего, не
знающего исключения миропорядка. Познав и возвестив вселенскую
закономерность и безраздельное господство причинности, он отметил этим
поворотный пункт в духовном развитии человека» (21, с. 66-67). Однако,
если приглядеться к определению Гомперца, оно оказывается
недостаточным, поскольку оставляет невыясненным источник
определенности этой «единой всемирной закономерности». Секст Эмпирик,
хотя и через очки лингвистической структуры, дает довольно любопытные
детали о связи логического и природного в понятии логоса: «Не всякий
разум объявляет он судьею истины, но только общий и божественный... А
именно наш физик считает окружающую нас среду разумной и одаренной
сознанием ... Итак, втянув в себя через дыхание этот божественный логос,
123
мы, согласно Гераклиту, становимся разумными, и во сне мы теряем
сознание, при пробуждении же мы снова в уме. Дело в том, что во сне,
вследствие закрытия пор органов чувств, ум, находящийся в нас,
обособляется от окружающей его среды, теряя прежнюю тесную связь с ней;
остается единственное сообщение через дыхание, которое служит чем-то
вроде корня, и разлучившийся [со своим источником ум наш] теряет ту силу
памяти, которую имел раньше. Когда же мы снова просыпаемся, он,
высунувшись через поры органов чувств, как бы через некие окошечки, и
сойдясь с окружающей средой, облекается мыслительной силой. Итак,
подобно тому, как угли, изменяясь от приближения к огню, становятся
пылающими, удаленные же [от огня] гаснут, точно так же часть
окружающей среды, принятая нашими телами, при отдалении [от своего
источника] становится почти неразумной, при соединении же [с последним]
посредством величайшего множества пор делается однородной со
вселенной» (Секст Эмпирик, Adv. Math., VII, 127-132). Если не забывать о
происхождении психей и богов и о знакомстве Секста с проблематикой
Платона и Аристотеля, то свидетельство говорит о примате природного,
объективного, и логос Гераклита выступает всеобщим, присущим вещам и
людям, внешним относительно ума универсальным отношением -
природной причинностью.
Таким образом, логос Гераклита показывает нам всеобщее с несколько
иной точки зрения, чем безграничное Анаксимандра или воздух Анаксимена.
В рассуждениях милетцев и пифагорейцев всеобщее характеризовалось в
основном со стороны внешней ограниченности. Гераклит, абсолютизируя
старые модели, анализирует внутреннюю структуру всеобщего, обнаруживая
в нем внешнюю относительно разума, выступающую критерием истинности,
диалектическую природную закономерность.
Эту сторону справедливо подчеркивал Гегель, увидевший у Гераклита
объективную диалектику всеобщего. Конечно, мы разойдемся с Гегелем в
трактовке ее природы, но нам по пути, пока речь идет об объективной
диалектике как предмете осознания. Гегель утверждает: «Диалектика Зенона
ухватывает определения, имеющиеся в самом содержании; но она может
124
быть названа также и субъективной диалектикой, поскольку она имеет место
в размышляющем субъекте, и единое, в котором нет движения этой
диалектики, есть абстрактное тождество. Шаг вперед от диалектики,
пребывающей как движение в субъекте, состоит в том, что она должна сама
стать объективной. Если Аристотель порицает Фалеса за то, что он
уничтожил движение, так как изменение не может быть понято из бытия;
если он не находит действующего начала также и в пифагорейских числах и
платоновских идеях, принимаемых как субстанции вещей, причастных этим
субстанциям, то Гераклит понимает само абсолютное как этот
диалектический процесс. Есть, таким образом, троякого рода диалектика: а)
внешняя диалектика, беспорядочное рассуждение, в котором не растворяется
сама душа вещей; в) имманентная диалектика предмета, имеющая, однако,
место в размышлении субъекта; с) объективность Гераклита, понимающего
диалектику как первоначало... У Гераклита, таким образом, мы впервые
встречаем философскую идею в ее спекулятивной форме... нет ни одного
положения Гераклита, которого я не принял в свою «Логику» (40, с. 245-
246).
Наметим сначала тот участок дороги, где нам по пути с Гегелем.
Диалектика, как нечто относящееся к движению, или, в терминах Гегеля,
абсолютное пребывает в предмете философии, и в этом своем качестве она
есть имманентная диалектика предмета. Эта имманентная диалектика
предмета, относящаяся к динамическому, вносит определенность в
динамическую структуру, реализуется в ней определенными формами, в
которых вынуждена двигаться мысль при подготовке и проведении актов
практики. Сами эти формы - продукт исторического развития, и суть
генерализации по силе, отчасти и по благу- Поскольку диалектика связана с
движением, а не с выбором, диалектическое дано в основном
генерализациями по силе. Результаты этой генерализации - формы мысли -
могут быть абсолютизированы и использованы вне их связи с реальными
процессами практики, тогда они, как указывал Ленин, ведут к софистике (1,
с. ПО). С другой стороны, через эти формы может быть осознана и сама
имманентная диалектика предмета. У Гераклита, и это признается Гегелем,
125
через логос опредмечена именно эта имманентная, объективная диалектика
как «идея в ее спекулятивной форме». До этого пункта нам по пути с
Гегелем.
Однако сам этот пункт, как и понимание предмета, глубоко различны.
Для нас имманентная предмету диалектика заложена в вещных свойствах
мира, формы же мысли - производны от нее, выражают ее в тех пределах, в
каких это необходимо для налаживания регулирования. В этом смысле, если
в основе диалектики лежит объективное, рефлекс животного не менее
диалектичен, чем человеческое мышление, и последнее - лишь один из
способов использования имманентной предмету диалектики для
удовлетворения потребностей субъекта в специфической форме
регулирования. По Гегелю, диалектика - это исторический продукт
саморазвития духа, а предмет, в котором имманентно пребывает диалектика,
и есть сам этот абсолютный дух, смахивающий на героя греческой народной
песни Порфириса, о котором сказано: «никто его не зачинал, никто отца не
знает». Абсолютный дух производит свой продукт-диалектику в Зеноне,
укладывает ее в «размышляющем субъекте», то есть, в том же Зеноне, как
абстрактное тождество, как субъективную и имманентную предмету-духу
диалектику. Затем дух, и вместе с ним Гегель, испытывают потребность
сделать «шаг вперед»: «Шаг вперед от диалектики, пребывающей как
движение в субъекте, состоит в том, что она должна сама стать
объективной». Не смущаясь хронологией, дух переносит первоначальный
продукт в другой, живший много ранее субъект, в Гераклита, и здесь уже
производит следующую операцию: опредмечивает, объективизирует
диалектику, делает из нее философскую идею в ее спекулятивной форме.
Слепо следующий за духом Гегель, тоже делает «шаг вперед» и
обнаруживает, «впервые встречает» у Гераклита, жившего лет на сто раньше
Зенона, философскую идею в ее спекулятивной форме, объективную
диалектику.
С точки же зрения материализма, диалектика задолго до Зенона и
Гераклита пребывала как составная часть предмета философии, связанная с
отношением «форма - условия ее реализации» и специфическим, отличным
126
от животного типа способом реализованная в логической структуре.
Гераклиту первому удается осознать эту деталь предмета философии и
опредметить ее в знаке «логос», хотя, и это также нужно отметить,
формального права на абсолютизацию акта регулирования у него не было.
Логос Гераклита - вне ума, и не логос приспосабливается к уму, а ум к
логосу, который един, всеобщ, присущ всем вещам и процессам, как
устойчивое в этих вещах и процессах, как формирующее, образующее
начало. Иными словами, как абсолютный объективный определитель.
Логос Гераклита не есть нечто вне огня, и в этом пункте Гераклит,
безусловно, связан с денежной моделью, с золотом - эквивалентом. Но
вместе с тем логос и не огонь в том понимании всеобщего бытия, которое
вкладывалось древними в «начала» Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена.
Логос - закон перехода огня в различные состояния, диалектический закон,
присущий самому огню, а не навязанный извне. Характер проявления этого
диалектического закона - обмен, в котором на правах золота выступает
огонь, а логос, подобно абстрактно человеческому труду, определяет «меры»
переходов и состояний в порядке пифагорейского квантования количества.
Единство космоса не статично, а динамично; это уже не только единство, но
и множественность, вечно возвращающаяся в исходное единство. Именно
эта динамичность и вводит несколько иное понимание самого «начала»,
самой диалектики, чем это было у милетцев. Бернет замечает: «Анаксимандр
учил, что противоположности выделяются из απεφον, но и снова исчезают в
нем, воздавая друг другу расплату за нечестие. Здесь подразумевалось, что
есть нечто неправильное (wrong) в борьбе противоположностей... Истина
Гераклита гласит, что мир в одно и то же время одно и многое, что именно
борьба (opposit tension) противоположностей делает единство единым» (20,
с. 143). Бернет хорошо подмечает отличие Гераклита от милетцев - перенос
центра тяжести со статического «начала» на динамику движения этого
начала, понимание единства не статическим, «мертвым» свойством той или
иной стихии, но живой динамикой, результатом и условием борьбы
противоположностей. Отсюда и известное атомизирование «начала» как
такового, та деталь, которая отмечается исследователями как «постижение
127
многосторонности вещей» (21, с. 70). Гераклитов огонь уже не есть
монолитно-единое, статичное тело милетцев, он атомизирован, множествен
как тело, но один в процессах связи и развития. Как раз этого и не понял
Кирк [78], в своей диссертации развивающий мысль, будто бы Гераклит -
мало оригинальный продолжатель дела милетцев: «Гераклитов огонь есть
только одна из различных элементарных субстанций, использовавшихся для
объяснения природы и универсума. Исторически поэтому Гераклит есть
лишь один из ранних ионийских мыслителей, который создал космогонию,
основанную на одном космогонетеическом принципе» (50, с. 3).
Атоминизация огня как «материального начала» до некоторой степени
предопределяет ту реакцию на элеатскую критику «многого» и движения,
которую мы обнаруживаем в учениях Эмпедокла, Анаксагора, атомистов.
В древности попытка подойти к Гераклиту с аристотелевскими
лингвистическими мерками вела к известному дуализму,
противопоставлению огня-начала и логоса. Плутарх, например, иллюстрируя
роль логоса, вынужден вводить деятеля - природу (вещь совершенно
невозможную с точки зрения денежной модели): «Подобно тому, как из
одной и той же глины можно лепить животных, а затем смешивать и вновь
лепить и смешивать, и так делать одно за другим без перерыва, точно так же
природа из одной и той же материи первоначально вывела наших предков,
затем непрерывно вслед за ними породила наших отцов, затем - нас, затем
снова один за другим будет рождать. И поток происхождения, текущий
столь непрерывно, никогда не остановится, как и противоположный ему
поток гибели» (Плутарх, Consol. ad Apoll., 106d-f). Сам Гераклит высказывал
чисто монистические взгляды: «Связи: целое и нецелое, сходящееся и
расходящееся, согласное и разногласное, и из всего - одно, и из одного -
все» (Аристотель, О мире, 5, 396в) [79].
Мир, по Гераклиту, есть совокупность направленных процессов.
Общие же направления задаются основными превращениями огня (огонь-
вода-земля). Климент замечает относительно этих превращений: «Сначала -
море, море же - наполовину земля и наполовину престер. [Это значит, что
огонь посредством всеуправляющего] логоса [и бога через воздух
128
превращается в воду - как бы семя мирообразования, которую он называет]
морем; [из воды же происходит земля и небо и все между ними находящееся.
Каким же образом он в обратном направлении восстанавливается и
возжигается, он разъясняет так]: море мерами разлагается по тому же логосу,
какой и прежде был до возникновения земли» (Климент, Strom., V, 104).
Намеченные здесь пути «вниз» и «вверх» задают общее направление
процессам возникновения и гибели, как процессам встречным, чем,
собственно, задаются и рамки абсолютизации генетической модели. И логос,
как единое, выступает, собственно, законом встречи противоположных
процессов, а конкретные проявления логоса (вещи) - единством
противоположностей. Понимание единства и борьбы противоположностей
как субстрата проявления логоса охватывает у Гераклита и диалектику
развития, и диалектику состояния.
С понятием логоса в материал философских различений вводится не
только связь качественного и количественного, но и определенность
процессов состояния, пребывания - определенность как форма
существования всего сущего. Бенн [80], отмечая недоверие Гераклита к
данным органов чувств и революционный характер его философии в целом,
делает особый упор на этой определяющей, упорядочивающей роли логоса в
мироздании: «Гераклит мог бы развернуть свое отрицание обычных
различений здравого смысла в систему всеразъедающего скептицизма, в
котором исчез бы любой твердый принцип познания или практики. Но он не
делает этого. После доктрины об огне, как мировом элементе, после догмы о
всеобщей релятивности идет третья и величайшая идея философии - идея
универсального закона и порядка» (51, с. 40). В терминах нашего введения
Гераклитов логос вносит определенность и в действительное, и в
возможное, характеризует форму как закон существования вещей,
имеющий общемировое, космическое значение.
Более конкретно и более детально даются динамические отношения в
учении Гераклита о гармонии, которая, как и логос, предстает законом
встречи противоположных потоков изменения, но более определенна и
ограничена. В высказываниях Гераклита гармония встречается в двух
129
пониманиях: как состояние и как изменение в известных пределах, «мерах».
В этом вопросе Гераклит наиболее близко подходит к проблематике
пифагорейцев, и, возможно, прав Бернет, усматривающий в самом
использовании слова άρμονίη влияние пифагорейцев (20, с. 143). Часто для
иллюстрации текучей гармоничности мира Гераклит использует образ реки,
солнца: «Солнце не перейдет своей меры, иначе его бы постигли Эринии,
помощницы Правды» (Плутарх, De exil, 604 А). «Солнце не только [как
говорит Гераклит] новое каждый день, но вечно и непрерывно новое»
(Аристотель, Метеорологика, II, 355а). «На входящего в одну и ту же реку
текут все новые и новые воды» (Арий Дидим у Евсевия, Ргаер. Nang. XV,
20). «В одну и ту же реку нельзя войти дважды» (Плутарх, De Ε, 18, 392В).
Аристотель приводит выдержку из Гераклита, пожалуй, наиболее
характерную для понимания гармонии: «Враждующее соединяется, из
расходящихся прекраснейшая гармония, и все происходит через борьбу»
(Аристотель, Никомахова этика, VIII, 2, 1155в). Примерно та же мысль и во
фрагменте, сохраненном Ипполитом: «Они не понимают, как расходящееся
само с собой согласуется: возвращающаяся [к себе] гармония, как у лука и
лиры» (Ипполит, Refutatio, IX, 9).
Гераклит вообще выражался не слишком ясно. Аристотель, Димитрий,
Диоген говорят о выражениях Гераклита как о лишенных связок,
отрывочных. Диоген приводит и мнение » Сократа: «То, что я понял,
превосходно. Думаю, что таково же и то, чего я не понял. Впрочем, для него
нужен делосский водолаз». О некоторых причинах «темноты» Гераклита,
связанных с его истолкованием знака и проявляющихся в особенностях
использования знаков, мы скажем ниже. Здесь же, применительно к
гармонии, следует отметить, что определение гармонии и особенно
упоминаемая несколькими авторами деталь: «как у луны и лиры», - вызвали
множество различных толкований (см. 33, с. 155; 48, с.73-76). Мы не будем
входить в детали этих толкований. Отметим, однако, что лук и лира -
традиционные атрибуты Аполлона, покровителя пифагорейцев, и появление
этого образа у Гераклита вряд ли случайно (25, с. 272). Фаррингтон,
например, видит в этом сравнении чуть ли не исходный пункт философии
130
Гераклита, его учения о борьбе противоположностей и о «мерах»: «Это одна
из ценнейших и перспективнейших идей древней философии, нисколько не
теряющая своего значения, если мы учтем, что она базировалась на технике
того времени. Доктрина о борьбе противоположностей (opposite tension),
которую Гераклит прилагал к объяснению природы, была производна, по его
собственным словам, из наблюдений за тетивой [струной] лука [и лиры] ...
Огонь и земля - экстремумы колебаний всего сущего» (32, с. 35).
Гегелю «лук и лира» дают повод сказать множество хороших слов о
становлении, «абсолютном становлении», которое не есть лишь одно
изменение. Соответствующее место рассуждений Гегеля о луке и лире (40, с.
256) Ленин характеризует как верное и важное для определения развития в
свою противоположность: «Очень верно и важно: «другое, как свое другое,
развитие в свою противоположность» (1, с. 251). За этим, однако, остается
открытым вопрос о правомерности гегелевской попытки истолковать
гармонию Гераклита «становлением». Превращение «гармонии» в
«становление» вносит совершенно чуждую Гераклиту проблематику,
связанную в основном с телеологией, с аристотелевской трактовкой мира.
Такая операция приписывает Гераклиту однозначную определенность
изменений и состояний, а также сужает его понимание «меры» как предела
колебаний качественной определенности вещи. По Гераклиту, каждой вещи
присущи свои «меры»: солнцу - одни, человеку - другие. Так, человек, как
нечто устойчивое в изменениях, существует в пределах мер, которые
выступают как сон и бдение, юность и старость, жизнь и смерть.
Высказывания Гераклита о мерах, хотя и не дают оснований вложить в
понятие гармонии на правах одного из существенных признаков
многозначную качественную определенность, но, вместе с тем, исключают
понимание состояний и изменений как однозначно определенных.
Гегелевская трактовка гармонии становлением как раз и вводит эту
однозначность через имманентную духу цель.
Гармония и связанная с ней мера выступают у Гераклита важнейшими
характеристиками противоборствующих потоков изменений. Гармония
объединяет разъединенное, расходящееся, враждующее. Мера определяет
131
существование вещей, как в плане колебания состояний, так и в плане
возникновения, развития, гибели. Мера до известной степени сравнима с
пределом пифагорейцев, связана с пределом как внутреннее с внешним,
качественное с количественным.
И гармония, и мера - прежде всего, проявления логоса в динамике,
атомизированный логос. В известном смысле они могут рассматриваться как
противоположности самого логоса: гармонией устанавливается способ связи
единичного со всеобщим; мерой определяются пределы колебаний этой
гармонии, атомизируется логос в качественную определенность единичных
вещей, как, например, сила субъекта атомизируется в алгоритм
регулирования. В последнем понимании мера близка аристотелевскому
пониманию формальной причины в ее отличии от целевой и движущей.
Следует отметить, что эта атомизация логоса носит у Гераклита
всеобщий характер, независимо от того, составляют ли данные процессы
элемент субъектно-предметных связей (акты практики) или не имеют
никакого отношения к нуждам субъекта. Логос в различных его ипостасях
сравнивается с играющим ребенком (Ипполит, Refutatio, IX, 9) и вообще с
силами, не зависящими от человека, хотя и доступными его познанию. Такое
толкование логоса, а также и связанных с ним гармонии и меры относит их,
как и следует ожидать при использовании денежной модели, в область
объективного, не зависимого от человека, ибе в природе, у бога: «прекрасно
все, и хорошо, и справедливо, люди же одно считают справедливым, другое
несправедливым» (Порфирий, Гомеровские вопросы, к «Илиаде», IV, 4).
2
Гераклиту первому среди греков принадлежит честь выделения
мышления в особую, связанную со знаком реальность, честь выхода к
лингвистической модели. Этим, собственно, и создается возможность
постановки вопросов в плане философского материализма или идеализма. В
качестве основных признаков мышления выдвигается его общность у людей
и связь с логосом. Стобей приводит целый ряд фрагментов, вскрывающих
132
Гераклитово понимание мышления, реальности психей: «Мышление -
великое достоинство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное и
чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно» (Стобей, III, 1,
178). «Мышление обще всем» (Стобей, III, 1, 179). «Психее присущ
самовозрастающий логос» (Стобей, III, 1, 180а). «Всем людям свойственно
познавать себя и мыслить» (Стобей, III, 5, 6).
Памятуя, что психеи возникают из воды и тем уже включены в меру
космоса, следует обратить внимание на ряд дополнительных указаний о
свойствах и характере мира мысли, которые мы обнаруживаем в этих
четырех фрагментах. На то, что этот мир выступает в известной степени
самостоятельной реальностью, указывают такие его свойства, как
возможность и истинного, и неистинного отношения к природе (первый
фрагмент). Возможно, что на мир мысли как на реальность особого типа
указывает Гераклит и во фрагменте, вызывающем множество споров: «Из
тех, чьи речи я слышал, ни один не дошел до познания, что мудрое от всего
отлично» (Стобей, III, 1, 174). В приведенном нами фрагменте указывается и
функциональная роль мышления в жизни людей: с помощью мышления
«прислушиваются» к природе, чтобы поступать с нею сообразно. Мышление
здесь выглядит инструментом познания, инструментом согласования
деятельности людей с природной закономерностью.
С точки зрения структуры Гераклит делит область психей на
чувственное и умопостижимое. Первая область связана с «явной», вторая со
«скрытой» гармонией. Это различение дано в цикле фрагментов типа:
«Скрытая гармония лучше явной» (Ипполит, Refutatio, IX, 9, 5); «В познании
явного люди совершенно обманываются» (Ипполит, Refutatio, IX, 10, 1);
«Плохие свидетели для людей глаза и уши тех, которые имеют грубые
психеи» (Сект Эмпирик, Adv. Math., VII, 126). Кронер в этих фрагментах
склонен видеть общую пифагорейцам и Гераклиту линию на исключение
чувственного знания: «Гераклит презирает человека, который полагается на
чувства, а не на мысль, как путь к истине. Пифагорейцы как математики
были с самого начала склонны принять, что сущность вещей может быть
открыта только научным исследованием и спекулятивным мировоззрением,
133
а не чувственным восприятием» (35, с. 87). Фрагменты Гераклита не дают
оснований для подобных попыток оторвать чувственное от рационального,
явление от сущности.
Противопоставляя чувственное и умопостигаемое, Гераклит не мыслит
их разделенными и, не боясь потерять уважение к самому себе, заявляет,
вопреки Кронеру: «Я предпочитаю то, что можно увидеть, услышать и
изучить» (Ипполит, Refutatio, IX, 9, 5). Указание на связь чувственного и
умопостигаемого содержится и в последнем из приведенных выше
фрагментов. Здесь «грубость психей» толкуется не столько в смысле упрека
чувствам, сколько в плане неспособности разума разобраться в данных
чувственного восприятия. Здесь же делаются намеки на роль чувственного в
познании: роль эта усматривается в связи с внешним миром. В том же ряду
стоит и свидетельство Плутарха: «Для бодрствующих существует единый и
всеобщий космос, из спящих же каждый отвращается в свой собственный»
(Plut., De superst., 3, 166 с). Почему именно так происходит, детально
разъясняет Секст Эмпирик: «Дело в том, что во сне, вследствие закрытия
органов чувств, ум, находящийся в нас, обособляется от окружающей его
среды, теряя прежнюю телесную связь с ней ... Когда же мы снова
просыпаемся, он, высунувшись через поры органов чувств, как бы через
некие окошечки, и сойдясь с окружающей средой, облекается мыслительной
силой» (Sextus Empiricus, Adv. math., VII, 129*130).
Таким образом, чувственное у Гераклита отнюдь не помеха, а
необходимое условие познания - средство связи с миром вне нас. Кроме
того, различие чувственного и умопостигаемого не носит чисто
субъективного характера, но находит объективное выражение в различении
скрытой и явной гармонии, в утверждении, что «природа любит
скрываться». Будучи связаны функционально, чувственное и
умопостигаемое различны не только по функции, но и по содержанию, по
тем явным и скрытым сторонам предмета, с которыми им приходится иметь
дело. Опосредованная логосом, гармонией, мерой связь ума с природой ради
согласованности действий людей с законами природы более или менее четко
выделяет область динамического, помещает атомизированный гармонией и
134
мерой логос в основу функционирования чувственности и разума. Иными
словами, подчеркивается объективная определенность мышления.
Учение Гераклита о различии и необходимой связи чувственного и
умопостигаемого, о способности мира мысли истинно или неистинно
подходить к природе в зависимости от связи с логосом, о принадлежащей
этому миру функции приведения действий людей в соответствие с природой
может быть с полным правом названо первым очерком теории познания,
который сохраняет известное значение и до наших дней.
К области связи мира психей с логосом относитсятакже и первая в
истории философии попытка истолковать знак. Не слишком удачная сама по
себе, попытка эта имеет все же величайшее значение, поскольку Гераклит
первым обращается к анализу языка. Нужно сказать, что и общепризнанная
«темнота» Гераклита берет свое начало из попыток постичь язык [81].
Слово со стороны его фонетического (и графического!) выражения
стоит для Гераклита в непосредственной связи с логосом не по договору или
обычаю, но по природе (φύσει, [82]). Не кажется поэтому случайным и то
обстоятельство, что для высшего понятия своей философии Гераклит вводит
термин λόγος, означающий и «слово», и «закон», и «разум». Во фрагментах
Гераклита мы не находим развернутой теории знака, хотя основные ее черты
можно восстановить по критике Платона («Кратил»). Возможно даже, что у
самого Гераклита теория эта не шла дальше простого убеждения в
природной истинности знака. Во всяком случае, в сохранившихся
фрагментах обнаруживаются многочисленные следы его отношения к языку,
закрепленные в его любви к омонимам и омофонам, в предпочтительном
выражении противоположных понятий в одинаковых звуках, в широком
использовании игры слов. Эти явления присущи очень многим фрагментам.
Для примера можно привести фрагмент: «Имя луку - жизнь, а дело его -
смерть» (Etym. gen. βίος) [83], где обыграно слово βίος, которое, зависимо от
ударения, означает «жизнь» (βίος) или «лук» (βώς). У Гомера, например:
«βιός ήδή φαρέτρη». Следует отметить, что слово βιός (лук) уже во времена
Гераклита было архаизмом и вряд ли стоит здесь случайно. Во фрагменте о
гимнах в честь Диониса (Климент, Protr., 34, 26, 6) [84] мысль опирается на
135
омофонический ряд: αιδοίοισιν - αναιδέστατα - Άίδης (пели бы -
бесстыднейшие - Аид). Ясно, что фонетические упражнения Гераклита не
способствовали повышению ясности текста, поскольку, как это, в частности,
отмечает Аристотель (Риторика, 1407в), фонетическая проработка текста
Гераклитом не останавливалась перед сокращением и перестановкой слов,
перед нарушением грамматических правил. Источники этого уважения к
фонетическому знаку уходят в глубокую древность, к тому периоду
становления мышления, когда имя рассматривалось столь же существенной
характеристикой вещи, что и ее внутренние свойства, вернее, имя
концентрировало в себе известные человеку свойства, было неотделимо от
вещи [85]. Побочным источником может рассматриваться пифагорейское
учение о тонах, музыке. Об этом свидетельствуют фрагменты Гераклита о
гармонии, где термин άρμονίη чаще всего выступает в окружении
«звуковых» терминов. Так, к примеру, в свидетельстве Диогена Лаэрция (IX,
I) в уста Гераклита, упрекающего Гомера за желание прекратить распри
среди богов и людей, вкладывается весьма по-гераклитовски звучащее: «ού
γαρ αν efvai άρμονίαν μη οντος οξέος και βαρβος» (ведь не было бы гармонии,
не будь высокого и низкого) [86]. Здесь οξέος, βαρέος (род. от οξύς, βαρύς)
дают многозначную гамму противоположных понятий: высокого и низкого
(музыка), легкого и тяжелого, острого и тяжелого (ударения в языке) и т.д.
«Музыкальные» значения вызывают ассоциации с пифагорейцами.
Следует отметить специально для оценки идеалистических попыток
«божественно» истолковать логос, маленькую, но характерную деталь:
Гераклит, который так много внимания уделял «истинности имени»,
«выводит 0€0ς «бог» из delv «бежать, быстро передвигаться», Геродот (II, 52),
напротив, - из τίθημι, «кладу, делаю» (30, с. 9-10).
Относительно полно взгляд Гераклита на знак критически изложен в
«Кратиле» Платона. Защищающий точку зрения Гераклита Кратил пытается
доказать двойную функцию знака: как средства общения и как средства
познания. Касаясь этой второй функции, Кратил различает «первичные
слова», в звуке которых выражена истинность обозначаемого, и слова
«производные», звуки которых не обладают достоинством истинности. Эти
136
две функции знака и лежали, вероятно, в основе взглядов Гераклита.
Неправомерная трактовка знака не должна, однако, заслонить от нас того
факта, что Гераклит первым обратился к анализу языка, и в этом одна из его
великих заслуг.
В целом, что касается мышления, теории познания и знака, мы можем
утверждать: Гераклитом первым показано мышление как специфическая
знаковая реальность, первым различены и поставлены в функциональную
связь чувственное и рациональное, первым указаны основные звенья теории
познания. Им первым осознана необходимость анализа языка.
При этом мы вряд ли можем говорить об использовании Гераклитом
лингвистической модели. Гераклит пытается понять мышление по денежной
модели, усложненной абсолютизациями отдельных сторон генетической и
техноморфной моделей, но мы не обнаруживаем попыток использовать
лингвистическую модель, то есть, положить в основу понимания, взять за
исходное - языковые определенности или, как говорит Гегель, «определения
мысли». Тем самым ставится под сомнение оправданность попыток искать в
философии Гераклита основной вопрос философии, хотя, конечно, подчинив
мышление логосу, причем, подчинив именно функционально (мышление
может и не следовать логосу, ошибаться), Гераклит может быть истолкован
как материалист, в значительной мере стихийный еще материалист.
3
Наряду с разделением областей динамического и логического в
гносеологическом плане, Гераклит обращался и к исследованию области
этического как одной из сторон умопостигаемого. Каппеле замечает:
«Гераклит - первый греческий мыслитель, мировоззрение которого ясно для
нас и в основных положениях, и во внутренней связи этих положений...
Метафизика, космология, теория познания и этика вытекают у него из
одного источника, из его исходного пункта - логоса» (38, с. 68).
Противоположной относительно источника точки зрения придерживается
Гигон [87]: «Центральной мыслью Гераклита выступает этика, и лишь
137
поскольку закон, которому люди должны подчиняться, есть вместе с тем
закон космоса, Гераклит дает и космологию» (52, с. 198). На наш взгляд,
прав Каппеле. Этическое у Гераклита разработано менее детально, чем
динамическое. Здесь много противоречивого, исключающего друг друга.
С одной стороны, Гераклит подчеркивает релятивный характер «блага»,
поскольку он, как справедливо замечает Маковельский, «хочет смотреть на
поведение индивидов с точки зрения наивысшего метафизического
основоположения» (53, с. 132). Резкое противопоставление через логос
динамического этическому мы обнаруживаем в целой серии фрагментов:
«Болезнь приятным делает здоровье, зло - добро, голод - насыщение,
усталость - отдых» (Стобей, III, 1, 177); «Ослы золоту предпочли бы
солому» (Аристотель, Никомахова этика, 5, 1176 а); «Свиньи грязи
радуются, птицы в пыли или золе купаются» (Колумелла, О сельском
хозяйстве, VIII, 4).
С другой стороны, подчеркивая релятивный характер этического и
отмечая флуктирующий как по времени, так и по индивидам характер его
ценностей, Гераклит пытается необходимый характер этих ценностей
поставить под сомнение. Так, наряду с высказыванием: «Всякое животное
направляется к корму бичом [необходимости]» (Аристотель, О мире, 6.
401а), мы встречаем и высказывания типа: «Не лучше было бы людям, если
бы исполнялось все, что они пожелают» (Стобей, III, 1, 176). Эти фрагменты
могут трактоваться в том смысле, что следует различать благо «истинное»,
регулируемое логосом, и благо «ложное», возникающее из побуждений,
которые порождаются требованиями минуты. Такая мысль довольно четко
проступает во фрагменте: «Если бы счастье заключалось в телесных
удовольствиях, мы бы называли счастливыми быков, когда они находят
горох для еды» (Альберт Великий, De veget, VI, 401). «Лучшие люди одно
предпочитают всему: вечную славу - преходящим вещам; толпа же
насыщается подобно скоту» (Климент, Strom., V, 59, 4). В последнем
фрагменте довольно четко проглядывает попытка утвердить благо немногих
косвенной ссылкой на логос, вечное. Та же мысль в более
138
концентрированной форме дана во фрагменте: «Один для меня - десять
тысяч, если он - наилучший» (Гален, De diff. puls., VIII, 773 К).
Таким образом, в толкованиях блага Гераклит приходит к классово-
ограниченной точке зрения. Ему удается впервые выделить область
этического и указать на релятивный характер этических ценностей. Но сама
эта релятивность выступает «незаконной», неправомерной, и Гераклит
стремится связать этическое с динамическим в том плане, в каком после
Аристотеля будут говорить о «естественном праве». У Гераклита, нужно
сказать, план этот не носит установившегося характера, но наличие его
бесспорно.
4
После кратких экскурсов в понимание Гераклитом динамического,
этического и мышления, мы можем несколько определеннее установить роль
логоса в его учении с точки зрения причинности. По Гераклиту, логос
выступает тем универсальным отношением, той универсальной связью,
которая объединяет все три различенные области: динамическое, этическое,
мышление. При этом сами эти области не только причастны логосу, они
имеют и свои специфические особенности.
В динамике, которая теснее других областей соприкасается с логосом
и придает учению Гераклита материалистический характер, наряду со
скрытой гармонией, есть также и гармония явная. И если первая выступает
областью сущего, областью непосредственной связи с логосом, то о второй,
о гармонии явной, этого сказать нельзя.
В мышлении, области «психей», примерно та же картина: наиболее
близко логосу умопостигаемое, в его отличии от чувственного. Однако в
пределах умопостигаемого действуют характеристики истинного и ложного,
причем источником ложного оказывается, как правило, этическое. На правах
критерия правильности выступает логос и через него - динамическое.
Говоря о правильности, мы намеренно не упоминаем о совпадении,
зеркальном отражении, копии. Такое понимание приходит гораздо позже
139
Гераклита, хотя, вероятно, в каком-то зачаточном состоянии могло бы быть
реконструировано и у него. У Гераклита нет еще четкого определения
истинности, кроме указания на связь мышления с логосом: «Не мне, но
логосу внимая, мудро признать, что все едино» (Ипполит, Refutatio, IX, 9, 1 ).
«Мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь
к природе, поступать с ней сообразно» (Стобей, III, 1, 178). В этих ссылках
на логос и природу правильность, мудрость предстает более широким, чем
простое совпадение, поскольку она оказывается связанной с действием.
В области этического Гераклиту не чуждо стремление показать
релятивность, эфемерность человеческих побуждений как нечто враждебное
логосу, противопоставить логос потребности. Это заставляет Гераклита
довольно скептически относиться к человеку, обращаться, как к последнему
критерию справедливого, к общему и внешнему относительно людей ~ к
логосу и связанному с ним знаку.
* * *
Для истории философии в целом заслуга Гераклита состоит в том, что
благодаря вычленению трех особых, связанных логосом областей, им
подготовлена арена будущих философских схваток между материализмом и
идеализмом. После Гераклита естественно ожидать попыток более
углубленно исследовать намеченные им области. Вновь появляющиеся
школы как раз и характеризует разработка деталей Гераклитовой схемы.
Непосредственное влияние Гераклита прослеживается в учениях
Анаксагора, Демокрита, Протагора, Платона. Логос Гераклита и есть,
собственно, человеческое понимание причинности, которая вносит
определенность в наши действия, в нашу логическую структуру. С другой
стороны, связанное с выбором, с потребностью ценностное не получает у
Гераклита должной оценки, оказываясь боле или менее инородным
элементом в его системе. Двойственность подхода Гераклита к этическому -
стремление обнаружить вечное и стремление принизить значение
потребности - вызвана как классовой ограниченностью мировоззрения,
140
третирующего производительный труд, так и специфическим толкованием
природы знака. Гераклитов анализ этического в терминах динамики,
указание на истинную «по природе» связь знака и содержания потенциально
несут в себе и критику элеатов, и скептицизм софистов, и сократо-
платоновскую попытку отождествить этическое и динамическое, исходя из
примата высшей, относительно человека, божественной этики.
Учение Гераклита - всеобъемлющий философский синтез как
предшествующих философских концепций, так и ряда дофилософских
взглядов. В основе этого синтеза лежит денежная модель, что придает
учению в целом онтологический, объективный характер, присущий всему
стихийному материализму. Вместе с тем, в эту исходную модель,
образующую как бы поле абсолютизации, внесены и абсолютизированы в
ней элементы генетической и техноморфной моделей. Использование этих
моделей включает в философию Гераклита сильнейшую диалектическую
струю, которую приходится уже рассматривать как синтез отдельных
структурных элементов генетической и техноморфной моделей в единую
концепцию логоса. Усматривая в диалектике Гераклита генетическую связь
с моделями, которые использовались мифом, и сравнивая диалектику
Гераклита с диалектикой Гегеля, Томсон замечает: «Гегелевская диалектика
представляла новое и развивающееся, гераклитовская же - старое и
отмирающее» (25, с. 299). Такая оценка, как нам кажется, исходит из
неправомерного смешения моделей и обстоятельств их использования.
Конечно, Томсон прав, утверждая производность диалектики Гераклита от
техноморфной и генетической моделей, но лишь смещение исторической
перспективы (близость мифологии к Гераклиту, близость Гегеля к нам)
позволяет наделять эти модели свойствами «старого», «отмирающего». Во-
первых, гегелевская диалектика (равно и аристотелевская) - та же по
источнику, что и диалектика Гераклита, а во-вторых, к предмету логоса -
универсальному и вечному в мире - попросту неприменимы понятия нового,
старого, отмирающего.
«Логос» Гераклита, его диалектика может рассматриваться как первый
продукт философского умозрения, который обособился от моделей и
141
получил самостоятельное существование. Это - первая категория
причинности как таковой. Логосом Гераклита начинается ряд подобных по
функции и характеру построений («причинность» Демокрита, «сущность»
Аристотеля).
На примере логоса может быть поставлен вопрос об отношении
категории причинности к другим философским категориям. В какой бы
форме (элементарной или структурной) причинность ни выступала, она
везде и всегда выступает той универсальной связью, тем клеем, что
связывает все остальные категории в единую систему. Категория
причинности и есть, собственно, структурная система категорий в их
единстве или, что то же, все философские категории выступают элементами
структуры некоторой высшей категории - причинности. Эта специфика
категории причинности проявляется во многих аспектах и, прежде всего, в
том, что она не имеет противоположности, тогда как любые
противоположности предполагают причинность, связь.
В плане общего развития философии характерно, что Гераклит уже не
просто избегает космогонической проблематики, как это делают
пифагорейцы, но исключает ее сознательно. «Космос» Гераклита вечен, он
устойчиво колеблется в пределах мер [88].
5. «Единое» элеатов и первая общая формулировка
принципа причинности в их учениях
Элеаты, с точки зрения нашей темы, важны как наиболее
последовательные выразители мировоззрения, связанного с денежной
моделью. В их учениях денежная модель, а с нею и отношения
товарообмена, представлены в наиболее рафинированном виде, хотя
содержание их учений находится в явном противоречии с формой, в которой
намечается переход к лингвистической модели. Элеатами дано первое
определение причинности: «из ничего не возникает нечто». Несмотря на
негативный и бесструктурный характер, это определение до настоящего
времени остается самым широким, предельно емким определением
142
причинности. Говоря об элеатах как о философской школе, основные
представители которой Парменид и Зенон прямо или косвенно испытали
влияние Гераклита, нам, прежде всего, следует выяснить роль Ксенофана в
становлении элеатского мировоззрения, поскольку и Гераклит в какой-то
мере связан в своей проблематике с Ксенофаном.
1
Относительно Ксенофана-философа среди специалистов нет единства во
мнениях [89]. С тех пор, как при детальном исследовании оказалось, что
приписывавшееся ранее Аристотелю сочинение «О Ксенофане, Зеноне и
Горгии» (на него, кстати, часто ссылается Гегель) в действительности
Аристотелю не принадлежит, вопрос о роли Ксенофана в создании элеатской
школы стал весьма и весьма темным. Ксенофан известен как поэт - юморист
и сатирик, высмеивающий предания старины, обычаи, философские школы:
«Ксенофан, говорят, вследствие какой-то душевной низости по отношению к
современной ему философии и поэтам, составил неприличные «Силлы»
против всех философов и поэтов» (Прокл, к Hesiod орр., 284, - из Плутарха).
Мишенью сатирических выпадов Ксенофана были, в частности, и Фалес, и
Пифагор. В связи с этим трудно, если не невозможно, указать те границы, до
которых его спекуляции могут приниматься всерьез, а не как пародии на те
или иные взгляды. Это тем более затруднено, что сам Ксенофан, по
свидетельству Секста Эмпирика, весьма скептически относился к
возможностям познания: «Итак, что касается истины, то не было и не будет
ни одного человека, который знал бы ее относительно богов и относительно
всего того, о чем я говорю. Ибо, если бы даже случайно кто-нибудь и
высказал полную истину, то он и сам, однако, не знал бы [об этом], ибо
только мнение - удел всех» (Sextus Empiricus, Adv. math., VII, 49). Кстати
говоря, в том, что приписывается Ксенофану, речь как раз и идет
«относительно богов», и юмористическое отношение Ксенофана к этому
имеет более чем достаточную почву. Ксенофан, по-видимому, не слишком
заботился об историках философии и с изрядной долей скепсиса относился к
143
собственным теориям. Так, Маковельский отмечает, подкрепляя свое мнение
ссылкой на Тейхмюллера: «Несоединимость теологии и космогонии
Ксенофана видна уже в исходном пункте; бог, тождественный со вселенной,
один не только по числу, но и по качеству: его существо однородно (поэтому
также и неизменяемо). Космология же начинает с дуалистического
противопоставления земли и воды (плотного и жидкого) и говорит о
больших и малых переменах в мире. Поэтому мы склонны понимать
космологию Ксенофана как пародию на предшествующие ему системы
философии. Сам же Ксенофан, скорее, должен был бы учить вечности и
неизменяемости мира и отвергать космогонию, так как бытие мира всегда
равно самому себе» (53, с. 90).
Вместе с тем, у Ксенофана мы встречаем и нечто весьма близкое элеатам:
идею уникальной субстанции, лишенной развития и изменения, а также и
тезис «из ничего не возникает нечто» в форме всеобщего отрицания: «Дело в
том, что подобное точно так же не может рождать подобного, как и
рождаться от него. А если бы оно возникало от неподобного, то сущее
получалось бы из несущего. Так вот каким образом он доказывал, что бог
нерожден и вечен» (Симплиций, Phys., 22, 22). Этот момент, а также близкое
к общей тенденции элеатов стремление к всеобщему, лишенному развития,
изменения, то есть к очищению денежной модели от инородных включений,
сближает Ксенофана с элеатами.
Однако и мысль о божественном единстве, и какое-то приближение к
тезису «из ничего не возникает нечто», - далеко не бесспорные основы
крайне туманных взглядов самого Ксенофана. Поэтому мы не видим
серьезных оснований считать Ксенофана элеатом, и первого истинного
элеата усматриваем в Пармениде.
2
С Парменидом мы вступаем в чисто элеатскую проблематику, которая
не выходит за пределы отношений товарообмена, беря их определителем
логической структуры, поскольку последняя определенна.
144
В полном соответствии со структурой денежной модели элеатами
отрицается движение, изменение. При этом резко проявляется намеченное
уже Гераклитом членение на гармонию, явную и скрытую, что предстает в
учении Парменида разрывом между миром умопостигаемым и миром
явлений. Универсальная структура, как она представлена в денежной
модели, отнесена Парменидом к умопостигаемому миру истины. Тем самым
то универсальное отношение, которое служило Гераклиту полем
абсолютизации техноморфной и генетической моделей, рассматривается
теперь в чистом виде как самостоятельная реальность.
Если Гераклит исследует логос в его отношении к единичным вещам,
этическим ценностям, разуму, то Парменид выделяет этот логос как нечто
абсолютизированное, вне связи с внешним, логос как таковой, логос -
систему, структуру, бытие, логос остановленный и омертвленный.
«Дике» Парменида, о которой Франкель говорит: «81/07 ~ правильность
следствий; следствий равно остающихся в силе и для вещей, и для мыслей о
них... Мы имеем в Ыку норму правильности сущего и мыслимого
(Wesenrichtigkeit und Denkrichtigkeit)» (39, с. 165-166), - «дике» как норма и
есть, собственно, внешние границы проблематики элеатов.
Подход к предмету только со стороны денежной модели обедняет и
природу вещей, и природу логического аппарата. Из мира вещей
выбрасывается движение, само всеобщее приобретает единичный характер
как обладающее самостоятельной жизнью «бытие». Из логической
структуры исключается все относящееся к этике и чувственному. Сознание и
бытие оказываются отождествленными в тех намеченных товарообменом
пределах, в каких и то, и другое выступают «правильным» сознанием,
«правильным» бытием. Гронинген, усматривая в Пармениде классический
случай характерной для греческого характера тяги к прошлому,
устойчивому, пишет: «Никакое другое знание не может быть достоверным,
кроме того, которое не зависит от всех изменений. Парменид с ужасающей
(terrifying) прямолинейностью начинает этот путь, а затем он продолжается в
Академии и у перипатетиков, где только вечное и неизменное признается
достойным объектом истинного познания» (22, с. 69).
145
Томсон прямо указывает: «Парменидово «единое», как и более поздние
«идеи субстанции», следует рассматривать как отражение в мышлении или
проекцию на мир сущности товарообмена» (25, с. 301). Что касается «более
поздних» идей субстанции, то их несводимость к товарообмену мы покажем
ниже, хотя генетический рудимент товарообмена - инертное, неизменное,
статически устойчивое - можно обнаружить в любой категории субстанции.
Вместе с тем «единое» характеризуется Томсоном предельно точно.
Отождествление мышления и бытия ставит историков философии,
идущих от лингвистической модели, перед неразрешимой проблемой: с чего
начинал Парменид, « с мышления или бытия? Капелле высказывается в
пользу бытия: «Центральной проблемой спекуляции Парменида является его
онтология, его учение о бытии (то ov)» (38, с.70). Бернет также усматривает
центр тяжести в бытии, объявляет Парменида отцом материализма: «То, что
есть, есть конечное, сферическое, неподвижное, телесное (plenum), и ничего
кроме нет. Наличие множественности и движения, пустоты и времени -
иллюзии. Мы видим из этого, что первичные субстанции, которые искались
первыми космологами, стали теперь чем-то вроде «вещей в себе». И впредь
они не теряют полностью этого характера. Позднее появились «элементы»
Эмпедокла, так называемые «гомеомерии» Анаксагора, «атомы» Левкиппа и
Демокрита, - все это как раз и есть Парменидово «бытие». Парменид менее
всего, как некоторые говорят, «отец идеализма», напротив, весь материализм
зависит от его взгляда на реальность» (20, с. 182). Шредингер идет
несколько дальше Бернета в сближении Парменида с Кантом, видит в бытии
научную гипотезу: «Парменидово неподвижное, вечное «одно» не может
считаться разрозненным, бесструктурным, неадекватным отображением
мира вне нас, но так, как если бы истинная природа была гомогенной,
невозмущенной жидкостью, заполняющей все безграничное пространство, -
упрощенная гиперсферическая вселенная Эйнштейна, назвал бы ее
современный физик» (31, с. 26).
С другой стороны, налицо попытки показать в качестве основы
мышление. Еще Аристотель отличал Парменида от Мелисса тем, что первый
понимает под единым мышление (Метафизика, I, 986в). Часто такой
146
результат возникает при стремлении усмотреть у Парменида и элеатов
вообще идеализм: «Чистый элеатизм есть возникшая в оппозиции к
ионийской натурфилософии идеалистическая метафизика, утверждающая
приоритет знания над действительностью, в частности и над физической
действительностью, которая, по мнению Парменида, есть отражение в
феноменальном пространстве и времени трансцендентных чувственному
восприятию понятий» (54, с. 2).
К Пармениду вряд ли применима постановка вопроса: «с чего начал?».
«Начал» он как раз с единства, единством и «кончил». Его единство бытия и
мышления - не комплекс, а элементарная связь. Сама постановка вопроса «с
чего начал?» - предполагает знакомство со структурой лингвистической
модели. Она естественна для современного философа, но не для Парменида.
Нам кажется, что спор о примате бытия или мышления в учении
Парменида, как и попытки квалифицировать его идеалистом или
материалистом, едва ли могут привести к сколько-нибудь доказательному
результату. Предмет исследования элеатов, как он определен Парменидом,
не имеет еще различения идеального и материального. Оставаясь в пределах
денежной системы, элеаты заняты по преимуществу тем моментом
движения, о котором Маркс говорит: «В конце процесса труда получается
результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении
работника, т.е. идеально» (6, с. 185). Процесс здесь перешел из формы
движения в форму предметности, из формы деятельности - в форму бытия,
из формы идеальной - в форму материальную. Различие между Парменидом
и Гераклитом и нужно, по всей вероятности, искать в различии подходов к
процессам движения. Фаррингтон, на наш взгляд, довольно близко подходит
к сути дела, когда разъясняет: «Подобно своему противнику Гераклиту... он
был занят проблемой причинности. Парменид полагал, что единое должно
следовать только причине... Гераклит говорил: все изменяется, Парменид -
ничего не изменяется; Гераклит - мудрость не что иное, как осознание
способов, которыми «работает» мир, Парменид - космос вообще не
работает, неподвижен» (32, с. 49).
147
С другой стороны, различие между Гераклитом и Парменидом - различие
наиболее важное в плане постановки основного вопроса, также и в том, что у
Гераклита логос выступает внешним относительно мышления и, создавая
переход от объективной реальности к субъективной мысли, позволяет
поставить основной вопрос философии. У Парменида этот переход не
сохраняется. Тожество мысли и бытия берется мертвым, неизменным
исходным и конечным пунктом умозрения.
Попытка рассмотреть логос как таковой со стороны его структуры, а не
функции, как это было у Гераклита, а также ограничение ставшим,
результатом, - обе эти детали и лежат в основе специфики Парменидова
учения.
Для Парменида характерно резкое противопоставление чувственного
умопостигаемому, как самостоятельных и независимых друг от друга
областей. Чувственное дает лишь псевдознание, «мнение» (8όζα), тогда как
умозрение - знание истинное (άλτρια). Во введении к сочинению
Парменида «О природе» говорится: «Должно тебе все узнать: и недрожащее
сердце хорошо закругленной истины, и мнения смертных, в коих не
заключается подлинной достоверности... не вращай бесцельно глазами, не
слушай ушами, в которых лишь шум, не болтай языком праздно, но разумом
исследуй высказанное мною доказательство» (Симплиций, De caelo, 557, 20).
С другой стороны, и это может рассматриваться идеалистическим
моментом, характерно обращение к логической необходимости как к
последнему критерию: «Я не позволю тебе ни говорить, ни мыслить, чтобы
[оно могло возникнуть] из небытия, ибо несуществование бытия невыразимо
[в словах] и непредставимо в мысли... Равным образом [логическая] сила
доказательства никогда не позволит [признать], чтобы из небытия возникало
что-нибудь иное по сравнению с ним самим» (Симплиций, Phys., 144, 29).
Эта «сила доказательства» и есть, собственно, доказательство причины в
мышлении, навязанное логической структурой объективное определение -
дике или логос.
Парменид изложил свое учение, которое затем более или менее
последовательно разделялось Зеноном и Меллисом, в поэме «О природе»,
148
разделенной на две части: «Истина» и «Мнение». Фаррингтон усматривает
причину такого разделения в стремлении Парменида показать новую
технику логического аргумента: «Мы можем понять позицию Парменида в
ее двух аспектах - как протест и как утверждение. С одной стороны, он
протестует против атеистических выводов ионийцев, исключающих
божественное из природы, с другой стороны, он утверждает приоритет
новой техники... техники логического аргумента... Элеаты - дальнейшая
ступень в отрыве философии от ее корней в практической жизни» (32, с. 50-
51 ). Что касается «божественного» в учении Парменида, то еще Брандис [90]
справедливо, по нашему мнению, заметил: «Принимал ли Парменид бытие
божественным или нет - это сомнительно и не представляет особенного
интереса» (55, с. 91). Вместе с тем замечание Фаррингтона о технике
логического аргумента довольно точно указывает суть дела. У Парменида в
его учении об истинном действительно упор делается на логический
аргумент. Но сам-то этот аргумент уходит корнями в денежную модель,
определен ее структурой.
Исследуя логическую самостоятельность посылок возможных
философских систем: а) бытие есть, небытия нет; в) бытие и небытие
существуют; с) бытие и небытие тождественны, - Парменид приходит к
выводу об истинности с точки зрения логического аргумента только первой
посылки: «бытие есть, небытия нет». Основанием такого вывода служит
отождествление бытия и мышления: «ведь мышление и бытие одно и то же»
(Климент, Strom., VI, 23), - а также использование понятия причинной связи:
«сила доказательства никогда не позволит признать, чтобы из небытия
возникало что-нибудь иное по сравнению с ним самим».
Нужно сказать, что само по себе использование причинного принципа в
форме «из ничего не возникает нечто» - огромная заслуга элеатов,
объясняющая влияние этой школы на последующих философов, особенно на
философов-материалистов, для которых выполнение этого принципа
является гарантией научного подхода, исключающего сверхъестественное.
Вместе с тем в учении элеатов принцип этот толкуется жесткой телесной
связью, а не связью событий во времени, толкуется только по линиям
149
внутреннего определения вещи, что, собственно, отсекает внешнее
движение, а с ним и внутреннее изменение. Г. Гомперц хорошо подметил
упор элеатов на качественную неизменность, на «ставшее»: «К требованию
количественного постоянства, изначала логически связанного с учением о
первостихии, а не только заложенного в самой природе его, и постепенно,
благодаря Анаксимену, все определенней выражающемуся, присоединяется
требование качественного постоянства» (21, с. 150). Это последнее -
требование качественного постоянства, с которым мы встречаемся в
товарообмене, как раз и превращает причинный принцип из закона
движения в закон состояния, бытия, предметности.
В соответствии с принятыми аксиомами, Парменид рассматривает бытие
неподвижным, количественно и качественно неизменным, непрерывным,
однородным. Оно оформлено в наиболее совершенную из всех возможных
форм - форму шара. Те же аксиомы с упором на качественную
постоянность используются и для критики предшествующих философских
школ. Против «разрежения и сгущения» Анаксимена выдвигается аргумент:
«И действительно, в мысли невозможно выполнить такого разделения,
чтобы бытие не соприкасалось непосредственно с бытием. Это
неосуществимо ни таким образом, чтобы бытие по своему строению
рассеялось совершенно повсюду, ни таким образом, чтобы оно собралось
[сгустилось]» (Климент, Strom., V, 15). Парменид здесь формально прав. В
денежной модели качества неизменны. Анаксимен, принимая движение как
данное, стремится найти количественную интерпретацию меняющегося
качества, Парменид же попросту указывает, что интерпретировать,
собственно, нечего - качества неизменны.
В той же форме ведется и критика Гераклита: «А затем советую тебе
также беречься и того пути исследования, который измышляют ничего не
знающие смертные о двух головах. Ибо беспомощность управляет в груди
их блуждающим умом. Они же шатаются глухие и вместе слепые, точно
ошеломленные чем-то, пустоголовое племя, у которого бытие и небытие
признаются тождественными и нетождественными, и для которого во всем
имеется обратный путь» (Симплиций, Phys., 117, 2). Если учесть, что для
150
Парменида «небытие» - вполне определенная область того, что мы называем
бытием, область, подверженная изменению, движению, то становится
вполне понятной направленность критики Парменида, да и его учения в
целом, ибо уже в тезисе «есть только одно бытие» гераклитовскому потоку,
оформленному и определенному логосом, противопоставляется сам этот
логос как устойчивая структура, единственный достойный предмет
умозрения.
Можно, конечно, спорить, против кого конкретно направлено острие
критических замечаний Парменида, но общая тенденция критики весьма
прозрачна. «Логический аргумент», извлеченный Парменидом из постулата
единства бытия и мышления, используется здесь для очищения структуры
денежной модели от техноморфных и генетических включений, включений
неправомерных и с точки зрения Парменида, и с точки зрения денежной
модели.
С Парменида берет свое начало тенденция к сращиванию этического и
динамического в логическом. У самого Парменида она представлена, правда,
скорее предпосылками такого сращивания, чем действительным фактом. С
одной стороны, у Парменида справедливая оценка природы этического:
«желание возникает вследствие недостаточного питания», или, в другом
переводе, «потребность в пище была первой причиной наших желаний»
(Аэций, IV, 9, 14). С другой стороны, исходные постулаты не позволяют
Пармениду выходить за рамки действительного в область возможного,
поэтому он, во-первых, включает различение между мыслью и ее предметом,
а во-вторых, по нормам денежной модели отрицает возможность мысли, не
имеющей предмета в действительности, в том числе и мысли, предмет
которой возможное: «Одно и то же мысль и то, на что мысль устремляется,
ибо нельзя отыскать мысли без бытия, в котором осуществлена эта мысль.
Ведь не существует и не будет существовать ничего другого, кроме бытия,
так как судьба связала бытие с законченностью в себе и неподвижностью.
Поэтому пустым звуком будет все то, существование чего согласно своему
убеждению сочли истинным смертные, а именно: возникновение и гибель,
151
бытие совместно с небытием, перемена места и меняющийся, бросающийся
в глаза цвет» (Симплиций, Phys., 179, 29).
Такая постановка вопроса о связи мысли и предмета запрещает выход за
пределы завершенного, оставляет практику за собой. Ценностное в этом
случае предстает чем-то, что люди находят готовым для использования, а
сама картина мира приобретает ценностную окраску.
Вторая часть поэмы («Мнение») написана с дуалистических позиций и
носит на себе следы влияния пифагорейцев, возможно и Гераклита. Не
исключено, что в этой части Парменид пытался исследовать
функционирование «ничто». В качестве «начал» им принимаются два
материальных элемента и деятельная сила (любовь). Последнюю деталь
отмечает Аристотель (Метафизика», 984в) как появление «движущей»
причины. Судя по «началам», учение Парменида о мнении представляется
чем-то переходным к системам Эмпедокла, Анаксагора, атомистов, но
сведения об этой части носят слишком отрывочный характер, чтобы
утверждать что-нибудь определенное.
Относительно основного тезиса Парменида - единства бытия и
мышления - следует заметить, что движение мысли в этом тождестве идет
еще в Гераклитовом направлении. Логико-лингвистическая структура с ее
законами не выступает здесь на правах модели, а предстает, скорее,
предметом, который пытаются понять с помощью модели денежной.
«Логический аргумент» имеет в своем основании не определения мысли, а
определения бытия, которые постулатом тождества переносятся на мысль.
Философия Парменида и может быть понята как такое перенесение, тогда
как уже у его ученика Зенона движение мысли более сложно, носит
циклический характер. Зенон не просто повторяет философию Парменида, а
использует ее как сложившуюся систему.
3
Ученик и преемник Парменида Зенон (акмэ ок. 460 г. до н. э.) отличался,
по мнению Платона, от Парменида лишь тем, что доказывал
152
несуществование «многого», тогда как Парменид доказывал существование
«единого». Оценка Платона справедлива в том смысле, что, защищая учение
своего наставника, Зенон не выходит за пределы основных положений
Парменида о структуре причинности, о совпадении мысли и предмета, о
качественной неизменности бытия. Зенон обращается к этим постулатам как
к последней инстанции в своей критике других философских школ. Вместе с
тем Платоновская оценка Зенона не учитывает того факта, что вылазки
Зенона за пределы намеченного Парменидом предмета, в каких бы целях они
ни совершались и какими бы результатами они ни заканчивались, вводили в
учение элеатов новые элементы или, во всяком случае, готовили почву для
таких элементов. На наш взгляд, философские усилия Зенона более чем что-
либо другое способствовали кризису элеатской школы в вопросе о тождестве
мысли и предмета. Они способствовали более четкому различению
элементов мысли от того, «на что эта мысль устремляется».
Аристотель и Гегель называют Зенона родоначальником, изобретателем
диалектики. Такое единство мнений, как это часто случается с Гегелем в его
отношении к Аристотелю, носит чисто внешний характер. Аристотель,
называя Зенона изобретателем диалектики, имеет в виду то, что понималось
под диалектикой в его время, т.е. раскрытие истины в диалоге через показ
противоречий в аргументах оппонентов и наведение оппонента на
решающий спор-вывод (майевтика). Аристотель прав, именно Зенону
принадлежит заслуга первого применения приемов спора, развитых
впоследствии Сократом.
Совершенно другое содержание вкладывает в термин «диалектика»
Гегель. Для него это, прежде всего, закономерность в процессе движения
мысли в понятиях, закономерность, связанная с имманентной целью и
проявляющаяся через отрицание отрицания. Указывая на Зенона, а не на
Гераклита, как на родоначальника диалектики: «особенность Зенона
составляет его диалектика, которая с него, собственно, и начинается» (40, с.
229), - Гегель путается в хронологии.
В Зеноновой критике для нас наиболее важна только одна деталь -
мастерское ее использование, иногда противопоставление определений
153
бытии и мысли, игра на различиях этих определений, т.е. как раз на том, что
«с порога» отрицалось Парменидом (тождество мысли и ее предмета) или,
по крайней мере, различалось как немотивированная связь между
истинным и мнением. В своих доказательствах Зенон использует
непозволительные для элеата приемы. Так, доказывая несостоятельность
многого (первая и вторая антиномия), Зенон намеренно смешивает язык и
«метаязык», говорит то о вещах, то о понятиях. Эти переходы - μετάθζσις etç
άλλο γένος - составляют характерную черту Зеноновой аргументации: «Если
сущее множественно, то оно и велико, и мало; что бесконечно по величине и
столь мало, что вовсе не имеет величины... Ибо если прибавить это к
другому сущему, то нисколько не увеличишь его. Ведь так как у него нет
вовсе величины, то, будучи присоединено, оно не может нисколько
увеличить» (Симплиций, Phys., 139, 3). Ход мысли Зенона может быть
реконструирован примерно следующей цепью заключений: а) множества
нет, если каждая вещь не является единицей; в) но истинная единица
неделима и как таковая суть точка; с) точка, будучи прилагаема, не
увеличивает и не уменьшает, т.е. не имеет величины; d) не имея величины,
плотности, объема, точка есть ничто. Нетрудно заметить переходы etc άλλο
γένος [91] в звеньях а, с, d, подмену вещи понятием и перенос результатов
операций с понятиями снова на вещь. Именно это обстоятельство заставило
еще древних (Эвдем, Сенека) подметить* в доказательствах Зенона
софистический элемент, равно задевающий основы и противников, и самих
элеатов: «Парменид утверждает, что из кажущихся явлений вообще ничего
не существует; элеат Зенон разрушил все дотла, он утверждает, что нет
ничего... Если поверить Пармениду, то нет ничего, кроме одного; если -
Зенону, то не существует даже [этого] одного» (Сенека, Ер., 88, 44).
В аргументах Зенона против движения обнаруживаются те же скачки из
плана вещей в план понятий, то же широкое использование тождества мысли
и предмета в качестве мостика для таких переходов. Идет ли речь о
«дихотомии» или более усложненных аргументах: «Ахилл», «стрела»,
«стадий», - повсюду исходный и конечный этапы доказательства суть
переходы от вещей к понятиям и от понятий к вещам, средние же звенья
154
доказательства преследуют цель доказать логическую несостоятельность
исходных положений, иллюстрируют невозможность интерпретировать
вещный план в понятийном без допущения противоречия.
Зенонова критика движения могла пониматься и понималась либо в плане
несостоятельности традиционных воззрений на мир, либо в плане
несостоятельности основного положения элеатов о тождестве мысли и ее
предмета. Последнее понимание оказалось наиболее плодотворным,
поскольку оно способствовало разделению мира вещей и мира идей, а также
привлекало внимание к тщательному анализу связей между мыслью и
предметом.
Гегель, для которого «понять движение - это означает высказать его
сущность в форме понятия, т.е. как единство отрицательности и
непрерывности» (40, с. 238), справедливо сводил Зенонову постановку
вопроса к вопросу об истинности, непротиворечивости как последним
инстанциям философии элеатов: «Что существует движение, что оно есть
явление, это вовсе и не оспаривается; движение обладает чувственной
достоверностью, оно существует подобно тому, как существуют слоны, в
этом смысле Зенону и на ум не приходило отрицать движение. Вопрос здесь
идет о его истинности, но движение неистинно, ибо представление о нем
содержит в себе противоречие; он, следовательно, хотел этим сказать, что
оно не обладает истинным бытием» (40, с. 234). Ленин здесь
материалистически корректирует рассуждения Гегеля: «Сие можно и
должно обернуть: вопрос не о том, есть ли движение, а о том, как его
выразить в логике понятий» (1, с. 265). Именно так и обстоит дело.
Поскольку «логика понятий» элеатов связана с денежной моделью, с
товарообменом, где нет движения, изменение невыразимо в такой логике,
«неистинно». Или противоречие вводится в «правильное мышление», тогда
движение «ложно», от чего последнему ни жарко, ни холодно. Аргументация
Зенона равно хорошо служит и «опровержению» движения, если принят
тезис «одно и то же мысль и то, на что она устремляется», и опровержению
самого этого тезиса, если движение рассматривается сущностной
характеристикой мира. В последнем случае мысль оказывается не более как
155
способом интерпретации, в котором тождество мысли и ее предмета только
момент, далеко не исчерпывающий функциональной роли мышления и не
подлежащий абсолютизации, поскольку по ходу рассуждения это тождество
не только может, но и должно быть нарушено.
Абсолютизацию частной стороны процессов мышления подчеркивает
Гегель: «Зенон выдвигает лишь границу, деление, момент дискретности
пространства и времени во всей его определенности, - отсюда получается
противоречие. Это - трудность преодолеть мышление, ибо единственным,
что причиняет затруднение, является всегда мышление, потому что оно
фиксирует в их различении и разъединении моменты предмета, которые на
самом деле связаны друг с другом» (40, с. 242).
С точки зрения целей нашей работы, Зенон-диалектик важен, прежде
всего тем, что, «доказывая» несостоятельность «многого» и движения, он
тем самым выступает исследователем той части логико-лингвистической
структуры, которая может быть осознана по аналогии с товарообменом. Его
анализ показывает ограниченность такого подхода к миру мысли и
несостоятельность самого тезиса о тождестве бытия и мышления как
тождестве непротиворечивом, метафизическом. Следует отметить, что у
Зенона мы обнаруживаем более детализированное понимание логической
структуры в той ее части, в которой выразимы отношения товарообмена:
отношения тождества, перехода к универсальному эквиваленту, сравнения,
то есть, те элементы логической структуры, которые составляют основу
формальной логики.
4
Последний крупный представитель элейской школы Мелисс Самосский
(акмэ ок. 440 г. до н. э.), как и Зенон, посвятил свою деятельность защите
основных положений этой школы, причем, делал это менее рискованным
способом, чем Зенон.
156
* * *
Школа элеатов завершает целый период развития древнегреческой
философии ~ период стихийного материализма, возникшего в результате
использования отношений товарообмена в качестве исходной модели для
выработки нового типа мировоззрения. В учениях элеатов рождающаяся
философия пытается решительно отмежеваться от мифа. Так и должна быть
понята критическая струя элеатизма, которая достаточно сильна уже у
Ксенофана и кульминирует в диалектике Зенона. В результате этой критики
исходные положения ионийской философии очищаются от мифологических
включений, от неправомерных с точки зрения денежной модели
абсолютизации. Неверная по существу, поскольку такая постановка вопроса
не учитывает генерализующей роли труда, попытка элеатов была безупречна
с формальной точки зрения, что и объясняет огромное ее влияние на
дальнейшее развитие философии. У элеатов еще нет использования
лингвистической структуры как целостной системы связей, но уже
намечается требование этой модели, как более широкой и универсальной.
Созданный, исходя из определений бытия, «логический аргумент»
Парменида обращается в лице Зенона против самой технологии такого
создания, вскрывает узость, неприменимость денежной модели для
объяснения мира. Апории Зенона - это, с одной стороны, утверждение
метафизических норм «правильного мышления», которые неизбежно
вытекают из самой природы товарообмена, а с другой стороны -
демонстрация бессилия нарождающейся метафизики выразить мир в логике
понятий. Достижением элеатов, завершающим этот период развития, был
сформулированный ими принцип причинности. Взятое из области
товарообмена отношение «из ничего не возникает нечто» оказывается
действительно универсальным, применимым и в других областях, поскольку
оно выражает саму суть детерминизма: определенность, опосредование,
связь, может быть сведено к силе субъекта.
157
* * *
Мы рассмотрели первый период развития греческой философии, для
которого характерна связь философских учений с денежной моделью,
структурой отношений товарообмена. Это период освобождения от
проблематики мифа, перехода на философскую всеобщую проблематику, как
она представлена в универсальности денежной модели. Внешне это
выражается в меняющейся трактовке космоса: у Фалеса он возникает, у
Гераклита функционирует, у элеатов попросту остановлен, лишен развития.
В ходе этой эволюции философия, абсолютизируя старые, использовавшиеся
еще мифом модели, осознает в учении пифагорейцев основу объективного
определения: отношение «форма - условия ее реализации», а в учении
Гераклита достигает кульминационного пункта своего развития, поскольку
абсолютизация отдельных элементов техноморфной модели пифагорейцами
и Гераклитом была правомерной, выражала действительную связь
отношений товарообмена и типов регулирования через силу субъекта.
Вместе с тем такая абсолютизация никак не вытекала из существа денежной
модели, была произвольной, что и было обращено элеатами против своих
предшественников. Но критика элеатов обращалась не только против
предшественников. В значительной мере она была направлена и на
ограниченность самой модели. Поэтому, базируясь в своем содержании на
денежную модель, форма учения элеатов была запросом в модель
лингвистическую, а с нею не только в объективную, но и в субъективную
проблематику, что и было реализовано в более поздних учениях.
Становлению новой проблематики во многом способствовал
сформулированный ими принцип причинности.
Этот первый период был периодом первоначального накопления
универсального различенного материала, периодом появления основных
категорий онтологии (время, пространство, вещь, прерывное и непрерывное,
предел и неопределенное, количество и качество, противоречие,
противоположность), некоторых категорий субъектно-предметных
отношений (сущность и явление, мысль и ее предмет, рациональное и
158
чувственное, истинное и ложное, благо, тождество, непротиворечивость).
Этот период можно было бы назвать периодом расчищения арены для
борьбы материализма с идеализмом, периодом предварительной расстановки
сил [92].
159
Глава II
РАЗРАБОТКА КАТЕГОРИЙ ПРИЧИННОСТИ И
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ в V и IV вв. до н. э. ЛИНИЯ ДЕМОКРИТА И
ЛИНИЯ ПЛАТОНА
К середине V в. до н.э. греки вышли победителями из полустолетия
затяжных войн с персами. К этому времени ведущее положение среди
греческих полисов приобрели Афины и Спарта. Афины на сравнительно
долгое время выдвигаются как основная сила демократии, тогда как Спарта
концентрирует усилия аристократии. Глава афинской демократии
Фемистокл, по свидетельству Фукидида, заявил в одной из своих речей:
«Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами
скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Этот строй
называется демократией потому, что власть здесь принадлежит не немногим,
а большинству граждан». Хотя «граждане» и составляли не более 20-30% от
общего числа населения, характеристика Фемистокла все же справедливо
указывает на основную специфику афинского государства того времени.
Ко времени Перикла верховная власть в Афинах принадлежала
народному собранию, в суде заседало 6000 присяжных, государственные
должности занимались по выборам или даже по жребию. Активное участие
граждан в политической жизни города обеспечивалось широкой системой
государственных вознаграждений. У нас нет причин идеализировать
государственный строй: в основе его лежал рабский труд, причем сами рабы
были лишены каких-либо прав. Даже столь демократический суд принимал в
расчет только показания рабов под пыткой, а в случае смерти раба просто
возмещал владельцу «убыток». Однако при всем этом структура афинской
государственности имеет большое значение для понимания некоторых
деталей возникающих философских школ, их обращения к этике, поэтому
демократический характер афинских государственных институтов всегда
должен приниматься во внимание. С ростом экономического, политического
и культурного влияния Афины становятся также и центром греческой
160
философской мысли. Деятельность большинства из рассматриваемых в этой
главе философов связана с Афинами.
Философия середины и конца V в. до н. э. сохраняет преемственные связи
с предшествующими школами, с ионийцами и элеатами, и во многом может
быть понята как попытка выйти из тупика учения элеатов. Влияние элеатов
на философию этого периода бесспорно, хотя относительно самого
характера этого влияния существуют разногласия. По мнению Гуляева, речь
идет о простом консерватизме Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита: «Всем им
обща одна характерная черта - известного рода консерватизм; все они
борются против революционного радикализма Парменида за Гераклита и
предшествующую философию в том смысле, что все они, вопреки
Пармениду, стремятся сохранить и развить мысль об объективной
реальности и ценности человеческой и мировой жизни и ее
непосредственной связи с мировыми началами, разорванной могучей
мыслью Парменида» (45, с. 307). Гуляев здесь прав только в одном:
Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит действительно стремятся и сохранить, и
развить мысль об объективной реальности. Но тот способ, которым они это
делают, хотя он и включает абсолютизацию техноморфных, в основном,
моделей, несводим к ионийским учениям. Здесь не только сохранена мысль
об объективной реальности, но возникают и первые контуры субъективного
определения. По Джонсу, все дело в гипотетичности Парменида: «Его
аргумент, хотя сам Парменид и не сознает этого, гипотетичен. Его
действительная форма следующая: если основное допущение Фалеса и
милетцев, что существует только одна субстанция, правильно, то изменения
не существует. Следующее поколение ученых-философов совершенно
справедливо заключило, что, поскольку движение очевидно реально,
посылка была ложной. Они видели, что доказательство Парменида есть на
деле reductio ad absurdum милетского монизма. Поэтому после Парменида
развитие могло идти лишь в формах плюрализма» (42, с. 42). Джонсу
хорошо удается показать логическую сторону дела в ущерб исторической.
Парменид не столько доводил до абсурда милетский монизм, сколько
совершенно справедливо указывал на истинный характер постулатов этого
161
монизма, выделил у предшественников философское ядро их воззрений -
универсальность отношений товарообмена. Близкие Джонсу взгляды
высказывал и Бернет: «Ранние ионийцы считали, что все вещи - одно. Но
теперь Парменид показал, что, если подобное «одно» действительно
существует, нам следует отбросить идею, что оно может принимать
различные формы. Чувства, которые представляют нам мир, обманчивы.
Аргумент представляется неопровержимым, и мы видим, что с этого
момента все мыслители, двигавшие философию вперед, избегают
монистических гипотез. Те, которые придерживаются монизма, принимают
критику и сами становятся защитниками идей Парменида против новых
взглядов, другие проповедуют гераклитизм в его преувеличенной форме,
третьи продолжают развивать системы милетцев, но все ведущие философы
- плюралисты» (20, с. 97). Кронер усматривает специфику (до софистов) в
падении оригинальности: «Мыслители этого периода были менее
оригинальны в сравнении с синкретистами и эклектиками последнего
периода греческой философии, но они сами могут быть названы
синкретистами и эклектиками в сравнении с предшественниками» (35, с.
118).
На наш взгляд, дело обстоит и проще, и сложнее: секрет влияния элеатов
следует искать не столько в деталях их учения, сколько в сформулированном
ими принципе причинности, обязательном для любой теории, избегающей
выхода за пределы естественного. Отмечаемый Бернетом и Джонсом
«плюрализм» суть плюрализм особого рода, возникающий из переноса
причинности на другие области, а не из появления каких-либо новых,
сверхъестественных начал. Что же до «оригинальности» Кронера и пафоса
Гуляева, то их источник следует искать скорее в непонимании авторами
предметного характера философии, чем в самой философии Эмпедокла,
Анаксагора, Демокрита.
С точки зрения проблематики новые философские школы довольно резко
разделены на две группы. В основе проблематики первой группы лежит
природа, в основе второй - человек. Именно в этой второй группе и
появляется философия Платона - основателя тенденции идеализма.
162
Западная историко-философская традиция выделяет обычно Сократа, как
поворотный пункт к новой, кладущей во главу угла этику, проблематике.
Корнфорд, например, усматривает в нем поворот от изучения природы к
человеку (44, с. 1). Традиция эта не бесспорна. Капелле так выражает
сомнение в оправданности подобного подхода: «Как только мы пытаемся
ограничить первый период, в основном «натурфилософский», возникает
сильнейшее сомнение, следует ли считать зачинателями второго периода
Сократа или софистов. Софисты не образуют заключения
натурфилософского периода... поскольку они ставят человека как сознающее
и созидающее существо в основу проблематики. Без них теория познания
Сократова типа была бы невозможной» (38, с. 9). Нам кажется, что основной
причиной смещения центра тяжести проблематики с природы на человека
были политические события того времени: победа демоса, попытка
обосновать как аристократическую, так и демократическую нормы блага.
Практически же это смещение связано с переходом на лингвистическую
модель. Здесь достаточно будет указать на то обстоятельство, что смещение
центра тяжести в этическое связано не только с тем или иным именем,
сколько с целым слоем - «интеллигенцией» древнего мира, оказавшейся в
теснейшей связи с политической практикой, где значительную роль стала
играть риторика. Учителя риторики - софисты, собственно, и были
зачинателями нового направления, и древние не без основания называли
софистику «философствующей риторикой». Характер устремлений как
софистов, так и их противников верно, на наш взгляд, подмечен Радловым:
«Нравственный мир с его изменчивым содержанием в смене времен должен
быть понят в отличие от мира физического и умственного.
Долженствование, принудительность этических норм, находимая в
человеческой совести, должна быть оправдана перед светом разума, или же
должен быть показан иллюзорный характер» (56, с. 7).
В плане детерминизма это смещение проблематики, резкий
идеологический крен в развитии философии выразились в переходе к
лингвистической модели и одностороннем, неполном использовании этой
модели в философских системах.
163
Дальнейшее осознание предмета философии в тот период осложнено, но
вместе с тем и катализировано борьбой основных философских школ:
атомистов, софистов, сократиков. Борьба эта во многом способствует
проявлению отдельных сторон лингвистической модели. Вместе с тем, под
влиянием исходной классовой ограниченности, развитие философии все
более канализируется в то специфическое русло, для которого характерна
целесообразность и которое мы обнаружим завершенным у Аристотеля.
1. Становление субъективной проблематики в учениях Эмпедокла и
Анаксагора
В учениях Эмпедокла и Анаксагора впервые в истории греческой
философии осуществляется выход за пределы денежной модели. Их системы
не носят уже однопланового, чисто объективного характера. Подобно
ионийцам и пифагорейцам они также абсолютизируют прежние модели, в
основном техноморфную, но эти абсолютизации уже не укладываются в
пределы денежной модели, а концентрируются как некоторая
множественность процессов в двойственную (Эмпедокл) или единичную
(Анаксагор) структуру, приближающуюся к структуре субъектно-объектных
отношений. Выход за пределы денежной модели, которая теперь сама
становится интегральной частью более ^общей модели, достигается
использованием в качестве связующего и опосредующего звена принципа
причинности. Этот принцип очерчивает более широкое поле, вернее сказать,
объемную область универсализации, в пределах которой денежной модели, а
с нею и объекту, может быть указана противоположность: объект и субъект
показываются теперь сторонами единого. Раздвоение, иногда и растроение,
атомизация единого, очерченного как абсолютная реальность
универсальным отношением причинности, как раз и порождает иллюзию
«плюрализма», хотя с точки зрения причинности эти системы, как и система
Демокрита, - системы монистические.
164
1
Относительно Эмпедокла - философа, поэта, чудотворца - не было и нет
единства мнений ни в древности, ни в новое время. Одни видели основной
недостаток Эмпедокла в прикладном характере значительной части его
положений, другие - именно в этом обстоятельстве усматривали основное
его достоинство. Эмпедокла называют «виднейшим представителем
механического материализма» (Дынник), «античным Бэконом
Веруламским» (Дюринг). Одних система Эмпедокла привлекает как
«оригинальнейшая в своем роде» (Якубанис), другие усматривают в ней
лишь эклектизм (Радлов). Довольно суровую оценку дал Эмпедоклу Гегель:
«Мы находим у него не спекулятивную глубину, как у Гераклита, а, скорее,
понятие, больше погружающееся в реальное воззрение, разработку
натурфилософии или размышления о природе. Эмпедокл более поэтичен,
чем определенно философичен; он не представляет большого интереса, и
мало что можно сделать из его философии» (40, с. 275).
Идеалист Гегель в данном вопросе решительно ошибается. Эмпедокл -
шаг к Анаксагору, где, по мнению Гегеля, «брезжит свет», а от Анаксагора
рукой подать до «всемирно-исторических» злоключений духа в головах
Сократа и Платона. Фигура Эмпедокла интересна именно в плане подхода к
лингвистической модели, в плане выхода в проблематику, в которой только
и возможен, как несчастный случай, идеализм.
При всем разнобое в оценках философской значимости Эмпедокла в них
можно отметить несколько общих мотивов: а) наличие противоречий в
самой системе: «Общее впечатление, которое на нас производит философия
Эмпедокла, такое, что она несамостоятельное, но богатое мыслительное
построение. Эмпедокл брал хорошее отовсюду - от элеатов, пифагорейцев,
орфиков, Алкмеона, Анаксимандра» (38, с. 91); в) утверждение или
отрицание связи учения Эмпедокла с «Мнением» Парменида и с учением
Гераклита: «часто говорят, что его система является попыткой примирить
Парменида и Гераклита. Однако в этой системе нелегко обнаружить хотя бы
след Гераклитовой доктрины и будет вернее сказать, что она пытается
165
примирить Парменида с чувствами... Взяв сферу Парменида, он как будто
спрашивает: как нам перейти к миру, который мы знаем? Как нам ввести
движение в неподвижный plenum?» (44, с. 227); с) попытка дать синтез
использовавшихся ранее начал; d) выделение направленно действующих
сил; е) понимание действительной картины мира как смеси качественно
неизменных элементов, что в любом конкретном случае допускает
количественный анализ сущего в терминах пропорций; f) ограниченность
восприятия и познания принципом однородности. Само многообразие
линий, по которым идет исследование учения Эмпедокла, может
свидетельствовать с равным успехом о двух вещах: либо система Эмпедокла
до сих пор не понята в том узком значении слова, которое мы употребляли
во введении, т.е. не найдена исходная модель его построений, либо же
учение Эмпедокла вообще не может рассматриваться строгой системой. К
этому вопросу нам еще придется вернуться при оценке учения Анаксагора,
пока же, в порядке рабочей гипотезы, мы будем исходить из того, что
Эмпедокл не понят, а в его учении может быть вскрыта строгая система.
Признавая возможными противоречия в подходе Эмпедокла к
конструированию модели космоса, мы займемся прежде всего системой
связей, конкретизирующих элеатское «из ничего не возникает нечто», а
также развитием в системе Эмпедокла тенденции к обнаружению
целенаправленного характера космических процессов.
Эмпедокл, философским девизом которого были власть над природой и
личное счастье, вождь демократии, борец против культа личности во всех
его проявлениях действительно, на первый взгляд, не столько углубляет,
сколько расширяет, детализирует, систематизирует прежние взгляды.
Однако во взглядах древних он усматривает новые связи, комбинирует их
иначе, получает новые результаты.
В онтологической части своего учения Эмпедокл рассматривает мир и его
развитие как единый циклический процесс налаживания и распада связей
между неизменными качественно, но делимыми элементами (корнями -
ριζώματα). Эмпедокл выделяет два типа связей: связи однородного и
разнородного, противопоставляя их в плане борющихся и преодолевающих
166
друг друга противоположностей - Вражды и Дружбы, причем Вражда и
Дружба сами выступают как протяженные и ограниченные стихии. Если
«корни» целиком лежат в плоскости денежной модели, то Вражда и Дружба
уже выходят за ее пределы.
Развитие космоса выглядит как закономерное колебание пропорций
однородных и разнородных связей в пифагорейских пределах начала и конца
или в пределах Гераклитовой меры. Экстремумы этих колебаний -
господство Вражды и господство Дружбы. При господстве Дружбы Вражда
располагается на периферии. В это время существуют только связи
разнородного, «смесь» четырех элементов. Относительно этой «смеси» уже в
древности существовала некоторая неясность. Так, Филопон замечает:
«Самому же себе он противоречит, говоря, что элементы неизменны и что
они не возникают друг из друга, но остальное - из них; с другой стороны,
утверждая, что во время господства Любви все становится единым и
образует бескачественный шар, в котором более не сохраняется своеобразие
ни огня, ни какого-либо из прочих элементов, так как каждый из элементов
теряет здесь свой собственный вид» (Филопон, De gen. et. corr., 19, 3).
Несколько иначе трактует это противоречие Эмпедокла Аэций: «По мнению
Эмпедокла, до образования четырех элементов существовали очень
маленькие частицы, своего рода равночастные элементы, предшествовавшие
[четырем] элементам» (Аэций, I, 13, 3). Последнее свидетельство можно
было бы истолковать в духе единой стихии Анаксимена, по отношению к
которой «корни» выступали бы особенным веществом, однако, во-первых,
трудно сказать, не является ли мысль о предэлементах одной из поздних
попыток решить указанное Филопоном противоречие и, во вторых, подобная
единая стихия была бы совершенно инородным телом в системе Эмпедокла.
Более справедливым представляется принятое большинством
исследователей понимание смеси как смеси механической.
В период господства Вражды все четыре элемента разделены, обособлены
и существуют только связи однородного, «коренного». Таким образом,
изменения космоса выступают флуктуациями в пределах единого и
ограниченно многого: «То единое возрастало из многого, чтобы быть одним;
167
то, наоборот, оно распадалось, чтобы было многое из одного - огонь, вода,
земля и безграничная высь эфира» (Симплиций, Phys., 157, 25). В
промежутках между предельными состояниями имеют место направленные
процессы распада одних связей и установление других. В эти периоды и
появляются различные вещи живой и неживой природы как специфические
частные смеси со своими особыми пропорциями однородных связей: «Скажу
тебе еще другое: нет рождения ни одной смертной вещи, нет и конца
губительной смертью, а только смешение и разделение смешанного, это-то
людьми и называется рождением» (Плутарх, Adv. Col., 10, 111 IF-1112В).
Таким образом, сущностное и устойчивое в изменениях связывается
Эмпедоклом с вечными и неизменными корнями, а изменение выносится в
особую область борьбы двух вечных начал - Вражды и Дружбы, о которых
сказано: «Потому что, как раньше они были, так и будут, да и никогда,
думаю я, неизрекаемо великое время не лишится их обеих» (Ипполит,
Refutatio, VII, 29).
Характер проявлений Вражды и Дружбы на вечном множественном
субстрате сохранен во фрагменте: «Поочередно господствуют они [стихии] в
круговращении цикла: то оскудевают они одна за другою, то возрастают в
роковом чередовании. Ибо они остаются теми же самыми, но, проницая друг
друга, становятся людьми и животными других пород, то силою Любви
сходятся в одно целое, то, наоборот, ненавистью Вражды несутся врозь друг
от друга, пока, сросшись в единое вселенское целое, не потеряются в нем.
Таким образом, поскольку единое неизменно рождается из многого, а из
произрастания единого снова выделяется многое, поскольку они [стихии]
возникают и век у них нестойкий. Но поскольку беспрерывный переход из
одного состояния в другое никогда не прекращается, постольку они
существуют всегда в неизменном круге» (Симплиций, Phys., 157, 25). Иначе
говоря, для них остается принцип причинности.
Что касается общего характера космологии Эмпедокла, то представляется
недалеким от истины замечание Т. Гомперца (21, с. 201) о том, что у
Эмпедокла впервые находят выражение идеи «ограниченной
множественности», «соединения» и «количественных различий» в форме
168
пропорций. В ограниченной множественности Эмпедокла можно было бы
видеть опредмечивание онтологической дискретности форм существования
вещей, но у Эмпедокла оно дано не столько формами, сколько конечными
пределами изменений. Поэтому аналогия Гомперца между современной
химией и системой Эмпедокла выглядит несколько надуманной.
В зачаточном, эмбриональном виде форма выступает у Эмпедокла
определенностью пропорций «смеси». Аристотель отмечает: «И в самом
деле, какого рода [соединение] будет у тех, которые учат подобно
Эмпедоклу? Соединение у них должно быть вроде того, как стена из
кирпичей и камней. И эта смесь будет состоять из неподверженных гибели
элементов, небольшими частями лежащих друг возле друга. Такого-то рода
соединением является у них мясо и каждая из прочих вещей» (О
возникновении и уничтожении, 334а). Симплиций говорит более
определенно: «По его мнению, кость и каждая из прочих [вещей] образуется
по некоторому числовому отношению [элементов]» (Phys., 300, 19). Эту
мысль Симплиций иллюстрирует фрагментом, по которому кость состоит из
четырех частей огня, двух частей земли, одной части воздуха и одной -
воды.
Начала - Вражда и Дружба - любопытны в нескольких отношениях.
Выступая основными характеристиками процессов (распад и соединение),
они дают две принципиально различные группы процессов: процессы
телеологические, однозначно определенные по результату (переход многого
в единое), и процессы вероятностные, многозначно определенные по
результату (переход единого во многое). Если встать на путь Гомперца, путь
аналогий с современной наукой, то в этом различении процессов можно
видеть прообраз современных физических и кибернетических теорий,
основанных на учете энтропии в природных процессах связей. С другой
стороны, выделение процессов перехода многого в единое (падения
энтропии) позволяет усматривать в философии Эмпедокла не только
абсолютизацию этического и слияние его с онтологическим, но и
конкретную схему телеологического развития мира. Этого случая не мог,
конечно, упустить взыскующий откровения Кронер: «Рассматривая
169
космический процесс в терминах Дружбы и Вражды, Эмпедокл покидает
односторонний натурализм и приближается к этической и религиозной
космологии. Хотя его принципы используются для объяснения естественных
процессов организации и распада, слова Вражда и Дружба привносят
значения, выходящие за пределы простого существования фактов,
управляемых причинностью» (35, с. 122).
Родоначальником сближения Эмпедокловых начал с целевой причиной
выступает Аристотель, который прямо указывает на Эмпедокла как на
пионера выделения «блага» в начало: «Если сказать, что в известном смысле
Эмпедокл признает - и притом первый признает - зло и добро за начала, то
это, пожалуй, будет сказано хорошо, поскольку причиною всех благ является
у него само благо, а причиною зол - зло» (Аристотель, Метафизика, 985а).
Вместе с тем у самого Эмпедокла проскальзывает то, что Ипполит
называет «третьей умопостигаемой силой»: «везде есть мысль и часть
необходимости» (перевод Радлова); «во всем есть мысль и необходимая
доля разумности» (перевод Якубаниса)» (Ипполит, Refutatio, VII, 29). В
целом в этом фрагменте, заключение которого мы привели, Эмпедокл
противопоставляет вечное благу эфемерному, тленному. Эта третья
умопостигаемая сила незримо присутствует также во фрагментах и
свидетельствах типа: «Есть нечто справедливое и несправедливое по
природе, общее для всех, признаваемое таковым всеми народами, даже если
между ними нет никакой связи и никакого соглашения» (Аристотель,
Риторика, 1373в). «Пифагор и Эмпедокл объявляют, что основание права -
одно для всех живых существ, и возвещают, что неискупимые наказания
угрожают тем, кто совершил насилие над животным» (Цицерон, De rep., Ill,
11, 19). Наличие у Эмпедокла подобных мест позволяет с некоторой долей
вероятности приписывать ему мысль об абсолютизации этического и
введении в него однозначности, т.е. ту постановку вопроса о «естественном»
благе, которая станет характерной для Аристотеля.
С другой стороны, для Эмпедокла не менее характерен и трезвый взгляд
на природу этического, приближающийся к гераклитовскому: «Ощущение
бывает сопряжено с удовольствием для подобного и со страданием для
170
противоположного» (Теофраст, De sensu, 1, 9), т.е. здесь удовольствие и
страдание оказываются зависимыми от «пропорций», от субъективной
трактовки информации из внешнего мира зависимо от соотношения
веществ, а мы бы сказали, обмена веществ. Та же мысль в более конкретной
форме приведена Аэцием: «Желания [по Эмпедоклу] являются у животных
вследствие недостатка элементов, которые бы их пополнили; наслаждения
происходят от соединения подобных и однородных вещей [беспокойства же
и страдания - из соединения неродственного]» (V, 28, 1). В последнем
свидетельстве мы склонны видеть попытку материалистического
истолкования потребности, проявляющейся как избирательность. В целом
трактовка «блага» не поднимается у Эмпедокла выше созерцания. Сохраняя
гераклитовский «объективный мотив» - «в присутствии вещей мудрость
людей возрастает» (Аристотель, О душе, 427а), Эмпедокл вместе с тем
теряет практику, у него, в отличие от Гераклита, не обнаруживается
требования «поступать в соответствии с природой».
Отсутствие у Эмпедокла анализа практики вносит много неясностей в его
трактовку этических, динамических, логических связей: «Знание возникает
из подобных, незнание - из неподобных, так что мышление есть то же самое
или нечто похожее на ощущение ... более всего мыслят кровью, ибо в ней
частицы стихий более всего перемешаны» (Теофраст, De sensu, 1, 10);
«Сердце живет в волнах быстро обращающейся крови, и в нем находится то,
что зовется обыкновенно у людей мыслью, потому что мысль у людей есть
омывающая сердце кровь» (Порфирий, О Стиксе, у Стобея, I, 49, 53).
Указание на кровь происходит из понимания ее как наиболее тонкую смесь
всех элементов, что, по теории Эмпедокла, должно обеспечить наиболее
широкое и разностороннее познание, поскольку: «Землею познаем мы
землю, водою - воду, эфиром - божественный эфир, огнем же - губительный
огонь, любовь - любовью, а вражду - пагубной враждою» (Аристотель,
Метафизика, ЮООв). Познание в целом, как и взаимодействие вещей,
связанно с теорией истечений, своеобразной качественной радиацией.
Плутарх говорит об истечениях: «Итак, смотри, согласно Эмпедоклу: "Знай,
что из всех существующих предметов истекают токи" ... А именно,
171
беспрерывное множество истечений исходит не только от животных,
растений, земли и моря, но и от камней, меди и железа. И действительно, все
уничтожается и погибло вследствие того, что всегда что-либо течет и
уносится беспрестанно» (Quaest. conviv., 19, 916С). В другом месте Плутарх
показывает эти истечения как конкретное проявление Вражды: «Или в самом
деле природа воспринимает соответственное себе из подобного, и
разнообразная пища, тотчас же выпуская из самой себя в тело многие
свойства, подает каждой части полезное ей. Таким образом делается то, что
говорит Эмпедокл: "Так сладкое стало хвататься за сладкое, горькое
устремилось на горькое, кислое набросилось на кислое, теплое стало
совокупляться с теплым"» (Quaest. conviv., IV, 1, 3, 663AB). В свете
последнего свидетельства познание выступает частным случаем проявления
Вражды, соединяющей однородное в порядке своеобразной «валентности»,
сродства веществ.
Эмпедокл подчеркивает роль чувственного, чувств в их совокупности как
важных источников познания: «Тщательно исследуй каждую вещь
всевозможными средствами, поскольку она может ясно познаваться, и не
отдавайся доверчиво каким-либо впечатлениям зрения, ценя их выше
восприятия слуха, и шумному слуху не доверяй более, чем ясным
ощущениям языка, и не ставь ниже последних достоверность всех остальных
органов, в которых есть хоть какая-либо стезя тюзнания, но познавай каждую
вещь, поскольку она явно познается» (Секст, adv. math., VII, 125). Вместе с
тем критерием истинности у Эмпедокла выступает разум. В том же
свидетельстве Секст Эмпирик замечает: «Воспринимаемое через посредство
каждого отдельного ощущения истинно, если ими [ощущениями] руководит
разум» (VII, 124). Последнее обстоятельство заставляет предполагать, что у
Эмпедокла уже имелось понимание функциональной роли чувственности, но
более определенно вскрыть роль чувственного знания в учении Эмпедокла
невозможно за недостатком материала.
Интересной деталью является то, что чувственное познание ограничено у
Эмпедокла не только объективно (истечения), но и субъективно: через
учение о порах вводится субъективная избирательность, зависимая от
172
устройства органов чувств. Глаз, например, устроен так, что «первичный
огонь, заключенный в оболочках и тонких тканях глаза, которые насквозь
пробуравлены дивно устроенными воронками [порами], стал скрываться за
круглым зрачком, и эти воронки стали удерживать обтекающую в большом
количестве воду, огонь же пропускать наружу» (Аристотель, О дуще, 437в).
С учением о порах связано действие всех органов чувств. Взаимодействие,
факт восприятия, возможны лишь там, где существует определенное
соответствие между порами и истечениями. Учение о порах как
определенном субъективном ограничении избирательного порядка
проникает и в Эмпедоклову физиологию. Так, необходимым условием
зачатия выступает симметрия пор мужского и женского семени, а где такой
симметрии нет (у мулов, например), зачатие невозможно.
Таким образом, связь мышления с внешним миром оказывается
ограниченной дважды: истечениями (объективно), порами (субъективно). В
такой трактовке познания мы можем усмотреть зачатки осознания
субъективно-предметных отношения как некоторого единства,
определенного и объективно, и субъективно. Созерцательный характер
философских взглядов Эмпедокла результатируется в пассивном характере
субъективного определения. Его поры действуют, скорее, как фильтры, а не
как нечто, обслуживающее направление и организацию действия.
У Эмпедокла мы встречаем дальнейшую разработку категории
причинности. Аэций утверждает, что «по Эмпедоклу, сущность
необходимости есть причина, приводящая в действие принципы и элементы»
(Аэций, 1, 26, 1). Это свидетельство указывает на попытку Эмпедокла
вскрыть структуру необходимости. Плутарх понимает Эмпедоклову
необходимость как единство Вражды и Дружбы: «Необходимость, которую
большинство зовет судьбой, Эмпедокл называет одновременно Любовью и
Враждой» (De animae ргосг. in Tim., 27, 1026В). Платон несколько
детализирует взгляд Эмпедокла на космологических примерах: «Огонь, вода,
земля и воздух произошли по природе и случаем, говорят они. Искусство в
них не участвует. Следующие за сим тела, как-то земля, солнце, луна и
звезды произошли от стихий совершенно бездушных. Случайно носилась
173
каждая стихия своею силою; случайно все сложилось по некоторому
средству, теплое с холодным, сухое с влажным, мягкое с грубым. И так как
все произошло по необходимости, случайным образом произошли и небеса,
и все, что на небе; отсюда составились все формы, следовательно, и
животные, и растения; не по уму, не от бога и не искусством, говорят они, но
природою и случаем» (Законы, 889В). Относительно этого фрагмента
следует оговориться, что для Эмпедокла он звучит несколько радикально.
Вполне возможно, что окажется справедливым выдвинутое в 20-х гг.
мнение, по которому Платон имел здесь в виду не Эмпедокла, а софиста
Антифонта. Свидетельства самого Эмпедокла о связи необходимости,
причины, случая крайне скудны, и лишь некоторые детали понимания
Эмпедоклом причинности могут быть реконструированы из его теории
происхождения животного мира.
В согласии с этой теорией сначала возникли части тела: «Так выросло
много голов без шей, блуждали голые руки, лишенные плеч, блуждали
одинокие очи безо лбов» (Аристотель, О небе, ЗООв). Этот ужасавший
древних своей красочностью период был сменен не менее устрашающим
периодом чудовищ. В это время «стало рождаться много двуликих и
двугрудых существ из бычачьей породы с человеческим лицом и, наоборот,
стали происходить человекорожденные твари с бычачьими головами;
создания смешанные, частью из частей тела» мужчин, частью же женской
природы, наделенные бесплодными членами» (Элий, Nat. anim., XVI, 29). На
этом этапе вступили в действие новые факторы: «Так, Эмпедокл говорит,
что во время господства Любви сначала возникли, как попало, части
животных, как, например, головы, руки и ноги, затем они сошлись... И все
то, что соединилось друг с другом так, что было в состоянии сохраниться,
стало животными и вышло вследствие взаимного восполнения того, что
недоставало другому... все, что не сошлось по нужному соотношению,
погибло» (Симплиций, Phys., 371, 33). Несколько иначе, с точки зрения
целесообразности, смотрит на дело Аристотель: «Части, где все совпало так,
как если бы они образовались ввиду определенной цели - составились сами
собой надлежащим образом, - сохранились; в которых этого не произошло -
174
погибли и погибают, как те «быкорожденные мужеликие», о которых
говорит Эмпедокл» (Физика, 2, 198в). Сам Эмпедокл связывает дальнейшее
развитие с появлением цельноприродных созданий: «Сначала стали
выходить из земли цельноприродные создания, заключавшие в себе по
равной части двух стихий: воды и теплого воздуха; их выталкивал огонь,
стремясь достигнуть себе подобного, в то время как они не обнаруживали
еще ни привлекательного соединения членов тела, ни голоса, ни присущего
мужчинам члена» (Симплиций, Phys., 381, 31). И лишь после этого
произошла дифференциация полов, существа стали жертвой зрения: «их,
соединенных, охватило благодаря зрению желание» (Плутарх, Quaest. nat.,
21,917с), и началась обычная человеческая история.
При всей фантастичности набросанной Эмпедоклом картины, она
довольно близка современным взглядам на происхождение и развитие
видов. Здесь впервые для объяснения процесса развития применена
трехначальная схема. Если дарвинизм объясняет развитие, используя на
правах аксиом наследственность, изменчивость, условия внешней среды, то
примерно тех же, хотя и гораздо более красочных результатов достигает
Эмпедокл в системе начал: Вражда, Дружба, среда (приспособленность).
В Эмпедокловой трактовке развития мы обнаруживаем нечто
напоминающее «вероятностный» детерминизм. Здесь появляются случай,
необходимость, среда в их связи как главные действующие силы процесса
развития. Такой подход характерен и для других составляющих систем
Эмпедокла: в космогонии - это борьба Вражды и Дружбы; в динамическом -
истечения и поры; в теории познания - ограниченная природой истечений и
пор связь с внешней средой.
В целом учение Эмпедокла детализирует общую картину мира в ее
динамической части, вводя такие важнейшие характеристики процессов, как
множественность, дискретная определенность, количественные различия,
пропорции, в части же ценностной - вводя субъективную избирательность.
Нетрудно заметить, что попытка понять Эмпедокла в пределах денежной
модели, даже вовлекая в нее на правах структурных элементов
абсолютизированные отношения прежних моделей, не дала бы результата. С
175
другой стороны, рассматривать принцип причинности в элеатской
негативной формулировке как самостоятельную модель вряд ли возможно.
При этом тройная (качество и две направленные силы), связанная
принципом причинности универсальная характеристика мира налицо. Она
могла бы возникнуть как следствие применения в качестве модели
отношение «субъект - объект». Нужно сказать, что в частных деталях учения
Эмпедокла (теория истечений, избирательность, генезис вещей) мы на
каждом шагу наталкиваемся на элементы этого отношения, но эти частные
детали не привязаны четко к общей космологической концепции, где
членение субъекта и объекта не выдерживается, единство не раздвоено, к
чему привыкло наше мышление, а растроено. Относительно качеств-корней
можно с большой долей вероятности утверждать, что здесь перед нами
структура денежной модели, причем структура, детерминирующая
деятельность Вражды и Дружбы: качества не могут быть уничтожены или
изменены, могут изменяться лишь их пропорции в вещах мира. Тогда
Вражда и Дружба выступают производными от этой детерминирующей
структуры абсолютизациями техноморфной модели, поставленными в
отношения динамической противоположности. По всей вероятности, перед
нами - незавершенный философский синтез нескольких моделей. У
Анаксагора мы встретим ту же картину в более четкой форме, во всяком
случае, «четкой» для современного мышления* предпочитающего по нормам
диалектики раздваивать, а не растраивать единое.
2
Современник Эмпедокла, друг и наставник Перикла и Еврипида,
Анаксагор из Клазомен (500 - 428 гг. до н. э.) был первым философом Афин.
Для Анаксагора высшая цель жизни - познание, созерцательное познание.
Круг интересов Анаксагора невероятно широк: от строения космоса до
птичьего молока: «так называемое, птичье молоко есть белок в яйцах»
(Афиней, 57d).
176
Основную историческую заслугу Анаксагора и в древности, и в новое
время усматривали во введении в философию «устрояющего мирового ума
(vodç)». И это понятно: Аристотель видел в уме первообраз своего вечного
двигателя и приветствовал Анаксагора как первого трезвого «среди
пустословия предшественников»: «Тот, кто сказал, что разум находится,
подобно тому как в живых существах, также и в природе, и что он -
виновник благоустройства мира и всего мирового порядка, этот человек
представился словно трезвый по сравнению с пустословием тех, кто
выступал раньше» (Метафизика, 984в). В эпоху философской фронды
против догматизированного церковью Аристотеля Анаксагор воспринимался
через призму аристотелевских учений и ему, естественно, прежде всего
ставилось в вину введение мирового ума (см., напр., 57, с. 32 и ниже).
Позднее, в классической немецкой философии, сделавшей имманентную
цель одной из аксиом философских спекуляций, Анаксагор вновь
привлекается именно этой стороной своего учения. Гегель, например,
поплутав в древних катакомбах, замечает, подходя к Анаксагору: «Только с
выступлением Анаксагора начинает, хотя еще и слабо, брезжить свет» (40, с.
280), - то основание радости, все тот же мировой ум («первоначалом
признается рассудок») и, во-вторых, это гораздо важнее, «ум устрояющий»,
который вызывает приятные для Гегеля ассоциации о «конечной цели мира,
имманентной последнему» (там же, с. 303). После Гегеля популярность
Анаксагорова ума несколько падает, и у Бернета, например, мы встречаем:
«Своеобразие Анаксагора более относится к теории вещества, чем к теории
vouç'a» (20, с. 269).
Не отвергая огромной философской важности проблем, поднятых
Анаксагоровым «умом», мы вместе с тем не считаем возможным изъять его
как самостоятельный предмет рассмотрения из системы философских
взглядов Анаксагора, а в пределах этой системы он получает ряд
характеристик, умеряющих восторги Платона, Аристотеля, Гегеля.
Мы начинаем это рассмотрение с «гомеомерий», где, по нашему мнению,
лежит ключ к пониманию всех других деталей Анаксагоровой системы. По
справедливому замечанию М. Дынника, в учениях Эмпедокла и Анаксагора
177
античная философия вступила на путь «расчленения материи, которая в
учениях прежних школ рассматривалась в общем процессе развития в
переходе из одного состояния в другое без расчленения ее на составные
части» (57, с. 110). Это тем более справедливо для Анаксагора и его
последователей, так как именно у них обнаруживается сильнейшая тяга к
Анаксимену как единственному милетцу, у которого намечено членение
между всеобщим и особенным, вводится качественная определенность.
Термин «гомеомерии» вряд ли принадлежит самому Анаксагору и идет,
вероятно, от аристотелевского όμοι,ομερής - подобочастный, связан с
анализом Анаксагора в терминах аристотелевской биологической теории,
которая различает элементы (στοιχεία), подобочастное (όμοιομερής) и
неподобочастное (άνομοιομερής). Следует оговориться, что, по мнению Клеве
(58, с. 15-18), который приписывает Анаксагору создание атомной и
молекулярной теорий, в основе Анаксагоровой физики лежали термины:
μόίραι - конечные частицы, никогда не существующие вне χρήματα -
элементов, также неотделимых друг от друга; μερεια - агрегат молекул;
ομοιομερειαι - одинаковые молекулярные составы; ανομοιομερειαι - вещества
различного состава; ομοιον - масса из разных молекул, но одних частиц. В
целом построение Клеве довольно произвольно. У самого Анаксагора
встречаются термины: σπέρματα (семена), χρήματα (вещи) и σπέρματα των
χρημάτων (семена вещей).
В учении Анаксагора о гомеомериях мы усматриваем первую попытку
интерпретации мира в терминах вещь-среда, при этом, естественно, вещь
становится микрокосмом и «каждая гомеомерия, подобно целому, заключает
в себе все существующее и сущее не просто бесконечно, но бесконечно-
бесконечно» (Симплиций, Phys., 460, 4). «Вещи, находящиеся в едином
космосе, не отделены друг от друга и не отсечено топором - ни теплое от
холодного, ни холодное от теплого» (Симплиций, Phys., 175, 11).
Рассматривая космос как единство единичных, отличающихся друг от
друга вещей-семян - «ибо и из прочих вещей одна на другую нисколько не
похожа» (Симплиций, Phys., 34, 28), Анаксагор сразу же сталкивается с
противоречием формы и содержания, однозначной действительности и
178
многозначной возможности. Попытка преодолеть эти затруднения, сохранив
«из ничего не возникает нечто», и определяет, собственно, детали учения.
Этот определяющий пункт хорошо подметил Аристотель: «Возникновение
может совершаться не только привходящим образом - из несуществующего,
но также, можно сказать, что все возникает из существующего, именно из
того, что существует в возможности, но не существует в действительности.
И именно к этому бытию сводится единое Анаксагора; ибо лучше его
формулы «все вместе» - и так же обстоит дело и по отношению к смеси
Эмпедокла и Анаксимандра, и по отношению к тому, что о материи говорит
Демокрит, - лучше всего этого остается сказанное: «все вещи были вместе в
возможности, в действительности же - нет» (Метафизика, 1069в). Таким
образом, здесь мы снова, как и у Эмпедокла, встречаемся с вероятностным
детерминизмом, выраженным уже более четко и с весьма знаменательным
упором на форму существования, то есть, на основной элемент той
структуры мира возможностей, который мы встречали в человеческих типах
регулирования, и который служит в них целью.
Противоречия между формой и содержанием, между качественной
определенностью действительности и изменением этой определенности
Анаксагор пытается разрешить пониманием гомеомерий как смесей
неизменных и вечных качественных комплексов, причем изменение в этом
случае выступает изменением состава смеси, что меняет количественные ее
пропорции и, соответственно, качественные характеристики вещей. По
Анаксагору, любые семена сложны, не представляют какое-либо отдельное
качество, но их смесь; в этом смысле семена выступают формой
существования качеств. Эта последняя качественная среда и будет тем, что
мы называем веществом.
В свете сказанного тезис: «во всем заключается часть всего» (Симплиций,
Phys., 164, 25) можно было бы передать примерно следующим образом.
Существует единое первовещество, характеризуемое рядом форм
существования, «семян»: а, в, с,., к. Было время, «когда все вещи были
вместе» и «ничто не могло быть различимо вследствие бесконечно малой
величины, ибо над всем преобладал воздух и эфир, будучи беспредельны и
179
тот и другой, так как изо всех вещей они суть наибольшие и по множеству, и
по величине» (Симплиций, Phys., 155, 23). В это время первовещество
существовало по преимуществу в формах воздуха и эфира. А остальные
формы? Нам так и хочется сказать вместе с Аристотелем: «все вещи были
вместе - в возможности, в действительности же - нет». Однако такая
трактовка была бы неправомерной. У Анаксагора есть подход к различению
действительного и возможного, но нет еще самого этого различения, как нет
и цели. Он еще крепко связан с денежной моделью. И Анаксагор находит
другой выход: простое количественное различение форм существования,
«семян». Членам ряда а, в, с,., к не приписывается, как это делаем мы, связь в
порядке взаимоисключения, но связь количественного превосходства.
Всякая конкретная вещь оказывается только количественным акцентом на
той или иной форме, причем все остальные формы остаются в пределах
вещи как бесконечно малые: «чего в вещи наибольше, тем каждая отдельная
вещь кажется и казалась» (Симплиций, Phys., 164, 24). Так, к примеру, если
предположить, что дереву-веществу свойствен ряд форм существования: а, в,
с,., к (ряд конечный в современном понимании и бесконечный в понимании
Анаксагора), то все эти формы будут не более как «семена», и конкретно
чувственная форма существования - бревно, например, будет, по
Анаксагору, смесью всех форм (домов, столов, дров, бумаг...), причем
бревно как σπέρμα будет в отношении к другим бесконечно большим
количественно, а другие - бесконечно малыми.
Из этого понятно, почему на первом этапе мы обнаруживаем лишь «эфир
и воздух: «они наибольшие по множеству и по величине», все же остальное
количественно однородно, нет концентрации тех или иных «семян», эфир и
воздух поставлены в отношении к другим как количественные
бесконечности. Из этого понятны и такие заявления Анаксагора: «В одном и
том же семени находятся и волосы, и ногти, и жилы, и артерии, и нервы, и
кости; все они незаметны вследствие того, что состоят из мелких частей,
увеличиваясь же, они мало-помалу выделяются»; «Ведь таким образом, -
говорит он, - из не-волоса мог возникнуть волос и из не-мяса - мясо». Он
говорит это не только о телах, но и о цветах. А именно [по его мнению] в
180
белом заключается черное и в черном белое. То же самое он полагал о весе,
думая, что с тяжелым всегда смешано легкое и, обратно, с легким - тяжелое»
(Схолии, in Gregor., XXXVI, 911).
Подход к диалектическому противоречию действительного и возможного
в терминах простого количественного отношения форм, с одной стороны,
требует принятия бесконечной делимости «гомеомерий», и это Анаксагором
сделано: «и в большом, и в малом находится бесконечность, и нельзя
получить ни наименьшего, ни наибольшего» (Симплиций, Phys., 166, 15), а с
другой стороны - позволяет толковать возникновение и уничтожение
простым разделением, смешением однородных элементов, количественной
концентрацией тех или иных вечных, неизменных в качественном
отношении семян: «Анаксагор отверг возникновение, ввел же вместо
возникновения разделение» (Схолии, in Gregor., XXXVI, 911), что сближает
Анаксагора с Анаксименом.
Перед нами здесь своеобразная попытка качественно атомистического
толкования мира, где атомами в широком смысле слова выступают
качественно неизменные, но количественно изменяющиеся в самых широких
пределах «семена» - формы существования. Такая попытка дает
возможность интерпретировать развитие чисто количественно, выводит
качество из картины изменений мира как постоянную и неизменную
величину, как постоянный коэффициент изменения.
Анализ Анаксагоровых гомеомерий ставит множество проблем. Во-
первых, кто же устанавливает качественную определенность, регулируя
количественную неравномерность элементов? Во-вторых, подобная
трактовка форм существования вещей в качественно постоянных, но
количественно переменных величинах нам очень знакома: это обычная
научная трактовка в той или иной системе единиц, где каждая единица
качественно постоянна, количественно же переменна. На наш взгляд,
совершенно прав В. Гейзенберг в своей оценке Анаксагора: «Анаксагором
подготовлена почва для объяснения качественного разнообразия мира в
терминах изменения количества и пропорций» (41, с. 29).
181
В-третьих, показ качественных постоянных формами существования,
хотя, бесспорно, и связан с денежной моделью, но осложнен подчеркнутым
вниманием к процессу перехода единого субстрата смеси из одного
качественного состояния в другое, то есть вводится модель техноморфная
под субъективным углом зрения, как алгоритм (характер перехода
устанавливается «умом»).
Для обычной научной интерпретации действительны основные
положения Анаксагора. Вместе с тем подобная интерпретация форм
существования вводит нас в самую суть субъектно-объектных отношений,
где формы существования вещей тех или иных предметных классов даны
количественной дифференциацией универсальной силы субъекта. Можно
сказать, что у Анаксагора мы впервые встречаем осознание субъектно-
предметных отношений не с точки зрения внешнего наблюдателя, а с точки
зрения, находящейся где-то в пределах этих отношений, причем, сам
наблюдатель вынужден не только и не столько наблюдать вещи, сколько
измерять их наличным реквизитом «единиц».
В этом смысле учение Анаксагора о гомеомериях есть не столько учение
о вещах и мире, сколько учение о системе единиц, в которых этот мир может
быть измерен и познан.
Способ, которым Анаксагор заставляет гомеомерии порождать на свет
единичные вещи чувственного мира, убеждает нас в том, что именно
человеку, девизом которого было «чистое познание», который родился «для
созерцания солнца, луны и небес (eiç θεωρίαν ηλίου καϊ σελήνης καϊ ουρανού)»
(Аристотель, Эвдемова этика, 1215в), принадлежит заслуга первого
истолкования процесса практики. Мы говорим это на тех основаниях, что,
во-первых, действующие силы выведены здесь за пределы объектов и, во-
вторых, силы эти организованы. Обе стороны: силы и их организация
связаны Анаксагором воедино в мировом Уме: «познание и движение он
приписывает одному и тому же началу, утверждая, что все движется Умом»
(Аристотель, О душе, 405а). Но единство действующего и организующего и
есть, собственно, субъект. Симплиций приводит фрагмент из Анаксагора,
описывающий νους именно как субъект.
182
Во-первых, он внешен вещам-предметам его усилий: «Остальные вещи
имеют в себе часть всего, ум же бесконечен, самодержавен и не смешан ни с
какой вещью, но только он один существует сам по себе. Ибо, если бы он не
существовал сам по себе, но был бы смешан с чем-нибудь другим, то он
участвовал бы во всех вещах, если бы был смешан хотя бы с какой-либо
вещью. Дело в том, что во всем заключается часть всего, как сказано мной
выше. Эта примесь мешала бы ему, так что он не мог бы ни одной вещью
править столь хорошо, как теперь, когда он существует отдельно по себе».
Во-вторых, ум есть вещь, хотя и вещь особого рода: «он - тончайшая и
чистейшая из всех вещей».
В-третьих, он обладает знанием и силой, есть единство действующего и
думающего: «он обладает совершенным знанием обо всем и имеет
величайшую силу. И над всем, что только имеет душу, как над большим, так
и над меньшим, господствует ум. И над всеобщим вращением господствует
ум, от которого это круговое движение и получило начало».
В-четвертых, он действует целенаправленно: «и все, что смешивалось,
отделялось и разделялось, знал ум. Как должно было быть в будущем, как
раньше было (чего ныне уже нет), и как в настоящее время есть, порядок
всего этого определил ум. Он установил также это круговое движение,
которое совершают ныне звезды, солнце, луна и отделяющийся воздух, и
эфир» (Симплиций, Phys., 164, 24).
Таким образом, ум знает, определяет цели, действует. Сама Анаксагорова
космогония предстает в этом свете практикой, поднятой до размеров
космоса. Но практикой именно человеческой, в полном ее объеме, а не
отдельным абсолютизированным актом регулирования, что мы встретим
позднее у Платона и Аристотеля. В этой связи, чтобы определить
соотношение идеалистических и материалистических тенденций в системе
Анаксагора, крайне полезно исследовать пределы суверенности ума, а также
и те критические замечания в адрес ума, которые раздавались из уст
Платона, Аристотеля, Гегеля.
Гильберт замечает: «vous Анаксагора отличается от Ксенофанова бога
тем, что не мыслим без движения» (34, с. 235). Он же констатирует:
183
«Спорно, что Анаксагор связывал с умом только и исключительно
божественное, божество» (с. 233). Бернет сравнивает νους Анаксагора с
Любовью и Враждой Эмпедокла: «По всей вероятности, Анаксагор ввел νους
на правах Любви и Вражды Эмпедокла, поскольку он хотел сохранить
старую ионийскую доктрину о веществе, которое «знает» все вещи, и
приспособить ее к новой теории вещества, которое «движет» все вещи» (20,
с. 268). В этих замечаниях отражена связь ума с движением.
«Существующий сам по себе» ум имеет объектом изучения, целеполагания,
деятельности «все, существующее во всем» - смесь гомеомерий. Его
действия не могут ни создать новых семян, ни разрушить существующее.
Количество семян как качественных определенностей остается неизменным,
практически бесконечным. М. Сагарадзе по этому поводу пишет: «Хотя ум и
выше материи, хотя он относительно материи является началом
властвующим, но власть его не так велика, чтобы от него зависела материя
вполне: функции материи и ума вполне определенны и совершенно друг от
друга независимы; ум не может создать вещи, а материя не может изменить
движения, данного умом» (59, с. 35). В своей деятельности ум-субъект менее
всего творец, он лишь собиратель, нарушающий однородность смеси. Ум
объективно ограничен составом смеси, иначе не выполнялось бы «из ничего
не возникает нечто». Связующим звеном между объектом и субъектом
выступает принцип причинности.
В своей целеполагающей деятельности ум также не выходит за пределы
смеси. В качестве целей выступают все те же семена. Именно они, а не что-
нибудь другое, выдвигаются как составные того «порядка», который
устанавливается умом. Ум здесь действует так же, как человек, цели
которого «порождены объективным миром и предполагают его, - находят
его как данное» (1, с. 159).
Эти объективные ограничения, непосредственно вытекающие из общей
формулы причинности - «из ничего не возникает нечто», являются
материалистическими по своей природе ограничениями, рисуют систему
Анаксагора строго детерминированной. Материалистическая струя в
концепции Анаксагора усиливается и тем частным обстоятельством, что он
184
наделяет душой как способностью познавать и действовать (Пселл, О
свойствах камней, 26) все вещи животного и растительного царства,
усматривая в душе общность с умом: «Во многих местах он признает ум
источником прекрасного и справедливого, в других же отождествляет его с
душою, утверждая, что ум присущ всем живым существам, малым и
большим, благородным и низким» (Аристотель, О душе, 404в). Анаксагор
устанавливает некоторую градацию душ по их совершенству, измеряя это
совершенство по субъективным способностям вызвать к жизни те или иные
вещи, или, более конкретно, по орудийному признаку. Так, Аристотель
указывает, что, по Анаксагору, «человек является самым разумным из
животных вследствие того, что он имеет руки» (О душе, 687а). Эта мысль
Анаксагора, крайне ценна для определения взглядов Анаксагора и
Аристотеля на пределы суверенности «ума» и «вечного двигателя».
Внешние ограничения ума-субъекта в его практической и теоретической
деятельности, определяющее влияние практической деятельности и орудий
на «силу» ума - все это, несомненно, материалистические тенденции в
мировоззрении Анаксагора. Анаксагорова концепция, безусловно, подпадает
под «субъективный мотив», и уже в этом смысле ей присуща некоторая
односторонность. В самом деле, при субъективном мотиве материя в ее
всеобщности предстает перед субъектом множеством форм
действительных или потенциальных носителей блага. Формы эти
определены субъективно, как способные удовлетворять те или иные
потребности, и динамически, как требующие определенных типов
регулирования по присвоению. У Анаксагора мы находим в основном только
динамическое определение, да и то в форме исходного онтологического
ограничения: ум как самодержавная, существующая сама по себе сила, не
создает каких-либо новых семян «из ничто», вынужден довольствоваться
тем их наличным ассортиментом, который независимо от ума существует в
первичной «смеси». В свете сказанного, материализм Анаксагора
представляется незавершенным, поскольку Анаксагор не дает анализа форм
со стороны их субъективной ценности. Сюда и направляют удары его
критики. Платон дает совершенно справедливую критику этой стороны
185
учения Анаксагора: «Если бы кто-нибудь сказал, что, не будь у меня костей
и нервов, я не мог бы поступить так, как я поступаю, то он был бы прав. Но
утверждать, что я поступаю так, как поступаю в настоящее время, только
потому, что имею кости и нервы, а вовсе не потому, что делаю добровольно
выбор того, что считаю наилучшим, утверждать так - значило бы показать
полную небрежность и леность мышления» (Федон, 97в). В критике
Платоном схвачено главное: система Анаксагора не исключает выбора, не
исключает свободы, в ней детально проработаны границы выбора, границы
проявления свободы как некоторая ограниченная наличным составом смеси
многозначность. Но вместе с тем совершенно упущена субъективная оценка
в терминах блага, упущен переход от многозначности к однозначности, не
ставится вопрос ни о выборе, ни о свободе. Примерно в том же направлении
идет критика и Аристотелем, и Гегелем.
Аристотель упрекает Анаксагора за факультативность проявлений ума:
«Анаксагор использует ум как машину для создания мира, и когда у него
явится затруднение, в силу какой причины то или иное имеет необходимое
бытие, тогда он его привлекает, во всех же остальных случаях он все что
угодно выставляет причиною происходящих вещей, но только не ум
(Метафизика, 985а). Позиция Аристотеля, отождествляющего природу и
«искусство», понятна, ибо, по Аристотелю, вечный двигатель через форму
участвует в любом изменении, определяя и организуя его.
Гегель, который гораздо теснее и определеннее ограничивает себя
гносеологией, замечает: «То соотношение с собой в определенности,
которое, как мы видим, появляется в учении Анаксагора, содержит в себе
определение всеобщего, хотя оно еще не выражено формально; здесь перед
нами - цель или благо» (40, с. 291). Однако, сказав массу прекрасного о цели
как о субъективном и ее превращении в объективное, Гегель сетует:
«Надежда, на которую дает нам право такое начало, сильно уменьшается.
Этому всеобщему противостоит на другой стороне бытие, материя,
многообразное вообще, возможность, противостоящая всеобщему vofc'a, как
действительности» (с. 292). Нетрудно заметить, что даже в разочаровании
Гегель остается верным самому себе, спускается с высот надежды на
186
тормозах аристотелевской поправки («лучше всего это сказать: все вещи
были вместе в возможности, в действительности же - нет» (Метафизика,
1069в). И это позволяет ему еще возлагать некоторые идеалистического
толка ожидания на νους Анаксагора. Однако все, в конце концов, разлетается
прахом: «Но если νους Анаксагора и есть движущая душа во всем, он все же
в области реального, как мировая душа и органическая система целого, еще
остается пустым словом» (40, с. 297). Здесь мы согласны с Гегелем:
Анаксагоров νους - менее всего гегелевский «абсолютный дух». Мы
согласны и со вторым выводом Гегеля: «Мы не только не находим у
Анаксагора ни следа понимания им вселенной как разумной системы, но
более того: древние определенно говорят, что он довольствовался тем, что
мир, природа есть великая система, что мир мудро устроен или, в общем,
разумен. Это еще не дает никакого понятия, как реализуется этот разум или,
короче говоря, какова разумность этого мира» (с. 298). Вот именно! Так
какова же разумность этого мира? По Гегелю, платоновскую критику
следует понимать как тоску по «абсолютному духу». Нам же не кажется это
обязательным. Напротив, замечание Платона, которое мы привели выше,
справедливо именно применительно к основам практической деятельности
субъекта, но ни к идеализму, ни к абсолютному духу оно не имеет
отношения.
Слабым пунктом системы Анаксагора является и то, что им игнорируется
роль чувственности, сохраняется элеатское раздвоение мира на мир άλη&ια
и мир δό£α: «Он предполагает некоторое двойное устроение мира, одно -
умственное, другое - чувственно воспринимаемое, отдельное от первого»
(Симплиций, Phys., 157, 5).
Таким образом, будучи прав в своих исходных пунктах понимания
субъективного мотива и человеческой практики как областей, для которых
имеет силу «из ничего не возникает нечто», объединяя теоретическое и
практическое в едином понятии νους, которое наиболее адекватно
переводилось бы словом «субъект», Анаксагор впервые рассматривает
субъектно-предметные отношения в конечных противоположностях
субъекта и предмета (объекта), вскрывает объективные границы
187
деятельности субъекта. Вместе с тем в своем учении о voûç Анаксагор еще не
в состоянии детализировать такие звенья субъективного мотива, как
субъективная оценка форм-семян, устранение многозначности, выбор,
свобода, связь рационального и чувственного в познании. Отсутствие такой
детализации - крупнейший недостаток учения Анаксагора как с точки
зрения идеализма, так и с точки зрения материализма. Идеалистический путь
требует сохранения космических масштабов при устранении объективных
ограничений субъекта, материалистический - связи с человеческой
деятельностью при сохранении объективных ограничений.
Именно постановкой вопроса о субъекте и предмете, о материи как смеси
семян Анаксагор делает крупнейший вклад в философское понимание
причинности.
* * *
Эмпедокл и Анаксагор, если их рассматривать с точки зрения
использованных моделей, возрождают использованный уже милетцами
способ абсолютизации отдельных структурных элементов дофилософских
моделей. Но то, что делалось, например, пифагорейцами и Гераклитом без
попыток оправдать свои действия ссылками на основание и выглядело
поэтому произволом, делается теперь, во-первых, со ссылкой на основание -
принцип причинности, - во-вторых, в том, хотя еще и не осознанном
направлении, которое диктуется самим этим принципом: абсолютизации
выходят за пределы денежной модели, но выходят не случайным образом, а
формируя замкнутый контур связей, универсальную цепь причин. Уже у
Эмпедокла такой замкнутый характер системы обнаруживается достаточно
наглядно, хотя здесь еще нет четкого членения: субъект и объект как
концентраторы процессов и свойств рассыпаны, не собраны в устойчивые
комплексы. У Анаксагора эта работа завершена. Надобно заметить, что
система Анаксагора вряд ли была осознанным применением модели
«субъект-объект». Перед нами комплекс моделей, но комплекс,
подчиненный принципу причинности. Следует отметить также, что в
188
системе Анаксагора, которая еще не использует лингвистической модели,
последняя, как это показывает платоновская критика, уже содержится
частным случаем. И в этом смысле, поскольку постплатоновская философия
центр тяжести переносит на лингвистическую модель с ее основным
вопросом об отношении сознания к бытию, учение Анаксагора - самая
широкая философская система, не имеющая себе равных в истории
философии.
2. Вероятностный детерминизм Демокрита
«Эмпирический естествоиспытатель и первый энциклопедический ум
среди греков» (60, с. 126), абдеритянин Демокрит (460-370 гг. до н. э.) был,
пожалуй, первым философом древности, для которого понятия причины,
необходимости, случая перестали быть само собой разумеющимися, стали
предметом изучения и исследования. Демокриту принадлежит честь
преобразования основной формулы детерминизма «из ничего не возникает
нечто» в более четкую и структурную формулу: «ни одна вещь не возникает
беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу
необходимости». Это понимание причинности проходит затем через всю его
систему. О субъективном отношении Демокрита к причинности говорят его
полные энтузиазма и научного фанатизма слова: «Я предпочел бы найти
одно причинное объяснение, нежели приобрести себе персидский престол»
(Евсевий, Р. Е., XIV, 27, 4). В устах человека, для которого «по самой
природе управлять свойственно лучшему» (Стобей, IV, 6, 19), «искусство
управлять государством - высшее из искусств,., дающее жизни человека
величие и блеск» (Плутарх, Adv. Col. 1126А), приведенная оценка принципа
иричинности говорит о многом. Демокриту принадлежит и великое
множество причинных объяснений относительно фактов самого различного
свойства, объяснений, иногда довольно наивных.
Как и системы Эмпедокла и Анаксагора, философия Демокрита может
рассматриваться частным случаем решения проблемы, очерченной
положением: «из ничего не возникает нечто», - решением, сохраняющим
189
свое значение до наших дней. Элеатское по происхождению, но объективное
по содержанию, основное положение детерминизма вносит некоторую
путаницу в историческую традицию. Пока не различено генетическое и
объективное в этой формуле, все последующее развитие философии
получает известный налет элеатизма. Любая попытка остаться в пределах
тех ограничений, которые накладываются формулой детерминизма,
заведомо объявляется элеатской по источнику, особенно в школах,
достаточно близких к элеатам по времени. Эта тенденция находит свое
выражение и в оценке философии Демокрита, против чего, на наш взгляд,
справедливо возражает Тимошенко (61). А. Маковельский, например, пишет:
«Если с точки зрения генезиса на школу элеатов можно смотреть как на
секту, отколовшуюся от пифагорейцев, то, в свою очередь, школа атомистов
подобным образом может быть рассматриваема как секта, отколовшаяся от
элеатов» (33, с. 72). Те же мотивы звучат у Бернета: «Поскольку речь идет об
общей теории физического строения мира, она связана непосредственно с
элеатскими и пифагорейскими источниками, тогда как космологическая
схема - более или менее удачная попытка подогнать ионийские взгляды под
новую физическую теорию» (20, с. 349). На наш взгляд, говорить об
элеатском происхождении атомизма можно только в очень узком,
«детерминистском» смысле, но в этом смысле все мы - элеаты, ибо в любой
материалистической теории выполняется положение «из ничего не
возникает нечто».
Сама фигура Демокрита несколько расплывчата. Во-первых, неясно,
существовал ли предшественник Гераклита Левкипп, а во-вторых, если
существовал, то, что в атомистическом учении принадлежит Левкиппу, и что
- Демокриту. Несмотря на ряд исследований, которые ведутся еще со
времени Теофраста, вопрос так и остается открытым. За существование
Левкиппа высказывались Аристотель и Теофраст, а в наше время - Роде,
Наторп, Таннери, Нестле, Баммель. По мнению А. Маковельского, Левкипп
существовал, но учил устно (33, с. 69). Он же считает, что в некоторых
аспектах возможно даже противопоставление Левкиппа Демокриту:
«Демокрит представляет полную противоположность Левкиппу... Система
190
Демокрита решительно переходит границы досократовской философской
мысли. Ни хронологически, ни идейно Демокрит не является
«досократиком». Система Демокрита наравне с системой Аристотеля
составляет высшую вершину, в которой кульминирует философская мысль
древности» (с. 68). Мы не возьмем на себя смелость определить собственную
позицию в этом споре о Левкиппе - это потребовало бы значительных
отступлений от темы и едва ли привело к определенному результату,
поэтому, говоря о Демокрите, мы будем иметь в виду всю ту сумму
свидетельств и фрагментов, в которых отражена атомистика конца V и
начала IV вв. до н. э.
1
В основе философии Демокрита лежит отрицание актуальной
бесконечной делимости первовещества, и в этом пункте Демокрит в
известной степени завершает начинание Анаксагора, для которого
характерно постулирование бесконечной делимости количества и отрицание
такой делимости у качества. И Анаксагор, и Демокрит по праву пользуются
репутацией пионеров на том научном пути, который в наше время привел к
атомной теории. Гейзенберг, например, пишет: «Анаксагор принимает
неопределенное число элементов, соединение и разделение которых
вызывает к жизни и уничтожает единичные явления. Эта работа подготовила
почву для объяснения качественного разнообразия внешнего мира в
терминах изменения количества и пропорций смеси. Эта идея нашла свое
завершение в атомной теории Левкиппа и Демокрита» (41, с. 20).
Вместе с тем Демокритово уточнение исходных аксиом Анаксагора -
отрицание делимости количества - переводит основную проблематику из
субъектно-предметных отношений, в которых бесконечная делимость силы
субъекта обеспечивает выполнение Анаксагоровых положений, в
объективную область, где субъект как деятель устраняется из картины мира.
Эта частная особенность философии Демокрита создала ему заслуженную
славу основателя эмпирической науки, а вместе с тем дала некоторые
191
основания идеалистам типа Гегеля третировать спекулятивное в Демокрите.
Ленин пишет о гегелевском подходе к Демокриту: «Демокрита Гегель
рассматривает совсем уже как мачеха» (1, с. 275). За учителем идет и ученик,
неогегельянец Кронер: «С точки зрения истории естественных наук
атомисты - весьма важная школа. С точки же зрения философии они мало
оригинальны и примечательны» (35, с. 127). Переоценка роли физического в
учении Демокрита привела к появлению в нашей литературе неверных
оценок первого сознательного материалиста: «Не открывая новой страницы
в истории развития положительной науки, - пишет Данелиа,
атомистическое учение Демокрита заканчивало собою цепь универсальных
физических теорий, возникших на почве греческой культуры, и в нем, как в
наиболее зрелом продукте чуждого философской рефлексии физикального
мышления древности, наиболее ярко сказалось несовершенство этой
предпосылки, на которой покоилось это наивное мышление, - предпосылки,
будто вся наука есть физика» (54, с. 95). О том, что для Демокрита не вся
наука есть физика, мы будем говорить ниже.
По взглядам Демокрита, атомы различаются лишь формой, порядком и
положением (Аристотель, Метафизика, 985в), вещи же складываются из
атомов, и качества вещей сводимы, в конечном счете, к указанным
различиям атомов. Атомам присуще самодвижение: «атомы движутся,
ударяя друг друга и ударяясь один о другой» (Александр, Metaph., 36, 21),
«они носятся в пустоте (ибо пустота существует) и, соединяясь между собой,
они производят возникновение, расторгаясь же - гибель. Где случится им
соприкасаться, там они действуют сами и испытывают действия других ...
складываясь и сплетаясь, они рождают вещи» (Аристотель, О возникновении
и уничтожении, 325а). В этом пункте Демокрит решительно расходится не
только с элеатами, исключавшими движение из сущности, но и с
Эмпедоклом и Анаксагором, для которых источник движения принимался
вне вещей. Такое, на первый взгляд, возвращение к проблематике ионийцев
должно рассматриваться весьма критически: это возрождение проблематики
идет в новых условиях, сознательно подчинено принципу причинности.
192
В атомах система Демокрита получает своеобразный строительный
материал, позволяющий, не нарушая положения «из ничего не возникает
нечто», строиться и миру в целом, и субъектно-предметным отношениям в
частности. Такое предприятие требует только некоторой модификации этого
положения в направлении, допускающем переходы, связь разнородного, а
вместе с ними и движение. Соответственно, исходный причинный постулат
принимает форму: «все возникает на каком-либо основании и в силу
необходимости». Для проявления переходов и связей допускается
существование пустоты, наделенной некоторыми геометрическими
свойствами: «над», «под», «выше», «ниже». В этом различении видят
обычно один из способов преодоления той пропасти, которая имела место в
прежних системах между количеством и качеством. Вундт, например,
пишет: «Учение Демокрита сводит все явления на движение мельчайших,
но, все же, протяженных телец (атомов) в пустом пространстве. А этим
самым оно преодолело антагонизм обеих школ старой космологии, которые
считались либо только с чувственными качествами эмпирического мира,
либо с количественными отношениями» (62, с. 20). Тимошенко в разделении
пустого и полного, в неделимых и неизменных атомах усматривает источник
известной метафизичности Демокрита: «У Демокрита пустота абсолютно
противопоставлена атомам, независима от них... противоположности
отделены друг от друга, переход их друг в друга невозможен» (61, с. 7).
«Рассмотрение атомов как абсолютно неделимых является метафизическим
моментом в учении Демокрита. Однако нельзя забывать, что в постановке
вопроса о пределе делимости материи - не только слабость, но и сила учения
Демокрита: проблему нужно рассматривать и в качественном, и в
количественном отношении. Демокрит прав, отвергая бесконечную
делимость определенных качественных состояний, но ошибается, отрицая
бесконечную делимость материи в количественном отношении» (там же, с.
6). Что касается первого замечания, то мы целиком согласны с Тимошенко.
Что же до второго, то его правомерность целиком зависит от понимания
количества и зависимости диалектики от количества. Судя по системе
Анаксагоровых гомеомерий, где выполняются предложенные условия
193
истинности, дело едва ли зависит только от дискретной или непрерывной
природы количества.
Симплиций так рисует исходную картину атомов, их самодвижения,
возникающие при этом связи и переходы: «Демокрит полагает, что вечные
начала по своей природе суть маленькие сущности, бесконечно многие по
числу. Кроме них, он предполагает истинно сущим еще другое: место,
бесконечно большое по величине. Называет он это место следующими
именами: «пустотой», «ничем», «беспредельным», а каждую из
вышеупомянутых сущностей - «что», «полное», и «бытие». Он полагает, что
сущности настолько малы, что недоступны восприятию наших органов
чувств. У них разнообразные формы и разнообразные фигуры, и они
различны по величине. И вот из них, как из элементов, возникают,
вследствие их соединения, видимые и ощущаемые массы. Вследствие
несходства и прочих указанных различий, они пребывают в беспорядочном
движении и носятся в пустоте, носясь же, они встречаются и переплетаются
друг с другом, так что приходят в соприкосновение и располагаются рядом.
Однако, по его мнению, из них при сплетении отнюдь не образуется
поистине единая природа. Ибо совершенно нелепо, чтобы два или большее
число могли бы когда-либо стать одним. Причиной же того, что эти
сущности в течение некоторого времени «держатся вместе» друг с другом,
он считает то, что между ними образуются связи и что тела захватывают
друг друга. Дело в том, что одни из них кривые, другие - крючковидные,
третьи - впалые, четвертые - выпуклые, прочие имеют другие бесчисленные
различия. Итак, он полагает, что они крепко держатся друг за друга и
«пребывают вместе» в течение определенного промежутка времени, до тех
пор, пока какая-либо более сильная необходимость, явившись извне, не
потрясет образовавшийся конгломерат и, разделив атомы, рассеет их. Он
говорит о рождении и о противоположности его - распадении не только
относительно животных, но и о растениях, мирах и вообще обо всех
чувственно воспринимаемых телах. Итак, если рождение есть соединение
атомов, смерть же - их распадение, то, и по Демокриту, рождение, пожалуй,
есть изменение» (Симплиций, De caelo, 294, 33).
194
Мы видим, что связь здесь понимается механистически (захват), а
переходы (рождения и распадения) подчинены необходимости, в основном,
внешней. Мир движущихся в пустоте умопостигаемых атомов как раз и
оказывается у Демокрита той «скрытой гармонией», которая со времен
Гераклита успела побывать и «единым» элеатов, и «корнями» Эмпедокла, и
смесью «семян» Анаксагора. Здесь, у Демокрита, скрытая гармония остается
связанной с денежной моделью только в трактовке качества. Сущностный
характер этого мира неоднократно подчеркнут в высказываниях Демокрита,
сохраняющих преемственность элеатского деления на истину и мнение,
причем первую он называет и «действительностью». Секст и Гален приводят
наиболее известное высказывание этого рода: «Лишь в общем мнении
существует сладкое, во мнении - горькое, во мнении - теплое, во мнении -
холодное, во мнении - цвет, в действительности же существуют только
атомы и пустота» (Секст, Adv. math., VII, 135). Комментируя это положение
Демокрита, Гален добавляет: «Дело в том, что «в общем мнении» у него
значит то же, что «согласно с общепринятым мнением» и «для нас», а не по
природе самих вещей; природу же самих вещей он, в свою очередь,
обозначает выражением «в действительности», сочинив термин от слова
«действительное», что значит «истинное» (Гален, De elem. sec. Hipp., I, 2).
Относительно Демокритова различения и Галенова комментария следует
оговориться, что слово «существовать» употребляется здесь Демокритом как
строгий научный термин, означающий, скорее, принадлежность к
умопостигаемому миру, чем пребывание в некоторой устойчивой
определенности.
Таким образом, и у Демокрита, как и у его предшественников, мир
разделен на гармонию скрытую («действительность») и гармонию явную
(мнение), причем первая определяет последнюю. В самом факте такого
разделения мы не усматриваем ничего криминального. Вопрос не в том,
существует ли скрытое от чувственности, оно, бесспорно, существует и как
динамическое, и как ценностное, вопрос о роли чувственного в познании.
Как мы уже видели (Симплиций), необходимость выступает у Демокрита
силой внешней, которая, «явившись извне», «трясет» и «разделяет»
195
соединения атомов. Она же, вероятно, и соединяет их. Относительно
природы Демокритовой необходимости: уже в древности характерна
множественность исключающих друг друга мнений, что связано с
преобразованием самого понимания необходимости, которое со времен
Аристотеля оказалось в связи с целевой причиной. Суть аристотелевского
нововведения в его связи с необходимостью в учении Демокрита Кассирер
поясняет следующим образом: «Понятие космической причинности
достигает действительной полноты и зрелости в греческой атомистике,
которая, используя причинность, не только по содержанию, но и по форме,
достигает вершины научного объяснения мира. Ничто в мире не возникает
случайно (μάτην), но на известном основании и в силу необходимости (ек
λόγου те καΐ ύττο ανάγκης). Необходимое выступает против случайного как
всеобщее против особенного, твердо определенное против фантастически
произвольного. Аристотель был вынужден дать новое определение
«случайности» и «необходимости» в совершенно ином уже плане. Для
Аристотеля «случайно» то, что не следует из «сущности» вещи. Вместе с тем
эта «сущность» (ουσία) определяется «формой» (efSoç)» (63, с. 25).
Определяющим же элементом формы у Аристотеля выступает имманентная
цель, «ради чего». Необходимость, таким образом, оказывается связанной с
целью, приобретает однозначность, о наличии или отсутствии которой у
Демокрита можно только гадать. Соответственно, и Демокритов принцип
причинности выступает, скорее, вероятностным, чем «лапласовским»
однозначным детерминизмом. Вероятностная его характеристика
оказывается единственно возможной в плане генезиса его учения. Ни у
предшественников, ни у самого Демокрита мы не находим использования
лингвистической модели, которая одна только дает выход к однозначности.
Демокрит остается в тех широких вероятностных рамках, которые Платон
образно назвал «кости и нервы». Это подтверждается и платоновской
трактовкой Демокритовой «необходимости»: «родом причины
беспорядочной», вероятностной трактовкой.
Платон понимал под Демокритовой необходимостью «род причины
беспорядочной». Но уже в аристотелевском анализе учения Демокрита мы, с
196
одной стороны, читаем: «Некоторым же причиной кажется случай,
непонятный для человеческого ума» (Физика, 196в), а с другой -
«Уничтожение случая влечет за собой нелепые последствия. Есть многое,
что совершается не по необходимости, а случайно... Если в явлениях нет
случая, но все существует и возникает из необходимости, тогда не пришлось
бы ни совещаться, ни действовать для того, чтобы, если поступить так, было
одно, а если иначе, то не было бы этого» (Об истолковании, IX, - пер. Э.
Радлова).
В более поздних источниках оценка Демокритовой необходимости все
больше и больше выливается в простое приписывание Демокриту
аристотелевской «необходимости» и обвинение его в фатализме. В наше
время такая трактовка стала традиционной. Шредингер, например, не
замечая аристотелевских шор, пишет: «Все происходящее строго
детерминировано уже у своих истоков, и поэтому мы решительно
отказываемся видеть, что такая концепция может объяснить поведение
живых существ, включая и нас, которые, очевидно, могут выбирать в
широких пределах движения тела по свободному решению разума. Если
душа, разум составлены из элементов, движущихся необходимым путем, то
не остается места для этики и морали» (31). Не свободна от влияния
аристотелевского понимания необходимости и оценка Тимошенко:
«Понимание необходимости носило ограниченный характер, вело к
принижению необходимости до уровня случайности, вело к фатализму» (61,
с. 8). Любопытно отметить, что у Платона, этого злейшего противника
Демокрита, мы не находим такой критики необходимости, хотя сам мотив
свободы и выбора используется Платоном довольно широко, в критике
Анаксагора, например.
Справедливости ради, следует отметить, что Демокрит допускает
довольно широкую и расплывчатую трактовку необходимости. В случае
Демокрит видел «идол», который люди измыслили, «чтобы пользоваться им
как предлогом, прикрывающим их собственную нерассудительность»
(Стобей, II, 8, 16). Отвергая случай, Демокрит вместе с тем не озаботился
точно определить «необходимость». Она определена скорее негативно, как
197
нечто, исключающее случай, но и только. В этом смысле любопытны
свидетельства Аэция и Аристотеля. Аэций указывает состав понятия
необходимости у Демокрита как «сопротивление, движение и удар материи»
(Аэций, I, 26, 2). Аристотель дает более общее и вместе с тем более
расчлененное внутренне определение. С одной стороны, это «все, чем
пользуется природа»: «Демокрит, отбросив целевую причину, все, чем
пользуется природа, сводит к необходимости» (О происхождении животных,
V, 8, 789Ь). Природа же, по Аристотелю, пользуется, кроме целевой
причины, причинами материальной, движущей и формальной, то есть,
Демокриту приписывается ограничение троицей: формой, силой, ее
реализующей, и областью возможного. С другой стороны, подход Демокрита
к вещам природы дифференцируется зависимо от свойств вещей, от их
принадлежности к органическому или неорганическому миру: «А именно
они говорят, что животные и растения не случайно существуют и возникают,
но причина этому есть или природа, или ум, или что-нибудь другое в таком
роде, ибо из каждого семени возникает не что попало, но из такого-то
семени - оливковое дерево, а из такого-то - человек, небо же и самые
божественные из видимых вещей возникли сами собой; такой же причины,
как у животных или растений, у них нет вовсе» (Физика, 196а).
Из приведенных свидетельств явствует, что критика «необходимости» в
учении Демокрита велась в основном с пЪзиций целевой причины и
«разумности» происходящего, а с этой позиции все, не ведущее к цели,
представляется случаем. Вместе с тем, сам Демокрит понимал
необходимость весьма широко, охватывая в этой категории и то, что ныне
называется случаем. Если, используя результаты нашего краткого анализа,
попытаться несколько детализировать модель причинности простой
подстановкой в основную формулу - «все возникает на каком-нибудь
основании и в силу необходимости» - основных значений для
необходимости, мы получим довольно любопытные формулировки:
1. Все возникает из атомов и пустоты в силу сопротивления, движения и
удара (Аэций).
198
2. Все возникает из атомов и пустоты в силу материальной, формальной и
движущей причин (Аристотель).
3. Все возникает из атомов и пустоты в силу формы, условий ее
реализации и области возможного.
В свете последних двух формулировок «необходимость» выглядела бы, с
одной стороны, как однозначная связь формы и силы ее реализаций, а с
другой - как многозначно определенная связь действительного и
возможного, то есть, вероятностным детерминизмом. Такая реконструкция
стала бы правомерной, если бы удалось доказать, что Аристотель, говоря
«все было в возможности, в действительности же нет» (Метафизика, 1069в),
приводит слова Демокрита, а не свои собственные. К сожалению, хотя в
сборниках фрагментов они и даны как слова Демокрита, в «Метафизике»
они, скорее, выглядят как вставка самого Аристотеля. Таким образом,
принцип причинности дан у Демокрита уже в некотором структурном
результате, который сам может служить и служит моделью.
2
Понимание пустоты и атома - предела делимости - как сущность,
основание, на котором, в силу необходимости, возникает все, позволяет
Демокриту из этого основания создать и мир, и частное свойство некоторых
вещей этого мира - мышление - без введения дополнительных постулатов,
что повело к созданию философской системы с сильнейшим
материалистическим уклоном. Это сделало ее, по сути дела, первой
системой философского материализма, в которой сознание показано
производным (генетически, в основном) от мира атомов и пустоты, а сам
этот мир выступает независимым от сознания. И хотя, по несовершенству
органов чувств, мир этот недоступен чувственному восприятию, он все же
познаваем, умопостигаем, поскольку ум обладает «более тонким»
познавательным органом (Секст, VII, 139). Эти особенности философского
учения Демокрита позволили Ленину совершенно справедливо указать на
199
Демокрита как на зачинателя и наиболее яркого представителя тенденции,
линии материализма (5, с. 117). Теория познания в учении Демокрита
использует теорию «истечений», по поводу деталей которой Маковельский
замечает: «Спорным является отношение Левкиппа к Эмпедоклу. У них
является общим учение о «порах», но одинаково возможно допустить, что
это учение Эмпедокл заимствовал у Левкиппа, так и наоборот, влияние
Эмпедокла на Левкиппа» (64).
Основные исходные положения учения Демокрита, поскольку логическая
структура не рассматривается им со стороны своей основной функции, -
достижение однозначности в динамике, - практически исключает
правильную постановку вопроса о познании, и познание у Демокрита
оказывается суженым до процесса получения информации о внешнем мире.
При этом Демокрит сразу же встречает две принципиальные трудности: во-
первых, человек обладает органами чувств, но им закрыт доступ в мир
истины, мир движущихся в пустоте атомов; во-вторых, человек обладает
разумом, и мир атомов умопостигаем, однако не совсем ясно, каким путем
осуществляется это постижение - выход разума в объективность.
Первая трудность - невозможность с помощью органов чувств
проникнуть в мир атомов, требует либо признания беспредметности
чувственного знания, либо установления для него особенного, вне мира
истины, предмета. Относительно этой трудности энтузиаст эпикуреизма
Диоген из Эноанды высек на камне следующее грустное замечание: «Сделал
ошибку, недостойную его, также Демокрит, утверждая, что по истине
существуют только атомы и что все какие ни на есть прочие признаки вещей
субъективны. И действительно, согласно твоему учению, Демокрит,
непонятно, как мы могли бы найти истину, даже мы не могли бы жить, так
как мы не умели бы остеречься ни от огня, ни от ранения, ни ...» (Диоген из
Эноанды, фр. 6 col. 2).
Попытки Демокрита преодолеть эту трудность не отличаются
определенностью. С одной стороны, многократно утверждается основной
тезис: «Человек... далек от действительности,., мы ничего ни о чем не
знаем,., трудно познать, какова каждая вещь в действительности» (Секст,
200
Adv. math., VII, 137); «истина скрыта в глубине» (Диоген, IX, 72);
«ощущения ложны» (Аэций, IV, 9). С другой стороны, Демокрит пытается
ввести свой особый предмет для чувственного, анализируя чувственное в
терминах причинности: «Ощущение и мышление возникают вследствие
того, что приходят извне образы. Ибо никому не приходят ни одно
ощущение или мысль без попадающего в него образа» (Аэций, IV, 8); «для
каждого из нас в отдельности его мнение есть результат притекающих к
нему образов» (Секст, Adv. math., VII, 137).
Природа предметов чувственного познания оказывается довольно
сложной, ибо сами образы, идолы предстают определенным причинным
продуктом субъектно-предметных отношений: «В действительности мы не
воспринимаем ничего истинного, но воспринимаем лишь то, что изменяется
в зависимости от изменений нашего тела и входящих в него и оказывающих
ему противодействие истечений от вещей» (Секст, Adv. math. VII, 137). В
понимании природы идолов Демокрит довольно близко примыкал к
Эмпедоклу. У Демокрита, как и у Эмпедокла, мы обнаруживаем двойное
(внешнее и субъективное) ограничение чувственных связей, в основе
которых лежит принцип подобия: «То, что действует, и то, что испытывает
действие, тождественны и подобны. Ибо неодинаковые и различные вещи не
могут испытывать действий друг от друга, но даже если бы какие-либо вещи,
будучи неодинаковыми, действовали как-либо друг на друга, то это
происходило бы с ними не поскольку в них есть что-нибудь различное, но
поскольку они имеют что-нибудь тождественное» (Аристотель, О
возникновении и уничтожении, 323в). Вероятно, «идолы» Демокрита и
следует воспринимать как нечто «истинное» в своей объективной части, но
субъективно «просеянное», искаженное в процессе восприятия, затемненное
органами чувств.
Трудность вторая - неясность путей, которыми разум связан с миром
атомов и пустоты, - преодолевается Демокритом весьма противоречиво, во
всяком случае, противоречивы свидетельства древних по этому пункту. Так,
иногда указывают на отождествление Демокритом мышления и ощущения
(Аристотель, Метафизика, 1009в), иногда же подчеркивают их
201
разобщенность (Секст, Adv. Math., VII, 135) или подчеркивают причинную
трактовку отдельных чувственных процессов (Теофраст, De sensu, 58),
иногда же, напротив, подчеркивается их «условный», «воображаемый»
характер (Аэций, IV, 9). Мы не собираемся утверждать, что такая
противоречивость - продукт комментирования, однако считаем довольно
вероятными те реконструкции теории познания Демокрита, которые исходят
из связи разума с миром атомов через посредствующее звено чувственного,
из того, что Ленин называл «диалектикой перехода» от чувства к мысли.
В самом деле, если, взяв за основу принцип подобия, сравнить некоторые
высказывания, то в них обнаружится ряд общих идей, позволяющих более
определенно говорить о структуре познания у Демокрита. Так, мы читаем:
«Что касается неразумных животных, мудрецов и богов, то у них органов
чувств более пяти» (Аэций, IV, 10); «Жалкий разум! Взяв у нас
доказательства, ты нас же пытаешься ими опровергать! Твоя победа - твое
падение!» (Гален, de medic, empir., fr. ed. H.Schoene, 1259, 8); «Есть два рода
познания: один - истинный, другой - темный. К темному относятся все
следующие виды познания: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Что же
касается истинного, то оно совершенно отлично от первого... Когда темный
род познания уже более не в состоянии ни видеть слишком малое, ни
слышать, ни обонять, ни воспринимать вкусом, ни осязать, но исследование
должно проникнуть до более тонкого, недоступного уже чувственному
восприятию, тогда на сцену выступает истинный род познания, так как он в
мышлении обладает более тонким познавательным органом» (Секст, Adv.
math., VII, 139).
В этих высказываниях нетрудно заметить усилия Демокрита показать
данные органов чувств непосредственным предметом рационального.
Неистинность, ложность, темнота чувственного познания связываются
Демокритом не с органическим пороком чувственного, а, скорее, со
слабостью органов чувств и односторонним отбором информации
чувствами. Менее всего видит Демокрит источник искажений и в свойствах
отбираемого материала. Рациональное, поэтому, выступает у Демокрита не
как нечто в принципе отличное от чувственного по источнику, а, скорее, как
202
целое в его отличии от раздробленного. Единые по предмету чувственное и
рациональное различаются функционально: чувственное дробит предмет
зависимо от собственной природы, берет его лишь в узких пределах,
односторонне, рациональное же призвано составить из этой чувственной
мозаики целостную картину, экстраполируя и синтезируя по логическим
законам. Секст говорит, пожалуй, в этом плане, когда свидетельствует: «В
«Канонах» он говорит, что есть два вида познания, из коих познание
посредством логического рассуждения он называет законным и приписывает
ему достоверность в суждениях об истине, познание же посредством
ощущений он называет темным и отрицает пригодность его для распознания
истины» (VII, Adv. math., 138). Близок к этому пониманию и Аристотель:
«Демокрит говорит, что или нет ничего истинного, или истина для нас
скрыта. Вообще же вследствие того, что он отожествляет мышление и
ощущение, последнее же есть изменение, - то для него чувственное явление
должно быть истинным» (Метафизика, 1009в).
Таким образом, чувственность истинна, поскольку в ней представлен мир
атомов и пустоты, но вместе с тем она ложна, темна, поскольку мир этот
представлен в ней однобоко, выборочно, зависимо от свойств органов
чувств. С другой стороны, рациональное истинно по тем же причинам, что и
чувственность, а также и потому, что разум соединяет разрозненные
элементы истинного в единую целостную картину. Что же до законов, по
которым идет соединение и от которых рациональное получает название
«законного» рода познания, то эти законы и правила выводимы из внешнего
мира атомов и пустоты, чем, собственно, Демокрит и отличается от Платона.
Сохранившиеся фрагменты и свидетельства позволяют, таким образом,
рассматривать теорию познания Демокрита как более или менее целостную
систему связи объективно истинного с разумом через органы чувств. Здесь
можно отметить ту деталь, что состояние первоисточников именно
позволяет рассматривать, хотя и не исключает других взглядов.
Основным недостатком взглядов Демокрита на познание служит все то
же исключение практики, ограничение созерцанием. Маркс отмечает:
«Различие взглядов Демокрита и Эпикура на достоверность науки и
203
истинность ее объектов - в различии научной энергии и практической
деятельности этих двух мыслителей. Демокрит, у которого принцип не
выступает в явлении, а остается лишенным действительности и
существования, имеет зато перед собой, как мир реальный и полный
содержания, мир чувственного восприятия. Правда, этот мир - лишь
субъективная видимость, но именно в силу этого он оказывается
оторванным от принципа и пребывающим в своей самостоятельной
реальности, являясь в то же время единственным реальным объектом, мир
этот имеет ценность и значение как таковой. Демокрит вынужден поэтому
перейти к опытному наблюдению. Неудовлетворенный философией, он
бросается в объятия положительного знания» (65, с. 33). С нашей точки
зрения, тяга к эмпирии проявляется у Демокрита и в самой постановке
проблемы познания. Для него задача состоит в том, чтобы показать познание
результатом естественных причин, результатом абсолютизированным и
замкнутым в себе. Если Анаксагорово разделение субъекта и предмета
позволяло поставить вопрос о чувственном и рациональном как элементах,
звеньях замкнутой цепи каузальных связей, то система Демокрита
исключает такую постановку вопроса, берет чувственное и рациональное как
самостоятельные сущности, берет их со стороны результата, а не функции.
Поэтому, хотя попытка создать теорию познания, удовлетворяющую
основному причинному постулату, и представляет значительный интерес,
теория познания Демокрита гораздо менее интересна со стороны
функциональной. У Демокрита теряется та ясность в трактовке качества по
аналогии с формой существования, с которой мы имели дело у Анаксагора.
А введение количественной дискретности, квантование количества, оставляя
причинные цепи замкнутыми, переносит их в объект, как элемент структуры
объекта. Это хотя и сближает Демокрита с современной наукой, вместе с тем
исключает возможность четкого различения субъекта и объекта, лишает
почвы функциональный взгляд на теорию познания. Усилия Демокрита в
теории познания ограничиваются генезисом знания, не касаясь
использования знания.
204
3
Важной составной частью философии Демокрита выступает его учение о
языке. Здесь Демокрит, как и его предшественники, рассматривает язык
предметом изучения, а не моделью структурных связей, на которые можно
было бы опереться в изучении действительности. Усилия Демокрита
концентрируются на изучении природы лингвистического знака, где
выдвигается противоположная Гераклиту теория θέσει (по установлению)
Прокл приводит основные моменты (επιχειρήματα), определяющие взгляды
Демокрита на природу языкового знака - «по установлению» (θέσει):
Демокрит же говорит, что именно «по установлению», и доказывает это
четырьмя эпихейремами:
1 ) на основании одноименности. Ибо различные вещи называются одним
и тем же именем. Следовательно, имя - не по природе;
2) на основании многоименности: если различные имена прилагаются к
одной и той же вещи, то они равнозначны между собой, что невозможно,
если имена - по природе;
3) на основании перемены имен. Ибо каким образом мы переименовали
Аристокла Платоном, Тиртама же Теофрастом, если имена - по природе?
4) на основании недостатка подобных имен. Почему от «мышления» мы
говорим «мыслить», а от «справедливости» мы уже не производим
подобным же образом другого имени? Следовательно, имена - по случаю, а
не по природе (Прокл, in Crat., 16, 6-10). Возражения Демокрита против
гераклитовской теории φύσει (по природе) не теряют своего значения и до
настоящего времени.
Показывая условный и немотивированный характер лингвистического
знака, Демокрит пытается дать причинное истолкование происхождению
языка как частной проблеме происхождения общества: «Что касается
перворожденных людей, то о них говорят, что они вели беспорядочный и
звероподобный образ жизни... Так как на них нападали звери, то они стали
научаться помогать друг другу, благодаря пользе, приносимой совместными
действиями. Собираясь же вместе вследствие страха, они мало-помалу стали
205
познавать знаки, передаваемые ими друг другу. И тогда как вначале голос их
был бессмысленным и нечленораздельным, постепенно они стали говорить
членораздельно и в общении друг с другом стали устанавливать словесные
символы относительно каждой из вещей, и таким образом они создали
самим себе привычную речь обо всем существующем. А поскольку такие
объединения людей образовались по всей обитаемой земле, то не один язык
возник у всех людей, так как каждая из групп составляла слова, как ей
пришлось... В результате этого появились разнообразные языки со своими
особенностями и также первоначально образовавшиеся объединения людей
стали родоначальниками всех народов... сама нужда служила людям
учительницей во всем, наставляя их соответствующим образом в познании
каждой вещи» (Диодор, I, 8).
Основные положения теории Демокрита: немотивированность
лингвистического знака, очаговый характер происхождения языка,
возникновение языка в коллективе, язык - условие совместных действий
(нужда-учительница) - все они сохраняются и в современных теориях
происхождения языка.
Любопытной чертой является частое обращение Демокрита к
фонетической структуре для иллюстрации основных положений теории
атомов, что сохраняется и у Эпикура, и у Лукреция. Аристотель, показывая
различия атомов, делает это, привлекая буквьг «В самом деле, они говорят,
что бытие различается только "очертанием, соприкасанием и поворотом". Из
них очертание есть форма, соприкасание - порядок, поворот - положение.
Например, А отличается от N формой, AN от NA - порядком, N от Z -
положением» (Метафизика, 985в). В другом месте Аристотель, комментируя
Демокрита, говорит: «Ведь из одних и тех же букв возникает трагедия и
комедия» (О возникновении и уничтожении, 314а). Баммель высказывает
гипотезу о том, что некоторые различения мира атомов заимствованы
Демокритом из изучения графического знака и в частности вавилонской
клинописи, для которой как раз характерен «поворот букв» (66, с. 326).
В целом попытка усмотреть в связях букв и их соотношениях источник
некоторых идей атомистики требует очень осторожного к себе отношения,
206
хотя привлечение графического материала на правах модели и не
исключено. Взятые из графики модели могли бы объяснить частные стороны
теории атомов. Вместе с тем взгляд Демокрита на природу лингвистического
знака делал бы такие модели психологически несостоятельными.
4
В своем учении о благе Демокрит подхватывает намеченную уже
Гераклитом идею релятивности, зависимости этических ценностей от
состояния субъекта и его нужд. Однако есть и существенное различие в
постановке проблемы у Гераклита и Демокрита. По Гераклиту, логос
выступает верховным, объединяющим началом, и лишь применительно к
нему можно дать истинную оценку элементам блага: «У бога прекрасно все
и хорошо, и справедливо, люди же одно считают справедливым, другое -
несправедливым» (Порфирий, Гомеровские вопросы, к «Илиаде», IV, 4 к). В
противоположность этому благо у Демокрита вообще не имеет отношения к
истинности: «Прекрасно по природе одно; по закону же - другое,
справедливого же вообще не существует по природе» (Платон, Законы,
889de). (Относительно этого свидетельства высказывают предположение,
что его следует отнести не к Демокриту, а к софисту Антифонту). В поисках
критерия оценки блага Демокрит обращается к общественной и личной
потребности, причем общественное ставит выше личного: «Удовольствие и
неудовольствие образуют границу между полезным и вредным» (Климент,
Strom., 130); «Интересы государства должно ставить выше всего прочего...
не следует бороться против справедливости и для своей личной пользы
применять насилие против общего блага» (Стобей, IV, 1, 43); «Если кто-
нибудь пренебрегает общественными делами, то он приобретает дурную
репутацию, даже если он ничего не ворует и вообще не совершает никакой
несправедливости» (Стобей, IV, 1, 43-44).
Подчеркивая релятивность блага, Демокрит-философ способен приводить
весьма наглядные примеры его относительности: «От чего мы получаем
добро, от того же самого мы можем получить и зло, а также средство
207
избежать зла. Так, например, глубокая вода, полезна во многих отношениях,
но, с другой стороны, она вредна, так как есть опасность утонуть в ней.
Вместе с тем, найдено средство избежать этой опасности - обучение
плаванию» (Стобей, II, 9, 1). Этот фрагмент как нельзя более полно
характеризует позицию Демокрита в вопросах этики, позицию
материалистическую.
Для Демокрита - представителя средних слоев рабовладельцев - вопрос о
благе оказывается слишком щекотливым, оказывается той самой «глубокой
водой», в которой можно утонуть. В направлении абсолютизации классовых
интересов идут многие высказывания Демокрита - свободного гражданина
греческого полиса. Демокрит на этом пути сближается со своим
философским противником Платоном. Здесь можно обнаружить все, что
угодно: и ссылки на долг: «Тот, у кого хорошее состояние духа, всегда
стремится к справедливым и законным делам, и поэтому он и наяву, и во сне
бывает радостен, здоров и беззаботен» (Стобей, И, 9, 3), и ссылки на
общность блага: «Для всех людей одно и то же благо и одна и та же истина»
(Зол. изр., 34), «Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего он не имеет,
но радуется тому, что имеет» (Стобей, III, 17, 25), «Тот, кто завидует
богатым, .. вынуждается всегда предпринимать что-нибудь новое и, в конце
концов, направить свою страсть на какое-нибудь ужасное, противозаконное
дело» (Стобей, III, 1, 210), и прямые угрозы в адрес нарушителей
законности: «Должно быть позволено каждому безнаказанно убивать
всякого разбойника и пирата» (Стобей, IV, 2, 18).
* * *
Значение Демокрита в истории становления причинности не
исчерпывается только тем, что Демокрит, по сути дела, первым подошел к
выяснению отношений познания и бытия в плане их производности и
попытался решить эту проблему с позиций философского материализма. С
нашей частной, подчиненной целям работы точки зрения, важнейшая заслуга
Демокрита состоит в уточнении исходной формулы причинности, в
208
преобразовании «из ничего не возникает нечто» во «все возникает на каком-
нибудь основании и в силу необходимости».
Используя уточненный принцип причинности, Демокрит во многом
конкретизировал отдельные стороны учения Эмпедокла, хотя сама эта
область субъектно-объектных отношений, как отмечал Маркс, оказывается у
него «оторванной от принципа» областью положительного знания. Вместе с
тем у Демокрита потеряна связь качественной определенности мира с
формой существования вещей, и контурам причинных связей закрывается
выход в субъект. Проблематика Демокрита оказывается проблематикой
детерминизма природы вообще, что и объясняет его авторитет в
современных точных науках. Но то же самое явление - перенос всех
универсальных характеристик в объект - исключает подход к теории
познания со стороны ее функции. Материализм Демокрита, материализм
бесспорный, предстает вместе с тем материализмом односторонним,
который из всего богатства связей сознания и бытия исследует лишь одну -
связь генетическую.
С точки зрения моделей, мы видим у Демокрита общую ему с
Эмпедоклом и Анаксагором тенденцию к освобождению от денежной
модели, выходу за ее пределы. Но если у его предшественников сама эта
тенденция лишь направлялась принципом причинности, то у Демокрита
обнаруживается более глубокий процесс: сам принцип причинности
приобретает некоторую структуру, показан универсальным структурным
отношением, использован на правах модели. Это, как и логос Гераклита, -
продукт философского умозрения, который, хотя и связан генетически с
моделями, получает вместе с тем самостоятельное существование.
3. Учение софистов о свободе
Обычно считают, что софисты не составляют отдельное философское
направление или особую философскую школу, и принадлежность к
софистам усматривается не столько в общности философских взглядов,
сколько в общности профессии платного «учителя мудрости». Не лишенный
209
оснований и подкрепленный исторической традицией взгляд этот, однако,
затушевывает основное в софистке: переход к лингвистической модели,
определенный подход к предмету философии, и ее утилитарный,
«идеологический» характер. В философии софистов «природа как космос
отодвигается на задний план, человек сам для себя становится проблемой
загадочной и увлекательной» (67, с. 57).
Основным предметом софистики выступает этическое в его связи с
чувственным, попытка обосновать ту или иную норму блага. Йегер
справедливо отмечает, что «софистика впервые дала публичность и влияние
идее, что αρετή (благо) должно быть основано на знании» (36, с. 285).
Этическое как основной предмет усилий софистов подчеркивается многими:
«Истинными родоначальниками греческой философии нравственности, -
пишет Радлов, - были софисты, ибо они первые поставили себе задачей не
только толкование греческой жизни и частичное исправление этических
понятий, но и критику самих основ этики» (56, с. 259). Ограничение
софистов чувственным и этическим в ущерб динамике подчеркивают с
меньшей определенностью. Сагарадзе, например, пишет: «Софисты в своих
исследованиях опирались на простые ощущения и считали достаточным
изучение первичных особенностей человека, тогда как Сократ и Платон в
основу своих философских построений ставили изучение логического
мышления и нравственной воли человека^ исходя, следовательно, из
наблюдений над высшими способностями человека» (59, с. 16). При
несколько неожиданном упоре на «способности» суть различий схвачена
довольно точно. У Сократа и Платона лингвистическая модель выступает
уже осознанным в строгости своей структуры исходным постулатом, тогда
как у софистов привлечение отдельных элементов лингвистической
структуры редко мотивировано ссылкой на структуру в целом, часто носит
произвольный характер. Кронер отмечает ограничение чувственным скорее
как тенденцию, чем как реальный факт: «Протагор не был настолько смел,
чтобы свести реальность только к чувственному, как это сделали Локк, Юм и
Кант» (35, с. 132).
210
Об утилитарной «идеологической» стороне софистики говорят обычно,
ссылаясь на политические условия того времени и на образ жизни афинян.
Йегер отмечает: «Попытка софистов учить политическому благу была
прямой реакцией на коренные изменения в структуре государства» (36, с.
291). Чернышев справедливо указывает на особенности афинской жизни:
«Так как жизнь афинян, этих неисправимых зевак и болтунов, протекала по
преимуществу на улицах, в судах, в Совете, в Народном собрании, слово
получает у них трудно переоцениваемое значение. Деятельность софистов и
заключалась в том, что они оформили практику и возвели ее в теорию, в
логос» (67, с. 31). Сразу же нужно оговориться, что речь здесь идет о той
ограниченной области практики, которая составляет суть и смысл жизни
свободного грека в рабовладельческом обществе, то есть о практике
политической борьбы внутри класса рабовладельцев, где основные
«технологии» связаны с использованием социальных институтов, а
основным орудием выступает язык. По сути дела, борьба здесь ведется за те
или иные пропорции в распределении произведеннного рабами продукта и
имеет довольно мало общего с тем объективным определением, с которым
приходится иметь дело в области производительного труда. Специфика
«практики», которую софисты возвели в теорию, предопределяет
устремления софистов в риторику, а также скрытый или явный
индетерминизм их философских построений. Этот индетерминизм, кстати
говоря, возможен лишь как отрицание конкретного детерминизма, того
самого детерминизма, который обнаруживается у Анаксагора и Демокрита.
Основную задачу софистики - научить «мыслить, говорить и делать» не
следует понимать слишком широко. «Дело» софистов не есть «дело» Гете,
которое было вначале, но лишь политическое, в пределах класса
рабовладельцев, «дело», предполагающее необходимым условием класс
рабов. К истинной практике, к рабскому труду учения софистов не имели
никакого отношения.
Происхождение софистики из политической борьбы того времени
подчеркивалось и древними: «она родилась из раздора» (Филострат, Vitae
Sophistarum, рг.); «каждое из частных наемных лиц, которых сами же они
211
называют софистами и почитают своими соревнователями, преподает не
иное что, как учение толпы, произносимое в ее собраниях» (Платон,
Государство, 493А). Платон совершенно справедливо усматривал в
софистике идеологию афинского демоса. Выступая выразителями интересов
демократии и пытаясь философски обосновать эти интересы, софисты
(ранние), прежде всего, обращались к исследованию области блага, ставили
этическое в центр своей проблематики. Вместе с тем ограничение
внутриклассовой политикой как областью прикладной философии,
исключение из предмета трудовых процессов, а вместе с ними и
объективного определения, создавали реальную угрозу появления
субъективного идеализма, релятивизма, скептицизма, что, собственно, и
произошло с последователями Протагора.
С нашей точки зрения, софисты интересны как переходная к
лингвистической модели школа, совершающая этот переход в негативной
связи с Демокритовым детерминизмом, отталкиваясь от него; интересны
своими попытками опереться на релятивность блага, законы мышления,
функциональную роль языка [93].
Недостаточность сохранившихся свидетельств и необходимость
использовать для анализа учений свидетельства политических противников,
прежде всего Платона, исключает сколько-нибудь полное и систематическое
изложение взглядов софистов. Поэтому мы остановимся только на
некоторых интересующих нас деталях.
В учениях софистов древний мир приходит к выводу о человеческом, а не
божественном или природном характере основных общественных
институтов. Иначе говоря, приходит к четкому различению субъективного и
объективного, пока еще в оторванной друг от друга, противопоставленной
друг другу форме. Первым софистом доксографы называют ученика
Анаксагора Архелаоса, который будто бы сказал: «то δίκαιον και то αισχρό ν
ού φύσει cfvai, άλλα νόμω (справедливое и постыдное не по природе, но по
закону)» (68, с .3). Поскольку же общественные институты - человеческое
творение, софисты приходят к выводу о том, что эти институты могут быть
изменены, переделаны человеком на более рациональных с точки зрения
212
человеческого блага основаниях. Софисты в этом смысле - провозвестники
человеческой свободы, для них характерна ожесточенная критика и
божественных, и природных ограничений свободы человека. Первое
направление выливается в атеизм, второе - в индетерминизм.
Поскольку обеспечение человеческой свободы выступает у софистов
основной предпосылкой практической деятельности, снятие религиозных и
естественных ограничений, исследование человеческих возможностей,
воспитание как средство «искусственного» создания в душе человека
критерия оценки собственных поступков, - все это и составляет содержание
софистических философских систем [94].
Революционная сторона софистики, ее бунт против традиционных
ограничений заключал в себе реальную угрозу уже не только аристократии
как части класса рабовладельцев, но и существованию рабовладельческого
общества в целом. Именно поэтому была такой острой философская реакция
против софистов как в древности, так и в новое время. Аристотель
определил софистику мудростью кажущейся, а софистов - людьми,
умеющими наживать деньги от кажущейся, не подлинной мудрости (О
софистических опровержениях, 165а). Гегель высоко ценил софистов,
однако если вглядеться в критерий его оценки, то он чисто негативен. В
современной литературе обычно идут за Гегелем, но довольно часто можно
встретить и взгляды Аристотеля. Кинкель, например, пишет: «Влияние
софистов на философскую мысль было разлагающим, и человечество имеет
все основания быть благодарным Сократу, Платону и Аристотелю за
преодоление этого зла. Иногда говорят, будто софисты имеют и позитивные
заслуги перед философией, они, будто бы, действуя напористо и без
уважения к авторитетам, способствовали более ясному пониманию места
человека в природе. Мы не можем признать за ними этой заслуги.
Софистика - болезненное заблуждение человеческого духа, что имело место
не однажды и не только в Греции» (69, с. 273). Довольно своеобразную
оценку софистике дает и Чернышев: «Софистика - гротеск философии,
ублюдок метафизики и диалектики. Софисты ловко пользуются ошибками
метафизически ограниченного ума... Далекая от метафизики и диалектики и
213
близкая к ним софистика поставила человечество перед проблемой
антиномичности бытия и мысли» (67, с. 152).
Реально же эта антиномичность бытия и мысли, о которой пишет
Чернышев, проявляется в попытках софистики выделить социальные
отношения в особенно ценностное, в особую область со своими особыми
законами, несводимыми к законам природы и не связанными с ней. Ссылки
на законы мышления, структуру языка как раз и призваны утвердить
суверенность этой области. В этом пункте софисты выступают
противоположностью современному иррационализму: именно в
рациональном софисты ищут своеобразие области vo/xcu, структуру
«ценностного» мира. Это важно отметить как предпосылку слияния
ценностного с динамическим в философии Сократа и Платона.
1
Наиболее колоритным, многосторонним и последовательным
представителем софистики был Протагор (483 - 414 гг. до н. э.). Для
Протагора существует лишь то, что доступно чувственному восприятию, все
же остальное, «умопостигаемое», должно быть отброшено, поскольку
подтвердить его существование невозможно, а руководствуясь данными
умопостижения, никогда нельзя быть уверенным в правомерности
накладываемых ими ограничений. Характерно в этом смысле дошедшее до
нас начало сочинения Протагора о богах: «О богах я не знаю, ни что они
существуют, ни каковы они по виду, ибо многое мешает это знать, как
неясность вопроса, так и кратковременность жизни человека» (80, В 4 DK),
(70). О содержании книги свидетельствует тот факт, что она была сожжена, а
автору пришлось бежать из Афин.
В своих философских взглядах, обосновывая положение: «Человек - мера
всех вещей: существующих, что они существуют, несуществующих, что они
не существуют» (Платон, Теэтет, 152А), Протагор ясно и недвусмысленно
утверждает субъективную проблематику. При желании нетрудно найти
линии близости Протагора к Анаксагору, Гераклиту, Демокриту. Деринг,
214
например, подчеркивает близость Протагора к Гераклиту: «Философские
постулаты взяты Протагором у Гераклита. У него взято представление о
текучести бытия и о борьбе противоположностей в вещах» (71, с. 314-315).
Шредингер видит в Протагоре чистого сенсуалиста (31, с. 28). Кронер
усматривает у Протагора непосредственную связь с атомистикой. Однако
при этом у Протагора налицо попытка обособить специфически
человеческое, субъективное, оторвать его от объективного. Любопытно в
этом плане сравнение некоторых деталей учения Протагора и учения
Анаксагора, поскольку «логосы» Протагора - основания всех явлений -
близки по месту в системе Анаксагоровым гомеомериям.
Секст Эмпирик свидетельствует о Протагоре: «Этот человек говорит, что
материя текуча, и при течении ее на месте утрат возникают непрерывно
прибавления и восприятия перемешиваются и меняются, смотря по возрасту
и остальному устройству тел. Он говорит, что основания всех явлений
находятся в материи, так что материя, поскольку это зависит от нее, может
быть всем тем, что является всем, люди же в разное время воспринимают
разное, смотря по разнице их настроений; тот, кто живет по природе,
воспринимает из материи то, что может явиться живущему по природе,
живущий же противоестественно - то, что может являться живущим
противоестественно» (Секст, Ругг. hyp., I, 217-218).
За непривычной терминологией нетрудно все же заметить «субъективный
мотив», представляющий себе материю возможностью «всего» [95]. Вместе
с тем субъект Протагора гораздо менее деятелен, чем субъект Анаксагора и
во многом от него отличается. Во-первых, субъект Протагора - обычный
человек, а не человек в его абсолютизированной всеобщности, как это было
у Анаксагора. Во-вторых, субъект Протагора не испытывает тяги к
действию, он, скорее, воспринимает, созерцает. Наконец, субъект Протагора
не связан теми ограничениями «по природе», которые были характерны для
«ума» Анаксагора. На последнем обстоятельстве нам следует остановиться
подробнее, поскольку именно в трактовке материи обнаруживаются корни
протагоровского релятивизма и скептицизма.
215
У Анаксагора уму противостоят гомеомерии, составляющие смесь-
материю. «Ум» не может ни создать, ни уничтожить эти гомеомерии, его
суверенность как субъекта ограничена лишь способностью концентрировать
гомеомерии данного типа в данном месте и в данное время за счет
уменьшения их концентрации в других местах. Субъект здесь только
нарушает равномерность распределения гомеомерии, не причиняя ущерба
смеси в целом, и в этом смысле он существует по природе, ограничен
наличной смесью и наличным ассортиментом гомеомерии.
У Протагора эти внешние ограничения деятельности субъекта
оказываются снятыми: субъект волен жить по природе или
противоестественно. Материя в этом случае предстает чистой
возможностью.
Возражая Анаксагору, Платон четко очертил проблему внешнего
ограничения в ее отношении к свободе человека: «Утверждать, что я
поступаю так, как я поступаю в настоящее время только потому, что имею
кости и нервы, а вовсе не потому, что делаю добровольно выбор того, что
считаю наилучшим, утверждать так - значило бы показать полную
небрежность и леность мышления» (Федон, 99AB). Платона-идеалиста здесь
можно с большой натяжкой усмотреть только во взаимоисключающем
противопоставлении костей и нервов выбору «наилучшего». Нам, однако,
представляется более вероятным иной план "противопоставления: «кости и
нервы» определяют, ограничивают мои поступки («не будь у меня костей и
нервов, я не мог бы поступить так»), но определяют их многозначно, не
говорят о том, почему из дозволенных мне костями и нервами поступков я
совершаю именно этот, а не любой другой. Платон подчеркивает, и, на наш
взгляд, совершенно справедливо, что однозначность достигается «выбором
лучшего». Опасность отрыва в идеализм скрывают в себе оба звена: и
многозначная определенность (кости и нервы), и определенность
однозначная (выбор наилучшего).
Протагор в его трактовке материи как чистой возможности, хотя и не
разрывает полностью с материализмом («основания всех явлений находятся
в материи»), но вместе с тем делает материалистический взгляд
216
односторонним, исключает объективное определение, поскольку материя не
препятствует даже живущим противоестественно. С другой стороны, в
трактовке «наилучшего выбора» Протагор уверенно стоит на почве
материализма, считает, что только субъективная потребность может
диктовать выбор, а не какая-нибудь божественная или сверхъестественная.
Фаррингтон довольно ясно подмечает эту особенность позиции Протагора:
«Когда он говорил, что человек - мера всех вещей, он почти наверняка имел
в виду, что человеческие институты должны быть приспособляемы к
изменяющимся человеческим потребностям. Но эта идея была антитезой
Платону, который устами Сократа в «Государстве» учил, что идея
справедливости вечна и должна быть понята не изучением истории, но
чистым разумом. Здесь, а не в принципе субъективности, следует искать
реальную основу расхождений между Протагором и платоновским
Сократом» (32, с. 79).
Отсюда и своеобразное, «меж двух огней», положение софистов в их
отношении к Демокриту и Платону. Полемика с Демокритом
концентрируется в основном на «костях и нервах», где софисты выступают
против детерминизма. Полемика с Платоном, прежде всего, связана с
установлением того, что диктует выбор. Здесь софисты борются с
идеалистом Платоном, пытающимся связать выбор и само понимание блага
со сверхъестественной силой - богом.
Поскольку Протагоров субъект ориентируется в поступках понятиями о
собственной пользе, постольку важнейшей задачей софиста служит
воспитание [96]. Подобно садовнику, медику философ имеет перед собой
практическую задачу воспитать в человеке способность различать полезное
и вредное. Цели воспитания состоят в обучении совмещать личную пользу с
общественной: «Я преподаю им науку благоразумия в делах домашних, то
есть, как лучше управлять собственным домом, и в делах общественных -
как искуснее действовать и говорить о делах города» (Платон, Протагор,
318Е-319А).
Общественное благо понимается Протагором как нечто непосредственно
вытекающее из блага личного. В знаменитом мифе о Прометее и Эпиметее
217
Протагор так рисует природу общественного блага. После того, как
Прометей, обеспокоенный судьбой беззащитных людей, обеспечил их всем
нужным для удовлетворения потребностей, он обнаружил, что людям
«недоставало гражданской мудрости и, живя без общественных уз, они
впали в постоянные споры и бедствия. Тогда Зевс приказал Гермесу дать им
прекрасный стыд и закон. Гермес спросил, как ему распределить их: раздать
ли их немногим людям, как частные искусства, подобно тому, как люди
обладают наукой врачевания и помогают другим? «Всем, - сказал Зевс, -
пусть все получат их, потому что не бывать городам, если будут иметь их
только некоторые, как разделены искусства. При этом постанови моим
именем, что не имеющий стыда и закона должен быть убит как зараза
общества». Поэтому афиняне и другие народы, рассуждая о добродетели
плотнической или о каком-нибудь ином мастерстве, советуются только с
немногими и не терпят, чтобы люди, не принадлежащие к числу тех
немногих, подавали им советы. Но когда они приступают к совещанию о
добродетели политической, которая должна выражаться в справедливости и
рассудительности, тогда допускают каждого подавать свой голос, потому
что политическая добродетель должна быть достоянием всех, а иначе не
было бы городов» (Протагор, 320D-324A). Относительно этого
свидетельства Платона возникают известные разногласия. Большинство, и
мы поддерживаем это мнение, склоняется к тому, что Протагор стремится
здесь показать социальный, устанавливаемый людьми и их потребностями
характер общественного блага. Существует, однако, и другой взгляд. Радлов,
например, пишет: «О Протагоре мы знаем, что он признавал в человеке два
прирожденных чувства: чувство справедливости и стыд, и эти-то
прирожденные чувства делают возможным общественную и
государственную жизнь. Таким образом, справедливое, по мнению
Протагора, существует по природе (φύσ€ΐ), а не как произвольное
установление человека. Эти две мысли дают Протагору возможность
говорить об естественном праве человека, не отожествляя его с произволом»
(55, с. 29). Подобное толкование не кажется нам справедливым уже потому,
что чуть ниже Протагор говорит: «Доселе я говорил, что каждый человек
218
справедливо допускается к совещанию о добродетели этого рода, потому что
ей причастны все, а теперь постараюсь доказать, что она не врождена и
является не сама собой, но всякий, в ком она есть, приобретает ее наукой и
упражнением» (Платон, Протагор, 323С) [97].
У Протагора мы обнаруживаем переход от денежной, чисто объективной
модели, к модели лингвистической. Этот процесс совершается в рамках
Анаксагоровой системы субъектно-объектных отношений и выражается в
переносе центра тяжести проблематики на субъект. Часто переход выступает
отрицанием связи природного и социального (различение φύσα и νόμω) и
провозглашением индетерминизма, иногда же - попытками опереться на
логическую структуру, как на специфически субъективную закономерность.
2
Учитель Крития Антифонт получает в последнее время некоторую
популярность в историко-философской литературе. С его именем связывают
несколько фрагментов, а также ряд свидетельств Платона в «Законах», в
частности, то, которое мы приводили как свидетельство об Эмпедокле (см.
66 и 72), а также глубокой важности свидетельство, которое принято
относить к Демокриту: «Прекрасно по природе одно, по закону же - другое,
справедливого же вообще не существует по природе» (Платон, Законы,
889DE).
В оценках личности Антифонта много неопределенного. По Лурье, он
«человек очень оригинальный, но ни в каком отношении не гениальный»
(72, с. 4), предложивший «древнейшую анархическую систему» (72, с. 43).
Вывод об анархизме стоит у Лурье на Антифонтовом понимании этической
нормы как ограничения человеческой свободы в интересах коллектива, но
против такого понимания нормы вряд ли что-либо можно возразить. Не
менее произвольным представляется и вывод Сережникова: «Антифонт был
заклятым врагом демократии», аргументированный тем, что
«антифонтовский взгляд на государство совпадает со взглядом Сократа» (73,
с. 5). Было бы довольно трудно, если не невозможно, установить эти точки
219
совпадения и увидеть в Антифонте врага демократии, тем более, что как раз
Антифонту принадлежат слова: «По природе мы все и во всех отношениях
равны, притом [одинаково] и варвары, и эллины» (Оксиринхск. папир.. XI,
№1364, ed. Hunt, Φ. Б., 2).
По сохранившимся отрывкам можно с определенностью установить
только несколько особенностей философских взглядов Антифонта. Он четко
различал продукты природы как живое и продукты искусства как мертвое.
Искусство же - выдумка законодателей, оно существует по закону (νόμω), а
не по природе (φύσεή.
Для Антифонта характерно понимание этической нормы как ограничения
человеческой свободы: «Что же касается полезных вещей, то те из них,
которые установлены законами, суть оковы для человеческой природы, те
же, которые определены природой, приносят человеку свободу» (там же, Ф.
Α., 4). В связи с этим выполнение предписаний законов имеет смысл только
для общества, в котором живешь: «Справедливость заключается в том,
чтобы не нарушать законы государства, в котором состоишь гражданином»
(там же, Φ. Α., 1). Вообще же справедливость - нечто из области
человеческих отношений и, как говорит Антифонт в «Истине»,
«справедливость в том, чтобы не причинять никому обиды, если сам не
испытываешь обиды» (XV, 120). Поскольку законы меняются из государства
в государство, «предписания законов произвольны ... многое, справедливое
по закону, враждебно природе» (Оксиринхск. папир.. XI, № 1364, ed. Hunt.,
Ф.А., 1).
В целом фигура Антифонта слишком темна, хотя сохранившиеся
фрагменты и позволяют уточнить некоторые линии критики софистов со
стороны Сократа и Платона в интересующей нас области свободы и ее
границ.
У Антифонта, бесспорно, более четкое членение субъективного и
объективного, чем у Протагора. При этом объективное, природное,
рассматривается в духе вероятностного детерминизма: полезные вещи,
«которые определены природой», приносят человеку свободу; субъективное
же выступает вторичным определением в рамках определенного природой,
220
иногда даже враждебным природе. Это последнее замечание: «многое,
справедливое по закону, враждебно природе», - единственный след
индетерминизма у Антифонта. Общая тенденция здесь та же, что и у
Протагора.
3
Критий, вождь тридцати афинских олигархов, показал, что философские
основы софистики, ее идеологический, партийный характер равно хорошо
могут быть использованы и в пользу демоса, и во вред ему. Отметая, как и
Протагор, «умопостигаемое», Критий, подобно прагматистам, рассматривает
частные «умопостигаемые теории», а именно религию, как реальные силы,
которые могут быть использованы в политике. Критий вносит существенную
поправку в Протагоров миф о Прометее и Эпиметее:
«Во время оно жизнь людей была
Нестройна и дика, служа лишь силе,
И не было награды никакой
Для добрых, как и наказанья злым.
Тогда-то люди, думается мне,
И положили с карами законы,
Чтоб право над людьми, равно над всеми,
Царило, грех же был его рабом,
И стали тех карать, кто провинится.
221
Затем, когда от явных дел насилья
Удерживать законы стали их,
Но люди тайно злое совершали,
Вот тут-то, думаю, какой-нибудь
С умом глубоким мудрый муж впервые
Боязнь богов для смертных изобрел,
Чтоб страх у злых какой-нибудь да был,
Начнут ли делать, говорить иль думать,
Хотя б тайком»
(Аэций, I, 6, 7).
* * *
Анализ софистами «блага», обоснование его относительности,
обоснование условности «выбора наилучшего», обоснование человеческой
свободы, во многом влияли на дальнейшее развитие философии Греции.
Учение софистов, провозглашая равные права всех и усматривая в личной
пользе основной критерий оценки этических элементов, несло в себе угрозу
самому существованию рабовладельческого общества, поскольку
расшатывались и падали идеологические устои его существования.
Критика софистики могла вестись с точки зрения и материализма, и
идеализма. Задача материалистической критики сводилась бы к четкому
222
анализу объективных ограничений субъективному произволу, и по самой
своей природе не устраняла опасность, ибо конечным результатом такой
критики было бы введение многозначной определенности, а не устранение
свободы. Идеалистическая критика обещала более решительные результаты,
поскольку введение сверхъестественного критерия позволяло постулировать
однозначность «выбора наилучшего» как результат внешней, не зависимой
от человека силы - бога. Условия общественного бытия требовали
решительных мер, и результатом этих требований был резкий крен в сторону
идеализма. Материализм оказался несостоятельным не потому, что идеализм
полнее и лучше объяснял мир нужд и способов их удовлетворения, а, прежде
всего, потому, что материализм, как он представлен в учениях Демокрита и
Протагора, стал слишком опасным для класса рабовладельцев, ибо он
обосновывал свободу и право человека на «выбор наилучшего». Не будет
преувеличением сказать, что дальнейшее развитие греческой философии
есть результат постоянной борьбы с воззрениями Анаксагора, Демокрита и
Протагора. Борьба эта развертывается по двум линиям: а) по линии введения
сверхъестественного критерия «выбора наилучшего» и б) по линии
усечения, умертвления материализма в части многозначной определенности.
Материализм в дальнейшем возрождается, но возрождается обезвреженным,
задавленным, с ориентированной на идеализм проблематикой.
В софистике древнегреческая философия пускает первые корни в
логическую структуру, закрепляется на почве лингвистической модели.
Переход этот происходит по линиям Анаксагоровой философской системы в
форме более четкой проработки субъективной проблематики, что
реализуется в противопоставлении двух родов явлений: φύσα (по природе) и
νόμω (по закону). В этой субъективной проблематике полнее, чем у
предшественников представлены проблемы этики. Переход к новой модели
создает впечатление разрыва с предшествующей «натурфилософской»
проблематикой, хотя, и это следует отметить, само понятие
натурфилософского обязано своим появлением различению νόμω и φύσα.
«Разрыв» проблематики, осложненный партийным, идеологическим
характером софистических учений, во многом предопределил резко
223
отрицательные оценки роли софистики в истории философии. Вместе с тем,
и это отмечалось уже Гегелем, софистическое обоснование νόμω ссылками
на рациональное мышление готовило почву для философских учений
Сократа и Платона.
В софистике оказались разорванными связи субъекта и объекта,
намеченные Анаксагором по аналогии с регулированием. У софистов νόμος
оторван от φύσις и противопоставлен ей, а их связи выступают
непознаваемыми (Горгий). Это далеко не случайный факт, если учесть
классовую принадлежность софистов, их оторванность от
производительного труда. В дальнейшем связь субъекта и объекта будет
восстановлена, но окажется однозначной, лишенной специфически
человеческих характеристик.
4. Лингвистическая модель и проблемы телеологии в учении
Сократа
Зачинатель «тенденции, линии Платона», идейный вождь аристократии
Сократ (469-399 гг. до н. э.), по справедливому замечанию Гегеля, «не
вырос, как гриб из земли, а находится в определенной преемственности со
своей эпохой» (74, с. 33-34). «Бесспорна* теснейшая связь Сократа с
софистами, хотя и не такая многосторонняя, чтобы можно было назвать
Сократа софистом» (67, с. 7). В центре проблематики Сократа, как и у
софистов, - человек, что, однако, не говорит о тождестве их проблематики.
Обращение Сократа к человеческому рассудку, то есть использование
лингвистической модели, служит основанием для широко
распространенного в западной литературе мнения, будто бы Сократ
«спустил философию с небес на землю». Относительно этого взгляда
Фаррингтон довольно метко замечает: «Такое понимание отношения
Сократа к предшественникам, с нашей точки зрения, ложно. Древние
натурфилософы не переносили центр тяжести спекуляций на небесное,
забывая человеческое. Напротив, основным в ионийском образе мысли было
224
признание отсутствия органических различий между небесами и землей, что
вело к попыткам объяснить загадки природы через обычные вещи» (32, с.
71). Бесспорна и связь Сократа с общественными событиями того времени.
Эпитафия на могиле Крития и павших с ним олигархов гласит: «Сей
памятник воздвигнут мужественным людям, которые хоть на короткое время
взнуздали дерзновенную похоть проклятого афинского народа». Немалая
«заслуга» в теоретической подготовке тирании лежит на одном из духовных
наставников Крития - Сократе.
Для нас Сократ интересен связанными друг с другом линиями:
использованием лингвистической модели, обоснованием телеологии и
теоретической подготовкой философского идеализма. По всем этим линиям
Сократ занимает вполне определенную позицию [98].
В Сократе видят родоначальника идеализма, и это справедливо, пока речь
идет о специфическом античном идеализме, которому так и не удается
преодолеть дуализм. Но сам Сократ, скорее, последняя ступенька к
идеализму этого типа, поскольку он, по сути дела, меньше всего занят
материей в ее отношении к мышлению. Сократова проблематика ограничена
самим мышлением, что заключено в основных его положениях: «Я знаю, что
ничего не знаю» и «Познай самого себя».
Если у Протагора, как мы уже видели, материя низведена до чистой
возможности, представлена служанкой, являющейся в наилучшем виде как
тем, кто живет по природе, так и тем, кто живет противоестественно, то у
Сократа она попросту отсутствует, и в этом одно из его отличий от
софистов.
Вторую сторону, отличающую Сократа от софистов, Гегель пытается
выразить в формуле: «человек, как мыслящий, есть мера всех вещей». Такая
попытка правомерна в пределах гегелевской системы, где вещи - лишь
инобытие духа. Здесь, действительно, тот факт, что «случайному, частному,
внутреннему Сократ противопоставил всеобщее, подлинно внутреннее
мысли» (74, с. 56), можно выразить в приведенной выше поправке к
Протагоровой формуле: «человек - мера всех вещей». Однако вне
225
гегелевской схемы такая поправка звучит, по меньшей мере, странно: чтобы
мерить вещи, нужно их иметь, но как раз вещей-то у Сократа и нет.
У Сократа есть «поступки», мерой которых выступает человек. И здесь
мы наталкиваемся на второе отличие Сократа от софистов: поступки
оцениваются человеком не со стороны личной пользы или личной пользы с
поправкой на пользу общественную, а с некоторой всеобщей, абсолютной
точки зрения. Введение этого абсолюта и есть введение частной стороны
лингвистической модели, есть главное направление удара против
провозглашенной софистами свободы человека в выборе наилучшего, а
вместе с тем и исходный пункт общей реакционной тенденции - тенденции к
имманентной цели. Обычно на эту сторону дела не обращают достаточного
внимания, хотя, возможно, именно здесь следует искать ключ к пониманию
дальнейшего развития греческой, да и не только греческой, философии, а
вместе с тем и первого ростка христианства, каким оно стало после отцов
церкви. «Абсолютный дух» немыслим без имманентной цели, и Гегель,
естественно, не мог пройти мимо этой детали, не показав ее перспективы:
«Сократ берет добро лишь в частном смысле, в смысле практического, а
между тем это - лишь одна форма субстанциональной идеи: всеобщее есть
не только для меня, а есть также и принцип натурфилософии, как в себе и
для себя сущая цель, и в этом высшем смысле понимал его Платон и
Аристотель» (74, с. 36).
Иначе говоря, если софисты переходили к лингвистической модели, то
Сократ уже целиком на ее почве делает первые усилия для отождествления
логической структуры с благом. Это и вызывает восторг Гегеля, ибо в
дальнейшем у Платона и Аристотеля важнейшая субъективная
характеристика - регулирование по цели - окажется перенесенной на
природу как «принцип натурфилософии».
В «выборе наилучшего» Сократ абсолютизировал само это «наилучшее»,
благо как таковое, поставил благо независимым критерием оценки
поступков людей. Гегель утверждал, что дело здесь не обошлось без
абсолютного духа, который осчастливил Сократа, рикошетируя сам в себя:
226
«Главный поворотный пункт духа, обращение его к самому себе, воплотился
в нем [Сократе] в форме философской мысли» (74, с. 34).
Итак, «Сократ выражает сущность как всеобщее «я», как в самом себе
покоящееся сознание, а это и есть добро как таковое, добро, свободное от
существующей реальности, свободное от единичного чувственного
сознания, чувствований и склонностей, свободное, наконец, от
теоретизирующей мысли, занимающейся спекуляциями о природе, которая,
хотя она и есть мысль, все же имеет форму бытия, в котором «я»,
следовательно, недостоверно для себя как «я»» (там же). Этот поток
освобождения блага ото всего и вся вызывает, с первого взгляда, мысль о
том, что «добро как таковое» создано Сократом по рецепту Крития. Однако
так обстоит дело только на первый взгляд. Анализ «добра как такового»
показывает, что мы здесь имеем дело с гениальнейшей по простоте
философской диверсией, последствия которой сказываются на развитии
философии и по настоящее время. Сократ попросту отождествил, слил,
склеил этическое с динамическим, и поскольку последнее определено
объективно, устойчивость и доступность генерализации из области
динамики переносятся по аналогии на этическое.
На отождествление блага и знания указывают все, кому приходится
писать о Сократе [99], однако оценка этого факта весьма разноречива.
Большинство видит в нем одно из достоинств философии Сократа, а, вместе
с тем, и всего того направления, которое нашло свое завершение в
христианстве. Чтобы по достоинству оценить вклад Сократа в философию,
следует разобраться в некоторых деталях. Этическое и динамическое
сближают два обстоятельства: и то, и другое «умопостигаемы», вне
чувственного восприятия; и то, и другое доступны генерализации. Но при их
сходстве есть и величайшее различие именно со стороны генерализации.
Реализующие форму силы как определители регулирования суть варианты
силы субъекта, эта последняя и лежит в основании генерализации
динамического. Поскольку в условиях микромира сила субъекта бесконечно
делима, она допускает искусственную атомизацию, в результате которой
появляются так называемые системы единиц, позволяющие и эталонно, с
227
любой степенью точности выразить алгоритмы в универсальных, всеобщих
понятиях, таких как протяженность, длительность, сила и так далее.
Совершенно иной характер носит универсализация этического. Во-первых,
здесь само основание, берется ли оно потребностью или пользой, носит
флуктирующий, переменный характер, а во-вторых, пределы генерализации
по благу оказываются в прямой зависимости от исходной множественности
различных веществ, участвующих в обмене, от множества констант
гомеостазиса. И если в динамике любой элемент может быть представлен в
универсальных терминах, то в этике таких универсальных терминов нет и
быть не может. Вся спекуляция Сократа стоит в этом смысле на
абсолютизации того факта, что в одном из основных элементов структуры
языка, а именно в слове, налицо и объективное, и субъективное содержание.
Второй стороной отождествления этического и динамического, для нас
наиболее важной, является то, что такое слияние вносит глубокие изменения
в соотношение динамического и этического в логической структуре.
Функционирование мышления может быть понято как уничтожение
исходной многозначности, в результате чего человек получает «цепь
причин» - однозначную связь между единичным предметом и субъектом, в
которой представлены и потребность, и динамическое (алгоритм). Это
уничтожение исходной многозначности идет в порядке определения
потребности по вещам внешнего мира и типам регулирования, то есть
инициатором введения многозначности выступает потребность. В этих
условиях попытка отождествить этику и динамику ведет к омертвлению
«цепи причин», грубо говоря, возвращает человека к исходному пункту его
умственного развития, к животному рефлексу как устойчивой, однозначной
связи потребности и динамического. Когда Гегель восхищается Сократом,
справедливо усматривая в нем пионера телеологии, то особо теплые чувства
вызывает у него «прочное» и «покоящееся»: «Если у Сократа, как и у
Протагора, самосознательная, снимающая все определенное мысль есть
сущность, то все же у Сократа это имеет место таким образом, что он теперь
вместе с тем видит в мышлении покоящееся и прочное. Эту в себе и для себя
существующую субстанцию, безусловно сохраняющую себя, он определил
228
как цель и более точно - как истинное, как добро» (74, с. 34-35). Но это
прочное и покоящееся как раз и есть то, с чем человек покончил, что он
преодолел в процессе перехода из животного в человеческое состояние.
Трудно сказать, является ли попытка Сократа связать этическое и
динамическое сознательной фальсификацией действительного положения
дел. Во всяком случае, Сократ был слишком крупным практиком софистики,
чтобы не заметить многостепенный и едва ли сводимый к единому центру
характер генерализаций по благу. Поэтому, выдвигая тезис о совпадении
всеобщего, блага и истины в едином, он во всех диалогах подчеркивает
трудности восхождения к этому единству, и не столько восходит, сколько
утверждает методику такого восхождения. Эта двойная мистификация: с
одной стороны, утверждение несуществующей цели восхождения - единства
всеобщего, блага и истины, - а с другой - утверждение трудности
восхождения, выглядит слишком уж искусственно, чтобы быть случайным
заблуждением. Так или иначе, но у Сократа мы встречаем попытку
поставить эту мистификацию на службу политическим целям: «Земледельцы
и другие рабочие очень далеки от того, чтобы познать самих себя... они
знают только то, что имеет отношение к телу и служит ему... если познание
самого себя есть признак разумности, никто из этих людей не может быть
разумным в силу одного своего ремесла» (Платон, Алкивиад I, 131 AB) [100].
У Сократа намеченный в учениях софистов отход от связанной с
денежной моделью проблематики принимает характер осознанного резкого
ее отбрасывания, характер самоограничения лингвистической моделью.
Важно отметить, что лингвистическая структура используется здесь далеко
не полностью и осмысляется под явным давлением политических
обстоятельств лишь в части ее универсальной определенности
(генерализация алгоритмов регулирования по силе), которая
отождествляется с некоторой иерархией ценностных элементов, что и
позволяет образовать единую, устойчивую ипотактическую структуру:
знание-благо. Эта, полученная из смешения разнородного (субъективное и
объективное определение), ценностная иерархическая структура вообще
отрывается от объекта как особая самодовлеющая реальность мысли. Такое
229
поспешное и явно одностороннее освоение лингвистической модели можно
объяснить лишь в плане идеологическом, из политических условий того
времени.
После смерти Сократа его учение культивировалось рядом так
называемых сократических школ (мегарцы, киренаики, киники). При этом
сразу же дала себя чувствовать разнородность связанных Сократом воедино
элементов, что повело к теоретическому разброду. Мы не будем
останавливаться на сократиках и перейдем непосредственно к Платону,
единственному из сократиков, который сумел усилить и придать видимость
теоретического обоснования продукту усилий Сократа - отождествленному
знанию и благу.
5. Теология и телеология в объективном идеализме Платона
Учеником и продолжателем дела Сократа был Аристокл, прозванный не
то за широкий лоб, не то за пышность речи, не то за привлекательность
фигуры Платоном. Платон (427-347 гг. до н. э.) - крупнейший и
последовательный выразитель идеалистической тенденции в
древнегреческой философии. Ленин саму эту тенденцию называет «линией
Платона». Вместе с тем, в Платоне справедливо усматривают предтечу
христианской религии. Маркс называл Ä платонизм «философски
определенной религией» (65, с. 201). В наше время Агард рассматривает
Платона как систематизатора Сократа: «Ученик Сократа Платон разработал
сократовские взгляды в философскую систему и тем проложил дорогу
идеалистической философии и религиозной вере» (75, с. 37). С теми или
иными отклонениями взгляд этот общепринят среди историков философии.
Платон - первый реализатор тех потенций, которые были заложены
Сократом в его отождествлении этического и динамического. Платону,
правда, принадлежат лишь первые шаги в этом направлении. Ему, берущему
практику в слишком абстрактной или даже мистической форме, так и не
удается замкнуть причинный контур субъектно-предметных отношений и
ввести исходную целевую однозначность. Однако Платон остается верным
230
своему имени, и его ограниченность проходит в несколько иной плоскости,
чем ограниченность Аристотеля. К философским взглядам Платона более,
чем к каким-то другим системам древности, применимы слова Маркса:
«Деятельная сторона, в противоположность материализму, развита
идеализмом, но развита абстрактно, т.к. последний, конечно, не знает
действительной, чувственной деятельности как таковой» (76, стр. 1).
Действительно, деятельность, по Платону, исходит не из Гераклитова
принципа сообразного с природой действия, а из принципа воплощения идеи
на бесформенном, лишенном качеств материале. Деятельность лишена
объективного определения и выступает ограниченным самим субъектом
произволом.
Политические корни, объясняющие идеологические моменты учения
Платона, те же, что и в учении Сократа [101]. Провозглашенная софистами
свобода должна была быть показана несостоятельной теоретически, а
сделать это можно было одним единственным путем - введением доступного
лишь немногим «лучшим» единого критерия оценки человеческих
поступков. Такой критерий оправдал бы претензии аристократии на власть в
полисе. Политическое лицо Платона вряд ли может породить сомнения, как
и тот факт, что действовать ему приходилось в малообещающих условиях
победы афинского демоса. По справедливому замечанию Дынника: «Платон
и по социальному происхождению своему, и по своим классовым интересам,
и по своему мировоззрению ярчайший представитель аристократии, жил в
период господства демократии» [102], - это и является причиной того, «что
он оказался вне орбиты политической жизни в том смысле, что не принимал
участия в демократическом правительстве. Именно это обстоятельство,
ложно истолкованное, дало повод западной философии, в частности и
Гегелю, к тому, чтобы говорить об аполитичности, о беспартийности
Платона» (57, с. 186). Против аполитизма Платона говорят его поездки в
Сицилию, да и вообще теория аполитизма Платона не пользуется теперь
популярностью и в западной философии. Уинспер, например, отмечает:
«Платон глубоко интересовался жизнью своего времени. Он совершал
поездки в Сиракузы, чтобы оказать влияние на ход политических событий.
231
Платон и Академия с рвением занимались выработкой конституций и
кодексов для греческих государств» (77, с. 262). Несколько особняком по
этому вопросу держится Бернет: «Стало почти общепринятым говорить, что
родня Платона и его связи склоняли его с самого начала к олигархическим и
реакционным взглядам в политике, но это неверно. Конечно, он не был
демократом в том смысле, какой это слово получило во время войны, но
традиции его семьи были определенно демократичными, что показывает и
подчеркивание родства с Солоном» (78, с. 35). Решительным опровержением
этого взгляда служит само учение Платона, общая структура которого
подчинена борьбе с демосом как величайшим софистом (Государство, X,
493).
Политические предпосылки во многом определяют проблематику учения
Платона. Продолжая дело Сократа, Платон развивает его учение в
нескольких направлениях: он пытается наметить структурные связи
этического и создает иерархию идей-форм; пытается конкретизировать
понимание блага (теория государства); дает философское обоснование
религии, отказываясь от знания в пользу веры [103].
1
Относительно центрального пункта платоновской проблематики имеются
некоторые расхождения. Большинство считает центральной проблему мира
идей. В. Сережников, например, пишет: «Философия Платона это, по
существу, теория идей... Теория идей - решительное, безоговорочное и
абсолютное отрицание материализма» (79, с. 25). Вместе с тем раздаются и
голоса против этого взгляда. Демос пишет: «Теория идей является частью
более широкой схемы» (80, с. 22); Шредингер отмечает: «С точки зрения
истории идей мы можем рассматривать эту афинскую школу (платонизм)
ветвью пифагореизма» (31, с. 33); Бернет вообще отрицает приоритет
Платона в создании мира идей (78, с. 47): «Мир идей - сократовское
усовершенствование пифагореизма», - и протестует против сложившегося
понимания мира идей, поскольку, по его мнению, Платон меньше всего
232
говорит об идеях, но, скорее, о формах и фигурах, так как в то время «слова
€ΐδο?, ISea означали форму, а не состояние ума» (там же, с. 41) [104]. Для
категории причинности так называемый, мир идей имеет хотя и очень
важное, но все же не первостепенное значение, выступает частной деталью
более обширной схемы, хотя, с точки зрения лингвистической модели, мир
идей мог бы быть поставлен в центр проблематики.
В центре философской системы Платона стоят благо и познание в виде
некоторой структуры как сущности (то όν), объединенной более высокими
принципами единства (то εν) и блага (то αγαθόν). Поскольку нам предстоит
коснуться значительной части системы Платона, а не отдельных его
положений, мы постараемся более или менее детально разобрать диалог
«Тимей», наиболее важный, на наш взгляд, для понимания Платона. Выбор
для наших целей «Тимея» диктуется, прежде всего, тем обстоятельством, что
здесь в наиболее связной форме дана основная проблематика Платона, а
также и тем, что этот диалог во многом определил философию Аристотеля,
да и дальнейшее развитие философии. Даже в эпоху Возрождения
платоновский «Тимей» пользовался такой популярностью, что на фреске
Рафаэля «Афинская школа» Платон изображен с «Тимеем» в руках.
В «Тимее» мы попадаем в самую суть проблематики Платона: «Прежде
всего следует решить вот что: что такое есть вечно сущее, но не
происходящее [во времени], и что есть постоянно происходящее, но никогда
не бывающее сущим? Первое, конечно, есть то, что постигается умом путем
мышления и что существует всегда одним и тем же образом, а последнее
есть то, что сознается в форме мнения при посредстве неразумного чувства и
что - то происходит, то погибает, но на самом деле никогда не существует»
(Тимей, 27D-28A).
Итак, в основу кладется различение сущности и явления. Первой
приписывается вечный, неподвижный, неизменный характер, она
постигается лишь разумом, использующим для этой цели мышление.
Сущности как ее отрицание противостоит явление - нечто преходящее,
происходящее, но не существующее. «Но все, что происходит, необходимо
от какой-нибудь причины должно происходить, ибо невозможно, чтобы без
233
причины что бы то ни было могло получить свое происхождение» (Тимей,
28А).
В этом развитии первоначального постулата мы сразу же обнаруживаем
знакомое: «из ничего не возникает нечто» в весьма интересной постановке.
Во-первых, поскольку происхождение ограничено, то только в пределах
мира явлений допустимо говорить о причинности, ее нет в мире сущности;
последняя вечна и неизменна. Во-вторых, не являясь областью, где можно
обнаружить причинность, сущее выступает источником причин. В этих
условиях область проявления причинности выступает как область связи
сущности и явления. Делэйси по этому поводу констатирует: «Места, где
Платон трактует идеи единственными истинными причинами, не отличаются
точностью формулировок ... Особое значение для анализа причинности
имеют различные аспекты отношения, «участия», связывающего идеи и
единичные вещи, поскольку именно в терминах этой связи Платон объясняет
причинность» (81, с. 99).
Здесь же возникает вопрос и о природе причинности. Он должен быть
поставлен в двух планах: как вопрос о трансцендентном или естественном
характере причинности у Платона и как вопрос об отношении причины и
цели. Относительно первого вопроса следует отметить, что в современной
западной философии сильно стремление рассматривать Платона
своеобразным Кантом древности. Тот же Делэйси пишет: «В греческой
философии существовало два взгляда на природу причинности. Первый,
развивавшийся Платоном, исходит из того, что причины носят
трансцендентный характер, второй трактует причины в терминах
естественных процессов» (там же, с. 98). Нам кажется, что едва ли имеет
смысл говорить о трансцендентности, поскольку неясен сам вопрос, в какой
мере «идеи» Платона могут толковаться как идеи в современном понимании;
на опасность такого смешения справедливо указывает Бернет.
О втором вопросе - об отношении причины и цели - как раз и говорит
Платон в «Тимее», и нам остается только следовать за ним. «Если создатель
какого-либо произведения постоянно имеет перед глазами то, что пребывает
неизменным, и пользуется им как образцом, отображает и его вид, и его
234
сущность [в своем произведении], то всякое исполняемое таким образом
произведение необходимо должно выходить прекрасным, и, наоборот, никак
не может быть прекрасным [то его произведение], выполняя которое, он
смотрит на то, что само произошло и, значит, пользуется образцом, который
сам произошел» (Тимей, 28АВ). Здесь этот образец выступает
определителем, целью, объясняющей, куда идет движение, а не благодаря
чему оно происходит. Причинность в целом берется Платоном из
абсолютизации техноморфной модели.
Платон довольно четко ставит вопрос об акте практики, указывая на
целесообразность как на существенную черту этого процесса. Таким
образом, здесь мы встречаем знакомую еще по пифагореизму и учению
Гераклита абсолютизацию техноморфной модели, которая идет с указанием
на принцип причинности, но основное отличие абсолютизации у Платона в
том, что полем абсолютизации выступает лингвистическая модель.
Подчеркивание того обстоятельства, что образец должен быть эталоном,
можно рассматривать как указание на умопостигаемый, сущностный
характер образца, ибо неизменное относится Платоном к сущности. В этом
смысле и сам мир «идей» Платона можно понимать как склад образцов,
которыми пользуются в процессах регулирования, то есть пользуются теми
возможными формами существования веществ, из которых складывается
субъективная картина мира и которые представлены в ценностном
(потребностный облик) значении слов. Любопытно в этом смысле указание
Платона в «Республике», что идей столько, сколько и слов в языке.
Далее мы узнаем, что мир был создан в указанном выше порядке, причем
аргументом в пользу создания, а не вечного существования мира,
выдвигается то, что «он есть и видимый, и осязаемый, и телесный» (Тимей,
28В), то есть, явление, хотя и создан по образцу, тождественному самому
себе и неизменному. Выясняя вопрос, на какой образец смотрел создатель,
Платон заявляет: «На вечный, потому что как мир есть самый
прекраснейший из всего происшедшего, так и создатель его есть самый
преблагий из виновников... Мир устроен сообразно с тем, что познается
разумом и мышлением и что не подлежит изменению» (Тимей, 29А).
235
Итак, мир создан, потому что он видим и слышим, и осязаем. Он -
снимок с вечного образца, потому что прекрасен и познаваем, а творец его
добр. О побуждениях создателя мы узнаем мало: «Он восхотел, чтобы все
было как можно более подобным ему» (Тимей, 29Е), то есть создателю
надоело одиночество и, взяв себя за образец, он создает мир. К сожалению,
он не мог создать более одного мира, так как в последнем случае пришлось
бы создавать обнимающий их мир, «но тогда уже гораздо вернее было бы
считать созданным по подобию всесовершеннейшего существа именно это
всеобъемлющее, а не те два» (Тимей, 31 А).
Относительно материала, из которого создается мир, мы находим только
косвенное указание: «Так как бог восхотел, чтобы по возможности все было
добрым, дурного же ничего не было, то взял все видимое, которое не в
покойном состоянии находилось, а в движении - притом в движении
нестройном, беспорядочном, и привел в порядок из беспорядка, находя, что
первый во всех отношениях лучше последнего» (Тимей, ЗОА). Это указание
на «все видимое, но происходящее в беспорядке» как на предмет действий
создателя испортило много крови уже отцам церкви, которым хотелось
видеть как в этом, так и в других подобных выражениях «Тимея» некую
логическую посылку, а не материю как неустранимый компонент
платоновской спекуляции, остаток «натурфилософской» проблематики
предшественников.
По сути изложенного, «все видимое» весьма близко Анаксагоровой
«смеси», тем более, что роль создателя ограничена здесь приведением всего
видимого в порядок, как говорит Демос: «Творение есть определение
неопределенного» (80, с. 4). Однако если даже вопреки отцам церкви считать
«все видимое» материей, то и в этом случае идеализм Платона не исчезает,
ибо, в отличие от Анаксагоровой, «материя» Платона - не смесь
«гомеомерий», а пластичный восприемник «идей», внешних относительно
материи.
Мы не будем рассматривать частные подробности платоновской
космогонии, но отметим, что в абсолютизации техноморфной модели
регулирования Платон идет несколько дальше, чем это позволительно
236
рафинированным идеалистам нового времени. В «Тимее» явственно
проскальзывает попытка вооружить создателя орудием, посредником между
предметом и создателем. Создание «трех родов смертных» творец поручает
божествам небесного рода, оговаривая, однако, свое право формировать
сущность (постоянное и вечное) в этих творениях: «И насколько им следует
иметь в себе нечто одноименное с бессмертными, нечто так называемое
божественное, которое бы служило правящим началом, ... то образователем
этой сущности я буду сам и вручу вам семена ее готовыми. Что же касается
всего остального, то тут вы сами оканчивайте образование живых существ,
присоединяя к бессмертному смертное» (Тимей, 41D). Несколько ниже боги-
орудия сбивают, сколачивают, связывают смертных (Тимей, 43). Сам же бог-
создатель изготовляет семена-души, показывает им природу вселенной и
объявляет «предустановленные судьбою законы» (Тимей, 4IE), затем же
«рассеял их, как семена, одних на землю, других на луну, третьих на иные
органы времени, сколько таковых ни есть» (Тимей, 42D).
Гегель видел в платоновских богах второго разряда только дань форме
выражения, считал их инородным телом в философии Платона (74, с. 140).
Нам это не кажется по нескольким причинам. Во-первых, пытаясь подать акт
творения по аналогии с регулированием, Платон неизбежно наталкивается
на орудие как на постоянного участника процесса. Да и сам творец
использует не только второстепенных богов, но также и некий кратер
(Тимей, 41), в котором творец составляет «смеси». Во-вторых, форму
изложения, форму мистико-мифологическую, приходится рассматривать не
только как случайную деталь - она непосредственно связана с «целью»
Платона: дать доступный, основанный на вере критерий оценки поступков.
В-третьих, наконец, это разделение труда обходит трудность, мучавшую
христиан более полутора тысячелетий. Отказываясь творить смертное, бог
выходит из того затруднения, из которого не удалось выйти парижским
профессорам богословия, наказанным в XIII веке за учение, будто бы бог
ничего не может знать при помощи чувств и, будучи чистым интеллектом,
он хотя и способен отличить человека от осла, но не Платона от Сократа.
237
Платону нужно наказывать индивидуальные творения, поэтому он и
заставляет бога создавать их вполне определенным образом.
Итак, мир создан неким всеблагим существом в два этапа. На первом
были созданы вечные, ограниченно подвижные существа-боги, на втором, из
остатков, произведены люди и животные. В людях внедрено божье семя,
которому была в свое время показана вселенная и объяснены ее законы, а
также законы человеческого поведения. Поскольку люди создавались из
отходов основного производства и в первичной смеси для человеческих душ
из трех видов сущности (тождественной, иной и средней) преобладала
«иная», постольку этот второй акт творения завершился не слишком удачно:
человеку, правда, не закрыты пути к истинному знанию, душа может
«вспомнить» то, что ей было когда-то преподано творцом, но, вместе с тем, в
человеке слишком много «необходимости» (Демокритова вероятностного
детерминизма) как причины беспорядочной, и, хотя «разум держит перевес
над необходимостью тем, что заставляет ее приводить большую часть вещей
к благу» (Тимей, 48А), в человеческом существе вожжи разума ослаблены.
Человек поэтому не всегда в своих поступках действует наилучшим образом.
Анализируя деятельность творца, мы сразу же встречаемся с некоторыми
деталями, в свете которых создатель выглядит, скорее, не знающей
сомнений выбора кибернетической машиной, чем наимудрейшим и
преблагим существом человеческого типа. В .самом деле, рождаясь, человек
уже застает готовой определенную логическую структуру, закрепленную в
языке. Поскольку структура эта есть нечто внешнее, существующее
независимо от отдельных людей, поскольку структурой этой впитан и усвоен
опыт тысячелетий человеческой деятельности, то мы вместе с Платоном
имеем право говорить о мире идей, с одной стороны, как о своеобразной
реальности, а с другой - как о реальности мудрой. И в этом смысле, не
касаясь деталей генетической связи этой структуры с объектом и субъектом,
мы, не возражая в принципе против правомерности выделения логической
структуры в самостоятельный предмет исследования, вынуждены все-таки
резко протестовать против обеднения, оглупления этой структуры. Дело в
том, что, закрепляя в себе общие свойства и законы внешнего мира, пути его
238
преобразования силами субъекта, пользу, которую можно извлечь на том
или ином пути воздействия на мир, логическая структура, «мир идей»,
сохраняет человеческий, многозначный подход к тому, «что видимо». По
сравнению с человеком, наимудрейший и всеблагой создатель - бездарный
специалист-ремесленник, который, подобно машине или животному,
способен одним-единственным, а потому, с его точки зрения, и
«наилучшим» образом реагировать на внешнюю «беспорядочность».
Дальнейшие усилия Платона направлены на возведение этой
ограниченности в высший постулат - «благо» (то αγαθόν). Творя мир,
создатель берет за образец самого себя и делает это лишь потому, что он
«всеблаг». На первый взгляд такая аргументация может показаться наивным
софистическим маневром, анализировать который было бы дурным тоном.
Но стоит только обратиться к истории этого «наивного маневра», начиная с
древности и до нашего времени, чтобы переменить первоначальное мнение.
Уже Аристотель берет постулат целесообразности со стороны результата. В
средние века и в новое время в негативном или позитивном облачении
постулат однозначной ограниченности, имманентной цели пронизывает
большинство философских систем. В философии Гегеля имманентная цель
лежит в основе системы как определитель однозначного процесса
саморазвития духа. В марксистской философии, связанной генетически с
гегельянством, имманентная цель, хотя и изгнана из исходных постулатов,
все же сохранена метастазами в трактовке некоторых вопросов. Поэтому нам
следует более детально присмотреться к побуждениям создателя.
В «Тимее» мы обнаруживаем крайне интересную деталь: объяснив богам
- творениям первого акта - их задачу, произведя семена-души и посеяв их на
землю, луну и «на иные органы времени», создатель устранился от дел:
«Сделав все эти распоряжения, он пребывал затем в состоянии,
свойственном своему существу» (Тимей, 42Е). Следующая фраза начинается
с оборота μένοντος 8с.., что ставит ее во временную зависимость от первой.
Это позволяет перевести следующую фразу примерно так: «Когда божества
заметили, что создатель устранился от дел и вернулся в обычное состояние,
они стали выполнять его распоряжения...». Это место «Тимея» любопытно в
239
том отношении, что деятельность создателя выступает только эпизодом в его
жизни, что на время творения бог, не будучи, вообще говоря, «создателем»,
вышел из своего обычного состояния, навел порядок и вновь вернулся к
состоянию полной самоудовлетворенности. Поскольку это так, сразу же
возникает вопрос о побудительных причинах этого бурного эпизода в жизни
бога. Что же вывело бога из его обычного состояния? По мнению Платона,
«чуждый зависти» бог «восхотел, чтобы все было как можно более подобно
ему» (Тимей, 29Е). Чуть ниже Платон, кроме аргумента «восхотел»,
приводит и другой - обычай: «Не имея обычая творить что-либо иное, кроме
прекраснейшего», - но сам же и опровергает обычай, находя неразумным
предполагать наличие множественных результатов божественной
деятельности (31 А). Таким образом, обычай, как нечто предполагающее
повторение, привычку, должен быть устранен из числа побудительных
мотивов. Остается лишь «восхотел».
Относительно аргумента «не имея зависти, восхотел» Гегель замечает:
«Что бог не имеет зависти, это, во всяком случае, великая, прекрасная,
истинная, наивная мысль» (74, с. 185). На наш взгляд, отсутствие зависти -
неплохая черта характера, но от этого не становится яснее причина, по
которой создатель «восхотел». Мы понимаем энтузиазм Гегеля: без этого
«восхотел» невозможен абсолютный дух как дух развивающийся, но мы не
видим ни у зачинателя тенденции Платона, ни у ее классического
завершителя Гегеля какое-нибудь обоснование этого «восхотел». Более того,
способ, которым Гегель уходит от решения проблемы, ничуть не лучше
способа, которым Платон ставит проблему. Если Платон своим «восхотел»
побуждает бога к деятельности и, по завершении ее, погружает бога за
ненадобностью, поскольку порядок наведен, в сон безразличного
самоудовлетворения, то сначала Аристотель, а затем и Гегель попросту
растягивают основанный на «восхотел» акт во временную бесконечность,
усматривая в целенаправленной деятельности сущностную и вечную
характеристику абсолютного духа, или вечного двигателя.
Если продолжить платоновскую аналогию с «искусством» в части,
касающейся «восхотел», то сам акт творения предстает немотивированным.
240
Если «видимое... в движении нестройном, беспорядочном» находилось
искони рядом, бок о бок с чуждым зависти, неизменным богом, Платону
следовало бы указать либо на причину терпеливости бога, либо на причину,
которая вывела бога из состояния апатии и заставила приняться за наведение
порядка, либо, наконец, указать на те цели, которые преследовал создатель в
своем творчестве. Поскольку платоновский творец не испытывает никаких
нужд и внешних побуждений, его поведение остается психологической
загадкой.
Частным, но важным с точки зрения полного использования
лингвистической модели замечанием к аксиоматической части учения
Платона выступает указание на искажение логической структуры. Слияние
блага и познания в одну структуру неизбежно приводит к одностороннему, с
точки зрения блага, взгляду на эту структуру. Все, кроме блага, оказывается
в понятии второстепенным. Особенный урон терпят при этом динамические
составляющие понятия. Абсолютизируя обычное отношение практики -
типичность, многократность воздействия на вещи предметного класса, - где
образец-понятие-цель остается неизменным, воспроизводимым многократно,
Платон решительно высказывается за «стольность» против стола, и, в
известном смысле, он прав. В пределах субъектно-предметных отношений
«стольность» более существенна, чем единичный стол или единичные столы,
ибо последние, в каждом отдельном случае, суть создания рук человеческих
под руководством разума. Однако игнорирование динамических
характеристик «стольности» позволяет Платону уйти от важнейших
вопросов: что чем ограничено? что чем обусловлено? Выхватывая одну
сторону, а именно сторону ценностного, Платон затуманивает основной
вопрос регулирования - об отношении образцов (целей) и материала, на
котором они реализуются.
В целом относительно природы блага и познания у Платона мы
вынуждены отметить, что здесь перед нами насильственное слияние
разнородного: этического и динамического, насильственное введение
однозначности, аргументированное ссылкой на сверхъестественные
241
причины, абсолютизация частных сторон техноморфной модели в пределах
лингвистической.
2
Анализируя отношение сознания и материи в учении Платона, мы
должны постоянно помнить усеченные характеристики сознания, его
преимущественное тяготение к этическому. Вопрос о связи «мира идей» с
«миром вещей» был и остается самым темным вопросом философии
Платона. Трудности касаются как логической стороны дела, так и самого
характера связи, поскольку динамическое регулирование, через которое и в
котором логическая структура связана с миром вещей, оказывается очень
деликатной для Платона областью. Гофман справедливо отмечает:
«Правильно понять так называемый «хоризмос», разрыв между бытием и
явлением бытия, между миром идей и эмпирическим миром можно только
тогда, когда будет принято в расчет, что мифология Платона есть в основном
теистическое учение» (82, с. 46).
В «Тимее» Платон так определяет свое отношение к основному вопросу
философии: «Нам следует войти в рассуждение о том, что произошло в силу
необходимости, потому что смешанный состав сего мира, несомненно,
произошел из взаимодействия необходимости и разума. Но разум держит
перевес над необходимостью - тем, что заставляет ее приводить большую
часть вещей ко благу, и вот каким, собственно, образом устроена вначале эта
вселенная силою необходимости, побежденной силою разумного убеждения.
Поэтому кто, сообразуясь с этим, пожелал бы показать, каким на самом деле
образом произошла вселенная, тот должен непременно примешать к своему
изъяснению из разума еще вид причины беспорядочной и тот способ
действия, который принадлежит ей по природе» (Тимей, 48А). Чтобы
правильно понять этот и последующие отрывки, необходимо учесть
несколько замечаний. Платон часто использует как синонимы слова
«природа» {φύσις), «необходимость» {ανάγκη), «причина» (αίτια) (Платон,
Федон, Тимей). Причем последнее слово αίτια и его производные часто
несут в себе остатки древнего словоупотребления, когда слово обычно
242
использовалось в значении ответственности за какое-либо деяние (Илиада,
III, 164; XIX, 86; Одиссея, II, 87). С другой стороны, «род причины
беспорядочной», «необходимость» - это связь через демокритовскую
вероятностную причинность с досократовской проблематикой. Природа-
необходимость, по этому высказыванию Платона, не лишена внутренней
закономерности, но эта закономерность не имеет никакого отношения к
благу, выглядит с точки зрения ценностных постулатов «беспорядочной»,
поскольку сам «порядок» рассматривается этической категорией. С учетом
этих замечаний платоновская формулировка довольно удачно схватывает
основную суть отношений между сознанием и материей: в мире существует
независимо от разума необходимость по природе, разум же использует ее
для приведения вещей к благу. Сомнения вызывают только два момента: а)
космический, выведенный за пределы коллектива характер постановки
основного вопроса, что предполагает некоторый космический субъект со
своими нуждами и своим благом; в) характер истолкования необходимости
как беспорядочной причины.
Что до первого сомнения, то, с точки зрения материализма, границы
человеческого познания хотя и расширяются, но исторически всегда
ограничены, что, в свою очередь, оставляя непознанные «поля», никогда не
исключает идеалистических спекуляций, основанных на самом факте
наличия непознанного.
Большие затруднения вызывает попытка Платона видеть в
«необходимости» «беспорядочную причину». Здесь все дело в понимании
этой беспорядочности. Если она понимается как многозначная
определенность, вроде вероятностного детерминизма, в ее
противопоставлении определенности однозначной (платоновскому
«порядку»), «беспорядочная причина» еще не есть признак идеализма,
поскольку однозначность соответствий между формами и критическими
условиями не исключает множественности возможных форм и зависимой от
них дискретной многозначной определенности условий их реализации.
Поэтому нам, прежде всего, следует установить, что понимал Платон под
«беспорядочной причиной».
243
Из рассуждений Платона мы узнаем, что «необходимость» есть,
собственно, материя, то есть, нечто внешнее сознанию, некая последняя
абстракция, некая сущность, которая не может пониматься ни как воздух, ни
как вода, ни как какая-либо другая стихия: «Ее всегда должно называть как
нечто «то же самое», несмотря на различие входящих в нее тел, потому что и
она никогда не выступает из границ своего существа, и хотя постоянно
принимает в себя все вещи, но сама никогда не принимает ни одной формы,
которая была бы похожа на что-нибудь из того, что входит в нее, ибо
природа ее такова, что служит для всех предметов массою, на которой они
отпечатлеваются, вследствие чего она и приходит в движение и принимает
различные формы по мере того, как они входят в нее; по этой же причине
она в одно время имеет такой, а в другое - другой вид» (Тимей, 50ВС).
Любопытны те затруднения, в которые вовлекает себя Платон данной
трактовкой материи. С одной стороны, это как будто бы всеобщий субстрат,
ибо он способен принимать тот или иной вид, оставаясь устойчивым в этом
изменении. С другой стороны, такая материя и здесь, похоже, и дальше
(Тимей, 52) оказывается пространством. Трудность усугубляется тем
обстоятельством, что, раскритиковав ионийцев за их отождествление
материи со стихиями (Тимей, 47-50), Платон оказался перед результатом,
который, хотя и «происходит», но недоступен чувственному восприятию и,
«следовательно» (по исходным постулатам), должен быть зачислен в разряд
вечных и неизменных, в разряд «умопостигаемых». Все эти детали уже в
древности вызывали множество споров.
Таким образом, начав с признания Демокритовой причинности, Платон
постепенно сходит на позиции индетерминизма, превращая материю в
бесструктурную возможность, хотя и не устраняет ее из картины мира, не
творит ее в духе последовательного идеалистического монизма.
Более определенно общая идеалистическая тенденция Платона
сказывается при объяснении природы вещей: «Что касается входящих в нее
и исходящих из нее вещей, то они представляют собой подражание вечно
сущим вещам - отпечатки их в ней, совершающиеся неким неизъяснимым
дивным способом» (Тимей, 50С). Относительно этого «дивного способа» мы
244
так ничего толком и не узнаем, кроме того, что и материя «каким-то
непостижимым образом участвует в умопостигаемом [бытии, то есть в
разуме, в мире идей]» (Тимей, 61 А).
Детализируя связь мира идей и материи, Платон пишет: «Необходимо
разграничить следующие три рода: 1) то, что получает происхождение; 2) то,
в чем оно происходит; 3) то, по образцу чего все происходящее образуется.
Затем весьма естественно то, что воспринимает в себя, уподобить матери, то,
что дает от себя модель, - отцу, а сущность, которая представляет общий
продукт того и другого, - потомку» (Тимей, 50CD). Использование здесь
древней генетической модели для объяснения «неизъяснимо дивного
способа», на первый взгляд, - случайная деталь. Однако это не совсем так.
Если для творения мира Платоном использована абсолютизация
техноморфной модели, как мы это уже видели, то для связи идей с вещами
почти повсеместно используется модель генетическая, которая разом
устраняет то затруднение с «костями и нервами», на которое жаловался
Платон в своем упреке Анаксагору. Идеи-образцы, с одной стороны,
оказываются атомизированным творцом, специализированным субъектом
многократного действия: они творят вещи по собственному образцу и
подобию, творят многократно. Со стороны же другой, эти идеи выступают
творцами низшего порядка. Если верховный творец создает мир по нормам
регулирования, способен выбирать, и лишь «всеблагость» не позволяет ему
выбрать для реализации «образец» худший, чем он сам, то его продукты -
/чдеи» наделены лишь мистической мужской силой. Они творят по нормам
' четической модели, им не приходится выбирать. Такой подход позволяет с
порога выбросить многозначность из субъектно-объектных отношений.
Здесь перед нами уже ясна тенденция идеалистическая: форма отделена
от материи и противопоставлена ей не только в порядке различения в
едином, но и в порядке принадлежности к особой «мужской» сущности, а
именно - к миру идей. Если с точки зрения материализма форма и как
возможная, и как действительная форма существования вещи суть
неотделимая сторона, свойство материи, а наш «образец», содержание
которого продиктовано объективным, только более или менее верная копия
245
формы, то здесь форма сливается с «образцом», отожествляется с идеей,
изымается из материи и противопоставляется ей как самостоятельная
диктующая сущность из мира идей. Эта оторванность формы от носителя
подчеркивается многими исследователями. Аллан пишет: «Платон принимал
сущности, которые он называл «идеями», во-первых, как постоянные
объекты, отвечающие всем требованиям точного знания, во-вторых, как
стандарты, по приближению к которым следует судить о практических
достижениях человека» (83, с. 16). Более широко трактует природу идеи-
формы Делэйси: «Одним из важных аспектов отношения идей к единичным
вещам является эпистемологический. Идеи - единственные объекты
истинного знания, и через участие в идеях объекты физического мира
становятся доступными познанию. Идеи выступают мерами для
интерпретации реальности в ее непостоянстве, вскрываемом чувствами. Есть
также логический аспект, включающий принцип, что каждому единичному
может быть указано имя идеи, в которой оно участвует. Вместе с тем,
поскольку ни одно единичное не является полным воплощением той или
иной идеи, оно может участвовать до некоторой степени в противоположной
идее. Единичное причастно противоположности, противоречию, идеи - нет.
В-третьих, существует теория блага, выраженная в отношении идей и вещей.
Ценность вещей измеряется в терминах их участия в идеях» (81, с. 99).
Демос указывает на двойственность понимания форм Платоном:
«Отношение форм к вещам двойственно; формы имманентны вещам и
трансцендентны им. Вещи участвуют в формах и в некотором смысле
оказываются одним из видов форм. Так, с одной стороны, Платон говорит о
присутствии (παρουσία) форм в вещах, а с другой стороны, он говорит о
формах как образцах (παράδειγμα), которым подражают вещи. Таким
образом, формы допускают двойное толкование - как сущности вещей и как
архетипы» (80, с. 53). Следует отметить, что толкование Демоса, стирающее
различие в трактовке форм Платоном и Аристотелем, не лишено оснований.
Анализ форм в «Федоне» (100D) и в «Государстве» (476А) идет именно в
этом направлении.
246
«Тенденция Платона» более ярко выступает в рассуждении, где материя
конструируется, исходя «из требований мысли», из требований удобства
«мира идей». Материя здесь становится чистой лишенностью: «Для образа,
который должен представлять в себе всевозможные самые разнообразные
оттенки, не может быть лучше приготовлено самое то [вещество], на
котором ему предстоит отпечатлеться, чем если оно будет совсем
бесформенным, совсем лишенным всех тех форм, которые ему предстоит
принять, потому что, если бы, напротив, это вещество имело сходство с
каким-либо входящим в него предметом, то, в том случае, когда входили бы
в него предметы противоположной или совсем иной природы, оно,
воспринимая, отражало бы в себе таковые дурно, так как присоединяло бы к
ним и свой собственный облик. По этой причине та сущность, которой
предназначено воспринимать в себя все роды вещей, сама должна быть
лишенною всех форм» (Тимей, 5ODE). Здесь перед нами идеализм,
пытающийся снять все внешние ограничения суверенности духа.
Материализм видит в «материи» последнюю абстракцию гносеологического
плана, основанную на том всеобщем, что бытует в единичных вещах,
позволяя говорить об их внутреннем единстве, их связи и взаимодействии.
Такое понимание связано с отвлечением от формы. С другой стороны,
материализму не чужд взгляд на материю как на нечто структурное, на
источник и обладатель форм, некоторым из которых сопутствует полезное
человеку в том или ином отношении. Материя как совокупность
общественно полезных форм дает ту самую «материю» - практически
бесконечное множество действительных и возможных форм,
руководствуясь которой при субъективном мотиве, мы получаем
возможность брать за исходное «соединение», а затем уже, в порядке
«выбора наилучшего» отдавать предпочтение болту и гайке, или сварке, или
клепке, или склейке.., брать за исходное «сорочку», а затем уже уточнять,
будет ли она ситцевой или шелковой, или вискозной, или... Рассматривая
материю как совокупность форм, материализм не исключает, а предполагает
изначальную оформленность, структурность материи, видит в однозначной
247
определенности связей форм с условиями их реализации исходный,
объективный определитель наших действий.
Платон, лишая материю формы, как раз и пытается устранить
объективное определение, те внешние ограничения, которые, с одной
стороны, диктуют характер нашей деятельности, с другой, что не менее
важно, формируют наши «образы», позволяют иметь образцы лишь вполне
определенного типа.
Следует отметить, что некоторые намеки на материализм Платон все-таки
оставляет: «Матерь и вместилище всего происшедшего - видимого ли, или
вообще всего ощущаемого мы не станем принимать ни за огонь, ни за воду,
ни за те тела, которые из этих происходят, но не погрешим, если скажем, что
это есть вид сущности бесформенной, невидимой, всевоспреемлющей, самой
неудобомыслимой - такой, однако ж, которая каким-то непостижимейшим
образом участвует в умопостигаемом» (Тимей, 51 А). В этом
«непостижимейшем» и скрыт, похоронен тот хвостик материализма, та
динамическая часть логической структуры, которая определена объективно.
Пытаясь объяснить это непостижимое, Платон, до известной степени,
ограничивает произвол субъекта.
Во-первых, в качестве исходного постулата он предлагает: «Бог все вещи,
бывшие прежде совсем в ином состоянии, устроил так прекрасно и
великолепно, как это только было для них возможно. Это положение пусть
считается у нас таким, которое само собою должно подразумеваться во всех
других рассуждениях» (Тимей, 53В). Этот тезис неприемлем с точки зрения
материализма, но он весьма близок богу-футболисту Джемса или постулату
Эйнштейна о характере природных сил: «Бог коварен, но он не злонамерен».
В сущности, здесь можно было бы обойтись уже и без бога, опереться только
на человеческие силы. У Платона в этом постулате налицо снижение
идеалистического энтузиазма: создатель устроил все не просто наилучшим
образом, но отступил перед сопротивлением вещей, остался в пределах
возможного для них совершенства, - делать подобное люди умеют и без
помощи бога.
248
Во-вторых, Платон постулирует три реальности: «Что касается меня
лично, то, вот каково мое мнение: если разум и истинное мнение суть две
различные вещи, то необходимо допустить, что существуют сами по себе и
те виды [вещей, то есть идеи], которые не подпадают нашим чувствам и
постигаются только умом. Если же, как некоторым кажется, истинное
мнение ничем не отличается от разума, тогда, конечно, неизбежно признать
за единственно достоверные те вещи, которые мы ощущаем посредством
тела. Но, само собой разумеется, следует признать, что это суть два
различных рода [знания], потому что они и происходят [в нас] независимо
друг от друга и по свойствам своим различны. Именно, один из них
приобретается нами путем [внутреннего, интуитивного] уразумения, а
другой путем [внешнего] уверения, тот сопровождается истинным
разумением, а этот чужд такого разумения, того не может поколебать
никакое [постороннее] убеждение, а этот легко меняется [от такого
убеждения] и между тем как об этом последнем можно сказать, что им
обладает всякий человек, разумом обладают только боги, из людей же лишь
самая незначительная часть. Коль скоро все это так, то необходимо
допустить, что есть на самом деле, прежде всего, особый род [сущностей,
идей] всегда одинаковый и неизменный, не происходящий и не гибнущий,
ни в себя ничего извне не воспринимающий, ни сам во что-либо иное не
входящий, невидимый и вообще чувствам не подпадающий, - тот род,
ведаться с которым назначено мышлению, что есть потом одноименный с
этим и ему подобный род [конкретных вещей], подпадающий нашим
чувствам, подверженный происхождению, всегда находящийся в движении,
появляющийся в том или ином месте и опять оттуда исчезающий,
уразумеваемый мнением при посредстве чувств, что есть, наконец, третий
всегда существующий род пространства, разрушению не подверженный,
доставляющий место всему, что получает происхождение, постигаемый
нами без посредства чувств, путем некоего нелогического умозаключения,
едва заслуживающий вероятия» (Тимей, 51D-52B).
Итак, перед нами три «реальности»: реальность идей, реальность вещей и
реальность материи, причем эта последняя реальность - материя, раздетая
249
Платоном в предыдущих рассуждениях, лишенная форм, предстает здесь
пустым местом, чистым «ничто», пространством, которое постигается
маловероятным «нелогическим умозаключением», или попросту
непознаваемо.
Реальность идей связана с реальностью вещей неким «неизъяснимо
дивным способом», о пониманиях которого мы уже говорили выше. Сами же
вещи устроены создателем «в высшей степени прекрасно и великолепно».
Гронинген отмечает, что у Платона «вещи продолжаются и существуют
просто потому, что создатель не желает их уничтожения» (22, с. 78).
Реальность идей связана с материей примерно таким же, но в
превосходной степени «непостижимейшим» образом, который становится
все более непостижимым по мере того, как Платон оголяет материю,
переделывает ее в пустое место.
Реальность вещей связана с материей, как потомок с матерью. Она вышла
из лона матери, причем потомок проявляет сходство с отцом, образуя
одноименный и подобный миру идей род конкретных вещей, как это и
положено по генетической модели.
Платон начал с того, что уничтожил многозначность (создатель творил,
имея за образец самого себя). Вторым шагом было отождествление
достигнутого однозначного результата с благом (создатель творил
наилучшим образом). Шагом третьим и наиболее печальным, который
разорвал связь с регулированием, а через него - с миром, было усечение,
подгонка динамического под однозначную, связанную с этическим сторону
логической структуры. Результатом этих попыток Платона уложить
динамическое в прокрустово ложе потребности момента и был тот обрубок
живой логической структуры, омертвленная цепь причин, возрожденный
рефлекс, который не может не вызвать наивной озадаченности
произведением рук своих, что мы и встречаем в платоновских «неизъяснимо
дивном способе», «непостижимейшем образе».
В самом деле, если мы возьмем логическую структуру лишь со стороны
ее субъективных элементов и абсолютизируем эту сторону, мы сразу же
получаем трехэтажное платоновское построение пирамидального типа.
250
Верхний этаж - «образцы» (формы существования вещей в их совокупности,
субъективной достижимости и потребительной ценности); нижний этаж -
материя (совокупность всех вещей-субстратов, лишенная внутренних
ограничений «особенного», бесструктурная возможность вообще); средний
этаж - реализованные «образцы»-вещи (продукты, многократно и более или
менее точно воспроизводящие идеальные образцы). Таким образом,
идеализм Платона основан прежде всего на абсолютизации в пределах
лингвистической модели ее субъективных элементов.
3
Прежде чем заняться непосредственно платоновской теорией познания,
нам следует кратко рассмотреть возможности тех оставшихся
расчлененными частей причинного контура субъектно-объектных
отношений, которые даны в платоновской космогонии и анализе отношения
идей-образцов к материи.
Что касается умопостигаемого и связанного с ним мышления, то
возможности платоновского обрубка весьма невелики: в нем возможна
некоторая генерализация по силе. Сохраненное Платоном позволяет
обеспечить первый этап субъективного мотива - конкретизацию
потребности до элементов исходного уровня абстракции, до слов, в которых,
наряду с ценностным и динамическим, присутствует и чувственное
значение, а также позволяет воспроизвести тот этап действий по
объективному мотиву, который связан с переходом от чувственного облика
вещи к слову исходного уровня абстракции и от него - к более абстрактным
понятиям.
Относительно чувственности в системе Платона можно утверждать, что
здесь сохраняется возможность постановки вопроса о ее роли при
объективном мотиве, когда чувственность дает исходный материал для
классификации вещей по предметным классам, и в меньшем объеме - о роли
чувственности при субъективном мотиве, когда с ее помощью происходит
выделение вещей среды в предметы труда.
251
Следует отметить, что, несмотря на решительные заявления Платона о
различии знания и мнения, в его системе все же остается связь между
чувственным и рациональным через слова исходного уровня абстракции, и в
своей «диалектике» он использует это обстоятельство.
В тех границах, которые очерчены как результат акта творения, Платон
пытается наметить предметы, методы и цели познания. Общую
проблематику этой теоретико-познавательной части учения Платона можно,
довольно условно, впрочем, разделить на теорию воспоминания, диалектику
и энтузиазм.
Учение о воспоминании опирается на ряд особенностей
функционирования единой системы чувственного и рационального:
чувственность в ее функционировании застает готовыми связи логических
элементов с предметными классами и неспособна сама из себя устанавливать
новые связи; связи чувственного и рационального мотивированы лишь
функционально, а не внутренне. Эти обстоятельства дают Платону
возможность оторвать рациональное от чувственного и поставить тот самый
вопрос об источнике рационального, решение которого мы уже видели в
«Тимее»: семена-души созданы творцом, им в свое время было все
объяснено, большее для них недостижимо. Разуму не остается иного выбора,
кроме попытки вспомнить виденное во время акта творения. Поскольку
восстановление в памяти забытого во время вселения души в смертное тело
Платон выдвигает в самоцель познания, и воспоминание, и диалектика, и
энтузиазм предстают сторонами одного и того же процесса.
В «Теэтете», поставив устами Сократа вопрос: «Прежде чем изучен язык
варваров, скажем ли, что не слышим, когда они говорят, или будем
утверждать, что как скоро слышим, то и понимаем их говор?» (163В), -
Платон начинает исследовать вопрос о связи чувственного и рационального,
который решается им в плане довольно близком к плану Канта: «душа, по-
видимому, сама собой рассматривает общее относительно всего» (185Е);
«душа иное рассматривает сама по себе, а иное - посредством способностей
телесных» (185Е); «знание находится не во впечатлениях, а в
умозаключении о них, потому что сущности и истины можно коснуться, как
252
видно, здесь, а там невозможно» (196D). Эти и им подобные высказывания
породили целую литературу о платоновских «формах» как кантовских
формах знания, а не объектах познания. Сначала Наторп (Piatons Ideenlehre,
1906) и Стюарт (Plato's Doctrine of ideas, 1909), а затем и множество других
авторов пытались рассматривать платоновские «формы» в их отношении к
Канту. Ксенакис, например, пишет: «Похоже, что Платон понимал форму,
скорее, как факт в уме, чем как факт внешнего мира» (84). Сам факт
сближения с Кантом может доказать лишь одно: предметный характер и
платоновских, и кантовских спекуляций. Ход же рассуждений Платона, по
нашему мнению, гораздо точнее передан Гронингеном, который отсылает к
структуре языка и к функционированию мышления: «Истинное знание и
заслуживающее доверия мнение всегда a posteriori; ни происходящее
настоящее, ни туманное будущее, а только абсолютно устойчивое и
неподвижное прошлое может быть реальным базисом... Кто желает знать,
должен вернуться в прошлое» (22, с. 68). Платон, по нашему мнению, здесь
просто абсолютизирует существование умопостигаемого в памяти как
самостоятельной, независимой от чувств сущности.
В «Государстве» Платон говорит о «благе», которое, с одной стороны,
есть основание существования идей, а с другой - их познаваемости: «Благо,
надобно сказать, доставляет познаваемым предметам не только способность
быть познаваемыми, но и существовать» (509В). В отношении к нам эти
познаваемые предметы предстают поэтому лишь ограниченно
познаваемыми, поскольку познать их полностью можно было бы только
после детального изучения «блага» как основного определителя. Гофманн по
этому поводу справедливо замечает: «Когда Платон под этим божественным
благом понимает единственный истинный динамический фактор, то он
пытается сказать, что каждая идея является для нас высшей идеей и мы
можем познать ее лишь приблизительно» (82, с. 47).
В «Пармениде» понимание характера блага как единого развивается в том
направлении, что это не просто единица (то су), лишенная свойств и формы,
но единица сущностная (то 'év ov), содержащая в себе все и навязывающая
этому «все» вполне определенную структуру.
253
В «Филебе», поясняя структурную сторону этого единства, Платон
обращает внимание на фонетическую систему языка: «Некто Тевт первый
стал мыслить в беспредельном звуке гласные, не как одно, а как многое;
потом опять заметил и другие, хотя безгласные, однако ж, производившие
какой-то звук, и открыл в них также некоторое число; третьего же рода
буквы различил те, которые теперь называются безгласными. Различая после
сего беззвучные и безгласные все до одной, и отделяя таким образом
гласные и средние, пока не обнял всего числа их, он каждым порознь и всем
вместе дал имя стихий (oroi/slov, по-гречески, - и «стихия», и «буква» -
М.П.). Потом увидел он, что никто из нас не может уразуметь ни одной из
букв самой по себе, без всех их, и размыслив, что этот союз единичен и что
все буквы приводятся как бы к одному, он учение о них нарек грамматикою
и наименовал ее одним искусством» (18BD) [105]. Итак, мир идей, с одной
стороны, самостоятелен, с другой - един, с третьей - множествен в этом
единстве. Он познаваем со стороны принципов своего единства и
множественности, поскольку произведен создателем по единому плану, он
познаваем не со стороны чувственного, а из себя самого как
самостоятельной единой системы многого. Роль чувственности не может
быть большей, чем возбуждение воспоминаний об элементах системы идей
как исходных пунктов дальнейшего исследования уже в пределах самой
системы. Гронинген по этому поводу замечает? «Наблюдение - не более как
легкий удар, возбуждающий память» (22, с. 67). О том же пишет и Блонский:
«Для Платона чувственные впечатления... лишь стимулы для работы ума из
самого себя» (85, с. 8).
В этих обстоятельствах становится понятным и платоновское
экспериментирование в «Меноне» (82-86), где раб, которому Сократ задает
вопросы и чертит геометрические фигуры, «вспоминает» об отношении
стороны квадрата к его диагонали, а также и тот своеобразный подход к
данным органов чувств, с которым мы встречаемся в «Государстве», где
«душа» интересуется не всеми и всякими докладами органов чувств, но
лишь теми, в которых обнаруживается единство различного, на том
254
основании, что именно эти-то доклады должны показаться душе странными
и требующими исследования» (VII, 524).
Разводя чувственное (όρατόν) и рациональное (νοητόν) в оторванные друг
от друга области, Платон вместе с тем, хотя и очень туманно, намечает их
связь в плане восхождения, «воспоминания», переход от чувственного к
рациональному. И принципиальная неспособность чувственного дать
истинное познание должна пониматься не столько в том смысле, что
чувственность у Платона вообще лишь затемняет знание, сколько в том, что
правила обобщения чувственных данных для перехода в мир идей и затем
для познания «блага» не могут быть извлечены из самой чувственности,
привносятся в нее из мира идей, определяются, в конечном счете, благом.
Эта мысль развивается, например, в «Государстве». Здесь мы встречаем
членение как области чувственного, так и рационального: «Мы говорим, что
есть два предмета, и один из них царствует над родом и местом мыслимым, а
другой - опять над видимым,., возьми линию, разделенную на две равные
части, и каждую часть опять раздели таким образом - одну рода видимого,
другую - мыслимого, и у тебя в видимом по относительной ясности и
неясности одна часть будет состоять из образов... Теперь положи другое, к
чему оно подходит, то есть окружающих нас животных, всякую
растительность и весь род искусства. Душа принуждена искать одну свою
часть на основании предположений, пользуясь разделенными тогда частями,
как образами, и идя не к началу, а к концу; напротив, другую ищет она,
выходя из предположений и простираясь к началу непредполагаемому, без
тех прежних образов, то есть совершает путь под руководством идей самих
по себе» (Государство, 509Е-510АВ).
Иными словами, чувственность выступает здесь начальной ступенькой
связи с миром идей, но не может вести дальше первого обобщения: от
видимых столов - к «стольности», от видимых треугольников - к
«треугольности», то есть к тому, что Платон называет «концом души»,
пределом логической структуры как типичной структуры, сказали бы мы,
или как постоянного в типе регулирования. «Когда занимаются видимыми
формами и рассуждают о них, тогда мыслят не об этих, а о тех, которым эти
255
уподобляются: тут дело идет о четырехугольнике и его диагонали самих в
себе, а не о тех, которые написаны... Так этот-то вид назвал я мыслимым и
сказал, что душа, для искания его принуждена основываться на
предположениях и не достигает до начала, потому что не может взойти выше
предположений, но пользуется самими образами, отпечатлевающимися на
земных предметах, смотря по тому, которые из них находит и почитает
изображающими его сравнительно выразительнее... Узнай же теперь и
другую часть мыслимого... ее касается ум силою диалектики, делая
предположения, - не начала, а действительные предположения, как бы
ступени и усилия, пока не дойдет до непредполагаемого, до начала
всяческих; коснувшись же его и держась того, что с ним соприкасается, он,
таким образом, опять нисходит к концу и уже не трогает ничего
чувственного, но имеет дело с видами через виды, для видов и оканчивает на
видах» (Государство, 510D-51 IE).
В этом рассуждении Платона мы обнаруживаем подходы к его
«диалектике», взгляды на пути познания блага. Мысль здесь та же, что и в
примере с Тевтом, ее можно было бы изложить как многоэтапный переход
от бесконечного к конечному, от неопределенного к определенному, от
множества к единому и от единого к множеству «в одном и том же
отношении». Этапы эти выглядят примерно следующим образом.
1. В бесконечном вне нас силами чувственности вскрывается различие,
определенное в своем различии от других как единое, оно должно быть
рассмотрено со стороны множества, и в этом смысле, как единое среди
многого, оно исчерпывает начальную бесконечность. С другой стороны,
оставаясь единым среди многого, оно само в себе должно вскрыть многое и
перейти к пониманию собственного единства не как определенного внешне,
в различии к другим единым, но как единства внутреннего. На этом
последнем этапе чувственное смыкается с рациональным: за образом,
«отпечатлевающимся на земных предметах», предполагается идея. По
достижении этого результата мы обнаруживаем, что с самого начала
пользовались таким «предположением», шли к «концу», не можем подняться
256
выше этого предположения, оказываемся перед затруднением Тевта: никто
не может уразуметь ни одной из букв самой по себе.
2. «Поразмыслив» и найдя, что наш результат лишь «член союза, который
единичен», мы, во-первых, вынуждены проделать те же операции со всеми
различениями исходной бесконечности, которые проделали с данным
членом союза, и, собрав всех членов союза вместе, попытаться установить
характер единичности союза, причем сами члены союза здесь будут
выступать исходным, и чувственность, следовательно, останется позади.
Поднимаясь по лесенке предположений, мы, по мнению Платона, постигнем
благо как конечный результат всех наших усилий. А достигнув этого
результата, мы получаем право рассмотреть уже без помощи чувств
последнее единое как структурное многое по внутренним линиям, провести
однозначную определенность через все звенья цепи, обнаружить в исходной
бесконечности конечность, предел, единство всех ее элементов [106]. Тевт
этот заключительный результат, систему, пронизанную единым принципом,
назвал грамматикой, мы, зависимо от исходной бесконечности, можем
назвать его той или иной наукой, но если единым принципом оказывается
благо, то, по Платону, такой наукой и будет, собственно, философия -
результат применения платоновской диалектики.
В этой «диалектике» Платона действительно много диалектического.
Чувственная норма переходит в логический эталон, и в этом смысле у
Платона неплохо представлена «диалектика перехода от чувства к мысли».
Внешняя определенность переходит в определенность внутреннюю, «для
себя» определенность, многое - в единое и единое - во многое «в одном и
том же отношении», при этом мысль не топчется на месте, а переходит ко
все более и более высшим формам единства и множественности, маневрируя
по благу и силе как основаниям генерализации. Однако в целом необходимо
отметить ограниченный и субъективный характер платоновской диалектики,
ибо объективно ею охватывается сравнительно устойчивая, застывшая
область прочных однозначных связей чувственного и рационального, из нее
устранена душа - объективное движение, что, в частности, приводит к
толкованию умопостигаемого как своеобразной ловушки, куда можно
257
попасть от чувственности, но откуда нет дороги к чувственности. Поэтому,
будучи движением мысли, диалектика Платона не есть вместе с тем
движение объекта в мысли. Мысль не топчется на месте, переходит, но
совершает этот переход по омертвленному, неподвижному, и в этом смысле
она есть диалектика субъективная, софистическая.
Следует отметить и вторую сторону этой диалектики: благо, как
«последнее непредполагаемое». В «последнем непредполагаемом» Платон
абсолютизирует общественную необходимость как конечный определитель
вещей и поступков в терминах добра и зла. Не касаясь пока политических
мотивов этой абсолютизации, нам следует указать на то обстоятельство, что
само это «непредполагаемое» присутствует вполне предполагаемым
«единичным союзом» во всех рассуждениях Платона. И если в диалектике
Платона мысль не топчется на месте, то она и не выходит за пределы
пятачка, круга, изначально определенного посылкой «единичного союза», а
такая исходная ограниченность, примененная субъективно для определения
по внутренним линиям всех элементов системы, неизбежно оказывается
обеднением и искажением связи общественной необходимости с
индивидуально необходимым, с индивидуальной «пользой». Так, на «пути
вниз», «коснувшись непредполагаемого и держась за то, что с ним
соприкасается», мы, «имея дело с видами через виды, для видов и оканчивая
на видах», имели бы право, по Платану, установить единичную
определяющую связь в любой замкнутой системе видов. Стараясь
действовать по этому рецепту, мы в каждом отдельном случае получали бы
абсурдный результат. Статистический характер этического вообще по самой
своей нормативной природе исключает однозначность, она здесь - результат
логических операций, а не исходный их момент.
Являясь значительным вкладом в логику, «диалектика» Платона есть
вместе с тем совокупность методов, ограниченных и по предмету, и по
исходным постулатам, есть диалектика субъективная.
Последняя сторона теории познания Платона связана с «энтузиазмом» как
движущей силой познания. Устранив из проблематики динамическое и
реальные биологические потребности человека, Платон, естественно, взял на
258
себя моральное обязательство показать, ради чего, собственно, поднимается
человек на познание. В «Пире» этот «энтузиазм», «эрос» связывается с
мистическим самоотрешением от земного ради созерцания прекрасного. В
«Тимее» более прозаически настроенный Платон выдвигает познание как
одно из условий спасения души [107].
В целом о теории познания Платона можно сказать, что она, бесспорно,
была для своего времени значительным вкладом в логику. Вместе с тем она
несла в себе ограниченность исходных постулатов, не поднялась выше
одностороннего исследования логики с точки зрения блага.
«Человек - мера всех вещей», - говорит Протагор. «Пусть бог будет
мерой всех наших вещей», - отвечает ему Платон (Законы, 716С).
Сравнивая эти высказывания, нетрудно заметить социальный смысл
философии Платона. Чтобы теоретически оправдать рабовладельческое
общество в целом и ту его разновидность, которая предполагает власть
аристократии, в особенности, Платону требовалось, с одной стороны, дать
единый для всех критерий оценки человеческих поступков, а с другой
стороны, показать доступность этого критерия лишь узкой группе «лучших»
философам-аристократам. Частной проблемой, непосредственно
вытекающей из двух первых, являлся выбор формы, или, как бы мы сказали,
выбор типа опредмечивания, который позволял бы приблизить критерий к
любому члену общества, но исключал бы понимание, держался бы на вере, а
не на знании.
Для общего направления усилий Платона типичны отрывки из «Тимея»:
«Разумом обладают только боги, из людей же лишь самая незначительная
часть» (5IE); «И кто назначенное ему время проживет праведно, тот
возвратится в обитель назначенной ему звезды и здесь будет вести
блаженную жизнь, сообразную со своим нравом; а кому это не удается, тот в
следующем рождении переменит прежнюю природу на природу женщины.
Если же и тут он не отстанет от своей порочности, то, смотря по тому,
какому роду порока предается он, всякий раз будет перерождаться в
животное - по своей природе аналогичное с теми нравами, которые он себе
нажил, и перестанет перерождаться и терпеть муки не прежде, чем когда,
259
решившись следовать водительству присущего ему тожественного в себе
равного начала и посредством разума одержав победу над тяжелою,
необузданною и лишенною разума массою... примет снова образ прежнего
лучшего состояния» (42BD). Нетрудно заметить, что, с одной стороны, -
бессмертность души, которой угрожает метампсихоз, а с другой - разум, как
редкое среди людей явление, - оба эти постулата создают своеобразную
социальную проходную на небеса, находящуюся под контролем тех
немногих «лучших», которые обладают разумом.
И когда в «Государстве», о котором Вогелин замечал: «Здесь идея
хорошего полиса имеет прежде всего значение парадигмы, образца» (86, с.
173) [108], Платон пытается теоретически обосновать государственное
устройство, вся структура его социальных институтов исходит из принципа
власти немногих ради массового переселения людей на «назначенные им
звезды». Какой бы наивной ни казалась эта попытка оправдать право
немногих на руководство многими, она не более наивна и не менее
теоретически обоснована, чем соответствующая попытка христианства.
* * *
В целом учение Платона ставит и решает на идеалистический лад
основные вопросы причинности [109]. Наиболее важным введением Платона
в теорию причинности было четкое различение ее структуры. Причинность
представлена необходимостью и разумом. Первая - «род причины
беспорядочной» рассматривается как нечто неотъемлемое от движения,
часто предстает материей, природой. Вторая - разум - выделена в особую,
лишенную изменений область, и роль ее состоит не столько в том, чтобы
двигать и совершать процессы, сколько в том, чтобы направлять их,
упорядочивать: «Разум держит перевес над необходимостью тем, что
заставляет приводить большую часть вещей к благу» (Тимей, 48А). Само это
различение крайне важно и ценно для понимания причинности, поскольку в
нем отражено реальное различие между однозначной связью «форма -
реализующая ее сила», которая лежит как естественная объективная
260
необходимость в основе человеческих действий, ~ и человеческой
избирательностью, свободой, человеческим творчеством, «цепью причин»,
которыми используется эта естественная необходимость для «приведения
вещей к благу» и удовлетворения человеческих потребностей. В этом
«различающем» смысле формула Платона безупречна. Но анализ
различенных элементов носит уже чисто идеалистический характер. Платон
убирает объективные ограничения, и необходимость перерастает в
пластичную беспорядочность, в материю - чистую возможность. С другой
стороны, Платон оказывается не в состоянии обосновать силу разума и
природу избирательности. Разорвав с предшествующей материалистической
традицией, Платон вводит сверхъестественное, основывает определяющую
роль разума на простом «восхотел». Выход за пределы естественного и
попытка обосновать этический эталон завершаются у Платона сильнейшей
тенденцией представить «умопостигаемое» не факультативной структурой
связей, которая выстраивается только для нужд момента и существует во
время использования, но структурой омертвленной, постоянной, застывшей.
Этим стирается различие между мышлением и рефлексом, человек
возвращается в животное состояние, как по линии типа нервной
деятельности, так и по линии динамической, поскольку Платон отказывается
видеть в практике основной определитель функционирования мысли.
С точки зрения использованных моделей Платон кладет в основу модель
лингвистическую, но берет эту модель не полностью. Скрытое за знаком
мышление берется Платоном, как и Сократом, в продуктах своей
деятельности, что, как мы это видели во введении, дает близкую к рефлексу,
однозначную, детерминированную и объективно, и субъективно структуру.
Такая структура (алгоритм регулирования), из которой изгнана
многозначность, и используется Платоном в качестве поля абсолютизации, в
пределах которого мы встречаем элементы техноморфной (акт творения) и
генетической (связь идей с материей) моделей.
Вместе с тем, используя модель лингвистическую, Платон
восстанавливает разорванную софистами связь с предшественниками, в
основном с Анаксагором и Демокритом. Демокритов вероятностный
261
детерминизм часто попросту отождествляется с материей, причем
вероятностный характер Демокритовой модели рассматривается под знаком
ценностного «порядка» как «беспорядок». В том же плане сохраняется и
связь с Анаксагором, где «кости и нервы» вводят своими пределами
беспорядочность материи, а инициатором поступков совершенно
справедливо указывается благо, потребность, «выбор наилучшего». Но такая
трактовка материи не выдерживается Платоном последовательно. Чаще она
- бесструктурная возможность или даже лишенность. Платону не удалось
создать некоторый структурный результат типа демокритовского. Принцип
причинности используется Платоном в элеатской форме как простое
требование указать источник изменения.
* * *
В этой главе рассмотрены основные школы второй половины V и первой
половины IV вв. до н. э. Характерной чертой этого периода было резкое
возрастание определяющей роли идеологического, партийного момента в
развитии философии, что и привело к одностороннему осознанию
лингвистической модели, к идеализму Платона.
В плане мировоззренческом общей чертой периода было сознательное
использование принципа причинности в философском умозрении, что уже в
системах Эмпедокла и Анаксагора позволило выйти за рамки денежной
модели, а в системе Демокрита вообще перейти на продукт философского
умозрения - структурную модель причинности, которая отличалась от
аристотелевской сущности лишь отсутствием целевой составляющей, и
которая предельно близка модели современного вероятностного
детерминизма. Период характерен также переходом к лингвистической
модели, чему во многом способствовало учение Анаксагора с четким
различением субъекта и объекта. Перестройка философии на новом
фундаменте (софисты, Сократ, Платон) совершалась как бы в лесах
Анаксагорова учения, преследовала актуальные для политического развития
того времени цели: найти критерий правильности человеческих поступков,
262
обосновать свободу человека или исключить ее. Сам переход проходил
довольно бурно, с образованием параллельных, независимых друг от друга
детерминированных структур: природной (φύσει) и «законно»-социальной
(νόμ,ω), пока в учении Сократа не оказались слитыми в гомогенную жесткую
структуру ценностное и рациональное, то есть субъективное и объективное
определения.
Демокритом в начале периода была предложена вероятностная модель
причинности. Модель однозначной причинности типа «лапласовского
детерминизма», хотя и не нашла еще у Сократа и Платона четкого
выражения, присутствует у последнего в скрытой форме как построенная на
абсолютизации генетической модели телеология.
В Платоне античная философия обнаруживает сильнейший крен в
идеализм, а вместе с тем и тягу к абсолютизации единичного акта
регулирования - замкнутого контура причинно-следственных связей - в
самодовлеющий предмет философии (акт творения у Платона). В этой
последней тенденции заключена опасность резкого ограничения
проблематики детерминизма, когда невозможно уже сохранить
многозначность, а вместе с тем и различить причинность и
целесообразность, ставится ли вопрос материалистически или
идеалистически. В философии Аристотеля тенденция эта оказывается
преобладающей.
263
Глава III
ТЕЛЕОЛОГИЯ АРИСТОТЕЛЯ
Аристотель (384 - 322 гг. до н. э.), «Александр Македонский греческой
философии», занимает выдающееся место не только в истории греческой
философии, но и в истории философии вообще, как первый исследователь
всех существенных форм диалектического мышления. «Искатель кладов»,
глубокомыслие которого «самым удивительным образом вскрывает
наиболее тонкие умозрительные проблемы», Аристотель впервые поднял и
поставил философские вопросы такой важности, что все последующее
развитие домарксистской философии не выходило, по сути дела, за пределы
аристотелевской проблематики.
Аристотель жил в эпоху глубокого кризиса греческого полиса, он
выступал как принципиальный защитник рабовладельческого строя,
философски обосновывал рабство, исходя из особенностей человеческой
природы. Вместе с тем в учении Аристотеля нет уже той социальной
остроты, которая присуща Платону.
Вклад Аристотеля в разработку проблемы причинности - его учение о
сущности, его попытка онтологизировать благо, ввести естественную
однозначность - надолго стабилизировало проблематику детерминизма. Это
и не удивительно. Авторитет Аристотеля был настолько велик, что его
учение подверглось догматизации как целостная система. Последующие же
комментаторы и критики оказывались в позитивной или негативной
зависимости от основ аристотелевской системы, и в этом положении им не
оставалось делать ничего иного, как иллюстрировать гегелевскую триаду:
воспроизводить через отрицание отрицания все ту же аристотелевскую
схему или даже ее части. Не избежал этой участи и Гегель: его
«имманентная» цель саморазвития духа, его попытка трактовать
возможность, действительность, необходимость, случайность, исходя из
цели, во многом обязаны аристотелевской «сущности».
264
Роль Аристотеля в истории философии весьма двойственна. С одной
стороны, у Аристотеля «масса архиинтересного, живого, наивного
(свежего)» (1, с. 331), где «задето все, все категории», где Аристотель
«всюду, на каждом шагу ставит вопрос именно о диалектике». Со стороны
же другой ~ застывшая схема, итог. Соответственно, весьма неустойчивыми,
колеблющимися оказываются и оценки учения великого грека. Зибек видит в
учении Аристотеля систему, которая «уже столетия тому назад перестала
быть жизненным мировоззрением, а потому и по форме, и по содержанию во
многом расходится с современным мышлением» (87, с. 1). В
противоположность этому Лукасевич прямо указывает на Аристотеля как на
зачинателя математической логики (88). О связи с современностью говорит и
Гейзенберг: «Аристотель пошел гораздо дальше своих современников от
дедуктивной науки, имеющей в основе абстрактные принципы, к науке
описательной и регистрирующей» (41, с. 30). Кронер, отмечая, что
«современная терминология во многом еще производна от различий
Аристотеля» (35, с. 79), пытается объяснить популярность Аристотеля
указанием на всеобъемлющий характер его концепции: «У Аристотеля все
обнаруживают для себя полезное» (там же, с. 192), а источником такой
широты указывает учение Гераклита о борьбе противоположностей, которое,
якобы, истолковано Аристотелем в полярности формы и материи,
действительного и возможного. В этом взгляде Кронера обнаруживается все
та же двойственность. Учитывая роль борьбы противоположностей,
объективную диалектику, нетрудно увидеть Гераклита в числе
предшественников, но, кроме преемственности идей, существует еще и
предметность, которую Кронер не берет в расчет и которая вводит поток
исторически связанных друг с другом взглядов в русло соответствия
процессам и структуре предмета. А с точки зрения предметности Аристотель
не только сохраняет ограниченность Платона, но и усиливает ее. В этом
свете указание на всеобъемлющий характер спекуляций Аристотеля
свидетельствует скорее о силе аристотелевского ограничивающего влияния
на последующие школы, чем о всестороннем отражении предмета в его
философии.
265
Двойственность исторической роли Аристотеля сказывается и на его
оценках в марксистской литературе. По мнению Дынника и Александрова,
Аристотель - непоследовательный материалист, причем, причины этой
непоследовательности Александров усматривает «в общей оценке
Аристотелем умственного и физического труда» (89, с. 28), а Дынник - в
том, что «детерминизму Гераклита и Демокрита у Аристотеля
противополагается телеологическое миропонимание, и в этом отношении он
ближе к Платону, чем к материалистам древней Греции» (57, с. 232).
Оганяну кажется, что мы имеем дело с более или менее последовательным
идеалистом: «Даже после критического преодоления учения Платона об
идеях, он продолжал линию объективного идеализма, утверждая
существование чистой формы, независимой от материи и являющейся
источником ее движения» (90, с. 7). Рудаев видит в Аристотеле чуть ли не
античного предшественника марксизма: «Когда Маркс решил «поставить на
ноги диалектику Гегеля», он сам оказался стоящим обеими ногами на почве
учения Аристотеля» (91, с. 9).
В этих условиях необходимо выяснение исторических корней и общего
характера философии Аристотеля, без чего мы рискуем запутаться в
противоречивых мнениях не только об Аристотеле, но и о детерминизме его
философии.
1
Вопрос об исторических корнях учения Аристотеля есть прежде всего
вопрос об отношении Аристотеля к его учителю Платону. Здесь также нет
единства мнений. Дынник справедливо считает: «Будучи учеником Платона,
Аристотель в то же время выступает в дальнейшем с принципиальной
критикой основ платоновского идеализма и как философ отнюдь не является
лишь его продолжателем» (57, с. 218). Такая постановка вопроса
перспективна в том смысле, что различает в Аристотеле и общее позитивное
в связи с Платоном, и общее по негативной связи с Платоном, и, наконец,
собственный вклад Аристотеля, генетически не сводимый к Платону.
266
Конечно, сведение вопроса об исторических корнях Аристотеля к
Платону не бесспорно. Во многих деталях своего учения Аристотель
произволен от Гераклита, Анаксагора, Демокрита, во всяком случае, близок
им. Более того, в своей критике платонизма, критике идеализма как
такового, Аристотель может рассматриваться противоположностью
Платону. Вместе с тем противоположность - лишь частная форма
производности. С Платоном Аристотеля сближает прежде всего модель и
проблематика. За малыми исключениями они общи и учителю, и ученику,
чего нельзя сказать о трактовке основных вопросов этой проблематики.
В западной историко-философской литературе широко распространен
взгляд на Аристотеля как на ученика Платона, стремящегося
усовершенствовать платонизм, не затрагивая его основ. Так, мнение Джонса:
«Несмотря на то, что из-за отрицания самостоятельного существования
форм Аристотелю пришлось отказаться от многих взглядов Платона, он все
же оставался в основном платоником, и его труды могут быть поняты только
как попытка реформировать основные взгляды Платона. Как и у Платона,
основной задачей Аристотеля выступало утверждение существования мира
знания и попытка ответить на вопрос: «Что является благом для человека?».
Подобно Платону, он искал этот ответ не в радикально новых доктринах, а в
переработке и переформулировке традиционных верований греков. Задачей
Платона и Аристотеля было оживить эти верования и придать им более
глубокое содержание, основав их на здоровой метафизике и показав, что
этические и политические ценности имеют корни в природе и структуре
универсума» (42, с. 179). Близкий взгляд высказывает Аллан: «Аристотель
не выступает с противоположными Платону взглядами. Подобно своему
учителю Платону, ему хотелось бы подтвердить, что не может быть
удовлетворительного объяснения космоса в терминах материи и
причинности, как это пытались делать атомисты» (83. с. 23). Исследуя
отражение идей «Тимея» в философии Аристотеля, Клагхорн отмечает:
«Аристотель в основном согласен с Платоном в принципах и предпосылках
его естествознания» (92, с. 1) [110]. Зибек, давая общую характеристику
учению Аристотеля, говорит: «Мир, как целое, и Платону, и Аристотелю
267
представляется единым в себе организмом, покоящемся на духовной
(божественной) основе. Аристотель удерживает сверх того и основное
понятие идеи как единого и постоянного, в противоположность
множественному и изменчивому» (87, с. 23).
Эти мнения имеют под собой довольно твердую почву, и с ними
приходится считаться, поэтому прежде всего следует более точно
определить область, в которой Аристотель остается учеником Платона. Как
на общие Платону и Аристотелю моменты исследователи указывают на
близость трактовки материи и организующей ее силы. Об этом говорит
Зибек, это подтверждает и анализ Клагхорна (92, с. 5-7). В целом, можно
считать установленным, и ниже мы будем исходить из этого, что
Аристотелем удерживается основная противоположность учения Платона:
противоположность самодвижущегося и направляющего, материи и блага.
Однако, сохраняя эту противоположность, во многом исходя из нее,
Аристотель вкладывает иное содержание в последние определители бытия.
В интересующем нас плане усилия Аристотеля направлены на две детали
системы Платона: на разрыв между идеями-образами и вещами, а также на
разрыв между создателем и сотворенным миром [111]. Под усилиями
Аристотеля система Платона переходит в свою противоположность, не теряя
при этом внутренней определенности, внутренней однозначной связи. В
исходных началах аристотелевского анализа «ггорядок» Платона оказывается
одной из аксиом. Если Платон основную задачу видел в создании порядка из
беспорядка в обосновании критерия-эталона и поэтому на правах исходных
постулатов допускал беспорядок, свободу человека в выборе наилучшего, то
в учении Аристотеля мы имеем дело с миром упорядоченным, а предметом
исследования ставится функционирование этого упорядоченного мира.
Показателен в этом смысле аристотелевский подход к самой жгучей
проблеме Платона - проблеме человеческой свободы. Платон проявляет
чудеса изобретательности, чтобы, в конце концов, сказать человеку: «Живи
праведно!». Для Аристотеля же свобода - частная сторона проблемы
случайного, проблемы уклонения от внутренней целесообразности мира:
«Ни неодушевленное существо, ни зверь, ни ребенок ничего не делают
268
случайно, так как у них нет способности выбора... случай и случайное
относятся к тем существам, которым присуще счастье и вообще
практическая деятельность» (Физика, 197в). Но сам по себе случай, как и
«самопроизвольное», есть «нечто более второстепенное, чем и разум, и
природа; таким образом, если даже в очень большой степени причиною
устройства мира была самопроизвольность, необходимо все-таки, чтобы
прежде разум и природа были причинами как многого другого, так и этой
вселенной» (198а).
Платон ищет «порядок», беспомощно разводит руками, когда «род
причины беспорядочной» - вероятностный детерминизм Демокрита -
оказывается «непостижимейшим» образом участником мира
умопостигаемого. Аристотель весь целиком на точке зрения «порядка».
Беспорядочное, случайное, самопроизвольное вызывают у Аристотеля
удивление как отклонение от нормы. И Аристотель, как критик Платона,
обращает свои усилия не на обоснование порядка, а на несообразности уже
установленного «порядка» как объективизированного ценностного
постулата, результата акта творения.
Аристотель прежде всего нападает на ограниченность платоновского
понимания бога - источника порядка. У Платона создатель, сотворив мир,
уходит на покой: «Сделав все эти распоряжения, он пребывал затем в
состоянии, свойственном своему существу» (Тимей, 42Е). Но в этом
состоянии бог практически исключен из системы мира, существует только в
связи с душами как предмет их самопознания. Как и любое мифологическое
божество, платоновский бог не допускает проверки, критики по существу.
Он должен быть либо отброшен, либо принят на правах аксиомы.
Аристотель не может отбросить бога, но не может и допустить случайное,
эпизодическое действие источника порядка. Этим, собственно, и
определяется позиция Аристотеля: бог Аристотеля не творец, а двигатель;
наведение порядка не акт, а вечный процесс.
Развертывание единичного акта творчества во временную бесконечность
позволяет уйти от проверки гипотезы Платона и оказывается в последствии
излюбленным приемом идеализма. На нем, в частности, стоит и философия
269
Гегеля. Принимая платоновскую цепь причин ставшей, Аристотель
раздувает в абсолют единичный акт регулирования, онтологизирует его в
«сущность», все относит к этой застывшей цепи и даже сам беспорядок
пытается объяснить из порядка.
Вторым важнейшим вопросом выступает вопрос об общем характере
аристотелевской философии. Большинство историков видит центр тяжести
проблематики Аристотеля в его учении о сущности (ουσία) как единстве
действительного и возможного, формы и материи, как структурной связи
причин. Александров констатирует: «В центре внимания ряда сочинений
Аристотеля стоит категория сущности» (93, с. 76). Та же мысль
подчеркивается большинством исследователей, в частности Ахмановым, а в
западной литературе - Ягером, Зибеком, Алланом, В. Марксом и др.
Принимая эту точку зрения, мы вместе с тем считаем, что сама по себе
констатация факта: «сущность - центр проблематики Аристотеля», - еще не
характеризует аристотелевскую философию. Необходимо выяснить,
выступает ли сущность у Аристотеля исходным постулатом, или же целью
усилий философа [112]? В зависимости от того или иного подхода резко
меняется и постановка вопросов, и общий вид философии Аристотеля.
На наш взгляд, своеобразие аристотелевской «сущности» объяснимо
лишь из понимания ее как результат, а не исходный постулат. Аристотель
синтезирует разделенное Платоном, а #е анализирует, поэтому
противоположности формы и материи, действительного и возможного,
энергии и энтелехии, да и сами причины выглядят у него не «раздвоением
единого», а, скорее, объединением раздвоенного софистами, Сократом и
Платоном. И диалектика Аристотеля, скорее, результат, чем исходный
постулат. Аристотель приходит к диалектике, а не исходит из нее, у
Аристотеля, как говорит Ленин, «запросы» в диалектику, «вопросы о
диалектике» (1, с. 332).
В свете указанного понимания Аристотель отличается от Платона, как,
впрочем, и от Гегеля, именно этой синтезирующей тенденцией или, как
замечает Дынник: «Если характеризовать различие между платоновским
учением об идеях и аристотелевским учением о формах, то прежде всего
270
нужно указать, что у Платона путь к идеям имеет «восходящий характер»,
это путь ухода от реальности, метафизическая абстракция от всего
реального; между тем как у Аристотеля познание форм - это приближение к
действительному миру» (57, с. 226). Относительно Платона мы бы добавили,
что его путь - не только путь ухода от реальности, но и путь преумножения
сущностей, путь конституирования новых «реальностей». Аристотель, с
одной стороны, критикует эту тенденцию в целом - это то, о чем говорит
Ленин: «Критика Аристотелем «идей» Платона есть критика идеализма
вообще» ( 1, с. 288), а с другой, позитивной стороны, удерживая различения
Платона, Аристотель пытается создать единую «реальность». Цели этих
позитивных попыток довольно точно указывает Джонс: «Ему хотелось
создать такую теорию реальности, которая позволяла бы трактовать
реальным и благо, и чувственные объекты. Более того, он видел, что
удовлетворительная модель реальности должна решить проблему движения»
(42, с. 181). Эта «модель реальности», к которой стремился Аристотель, и
есть одна из сторон его «сущности».
Подход к философии Аристотеля как к синтезирующей проясняет многие
ее особенности. Во-первых, за исключением противоположности
действительного и возможного, у Аристотеля - платоновский материал
различений: термины Платона приобретают новые значения, не теряя
генетической связи с Платоном. Во-вторых, хотя форма и материя связаны
Аристотелем воедино, их различение идет в платоновской, а не в научно-
практической плоскости: форма трактуется и как один из возможных
единичных способов существования вещества, и как привнесенный извне и
отягощенный этическим определитель чистой возможности; вопрос о форме
ставится не в противоположностях внутреннего и внешнего, необходимого и
случайного, а в платоновских противоположностях порядка и беспорядка. В-
третьих, у Аристотеля сохраняется платоновская ограниченность
проблематики единичным субъектно-предметным контуром,
регулированием.
Вместе с тем именно в пределах этой ограниченности, в пределах
понимания и анализа изолированного акта регулирования проявляется
271
своеобразие Аристотеля. Платон, как мы видели, объясняя связь идей с
вещами, использовал генетическую модель: идеи наделялись мужскими
достоинствами, многократно воспроизводили себя на женственной сущности
- «материи», «матери всего сущего». Аристотель отказался от этого
мистического истолкования, автоматически вводившего в природу
однозначность, и дал довольно четкий анализ акта регулирования как
единства идеального (алгоритм) и актуального преобразования. Аристотелю
не удалось по достоинству оценить роль обратной связи в регулировании,
что и породило множество противоречий в его философии, с которыми
Аристотель справился не лучшим образом: попросту постулировал
устойчивую, неизменную, подчиненную имманентной цели связь всех
явлений мира. Под давлением аристотелевской критики рушится
субъективность платоновской схемы, она объективизируется,
материализуется, становится моделью «природы», сущностью. Если у
Платона рядом с необходимостью (вероятностным детерминизмом) и
отдельно от нее стоит «порядок», то в «сущности» Аристотеля слиты
воедино и необходимость, и порядок: природа освящена, а святость
материализована.
Объективизируя платоновскую проблематику, Аристотель оказывается на
близких Демокриту позициях, на позициях материализма. Но между ними
остаются глубокие различия. У Демокрита его «сущность» - структурная
причинная модель - не имеет целевой составляющей, носит вероятностный
характер. «Сущность» же Аристотеля - структурная причинная модель -
несет дополнительный, пересаженный из субъекта в природу определитель:
цель. Материализм Аристотеля - лишь момент эволюции его учения.
Объективизация платоновского «образца» по нормам техноморфной
модели и дает Аристотелю «сущность» - единство формального, целевого,
движущего и материального начал. Аристотель подходит к «сущности» с
нескольких направлений [113]. В. Маркс различает четыре подхода к
сущности: от грамматики, от противоположности формы и материи, от
противоположности действительного и возможного, от причин (94, с. 48-49).
Различение это довольно условно, хотя и может быть аргументировано. На
272
наш взгляд, некоторые из перечисленных выше направлений выступают уже
отраженным анализом, исходящим из постулата сущности, что мы
встречаем, например, в специальных работах Аристотеля.
Вместе с тем В. Маркс прав в том смысле, что философию Аристотеля
невозможно объяснить из одной модели, поскольку, как и в случае с
Демокритом, усилия Аристотеля направлены не к использованию
причинности для объяснения частных явлений, а к обоснованию самой этой
причинности. Для обоснования сущности - структурной модели
причинности - Аристотелю приходится обращаться к нескольким моделям.
1. Учение о сущности
Учение о сущности связано у Аристотеля в основном с использованием в
качестве модели отдельного акта регулирования, что ведет к переносу на
природу ряда объективных характеристик этого акта.
1
Одним из исходных постулатов аристотелевского синтеза выступает
мысль о тождестве регулирования («искусства») и природы. Природа при
этом берется в ином смысле, чем у Платона. Нестле отмечает важную деталь
этого взгляда: «Если Платон видел в природе только область становящегося
и происходящего, которое в противоположность вечным и неизменным
идеям не могло признаваться истинным, и из познания происходящего
человек мог достичь лишь вероятного знания, то для Аристотеля природа
образует важнейшую и самодовлеющую область исследования» (95, с. 293).
Сама по себе мысль о возможности трактовать природу через
регулирование представляется вполне правомерной и даже единственно
перспективной, поскольку все наше знание о мире добыто через
регулирование, получено в процессах изменения вещей. В этих условиях
вполне оправдано истолкование регулирования как единственного
273
надежного источника всех наших знаний о природе. Однако уже здесь
возможны две постановки вопроса, поскольку полученное из практики
знание может рассматриваться и относительным, и абсолютным. В первом
случае мы вправе утверждать, что в регулировании нет ничего, чего нельзя
было бы обнаружить в природе, поскольку «человек в своем производстве
может действовать лишь так, как действует сама природа» (6, с. 49). Вместе
с тем относительный характер полученного из регулирования знания
исключает обращение, не позволяет утверждать, что в природе не может
быть обнаружено большего, чем в регулировании.
Во втором, абсолютном случае, случае явно неправомерном, возникает
обращение. Именно по этому пути и идет Аристотель: «Как делается каждая
вещь, такова она и есть по своей природе, и какова она по природе, так и
делается, если ничего не будет мешать. Делается же ради чего-нибудь,
следовательно, и по природе существует ради этого. Например, если бы дом
был из числа природных предметов, он возникал бы так же, как теперь
делается искусством; если же природные тела возникали бы не только
природным путем, но и путем искусства, они возникали бы соответственно
своему природному бытию. Вообще же, искусство частью завершает то, чего
природа не в состоянии сделать, частью подражает ей» (Физика, 199а). Здесь
мы обнаруживаем попытку пересадить в природу процесс регулирования, а
вместе с ним и однозначность, а также своеобразный примат искусства,
которое способно «завершить то, чего природа не в состоянии сделать». Это
безоговорочное отождествление природы и практики выступает первым
ограничителем проблематики и первой границей сущности.
Второе ограничение связано со спецификой аристотелевского понимания
регулирования. Под искусством Аристотель понимает отдельные акты
регулирования типа изготовления статуй, постройки домов и т.п. Система
типов регулирования, субъектно-объектные отношения в целом не
рассматриваются. При генерализации этих актов в понятие искусства они
берутся, во-первых, актами индивидуальной, а не коллективной
деятельности и, во-вторых, берутся без учета многозначности, обратной
связи, берутся только по алгоритму и генерализируются по конечному этапу
274
действия, по цели-форме. Первое, индивидуальность, приводит к тому, что
исключается сама возможность постановки вопроса о роли общения и языка
в искусстве, а вместе с тем из анализа устраняется этап преддействия:
теоретическое дано лишь результатом - целью. Благодаря такому подходу
Аристотелю удается создать видимость онтологизации регулирования и
показать имманентными вещам такие начала, как цель и действующая
причина, которые с учетом этапа преддействия не могут толковаться
имманентными вещам-предметам. На этом пути Аристотелю удается создать
собственное понимание сущности как абсолютизированный, лишенный
субъективных характеристик элемент мира и внедрить этот элемент в
природу. Второе - генерализация по цели - обедняет практику. Из анализа
исчезает этап преддействия, когда субъект стоит на распутье перед многими
возможностями и вынужден, сообразуясь с собственными нуждами,
выбирать, бороться с многозначностью. Генерализации по цели не только
обедняют практику, но и искажают ход естественных процессов, так как
созданный таким приемом онтологический элемент раздувает в абсолют
частную черточку природы: однозначность актуальных процессов
взаимодействия и развития. Природе приписывается внутренняя
целенаправленность процессов: «Если... искусственные произведения
возникают ради чего-нибудь, то ясно, что и природные, ибо и последующее
и предыдущее в искусственных вещах и в природных произведениях
одинаковым образом относятся друг к другу» (Физика, 199а). В более
рафинированном виде та же мысль об однозначности как результате
ретроспективной деятельности цели дается в следующем определении: «От
каждого начала получается не одно и то же, однако и не первое попавшееся,
но движение всегда направлено к одному и тому же, если ничего не
помешает» (199в).
В целом отождествление искусства и природы позволяет Аристотелю
создать универсальный механизм сущности по аналогии с процессом
регулирования. Усилия Аристотеля направлены в основном на синтез, на
объединение всех определителей акта регулирования в едином элементе
мира - сущности. По данным анализа искусства, Аристотель различает,
275
«логически различает», четыре таких определителя: начало, на котором
формируется вещь (ΰλή - материя); начало, откуда исходит движение (όθεν ή
αρχή της κινήσεως - движущее начало); то, ради чего совершается движение
(то ου ev€Ka - целевое начало); начало формальное, иногда просто
называемое Аристотелем сущностью (ουσία) или «ставшим бытием» (то τι
ων cfvcu) - это начало обеспечивает существование в форме,
удовлетворяющей целевому назначению вещи. Три последних начала:
движущее, целевое и формальное противопоставлены материи как начала
активные и ближе стоящие к действительности. В совокупности, в
завершенности процесса они составляют форму вещи (μορφή, €Ϊδος) -
сущность вещи без материи. Слияние именно этих трех родов причин -
явная дань Платону, хотя большую роль в появлении этого водораздела
играет подход от лингвистической модели, а также и анализ процессов в
противоположности энергии и энтелехии. Наиболее часто внутренний
механизм сущности предстает как единство материального и формального
аспекта, где материальный суть способность принимать формы, а
формальный - однозначная определенность вещи как ставшей, вещи
понятой энтелехиально.
Для Платона природа была синонимом необходимости, родом причины
беспорядочной. Аристотель, не порывая полностью с Платоном, меняет
содержание термина. Для него необходимость" есть то, «что не может быть
иначе (ουκ ίνδέχετα άλλως εχειν)» (Метафизика, 1015в), а вместе с тем и
действительное в его противоположности возможному, которое есть то, «что
может быть иначе» (Об истолковании, 12). Александров замечает
некоторую расплывчатость аристотелевской необходимости, но, по всей
вероятности, исходит из противоположного нашему толкованию характера
философии Аристотеля: «Правда, иногда у философа эта необходимость
была фатальной, она была связана с телеологическим взглядом на природу.
Однако эта непоследовательность великого ученого еще не разрослась до
такой степени, чтобы представить необходимость, стоящей над природой и
подчиняющей себе всю природу. Наоборот, Аристотель постоянно отмечал,
что «необходимость заключена в материи» (Физика, 200в)» (89, с. 39). Здесь
276
сразу же возникает вопрос: «Что считать аристотелевской
«непоследовательностью»? На наш взгляд, непоследовательностью
Аристотеля приходится считать то, что его «необходимость» не всегда
фатальна, часто выступает платоновской необходимостью, синонимом и
содержанием материи. Росс, ссылаясь на трактат «Об истолковании» (9),
также отмечает известную расплывчатость «необходимости»: «Аристотель
не был абсолютным детерминистом. В трактате «Об истолковании» (9) он
отрицает приложимость закона исключенного третьего к суждениям об
единичных будущих событиях. Утверждать применимость этого закона к
будущему, значило бы сказать, что ничто не происходит случайно» (4, с. 81).
Вряд ли следует смешивать детерминизм и однозначность, как это делается
Россом, но в отношении Аристотелевой необходимости приходится
учитывать эволюцию термина от «рода причины беспорядочной», какой мы
застаем необходимость у Платона, к однозначной связи событий, какой
необходимость предстает в специальных работах Аристотеля, где она
берется исходным постулатом.
Общее направление и цель усилий Аристотеля по преобразованию
необходимости довольно точно, хотя и несколько излишне прямолинейно,
дает Кассирер: «Аристотель был вынужден дать новое определение
«случайности» и «необходимости», которое связывает их совершенно в
ином аспекте, отличном от плана атомистов. Для Аристотеля случайно то,
что не следует из «сущности» вещи. Вместе с тем эта сущность (ουσία)
определяется формой (eîboç). Свойство «случайно» (συμβ€βηκώς), если оно
не образует вещи, может исчезнуть или отсутствовать, не подвергая
опасности существование вещи. В области существующего под случайным
мы должны понимать все то, что, хотя и детерминировано само по себе, но
детерминировано не через форму, а лишь через содержание материи. Там,
где в области природы мы встречаемся с неправильным образованием, или
где даже форма вместо того, чтобы выступать в чистом виде, оказывается
отягощена недостатками, - мы должны это приписать сопротивлению или
торможению материи. Материальная причина остается, таким образом,
всегда случайной, поскольку она противостоит «существенным причинам» -
277
формальной и целевой. Вне этого отношения материя и необходима, и
случайна. Необходима, поскольку ее бытие определяет все ее движение, и
случайна, поскольку само это бытие не является в себе завершенным, есть
только момент, не обладающий сам по себе самостоятельным значением и
действительностью. Материя есть равно источник и естественной
необходимости (ανάγκη), и случайности (αύτόματον, τύχη). Последняя и
истинная основа лежит в конечной причине, тогда как материя мыслится как
сопутствующая причина (συναίτιος), которой поэтому присуща лишь
гипотетическая необходимость (ек υποθέσεως άναγκαίον)» (63, с. 125-126). По
поводу рассуждения Кассирера следует заметить, что он рассматривает
преобразование Аристотелевой «необходимости» в основном со стороны
результата. К такой необходимости направлены усилия Аристотеля, на деле
же она остается довольно туманным понятием, сохраняющим связь с
платоновским словоупотреблением. Сам Аристотель в работах, где ему
приходится оперировать «необходимостью» как постулатом, приближается к
пониманию, указанному Кассирером: «Необходимость же, которую почти
все пытаются положить в основание, не различая, во скольких значениях
можно говорить о необходимом, присуща произведениям природы не всем в
одинаковой степени. Необходимость простая присуща существам вечным;
необходимость условия, то есть согласно предположению, - всему
возникающему, как например, из предметов, искусственно сооруженных, -
дому или любому подобного рода предмету. Необходимо ведь иметь в
наличии материал определенного качества, раз намечена постройка дома или
поставлена какая-нибудь другая цель; и сначала должно возникнуть и быть
приведено в движение именно это, а затем уже и то, и таким способом надо
идти последовательно, пока не будет достигнута цель и ради чего каждый
предмет возникает и существует. Так же происходит и со всем, что
порождается природой» (О частях животных, 639в-640а).
Таким образом, и в рассуждениях о природе, и в рассуждениях о
необходимости Аристотель исходит из акта регулирования как исходной
схемы естественного процесса, и в связи деталей этой схемы видит контуры
сущности.
278
Вместе с тем акт практики, регулирование берется упрощенно: без
процессов идентификации, без обратной связи, берется лишь со стороны
идеального преобразования (алгоритма). Такой упрощенный подход к
регулированию вызывает характерные для Аристотеля трудности при
истолковании связи единичного и общего.
2
Пытаясь ограничить область сущего как единственное средоточие всех
начал, как субстрат противоположностей, остающийся в изменениях, как
универсальную причинность, Аристотель обращается к языку. Следует сразу
же отметить, что это обращение не выступает внутренним требованием
системы, поскольку ни теоретические процессы, ни язык не входят у
Аристотеля необходимым элементом в понятие искусства или, тем более,
сущности. Язык используется на правах модели. Аристотель считал, что
«язык (τα εν ту φωνή - то, что выражается звуками) - это символ души, а
письмо - символ движения языка; и подобно тому, как не все языки имеют
одинаковые буквы, так не все они имеют одинаковые звуки, тогда как,
наоборот, движения души и вещи, которые ими выражаются, всегда
одинаковы». Отсюда он заключил, что «нет слов согласно природе {φύσει
τών ονομάτων oùhév εστίν); всякое же предложение имеет значение, но не как
орудие, а как было сказано, по соглашению» (Об истолковании, 2, 2).
Использование языка на правах модели осложнено трактовкой языка с
позиций θέσει - немотивированности лингвистического знака. Аристотель
уходит от затруднения с помощью материалистического учения об истине
как о соответствии идеального объективному, в котором примат
принадлежит объективному: «не потому ты бел, что мы правильно считаем
тебя белым, а [наоборот]: потому, что ты бел, мы, утверждающие это,
правы» (Метафизика, 1051 в). Именно учение об истине позволяет
Аристотелю в содержании языка видеть возможность истинного отражения
мира, открывает дорогу для анализа этого содержания в целях исследования
природы сущности.
279
В отличие от Гераклита и большинства предшественников, Аристотель
уже не может вводить в анализ фонетическую сторону языка, поскольку в
согласии с теорией, веаи - это случайная, немотивированная сторона языка.
Поэтому поиски сущности ведутся Аристотелем, во-первых, по линии
вычленения из фонетической оболочки содержания языка, или, по его
терминологии, «просто языка» (та lv rfj φωντ}), и, во-вторых, по линии
анализа этого содержания. Результаты такой попытки Аристотеля
общеизвестны: формальная логика, начала грамматики и, наконец,
сущность, как нечто локализованное по вещи.
Для нас наиболее важен аристотелевский анализ языка в «Категориях».
Во всем многообразии отражаемых языком явлений Аристотель различает
сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение,
обладание, действие, страдание, причем сущностью (ουσία) выступает то, что
обычно является подлежащим {ύποκείμζνον) и о чем «сказывается» все
остальное. Подлежащее как нечто относящееся к движениям души и
независимое от фонетической оболочки есть необходимый элемент анализа,
так как с позиций феаеи нельзя говорить о предметной истинности отдельных
слов. Истина относится к словам в связи, к отображению связи явлений, к
предложениям, а не к отдельным словам: «Из слов вне связи ни одно ни
истинно, ни ложно» (Категории, 4).
В дальнейшем анализ сущности оказывается неразрывно связанным с
анализом предложений, а в их пределах - с детальным изучением
подлежащего как необходимого центра, основы предложения. В актах
практики человек имеет дело с единичными вещами в их общих классу
свойствах, относит свою деятельность по единичным вещам. Аналогичная
картина обнаруживается и в языке: в любом предложении центром
отнесения, исходным понятием выступает понятие об изменяющей или
изменяемой вещи. Анализ языка приводит Аристотеля к вполне
естественным выводам о вещи как местопребывании сущности, поскольку
«не существует движения помимо вещей» (Физика, 200в).
В «Категориях» мы находим градацию сущностей - первичные и
вторичные сущности, в чем находит отражение аристотелевское различение
280
понятия и вещи. В согласии с исходной посылкой о тождестве искусства и
природы за основу берется единичная вещь: «Всякая сущность (первичная -
М.П.), по-видимому, означает некоторую данную вещь... Что же касается
вторичных сущностей, то они тоже, казалось бы, соответственно характеру
[форме] высказывания обозначают некоторую данную вещь... однако,
скорее, таким путем обозначается некоторое качество... Первичные
сущности называются сущностями по преимуществу, потому что для всего
остального они являются подлежащими и все остальное сказывается о них
или находится в них» (Категории, 5).
Отличительной особенностью сущности, по данным языкового анализа,
выделяется диалектическое свойство, с одной стороны, изменяться,
переходить в свою противоположность, а с другой - сохраняться в этих
переходах как единичное: «Отличительным свойством сущности является
то, что, будучи тою же самой и единой по числу, она допускает
противоположные определения через изменения ее самой» (там же).
Привлечение Аристотелем языка для анализа сущности и для
локализации ее динамической модели по вещи требует некоторых
замечаний. Во-первых, содержание языка, взятое на правах зеркала, которое
при умелом пользовании способно верно отражать законы природы, ведет к
тому, что процессы практики, а вместе с ними и теоретические процессы,
оказываются за пределами «сущности», стоят рядом с ней. За ними не
признается прав необходимого звена в той цепи начал материального,
действующего, формального и целевого, которыми держится сущность.
Аристотель, критикуя Платона за приумножение реальностей, сам
раздваивает реальности: рядом с сущностью - онтологическим элементом
природы - стоит ее зеркальное отражение в мире идей, причем, водораздел
между сущностью и ее отражением определяется довольно неожиданно:
ценностное (целевая причина) покидает субъективное и переносится в
объект не как результат деятельности субъекта, которая перешла в форму
предметности, но как объективное «по природе». Нетрудно заметить, что
такое раздвоение непосредственно восходит к аристотелевскому
отождествлению искусства и природы, к абсолютизации динамических
281
процессов субъектно-предметных связей, где субъект выступает как «сила
природы». У Аристотеля теоретические процессы представлены только их
результатом-целью, причем сама цель оказывается силой природы, а не ее
определителем и ограничителем, как это имеет место в регулировании. Эта
трактовка цели силой природы, а не результатом выбора субъекта среди
объективной многозначности возможностей, как раз и лежит в основе
отождествления искусства и природы, позволяет видеть в искусстве и в
процессах природы однородные элементы, дает логическое право
экстраполировать специфику искусства на природу, трактовать природу в
терминах регулирования. В результате такой экстраполяции естественная
ограниченная многозначность заменяется однозначностью, вещам
приписываются имманентные цели. Ограничивающая формула
причинности: «любое не возникает из любого» (Физика, 188в), -
конкретизируется в формулу телеологическую: «от каждого начала
получается не одно и то же, однако и не первое попавшееся, но движение
всегда направлено к одному и тому же, если никто не помешает» (199в).
Во-вторых, из того же источника, из понимания языка и мышления как
зеркала вне процессов практики, естественно, возникает созерцающая,
объясняющая трактовка познания, вернее, обоснование созерцательности,
которая присуща всей античной философии. Соответственно, цели познания
определяются Аристотелем не в овладении миром и изменении его, а только
в овладении знанием о мире: «К знанию стали стремиться ради постижения,
а не для какого-либо пользования» (Метафизика, 982в).
Наконец, отрицание орудийного характера языка и мышления, их
участия в обратной связи ставит Аристотеля перед неразрешимыми
проблемами связи отдельного и общего, чувственного и рационального:
«Путается человек, - пишет Ленин, - именно в диалектике общего и
отдельного, понятия и ощущения» (1, с. 333). Непосредственно вытекающая
из самой природы субъектно-предметных связей типизирующая роль
этических и динамических процессов и роль чувственности как
единственного источника связи с единичным, организатора обратной связи,
оказывается для Аристотеля непреодолимой трудностью. Следует отметить,
282
что Аристотель видит трудность вопроса, хотя и видит ее под специфически
познавательным углом зрения: «Если помимо единичных вещей ничего не
существует, тогда, можно сказать, нет ничего, что постигалось бы умом, а
все подлежит восприятию через чувства, и нет науки ни о чем, если только
не называть наукой чувственное восприятие» (Метафизика, 999а).
Аристотель и здесь, и в других местах довольно четко различает предметы
чувственного и рационального. Одно из таких мест Ленин отмечает как
подход к материализму. Аристотель говорит: «Различие состоит в том, что
то, что производит ощущение, находится вовне. Причина этого лежит в том,
что деятельность ощущения направлена на единичное, тогда как познание,
наоборот, направлено на всеобщее; а это последнее находится в известном
смысле в самой душе в качестве субстанции. Поэтому мыслить может
всякий, если он хочет,., а ощущать - зависит не от него, для этого
необходимо наличие объекта ощущения» (О душе, 417в).
В заключение следует заметить, что привлечение лингвистической
модели идет у Аристотеля в отличном от платоновского плане. Во-первых,
Аристотель не ограничивается анализом продуктов мышления, анализирует
мышление, как оно представлено в языке: и с точки зрения его
функционирования, и с точки зрения использующихся элементов, и с точки
зрения соответствия полученного результата объективному положению дел в
природе. Анализ идет под знаком примата объективного. Тем самым
укрепляется восстановленная Платоном связь с предшественниками. При
этом, однако, функционирование мышления оторвано от регулирования,
сохраняет с объектом лишь связь научного созерцания.
3
Если привлечение техноморфной и лингвистической моделей имеют
целью дать общий характер сущности и локализировать ее по вещам
внешнего мира, то в аристотелевской концепции движения (κίνησις) мы
обнаруживаем подходы к структурному анализу сущности. Центральными
понятиями здесь выступают материальная, формальная, целевая и движущая
283
причины, а также понятия энергии (cvcpyeia) и энтелехии (evrcAcxcia).
Материальная причина противостоит у Аристотеля трем другим, как
материя форме.
Материя как сторона «природы» определяется Аристотелем в основном
по противоположности форм, и в этом смысле один из важных аспектов
аристотелевского понимания материи довольно точно указывается Россом:
«Материя не есть для Аристотеля определенный вид вещи, как мы говорим о
материи в противоположность сознанию. Это чисто релятивный термин,
соотнесенный с формой» (4, с. 184). Но было бы ошибкой понимать
указанную релятивность абсолютно: Аристотель иногда говорит о свойствах
материи как таковой в плане «стихий», «элементов» (Метафизика, V). Она
вечна, никто ее не создал - Аристотель довольно энергично выступает
против творения мира (Метафизика, 301 в, 279в). Роль материи в единстве-
сущности устанавливается довольно четко, причем таким способом, к
которому могут быть предъявлены в основном только терминологические
претензии. Большинство историков видит в аристотелевском понимании
материи нечто близкое нашему пониманию «вещества» в его всеобщности
как «вещества природы». И это совершенно справедливо: аристотелевская
материя предстает субстратом. Это - нечто, на чем реализуются любые
формы, и в этом своем качестве аристотелевское понимание материи имеет
аналог в предмете, предметно. Следует только*четко различать смысл между
материей в современном ее понимании и материей в понимании Аристотеля.
Синонимом современного понимания материи выступает в системе
Аристотеля природа, а не материя.
Противоположность материи - форма - имеет несколько значений,
представлена терминами μορφή, e?8oç, λόγος, то τί fjv dvcu. Иногда это то, что
мы назвали бы чувственным обликом вещи, более часто это объект мысли, а
не чувства. Форма - это те «eiS-rç», «образы», «идеи», «образцы», «виды»
Платона - первые элементы системы «блага», которые в отличие от учения
Платона берутся не в отрыве от вещей, но как «вторичные сущности»
(Sevrepai ούσίαι), существующие только в отношении к вещам (κατά ττολών)
как те их общие стороны, которые могут быть отделены от вещей, познаны.
284
Форма вещи - чувственный ее облик. И связь формы с другими началами,
по Аристотелю, близка функционированию чувственности в обратной связи.
С другой стороны, у Аристотеля форма понимается так, как понимаем ее мы
- однозначной качественной определенностью вещи, сравнительно
устойчивой формой ее существования. С понятием формы как качественной
определенности вещи связано у Аристотеля и само понимание движения -
переходом из одного определенного состояния в другое (Метафизика,
1068а).
В учении Аристотеля о форме и материи принято усматривать
непосредственное влияние Платона. Целлер, например, пишет: «Как ни
энергично оспаривает философ самобытие и потусторонность платоновских
идей, однако он отнюдь не желает устранить руководящие мысли учения об
идеях и его собственные определения формы и материи являются, скорее,
попыткой утвердить эти мысли в теории более состоятельной, чем
платоновская» (96, с. 175). Подобные мнения представляются спорными.
Идеи и их руководящая роль в процессах человеческой практики не созданы
Платоном, и Аристотель столь же произволен от Платона, как и от предмета.
Бесспорно влияние Платона в общих исходных постулатах синтеза - в
понятиях материи и бога, но разработка этих постулатов в систему - заслуга
самого Аристотеля. К тому же форма у Аристотеля - нечто гораздо более
сложное, чем у Платона. Она структурна, в ней выделены ценностный
(целевая причина), динамический (движущая причина) и до некоторой
степени чувственный (формальная причина) аспекты. И недостаток
аристотелевского понимания формы приходится видеть не столько в
недостаточности, сколько в «избыточности» содержания в термине. С нашей
точки зрения, связь формы с условиями ее реализации есть внутренняя
характеристика вещи, выраженная вовне как избирательность реакций на
изменения среды. Ценностное же, которое вводится Аристотелем на правах
необходимого признака в понимание формы, выступает для нас внешним,
случайным для вещи, проявляющимся не непосредственно, а только через
изменение среды. Цель как определитель направления, в котором пойдет
изменение вещи для удовлетворения нужд субъекта, выступает для вещи
285
чисто внешним, способным проявиться лишь постольку, поскольку вещь
способна измениться во многих направлениях. Аристотелевская целевая
причина стоит в этом смысле лишь на однозначной определенности
актуальных процессов движения, как в практике, так и в природе.
В этом смысле понятна скрупулезность Аристотеля в определении
предмета движения (κίνησι,ς), в его отличии от изменения (μεταβολή) :
«Существует нечто, что образует ближайший источник движения, есть
также то, что движется, далее - время, в которое происходит движение, то,
из чего, и то, во что оно происходит... должно существовать три рода
изменений... То изменение, которое происходит из того, что не есть такое-то
определенное данное, в то, что является именно таковым, в силу
противоречия между ними, это - возникновение (γίνεσις)... и также
изменение из определенного данного в то, что есть такое, это - уничтожение
(φθορά). Так как теперь всякое движение есть некоторое изменение, а
изменений существует три, которые были указаны выше, и из этих
изменений те, которые относятся к возникновению и уничтожению, не суть
движения,.. - поэтому движением (κίνησις) необходимо признавать одно
только изменение из одного определенного данного в другое» (Метафизика,
1067в - 1068а). Нетрудно заметить, что Аристотель сознательно
ограничивает анализ движения лишь одним, наиболее типичным для
практики случаем, а именно изменением форм существования вещей
актуальным преобразованием. В этих процессах структура «сущности»
оказывается неизменной: «А что касается форм состояния и места, к
которым движется то, что движется, то все они неподвижны» (1067в).
Соотношение же «начал» в «сущности» изменчиво, что отражено в
противоположности энергии и энтелехии.
Специфика аристотелевского анализа соотношения начал в пределах
сущности выступает как скрытый сенсуализм, скрытая точка зрения
«обратной связи». С этой точки зрения форма есть и завершенное -
«энтелехия», и становящееся - «энергия»: «Движение находится в
подвижном: ведь оно есть его энтелехия от воздействия тела, способного
двигать. И энергия тела, способного двигать, не есть что-либо иное:
286
энтелехия должна быть у обоих, ибо способное двигать существует
вследствие потенции, движущее же вследствие проявления энергии; но она
возбудитель тела, способного двигаться. Следовательно, у них обоих в
равной мере одна энергия... Они существуют как одно, но понятие их не
одно» (Физика, 202а).
Сущность становится у Аристотеля источником диалектической
постановки вопросов. Сущность, как единое, оказывается синтезом
противоположностей ставшего и становящегося, движущего и движимого,
формы и материи, действительного и возможного. Вместе с тем
аристотелевский анализ сущности в движении страдает платоновской
ограниченностью и закрепляет ее, насаждая ценностное в природу.
Аристотель не может оторваться от однозначной ориентации движения по
цели, и в этих условиях все противоположности развертываются, в конце
концов, в однозначную «цепь причин», в абсолютизированное отношение
субъекта как вечного двигателя к предмету-материи как вечному материалу
упражнения двигателя в целесообразной деятельности. Эта исходная
ограниченность аристотелевского подхода к движению сущности оказала
огромное влияние на понимание развития в философии нового времени.
Асмус справедливо говорит по этому поводу: «Понятие развития у
предшественников Гегеля целиком восходит к принципу развития
Аристотеля. Развитие Аристотель понимал как принцип, согласно которому
существо каждого отдельного явления в мире есть ступень или член,
необходимый в системе целого... Природа есть система форм, из которых
одни ясно, другие же смутно воплощают идеи развития целого.
Аристотелевское понятие целесообразного развития было введено в
немецкую философию Лейбницем» (97, с. 153). Эта концепция движения
лежит и в основе гегелевской философии.
Введение ценностного в природу не позволяет Аристотелю дать полный
анализ вещи. Он дает ее то продуктом (энтелехия), то предметом изменения
(энергия), но решительно отказывается рассматривать этап преддействия.
Поэтому, используя в анализе вещи аристотелевскую сущность, мы
вынуждены снять целевое начало, однозначность как субъективную
287
ограниченность, заменить однозначность дискретным рядом определенных
состояний вещества, рядом форм а, в, с,., к в их соответствии ряду
реализующих эти формы сил А, В, С,.. К. Любая из форм может, зависимо от
потребностей субъекта, стать целевой причиной, тогда соответствующая
сила есть аристотелевское движущее начало.
Рассматривая вещь как продукт, энтелехиально, Аристотель отмечает, что
в данном случае движущее и целевое начала усвоены, присвоены, связаны в
однозначной определенности вещи и поэтому совпадают с формой.
Рассматривая вещь как предмет, «энергетически», Аристотель видит в
целевом и движущем началах «свое другое» формы, как это и действительно
имеет место в акте практики, где «во время процесса труда труд постоянно
переходит из формы деятельности в форму бытия, из формы движения в
форму предметности» (6, с. 196).
Диалектик Гегель не лучшим образом обошелся с диалектикой
Аристотеля, абсолютизировал в основном один план аристотелевских
различений: план единства противоположностей ставшего и становящегося,
энтелехии и энергии.
Следует отметить, что аристотелевский анализ движения, сыгравший
такую огромную роль в дальнейшем развитии философии, целиком основан
на абсолютизации объективной стороны регулирования (процесса
актуального преобразования). «Изменение из одного определенного данного
в другое» и есть как раз типичный для регулирования переход предмета из
одной формы существования в другую, элемент отношения «вещь-среда», на
котором основано все наше знание о природе. Правомерная сама по себе
попытка использовать этот переход в качестве модели требует, однако,
четкого определения границ абсолютизации и указания на связь с другими
элементами отношения «вещь-среда». Аристотель четко отличает движение
от других форм изменения (возникновение, гибель), но, вместе с тем,
оставляет открытым вопрос об ограниченном характере движения (через ряд
переходов в новые формы движение кончается уничтожением и
возникновением нового), а также вопрос о многозначности возможных путей
движения, когда «каждое определенное», каждая форма существования
288
знаменует собой некоторое распутье, и вопрос, по какому из возможных
путей пойдет движение, решается вне вещи: изменение параметров среды,
регулирование. Эта тематика попросту исключается Аристотелем, что
порождает и у Аристотеля, и у более поздних философов неправомерную
экстраполяцию движения за пределы возможного и невнимание к процессам
уничтожения многозначности переходов «из одного определенного в
другое».
4
Итак, аристотелевское понимание сущности включает в себя
необходимыми признаками представление об арене действия основных
начал, локализованных по вещи; а, с другой стороны, отождествление
регулирования и природы в анализе движения предустанавливает
однозначно целенаправленный внутренними силами характер развития, в
чем можно было бы видеть следы техноморфной модели. Более детальное
определение сущности Аристотель связывает с причинной постановкой
вопроса: «Чем надо считать сущность и какие ей приписывать свойства,
скажем об этом снова, избрав как бы начало для этого другого: может быть,
из того, что мы скажем, станет ясен вопрос и относительно той сущности,
которая существует отдельно от сущностей, составляющих предмет наших
чувств. Так как сущность, это - некоторое начало и причина, разбор нужно
начинать отсюда» (Метафизика, 1041а).
В силу исходных постулатов Аристотель сразу же подходит к сущности
со стороны формы: «А так как бытие надлежит уже иметь, и оно должно
быть налицо, поэтому ясно, что наше искание направлено на материю,
почему она образует нечто определенное. Например, почему данный
материал образует дом? Потому что в нем находится суть бытия для дома. И
человеком является этот вот материал или это тело, имеющее в себе вот эту
289
определенность (или форму). Таким образом, отыскивается причина для
материи, и это - форма, в силу которой материя есть нечто определенное; а
форма - это сущность» (1041 в). Эта, «избрав как бы начало для этого
другое», постановка вопроса наиболее важна в плане уяснения причинности.
Исследование сущности в этом новом аспекте вводит в анализ
чрезвычайно важные понятия способности, возможности и
действительности. Многие исследователи видят в этом различении понятий
отличительную особенность Аристотеля. Зибек, например, пишет: «Это
является основным для воззрения Аристотеля на природу и для всей его
философии вообще» (87, с. 27). Близкое мнение высказывается и
Корнфордом: «Аристотелев отличительный вклад - концепция возможности.
Ученые до сих пор не могут обойтись без понятия «потенциальная энергия».
Оба термина впервые введены Аристотелем» (44, с. 96). С высокой оценкой
действительного и возможного в системе Аристотеля следует, по нашему
мнению, согласиться.
В плане статики, энтелехиально сущность рассматривается как
структурная связь материи и формы: «И сущностью является то, что лежит в
основе, в одном смысле это - материя (я говорю здесь о материи, поскольку
эта последняя, не будучи отдельною данною вещью в действительности,
является такою в возможности), а в другом - понятие и форма - то, что как
отдельная вещь может обособляться только мысленно; а на третьем месте -
то, что состоит из материи и формы, что одно только подлежит
возникновению и уничтожению и обладает самостоятельным
существованием безоговорочно, ибо из тех сущностей, которые
соответствуют понятию, одни могут существовать отдельно, а другие - нет»
(Метафизика, 1042а).
Сущность в пределах причинной постановки вопроса рассматривается не
как некоторая омертвленная, остановленная данность, а как процесс
перехода из возможного в действительное: «Сущность и форма, это -
движение» (1050в).
Под возможностью (διίνα/xtç) Аристотель понимает начало изменения,
имманентную вещам силу. В пределах единого возможности выступают
290
внешними относительно друг друга и противоположными друг другу
активными и пассивными силами. Активное начало реализует себя как
особого типа организующая и однозначно направляющая процесс
возможность-форма. Взятая началом пассивным, способность
рассматривается восприемником форм - материей, то есть как и у Платона,
по генетической модели [114].
Кроме членения по активному и пассивному, действующему и
испытывающему, Аристотель намечает и иное членение способностей:
«Одни вещи способны производить движение сообразно рассудку, и
способности у них - связанные с рассудком [сознательные], а у других
рассудка нет, и способности у них бессознательные, причем первые
способности должны быть в одушевленном существе, а вторые - и в тех, и в
других» (Метафизика, 1048а). С этого членения способностей по роду
Аристотель, собственно, и начинает постройку того логического моста, по
которому регулирование переносится в онтологию. Глубоко
материалистическое само по себе толкование субъективных и объективных
возможностей, разделение субъективных возможностей на идеальные и
вещные - все это несомненный вклад в философию, не потерявший своего
значения до нашего времени. Сюда же относятся и отмечаемые
Александровым «догадки философа о моментах активности и силы,
своеобразной способности, заложенной в самой материи-возможности» (89,
с. 83). Но вместе с тем отношение этих двух родов способностей толкуется
таким образом, что затушевывается специфика регулирования:
направляющая и организующая роль мышления. Это, собственно, и
позволяет абсолютизировать практические процессы в универсальную
онтологическую модель развития.
Уже в исходном определении возможности: «основное определение
способности (δυναμό) будет такое - начало изменения, находящееся в
другом, или поскольку он - другое» (Метафизика, 1019в), - можно
усмотреть начала смешения разнородного. Если начало берется активным,
формой, то первая часть определения попросту констатирует объективное
положение дел в практике, где действительно такие начала находятся «в
291
другом». Но последняя часть: «поскольку оно - другое», - решительно
снимает различие между практикой и природой.
Дальнейшее развитие мысль о тождестве естественного и практического,
причем за исходное берется практическое, получает в трактовке способности
с позиций однозначности процессов развития: «Вещь, имеющая
способность, имеет ее к чему-нибудь в известное время и в известной
форме» (1047в). Однозначность целенаправленного регулирования
возводится здесь в абсолют показом способности как летучего,
факультативного свойства «в известное время и в известной форме». В
дальнейшем привнесенная из практики в природу мысль об однозначности
используется уже на правах аксиомы для организации свободы выбора
внешними условиями: «Там (при способностях второго рода) отдельная
способность всегда производит что-нибудь одно, между тем, здесь (речь
идет об идеальных способностях - М.П.) это - способность к
противоположным результатам, так что при непосредственном действии
одна способность произвела бы противоположные вещи, а это невозможно...
все, что способно к действию на основе рассуждения, когда оно стремится к
тому, способность к чему имеет, и при условиях, при которых ее имеет,
именно это и производит; а способность эту оно имеет, когда пригодный для
воздействия объект - налицо и находится в таком-то состоянии; в противном
же случае сделать то, к чему оно стремите^, оно не сможет» (1048а).
Примечательно в этом рассуждении рикошетирование однозначности от
природы в царство мысли. По Аристотелю, получается, что природа сама по
себе однозначна, а человек нарушает эту однозначность, тем самым
оказывается поставленным на голову реальное отношение: многозначность
природы и введение человеком однозначности через выбор возможностей.
Рассуждение интересно и в другом отношении: в нем мы обнаруживаем
начало того тончайшего различения степеней возможного, которое играет
решающую роль в аристотелевском подходе к развитию.
Здесь мы можем уже несколько детализировать аристотелевское
понимание развития в противоположностях действительного и возможного.
Суть процесса сводим, в конечном счете, к переходу различных степеней
292
способности-возможности (δόνα/Luç) в законченное актуальное бытие
(èvTeXéxcLa) через актуальное преобразование, действительность (cvcpyeta).
Для объяснения движения (κίνησις) Аристотель широко использует
грамматические средства, и поэтому в переводах на другие языки в силу
различий грамматической структуры эти объяснения, как правило, не
удаются. Достаточно, например, напомнить отрывок из «Физики»,
призванный объяснить трудности в понимании движения: «Теперь ясно и то,
что вызывает затруднения, именно, что движение находится в подвижном:
ведь оно есть его энтелехия от воздействия тела, способного двигать. И
энергия тела, способного двигать, не есть что-либо иное: энтелехия должна
быть у обоих, ибо способное двигать существует вследствие потенции,
движущее же - вследствие появления энергии; но она - возбудитель тела,
способного двигаться. Следовательно, у них обоих в равной мере одна
энергия, подобно тому, как имеется один интервал от одного к двум и от
двух к одному и у восходящих, и у спускающихся. Они существуют как
одно, но понятие их не одно» (Физика, 202а). В подлиннике
соответствующие места выглядят много яснее, поскольку изложение связано
цепью производных от глагола κινέώ. Грамматические формы как нечто
устойчивое различают степени возможности и относят соответствующее
понятие (кроме центрального κίνησις) по активному или пассивному началу.
Основные термины, описывающие движение в противоположностях
действительного и возможного, выступают отглагольными производными,
что создает четкую и симметричную в отношении к залогу градацию
понятий, причем в центре располагается понятие движения: κινητόν -
κινούμενον — κίν-ησις - κινούν - κιν-ητικόν. В отношении к этим центральным
понятиям группируются второстепенные производные. Для современных
языков, включая и новогреческий, сохранение этой схемы различных, и
вместе с тем внутренне связанных понятий практически неосуществимо.
Если переход в новую форму существования рассматривать как нечто
относительно законченное, имеющее начало и конец во времени, то сам этот
переход будет, по терминологии Аристотеля, - κίν-ησις (движение). Взятый
сам по себе, безотносительно к сущности и ее составляющим, переход также
293
пуст и так же со всех сторон равен самому себе, как «дорога из Фив в Афины
и из Афин в Фивы». В отношении же к элементам сущности он приобретает
жесткую причинную структуру, оказывается результатом взаимодействия и
взаимострадания ряда связанных и производных друг от друга явлений. Если
рассматривать переход только в рамках противоположности материи и
формы, он будет энергией, энтелехией формы, поскольку форма существует
в потенции. Для более детального анализа Аристотель выдвигает понятия
способного к движению (κινητόν) и приводящего в движение в возможности
(κινητικόν). Развитие, и это основная, по Аристотелю, трудность, пребывает в
способном к движению (κινητόν), однако стать действительностью,
энтелехией формы оно может лишь от воздействия извне, причем это
внешнее следует понимать двояко: как приводящее в движение в
возможности (κινητικόν) и как приводящее в движение в действительности
{κινούν). Подвижность, организуемая и направляемая реальным движителем
(κινούν) получает энтелехиальную характеристику: подвижное, как
способное к движению (κινητόν), становится приводимым в движение в
действительности (κινούμενον), ломает старую форму и удерживает новую.
Действительно движущее (κινούν) и действительно движимое (/avou/zcvov)
суть последние сливающиеся в энергии грани различения, собственно,
аспекты единого: «У них обоих в равной мере одна энергия... Они
существуют как одно, но понятие их - не одно» \Физика, 202а).
Здесь, в учении о единстве и борьбе противоположностей в процессе
движения, Аристотель идет от диалектики Гераклита, диалектики
объективной. Вместе с тем, как и в случае с Демокритом, вопрос о единстве
и борьбе противоположностей ставится в строго определенных рамках
перехода из одной качественной определенности в другую на единичном
субстрате, непосредственно связан с первичным ограничением
проблематики.
Момент диалектического тождества противоположностей, в котором
рождается энергия, распространяется затем на все различенные аспекты
развивающейся вещи. Аристотель показывает, что с логической точки
зрения, если она кладет непроходимую грань между противоположностями,
294
развитие аналогично и его анализ приводит к неразрешимым
противоречиям: «Однако это представляет логическую трудность. Ведь,
наверно, необходимо, чтобы были разные энергии у действующего и
страдательного: в одном случае имеется действование, а в другом страдание;
деяние и результат первого есть нечто произведенное, второго -
страдательное состояние. Теперь, так как и то, и другое суть движения, то,
будучи различными, в чем же они находятся? Конечно, или оба в том, что
испытывает воздействие и приводится в движение, или действование в
действующем, испытывание в испытывающем воздействие; если же и
последнее назвать действованием, то они будут омонимами. Но если это так,
движение будет в двигателе: ведь одним и тем же словом обозначается
движущее и движимое. Таким образом или все, что приводит в движение,
будет двигаться, или имеющее движение не будет двигаться. Если же и то, и
другое - и действование, и страдание находятся в движимом и пассивном, а
обучение и учение - две вещи разные - находятся в учащемся, тогда, во-
первых, энергия каждого тела не будет присуща каждому, во-вторых,
странно, чтобы два движения двигались вместе; каковы действительно
должны быть качественные изменения, если их два в одном и они ведут к
одной форме? Это невозможно» (Физика, 202а).
Решение этих логических противоречий Аристотель видит в актуальном
преобразовании как единстве противоположностей, в движении как
слиянии энергий: «Ведь обучение есть энергия человека, способного
обучать, однако, проявляющаяся в другом, она не является чем-то
отделенным, но есть энергия этого определенного человека, проявляющаяся
в этом определенном человеке, и ничто не препятствует в двух телах
находиться единой энергии, только не так, чтобы они были тождественны
по бытию, а как возможное относится к проявляющему себя в действии...
Вообще говоря, ни обучение не тождественно с учением, ни действование со
страданием не тождественно в собственном смысле слова, а только то, к
чему они относятся - движение, ибо энергия, направленная от этого тела на
другое, и энергия этого второго, в силу воздействия первого, по понятию
различны» (там же, 202в).
295
Нетрудно заметить, что в этих рассуждениях Аристотель ходит вокруг
соотношения «форма - условия ее реализации», и его трудности
проистекают не столько из непонимания сущности этого соотношения,
сколько из им же введенной в природу «целесообразности», что запрещает
ему анализировать переход, движение в противоположностях «вещь -
среда», и требует вместо «среды» единичного вещного определителя.
Чтобы объяснить возникновение и гибель единичных вещей, Аристотель
вводит ряд градаций бытия. Высшей формой выступает действительность,
она же и исходной, ибо: «Всегда из вещи, существующей в возможности,
возникает вещь, существующая в действительности, действием вещи,
существующей в действительности» (Метафизика, 1049в). Подчиненными
формами выступают степени возможного, степени суббытия. Различия
между действительностью и потенцией Аристотель объясняет рядом
примеров: «Здесь имеется то же отношение, как между тем, что строит дом,
и тем, что способно его строить, тем, что бодрствует, и тем, что спит, тем,
что видит, и тем, что жмурит глаза, но владеет зрением, тем, что выделилось
из материи, и материей, тем, что кончено обработкой, и тем, что не отделано.
И в этом различении одна сторона пусть будет указывать на
действительность, другая на то, что возможно» (Метафизика, 1048в). Но
потенция, возможность неоднородна, неоднородна в трех отношениях.
Аристотель устанавливает градации возможности в плане абсолютном, в
плане качественном и в плане соотносительном.
5
В плане абсолютном возможность различается по степени вероятности ее
реализации, причем наиболее общей и далекой от действительности
представляется возможность-способность. Разграничение здесь достигается
привлечением внешних условий, которые препятствуют или снимают
препятствия проявлению возможности: «Там, где начало возникновения
находится внутри того, у чего оно есть [что им обусловлено], в этих случаях
бытием в возможности обладает все, что при отсутствии каких-либо
296
внешних препятствий осуществляется в действительности само через себя:
например, семя еще не будет [ему нужно попасть в другую среду и
измениться]; когда же оно, благодаря находящемуся в нем началу,
оказывается таким, когда оно уже существует в возможности; а семя, как мы
говорили раньше, нуждается в другом начале, подобно тому, как земля не
есть еще статуя в возможности [изменившись, она станет медью]»
(Метафизика, 1048в- 1049а). Это первое абсолютное членение возможностей
удачно охватывает существенный для практики момент - ограничивающее
влияние внешних условий на комплекс возможных превращений вещи.
У Аристотеля можно обнаружить три степени ограничения возможности.
Наиболее широким и неограниченным выступает «чистая возможность»
материи. Внутренние ограничения возможности в пределах чистой
Аристотель связывает с качествами материала: земля, например, должна
сначала стать медью, а затем она уже приобретет возможность статуи. И,
наконец, третьим ограничением выступают условия среды. Результат этого
последнего ограничения дает наиболее близкий к действительности вид
возможности. Вместе с тем именно это третье, внешнее ограничение
возможности ставит Аристотеля перед неразрешимым противоречием
системы. Аристотель решает вопрос о реальной возможности в пользу
однозначности, что прямо вытекает из его генерализации искусства по
принципу «ради чего». А практика утверждает многозначность реальной
возможности. Поэтому Аристотель, с одной стороны, сохраняя верность
исходному постулату, вынужден приписывать возможности в известной
степени факультативный характер: «вещь, имеющая способность, имеет ее к
чему-нибудь, в известное время и в известной форме» (1048а); а с другой
стороны, сохраняя приверженность истине, вынужден обрушиваться на
мегарцев именно за эту факультативность: «Есть... некоторые, которые
утверждают, что способность имеется только тогда, когда имеется
действительная деятельность... нелепости, которые неизбежно получаются
для таких людей, нетрудно усмотреть» (1047а).
Здесь, в вопросе о реальной возможности как наиболее близком к
действительности суббытии и заключена суть аристотелевской
297
абсолютизации цели. Данные практики позволяют рассматривать реальную
возможность как комплекс возможных форм существования вещества,
причем эти формы соотнесены друг с другом в порядке взаимоисключения.
Начало, ставящее ту или иную из форм существования в действительность,
приходится искать вне вещи. Аристотель, в противоречие с данными
практики, рассматривает реальную возможность не как многозначную
определенность, а как определенность однозначную, как единичную форму
существования, которая необходимо становится действительной, «если
ничто не помешает». Формула Аристотеля выглядела бы примерно так:
«Вещь с материальным аспектом А необходимо стремится изменить форму
существования а на в, если это позволяют условия среды». Тем самым
постулируется четвертый, внутренний относительно вещи, но внешний
относительно ее материального аспекта источник ограничения возможности
- форма как нечто теснейшим образом связанное с целью и
действительностью: «И с точки зрения сущности также действительность
стоит впереди возможности, прежде всего потому, что вещи, которые позже
в порядке возникновения, раньше с точки зрения формы и сущности
[например, взрослый мужчина впереди ребенка, и человек - впереди семени;
в первом случае форма уже дана, во втором - нет]; а кроме того, потому, что
все, что возникает, направлено в сторону своего начала и цели [ибо началом
является то, ради чего происходит что-нибудь^ а возникновение происходит
ради цели]; между тем цель, это - действительность, и ради этой цели
принимается способность» (1050а).
6
Во втором, качественном плане, Аристотель различает возможности
первого и второго рода, о которых мы уже упоминали. Способности первого
рода присущи только вещам одушевленным и суть способности разума к
выбору. Способности второго рода универсальны, присущи всем вещам,
включая и вещи одушевленные. Различия между этими способностями
лежат прежде всего в характере взаимодействия: «Первые способности
298
должны быть в одушевленном существе, а вторые - и в тех, и в других:
поэтому, когда между тем, что действует, и тем, что испытывает действие,
происходит сближение, нужное для применения их способностей, в таком
случае способности второго рода каждый раз необходимым образом
производят и испытывают соответственное действие, а при способностях
первого рода это не обязательно» (Метафизика, 1049а).
Итак, способности второго рода выделены в особую область, которую мы
бы назвали динамической. В этой области взаимодействие способностей
идет с необходимостью, что и есть, по сути дела, связь между формой и
условиями ее реализации. Аристотель не только выделяет эту область, но и
правильно ставит вопрос о характере определения. Определяет процесс
форма. Но вместе с тем форма не выступает у Аристотеля одной из многих
форм существования вещи, оказывается предустановленной, определенной
извне, и в этом бесспорное проявление исходных, идущих от Платона,
постулатов. С другой стороны, способности первого рода не выступают
необходимым элементом взаимодействия. Этот элемент может быть или не
быть. Такой подход к способностям первого рода естествен с точки зрения
отождествления практики и природы. Суть этого шага состоит в
приписывании акту регулирования самостоятельного, не зависимого от
теоретических процессов значения.
Широкое использование Аристотелем терминов «начало» и «причина»
применительно к душе вызвало у некоторых специалистов (Аллен, Ягер,
Кассирер) попытку трактовать аристотелевскую «душу» как «знак особого
типа причинности». Учение Аристотеля о двух типах способностей не
позволяет принять этот очень заманчивый для материалиста тезис. Дело
обстоит как раз наоборот. Мы вправе различать два смысла в понимании
причинности: причинность как определитель динамических процессов,
связанный с отношением ее «форма - условия реализации», и причинность
как «цепь причин», как субъективная связь потребности чувственного и
динамического в контуре разнородных событий, где выдерживается
однозначность. Суть аристотелевских усилий как раз и состоит в попытке
онтологизации «цепи причин», той особого рода причинности, которая
299
свойственна мыслящим существам и проявляется вовне через динамическую
причинность.
7
В плане соотнесения Аристотель различает два типа способностей: во-
первых, способность действовать, а во-вторых, способность претерпевать
воздействие. При этом способность действовать дает более близкие к
действительности градации суббытия и среди них - форму. Это одна сторона
дела. Другая сторона, не менее важная для понимания причинности, состоит
в том, что между активной и пассивной возможностью устанавливается
соотношение тождества: «В известном смысле способность действовать и
претерпевать воздействие - одна [способным что-нибудь является потому,
что оно само имеет способность испытывать воздействие, и потому, что
другое способно к этому под действием его], а в известном - она [в том и в
другом случае] другая: одна из них находится в том, что испытывает
воздействие,., а другая способность присуща тому, что производит
действие» (Метафизика, 1046а).
Это тождество соотнесенных противоположных способностей
понимается как тождество-борьба, действие, понимается как действенное
единство не любых, а именно соотнесенных друг с другом
противоположностей: «Ничто не препятствует в двух телах находиться
единой энергии, только не так, чтобы они были тождественны по бытию, а
как возможное относится к проявляющему себя в действии» (Физика, 202в).
Учение Аристотеля о единстве и борьбе противоположных соотнесенных
возможностей, понятых как суть развития или даже попросту сущность при
причинном подходе к ней: «сущность и форма - это деятельность»
(Метафизика, 1050в), - важно и как конкретизация Гераклитовой
диалектики, и как серьезная попытка синтезировать категорию причинности.
Аристотель устанавливает необходимо-закономерную, симметричную связь
реальных возможностей. В пределах связи эти возможности могут быть
различены логически: «они существуют как одно, но понятие их не одно»
300
(Физика, 202а). Эти возможности разделимы и онтологически, ибо только
при сближении, контакте они «необходимым образом производят и
испытывают соответственное действие» (Метафизика, 1048а).
Чтобы пояснить эту деталь анализа, необходимо вернуться к реальной
возможности материального аспекта вещи. Как мы уже видели, различие
состояло в том, что, по Аристотелю, вещь с материальным аспектом А,
существующая в форме а, стремится существовать в некоторой иной
определенной форме в, если это позволяют условия среды. Практика же
показывает, что вещь сама по себе вовсе не стремится изменить форму
своего существования, требует внешней силы для перевода ее в новую
форму и дискретно определяет параметры этой силы. Говоря о развитии
вещей, Аристотель постулирует: возможность, в которой идет изменение,
существует в вещи и в виде активной, и в виде пассивной возможности как
одно и в то же время не одно, вроде интервала от одного к двум и от двух к
одному. Здесь опять факультативно, для нужд момента, Аристотель
обращается к биоморфной модели, к развитию вещей, способных быть
субъектами. Эти соотнесенные возможности взаимодействуют, порождая
энергию, а в завершенности действия, энтелехии, переводят вещь в форму
существования в. По Аристотелю, природа подобна лекарю, который сам
себя лечит. Весь этот механизм самоуправления, самоориентации показан
внутренним относительно вещи. «Так как некоторые вещи существуют в
потенции и энтелехии, только не одновременно и не в одном и том же
смысле [как, например, теплое в потенции энтелехиально является
холодным], то во многих отношениях они будут воздействовать друг на
друга, ибо всякая такая вещь будет деятельной и вместе с тем
страдательной» (Физика, 201а). Нечто подобное, как частный случай, дает и
анализ практики, с тем, однако, отличием, что здесь последнее
определяющее сказывается вне вещи.
Различие между учением Аристотеля и требованиями практики в этом
вопросе состоит в том, что, по Аристотелю, связь соотнесенных
возможностей, с одной стороны, необходима, а с другой, пытаясь оставить в
своей схеме место случаю, Аристотель вынужден ослаблять понятие
301
необходимости различными оговорками: «если ничего не помешает»,
«ошибки бывают и в произведениях искусства: неправильно написал
грамотный человек, неправильно врач составил лекарство; отсюда ясно, что
они могут быть и в произведениях природы» (199а). С точки же зрения
практики необходимость в рамках связи активной и пассивной возможности
не знает исключений. Именно применительно к этой связи остаются в
полной силе классические определения причинности как однозначной и
симметричной связи, не зависимой от условий пространства и времени связи
событий. Случайное же берется не в отношении к составляющим этой связи,
а в отношении к связи в целом, поскольку многозначная определенность
возможных форм существования вещей ставит в равные условия любую из
возможных связей.
Таким образом, весьма ценная и оказавшая огромное влияние на развитие
философии мысль Аристотеля о наличии ступеней бытия, о способностях и
возможностях оказалась под давлением исходных постулатов
незавершенной. Аристотель стремился исключить из вопроса о
регулировании их необходимую сторону - процессы теоретические,
стремился уподобить практику природе и дать логические основания для
исследования естественных процессов в терминах практики. Это стремление
в вопросе о возможности повело к игнорированию субъективных
ограничений области возможного, создало затруднения в анализе случая. В
целом, аристотелевский анализ оказывается ограниченным рамками
соотнесенных пар активных и пассивных возможностей, рамками
абсолютной необходимости и однозначности. Аристотель не затрагивает
область многозначного определения, что, в конечном счете, объяснимо из
идеалистического учения о первом двигателе как чистой действительности и
высшей форме.
Прежде чем рассмотреть попытку Аристотеля показать мир в целом как
вещь, развивающуюся в борьбе противоположностей конечного
материального и высшего формально-целевого начала, следует несколько
задержаться на учении Аристотеля о свободе и случае, поскольку именно
здесь ему приходится встречаться с наибольшими затруднениями.
302
О свободе можно говорить в трех планах. Во-первых, это план
объективных ограничений - совокупность конкретно достижимых
возможных форм. Во-вторых, это план субъективно-динамический, в
котором субъект противопоставлен объекту как сила природы, как носитель
аристотелевских «способностей второго рода». В-третьих, это план выбора,
зависимого от нужд субъекта. Два первых плана - объективный и
субъективно-динамический - могут быть сведены в пучок пар форм и
соответствующих сил: если А, то - а; если В, то - в; ... если К, то - к. План
третий, выбор, предстает определяющей эндогенной силой, которая, хотя и
ограничена пределами пучка, но суверенна в этих пределах.
Поскольку усилия Аристотеля направлены на анализ единичных пар и не
затрагивают пучка в целом, все его попытки пробиться в область свободы
оказываются с самого начала в пределах действия или отказа от него.
Свобода сводится, таким образом, к праву делать или не делать что-либо:
«Там, при способностях второго рода, отдельная способность всегда
производит что-нибудь одно, между тем, здесь это каждый раз - способность
к противоположным результатам, так что при непосредственном действии
одна способность вместе произвела бы противоположные вещи; а это
невозможно» (Метафизика, 1048а). Нетрудно заметить, что, по Аристотелю,
возможность первого рода не столько выбирает, сколько позволяет или
запрещает самопроизвольное взаимодействие способностей второго рола.
Это чисто животный случай зависимости рефлекса от потребности при
однозначном воздействии на вещь.
Упрекая атомистов за изгнание случая и обосновывая свои упреки
аргументом: «если в явлениях нет случая, но все существует и возникает из
необходимости, тогда не пришлось бы ни советоваться, ни действовать для
того, чтобы, если поступить так, было одно, а если иначе, то не было бы
этого» (Об истолковании, 9), - Аристотель, собственно, и сам оказывается на
позициях инкриминируемого атомистам фатализма. «Одушевленному
существу», по сути дела, не о чем советоваться, такие совещания могут лишь
нарушить предустановленное развитие к благу, «ибо случай и случайное
относятся к тем существам, которым присуще счастье и вообще
303
практическая деятельность... ни неодушевленное существо, ни зверь, ни
ребенок ничего не делают случайно, так как у них нет способности выбора»
(Физика. 197в). Случай же предстает у Аристотеля простым сопутствующим
совпадением: «Случай есть нечто неопределенное», «случайное
возникновение возможно именно по совпадению, и случай есть проявление
причины побочным образом, но прямо он производит ничего, например,
причина дома - строительство, по совпадению же -флейтист» (197а).
Таким образом, самоограничение Аристотеля пределами пар
соотнесенных возможностей попросту исключает из анализа и свободу, и
случай как нечто, что может быть или не быть, не влияя на конечный
результат.
8
Жизнь одушевленного существа во многом подчинена субъективному
мотиву: осознанной или неосознанной потребности, которая, пройдя ряд
определений по веществу и регулированию, превращается в цель. Именно
эта теоретическая сторона деятельности субъекта на этапе преддействия
оказывается, до поры до времени, вне аристотелевского анализа. Но только
до поры и до времени. До той поры и до того времени, когда
онтологизированная усилиями Аристотеля цель, как составная сущности,
начинает самостоятельное существование. Здесь-то Аристотелю и
приходится, говоря словами Маркса, «глубокомысленно указывать на
поверхностность метода, принимающего за исходный пункт какой-нибудь
абстрактный принцип, но не допускающего самоотрицания этого принципа в
высших формах» (65, с. 125).
Абсолютизация цели вынуждает абсолютизировать и пути ее создания,
вынуждает переносить на природу теоретические процессы, то есть,
заниматься деятельностью, имеющей мало общего с материализмом. В
поисках высшей действительности, которая была бы в состоянии ставить
формы и задавать направление развитию мира в целом, Аристотель
вынужден переносить ценностный определитель однозначности в область
304
онтологии: «Есть нечто, что движет, не находясь в движении, нечто вечное и
являющее собой сущность и реальную активность. Но движет так предмет
желания и предмет мысли: они движут, сами не находясь в движении»
(Метафизика, 1072а). Здесь перед нами бесспорный субъективный мотив и
попытка абсолютизировать, космологизировать его, ибо, если деятельность
мышления направлена, в конечном счете, на достижение практических
результатов, то исходное этой деятельности - субъективная потребность -
как раз и будет тем, что «движет, не находясь в движении».
Нестле находит, что этот двигатель - «ум» Анаксагора (95, с. 287). Нам не
кажется правомерной эта аналогия: ум в учении Анаксагора был веществом
и имел ограничения в качественной неизменности гомеомерий, обе эти
детали отсутствуют у аристотелевского двигателя. Кронер, которому
хотелось бы видеть в двигателе этап на пути к христианскому богу,
усматривает в первом двигателе подход к персональному, единичному богу
монотеизма: «Аристотелевский бог гораздо более персонален, чем
платоновская мировая душа и идея блага. Он так же персонален, как творец
в «Тимее» (35, с. 189). По нашему мнению, Кронер преувеличивает
персональность двигателя, вмешательство последнего в дела мира носит
закономерный, а не произвольный характер.
В учении о первом двигателе Аристотель исходит из вечности движения:
«Невозможно, чтобы движение либо возникло, либо уничтожилось». Вместе
с тем: «Движения непрерывного не бывает, за исключением
пространственного, и из этого последнего таково круговое» (Метафизика,
1071 в). С другой стороны, движение не может быть беспричинным, а вечное
движение не может вызываться сущностью, которой свойственно бытие в
потенции: «Даже в том случае, если она [сущность] будет действовать, но в
существе своем останется способностью, вечного движения не будет, ибо то,
что обладает способностью существовать, может еще не иметь
существования» (1071 в). Отчасти под влиянием Анаксагора, отчасти в
результате анализа регулирования: «палка движет камень и движется рукой,
приводимой в движение человеком; а он уже не приводится в движение
ничем другим» (Физика, 256а), Аристотель приходит к необходимости
305
первого двигателя, близкого к мышлению. «Так как мы видим тот последний
предмет, который может двигаться, не имея, однако, в себе начала движения,
и тот, который приводит в движение, движимый другим, а не самим собою,
вполне основательно, если не необходимо, предположить и третье -
предмет, который приводит в движение, будучи неподвижным. Поэтому
правильно говорит Анаксагор, утверждая, что разум не подвержен
воздействию и не смешан, после того как он сделал его началом движения,
ибо только таким образом он может двигать, будучи неподвижным, и может
владычествовать, будучи несмешанным» (256в).
Именно здесь обнаруживается тот источник идеалистического влияния
античности [115], о котором Энгельс писал: «Люди привыкли объяснять
свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их из
своих потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в голове,
сознаются), и этим путем с течением времени возникло то идеалистическое
мировоззрение, которое овладело умами в особенности со времени гибели
античного мира. Оно и теперь владеет умами в такой мере, что даже
наиболее материалистически настроенные естествоиспытатели из школы
Дарвина не могут составить себе ясного представления о происхождении
человека, так как в силу указанного идеалистического влияния они не видят
той роли, которую играл при этом труд» (98, с. 493-494). Из рассуждений
Аристотеля явствует, что «цепь причин» представлялась ему не замкнутым
контуром, а цепью - линией динамических связей. Это и естественно.
Отсутствие обратной связи в его анализе регулирования неизбежно
вызывало трактовку связи алгоритма с объектом как связи жесткой,
неизменной во времени. Именно это обстоятельство - линейный и
ограниченный характер причинных связей - и выдвигается Аристотелем в
качестве аргумента в пользу бога.
«Быть несмешанным» - значит, в терминах Аристотеля, быть без
материи, быть чистой действительностью, лишенной потенции: «Должно
быть такое начало, существо которого - деятельность. А, кроме того, у
сущностей этих не должно быть материи; ведь они должны быть вечными,
если только есть еще хоть что-нибудь вечное; следовательно, им необходимо
306
пребывать в деятельности» (Метафизика, 1071 в). По Аристотелю,
деятельность эта суть мышление о мышлении, что равным образом присуще
и человеку, и неподвижному двигателю: «Разум, в силу причастности своей
к предмету мысли, мыслит самого себя: он становится мыслимым,
соприкасаясь со своим предметом и мысля его, так что одно и то же есть
разум и то, что мыслится им» (1072в). А божественное мышление
отличается от мышления человека только тем, что оно постоянно сохраняет
тождество мысли и мыслимого, есть чисто рациональное мышление.
Предметом мысли оно имеет сущности без материи: «Поскольку,
следовательно, предмет мысли и разум не являются отличными друг от
друга в тех случаях, где отсутствует материя, мы будем иметь здесь
тожество, и мысль будет составлять одно с предметом мысли» (1075а).
Нетрудно заметить непосредственную связь учения о первом двигателе с
субъективным мотивом. И в том, и в другом случае мы действительно имеем
некоторую предметную область, которая непосредственно не связана с
материей, хотя и не выходит за ее пределы, - область возможного с ее
абстрактными и допускающими многозначное материальное оформление
элементами типа «соединение», «средство общения», «орудие» и т.п.
Элементы эти, правда, не столько «не связаны» с материей, сколько «не
привязаны» по определенному веществу: они в пределах возможного, но не
определены однозначно. Эти «сущности, взятые без материи» (там же), есть
первая ступень на пути конкретизации потребности в цель, через них идет
дальнейшее определение по веществу и форме.
Аналогия между первым двигателем и рассудочной деятельностью по
организации практики не ограничивается предметом и формулой «движет,
не находясь в движении». Первый двигатель устанавливает формы, и в этом
смысле предстает объединяющей все имманентные цели вещей силой,
которая направляет развитие мира к благу. Здесь отличие от субъективного
мотива только в том, что аристотелевский двигатель ближе к животному и
ведет процесс в порядке однозначной необходимости: «это - бытие, которое
существует необходимо, тем самым оно существует хорошо, и в этом
смысле является началом» (1072в). Подчиненная же субъективному мотиву
307
рассудочная деятельность не всегда идет к цели однозначно, может давать
некоторое множество целей, каждая из которых с субъективной точки
зрения равноценна. В целом следует признать, что попытка Аристотеля
обосновать необходимость первого двигателя представляется в пределах
самой аристотелевской системы неизбежным следствием отождествления
регулирования и природы, а также понимания причинных цепей как
линейные связи. Подготавливая отожествление природы с практикой,
Аристотель вынужден был подчеркивать общее практике и природе,
выбрасывать из исследования теоретические процессы и природную
многозначность. Частным результатом этих усилий на два фронта оказалась
онтологизированная цель и целенаправленная однозначность развития как
присущие вещам начала, свойства. Но как только цель обрела
самостоятельное существование, Аристотель вынужден был, наряду с
абсолютизацией цели, абсолютизировать и теоретическую деятельность
субъекта, наделив ее абсолютным бытием. Иначе и не могло быть при
анализе единичных актов регулирования. Но, раз начавшись, процесс
неправомерной онтологизации теоретического и ценностного захватывает, в
конечном счете, и мир в целом. Он уже «хочет» одного и «не хочет» другого:
«мир не хочет, чтобы им управляли плохо» ( 1076а).
Мир Аристотеля оказывается, таким образом, развивающимся в двух
полюсах, связанных цепью форм. По одну сторону стоит материя, по другую
- вечная действительность, объединяющая имманентные вещам цели и
позволяющая любой частичке мира принять участие в «вечном и
божественном». Если в первой части, пытаясь оставаться в пределах общего
природе и практике, Аристотель исследует проблемы, критикует
предшественников в основном с материалистических позиций, то в учении о
первом двигателе, онтологизируя «субъективный мотив», Аристотель не
удерживается на этих позициях.
Ценнейшая сама по себе мысль о связи материального и идеального через
процессы практики оказалась у Аристотеля сначала обедненной
односторонним анализом единичных актов практики, а затем и
идеалистически искаженной при попытках приписать теоретическим
308
процессам независимое ни от человека, ни от человечества объективное
бытие.
2. Теория познания. Этика
1
Теория познания Аристотеля строится в непосредственной связи с его
учением о сущности. Им дается не только механика познания, но и его
теоретическое обоснование. В основную и высшую цель познания
Аристотель выдвигает теоретическое мышление как таковое, философию,
«науку, которую мы ищем». Возможность такой науки Аристотель
усматривает в самой сущности, развернутой в космических масштабах, в ее
устойчивых, неизменных моментах: «В поиски за истинным необходимо
отправляться от того, что всегда находится в том же самом состоянии и не
подвергается никакому изменению. А таковы существующие мировые
тела... Далее, если существует движение, то есть и нечто движущееся...
Кроме того, если в отношении количества здешние вещи непрерывно текут и
движутся,., почему не считать их пребывающими в отношении качества?.,
сущность выявляет предмет со стороны качества, а у этого последнего
определенная природа, тогда как у количества - неопределенная»
(Метафизика, 1063а). Йегер относительно этого рассуждения замечает:
«Вечная неизменная реальность и вечные законы космоса, зависимые от нее,
образуют предпосылку возможности не только «науки, которую мы ищем»,
но и любого строгого логического мышления, и любых абсолютных вечных
истин, поскольку мир чувственного - поток, лишенный субстрата» (36, с.
212). Нужно, впрочем, отметить, что у Аристотеля речь идет не столько о
вечной и неизменной реальности, сколько об устойчивом в изменении, без
которого, по мнению Аристотеля, мнению, очевидно, справедливому,
невозможно никакое познание.
309
Ахманов считает, что в основе логических учений Аристотеля, как и
познания в целом, лежит убеждение в существовании объективного мира:
«Убеждение в доступности человеку объективной истины и убеждение в
обладании средствами установления объективной истины составляет одну из
предпосылок логики Аристотеля, с которой непосредственно связано
понимание форм мыслей не как продуктов субъективного произвола и не как
априорных форм сознания, в которых если и есть необходимость, то
необходимость лишь субъективная, а как независимых от сознания связей,
то есть, как объективных связей бытия» (99, с. 25). Подчеркивание
Ахмановым объективного характера связей - весьма важный пункт
понимания теории познания Аристотеля, тем более, что, по мнению Иегера,
например, эта деталь представляется довольно шаткой: «Аристотель -
единственный греческий мыслитель, с которым Кант мог бы спорить на
общей почве и которого он пытался преодолеть» (36, с. 380). Нам
представляется более правомерным мнение Ахманова: «Характерной чертой
логики Аристотеля является понимание связи элементов мысли и связей
мыслей друг с другом из связей бытия, и это дает право характеризовать
логику Аристотеля как онтологическую, что, однако, еще не означает, что
Аристотель, подобно Пармениду или Платону, подменил логическую
теорию метафизической и что логика Аристотеля была метафизической в
современном смысле этого слова» (99, с. 26). -»Характер логических учений
Аристотеля вскрывается, прежде всего, в его учении об истине.
По Аристотелю: «Ложь и истина не находятся в вещах так, чтобы благо,
например, было истиной, а зло - непосредственной ложью» (Метафизика,
1027в). Истинное и ложное - свойства мышления, правильно или
неправильно отражающего объективный мир, а именно динамические его
процессы. Такая позиция вытекает из анализа языка, из категорий -
продуктов этого анализа. Сами аристотелевские категории, как их
справедливо рассматривает Ахманов, «не только высшие роды значений
слов, но вместе с тем и высшие роды бытия». Что же касается правильности
или неправильности отражения, то это целиком зависит от предмета: «Не
потому ты бел, что мы правильно считаем тебя белым, а, наоборот, потому,
310
что ты бел, мы, утверждающие это, правы» (1051 в). Таким образом, для
Аристотеля вопрос о том, что с чем соотносится, решается определенно
материалистически, и в этом смысле ягеровское сближение великого грека с
Кантом, для которого рассудок приписывает законы природе», - довольно
поверхностно.
Вместе с тем аристотелевское учение об истине, хотя оно и носит
материалистический характер, страдает ограниченностью,
созерцательностью. Понимание языка и мышления как зеркала,
игнорирование их орудийного характера ведет к пониманию истины как
простого соответствия идеальных связей связям объективным, вещным.
Говоря о первой сущности как о средоточии и арене борьбы сил природы,
субстрате объективных противоположностей, Аристотель понимает
движение, изменение, переход в противоположности неотъемлемым и
исключительным свойством мира вещей, но не мира идей. Идеи, мнения,
речь могут, по Аристотелю, только следовать за изменением сущности,
могут только улавливать совершающиеся изменения: «Допускать
противоположные определения в зависимости от собственной перемены -
это составляет отличительное свойство сущности... Если бы кто-нибудь
признал бы также, что речь и мнение допускают противоположные
определения, то это будет неверно. Речи и мнению приписывается
способность допускать противоположные определения не потому, что они
сами допускают что-нибудь, но потому, что в чем-то другом переменилось
состояние: в зависимости от того, имеет ли место указываемый факт, через
это называется истинной или ложной сама речь» (Категории, 5).
Признавая бесспорно материалистической такую постановку вопроса об
истине, нельзя все же не отметить практическую бесплодность
мыслительных операций, которые целиком зависели бы от «имеющего место
факта». В этом случае мышление было бы не в состоянии увидеть за
единичной действительностью исключающие друг друга возможности,
выбирать из этих возможностей удовлетворяющую потребности цель, не
могло бы организовать действия субъекта по реализации цели. Практика, как
приспособление мира к нуждам субъекта, стала бы невозможной.
311
Конкретным пороком аристотелевского учения об истине-соответствии
представляется смешение воедино двух видов соответствия: а) соответствия
до акта практики, которое достигается объединенными усилиями
чувственного и рационального, но нисколько не вредит предмету труда и не
меняет его, и в) соответствия после акта практики, которое достигается
субъектом как силой природы и состоит, собственно, в насильственном
приведении предмета труда в соответствие с выбранной целью. Между
двумя этими последовательными во времени типами соответствия лежит
период нарушения соответствия как необходимое условие практики. А
именно этот период и снимает аристотелевская трактовка истины, причем
делает это «установочным» порядком: после Аристотеля понимание истины
носит долгое время именно этот созерцательно-бездейственный характер. В
свете сказанного, учение Аристотеля об истине - один из источников
метафизических тенденций в его логике.
В самой логической структуре Аристотель довольно четко различает
знание (мышление неделимого) и использование знания (мышление
соединения), то есть, различает слово и связь слов, понятие и метод
использования понятий. В знании нет ложного, оно может возникнуть
только при использовании знания: «Мышление о неделимом относится к той
области, где не может быть лжи. А то, где встречается и ложь, и истина,
представляет собою соединение ноэм, как бь^ составляющих единство ... а
соединяет эти отдельные ноэмы в единство - ум» (О душе, 430 а-в).
Это различение знания и его использования делают понятной позицию
Аристотеля в вопросе об «отделяемости» формы и ее компонентов
(формальной, целевой, движущей причин) от единичных вещей. Аристотель
справедливо считает излишним и бесплодным ставить вопрос об истинности
или ложности слов, понятий - в мышлении они лишь представители общего
в вещах, представители классов вещей в их общих свойствах. В этом
представительстве вещей в мышлении Йегер хотел бы видеть лишний довод
в пользу трансцендентности аристотелевского понятия сущности: «С самого
начала Аристотель уверен, что наука, которую мы ищем, возможна только в
том случае, если существуют либо идеи, либо другие «отделяемые»
312
мыслительные сущности, соответствующие им» (36, с. 379). В какой-то мере
Ягер прав, генетически для Аристотеля-платоника именно так и обстояло
дело, но в более зрелых произведениях Аристотель решительно различает
вещи и имена, исходя из примата вещей.
Чувственное у Аристотеля связано с рациональным функционально, что
же касается предметов чувственного и рационального, то здесь Аристотель
колеблется между эмпиризмом и рационализмом. «Аристотель - эмпирик, но
мыслящий», - пишет Ленин (1, с. 291), - и это действительно так. По
Аристотелю: «Так как, по-видимому, не существует никаких отдельных
предметов помимо чувственно воспринимаемых, то предметы мысли
находятся в чувственно воспринимаемых формах ... не имеющий
чувственных восприятий ничему не научится и ничего разумом не
постигнет» (О душе, 432а). Здесь перед нами чисто сенсуалистическая точка
зрения, выводящая общее непосредственно из чувственных восприятий. Но,
с другой стороны, Аристотелю не чужда мысль о том, что предметы
чувственного и рационального «по-разному даны»: «Различие между
ощущением и познанием состоит в том, что то, что производит ощущение,
находится извне. Причина этого лежит в том, что деятельность ощущения
направлена на единичное, тогда как познание, наоборот, направлено на
всеобщее; а это последнее находится в известном смысле в самой душе в
качестве субстанции. Поэтому мыслить может всякий, если он хочет ... а
ощущать зависит не от него - для этого необходимо наличие объекта
ощущения» (417в). Ленин считает, что здесь Аристотель «вплотную
подходит к материализму» (1, с. 292).
В анализе функционирования единства чувственного и рационального
Аристотель, в основном, ограничивается объективным мотивом. С этой
точки зрения мышление есть, собственно, способность, которая
актуализируется внешним инициатором: «Ясно, что чувствующая
способность сама по себе существует не в состоянии действительности, но
только в возможности. Поэтому [с ней дело обстоит так же] как, например, с
горючим материалом, который сам по себе не загорается без того, что его
зажигают; если бы он воспламенялся самостоятельно, не было бы нужды в
313
действующем огне» (О душе, 417в). Здесь мы опять встречаемся с
колебаниями Аристотеля между эмпиризмом и рационализмом. Предметом
чувственного восприятия оказываются сами формы. «Ощущение есть то, что
способно принимать чувственно воспринимаемые формы без материи,
подобно тому, как воск принимает оттиск печати без железа и без золота...
Подобным образом и при восприятии каждого предмета испытывается нечто
от того, что имеет цвет, или вкус, или звук, но не поскольку каждый из них
берется в виде определенной вещи, но поскольку она вещь такова и согласно
понятию» (424а).
В целом эти шатания, результатом которых была отмеченная выше
путаница в отношении связи единичного и общего, вытекают из
созерцательного характера аристотелевского познания. В отличие от
Платона, мы не находим в теории познания Аристотеля «цепи причин» как
чего-то в принципе отличного от естественно-динамической причинности. И
не находим, во-первых, потому, что мышление не рассматривается
инструментально, а во-вторых, потому, что Аристотель успел убрать цель -
в онтологию, в природу. А без этой существенной составляющей ни о какой
цепи причин не может быть и речи.
2
Этики Аристотеля мы коснемся лишь вскользь, поскольку она подчинена
«сущности» и почти ничего не дает для выяснения причинности.
Пересаживая порядок в природу, Аристотель сразу же разрывает ту связь
сократо-платоновской конструкции с «познай самого себя», без которой она
теряет свойства политического инструмента [116]. «Познай самого себя»
закономерно переходит у Аристотеля в научный энтузиазм познания
природы. Бог Аристотеля, а с ним и нормы поведения постигаются
изучением окружающего мира, его объективно-божественной
целесообразности. Любая вещь природы оказывается достойным предметом
научения, поскольку она микрокосм, поскольку в ней все причины, все связи
от материи - чистой возможности до формы - чистой действительности.
314
Переход от самопознания к познанию внешнего мира ставит крест на
платоновском понимании души - божественном семени вечной природы. С
исчезновением такой души исчезает и ее бессмертие, исчезает и
политическая заостренность философии. Смертная душа, которая «познает и
думает», «властвует» над телом, оказывается недоступной дисциплинарной
практике: у нее нет бессмертия, чтобы в надежде на лучшее отказаться от
радостей настоящего.
Смертность души и тела исключает платоновскую постановку этических
вопросов. И этика Аристотеля была бы наиболее гуманистической этикой
древности [117], если бы не тот яд оправдания действительности,
примирения с действительностью, который оказывается неустранимым из
сократо-платоновской проблематики. Аристотель зовет к активной научной
и политической жизни. Но, с другой стороны, все ставшее есть для него
энтелехия мира, упорядоченного божеством. И как христиане объясняют
зло, в частности, и ограниченностью человеческих представлений, не
постигающих конечной цели бога, так и Аристотель во всем вынужден
видеть проявление божественной целесообразности, направляет свои усилия
не на критику действительности, а на обоснование ее. Рабство для него такое
же «естественное» состояние человека, как свобода: «Природа устроила так,
что и физическая организация свободных людей отлична от физической
организации рабов; у последних тело мощное, пригодное для выполнения
физических трудов, свободные же люди держатся прямо и неспособны для
выполнения подобного рода работ; зато они пригодны для политической
жизни» (Политика, 1, 2, 14). Подобно Платону, Аристотель уверен в наличии
критерия-эталона этических ценностей [118], хотя эталон этот не
идеального, а природного происхождения: «Общественное право частью -
по природе, частью - по установлению. По природе право везде имеет одну
и ту же степень ценности и не зависит от одобрения или неодобрения
людей» (Никомахова Этика, 1134в).
315
* * *
Учение Аристотеля - вершина теоретико-философской мысли древних -
не может рассматриваться законченной, застывшей философской системой.
Ленин отмечает, что у Аристотеля повсюду вопросы, сомнения, искания,
поиски, колебания (1, с. 333). Это находит свое выражение как в решении
основного вопроса, так и в анализе причинности. Вместе с тем в вопросах
детерминизма позиция Аристотеля выглядит довольно четкой. Исследуя
движение как объективно диалектический процесс, Аристотель приписывает
природе имманентную цель развития, объединяет в понятии сущности
разнородные связи объективного и субъективного определения в единую
концепцию конечной причины. Следствием такого объединения были, во-
первых, игнорирование различий между естественно-онтологической
причинностью и замкнутыми причинными цепями, с помощью которых
человек организует изменение природы, во-вторых, односторонний подход к
естественно-онтологической причинности, отрицающей ее многозначность,
и, в-третьих, разрыв цепей причин, контуров регулирования, превращения
их в линейные причинные связи, анализ которых неизбежно уводит в
дурную бесконечность.
Поэтому, отмечая положительные стороны учения Аристотеля, -
материалистическую критику идеализма как такового, диалектический
анализ движения, отмечая огромную роль Аристотеля в разработке логики и
языкознания, мы, вместе с тем, не должны упускать из виду завершенное в
учении Аристотеля резкое ограничение философской проблематики,
сведение ее до представленного в космических масштабах и развернутого во
временную бесконечность акта регулирования. Аристотелевская телеология
на долгое время завела анализ проблем детерминизма в тупик. Она едва ли
может считаться преодоленной и в наше время.
У Аристотеля, как и у Платона, в основе абсолютизаций лежит
лингвистическая модель, абсолютизируются же техноморфные,
биоморфные, генетическая модели, причем наиболее всесторонне
используется процесс регулирования, на основе которого и создается
316
структурный продукт философского умозрения - сущность, причинность как
таковая. Вместе с тем сам процесс регулирования представляется лишь как
связь идеального и актуального преобразования, из него исключаются
факультативные моменты (обратная связь) и идентификация. Такая
трактовка регулирования, хотя и сохраняет связь с миром единичных вещей
через чувственность, вынуждена толковать связь идеального и актуального
преобразования мертвым тождеством, стабилизирует объективное
определение. В этом своем качестве устойчивого, неизменного объективное
определение теряет отличия от субъективного, предстает жесткой
структурой связи, где нельзя уже различить субъективное и объективное,
целесообразность и причинность. Аристотелевский детерминизм природы
может поэтому в равной степени рассматриваться и телеологией, и
однозначной причинностью. Первый подход подчеркивает субъективное,
второй - объективное в аристотелевском понятии сущности.
Абсолютизация объективной стороны регулирования в категории
движения укрепляет связь с проблематикой предшествующих школ, однако
эта проблематика представлена в философии Аристотеля в урезанной,
субъективизированной форме. Это особенно наглядно сказывается в
превращении вероятностного детерминизма Анаксагора и Демокрита в
сущность, куда дополнительным определителем внесена цель, а также в
изменении содержания термина «природа». У предшественников, даже у
Платона, природа рассматривалась вне субъекта или в безразличии к нему. У
Аристотеля эта противоположность преодолена, но преодолена в узких
рамках платоновской постановки вопроса, преодолена в ущерб и
объективности, и субъективности. Новая аристотелевская «природа» есть
единство частных объективных и субъективных характеристик, есть
саморегулирующееся уникальное бытие. Она сравнима со «старой»
природой ионийцев, пифагорейцев, атомистов лишь в аспекте материальном,
частном аспекте аристотелевской «сущности».
В философии Аристотеля более широко, чем у Платона, используются
возможности лингвистической модели. Она использована и как более или
менее целостная структура (обоснование вечного двигателя) и как отдельные
317
элементы структуры (обоснование диалектики движения). Вместе с тем
возможности лингвистической модели используются далеко не полностью.
Опущены связи этапа преддействия, детализация потребности по типам
регулирования и так далее.
Специфичным подходом по отношению к предшествующему периоду
является в философии Аристотеля и снижение роли идеологического.
318
Заключение
Анализ греческих философских школ с точки зрения их
детерминированности моделями позволяет сделать некоторые выводы о
характере развития древнегреческой философии классического периода, о
механизме использования моделей и движении философской проблематики,
о разработке категории причинности и целесообразности, о первых шагах
материалистического и идеалистического истолкования мира.
1. Для всего периода развития древнегреческой философии классического
периода было характерно в плане мировоззренческой проблематики
опосредование нового знания старым, что не может, однако,
рассматриваться как филиация идей, поскольку не только действительное
состояние философии в тот или иной момент, но также и не относящиеся к
области мировоззрения явления (функционирование денег, письменность,
био- и техноморфные модели) использовались на правах моделей. Общий
ход развития философии зависел, таким образом, от двух причин -
внутренней (использование на правах модели существующих философских
систем) и внешней (вовлечение в философскую проблематику новых
структурных связей из новых моделей). Сама философия в ряду других
мировоззренческих форм возникает с вовлечением через денежную модель
универсальной проблематики. На конкретное состояние философии влиял в
основном ограничивающим образом идеологический фактор, особенное
усиление его влияния относится к периоду перехода на лингвистическую
модель (Демокрит - Платон).
2. При всех изменениях, которые претерпевает философская
проблематика в различных школах, в ней все же остаются некоторые
устойчивые элементы, которые обнаруживаются почти у всех философов:
различение умопостигаемого и чувственного, количество и качество, связь
качества с формой существования. Устойчивость этих элементов может быть
понята как сводимый к силе универсальный характер этих категорий.
3. В древнегреческой философии использовались как старые, достаточно
широко представленные в мифе модели, так и модели новые, в том числе и
319
искусственные, комплексные. Из моделей древних широко использованы
генетическая и техноморфная. Из моделей новых - денежная и
лингвистическая. Из искусственно созданных с помощью принципа
причинности - модель субъектно-объектных отношений, вероятностный
детерминизм (Анаксагор, Демокрит, софисты, Платон), однозначный
детерминизм-телеология (Аристотель).
4. Использование моделей в философии имело специфику. Обычно
основной моделью выступала одна, использовавшаяся в качестве
универсального субстрата, на котором и в пределах которого
абсолютизировались структурные элементы других моделей. Только у
элеатов и у Сократа можно обнаружить модели в сравнительно чистом виде.
Модели, особенно лингвистическая, использовались не в полном объеме. У
Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита и Аристотеля встречается комплексное
использование моделей, объединенных принципом причинности.
5. В движении проблематики древнегреческой философии можно
заметить некоторые тенденции, связанные с использованием моделей.
Начальный, связанный с денежной моделью «объективный» период,
характерен переносом центра тяжести проблематики из космогонии в бытие,
что повело в философии элеатов к исчезновению проблемы движения. В
постэлеатский период возрождение проблематики движения связано с
сознательным использованием принципа причинности и созданием
комплексных моделей. С появлением лингвистической модели и введением
этической проблематики происходит под усиленным идеологическом
давлением резкое сужение философской проблематики, которая у
Аристотеля сведена к процессу регулирования, осознанному лишь как
единство идеального и актуального преобразований.
6. Становление категории причинности связывалось древними с поисками
универсального структурного определителя природных процессов. Эти
поиски реализованы в вероятностном детерминизме Демокрита и
включающем субъективную характеристику однозначном детерминизме
(телеологии) Аристотеля.
320
7. Постановка основного вопроса философии становится возможной
только с использованием лингвистической модели и появлением теории
познания. Переход стихийного материализма в философский может быть
отмечен только у Демокрита, хотя и здесь он весьма односторонен:
ограничивается вопросами генезиса сознания. Идеализм как партия в
философии появляется только у Платона.
1959 г.
Литература
1. Ленин В.И. Философские тетради. - М.: Государственное издательство
политической литературы, 1938.
2. Рибо Т. Эволюция общих идей. - M.: К.-Х., 1898.
3. Рубинштейн С. Бытие и сознание. - М.: Издательство академии наук
СССР, 1957.
4. Ross W.D. Aristotle's Physics. - New-York, Oxford, 1955.
5. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм// Ленин В.И.
Сочинения. - Т. 14. - М.: Государственное издательство политической
литературы, 1949.
6. Маркс К. Капитал. - Т. 1. - М.: Госполитиздат, 1953.
7. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека//
Маркс К. Энгельс Ф. Избранные произведения в двух томах. - Т. 2. - М.:
Госполитиздат, 1947.
8. Энгельс Ф. Диалектика природы. - М.: Госполитиздат, 1952.
9. Бэкон Ф. Новый органон. - М.: Государственное социально-
экономическое издательство, 1938.
1 O.Leibniz G. Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie. - Bd. II. -
Leipzig, 1906.
1 l.Eddington A. The nature of Physical World. - Cambridge, 1928.
12. Bergmann H. Der Kampf um das Kausalgesetz in der jüngsten Physik. -
Braunschweig, 1929.
321
13.Эшби У. Р. Применение кибернетики в биологии и социологии//
Вопросы философии, № 12, 1958.
14. De Latil P. Thinking by Machine: A Study of Cybernetics. - London, 1956.
15. Лосев А. Античная мифология в ее историческом развитии. - М:
Учпедгиз, 1957.
16. Спиркин А.Г. Происхождение языка и его роль в формировании
мышления// Мышление и язык. - М.: Государственное издательство
политической литературы, 1957.
17. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. - М.: «Атеист», 1930.
18. Noire L. Das Werkzeug und seine bedeutung für die
Entwicklungsgeschichte der Menschheit. - Mainz, 1880.
19. Маркс К., Энгельс Φ. Немецкая идеология. - M.: Государственное
издательство политической литературы, 1935.
20. Burnet J. Early Greek philosophy. - London, 1920.
21. Гомперц Т. Греческие мыслители. - Том I. - СПб.: Издательство Д.Е.
Жуковского, 1911.
22. Groningen В. van. In the Grip of the Past: Essay on an Aspect of Greek
Thought. - Leiden, 1953.
23. Gomperz H. Problems and Methods of Early Greek Science// Journal of the
History of Ideas, Vol. IV, 1943.
24. Thopitsch E. Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. - Wien, 1958.
25. Thomson G. Studies in Ancient Greek Society. Vol. 2: The First
Philosophers. - New-York, London, 1955.
26. Θεοδωρίδη Χ. Επίκουρος. ~ Αθήναι, 1954.
27. Энгельс Φ. Происхождение семьи, частной собственности и
государства. - М.: Госполитиздат, 1953.
28. Греческая литература в избранных переводах. - М.: «Советский
писатель», 1939.
29. Каллистов Д.П. Хозяйственная жизнь и социальный строй
гомеровского общества// Древняя Греция. - М.: АН СССР, 1956.
30. Пизани В. Этимология. - М.: Издательство иностранной литературы,
1956.
322
31. Schrödinger Ε. Nature and Greeks. - Cambridge, 1954.
32. Farrington B. Greek Science (Thaïes to Aristotle); it's meaning for us. -
Vol. 1. -New-York, London, 1944.
33. Маковельский A.O. Материализм в древности. - Баку: Известия АГУ,
1928.
34. Gilbert О. Griechischen Religionsphilosophie. - Leipzig, 1911.
35. Kroner R. Speculation in рге-christian Philosophy. - New-York, London,
1957.
36. Jeager W. Paideia: the Ideals of Greek Culture. - New-York, Oxford, 1944.
37. Блонский H. Этюды по истории ранней греческой философии. - М:
Тип. т-ва И.Н. Кушнеревъ и К., 1914.
38. Capelle W. Geschichte der Philosophie. - Berlin, 1951.
39.Fränkel H. Wege und Formen Frühgriechischen Denkens. - Munich, 1955.
40. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. - Том 9. - M.: Партийное издательство,
1932.
41. Heisenberg W. Philosophie Problems of Nuclear Science. - London, 1950.
42. Jones W. A History of Western Philosophy. - Vol. 1. - Leiden, 1953.
43. Введенский А. Лекции по истории древней философии. - СПб., 1900.
44. Cornford F. Before and after Socrates. - Cambridge, 1950.
45. Гуляев А. Лекции по истории древней философии. - Казань: Бр.
Башмаковы, 1915.
46. Raven J. Pythagoreans and Eleatics. An account of the interaction between
the two opposed schoolls during the fifth and early fourth centuries B.C. -
Cambridge, 1948.
47. Энгельс Φ. Анти-Дюринг. - M.: Госполитиздат, 1947.
48. Дынник M. Диалектика Гераклита Эфесского. - М.: РАНИОН, 1929.
49. Hamburger M. The Awakening of Western Legal Thought. - Edinburg,
1946.
50. Kirk W. Fire in cosmological speculations of Heracleitus. - Mineapolis,
1950.
51. Benn A. Early Greek Philosophy. - London, 1908.
52. Gigon O. Der Ursprung der Griechischen Philosophie. - Basel, 1945.
323
53. Маковельский А. Досократики. - Том 1. - Казань: Голубев, 1914.
54. Данелия СИ. Научное знание в представлении Демокрита. - Тифлис:
Издание Тифлисского университета, 1935.
55. Brandis CA. Geschichte der Entwicklung der griechischen Philosophie. - 1
v.-Berlin, 1882.
56.Радлов Э. Очерк истории греческой этики до Аристотеля// Аристотель.
Этика/ Пер. Э. Радлова. - СПб.: Филос. об-во при имп. С-Петерб.
университете, 1908.
57.Дынник М. Очерк истории философии классической Греции. - М.:
Государственное социально экономическое издательство, 1936.
58. Cleve F. The Philosophy of Anaxagoras: An attempt at reconstruction. -
New-York, 1946.
59.Сагарадзе M. Краткий очерк истории греческой философии. - Кутаиси,
1898.
60. Маркс К. Немецкая идеология// Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - Т.
3. - М.: Госполитиздат, 1956.
61. Тимошенко В. О характере материализма Демокрита// Вопросы
философии, № 3, 1954.
62. Вундт М. Греческое мировоззрение. - Петроград: «Огни», 1916.
63. Cassirer Ε. Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik. -
Braunschweig, 1929.
64. Маковельский А. Левкипп. - Баку: Изв. пед. фак-та Азерб. гос
университета, 1925.
65. Маркс К. Различие между натурфилософией Демокрита и
натурфилософией Эпикура// Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений.
- М.: Государственное издание политической литературы, 1956.
66. Демокрит в фрагментах и свидетельствах древности. - М.: ОГИЗ,
1938.
67. Чернышев Б. Софисты. - М.: РАНИОН, 1929.
68. Heinemann F. Nomos und Physis. - Basel, 1949.
69.Kinkel W. Geschichte der Philosophie. - Leipzig, 1941.
70. Diels H. Die Fragmente der Vorsokratiker. - Bd. 2 - Berlin, 1903.
324
71. Döring Α. Geschichte der griechischen Philosophie. - Leipzig, 1903.
72. Лурье С. Антифонт - творец древнейшей анархической системы. - М.:
Голос труда, 1925.
73. Сережников В. Сократ. - М.: Тр. Моск. Ин-та истории, философии и
лит. Философский факультет, 1937.
74. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. - Том 10. - М: Партийное издательство,
1932.
75. Agard W. The Greek Mind. - New-York, 1955.
76. Маркс К. Тезисы о Фейербахе// Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - Т.
3. - М.: Госполитиздат, 1956.
77. Winsper A. The Genesis of Plato's Thought. - New-York, 1956.
78. Burnet J. Platonism. - Berkeley, 1928.
79. Сережников В. Основные проблемы философии Платона. - М.:
МиИФЛИ, 1937.
80. Demos R. The Philosophy of Plato. - Chicago, 1939.
81. Delacy P. The Problems of Causation in Plato's Philosophy// Classical
Philology, 34 (2), 1939.
82. Hoffman E. Piaton. - Zürich, 1950.
83. Allan D. The Philosophy of Aristotle. - Oxford, 1952.
84.Xenakis J. Essens, Being and Fact in Plato// Kant Studien, 49, 1957/1958.
85.Блонский П. Философия Плотина. - M.: Товарищество типографии
А.И. Мамонтова, 1918.
86.Voegelin Ε. Order and History. - Vol. 3. Plato and Aristotle. - Louisiane,
1957.
87. Зибек Г. Аристотель. - СПб.: Ред. журн. «Образование», 1903.
88. Lukasiewicz J. Aristotle's Syllogistic from the Standpoint of the Modern
Formal Logic - Oxford, 1951.
89. Александров Г. Аристотель: философские и социально-политические
взгляды. - М.: Гос. соц-экон. изд-во, 1940.
90. Оганян Г. Решение основного вопроса философии в учении
Аристотеля. - М., 1927.
325
91. Рудаев Б. На путях к материализму XX в. Маркс и Аристотель. Маркс
и Эйнштейн. - Харьков, 1927.
92. Claghorn С. Aristotle's Criticism of Plato's "Timaeus". - Hague, 1954.
93. Александров Г. История западноевропейской философии. - M.:
Издательство Академии наук СССР, 1946.
94. Marx W. The Meaning of Aristotle's "Ontology". - Hague, 1954.
95. Nestle W. Griechische Geistesgeschichte. - Stuttgart, 1956.
96. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. - М.: «Творчество»,
1913.
97. Асмус В. Очерки истории диалектики в новой философии. - Л.:
Государственное издательство, 1930.
98. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека//
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - Том 20. - М.: Государственное
издательство политической литературы, 1930.
99. Ахманов А. Логическое учение Аристотеля// Ученые записки
Московского областного педагогического института. - Том XXIV. - Труды
кафедры философии. Выпуск 2. - М., 1954.
326
Примечания
[1] Фердинанд Лассаль (1825-1864) - немецкий политический деятель,
философ, экономист, юрист и публицист. Участник революционных событий
1848 года в Германии. Заявлял себя в качестве последователя идей Маркса и
Энгельса, однако по оценке самого Маркса, Лассаль скорее остался на
позиции гегельянства (Классен В.Я. Фердинанд Лассаль. Его жизнь, научные
труды и общественная деятельность. - Litres, 2013).
[2] Lassale F. Die Philosophie Herakleitos Des Dunklen von Ephesos. - Berlin,
1857.
[3] Известный факт: характерной чертой традиции написания
философских трудов в нашей стране, начиная с 30-х годов XX века, являлась
обязательность ссылок на работы В. Ленина, К. Маркса и Ф. Энгельса. С
этим обязательством сталкивался каждый автор, ведь в академической среде
считалось, что в этих работах представлено компетентное и развернутое
мнение по любой философской тематике, так как с этими работами было
связано представление об окончательной философской истине. В 60-е годы
было так же тяжело обойтись без ссылки на Ленина. Приведенные цитаты
Ленина (здесь и далее) выражают не свойственную серьезному, «историко-
философскому», как определяет природу своей работы сам Петров,
исследованию характеристику. Желание вывести общую теорию познания из
общечеловеческих схем мышления, используя лишь беглый обзор истории
развития западной философии, чуждо исследовательскому замыслу Петрова.
Изучение проблем детерминизма в античной философии лишь по форме
напоминает тот путь исследования, который определяет для себя Ленин. Та
близость к «историческому анализу», указанному Лениным, совпадение с
ним, о чем здесь говорит Петров, заключается в замысле выявить те или
иные философские закономерности; а обращение к конкретике античных
учений и к «общей проблематике детерминизма» выступает целиком
заслугой Петрова. Кроме этого, сами «Философские тетради» выступают
удобным материалом для интерпретации ленинского понимания античной
327
проблематики, и в этом смысле они являются хорошим компромиссным
вариантом. В умелых руках любой текст может работать на отстаивание
собственной философской концепции.
[4] Книга Salmon W.C. Casualty and Explanation. - New-York, Oxford,
1998, являющаяся сборником статей этого автора по теме «причинность» и
«детерминизм», расширяет указанную Петровым общую проблематику и
выступает существенным к ней дополнением.
[5] Рибо Т.А. (1839-1916) - известный французский психолог и педагог,
разрабатывающий «экспериментальную» психологию, в круг изучения
которой входили и психопатологические явления. Стремился возвести
психологию в ранг точной науки, все исследования основывал на
эксперименте (Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. Н., Ковалёв С М., Панов В. Г.
Философский энциклопедический словарь. - М.:
Советская энциклопедия, 1983).
[6] Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960) - советский психолог и
философ, один из ведущих деятелей отечественной психологической науки,
основоположник деятельностного подхода в психологии (Новая
философская энциклопедия: в 4 т./ гл. ред. Степин. В. С. - М.: «Мысль»,
2000-2001).
[7] Ross W.D. (1877-1971) - британский философ и антиковед,
работающий в Оксфорде. Известен как -комментатор и переводчик
Аристотеля; также исследовал философию Платона (Ross W.D. Plato's
Theory of Ideas. - Oxford, 1951), а позднее - философию И. Канта. Его
работы, посвященные античной философии и в наши дни остаются одними
из наиболее востребованных. Кроме этого, Росс - автор собственных работ
по этической проблематике.
[8] Афоризм Бэкона, в самом тексте «Нового органона», подчеркивает
ценность научных открытий, что делает ясными цель всей книги и позицию
Бэкона относительно человеческого развития в целом. Практика у Бэкона
является «залогом истины», и цель наук заключается в открытии природной
истины.
328
[9] Здесь М.К. Петров исходит из идеи единства философии и науки; эту
идею, получившее новое рождение в философии 20 века, обращенной к
истории науки, можно выразить словами А. Койре (родившемся в г.
Таганроге), опубликованными за рубежом: «научная мысль никогда не была
полностью отделена от философской мысли» (Койре А. О влиянии
философских концепций на развитие научных теорий// Койре А. Очерки
истории философской мысли. О влиянии философских концепций на
развитие научных теорий. - М.: УРСС, 2003. - стр. 12).
[10] Артур Стэнли Эддингтон (1882-1944) - английский астроном и
астрофизик, его труды посвящены строению движению звёзд, строению
звёздных систем, в последние годы своей жизни работал над созданием
единой физической теории и общей теории относительности {Козенко
A.B. Артур Стэнли Эддингтон, 1882-1944. - М.: «Наука», 1997).
[11] Один из выводов Аристотеля, полученный из рассмотрения природы
как целевой причины. В природе не происходит ничего случайного: «Далее,
там, где есть какая-нибудь цель, ради нее делается и первое, и последующее.
Итак, как делается каждая вещь, такова она и есть по своей природе, и,
какова она по своей природе, так и делается, если что-либо не помешает»
(Физика, 199а 10), {пер. В.П. Карпова).
[12] Уильям Росс Эшби (1903-1972) - английский психиатр, специалист
по кибернетике, исследовал сложные системы, ввёл понятие
самоорганизации и изобрёл гомеостат (Special Issue: The Intellectual Legacy
ofW. Ross Ashby// International Journal of General Systems. Volume 38, Issue 2,
2009).
[13] Норберт Винер (1894-1964) - американский математик,
основоположник теории искусственного интеллекта и кибернетики.
Проводил параллель между процессами управления и связи как в машинах и
живых организмах, так и в биологических сообществах {Новая философская
энциклопедия: в 4 т./ гл. ред. Степин. В. С. - М.: «Мысль», 2000-2001).
[14] Пьер де Латиль - французский учёный, биолог, журналист и
публицист, теоретик кибернетики, излагавший свои взгляды, как
329
посредством чисто научных трудов, так и в виде научно-популярной
литературы, развивал теорию искусственного интеллекта.
[15] Игорь Андреевич Полетаев (1915-1983) - один из первых советских
кибернетиков, автор первой в СССР монографии по кибернетике «Сигнал»,
посвященной её основным понятиям, вышедшей в 1958 году. Внёс огромный
вклад в разрешение ситуации с выводом кибернетики из статуса лженауки
(Гаазе-Рапопорт М. Г. О становлении кибернетики в СССР// Кибернетика:
прошлое для будущего. - М.: «Наука», 1989).
[16] Связь философии и кибернетики в дальнейшем, уже после
диссертации М.К. Петрова, развивалась и укреплялась. Описание сближения
философии, кибернетики, лингвистики и других дисциплин в теме
когнитивистики есть в книге: Gardner H. The mind's new science. - New-York,
1985.
[17] Без ссылки на «Капитал» К. Маркса, в котором, как утверждает
Петров, заложены основы философского анализа «предмета» и
«предметного класса», его рассуждение об «обмене веществ» вполне могло
быть охарактеризовано как «упрощенный материализм».
[18] Александр Георгиевич Спиркин (1919-2005) - советский и
российский учёный, философ, нейробиолог, кибернетик. В сферу его
исследований входили проблемы происхождения сознания, языка, общения,
а также вопросы содержания и предназначения философии (Тоом
А. Воспоминания А.Г. Спиркина// Вестник. № 12, 1997).
[19] А.Г.Спиркин вместе с рядом учёных (Н. А. Тих, Н. Ю. Войтонис, Д. К.
Савченко, И. К. Трайнина, Ю. Г. Трошихина), начиная с 40-х годов XX века,
исследовал возможности образования или «воспитания» у обезьян
различных видов жестов и звуковых сигналов (О чем рассказали
«говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать
символами? — М.: «Языки славянских культур», 2006).
[20] М.К. Петров разрабатывает проблему знака и имени в своем
философском творчестве в дальнейшем. Его основополагающими работами
по этой теме являются: Петров М.К. Язык и категориальные структуры//
330
Науковедение и история культуры. - Ростов-на-Дону: РГУ, 1973; Петров
М.К. Язык. Знак. Культура. - М.: «Наука», 1991.
[21] Людвиг Нуаре (1827-1897) - немецкий учёный, исследовавший роль
орудия в становлении и развитии человека. Полагал, что появление орудий
труда в сфере человеческой деятельности предшествует развитию языка и
мышления, в связи с чем, первые орудия труда - это не столько изобретения
человека, сколько случайная находка (Алъ-Ани H. М. Философия техники:
очерки истории и теории. Учебное пособие. - СПб.: ООО «А-принт», 2004).
[22] Чарльз Дарвин впервые использовал термин «борьба за
существование» в своём труде «Происхождение видов, путём естественного
отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь»,
опубликованном в 1859 году. Под самим термином «борьба за
существование» Дарвин понимает комплекс взаимоотношений внутри
биологической среды, выстраиваемый между организмами и условиями
среды, а также один из движущих факторов эволюции (Чайковский Ю.В. О
формировании концепции Ч.Дарвина// Науки в их взаимосвязи. История.
Теория. Практика. - М.: «Наука», 1988).
[23] Так же М.К. Петров в дальнейшем, на более детальном уровне,
разрабатывает проблему приобретения нового знания, идею «опосредования
нового знания старым». Имеется ввиду концепция «тезаурусной динамики»,
составляющая, по его мнению, предмет социологии науки. Воспитание
человека, его процесс «взросления» и соответственно этому процессу его
«перемещение в терминалы взрослой деятельности» {Петров М.К Предмет
социологии науки// Петров М.К. Философские проблемы «науки о науке».
Предмет социологии науки. - М.: РОССПЭН, 2006. - стр. 230) - все это
напрямую связано с «общесоциальной коммуникацией». В развитии любой
частной науки присутствует необходимый «тезаурус дисциплины», то есть
«содержание текстов, которые нужно освоить, чтобы подключиться к
дисциплинарной деятельности на переднем крае науки» (Дубровин В.Н.,
Тищенко Ю.Р. М.К. Петров: жизнь и научные идеи// Петров М.К.
Самосознание и научное творчество. - Ростов-на-Дону: РГУ, 1992. - стр.
259), который «представлен совокупностью научных дисциплин» (там же,
331
стр. 258). Также есть нулевой, первоначальный, чистый тезаурус, который
должен двигаться к «тезаурусу дисциплины», наполняться содержанием. В
процессе обучения «тезаурусная динамика» должна быть непрерывная,
обогащенный «тезаурус дисциплины» предыдущего года обучения должен
выступать «нулевым тезаурусом» текущего года обучения. Петров говорит о
том, что в целом «тезаурусная динамика» есть «движение подрастающих
младенцев в терминалы взрослой социально необходимой и социально
признанной деятельности под давлением естественного взросления по
программам унаследованного от родителей биокода, социальное
кодирование индивидов во взрослую деятельность» {Петров М.К.
Социально-культурные основания развития современной науки. - М.:
«Наука», 1992. - стр. 101). По сути, вся тезаурусная динамика есть
«академическое движение взрослеющих младенцев через систему
образования в терминалы взрослой деятельности» (там лее, стр. 107).
Первичное состояние человека, его «младенческое» состояние заключает в
себе то, что позволяет развиваться человеку, в «тезаурусе младенца» (в этапе
«от 2 до 5») заключено начало «движения» и физического, и
«академического». Существо этого «человеческого» начала, этой
первоначальной данности, заключено в дальнейшем его развитии, но
развитие это, считает Петров, обладает «ментальным» характером.
Существует принципиальное различие «человеческого младенца» и
«новорожденных всех других животных видов». «Тезаурус» младенца таков,
что именно он «творит» «знаковый мир», «речь» (там лее, стр. 116), и он
обладает способностью «совершать через акты речи ментальное движение в
знаковом мире» (там лее, стр. 117). По его мнению, необходимым
сопровождением такого ментального движения является процесс
«социального знакового кодирования» (там лее, стр. 117).
[24] Стремление выделить философию К. Маркса и его последователей в
особый «тип» (в тексте вполне можно было бы написать: «в философских
учениях до К. Маркса») объясняется обстоятельствами, указанными в прим.
Ρ].
332
[25] M.К. Петров говорит о таком подходе к систематизации истории
философских учений и традиций, в котором философские идеи
представляют собой элементы некоторого обще-планетарного
прогрессирующего мыслительного движения, цель которого - достижение
объективной метафизической истины. И в таком случае каждое учение,
входящее в эту последовательность, выступает только в связи с учением
предыдущим, и чаще всего такая связь понимается как углубление или
расширение более раннего учения поздним. В качестве самых ярких
примеров такого подхода действительно выступают «Метафизика», «О
душе» Аристотеля и «Лекции по истории философии» Гегеля. Содержание
линейного движения философской мысли у Аристотеля представлено как
смена «мнений» о «начале», а у Гегеля такое движение есть изменение
«формы выражения понятия» в сторону такой формы, которая тождественна
самому же понятию. Очевидно, что так понимаемая история философии (как
поэтапное движение мысли, которое и составляет сущность самого занятия
философией) существует сама только как элемент философской системы, в
рамках которой и происходит обращение к мнениям предшественников.
Такая история философии занимает свое место в учении, в системе, и
подчинена она определенным задачам.
[26] Эдуард Рот (Roth Ε. Geschichte unserer abendlandischen Philosophie. -
Mannheim, 1846) и Август Гладиш (Gladisch A. Die Religion und die
Philosophie in ihrer weltgeschichtlichen Entwicklung. - Leipzig, 1852) -
немецкие авторы, ставшие зачинателями традиции анализа взаимовлияния
греков и восточных народов и закладывания данного факта в качестве
основания для последующего понимания развития греческой цивилизации.
[27] Отто Густав Филипп Виллман (1839-1920) - немецкий философ,
филолог и педагог. Как и Рёт с Гладишем, усматривал во влиянии на греков
восточных народов один из решающих факторов их развития (Виллман О.
Восточные народы и Греки: исторические рассказы по Геродоту /пер. с
нем. И. Виноградов. -Москва, 1887).
[28] Бенджамин Фаррингтон (1891-1974) - ирландский антиковед,
философ и переводчик древгенреческих текстов. Античность интересовала
333
его в первую очередь в качестве периода, в который возникает наука и все
присущие ей черты: эксперимент, метод и т.д. Так же занимался вопросами
связи социальной жизни и жестов с развитием мышления (Farrington В. The
Greeks and the Experimental Method// Discovery 17, 1957).
[29] Эдуард Дэвид Мортье Франкель (1888-1970) - немецко-британский
ученый, переводчик древнегреческих текстов, один из самых уважаемых
филологов XX столетия. (Fraenkel Ε. Thought-Pattern in Heraclitus// AJP 59,
1938).
[30] Фрэнсис Макдональд Корнфорд (1874-1943) - андийский
исследователь античности, филолог-классик, стоял у истоков «мифолого-
ритуалистической школы». Изучал первобытные модели мышления, чтобы,
базируясь на этом анализе, рассматривать деятельность древнегреческих
философов, историков и поэтов. Интерпретирует взгляды досократиков как
постепенное изменение греческого религиозного сознания {Новая
философская энциклопедия: в 4 т./ гл. ред. В. С. Степин. - М.: «Мысль»,
2000-2001).
[31] Джон Бернет (1863-1928) - шотландский антиковед, историк
философии, переводчик доксографии, а также трудов Платона и Аристотеля.
Лейтмотив концепции Бернета - научное мышление - это мышление по
способу греков. Греки изобрели науку. Что касается восточной науки, то она
представляет собой набор эмпирических правил, тесно связанных с
практикой. Лишь греки возвели познание в самоцель
(Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической
проблематики. - М. : «Гардарики», 2003).
[32] Теодор Гомперц (1832-1912) - немецкий философ, профессор
классической философии, комментатор целого ряда античных авторов.
Примыкал к позитивистам, выдвигал тезис о научной ценности
древнегреческих физических теорий (Новая философская энциклопедия: в 4
т./гл. ред. В. С. Степин. - М.: «Мысль», 2000-2001).
[33] Бернард Абрахам ван Гронинген (1894-1987) - голландско-
бельгийский филолог-классик, папиролог, историк литературы; его перу
334
принадлежит одно из крупнейших изданий Геродота (Sijpesteijn P.J.
Levensbericht В.А. van Groningen// Jaarboek KNAW, 1988.-е. 118-124).
[34] Эрнст Топич (1919-2003) - австрийский философ и социолог,
позитивист и историк науки. Видный эпистемолог, анализировавший
религиозные, политические и философские учения древности и
современности. Анализирует всю философию от момента её начала
исключительно с точки зрения научной картины мира, критикует
мифологические и религиозные концепции. (Aufklärung und Kritik. Zeitschrift
für freies Denken und humanistische Philosophie// Sonderheft 8, 2004).
[35] Джон Дервент Томсон (1903-1987) - английский антиковед и
философ-марксист, первым применил марксистскую интерпретацию к
древнегреческой трагедии, чем и вызвал бурный всемирный интерес.
[36] В ростовской философской традиции такая точка зрения
(рассмотрение философии «в связи с интересами классов») была достаточно
развита. В качестве примера: «В основе того определения философии,
которое формулирует Аристотель, лежит фундаментальная общественная
потребность в укреплении социального порядка и стабилизации структуры
общества» {Потемкин A.B. Проблема специфики философии β
диатрибической традиции. - Ростов-на-Дону: РГУ, 1980. - стр. ПО).
Петров же находит собственный подход, занимающий промежуточную
позицию между историцизмом и субъективизмом.
[37] Харламбос Теодериди (1883-1957) - греческий философ, историк и
филолог. Первый современный грек, систематически рассматривавший
Эпикура и эпикурейцев. Проложил дорогу к переоткрытию эпикурейской
философии в наше время. Также является одним из основателей
философского факультета университета имени Аристотеля в Салониках
(1925) {Γεώργιος Σ. Δημητράκος, «Χαράλαμπος Θ€θοωρί8ης, ο φιλόσοφος, ο
δάσκαλο?, ο αγωνιστής»// Nea Παώεία 32, 1984).
[38] Дмитрий Павлович Каллистов (1904-1973) - совесткий антиковед,
переводчик, историк и философ. Центром его исследований было Северное
Причерноморье в античную эпоху, хозяйственный и общественный уклад
народов на периферии античного мира. Его работы в данной области до сих
335
пор считаются классическими {Фролов Э. Д. Профессор Д. П. Каллистов.
Штрихи к портрету// МНЕМОН. Исследования и публикации по истории
античного мира: Под ред. проф. Э. Д. Фролова, Выпуск 13. — СПб.: СПбГУ,
2013).
[39] По последним археологическим данным первые свидетельства об
употреблении письменности на греческой территории происходят из Милета
и его окрестностей (Эфес находится в радиусе 30 км.), и датируются 2-ой
половиной XVIII в. до н.э. - сер. XV в. до н.э. Здесь во время раскопок,
начиная с 1994 и по 2005 годы, был обнаружен ряд надписей линейного
письма А, единственных на малоазийском побережье Эгейского моря.
Наличие линейного письма А говорит о прочных экономических связях
крупных поселений западного побережья Малой Азии с центрами Эгейского
бассейна. Данные открытия хоть и не подтверждают невероятно быстрого
развития письменности в Древней Греции, но и никак не опровергают тех
выводов, к которым приходит М.К. Петров (Беликов A.M. Об использовании
письменности в Милете// Индоевропейское языкознание и классическая
филология. - Часть 1. - СПб.: Наука, 2010).
[40] Долгое время самые ранние греческие тексты датировались VIII в. до
н.э. Несколько десятков лет понадобилось учёным, чтобы понять, что
таблички открытые Артуром Эвансом во время раскопок Кносского дворца
таят за собой древнегреческий язык (Майкл Вентрис произвёл данное
открытие через пятьдесят два года после находки), ведь их система письма
отличалась от алфавитной. Ещё неизвестное тогда письмо Эванс назвал
линейным Б и происходило от линейного А, еще не расшифрованного
критского письма, приспособленного первыми греками к нуждам своего
языка. В микенскую эпоху «дворцы» брали на учет все ресурсы на
подконтрольных территориях. Именно в таком контексте и зародилась
греческая письменность (Куле К. СМИ в древней Греции: сочинения, речи,
разыскания, путешествия.../ пер. с франц. СВ. Кулланды. - М.: Новое
литературное обозрение, 2004).
[41] Витторе Пизани (1899-1990) - итальянский филолог, лингвист,
языковед, основатель журнала «Paideia» и «Миланского лингвистического
336
общества». Представитель школы «неолингвистики», отличался
нетрадиционным подходом к вопросу о родстве индоевропейских языков,
выводя его не из существования единого так называемого «праязыка», а из
древних контактов {Лизани В. К индоевропейской проблеме// Вопросы
языкознания, 1966, № 4).
[42] Цитируется «Эдип - Тиран»: (Soph. ОТ, 370).
[43] Цитируется «Аякс»: (Soph. Aj, 784).
[44] Цитируется «Семеро против Фив»: (Aesch. Seven, 99).
[45] Здесь Аристотель различает единичное (то, что является причиной
ощущений) и общее (то, что является причиной мысли).
[46] Греческая традиция приписывает Кадму основание города Фивы,
выходец из Финикии, откуда, как считалось до второй половины XX века, и
берёт своё начало древнегреческая письменность. Но оттуда своё начало
берёт только буквенная, т.е. алфавитная форма. По поводу истинного
прародителя древнегреческого языка смотрите комментарий выше (Куле К.
СМИ в древней Греции: сочинения, речи, разыскания, путешествия.../Пер. с
франц. СВ. Кулланды. -М.: Новое литературное обозрение, 2004).
[47] Жан-Франсуа Шампольон (1790-1832) - основатель египтологии,
французский филолог и историк. Участник дешифровки первых памятников
египетской иероглифической письменности. Ему принадлежит открытие
родства между древнеегипетским и коптским языками (Кацнельсон КС
(отв. ред.) Ж.Ф. Шампольон и дешифровка египетских иероглифов - М.:
Наука, ГРВЛ, 1979).
[48] Шарль Ленорман (1802-1859) - французский археолог,
сопровождавший Ж.-Ф. Шампольона в Египте. Вёл исследования в области
происхождения греческой цивилизации, но большую часть жизни посвятил
египетской археологии (Mayence F. Lesesaal François Lenormant// The
Catholic Encyclopedia / ed. by Charles G. Herbermann. - Bd. 9. - New York,
1910).
[49] Эммануэль де Руже (1811-1872) - французский археолог, филолог и
египтолог, преемник Ш. Ленормана на кафедре археологии Коллеж де
Франс, позднее глава кафедры египтологии в Коллеж де Франс. Восстановил
337
египтологию после смерти Ж.-Ф. Шампольона. Много лет посветил сбору и
расшифровке египетских иероглифических надписей {Руже Эммануэль//
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. - СПб., 1890-1907).
[50] В момент появления поэм Гомера (VIII в. до н.э.) письменность уже
была «изобретена заново», хотя они и отражают устную цивилизацию. И
речь в них не просто убедительна, а способна заменять действие.
Преобразованием коммуникации произошло с зарождением полисов (всё в
том же VIII в. до н.э.) с одной стороны, и использованием алфавита с другой.
В маленьких политических организмах ведущую роль играло слово. Оно
становится инструментом власти, доступным уже не только узкому кругу
более широкому слою граждан. Граждане ощутили необходимость записать
законы на стенах и на стелах в общественных местах. В Афинах начало
этому положил Солон (Куле К. СМИ в древней Греции: сочинения, речи,
разыскания, путешествия.../ Пер. с франц. СВ. Кулланды. - М.: Новое
литературное обозрение, 2004). Это и объясняет развитость речевого
письма, тезауруса и смысловую наполненность языка в момент
возникновения философии. И если говорить об авторах, связывающих
общественное развитие с развитием философии, то, например, Г.В. Драч в
своих работах обосновывает антропологическое прочтение античной
философии, начиная с зарождения. Он связывает её историческое
рассмотрение непосредственно с культурными ценностями и установками
греческого полиса (Драч Г.В. Рождение античной философии и начало
антропологической проблематики. -М.: «Гардарики», 2003).
[51] В отечественной литературе существуют работы, подходящие к
вопросу проблематики внутри ранней греческой философии с другой точки
зрения. Так, Г.В. Драч в работе «Проблема человека в раннегреческой
философии» рассматривает возникновение и развитие античной философиии
от первых философских школ до Парменида, успешно вскрывая
антропологическую проблематику в учениях первых философов (Драч Г.В.
Рождение античной философии и начало антропологической
проблематики. -М.: «Гардарики», 2003).
338
[52] Эрвин Шрёдингер (1887-1961) - австрийский физик, философ, поэт и
биолог. Один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской
Премии по физике. Из под его пера вышел ряд работ, посвященных
греческой философии, в которых древнегреческая наука рассматривалась в
качестве фундамента современного научного знания (Хоффман Д. Эрвин
Шрёдингер. -М.: Мир, 1987).
[53] Александр Осипович Маковельский (1884-1969) - советский
философ, историк и филолог, специалист по античной философии и
философии Ближнего Востока. Наиболее выдающихся успехов достиг в
области комментированных переводов и издания «Фрагментов
досократиков» Германа Дильса, впервые сделав доксографию доступной на
русском языке, в связи с чем, на многие годы стал непререкаемым
авторитетом для всех отечественных историков античной философии {Новая
философская энциклопедия: в 4 т./ гл. ред. В. С. Степин. - М.: «Мысль»,
2000-2001).
[54] Отто Гилберт (1839-1911) - немецкий филолог, философ и историк.
Переводил первоисточники, а так же занимался вопросами древнегреческой
мифологии, метеорологии, религии и конкретно ионийцами и элеатами.
Последователь немецкой антиковедческой традиции, идущей от Э. Целлера
{Heidel W.A. Reviewed Work: Die meteorologischen Theorien des griechischen
Altertums by Otto Gilbert// Classical Philology, Vol. 4, No. 2, Apr., 1909).
[55] Одна из самых сложных категорий ранней греческой философии,
имеющая целый ряд контекстуальных смыслов: ή αρχή, дор. άρχά - начало,
основание, происхождение; край, конец, предел; начало, первопричина,
основа, принцип; господство; начальствование, командование; управление,
власть; государственная должность; империя, царство; представитель власти.
Ряд исследователей, в частности, Малкольм Скофилд, считают, что первое
употребление слова αρχή в греческой философии восходит к Анаксимандру.
Скофилд в одной из своих статей пишет о том, что Анаксимандр утверждал,
по-видимому, что бесконечное является основным началом вещей, из
которого они происходят. Скофилд здесь под началом понимает
непосредственно αρχή и считает важным подчеркнуть, что αρχή в случае
339
Анаксимандра, да и всех ионийцев должно пониматься, как первоначало, но
не как первопричина (Schoßeid Μ. ΑΡΧΗ// Hyperboreus Studia Classica, Fasc.
2, Vol 3, 1997). Отечественный антиковед A.B. Лебедев говорит о том, что
Аристотель впервые дает семантическое описание αρχή и рассматривает
всех своих предшественников с точки зрения предвосхищения ими одного
или нескольких причин бытия. «Большинство первых философов», согласно
Аристотелю, предвосхищали материальное «начало». Именно в этом смысле
следует понимать утверждения Аристотеля, Теофраста и позднейшей
доксографии, что ионийские философы «принимали за архэ» собственно
воду, воздух и огонь, и нет никаких оснований приписывать сам термин
«архэ» натурфилософам (Античная философия// Энциклопедический
словарь. - М.: Прогресс-Традиция, 2008). Скофилд же пишет, что это не
аристотелевская традиция интерпретации досократиков присвоила
Анаксимандру это понятие, ссылаясь на фрагменты Псевдо-Плутарха и
Симплиция в издании Дильса. Это яркий пример того, как в антиковедении
рождаются противоречия. Два современных исследователя, работающих над
оригинальными текстами, стоят на разных позиция по причине того, что
считают более значимыми и достоверными разные свидетельства.
[56] Рихард Кронер (1884-1974) - немецкий философ, представитель
неогегельянства. Основатель международного журнала «Логос». В течение
жизни темы его исследований претерпевали ^изменения, однако он всегда
оставался в русле истории философии, в частности, древнегреческой
философии посвящена работа «Спекуляции в до-христианской философии»
(Новая философская энциклопедия: в 4 т./ гл. ред. В. С. Степин. - М.:
«Мысль», 2000-2001).
[57] Вернер Йегер (1888-1961) - немецкий антиковед, филолог и историк
философии, большую часть жизни проработавший в США. Является
автором концепции «paideia», концепции воспитания или формирования
человека в античном мире как цели культуры. На фоне широкой картины
духовного развития античного общества он рассматривает открытие идеи
космоса и связывает его с обращением ионийских философов к
эмпирическому знанию о природе, а так же с победой теоретического и
340
каузального мышления {Драч Г.В. Рождение античной философии и начало
антропологической проблематики. - М.: «Гардарики», 2003).
[58] Павел Петрович Блонский (1884-1941) - советский философ,
филолог, психолог и педагог. В рамках исследований по античной
философии знаменит нетрадиционной оценкой Гераклита, Парменида и
неоплатоников. Он обосновывал идею о том, что мифология есть основа
всей идеалистической философии, начиная с античности (Задорожнюк И. Е.
Блонский Павел Петрович// Русская философия. Энциклопедия. Под общей
редакцией М.А. Маслина. - М.: «Книжный клуб Книговек», 2014).
[59] Вильгельм Капелле (1871-1961) - немецкий филолог-классик,
занимался исследованиями в области греческой философии и науки. Были
изданы его переводы: досократиков, Гиппократа, Эпиктета и другие.
[60] Густав Тейхмюллер (1832-1888) - немецкий историк философии и
философ-персоналист. В антиковедческих штудиях идёт по пути полемики с
классической позицией Э. Целлера. В области ранней греческой философии
им подробно разобраны учения Анаксимадра и Гераклита. Рассматривал всю
историю философию, как историю понятий {Бобров Е. А. Воспоминание о Г.
Тейхмюллере// Философия в России. Материалы, исследования, заметки.
Выпуск 1. -Казань, 1899).
[61] Александр Иванович Введенский (1856-1925) - русский филолог,
психолог и историк философии. Представитель неокантианства, выступал
против материализма и марксизма. К античной философии подходил с
позиции психолога {Малинов А. В. А. И. Введенский в историко-
философской литературе// Вече. Альманах русской философии и культуры.
-Выпуск 16. -СПбГУ, 2004).
[62] Вильгельм Нестле (1865-1959) - немецкий философ и классический
филолог. Первым выдвинул в качестве теории формулу «От Мифа к Логосу»
Он не противопоставляет миф и логос, а объединяет как в равной мере
суверенные элементы человеческого мышления. Миф, как и логос,
зародившийся в нем, - два полюса развития человеческого мышления. На
ступени предфилософии логос служит мифу, рождение философии -
размежеванием их как самостоятельных течений, а затем постановка мифа
341
на службу логосу. Ионийская философия представляет собой уже
рациональное понимание мира, природы и человеческой жизни {Драч Г.В.
Рождение античной философии и начало антропологической
проблематики. -М.: «Гардарики», 2003).
[63] Вернер Карл Гейзенберг (1901-1976) - немецкий физик, один из
создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии 1932 года.
Гейзенберг считал историю развития понятий необходимой к рассмотрению
частью истории науки. Так как содержание таких понятий как, например,
место и время строго определено, поэтому теоретические утверждения, в
которые входят эти понятия, оказываются верными на все времена вне
зависимости от указанных особенностей {Новая философская энциклопедия:
в 4 т./ гл. ред. В. С. Степин. -М.: «Мысль», 2000-2001).
[64] Петров, следуя изданию досократиков Дильса-Кранца, здесь и далее
называет Плутарха автором «Стромат», «Утешения к Аполлонию». Позднее
автором этих работ стало принято считать Псевдо-Плутарха.
[65] «смесь» - с др. греч.
[66] «материя», «вещество» - с др. греч.
[67] «природы неопределенной» - с др. греч.
[68] Указание Аэция в качестве автора приведенных свидетельств вместо
ссылки на «Мнения философов» еще раз указывает на то, что Петров взял в
основу своей работы издание Дильса-Кранца. *
[69] Сложности восстановления пифагорейского учения в качестве
единой стройной системы связаны с количеством последователей и весьма
длительным сроком существования пифагорейского союза. Адекватно
возможно лишь изучение представителей пифагорейской традиции всех по
отдельности, поскольку, учения разнятся кардинальным образом. Л.Я.
Жмудь учит различать самого Пифагора, пифагорейцев, пифагорейскую
школу и пифагореизм. Подобная несогласованность существует в связи с
тем, что с легкой руки Аристотеля эти понятия объединяются в одно, что и
задает матрицу исследования на долгие века вплоть до нашего времени
{Жмудь Л.Я. Наука и религия в раннем пифагореизме. - СПб.: Алетейя,
1994).
342
[70] Джон Эрл Равен (1914-1980) - английский антиковед, исследователь
античной философии, известный своими работами по досократикам, которые
были написаны и опубликованы совместно с Джеффри Кирком, также
британским антиковедом. В частности, книга «Досократические философы»
несколько раз обновлялась и переиздавалась; после смерти Равена над
обновлением и последним переизданием совместно с Кирком работал
Мал кол ьм Скофилд (Lipscomb J., David R.D. John Raven by his Friends. -
Published privately by Faith Raven, 1981).
[71] Такая проблема существует в связи с обильным количеством
отрывочных свидетельств и противоречащих одна другой интерпретаций.
Аристотель, столкнувшись с этими трудностями, предпочел писать в общем
о «пифагорейцах» или о «так называемых пифагорейцах», и излагать их
учения, не упоминая даже имени Пифагора. От Аристотеля дошло
наибольшее количество сведений о пифагорейской философии.
Интерпретации этих сведений посвящено множество работ, но основные
вопросы все ещё не получили разрешения. Неясно, например, на какие
источники в основном опирался Аристотель и кого он имел в виду, говоря
«пифагорейцы» или «так называемые пифагорейцы». Большинство
исследователей, либо предпочитает видеть в них пифагорейцев «в общем»,
игнорируя множество явных разногласий, либо пытается выделить те или
иные слои. Но, не решив эти вопросы, невозможно продвинуться в оценке
того, насколько адекватной была аристотелевская интерпретация
пифагорейской философии {Жмудь Л.Я. Наука и религия в раннем
пифагореизме. -СПб.: Алетейя, 1994).
[72] Своим появлением «пифагорейский» тезис «всё есть число» обязан
Аристотелю. Но так как, как было указано ранее, Аристотель так и не
определяется с тем, кого он имел в виду, говоря «пифагорейцы» или «так
называемые пифагорейцы», получается, он отдельно трактует взгляды
конкретных пифагорейцев, при этом трактуя непонятно кому
принадлежащую числовую теорию как единый взгляд всех пифагорейцев. В
сохранившихся сочинениях Аристотеля имя Пифагора встречается лишь
дважды, о числе ничего не говорится, и ни один человек не называется
343
пифагорейцем. Изложение взглядов предшественников интересовало
Аристотеля лишь в качестве основы для их критического анализа в ходе
разработки собственной концепции. Это требовало классификации
предшествующих учений согласно принципам самого Аристотеля. В ходе
выполнения этой задачи он неоднократно прибегал к натянутым и неверным
интерпретациям. Анализируя учения пифагорейцев, он оказался перед
выбором: излагать концепцию каждого в отдельности, тогда стало бы ясным,
что все они различны, либо представить их как единое целое, но тогда для
них нужен был некий общий знаменатель. Отыскать другой общий для всех
пифагорейцев признак, кроме положения о том, что «всё есть число»
Аристотель, вряд ли сумел бы, ведь сделать это чрезвычайно трудно. Учения
ранних пифагорейцев упорно не вписывались в систему связи их с числовой
доктриной. И сам Аристотель лишний раз подтверждает, что в основе
философии природы известных ему пифагорейцев лежали телесные начала и
связанные с ними качества, - в этом они ничем не отличались от
предшествующих досократиков. Если Пифагор и утверждал, что «всё есть
число», то его последователи, в таком случае, не восприняли
основополагающую доктрину учения, что практически невозможно (Жмудь
Л.Я. Наука и религия в раннем пифагореизме. -СПб.: Алетейя, 1994).
[73] Прояснению этого момента посвящена статья Г.В. Драча «Логос,
космос, этос в философии Гераклита: перечитывая М. К. Петрова», где
продолжаются размышления о логосе у Гераклита, начатые именно
Петровым. Для Драча, как и для Петрова, логос Гераклита завершает
картину столкновения противоположностей и перехода их друг в друга.
Перенося акцент с "возникновения" на "существование" мира, Гераклит
создает социоантропоцентрическую картину мира с устойчивым, но
противоречивым законом-логосом, в качестве регулятора {Драч Г.В. Логос,
космос, этос в философии Гераклита: перечитывая М. К. Петрова//
Научная мысль Кавказа, № 4, 2013).
[74] Дынник Михаил Александрович (1896-1971) - советский философ,
профессор целого ряда московских университетов. Его перу принадлежат
переводы фрагментов Гераклита и Парменида. Являлся научным
344
руководителем M.К. Петрова во время выполнения данного исследования.
Придерживался позиции, что существовала одна нерасчленённая
древнегреческая наука, в которую входили философские,
естественнонаучные и политические взгляды греков, а древнегреческая
философия оформлялась в борьбе против мифологии, своими истоками
уходившей в первобытно-общинный строй. Гераклит для него был
философом и естествоиспытателем, учившим о единой материальной основе
всех явлений природы. Дынник использует цитату из фрагментов Гераклита,
где огонь и всё сущее сравниваются с золотом и товарами, чтобы показать,
что изменения огня лежат в основе всеобщего круговорота природных
явлений {Дынник М.А., Каменский З.А. История античной диалектики. -М.:
Мысль, 1972).
[75] Противоположную М.К. Петрову точку зрения мы можем найти в
свежей монографии A.B. Лебедева «Логос Гераклита. Реконструкция мысли
и слова», увидевшей свет около года назад {Лебедев A.B. Логос Гераклита.
Реконструкция мысли и слова (с новым критическим изданием
фрагментов). -М.: Наука, 2014).
[76] (Мнения философов, I, 7, 22): «бега в противоположные стороны».
[77] Макс Хамбургер (1897-1970) - немецкий правовед, адвокат и
философ права. Античными философами интересовался с точки зрения
рождения и развития правовой мысли. «Логос» Гераклита он рассматривает
с точки зрения мирового закона, который приходит на смену
мифологической «Дике» или судьбе и является разумным началом, не
противостоящим природе, а распространяющимся на неё.
[78] Уильям Чарльз Кирк - американский исследователь из
Принстонского университета, чья трактовка учения Гераклита, которую он
даёт в своей диссертации (1937 год), стала на многие годы одним из
классических взглядов в англо-американской антиковедческой традиции.
[79] Петров считает Аристотеля автором трактата «О мире». Позднее,
автором этого трактата стало принято считать Псевдо-Аристотеля.
[80] Альфред Уильям Бенн (1843-1915) - британский историк философии,
его перу принадлежит ряд основополагающих трудов по истории философии
345
от античных времён и вплоть до философии конца XIX - начала XX века.
Однако его наиболее переиздаваемой книгой, которую он ещё при жизни
множество раз редактировал и дополнял, стала «История античной
философии». Античную философию он рассматривал с точки зрения
развития идеи морали и этических ценностей.
[81] За более подробным разъяснением данного вопроса можно
обратиться к статье Михаила Константиновича Петрова «Учение Гераклита
о слове» (Петров М. К. Учение Гераклита о слове// Научная мысль Кавказа,
№3, 2013).
[82] Одно из центральных понятий ранней греческой философии - φύσις:
природные свойства, природа, характер, наружность, сила характера;
душевные качества; природные свойства крови; природа, естество; вся
природа, вселенная; вещество, материал; наружный вид, внешность; род,
природа; создание, творение, существо, тварь; происхождение, рождение.
Обычно понятие φύσις переводится на русский язык как «природа» - в его
наиболее общем значении. И как пишет A.B. Ахутин: «Анахронизм,
допускаемый переводом слова «фюсис» словом «природа», весьма разителен
и вместе с тем на удивление редко замечается. Прекрасно зная древние
тексты, часто даже анализируя оттенки значения «фюсис» и проводя
специальные этимологические изыскания, авторитетные филологи и
историки греческой культуры по какой-то магически неодолимой инерции
понимания истолковывают «фюсис», исходя из круга значений,
свойственных новоевропейской «природе» (Ахутин А. В. Понятие
«природа» в античности и в Новое время («фюсис» и «натура») - М.:
Наука, 1988, с. 111). Так упомянутый ранее Бернет подчеркивает связь корня
«фю» с латинским fu и английским be - «быть». Природа, понятая как бытие,
оказывается первичной и неизменной субстанцией - почти первоматерией.
Считается, что основание для такого понимания учение досократиков о
первоэлементах, но у них фюсис не означает мир, а всегда является чем-то
внутренним, присущим вещи и управляющим ею. Анализ понятия φύσις,
производимый СВ. Месяц, наиболее подробно разъясняет этот момент:
«Греческое существительное φύσις происходит от глагола φύω
346
(«выращивать», «рождать», «производить на свет»). Корень фи- восходит к
индоевропейскому bheu- (со значениями «пробиваться», «прорастать»,
«распускаться»), послужившему в европейских языках основой для глагола
«быть». Поэтому греческие существительные с этим корнем тоже несут в
себе значение бытия, но не как результативного пребывания, а как
происхождения на свет. Отсюда тесное соседство и почти синонимичность
φύσις с «сущим» и «сущностью» в философском языке. Впервые в
философском контексте слово «природа» употребляет именно Гераклит, но в
смысле, внутренней, истинной природы вещей» (Античная философия:
Энциклопедический словарь. -М.: Прогресс-Традиция, 2008).
[83] Фрагмент «Большой этимологии», под словом βίος (48DK).
[84] «Не твори они шествие в честь Диониса и не пой песнь во славу
срамного уда, бессрамнейшими были бы их дела. Но тождествен Аид
(«Срамный») с Дионисом, одержимые коим они беснуются и предаются
вакхованию» - пер. A.B. Лебедева.
[85] См. об этом также у Петрова: «Имя - такое же онтологическое
свойство вещи, как тяжесть или цвет» (Петров М.К. Историко-философские
исследования.-М.: РОССПЭН, 1996.-стр. 156).
[86] Фрагмент 22 (43в) Eudem. Ethic. H 1 у Дильса-Кранца.
[87] Олоф Альфред Гигон (1912-1998) - швейцарский классический
филолог, историк философии, переводчик древних античных текстов. Его
диссертационное исследование было посвящено Гераклиту. Все
континентальные исследователи, так или иначе касающиеся доктрины
Гераклита, всегда учитывают интерпретацию, предложенную Гигоном.
[88] В подтверждение и обоснование точки зрения М.К. Петрова можно
привести выдержки из статьи М.В. Вольф: «Гносеологическая позиция
Гераклита как средство реконструкции его доктрины начала» Во фрагменте
«Все вещи равно обмениваются на огонь и огонь на все вещи, словно как
товары - на золото, и золото - на товары». С одной стороны можно
трактовать это как "все вещи индивидуально", а не "вся полнота вещей" или
"космос", с другой, золото является абсолютным эквивалентом для любого
имущества, и точно также как любое частное имущество может быть
347
измерено в золотом эквиваленте, также и огонь соответствует каждой вещи в
мире. Но есть свидетельства, которые подразумевают, что сам огонь
является чем-то составным, т. е. это тот самый вариант начала, когда
множественность сохраняется, но в составе единого. Мы находим у
Аристотеля: «...затем по мере его [огня] сплочения, говорят они, из него
возникают остальные [элементы], «подобно тому как плавят золотой песок».
В данном случае интересны сопутствующие мнения доксографов, Фемистий
сообщает, что некоторые считают «его состоящим из самых тонких частиц
по сравнению с остальными телами, как если бы [остальные тела] возникали
[из огня] посредством inflatio, сочетались и выходили [?], подобно тому, как
крупицы золота, отделяясь [от песка и пустой породы], соединяются
воедино»; или свидетельство из Мнения философов: «По мнению
некоторых, Гераклит допускает «крупицы, первичные относительно одного
[элемента, т. е. огня]». И т. д. Данный фрагмент из Аристотеля и
сопутствующие свидетельства не включены ни в одно из западных
академических собраний фрагментов Гераклита, но они показывают, что
представление Гераклита о начале не было однозначным, если допускало
множественность и делимость самого материального начала на «элементы
элементов». Огонь не может он восприниматься чувствами именно тогда,
когда речь об огне идет как о начале, рассматриваемом с позиций трех
базовых гносеологических категорий. Более того, если мы традиционно и
вслед за Гегелем будем полагать, что огонь - это реальный процесс, то как
процесс он должен быть каким-то образом дан органам чувств, хотя бы в
виде возникновения и уничтожения. Но это сразу влечет за собой ряд
проблем, которые также были очевидны и Гегелю. Даже если мы признаем,
на основании того, что мир есть реальный процесс (= огонь) и тем самым,
что он явный, за этим явным все же должна находиться и некая скрытая,
управляющая процессом структура, причем управляющая посредством
логоса. Таким образом, мы можем выявить нацеленность Гераклита именно
на рациональные способы построения собственной доктрины (Вольф M. Н.
Гносеологическая позиция Гераклита как средство реконструкции его
доктрины начала// Вестник НГУ. Серия: Философия, Т. 4, № 1, 2006).
348
[89] Подробный разбор проблемы расхожих мнений и комментарии по
этому поводу можно найти в работе Яна Мансфельда «Источники ранней
греческой философии». Он разъясняет это так: «Интересной чертой
«жизнеописаний» является то, что об одном и том же человеке могут
сообщаться совершенно разные биографические сведения, касающиеся его
школьной принадлежности, обучения и личной жизни. Это явление
обусловлено не одним лишь антикварным интересом, но, вероятно, также и
желанием не пропустить важную информацию. К тому же альтернативные
варианты часто оказываются интересными: например, Парменид выступает
иногда как последователь Ксенофана или даже как один из пифагорейцев.
Выбор зависит от того, какая из интерпретаций философии того или иного
автора предпочтительна, что определяет его место в преемствах. Двигаться в
изучении таких источников нужно осторожно и не пытаться (по крайней
мере, не всегда) разрубать узлы. Цитирование альтернативных мнений или
вариантов в рамках одной работы не является откровенным абсурдом. Так
поступая, древний автор мог быть уверен по крайней мере в том, что ему
удалось сохранить все полезное. Эта консервативная страсть к
альтернативным мнениям приводит к тому, что Диоген Лаэртий подробно
цитирует источники, относящиеся к различным традициям, в том числе и
достаточно экзотические» (Мансфельд Я. Источники ранней греческой
философии/ Перевод Е. В. Афонасина и А. С. Кузнецовой по изданию:
Mansfeld J. 'Sources '. The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy,
edited by A. A. Long. -Cambridge, 1999, c. 22-44).
[90] Кристиан Август Брандис ( 1790-1867) - немецкий филолог и историк
философии, первой видной работой его стало перевод собрания фрагментов
Ксенофана, Парменида и Мелисса. Оказывал помощь И. Беккеру при
подготовке и издании трактатов Аристотеля, а также сам посветил ему
несколько крупных работ.
[91] «К другому роду» - с др. греч.
[92] Такая на первый взгляд традиционная для советского времени
трактовка М.К. Петрова на самом деле гораздо глубже. Для него ранняя
греческая философия была именно «периодом расчищения арены для
349
борьбы материализма с идеализмом», периодом, когда ещё не могло
произойти качественного разделения на материалистов и идеалистов. Как
пишет А.П. Огурцов, наиболее распространенной была ортодоксальная
интерпретация истории античной мысли как борьбы материализма и
идеализма, и мы видим это в концепциях М.С. Дынника и В.Ф. Асмуса.
Михаил Константинович Петров, в противовес традиционным взглядам,
представил принципиально иной подход: для Петрова, выступившего с
критикой этой концепции, античная мысль связана с формированием
универсального кода культуры - философии свободного, самосознающего
человека (Огурцов А.П Античная историография// Журнал «VOX», №3,
2007).
[93] Подобную характеристику лингвистической модели софистов мы
находим и у В.Н. Дубровина: «Отделение имен от вещей, признание
произвольности имен приводило к релятивизму, являющемуся одной из
характерных особенностей софистики. Но это же отделение имен от вещей
привело и к ясному осознанию самобытности знания, находящегося в
определенных отношениях как к вещам, так и к словам» {Дубровин В.Н.
Даймоний Сократа как форма проявления сапиенталъного чувства//
Рациональное и внерационалъное: грани проблемы. - Ростов-на-Дону: РГУ,
2002.-стр.14)
[94] Уникальность взгляда М.К. Петрова на школу софистов состоит в
том, что она рассматривается им в связи с учением Анаксагора, что в ней
подчеркивается «менее деятельностная» составляющая субъекта, в отличие
от Анаксагорова представления о субъекте. Петровым, безусловно,
фиксируется свойственное софистам «смещение оси философского поиска с
космоса на человека» (Реале Д., Антисери Д. Западная философия от
истоков до наших дней. -К. 1. - СПб.: Петрополис, 1994), но связывается
им это «смещение», в первую очередь, с вопросами языка и социально-
практической сферы. Более традиционным, в оценках школы софистов,
является ее практически полное противопоставление натурфилософским
школам. В соответствии с этим взглядом, высказывания древних философов
о человеке (например, Фалеса о «душе», или Гераклита о том, как следует
350
вести себя) нельзя посчитать именно анализом самого феномена человека
или философской проблемы самосознающего «я». Имеющие место
обращения натурфилософов к теме человеческого существа принадлежат
тому же смысловому полю, что и проблемы природы и первоначала. В
древней философии нет проблемы «я» в ее собственном философском
смысле, человека «открывают» Сократ и софисты.
[95] Для софистов сама мысль стала предметом размышления, для них
является достойным внимания не тот или иной предмет мысли, а само
наличие мыслей. Софисты обучали тому, что человек может говорить о
каждой вещи и аргумент, и контраргумент; тем самым, именно
высказывающий то или иное суждение человек ставится в центр всего
бытия. Фактически, софисты обосновывают зависимость всего бытия от
мнения человека, они игнорируют первичность и важность бытия по истине,
и закрывают, как считает Сократ, дорогу человеку к этой истине. Далее,
Платон ее еще более онтологизировал критику софистов.
[96] Софисты выступали как учителя для молодых людей, ищущих такое
образование, которое помогло бы занять в обществе хорошее место.
Поэтому красноречивость и убедительность речи выступали главной
ценностью в их обучении. «Софистическая система состояла из формальных
и логических упражнений, некоей гимнастики ума, которая ставила целью
овладение мастерством спора и речи» (Адо И. Свободные искусства и
философия в античной мысли. - М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А.
Шичалина, 2002. - стр. 8). Подобный навык мог способствовать созданию
видимости знания сущности дела у обучающегося.
[97] Это действительно сложный момент диалога «Протагор».
Добродетель врождена, она свойственна каждому, считает Протагор; и это,
казалось бы, противоречит его софистическому убеждению в том, что
добродетели надо учить. Любопытно то, что Сократ здесь занял позицию
различия добродетелей, что предполагает уже измерение добродетели в
смысле знания и обучения. Получается, будто в вопросе о добродетели
Сократ и Протагор меняются друг с другом привычными убеждениями. Но,
по сути, тут речь идет о том, что Протагор, провозглашая общность
351
добродетели, просто не хочет обучать ей как знанию, а Сократ,
противопоставляя^ Протагору, говорит о тяжести такого воспитания
человека, которое способствует постижению высшей добродетели.
[98] Близкую к М.К. Петрову оценку сущности учения Сократа
(подчеркивание реализации учением определенной лингвистической
модели) мы встречаем у В.Н. Дубровина: «В форме традиционного вопроса о
подлинном предмете названного он [Сократ - прим. коммент.] фактически
ставит вопрос о смысле названного, т.е. уже распознанного сознанием,
предмета» {Дубровин В.Н. Даймоний Сократа как форма проявления
сапиентального чувства// Рациональное и внерационалъное: грани
проблемы. - Ростов-на-Дону: РГУ, 2002. - стр.18).
[99] Начало этой традиции положили свидетельства о Сократе
Ксенофонта.
[ 100] Подробный обзор основных точек зрения на феномен сократовского
самопознания и его «даймониона» представлен в работе Кессиди Ф. Сократ.
-Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
[101] М.К. Петров в своей работе «Пираты Эгейского моря и личность»
обращается к выяснению того, какую теоретическую форму, влияющую на
действительные социальные процессы, имели вопросы гражданского
чувства, политической состоятельности, и, следовательно, проблема
добродетели в античной культуре и философии.^Здесь же Петровым ставятся
вопросы о том, как переживается или действует в реальности это
гражданское чувство, и что есть добродетель для античного человека.
Петров говорит о том, что в тех временных рамках античности, когда жили
Сократ и Платон (то есть когда Греция становится исключительной
«цивилизацией», отличной от всех «олимпийских цивилизаций»),
господствовало следующее убеждение: добродетели, политическому чувству
научиться нельзя; их наличие есть данность, независящая от знаний
человека. Это убеждение, по Петрову, возникло в рамках уже новой
античности, и является свидетельством появления новой античности,
выделяющейся своими внутренними правилами развития из всего
оставшегося мира. Петров полагает, что если невозможность научиться
352
добродетели, гражданственности считается нормой, то это означает тем
самым, что провозглашается всеобщее политическое равенство: «довольно
сложный бюрократический аппарат Афин VII-VI вв. до н.э. был поставлен в
позицию безразличия к исполнителю государственных должностей: любой и
в любое время мог стать исполнителем любой должности в иерархии
должностей» (Петров М.К. Пираты эгейского моря и личность// Петров
М.К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. - М.:
РОССПЭН, 1995, стр. 190). «Олимп», по Петрову, «не располагает идеей
всеобщего» (там же, стр. 194), следовательно, учение Платона,
оперирующее представлением «о гражданской доблести как «едином» (там
же), есть выражение неолимпийской античности. Новая «полисная
структура» разрушает старую систему передачи имен, разрушает связь
«имя» - «ремесло», представляет новое «теоретическое отношение к миру»
(там же, стр. 195). Тождество человека и выполняемого им дела,
достигаемое уже не личными усилиями человека и традицией, а
складывающейся государственной системой, несет в целом общий,
охватывающий всех людей характер; уникальность каждого человека и его
занятия, значение тождества того и другого и различие этих тождеств
исчезают. Таким образом, Петров видит развитие вопроса о «добродетели» у
Платона в том, что «человек становится многоименным в нашем смысле:
единством и местом пересечения нескольких профессий» (там же, стр.
197).
[102] Позиция Платона расходится с тем, что принято считать «греческим
чудом» и главной заслугой античности - ценностью демократии. Самое
сосредоточение и расцвет демократии в Афинах связаны, в первую очередь,
с деятельностью Перикла, который хотел объединить всю Грецию вокруг
Афин; также с деятельностью прославляющего Перикла Геродота, который
называл деда Перикла Клисфена тем человеком, который является
родоначальником демократии; и с деятельностью Анаксагора, у которого
учился молодой Платон. Как свидетельствует Аристотель в «Афинской
политии», Перикл отнимал власть у ареопагитов и передавал политические
права простому народу. После смерти Перикла во главе народа стал Клеон,
353
кричащий и ругающийся на трибуне; далее ситуация стала еще хуже,
лидерами были люди, «которые более всего хотели показать свою
кичливость и угождать вкусам толпы, имея в виду только выгоды данного
момента» (I, X, 28, 4). Для Платона, который застал демократию в Афинах, и
который «желает благополучия» тирану Дионисию, лучше «перевоспитать»
тирана, чем восторгаться Периклом. Это объясняется очень просто: члены
совета, высшего органа власти в демократических Афинах (выбирающиеся
по жребию), осудили на смерть Сократа, также они до этого обвинили
Анаксагора (кстати, друга Перикла) и изгнали его; и, возможно, эта участь
постигла и Протагора. Деметрий из Фалерона, ученик Теофраста, говорил,
что афинянам никогда не удавалось ладить с философами; возможно, и сам
Платон думал о том, как бы ему предстать перед властями в более
«демократическом» свете, «прикинуться» демократичным; ведь событие 490
года, когда сожгли молельный дом пифагорейцев, никто не забывал.
[103] Любая обсуждаемая Платоном проблема будет обязательно
соотнесена с проблемой макрокосмоса, «безусловного начала», таков
характер вообще всей философии Платона: «Мораль, политика и искусство
обязательно являются нераздельным целым. Все это... увенчивается теорией
загробного суда» {Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая
классика. - М.: «Искусство», 1974. - стр. 183). Существуют и мистико-
эзотерические оценки «веры» Платона: «Платон проливает целые потоки
света, ставя на один уровень идеи Истины, Красоты и Добра. Освещая одну
идею посредством другой, он доказывал, что они - три луча, исходящие из
одного и того же светового центра, которые, сливаясь, и составляют этот
световой центр, то есть Бога» (Шюре Э. Великие посвященные// Великие
посвященные. ~Харьков: «Фолио»; М.: «Аст», 2000. -стр. 342-343).
[104] В «Учебнике Платоновской философии» Алкиноя совершенно ясно
сказано о двух смыслах слова «идея»: «умопостигаемое бывает первичным
(идеи) и вторичным (эйдосы в материи, неотделимые от материи)» (Epitome,
IV,7). Это является началом традиции признания факта сосуществования
различных смыслов, стоящих за этим словом, данных самим Платоном.
354
[105] Платон рассказывает историю разговора египетского царя Тамуса с
божеством Тевтом и в диалоге «Федр» (274с-275Ь), где они обсуждают
значение записанного знания: «Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к
ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им
они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память:
припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не
изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для
припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость» (пер.
А. П. Егунова). Этот сюжет, показывающий преимущество живой речи над
записанной, привлекает многих исследователей и философов. Деррида,
например, объединяет записанную речь («письмо») с мифом, и находит здесь
проблематику конфронтации письма и «логоса» в тексте самого Платона
{Деррида Ж. Фармация Платона// Деррида Ж. Диссеминация. -
Екатеринбург: У-Фактория, 2007).
[106] Такое видение сущего, может носить методолого-познавательное
значение, и в этом случае именуется методом «деления»: «тот, кто
производит деление, стремится при этом не упустить ничего из сущего»
(Аль-Фараби. Об общности взглядов двух философов - божественного
Платона и Аристотеля// Аль-Фараби. Философские трактаты. - Алма-
Ата: «Наука», 1970. - стр. 43).
[107] У Платона указанный Петровым «энтузиазм» является, все-таки,
чем-то большим, чем просто «движущая сила познания». Платон требует от
человека усилия, направленного на восприятие гармоничности, благости
«бытия», ведущего к познанию самого его начала. Ф. Корнфорд считает эрос
той силой, которая определяет склад человеческой души, а значит и жизни, о
чем идет речь идет в диалоге «Государство». Без «страсти», по Корнфорду,
не существуют не только интеллектуальные, философские, умозрительные
действия души, но и вообще любые душевные состояния, любые
компоненты состава души (Cornford FM. The doctrine of Eros in Plato's
Symposium// Cornford FM. The unwritten philosophy and other essays. -
Cambridge, 1950). П. Адо тоже обращается к диалогу «Пир». Конец речи
Диотимы так же обладает для него колоссальным значением для понимания
355
философии Платона и для понимания того, что вообще есть философия.
Платон представляет иррациональный смысл любви, и это составляет
важную часть философского опыта, и Платон учит тому, что «философский
путь соответственно движется желанием и подразумевает недискурсивный
элемент» (Адо П. Философия как способ жить: Беседы с Жанние Карлие и
Арнольдом И. Дэвидсоном. - М., СПб.: «Степной ветер», «Коло», 2005. -
стр. 198).
[108] В тексте у Вогелина: «Plato evokes, as one should expect him to do, the
idea of good order through a Paideia that inculcates the same spirit in the
citizenry; but then he projects, in addition, a concrete somatic substance as the
basis for the spiritual community». Приведенную Петровым цитату можно
перевести совсем другим образом: «идея порядка, достигнутого пайдеей,
прививает тот же дух гражданам».
[109] В книге Hankinson R.J. Cause and Explanation in Ancient Greek
Thought. -Oxford, 2001 речь также идет о разработке темы причинности
Платоном, но только с подчеркиванием главной роли телеологии в этом
вопросе. Платон -первый глубокий разработчик проблемы причинности,
отрицающий заслуги в этой области философов-досократиков, а диалог
«Тимей» также является ключевым текстом, иллюстрирующим эту
разработку.
[110] Для Клагхорна, именно «Тимей» выступает отправным текстом для
производимого сравнения учений Платона и Аристотеля, текстом
естественно-научного характера, к которому обращаются Аристотель,
платоники, и дальнейшая традиция.
[111] Критикуя учение Платона, Аристотель, со своей позиции, выделяет
из него самое главное. Аристотель говорит о том, что Платону известна
необходимость мысли о «сущности», но содержание в это слово он
вкладывает неверное. Используя слово «причастность» по отношению к
связи отдельных вещей и идей, Платон ничего не объясняет об устройстве
бытия, о его составе, поскольку его «идеи» слишком абстрактны, а сама
«причастность» не ясна. Так же логически необходимо следует из
положений Платона, что эйдосы должны существовать «и для отрицаний», о
356
чём Платон не говорил; а также Аристотель замечает и то, что если можно
что-то мыслить при его «исчезновении», то тогда для каждой исчезающей
вещи должен быть «свой особый эйдос». Аристотель показывает
внутреннюю противоречивость системы Платона, чтобы огласить её
невозможность охватить полностью и неискажённо природу «начала». И
одним из существенных доводов в пользу этого является то, по мнению
Аристотеля, что в философии Платона главным являются «идеи»,
содержание которых неясно. Платон теряет саму суть дела, уделяя большое
внимание названиям, описаниям идей, чем их действительному содержанию.
Получается, что ценность философии Платона ограничивается строгими
характеристиками бытия, нацеленными на освещение его сущности; но о
самой сущности Платон ясно не говорит. Если говорить о платоновской идее
как о прообразе вещи, то в идее мало что есть от образа вещи к ней
принадлежащей. С точки зрения Аристотеля «идеи» более похожи на
искусственные конструкции, чем на такие понятия, которые открывают
сущность, выражают природу сущности.
[112] Сущностью у Аристотеля является «суть бытия» вещи. Это есть то,
что составляет «причину бытия» вещи, ее определение, и то, что остается в
вещи при «отвлечении её от материи», - то есть ее «форма». То есть,
сущность вещи выражается через ее «форму», которую мы мысленно
отделяем от «материи». Если говорить в общих чертах, то «материей»
является то, из чего состоят тела; «материя» это материал физического мира,
взятая сама по себе она есть стихия, потенция. «Форма» же придает ей
качества; «форма» - это деятельное начало, «формы» сами по себе являются
результатом деятельности неподвижного «перводвигателя», являющегося
началом для дальнейшего ряда развития и движения всего сущего.
[113] Категория «сущность» выражает то, что существует само по себе, а
не в чем-либо другом. Поэтому «сущность» является центральной
категорией для занятия философией, является объектом ее поиска.
Сформулированная в седьмой книге «Метафизики» идея о том, что «суть
бытия каждой вещи означает то, что эта вещь есть сама по себе»
(Метафизика» 7, 1029b) выражает вопрос о самой «чтойности» предмета,
357
который напрямую относится к философской деятельности вообще, так что
Аристотеля следует считать родоначальником философской традиции
анализа значения слова и его соотношения с обозначаемым им предметом
действительности.
[114] Необходимо сказать, что в философии Аристотеля метафизическая
и природная области могут иметь у Аристотеля двоякий смысл. С одной
стороны, эти области можно понимать как «чистые» состояния (когда
природа понимается как материя, а метафизика - как метаприрода, чистый
формальный принцип, сущность природы); а с другой - как состояния
взаимосвязанные (в этом случае природа сама может называться началом, а
метафизика включает в себя и материю). Такая смысловая неоднозначность
свойственна учению Аристотеля: некоторые его термины также могут
употребляться по-разному. Например, понятие «субстрат» может
употребляться в смысле «субъекта», и в смысле «материи»; «начало» можно
понимать в глобальном метафизическом смысле, как начало Вселенной, а
можно искать «начало» в человеке, в человеческой речи, в природе, в любом
срезе бытия.
[115] Аристотель исходит из идеи единства природ самого процесса
философствования и того, что является предметом это процесса;
рассуждения о начале несут в себе природу начала: «божественной была бы
вся наука о божественном» (Метафизика, 1, ^83а). Это обстоятельство
объединяет философию Аристотеля с философией Платона и с платонизмом
в целом. Философия, как высший, умозрительный род знания, не только
своим предметом относится к бытию, его началу, но и самой своей
природой: «Бог, по общему мнению, принадлежит к причинам и есть некое
начало, и такая наука (философия) могла бы быть или только или больше
всего у Бога. Таким образом, все другие науки более необходимы, нежели
она, но лучше - нет ни одной» (Метафизика, 1, 983а).
[116] Связь онтологии, этики и политических взглядов выражается в том,
что для Аристотеля, как показано в «Политике», темы, касающиеся
определения добропорядочного гражданина, вопроса о «наилучшем
государственном устройстве», связаны с общим вопросом о «добродетели».
358
Более того, Аристотель в своем учении о государстве повторяет мысль
Платона об онтологическом тождестве человека и государства: разность
элементов, из которых состоит государство, лежащая в основе различия
«добродетели всех граждан», объясняется разностью содержания души
человека, в которой есть и «разум», и «страсти».
[117] Центральным понятием этического учения Аристотеля, как и у
Платона, является слово «благо». Однако, в «Никомаховой этике»
Аристотель предлагает свой этический идеал, и там же он говорит о
характеристиках мудрого человека. Для Аристотеля достижение мудрости
имеет два аспекта: мудрым человека делает обладание знанием фактическим
о вещах, и знанием о самом ценном, то есть о благе. И с точки зрения
Аристотеля, древние философы (Фалес и Анаксагор), имеют только
фактическое, научное знание. То есть, с точки зрения Аристотеля самое
ценное знание для человека Анаксагором, например, упущено. Практически
такую же критику учения Анаксагора проводит и Платон. Платон нашел, что
в самом ценном для философа и самом сложном вопросе о принципах и
основах функционирования бытия, ответ на который выводит человека на
уровень умозрительно постигаемого, Анаксагор оставляет пробел.
Разнообразие сущего, его смешанный характер, не могут быть объяснены
простым высказыванием: «всему причина - Ум» (Федон, 97с).
[118] По мысли Аристотеля, жизнь, ориентированная на благо, является
высшей ценностью: «добродетель», «благо» и сама общественная жизнь
выступают у Аристотеля в едином смысловом комплексе: «наилучшее
государство есть вместе с тем государство счастливое и благоденствующее,
а благоденствовать невозможно тем, кто не совершает прекрасных
поступков; никакого прекрасного деяния ни человек, ни государство не
могут совершить, не имея добродетели и разума» (Политика 7, 1323b).
Понятие «благо» является связующим звеном между онтологическими и
политическими взглядами Аристотеля. Как в любой классической
философской системе, практическая часть всего учения является следствием
или продолжением теоретических (онтологических, метафизических)
установок. И в практической части философии Аристотеля «благом»
359
выступает «жизнь сообща»: «Между тем бытие, как мы знаем, есть предмет
избрания благодаря чувству, что сам человек добродетелен, а такое чувство
доставляет удовольствие само по себе. Следовательно, нам нужно
чувствовать в себе, что [добродетель] друга тоже существует, а это
получится при жизни сообща и при общности речей и мысли» (Никомахова
этика, 9, 1170b).
A.B. Тихонов, М.Г. Подгорная
Литература к примечаниям
1. Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли. - М:
«Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 2002.
2. Адо П. Философия как способ жить: Беседы с Жанние Карлие и
Арнольдом И. Дэвидсоном. - М., СПб.: «Степной ветер», «Коло», 2005.
3. Аль-Ани H. М. Философия техники: очерки истории и теории. Учебное
пособие. - СПб.: ООО «А-принт», 2004.
4. Аль-Фараби. Об общности взглядов двух философов - божественного
Платона и Аристотеля// Аль-Фараби. Философские трактаты. - Алма-Ата:
«Наука», 1970.
5. Античная философия: Энциклопедический словарь. - М.: Прогресс-
Традиция, 2008.
6. Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время
(«фюсис» и «натура») -М.: Наука, 1988.
7. Беликов A.M. Об использовании письменности в Милете//
Индоевропейское языкознание и классическая филология. - Часть 1. -СПб.:
Наука, 2010.
8. Бобров Е. А. Воспоминание о Г. Тейхмюллере// Философия в России.
Материалы, исследования, заметки. Выпуск 1. -Казань, 1899.
360
9. Виллман О. Восточные народы и Греки: исторические рассказы по
Геродоту /пер. с нем. И. Виноградов. - Москва, 1887.
10. Вольф M. Н. Гносеологическая позиция Гераклита как средство
реконструкции его доктрины начала// Вестник НГУ. Серия: Философия, Т. 4,
№ 1,2006.
11. Гаазе-Рапопорт М. Г. О становлении кибернетики в СССР//
Кибернетика: прошлое для будущего. - М.: Наука, 1989.
12. Деррида Ж. Фармация Платона// Деррида Ж. Диссеминация. -
Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
13. Драч Г.В. Логос, космос, этос в философии Гераклита: перечитывая М.
К. Петрова// Научная мысль Кавказа, № 4, 2013.
14. Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической
проблематики. - М.: «Гардарики», 2003.
15. Дубровин В.Н. Даймоний Сократа как форма проявления
сапиентального чувства// Рациональное и внерациональное: грани проблемы.
- Ростов-на-Дону: РГУ, 2002.
16. Дубровин В.Н., Тищенко Ю.Р. М.К. Петров: жизнь и научные идеи//
Петров М.К. Самосознание и научное творчество. - Ростов-на-Дону: РГУ,
1992.
17. Дынник М.А., Каменский З.А. История античной диалектики. - М.:
Мысль, 1972.
18. Жмудь Л.Я. Наука и религия в раннем пифагореизме. -СПб.: Алетейя,
1994.
19. Задорожнюк И. Е. Блонский Павел Петрович// Русская философия.
Энциклопедия. Под общей редакцией М.А. Маслина. - М.: «Книжный клуб
Книговек», 2014.
20. Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. Н., Ковалёв С. М., Панов В. Г.
Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия,
1983.
21. Кацнельсон И.С. (отв. ред.) Ж.Ф. Шампольон и дешифровка
египетских иероглифов -М.: Наука, ГРВЛ, 1979.
22. Кессиди Ф. Сократ. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
361
23. Козенко A.B. Артур Стэнли Эддингтон, 1882-1944. - М.: Наука, 1997.
24. Койре А. О влиянии философских концепций на развитие научных
теорий// Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии
философских концепций на развитие научных теорий. - М.: УРСС, 2003.
25. Классен В.Я. Фердинанд Лассаль. Его жизнь, научные труды и
общественная деятельность. - Litres, 2013.
26. Куле К. СМИ в древней Греции: сочинения, речи, разыскания,
путешествия.../ пер. с франц. СВ. Кулланды. - М: Новое литературное
обозрение, 2004.
27. Лебедев A.B. Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова (с новым
критическим изданием фрагментов). -М: Наука, 2014.
28. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. - М.:
«Искусство», 1974.
29. Малинов А. В. А. И. Введенский в историко-философской литературе//
Вече. Альманах русской философии и культуры. - Выпуск 16. - СПбГУ,
2004.
30. Мансфельд Я. Источники ранней греческой философии/ Перевод Е. В.
Афонасина и А. С. Кузнецовой по изданию: Mansfeld J. 'Sources'. The
Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, edited by A. A. Long. -
Cambridge, 1999.
31. Новая философская энциклопедия: в 4 т./ ел. ред. Степин. В. С. - М.:
Мысль, 2000-2001.
32. Огурцов А.П. Античная историография// Журнал «VOX», №3, 2007.
33. О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие
животные оперировать символами? — М.: «Языки славянских культур»,
2006.
34. Петров М.К. Историко-философские исследования. - М.: РОССПЭН,
1996.
35. Петров М.К. Пираты эгейского моря и личность// Петров М.К.
Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. - М.: РОССПЭН,
1995.
362
36. Петров М.К. Предмет социологии науки// Петров М.К. Философские
проблемы «науки о науке». Предмет социологии науки. - М.: РОССПЭН,
2006.
37. Петров М.К. Социально-культурные основания развития современной
науки. - М.: Наука, 1992.
38. Петров М. К. Учение Гераклита о слове// Научная мысль Кавказа, №3,
2013.
39. Петров М.К. Язык. Знак. Культура. - М.: Наука, 1991.
40. Петров М.К. Язык и категориальные структуры// Науковедение и
история культуры. - Ростов-на-Дону: РГУ, 1973.
41. Пизани В. К индоевропейской проблеме// Вопросы языкознания, 1966,
№4.
42. Потемкин A.B. Проблема специфики философии в диатрибической
традиции. - Ростов-на-Дону: РГУ, 1980.
43. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.
- К. 1. - СПб.: Петрополис, 1994.
44. Тоом А. Воспоминания А.Г. Спиркина// Вестник. № 12, 1997.
45. Фролов Э. Д. Профессор Д.П. Каллистов. Штрихи к портрету//
МНЕМОН. Исследования и публикации по истории античного мира: Под
ред. проф. Э. Д. Фролова, Выпуск 13. — СПб.: СПбГУ, 2013.
46. Хоффман Д. Эрвин Шрёдингер. -М.: Мир, 1987.
47. Чайковский Ю.В. О формировании концепции Ч. Дарвина// Науки в их
взаимосвязи. История. Теория. Практика. - М.: «Наука», 1988.
48. Шюре Э. Великие посвященные// Великие посвященные. ~ Харьков:
«Фолио»; М.: «Аст», 2000.
49. Энциклопедический словарь. -М.: Прогресс-Традиция, 2008.
50. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. -СПб., 1890-
1907.
51. Γεώργιος Σ. Δημητράκος, "Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, ο φιλόσοφος, ο
δάσκαλος, ο αγωνιστής// Nia Παιδεία 32, 1984.
52. Aufklärung und Kritik. Zeitschrift für freies Denken und humanistische
Philosophie// Sonderheft 8, 2004.
363
53. Cornford F.M. The doctrine of Eros in Plato's Symposium// Cornford F.M.
The unwritten philosophy and other essays. - Cambridge, 1950.
54. Farrington B. The Greeks and the Experimental Method// Discovery 17,
1957.
55. Fraenkel E. Thought-Pattern in Heraclitus// AJP 59, 1938.
56. Gardner H. The mind's new science. - New-York, 1985.
57. Gladisch A. Die Religion und die Philosophie in ihrer weltgeschichtlichen
Entwicklung. - Leipzig, 1852.
58. Hankinson R.J. Cause and Explanation in Ancient Greek Thought. -Oxford,
2001.
59. Heidel W.A. Reviewed Work: Die meteorologischen Theorien des
griechischen Altertums by Otto Gilbert// Classical Philology, Vol. 4, No. 2, Apr.,
1909.
60. Lassale F. Die Philosophie Herakleitos Des Dunklen von Ephesos. - Berlin,
1857.
61. Lipscomb J., David R.D. John Raven by his Friends. -Published privately
by Faith Raven, 1981.
62. Mayence F. Lesesaal François Lenormant// The Catholic Encyclopedia / ed.
by Charles G. Herbermann. -Bd. 9. -New York, 1910.
63. Ross W.D. Plato's Theory of Ideas. - Oxford, 1951.
64. Roth E. Geschichte unserer abendländischen Philosophic - Mannheim,
1846.
65. Salmon W.C. Casuality and Explanation. - New-York, Oxford, 1998.
66. Schofield Μ. ΑΡΧΗ// Hyperboreus Studia Classica, Fasc. 2, Vol. 3, 1997.
67. Sijpesteijn P.J. Levensbericht B.A. van Groningen// Jaarboek KNAW, 1988.
68. Special Issue: The Intellectual Legacy of W. Ross Ashby// International
Journal of General Systems. Volume 38, Issue 2, 2009.
364
B.C. Степин
У ИСТОКОВ НОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ М.К. ПЕТРОВА)
Творчество М.К. Петрова многогранно. История философии,
эпистемология, философия и социология науки, философия языка,
культурология - во всех этих областях социально-гуманитарного знания
можно обнаружить продуктивность развитых М.К. Петровым новых идей.
Многие из них были высказаны в его диссертационном исследовании 1959
г., а затем развиты в последующих публикациях 60-80-х годов уже прошлого
столетия.
Время написания публикуемого текста диссертации М.К. Петрова было
значимым этапом в истории нашей страны. Это было время так называемой
«хрущевской оттепели», определенного раскрепощения духа. Жесткий
идеологический контроль сталинской эпохи был смягчен, хотя и в этом
смягченном варианте сохранялся в основных сферах культуры, включая,
разумеется, и философию.
В традициях довоенной (30-е - 40-е годы XX в.), и особенно в
послевоенной (до середины 50-х г) советской эпохи доминировали
упрощенные версии марксисткой философии. Их основой полагалась схема,
представленная в разделе «О диалектическом и историческом
материализме» в книге «Краткий курс истории ВКПб» (Всесоюзной
коммунистической партии большевиков). Авторство этого раздела
приписывалось Сталину.
Соответственно этой схеме осуществлялось исследование и вузовское
преподавание диалектического и исторического материализма с акцентом на
их идеологические функции. В этом же ключе преподавалась история
философии. Марксизм объявлялся высшим достижением человеческой
мысли, вершиной развития философии. Задачи исследователей и
365
преподавателей сводились к своего рода оценочной маркировке
философских систем прошлого: идеи, которые можно было
интерпретировать как материалистические или диалектические оценивались
положительно, а идеалистические и метафизические - отрицательно. Этот
подход после дискуссии по книге Г.А. Александрова «История
западноевропейской философии» в конце 40-х годов был усилен
требованием вести критику немарксистских философских концепций с
позиций «воинствующего материализма», что стимулировало особый
«способ изложения» этих концепций - подмену критического анализа
набором обличающих фраз.
Преодоление такого рода установок началось во второй половине 50-х
годов. Именно в это время складывались предпосылки будущих
отечественных философских школ второй половины XX в., в том числе и
Ростовской, одним из лидеров которой был М.К. Петров.
Отказ от догматизированных версий марксизма как своего рода
стандартов исследовательской и преподавательской деятельности был связан
с обращением к тем идеям Маркса и Энгельса, которые либо замалчивались,
либо неадекватно и догматически интерпретировались в официально
допустимом философском дискурсе.
Это были, прежде всего, идеи философской антропологии, высказанные
в «Экономическо-философских рукописях» К* Маркса - интерпретация
человеческой деятельности как родовой характеристики человека,
основополагающая связь этого подхода с разработкой материалистического
понимания истории; концепция социальной обусловленности любой формы
человеческого познания, в том числе науки и философии, акцентирование
научной составляющей философского знания и его несводимости только к
идеологическим компонентам; новое прочтение и интерпретация
философско-методологических идей «Капитала» К. Маркса (методология
исследования исторически развивающихся систем; анализ труда в его
«простых и абстрактных моментах» как схема любого элементарного акта
деятельности; понимание марксова анализа процесса становления и развития
366
товарного производства в качестве модели исследования сложных систем и
др)·
В тесте публикуемой диссертации М.К. Петрова нетрудно обнаружить
прямые и косвенные свидетельства применения этих идей.
Вместе с тем, М.К. Петров активно привлекал в качестве средств
исторического анализа представления о гомеостатических системах и
саморегуляции, разрабатываемые в кибернетике и теории систем. Если в
первой половине 50-х г. эти представления были под идеологическим
запретом в связи с известными нападками на кибернетику официальной
советской идеологии этого периода, то в конце 50-х - начале 60-х г.
произошла своего рода реабилитация кибернетики, и, как это часто бывает,
ранее запретное быстро стало популярным. В те годы шли оживленные
дискуссии между «физиками» и «лириками», популярными стали вопросы:
может ли машина мыслить, заменят ли кибернетические устройства
человека, есть ли ограничения машинного моделирования мышления во всех
его функциях?
Общественный интерес создавал благоприятные условия для применения
понятийных средств кибернетики и теории систем в самых различных
областях научных исследовании, в том числе, в социально-гуманитарных
науках и философии. В теорию познания вошли идеи моделирования.
Теоретическое объяснение и процесс выдвижения гипотез
переосмысливались в терминах построения моделей.
Этот пласт новых исследований был представлен и в творчестве М.К.
Петрова. В тексте диссертации 1959 г. можно зафиксировать описание в
терминах моделирования процесса формирования философских категорий, а
также осмысление актов деятельности и поведения как особых состояний
гомеостаза, включающего действия программ регулирования, прямых и
обратных связей.
Весь этот арсенал средств и исходных представлений о социальной
сущности и функциях познания М.К. Петров применил в конкретных
исследованиях истории античной философии. И здесь он осуществил
367
радикальный поворот к новой методологии историко-философских
исследований.
Первым шагом на этом пути был отказ от интерпретации истории
философии как необратимого движения к некой вершине, в качестве которой
полагалась марксистская философия (диалектический и исторический
материализм) и с «колокольни» которой видны все недостатки и отдельные
достоинства философских систем прошлого1.
В качестве альтернативного подхода М.К. Петров предлагает иную
установку - «исследовать действительную историю такой, какова она есть,
не прибавляя и не убавляя в угоду будущему «более развитому»
состоянию»2.
В публикуемом тексте диссертации эта установка артикулирована в
форме трех положений, согласно которым исследователь не должен считать,
что авторы философских систем прошлого руководствовались теми же
целями, что и он сам; что философы далекого прошлого стремились к
некоторому идеальному эталону, которым располагает исследователь; что
закономерности исторического развития мысли состоят в стремлении,
начиная с далекого прошлого, сблизиться с этим идеальным эталоном3.
Принцип историзма, как подчеркивает М.К. Петров, состоит не в
«подгонке» прошлого под настоящее, а в том, чтобы исследовать историю
объективно. Это понимание историзма М.К. Петров конкретизирует, исходя
из идеи социальной детерминации познания, обусловленности
общественного сознания общественным бытием. Он отмечает, что такой
подход, в свою очередь, предполагает уточнение понятия «общественное
бытие»4.
Не отрицая кардинальной роли способа производства в организации и
развития социальности, М.К Петров дополняет понимание социального
бытия анализом процессов накопления и передачи от поколения к
1 Многозначительная метафора «колокольни марксизма, с которой все видно», была использована М.К.
Петровым в его известной статье «Предмет и цели изучения истории философии» в журнале «Вопросы
философии» (1969). Эта статья была позднее включена в книгу: М.К. Петров «Историко-философские
исследования». М.:РОССПЭН, 1996. Соответствующий фрагмент статьи см. С. 89 книги.
2 Петров М.К. Историко-философские исследования С. 89-90.
3 Петров М.К. Проблемы детерминизма древнегреческой философии классического периода. Ростов на
Дону: Изд-во Южного федерального округа, 2015. С. 66-67.
4 Там же. С.72.
368
поколению социального опыта - знаний, навыков, умений, образцов
деятельности и общения и других форм социально значимой информации,
регулирующей деятельность, поведение и общение людей. Наличие
внебиологических способов регуляции человеческой активности выступает
важнейшей характеристикой социального бытия людей. Это обстоятельство
особо подчеркивается в публикуемом тексте диссертации М.К. Петрова5.
Если приспособительное поведение животных регулируется системой
биокодов, то человеческая жизнедеятельность предполагает наряду с
биокодом, внебиологические способы кодирования, передачу от поколения к
поколению закрепленных в знаковой форме знаний, умений, образцов
деятельности, ценностей и т.п.
В последующих работах М.К. Петров не раз акцентировал, уточнял и
развивал идею социокода как определяющего признака, который наряду с
трудом отличает человеческое бытие от животного существования.
Рассматривая общество как целостную систему-организм, он фиксирует два
необходимых и взаимосвязанных типа процессов, обеспечивающих бытие
этого организма - процессы трансляции (воспроизводство социальных
структур, институтов, форм деятельности, наличных знаний в смене
поколений) и процессы трансмутации (изменения наследуемых социальных
структур, институтов, форм деятельности, корпуса знаний и т. д.)6.
Тем самым М.К. Петров в центр анализа ставит новый компонент
материалистического понимания истории, который был лишь обозначен, но
не проанализирован в классическом марксизме - регулятивную роль
культуры (интерпретированную в качестве системы социокодов) в
воспроизводстве и развитии социальной жизни.
«Не покидая рамок концепции материалистического понимания истории,
трансляционно-трансмутационная проблематика акцентирует внимание на
структуре контакта поколений, на средствах, процедурах и формах ввода
новых поколений в наследство, в исторически сложившуюся «сумму
обстоятельств», а также на инструментарии, способах и формах
5 Петров М.К. Проблемы детерминации в древнегреческой философии классического периода. С. 114-125,
127-132.
6 Петров М.К. Историко-философские исследования. С 241.
369
революционной практики по отношению к наследству. Этот акцент на
структуре контакта поколения позволяет выделить роль знака, как особого
средства трансляции, способного фиксировать и сохранять социально
значимые и подлежащие трансляции ценности»7. «В знаке, таким образом,
подчеркивается его наследственная, "генная" природа, дающая возможность
обществу воспроизводить свои структуры, институты, формы деятельности,
знания в смене поколений, не обращаясь к биокоду»8. «Без знака, этой
"наследственной социальной сущности", общество не могло бы
существовать... В этом смысле знак - носитель социальности вообще, такое
же необходимое условие социальности, как и труд»9.
Все эти идеи М.К. Петрова модернизировали тот вариант картины
социальной реальности, который был разработан в классическом
марксизме10. Здесь уместно напомнить, что научная картина социальной
реальности является особой формой теоретического знания, которая
фиксирует сложившиеся на определенном этапе исторического развития
науки обобщенные представления о структуре и динамике общества. Ее
описание вводит систему фундаментальных принципов, на основе которых
создаются конкретные теоретические модели в рамках различных
социальных и гуманитарных дисциплин.
В свою очередь, под влиянием достижений этих дисциплин, а также
междисциплинарных исследований, картина социальной реальности может
изменяться, в том числе и достаточно радикально.
Достижения философской антропологии, компоративистики, социологии
и психологии XX в., сравнительного языкознания, идеи кибернетики,
семиотики и т.п. давали обширный новый материал, стимулировавший
переосмысление ряда ставших традиционными представлений о структуре и
динамике общества.
С позиций кибернетики и теории систем общество представало как
сложная саморегулирующаяся система, взаимодействующая с внешней
7 Петров М.К. Историко-философские исследования. С.243.
8 Там же.
9 Там же.
10 Сжатая экспликация этой картины была представлена К.Марксом в известном «Предисловии к критике
политической экономии».
370
средой, воспроизводящаяся и изменяющаяся посредством воспроизводства и
изменения многообразия видов и типов саморегуляции.
М.К. Петров подчеркивает, что эти новые представления вполне могут
быть приняты в рамках материалистического понимания истории. В
принципе это так. Кибернетическая парадигма соответствовала той части
марксисткой версии картины социальной реальности, в которой общество
рассматривалось как целостная система-организм, погруженная в
природную среду, потребляющая вещество и энергию этой среды в процессе
человеческой деятельности, воспроизводящаяся и меняющаяся благодаря
воспроизводству и изменению многообразия видов и типов человеческой
деятельности.
Такого рода принципиальная возможность согласовать кибернетический
подход с общими принципами марксистского анализа структуры и динамики
общества, позволяли сделать ряд важных шагов на пути переосмысления и
развития разработанной классиками марксизма картины социальной
реальности. М.К. Петров уже в тексте публикуемой диссертации 1959 г. с
этих позиций предложил рассмотрение ключевой характеристики
социальных процессов - категории деятельности. Он интерпретировал акты
человеческой деятельности и поведения как акты саморегуляции,
воспроизводящие и меняющие социальную жизнь. Обширное введение в его
диссертации в большей своей части посвящено решению данной задачи.
Это был необходимый, но только первый шаг. Кибернетический подход к
объектам как саморегулирующимся системам включал идею, согласно
которой воспроизводство таких систем предполагает наличие особых
информационных структур - программ регуляции, обеспечивающих
системный гомеостаз. Теория систем зафиксировала этот необходимый
признак саморегуляции по отношению к любому конкретному виду
гомеостатической системы, будь то кибернетическое техническое
устройство, включая ЭВМ, или биологический организм (от простейших
одноклеточных до высокоразвитых животных), или человеческое общество
как системная целостность. Отсюда следовало обоснование аналогии между
функциями биологических программ саморегуляции (биокод) и системой
371
программ социальной жизнедеятельности, закрепленных в знаковой форме
(социокод) и обеспечивающих воспроизводство социальной жизни во всех ее
основных проявлениях. И подобно тому, как формирование новых видов
организмов в процессе эволюции связано с изменением генетических кодов,
так и в развитии общества трасмутации фундаментальных жизненных
смыслов и ценностей культуры, ее базисных социокодов выступают
условием возникновения новых типов общества (социальных организмов).
В публикуемом тексте диссертации М.К. Петрова можно зафиксировать
первичные варианты многих из этих идей, которые нашли свое развитие как
в его последующих трудах, так и в работах других исследователей 60-90-х
годов.
Можно констатировать, что идеи М.К. Петрова корреспондировали с
достаточно широким ареалом исследований, в которых укоренялись новые
представления о культуре и ее программирующих функциях в жизни
общества. Многие из этих исследований активно использовали при
описании и объяснении социальных процессов системно-структурные
особенности саморегулирующихся систем.
Из западных философских и социологических работ в этом плане
можно выделить исследования Т. Парсонса11, Н. Лумана12, Д. Доукинса13,
М. Мак-Люэна14, а также множество работ других зарубежных авторов по
проблемам семиотики культуры.
Из отечественных исследований этого направления можно указать на
труды таких известных авторов как Ю. Лотман. Э. Маркарян, М. Каган, Г.
Щедровицкий, В Лефевр, Э. Юдин, Вяч. Иванов и других авторов, которые
стали известны позднее, хотя исследования и были начаты в 60-70-х годах.
11 Parsons Т. Essays in sociological theory. L., 1964 ; Parsons T. Action Theory and the Human Condition. N.Y.
1978 (В последней работе можно выделить ключевое высказывание, которое могло бы служить эпиграфом
к его трудам 60-70-х годов: «Культура кибернетически управляет социальной системой» - С.374).
12 Luman N. Soziale système. Fr./M. 1984, русский перевод: Луман H. Социальные системы. СПб: Наука,
2007 (результаты исследований Н. Лумана 70-х - 80-х годов).
13 Dawkins R. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press, 1976.
14 McLuhan M . The Guttenberg Galaxy. 1962 (русский перевод: M. Мак-Люэн. Галактика Гуттенберга.
Киев: Ника-Центр Эльга, 2004.); McLuhan M. Understanding Media: the Extensions of Man. 1964. (русский
перевод: М.Маклюен Понимание медиа: внешние расширения человека. М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-
Ц», «Кучково поле», 2003.
372
Некоторые результаты этих исследований часто не публиковались по
мере их получения, а подобно многим работам М.К. Петрова, оставались в
рукописном варианте, либо публиковались в небольших тиражах местными
издательствами и поэтому не получили достаточной известности в научном
сообществе тех лет. Но они закладывали основы будущих разработок, в то
время еще малоизвестных авторов, которые позднее, уже в 80-х выводили
проблематику программирующих функций культуры на более глубокий
уровень анализа. К этому мы двигались с разных сторон. К постановке
проблемы динамики и функций культуры приводили исследования
философии науки, когда углубляющийся анализ структуры и развития
научного знания потребовал учета его социокультурной размерности. Но
были и другие пути движения к проблемам семиотики культуры - анализ
особенностей художественного, религиозно-мифологического, обыденного и
философского познания с учетом их эволюции в изменяющейся
социокультурной среде.
Эти линии анализа пересекались, взаимодействовали и приводили
каждый раз к новым перспективным идеям и постановке новых проблем.
Творчество М.К. Петрова в этом отношении весьма показательно. Он
начал с историко-философских исследований и по ходу все активнее
вторгался в проблематику философии и социологии научного знания,
переходя к анализу процессов социальной динамики и затем возвращаясь к
новому, более глубокому уровню историко-философского дискурса.
Переосмысление традиционной трактовки материалистического
понимания истории, включение в качестве ее важнейшего аспекта
трансляционно-трансмутационную проблематику создало новое видение
процессов исторического развития философских и научных знаний в их
социокультурном измерении.
Это видение представало необходимым условием объективного
исследования истории философской мысли, ее возникновения в культуре и
ее последующего развития. Когда М.К. Петров трактовал принцип
историзма как принцип объективного описания истории, он, конечно же,
373
понимал, что исследователь имеет дело с прошлым, которое он должен
реконструировать.
Реконструкция никогда не может быть до конца исчерпывающей, во всех
деталях соответствующей прошлому, поскольку на любом этапе истории, в
котором живет исследователь, он смотрит на прошлое глазами своей эпохи,
используя те познавательные средства и методы, которые эта эпоха ему
предоставляет.
В развитых формах историко-философских исследований можно
зафиксировать эмпирический и теоретический уровни, которые не
изолированы друг от друга, а скоординированы многочисленными прямыми
и обратными связями. Эмпирические исследования предполагают анализ
оригинальных текстов философов прошлых эпох. Категориальные смыслы,
представленные в этих текстах, выражены в языке иной культурной
традиции, чем современная. Если речь идет о переводе текстов на
современные национальные языки (например, с древнегреческого, латыни,
китайского, арабского и т.п., допустим, на английский, или русский), то
историк философии обязан учитывать возможные трансформации смыслов в
процессе перевода. Это обычно достигается посредством комментариев к
тексту, поясняющих значение и смысл основных терминов.
Философия любой исторической эпохи погружена в культурную среду
этой эпохи. Тексты философских работ фиксируют результаты философской
рефлексии над мировоззренческими смыслами соответствующей эпохи, и в
текстах в скрытом виде запечатлена эта рефлексия. Особенности такого рода
рефлексии необходимо эксплицировать.
И на этом этапе историко-философское исследование предстает уже не
только как эмпирическое, а как особая теоретическая работа. Она
предполагает построение исторических реконструкций - теоретических
моделей изучаемого объекта (в данном случае смыслов философских
категорий в их детерминации конкретной, уже ставшей прошлым
социокультурной средой).
Особо отмечу, что при исследовании исторических процессов, в том
числе и относящихся к сфере духовной культуры, не всегда проводится
374
различение между эмпирически установленными историческими фактами и
объясняющими их историческими реконструкциями. В постмодернистской
философии оба эти состояния исторических исследований часто именуются
одним термином - «нарратив», что затемняет различие между историческим
повествованием как изложением фактов-событий, и выявлением их
внутренней логики в рамках исторической реконструкции.
Один и тот же фрагмент исторического процесса, представленный на
эмпирическом уровне набором фактов, может стать предметом различных
исторических реконструкций, объясняющих факты. Среди них могут быть
альтернативные, но объединяемые по принципу дополнительности (в смысле
Н. Бора) теоретические модели. Например, исследования К.Маркса и М.
Вебера процессов зарождения капитализма могут рассматриваться как
альтернативные, но дополнительные. Маркс анализирует эти процессы как
экономическую реальность превращения простого товарного производства в
капиталистическое (превращение денег в капитал и рабочей силы в товар).
М. Вебер рассматривает эти же процессы становления капитализма под
иным углом зрения - формирования и «духа капитализма». Оба эти аспекта
необходимы для теоретического описания сложного системного перехода от
докапиталистических к капиталистическим обществам.
Аналогично обстоит дело и в историко-философских исследованиях, где
различные и даже альтернативные подходы и соответствующие им
реконструкции конкурируют между собой, но в каждом из них могут
содержаться элементы истинного знания, необходимого для все более
глубокого понимания исследуемого предмета.
И еще одно методологическое замечание. Исторические реконструкции
как тип теоретического знания используются не только в социально-
гуманитарных науках, но и в науках о природе. Развитие Метагалактики от
Большого взрыва до наших дней, формирование жизни на Земле, отдельные
этапы истории этой жизни осмысливаются посредством теоретических
моделей, которые по существу являются историческими реконструкциями
соответствующих стадий и фрагментов эволюции исследуемых объектов.
375
Что же касается истории духовной культуры, в том числе и ее
философской компоненты, то ее исследование предполагает исторические
реконструкции процесса зарождения, трансляции философских идей и их
влияния на трансформации культуры.
Обращаясь к анализу античной философии классического периода и
осуществляя исторические реконструкции, М.К. Петров не просто
предлагает свое видение становления категории детерминизма как условия и
предпосылки будущего европейской науки. Он по-существу ставит более
широкую проблему - возникновения в культуре философии как особой
формы познания и знания.
Методологической установкой, задающей ракурс этой проблемы и
подход к ее решению, выступает его трансляционно-трансмутационная
концепция социального бытия. Конкретизация данного подхода предстает
как задача - проследить, каким образом накопление социального опыта
(знаний, умений, навыков, образцов, ценностей, мировоззренческих
установок) приводит к становлению новых форм трансляции этого опыта.
Решая эту задачу, М.К. Петров выдвигает и обосновывает свою знаменитую
гипотезу о трех основных способах (формах) кодирования социального
опыта: именного, профессионально-именного и категориально-логического.
Первый из них характеризует переход от коллектива-собирателя
первобытного стада к коллективу-охотнику, второй от коллектива-охотника
к коллективу-производителю первых сельских и городских цивилизаций
древности. Историческое развитие производительной деятельности
развивает мышление и язык, и сопровождается усилением разделения труда,
наследуемого социально. Такой тип социального наследования в первых
традиционных цивилизациях закреплен в мировоззренческих структурах
мифа, где боги - покровители профессии, их родственные связи и
мифологические сказания об их поступках и образцах действия задавали
своего рода матрицу, регулирующую профессионально-семейные и
профессионально-клановые отношения в древних обществах.
М.К. Петров далее ставит вопрос о переходе от этого типа
традиционалистского воспроизводства общественной жизни к новому типу,
376
обеспечивающему более динамичный способ трансляции - трансмутации
ценностей, целей, наборов правил деятельности, механизмов социализации.
Этот новый тип основан на категориально-логической регуляции, когда
возникают и начинают определять трансляцию накапливаемого
социального опыта категории субъекта, объекта, причинности, пространства
и времени, личности, власти, справедливости, свободы и т.п.
Становление этого способа социальной регуляции он связывает с
формированием философского познания. В диссертации 1959 г. этот путь
дан скорее имплицитно. Более ясно он эксплицируется в его последующих
работах.
В работе «Пираты Эгейского моря» (написанной в 1966 г. и
опубликованной в книге 1995 г.) М.К. Петров выдвигает оригинальную
гипотезу о социальных предпосылках, сложившихся в бассейне Эгейского
моря, которые были связаны с невозможностью продолжать
традиционалистский («олимпийский» применительно к Греции) тип
профессионально-именной трансляции социального опыта в условиях
углубляющегося разделения труда. Как следствие был осуществлен переход
от частичной личности (по разделенному труду) к целостной личности,
которая предстала как «универсальный материал всех последующих
философских конструкций»15. «Постулат целостной личности неустраним из
философии, поскольку личность и всеобщее образуют противоположные
полюсы единого космоса философской мысли»16.
Отдавая должное оригинальной идее М.К. Петрова, я полагаю, что здесь
обозначено также несколько проблемных полей, которые требуют
дальнейшего анализа. Прежде всего, это касается проблемы формирования
философских категорий. Возникает вопрос: существовали ли в
традиционалистских («олимпийских») культурах некоторые категориальные
предпосылки, потенциальные (зародышевые) формы будущих философских
категорий? Если да, то в чем состояла их функция, и чем они отличаются от
категорий философии? В тексте диссертации и в последующих работах
Михаила Константиновича можно найти констатации того, что подобные
15 Петров М.К. «Искусство и наука. Пираты Эгейского моря». М.:РОЩЩПЭН, 1995. С. 232.
16 Там же. С. 233.
377
категориальные дофилософские формы существовали. Он пишет, например:
«из того факта, что до элеатов мы не встречаем попыток определения
причинности, не следует, что дофилософские мировоззренческие формы
обходятся без причинности»17. Он отмечает далее, что категорию
«причинность» можно обнаружить посредством различных типов моделей:
биологических (зачатия, рождения, роста, смерти), социоморфных (модели
социальных отношений и институтов), лингвистических, техноморфных
(модели художественной и производственной деятельности). Иначе говоря,
категория причинности в дофилософской форме пронизывает практически
все сферы жизнедеятельности людей.
Далее он отмечает, что многие традиционные культуры использовали
категорию закона (хотя ее смысл у древних китайцев и древних греков имеет
различия)18. Аналогично категорию «труд» можно обнаружить и в
дофилософский, гомеровско-гесиодовский период. Но тогда возникает
проблема различения дофилософской и философской форм категориального
осмысления мира.
Данная проблема тесно связана с пониманием функций философии в
социальной жизни, и с вопросом об особой роли истории философии в
философском дискурсе.
Постановка всех этих проблем была обоснована проведенным М.К.
Петровым исследованием. И в этом была его бесспорная заслуга. Если
использовать терминологию И. Лакатоса, то можно констатировать, что
исследовательская программа М.К. Петрова дала позитивный сдвиг проблем.
Не все из них были решены, но пути к их решению были обозначены.
Дальнейшая углубленная работа в этом направлении сегодня уже
сформировала средства и методы, позволяющие существенно продвинуться
по пути к решению обозначенных проблем.
• * •
17 Петров М.К. Проблемы детерминации в древнегреческой философии классического периода. С. 71.
18 Петров М.К. Историко-философские исследования. С 227.
378
Сегодня во многих работах можно встретить формулу: философия - это
самосознание культуры19. Однако такого рода подход не является открытием
наших дней. Он имеет давнюю традицию. Известны характеристики
философии, восходящие к Гегелю (которые можно встретить с небольшими
модификациями у К. Маркса): философия - живая душа культуры,
квинтэссенция культуры, эпоха, высказанная в мысли. В этом подходе
философия соотносится с культурой и ставится вопрос о функциях
философии в культуре.
В отечественных исследованиях последней трети XX в. были
сформулированы идеи, конкретизирующие этот подход. В частности, М.К.
Мамардашвили определял философию как рефлексию над предельными
основаниями культуры. Что такое «предельные основания культуры» М.К.
Мамардашвили не определил, хотя некоторые понимания и возникали из
контекста его работ. Но для прояснения проблематики природы
философского познания этого было недостаточно. Нужен был новый этап
анализа.
Я эскизно изложу свою точку зрения по этим проблемам (в развернутом
виде эти результаты опубликованы в моих работах20).
Если обобщить и синтезировать различные аспекты представлений об
обществе и культуре в исследованиях второй трети XX - начала нашего века
(в том числе учитывая указанные выше идеи М.Петрова, Ю.Лотмана, Т.
Парсонса, Н. Лумана, М.Мак-Люэна и др. авторов), то можно предложить
следующую обобщенную интерпретацию понятия «культура».
Культура - это сложноорганизованная и развивающаяся система
надбиологических программ человеческой жизнедеятельности
(деятельности, поведения и общения людей)21. Эти программы фиксируются
19 Отметим, что сходные формулировки можно найти и в работах М.К. Петрова. «Философия - это
теоретическое самосознание общества». (М. К. Петров. Историко-философские исследования. С. 262).
20 Степин B.C. См.напр.: Степин B.C. О прогностических функциях философского знания (философия и
наука) //Вопросы философии. 1986, № 4; Степин B.C. Философия и образы будущего //Вопросы философии
195, № 6. Степин B.C. Теоретическое знание. Структура и историческая эволюция. М., 2000. С. 257-287.
Эти программы представлены многообразием знаний, предписаний, норм, навыков, идеалов, образцов
деятельности и поведения, идей, верований, целей, ценностных ориентации и т.д. В своей совокупности и
исторической динамике они образуют накапливаемый и постоянно развивающийся социальный опыт.
379
и транслируются в обществе в форме различных знаковых систем, имеющих
смысл и значение22.
Как справедливо подчеркивал М.К. Петров, наряду с генетическим
кодом у человека существует еще одна кодирующая система - социокод.
При этом важно зафиксировать постоянное взаимодействие этих двух видов
кодирования программ человеческой жизнедеятельности. Социокод,
надстраивающийся над биокодом, оказывает на него обратное воздействие,
определяет границы возможного проявления программ биологической
регуляции человеческих поступков (действие инстинктов самосохранения,
питания, половой инстинкт регулируются в обществе мировоззренческими
установками, принятыми в нем нравственными и правовыми нормами).
Закрепление, хранение и трансляцию «по социокоду» программ
социальной регуляции определяют те аспекты функционирования культуры,
которые обозначают как социальную память и традицию. Вместе с тем,
культура не только обеспечивает трансляцию ранее сложившихся программ
деятельности, поведения и общения, но и генерацию новых программ,
которые еще не реализованы в наличных формах социальной жизни и
адресованы будущему (причем не только ближайшему, но и далекому
будущему). Этот аспект функционирования культуры выступает как
творчество.
Исторически развивающийся массив регулятивов человеческой
жизнедеятельности, образующий «тело культуры», является сложной
развивающейся системой. В процессе развития такие системы
дифференцируются. В них возникают относительно самостоятельные
подсистемы, представляющие собой части сложного целого. В культуре
современных обществ в качестве таких подсистем можно выделить
обыденное познание, мораль, религию, искусство, политическое и правовое
сознание, науку, философию. Все они - результат исторического развития.
В культуре архаических обществ многие из них либо находились в стадии
В качестве знаковых систем, кодирующих социальный опыт, могут выступать любые компоненты
человеческой деятельности (орудия труда, образцы операций, продукты деятельности, опредмечивающие
ее цели, сами индивиды, выступающие как носители некоторых социальных норм и образцов поведения и
деятельности), естественный язык, различные виды искусственных языков и т.д.
380
зарождения, либо вообще отсутствовали. Так, например, политика и право
сформировались с возникновением государства. Основы мировых религий,
согласно К. Ясперсу, возникали в эпоху «осевого времени». Философия и
наука появляются в культуре на этапе развития городских цивилизаций
древности.
Все эти сферы культуры являются лишь относительно автономными. Они
- подсистемы более сложного целого. И между ними всегда осуществляется
взаимодействие. Изменения в одной подсистеме приводят к изменениям в
других. Обнаруживается своего рода перекличка, резонанс в их развитии.
Эту особенность подмечал известный философ и историк О. Шпенглер,
подчеркивая, например, что существует глубинная связь античного
искусства, науки, философии и способа ведения дел на народном собрании в
государствах-полисах. Целостность культуры отмечали философы и
социологи Н. Данилевский и П. Сорокин, о ней писал историк А. Тойнби,
характеризуя особенности каждого из выделенных им видов цивилизации.
Резонанс различных областей культуры, воспроизводящий ее единство на
каждом этапе изменений ставит вопрос об основаниях системной
целостности культуры. К этой проблематике подходили многие мыслители
прошлого. О. Шпенглер, Н. Данилевский, П. Сорокин в свое время
полагали, что в глубинах культуры есть некие духовные образования,
которые людьми переживаются, осмысливаются, понимаются и
пронизывают все сферы духовной жизни человека. Аналогичные идеи
можно обнаружить еще у Гегеля, который зафиксировал наличие общего
категориального ядра в обыденном сознании, искусстве, политике и праве,
религии, науке и философии.
Эта идея в разных аспектах разрабатывалась А. Шопенгауэром, Ф.
Ницше, С. Кьеркегором, М. Хайдеггером. Постепенно выяснялось, что
человеческая жизнедеятельность во многом определена духовными
сущностями, выражающими жизненные смыслы, по которым человек живет.
Их обнаруживали при исследовании различных культур историки и
социальные антропологи, лингвисты23. Эти жизненные смыслы называют по-
23 Из отечественных исследований следует выделить книги: Гуревич А.Я. Категории средневековой
культуры. М., 1972; Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы
381
разному: категории культуры, концепты, идеи. Я их называю
мировоззренческими универсалиями.
Мировоззренческие универсалии - это категории, которые аккумулируют
исторически накопленный социальный опыт и в системе которых человек
определенной культуры оценивает, осмысливает и переживает мир, сводит в
целостность все явления действительности, попадающие в сферу его опыта.
Категориальные структуры, обеспечивающие рубрификацию и
систематизацию человеческого опыта, давно изучает философия. Но она
исследует их в специфическом виде, как предельные общие понятия. В
реальной же жизни культуры они выступают не только как формы
рационального мышления, но и как категориальные формы, определяющие
человеческое восприятие мира, его понимание и переживание. Их не
следует отождествлять с философскими категориями, которые возникают
как результат рефлексии над универсалиями культуры. Мировоззренческие
универсалии могут функционировать и развиваться и вне философской
рефлексии24.
Категории культуры присутствуют уже в мышлении ребенка, когда он
проходит первые стадии социализации. В детском возрасте есть период,
когда ребенок задает надоедливые для взрослых вопросы: почему ветер
развивает волосы, почему светит Луна, почему окна запотели? (в самом деле,
у окон же нет потовых желез). Все эти вопросы свидетельство очень важного
процесса формирования сознания: ребенок овладевает смыслами
универсалии «причинность». Но философских знаний у него нет, и
философских категорий в его сознании тоже нет.
В человеческой истории философия является относительно поздним
феноменом культуры. Существовало немало культур, в которых не
сложились более-менее развитые формы философского знания (Древний
лингвистики, философии, искусства. М., 1985; его же: Константы: словарь русской культуры. М., 2001.
24 Это именно те категориальные структуры сознания, которые М.К. Петров обозначил как дофилософские
категории. Отсюда, разумеется, не следует, что после возникновения философии, переплавляясь в
философские категории, мировоззренческие универсалии теряют свой самостоятельный статус. Напротив,
и после возникновения философии они функционируют в качестве компонентов оснований культуры,
базовых регулятивов социальной жизни, но в этих новых условиях философия оказывает активное влияние
на их исторические трансмутации. Процессы такого рода трансмутаций более подробно рассмотрены ниже
(в последующем тексте статьи).
382
Египет, Вавилон и т.п.). Мировоззренческие универсалии были, а
философские категории еще не возникли.
Можно выделить два больших и связанных между собой блока
универсалий культуры. К первому относятся категории, которые фиксируют
наиболее общие, атрибутивные характеристики объектов, включаемых в
человеческую деятельность. Они выступают в качестве базисных структур
человеческого сознания и носят универсальный характер, поскольку любые
объекты (природные и социальные), в том числе и знаковые объекты
мышления, могут стать предметами деятельности. Их атрибутивные
характеристики фиксируются в категориях: «пространство», «время»,
«движение», «вещь», «свойство», «отношение», «количество», «качество»,
«мера», «форма», «содержание», «причинность», «случайность»,
«необходимость» и т. д.
Но кроме них в историческом развитии культуры формируются и
функционируют особые типы категорий, посредством которых выражены
определения человека как субъекта деятельности, структуры его общения,
его отношения к другим людям и обществу в целом, к целям и ценностям
социальной жизни. Они образуют второй блок универсалий культуры, к
которому относятся категории: «человек», «общество», «личность»,
«сознание», «добро», «зло», «красота», «вера», «надежда», «труд»,
«совесть», «справедливость», «свобода» и т.п.
Эти категории фиксируют в наиболее общей форме исторически
накапливаемый опыт включения индивида в систему социальных отношений
и коммуникаций. Между указанными блоками универсалий культуры всегда
имеется взаимная корреляция, которая выражает связи между субъект-
объектными и субъект-субъектными отношениями человеческой
жизнедеятельности. Поэтому универсалии культуры возникают, развиваются
и функционируют как целостная система, где каждый элемент прямо или
косвенно связан с другими.
В системе универсалий культуры выражены наиболее общие
представления об основных компонентах и сторонах человеческой
жизнедеятельности: о месте человека в мире, о социальных отношениях,
383
духовной жизни и ценностях человеческого мира, о природе и организации
ее объектов и т.п. Эти представления выступают в качестве своего рода
глубинных программ социальной жизни, которые предопределяют
сцепление, воспроизводство и вариации всего многообразия более
конкретных программ поведения, общения и деятельности, характерных для
определенного типа социальной организации.
Мировоззренческие универсалии включают в свое содержание
рациональную компоненту, но не сводятся к ней. Они определяют не только
осмысление мира, его рациональное постижение, но и понимание и
переживание человеком мира, эмоциональные оценки различных аспектов,
состояний и ситуаций человеческой жизни. Смыслы универсалий в этом
аспекте предстают как базисные ценности культуры.
Человек усваивает их в процессе воспитания и социализации, через
образцы поведения и деятельности, через включение в разные виды
деятельности, через язык, через транслируемые в культуре знания, которые
он приобретает. Часто он не осознает всего содержания этих категорий, хотя
и понимает и переживает их. Он имеет о них неявное знание. Если спросить
человека, не занимающегося философией, на уровне его обыденного
сознания, что такое справедливость, то, опираясь на конкретные примеры,
он покажет, что есть справедливые и несправедливые поступки, но не
сможет дать обобщающего определения справедливости.
Универсалии культуры не локализованы в какой-то одной сфере
культуры, они пронизывают всю культуру, проявляют себя в языке,
обыденном сознании, искусстве, религиозном миропонимании,
политическом и правовом мышлении, научном познании. Они сложны по
своей содержательно-смысловой структуре. В них есть несколько уровней
смысла - общечеловеческий (как своеобразный инвариант различных
культурных традиций), весьма абстрактный, фиксирующий основания
любого человеческого бытия; уровень смыслов, выражающий особенности
той или иной культуры соответствующей исторической эпохи; и, наконец,
уровень, выражающий личностные и социально-групповые интерпретации
384
универсалий культуры, репрезентирующий мировоззренческие установки
личности и социальных групп (классов, сословий, кланов и т.п.).
Универсалии культуры одновременно выполняют по меньшей мере три
взаимосвязанные функции в человеческой жизнедеятельности.
Во-первых, они обеспечивают своеобразную квантификацию и
сортировку многообразного, исторически изменчивого социального опыта,
определяют, что будет включено и что не войдет в поток культурной
трансляции. Социальный опыт рубрифицируется соответственно смыслам
универсалий культуры, стягивается в своеобразные кластеры и благодаря
такой "категориальной упаковке" транслируется, передается от человека к
человеку, от одного поколения к другому.
Во-вторых, универсалии культуры выступают базисной структурой
человеческого сознания, их смыслы определяют категориальный строй
сознания в каждую конкретную историческую эпоху.
В-третьих, взаимосвязь универсалий образует обобщенную картину
человеческого жизненного мира, то, что принято называть мировоззрением
эпохи. Эта картина, выражая общие представления о человеке и мире,
вводит определенную шкалу ценностей, принятую в данном типе культуры,
и поэтому определяет не только осмысление, но и эмоциональное
переживание мира человеком.
Мировоззренческие универсалии культуры функционируют как
предельно обобщенные программы деятельности, поведения и общения
людей. В своем сцеплении и взаимодействии они функционируют как своего
рода геном социальной жизни, и для того чтобы радикально изменить
общество, надо изменить этот геном. Поэтому духовные революции всегда
предшествуют революциям политическим.
В жизни общества периодически возникают такие состояния, когда оно
уже не может ответить на исторические вызовы, сохраняя прежний уклад
жизни, когда ранее сложившиеся смыслы универсалий культуры не
способны обеспечить сцепление и взаимодействие новых и традиционных
видов и способов деятельности, поведения и общения людей. В такие эпохи,
когда утрачиваются старые мировоззренческие ориентиры, люди начинают
385
задавать вопросы: что такое справедливость, добро и зло, истина, в чем
смысл человеческого существования, каково место человека в мире?
Постановка таких вопросов - первый шаг к философии. Чтобы отыскать
ответы на них, ей нужно критически отнестись к традиционным, ранее
казавшимся очевидными, смыслам мировоззренческих универсалий. А затем
предстоит сделать новый шаг - вместо старых жизненных смыслов
изобрести новые.
Философия осуществляет рефлексию над фундаментальными
мировоззренческими универсалиями культуры. То, что здравому смыслу
эпохи представляется само собой разумеющимся, философия
проблематизирует и анализирует. И в этом процессе вырабатывает
теоретический каркас новых мировоззренческих ориентиров.
Можно выделить два взаимосвязанных этапа порождения философией
новых категориальных идей. Эти этапы характеризуют эпоху становления
философии, но затем повторяются во всем последующем ее развитии.
На первом этапе философия стремится выявить в различных сферах
культуры общие смыслы мировоззренческих универсалий, базисных
ценностей, программирующих деятельность людей. Она выносит их на суд
разума, улавливает тенденции их возможных изменений, критически их
анализирует, В этом процессе происходит первичная трансформация
универсалий культуры в философские категории2». Первоначально они могут
быть представлены в форме смыслообразов («Логос» Гераклита, «Нус»
Анаксагора, «Дао» в китайской философии и т.д.) На этом этапе философия
имеет много общего с художественным познанием, близка к литературе и
искусству. Но затем начинается второй этап философствования, когда
происходит дальнейшая рационализация первичных категориальных
смыслообразов. Они переплавляются в достаточно строгие понятия. В этом
процессе смыслообразы упрощаются, схематизируются, становятся
своеобразными идеальными объектами, абстракциями, с которыми
25 Петров М.К. в неявной форме отмечет особенность этого этапа становления философии, когда
анализирует роль в этом процессе рефлексии над универсалиями языка, над законодательной практикой и
другими феноменами культуры, среди которых «в едином ряду оказываются геометрия, вазопись,
живопись, скульптура, архитектура, драма, комедия и т.п.» (М.К. Петров. Историко-философские
исследования. С 209-210.).
386
мышление начинает работать как с особыми сущностями. Философ
исследует их свойства так же, как, например, математик изучает числа,
фигуры, функции, различные типы геометрических пространств, создает
какие-то новые представления о числах, фигурах и пространствах и т.д. На
этом этапе философия предстает как достаточно строгая теоретическая
наука.
Философское исследование, связанное с постановкой теоретических
задач и оперированием категориями как особыми теоретическими
конструктами, позволяет выйти за рамки универсалий своей культуры и
генерировать их новые смыслы.
Категории философии и универсалии культуры не тождественны, хотя
часто обозначаются одними и теми же терминами. Во-первых, философское
познание, рационализируя универсалии культуры, упрощает и
схематизирует их. Во-вторых, не все признаки, зафиксированные в
определениях философских категорий, изоморфны признакам универсалий
той культуры, в которой философия разрабатывала свои идеи.
Философское познание способно генерировать новые мировоззренческие
смыслы и тем самым вносить мутации в культуру, подготавливая
кардинальные изменения социальной жизни. Причем философия
осуществляет эту работу не только в эпохи социальных кризисов, а
систематически, заготавливая заранее идеи, которые могут понадобиться в
будущем.
Уже в начальной фазе своей истории философское мышление
продемонстрировало способность в процессе постановки и решения
теоретических проблем порождать нестандартные категориальные модели,
не совпадающие и даже противоречащие стереотипам и архетипам сознания,
доминирующим в культуре своего времени. Например, решая проблему
части и целого, единого и множественного античная философия
прослеживает все логически возможные варианты: мир делится на части до
определенного предела (атомистика Левкиппа, Демокрита, Эпикура), мир
беспредельно делим (Анаксагор), мир вообще не делим (элеаты). Причем
последнее решение явно противоречит стандартным представлениям
387
здравого смысла. Логическое обоснование этой концепции выявляло не
только новые, необычные с точки зрения обыденного сознания аспекты
категорий части и целого, но и новые аспекты категорий «движение»,
«пространство», «время» (апории Зенона). Здесь впервые были поставлены
проблемы, к которым потом не раз возвращалась научная мысль разных
эпох. В частности, парадокс «летящая стрела» заново возник более чем
через две тысячи лет после Зенона, в эпоху становления механики, возник
как научная проблема: если тело движется под действием силы, то, значит,
оно имеет скорость в каждой точке пространства в каждый момент времени.
Но скорость - это путь, деленный на время. А если путь стягивается в точку,
то он равен нулю. А ноль, деленный на любую величину, даст ноль. Значит,
скорость движущегося тела в точке равна нулю, то есть движущееся тело
покоится в каждой точке. Решение этой проблемы и обоснование понятия
мгновенной скорости не имело предпосылок в предыдущие эпохи. Но в
период построения классической механики эти предпосылки созрели. И
решение проблемы было найдено на путях разработки концепции
бесконечно малых и создания дифференциального и интегрального
исчисления.
Конструктивный проблемный смысл содержался и в апории Зенона,
получившей название «Дихотомия». Она гласила, что невозможно пройти
какой-либо путь от начала до конца. Для этого нужно пройти его половину,
потом половину половины, потом половину оставшейся половины и так до
бесконечности. Когда в XIX веке математика активно создавала
неэвклидовы геометрии и приступила к исследованию бесконечных
множеств, выяснилось, что рассуждение Зенона ставит сложную проблему
соотношения бесконечных множеств, одно из которых является
подмножеством другого. Любой путь представляет собой некоторый
отрезок, состоящий из бесконечного числа точек, половина этого пути -
тоже отрезок, состоящий из бесконечного числа точек. Как сравнивать
бесконечности? Имеет ли смысл понятие «множество всех множеств»? Все
эти проблемы обсуждались великими математиками Г. Кантором, Г. Фреге,
знаменитыми логиками и философами Б. Расселом. А. Уайтхедом и др.
388
Математика и логика к этому времени уже создала средства для решения
этих проблем. В первом приближении таким решением стала теория типов
бесконечных множеств.
Новые философские идеи включаются в поток культурной трансляции
как своего рода дрейфующие гены. Занимаясь профессиональной работой,
философ, сознает он это или нет, часто адресует открытые им новые
категориальные смыслы будущему. Какому будущему он заранее не знает.
Но когда возникают переломные эпохи, эти идеи могут обрести
практическую актуальность. Тогда они становятся своеобразным
генератором и катализатором соответствующей публицистики,
художественной критики, литературных произведений, новых религиозно-
нравственных, политических и правовых идей, внедряемых в социальную
практику. Так с высот философской абстракции новые категориальные
смыслы погружаются в основания культуры. Они обрастают эмоциональным
содержанием, переживаются людьми и постепенно переправляются в новые
мировоззренческие универсалии культуры.
Иногда эта роль философских идей в становлении новых
социокультурных реалий прослеживается в явном виде. Показательным
примером может служить использование идей Д. Локка творцами
американской конституции. Эти идеи (права человека, разделение властей и
др.) были сформулированы Локком задолго до создания конституции США.
Но чаще идеи и проблемы, разработанные в философии, конкретизируются и
видоизменяются в процессе культурной трансляции, поэтому проследить их
философские истоки не всегда просто. Для этого нужен специальный анализ.
Наличие конструктивно-прогностических элементов в развивающемся
философском знании позволяет по-новому подойти к проблеме особой роли
истории философии в философском исследовании. В трудах М.К. Петрова
можно найти важные фактофиксирующие положения по данной проблеме.
Он отмечает, что по сравнению с естественнонаучными дисциплинами
философские теории имеют «несвойственную естественнонаучным теориям
историческую глубину»26.
26 Петров М.К. Историко-философские исследования. С. 259.
389
Это выражается и в характере сети цитирования, которая на порядок (в 10
раз) больше по исторической глубине в философии по сравнению с
естествознанием27, и в способе обучения философии, включающем
обязательную и обширную историко-философскую компоненту. Физику,
например, чтобы овладеть знаниями механики достаточно усвоить ее
принципы и законы в языке современной ему учебно-научной литературы и
не обязательно знакомиться с текстом «Математических начал натуральной
философии» И.Ньютона.
Для философа же изучение оригинальных трудов мыслителей прошлого
(Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля и др.) является обязательным условием
его подготовки как специалиста. Чтобы стать философом, нужно знать
историю философии в достаточно большом объеме и глубине. Объяснение
этому лежит в самой природе и социальных функциях философского знания,
в наличии в нем конструктивно-прогностических компонентов,
адресованных будущему.
Чтобы философские идеи выполнили свою эвристическую и
конструктивную функцию, они должны быть транслированы в культуре
часто на протяжении столетий. Задачу их сохранения в социальной памяти и
их трансляции выполняет история философии.
Процесс трансляции философских идей не просто сохраняет их в
первозданном виде, а модифицирует, адаптируя к состояниям новой
культурной среды. Ранее выработанные идеи переформулируются в новом
философском языке, и в этом процессе появляются их новые
характеристики.
Когда история философии осуществляет реконструкцию становления
новых философских идей в контексте определенной культуры, она имеет
дело с разными типами культурных традиций. В каждой из них могут
возникнуть новые смыслы философских категорий и в каждой из них
переосмысливаются ранее возникшие и транслируемые в культуре
философские идеи. Интерпретация, допустим, философии Аристотеля, в
арабско-мусульманской философии, в философии христианского
27 Там же. С. 255.
390
европейского Средневековья, в философии Нового времени, в XX столетии
выделяла разные аспекты в аристотелевских идеях и по-разному их
оценивала.
Трансляция философских идей в культуре не исключает таких ситуаций,
когда переосмысление ранее сложившихся философских категорий не
только обогащает их новым содержанием, но и может приводить к утрате
идей, которые не адаптируются к ценностям новой культурной среды.
Однако эти идеи могут оказаться важными для последующих исторических
эпох. Их сохранение и последующую интеграцию в творческие процессы
культуры этих эпох как раз и обеспечивает история философии.
Поясню сказанное примером. Аристотелевская идея потенциально
возможного как характеристика бытия не воспринималась философией
механицизма, которая длительное время (с XVII почти до середины XIX в.)
сохраняла в естествознании статус его доминирующих философско-
мировоззренческих оснований. Но когда в начале XX в. создавалась
квантово-релятивистская физика ее построение потребовало пересмотра
категориальной матрицы механицизма, потребовало нового понимания
категорий части и целого, вещи и процесса, причинности, пространства и
времени. И оказалось, что идея потенциально возможного сыграла в этом
процессе важную эвристическую роль.
В квантовой механике дискуссии вокруг интерпретации ее
математического аппарата органично включили проблематику понимания
причинности. В. Гейзенберг, один из создателей квантовой механики, в
своих воспоминаниях отмечал, что в период ее построения он, Н. Бор и В.
Паули постоянно обсуждали философский смысл детерминизма, обращаясь
к истории философии. При прочтении книги В. Гейзенберга «Физика и
философия. Часть и целое» можно убедиться в достаточно обширных
знаниях истории философии Гейзенбергом и его коллегами, в том числе, в
знаниях античной традиции, на которую Гейзенберг справедливо указывает
как на один из источников новоевропейского рационализма28. Эти знания
создатели квантово-релятивистской физики получали, начиная с гимназии,
28 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука, 1990. С. 28-38; 142-143.
391
где классическое образование предполагало изучение философии и языков
античного мира (древнегреческого и латыни), знакомства с переводами
трудов Платона и Аристотеля29.
Аристотелевская идея потенциально возможного и ее связь с категорией
причинности, судя по многим фрагментам воспоминаний Гейзенберга, была
одним из источников представлений о вероятностной причинности30. Это
представление Н. Бор обосновывал в дискуссиях с Эйнштейном на
Сольвеевских конгрессах. Оно расширяло понятие причинности, дополняя
(но не отменяя) идею лапласовской детерминации и определяя границы ее
применимости.
Таким образом, история философии была включена в сложную
деятельность, в ходе которой была переосмыслена категория причинности и
вырабатывалось понимание особенностей предмета квантовой физики.
Впоследствии идея вероятностной причинности получила новое
обоснование в рамках разработки кибернетики, теории сложных систем и
синергетики.
Развитие философских идей от их становления до активного воздействия
на формирование ценностей и мировоззренческих оснований в различных
сферах культуры предполагает взаимодействие трех типов исторической
реконструкции соответственно трем основным задачам истории философии.
Во-первых, исторические реконструкции должны быть нацелены на
анализ особенностей культуры, в рамках которой зарождаются новые
философские идеи.
Во-вторых, это могут быть реконструкции, отслеживающие, как с каждой
новой эпохой, в каждой новой социально-культурной среде
переосмысливаются уже ранее генерированные философские идеи.
В-третьих, это могут быть реконструкции наиболее сложного процесса -
переплавки сконструированных философией категориальных смыслов в
мировоззренческие универсалии, в систему ценностей и мировоззренческих
ориентиров культуры, которые образуют геном нового вида общества и
даже новых типов цивилизационного развития.
29 Там же. С. 142-143
30 Там же. С. 89, 113.
392
Взаимосвязи этих трех типов реконструкций выражают ту новую
методологию историко-философских исследований, у истоков которой
стоял Михаил Константинович Петров и в разработку которой он внес
существенный позитивный вклад.
393
Предметный указатель
Абсолютизация 73-74, 117-118, 137, 158, 176, 242, 245, 304, 317
Алгоритм регулирования 24, 44, 47, 61, 64, 68, 132, 229, 261, 272
Анализ 29, 33, 49, 69-71, 74-75, 109, 112, 118, 124, 135-137, 141, 155, 166,
178, 185, 201, 223, 227, 239, 246, 251, 261, 268, 270-276, 279-281, 283, 286-
290, 296, 301-303, 305-308, 310, 313, 316, 365-367, 369, 371, 373, 375, 379
Бог 22, 75, 89, 97, 121, 128, 132, 136, 142, 144, 174, 183, 207, 217, 223, 236-
238, 240-241, 248, 259, 269, 285, 305, 314-315
Борьба 175, 211,300
Бытие 34, 93, 104, 114, 145, 149-152, 194, 242, 276-278, 293, 296, 305, 308-
309,317,320,368-369
Вероятностный детерминизм 36, 45, 175, 179, 189-190, 196, 199, 220, 238,
262,269,272,317,320
Гармония 19, 129-132, 139, 195
Генерализация 125, 229, 251, 275
Генетическая модель 10, 15-16, 24-25, 72, 89, 107, 109-110, 122, 129, 137,
141, 145, 151, 245, 250, 261, 263, 272, 291, 316, 320
Гомеостазис 27, 49-53, 62-63, 74, 77, 228, 367
Денежная модель 11-13, 18, 20-22, 76, 78, 90, 92г 99-100, 102, 104-105, 107,
ПО, 114-115, 117-118, 120, 123, 127-128, 132, 137, 141-142, 144-145, 149-152,
155, 157-158, 164, 167, 175-176, 180, 182, 188, 195,209,219,229,262,319-320
Детерминизм 6-8, 16, 18-21, 23, 25, 27, 29-31, 33-38, 40, 44-46, 52, 61-63,
68-69, 75, 157, 163, 189-190, 196, 209, 211-212, 217, 262-264, 266, 277, 316-
317,320,376,391
Диалектика 36, 103, 109-110, 125-126, 141, 153,252,257-258,270
Динамический облик 48, 62, 64, 74
Душа 106, 125, 238, 254-255, 257, 269, 315, 379
Единство противоположностей 15, 35, 129, 173, 276, 317
Знак 13, 20, 24, 27, 54-55, 58, 86-90, 96, 98, 101, 112, 115, 117-118, 127,
130, 132, 135-137, 140-141, 205-207, 279, 283, 299, 369-370, 380, 383
394
Идеализм 36, 117, 119-120, 132, 140, 146-147, 159, 162, 165, 187-188, 212,
216, 222-223, 225, 236, 243, 247, 251, 262-263, 267, 269, 316, 321
Идеальное и актуальное преобразование 47, 52, 56, 118, 286, 293
Категории качества и количества 19, 24, 114, 118, 158, 193, 280, 319, 383
Космос 11-12, 14, 16, 75, 91-93, 121, 127, 133, 142, 158, 166-167, 176, 178,
183
Лингвистическая модель 11, 13, 16, 18, 21, 24-25, 75, 78, 98, 102-103, 117,
132, 137, 142, 146-147, 158, 163-165, 189, 196, 210, 212, 219, 223-226, 229-230,
233, 235, 241-242, 251, 261-262, 276, 283, 316-321
Логос 12-13, 17,29, 120-124, 126-129, 132-135, 137-142, 148, 151,207,215,
386
Материализм 33, 36, 90, 98, 103, 113, 117, 120, 122-123, 126, 132, 139-141,
146, 155, 157, 159, 167, 171, 183-185, 188, 190, 199-200, 208-209, 216-217, 222,
245, 247-248, 261, 263, 266, 272, 279, 283, 291, 299, 304, 308, 311, 316, 319,
321,365-366,368-369,371,373
Материя 17-18, 24, 36, 98-100, 109, 185, 188, 193, 215-217, 225, 236, 242-
248, 250-251, 261-262, 265-266, 270-272, 276-278, 284-285, 287, 290-291, 294,
297,307-308,314
Мера 130-132, 217, 225, 246, 259, 383
Миф 10, 16, 18, 70, 74, 77-78, 83, 89, 97, 99, 109, 119, 141, 157-158, 319,
376
Многозначность 24, 42, 86, 186, 245, 250, 261, 263, 275, 282, 292, 297, 308,
316
Мышление 10, 12, 24, 59-61, 71, 85, 126, 133, 137, 139, 146, 155, 176, 199,
224-225, 233, 261, 283, 307, 309, 311-314, 376, 387
Наука 10, 26, 37, 41, 70-71, 116, 192, 209, 312, 367, 375, 381, 387
Начало 13, 71, 95-96, 102, 105-107, 115, 122, 127, 170, 183, 207, 276, 287-
288, 290-292, 298-299
Необходимость 20, 23, 37, 41, 49, 78, 122, 173, 175, 195-199, 242-244, 258,
260-261, 264, 272, 276-278, 299, 301, 308
Обмен 9, 16, 46, 49-52, 82-83, 96, 127, 171, 228
Обратная связь 44, 47-49, 52, 56, 61, 65-66
395
Определенность 18, 36-37, 41-42, 92, 107, 113, 129, 131-132, 135, 140, 157,
169, 175, 178-179, 181, 216, 243, 257, 276, 285, 290, 298, 302
Опредмечивание 58, 117, 169
Организм 46, 49-51, 66, 369, 371-372
Орудие 56-59, 237, 307
Отношение 24, 31, 35, 37-39,45,47-48, 52,61-64,68, 80, 104-105, ПО, 123-
124, 126, 139, 145, 157-158, 164, 176, 209, 241-242, 280, 287, 291-292, 299, 383
Потребностный облик 23, 48, 50-52, 62, 65, 74, 235
Практика 37-38, 40-41, 44, 297, 301, 311
Предел 8, 32, 103, 107, 110-111, 113-116, 118-119, 127, 130-132, 142, 148,
167, 186, 199,257
Природа 42, 62, 90, 134, 162, 194, 198, 242-243, 272-274, 276, 284, 292, 301,
317
Причина 7, 10, 14, 23, 29-30, 32, 34, 71, 88, 95, 97, 113, 132, 148, 152, 170,
174, 188-189, 196, 198-199, 234, 238, 242-243, 250, 260-261, 269-270, 272, 275-
277, 281, 284-288, 299, 306, 312, 314, 316
Причинность 7-9, 12, 18, 21-26, 29-31, 33-35, 39-40, 43-44, 47, 68-69, 75,
90, 99, 111, 118, 121-124, 139-140, 142-143, 153, 157-158, 162, 164, 168, 173-
174, 176, 184, 188-189, 192, 196, 198-199, 201, 208-209, 233-235, 243-244, 260,
262-264, 273, 279, 282, 290, 299-300, 302, 314, 316-317, 319-320, 378, 382-383,
391-392
Продукт философского умозрения 12, 25, 121, 141, 209, 262, 317
Противоположность 158, 164,267
Рациональное 20, 23, 73, 134, 137, 158, 188, 202-204, 214, 224, 252, 255,
257, 263, 282-283, 307, 312-313, 382, 384
Реальность 13, 37, 58, 117, 132-133, 137, 145, 164, 229, 249-250, 271, 375
Регулирование 43-46, 48, 54, 58-59, 61, 64, 68, 100, 224, 226, 237, 242, 250,
271,273,279,289,291
Сила субъекта 100, 132, 227, 239
Случай 41-42, 175, 197, 269, 304
Сознание 72, 116, 145, 199, 243, 383
396
Социальные отношения, структуры, процессы 9-10, 12, 52, 63, 67, 71, 75-
80, 82, 89, 110, 211, 214, 260, 263, 368-372, 376-378, 380, 382-384, 389-390
Структура 9, 13, 24, 30, 38, 44, 47, 53, 56, 61, 66, 69, 89, 101, 103, 122, 145,
151-152, 176, 200, 229, 238-239, 242, 261, 286, 317, 376
Субстанция 91-92, 100, 125
Техноморфная модель 23-25, 72-75, 89, 104-105, ПО, 116, 137, 141-144,
151, 158, 161, 164, 176, 182, 235-236, 242-245, 261, 272, 283, 289, 316, 319-320
Товарообмен 7, 9, 16, 69, 75-76, 78, 82, 89, 91-92, 97, 99, 107, 109-110, 114,
118, 142, 144-146, 150, 155-158, 162
Труд 35, 42, 48, 56, 58-59, 69, 79-82, 88, 100, 105, 118, 127, 141, 157, 160,
211-212, 224, 237, 251, 312, 366, 369, 376-378, 383
Умопостигаемое 134, 139, 214, 221, 261
Физика 39-42, 45, 192,391
Философия 6, 10, 34, 69, 71, 76-78, 93, 97, 99, 157-158, 189, 257, 263, 319,
365, 374, 379, 381-383, 386-387
Целесообразность 23, 164, 235, 263, 317
Человек 17, 21, 35-36, 42, 52, 54, 56-59, 61-62, 66-67, 72-73, 80-81, 90-91,
116-117, 122, 131-132, 136, 140-141, 162-163, 182,200,212-213,215-217,220,
223-224, 226, 228-229, 238-239, 247, 258-259, 261, 263, 267-268, 280, 292, 295,
307, 309, 316, 366-367, 380-386
Чувственный облик 48, 54-55, 58-59, 62, 74, 235
Этика, этическое 17, 85, 102, 104, 137-149, 151, 160, 163, 169-171, 207-208,
210, 212, 219-220, 222-223, 227-230, 232, 241-243, 250, 258, 261, 271, 282, 314-
315,320
Язык 7, 9-10, 15, 18, 20, 24, 26, 28, 57-58, 62, 68-69, 71, 76, 84-88, 109, 135-
137, 154, 205-206, 211-212, 214, 228, 238, 253-254, 275, 279-283, 310-311, 365,
376, 384
397
М.К. ПЕТРОВ
ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕРМИНИЗМА В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
Монография